Людмила Анисарова Вы способны улыбнуться незнакомой собаке?
Жизнь — красота, восхищайтесь ею.
Жизнь — любовь, наслаждайтесь ею.
Жизнь — трагедия, преодолейте ее.
Мать ТЕРЕЗАОСЕНЬ
О кленовые листья!
Крылья вы обжигаете
Пролетающим птицам.
Сико1
Не родись красивой, говорят. А вот Лене Турбиной ужасно не повезло: она родилась не просто красивой, а очень красивой. И ничего с этим поделать было уже нельзя. Виной тому были, конечно, две ее бабушки. Одна, с папиной стороны, была грузинской княжной. С очень, между прочим, сложной и запутанной судьбой: все из-за красоты! А другая, с маминой, — из Воронежа, но тоже не из простых и из красивых.
Грузинское с русским, как это обычно бывает, смешалось очень удачно: получилось создание не то чтобы слишком яркой, резкой, бьющей в глаза красоты, а красоты мягкой, загадочно-нежной, незащищенной (и поэтому особенно притягательной), со смугловато-персиковой кожей и безошибочно-совершенным профилем, который мог бы свести с ума всех художников мира, если бы их, конечно, удалось собрать и посадить перед ними Лену Турбину — нормальных, разумеется, художников, без всяких там приветов — тех, в чьих картинах на месте носа обретается нос, а не глаз, нога или еще что-нибудь.
Но речь не о художниках, Бог с ними. О чем еще пишут, когда хотят доказать, что героиня прекрасна, восхитительна и несравненна? Ясное дело, о глазах. И хотя сказано о них столько, что давно пора издать многотомную антологию «Глаза и взгляды», было бы неправильно умолчать о глазах Лены Турбиной. Потому как глаза — зеркало души, классики не устают об этом напоминать (тем, кто их читает, конечно). А поскольку разговор нам предстоит долгий и серьезный, то уйти от души, ее загадок и тайн, ее сомнений и метаний, потрясений и прозрений, как бы этого кому-то из нас ни хотелось, видимо, не удастся.
Итак, глаза. Это были глаза, в которые почти всем и всегда хотелось смотреть, не испытывая при этом неловкости. Вы замечали, что такое встречается не часто?
Похожие на больших блестящих рыбок, глаза Лены Турбиной удивляли своим цветом. Добавьте в маленькую чашечку кофе (кофе — это, вероятно, от грузинской бабушки) чайную ложку молока (а молоко, конечно, — от воронежской) — и вы получите именно этот цвет. Кроме того, пушистые и длинные ресницы, не нуждающиеся в черной туши, не мешали этим глазам дарить миру свет доброты и всепонимания. И это, пожалуй, поражало окружающих больше всего. У красивых женщин, осознающих силу своей привлекательности (а Лена к ним, безусловно, относилась), глаза редко бывают добрыми. А вот у нее были. А еще они были грустными и очень-очень внимательными.
Волосы Лены, темные, прямые и не слишком густые, могли бы на первый взгляд показаться вполне обыкновенными. Могли бы! Но не казались. Потому что на солнце или при любом ярком свете они отливали для кого — медью, для кого — бронзой, а для кого и золотом — у кого на что хватало фантазии.
Мужчины о происхождении цвета Лениных волос не задумывались — просто любовались. Женщины не сомневались; красится! И не знали, что ошибаются. Потому что спросить у Лены, какой краской она пользуется, пожалуй, никто бы из них и не решился.
Читатель! О внешности Лены Турбиной нельзя сказать вскользь. Пойми. Поэтому потерпи, пожалуйста. А уж как уговорить читательниц благосклонно отнестись к чужой красоте (да, часто встречается слово «красота» — но что же я могу поделать?), как уговорить их стойко перенести столь подробное описание облика моей героини — просто не знаю. Но очень прошу: смиритесь. Будем просты, как голуби (там, кажется, сначала — про мудрость и про змей, но это, пожалуй, лишнее). Будем великодушны. Нам всем это так идет… Так я продолжу?
Лена всегда носила только короткую стрижку, понимая, что ей вовсе ни к чему скрывать свою замечательную шею и гордую посадку головы, маленькой, но очень неглупой (в чем она, кстати, была абсолютно уверена), благороднейшую линию затылка и не менее благородные аккуратные ушки с искорками фамильных бриллиантов, которые Лена никогда не снимала, не обращая внимания на моду.
Вне моды были и ее руки, изящные, с недлинными, но тонкими и нервными пальцами, с маленькими аккуратными ногтями идеальной формы, которые Лена никогда не отпускала и не покрывала лаком.
Руки ее были столь естественно-нежны, что любое украшательство-вмешательство выглядело бы, на ее взгляд, неуместно и грубо. Даже колец она не носила. Может быть, и напрасно. Но это уж не нам решать. Тем более что Лена все равно бы никого никогда не послушала.
Во всем, что касается внешности, одежды, Лена Турбина полагалась только на свой вкус, который, прямо скажем, был безупречен. Она одевалась, ничуть не следуя моде, никогда никому не подражая, но в результате получалось так, что все женское окружение неизменно признавало ее и модной, и стильной. Хотя смириться с этим некоторым было все-таки тяжеловато.
Я не рассказала и десятой доли того, что следовало бы рассказать о Лене Турбиной, но вы, конечно, поняли, что была она тем самым человеком, в котором «все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». И при этом (несправедливость, разумеется! беззаконие и нечестность) ей досталась и замечательная фигура — нет, не фигура, а фигурка, фигурка античной статуэтки: все лишнее убрали, оставив только самое нужное и самое волнующее. Правда, Лене хотелось быть повыше. И чтобы ноги — подлиннее. Но это уж было бы слишком!
Свою грузинско-княжескую породу вкупе с белогвардейской фамилией Лена Турбина несла достойно и очень естественно. Говорила об этом вскользь и шутя, но так, что все всё сразу понимали и как-то даже успокаивались: ну тогда понятно! Тогда можно быть такой…
Но… Не родись красивой, говорят. А родись счастливой! Народная суть этого противопоставления, как вы понимаете, гармонии не предполагает. Если с внешностью у тебя не очень — значит, можешь надеяться. Ну а уж если, как Лене Турбиной, повезло с бабушками, то о счастье забудь, дорогая. И так слишком много досталось. Вот и радуйся.
Если бы можно было кому-то сказать: дайте мне глаза поменьше, уши побольше, а вот счастья за это все-таки чуточку прибавьте — Лена сказала бы. Но сказать было некому. И со временем Лене Турбиной пришлось смириться со своей нелегкой долей красивой женщины.
2
То задумчиво-низко, то звеняще-высоко звучала эта странная мелодия. Она уносила куда-то туда, где никто и никогда не был: в серебристо-голубое бескрайнее пространство, которое было похоже одновременно и на небо, и на океан и которое вдруг оказывалось не тем и не другим, а чем-то еще более высоким и глубоким, еще более безграничным, неведомым и влекущим. Оно, это пространство, сначала завораживало, заставляя останавливаться дыхание, а потом в какое-то неуловимое мгновение вдруг обволакивало, размягчало тело и, погружая его в свою бездну, растворяло и смешивало с ней. Но это погружение-растворение рождало не ужас и страх, а радость и бесконечное счастье, потому что в конце концов оборачивалось легким и свободным парением — но парением не тела (его уже не было), а парением сознания, духа — парением над сияющими горными хребтами, которые взялись откуда-то и поманили к себе и выше. Значит, все-таки небо… И далеко внизу — сияющие розовые вершины. Такие же, как на картинах Рериха.
Щелкнул магнитофон. Кассета кончилась. А жизнь продолжалась. И звала начинать новый день.
Лена разрешила себе еще пять минут поваляться на полу, потом легко поднялась, посмотрела на себя в зеркало, похвалила и начала собираться на работу.
Сборы эти обыкновенно были совсем недолгими: не более четверти часа. В течение этого времени Лена успевала и принять душ, и выпить кофе, и покурить, и одеться. А оставшиеся полчаса или даже чуть больше она обычно тратила на неспешный переход от дома до работы.
У Лены Турбиной была замечательная привычка: превращать в неторопливую прогулку любой выход на улицу.
Ее соседка и подруга Алла Петрова, наоборот, никогда ничего не успевала. И всегда мчалась сломя голову куда угодно: в школу на родительское собрание, в Дом офицеров на репетицию, в парикмахерскую, на свидание, в магазин (туда-то как можно опоздать?) — и, страдая от этого, искренне восхищалась правильной Леной, у которой всегда и на все случаи жизни оставалось в запасе время.
— Алка, — говорила Лена, — так ведь всю жизнь пробегаешь и не увидишь, как вокруг красиво.
— Хорошо тебе, ты одна, — защищалась Алла, — вот все и успеваешь. А мне с моими оглоедами катастрофически не хватает времени. Катастрофически!
Лена вроде бы соглашалась, но все-таки не понимала: как же можно бегом — по улице? А Алла кое-что понимала (когда хорошая погода — можно, ясное дело, идти и наслаждаться), а кое-чего все-таки — нет (тоже мне удовольствие: медленно брести под зонтом в дождь и слякоть!)
Так они и жили: Алла на бегу, а Лена — в осмысленно-замедленном движении, разглядывая с детским восторгом (которого она все-таки стеснялась и который старательно пыталась спрятать от окружающих) все вокруг и с совершенно необъяснимой радостью вдыхая холодный и свежий, хотя и несколько разреженный северный воздух.
Особенно красиво на Севере, конечно, осенью. Возможно, оттого, что ей, как и лету, срок здесь отпущен короткий, она торопится-спешит в отведенные ей денечки показать все, на что способна.
Красок у северной осени скорее всего не больше, чем у ее сестры, царящей в положенное ей время в средней полосе. Но Лене Турбиной всегда казалось, что больше. Намного больше. И когда стелющаяся по сопкам растительность начинала вдруг каждодневно менять наряды, Лена не успевала сосчитать, сколько же, сколько цветов у безудержно-буйной заполярной осени? И где им всем взять названия?
Разве можно просто сказать: «желтое», «красное», «коричневое»?
Разве это будет правдой, когда столько оттенков: от холодно-лимонного до солнечно-апельсинового, от грязно-розового до полыхающе-багрового, от молочно-бежевого до медного и ярко-каштанового?
А когда все это проглядывает-пробивается сквозь холодный утренний туман, то возникают новые несмелые сочетания, и сопки еще больше притягивают и взор, и душу своей вековой задумчивостью и неразгаданностью.
Многокрасочный огонь осенних северных сопок радовал-будоражил в редкие солнечные дни и согревал-успокаивал в непогоду. А непогоды, откровенно говоря, здесь всегда было больше. Но поверьте, Лена Турбина любила и ее. Только никому (кроме Аллы) об этом не рассказывала. Потому что нормальные люди, ругающие холод, дождь и слякоть, такой всеядности обычно не прощают и воспринимают ее как лицемерие и ханжество. А в Лене, честное слово, ни того ни другого не было. Правда, ее отношения с природой не переносились на отношения с людьми: любить их так же безоговорочно, как любую погоду, у Лены почему-то не получалось.
3
Восемь лет назад Лена Турбина окончила журфак МГУ и, будучи одной из лучших студенток курса, могла бы вполне рассчитывать на очень приличное распределение.
Прилично распределиться хотелось всем, поэтому в ход шли все мыслимые и немыслимые связи, которые однокурсники Лены использовали для того, чтобы или остаться в Москве, или попасть в город побольше и в газету получше.
У Турбиной тоже обнаружились кое-какие ниточки, и она тоже за них подергала, но, в отличие от вышеупомянутых однокурсников, подергала для того, чтобы попасть на Кольский полуостров, в город Полярный.
Здесь ее ждала работа корреспондента в многотиражке на судоремонтном заводе и короткая любовь, закончившаяся трагедией, обернувшаяся глубокой печалью кофейных глаз, которые еще долгое время после случившегося строго и требовательно спрашивали у каждого: «Все — зачем?»
Почему Лена поехала после университета на Север? Романтика! И давняя любовь к морю и морякам. Дело в том, что папа Лены был офицером-подводником. И ее детство — это маленький эстонский городок Пальдиски, где практически все мужское население носило военно-морскую форму. И не было для Лены одежды лучше и красивее.
Так вот: папа-моряк — раз; старший брат тоже подводник, служит на ТОФе, то есть на Тихоокеанском флоте, — два. И мужчина, которого предстоит встретить и полюбить, только тот, кто в форме, — три. Вполне достаточно причин для того, чтобы ухитриться приехать именно сюда, а не в сухопутный старинный город в трех часах езды от Москвы, куда несколько лет назад демобилизовался папа и где, недолго прожив без моря, он и был похоронен, куда так звала мама, тоскуя в одиночестве, куда стремились многие однокурсники Лены: все-таки цивилизация и от столицы недалеко.
Итак, в восемьдесят четвертом, в середине июля, Лена Турбина приехала на Север, начала работать в газете «Судоремонтник» и уже через месяц получила от завода однокомнатную квартиру. Почти все складывалось удачно. Квартира, интересная работа. И радостное ожидание встречи с одним-единственным, ради чего стоило ехать на край света.
Разумеется, в Лену все и всегда влюблялись. В основном с первого взгляда. И к этой повальной влюбленности она привыкла еще со школьных лет, не придавая этому особого значения. К тому же у Лены было прекрасное и редкое качество: превращать своих поначалу безутешных поклонников в надежных и верных друзей.
Первая любовь обычно настигает нас если не в школе, то уж на первом курсе института точно. А Лену не настигла. Ни в школе, ни в университете. Конечно, периодически ей кто-то нравился, она с кем-то встречалась, но полюбить — нет, не получалось.
Возможно, начитавшись книжек, Лена решила, что любовь в жизни должна быть только одна. И поскольку нарисованный в детском воображении высокий красивый офицер флота не должен был ей встретиться раньше положенного срока — уголок Лениной души, ответственный за любовь, спокойно дремал. А бурлили, наполняясь впечатлениями, все другие.
Лену увлекало многое: жизнь замечательных людей, живопись, музыка, театр. И, приехав после школы из провинциального города в Москву, она с восторгом окунулась в столичный водоворот в стремлении не пропустить ни одного нашумевшего спектакля, ни одной интересной выставки.
Лена выстаивала очереди за билетами, успевая в это время подчитать и подучить все, что требовалось к занятиям. Или отправляла в эти очереди своих поклонников-друзей. Или в крайнем случае умудрялась попасть со служебного входа туда, где не быть ей было просто нельзя.
И вот такая, перекормленная впечатлениями и несколько уставшая от бешеного ритма, Лена Турбина и попала в тихий городок, куда раз в год привозил свои два-три спектакля Мурманский драмтеатр или заезжал с концертом ансамбль песни и пляски Северного флота.
Как уже было сказано, почти все у Лены тогда, восемь лет назад, складывалось удачно. Одно было плохо: не заладились отношения с главным редактором «Судоремонтника» — Галиной Артуровной Званцевой.
У Званцевой было белое, похожее на кирпич, прямоугольное лицо со спрятанными внутрь губами, и Лену Турбину она не полюбила. С первого взгляда не полюбила.
К Званцевой на заводе относились, мягко говоря, не очень хорошо. Не все, конечно. Были немногочисленные «старые кадры» (как она сама их называла), с которыми Галина Артуровна, проработав бок о бок много лет, сумела не поссориться. Эти «старые кадры» периодически заглядывали к ней в редакцию то поздравить с чем-нибудь, то похвалить какой-нибудь ее материал. Статьи Лены они демонстративно не замечали — и не хвалили соответственно. Для этого были «кадры молодые», шумные и веселые, которые, вваливаясь в тесный кабинет редакции, хлопали Лену по плечу и восторженно-громко (назло Званцевой, конечно) восклицали: «Ну, ты молодец!», «Не, такого еще не было!», «Здорово ты их!»
Спотыкаясь и чертыхаясь, шел очередной год перестройки. Флот трещал по всем швам — завод соответственно тоже. Заказы срывались, зарплату задерживали. Публикации Лены становились все острее и непримиримее, как и отношения со Званцевой, которая не привыкла идти против начальства.
Может быть, было бы правильнее давно уехать отсюда, вернуться к маме…
Но Лена не уехала. Что держало ее?
Работа, конечно, держала.
Несмотря на неиссякаемую нелюбовь Званцевой, Лена с не меньшим энтузиазмом, чем когда-то, в начале своего, так сказать, трудового пути, занималась любимым корреспондентским делом.
Держала Лену здесь и ее однокомнатная квартира. Жить с мамой после стольких лет самостоятельности представлялось совершенно невозможным: они и за время Лениного отпуска успевали несколько раз поссориться.
Держала и затаенная нежная привязанность к легендарному месту — Екатерининской гавани — и городу, построенному здесь почти сто лет назад, в историю которого Лена временами уходила с головой, собирая материалы для своих публикаций.
Она любила этот город. И в отпуске скучала по его нескладным улицам, разбросанным по сопкам и между ними.
Скучала по сумасшедшим белым ночам с упрямым и любопытным солнцем, не желающим уходить за горизонт.
Скучала по беспокойному ору огромных нахальных бакланов на помойках, удивительным образом преображающихся в одиночном стремительном полете в благородно-сильных, красивых птиц.
А больше всего Лена тосковала по виду из окна со своего девятого этажа: гладь залива, военные корабли: все серо-свинцового цвета, особая суровая и мужественная красота, которую дано понять не каждому, но на которую неизменно отзываются сердца всех североморцев.
А еще держала Лену здесь память. Хотя, пожалуй, не о памяти речь. Просто, живя на Севере, Лена Турбина была ближе к тому, кого встретила и полюбила (как мечтала и планировала) в свою первую заполярную осень.
Они шли друг другу навстречу и не смогли разминуться.
Не смогли разминуться — и столкнулись. Знаете, как это бывает: один направо, а тот, кто навстречу, вопреки правилам, — налево. А потом наоборот. Обычно — очень смешно и очень неловко. А тут — все так же, а неловкости почему-то не было.
Они столкнулись — и Лена попала в объятия высокого капитан-лейтенанта, ярко-голубые глаза которого она увидела, едва этот красивый каплей (так на флоте называют капитан-лейтенантов) появился в поле ее зрения.
Они столкнулись — и одновременно расхохотались. И уже в этот момент он стал близким и родным. Наверное, частота, на которой он смеялся, просто совпала с частотой Лениного смеха. И что бы он ни говорил потом, и как бы ни смотрел, и каким бы ни оказался — все это уже не имело никакого значения.
Да-да, он смеялся именно так, как должен был смеяться человек, встречу с которым давным-давно нафантазировала себе Лена Турбина. Хотя она, конечно, ничего об этом заранее не знала. И мыслью подобной, разумеется, не задавалась. Задавалась другими: должен быть умным, честным, благородным, надежным. А вот как он будет смеяться — до такого Лена никогда бы не додумалась. А тут услышала смех — и поняла: умный, честный, благородный, надежный. Точнее, не поняла (понять такое едва ли можно), а просто почувствовала — и все.
Они никак не могли успокоиться и хохотали долго, минут пять. Хотя, пожалуй, пять — это слишком много. Поменьше, наверное. Но вообще-то это не важно. Важно другое: он долго не выпускал ее, все сильнее прижимая к себе, а она не спешила выбраться из этих объятий, крепких и нежных одновременно.
— В Полярном все девушки такие красивые? — спросил он вдруг совершенно серьезно, как будто и не хохотал несколько секунд назад так, что, казалось, остановить его было совершенно невозможно.
— Нет, я одна такая, — ничуть не смутилась Лена, проглатывая остатки смеха и все-таки потихоньку освобождаясь от рук каплея, думая при этом, что расставаться с ним ей совсем не хочется.
— Но вы, конечно, понимаете, что теперь нам по пути? — поинтересовался он, будто прочитав ее мысли.
Лена утвердительно хмыкнула — и они пошли.
Олег был подводником. Его лодка уже месяц стояла на заводе в ремонте.
Он был подводником!
Он был веселым, но в меру. Лене не нравились, как совсем недавно выяснилось, записные военно-морские остряки с их байками и анекдотами на все случаи жизни. С несколькими такими экземплярами она встретилась на заводе сразу же, и они принялись ее атаковать, думая, что неуемное остроумие — их главный козырь. Просчитались. Не угадали.
Он был умным, но не умничал. И ум его чувствовался больше всего не в словах, вполне обыкновенных и незатейливых, а во взгляде, спокойном, внимательном, светлом.
Он вел себя естественно и свободно, но вместе с тем очень тактично: без малейшего намека на развязность или фамильярность, с чем Лене тоже, увы, пришлось столкнуться. А она этого не выносила настолько, что мужчина, допустивший хоть малую толику бесцеремонности по отношению к ней, не мог уже ни при каких обстоятельствах рассчитывать на ее благосклонность.
А еще (может быть, это и было самым главным?) за те полтора часа, пока они бесцельно бродили по городу до конца обеденного перерыва, Олег сумел несколько раз обратить внимание Лены и на рыжие сопки, и на легкие перламутровые облака, подсвеченные ненавязчивым северным солнцем, и на ровную, спокойную гладь залива с застывшими у пирсов кораблями.
Да, наверное, именно это было самым главным, самым важным. Потому что до Олега никто из офицеров, с которыми Лене приходилось в течение своего пока еще недолгого пребывания на Севере прогуливаться по городу, никогда не выявлял своего эстетического отношения к морю или сопкам. Все старались показать, какие они бывалые «морские волки», рассказывали, как и когда им приходилось «бороться за живучесть», и до подобных сантиментов не скатывались.
Но надо заметить, что замечания Олега никакого отношения к сентиментальности тоже не имели. Они, то есть замечания, были очень тонкими и непринужденными. И проскальзывали в разговоре так легко, что их можно было бы и не заметить, если бы Лена Турбина была не Леной Турбиной, а кем-нибудь еще.
Конечно, все положительные качества нового знакомого разложились в Лениной голове по полочкам уже потом, ночью, когда она в радостном возбуждении и сладкой тревоге, в бесполезном ожидании сна совершенно неоригинально твердила себе: «Это он!»
Да, «пора пришла, она влюбилась». Влюбилась, как и мечтала, с первого взгляда — так, как обычно влюблялись в нее.
Они встретились на следующий день. И все, что может произойти между влюбленными мужчиной и женщиной, в тот же день и случилось.
Ну и что из того, что знали они друг друга чуть больше суток? Ну и что? Разве нужно много времени, чтобы увидеть и почувствовать, что этот человек твой, твой от макушки до пяток? Ведь для этого достаточно мига. Достаточно взгляда. Да это всем известно. Только больше известно как миф, как красивая сказка. Потому что случается, увы, не часто. Но ведь случается!
Их первый вечер, их первую ночь Лена все эти годы почему-то не вспоминала, а видела во сне. Много-много раз. Видела каждый раз с новыми подробностями, которых наверняка не было тогда. Видела, испытывая все новые и новые ощущения восторга и счастья обретения.
Вы не поверите, но это был первый мужчина в ее жизни. Да, она дожила почти до двадцати трех лет и была старомодно-девственна. Но что она могла с собой поделать, если университетские мальчики, с которыми она дружила, встречалась, иногда даже целовалась, не были теми, с кем хотелось бы быть всегда? А если так, рассуждала она, то зачем близость?
А с Олегом они совпали. Совпали во всем. Он начинал говорить — она продолжала. Он задумывался — и она, тоже немного помолчав, вдруг тихо выдавала то, о чем он размышлял. «Так не бывает!» — разводил руками он. «Бывает», — спорила она. И он сразу же соглашался. Зачем противоречить очевидному?
Я сказала, что они совпали почти во всем. А в чем не совпали?
Олег не очень любил рассказывать про свою службу. А Лена, напротив, страстно желала все знать. И он был вынужден рассказать и про то, как их лодка однажды столкнулась с айсбергом, и про то, что, кроме обычного дня рождения (29 февраля, между прочим), у него есть еще один — 8 июля.
Свой второй день рождения (благо этот день бывает каждый год) Олег праздновал уже несколько лет.
Это была его вторая «автономка». (Для тех, кто не знает, поясню: автономное плавание атомной лодки длится обычно два или три месяца, когда всплытие практически исключается, даже в случае болезни или смерти кого-либо из членов экипажа.)
Собственно, ничего особенного, по словам Олега, не произошло. Пожар в отсеке. Потушили быстро.
Но Лена-то знала, что означает пожар на лодке, когда задраиваются люки, чтобы огонь не пошел дальше. Тем, кто остается в горящем отсеке, приходится рассчитывать только на себя. И на Бога. И коль уж речь идет о втором дне рождения, значит, дело было серьезное.
Олег же, рассказывая об этом, пытался сочинять на ходу всякие смешные подробности. Но Лену они нисколько не веселили. Нисколько.
Она слушала внимательно-внимательно. А потом тихо сказала: «У тебя очень тяжелая работа. Знаешь, как я буду любить тебя? Сильно-сильно. Что бы тебе… Что бы ты…» Ну и тут она, конечно, замолчала, уткнувшись ему в плечо.
А он гладил ее, как маленькую, по голове и говорил: «Глупая ты моя девочка, я тебе больше ничего рассказывать не буду, раз ты такая глупая…»
И в следующий раз, когда Лена потребовала историю про айсберг, Олег заупрямился. Заупрямился не на шутку. Но Лена оказалась упрямее.
Ну а что айсберг? Тоже ничего особенного. Обошлось же все.
Олег и его друг Сашка Коновалов сменились тогда с вахты в четыре часа утра. Сходили на завтрак в пятый отсек, потом вернулись во второй, в свою каюту. Перед тем как залечь и «придавить» минут двести-триста (если, конечно, по тревоге не поднимут), сели по давно установившейся традиции поиграть в «кошу» (нарды).
Играют себе, играют, и вдруг — удар. Мощный удар, честно говоря. На Олега полетели не только шашки, но и Сашка, спланировав через стол. Первая мысль… Нет, ее вообще не было. Никакой.
Потом, выбравшись из-под Сашки, увидев его почему-то белые глаза, осознал, что, кажется, что-то случилось.
Это «что-то» каждый пережил по-своему.
Механик Петрович мылся в это время в душе — и в центральный примчался с намыленной головой и залепленными пеной глазами, в наспех натянутых штанах.
Турбинист Серега, шкаф под два метра, сидел в курилке и травил, как всегда, анекдоты. Когда столкнулись, он с диким ревом вынес на себе примерно четверых и понесся на свой боевой пост, потеряв тапки и сметая все на своем пути.
Кто-то упал с койки, кто-то врезался лбом в приборы, кого-то влепило в переборку. Но серьезных травм, к счастью, не было.
Выяснилось, что провалились они метров на девяносто-сто, дифферент на нос был градусов сорок. Внизу — около трех тысяч метров, наверху льды толщиной метра три. Виной всему — айсберг.
Командир вычитал потом в лоции, что такие айсберги сползают с берегов Гренландии один раз в пятьдесят лет.
А впереди было еще тридцать суток похода. С пробоиной в легком корпусе.
— Вот и все, — улыбаясь, закончил свой рассказ Олег. А Лена, в этот раз собравшая все свои силы, чтобы снова не разреветься, спросила в ответ:
— Как же мне теперь отпускать тебя туда?
— Просто, Лен. Как все жены отпускают, так и ты будешь. Никуда не денешься.
Лена согласно покивала в ответ, но… Но смириться с этим «как все» ей было трудно. Она — не все. Она не выживет, она не сможет ни есть, ни пить, когда он там, когда…
— Сможешь, глупая ты моя. Еще как сможешь, — почему-то очень грустно и очень серьезно отозвался на это Олег.
И, взяв в руки гитару (ее Лена принесла от Аллы), запел не традиционную «Усталую подлодку», а что-то совершенно несусветное. Типа «Голуби летят над нашей зоной…» Да еще гнусавым голосом. Это чтобы рассмешить, конечно.
А потом он пел и «Усталую подлодку», и «Прощайте, скалистые горы…», и «В городском саду играет духовой оркестр…».
Олег прекрасно играл на гитаре, и голос у него был красивый и сильный. Это была вынуждена признать даже Алла с ее абсолютным слухом и почти виртуозным владением своим собственным голосом и несколькими музыкальными инструментами, гитарой в том числе. Она вынуждена была это признать, хотя с того самого момента, как только Лена познакомила ее с Олегом, весьма скептически относилась к нему и еще более скептически — ко всей этой истории любви, которая так бурно развивалась на ее глазах. И напрасно. Совершенно напрасно.
Это длилось две недели. Две недели у них совершенно одинаково пели и тела, и души.
Лене никогда не работалось так легко и так звонко. И никогда она еще вот так, вприпрыжку, не бежала с завода домой. Однажды даже на автобусе поехала: так торопилась.
Две недели счастья, которое казалось бесконечным, не были суммой суток и не длились во времени, которое, несмотря на его абстрактную сущность и непостижимость, все-таки можно условно измерить, — они звучали.
Это была удивительная, редкая, никому до Лены с Олегом не ведомая музыка, то восторженно-звенящая, то светлая, задумчивая и тихая, то симфонически-торжественная и непререкаемо-властная.
А через две недели ремонт лодки, на которой служил Олег, закончился — и экипаж убыл, говоря военным языком, к месту службы.
Место службы называлось Гремиха. Олег говорил, что туда от Мурманска теплоход идет почти сутки. Лене, когда она приехала на Север, думалось, что Полярный — это уже край света. Оказалось, нет — не край. А Олег говорил, что даже и Гремиха эта по сравнению с каким-то там Святым Носом — настоящая цивилизация. А есть еще Новая Земля. Есть Шпицберген. Так что все относительно.
Олег обещал вырваться к Лене на Новый год. Если, конечно, экстренно не ушлют в море.
— Ты веришь? — сокрушенно качая головой, спрашивала Алла, которая хорошо знала жизнь их городка, наполненную цинизмом, увы, не меньше, чем романтикой. — Леночка, миленькая, глупышка ты моя, да он наверняка женат! Они же все, когда в ремонте здесь стоят, холостые. Все норовят прибиться к кому-нибудь. Плохо ли? Накормят, напоят, спать уложат.
— Нет, нет у него семьи, — упрямо твердила Лена, изо всех сил сдерживая слезы, старясь не разрыдаться от обиды на Аллу, которая ничего не понимает.
Разве Олег все? Да он все-все Лене рассказал: про маму, про папу, про сестру, которые живут в Ленинграде. А про жену и про детей ничего не говорил — значит, нет у него никого. Только родители и сестра, которых он просто обожает. Отец у него, между прочим, капитан первого ранга, и он мог бы пристроить Олега в Питере, но он принципиально ни во что не вмешивался, и Олег сам Гремиху выбрал. Вот.
— Ну, Ленка, смотри. Я тебя предупредила, — говорила Алла, не вникая во все эти подробности. — Потом не реви, когда не будет ни ответа, ни привета.
Алла, наставляя соседку, на самом деле сама не хотела верить своим словам. Она была бы ужасно рада, если бы красивый Олег женился на красивой Лене и они были бы счастливы. Но это ведь только эмоции… Жизнь-то — она другому учит. До боли, как говорится, знакомая ситуация! Где это вы видели нормальных неженатых капитан-лейтенантов? Если только разведенный… А разведенный почему? Потому что пьет да гуляет. Правда, жена сама могла загулять (такой вариант Алла вполне допускала в силу обстоятельств своей собственной жизни). Но тому должна быть причина. Как у нее самой, например. А если Олег действительно такой необыкновенный, как твердит Ленка, то, выходит, причины нет. Что-то здесь не то.
Одним словом, ничего хорошего в любви своей соседки Лены Турбиной и Олега из Гремихи Алла Петрова пока не видела. Ленка, оказывается, даже фамилию не догадалась спросить. Говорит, не успела. Глупая девчонка! Глупая и наивная. Хотя ничего удивительного, лет-то ей сколько. Господи, как же жалко ее…
Фамилию Олега Лена узнала буквально через несколько дней после того, как он уехал. Все очень просто: она получила от него письмо! Точнее, целых два письма. И конечно, прочитав оба, бросилась к Алле: вот, смотри!
Алла искренне обрадовалась: письма — это уже серьезно. Но на всякий случай продолжала сомневаться: написать можно все, что угодно…
Олег писал, что уже считает дни до встречи. Лена тоже считала. Дней этих впереди было еще очень-очень много. Но она была готова ждать сколько угодно, лишь бы приехал. И лишь бы писал.
Он писал. Письма были большими, нежными и трогательными. А Лена вдруг обнаружила, что она, подающая большие надежды журналистка, может писать только для газеты, а письма ну совсем не умеет! Она старательно отвечала Олегу маленькими записочками, уговаривая не обижаться, обещая все рассказать при встрече.
Рассказать хотелось многое. В основном, конечно, о работе. О противной Званцевой. О другой коллеге — Оксане (если бы эта замечательная девочка не работала в редакции, пережить Званцеву было бы совершенно невозможно). А еще о том, что Лена до сих пор не может поверить, что у нее теперь есть Олег.
Письма от Олега приходили (если была нормальная погода) с интервалом в четыре дня. Связано это было с расписанием теплохода Мурманск Йоканьга Мурманск.
Йоканьга — это, как поняла Лена, еще одно название Гремихи. Олег говорил, что в переводе с какого-то аборигенского (наверное, с саамского) это означает «бухта злых духов» или «бухта злых ветров». Скорее всего все-таки «ветров». Потому что Олег с совершенно ненормальным упоением все время рассказывал, что такого ветра, как там, не бывает больше нигде.
Он рассказывал, что в его Гремихе иногда дует по неделе-полторы так, что теплоход не может причалить и болтается все это время в море вместе с почтой, продуктами и бедными, зелеными от качки пассажирами. Что неработающие жены вместе с детьми все дни, пока бушует так называемый «ветер раз», сидят дома: даже до магазина дойти практически невозможно. Что тем, кому нельзя отсидеться в тепле, приходится туго, ведь это целая эпопея — добраться до штаба, казарм или пирсов. Одних уносит совсем в другую сторону, других подолгу кружит на каком-нибудь ледяном пятачке, выбраться с которого в конце концов можно только на четвереньках — и то с чьей-нибудь помощью. Шапки, сумки и портфели с документами улетают навсегда в неизвестном направлении. Зато когда ветер, измучив всех, вдруг утихает (а случается это почему-то чаще всего ночью), вся Гремиха (дети — в первую очередь) одевается-обувается и вываливает на улицу. Гуляют-дышат, запасаясь кислородом до объявления следующего штормового предупреждения.
Лена, признаться, подозревала, что Олег несколько преувеличивает. Но слушать его было весело. И ехать в Гремиху за ним и еще большей романтикой Лене хотелось. Только было совершенно неясно, где она там будет работать. И возникала проблема: важнее Олег или работа?
В середине ноября Лена получила последнее письмо, еще не зная, конечно, что оно — последнее.
«Родная моя, любимая, ненаглядная девочка, — писал Олег, — я ужасно по тебе соскучился. Пока все складывается так, что на Новый год мы будем вместе. Сейчас вот выйдем на пару недель в море, а потом вернемся в базу и будем здесь аж до марта. Кэп обещает отпустить на целых десять дней в счет отпуска. Представляешь? Теплоход по расписанию — 26 декабря, значит, 27-го — я у тебя. Сама понимаешь, если погода не подведет. Я уже тут потихоньку у нашего интенданта клянчу деликатесы к новогоднему столу. Готовить, чур, буду я! От тебя — только заявки. Идет? А я тебе уже подарок приготовил. Не спрашивай какой — это сюрприз. Я очень, слышишь, очень тебя люблю! Скоро буду. Жди».
Письмо было коротким. Обычно Олег своим мелким, аккуратным почерком исписывал листа по два: вспоминал детство, училище, друзей, размышлял-философствовал о жизни. А тут — так коротко. Лена почти сразу же запомнила эту страничку слово в слово, но все равно каждый день перечитывала заново. Следующего письма она скоро не ждала: две недели Олег будет в море, значит, в лучшем случае — в первых числах декабря.
Но ни в первых числах, ни в середине декабря от Олега ничего не пришло. Лена отправила одно письмо, другое, третье.
— Да мало ли что, — утешала Алла. — Поменялись сроки выхода в море, вот и все.
— Но он бы написал, — ревела в подушку Лена.
— Ну, знаешь, жены подводника из тебя не получится, — сердилась Алла. — Что угодно может быть. Ты жди, больше от тебя ничего не требуется. Если ты так каждый раз будешь с ума сходить — никакого здоровья не хватит!
Это повторялось каждый вечер. Лена приходила с работы и ложилась на диван, уткнувшись в подушку. Алла, оставив на произвол судьбы семью, сидела с ней рядом, гладила по голове, успокаивала, ругала, поила чаем и валерьянкой.
Двадцать седьмого декабря Олег не приехал. А двадцать восьмого пришло письмо. От его друга, Игоря.
Олег погиб. И уже похоронен. Похоронен в Ленинграде.
Письмо было очень подробным, но Лена тогда почти ничего не поняла про пожар в отсеке, о котором писал Игорь. И того, что Олега больше нет, она никак не могла понять. Не могла и не хотела.
Снова рядом была Алла. Почти все время. Потому что на работу Лена не ходила: Алла позаботилась об этом, выхлопотала ей через знакомых у заводского начальства отпуск за свой счет.
«Леночка, я прошу Вас, приезжайте, — написала мама Олега. — Простите нас, что не сообщили раньше, чтобы Вы приехали на похороны. Так получилось. Приезжайте, я Вас очень жду».
Питер был почти родным городом для Аллы, куда она с детьми ездила к родителям мужа не реже чем раз в полгода. Поэтому Лену одну не отпустила. Куда она там без нее?
Сначала добрались до Петровых. Оттуда Лена позвонила. За ней сразу же прислали машину.
Мама Олега, Ольга Николаевна, в горе своем неизбывном, как за последнюю соломинку, хваталась за мысль: а может, после Олежки кровиночка его осталась? Вдруг осталась — и будет расти такой же красивый мальчик с голубыми глазами?
Конечно, когда Олег написал про эту Лену, на которой он так скоропалительно собрался жениться, Ольга Николаевна чуть было не слегла: так была расстроена. Подозревала, что женит ее Олежку на себе неизвестная ей (что за родители? кто она? откуда?) гарнизонная вертихвостка, которая, ясное дело, почему так спешит замуж. Наверняка уже забеременела, лишь бы парня охомутать.
То, что было достойно, с точки зрения Ольги Николаевны, безусловного осуждения, обернулось после гибели сына спасительным благом, засветилось маленькой звездочкой надежды, дающей силы перемочь тоску и дождаться приезда той, о которой сын писал с восторгом, бесконечно заклиная: «Она понравится тебе, мамочка, вот увидишь».
— Нет, Ольга Николаевна, я не жду ребенка, — ответила Лена на вопрос, который вырвался из груди ее несостоявшейся свекрови криком-страданием и жалобной мольбой почти сразу, как только Лена переступила порог.
— Ну почему-у? — простонала та в ответ и повалилась Лене в ноги. — Почему-у?
Лена не смогла поднять с пола Ольгу Николаевну, и они стояли на коленях на ковре, обнявшись и синхронно раскачиваясь в неутешном плаче.
Отец Олега, Павел Григорьевич, красивый, подтянутый, в форме, застыл над ними, не проронив ни слова.
Вот такая история.
Что было потом? Тоска, каждодневные слезы. И работа, несмотря ни на что. Мужчины? Их долгое время не было. Только года через три появился один — так, от безысходности, ненадолго. Потом — второй, и почти сразу же за ним — третий.
Это могло бы продолжаться, но Лена вовремя сказала себе: нет, этот путь не для меня. И научилась, покоряя неизменно (но видит Бог, невольно) практически все мужское окружение, отказывать всем даже в обычном провожании. Всем. Без исключения. Это не было принципом. Просто так получалось, что более или менее симпатичные мужчины действительно оказывались женатыми. А среди неженатых все попадались какие-то хлипкие телом — и узнавать, какая у них душа, почему-то не хотелось.
И Лена Турбина почти перестала ждать того, при встрече с которым, как когда-то при встрече с Олегом, она смогла бы сразу почувствовать и понять: мое.
4
Помните, до того, как я начала рассказывать историю любви Лены Турбиной, я говорила о том, что к моменту нашего повествования ее отношения с администрацией завода и с ее непосредственной начальницей Галиной Артуровной Званцевой становились все напряженнее? Так вот.
Наша Лена вся ушла в борьбу, и мимо нее прошел тот примечательный факт, что совсем рядом, практически в соседнем кабинете, появился новый мужчина.
Про то, что на заводе должна освободиться должность заместителя командира по режиму, капитан-лейтенант Буланкин, флагманский специалист штаба бригады подводных лодок, знал давно и приложил немало усилий, чтобы сюда попасть. Все, от кого это зависело, неоднократно поились (так уж на флоте заведено) то коньяком, то «шилом» («шило» — это в переводе с военно-морского спирт) — и в результате дело было улажено.
Новая служба предполагала отдельный кабинет, телефон, определенную долю независимости и власти. Все это Юрий Петрович Буланкин и получил.
В свое время, окончив школу на Новой Земле, где служил его отец, Юра отправился поступать в Севастопольское военно-морское инженерное училище, но не прошел по конкурсу. Домой возвращаться не стал, устроился работать. Потом — армия, точнее, флот. И затем — все-таки снова Севастопольское училище, в просторечии — «Голландия».
Уже на третьем курсе, как и многие его однокашники, Юра женился на красивой севастопольской девчонке, а получив лейтенантские погоны, увез свою Светланку из-под жаркого южного солнца на далекий Север. Увез под горькие, безутешные тещины слезы.
Молодые, когда еще только поженились, решили пожить сначала для себя, с детьми не торопиться. И у них это получилось. Светланка не работала, ждала Юру «с морей», занималась созданием домашнего уюта и верила, что она — самая счастливая на свете женщина.
Мечтающие о море курсанты, став лейтенантами и попав на корабли и лодки, почему-то почти сразу начинают мечтать о службе на берегу. Не все, конечно. Но большинство. А Юра Буланкин и в школе, и на срочной службе, и в училище привык относиться к большинству. Поэтому, когда года через три после начала службы выпал случай перевестись с лодки в штаб бригады, он им воспользовался. Жизнь началась более спокойная и размеренная.
Жена родила Юре дочку, которую он не долго думая назвал Светланкой номер два.
Юра любил своих Светланок и слыл образцовым семьянином. Но при этом никогда не упускал возможности лишний раз пообщаться с интересной женщиной. И жизнь его была расцвечена легкими флиртами и недолговечными романами. Отношения, грозящие затянуться и нарушить плавное и правильное течение жизни, он пресекал сразу и навсегда.
Но то, чего он так опасался, в конце концов все-таки произошло. В результате он остался без семьи, которая уехала от него (к радости его бывшей тещи, не полюбившей Юру с самого начала) в теплый Севастополь. Там старшая Светланка, довольно быстро пережив трагедию развода, снова вышла замуж. И у младшей Светланки появился новый папа. Мысль об этом была для Буланкина невыносима, но изменить ничего было уже нельзя.
Сам же Юра, хотя это и предполагалось, новой семьи не создал. О причинах этого я расскажу несколько позже. А сейчас только подчеркну, что к моменту знакомства с Леной Турбиной капитан-лейтенант Буланкин был абсолютно свободен.
К своим обязанностям в новой должности Юрий Петрович приступил, как водится, с огромным энтузиазмом, лелея мечту укрепить на заводе дисциплину и установить настоящий порядок: дела, по его мнению, были здорово запущены.
Оказалось, что в его функции, помимо всего прочего, входит и цензура каждого номера заводской газеты.
Секретарша начальника завода Тамара, яркая, холеная женщина лет сорока — сорока пяти, требовавшая обращаться к ней без отчества, сразу по-дружески предупредила Буланкина, что у редактора газеты Званцевой характер склочный и скверный, так что пусть будет готов ко всему.
Но Юрий Петрович умел ладить с женщинами. Даже с такими, как Галина Артуровна. И она, встретившись с ним и обсудив стоящие перед ними задачи, вдруг увидела такое понимание и такую доброжелательную улыбку, что неожиданно для себя решила, что наконец-то на заводе появился хоть один порядочный человек.
Но делиться своим открытием она, разумеется, ни с кем не стала. С кем делиться? С этой прима-балериной Турбиной, которая везде пролезает со своими глазками-губками и всем прочим? Которая не знает ни в чем отказа? И ведь считает себя настоящей журналисткой, все про профессионализм толкует! Может, и профессионализм, только в чем-нибудь другом.
Другую свою подчиненную, девятнадцатилетнюю Оксану, которая занималась версткой, Галина Артуровна вообще в расчет не брала. Слишком молода и слишком глупа. Авторитет для нее — эта Турбина, щеголяющая в коротких юбках. И ведь не девочка Турбина-то, тридцать уже. А думает, что ей все восемнадцать. Нет, дорогая моя, время бежит. Никуда от него не денешься, хоть какую короткую юбку надень! С какой стати, спрашивается, все считают ее невозможной красавицей? Ничего особенного в ней нет, если разобраться. Просто поставила себя так: я не я! И красавица она, и журналистка, каких свет не видывал! Куда уж нам до нее, мы университетов не кончали. Только двадцать восемь лет журналистского стажа тоже кое-что значат!
Так рассуждала сама с собой Галина Артуровна Званцева, целеустремленно (по-другому она не умела) шагая домой после очередного рабочего дня, главным событием которого она, безусловно, считала встречу с Буланкиным. Правда, не совсем понятно, почему мысли ее при этом были заняты больше Леной Турбиной, а не Юрием Петровичем.
Общаться с периодически меняющимися «режимниками» Лене Турбиной приходилось редко: только тогда, когда Званцева уходила в отпуск. Кстати, делала это Галина Артуровна ужасно неохотно, а иногда норовила и вообще остаться без положенного отдыха. Ведь в ее отсутствие газета полностью переходила в руки Турбиной. А это было чревато…
И болеть Званцева не умела. Точнее, никогда не уходила на больничный — в отличие от Лены, которая, по мнению главного редактора, была ужасной симулянткой, потому что раза два в год отсиживалась по неделе, а то и по две дома.
«Знаем мы эту ангину», — обычно мрачно и совершенно серьезно усмехалась Званцева в трубку, когда Лена звонила, чтобы сообщить, что заболела.
Лена терпела этот сарказм, это фактическое обвинение во лжи. А что сделаешь? Доказывать что-либо было совершенно бесполезно: Званцева никогда и никому не верила. Никому не верила. Никогда не болела. И всегда была на своем боевом посту.
А тут вызвали Галину Артуровну в Североморск на какой-то семинар. На целых три дня. Очень вовремя вызвали, надо сказать.
Лене совершенно необходимо было дать в номер небольшую статью начальника второго цеха Рубцова статью, которую Галина (так безобидно звали за глаза свою начальницу Лена с Оксаной) ни за что бы не пропустила.
Выпуск совпал с отсутствием Званцевой — и статья Рубцова красовалась на первой полосе. Лена была удовлетворена. Закончив верстку номера, они с Оксаной досиживали в редакции остаток рабочего дня, довольные друг другом и состоянием покоя и мира, которое успевало их охватить, как только Званцева куда-нибудь отлучалась, даже ненадолго.
К ним все заглядывали. И все улыбались. Забрели в кабинет и два заводских кота (не в переносном, а в буквальном смысле) — два симпатичных кота: рыжий и черный. Рыжего звали, как всех рыжих котов времен перестройки, Чубайсом, а черного — почему-то Гитлером. Давшие клички были, видимо, большими пессимистами и ничего хорошего от этой жизни не ждали.
А вот Лена с Оксаной — ждали. И правильно делали. Пессимизм вещь опасная. И очень вредная. От него, от пессимизма, все хвори и болезни. Так любила повторять воронежская бабушка Лены, которая до самых последних дней своей восьмидесятидвухлетней жизни оставалась отчаянной озорной кокеткой, обожающей новые шляпки, умопомрачительные наряды с непременными пелеринами и малюсенькие, вышитые бисером ридикюльчики, как она их называла и которых у нее было штук пятнадцать, не меньше. Но про воронежскую бабушку не сейчас, это так, к слову.
— Елена Станиславовна, а вы знаете, что у нас теперь новый начальник по режиму? — спросила Оксана, не поворачивая головы от окна, к которому она, облокотившись на подоконник, в данный момент буквально прилипла, хотя (Лена это знала точно) ничего сверхъестественного там, за стеклом, не происходило.
Когда не было ни срочной работы, ни Званцевой, делом жизни Оксаны становилось безотрывное наблюдение за жизнью, творящейся на улице, — наблюдение пристальное и молчаливое, лишь изредка прерывающееся каким-нибудь неожиданным возгласом. Неожиданным, но периодически повторяющимся. Например, таким: «Представляете, Елена Станиславовна, в Древней Греции не было окон! Как же они, бедные, жили?»
«Действительно, как?» — думала Лена, хотя ее всегда больше интересовало не то, что происходит снаружи, а то, что таится внутри, за стеклами сотен разноцветно горящих прямоугольников города.
Летом, когда день длился круглые сутки, все окна глазели одинаково пусто и бессердечно. И поэтому смотреть на них было совсем неинтересно. Но когда Полярный почти на полгода погружался в глубокую, неподвижную задумчивость темно-синей ночи, его окна оживали, становясь загадочными и не похожими друг на друга. Они манили уютным покоем зеленого, притягивали добротой и великодушием желтого, бередили душу тайной страстью красного — и только голубой люминесцент отпугивал своей холодной, космической отрешенностью.
За каждым светящимся окном текла своя жизнь. И чаще — совсем не такая, какой она представлялась из-за цвета абажуров и занавесок. Лена часто с грустью думала об этом, но все равно посматривала на задернутые шторы. Посматривала не с любопытством, а с надеждой, пытаясь угадать-разглядеть за ними — счастье.
Оксана была уверена, что ни в каком помещении ничего интересного быть не может, А вот на улице… Даже когда там было совсем темно, она все равно умудрялась что-нибудь высмотреть.
Оксану одинаково интересовали и солнце, и луна, и тучи, и звезды, и лужи, и снег, и воробьи на ветках, и бакланы на помойках. Она (кстати, так же, как и Лена) умела одинаково радоваться любой погоде. Только Лена предпочитала об этом не распространяться. А Оксана, сдерживаясь только при Званцевой (которую неизменно раздражали восторги и восклицания любого рода), обычно не уставала говорить о том, как все вокруг замечательно и здорово. И в стремлении всегда всему найти причину утверждала, что жизнь постоянно дарит ей большие и маленькие подарки не просто так, а за то, что она с благодарностью принимает каждый глоток воздуха. Да, именно так, по-книжному высоко, она и говорила про глоток воздуха. Но не понравиться это могло только Званцевой. Все остальные любили милую, добрую, непосредственную и немножко экзальтированную Оксану. А Лена иногда думала, что у нее, этой девятнадцатилетней девочки, пожалуй, многим стоит поучиться яркому и радостному восприятию жизни. Правда, думая так, она сама же и сомневалась: а можно ли этому научиться?
Но вернемся к вопросу, который задала Лене Оксана. Помните? Она спросила, знает ли Елена Станиславовна, что на заводе теперь новый «режимник». На вопрос этот Лена не ответила по той простой причине, что не слышала его: задумалась. Оксане пришлось переспросить.
— А-а, знаю. Но не видела еще, — отозвалась наконец Лена. И поинтересовалась: — Ну и как он?
— В каком смысле? — округлила глаза наивная Оксана.
— Во всех, — засмеялась Лена.
— Ну, не старый еще, — добросовестно начала перечислять Оксана, — среднего роста, худощавый…
— Что говорят? Строгий? Или как? Шутки понимает? А то, может, как наша Званцева?
— Ой, не знаю, — засомневалась Оксана. — У меня подруга пропуск оформляла… говорит, что он… ну, такой… бабник, в общем.
— Да? Это интересно. — Лена подошла к зеркалу. — Посмотрим, посмотрим. У нас ведь макет готов? Готов! Не будем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня!
Правда?
— Правда! — с воодушевлением откликнулась Оксана, оторвавшись наконец от окна. И убежденно добавила: — Вы ему понравитесь, Елена Станиславовна. Обязательно.
— Ты думаешь?
Лена все еще не отходила от зеркала, пристально глядя в свои глаза. Что-то ей в себе не нравилось. А что именно, она толком понять не могла. Наверное, не нравилось это неизвестно откуда взявшееся оживление, выдающее себя легким порозовением щек и чуть заметным движением губ, неуверенно ищущих какого-то особенного выражения. С чего это она вдруг так засуетилась? Но, решив, что легкое смятение перед встречей с незнакомым мужчиной — это еще не повод не любить себя, Лена все-таки улыбнулась зеркалу одной из своих самых лучезарных улыбок и, прихватив макет газеты и выяснив имя-отчество, отправилась покорять «режимника».
Когда Лена вошла в кабинет Буланкина, тот что-то писал и голову поднял только после того, как она поздоровалась и представилась.
— Очень приятно, Елена Станиславовна. Садитесь, пожалуйста. Я вас слушаю.
И ни малейшего намека на улыбку. Ни в голосе. Ни в лице. И взгляд усталый.
Лена ждала, пока Буланкин просмотрит макет, и пыталась понять, что же есть в этом Юрии Петровиче от бабника. И ничего не находила.
Лицо вполне приятное, но при этом совершенно незапоминающееся, стандартное. Попробуй опиши такого… Нос как нос. Глаза как глаза. Правда, глаза-то как раз Лена рассмотреть не успела. Но это, собственно, и подтверждало, что ничем особенным они не отличались. Уши не оттопырены, щеки не круглые. Прическа обычная. Не брюнет, отнюдь. Но и не блондин. Шатен, значит?
Одним словом, особые приметы, по Лениным наблюдениям, у Буланкина отсутствовали. А у бабников они есть. Лена это точно знала: слишком много их вокруг нее увивалось.
Лена знала, что бабника выдают прежде всего именно глаза. Они могут быть какими угодно: голубыми, карими, серо-буро-малиновыми в крапинку; большими, маленькими или средними… Но при этом все они, глаза бабников, абсолютно похожи меж собой. Они похожи тем, что постоянно оценивают, постоянно примериваются. И непременно тлеет в них — маленьким таким уголечком — призыв. Всегда. На всякий случай.
Затем — губы. Для бабника губы Буланкина были явно тонковаты. В них не было ни малейшего намека на чувственность. Напротив, крепко сжатые, они вместе с четким и упрямым подбородком говорили о натуре цельной и сдержанной, а уж никак не романтически-легкомысленной.
— На бабника он совсем не похож, — сказала Лена Оксане, вернувшись в редакцию.
— Значит, вы ему не понравились, — простодушно изрекла Оксана.
— Может, и так. — Лена постаралась скрыть свою растерянность, а скорее, даже неудовольствие по поводу этого заявления. — Давай работать.
— Ой, ну вы сейчас прямо как Галина! — возмутилась Оксана. — Работать да работать. Да и делать-то сегодня уже нечего.
— У нас в редакции дела есть всегда, — четко проговорила Лена званцевским голосом.
И они обе повалились от хохота — Лена на стол, а Оксана — на подоконник, моментально простив друг другу промелькнувшее было непонимание.
5
Вторая встреча с Юрием Петровичем Буланкиным состоялась на следующий же день. Лене нужно было уточнить кое-какие детали для своего нового материала — и без «режимника» было не обойтись.
— Юрий Петрович, можно?
С этим вопросом Елена Турбина зашла в его кабинет и, спокойно глядя ему в глаза (теперь она рассмотрела: они были серыми), сказала:
— Нужна ваша помощь.
— Вот как? — Он еле заметно улыбнулся и указал рукой на стул: — Пожалуйста.
— Понимаете… — начала Лена.
— Не спешите, Елена…
— Станиславовна, — подсказала Лена.
— Если не возражаете, — продолжил Буланкин, — давайте поговорим о последнем номере «Судоремонтника».
— Что-нибудь не так? — Лена, едва успев присесть на краешек стула, моментально вскочила. Как школьница. Сразу же застыдилась этого и, надменно усмехнувшись, снова села.
— Господи, что же вы так испугались? — растерянно спросил Буланкин. — По вашей газете не скажешь, что вы трусиха.
— Вот поэтому и испугалась. — Лена вздохнула, положила руки на стол и обреченно сказала:
— Говорите.
— Ну и скажу. Понравилось мне.
— Что?
— Статья ваша про династию Бетоных Я ведь когда подписывал, не прочитал, если честно. А потом почитал — здорово. Такая добрая статья получилась. Мне кажется, сейчас этого очень не хватает.
Лена вдруг ясно поняла, что у «режимника» есть задача: наставить ее на путь истинный. А то Званцевой мало! Интересно, уж не она ли его и подбила на это дело? Новый человек, новый взгляд… Ишь ты, как мягко он стелет!
А Буланкин между тем продолжал:
— Вы бы еще что-нибудь такое… ну, светлое, что ли, написали. А? А то все про цены, про нехватки, про зарплату, которую не выдают…
— Знаете, Юрий Петрович, от этого никуда не денешься! И сладкими сказками людям зубы заговаривать нечего! — вспылила Лена и снова резко поднялась со стула: разговор окончен!
А разговор ведь еще и не начинался. Лена с сожалением вспомнила об этом, и ей снова пришлось сесть, демонстрируя независимость и отстраненность.
— Хорошо. Не будем спорить. Что у вас? — В голосе «режимника» зазвучали, как показалось Лене, знакомые званцевские нотки.
Лена думала о Буланкине весь оставшийся день. Ужасно неприятный тип! От Званцевой не продохнуть — так нет, еще один цензор объявился!
Вечером к Лене, как обычно, заглянула Алла: покурить и поболтать.
— Слушай, Лен, — начала она прямо с порога, — у вас там на заводе новый начальник по режиму…
— Буланкин, что ли? — Лена, пропустив Аллу на кухню, пошла в комнату за пепельницей.
— Ну! Как он тебе? — Алла уже уселась к столу и нервно затянулась, не дожидаясь, когда Лена поставит перед ней хрустальный башмачок.
— Да никак. А что?
— Это же любовник бывший Лариски Игнатьевой, подруги моей! Тоже, правда, бывшей.
— А почему все бывшие? — спросила Лена, садясь в кресло, стоявшее у окна.
— Господи, — занервничала Алла, — вечно ты все забываешь. Я тебе рассказывала и про Лариску… Да ты ее видела сто раз!.. И про то, почему поссорились… Помнишь, она тогда сказала про меня Валентине Воронцовой…
— Что сказала? — невинно поинтересовалась Лена. Ларису она действительно видела. Но ничего про нее не помнила (кроме того, что она, как и Алла, из Куйбышева и что землячество — главная причина их дружбы). И про то, что та сказала Валентине Воронцовой про Аллу, тоже не помнила. Но, конечно, могла догадаться.
— Ну вот, буду сейчас тебе повторять, что она про меня сказала! — продолжала возмущаться Алла. — Не об этом речь-то. Не об этом.
— Ну ладно, Алл, не сердись. Раз не об этом, говори — о чем.
— Не, Лен, ты вот так всегда… ничего не помнишь. Только работа у тебя на уме. А я, между прочим, все, что тебя касается, в сердце держу! — Алла для убедительности похлопала себя по левой груди и повторила: — В сердце.
Лена, почувствовав себя виноватой, метнулась через всю свою большую кухню к Алле, обняла ее и громко прошептала ей в ухо:
— Алка, дурочка, я ведь тебя тоже очень люблю. Ты же знаешь.
Алла была на несколько лет старше и, хотя чаще всего вела себя как капризный, избалованный ребенок, не выносила, когда с ней обращались как с маленькой. Она вырвалась из объятий подруги, отвела ее снова в кресло и, вернувшись на свое место, продолжила:
— Ладно, слушай. В общем, с Игнатьевой я не общалась года три, даже больше. После того, как она сказала Воронцовой, что… В общем, это не важно.
— Разумеется, — готовно подтвердила Лена, — давай дальше,
— Так вот. Мы, конечно, иногда виделись с ней…
— С Воронцовой? — решила уточнить Лена.
— С Лариской! — завопила Алла и, сорвав с ноги тапку, запустила им в Лену.
Тапку Лена поймала. И не обиделась. Потому что, во-первых, это было в порядке вещей (тапками Алла кидалась в мужа, сыновей и в нее, Лену, то есть в самых близких людей), а во-вторых, обижаться на Аллу — это все равно что обижаться на то, что день сменяется ночью, а лето — осенью, то есть бессмысленно и глупо.
— Продолжай. — Лена принесла Алле ее тапку, надела ей на ногу и, вернувшись к окну, удобно устроилась в своем кресле.
Вот теперь она была готова наконец выслушать подругу, которая любила рассказывать всякие душещипательные истории, не пропуская ни одной мелочи, потому что каждая мелочь, на ее взгляд, вносила неоценимый вклад в истину и, потерявшись, могла ее, то есть истину, исказить. А искаженная истина — это уже не истина вовсе, а непонятно что.
Алла всегда ратовала за правду и возмущалась, когда Лена проявляла мягкотелость, говоря, что никто не знает, где она, эта правда, или, что еще хуже, — у каждого своя правда.
Правда одна. И надо ее донести, ничего от себя не прибавляя, но и не теряя ни единой детали-подробности. Такой был у Аллы жизненный принцип.
А вот у Лены с принципами было как-то не очень. На работе — да, там Елена Турбина слыла борцом за справедливость, а в жизни… А в жизни выходило так, что чаще всего она просто отказывалась понимать, где правые, где виноватые, и есть ли они вообще.
Алла просидела у Лены часа три, рассказав все, что знала, про Ларису Игнатьеву, про ее мужа Костю, про их сына Сережу и про Буланкина.
Лена, отфильтровав главное, теперь знала, что у Юры, то есть у Юрия Петровича, была с Ларисой жуткая, по словам Аллы, любовь; что он именно поэтому и развелся. Но Лариса дала Буланкину повод для ревности — и он ее бросил. А она теперь ужасно страдает, хотя с мужем и не развелась. Вот, собственно, и все. Хотя — нет, не все. Алла ведь зачем приходила? Чтобы попросить Лену узнать там, на заводе, нет ли у Буланкина другой женщины. Алла, добрая душа, Ларису простила, они теперь снова подруги — и Алла просто обязана ей помочь. С помощью Лены, конечно.
— Алл, ну ты с ума сошла! У кого я буду про этого несчастного Буланкина что-то расспрашивать? — упиралась Лена.
— А ты не расспрашивай, просто узнай — и все, — наседала Алла. — Ты бы видела Лариску! Одни глаза остались — и те скоро выплачет. Неужели тебе ее не жалко?
— Ну, жалко, конечно. Только какая же это помощь — если я узнаю, что у него кто-то есть?
На этот резонный вопрос Алла ответила как-то невнятно — на том подруги и расстались.
Лена, уставшая от долгого обсуждения чужой жизни, почти сразу же улеглась спать. Но быстро уснуть не получилось. Мешали мысли про Буланкина. Вот он, значит, какой! Лена никогда бы не подумала, что кто-то может так страдать из-за совершенно обыкновенного с виду человека.
Хотя чего только в жизни не бывает!
Кажется, именно на этой мысли Лена наконец отключилась. Если бы она, то есть мысль, была более оригинальна, то ее хозяйке, пожалуй, пришлось бы помучиться еще, развивая, уточняя и дополняя… А так все поплыло, поплыло: и Буланкин, и Лариса Игнатьева, и Алла… Правда, все они, сначала уплыв от Лены в неизвестном направлении, очень скоро вернулись и стали героями ее сна, запутанного, непонятного, в котором главным действующим лицом являлась Игнатьева Лариса, но была она какой-то странной, на себя не похожей. И почему-то танцевала на сцене Дома офицеров (увы, уже в реальности не существующего) партию Жизели из балета Визе. А Буланкин сидел рядом с Леной в зале, оглушительно хлопал в ладоши, кричал «браво» — и при этом смотрел только на Лену.
6
Лене никогда не снились черно-белые сны — только цветные. А совсем недавно выяснилось, что они могут быть еще и вещими.
Буквально полгода назад, в конце зимы, Лене приснилось, что она, шагая с кем-то по мосту, который соединял берега крутого оврага и вел от улицы Душенова прямо к парадной лестнице Дома офицеров, удивилась тому, что перед ней простирался не очень большой, но очень заснеженный пустырь. Слева — жилой дом, справа — госпиталь, а посредине — пусто. И лейтмотивом сна стал ее недоуменный вопрос к кому-то неузнанному: «А куда делся ДОФ, не знаешь?» Поздним утром (было воскресенье), провалявшись в постели с книгой почти до десяти, Лена, заставив себя в конце концов подняться, подошла по привычке к окну: посмотреть на залив.
Надо сказать, что панорама, открывающаяся из окна Лениной квартиры на девятом этаже, охватывала не только часть залива с кораблями у пирсов и маленьким кусочком острова, похожего на неуклюжего спящего медведя, но прозывавшегося громко — Екатерининский, но и часть города с мостом, Домом офицеров, госпиталем и нагроможденными на ближних сопках домами.
В сумерках северного утра сквозь пелену легкой метели проглядывали и силуэты кораблей, и госпиталь, и дома, и сопки, а вот ДОФ не просматривался: он скрывался в каких-то совершенно невообразимых клубах и вихрях снежного заряда. Картина была странной и завораживающей. Завораживающей до тех пор, пока Лена не поняла, что клубится это вовсе не снег, а дым, а здания Дома офицеров уже и нет.
Лена ужаснулась: как же так? Был — и нет? Ведь он, построенный еще в тридцатые годы, столько простоял! Столько всего видел! Музей — бесценный. Библиотека — потрясающая. И все это, как позже узнала Лена, сгорело буквально за несколько часов.
Лена прорыдала весь оставшийся день. Алла, утешая ее, удивлялась:
— Нуты, Ленка, ненормальная все-таки какая-то. Жалко, конечно, ничего не скажешь. Но ты уж как личную трагедию все воспринимаешь…
— Я туда спокойно заходить не могла, понимаешь? — твердила Лена. — По этим лестницам в войну поднимались те, кто… кто возвращался живым, понимаешь… и кому назавтра — снова в море… и уже…
— Да ну тебя, — махала рукой Алла, — ты напридумываешь. Как ребенок, ей-богу.
А когда к вечеру, уже расставшись с Аллой, но все еще всхлипывая, Лена в какой-то момент вдруг вспомнила свой сон, то у нее от удивления не только моментально высохли слезы, но и, казалось, сердце в недоумении остановилось на полном скаку и воздух перестал поступать в легкие. Ненадолго, конечно. На мгновение.
Лена никому тогда про свой сон не сказала. Никому. Даже Алле. И сама старалась об этом не вспоминать.
Итак, Лене Турбиной всегда снились цветные сны. Только цветные. И главное, во сне она совершенно отчетливо осознавала: все, что с нею сейчас происходит, ей вовсе не снится. Это — на самом деле. Она проживала все эпизоды фантастической действительности, сочиненной ее же собственным своевольным подсознанием, полно, ярко, на износ. На реальность уже не всегда хватало сил, и первые утренние часы давались обычно с трудом.
В выходные, когда можно было не выходить из дома, Лена могла весь день проваляться на диване. А в рабочие дни в более или менее активное состояние ее приводили сначала чувство долга и кофе с сигаретой, а потом — дорога на завод. Нормальные люди ездили на работу на автобусе. Но, как вы помните, Лена была не совсем нормальным человеком и не понимала, как по их маленькому городу можно на чем-то ездить. Ведь ничего не увидишь! Не увидишь, что сегодняшнее утро уже совсем не такое, как вчерашнее. Не почувствуешь и не услышишь, что оно и пахнет, и звучит по-другому, потому что рвущееся вперед время, непостижимое, как пляшущие языки пламени, обманчивое, как закипающее молоко, ежесекундно и неизменно меняет что-то и в природе, и в людях. Лене иногда казалось, что ей не случайно дано это чувствовать особенно остро, что это часть какой-то серьезной миссии, которую ей надлежит выполнить. Но что это за миссия и как с нею быть, Лена не понимала. И, мучаясь от неясных догадок и сомнений, жалела, что не дано ей ни таланта художника, ни таланта музыканта. А если бы было дано? Удалось бы передать цвет мгновения? Его звучание? Передать именно так, как видишь и слышишь?
Мучительные вопросы и отсутствие ответов на них — верный признак юности. Значит, к своим тридцати годам Лене Турбиной повзрослеть почему-то не удалось. Она оставалась ослепительно молодой внешне и доверчиво-юной внутренне.
Не было ли это, кстати, следствием ее особых отношений с природой? Что ж, вполне возможно. В свою очередь, особые эти отношения объяснить было достаточно просто, стоило только чуть-чуть покопаться в истории ее семьи.
Папа-военный и мама, в совершенстве освоившая профессию жены офицера, которая предполагает умение шить-вязать-готовить (и это, разумеется, самое простое), а также (и это главное и самое сложное) верность и преданность семейному очагу, безусловную отвагу, готовность в считанные часы собрать весь скарб и безропотно-радостно следовать за мужем в любую точку необъятной Родины, — так вот такие папа и мама Турбины почему-то никогда не учили маленькую Лену видеть красоту вокруг себя, никогда специально не говорили об этом — а она видела. И очень удивляла их, когда, гуляя, вдруг замирала то над гусеницей какой-нибудь, то над травинкой, а то столбенела посреди дороги, закинув голову вверх, ничего никому при этом не говоря.
Когда Лена повзрослела и начала все явственнее ощущать свою неодолимую принадлежность ко всему, что ее окружало, когда начала зачитываться стихами Есенина, до боли принимая эту переполняющую его душу нежность ко всему живому, и когда вопросы о смысле жизни все звонче и настойчивее барабанили в двери ее подросткового ума и сердца, — в то самое время она и попала на две недели из большого шумного Воронежа, где жила каждое лето у бабушки Вари, в маленькую глухую деревню Глебово, где никогда раньше не бывала.
Деревня эта, находясь километрах в ста от другого старинного русского города под названием Рязань, затерялась не только среди дремучих лесов и топких болот, но и среди сумбурных воспоминаний бабушки Вари о ее собственной жизни и среди ее несколько странных представлений о жизни вообще. Никогда она ни про какое Глебово и не говорила, а тут вдруг объявила, что затосковала по родине и по любимой двоюродной сестре Марии, и в одночасье собралась в поездку.
Сопровождать бабушку Варю было поручено Лене, хотя папина мама была еще очень даже бойкой и доехала бы, как она утверждала, и одна. Но поскольку ее непредсказуемая натура с легким налетом романтического безумия могла увести ее в сторону, противоположную конечному пункту путешествия, на семейном отпускном совете было решено, что с бабушкой поедет Лена, а мама с папой не полетят, как планировали, в Ялту, а останутся в Воронеже сторожить квартиру — таково было непременное бабушкино условие.
Ох и намучилась Лена в дороге с бабушкой Варей!
Во-первых, та слишком много болтала, постоянно ударяясь в воспоминания.
Во-вторых, Лена должна была каждую минуту подтверждать, что она, то есть бабушка, выглядит очень хорошо.
В-третьих, она (не Лена, разумеется) не пропускала ни одного приличного, по ее мнению, мужчины, обращаясь к нему с вопросом, просьбой или ироничным и тонким, как казалось самой бабушке Варе, замечанием.
Помимо всего прочего, бабушка немножко перепутала название районного центра, в который им нужно было попасть из центра областного и из которого путь лежал уже в само Глебово.
Лене не верилось, что они когда-нибудь доберутся до Марии, с которой бабушка Варя, оказывается, вела редкую и почему-то тайную переписку.
Но, слава Богу, добрались. И здесь наконец Лена узнала многое из того, что касалось ее происхождения. Бабушка Варя любила, конечно, постоянно что-нибудь вспоминать. Но она чаще всего рассказывала, кто и как за ней ухаживал и когда во что она была одета, ностальгируя по тому периоду своей жизни, когда она уже была женой сначала одного большого партийного руководителя в Воронеже, потом — другого, а позже уже сама по себе вращалась, как она говорила, «в та-а-ких кругах», которые, по ее словам, Лене и не снились.
И вот выяснилось, что родилась бабушка Варя не в большом и красивом Воронеже, а совсем в других местах, на одном из кордонов глухих мещерских лесов, где лесничествовал сначала ее дед, а потом и отец.
Отец бабушки Вари, как теперь она вспоминала, был статным и красивым, как Добрыня Никитич. А мать, оказывается, принадлежала к старинному дворянскому роду. Но это, вместе с образованием и воспитанием, не помешало ей влюбиться в молодого лесника, с которым бог знает где ее жизнь столкнула, и сбежать с ним из родительского дома.
Была она проклята обезумевшим от горя отцом — и проклятие это, к несчастью, сбылось. Не прижилась в лесной глуши городская красавица и умерла в родах, оставив своему леснику дочку. И хотя надежды выходить ее почти не было, выходил-таки отец девочку и отдал ее, когда подросла, в бедную, но дружную большую семью своего брата, жившего в тогда еще большом селе, где до революции была даже своя церковно-приходская школа.
— Жили голодно, но весело. Начались колхозы — пошли работать в колхоз, — вспоминала баба Маня (так она велела Лене себя называть), — а Варька все мечтала: вот бы в город! Где она этот город-то видала?
— На картинке видела. А может, во сне, — отвечала бабушка Варя. — И вообще не забывай, кем была моя маменька (она так и говорила — «маменька»).
— Не знаю. Не помню я никаких таких картинок, — качала головой баба Маня, не обращая внимания на слова о «маменьке». — А ведь домечталась. В тридцать первом вроде или в тридцатом, уж не помню, приехала к нам цельная делегация, кто откуда. Колхоз смотреть. С Рязани были. И с самой Москвы. И воронежский секлетарь к ним затесался. Ты, Варь, не обижайся, дело давнее. А не ровня он тебе был.
Так, какой-то длинный, как стручок, худой. И старый. Ему, поди, годов сорок уже стукнуло. Ты-то у нас первая девка на селе была: кровь с молоком. Кто только не сватался! А этот появился — и враз увез. Вот как в город ты, Варя, мечтала. Хоть старый, хоть плешивый — а только из колхоза удрать. Бабушке Варе не нравились такие слова она обижалась, хмурилась, а то и вскидывалась: «Да вам бы так пожить, как я пожила!»
— Да уж ты пожила-а, — не сдавалась Мария. — До тридцать седьмого пожила. А потом? Не вдова, не жена…
— Ну как же? Потом я снова замуж вышла, — оборонялась бабушка Варя.
— А потом? — добивала ее Мария.
— А потом — суп с котом! — отвечала ей сестра.
И в ответ на такие несерьезные слова обижалась, в свою очередь, баба Маня. И надолго замолкала.
Лене было жалко обеих, но душа больше тянулась к бабе Мане.
Они ходили вдвоем на речку стирать белье, собирали в лесу, который начинался сразу за огородом, грибы, пололи грядки. И говорили. Баба Маня много всего Лене порассказала. Про братьев, которых было пятеро и на которых они с матерью за первый год войны получили одну за одной похоронки. Про отца, который, дойдя до самого Берлина, вернулся живым и невредимым, стал председателем колхоза. А в сорок девятом пожар был большой, и Мариин отец, спасая колхозных коров, не успел выбраться, сгорел вместе с обломками рухнувшей фермы.
Рассказала баба Маня и про своего мужа, которого, как она говорила, «любила так, хоть кричи», а он все молчал «как пенек» и только в первом письме с фронта написал, что любит.
— «Ягодка моя лесная» — написал, — шепотом вспоминала баба Маня, и глаза ее при этом светились слезами, — никогда мне так не говорил, а тут вдруг — «ягодка моя лесная», люблю, говорит, знай и жди. Вернусь, говорит, с победой.
Не вернулся. И про сына своего Сашу, которого родила баба Маня в начале сорок второго, не узнал. А письмо это было одно-единственное. Не сохранила его баба Маня, о чем всю жизнь жалела.
Несмотря на все беды, выпавшие на ее долю, баба Маня считала себя вполне счастливой, потому что сын ее, майор-артиллерист, как она говорила, хоть и служил аж на Дальнем Востоке и в отпуск приезжал с семьей редко, не забывал: письма писал и денег присылал помногу.
— Видишь, у нас с Варькой сыновья-то какие! Военные. Моему-то Саньке легко было в училище попасть как сыну погибшего на фронте. А вот твой отец помыкался. Бабушка-то тебе рассказывала?
— Да нет, — отвечала Лена. — Я ничего про это не знаю.
— Вишь, скрывает, — качала головой баба Маня. — Отец твой школу закончил с золотой медалью. Хочешь — в инженеры иди, хочешь в учителя. Только не в военные. Отца-то его забрали в тридцать седьмом, ну и… А он, Слава (это Варька все его Стасиком зовет, а для меня он — Слава), только в моряки хотел. Не стал поступать учиться, в армию пошел. А потом уж после армии… Все-таки попал куда хотел. Вроде второй Варькин муж хлопотал… Вот такие дела, Лена.
Пока баба Маня с Леной разговоры вели на огороде или у речки, бабушка Варя, сидя на терраске, читала журналы «Крестьянка» и «Огонек», которые остались у Марии с тех пор, когда работала она в правлении уборщицей.
Мария удивлялась сестре, такой ни к чему не годной, и беззлобно говорила: «Тебе только бант привязать да на комод посадить». Но еще больше удивлялась она Лене. Надо же, городская ведь девка, а лучше всякой деревенской. Скачет босиком по грядкам — не налюбуешься! Работы никакой не боится — не в Варьку. Лицом, конечно, в нее, как картинка, почернявее только, а характер — совсем другой. И уж очень она желанная. Смеется на это слово, когда Мария так говорит. А чего смеяться? Желанная — значит, умеет ко всем подход найти, добра всем желает. Умница, дай ей Бог счастья. Как расспрашивает про все! Про каждую пташку да про каждую травинку Марию пытает.
— Вот кто на кордоне-то родился, а не Варька, — говорила Мария Лене.
— Это гены, — отвечала Лена.
Лена пыталась все объяснить бабе Мане с научной точки зрения, а та только качала головой:
— Про гены ничего не понимаю. А кровь в тебе — прадеда твоего. Вот оно как бывает. Ни в Варьке, ни в отце твоем не проявилась. А в тебе потекла… Вот как бывает.
О поездке в Глебово Лена вспоминала потом многие-многие годы, а вот побывать там больше не довелось. Не довелось, хотя и перебрались вскоре Ленины родители, когда отец вышел в отставку, волею судьбы не в Воронеж, а в Рязань. Но баба Маня умерла, поехать теперь было не к кому. И обновить воспоминания о деревне, затерявшейся в лесах и болотах, Лене помогали только сны, в которых Глебово в окружении кудрявых сосен (именно кудрявых — Лена таких больше нигде не видела) представлялось землей обетованной, далекой и зовущей.
Но от зова предков нашей героини перейдем, точнее вернемся, в «здесь и сейчас», то есть в Заполярье, в осень начала девяностых годов уже прошлого, заметьте, столетия.
7
После командировки вышла на работу Званцева. Ее губы были поджаты больше обычного: было ясно, что последний номер газеты она уже видела.
Немного походив туда-сюда перед столом Лены, Галина Артуровна вдруг резко остановилась и, с ненавистью глядя в окно, задала наконец свой вопрос:
— Ты почему дала статью Рубцова без меня? Званцева обращалась к Лене на «ты». Как, впрочем, и ко всем. К этим всем, разумеется, не относились большие заводские начальники. «А еще интеллигентной себя считает», — возмущалась про себя Лена. Возмутиться вслух смелости у нее, откровенно говоря, не хватало.
— Но вас же не было. — Лена попыталась прикинуться дурочкой.
— Ты дурочкой-то не прикидывайся! — прикрикнула Званцева, провести которую было невозможно. — Ты лучше подумай, что скажешь начальству, когда на ковер вызовут.
Тут Галина Артуровна перешла с крика на шипение:
— Хотя вызовут-то меня. И ты… — тут Званцева запнулась, ей, видимо, хотелось назвать Лену каким-нибудь плохим словом, но она сдержалась и продолжила, шипя: — …конечно, это знаешь.
Званцева что-то еще и еще шипела, а Лена думала: каким же словом хотела ее назвать Галина? У Званцевой был широкий ассортимент разного рода заспинных обзывательств для тех, кто возмущал своей глупостью, беспринципностью, наглостью, стяжательством и т.д. умную, справедливую, честную и порядочную Галину Артуровну. В этом списке самыми ходовыми были: придурок, хам, идиот и тварь. Какое годилось для Лены? Наверное, последнее.
По наблюдениям Лены, тяжелая неприязнь к ней жила в ее начальнице постоянно, но бурно прорывалась ровно два раза в месяц. Правда! Лена специально засекала. Может, у Званцевой внутри был какой-то особый механизм, отсчитывающий точно две недели, по прошествии которых необходимо было напомнить Турбиной, что она пока ничего собой не представляет, что она выскочка, что она идет на поводу у горл охватов-рабочих, что нужно не забываться, быть скромнее и т.д. и т.п.
Званцева в этот раз не успела сказать своей подчиненной и сотой доли того, что хотелось, потому что ей нужно было идти на планерку к начальнику завода.
Она с большим сожалением и одновременно с удовольствием хлопнула дверью, и Лена вздохнула с облегчением. Буквально через минуту в редакцию впорхнула Оксана.
— Елена Станиславовна, вы поедете в субботу за брусникой? На катере. Меня Буланкин попросил список желающих составить.
— Ой, Оксаночка, не люблю я эти коллективные вылазки, ты же знаешь, — замахала руками Лена, с ужасом представив, что ей еще и в субботу придется видеть Званцеву.
— Знаю, конечно, — с пониманием отозвалась Оксана, — но без коллектива на остров не попадешь. Может, поедем? А?
Лена подумала и Оксана дополнила внушительный список еще двумя фамилиями.
Буланкин действительно попросил Оксану составить список желающих поехать на остров, из чего, кстати, совсем не следовало, что сам он собирался в эту поездку. Народ попросил — он организовал. А самому с народом — особой нужды нет. Надо будет, он и без толпы выберется куда душе угодно.
Приблизительно так думал Буланкин до того момента, как увидел в списке фамилию Турбиной. Это меняло дело.
Да, Лена ему понравилась. Согласитесь, было бы удивительно, если бы этого не случилось. Надо сказать, что Буланкин видел ее в городке и раньше. Видел — и, конечно, отмечал про себя: хороша! И понимал, что такая красота уже, конечно, кому-то принадлежит. Поэтому интерес к этой женщине (больше, конечно, хотелось назвать ее девушкой) был чисто умозрительным, как к любому красивому явлению бытия. И вдруг это явление — рядом, через кабинет, с именем и фамилией. Теперь про нее все можно было узнать, причем без особого труда.
Буланкин в тот же день, когда Лена впервые переступила порог его кабинета, буквально через десять минут после ее ухода собрал необходимые сведения. И сведения эти его вполне удовлетворили. Не замужем — раз. Ни под кем из высоких начальников не числится — два. Это было приятно, хотя и немного странно.
Итак, размышлял Буланкин, поездка на остров — прекрасная возможность познакомиться поближе. Прекрасная. Но вся эта толпа… Так… Что же придумать?
Юрий Петрович набрал номер оперативного дежурного штаба бригады.
— Леха, ты в курсе насчет катера для завода на субботу? Так. А в воскресенье повторить нельзя? Командующий, говоришь? А… вот так? Ну доложи тогда. Жду. За мной не заржавеет!
— Оксана, а ты не знаешь, сам-то Буланкин поедет в субботу? — как бы невзначай поинтересовалась Лена, сама не понимая, зачем ей это.
— А хотите, я его спрошу? — загорелась Оксана. Лена сначала деланно-равнодушно пожала плечами, а потом все-таки решительно кивнула: спроси!
— Юрий Петрович, у нас тут вопрос возник… — набрав номер Буланкина, кокетливо заговорила Оксана в трубку. — Вашей фамилии в списке почему-то нет. Вы что же, от коллектива отбиваетесь?
В этот самый момент в кабинет непонятно почему вошла Званцева, которая должна была отсутствовать еще по крайней мере полчаса, и Оксана, моментально скиснув, перестала играть глазами, сделав взгляд сосредоточенным, а голос — серьезным и строгим.
Буланкин, очевидно, что-то долго-долго объяснял, но по лицу Оксаны теперь было совершенно невозможно понять, что именно. А Званцева, сидя за своим столом, уже всячески давала понять, что Оксана слишком долго занимает служебный телефон: нервно листала записную книжку и раздраженно постукивала ручкой по столу.
Наконец бедная Оксана, пробормотав что-то невнятное, положила трубку.
Лена вычитывала свою статью, не поднимая головы. Все равно пока ничего не выяснится. Даже в коридор вместе с Оксаной выйти прямо сейчас нельзя: Званцева терпеть не могла перекуров, рассматривая это как злостное нарушение трудовой дисциплины.
Но минут через двадцать Галину Артуровну вызвал к себе начальник отдела кадров. Надо сказать, что она плохо переносила, когда Лена с Оксаной оставались в кабинете наедине, подозревая заговор и саботаж, поэтому перед уходом всегда говорила что-нибудь гаденькое.
— Ты сегодня-то хоть закончишь? — спросила она Лену, никак по обыкновению ее не называя. — Или снова из-за тебя номер задерживать?
Лена подняла глаза и молча, но очень, как вы понимаете, выразительно посмотрела в глаза Званцевой: когда это из-за нее, из-за Лены, задерживали номер? Взгляд был, прямо скажем… Могла ли бедная Галина Артуровна любить Лену с этими ее красноречивыми взглядами?
Едва за Званцевой закрылась дверь, Оксана вскочила со своего места, подлетела к Лене и зашептала:
— Он сказал, что пока думает. И знаете, Елена Станиславовна, у него очень плохо с чувством юмора. Очень. Такой зануда! Видели, сколько он мне рассказывал, как тяжело было выбить катер и как он старался? А вообще-то он сказал, что не любит коллективных вылазок. Тут вы с ним совпадаете. Я бы ему, конечно, что-нибудь такое выдала, если бы не эта…
Уже через полчаса Буланкин знал, что с катером на воскресенье (фантастика!) все складывается. Командующий раздумал выбираться на природу. Теперь оставалось решить вопрос с Еленой… Как ее? Станиславовной, кажется? Ну что ж. Это надо делать через Оксану. Но тогда и ее с собой брать придется. Собственно, это неплохой вариант. Взять для нее кого-нибудь… Леху, например. Нормальная компания получится.
В общем, все получилось так, как планировал Буланкин: в воскресенье Лена с Оксаной и Юрий Петрович со своим другом Лехой из штаба бригады отправились за брусникой. Хотя брусника, ясное дело, была всего лишь поводом.
Буланкин, между прочим, занудой никогда не был. Это Оксане показалось. И она была вынуждена почти сразу же публично в этом признаться.
Все было замечательно: весело и вкусно. А главное, погода выдалась на удивление. Тем, кто приезжал на остров в субботу и ободрал до последней ягодки всю бруснику, повезло меньше: их день был пасмурным и ветреным.
А сегодняшняя компания, оставшаяся без брусники и безостановочно по этому поводу хохотавшая, в полной мере могла насладиться (она и наслаждалась) бережными остатками тепла заполярной осени.
Улыбка неяркого солнца была сдержанной, но постоянной и вполне доброжелательной. Окружающий ландшафт радовал суровым совершенством формы и положенной гаммой красок теплых тонов. Море… Ну что море? Это ж вам не теплые края, а самый настоящий Крайний Север! Как положено северному морю, оно и в самый солнечный день выглядело мрачным и холодным. Впрочем, купаться в нем никто не собирался.
Оказалось, что Буланкин не только спец по шашлыкам, а много еще по чему. Это выяснилось тогда, когда общее бестолковое веселье плавно перетекло в общение парами.
Оксана с Лехой убрели за соседние сопки, а Лена с Буланкиным остались сидеть у костра. Лена курила, Юрий Петрович по этому поводу неодобрительно качал головой. Но это вовсе не помешало им вести беседу.
О чем только они не успели поговорить! О буланкинской службе и о далеких временах учебы Лены в университете, о Севере и их общей, как оказалось, привязанности к нему, о любимых фильмах и книгах.
Что касается книг, то Буланкин не просто знал названия — он читал! Это совершенно потрясло Лену. Читающий офицер — это как плачущий большевик. Большая редкость. А когда он не просто читает, а легко цитирует, например, поэтов Серебряного века — то это вообще фантастика! Кстати, слово «фантастика», как успела заметить Лена (а заметить это было нетрудно), являлось любимым выражением Юрия Петровича. А произносил он его (точнее, восклицал) совершенно замечательно: с сияющими глазами и детской радостно-удивленной улыбкой.
Да, первое впечатление Лены о Юрии Петровиче Буланкине было явно ошибочным. И она все больше и больше убеждалась в этом.
Вернулись к костру и «столу» Оксана с Лехой, но вести общий разговор уже не хотелось, и, предложив всем быстро выпить, Буланкин повел Лену на экскурсию по острову.
Оказалось, что молчать с Буланкиным было так же легко, как и говорить. Но, помолчав, они все-таки вернулись к разговору о литературе.
Так уж почему-то сложилось, что в окружении Лены читающей была только Алла, окончившая, помимо музыкального училища, еще заочно и литфак. С ней Лена и отводила душу. Кроме как с Аллой, поговорить о Тургеневе, Бунине или Шмелеве было не с кем. Хотя Аллы вполне хватало, тем более что вкусы их во многом совпадали.
И вдруг — новый собеседник! Неожиданно умный. Неожиданно тонкий. И кажется, знающий не меньше Лены, а может, и больше. Это выяснилось, когда они заговорили о Серебряном веке. Буланкин легко сыпал цитатами и фактами.
— Откуда такие широкие литературные познания? — учтиво поинтересовалась Лена.
Задавая этот вопрос, Лена пыталась скрыть свою ревность. Ей казалось, что только ее могут связывать особые отношения с литературой. Даже Алле она в этом отказывала, полагая, что слишком бурная внешняя жизнь ее подруги не может позволить почувствовать то, что дано чувствовать Лене.
— Не из школы, конечно. Тем более не из училища. Когда в море первый раз пошел на полгода, набрал книг в библиотеке. Наивный, думал, будет время читать. А библиотекарша в ДОФе подсунула мне (не знаю, с чего она решила, что мне это будет интересно) воспоминания про Ахматову. Толстая такая книжка, белая… Собственно, ее я тогда только и осилил.
Лена уже поборола свою ревность и была вся внимание.
Ей нравилось не только то, что говорит Буланкин, но и то, как он это делает: быстро, небрежно и как будто чуть-чуть насмешливо.
— Ну вот. С этого все и началось. Сначала, можно сказать, полюбил Ахматову. Потом — Кузмина, Гумилева, Мандельштама. Это уже, конечно, более серьезно и более интересно. Вершиной показался Волошин. Как он вам? Вы читали его дневники?
— Дневники — нет. А стихи читала, но как-то… — Лена растерянно пожала плечами. — Наверное, я его пока для себя не открыла.
— Жаль. Хотя чего ж жалеть? Наоборот, здорово. У вас все впереди.
Буланкинские слова, конечно, слегка царапнули честолюбивую Ленину душу. Она считала себя знатоком и ценителем русской поэзии — и ей было немного стыдно, что она чего-то не знает, и обидно, что кто-то знает больше, чем она.
Возвращаясь к рассказу о своем первом выходе в море, Буланкин сказал, что он вернулся оттуда другим человеком еще и потому, что близко сошелся тогда с одним офицером, который был буквально помешан на восточной философии.
— Вот он меня и просвещал, — с удовольствием, но по-прежнему с легкой иронией вспоминал Буланкин, — говорил, что я очень благодарный слушатель. А меня всегда это все интересовало, но как-то не выходил на нужных людей. Вернулись в базу — он начал из меня йога делать. Не получилось, правда, из меня йога. Но интересно было. Да и сейчас… Вот так. — Юра улыбнулся, понимая, что он слишком много говорит и надо дать возможность Лене рассказать про себя.
Но Лене больше хотелось слушать. Хотя кое-что она тоже рассказала. Самую малость. Что йогой тоже интересовалась, правда, только теоретически. Что любит по утрам слушать музыку для медитации, и музыки у нее этой очень много, может дать переписать. Что любит читать Шмелева, и «Няня из Москвы» — ее любимая вещь.
Только Юра открыл рот, чтобы что-то сказать или спросить, как из-за сопки выскочили взбудораженные Леха с Оксаной, заставили прервать красивый интеллектуальный разговор, заменив его шумом, гоготом и кучей-малой.
Поездка на остров сделала свое дело. Буланкин понял, что, кажется, слегка влюбился. Сомневаться не приходилось: все положенные симптомы присутствовали. Но это не радовало. Вернее, сердце-то было согласно то радостно подпрыгивать, то замирать а вот разум… Разум был категорически против — против всего, что могло изменить теперешнюю Юрину жизнь.
8
Лариса Игнатьева относилась к тем женщинам, которых мужчинам всегда хочется оберегать и защищать, которым нельзя не уступить место в автобусе и из рук которых нельзя не взять тяжелую сумку. Она была маленькой и беззащитной, с доверчивыми глазами олененка Бэмби, с пухлыми детскими губами и трогательной ямочкой почему-то только на одной щеке.
Эта женщина-ребенок до умопомрачения любила своего мужа только потому, что он — муж, и плакала навзрыд в роддоме, когда ей принесли в первый раз сына Сережу. Плакала от жалости к нему, такому крохотному и беспомощному. И от счастья, которого, как ей казалось, она просто не достойна.
Недолюбленность в детстве (мама была очень строгой учительницей, а папа вовсе отсутствовал) обернулась, вопреки одним теориям и в подтверждение другим, громадой любви, которую Лариса аккумулировала, казалось, из всего, что ее окружало: из солнечного света, из запаха цветов и просто из воздуха.
Это стало сутью Ларисы — любить всех вообще и каждого в отдельности, а проявилось в полной мере, когда в девятом классе одноклассник Витя, такой же маленький и худенький, как она сама, признался ей в любви. Она откликнулась сразу же, откликнулась страстно и горячо, к чему Витя был совсем не готов и поэтому поспешил ретироваться. Лариса не могла понять, почему он вдруг перестал звонить, почему избегал ее взгляда и на перемене бросался сломя голову из класса, стоило ей оказаться рядом. Она страдала, плакала. Пыталась выяснить отношения — но из этого ничего не вышло.
И уже тогда в ее душу закралось подозрение, что любить слишком сильно — плохо.
А еще она вдруг интуитивно поняла, ровным счетом ничего пока об этом не зная, что мужчина и женщина — это не просто разные, но и бесконечно далекие друг от друга планеты, которые зачем-то очень стремятся к тому, чтобы орбиты их пересеклись. Что мужчина и женщина — это вечная борьба и единство противоположностей, как земля и вода, как север и юг, как запад и восток. Что мужчины не только внешне устроены по-другому они чем-то другим чувствуют, чем-то другим руководствуются, чему-то другому радуются и огорчаются.
Сделанное открытие не помешало, однако, Ларисе снова влюбиться. Влюбиться в Витиного друга, который взялся ее опекать. Никаких особых достоинств у него тоже не было, но довольно было того, что он смотрел участливо, брал за руку и говорил: «Все будет хорошо».
Однако и Витин друг не смог долго выдержать того высокого градуса любви, когда все вокруг плавится, теряя очертания и смысл. Смысл был дороже — и сразу после окончания школы друг тоже как-то быстро поспешил потеряться в потоке жизни. Снова было больно.
Лариса, будучи ярким гуманитарием, неизвестно зачем, наступив на горло собственной песне, поступила в политехнический. Но полюбить чертежи и цифры, как ни старалась, не сумела: бросила в середине второго курса. Она устроилась работать в своем Куйбышеве на кондитерскую фабрику, вкалывала по две смены, чтобы не только не зависеть от матери материально, но и поменьше ее видеть и слышать.
Она казалась всем диковатой и осторожной, но на самом деле все равно продолжала ждать. Продолжала ждать того, кто не испугается ее умения любить. Любить, как в трагедиях Шекспира. По-другому она, к сожалению, не умела.
Нельзя сказать, чтобы Ларисе пришлось дожидаться слишком долго. Уже через два года после окончания школы, которые вместили в себя и неудавшийся политех, и фабрику с двумя сменами, ее увез на Север офицер-подводник.
Старший лейтенант Игнатьев, приехав в гости к другу в Куйбышев всего на три дня, в первый же из них увидел Ларису в троллейбусе и пошел за ней, как бычок на веревочке.
Костя был невзрачным и нерешительным, но очень добрым и нежным. Не любить его было невозможно. А уж когда стал мужем — тем более.
Жили они душа в душу, абсолютно доверяя друг другу. Другие женщины Костю не привлекали, как и он их. А Лариса настолько была поглощена и им, и маленьким Сережей, что никогда и ни у кого не могло бы возникнуть мысли, что когда-нибудь от их уютного и теплого семейного счастья не останется и следа.
Но счастье это было нерушимым до тех пор, пока никто на него не покушался, пока никто не испытывал его на прочность.
Про Костю я вам уже сказала: кроме семьи, для него была важна только служба. Лариса же, абсолютно лишенная женского кокетства и ориентированная только на своего некрасивого мужа, вызывала у окружающих мужчин нежные, но исключительно благородные чувства — и никаких провокаций с их стороны не случалось.
Появление Буланкина в сложившейся компании, которая периодически собиралась то у Игнатьевых, то у Петровых, все изменило.
Ю]а и Костя вместе учились в «Голландии», дружили, вместе получили назначение в Полярный, где на какое-то время жизнь их ненадолго развела. Но однажды Костя, встретив Буланкина на улице и страшно ему обрадовавшись, затащил его к себе в гости. На свою беду.
Буланкин в тот момент «холостяковал» (жена с дочкой были в Севастополе) и с удовольствием прибился к компании Петровых — Игнатьевых. Сразу положив глаз на Ларису (что было с его стороны, конечно, свинством), он поначалу потерпел головокружительное фиаско: Лариса не откликнулась ни на один комплимент, ни на один намек — только смотрела на него глазами Бэмби, удивленно и доверчиво.
И так уж получилось, что все остальные женщины в жизни Буланкина как-то отодвинулись на второй план, померкли — и стал нужен только этот маленький олененок. Он так потом и звал ее: то Олененок, то Бэмби.
Любовь была бурной, с ревностью и слезами, бесконечными выяснениями отношений и бесповоротными решениями быть вместе.
Своего Костю Лариса поставила в известность о том, что полюбила его друга, чуть ли не сразу — но он, страдая неимоверно от двойного предательства, не отдавал жены своей и боролся за нее изо всех сил.
Юрина Светланка долго пребывала в неизвестности — и Юра пытался отодвинуть объяснение как можно дальше, вероятно, надеясь, что все как-нибудь само собой утрясется. Но Лариса не позволила пустить это дело на самотек. Объявилась и объявила: мой.
Светланка номер один сразу же подхватила Светланку номер два и уехала. А Юра затосковал и задумался: а так ли уж он любит Ларису? Пока Светланки были рядом, она была ближе и родней. Странно, конечно. Но факт.
И чудно все как-то получилось. Лариса была изначально настроена на развод, но продолжала оставаться с мужем. А Юра, до последнего надеявшийся, что Светланки вернутся, все-таки развелся. На это у него, кстати, ушло почти полгода.
Лариса жила со своим Костей, любила при этом Юру и говорила, что скоро все решится.
Разведенный Буланкин уехал в отпуск. А когда вернулся, добрые люди шепнули, что заходил тут один к Лариске, пока ее Костя в море был. Юра не стал ничего выяснять, а просто положил трубку, когда Лариса позвонила.
Она звонила и просила о встрече — он молчал. Она поджидала его — он обходил ее стороной. Она подсылала к нему Аллу Петрову — он отказывался разговаривать. При этом он был уверен, что Лариса его действительно любит, что она страдает, но…
Юра не хотел ничего больше знать про любовь. Бог с ней. И без нее прожить можно. И дело иметь можно только с теми, кто это тоже понимает. Слава Богу, таких женщин, без иллюзий и без фанатизма, достаточно. На его век хватит. Так думал и на том стоял Юрий Петрович Буланкин вот уже целых два года. И вот уже целых два года Лариса Игнатьева не давала ему покоя. Звонила. Просила о встрече.
Ни о какой встрече с Ларисой не могло быть и речи! Если б не она, жил бы Юра нормально. Ведь Светланка — идеальная жена, лучше не придумаешь. Любовь — это одно, семья — другое… Лариса все сделала, чтобы он развелся, а сама… Как это все понять? Звонит. А ему нечего ей сказать. Нечего! Прошло все. Было — и прошло. А у нее, выходит, нет. Звонит и плачет. Он сначала успокаивал, уговаривал, а потом, услышав ее голос, стал класть трубку. Сколько можно?
Ларису было, конечно, жалко. Очень жалко. Юра много раз ловил себя на мысли, что он уже готов сорваться с места и бежать к ней. Но ей ведь не жалость нужна, а любовь. А она, любовь, прошла. И ничего поделать с этим было уже нельзя.
Удивительно, но Юра, расставшись и с женой, и с Ларисой, продолжал дружить с Костей Игнатьевым, который должен был бы, случись вся эта история в другие времена, справедливо застрелить Буланкина, своего бывшего друга-однокашника и коварного соблазнителя, на дуэли. Но не было ни современной дуэли, то есть мордобития, ни такого естественного в подобных случаях разрыва отношений. И это характеризовало Костю Игнатьева как человека в высшей степени мягкого, интеллигентного и, согласитесь, странного.
Да, это было странно, но периодически Костя заходил к Буланкину (тщательно скрывая это от Ларисы), и они, выпивая, вели долгие разговоры. В основном, конечно, о службе. Но если выпито было много, Буланкин всегда каялся, называя себя последней сволочью, а Костя великодушно твердил одно и то же: «Это жизнь».
9
Через несколько дней после стычки со Званцевой из-за статьи Рубцова Лену вызвал к себе начальник отдела кадров Самохин. Для серьезного, как он сказал, разговора.
Любопытно, думала Лена, что же такого серьезного ей могут сказать. Не уволить же собираются. Вот Званцева была бы счастлива! А впрочем, может быть, это и есть какие-нибудь ее происки.
— Ну ладно, посмотрим, — успокоила себя Лена и, быстро глянув в зеркало, отправилась к Самохину.
— К вам можно, Александр Петрович? — Лена улыбнулась светло и приветливо.
Она знала, что именно эта ее улыбка, полностью лишенная игривости и кокетства, действует на мужчин любого возраста совершенно безотказно.
Самохин был из знакомого Лене разряда мужчин, которые, понимая, что у них нет никаких шансов, относились к ней почтительно-восторженно, как к музейной реликвии, на которой написано: «Красивая женщина. Руками не трогать».
Однако за почтительной восторженностью Александра Петровича Самохина, большого и неуклюжего, похожего на Пьера Безухова, скрывалась, но никак не могла толком упрятаться высокая и нежная страсть, так часто просыпающаяся в представителях сильного пола, чей возраст неумолимо стремится к шестидесяти и дальше.
— Пожалуйста, Елена Станиславовна! Пожалуйста, Леночка!
Самохин расплылся в застенчиво-счастливой улыбке. Поправил очки. Пригладил редкие волосы и моментально залился краской смущения и радости.
Лена искренне жалела начальника отдела кадров за безответность его чувства и старалась держаться с ним ласково и просто. Впрочем, «старалась» — не то слово. Ей нисколько не приходилось притворяться. Ласково и просто — по-другому она не могла вести себя с человеком, который, как ей представлялось, любит ее, годящуюся ему в дочери, совсем не по-отцовски, а вот так — страстно, тихо и нежно, на расстоянии, которое не сократится никогда и ни при каких обстоятельствах.
Самохин предложил Лене сесть, а сам вскочил, не в силах сидеть в ее, Ленином, присутствии, и начал вздыхать и разводить руками, вероятно, в поисках нужного тона и нужных слов. И почти сразу же, боясь, что выглядит смешно, снова опустился в свое кресло, с благоговением и все той же застенчивой улыбкой взирая на Лену.
А она при этом думала, что он — очень даже ничего, вполне симпатичный и приятный. И еще думала, что напрасно он так уж уверен, что между ними ничего невозможно. Во всяком случае, она не была бы для него просто красивой женщиной, благосклонности которой приятно добиться, а потом забыть о ней на следующий же день. Он бы любил. Как он любил бы ее! А вот она…
Но, кажется, Лена немножко отвлеклась. Александр Петрович, найдя все-таки слова, что-то увлеченно говорил. И не просто говорил, а доказывал. Только вот что?
— Леночка, вы справитесь, я знаю, — уверял он. «Господи, с чем это я справлюсь?» — растерялась Лена, не зная, как теперь выйти из положения и не дать Самохину понять, что она не слышала начала его вдохновенной речи. А он действительно увлекся и продолжал:
— Мы поможем… Я помогу… Ребята из цеха.
«Так в чем же все-таки дело?» — снова лихорадочно засоображала Лена, но на всякий случай сказала:
— Даже не знаю, Александр Петрович, мне надо подумать.
— Да тут и думать нечего, Елена Станиславовна. И оклад выше. И сама себе хозяйка. Ведь со Званцевой у вас отношения, по-моему, не очень?
Какую-то должность предлагают, догадалась Лена. Но какую? Какую должность, спрашивается, можно здесь, на заводе, ей предложить? Только редактора многотиражки. Но, судя по всему, Званцеву никуда девать не собираются. Ничего не понятно! Ничегошеньки!
— И звучит неплохо: «редактор радиовещания», — прояснил наконец ситуацию начальник отдела кадров.
«Слава Богу, — сказала себе Лена, — теперь хоть ясно, о чем речь…» И сразу вспомнила, что в здании заводоуправления, на третьем этаже, есть закрытый кабинет, на двери которого сквозь тонкий слой бежевой краски довольно заметно проступало слово «радиоузел». Званцева рассказывала, что до того, как создали газету, на заводе работало радио, она им и заведовала. А потом прикрыли это дело. Давно. Сто лет назад. Какой же смысл снова налаживать радиовещание, если на заводе вовсю идут сокращения? Об этом она и спросила у Самохина.
— Решили возобновить, — пояснил тот. — Оборудование все в сохранности. Правда, столько лет простаивало… Но все посмотрят, сделают. Не проблема. Выходы и в цеха есть, и на улицу. Будете музыку по утрам народу крутить, объявления передавать.
— Да, я для этого в МГУ училась, чтобы объявления читать и музыку крутить, — обиделась Лена.
— Леночка, — поспешно начал объяснять Самохин, явно расстроившись из-за ее тона, — вы не правы. Согласитесь, ведь и «Судоремонтник» — тоже не ваш уровень. Но тут ведь какое дело… Командиру (так все обычно для краткости называли начальника завода, капитана первого ранга Волкова) потребовался… ну, пресс-секретарь, что ли. Нужно осуществлять связь и с городом, в смысле с администрацией, и с командованием флотилии… Но соответствующей ставки у нас нет. Понимаете? Пробивать — долго, да и неизвестно, что из этого выйдет. Вот и решили: официально вас проведем редактором радиовещания, а вы, помимо радиоузла, будете помогать нашему руководству. Тамара не справляется, не мне вам рассказывать. Она ведь только печатает быстро, а так на нее особо рассчитывать не приходится.
Действительно, Тамара была красивой и ухоженной — с одной стороны, ответственной — с другой, как положено настоящей секретарше. Но у нее явно хромали как орфография с пунктуацией, так и стиль. Все, что иногда печаталось ею, например, для газеты, приходилось править и править.
В общем, уговорил Самохин Лену. И стала она называться редактором радиовещания.
То, что Лену приблизил к себе начальник завода, необыкновенно тяжело перенесла, как вы понимаете, бедная Галина Артуровна Званцева. Она совсем спала с лица, и без того спрятанные внутрь губы поджались еще больше, но зато ее маленькие глазки ярко и осмысленно запылали. Правда, запылали огнем ненависти и мщения.
Бедная Оксана не знала, куда деться, ведь вся званцевская злость и язвительность выливались именно на нее.
— Представляете, Елена Станиславовна, — жаловалась она, периодически прибегая на одну «маленькую минутку» (чтобы только Званцева не узнала!) в радиоузел, — она со мной даже здоровается сквозь зубы. Что я ей такого сделала? И шипит по каждому поводу: то ей не так, это ей не так.
— Потерпи, Оксаночка. Время пройдет, она и успокоится. — Лена пыталась утешить Оксану, понимая, что, сколько бы ни прошло времени, Званцева будет люто ненавидеть ее, Лену Турбину, и продолжать изводить Оксану, потому что та — рядом.
Лена часто задумывалась над тем, как в одном человеке может поместиться столько злобы и ненависти ко всем и ко всему на свете. Окружающие, конечно, объясняли это тем, что у Званцевой нет семьи. Старая дева, одно слово. Но Лена как-то не хотела мириться с этим объяснением. Ну и что, что старая дева? Вон у Лены двоюродная тетка в Москве (Лена ее Люсей называет, потому что «тетя» с ней никак не вяжется) — так она до пятидесяти лет жила одна и была, между прочим, добрейшей души человеком. А в пятьдесят, кстати, встретила такого мужчину закачаешься! Полковник в отставке, с квартирой и машиной, дети взрослые и обеспеченные. Он, похоронив жену, несколько лет маялся в одиночестве. И однажды встретил в метро Люсю. А она вроде неброская такая, но глаза у нее — потрясающие: густого шоколадного цвета и необыкновенной бархатной теплоты. Лена всегда удивлялась: мужики — идиоты, что ли, круглые? Не видеть такого? А вот полковник увидел. Молодец, ничего не скажешь…
Так что стереотип со старыми девами для Лены не срабатывал, когда она думала о Званцевой. Правда, думала она про Галину Артуровну не так уж и часто — много чести! «Бог с ней» — так она говорила всем после очередной званцевской выходки.
Лена действительно почти никогда не злилась на Званцеву. Может, она по-настоящему вообще злиться не умела? Может, и не умела. Хотя…
Она училась тогда в десятом классе. Только-только начался учебный год. Было по-летнему тепло и солнечно. Жизнь представлялась безоблачной, как небо над головой, и беззаботно-звонкой, как птичий галдеж.
Лена и две ее одноклассницы, выпорхнув на школьное крыльцо, не знали, куда себя деть от переполняющего восторга бытия и нежелания учиться. Все было здорово!
Вдруг откуда-то потянуло тревогой. Из-за угла вывалилась бесформенная группа патлатых здоровых парней (по виду пэтэушников). Девчонки заговорили еще оживленнее, стараясь не обращать на них внимания. Тем не менее они видели, как один из этих типов зашел в школу и вышел оттуда уже с Виталиком Быстровым из десятого «А».
Быстров был спортсменом, активистом и всеобщим кумиром, было совершенно непонятно, что общего у него могло быть с пэтэушниками.
Девчонки примолкли.
А через несколько минут группа, нарушившая гармонию окружающего мира уже своим появлением, окончательно взорвала его безмятежное благополучие.
Бросив жертву на землю, негодяи остервенело молотили красивое Виталиково тело ногами.
Десятиклассницы, визжа, сначала рванулись на помощь, но, получив несколько тычков и оплеух, охая и причитая, помчались в школу за физруками.
Окровавленного Виталика отвели в медкомнату, вызвали «скорую».
А потом Лена почему-то оказалась в учительской, где держали в ожидании милиции одного из пойманных хулиганов. Она запомнила на всю жизнь, что испытала в тот момент, когда увидела близко тупую и наглую физиономию рыжего детины. Она испытала отвращение и ненависть. А когда рассмотрела на пальце этого кретина самодельный перстень с черепом и костями, не помня себя, кинулась на него с кулаками и криками: «Фашист! Таких надо расстреливать!»
Наверное, это было состояние аффекта. Турбину оттащили от этого парня, в глазах которого застыли ужас и изумление. Вероятно, он испугался за свою рыжую физиономию, которую эта ненормальная могла бы расцарапать. Да, могла бы. Это Лена точно помнит. И она не только бы расцарапала ненавистную фашистскую морду, но и разбила бы ее в кровь — так же, как разбили лицо Виталику.
Вероятно, дело было не только в Виталике, а в том, что Лена первый раз в жизни встретилась с настоящим, как ей тогда казалось, зверством. Оно, это черное и пугающее зверство, существовало где-то далеко от Лены: в ночных подворотнях и темных переулках, где могли избить, ограбить, изнасиловать. И вдруг — средь бела дня! И вдруг — она видит олицетворение этого самого зверства своими собственными глазами.
В общем, перед ней был самый настоящий преступник, которого нужно посадить в тюрьму. Но сначала она, Лена, сама должна была отомстить за всех обиженных и оскорбленных. Вероятно, приблизительно так она тогда думала. Но отомстить не дали — оттащили.
Лене было стыдно потом смотреть в глаза учителям, которые видели эту сцену и после нее начали поглядывать на Лену с удивлением и некоторым сомнением. Видимо, никто не ожидал, что у отличницы и активистки Турбиной, оказывается, не все в порядке с нервами. Или с психикой.
Лена не любила вспоминать этот случай, возвращение к нему было редким и неприятным — и почему-то в самые неподходящие моменты.
Вот сегодня и сейчас, например, Лена должна была работать над выпуском заводских новостей, а в голове — и Званцева, и Люся, и Виталик Быстрое, и…
Самой переключить свои мысли на нужную волну не получилось — помог звонок Буланкина. Именно ему, а не Званцевой, подчинялась теперь радиоредактор Елена Станиславовна Турбина.
10
Буланкин звонил Лене в радиоузел каждый день, по делу. А заходил — через день, просто так.
— Зашел засвидетельствовать свое почтение, Елена Станиславовна, — говорил обычно.
А Лена обычно откликалась:
— Очень рада. Проходите, Юрий Петрович.
Короткие разговоры ни о чем постепенно стали заменяться более продолжительными, более глубокими и интересными беседами — как тогда на острове. Но развернуться в полную меру в рабочее время, разумеется, было невозможно, и поэтому Буланкин стал звонить иногда Лене домой, и они продолжали обсуждать какую-нибудь начатую в радиоузле тему.
Юрий Петрович продолжал удивлять Лену и тем, как много он знает, и тем, как много дано ему понимать и чувствовать. Это было очень необычно. Не встречались ей до этого мужчины (кроме Олега, конечно) столь, как бы это сказать… эмоционально тонкие, что ли. Ему бы быть поэтом или писателем, думала она, а он — офицер. Странно это. Очень странно.
«Все мужики — эмоциональные уроды, — часто внушала Лене Алла, считающая себя безусловным знатоком мужчин. И, стараясь растолковать до конца афористическую точность своей мысли, обычно убежденно добавляла: — А если что-то чувствует — значит, тряпка, а не мужик».
Теория Аллы заключалась в следующем: тонко чувствующие мужчины, в которых присутствует женское начало (добрые, нежные, понимающие), особым успехом у женщин не пользуются, к ним идут за утешением, к ним испытывают благодарность; а дохнут по самцам, от которых — ни понимания, ни нежности, а только «буря и натиск», сводящие с ума бестолковых баб.
Теория эта взялась, как понимала Лена, из жизни самой Аллы. Муж золото, на Алку не надышится, хотя о многом наверняка догадывается. Она утверждает, что тоже его любит. Разумеется, добавляя: «по-своему». А сама все мечется в поисках «настоящего» мужика, то есть, по ее определению, «эмоционального урода». Как это все понять? Лена не понимала, но и не осуждала Аллу. Каждый живет как умеет.
А вот с Буланкиным все было еще более непонятно. Чувствовалось, что его тонкость-эмоциональность сочетается с мужественностью, твердостью характера и упрямством. Все это необыкновенно притягивало. Притягивал его умный, спокойный, проницательный взгляд, в котором, когда он был обращен к Лене, иногда вдруг еле заметно читался тихий восторг. Притягивала улыбка — открытая, добрая и очень искренняя, настоящая. Притягивал приятный голос с небрежными, насмешливыми интонациями.
Буланкин совсем не был похож на Олега. Совсем. Но, кажется, это уже не могло служить препятствием…
Для Буланкина, в свою очередь, странным было то, что красавица Лена Турбина оказалась такой не по-женски умной. И надо сказать, это ему здорово мешало. Она, разумеется, очень привлекала его физически. Очень. Хотелось быстрее узнать и почувствовать ее всю-всю. И наверняка не было бы проблем, если бы они не начали эту дурацкую игру в духовно-интеллектуальное общение. Ведь с самого начала было понятно, что это его женщина, а значит, нужно было сразу начинать с главного. Нет, он начал разговоры разговаривать. Теперь он для нее не мужик, а личность! Куда с этим деваться? Как сойти с этой колеи платонических отношений и перейти на нормальные, человеческие?
Юра весь измучился, но придумать пока ничего не мог. От сомнений-переживаний по этому поводу помогали на время избавляться знакомые женщины, с которыми всегда все было просто и понятно. Правда, потом приходилось дня два избегать общения с Леной: в ее глазах ему чудился печальный укор.
Сначала, когда он увидел Лену у себя в кабинете во второй раз, уже зная, что она свободна, когда почувствовал сладостное томление от одной мысли о возможности обладания этой женщиной, он сразу предпринял все, чтобы понравиться ей (разговоры о литературе, собственно, тоже должны были этому послужить). Но когда их безусловное понимание стало приобретать все более явные очертания, все более четко выделяясь из бесформенного теплого облака приятия-симпатии, Юра испугался. Он испугался, поняв, что Лена, как и Лариса, — из тех, кто способен любить А эта способность, как известно, приносит лишь головную боль, всякого рода неудобства и хлопоты.
И Юра твердо решил, что придется, как это ни обидно, остановиться на дружбе. Хотя и это было лишним, если разобраться. Но было уже поздно. Ему хотелось постоянно видеть и слышать Лену Турбину (про себя он давно уже называл Елену Станиславовну Леной). Отказаться от этого уже не представлялось возможным.
11
Лена задумала сделать материал о первом частном кафе «Сполохи», недавно открытом в старом Полярном. (Город уже несколько десятилетий делился на «старый», довоенный, и послевоенный — «новый»; а соединял части так называемый Чертов мост, обледеневшие ступеньки которого являлись каждую зиму причиной многочисленных переломов рук-ног бедных полярнинцев.)
Статья про «Сполохи» предназначалась для городской газеты, редактор которой материалы Турбиной брал весьма охотно, в отличие от Званцевой, принимавшей от нее только то, что было непосредственно связано с распоряжениями-указаниями администрации завода.
Отзывы о новом кафе были самыми благоприятными. Да и сама Лена случайно зашла туда однажды и была приятно удивлена благородству-изысканности интерьера и неправдоподобно вежливому и быстрому обслуживанию. Об этом стоило написать. Кооперативное движение в стране только начиналось, обыватели подмечали лишь негативные его стороны — и Лене хотелось хоть чуть-чуть изменить общественное мнение. Хотелось убедить читателей, что не все кооператоры озабочены только тем, чтобы набить свои карманы, некоторые все-таки стремятся улучшить-украсить жизнь северного городка.
Оказалось, что Буланкин хорошо знает хозяев «Сполохов». Он обещал посодействовать и сказал, что в ближайшее время позвонит Лене по этому поводу.
Но Лена не стала дожидаться, когда Юрий Петрович ее отрекомендует, и отправилась в «Сполохи» сама.
Оба владельца кафе оказались на месте. Это были симпатичные молодые ребята, из бывших офицеров, сумевших, отслужив года по два, сбежать с флота. Павел и Игорь (так их звали) наперебой рассказывали с трудностях, но утверждали, что ни о чем не жалеют.
Они пытались угостить Лену всеми своими фирменными блюдами, Лена долго отнекивалась, но в конце концов согласилась что-нибудь попробовать. В результате получилось шумное застолье вчетвером: совершенно неожиданно в кафе пожаловал Юрий Петрович собственной персоной!
Пили «Амаретто», ели какие-то потрясающие салаты и мясо в горшочках. И много-много говорили. О жизни, о перестройке, о ценах. И вдруг в какой-то момент Павел сказал:
— Лена, а я ведь вас видел несколько раз на улице. Даже узнал, где вы работаете. И если бы не злая воля Буланкина, мы с вами были бы уже знакомы.
— Точно, — подтвердил Игорь. Мы ему, — он кивнул на Юрия Петровича, — как он только перешел на завод служить: познакомь да познакомь! А он нам: обойдетесь!
Этим «обойдетесь!» Лена жила целую неделю. А Буланкин всю неделю упорно ее избегал. Так ей казалось. Так было и на самом деле.
Лена несколько раз набирала его номер и, услышав знакомое: «Слушаю, Буланкин», быстро клала трубку. Потом пугалась, что он заподозрит именно ее, снова набирала номер и клала трубку в тот самый момент, когда он еще не успевал отозваться и слышал уже короткие гудки — получалось, что кто-то просто не может дозвониться из-за плохой связи.
Подходила к концу рабочая неделя. За все эти дни — ни одного звонка. За все дни — ни разу не зашел в радиоузел. За все дни — нигде не столкнулись.
В пятницу, после обеденного перерыва, Лена медленно шла на работу и думала, что вот сейчас придет — и все-таки позвонит. А что скажет? Можно было бы, конечно, что-то придумать по работе. Можно. Но «по работе» почему-то не хотелось. А не позвонить было уже невозможно.
Лена остановилась у дороги, ожидая, пока проедет машина: сияющая новизной вишневая «девятка». Из-за руля гордо выглядывал главный инженер завода Зайцев.
Зайцев был болтливый, вертлявый и маленький, но, как это часто бывает, с амбициями полового гиганта. Он не раз делал Лене предложения — не руки и сердца, конечно. И каждый раз, уязвленный ее насмешливым отказом, норовил сказать про нее что-нибудь гадкое, и не где-нибудь, а в приемной начальника завода, о чем добрая Тамара сразу же Лене и сообщала.
Увидев Лену, Зайцев как ни в чем не бывало подмигнул ей, но не остановился. Ну и не надо. Вот если бы Буланкин ехал и не остановился — это было бы плохо. Очень плохо. Но машины у Юрия Петровича, кажется, не было. И хорошо. А то бы вот так проехал мимо — и как после этого жить?
Еще не переходя дорогу, Лена увидела на противоположной стороне симпатичную рыжую дворняжку со смешно поднятым лохматым ухом. Та сидела на тротуаре и внимательно смотрела на Лену Турбину. Глаза у нее (у собаки, а не у Лены — про Ленины глаза все уже давно сказано) были лукаво-застенчивые. А морда — очень добрая.
Собака и Лена издалека поулыбались друг другу. А потом Лена, перейдя дорогу, извинилась перед этим лохматым ухом за то, что не может ничем его угостить, и поспешила дальше.
Открыв радиоузел, Лена сразу же, не раздеваясь, подошла к столу. Постояла в раздумье. Потянулась к телефону. Отдернула руку. Еще постояла.
И пока сама она, все еще не решаясь, мучительно раздумывала — левая рука уже прижимала трубку к уху, а указательный палец правой крутил телефонный диск.
— Юрий Петрович…
Голос ее, конечно же, дрогнул. Лена хотела сказать «здравствуйте», но забыла и вместо этого, заикаясь, повторила:
— Юрий Петрович…
Лена снова замолчала, а потом вдруг выпалила:
— Вы способны улыбнуться незнакомой собаке?
— Способен, — улыбнулся в трубку Буланкин. — Я всегда улыбаюсь незнакомым собакам.
— Спасибо, — ответила Лена и нажала на рычаг.
«Ну вот, пожалуйста, — подумал Буланкин. — И что с этим прикажете делать?»
За полчаса до окончания рабочего дня Юрий Петрович заглянул в радиоузел.
— Зашел засвидетельствовать свое почтение, Елена Станиславовна.
— Проходите, очень рада вас видеть. — Лена постаралась сказать это спокойно и просто, но ей это, кажется, не удалось.
— Нет, сейчас не могу. А вот минут через двадцать, если не возражаете…
Лена не возражала.
Рабочий день закончился — они вышли за ворота завода вместе.
На город падали последние редкие капли дождя, который лил почти весь день, а теперь, к вечеру, наконец решил остановиться.
Отражались в лужах фонари, у магазинов толпились уставшие люди, порывы ветра доносили холодное дыхание Баренцева моря и теплый запах дизельного топлива.
— Фонари отражаются в лужах, — сказала Лена.
— Осенний вечер, — продолжил Юрий Петрович. И засмеялся. — Вот такое хокку мы с вами сочинили.
— Господи, и про хокку вы все знаете… — задумчиво удивилась Лена.
— Все не все, но кое-что знаю, — скромно признался Буланкин.
— Может, и прочтете что-нибудь? — Из Лены вдруг полезло так несвойственное ей ехидство.
— Конечно, — спокойно откликнулся Юра. — Про что? Про весну или про зиму?
— Про осень. — Лена упрямо наклонила голову, надеясь, что Юрий Петрович все-таки спасует.
— Первый снег под утро. Он едва пригнул листики нарцисса, — легко проговорил тот, подавая руку Лене, чтобы она перешагнула лужу.
— Это зима, — решила поспорить Лена, преодолев препятствие.
— Не спорьте. Осень. И вы прекрасно это знаете, — миролюбиво, но твердо изрек Буланкин, улыбаясь. Улыбку его было не видно, но слышно.
— Ну а теперь вы. Про осень, пожалуйста, — предложил Юрий Петрович, продолжая улыбаться.
— А если бы я не знала? — поежилась Лена.
— Но вы же знаете.
— И осенью хочется жить этой бабочке: пьет торопливо с хризантемы росу.
— Это не про вас? — поинтересовался Юра. И сразу понял, что ляпнул что-то не то. Ни к селу ни к городу.
«Ни к селу ни к городу», — подумала Лена разочарованно и замолчала. Надолго.
Когда молчать стало невмоготу, она, остановившись, сказала:
— Я вот все думаю, Юрий Петрович…
— Думать вредно, Леночка, — перебил, пытаясь пошутить, Буланкин — и тут же запнулся. Леночка — он так еще никогда ее не называл.
«Леночка… Он так меня еще никогда не называл…» Лена успела поймать эту мысль, а ее уже перекрывали обрывки других: «На это надо отреагировать? Или лучше — не надо?.. Я тоже когда-нибудь назову его Юрой?.. Я когда-нибудь назову его Юрой!.. Темно, я не вижу его лица… Ветер, холодно, толком и не поговорить…» — И что-то еще и еще — неуловимое, быстрое, невнятное…
На улице разговор действительно не складывался.
Когда они дошли до Лениного подъезда, она пригласила Буланкина на кофе, тут же испугавшись этого приглашения и надеясь, что он откажется. Но он не отказался — и уже через несколько минут Лена суетилась на кухне, а Буланкин, сидя в комнате в кресле, с любопытством рассматривал корешки книг, которых было так много, что, не умещаясь на полках, они лежали на столе, на подоконнике, на полу.
«Вот такая книжная девочка. Вот такая умненькая, — с нежностью думал Юра, — и такая красивая. Все при ней, абсолютно все». Юрию Петровичу хотелось подумать об этом поподробнее, но он вовремя осадил себя: «Мы только дружим. Дружим, я сказал!» И тут же мелькнуло: «…а почему, собственно…» И еще мелькнуло: «Все равно спешить нельзя. Не надо спешить».
Они пили не просто кофе, а кофе с рижским бальзамом, который Алле кто-то привез из Прибалтики, а она подарила его Лене. Просто так подарила. Чтобы Лене было радостно. И Лене действительно было радостно. Оттого, что есть рижский бальзам и что он такой вкусный. Оттого, что Юрий Петрович попал к ней в гости. И оттого, что впереди — что-то очень-очень хорошее.
Несколько раз похвалив и кофе, и бальзам, и Лену, Юрий Петрович продолжил тему, начатую на улице.
— Так вот. Много думать, Леночка, вредно. А главное, бессмысленно. — На этот раз он, пожалуй, не шутил.
— Думать — бессмысленно? — удивилась — не согласилась Лена.
— Да, именно так. Кажется, у евреев есть замечательная пословица: «Худшие враги человека не пожелали бы ему тех бед, которые могут принести ему собственные мысли».
— Слушайте, как вы все запоминаете? — Лена сокрушенно развела руками. — И почему ваши евреи должны быть для меня авторитетом?
— А кто для вас авторитет? — заинтересовался Буланкин.
— Вы, — засмеялась Лена.
У Юры на самом деле была очень хорошая память, и он с удовольствием выдал огромную порцию своих и чужих размышлений о жизни. Чаще других звучало слово «дао». Лена, конечно, его слышала. И что «дао» означает «путь» — тоже знала. И даже имела некоторое представление о восточной философии с ее идеями самоуглубленности и отстраненности от мира и суеты. Но сейчас ей казалось, что все, что говорил Юрий Петрович, она слышит впервые. Точнее, по-новому. Из уст ее собеседника все воспринималось легко и весело. Воспринималось, но почему-то все-таки не принималось. Хотя кое-что понравилось. Ну например:
Дабы остаться целостным, давай себя «выжимать». Дабы стать прямым, позволяй себя изгибать. Дабы наполниться, опустоши себя.
Или:
Самую важную музыку невозможно услышать. Самая важная форма не имеет очертаний.
Когда она сказала Буланкину, что вот это действительно интересно, он не обрадовался, как должен радоваться всякий миссионер в подобных случаях, а задумчиво покачал головой:
— Боюсь, вы воспринимаете это пока только на уровне формы. Как красивые стихи. Для того чтобы понять… нет, не понять, а принять, принять на веру, не копаясь в этом и ничего не анализируя, должно пройти время.
— Вы сами себе противоречите, — заспорила Лена. — Зачем время, если не думать и не анализировать?
Юра остался доволен этим вопросом, но попытался все-таки объяснить, что к любой вере нужно прийти, она редко дается сама по себе. А противоречия? Конечно, они есть. Мир просто соткан из противоречий. И не надо пытаться их разрешить, не надо пытаться искать никаких объяснений. Надо учиться у древних даосов, которые, сталкиваясь со всеми парадоксами жизни, лишь пожимали плечами и признавали, что разрешение всех проблем им не под силу. А мы что-то все пытаемся понять, «отбывая пожизненное заключение в тюрьме своего разума».
Про пожизненное заключение и тюрьму разума Юра вычитал Лене из книжки, которая почти случайно оказалась у него в дипломате.
Лена, взяв книгу в руки и начав листать, вдруг мгновенно потеряла к ней интерес, резко захлопнула и спросила:
— И все равно все это не дает ответа на вопрос: как жить? Как?
— Да просто, — ответил Юра, забирая у Лены книгу, — быть участником жизни и одновременно как бы наблюдать ее со стороны. Вот как. Хотя нет. Не прав я, конечно. К этому, повторяю, нужно прийти. Через страдания, через потери. А если это дано изначально, то скорее всего просто не почувствуешь счастья освобождения от многих условностей и зависимостей.
— Мне кажется, что я понимаю, о чем вы говорите. Но только головой. А сердцем… Оно так привязано к близким, родным. Оно так болит, если им плохо. И еще… Как же любить, если, как вы говорите, освободиться от зависимостей?
— Вот в этом-то вся и беда. Любить и одновременно быть свободным, духовно свободным, — вот идеал. Понимаете? Причем любовь к конкретному человеку — это всего лишь часть любви к миру, к жизни, к себе. А та зависимость, которую мы привыкли считать любовью, зависимость от одного человека, — это ограниченность, обреченность.
Свои рассуждения Юра подкрепил рассказом про Ларису. Наверное, зря. Но так уж получилось.
Лене не понравилась буланкинская теория. Не понравился и рассказ о бедной Ларисе, которой она, разумеется, сочувствовала гораздо больше, чем Юрию Петровичу. Она хотела что-нибудь противопоставить всему этому — что-нибудь убедительное и основательное. И, понимая, что у нее ничего не получится, ужасно рассердилась. И на Буланкина. И на себя.
А Юрий Петрович между тем продолжал:
— Кстати, вся русская классика учит: любить — значит страдать. И это ужасно.
— Ну вот, опять противоречие! Сейчас вы утверждаете, что страдать — это плохо. А минуту назад говорили, что к вере нужно прийти через страдание. А про русскую классику… Я ведь на ней и воспитана. Поэтому…
На последних словах Лена смешалась, махнула рукой, но потом все-таки продолжила:
— Поэтому едва ли смогу понять все, о чем вы сейчас говорили…
Интонации конца предложения у Лены не получилось, Юра смотрел выжидательно, и ей пришлось продолжить:
— Нет, понять, кажется, могу. А принять и научиться так чувствовать — нет, никогда. — Лена для убедительности активно помотала головой.
— Никогда не говори «никогда». Простите за трюизм. — И тут Юра сделал то, чего, очевидно, делать не стоило, — потянулся через стол к Лене, взял ее руки в свои и долго посмотрел в ее растерянные кофейные глаза.
Лена взгляда не выдержала, но рук не отняла. И, отвернувшись, пробормотала:
— Слова-то какие знаете… Как будто в Сорбонне учились, а не в военном училище.
— Так я ж стараюсь соответствовать. Понимать надо. — На этих словах Буланкин аккуратно положил Ленины руки на стол и встал с кресла. — Спасибо за кофе. И за бальзам. И за интересную беседу. Мне пора.
В понедельник, не дождавшись звонка Буланкина, Лена опять позвонила сама. Позвонила, как она себя убедила, по делу.
— Юрий Петрович, вы телефон «Сполохов» знаете? Я записывала, но никак не найду. Хочу попросить ребят переписать мне несколько песенок. Мне там у них кое-что понравилось…
Лена говорила быстро, опасаясь, что собьется, Она понимала, что все ее обращения к Буланкину по любому пустяковому поводу выдают ее с головой. Но поделать ничего с собой не могла.
— Телефона не знаю, — ответил Буланкин, — но это не проблема. Давайте зайдем к ним после работы. Договорились?
Лена обессиленно откинулась на спинку стула: сам предложил, сам!
«Зря я, наверное, это сделал», — засомневался Юра сразу же после того, как положил трубку. Он беспокойно перекладывал бумаги и мучительно соображал, что бы такое придумать, чтобы никуда не идти. И, найдя то, что было ему нужно, решил: скажу, что не получается сегодня.
Лена поверила в неотложные буланкинские дела, но решила все-таки первой Юрию Петровичу больше не звонить, даже если будет очень нужно.
Назавтра с самого утра на Буланкина навалилась масса проблем, и про Лену он ни разу не вспомнил. Только уже поздно ночью, засыпая, подумал: «Не позвонила сегодня. Интересно, сколько выдержит?»
Но не выдержал сам Буланкин. На следующий день утром Лена услышала желаемое:
— Ну что, как у вас сегодня со временем, Елена Станиславовна? Заглянем в «Сполохи»?
— Хорошо, — спокойно и будто бы равнодушно ответила Лена.
И это спокойствие, которое Юра почему-то принял за чистую монету, было ему крайне неприятно.
Пока Лена на одном магнитофоне прослушивала то, что ее заинтересовало в прошлый раз, Буланкин сидел в наушниках у другого. Вдруг он повернулся и спросил:
— Вам нравится Газманов?
— Не знаю. Так как-то, — пожала плечами Лена.
— А вот эту песню вы слышали?
Лена подошла, Буланкин встал, бережно обняв за плечи, посадил ее на свое место, осторожно надел на нее наушники и присел перед ней на корточки.
Звучал красивый проигрыш… Но мешали буланкинские глаза. Лена махнула рукой: отойдите! Юрий Петрович понимающе кивнул, вскочил, сделал пару шагов в сторону.
Я не верю, что жизнь оборвется,
Что когда-то наступит конец.
И звезда моя с неба сорвется,
Оставляя созвездий венец,
— пел Газманов. Это было красиво. И высоко. И невыносимо.
Лена, забыв про всех, плакала. Как ей казалось, незаметно. Но Буланкин увидел. Подошел, обнял и вытер своим носовым платком Ленины щеки. Платок пах далеким, но не забытым «О'женом». Да, именно этот одеколон подарила Лена Олегу, когда он уезжал в свою Гремиху. Именно этот. Алла доставала в военторге через подругу.
Когда они вышли из «Сполохов», Юрий Петрович спросил:
— Можно я буду называть вас просто Лена?
Он, наверное, забыл, что несколько дней назад уже называл Елену Станиславовну Леночкой.
— И на ты. Хорошо? — ответила-спросила Лена. Буланкин ничего не сказал, а, остановившись, взял Ленину руку в свою и поднес к губам.
Они долго шли молча. Когда Лена наконец собралась спросить у Юры что-нибудь умное, он опередил ее:
— Лена, почему ты плакала?
Ты странный. Песня грустная, красивая. Вот и плакала. Это естественно.
— Не знаю. Не думаю, что так естественно.
— Для мужчин, конечно, нет.
— Да я не про мужчин.
Вот здесь Лена и рассказала Буланкину про Олега. Все-все.
Юра внимательно слушал. А потом снова долго молчал. Ему хотелось кое-что расспросить про Олега поподробнее, но он не посмел.
Засыпая, Буланкин вспоминал, как вытирал Ленины слезы своим платком. Вспоминал такие же сверкающие слезинки в мочках маленьких ушей какой-то удивительной, абсолютно идеальной формы. Вспоминал глаза. Вспоминал губы. И думал: «А я, идиот, толковал ей про страдания…»
А Лена, погружаясь в сон, видела ярко-голубые глаза высокого капитан-лейтенанта, который шел ей навстречу и с которым она не смогла разминуться…
Через несколько дней после того, как Лена и Буланкин перешли на «ты», она вдруг совершенно неожиданно и для него, и для самой себя собралась к маме, в Рязань. Написала заявление на отпуск за свой счет, принесла Буланкину. Он, ничего не спрашивая, подписал. Она сказала «до свидания», на что он ответил: «Вы уж не задерживайтесь, Елена Станиславовна». С тем она, ничего не понимая, и уехала.
12
На вокзале Лену встречала мама, Вера Петровна. За полгода, что они не виделись, она успела чуть-чуть постареть. Во всяком случае, Лена сразу увидела два тоненьких полукруга незнакомых морщинок вокруг губ — и сердце ее сжалось от жалости, нежности и любви.
Сумки у Лены были тяжелые, и она обрадовалась, что сразу же подвернулся таксист и носильщик в одном лице.
Встреча с городом после обычно полугодовой разлуки всегда была нежной и трогательной. Выдержать целый год у Лены никогда не хватало сил: она или делила отпуск пополам, или, как в этот раз, срывалась на неделю-две за свой счет.
Она продолжала любить Рязань, несмотря на то что Север занимал в ее душе столько места, что, думалось, ничего больше поместиться там уже не могло.
Обычно Лена начинала волноваться, когда поезд, проделав полпути от Москвы до Рязани, начинал вдруг, как ей казалось, плавно замедлять ход. Сердце постоянно радостно замирало: вот уже Луховицы, а вот Рыбное, почти дома. Полчаса от Рыбного начинали тянуться особенно долго, и сладостная мука ожидания так распирала грудь, что было больно и тяжело дышать.
Сейчас, когда они ехали с мамой в такси, Лена, всматриваясь в улицы, скверы, лица домов, ловила себя на мысли, что все это за время ее отсутствия вроде бы и не могло измениться, но, как обычно, казалось новым и немного чужим. И необходимо было какое-то время на узнавание-привыкание. Но его, то есть времени, нужно было совсем чуть-чуть — и вдруг словно завеса какая-то спадала, все становилось по-прежнему родным, близким, понятным и самым лучшим на свете.
Особый восторг всегда охватывал, когда ехали мимо Кремля. Знакомый вид с золотым шпилем колокольни и звездными куполами Успенского собора открывался еще с площади Ленина и некоторое время стоял прямо перед глазами. Потом — плавный изгиб дороги, и нарядный комплекс на набережной оставался слева и пробегал мимо уже досадно быстро.
Вера Петровна, зная особенность дочери не разговаривать в такси, все же периодически спрашивала:
— Ну как ты там?
— Все хорошо, мамочка, — отвечала Лена. Спрашивая, Вера Петровна с волнением и надеждой всматривалась в лицо дочери. А Лена, стараясь отвечать как можно более беззаботно, страдала оттого, что не может ничем порадовать маму, которой, конечно, было очень трудно мириться с тем, что ее Лена, умница и красавица, до сих пор одна.
Едва Лена с мамой переступили порог, как примчалась одноклассница Ольгунчик (о ней — разговор впереди), а следом пришла соседка баба Зоя. Они бросились Лену обнимать, целовать, тискать и расспрашивать, оттеснив Веру Петровну, которая, моментально обидевшись, ушла в свою комнату.
Усадив бабу Зою и Ольгунчика пить чай, Лена пошла за мамой.
Вера Петровна сидела в своем любимом кресле, положив на колени руки. По щекам ее текли слезы.
— Мам, ну прости, я же не виновата, — наклонилась к ней Лена и потерлась носом о ее плечо.
— Не виновата, а зачем прощения просишь? — поинтересовалась мама. С обидой поинтересовалась. — Иди к ним, что ж ты их бросила…
— Мамочка, ну что ты такое говоришь? Я за тобой пришла. Пойдем выпьем за встречу.
— Не пойду, — сказала мама твердо.
— И так всегда, — обиделась теперь Лена.
— Вот именно, — подтвердила мама.
Конечно, как только баба Зоя с Ольгунчиком ушли (правда, случилось это не очень скоро), Вера Петровна с Леной сразу же помирились. И проболтали полночи.
Про Буланкина Лена маме ничего говорить не стала. Зачем? Ничего ведь не ясно. Рассказывала про работу, про Званцеву, про Оксану. А мама — немножко про одиночество, немножко про болезни, а главное, про то, как недавно был в отпуске старший брат Лены Саша, со всей семьей.
Саша — капитан третьего ранга, подводник, служил (как я уже говорила) на Дальнем Востоке. Приезжал в отпуск в Рязань с женой и сыновьями-погодками в лучшем случае раз в три года. Больше никак не получалось. Последний раз Лена видела его самого и его мальчишек, тогда еще совсем маленьких, лет шесть назад. Конечно, очень скучала, но писем не писала, только открытки ко всем праздникам посылала, а Саша исправно ей звонил раз в месяц, если, разумеется, не был в море.
Мама показывала фотографии, рассказывала взахлеб про внуков, которые «просто на голове все время стояли», возмущенно удивлялась спокойствию Сашиной жены — «никакого воспитания детям не дает», восхищалась Сашей, таким умным, таким красивым, таким деловым — он и ремонт на кухне успел сделать («Видишь?» — «Здорово!» — в который уже раз восторгалась Лена), и оградку на папиной могилке покрасил, и батареи в Лениной комнате заменил.
Уснули Лена с мамой только под утро, умиротворенные, довольные друг другом, почти счастливые.
А теперь я расскажу вам про бабу Зою и Ольгунчика. Хорошо?
Сначала, пожалуй, про Ольгунчика. Почему ее называли именно так? Да кто ж знает, привязалось когда-то давно, классе в пятом (кажется, Лена, с которой они сидели за одной партой, и начала ее так звать), с тех пор и пошло — Ольгунчик да Ольгунчик. Как вы поняли, она была школьной подругой, связь с которой за все Ленины северные годы сумела удивительным образом сохраниться. Нельзя сказать, что они вели бурную переписку, но периодически отправляли друг другу весточку, когда бывало особенно тяжело.
Особенно тяжело чаще бывало Ольгунчику. Психика ее не всегда выдерживала жизнь как таковую и периодически давала сбои. Серьезные сбои. Правда, в такие моменты она никаких писем никому не писала, а спала или тихо бродила по длинным коридорам психоневрологической клиники, успокоенная и уведенная от жизненной суеты, непосильных вопросов и проблем большими дозами амитриптилина. Потом, когда болезнь отступала, Ольгунчик непременно писала Лене большое-пребольшое письмо, где подробно, но абсолютно непонятно, прибегая к замысловатым образам и иносказаниям, сообщала, где она побывала и что ее туда привело.
Когда Лена приезжала в отпуск, то большую часть времени она проводила в бесконечных разговорах о жизни с Ольгунчиком, у которой всегда на все были свои взгляды, чрезвычайно оригинальные, большей частью не совпадающие с обывательскими, и с Лениными в том числе.
На фоне своей неординарной подруги с отклонениями в психике Лена испытывала гамму сложнейших чувств: с одной стороны, ощущение своей бездарности, пресности, а с другой — сознание того, что и у нее с психикой дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы, раз она, не совпадая во взглядах с Ольгунчиком, понимает и принимает все, что от той исходит.
Болезнь Ольгунчика под названием «цикламия» проявилась впервые на школьных выпускных экзаменах, когда она, взяв билет по истории, вдруг забилась в истерике. Сквозь рыдания пытались пробиться слова: что-то о Курской битве. Но понять ничего было нельзя. Ольгунчика сначала отпаивали, потом уговаривали, потом поставили «четыре» и отпустили с Богом. На других экзаменах все как-то обошлось.
Потом была учеба в музыкальном училище по классу скрипки, потом замужество, рождение дочки и… связанная с этим попытка самоубийства: Ольгунчик поняла, что ей ни за что не справиться с этим крохотным существом, у которого такие тоненькие ручки, и ножки, и шейка.
Но постепенно все, казалось, наладилось. Муж Женя любил, дочка Сашура росла. Но им, по существу, негде было жить: и собственная мать, и свекровь выносили Ольгунчика с трудом, как, впрочем, и она их.
Молодая семья Медведевых ушла в общежитие.
В те благословенные времена, когда все по месту работы стояли в очередях на ковры, когда ездили в Москву за финскими сапогами и за колбасой, была надежда на получение собственной квартиры. Но с перестройкой светлая эта мечта (ковры, надо заметить, были припасены на каждую стену будущей квартиры) сменилась угрюмой и незыблемой уверенностью в том, что маленькая комната, замызганная кухня и санузел на четыре семьи — это навсегда. Некогда любимый муж стал для Ольгунчика постылым, соседи — просто невыносимыми. И дело закончилось больницей. Потом был развод, причем дочка Сашура пяти лет отправилась жить с папой к его родителям. В связи с этим — снова больница. Но Ольгунчик, оставшись в ненавистной комнате в общежитии, несмотря ни на что, выкарабкалась — и постоянной клиенткой клиники, как это чаще всего бывает, к счастью, не стала.
Она рассказывала Лене, что вернул ее к жизни Денисов. О, Денисов! Это отдельная история, не рассказать которую я никак не могу.
Кстати, вы очень ошибаетесь, милые читатели, полагая, что речь пойдет о любви. Хотя… о любви, конечно. В широком и высоком понимании этого слова.
Евгений Иванович Денисов был совершенно удивительным человеком. Совершенно удивительным. Его знали все, кто имел хоть малейшее отношение к культурной жизни Рязани. Для этих всех его фамилия была лакмусовой бумажкой, определяющей степень принадлежности к городскому бомонду. Она была пропуском, паролем, символом, охранной грамотой и оберегом.
Профессия Денисова называлась — фотохудожник. Но он был известен не только как талантливый фотограф, но и как самозабвенный краевед, досконально знающий все достопримечательности города. Он мог рассказать о каждом сохранившемся старинном доме, о каждом храме, о каждом памятнике и сквере. В его архиве хранились тысячи редчайших снимков, связанных с историей Рязани.
По существу, Евгений Иванович Денисов сам был достопримечательностью города. Его странноватую фигуру (не совсем пропорциональную и слегка асимметричную — одно плечо выше другого, отягощенного — всегда, неизменно — огромным кожаным кофром с фотоаппаратами разного калибра) можно было часто увидеть на какой-нибудь из центральных улиц. Евгений Иванович всегда ходил пешком в фотостудию, где не только творил свои шедевры, но и учил подрастающее поколение, называясь педагогом дополнительного образования Центра детского технического творчества.
Ольгунчик прибилась к этому самому центру в качестве ночного сторожа (с профессией учителя музыки она давно рассталась), пребывая в тот момент в состоянии необузданной эйфории после очередной депрессии. Это ее состояние выдержать, прямо скажем, удавалось далеко не всякому, кто с ней общался. Денисову удалось сразу и удавалось потом. Знал он какие-то такие слова, которые умиротворяли-утишали буйную Оленьку, как он называл Ольгунчика. А Ольгунчик стала называть Евгения Ивановича папочкой, а себя — его дочкой.
Самозваная и не очень воспитанная дочка, конечно, добавила хлопот бедному Денисову, продолжая появляться у него и после того, как от ее услуг сторожа в Центре детского технического творчества отказались.
В денисовскую мастерскую по делу и без дела не только шли признанные и непризнанные таланты, но и забредали городские сумасшедшие, алкоголики и бомжи. Все жаждали общения с Евгением Ивановичем.
Как Денисов находил для всех время и внимание-понимание, одному Богу известно. И оценено, вероятно, могло бы быть только свыше, потому что каждый из страждущих, осознавая свою единственность-исключительность, не подозревал, сколько их таких у Денисова, и соответственно просто не в состоянии был ощутить масштабы необъятной денисовской натуры.
Правда, те, кто знал Денисова поближе, видели, как со временем он научился дозировать отдачу своей энергии, находясь одновременно как бы в двух измерениях: с тем, кто упорно пытался занять хоть маленькое местечко в его сердце и отщипнуть себе на память кусочек его души, и с самим собой, защищая и обороняя эту самую душу.
От слишком сильного натиска посетителей Денисов зачастую спасался еще и книжками. Все поэты и писатели города и области несли и везли ему свои бесценные творения со своими бесценными автографами. Наивные, они не знали, что книжек он не читал вовсе. Зачем ему читать? А главное — когда?
Но Евгений Иванович всех сердечно благодарил и составлял бестселлеры на полку, которая давно была бы уже заполнена, если бы он не раздавал направо и налево подписанные ему экземпляры. Раздавал не насовсем — почитать. Возвращались книги, понятное дело, не всегда, но зато именно благодаря Денисову многие авторы узнавали о существовании друг друга.
Так вот, полка с книгами была его палочкой-выручалочкой. Всем, кто приходил к нему от избытка свободного времени, он подсовывал книжечку (Евгений Иванович так и говорил — «книжечка», и все у него всегда было с уменьшительно-ласкательными суффиксами), давая при этом самые лестные характеристики автору. А сам закрывался в своей лаборатории, чтобы проявлять, закреплять и печатать.
Пришедшие вежливо листали предложенное и терпеливо дожидались возвращения Денисова из темной комнаты. Появившись, он обычно очень удивлялся, что его дождались, и обреченно сдавался на милость победителю.
Единственным человеком, не поддающимся на провокации с книжками, была Ольгунчик. Потому что книжек, как и Денисов, она не читала.
Дочка сваливалась на голову Евгения Ивановича всегда неожиданно. И всегда была абсолютно уверена в том, что ее появление — большой для него праздник. Во всяком случае, она делала все для того, чтобы повеселить-порадовать папочку: появлялась в какой-нибудь очередной, смастеренной своими руками, немыслимой шляпке, приносила тушеную фасоль в горшочке и домашнюю (от мамы) наливку.
— Оленька, — вздыхал Денисов, — ты, как всегда, вовремя.
— Конечно, — хохотала все понимающая Ольгунчик. — Не боись, папочка, я не на очень долго.
Денисов, заранее зная, что из этого ничего не выйдет, каждый раз все-таки пытался подсунуть Ольгунчику книжку. И каждый раз приговаривал:
— Другим дашь книжечку и как хорошо. Ты бы, Оленька, хоть минут десять почитала. И то польза. Для всех.
Ну а если говорить серьезно, то Денисов, успевающий общаться со всеми нуждающимися в его общении, обладал удивительным даром утешить одним-двумя словами того, кто в таком утешении нуждался, подбодрить того, кому не хватало уверенности, усмирить слишком буйных, к которым периодически относилась и Ольгунчик, и всем — дать надежду на светлое будущее.
Ну вот, видите, хотела вам рассказать про Ольгунчика, а получилось — про Денисова.
Вернемся к Ольгунчику, тонкой и ранимой, взбалмошной и шумной подруге Лены Турбиной.
«Скрипка, бубен и утюг», — говорила о самой себе Ольгунчик. Про скрипку и бубен — очень точно, а про утюг — не знаю, едва ли его основательность-тяжеловесность, а главное, плоды его труда могли бы символизировать хоть часть натуры Ольгунчика. Так что утюг в этой фразе — скорее, для ее ритмической завершенности.
Кроме отсутствия дома (общежитие не считается, сами понимаете), одиночества, дочки Сашуры, живущей у свекрови, безденежья, неприкаянности и неприспособленности к жизни была у Ольги Медведевой еще одна беда — ее пьющий младший брат Мишка. Ей бы самой с собой справиться, а тут еще Мишка!
Разница в десять лет обернулась для старшей сестры еще одной драмой жизни, так как заботиться о Мишке изначально пришлось почему-то больше всего ей — Ольгунчику. Кстати, Ольгунчиком она была только для Лены Турбиной и бывших одноклассниц, а мать и Мишка называли ее строго — Ольга, давая понять всю ту меру ответственности, которой так несправедливо наградила ее судьба, нисколько, между прочим, не посчитавшись ни с характером Ольгунчика, ни с ее желаниями.
Подруга Лены Турбиной была импульсивна, непредсказуема и, как я уже сказала, взбалмошна. Общалась в основном с такими же ненормальными: музыкантами, поэтами и художниками. По плечу ли ей было заботиться о Мишке, отбивающемся от рук? Конечно, не по плечу. Впрочем, как и вся жизнь с ее неразрешимыми противоречиями и проблемами. И когда ноша становилась невыносимо тяжелой, Ольгунчик и попадала в известную клинику, защищаясь от реальности. Это случалось с определенной периодичностью до появления в ее жизни, как уже было сказано, Денисова.
Кстати, когда Ольга попадала в больницу, Мишка сразу же спохватывался и начинал, в свою очередь, заботиться о ней, таская в больницу сумки с продуктами и ожидая, когда сестра подлечится и снова переложит ответственность за его жизнь на свои плечи. Так все и шло.
Ольгунчик, копаясь в себе, искала причину того, почему психика ее была столь ненадежна, и пыталась всегда что-нибудь из своих изысканий донести до Лены. Лена все выслушивала. Правда, не все понимала, но это ничуть не мешало их дружбе.
Дружба эта, а точнее — привязанность, а еще точнее — какая-то необъяснимая зависимость друг от друга, длилась, естественно, с перерывами, без малого двадцать лет. Это было тем более странно, что Лена и Ольгунчик были абсолютно разными. И их точки зрения на все вокруг чаще всего не просто не совпадали, а находились в разных плоскостях. Кстати, одним из камней преткновения был именно Мишка.
— Сколько можно жить его жизнью? — вопрошала подругу Лена, считая себя более психологически продвинутой.
— Тебе просто повезло, — отвечала Ольгунчик. — У тебя старший брат, а у меня — младший.
— Ну и что, какая разница? — не унималась Лена. — Пока ты будешь вешать на себя все его проблемы, он так и не слезет с твоей шеи. У каждого — свой путь, своя жизнь. Ты просто мешаешь ему проживать то, что ему предназначено. Неужели ты не понимаешь?
Ольгунчик действительно не понимала. Хорошо Лене рассуждать, когда ее брат такой положительный и самостоятельный. Да еще далеко. А Мишка — вот он, рядом. И все у него не клеится, кругом ему не везет. Кто ж ему поможет, интересно? Да, Ольгунчику периодически и денег для него у кого-нибудь приходится занимать, и из истории какой-нибудь выпутывать. А что делать? Бросить на произвол судьбы — спивайся, Мишка! Так, что ли? К кому же он еще пойдет, кому еще расскажет, как не ей, старшей сестре, которая кое-что все-таки в этой жизни понимает?
Но Лена, скептически усмехаясь (особенно на словах, что Ольгунчик что-то в этой жизни понимает), настаивала на том, что подруга все делает неправильно, — и на этом они обычно вдрызг ссорились. Дня на два-три: больше было нельзя, ведь время пребывания Лены в Рязани всегда было ограничено.
Первой не выдерживала Ольгунчик — звонила. И, услышав Ленино «куда ты пропала?», сломя голову мчалась к ней. Они бурно обнимались-целовались, плакали и обещали больше никогда не говорить о том, в чем у них есть расхождения. Потому что, дружно философствовали подруги, каждый все равно останется при своем мнении, никто никого не изменит и надо принимать всех такими, какие они есть.
В эти благостные минуты Лена и Ольгунчик любили друг друга пуще прежнего, и каждая из них спешила согласиться с любой мыслью подруги, подхватывая ее, то есть мысль, на лету, развивая-углубляя и доводя до афористического совершенства.
Ну а теперь — про бабу Зою.
Баба Зоя, соседка, души в Лене не чаяла. Лена ее тоже очень любила. Трудно сказать, за что именно. За все. За мягкий, певучий деревенский говор, которому баба Зоя не изменила, хотя перебралась в город еще в начале пятидесятых, сразу после окончания семилетки. За улыбчивые глаза цвета пересыхающей лесной речки — в гусиных лапках добрых морщинок. За то, что баба Зоя, много чего видевшая в этой жизни, не потеряла детской наивности и веры во все лучшее. Она никогда ни на кого и ни на что не сердилась: ни на погоду, ни на правительство, ни на городские власти. Это толстовское всепрощение многих сильно раздражало.
— Все ей хороши, — с неодобрением говорила другая соседка, тетя Лида, смысл жизни которой сводился к обличению несправедливости и нечестности, царящих вокруг. — Что ни скажи, — возмущалась тетя Лида, — а она: на все воля Божья. Да где ж он, этот бог ее? Вон что кругом творится! Что же он такое допускает? Кто грешит, кто ворует — тот и живет припеваючи. И бог Зойкин что-то никого из них не наказывает, а все нам, нищете, достается. Вот тебе и бог!
Надо сказать, что тетя Лида к Лене относилась с уважением. Но дружбы ее с Зойкой, как она называла бабу Зою, не одобряла и при каждом удобном случае норовила перетянуть Лену на свою сторону.
Вера Петровна ревновала дочь к ним обеим, часто в сердцах роняла: «Соседи тебе дороже матери». И уходила в свою комнату, плотно прикрыв дверь.
Лена страдала оттого, что не может растолковать маме всю несостоятельность этого ее убеждения, что не может лишний раз обнять ее и сказать, что любит, ценит, что именно она, мама, дороже для нее всех на свете. Вера Петровна этого ждала. Очень ждала. А Лена, недополучившая в свое время материнской ласки и нежности, не могла преодолеть преграду, образовавшуюся когда-то очень-очень давно и так мешавшую им обеим — матери и дочери.
Вера Петровна, не в силах понять то, что любой психолог объяснил бы сейчас в два счета, винила дочь в бессердечии и жестокости. И очень обижалась, если Лена, пытаясь оправдаться, иногда заводила принципиальный разговор с целью выяснить отношения.
— Мама, вспомни, как ты меня воспитывала. Без всяких телячьих нежностей, как ты любила говорить. Сплошные запреты и сплошные «надо». Теперь ты хочешь от меня нежности и любви, а я…
— Как же, дождешься от тебя! — перебивала Вера Петровна и уходила, никогда не дослушав самого главного, в свою комнату. И уже оттуда кричала: — Можно подумать, что тебя розгами каждый день секли!
Нет, не секли, думала Лена. Конечно, не секли. Но чуть ли не каждый день давали понять, что если бы не родительское воспитание, то из Лены вышло бы непонятно что.
Станислав Степанович, Ленин папа, боготворил свою жену Верушу, как он ее называл. В семье царил ее культ, незыблемый и безоговорочный, против чего их дочь периодически бунтовала. Натура свободолюбивая и независимая, она никогда не понимала, почему взрослые всегда правы только на том основании, что они взрослые. И если, как ей казалось, мама с папой были в чем-то не правы (а к маме претензий было больше, потому что она постоянно была дома), она пыталась доказать им это. Но подобные попытки неизменно воспринимались как черная неблагодарность и хамство.
Папа со своей железной логикой всегда умел объяснить Лене, что ее номер — пятый и что она ничего пока собой не представляет. И то, что папа говорил «номер пятый», было особенно обидно и унизительно, потому что жили они без бабушек и дедушек, вчетвером.
Саша, старший брат, с родителями никогда не спорил и был на хорошем счету. Иногда, жалея Лену, учил: «Да соглашайся ты со всем, а делай по-своему». Но, во-первых, ничего сделать по-своему ей никто бы никогда не разрешил. А во-вторых, как же соглашаться, если они не правы?
Когда брат поступил в Ленинградское военно-морское училище, Лена решила, что после школы тоже обязательно уедет от родителей в другой город. В Москву или, как Сашка, в Ленинград. Для этого нужно было выбрать такой институт, которого в Рязани «не было. Только такая причина, как представлялось Лене, могла приняться родителями во внимание.
Вера Петровна очень хотела, чтобы Лена поступила на инфак в педагогический, а Станислав Степанович мечтал, чтобы дочь стала врачом. Кроме того, что у Лены была светлая голова, как говорил папа, и училась она только на «отлично», — в педагогическом и медицинском у родителей были связи. Поэтому никто не сомневался, что будет или так, как задумала мама, или так, как хотел папа.
Лена до поры до времени молчала. А потом, ближе к выпускным экзаменам, заявила: «В МГУ, на журналистику — больше никуда поступать не буду».
Папа долго вел с Леной на кухне взрослый серьезный разговор, объяснял, что для того, чтобы стать журналисткой, в Москву ехать совсем не обязательно. Дело не в дипломе — а в призвании. Учись на литфаке, а потом пиши сколько хочешь — вот и будешь журналисткой. Лена доказывала обратное, И при этом, разумеется, скрывала свои истинные намерения: навсегда вырваться из родительского гнезда.
На самой высокой ноте Лениных доказательств в кухню ворвалась мама, долго скрывавшаяся до этого в комнате и делавшая вид, что она ни во что не собирается вмешиваться. Со слезами в голосе она кричала: «Да сколько же ты будешь играть на наших нервах! У нас пять институтов — вот и выбирай!» Лена закатила истерику, мама в ответ — тоже. Станислав Степанович носился между ними, отпаивал обеих валерьянкой, а потом вынес свой вердикт: «Пусть едет, попробует, все равно не поступит».
Лена поступила, потому что была не только способной, но и ужасно упрямой. А может, просто повезло.
Папа умер, когда Лена училась на первом курсе. И только тогда она поняла, как много он значил для нее, умный, честный, справедливый. Смерть отца, казалось, навсегда примирила ее с прошлым, в котором была она недоласкана и недопонята. Отношения с мамой улучшились. Они обе как будто оттаяли и потянулись друг к другу, забыв все обиды.
Вера Петровна надеялась, что Лена переведется на литфак, будет учиться в родном городе. Но Лена этого не сделала — и мама опять на нее обиделась, хотя и старалась этого не показывать.
У Лены был еще один шанс угодить маме: доучившись, получить распределение в Рязань. Однако и здесь она поступила по-своему: уехала на Север. Хотя в этом Вера Петровна ее даже поддержала: романтические воспоминания о службе мужа, ее собственная благородная миссия жены подводника всегда были предметом гордости их семьи.
Вера Петровна, будучи абсолютно счастливой в браке, всегда была уверена в том, что настоящие мужчины — это только морские офицеры, и поэтому искренне желала подобной участи и своей дочери.
Когда Лена уехала на Север, смыслом жизни Веры Петровны С1али письма от нее. Лена писала не часто, но ее небольшие письма-записки были наконец-то очень ласковыми. Расстояние увеличивало любовь в несколько раз. Но ни Лену, ни маму это обмануть не могло. Они обе знали, что рядом им будет нелегко. Поэтому Лена, как я уже говорила, и жила столько лет на Севере, не собираясь возвращаться.
Ну вот, я, как всегда, немножко отвлеклась. Я же обещала рассказать про бабу Зою. Рассказываю.
Итак, баба Зоя. Весь подъезд называл ее именно так, хотя по возрасту она была моложе Лениной мамы. Дело в том, что, родив в свое время, едва ей исполнилось восемнадцать, дочку Шурочку, она очень рано стала бабушкой, потому что Шурочка тоже не задержалась с ребенком и подарила Зое Ильиничне внука Алешку, когда той было всего тридцать шесть. Все заботы-хлопоты о маленьком сразу легли на ее плечи: Шурочка сама еще была ребенком, а отца у Алешки не значилось.
И стала Зоя Ильинична Васильева для всего подъезда бабой Зоей, потому что так стали называть ее и дочь, и муж Сергей Алексеевич, который тоже постепенно превратился для соседей в деда Сережу.
Когда Алешке было пять лет, семья бабы Зои сократилась ровно вдвое. Дед Сережа с Шурочкой не вернулись с дачи: они погибли в своем старом «жигуленке», безжалостно смятом огромным «КамАЗом».
Хоронили не тела — останки, которые нельзя было посмотреть, которые нельзя было погладить на прощание. И именно это больше всего мучило бабу Зою всю оставшуюся жизнь — что не попрощалась по-человечески, не нагляделась в последний раз на родные лица.
Несладкая началась жизнь у бабы Зои с Алешкой. Дед Сережа с молодости сварщиком работал, получал хорошо. У Зои зарплата была, конечно, намного меньше, но место кладовщицы на заводе давало другие преимущества. Жили в достатке, ничего не скажешь. Ну а потом… До перестройки-то еще ничего было. А уж после…
Но все трудности забывались, когда баба Зоя смотрела на внука: какой же красивый малый растет! Да красивый ладно — умный-то какой! Никто ему в учебе не помогал. Все сам! Школу закончил почти на одни пятерки, чуть-чуть до медали не дотянул.
С Алешкой Васильевым Лену Турбину связывали особые отношения. Для нее он всегда оставался маленьким, ласковым, доверчивым мальчиком, каким он был в пять лет, когда после смерти матери и деда избрал в главные подружки ее — пятнадцатилетнюю соседку.
Едва заслышав в коридоре шаги Лены, возвращающейся из школы, Алешка потихоньку выскальзывал из своей квартиры, пока баба Зоя возилась на кухне, и настойчиво барабанил в дверь квартиры Турбиных.
Лена открывала.
— Пришел? — спрашивала.
— Пришел, — опускал глаза Алешка.
— Ну, пойдем обедать, — звала Лена.
— Не-а, — мотал он головой, — баба Зоя заругает, только пообедали. Я лучше подожду.
Он шел в Ленину комнату, садился в уголок дивана, аккуратно свесив ножки, с которых сваливались почему-то всегда большие тапки, и сложив на коленях ручки. Он терпеливо ждал, пока Лена обедала, пока делала уроки. Сидел тихо, как зайчик, почти не дыша.
Спохватившись из-за Алешкиного отсутствия и открытой двери, прибегала баба Зоя. Алешкины глаза наполнялись слезами: он не хотел домой, а хотел сидеть на Лениной диване. Точнее, хотеть-то он не хотел — просто был готов терпеть эту муку сколько угодно, лишь бы дождаться, когда Лена уделит ему хоть сколько-нибудь времени: почитает, или нарисует ему что-нибудь, или поиграет с ним в настольный хоккей, за которым он в любой момент готов был сбегать домой.
Баба Зоя и ругала Алешку, и стыдила-уговаривала — все было бесполезно. «Как медом ему тут, Лен, у тебя намазано», — сокрушалась соседка. А Лена, и мама, и папа Турбины ее успокаивали: пусть приходит, не мешает. Тем более что у них Алешка становился необыкновенно покладистым и уступчивым: если уж Лена совсем не могла с ним поиграть, он соглашался на общение с «дядем», как он говорил, Стасом или смотрел телевизор с Верой Петровной.
Так они и жили — почти одной семьей — Турбины и баба Зоя с Алешкой.
Так же, как Алешка молча и самозабвенно обожал Лену, Лена, как я уже сказала, любила бабу Зою. Вера Петровна, как вы уже поняли, ревновала дочь необыкновенно. И не понимала, почему не слишком образованная, мягко говоря, соседка пользуется у ее Ленки таким авторитетом. Что бы та ни сказала, эта сразу же подхватывает. Даже любую чушь. Фольклор, говорит! Вера Петровна сердилась. Но сердилась не слишком сильно и тем более не открыто. Так, про себя. Потому что относилась к бабе Зое по большому счету очень хорошо. И уважала. И жалела. А Алешку так же, как Ленка, любила. Невозможно было его не любить. Смышленый, послушный, ласковый. И очень красивенький. Как ангелочек. Глазищи голубые, огромные, волосы льняные вьются — настоящий Лель. Они его так в своей семье иногда и называли — Леленок.
Леленок вырос, стал еще краше и еще умнее. Дружба их с Леной за все эти годы не расстроилась. Когда Лена уже жила, как говорила баба Зоя, «у белых медведей», Алешка с радостным замиранием ждал каждого Лениного отпуска. Лена всегда привозила ему с Севера в подарок то морскую пилотку, то тельняшку, то еще что-нибудь в этом роде, подогревая его любовь к морю и лелея мысль, что Лель станет когда-нибудь бравым подводником. Как ее брат Саша, как Олег.
Лена мечтала, что Алешка непременно поступит в военно-морское училище. Мог ли он обмануть ее ожидания?
Баба Зоя была, конечно, против. Рассказывая кому-нибудь про внука, говорила: «Только вот соседи, Турбины, сбили мне малого с панталыку: пойду, сказал, в подводники, как дядя Стае, упокойник, и как Саша, сын их, значит. Саша к матери как приедет, Лешка — сразу к нему. Пообщаться — все говорил. Ну и дообщались — поехал в Ленинград да и поступил в училище военно-морское, на подводника».
Баба Зоя только делала вид, что не одобряет поступка внука, а сама налюбоваться на него не могла, когда он в форме курсантской в отпуск приезжал. И тогда она довольно говорила: «Лешка мой — на всем готовом, славу Богу. Да и дисциплина там, с пути не собьется».
Каким стал теперь Лель, Лена больше представляла по фотографиям, которые Алешка с удовольствием слал ей, неизменно сопровождая скупой подписью: «На память Лене от Алексея».
Его отпуск никогда не совпадал с Лениным приездом. Вот и в этот раз Лене пришлось довольствоваться только рассказами бабы Зои о том, как внук приезжал в отпуск, какой он стал красивый и как «от девок отбоя не было». Только вот… Какие-то нехорошие предчувствия томили бабу Зою.
— Знаешь, Ленок, ночей не сплю. Все думаю, как он там? Сыт ли? Друзья какие? Не сбился бы с пути.
— Баба Зоя, да ты что! — восклицала Лена, обнимая ее и зацеловывая мокрые от слез щеки, такие родные, что тоже хотелось плакать. — Такой парень! Красивый, умный. Что еще надо?
— Умный-то умный, — качала головой баба Зоя и переходила на шепот, — только выпивать он, Лена, стал.
— Ну, баба Зой, ну миленькая ты моя, он же взрослый, он же мужик, а ты все думаешь, что ему пять лет, — успокаивала-вразумляла Лена соседку.
Но баба Зоя и слушала, и не слушала Лену:
— Не знаю. Молюсь день и ночь. Не знаю ничего. И баба Зоя снова плакала.
— Ты просто скучаешь, — жалела ее Лена, начиная хлюпать вместе с ней.
— Скуча-а-ю, — причитала уже в голос баба Зоя, — Лена, милка, как же я по ним по всем скучаю.
Лена тихо плакала вместе с бабой Зоей, не спрашивая по ком — по всем, знала: по тем скучает баба Зоя, кого уже давно нет на свете.
— Опять ревела? — спрашивала Вера Петровна, когда Лена возвращалась из соседней квартиры. — Попей валерьянки. Нечего тебе так часто к ней ходить.
А Лена не могла и дня прожить, чтобы не заглянуть к бабе Зое. И не всегда они ревели. И не только ревели. Смеяться баба Зоя умела так, как никто не умел. А уж рассказывала что-нибудь — обхохочешься.
Поехала однажды баба Зоя с Алешкой к своей сестре в Таганрог. Давно еще, когда билеты, по ее словам, можно было «укупить». А там, в Таганроге, у нее не только родная сестра, но еще и двоюродная. Ну вот, отправились они с родной к двоюродной, значит. Осень была. Баба Зоя — в своих сапогах резиновых.
Идут они с сестрой Клавой по Таганрогу (Алешку с внуками Клавиными дома оставили), по самой расцентральной улице. И чует баба Зоя: поглядывает на нее, на Зою, народ. Она довольна: только-только пальто новое пошила. Глядят значит, хорошее пальто получилось. Может, даже завидуют. Но не просто глядят, а весело. Прямо смеются. Баба Зоя в ответ улыбается: веселые люди в Таганроге! Пришли к Капитолине, двоюродной сестре, разделись-разулись. Посидели. Выпили, конечно. Одеваться стали. Надела баба Зоя один сапог, другой не найдет никак. Рядом еще какой-то, без пары, стоит. Но не ее — зеленый. А у нее — темно-красные сапоги были. Поискала-поискала — нету. Призвала Капу на помощь.
— Да вот твой сапог, — говорит та и на зеленый показывает.
— Да у меня глянь какие — красные, — выставляет обутую ногу вперед баба Зоя. — А это зеленый.
А тут Клава подходит, она уж все сообразила:
— Зой, ты никак в разных сапогах пришла. Один твой, а другой-то, зеленый, мой, видать. Ой, да как же ты шла-то?
У меня нога на два размера больше! — И они все так и покатились со смеху.
Вроде ничего особенного. По центральной улице — в разных сапогах. Подумаешь! Но баба Зоя, каждый раз добавляя все новые и новые подробности, изображая и прохожих, и саму себя, и Капу с Клавой, рассказывала это так, что Лена хохотала как ненормальная, будто впервые слышала.
Вот такая она была, баба Зоя. И любила ее Лена — очень.
Приезд Лены совпал с очередной безработной полосой в жизни Ольгунчика. И она, то есть Ольгунчик, была свободна как ветер и страстно желала общаться.
Лене общаться хотелось меньше — ей хотелось читать. Она привезла с собой два тома Довлатова, кроме того, наметила перечитать кое-что из родительской библиотеки. Но, поскольку отбиться от Ольгунчика было тяжело, уединиться с книжкой получалось только с утра. И Лена, просыпаясь, как по будильнику, не позже семи, спешила открыть заложенную страницу. Читая, успевала думать: «Вот чем он так держит? Предложения — по два слова. И слова-то самые вроде обычные. А эффект потрясающий!»
Собственно, беглый довлатовский лаконизм, о котором Лена вычитала у кого-то из критиков, и завораживал больше всего. Хотя «завораживал», конечно, не то слово. Наверное, не позволял душе не откликнуться, вот как. Или — удивлял сопричастностью, или — торопил оглянуться вокруг и сказать: все так оно и есть.
Но что-то еще, более важное, притягивало Лену к довлатовским строчкам и роднило с ними. Она никак не могла поначалу понять, что именно. А потом вдруг, остановившись однажды на полуслове, тряхнула головой: это же так просто! Он никому не выставляет оценок, никого не подгоняет под общий знаменатель. Его герои живут так, как умеют. И судить их за это — не нам. И этим, кстати, Довлатов, при всей своей близости к Чехову, выгодно от него отличается. Вот что сегодня, в очередное утро своего краткосрочного отпуска, поняла Лена.
Своими литературоведческими изысканиями можно было поделиться, конечно, только с Аллой. Ой нет, уже не только с Аллой… Но они оба, и Алла и Буланкин, далеко. Поэтому оставалась — Ольгунчик.
Не дожидаясь, пока подруга прискачет сама, Лена поехала к ней в общежитие.
Когда она стояла на остановке, мимо провезли — вы не поверите — ослика! Самого настоящего. Куда и зачем его везли? И вообще где взяли? В Рязанской области в хозяйстве их, кажется, отродясь не держали. Ослик, обреченно опустив голову с торчащими в разные стороны длинными, мелко дрожащими ушами, спокойно стоял в грубо сколоченном деревянном неполном домике. У домика этого отсутствовали две противоположные стенки: с одной стороны была ослиная голова и передние ноги, с другой, соответственно — задние ноги и хвост. Соорудили эту постройку, очевидно, для того, чтобы ослик самовольно не выпрыгнул из прицепа, в котором его так изобретательно транспортировали.
Глаза у осла были очень добрые. И очень грустные: куда везут? за что? Лена успела очень хорошо рассмотреть эту печаль, потому что машина с прицепом притормозила за остановившимся троллейбусом.
А потом животное повезли дальше. И Лена еще долго-долго вспоминала его глаза и думала, что это был первый настоящий ослик, которого она видела не по телевизору.
Общежитие Ольгунчика находилось далеко, и Лена ехала долго, одновременно вспоминая отчаянную безысходность в глазах длинноухого невольника и думая про довлатовскую прозу с ее выразительной прозрачностью, с ее героями, обаятельными в своей непритязательности, с ее странностью и непоследовательностью жизни, которую автор ни в коей мере не пытается ни подправить, ни объяснить.
Подходя к общежитию, Лена увидела выходившую из ворот улыбающуюся пожилую женщину. Она жила в этом общежитии. Такой же пожилой мужчина остановился, пропуская ее. Он тоже, видимо, жил здесь.
— Как сама-то? — спросил.
— Да слава Богу, — ответила женщина. — Рука вот только отнимается. И нога левая совсем никуда. А так все слава Богу. Рука только беспокоит.
— Да… Теперь-то уж до самой смерти будет беспокоить, — произнес мужчина.
И они пошли каждый своей дорогой.
Лена поднималась на восьмой этаж по заплеванной и обильно забросанной банановой кожурой лестнице. Лифт здесь не работал хронически. А если бы и работал, Лена не рискнула бы в него зайти. Грязная лестница была надежнее.
Про Довлатова Ольгунчик слушала внимательно, хотя читать его не собиралась по той простой причине, что, как вы помните, не читала книг вообще, находя все в самой себе.
Она слушала-кивала, а потом спросила:
— Лен, и не надоело тебе?
— Что? — строго взглянула на подругу Лена.
— Что-что — читать! Вот что тебе это дает? Объясни мне, пожалуйста.
— Олька, ну какие ты глупости городишь! — возмутилась Лена. — Это учит думать, учит чувствовать.
— А без Довлатова, значит, ты думать и чувствовать не умеешь?
— Да ну тебя! — отмахнулась Лена. Но все-таки решила завершить короткий спор чем-нибудь убедительным. Вспомнилось почему-то только про шаолиньских монахов, про которых как-то рассказывал Буланкин.
— Знаешь, как говорят шаолиньские монахи? — спросила она Ольгунчика.
Ольгунчик сделала заинтересованное и серьезное лицо, хотя ей уже было очень смешно.
— Каждый день тренируй разум и тело, — медленно и значительно проговорила Лена, с некоторых пор настойчиво бросающая курить и ежеутренне выполняющая нехитрый комплекс йоговских упражнений, которые, разумеется, присоветовал ей Буланки н.
Услышав про шаолиньских монахов, Ольгунчик всплеснула руками и, опрокинувшись на диван, задрыгала ногами:
— Во дает! Откуда ты такого набралась?
— Да уж набралась, — заулыбалась Лена.
— Ой, не могу, — продолжала дрыгать ногами подруга. — И курить бросила!
Тут до Ольгунчика что-то дошло, она села и шепотом спросила:
— Влюбилась?
— Влюбилась, — подтвердила Лена.
— Наконец-то, — подвела черту Ольгунчик и выдохнула: — Рассказывай!
У самой Ольгунчика дела с любовью обстояли неважно. Она активно знакомилась по объявлениям, но ничего путного из этого не выходило.
— Понимаешь, нет в Рязани мужиков нормальных. Свободных, я имею в виду, — жаловалась она Лене. — Нищие, затюканные или осторожные, жадные, подозрительные. А запросы у них ого-го! Ты бы посмотрела. На днях с одним встретилась. Лысый, личико с кулачок, глазенки бегают. И говорит мне: «Извините, вы не в моем вкусе». Не в его, козла, вкусе! Он думает, что у него есть вкус. Представляешь?! Уж если я не в его вкусе, то кто ему тогда нужен?
Лена выслушивала обличительные монологи Ольгунчика и думала о том, как все-таки действительно несправедливо устроена жизнь.
Ольгунчик, полноватая сексапильная кудрявая шатенка с очень синими глазами, никогда не впадала бы в свои депрессии, если бы рядом наконец появился надежный сильный мужчина, способный вытащить ее из ненавистного общежития и создать для нее такие условия, при которых она могла бы не работать. Да, не могла она работать! Вы знаете, так бывает.
Бог задумал Ольгунчика, видно, для чего-то высокого: для творчества, для любви. А сам не дал почему-то ни того, ни другого. Забыл, наверное. Хотя по поводу творчества я, кажется, не права. Ольгунчик действительно не сочиняла ни музыки, ни стихов — но она писала дневники, а точнее, вела один большой бесконечный дневник, записи которого переходили из одной толстой тетради в другую. Тетрадями, точнее, тяжелыми канцелярскими книгами с серыми разлинованными листами снабжал ее Денисов (где уж он их брал, я не знаю), который и был главным героем Ольгунчиковых записок. Она мечтала когда-нибудь это все издать, потому что такая личность, как Денисов, по ее глубокому убеждению, не могла не заинтересовать широкие читательские массы.
Но не только про Денисова писала Ольгунчик. Она всегда (в троллейбусе, в театре, на скамейке в парке) фиксировала практически все, что происходит вокруг и внутри ее. И все эти козлы из газетной рубрики «Он ищет ее» тоже находили в ее дневниках свое место. А поскольку в проницательности, остроумии, образности и меткости языка автору не откажешь, получалось очень интересно и смешно.
Когда Ольгунчик, покопавшись в своей самосшитой огромной сумке, которую она неизменно таскала на плече, как Денисов — свой кофр, доставала из ее глубоких недр канцелярскую тетрадь, Лена звала бабу Зою (Вера Петровна на эти читки обычно из своей комнаты не выходила), и они, усаживаясь поудобнее, настраивались на сеанс смехо-терапии, который Ольгунчик почему-то строго регламентировала: пять минут — и хватит. Но и этого было вполне достаточно. Кстати, именно баба Зоя была самым благодарным слушателем (Ольгунчик читала иногда свои записки и в других аудиториях), за что Ольгунчик ее особенно ценила и, естественно, не забывала стенографировать реплики, замечания и байки самой Зои Ильиничны, у которой было чему поучиться. Про машину соседа, например, она говорила: «грязная, как анчутка». Про шубу, которую купила «Алексан Пална с пятого этажа», сообщала: «белая, как холодильник». Про свою племянницу рассказывала так: «Ходил к ней один. Военный. Учился тут у нас в десантном училище. Только не русский. Из Африки. И знаете, девки, ведь черный был, как пальто. Верка-то и девочку такую родила. Говорили, что хорошенькая девочка-то. Но черненькая, как галошка. Она ее в роддоме и оставила».
Записывая все в свой дневник, Ольгунчик никогда не делала никаких выводов. «Жизнь как она есть» — это было ее принципом, как у Довлатова, которым Лена так безуспешно пыталась заинтересовать свою нечитающую подругу Ольгу Медведеву.
13
На полураздетых кленах ярко полыхали лоскуты последних листьев.
Проплыл над Кремлем запоздавший клин перелетных птиц.
Порывы хулигански налетавшего ветра переносили с дерева на дерево стайки замерзших воробьев.
Лена приехала на набережную: встретиться и попрощаться с поздней рязанской осенью. Лучше было бы отправиться в лес, но одной — нереально, а с кем-то, даже с Ольгунчиком, — не хотелось. Не хотелось делить пополам то, что должно было достаться ей одной. Вот такая она была жадина!
Осень в этом году затянулась. К первым числам ноября, когда ночные морозы уже могли бы окончательно погубить еще не успевшие облететь листья, деревья стояли в сильно поредевшем, но еще вполне приличном наряде.
Затянутое ровной молочно-серой пеленой небо, казалось, никогда и не предполагало существования на нем солнца. И день мог бы показаться пасмурно-сердитым. Однако подсвеченный хоть и слегка потускневшим, но все-таки золотом сохранившейся на деревьях и усыпавшей землю листвы, выглядел просто задумчивым и немного сомневающимся в правильности всего происходящего.
Воздух был холодным и жестким, а для Лены — по-некрасовски ядреным и бодрым. Мерзли нос, уши и руки. Кожаные перчатки не грели, а наоборот, настывая, напоминали, что пользы от них — никакой. А вот какая-нибудь беретка сейчас бы не помешала. Это так баба Зоя, не в силах видеть Лену «распокрымши», всегда говорила: «Ты бы хоть какую беретку себе купила, застудишь башку-то свою непутевую». «Непутевую» — это, конечно, к слову и как своей, любя.
Баба Зоя Лену не просто любила, а считала ее совершенно необыкновенной. И все ждала, когда ее заберут в Москву, на телевидение. Кто именно Лену Турбину должен был забрать в Москву, баба Зоя, конечно, не знала, но, веря в высшую справедливость и полагая, что Лена лучше всех, кого показывают во всяких «Новостях», не сомневалась: место Лене только там — в телевизоре.
Лена, провожая взглядом дружную стайку листьев, устремившихся волей своенравного ветра в далекую даль и высокую высь, усмехнулась: а чем черт не шутит! Может, и надо рыпнуться в Москву, кое-кто из однокурсников далеко пошел, есть к кому обратиться. Сколько ей еще торчать на Севере? И главное, ради чего? Или ради кого? Буланкин… Но ведь с ним пока ничего не понятно. С Олегом было легко и просто, а с этим…
Лена подтянула почти до носа замотанный вокруг шеи шарф, подумала, что можно было бы его и на голову, но вовремя спохватилась. Она даже на Севере всегда до последнего норовит без шапки ходить, а тут укутается как неизвестно кто. Там уж деваться некуда — и прячет зимой Лена голову и щеки в песцовый мех, становясь похожей на эскимоса. «Эскимосы, эскимосы…» Это Олег, поддразнивая Лену, все время напевал после того, как увидел ее на одной из «зимних» фотографий.
Лена попыталась сейчас вспомнить еще хоть одно слово из этого, такого популярного тогда, шлягера про эскимосов, но у нее ничего не получилось. И это долго мучило, как обычно бывает, когда вдруг нестерпимо хочется ухватить какой-то фрагмент прошлого, а коварная память, давая только далекие подсказки, никак не желает помочь, водит вокруг да около и сердит своей несговорчивостью до тех пор, пока не плюнешь па нее и не отвлечешься на что-нибудь другое.
Этим чем-нибудь другим в данный момент оказалась смешная рыжая собака, протрусившая мимо. Смешная и рыжая — такая же, как та… Вот ведь придумала: вы способны улыбнуться собаке? Нет, не так она тогда сказала… не просто собаке, а незнакомой собаке… А если бы не придумала, то и не позвонила бы в тот день Буланкину. И был бы он для нее до сих пор далеким Юрием Петровичем? Или без этого звонка что-то должно было случиться, что позволило бы называть его Юрой? Юра…
Теплая волна пробежала от макушки до пяток. Даже уши на секунду согрелись. И нос. Что он там сейчас, интересно, делает? Какие-нибудь бумаги пишет у себя в кабинете. Или у начальника завода вопросы решает. Или… Или тоже думает о ней? Она ведь про него думает.
И представьте себе, Лена Турбина не ошибалась. В каждый из дней ее отпуска Буланкин о ней вспоминал. Вспоминал. И даже несколько раз очень серьезно думал.
Только думы эти были какие-то неправильные. С точки зрения Лены, разумеется, — точки зрения, которая могла бы у нее возникнуть, если бы ей каким-либо мистическим образом удалось узнать о буланкинских размышлениях. Размышлениях, прямо скажем, непростых.
Юра думал, что дружба с Леной, их лихо закрученная духовно-интеллектуальная связь — это, конечно, здорово. Пожалуй, никогда такого и не было. Умная она, ничего не скажешь. Но… Но ведь еще и красивая, вот в чем беда. А бесконечно разговоры разговаривать с красивой женщиной — это для нормального мужика просто извращение какое-то…
Лена волновала его. Особенно сейчас, когда была далеко. И с этим нужно было как-то бороться. Есть ведь в ней что-то, что ему не нравится? Должно быть! И Буланкин старательно перебирал в памяти: глаза, губы, короткая стрижка, легкая фигурка, голос… Фантастика, ему нравилось в ней все! Хотя… Стоп! Она слишком много говорит. Точно! Слишком много. И слишком умно. И он иногда не все способен понять, потому что им в этот момент чаще всего страстно овладевает одно-единственное желание: закрыть ее красивый рот сначала рукой, потом — губами. Или сразу губами. Нет, сначала все-таки рукой. Вот так, неожиданно, на полуслове, приложить ладонь к ее губам. Останутся видными только ее прямой носик и огромные глаза, удивленные, ничего не понимающие. А его ладонь будет чувствовать ее полуоткрытые губы…
Когда Буланкин все это представлял, у него буквально останавливалось сердце. Он с трудом переводил дыхание, с досадой взмахивал головой, отгоняя назойливое видение, пытаясь остановить на этом самом месте и так уж слишком смелые фантазии.
Одним словом, было ясно, что дружба с Леной Турбиной не может больше оставаться только дружбой. И сама Лена, видимо, это тоже понимает. И не просто понимает, а наверняка хочет того же, к чему так стремится он сам. Стоит только сделать первый шаг.
Мысль про первый шаг снова останавливала Юрино дыхание. Но он, поскрежетав зубами и не поддаваясь на провокации своего воображения, огромным усилием воли перегонял энергию в голову и продолжал рассуждать логически.
Допустим, все случится. Он этого, конечно же, очень хочет. Очень. А дальше-то что? Сколько все это продлится? «Все это»… Слову «любовь», готовому бездумно впорхнуть в сознание и душу, Юра ходу не давал.
Лена способна любить — и это плохо. А он, Буланкин, выходит, не способен? Черт его знает! Может, и не способен. А ведь у Лены одна потеря уже была: восемь лет восстанавливается. В общем, не та это женщина, с которой может быть легко и просто. На ней ведь жениться надо. По-другому нельзя с ней, вот в чем беда. Хотя… Может, он все усложняет? И Лена на самом деле гораздо проще?
Бедный Буланкин весь измаялся, но так ничего и не придумал.
Бедный Буланкин! Вам его жалко? Мне тоже. И не только его. Всех жалко: и Светлану, и Ларису, и ее мужа Костю, и Лену, и даже Галину Артуровну Званцеву. И себя жалко. И вас жалко. И тех, кто никакого отношения ни в качестве героя, ни в качестве читателя к моему повествованию не имеет. Нахлынуло что-то, вы уж простите. Чаще это, конечно, бывает в другие минуты. Когда, например, попадаешь на один из московских вокзалов и в беспомощно-бестолковой толпе тебя вдруг охватывает необъяснимая тоскливая тревога за всех-всех — и ты чувствуешь, как саднит сердце и как нестерпимо болит душа. Болит оттого, что понимаешь: богатые и бедные, честные и жулики, красивые и не очень, счастливые и несчастные — все одинаково беззащитны перед всегда стерегущей бедой, у которой нет ни жалости, ни сомнения, ни меры. Вам знакомо это ощущение? Значит, мы похожи, да?
Но вернемся… Вы подумали, к Буланкину? Нет, к Лене вернемся. Помните, мы оставили ее на осенней набережной в Рязани?
Лена, прощаясь с рязанской осенью, была уже всеми мыслями на Севере. Ей хотелось быстрее увидеть Юру. Быстрее сказать ему, что… И что же она могла ему сказать? Иногда он казался таким близким, что не возникало никаких сомнений: она ему нужна. А на следующий день — отстраненность, учтивость, умные разговоры и ничего больше.
Самое обидное, Лена начинала терять себя, почти во всем с ним соглашаясь. Ведь ни разу, например, не осмелилась произнести свое любимое: «Мы в ответе за тех, кого приручили». А все ему подпевала: не надо ни за кого быть в ответе, не надо приручаться, не надо ни к кому привязываться, надо быть самодостаточным и т.д. и т.п. Зачем она, спрашивается, все это говорила? Хотела, наверное, показать, какая она продвинутая, независимая и как не похожа на Ларису, которая своими звонками отравляет бедному Буланкину жизнь.
А на самом деле… На самом деле Лене, как любой женщине, хотелось быть розой, которую нужно, оберегая от сквозняков, накрывать стеклянным колпаком и за которую нужно быть в ответе.
Вот и надо наконец с Юрой объясниться, думала Лена.
Ее профессиональная интуиция, позволяющая безошибочно угадывать точные пропорции формы, в которую следует облечь какое бы то ни было содержание, чтобы донести его, не исказив и не расплескав, подсказывала ей, что вступление — безусловно яркое и необычное — кажется, затянулось. Пора, пора переходить к основной части. Иначе все можно испортить. Нельзя затягивать вступление. Обойтись без него вовсе, Лена знала это, — можно. А вот затягивать — ни в коем случае. У нее не было слишком богатой практики, позволяющей утверждать это авторитетно и с уверенностью. Но было чутье, которому опыт, согласитесь, иногда только мешает.
Суровой и неприветливой могла бы показаться холодная поздняя осень, из которой через неделю Лене предстояло уехать. Но моей героине по обыкновению все виделось по-другому: ее осень с еще не облетевшими фонариками листьев была красивой, гордо-смиренной и от ожидания перемен немного усталой.
ЗИМА
Вода так холодна!
Уснуть не может чайка,
Качаясь на воде.
Басе1
Лена уехала из осени, а возвращалась уже в глубокую зиму. Фирменный поезд «Арктика» почему-то не очень спешил-торопился в Мурманск, делая долгие незапланированные остановки среди снегов Карелии.
Удивительно, что в первой половине ноября, когда в средней полосе стояла еще вполне осенняя погода, здесь уже все укутало бесконечно-белое покрывало, холодное сияние которого под ненадолго выглянувшим северным солнцем было торжественно-ослепительно и непререкаемо.
— Снегу-то навалило, — восхищенно повторял каждые полчаса Петр Иванович, пожилой мурманчанин-рыбак, ужасно похожий на тюленя: глазки — маленькие и добрые, щеки — круглые, усы — вниз.
— Ой, не говорите, — не уставала откликаться веселая бабулька, которая не представилась, поэтому так и называлась — «бабуля».
Весь вагон знал, что в Мурманск она ехала к сыну погостить.
— Да сын-то уж сам пенсионер, — вздыхала бабуля грустно и тут же хвасталась: — У меня уж правнучке пятый год пошел!
Бабулька Лене нравилась. И веселостью своей (все с шутками-прибаутками), и общительностью (со всем вагоном успела познакомиться), и подвижностью (нисколько не задумавшись, собралась лезть на верхнюю полку, но, правда, обрадовалась, когда Петр Иванович предложил ей свою, нижнюю). А еще она была… как бы это сказать… ну, не красивой, а очень симпатичной и очень милой. На нее постоянно хотелось смотреть. Личико — чистое, опрятное, гладенькое. Только глаза, потерявшие, очевидно, от времени свой первоначальный цвет, лучились множеством глубоких добрых морщинок, а еще — смешливостью, мудростью и какой-то особой заботой обо всех и обо всем.
— Дочк, что ж ты на меня все так смотришь? — спросила у Лены в какой-то момент, лукаво улыбаясь, хитрая старушка, прекрасно понимая, что она не может не вызывать умиления.
— Вы на бабушку мою похожи. — Это было первое, что пришло Лене в голову. И поскольку правде не соответствовало, Лена внутренне поежилась. Врать она не любила и не умела.
— Да мы, старые, все друг на друга похожи! — махнула рукой бабуля.
— Нет, не скажите, — заспорил рыбак, — вот вы очень… — он поискал слово, — приятная старушка, ничего не скажу. А теща моя, к примеру, на ведьму смахивает здорово. Да и жена… — Он огорченно махнул рукой.
Лена с бабулькой засмеялись, а молчаливый каплей Василий, четвертый обитатель купе, вспомнил штук пять анекдотов про тещу и старательно рассказал их со своей верхней полки.
Так и ехали. Дружно ехали, ничего не скажешь. Лене, кстати, всегда везло на попутчиков. И это неизменно радовало, настраивало на оптимистический лад: сколько же на свете хороших и интересных людей!
Например, рыжий каплей с веснушками по всему лицу, хоть и был молчалив и в основном шуршал газетами, успевал угадывать любое желание «прекрасной половины» купе: ловко спрыгивал с полки и мчался на станцию за мороженым, или приносил чай, или собирал и выбрасывал мусор. Несколько раз они с Леной выходили в тамбур покурить (Лена решила, что окончательно она с этим делом завяжет в Полярном), и бабулька каждый раз хитро подмигивала: не теряйся, девка! Но напрасно она подталкивала Лену к холостому Василию (он, между прочим, служил недалеко от Полярного, в поселке Гаджиево) — из этого вагонного знакомства получилась всего лишь коротенькая дружба. Лена записала Василию свой рабочий телефон: мало ли, помощь какая потребуется. Тот покорно взял листочек, понимая, что шансов у него — никаких.
Болтая о том о сем с попутчиками, Лена не уставая смотрела в окно. Она всегда очень любила наблюдать за тем, как за вагонным стеклом тянется-мелькает бесконечная и на первый взгляд однообразная полоса из неба и поля, или из неба и леса, или из неба и почему-то чаще всего одинаковых домиков. Глаз не успевает схватить деталей, голова успевает закружиться, а оторваться от окна — невозможно. Кажется — что не ты, кажется — что не с тобой, кажется — что все нереально, призрачно, но вместе с тем несомненно и необратимо.
Состав в очередной раз беспричинно замедлил свой бег, как будто задумался на ходу — так же, как задумались под тяжестью снега огромные роскошные ели, сказочно и мрачно обступившие его с двух сторон. Поезд гудел негромко и ровно; колеса, как им положено, постукивали; а слышно было — вековую тишину старого мудрого леса.
В купе, невзирая на открытую дверь, громко спорили о счастье. Бабулька разглагольствовала о тех временах, когда все работали и деньги вовремя получали. Петр Иванович охотно ее поддерживал. Василий, отложив газеты, заступался за реформы. А Лена думала: «И никто не говорит про любовь. Никто».
— А вы счастливы, Петр Иванович? — спросила она, не поворачивая головы от окна.
— Дык, как сказать… — засомневался рыбак.
«Значит, нет», — грустно подумала Лена.
А вид за окном тем временем поменялся. Лес закончился, и потянулись деревянные избушки, укутанные по самые глаза-окна снегом. Одинаковые змейки дыма над трубами и аккуратные, будто нарисованные, маленькие елочки в заснеженных палисадниках подтверждали картинную сказочность бегущего за окном мира.
Вдруг оказалось, что солнце, хотя до вечера было еще очень далеко, уже спряталось за горизонт и, подсвечивая оттуда небо, окрасило его самым необычным образом: оно, то есть небо, стало разноцветно-полосатым и походило на срез нарядного праздничного пирога.
За окном слоится небо Разноцветными коржами…
Это простучали вагонные колеса? Или это кто-то сказал? Кто? Ни милый тюлень Петр Иванович, ни Василий сказать такого не могли. Да и бабулька — тоже. Значит, все-таки простучали колеса.
За окном слоится небо Разноцветными коржами. — Счастлив тот, кто все изведал, Но кого не обижали, А любили, понимали… — Может даже — баловали… — В ком нуждались постоянно… За окном плывут стеклянно Домики, дома и ели. И не нужен им билет. — Повезло вам? Вы успели Побывать счастливым? — Нет.Кажется, у Лены получились стихи. Стихи под названием «Разговор в поезде». Плохие, хорошие — кто ж знает. Какие уж получились. Придется записать. Лена, стараясь не привлекать к себе внимания, достала потихоньку записную книжку и ручку. Но незамеченным это не осталось: бабулька многозначительно покивала на Лену и Петру Ивановичу, и Василию, но ничего не сказала.
До этого момента стихов Лена, пожалуй, и не сочиняла. Так, когда-то рифмовала все подряд в младших классах. И все. А тут вдруг… Странно…
Почти сразу же услышался другой ритм, тягучий ритм осеннего дня. И записалась еще череда строчек, только сначала — без нескольких слов, которые придумались чуть позже. А в целом получилось так:
Это было уже. Мелкий серенький дождь. На исходе — короткое лето. Нос приплюснут к стеклу только ты не идешь, Ты опять задержался где-то. Задержался на час, и на день, и на год. Я кричала — не отозвался. Я стою у окна, дождь идет и идет. Ты на целую жизнь задержался.Лена вспомнила: фраза «мелкий серенький дождь» мучила ее уже давно. Она, кажется, даже пыталась втиснуть ее в какую-то статью. А может, и втиснула… Или нет… Но в общем-то это и не важно. А что важно? Стихи. Вот взяли — и сочинились. Из ничего. Или почти из ничего. Без мучений и стараний. Сами собой. И в них нельзя уже исправить ни слова. Потому что тогда это будет что-то другое. Кажется, с этой мыслью Лена и уснула.
Сон ее был спокойным и глубоким, а не тревожным, поверхностным и рваным, как это чаще всего бывает в поезде. Снилось что-то хорошее и, как всегда, разноцветное.
Проснувшись, Лена чуть-чуть приподняла дерматиновую штору. Свет северного утра был настолько слаб, что сменившийся в очередной раз за окном пейзаж можно было скорее угадать, чем рассмотреть.
Снега здесь было меньше, и перед глазами пробегали теперь не открыточные богатые ели и не аккуратные пушистые елочки, а худые, угловатые, неуклюжие елки с редкими и кривыми ветками. Эти нищенки вместе с кроткими карликовыми березками восхищения вызвать, конечно, не могли, а вызывали нежную щемящую жалость, которая у русских почему-то всегда ближе к любви, нежели восторженное восхищение.
Темное утро, скудная растительность и обветренные сопки за окном говорили о том, что до Мурманска совсем недалеко.
2
На вокзале Лену встречала Наташа, университетская подруга, которую два года назад умыкнул у первого мужа вместе с двумя детьми моряк торгового флота Руслан, привез ее на Север и, запретив работать, обрек на ведение домашнего хозяйства и долгое ожидание.
Наташа, москвичка, красавица и умница, талантливая журналистка, оказалась вдруг не менее талантливой женой, матерью и хозяйкой.
— Знаешь, — говорила она Лене, — я ведь детей собственных раньше неделями не видела. Вечно — в творческом процессе. То пишу — не подходите, то на съемки мчусь, то на монтаж. Как белка в колесе! И Виталька, сама знаешь, из командировок не вылезал. Ни отца у них не было, ни матери. Бабка их, конечно, избаловала вдрызг, и если бы не Руслан… так и не узнала бы никогда представляешь? — какой это кайф — самой своих детей воспитывать!
Собственно, своих не слишком послушных, не в меру подвижных, чрезвычайно милых и любознательных детей, первоклассника Ванечку и пятилетнюю Настьку, Наташа, надо сказать, вовсе не воспитывала. Она просто проживала с ними каждый кусочек их бурной детской жизни, а они — на равных условиях — сопереживали ей в ее взрослом существовании и в решении житейских проблем. Одним словом, они — дружили. А уж когда появлялся Руслан! Шумный, неутомимый выдумщик, он превращал все дни своего пребывания на суше в настоящий фейерверк, от которого дети — шалели, Наташа — немного уставала, а Лена (если оказывалась в тот момент у них) — пребывала в состоянии восторга.
Когда же Лена попадала в Наташину квартиру в отсутствие Руслана, ее неизменно охватывало блаженное умиротворение, настолько здесь было уютно, удобно, несмотря на непоседливость и визг детей, комфортно.
— Ты счастливая, — говорила Лена Наташе грустно и с легкой завистью, которую она и не пыталась скрыть.
— Сейчас нет, — отвечала подруга. — Руслан в море. Счастье — это когда все дома.
Счастье — это когда все дома. Так просто. Как все гениальное.
Нет, все-таки не зависть была главным чувством, когда Лена ползала с Наташиными детьми по мягкому ковру, собирая «Лего». Нет. Главным было радостное удовлетворение оттого, что так бывает. И вера в то, что когда-нибудь так будет и у нее.
Лена позвонила Буланкину уже от Наташи. Не выдержала. Хотя еще в Рязани тысячу раз сказала себе, что, когда приедет, ни за что не позвонит, а просто в положенный день придет на работу — и даже тогда не позвонит. Пусть сам. Он же знает, когда она должна появиться.
— Да, — уже прозвучало в трубке, а Лена еще не знала, что скажет, и поэтому молчала.
— Я слушаю, — заметно занервничал Буланкин.
— Это я, — сказала Лена.
— Господи, — счастливо выдохнул Юра. — Ну почему ты так долго не приезжала?
И он тут же замолчал. Испугался своей радости. Лена поняла — и положила трубку.
Юра, как вы догадываетесь, сразу же набрал ее номер. Полярнинский, разумеется. И в ответ услышал долгие гудки. Долгие-долгие.
Снова не понимая, что со всем этим делать, он бросил трубку, чертыхнулся, быстро оделся и ушел из дома. Куда ушел? Да никуда. Просто шатался бесцельно по улице — и все.
Но к Лениному дому он, конечно, все-таки вышел. Совершенно случайно, как ему показалось. Два высоких и далеких ее окна были темны. Откуда же она звонила?
Вернулся — позвонил снова. И еще раз. И еще. И в двенадцать ночи позвонил — никого. Или она специально не брала трубку? Или телефон сломался? Буланкин набрал номер АТС, попросил проверить. Проверили: все в порядке.
Уснуть у Юры не получилось. На службу он пришел растерянный и злой. Все, кто мог получить от него нагоняй, — получили. Даже неприкосновенной Тамаре досталось от обычно выдержанного Буланкина. Она не обиделась, только смотрела во все глаза: что это с ним?
Время близилось к обеду, когда Буланкин, в очередной раз с надеждой схватив трубку, услышал наконец Ленин голос:
— Здравствуйте, Юрий Петрович. Я приехала.
— Когда? — устало спросил он.
— Только что зашла в квартиру. — Лена сначала как будто не услышала, что с ним происходит. Но потом все-таки заботливо поинтересовалась: — У вас что-нибудь случилось?
— Все в порядке, Елена Станиславовна, — прохладно и ровно ответил Юрий Петрович. — Вам завтра на работу?
Ответив коротко Буланкину «завтра», Лена положила трубку и грустно усмехнулась: «Дура ты, Турбина, какая же ты дура! С чего, спрашивается, взяла, что между вами что-то было? Ничего не было. Нет. И скорее всего не будет».
3
Буланкин, еле дождавшись конца рабочего дня, позвонил Лехе — и они отправились в «Сполохи».
К тому времени, когда туда стал подтягиваться народ и когда в их сторону нежно и многозначительно начали посматривать несколько пар накрашенных глаз, им уже было ни до кого. Но встать и уйти до закрытия было совершенно невозможно. И они, отрицательно мотая головой в ответ на многочисленные приглашения к танцу, заказывали и заказывали «еще по сто» и вели бесконечно душевный, бесконечно бессмысленный и просто бесконечный разговор.
— Леха, ну вот скажи, на хрена мне все это? — спрашивал в сотый раз Буланкин.
Леха в ответ кивал:
— Пошли их всех на…!
Последнее слово он, понимая, что все-таки при погонах и все-таки в общественном месте, произносил шепотом — но очень убедительно.
Буланкин, героически сдерживая слезы, восхищенно рубил рукой воздух: вот Леха, вот человек! Все понимает!
На следующее утро выбритый чище обычного и пахнущий «О'женом» сильнее, чем всегда, Буланкин появился у Лены в радиоузле. Разговор был хоть и не совсем обязательным, но все-таки больше деловым. Знаки внимания почти отсутствовали. Но ведь «почти», а не «вовсе». И после работы каждый из них по отдельности поспешил домой, чтобы быстрее оказаться у телефона.
Юрин дом был ближе. И поэтому, набрав номер Лены, он услышал безнадежно долгие гудки. Через пять минут снова набрал — и снова никого. Юра занервничал, не давая себе труда сообразить, что Лена просто не успела еще дойти до дома.
Бедный Буланкин опять готов был идти куда глаза глядят. Но зазвонил телефон. И Юра услышал:
Я столько нежности несла — тебе. Я столько слов приберегла — тебе. А оказалось все ненужным никому, А оказалась снова я в плену Забытых снов, разбившихся надежд, Неярких, балахонистых одежд, Которые скрывают пустоту — Ах, как это «снижает высоту»… Но — кончено, уже не тяжело. Лишь слезы, словно битое стекло. И снег по-невзаправдашнему чист. И горько мне: совсем ты не артист, А впрочем, хорошо, что не артист. И слишком чист ненастоящий снег. И медленнее, медленнее бег За сном, таким красивым и простым. И чей-то смех, чужой надсадный смех, Который вдруг становится моим.
Юра дол го-дол го соображал, что на это можно ответить. Лена терпеливо ждала.
— Можно я к тебе сейчас приду? — спросил наконец Юра.
Перед приходом Буланкина состояние Лены было близко к полуобморочному. Она твердо решила, что все должно случиться именно сегодня.
Состояние Юры было не лучше: он решил, что даже не прикоснется к Лене. Во всяком случае, сегодня. Почему уж он так решил, не знаю. Хотя вы же помните, что он давно постановил: только дружба. Но зачем тогда было переться (прошу прощения за грубость) к Лене? Объяснять ей про дружбу? Представьте себе, он действительно пытался это сделать! Ну (опять же прошу прощения) не дурак?!
«К черту дружбу!» — сказала Лена, и ее решимость оказалась сильнее всех буланкинских заморочек.
Ночевать Юра не остался: ушел часа в два, на что-то сославшись. На что именно, Лена не запомнила. Главное, что то, к чему с самого начала они оба так стремились, произошло.
Остаток ночи был бессонным. Каждую клеточку Лениного тела, каждый уголок ее радостно пульсирующего сознания заполнили трепетно-восторженные воспоминания о том, что случилось. Иногда казалось, что она помнит все очень точно. Буквально посекундно. Иногда, напротив, обнаруживались зияющие провалы в памяти, даже не провалы, а бездонные пропасти, в которых нельзя было найти ни себя, ни Юру.
К утру Лена ненадолго забылась легким прозрачным сном, а проснулась, как это всегда бывает в подобных случаях, с ощущением абсолютного счастья. Это чувство, полностью растворяющее в себе и рассудок, и время, и память об обязанностях, заполнило не только все Ленино существо, но и умудрилось выйти далеко-далеко за его пределы и царило в комнате, на кухне, на лестничной площадке, и на улице Душенова, и на улице Героев «Тумана», и на всем пути следования на работу, куда Лену, готовую действительно забыть все на свете, вела сегодня раньше обычного какая-то неведомая сила.
Лена, собственно, всегда приходила рано, чтобы успеть к моменту появления народа на проходной подготовиться к выходу в эфир с объявлениями, новостями и всякого рода поздравлениями. После эфира можно было ждать Юру. Но в это утро ей казалось, что он обязательно придет раньше, еще до включения. Придет, чтобы посмотреть на нее. Придет, чтобы сказать что-то совершенно особенное, чего еще сказать не успел.
Как видите, редактор радиовещания Елена Турбина думала не о том, насколько у нее все готово, а совсем о другом. В том числе о том, как она выглядит. И она постоянно беспокойно заглядывала в зеркало. Хотя о чем ей было тревожиться? Она была Еленой Прекрасной — как всегда. Только от бессонной ночи под глазами темнели круги, но зато сами глаза от этого сияли еще ярче.
До эфира Юра не появился (у него и мысли, честно говоря, такой не возникло). После — тоже, так как дел у него было по горло. И возможности позвонить, а тем более зайти — ни малейшей. Сначала ему нужно было дождаться командира, от него пришлось мчаться в штаб, а потом в срочном порядке — на катер, чтобы успеть в Североморск. Дома он очутился лишь поздно вечером.
Нельзя сказать, что он не помнил о Лене. Еще как помнил! А вот позвонить не мог. Ну правда не мог!
А Лене, конечно, думалось бог знает что. И что он над ней теперь смеется. И что она лишь одна из многих, о которых, переспав, можно забыть на следующий же день.
Кому она могла обо всем этом рассказать? Алле, разумеется.
Они сидели на Лениной кухне и, конечно, курили. Алла говорила:
— Ленка, сними ты наконец розовые очки. Ты придумала его себе. Понимаешь? При-ду-ма-ла! Он обыкновенный бабник. Держись ты от него подальше. Тебе замуж надо. За нормального, спокойного, надежного мужика…
— Как твой Саша? Да? — Нет, в Ленином вопросе не было сарказма, в нем было больше простодушия.
Но Алле почувствовался подвох:
— А что Саша? Что Саша? Муж только таким и должен быть, если хочешь знать. Лучше когда гуляет, как твой Буланкин?
— Ну насчет «гуляет» вопрос, сама понимаешь, сложный. Муж не гуляет, так…
Лена не решилась продолжить и резко поменяла ход мыслей:
— Да какой он мой!
— А то я не знаю, как ты из-за него дохнешь! — Алла сделала вид, что ничего такого в свой адрес не услышала.
— Ну дохну, а что мне еще делать? — спросила ее Лена. Грустно так спросила.
И ответить Алле было нечего.
Зато тут же раздался звонок.
Буланкин, быстро все Лене объяснив, весело спросил:
— Прошу разрешения прибыть?
— Нет, сегодня не получится. Пока! — легко и вполне доброжелательно ответила Лена и положила трубку.
— Молодец, Ленка, так его! — похвалила Алла.
— Думаешь, правильно? Я ведь очень хочу, чтобы он пришел. — Лена стояла, прислонившись к коридорной стене у тумбочки с телефоном, и задумчиво накручивала непослушный телефонный провод на палец.
— Мало ли что хочешь. Не будь такой же дурой, как я, — назидательно сказала подруга, направляясь к выходу.
По пути она заботливо поправила Ленины волосы, погладила Ленино плечо, нажала пальцем на Ленин нос: «пи-и-п!» — с тем и отбыла к мужу и сыновьям Петровым.
4
На следующий день у Лены было множество дел — и после утреннего эфира она в своем радиоузле больше не появилась. Пришлось побывать и в штабе флотилии, и в администрации, и в редакции городской газеты. Домой пришла поздно и усталая. Но конечно, все равно ждала звонка. Звонка не случилось.
И вечер, как это часто бывало, прошел в общении с Аллой, которая беззастенчиво уходила к Лене часа на два-три, не считая при этом, что бросает на произвол судьбы семью, так как к приходу сыновей из школы, а тем более к возвращению Саши со службы все у нее всегда было убрано и приготовлено, а поужинать они могли и самостоятельно.
После короткого обсуждения ситуации с Буланкиным (вердикт Аллы был неизменен: он тебе не пара!) переключились на саму Аллу.
Она нервно закуривала сигарету за сигаретой, гасила, не докурив, тут же хваталась за новую (Лена, кстати, компанию ей уже не составила). И говорила, говорила…
И хотя Лена многое из того, что слышала сейчас, уже давно знала, она слушала внимательно, как в первый раз, сочувствуя, сопереживая и бесконечно жалея бедную Алку.
— Я всегда — всегда! — люблю больше, чем любят меня, — твердила Алла. — Ну неужели я недостойна, скажи, хоть десятой доли того, что отдаю сама?
И тут она заговорила, почти запричитала, тихо-тихо и быстро-быстро:
— Меня совсем не за что любить? Меня можно только трахать? Да? Только трахать? А любить — не за что? Совсем не за что? Совсем-совсем?
На этих словах «совсем-совсем» Лена бы на месте Аллы заплакала. Она и заплакала — на своем, от жалости к Алке. А Алла — в этот раз нет, только глаза горели сухим огнем непонимания, в котором плавилась — боль.
— Что ж душу-то мою никто не разглядит? Она же есть у меня — большая и красивая! — Теперь Алла кричала. Шепотом кричала: — И никому, понимаешь, никому она не нужна. Тело, сама знаешь, — нарасхват, не отбиться. А душа — никому на фиг не нужна. Никому!
Алла, конечно, выразилась покрепче. Она часто в приступе тоски или, наоборот, радости переходила на не совсем нормативные или совсем ненормативные обороты, но выходило это у нее удивительно естественно, иногда — чуть ли не изящно.
— Да, вот так, Аллочка, — продолжила она свой монолог, обращаясь теперь уже к самой себе, — вот так-то…
И переходя с крика души на ерничанье, патетически воскликнула:
— Она хорошо делала минет, а хотела, чтобы ее любили за красивую душу! Смешно, господа, не правда ли?
Зло расхохотавшись от этой собственной как бы шутки, Алла подошла к окну и застыла у него. Молчала долго. А потом снова себя спросила:
— А что же ты хотела, моя дорогая, если у тех кобелей, которых ты притягиваешь, член встает раньше, чем душа откликается? Душа за ним не поспевает, вот в чем беда…
Алла снова помолчала, дивясь собственной мудрости, и закончила спокойно и уверенно:
— А у кого сначала — душа, а потом — член, тот и не мужик вовсе.
Вот такая была у Аллы странная теория. Лене она казалась ужасной. Но Аллу все равно было жалко. И в половине двенадцатого ночи, проводив подругу, она записала:
Как редки те, кому нужна душа, И ты из них, кому довольно тела. Срывает ветер ставни оголтело, Надежд последних островки круша.
Показалось, что написанное смахивает на романс. Это хотелось петь. Но пение — по части Аллы. Голос у нее потрясающий. А музыку какую пишет! На стихи Ахматовой, Цветаевой. Талантливая она. И красивая. Чувственная, порывистая. Живет только сердцем. Настоящая женщина. Мужиков у нее действительно море. Только все какие-то не те. Может, по-настоящему ее и ценит только собственный муж. А она, дурочка, не понимает.
«Надо до завтра сочинить продолжение, а Алка пусть музыку придумает», — решила Лена, укладываясь спать. И было непонятно, как же она успеет к утру с продолжением.
Но, проснувшись, Лена уже знала, что дальше будет так:
Одна я снова в опустевшем доме, Среди старинных, умных, пыльных книг. Но много ль тех, кто мудрость их постиг? И много ль тех, кто что-то в жизни понял?
Вечером следующего дня Алла и Лена сидели в квартире Петровых за столом, который был накрыт вязанной крючком зеленой скатертью и на котором стояла в красивом старинном подсвечнике (подарок Сашиной бабушки, которым Алла необыкновенно дорожила) горящая свеча. В такой романтичной обстановке подруги пили водку.
Петров-старший дежурил, а Петровы-младшие слиняли, как выразилась их мама, на дискотеку. Перебирая струны гитары, Алла выразительно читала стихи с лежавшего перед ней на табуретке листа. Лена переживала за каждое слово. А через некоторое время они уже слаженно, проникновенно выделяя каждое слово, пели:
Мир для любви невыносимо тесен. Его пространство для нее мало. Заденет счастья легкое крыло, Чтоб унестись сейчас же в поднебесье.
В двух последних строчках было не все в порядке с логикой. Получалось, что не счастье унесется в поднебесье, а крыло.
— Неправильно, — страдала Лена.
— Не выдумывай, нормально, — успокаивала Алла. Она была уверена, что ее гениальная музыка способна исправить любые словесные погрешности.
Собственно, так оно и было. Романс получился красивым, а главное, душевным, как и положено романсу.
5
Отношения Лены с Буланкиным через несколько дней как будто бы выровнялись. Он приходил к ней в радиоузел, сияющий и, казалось, любящий. Казалось — потому что никакого «люблю» Юра не произносил. Лена тоже не спешила с признаниями, хотя давалось ей это с трудом.
Они уже не вели интеллектуальные разговоры, а просто целовались. Конечно, было много чего и кроме поцелуев. Но так получалось, что время шло, а домой к Лене Юра больше не приходил. То у него что-то не получалось, то у нее не складывалось.
Дни декабря пролетели быстро и как-то невнятно. И было неясно, кто же виноват в том, что в жизни Лены Турбиной и Юры Буланкина почти ничего не изменилось.
Лена всегда, как ребенок, ждала Нового года. Ждала с тихим восторгом, сладостным замиранием и затаенной радостью, ожидая — чуда.
Только тогда, восемь лет назад, когда в середине декабря она получила страшное известие от друга Олега и все вокруг стало сразу бесцветным и ненужным, — только тогда она потеряла это предощущение приближающегося волшебного мига, когда стрелки часов, дрогнув, наконец целомудренно сливаются в единое целое и возвещают миру, что все плохое осталось в старом году, а впереди — только доброе, отрадное и светлое.
Но уже перед следующим Новым годом оттаявшая душа снова жила ожиданием.
Это не было ожиданием новой любви, вовсе нет.
Это был, с одной стороны, знакомый трепет оттого, что Лена слышит не слышные никому шаги Времени, видит не видимые никому его очертания, чувствует его прохладное и легкое дыхание, не ощутимое другими.
А с другой стороны, это было непонятно откуда взявшееся, но очень осознанное желание получить с боем курантов весточку оттуда, откуда получить ее, казалось бы, нельзя.
И вот уже семь лет Лена, встречая неизменно Новый год одна, знала, что именно в эту ночь, когда мгновение встречается с вечностью, а реальность плавно перетекает в фантастическую неосуществимость, ее душа соприкасается с душой того, кто был назначенной ей судьбой половинкой.
Лена знала, она была совершенно уверена: этой близкой душе должно быть хорошо там, в ее светлой и высокой запредельности, когда Лена здесь, на земле, в своей сверкающей чистотой и дышащей живой хвоей квартире, с радостным упоением и нежностью готовит какие-то совершенно необыкновенные блюда, сервирует стол на двоих, зажигает свечи и в положенные минуты, откупорив бутылку шампанского (она научилась это делать красиво и правильно), наливает его в высокие хрустальные бокалы, а потом, улыбаясь и вытирая неизбежные слезы, медленно пьет. Сначала — из одного бокала, потом — из другого. И в этот момент она не одинока, а счастлива.
Такая встреча Нового года была ее единственной сокровенной тайной, которой она не открывала никому. Даже Алле.
Алла, конечно, о чем-то догадывалась, потому что ей, подруге и ближайшей соседке, нельзя было наврать (не любила Лена это дело, но иначе было никак), как остальным знакомым, наперебой приглашающим в новогодние компании, что она традиционно уезжает тридцать первого декабря в Мурманск, к своим давним друзьям.
Алла о чем-то догадывалась — но не расспрашивала и в душу не лезла. И Лена была ей очень благодарна за это.
Как-то еще в начале декабря Буланкин как бы мимоходом спросил у Лены, где она собирается встречать Новый год. Она заученно ответила: еду в Мурманск к друзьям, традиция такая.
Юра внимательно посмотрел Лене в глаза.
— А нельзя традицию нарушить?
— Нельзя, — ответила Лена. Ответила не очень твердо, голос ее слегка дрогнул. И, моментально отметив это и сообразив, что, конечно, конечно, нельзя, быстро заговорила: — Юра, понимаешь, на самом деле нельзя. Я уже первого вечером буду дома. И надеюсь, что ты… Но тридцать первого я должна быть у них. Обязательно, понимаешь? Я не могу не поехать.
— Жаль, — ответил Юра. Теперь он смотрел в окно своего кабинета (разговор происходил именно там), почти отвернувшись от Лены. — А я думал…
— Но первого, первого-то я буду дома, — развернув его к себе и просительно заглядывая в глаза, торопилась словами Лена.
Но Юра, отводя взгляд, молчал. Лене хотелось растормошить его, хотелось прижаться к нему, хотелось сказать: «Я люблю тебя, дурак! Неужели не видно?» Но она не стала этого делать, а, отстранившись, рассеянно бросила «пока» и быстро вышла из кабинета Буланкина.
Юра до этого момента был абсолютно уверен в том, что Новый год они с Леной будут встречать вдвоем. Он ждал этого. Он серьезно к этому готовился. Он планировал… Да какая теперь разница, что он планировал!
Буланкин издевательски хмыкнул, покачался на стуле и набрал номер «Сполохов».
— Привет «новым русским»! Что у вас там в новогоднюю ночь планируется? Места еще есть? Меня не забудьте в списки свои внести. Что? Один, один. Да вот так получается…
Последние декабрьские дни Лена старалась избежать встречи с Буланкиным, и он не спешил появляться у нее в радиоузле. Позвонил уже тридцать первого.
— С наступающим, Елена Станиславовна.
«Елена Станиславовна». Как официально. Ну что ж, официально так официально.
— И вас тоже, Юрий Петрович, — постаралась ответить Лена как можно спокойнее.
Ну вот, все понятно. Значит, в Мурманске у нее скорее всего кто-то есть. Тогда зачем же было?.. Хотя ничего удивительного… Разве бывает по-другому?
— Желаю вам хорошо повеселиться в новогоднюю ночь. — Кажется, это он сказал.
Она что-то ответила, но Юра не расслышал и, еще раз выдавив из себя какую-то банальную фразу, положил трубку.
Отдав все необходимые распоряжения, Буланкин опечатал свой кабинет и спустился к проходной. Ободряюще подмигнув молодой вахтерше Марине, которая давно смотрела на него грустными глазами, он вышел на улицу, не зная толком, куда он сейчас пойдет, и уже жалея о том, что не остался на службе, решив сделать себе, как у всех, короткий день.
Юра слился с оживленной толпой, в которой каждый нормальный человек осознавал, куда и зачем он спешит. Два года назад Юра, помнится, тоже торопился.
У Светланки была дурная привычка (это он всем так говорил «дурная привычка», хотя на самом деле так не считал) встречать Новый год с выбитыми-вычищенными на снегу коврами. И поскольку времени на это в обычные дни почему-то не хватало, то приходилось, если он не дежурил, вытаскивать во двор все ковры-паласы в самые что ни на есть предновогодние часы. Елка у них соответственно наряжалась не как у людей — заранее, а часов в десять-одиннадцать. И наряжал ее обычно Юра. Сначала один, а потом со Светланкой номер два…
В прошлом году никакой елки уже не было. И так называемая «встреча» состоялась в какой-то гнилой компании и прошла в отвратительном пьяном угаре. Не хотелось бы, чтобы и в этот раз… Хотя какая, если вдуматься, разница! Где, как, с кем… Да и вообще можно никуда не ходить. Вот дурак, до последнего на что-то надеялся. Да зачем ей нужен какой-то вшивый каплей? С ее, как говорится, данными… Как он раньше не догадался? Ведь в Мурманск она ездит почти регулярно. К друзьям. Да ни к каким не друзьям! К какому-нибудь преуспевающему бизнесмену. Как он раньше не догадался? Тогда почему он к себе ее не забирает, этот бизнесмен? Почему-почему… Женатый скорее всего. Вот почему. Так. Но если у него семья, то как она с ним Новый год встречать собирается? Между прочим, осталось…
Буланкин отогнул обшлаг шинели, глянул на часы. До двенадцати оставалось семь с половиной часов. Буланкин продолжал размышлять.
Итак, до Нового года семь с половиной часов. А она пока еще здесь. На чем она собирается ехать? Почему не уехала с четырехчасовым автобусом? Могла ведь с работы уйти пораньше. Значит, поедет последним рейсом. Билет наверняка взяла заранее. Так просто сегодня не уедешь. В «Сполохи», что ли, податься? Зачем? А черт его знает! Время куда-то надо девать. Конечно, неплохо было бы приборку в хате сделать. Новый год все-таки. Да ладно, потом как-нибудь. Себя в порядок привести недолго. К двадцати двум сто раз успеется. Ну а сейчас-то зачем туда переться?
Буланкин затормозил на полпути к «Сполохам» и, резко развернувшись, пошел все-таки домой.
— Юр, привет!
Голос знакомый. Но все женские голоса с некоторых пор стали для него неразличимо-похожи. Кроме одного.
Юра обернулся. Алла. Вот кого сто лет не видел. Красивая. В шубе. Вся светится. В новой, наверное. Сейчас что-нибудь про Ларису скажет… Вот черт, как некстати…
— Здравствуй, Алла. Выглядишь потрясающе, — попытался даже улыбнуться Буланкин. — Как дела?
— Да ничего, грех жаловаться, — еще больше засветилась на комплимент Алла. — У тебя-то как жизнь?
И, не дожидаясь ответа, приблизив свое лицо к Юриному, она громко зашептала:
— Юра, я давно хотела с тобой поговорить…
— Алла, ну о чем? — недовольно отшатнулся Юра.
— Не о чем, а о ком. — Алла как будто бы не обратила ни малейшего внимания на Юрино недовольство, но на всякий случай ухватила его за рукав, чтобы не сбежал. — О Лене Турбиной, вот о ком.
Вот это ново. И Юра вспомнил, что Алла живет на одной площадке с Леной. И Лена ведь как-то что-то говорила. Что они дружат, кажется. Да уж… Может, сказать, что некогда? Но ведь любопытно, черт возьми, что она скажет.
А Алла между тем и сама еще не знала, что именно она может сказать Юре. Но сказать было нужно. Очень нужно. Вон как Ленка мается. Что уж они все в этом Буланкине нашли?
Алла собиралась с мыслями, выразительно вращая глазами. Юра ждал. И вдруг его осенило.
— Слушай, а Лена с вами встречает Новый год?
— Нет, — честно ответила Алла. — Не с нами.
— А с кем? — строго спросил Юра.
Алла вздохнула. Глубоко вздохнула. И покачала головой. Потом пожала плечами.
— Скажи, кто у нее в Мурманске? — продолжал допрос Буланкин.
— Друзья есть. Она к ним ездит иногда. Но только это не то… Это совсем не то, что ты думаешь… — заторопилась Алла. Потом вдруг замолчала и очень медленно произнесла: — Юра, она никуда сегодня не уезжает.
Тут у Аллы на глазах заблестели слезы, она выпустила руку Буланкина и, не сказав больше ни слова, пошла прочь. Не попрощавшись. И не оглянувшись.
Юра остался стоять на месте.
Идиот! Какой же он идиот! Неужели сам не мог догадаться…
6
Пробило двенадцать. Лена, выключив телевизор, тихо сказала: «С Новым годом!» И поднесла свой бокал к другому. Нежный хрустальный звон — это все, что ей сейчас было нужно. Даже музыки не надо. Потом. Попозже.
Выпив шампанского, не прикоснувшись ни к одному из изысканных салатов, рецепты которых она еще месяц назад списала у Аллы, Лена подошла к окну.
Далеко внизу светились огоньки кораблей. И сами корабли, и силуэты вахтенных, и легкая рябь на темной воде (для тех, кто не знает: Кольский залив не замерзает зимой) — все было очень хорошо видно. Потому что облака, которые занавешивали днем небо, к ночи куда-то уплыли, открыв сияющее звездами небо.
С девятого этажа неба виделось меньше, чем хотелось, но и этого было достаточно. Как хорошо, что оно сегодня так открыто. Ничто не мешает. Никаких преград.
Слышишь меня? Видишь? Это платье я купила недавно. Нравится? Мне тоже…
Это был всего лишь миг, когда… Но он был, этот миг! Был. Но почему же нельзя, чтобы это продлилось чуть больше? Почему-то нельзя.
Какой-то шум на кораблях. А… салютуют… Красиво. Хорошо.
Лена еще долго стояла у окна, озаряемая светом сигнальных ракет. Потом, тряхнув головой, подошла к телевизору, нажала кнопку, остановилась, раздумывая, оставить его или лучше включить магнитофон. И решила, что пусть будет и то и другое.
Когда она, усевшись наконец за стол, примеривалась, с чего бы начать праздничный ужин, в дверь позвонили. Странно… Ведь все знают, что ее нет. Все, кроме Аллы. Еще звонок. И еще. Можно и открыть. Теперь можно.
Вы, конечно же, догадались, что это был Буланкин. Абсолютно трезвый. С шампанским. С цветами. С конфетами. Все как положено.
Он осторожно поцеловал Лену в щеку. Сказал:
— С Новым годом!
Потом немного помолчал и добавил:
— Ну, я пойду.
— Заходи. Я тебе очень рада. Честно. — Лена быстрее затянула Буланкина к себе, не дожидаясь, пока кто-нибудь из соседних квартир вывалится на площадку.
!36
Усадив Юру за стол, Лена принесла третью тарелку. А вот хрустальных бокалов у нее было только два, и Юре досталась просто чашка.
Они мало говорили. Больше ели. Юра, бесконечно восклицая свое «фантастика!», не уставал восторгаться Лениным кулинарным талантом (хотя, между нами, какой уж там талант!).
Они выпили все шампанское, но почему-то не захмелели. Хотя все-таки немного было, конечно.
От блеска Лениных глаз и ее грустной улыбки у Буланкина кружилась голова и временами, кажется, останавливалось сердце. Вот она какая! Она еще лучше, чем всегда казалась.
«Мы не должны быть сегодня вместе, — думала Лена. — Не должны. Он мог бы это понять и не приходить. Но… Но ведь он и так все понял. И пришел именно тогда, когда было уже можно. Ни минутой раньше. Господи, какой же он хороший!»
— Мы будем танцевать? — спросил Юра, беря Лену за руку.
— Нет, — покачала головой она, но руки не отняла, — мы пойдем гулять. Ты видел, когда шел сюда, какое сегодня небо?
— Когда шел сюда, я не видел ничего, — честно признался Юра.
Дверь подъезда за ними по-праздничному оглушительно хлопнула — и Лена укоризненно покачала головой: ай-ай-ай, не удержал. Юра развел руками: виноват, не удержал.
Они пошли сначала — просто рядом. Но уже через несколько шагов Юрина рука легла на плечо Лены — Лена не имела ничего против. И хотя идти так было не очень удобно, она прижалась к Юре, старательно пытаясь подстроиться под его шаги. А он, наоборот, старался подстроиться под нее. И все это — молча. Когда идти наконец стало легче, они одновременно заговорили.
— Знаешь… — сказал Юра.
— Знаешь, — сказала Лена. Оба засмеялись.
— Сначала ты, — попросил Буланкин.
— Нет, сначала ты, — потребовала Лена.
— Я просто хотел сказа-а-ть… — протянул Юра — и замолчал.
Лена недолго подождала и решительно выпалила:
— Ну, тогда я первая. — И тут же решимость ее куда-то подевалась.
В этот самый момент, когда они так мучились, из-за угла дома вывалилась шумная ватага женщин-мужчин-детей и набросилась на Лену с Юрой. «С Новым годом!» — звенели дети. «С Новым счастьем!» — разноголосо и пьяно вопили взрослые.
Их обсыпали конфетти, освещали искрами бенгальских огней, оглушали хлопушками и, растаскивая в разные стороны, обнимали-целовали.
Едва отбившись, они бросились друг к другу, как будто их действительно хотели навеки разлучить.
Развеселая многоголово-разновозрастная гидра уже скрылась из виду, а они все стояли, обнявшись — нет, буквально вцепившись друг в друга. И снова молчали.
Но молчание это нисколько не было тягостным: оно было каким-то очень органичным. Оно было естественным. Оно было прохладным и легким, как дыхание самого Времени.
Это было странно, но на улице тоже стало тихо. Где-то далеко, за оконными стеклами, буйствовала новогодняя радость; где-то далеко, за домами, кричали и свистели. Но все это было далеко и происходило в каком-то другом измерении.
А здесь, где стояли, обнявшись, Лена с Юрой, и сейчас, когда каждый из них вслушивался в биение сердца напротив, было тихо. Очень тихо. И огромное зимнее звездное небо смотрело на них проницательно и ясно всеми своими глазами, от которых невозможно утаить ни единой человеческой мысли, ни единого, даже запрятанного глубокоглубоко, движения человеческой души.
Что-то такое Лена и сказала наконец Юре. Ему понравилось, но он засомневался насчет фраз «человеческая мысль» и «человеческая душа». Разве бывают нечеловеческие? Конечно, сказала Лена, конечно, бывают. У собак разве нет души? Разве нет мыслей? Но тогда, сказал Юра, звезды видят и их мысли. Разве нет? Ну да. Наверное. Но не звучит, понимаешь, не звучит, если просто «мысль», если просто «движение души». Ну согласись. Согласись, пожалуйста.
Юра согласился, и они медленно побрели куда глаза глядят — но это так, присказка. На самом деле пошли они (правда, действительно неосознанно) к пирсам. И глаза их смотрели вовсе не под ноги и очень мало — вперед, потому что завороженно блуждали в огромном, колдовском, необыкновенно ясном небе, плутали среди зовущих знакомых и незнакомых созвездий.
Небо было объемным и глубоким — и глубина эта измерялась силой света далеких, еле мерцающих, и близких, ярких и уверенных, звезд.
— Не помнишь, что там Кант говорил про звездное небо? — спросил Юра.
— Не-а, — помотала головой Лена, хотя очень даже помнила.
— Ну вот, такая ты у меня умница, а Канта не читала, — тихо засмеялся Юра.
«…Как он смеется! И сказал — „у меня“… Как хорошо он смеется… Как ручеек по камушкам…»
«Какая она все-таки… Ну не бывает же так, чтобы и красивая, и умная… Не бывает, а она вот такая. Господи, что же мне делать с ней? И такая доверчивая… Девочка моя…»
— Девочка моя, — прошептал Юра и, бережно развернув Лену к себе, крепко удерживая ее одной рукой, чтобы она не отошла, не убежала, сдернул зубами с другой руки перчатку и осторожно провел теплыми пальцами по холодной Лениной щеке. И обнаружил мокрую дорожку. И чтобы дорожка эта не покрылась корочкой льда, он прижался к ней своей щекой. Прижался — и замер.
Очень хотелось найти ее губы. И долго-долго целовать. И не только в губы. Целовать ее всю. Но… Сегодня нельзя. Поэтому спокойно… Спокойно, Буланкин, спокойно. Без фанатизма.
«Он любит меня!» Легкая бабочка-мысль была готова упорхнуть, но Лена постаралась ее удержать подольше.
Что она сказала вслух? Ничего не сказала. И слов никаких не ждала. Разве они могли хоть что-нибудь добавить?
7
Алла была, с одной стороны, очень рада, что у Лены с Буланкиным наконец начало что-то вырисовываться. С другой — она все-таки очень сомневалась. В Буланкине, разумеется.
Оснований для сомнений у Аллы было достаточно. И связаны они были даже не столько с личностью Юры Буланкина, сколько с опытом общения самой Аллы с мужчинами, которая давно усвоила, что если для женщины любовь целая эпоха, которую она готова приравнять к жизни, то для мужчины это чаще всего один из эпизодов его бытия, в котором есть вещи и поважнее.
Но удивительно было, что Алла, зная это, все равно ждала и верила. Сердцу вопреки. Неправильно, между прочим, поется. Разуму вопреки, здравому смыслу вопреки — а не сердцу. Но из песни слов, как говорится, не выкинешь. Впрочем, если вдуматься… Женщина она ведь думает чем? Не головой, конечно. Сердцем и думает. Так что не лишена, оказывается, своеобразной логики эта фраза — «сердцу вопреки».
Но вообще-то я хотела рассказать вам все про Аллу.
В жизни Аллы Петровой было так много любви, что хватило бы на несколько романов, это точно. Но при этом, как вы уже знаете, у нее сохранился муж Саша. Как это ей удалось? А никак. Судьба такая. И всех, кто пытался сунуть свой любопытный нос во взаимоотношения Аллы с мужем, пытался порассуждать на эту тему, всегда ждало разочарование: ни под какие схемы и теории семья Петровых не подпадала.
Внешне все выглядело так: Алла периодически влюблялась, скрыть это от мужа удавалось не всегда. А точнее — никогда не удавалось. И Саша, все зная, не разводился! Каково это было пережить окружающим? Эти самые окружающие искренне жалели бедного Сашу (не видит он, что ли?), гневно осуждали Аллу (что ей еще надо? такой хороший муж) и терпеливо ожидали развязки, а некоторые пытались ее ускорить доброжелательными телефонными звонками.
А развязки все не было и не было. Жили себе Алла с Сашей, детей растили, очень, надо сказать, умненьких и симпатичных детей — близнецов Ромку и Антона, которые в школе на всех олимпиадах по всем предметам соревновались исключительно между собой, потому что остальные конкуренции составить им не могли.
Алла души не чаяла в своих мальчишках и была им подружкой, которой они всегда и все рассказывали. А Алла все рассказывала Лене: и про Ромку с Антоном, и про Сашу, и про себя, многострадальную.
С Сашей они начали встречаться в школе, он учился в параллельном классе. Когда уехал в Ленинград и поступил в военно-морское училище, Алла скучала и ждала. А потом вдруг в какой-то момент с ужасом поняла, что Сашу разлюбила.
Куда уходит любовь? Куда девается? Ведь была. Была, Алла это точно знала. Знала, что она любила Сашу, замуж за него собиралась. Писем, обмирая, ждала и сама писала по восемь штук в неделю. И вдруг, в один далеко не прекрасный день, поняла: не любит она больше. А самое главное, нет никакой любви. Все придумали. Насочиняли. Обманули.
Алла точно помнила этот момент прозрения-потрясения. Она много раз рассказывала об этом Лене.
Алла не пошла с группой (она училась тогда на втором курсе музучилища) на первомайскую демонстрацию (что, конечно, выявляло ее несознательность и политическую незрелость), а с упоением мыла окно в большой комнате. Вечером должен был приехать Саша. Настроение было замечательным: свежим, бодрым и звенящим, как шествующий по стране праздник мира, весны и труда. Весна, кстати, была в тот год необыкновенно ранней: вполне уверенно зеленели на деревьях листья, трава вдоль тротуаров была по-летнему густой и высокой, уже почти отцвели вишни и зацветали яблони в садах около частных домиков, которые сохранились через дорогу от пятиэтажки, в которой жила Алла.
С высоты своего последнего этажа Алла радостно сопереживала всем, кто с шарами и огромными цветами спешил в центр города, чтобы влиться в праздничные колонны. Любимые мелодии многочисленных ВИА разноголосо вырывались из окон и, как птицы, летели ввысь. Ощущение просторного счастья и звонкой радости, казалось, переполняло и квартиры, и улицы, и землю, и небо.
Счастье и радость Аллы должны были, конечно, объясняться, кроме всего прочего, и приближением момента появления Саши. Но, поискав в себе признаки и симптомы волнующего ожидания, Алла их не обнаружила. Совсем не обнаружила. Она спрыгнула с подоконника и почему-то села на чемодан (мама собрала в него старые вещи и забыла посреди комнаты). Алла села на чемодан и начала думать. Как же так? Ведь если внутри от предчувствия встречи ничего не обрывается, значит, она совсем не рада тому, что увидит Сашу. Раз не рада — значит, не соскучилась. Раз не соскучилась — значит, не любит. Так ведь получается.
Алла пошла к маме на кухню и все ей рассказала.
Мама, Нина Александровна, обожавшая Сашу, не могла и мысли допустить, что ее дочь выйдет замуж за кого-нибудь другого. Красавец, умница, из интеллигентнейшей семьи, через три года — блестящий морской офицер с кортиком на боку — Нина Александровна спала и видела свадьбу дочери. Словосочетание «блестящий морской офицер» она, вероятно, вычитала в какой-то книжке и выкладывала это вместе с кортиком как главный козырь, стоило только Алле заговорить о ком-то другом.
И теперь, когда дочь начала нести какую-то чушь о том, что разлюбила Сашу Петрова, мама всерьез перепугалась и начала успокаивать и Аллу, и себя.
— Ничего, ничего, это бывает. Когда долго не видишь, отвыкаешь. У меня тоже так было, когда папа твой со стройотрядом в Казахстан уезжал. Тоже так было. А приехал — и снова все хорошо.
Нина Александровна выпроводила Аллу из кухни и, выключив все, что шипело и кипело, тоже начала думать. И придумать смогла только одно: свадьба — и побыстрее. Ничего, что еще долго учиться. Ничего. Алла переведется в Ленинград. И будут там вместе. Как хорошо. Квартиру, конечно, или комнату нужно будет снимать. Нет, комнату. Квартиру не потянуть. Ну а комнату — уж как-нибудь. И Сашины родители помогут…
А вот тут, надо заметить, сообразительность Нины Александровны здорово ее подводила. Родители Саши, как это и положено родителям сыновей, пришли бы в неописуемый ужас, если бы их единственное чадо заявило, что собралось жениться. Курсе на пятом — пожалуйста. А на втором — нет, нет и нет.
Впрочем, когда Саша действительно собрался жениться на Алле после четвертого курса, его родители все равно были очень против. И тому была причина.
Но я немного забежала вперед. Вернемся в тот первомайский день, когда Алла, сидя на чемодане, сделала открытие, что никакой любви на свете нет. Поговорив с мамой, на понимание со стороны которой рассчитывать было вообще-то глупо, Алла отправилась к подруге Галке.
Та слушала, вытаращив глаза и открыв рот. Но никакого дельного совета дать не смогла. Говорить Саше или подождать? И как теперь с ним целоваться, если разлюбила? Хотя если не целоваться, значит, он сам все поймет. Но он наверняка подумает, что у нее появился кто-то другой. А у нее никого нет. Разве может быть кто-то лучше Саши?
У Аллы в голове все перемешалось, и она, покинув Галку (у которой, сообщим по секрету, в душе затеплилась робкая надежда), долго-долго бродила по улице. А вечером она смотрела по телевизору «Романс о влюбленных» и горько-горько (это уж она умела!) плакала оттого, что больше никогда и никого не полюбит, потому что любовь бывает только в кино.
Саша приехал. Вошел — большой и беззащитный, как лось. Алла ничего не смогла ему сказать.
Вечерний город заставил забыть об утреннем потрясении: весна настойчиво звала любить. Они бродили по улицам, пахнущим бензином и цветущими садами, мало говорили и много целовались. И Алла готова была уже отказаться от мысли, что Саша не любим ею. Вот же он — хороший, нежный, близкий, родной. Что еще нужно?
Когда Саша уехал, Алла снова вспомнила: любви нет. Нет любви — есть что-то другое, что люди принимают за любовь и называют любовью.
Алла не написала Саше в этот день. И на следующий — тоже не написала. А стала только добросовестно отвечать на его письма.
Когда Саша приехал в отпуск, Алла уехала вожатой в пионерский лагерь. Саша примчался к ней буквально на третий день. Этот визит Аллу совсем не обрадовал: было не до него, полным ходом шли репетиции к конкурсу инсценированной песни. Они поговорили буквально двадцать минут — и Алла отправила Сашу домой.
А он, между прочим, ехал к ней четыре часа на электричке и надеялся, что они проведут весь день вместе и ему, может быть, удастся в лагере и переночевать. Нет, Саша не обиделся. Раз попал в такое неудачное время, когда у Аллы ни одной свободной минутки, — обижаться не на кого. Алка такая: дело — прежде всего.
Прямо в электричке он написал веселое и нежное письмо, посетовав на то, что у него нет никакой возможности устроиться в отряд Аллы пионером. А еще приписал, что, если пионеры не будут ее слушаться, он приедет и надает им по шее.
Алла читала-перечитывала Сашино письмо и очень хотела побыстрее увидеть его самого, чтобы все исправить, чтобы, отпросившись у воспитателя, бродить с Сашей по лесу, собирать землянику и целоваться с ним долго-долго — столько, сколько и нельзя целоваться, если хочешь остаться до свадьбы девушкой.
Остаться до свадьбы девушкой было совершенно необходимо. Так Аллу воспитала мама. Да и вообще в те времена это все-таки приветствовалось. Но буквально на следующий день после того, как уехал Саша, Алла поняла, что до свадьбы ей ждать совсем не хочется. Она поняла, что настоящую страсть остановить невозможно. И если она нагрянула, то не помогут ни воспитание, ни запреты.
В тихий час — время, когда в лагере было воспрещено любое передвижение по территории, — Алла чуть ли не по-пластунски выбралась за ворота и весело поскакала к озеру: ужасно захотелось искупаться.
Когда она еще только очутилась за воротами лагеря, начал накрапывать легкий теплый дождик. И хотя он, пока нерешительный и скромный, обещал превратиться в хороший ливень, Алла решила не возвращаться. Поплавать под дождем — красота!
Но, добежав до пляжа, нарушительница лагерного режима увидела, что любимое место занято. Не одна она хотела купаться под дождем. Из-за кустов выглядывал капот белых «Жигулей».
Стройная, похожая на вытянутую скрипку, с заколотыми на макушке длинными белыми волосами, девушка в черном раздельном купальнике, стоя по колено в воде, подставляла лицо дождю и, плавно взмахивая руками, изображала, видимо, птицу. И кажется, смеялась. А от середины озера возвращался к ней быстрыми саженками черноволосый парень. Он что-то кричал ей на ходу и тоже смеялся.
Разошедшийся дождь изо всех сил молотил по листьям, и Алла, спрятавшись от него под деревом, прижавшись к стволу, не слышала, что именно кричит пловец и что отвечает ему девушка-птица.
Аллу купальщики видеть скорее всего не могли: она была отгорожена от них прибрежными кустами. А вот она их видела хорошо. И, понимая, что поплавать ей сегодня не суждено, почему-то не могла развернуться и идти назад в лагерь.
Дождь становился все сильнее. И двоим в озере это, очевидно, очень нравилось. Парень давно был уже рядом с девушкой и, взяв ее руки-крылья в свои просто руки, пытался увлечь за собой дальше в воду. Она сопротивлялась. Он настаивал. Потом обнял ее, прижав к себе всю: ноги, живот, грудь. Начал целовать, потихоньку увлекая на глубину. Но прежде чем они оказались по пояс в воде, руки парня переместились со спины девушки ниже и начали неторопливо скатывать вниз ее черные плавки.
Боже, что они делают?
У Аллы пылали щеки, сладко и мучительно ныла грудь, стонал низ живота.
Она не в силах была оторвать взгляда от этих двоих. Не в силах была двинуться с места.
На следующий день Алла слезно отпрашивалась у начальника лагеря домой: очень нужно. Начальником в тот день овладел приступ необъяснимого великодушия — отпустил.
Едва Саша появился на пороге, Алла прильнула к нему с такой нежностью, а потом с такой нетерпеливой страстью начала раздевать его прямо у двери, что он не просто растерялся, а испугался — настолько, что тому, о чем грезила последние сутки Алла, случиться было не суждено. И свадьба, о которой так мечтала мама Аллы, в то лето не состоялась. Потому что к концу смены Алла была уже по уши влюблена в вожатого четвертого отряда, старшекурсника пединститута Сергея Свиридова.
В Свиридова были влюблены все: замужние воспитательницы, студентки-вожатые, девочки старших отрядов. Уж очень хорош был собой. Уж очень блистал на сцене с гитарой и своим хриплым голосом под Высоцкого.
Свиридов был, безусловно, олицетворением настоящего мужчины, сильного, независимого, чуть-чуть надменного. Все млели. Все мечтали. Все страдали. А он вдруг выбрал Аллу. Это было невероятно!
Алла привыкла почему-то считать себя серой мышкой, представляющей интерес только для Саши Петрова. А тут вдруг — Сергей Свиридов, которого все даже за глаза называли именно так, с почтением и придыханием.
Все было стремительно, молниеносно, лавиноподобно и одновременно — пронзительно-нежно, высоко, звеняще.
— Я влюбилась! — закричала Алла с порога, вернувшись домой.
Поскольку было ясно, что речь идет не о Саше, Нина Александровна сразу заплакала. И говорить на тему новой любви Аллы отказалась.
— Вертихвостка, — только и сказал отец, когда пришел с работы и жена шепнула ему пару слов.
Свидания длились месяц. Не привыкший к столь длительным прелюдиям, Сергей Свиридов был удивлен, что с Аллой никак не удается дойти до главного. Сначала его это и держало, и вдохновляло, потом — надоело. Детский сад какой-то!
А Алла даже самой себе не могла бы объяснить, почему она столь отважно боролась за девичью честь. Ведь любила до умопомрачения. И сцена та, на озере, покоя не давала. И представляла на месте тех двоих, естественно, себя и Свиридова. А вот что-то удерживало… Мамино ли воспитание, интуиция ли, подсказывающая свиридовскую ненадежность, защитная ли реакция организма, подспудно знающего, что, случись это, страстная и тонкая натура Аллы совсем уж тогда не справится с потрясением от последующего предательства.
Да, оно, то есть предательство, случилось. Оно грянуло. Неожиданно. Необъяснимо. В виде небрежно брошенной фразы: «Не звони больше».
Как же это? Что это? Почему?! Ведь еще вчера… Еще вчера… Вчера были его глаза — близко. Губы — то целовали, то шептали исступленно: «Люблю, люблю, люблю». Руки… Руки были везде, и были они такими нежными, такими чуткими, такими родными, такими нужными.
Был жар. Бред. «Скорая». Мамины глаза. Бледное лицо отца.
Потом — медленное выздоровление. Физическое. Лучше бы его не было. Жить было невыносимо. Незачем. Ни к чему. А — жила. Пила-ела, ходила в училище, кое-как сдавала зачеты и экзамены. И ждала. Вот завтра… Завтра он придет. И объяснит. Все объяснит. Будет умолять простить его. Алла простит. И снова будут глаза, губы, руки.
Время шло. Свиридов на горизонте не появлялся. Сведения о нем, конечно, доходили: видели то с одной, то с другой.
Время шло — а рана не затягивалась, посыпаясь солью очередного уходящего дня.
Два года как на плахе, занавешенной туманом, на пути к которой палач заблудился, но все его ждут и знают: будет.
И вдруг — Саша Петров! На улице встретился. Случайно. Подошел близко. Взял за руку. И уже не отпустил.
Два года после покаянного прощального письма Аллы никаких весточек от Саши не было. Она знала, что родители его переехали из Куйбышева в Ленинград. Знала, что Саша все это время здесь не появлялся. А тут приехал. К бабушке.
Свадьба была через десять дней. К великому счастью Нины Александровны. К великому горю Сашиной мамы.
Накануне свадьбы Алла весь день прорыдала. А наутро после первой брачной ночи она снова знала: любовь есть! И неприлично светилась и ликовала каждой клеточкой измененного своего существа. И не сводила с Саши сияющих в темных полукружьях глаз. И благодарно заискивала перед Сашиной мамой, не скрывающей своей печали.
И конечно же, дело было вовсе не в том, что Алла смогла в эту ночь достичь пика наивысшего наслаждения. Скорее, наоборот. Они с Сашей, бедолаги, промучились до утра, прежде чем совершили то, что им было положено.
Произошло что-то гораздо более важное. Что именно, Алла, пожалуй, и сама не поняла. Собственно, понять — это ведь постичь разумом. А какой уж там разум! Он был вовсе ни при чем, когда все тело сладко стонало от нежности и от ощущения того, что принадлежит теперь не ей, Алле, а большому, сильному, но осторожному и нежному Саше, который назывался теперь ее мужем.
До физического блаженства было еще далеко, но Алла пока этого не знала. Ей казалось, что оно, это блаженство, уже в полной мере испытано — блаженство принадлежать не себе. Блаженство чувствовать дыхание своего повелителя. Блаженство прижиматься к красивому мужскому телу, которое тоже теперь — твое.
Она любила Сашу до изнеможения, до полного своего в нем растворения, до звона в ушах. Откуда все это взялось, Алла не знала. Возможно, в любовь переплавилась благодарность. А может, в любовь превратилась страсть, накопленная за все это время. Или это было наградой, компенсацией за все страдания послесвиридовского периода.
Но, увы, довольно скоро оказалось, что и Сашу Алла любила больше, чем он ее. Хотя как измеришь: больше, меньше? Просто Саша любил настолько, насколько умел. А этого для Аллы оказалось слишком мало. Она поняла это первый раз тогда, когда, почувствовав, что забеременела, и сообщив об этом мужу, услышала не ожидаемые возгласы восторга и ликования, а рационально-прозаическое: «Не вовремя, конечно».
Они тогда жили уже на Севере. Алла не работала. Вела, как умела, нехитрое лейтенантское хозяйство, в котором, однако, все было важно: и наличие обеденного компота, и вовремя подшитые к синему кителю белоснежные подворотнички, и чистота, до стерильности, во всей квартире, пока еще не своей, а чужой, куда пустил пожить семью Петровых на время своего дальнего похода один холостой мичман.
Услышав «не вовремя, конечно», Алла ушла в ванную. Ушла плакать. Плакать недоуменно и безутешно — но в ожидании, что сейчас придет Саша, пожалеет, успокоит и скажет все, что положено в таких случаях. Просто он, пыталась она оправдать мужа, не понял. Просто не сообразил так сразу.
Алла плакала — а Саша все не приходил. А не приходил он потому, что крепко спал.
Когда Алла, решив немного отдохнуть от плача, заглянула в комнату и увидела освещенное невыключенной настенной лампой сосредоточенное лицо спящего мужа, она села на пол, как когда-то — на чемодан посреди комнаты, и начала крепко думать.
Первое, что придумала, — развестись. Развестись завтра же. И ничего не объяснять.
Глаза Аллы горели гордым огнем, как у героини фильма про трудную любовь. Она сама вырастит своего ребенка (Алла, конечно, не могла еще знать, что ребенок у нее будет не один). Она сама его воспитает. И никто ей не нужен! Никто!
Второе, до чего додумалась Алла, — своего мальчика (в том, что будет мальчик, она нисколько не сомневалась) она назовет Виктором. Он будет победителем! Назло Саше. Назло его мамочке. Назло всем!
Потом Алле снова стало себя очень жалко, и она еще поплакала. Старалась плакать погромче, чтобы Саша услышал. Но он не услышал. И измученная Алла прилегла с краешку на диван, чтобы, не дай Бог, не касаться «бывшего» мужа.
Утром она, ни слова не говоря, приготовила Саше завтрак и на его какие-то извиняющиеся слова отреагировала холодным непонимающим взглядом.
Когда Саша пришел на обед, у Аллы от слез вместо глаз остались две маленькие щелочки, а все лицо заменял собою распухший нос. Она все окончательно решила: развод.
Но Саша вошел — и она, как когда-то, снова увидела: большой и беззащитный. Как лось. И его стало невыносимо жалко. Невыносимо. И Алла кинулась ему на шею. И просила прощения. А он тоже просил прощения. И даже стоял на коленях. И умолял не бросать его и клялся, что все будет хорошо. Просто так вчера получилось… Ну дурак… ну, черт его знает, почему он так сказал. Конечно, все здорово. У них будет сын! Сын!
— А если дочка? — спросила Алла. И снова начала плакать.
8
Рожала Алла в Куйбышеве. Саша в это время был в море. И узнал о появлении на свет близнецов только по возвращении на базу, с опозданием на две недели.
Из роддома Аллу встречали мама, папа, свекровь и свекор, приехавшие по этому случаю из Ленинграда, две одноклассницы и, кажется, кто-то еще из родственников. Но количество встречающих не могло компенсировать отсутствия Саши, и Алла чувствовала себя матерью-одиночкой. И снова плакала, за что все ее очень ругали.
Близнецы орали день и ночь, молока не хватало, спать приходилось в общей сложности не больше четырех часов в сутки, хотя, грех жаловаться, мама очень помогала. На маме, собственно, все и держалось.
Когда Саша приехал в отпуск, Алла весила меньше пятидесяти килограммов, и все халаты, в которых она ходила, можно было обернуть вокруг нее по два раза.
Про любовь Алла уже не думала, думала только про пеленки, молоко и подозреваемый дисбактериоз не добирающих в весе близнецов. Все по сто раз кипятилось, переглаживалось, перемывалось — было не до Саши. Вернее, он был очень нужен как лишняя пара рук, как дополнительная единица в уходе за Ромкой и Антоном, с которыми все сбились с ног и валились от усталости от постоянного недосыпания.
Когда двухмесячные дети оказались только на одних руках — руках Аллы (как Нина Александровна умоляла дочь никуда не ехать с такими крохами!), начался настоящий ад.
Но это только сначала было невыносимо, а потом каким-то совершенно удивительным образом близнецы к полугоду образумились, стали вести себя очень даже прилично. Каждый в своем манеже, самостоятельно развлекая себя всевозможными игрушками, терпеливо дожидался своей очереди на кормление, горшок или переодевание.
Алла потихоньку начала все успевать и соответственно хорошеть и набирать потерянный вес. Она никогда не была худенькой и особо к этому не стремилась. А поняв со временем, что ее привлекательность заключается именно в приятных глазу округлостях белейшего фарфорового тела, любила с удовольствием повторять: «Мужики не собаки, на кости не бросаются».
Первая измена мужу вовсе не была случайной. Сначала произошло очередное открытие: рядом с нею совсем не тот, кто нужен. Совсем не тот.
У Саши был отпуск, а уехать всем вместе было невозможно из-за школы (мальчишки учились тогда во втором классе). Поэтому Саша должен был ненадолго съездить к своим в Ленин град, потом — в Куйбышев, где, кроме тещи Нины Александровны (папа Аллы к тому времени умер), жила и его восьмидесятилетняя бабушка.
В Куйбышев Саша попадал на Восьмое марта. Алла заблаговременно приготовила подарки и дала тысячу указаний мужу: непременно купить цветы (папа Аллы всегда дарил жене букеты и букетики по любому малейшему поводу и без повода — тоже), маме — тюльпаны, бабушке — гвоздики; поехать вместе с мамой к бабушке и накрыть там стол с шампанским, фруктами и прочим (Сашина бабушка любила, чтобы все было красиво); сказать нежные слова и той и другой. Одним словом, Саша должен был устроить праздник двум одиноким женщинам. Поскольку склонности к устраиванию праздников у него не было (а вот папа Аллы… как он все это умел!), жена и расписала ему так подробно, что он должен сделать.
Саша позвонил из Куйбышева вечером злополучного Женского дня. Позвонил, чтобы поздравить Аллу. Он, конечно, знал, что она будет дотошно обо всем расспрашивать. И догадывался, какой нагоняй получит. Но не позвонить не мог. И соврать не мог: все равно бы потом все стало известно. Честно признался, что накануне с друзьями-одноклассниками хорошо посидели, слишком хорошо, домой (то есть к теще) он попал под утро, а весь день Восьмого марта пролежал, «болея», поэтому с цветами не сложилось, с шампанским и фруктами — тоже. Но подарки вручены были вовремя, попробовал оправдаться он.
— Какой же ты… — сказала Алла и положила трубку. И добавила еще несколько слов. Непечатных, разумеется.
Кстати, трубку она не положила, а шваркнула. В этом он весь, ее Саша! Плыть по течению, никогда не напрягаясь, никогда не преодолевая ни одной преграды! Перепить с друзьями — это да, это пожалуйста, это запросто! А дело сделать… Ну ладно, перепил, черт с тобой. Хреново тебе — но ты ползи, а сделай! Тогда ты мужик! А так — тряпка…
Тут-то и припомнилось, как в свое время муж отреагировал на ее сообщение о беременности (собственно, это никогда и не забывалось, просто стараниями Аллы пряталось на самое дно бездонного сундука памяти). Припомнилось, как он никогда не мог совершить ни одного мало-мальски решительного поступка: ни машину на службе попросить, чтобы ребят до поликлиники довезти (и приходилось ей тащить их на одних санках, с которых они, неуклюжие и неповоротливые в своих шубах, по очереди сваливались), ни путевки нужной добиться (хотя должность у него была неплохая), ни билеты на самолет достать (все Алла суетилась). Да и на службе ее Петров звезд с неба, прямо скажем, не хватал: слишком мягкий, слишком инертный. Непонятно, как в штаб попал служить. Видимо, просто в какой-то момент повезло. Но на этом все и остановилось. Ни к чему Саша особенно не стремился: ни к должностям, ни к званиям. Как идет, так и идет.
Одним словом, поняла бедная Алла окончательно, что никогда уже из ее Саши не получится, как она ни старайся, мужчины, похожего на ее папу: разворотливого, напористого, умеющего решить любую проблему.
Ничего такого сверхъестественного папа Аллы вроде бы и не добился, обычный инженер (правда, настоящий инженер, то есть творец, а не просто человек с техническим образованием), но жить с ним, как с любым настоящим мужчиной, было удобно и надежно.
С Сашей было надежно только в смысле верности. Алла твердо знала, что Саша не способен на измену (и это было действительно так). Были у мужа и другие достоинства: он не был жадным (деньги всегда были в руках Аллы), привередливым или слишком требовательным, как иные офицеры по отношению к своим неработающим женам. А был покладистым, добрым, нежным. Алла как будто все это ценила, но ей решительно не хватало в муже полета, романтики, стремления ежедневно совершать подвиги и ее, Аллу, тем самым покорять.
Разводиться с Сашей после того Восьмого марта Алла не собралась, просто где-то глубоко заявила о себе не осознанная еще пока до конца потребность добирать то, чего так не хватало, на стороне. Нет, она, конечно, не пошла в тот же вечер искать настоящего мужчину. Это случилось позже. Дня через два. Она не искала — ее нашли. Прямо на улице.
Смуглолицый капитан третьего ранга с волевым подбородком и глазами цвета стали заглянул в ее глаза и спросил:
— Вы замужем?
— Конечно, — небрежно дернула плечом Алла.
— А муж где? — бесцеремонно продолжал этот тип, переводя свой стальной взгляд с ее желто-зеленых глаз (которые секунду назад смотрели высокомерно, а теперь — растерянно) на пухлые губы, а затем ниже — на спрятанную под шубой немаленькую грудь.
— В отпуске, — честно призналась Алла, суетливо поправляя выбившуюся из-под шапки прядь выкрашенных тогда в модный пепельный цвет непослушных волос.
— Сегодня вечером я буду ждать вас у себя по адресу… Алла обалдела от такой наглости. И адрес с испугу запомнила.
Андрей (это потом выяснилось, что он Андрей) не стал повторять улицу, номер дома и квартиры. Видел: запомнила. И был уверен: придет.
Она пришла, оставив мальчишек на Лену Турбину, тогда еще совсем девочку, только приехавшую в Полярный. Лене Алла не сказала, куда идет. Было стыдно. Сказала, что очень нужно — и все. А вот Вальке Воронцовой все выложила. Та ее, собственно, и поддержала. И советы всякие давала. И что надеть, они вместе выбирали.
Никаких слов Андрей почти не говорил. Но все, что он делал и как он это делал, было необыкновенно. Алла такого даже в фильмах не видела (скорее всего просто фильмов соответствующих тогда еще не смотрела).
Андрей был красив как бог. Молчалив как бог. И не допускал возражений, тоже как бог. Одним словом, Алла влюбилась как кошка. И, как кошка, была готова бежать к Андрею по первому его зову.
Уже и Саша приехал, а Алла бродила по дому с шальными глазами и тоскующим телом, не желая ни притворяться соскучившейся и любящей, ни давать каких-либо объяснений.
Через месяц Андрей уехал (их лодка была в ремонте), и Алла никогда его больше не увидела, так почти ничего про него и не узнав. А вот тело свое она теперь знала. Знала, как много ему надо. И еще знала, что и тело, и душа ее желают быть подвластны настоящему мужчине, немногословному, волевому, уверенному в себе, всегда достигающему своей цели. Вот в таких и влюблялась периодически, при этом все равно боясь потерять своего Сашу, Алла Петрова, роскошная крашеная блондинка с желто-зелеными глазами. И смысл жизни ее заключался одновременно и в семье, и в любви, которая никак не желала совпадать с любовью к мужу, а всегда существовала параллельно.
Что по этому поводу думал Саша? Много чего думал. Конечно, страдал. Конечно, ревновал. Но при этом никогда не пытался выяснить отношения, расставить точки над i и тому подобное. Смысла в этом не видел. Он принимал и любил Аллу такой, какой она была. Да, влюбчивая. Ну и что? Это пройдет со временем. Должно пройти. А менять что-то в своей жизни… Зачем? Он же видел и знал, что Алла, заполыхав, через какое-то время обычно успокаивается, снова становится близкой, родной, понятной.
Со стороны все выглядело, наверное, странно. Но глупо было бы оставить Аллу, которой он все равно всегда был нужен, оставить своих детей ради того, чтобы показать окружающим, что он не намерен больше терпеть… Чего не намерен терпеть? Измен? А кто знает, были ли они? Кто-то держал свечку? Ну, увлекается. Бывает. Потому что натура творческая. Поет, пишет музыку, ни один концерт в гарнизоне без нее не обходится. Звезда местного масштаба. Поэтому есть поклонники. Была бы бесталанной замухрышкой — никого бы не было. Вот и все.
Саша был по большому счету благодарен Алле за то, что она, такая интересная, такая умная (умудрилась с двумя детьми институт заочно окончить), такая яркая, всегда в центре гарнизонных событий, успевала следить за детьми и за домом. А Алла была благодарна мужу за то, что он — рядом, что он всегда пожалеет и всегда простит, хотя о том, за что именно он должен был Аллу прощать, они никогда не говорили.
9
Алла знала, что Гаврилин не позвонит. Ни за что не позвонит. Это порода такая. Вот ты рядом — значит, нужна. А нет — так нет. Это бабы-дуры мучаются-страдают, ждут малейшего знака внимания, сами готовые осыпать этими самыми знаками постоянно, готовые залюбить до смерти. А они, мужики-сволочи, не хотят, чтобы до смерти. Хотят — чтобы так, чуть-чуть. И только в тот самый момент, когда им надо. А в остальные моменты — нет, спасибо, не трогайте меня и не любите так сильно.
Конечно, Алла позвонила сама. Да, на службу позвонила. Не домой же. Ответил. Занятым голосом. Попросила перезвонить, когда освободится. Буркнул: «Добро». Позвонит, значит. Это у военно-морских начальников любимое слово: «добро».
Раз сказал «добро» — надо ждать. Никакого магазина теперь. Только дома: отдыхать по хозяйству.
«Отдыхая» сначала в стирке, потом — в мытье посуды, Алла думала, разумеется, не о белье и о кастрюлях-тарелках (чего о них думать: три да три), а о нем, о Гаврилине. С обидой думала. В минуты близости — и страстный, и нежный, хороший-хороший. Но времени у него на Аллу — только в постели (это, ясное дело, условное слово — «постель», где уж придется — там и «постель»). А ведь хочется и поговорить. Хочется все-все ему рассказать: о себе и о том, как он ей дорог и нужен, какой он красивый, умный, замечательный, как она о нем думает-вспоминает, как хочет его почаще видеть. А он ей такой возможности никак не дает. И сам почти ничего не говорит, и Алле не позволяет. Ускользает — и все.
Бедная Алла! Никак ей было не понять, что это для женщин физическая близость — путь к близости духовной, а для большинства особей противоположного пола — уже конечная цель. И ничего с этим не поделаешь. И страдать бедным женщинам вечно от недостатка внимания, нежности, заботы со стороны тех, кто так притягивает своей мужественностью, силой и умом. У тех, кто награжден всем этим в меньшей степени, больше соответственно в запасе и внимания, и нежности, и заботливости. Но вот их-то любить так бешено и страстно не получается. Несправедливо это, конечно. Несправедливо и неправильно. Но факт.
Алла все перемыла-перестирала, а звонка не дождалась. В общем-то обычное дело.
Да, не смог Гаврилин позвонить. Не до нее было сегодня: проверка с флота ожидалась, надо было подчиненных драть как Сидоровых коз, иначе результатов не добьешься. Правда, можно было бы вечером сообразить насчет встречи (Гаврилин знал, что Петров дежурит и Алла примчится куда угодно, лишь бы позвал), но зашел Зайченко, командир лодки, старинный друг. Принес «шило». Это святое.
Ну а потом нагрузившегося начштаба водитель отвез домой, где тот был встречен женой неласково, с перечислением всех его недостатков.
Дослушать до конца список своих прегрешений Гаврилин не смог: захрапел, едва коснувшись подушки.
Утром жена растолкала, кинула ему чистую кремовую рубашку с невыглаженной спиной. Он пробовал возмутиться. «Перебьешься, — сказала жена, — меньше по б… будешь шляться».
Грубая женщина, думал Гаврилин, но мать его детей. Не разводиться же. К тому же сам виноват, перебрал вчера, это точно.
На службу капитан первого ранга Гаврилин прибыл не в настроении. Выдал всем по полной программе и, закрывшись в кабинете, позвонил Алле.
— Может, в обед на Героев «Тумана» зайдешь? — спросил. — Дом три, квартира пятнадцать.
Ключи Гаврилину дал вчера Зайченко. Так что помнил он, то есть Гаврилин, об Алле. Помнил.
А вечером Алла с Леной отправились погулять. Погода была — чудо! И Лена чуть ли не насильно вывела Аллу на улицу.
Они отправились погулять и в очередной раз обговорить-обсудить текущую жизнь.
Жизнь у обеих была так себе, потому что ни та, ни другая никак не могла дождаться простого заветного слова «люблю», так нужного всем и всегда.
Гаврилин такого слова, как подозревала Алла, не знал вовсе, ну… в смысле… в общем, понятно.
А Буланкин, по предположениям Лены, приберегал его для какого-то особого случая.
Обе друг друга поддерживали-успокаивали, пытаясь на все лады объяснить мужскую психологию и разложить ее составляющие по полочкам. Теоретически все выходило красиво. Настоящие мужчины (Алла, поддакивая подруге, на самом деле думала: «Это Буланкин — настоящий?!» — а Лена соображала про Гаврилина: «Нет, опять Алка промахнулась…») презирают всякие лишние слова во-первых, во-вторых, главное для них — дело, а не бабьи юбки. Поэтому все нормально.
У Гаврилина на первом месте — служба, на втором — семья, на третьем — она, Алла. Как может быть иначе?
Так рассуждала Алла, свято верившая, что у Гаврилина она одна, и не подозревавшая, что третье место с нею делят еще две-три полярнинские красавицы. Лена про одну из них знала достоверно, из первых, как говорится, уст, про других слышала, но убеждала Аллу, которая тоже что-то такое слышала, что все это — сплетни. Видный мужик, большой начальник, все на него и вешаются. Но разве может кто-то сравниться с Аллой? Он и на концерты все ее ходит, и машину дает когда требуется, и вообще…
— Думаешь, нужна я ему? — с надеждой спрашивала Алла.
— Конечно, нужна, — убежденно отвечала Лена.
Убеждая-успокаивая Аллу, Лена нисколько в этот момент не кривила душой. Да, Гаврилин — бабник. Собственно, это ей известно еще и потому, что он и к Лене клинья одно время подбивал (о чем Алле она, разумеется, никогда не говорила), но Алку-то не любить невозможно. Она же одна такая! И отношения ее с Гаврилиным длятся уже долго. А если и поимел он кого-то между делом, ну что… натура…
Эти мысли про гаврилинскую натуру Лена, конечно, держала при себе.
Алла тоже держала при себе, что Буланкину она не верит. Вот не верит, и все! Если бы он Ленку любил, давно бы уже предложение сделал. Он же свободен! Вот если у Гаврилина семья, и у Аллы семья… вот они и не могут быть вместе. А Буланкина-то что держит, спрашивается? Нет, скользкий он тип. Дуры бабы все-таки, что Ленка, что Лариска Игнатьева. А Ленка уж давно бы замуж вышла. Были достойные мужики, были. Нет, все говорила, не то. А Буланкин — то!
Но эти мысли Аллы тоже были тайными. Не могла она подругу расстраивать-разочаровывать, поэтому также находила-выискивала признаки, подтверждающие буланкинскую любовь к Лене.
— Он же звонит, видишь? По пять раз в сутки. Значит, думает о тебе постоянно. А что ничего не предпринимает… Знаешь, Ленка, он… — Аллу осенило, — он боится!
И Алла, мы-то с вами знаем, была в этом права.
— Он боится, потому что ты для него слишком красивая, — вдохновенно развивала свою мысль Алла. — Он, между прочим, очень тяжело развод со своей Светланкой перенес, хотя сам был виноват. Очень тяжело, я тебе точно говорю. И снова мужику решиться на создание семьи… тем более с такой, как ты…
— С какой «такой»? — спрашивала удивленно Лена.
— С такой! Красивая — раз. Значит, могут увести. Умная — два. Все время напрягаться надо, чтобы соответствовать. А мужики этого, между прочим, не любят! Ну, что еще? Какой еще хозяйкой будешь, неизвестно. Тебе бы все книжки читать. А мужика кормить надо.
— Да ну тебя, Алка, чушь какую-то ты несешь! — недовольно морщилась Лена.
«Может, и несу, — думала Алла. — Но мне же надо объяснить как-то, почему твой Буланкин не мычит не телится».
Вот так, проговаривая то, что нужно, и сохраняя при себе все остальное, что могло бы расстроить-обидеть-огорчить, и гуляли Алла Петрова и Лена Турбина по зимнему Полярному.
Было морозно и тихо. Чистое глубокое небо светило всеми своими звездами, но их свет обещало затмить северное сияние, слабые сполохи которого начинали потихоньку тревожить спокойствие и определенность ясной полярной ночи.
— Смотри, смотри, — уговаривала Лена Аллу. — Сейчас такое будет!
Алла послушно закидывала голову вверх. Восхищалась. Но через минуту снова возвращалась к земному, то есть к Гаврилину. А Лена уже не могла говорить ни о ком и ни о чем. Ждала. Вот сейчас… Совсем немного и пока еще неуверенно мигающие отдельные вертикальные полоски на небе превратятся в мощные потоки белого и голубого света.
Видеть северное сияние Лене приходилось за восемь лет всего несколько раз. Ошибаются те, кто думает, что северяне избалованы картинами этого фантастического явления. Нет, не избалованы. И всегда ждут ясной морозной погоды в надежде, что вот сегодня наконец все там, в атмосфере, сложится нужным образом — и небо потрясающе преобразится от быстро меняющегося таинственного свечения. И картину эту, всегда единственную в своем роде, нельзя будет передать ни словами, ни красками, ни музыкой.
Но именно музыкальные ассоциации вызывало то, что творилось на небе в тот момент, когда Лена с Аллой, нагулявшись-надышавшись, стояли уже у подъезда и не могли в него зайти, замерев-замолчав, забыв и о любви, и о Гаврилине с Буланкиным, и друг о друге, и о себе самих.
В такт неслышимой небесной музыке со сложными переходами и постоянно меняющимся темпом огромные столбы света то вытягивались, то становились короче, то попеременно вбирали в себя свет соседних вертикалей. Эта грандиозная картина захватила полнеба, и не было видно ни звезд, ни самого неба — а только эти живые, то затухающие, то разгорающиеся с новой силой, объемные сияющие полосы.
Поражали не столько красота и гармония происходящее го, сколько его космический размах и непостижимость.
Когда небо отполыхало (а длилось это, увы, недолго), подруги отправились домой. Потрясенные и опустошенные. Говорить о чем-либо после увиденного (и об этом в том числе) было совершенно невозможно.
10
Лене очень захотелось увидеть Юру в самый неподходящий момент — тогда, когда ее обычно вызывал к себе начальник завода. И она, заглянув к Тамаре, сказала:
— Тамарочка, миленькая, меня не будет полчасика, я в редакцию, нужно полистать подшивку за прошлый месяц. Как думаешь, шеф не вызовет пока?
— Иди, иди. — Секретарша командира, казалось, была настроена благодушно. — У него там Сазонова.
Произнося эту фамилию, Тамара моментально сменила лицо с улыбкой на лицо с брезгливой гримасой. Она страшно не любила главного экономиста завода Татьяну Юрьевну Сазонову. Между тем Сазонова была умной и пробивной теткой. Правда, не очень чистой на руку. Но кто в России не ворует и не берет взяток? Правильно. Только тот, кому украсть нечего и кому брать не за что.
Но Тамара не любила Сазонову вовсе не потому, что была непримирима по отношению к расхитителям уже непонятно чьей собственности, а скорее всего потому, что Сазонова в свои почти пятьдесят и со своими необъятными килограммами умудрялась иметь молодых красивых любовников. Тамара фыркала по этому поводу: конечно, такие деньжищи! И была, заметим, не права. Татьяна Юрьевна была по-настоящему привлекательной и сексапильной — и деньги тут вовсе ни при чем.
— Не меньше часа просидит, — продолжала Тамара, не убирая с лица свою несправедливую гримасу. — Такой нагоняй с флота получили…
Последние слова Тамара произнесла с совершенно непонятной интонацией, то ли сокрушаясь, то ли, напротив, восхищаясь, что хоть там, наверху, все видят. И продолжила уже без всяких интонаций:
— Она к нему со всеми бумагами только что зашла. Так что не вызовет пока, не переживай.
Лена набрала номер Буланкина.
— Юрий Петрович, можно один вопрос?
— Извините, очень занят, перезвоните минут через десять, — прозвучало в ответ.
Отведенные ей на размышления десять минут Лена раздумывала: звонить и идти или не звонить и не идти? Потом твердо решила: никуда она не пойдет. Ни сейчас. Ни завтра. Никогда. Вот так.
Как видите, роман Лены Турбиной и Юрия Петровича Буланкина по-прежнему развивался нелегко и непросто.
Сразу после того, как Лена все окончательно решила, раздался звонок, и она услышала: «Девочка моя, ну где же ты?»
Когда Лена зашла наконец в кабинет Буланкина, он, выскочив из-за стола, кинулся к ней:
— Ну почему, почему ты так долго шла?
— А в чем, собственно, дело? — Лена удивленно вскинула брови. — Что за срочность?
— Через полтора часа должен быть в Североморске. Катер — через двадцать минут. Сейчас будет машина. А тебя все нет и нет. И я мог бы тебя до завтра не увидеть. Представляешь? — Юра, усадив Лену в кресло и присев перед ней на корточки, перебирал ее пальцы, заглядывал в глаза.
— Между прочим, — сказала Лена медленно, — после Североморска можно было бы ко мне зайти.
— Да нет. Поздно наверняка уже будет. — Юра выскользнул. Как всегда. Но продолжал преданно смотреть в глаза.
В кабинет, постучавшись, заглянул водитель. Буланкин даже не дернулся, чтобы встать, отстраниться от Лены. Продолжая смотреть ей в глаза, он сказал водителю, который вроде бы и подался немного назад, но дверь не закрыл: «Сейчас, жди!»
Лена встала. Буланкин, плотно прикрыв дверь, вернулся к ней и, взяв ее лицо в свои руки, осторожно поцеловал глаза, нос, щеки. А потом остановился на губах. Это было долго, мучительно, сладко.
Да, таковы все служебные романы. Прямо на рабочем месте и в рабочее время — объяснения-выяснения, поцелуи-объятия и т.д. и т.п. «Ни стыда ни совести», — вздыхает только какая-нибудь уборщица тетя Маша.
А какие уж тут стыд и совесть — если любовь? Или хотя бы страсть? Или просто влечение?
У Лены с Юрой было все: и влечение, и страсть, и любовь. Они оба в этом уже нисколько не сомневались. Но Буланкин по-прежнему не предпринимал никаких решительных шагов. Он думал. Все о том же. Вы уже, наверное, устали от этого. Я тоже.
Итак, Буланкин думал. Его визиты к Лене домой можно было пересчитать по пальцам и помнить по минутам или даже секундам — что Лена и делала. Стоически запрещая себе частое общение с любимой женщиной, Буланкин никак ей это не объяснял. Звонил: рано утром, днем, вечером. Заходил в радиоузел. Целовал. Говорил что-то нежное. И, видя в Лениных глазах вопрос: «когда?», глазами же и отвечал: «скоро, потерпи».
Вот такой уж был этот Буланкин. Йог, одно слово. Хоть и в прошлом.
Лена не понимала, зачем так нужно изводить и себя, и ее, но никаких выяснений не устраивала: делала вид, что вполне принимает естественный ход событий. Хотя какой уж там «естественный»?
— Противоестественный, — утверждала, выделяя первую часть слова, вообще ничего не понимающая Алла. Хотя самой себе иногда объясняла все очень просто: Лене в буланкинском списке отводится всего лишь одно из мест. Зачем девке голову морочит, спрашивается?
Но Алла была не права. Лена занимала в душе Юры главное и одно-единственное место. И оставалось только — решиться. А вот это было трудно. И этот путь нужно было пройти. Пройти в размышлениях и страданиях. Хотя сколько же можно было еще размышлять?!
А Буланкин все рассуждал-обдумывал: где гарантия, что пройдет время и он так же, как сейчас, будет любить Лену? И вообще любовь — это слишком мало. Это ненадежно. Это не то. Нужно было найти что-то более весомое, что-то более определенное для того, чтобы решить наконец проблему.
Пока только смутно, но все-таки очень настойчиво вырисовывалось: это его женщина. Это та женщина, с которой он, Юра Буланкин, сможет жить всегда. Потому что она понимает этот мир так же, как он. Потому что она смеется тогда, когда смешно ему. Потому что плачет тогда, когда, не будь он мужчиной, он плакал бы тоже. Это его женщина. И никому другому достаться она не должна. Пожалуй, эта охотничья мысль заводила его больше всего. И именно в те минуты, когда она пронзала его, он был готов окончательно объясниться с Леной. Но она же, эта мысль, почти всегда и сразу плавно перетекала в другую. А что, если сама Лена со временем разлюбит его? Второй развод он точно не переживет. Вероятно, именно инстинкт самосохранения крепко держал Юру в минуты, когда ему хотелось сказать Лене те самые слова, которые начали бы отсчет его новой жизни.
11
О февраль! На Севере он особенно хорош. Потому что солнце, натосковавшееся за дальними долами, за синими горами, победив долгую полярную ночь, устраивает такой праздник света и радости, какой никогда не снился несеверянам.
Конечно, в начале февраля солнце выкатывается на небо ненадолго и до полного его царствования еще далеко, но победный свет его, тысячекратно отраженный снегами, которые не собираются таять до самого лета, так неистово-ярок, что кажется, будто настоящее солнце только здесь, на Севере, и можно увидеть.
Лена обожала (да, другого слова она найти не могла) северное солнце. В феврале оно как раз зависало над сопками в обеденный перерыв, и можно было по пути домой подставлять под его лучи лицо, которое уже через несколько дней схватывалось легким загаром.
В солнечные дни Лена превращала весь обеденный перерыв в прогулку, причем предпочитала бродить по городу одна. Ей было жалко тратить время на пустопорожние разговоры с кем бы то ни было. Исключение, конечно, мог бы составить только Юра.
Но прогуляться с Буланкиным по Полярному Лене пришлось раза три — не больше. Почему-то не получилось больше. Поэтому Лена, задумчиво шагая под синим небом, февральским солнцем, обдуваемая сырым быстрым ветром, чередовала внутреннее молчание (очень полезная вещь, надо сказать) с длинными, опять же внутренними диалогами, которые она придумывала на ходу. Собеседником, разумеется, виделся Буланкин. Только он мог периодически изрекать что-нибудь этакое — виртуозное. И в мыслях Лене удавалось ему соответствовать — а вот наяву, между прочим, так не получалось. Лене всегда казалось, что она явно не дотягивает до интеллекта и остроумия Юры. Вероятно, она была права. Ведь, как известно, даже просто умный мужчина все равно умнее любой очень-очень умной женщины. Лена всегда это почему-то чувствовала, всегда понимала. Это обожествление мужчины, наверное, хранили гены, доставшиеся ей от грузинской бабушки.
Но напрасно Лена комплексовала (правда, не слишком сильно) на фоне Буланкина. Для Юрия Петровича с тех пор, как он познакомился с Еленой Турбиной, не существовало более интересного собеседника. Он ей об этом не раз говорил. Она верила, конечно. Но не очень и не всегда. Впрочем, какая разница, какой собеседницей была Лена!
Она могла бы просто молчать. И он бы — тоже. И вот так, молча, они бы и понимали друг друга.
Прогулки Лены по городу сопровождались не только воображаемыми разговорами с Юрой, но и часто — приходящими, как всегда, почти ниоткуда рифмованными строчками, которые Лена, дойдя до работы или до дома, быстро, боясь, что забудет, записывала.
Это было новое и странное состояние, которое впервые, как вы помните, посетило ее пару месяцев назад в поезде, когда она возвращалась из Рязани. И вот теперь оно, это состояние, приходило почти регулярно. Пожалуй, это даже мешало. Отвлекало от главного — публицистики.
Оттачивая перо в своих статьях, Лена любила вертеть простую фразу и так и этак до тех пор, пока она не звучала должным образом; догадывалась, что не все читатели ее понимают, но была уверена, что это только их проблемы — а она, Лена Турбина, прекрасно владеет языком, стилем и еще чем-то таким, чему слово еще не придумали, но что вполне осязаемо и что заставляет многих людей откликаться практически на любой, даже самый маленький, ее материал. А теперь, когда внутри вдруг начинал призывно звучать ритм и когда он, обрастая словами, превращался в строчки, которые не всегда складывались в стихи и не давали покоя, Лена почувствовала вдруг свою беспомощность и здесь, и там, где раньше была ее ниша, занятая, казалось, так прочно.
Почва уплывала из-под ног, Лену куда-то несло. Куда, непонятно. И зачем — тоже непонятно. А главной непонятностью был сам процесс — иногда легкий, иногда невыносимый, но всегда — необъяснимый и волнующий. Ей вспоминались школьные уроки литературы: «Поэт хотел сказать, что…» Смешно. Он сказал то, что услышал. И так, как услышал. Вот и все. Правда, услышанное, конечно, диктуется его сутью, мироощущением — только едва ли все это от него зависит. Он может только в силу своей общей культуры и в силу владения словом понять, стоит ли это отдавать людям.
Сегодня, когда солнце не сумело пробиться сквозь свинцово-тяжелые снеговые тучи и Лена шла домой на обед быстрее обычного, к ней привязалась неизвестно откуда взявшаяся строчка: «Полусон обнаженных берез…» От нее было уже не отделаться. Рифма — ну, «слез», наверное. Жуткая банальность. Но она же не Маяковский.
Кстати, откуда взялись березы? Где они в Полярном? Только — карликовые, которые таким красивым рязанско-есенинским словом «березы» и назвать-то невозможно. Значит, оттуда — из Рязани — и взялись.
Полусон обнаженных берез… Это тоже — в мой старый альбом. Потемневшие ветки — от слез, Черной тушью на голубом.
Черной тушью — и твой силуэт, Затерявшийся вдалеке. И судьбы короткое «нет» Тонкой линией на руке.
Как смириться с тем, что дано? Я захлопну старый альбом. Это было? Было. Давно. Черной тушью на голубом.
Вот такое получилось стихотворение к тому моменту, когда Лена поднялась пешком (лифт, как всегда, не работал) на свой девятый этаж. Сразу же все записала. И стала думать над тем, что получилось. Черный силуэт — это Олег, понятно. Но почему Олег? Ведь последнее время она о нем почти не вспоминала. И все муки-страдания ее были связаны только с железобетонным Буланкиным, который все ходил вокруг да около и никак не мог сказать главного, нужна она ему или нет.
И какое это время года — весна или осень? Все было непонятно. Хотя… Набросок черной тушью это, ясное дело, что-то японское. У Лены на полке — сборник японских трехстиший, и в нем — удивительные рисунки, выполненные черной тушью на розовом фоне. А у нее — черной тушью на голубом. Еще… Где-то еще встречалось что-то такое… Вот. «И словно тушью нарисован в альбоме старом Булонский лес». Это у Ахматовой. Значит, старый альбом — оттуда? Но как же так? Ведь Лена сейчас только вспомнила про Ахматову, когда начала думать, почему в ее воображении появилась черная тушь. Сознательно никакой картины ей изначально не виделось. Была первая строчка, был ритм — а дальше получилось то, что получилось.
Пусть будет, решила Лена. И вечером, когда Юра позвонил, прочитала ему про березы. Он одобрил.
На следующий день после обеденного перерыва Лена читала Буланкину по телефону из своего радиоузла уже новые строчки:
Я заблудилась в синеве, что стала выше, Синей и ближе, чем в картине Грабаря. И знаю я, что ты из дома вышел И пробираешься по лужам февраля. Спешишь ко мне, чтоб рассказать о главном, При этом все смешав и рассмешив. И будет так легко и так забавно В мечтах менять гроши на барыши. Но буду слушать только то, что правда. Ты каламбуров мне не каламбурь. Мое сегодня мне важней, чем завтра. Грабарь, февраль, березы и лазурь.Это стихотворение, уже более близкое к происходящему, Буланкин подверг суровому анализу, сказав, что луж в феврале на Севере не бывает, во-первых; «каламбуров не каламбурь» — тавтология, во-вторых (а то Лена без него этого не знала!); и, в-третьих, не все знают, кто такой Грабарь.
— Ну ты-то знаешь, кто такой Грабарь? — поинтересовалась Лена.
— Я-то знаю, — ответил Юра. — А народ?
— А народ, между прочим, писал в школе сочинение по его картине. «Февральская лазурь» называется, — отвечала Лена.
— Думаешь, помнят? — засомневался Юра.
— Если бы ты был рядом, я бы тебя укусила. И очень больно, — сказала Лена очень серьезно.
— Так я сейчас приду?! — неожиданно обрадовался Буланкин.
Они целовались в радиоузле до одурения. Пока не зазвонил телефон. Тамара сурово напомнила:
— Лен, ты забыла, тебе к командиру в пятнадцать тридцать?
— Иду-иду, — отозвалась Лена, выскальзывая из Юриных рук и кидаясь к зеркалу красить губы. Вид у нее был — сами понимаете…
Тамара отреагировала моментально:
— Ну, Турбина, ты даешь!
— Что ты имеешь в виду? — Лена смерила ее, сидевшую за столом, от макушки до разложенной по столу груди, холодным и строгим взглядом.
— Да нет, нет, что ты, я так, пошутила, — растерялась, засуетилась и засомневалась во всем Тамара. — Иди быстрей. А то уже два раза спрашивал.
Волков тоже заметил пылающие Ленины щеки.
— С вами все в порядке, Елена Станиславовна?
— Да-да. Просто из цеха шла быстро, боялась опоздать.
— На пять минут все-таки опоздала, — заметил командир, но не сердито заметил, а так, как бы в шутку.
— Простите, ради Бога, Николай Александрович. Исправлюсь.
— Да ладно-ладно, садись. Дела у нас, значит, такие…
12
Набрав номер Буланкина и услышав его голос, Лена без всяких предисловий сообщила:
— Между прочим, завтра День святого Валентина, День влюбленных.
Юре нравилось, когда Лена по телефону вот так, без всякого «здрасте», выдавала что-нибудь этакое. Правда, он не всегда находил быстрый и остроумный ответ, поэтому чаще всего довольно хмыкал в трубку и отвечал: «Привет». Но к сегодняшнему дню он подготовился. Знал, что Лена не выдержит и обязательно напомнит ему про день влюбленных праздник, который неожиданно прибило к нашим берегам стихийной волной перестройки. Но поскольку еще не все знали про католического священника Валентина, Лена наверняка хотела просветить на этот счет Буланкина. А вот и не надо было его просвещать. Он все сам знал и все рассказал. Но пошел еще дальше, сообщив, что в православном мире днем любви считают восьмое июля — день памяти святых Петра и Февронии, которые жили долго, счастливо и умерли в один день.
— Я бы тоже так хотела, — сказала Лена. И тут же вспомнила, что восьмого июля отмечал свой второй день рождения Олег. Но это другое. Об этом сейчас думать не надо.
— Как? — спросил Юра.
— Умереть в один день. С тобой, — ответила Лена и быстро положила трубку. Она боялась, что Юра не ответит, а если и ответит, то это будет совсем не тот ответ, которого она ждала.
Вообще-то, заметим, она вела себя порой очень глупо, совершенно по-детски. Сама это понимала и постоянно занималась самобичеванием. Только в результате ничего не менялось.
Итак, Лена боялась, что и день влюбленных ничего не изменит в ее жизни. И вместе с тем именно на четырнадцатое февраля она возлагала большие надежды.
Мягкие лапы сна еще не отпускали, еще пытались удержать Лену в своих объятиях, нежных и крепких одновременно, но сознание ее уже включилось: пора вставать. Нужно было опередить будильник, нужно было быстрее хлопнуть его по макушке, чтобы он не успел противно и настойчиво заверещать.
Но будильник успел: заверещал. Как и ожидалось, противно и настойчиво. Поединок был проигран. День начинался плохо. Значит, закончится хорошо, попыталась успокоить себя Лена. Так ведь часто бывает: все наоборот.
Но наоборот не получилось.
Лена выпустила в эфир утренние новости, поздравила всех с Днем святого Валентина, сообщив, кстати, что в православном мире днем любви считают восьмое июля — день памяти святых Петра и Февронии, которые «жили долго, счастливо и умерли в один день». В заключение Лена пожелала всем любви, единственной и взаимной, — и начала ждать звонка Буланкина.
Звонка не было. Ни до обеда. Ни после.
Лена, разумеется, не выдержала и позвонила сама. Никто не ответил. Лена позвонила в редакцию Оксане и, поболтав с ней о том о сем, поинтересовалась между прочим, не видела ли та Буланкина. Нет, Оксана не видела его. И Званцева говорила (самой ее в кабинете не было, поэтому Оксана позволила себе упомянуть о Галине), что Буланкина нигде не могут найти, и ужасно возмущалась.
Холодок смутной тревоги сначала слегка коснулся кончиков пальцев, потом, окрепнув, охватил все тело.
Лену уже колотило от предчувствия какой-то неведомой, но очень страшной беды, когда она набрала приемную:
— Тамарочка, мне очень нужен Буланкин. Ты не в курсе, куда он пропал?
— Не будет его сегодня! — врезала «этой Турбиной» Тамара, которую только что отчитал Волков. Как девчонку отчитал.
Все время сбиваясь, Лена долго не могла набрать номер квартиры Буланкина. Ну вот наконец. Долгие гудки. Никто не подходит. Сердце уже выпрыгивало из груди — и вдруг трубку сняли. Лена в изнеможении опустилась на стул.
— Я слушаю. — Чужой, совершенно чужой голос.
— Простите, а Юрия Петровича можно? — Лена попыталась спросить ровно и четко, но в конце фразы голос не поддался ей, задрожал.
— Я слушаю, — очень тяжело и очень медленно повторил Буланкин.
— Юра, Юрочка! Что с тобой? — закричала Лена.
— Не надо. Ничего не надо, — ответил Юра.
И сразу раздались безжалостные короткие гудки.
«Что это? Что это было?» — металось в голове. Пьяный? Нет, не похоже. У него кто-то умер. Ну конечно. Конечно! Только от горя, очень большого горя, голос может стать таким незнакомым и чужим. Но это ничего! Это ничего. Она, Лена, будет рядом с ним. Она поможет ему пережить любое несчастье. Кто же еще ему поможет? Кто?
Лена бежала к дому Юры, забыв надеть шапку, забыв застегнуть дубленку. Ей не было холодно. Ей нужно было успеть. Успеть сказать ему, как она его любит. Успеть сказать, что она всегда будет рядом с ним.
Лена не знала номера квартиры, она знала только Юрино окно. Но это было легко — отыскать. Третий этаж, налево. Квартира девять.
Звонок почему-то не работал. Лена постучала. Сначала очень осторожно, помня, что за дверью несчастье. Потом — погромче. Никто не открывал.
— Юра, открой, — просила Лена шепотом, — открой, пожалуйста.
Но за дверью было тихо. Лена прислонилась лбом к коричневой прохладной поверхности и решила ждать. Она решила, что не уйдет отсюда ни за что. Не уйдет, пока не увидит Юру. И он не сможет ее прогнать.
Лена стояла так очень долго. Несколько раз приоткрывалась и захлопывалась дверь квартиры напротив. Кто-то проходил мимо: то вверх, то вниз. Больше — вверх: люди уже возвращались с работы и со службы. Кто-то спросил: «Вы кого-то ждете?» Лена бессмысленно кивнула в ответ на этот бессмысленный вопрос. Иногда она снова начинала тихонько постукивать в дверь — никто не откликался.
Из оживших квартир подъезда тянуло жареной картошкой, доносились звуки жизни: телевизор, музыка, переругивания, смех. Только третий этаж будто вымер: никто не пришел и не вышел из всех четырех квартир, в том числе и из той, дверь которой приоткрывалась и из которой напряженно следили за Леной в глазок.
Дверь подъезда в очередной раз хлопнула — Лена встрепенулась. Но это был не Юра. Это почему-то была Алла.
— Господи, я так и знала, что ты здесь, — застонала она и сгребла Лену в охапку.
— Алла, Аллочка, что случилось? Где Юра? Что мне делать? — быстро заговорила-заспрашивала Лена. — Алла, что делать? Что с ним? Ты знаешь?
— Знаю, — махнула рукой Алла. И заплакала, так ничего и не говоря.
Они стояли, обнявшись. Плакали. И Лена все еще не знала — о чем. А Алла знала.
Когда они вышли из подъезда и медленно побрели домой вдоль заснеженного озера, Алла, старательно подбирая слова и делая огромные паузы, начала рассказывать.
Лариса Игнатьева… Ее больше нет. Это случилось ночью. В четыре часа утра, точнее.
В четыре часа утра Лена спала. Спала и видела какой-то хороший сон. Она не помнила, какой, а только помнила, как не хотелось уходить оттуда, где было очень спокойно и очень красиво и где она чувствовала себя абсолютно счастливой. Значит, именно в этот самый момент, когда Лена была во сне так счастлива, Лариса… Именно в этот момент… Зачем же она это сделала? Зачем?! Ведь теперь… Теперь…
Лена, как это ни ужасно, думала о себе. А Алла рассказывала. Рассказывала, что муж Ларисы обнаружил ее в ванне, заполненной уже холодной водой, только в семь. Это уже в морге сказали, что смерть наступила примерно часа в четыре. Алла подробно рассказывала, как Костя позвонил ей, что именно он произнес, как попросил, чтобы она забрала пока к себе восьмилетнего Сережку, который пока еще ничего не знает. Косте просто чудом удалось сделать все так, чтобы сын ничего не видел. Алла сейчас оставила его со своими.
— Представляешь, мне даже поплакать дома нельзя, — всхлипывала она и качала сокрушенно головой.
— А Юра? Юра где? — спросила Лена, вытирая собственные слезы и этим же платком — слезы Аллы.
— У Кости, я думаю. Они вместе все делали. В морг отвозили. А завтра — в Куйбышев.
На следующий день Лена узнала от Аллы, что Буланкин, взяв в счет отпуска десять дней, уехал вместе с Костей Игнатьевым и его сыном Сережей. Уехал хоронить Ларису. Лене он не позвонил.
Десяти дней хватило, чтобы уволиться с работы и распродать по дешевке мебель.
Двадцать шестого февраля Лена приехала в свой город, который встретил ее совсем по-весеннему: бесприютным ветром, слезами дождя и лужами слез.
ВЕСНА
С ветки на ветку
Тихо сбегают капли…
Дождик весенний.
Басе1
Весна никогда не приходит постепенно. Она мгновенно налетает свежим, влажным ветром, застает врасплох появившимися за день лужами и падает на головы зазевавшихся прохожих подтаявшими сосульками.
Лена любила именно эту весну, самое ее начало, которое нормальных людей только расстраивает — расстраивает слякотью, серым небом и беспощадным ветром. И едва ли кто-нибудь мог бы разделить восторги Лены по поводу такой погоды. Поэтому она восторгалась тихо, про себя. Разве можно было объяснить ну, например, сухопутному Ольгунчику, что так же, как пахнет здесь воздух ранней-ранней, некрасивой весной, всегда пахнет ветер на берегу Кольского залива?
А люди ругательски ругали и погоду, и природу. Во-первых, изматывающий тело и душу ветер. Во-вторых, скользко так, что хоть из дома не выходи. И главное, ничего не понятно. С утра вроде зима: холод, снег. А уже к середине дня — лужи непролазные, которые в ночь замерзнут, и снова ни шагу вперед без опасения, что попадешь не на работу или в магазин, а прямиком угодишь с каким-нибудь переломом или сотрясением в БСП, то есть больницу скорой помощи.
— Ну ты подумай, никто лед не долбит, из подъезда просто выйти страшно, — услышала Лена сначала во сне, а потом несколько раз то же самое, но с разными интонациями (возмущенного удивления, благородного страдания, сдержанного негодования) — наяву.
Так Вера Петровна в последние дни будила дочь, возвращаясь в совершенно взвинченном состоянии с бидоном с улицы, куда вызывал ее каждое утро призывно-протяжный и невыносимо тоскливый крик: «Молоко-о-о!»
Лена, стараясь не обращать внимания на гневное противоправительственное выступление, неизбежно родившееся из первой маминой фразы, мучительно соображала, нельзя ли еще поваляться в постели.
Вставать ужасно не хотелось. А хотелось, не думая ни о чем, долго-долго лежать и рассматривать свою комнату, в которую уже давно пробрался бледно-синий утренний свет.
Лена любила свою комнату: с обоями непонятного рисунка и цвета (которые, наверное, давным-давно надо было бы поменять, но даже мысль о ремонте, ломающем привычный уклад жизни, была совершенно невыносима), с несколькими небольшими картинами одного известного мурманского художника (эти пейзажи с осенними и зимними сопками и серой гладью Кольского залива в свое время достались Лене случайно и обошлись ей очень недорого), с явно перегруженными книжными полками и огромным белым медведем по имени Саша, названным так, понятное дело, в честь брата, который и подарил его Лене лет этак двадцать назад (поэтому по-настоящему белым он давно уже не был, а только считался — по привычке).
Лена любила свою комнату. В ней она чувствовала себя комфортно и спокойно. В ней она, громко включив музыку (любую!), спасалась от раздраженных монологов мамы.
Для Веры Петровны все вокруг было плохо. Вот уже многие-многие годы. Наверное, с того самого момента, как похоронила она своего мужа, Лениного отца, за которым почти двадцать пять лет была как за каменной стеной и с уходом которого ушло из ее жизни чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне. Хотя дело скорее всего было не только в отсутствии родного и надежного плеча, а в самом времени, выбившем у большинства пожилых людей почву из-под ног, пугавшем своей жестокостью, равнодушием и неопределенностью.
Итак, все вокруг было для Веры Петровны плохо. Все. И возвращение дочери с Севера восемь лет назад ничего не изменило. А может, и усугубило.
Нельзя сказать, чтобы было уж слишком ужасно. Нет. Но ссоры случались. И душевного тепла Лена и Вера Петровна по-прежнему друг другу недодавали. И обе очень страдали от этого.
Да, прошло целых восемь лет с того момента, как Лена бесславно вернулась в свой город. Ни кола ни двора, ни мужа ни детей. Так однажды, не помня себя, крикнула мама в ответ на какие-то Ленины слова, которые ее, Веру Петровну, очень обидели. И нужно было обидеть в ответ. У Веры Петровны это получилось. Было больно. Очень больно. Обеим — и матери, и дочери.
Что случилось с Леной Турбиной за прошедшие восемь лет? В общем-то ничего особенного и не случилось. Стихи писала. Удалось даже книжечку маленькую издать. А работала — в типографии корректором. Да-да, всего лишь корректором. Я расскажу при случае, почему так вышло. А сейчас, думаю, вас больше всего интересует другое. Хотя вы и так уже поняли, что замуж Лена не вышла. Не вышла, несмотря на то что несколько индивидуумов, желающих осчастливить ее, находилось. Но это они думали, что — «осчастливить», а Лена думала по-другому.
Не было среди этих претендентов похожих ни на Олега, ни на Буланкина. Лена, конечно, понимала, что это неправильно — искать похожих. И к непохожести была готова. Но… Все равно не могла она примириться с недостаточностью ума. Или, тем более, с недостаточностью души. И то и другое должно было быть в порядке. Как у Олега. Или как у Буланкина. А иначе — никак.
И Лена продолжала жить с мамой. Хотя это как раз и могло стать главной причиной того, чтобы выйти за кого угодно. Но не стало. Причин не связывать свою судьбу с очередным кандидатом в мужья почему-то всегда оказывалось больше. А шансов не остаться одной — все меньше. Меньше с каждым годом. Так по привычке считали окружающие, хотя прекрасно видели и понимали, что к Лене это никак не может относиться, ведь она почему-то совершенно не менялась, а если и менялась, то только в лучшую сторону. Это действительно было странно. И могло объясняться, наверное, только тем, что так судьба компенсировала ее потери — сохранением молодости и красоты.
Лена Турбина и внутренне почти не изменилась, оставаясь по-прежнему в чем-то максималисткой, в чем-то — непротивленкой. И ее похожие на больших задумчивых рыбок глаза цвета кофе с молоком продолжали смотреть на мир доверчиво и внимательно.
Но я сказала, «почти не изменилась».
А с вами случалось такое? Просыпаешься среди ночи, когда еще спать да спать. Просыпаешься от тоски, которая сначала накрыла тебя во сне, а потом вытащила в явь, чтобы окончательно добить, измучить, расплющить и чтобы уже — никакого сна. А только она, эта черная тоска, гораздо чернее ночи, потому что ночь хоть чем-то подсвечивается: луной, звездами или снегом. Или случайно уцелевшим фонарем, или одиноко горящим окошком в доме напротив, или фарами проехавшей машины. А тоска… Тоска не подсвечивается ничем. Она черна, как квадрат Малевича, и так же, как этот квадрат, мучит своей густой беспросветностью, молчаливой тупостью и необъяснимой непререкаемой властью. Она поглощает тебя без остатка нет надежды освободиться, вырваться, вернуться в ночь, которая, наверное, уже совсем посветлела, стала ближе, добрее и вот-вот уступит место спасительному рассвету.
Но вернуться не получается. И рассвет — без тебя, и день без тебя.
Если с вами такого не случалось, вы — счастливые люди. А вот Лена наша подобное испытывала. Тоска была от всего, что происходило вокруг, — от всеобщей нищеты, от Чечни, от подростков на улице с тупо-агрессивными физиономиями, от чьего-то вольно или невольно взятого, но явного курса (да, и такими категориями мыслила иногда Лена) на дебилизацию общества… А может, тоска была от одиночества? И от него, конечно, тоже.
Лена вставала, шла на работу, что-то делала, что-то кому-то отвечала… И только мама и Ольгунчик знали и чувствовали, что Лена — с Малевичем, в его неразумном глухом квадрате. И что надо подождать день, два, три — пока чернота отпустит ее. Отпустит сама, без чужого вмешательства.
В один из таких дней (это случилось еще года три назад) Ольгунчик пришла за Леной в типографию, молча взяла ее за руку и куда-то повела. Лена не спросила куда. Пусть ведет. Какая разница?
— Вот, Евгений Иванович, знакомьтесь, — сказала Ольгунчик, когда привела подругу туда, куда хотела, — это Елена Турбина. Поэтесса, можно сказать. Она вам сейчас подарит свою книжку.
И Ольгунчик, порывшись в своей огромной бесформенной сумке, достала из нее сборник (у нее всегда было в запасе несколько экземпляров) и сунула Лене в руки. Лена послушно взяла его и послушно протянула Денисову.
Вы, конечно, помните, что о Денисове Лена слышала от Ольгунчика очень часто. Наверное, поэтому, когда она, протягивая ему книгу, посмотрела в его внимательные глаза, он показался ей таким близким и понятным, как будто она знала его всю свою настоящую, а может, и предшествующую жизнь.
Евгений Иванович смотрел на Лену не только внимательно — он смотрел на нее с тихим восторгом. Как Буланкин — когда-то очень давно.
— Какой светлый образ… Удивительно! Оленька, это та самая Лена?
— Та самая, — подтвердила Ольгунчик, толкая Лену в бок и громко шепча ей в ухо: «Я говорила! Говорила, что ты ему понравишься!»
Лена не помнила ничего подобного, но головой на всякий случай покивала.
Хотя Денисов и светился радушием, Лена тогда сразу почувствовала, что они, видимо, зашли не вовремя, что у Евгения Ивановича есть какие-то свои дела.
О, дела у Денисова были всегда! Их всегда у него было просто по горло. И он всегда откровенно страдал, когда его спрашивали: «Вы заняты?» Более нелепого вопроса по отношению к нему нельзя было придумать. Он был занят, повторяю, всегда! А приходилось, чтобы, не дай Бог, не обидеть очередного посетителя, говорить: «Да нет, что вы, проходите, пожалуйста, рад вас видеть…»
Так вот. Почувствовав, что Денисову некогда, и зная, что Ольгунчик, никуда не торопясь, готова была просидеть здесь, в мастерской Евгения Ивановича, и час, и два, и три, Лена сказала:
— Евгений Иванович, очень рада была с вами познакомиться. Но мы с Олей заглянули к вам буквально на минутку. Я буду вам признательна, если вы почитаете мои стихи. До свидания?
— До свидания, — растерянно ответил Денисов. И тут же добавил с необыкновенным энтузиазмом: — Я обязательно, обязательно прочитаю.
— Ну и куда теперь? — спросила Ольгунчик, когда они вышли на улицу.
Она сердилась на Лену. Конечно, то была никакая — берите, ведите хоть куда. А то вдруг — пожалуйста, взяла инициативу в свои руки. Кто ее просил, спрашивается? Посидели бы, поболтали. Папочка (так, если вы помните, Ольгунчик называла Денисова) выдал бы что-нибудь из своих баек. Это он только делает вид, что ему так некогда. А на самом деле всегда бывает доволен, когда есть публика, когда есть кому порассказывать свои истории: про город, про улицы, про людей. Рассказчик он — потрясающий. А уж более благодарных слушательниц, чем она, Ольгунчик, и ее подруга Лена Турбина, хоть она сейчас и в депрессии, ему не сыскать. Вечно Ленка все испортит!
Они шли по улице в неизвестном направлении, и Ольгунчик дулась на Лену, а Лена, не замечая, думала о том, прочитает Денисов ее стихи или нет.
Это было, повторяю, три года назад.
Надо сказать, что после первой же встречи у Лены с Денисовым завязались совершенно особые отношения. Ее к нему тянуло неудержимо и постоянно. И, удивительное дело, для нее у Денисова всегда находилось время. Правда, Лена старалась этим не злоупотреблять. Забегала иногда после работы на полчасика.
Когда дружбе этой было еще не больше двух недель, им уже казалось, что они знают друг друга — вечность. Хотя о внешних событиях своей жизни, как это ни странно, ни Лена Евгению Ивановичу, ни он ей — почти ничего не рассказывали.
Тогда, три года назад, Денисов прочитал ее стихи, они ему понравились, некоторые — поразили.
А Лена, пересмотрев почти все альбомы и папки с его фотографиями, среди которых особенно волновали-тревожили портреты стариков с детскими чистыми глазами, поняла, насколько не похож Евгений Иванович на всех окружающих и насколько между собой похожи они, Лена и Денисов. Они похожи в восприятии и приятии этого мира со всеми его стариками, бодрыми и беспомощными, мудрыми и бестолковыми, упрямыми и беззащитными; со всем его накопленным за века скарбом; со всеми его неразрешимыми вопросами и смутными ответами; с его красотой и уродливостью, любовью и ненавистью.
Как я уже заметила, они почти ничего друг другу о себе не рассказывали. Правда, при этом Денисов знал, что Лена не замужем, и постоянно был озабочен поисками для нее достойного жениха — во всяком случае, на словах. Но и разговоры об этом были, конечно, несерьезными. Потому что было абсолютно ясно, что среди денисовских знакомых подходящей кандидатуры не было и быть не могло.
Лена же о Денисове (впрочем, как и все окружающие) не знала вообще ничего. Никому не могло прийти в голову, что у него могут быть жена, дети. Хотя была, конечно, и у него своя история. Но я вам ее не расскажу.
Евгений Иванович был тем совершенно редкостным экземпляром, который просто не имеет права на личную жизнь, принадлежа людям и обществу.
2
Время юности — это пора бесчисленных вопросов. Время зрелости — пора найденных и вполне определенных ответов. А время мудрости — момент, когда нет ни мучительных вопросов, ни ответов, тем более определенных.
Но время мудрости приходит не ко всем, а только к избранным. Денисов таковым и был. Хотя сам он об этом, конечно, не догадывался. А окружающие догадывались, чувствовали — но того, что избранность его определяется таким простым словом — «мудрость», — тоже не знали. Они просто тянулись к нему. Прикоснуться. Погреться. Иногда ничего не понять. И пойти дальше.
Сегодняшнее утро, несмотря на его обычность, почему-то здорово выбило Лену из колеи. И, с трудом перетерпев рабочий день, Лена отправилась к Денисову.
Евгений Иванович был один.
Они пили кофе и много говорили. Денисова тянуло философствовать. И Лена, вспоминая потом его фразы, которые всегда хотелось записывать, никак не могла вспомнить, с чего же, собственно, это философствование началось.
— Судьба, Леночка, Провидение (назови это как угодно), всегда ведет, всегда подсказывает. А мы не видим, не слышим — ломимся в закрытые двери, а открытых не замечаем. А ведь нельзя этого. Нельзя.
Повторив еще несколько раз на все лады это «нельзя», Евгений Иванович задумался. Задумался надолго — и Лена молчала, боясь спугнуть тишину, такую правильную, такую созвучную непонятно откуда взявшейся теме разговора.
Где-то далеко, видимо у вахтера, зазвонил телефон и вывел Денисова из паузы.
— Так вот, Леночка, не надо переламывать судьбу, надо подлаживаться. Подлаживаться. Понимаешь?
Денисовское «подлаживаться» прозвучало так мягко, плавно и долго, что Лене показалось, что на нем, этом слове, можно плыть далеко-далеко в новую, счастливую жизнь.
А Денисов между тем продолжал в том духе народного сказителя, который был его сутью и который был так дорог и близок жителям старинного русского города — любителям передачи «Евгений Денисов рассказывает…».
— Да беда-то вся в том, что не понимаем знаков ее, судьбы — я имею в виду. Не научились. Книжки вон всякие пишут, разъясняют, что, мол, и как…
— Да, да, — закивала Лена, готовая назвать что-нибудь из того, что в последнее время читала.
Но не успела. И хорошо, что не успела.
— Не нужны книжки. — Таким оказалось продолжение мысли Денисова — мысли, которую Лене не удалось угадать. — Не нужны никакие книжки. Себя чувствуй. Других чувствуй. К природе будь ближе. И живи, зла не делая и все и всех принимая. Вот и вся премудрость.
Лена слушала Денисова и одновременно не могла пропустить звуков капель первого дождя, тяжело и редко ударяющихся о стекло.
Денисов говорил — и его можно было слушать бесконечно. Весна стучалась в окно — и его хотелось распахнуть пошире. Но распахнулось не окно, а дверь. А в нее хлынули (все дороги ведут к Денисову!) многочисленные ходоки: сначала зашел кто-то из фотографов, потом — кто-то из художников, потом — из историков-краеведов.
Тет-а-тету Лены и Денисова не суждено было продолжиться. И она так и не узнала, когда и почему Денисову удалось стать таким все понимающим и все принимающим.
Сидели долго. Пили водку, закусывали немецкими конфетами, присланными Денисову немецкими друзьями из города-побратима Мюнстера.
Водка и конфеты, конечно, не были центром посиделок. Как у древних греков, целью и смыслом пиршества была высокоинтеллектуальная беседа.
Тон задавал ведущий киноклуба Александр Никифоров, заумный и чудной, который не мог ни слова молвить в простоте: все у него было «пассионарно» и «инфернально».
Кто-то Никифорову поддакивал. Кто-то с ним спорил. А кто-то все-таки напился.
Денисов, посматривая на своих гостей, сокрушенно покачивал головой: никто из этой компании Лене Турбиной явно не подходил.
И, прощаясь с ней на остановке, он очень грустно спросил:
— Леночка, где ж мы тебе принца искать будем, а?
— Нету принцев! — весело отозвалась Лена. Ей не было грустно, а было — нормально.
Подъехал троллейбус, почему-то такой же печальный, как Денисов. И в этом нерадостном троллейбусе Лена ехать не захотела. Осталась ждать другой. И Денисов с ней, конечно, остался. Больше они ни о чем не говорили. Просто стояли. И просто дышали весной.
Итак, Лена работала в типографии корректором. Вычитывала… Да чего только не вычитывала! От безграмотных графоманских стихов новоявленных поэтов, у которых появилась возможность издаваться за свои деньги, до каких-то безликих и безрадостных производственных журналов и бланков. Работы было много, поэтому общаться с сокабинетниками: сварливым, но добрейшим забывчивым стариком Марком Захаровичем, которому давно перевалило за семьдесят, и обиженной на весь свет, вздорной Анной Ивановной, напоминавшей отсутствием возраста, поджатыми губами и маленькими колючими глазками Званцеву, — было некогда. Да и не к чему. Каждый, шевеля губами, качая головой и быстро проставляя карандашом корректорские знаки, делал свое дело, отвлекаясь только на общие чинные и немногословные чаепития.
Руководил работой корректорской Марк Захарович — и это было уже хорошо. Правда, Анна Ивановна, которую Ольгунчик, увидев в первый раз, окрестила почему-то Матильдой, метила, судя по всему, на его место, надеясь, что он наконец вот-вот уйдет на покой. Лене об этом думать не хотелось. И она спокойно работала, стараясь сохранять и с Марком, и с Матильдой ровные отношения.
Сохранять хорошие отношения с Марком Захаровичем было совсем нетрудно. С момента появления Лены он взирал на нее с благоговением и нежностью, что для нас с вами, конечно, не ново.
Ну а Матильда, как вы догадываетесь, Лену не полюбила. С самого первого взгляда не полюбила. Но Лене было не привыкать, поэтому она нисколько не переживала, просто старалась не слишком раздражать свою коллегу, упражняясь в молчании, скромности и кротости.
А помните, я обещала вам рассказать, почему Лена с ее университетским образованием и безусловным журналистским талантом работала всего лишь корректором? Рассказываю.
Лена вернулась в Рязань в самое заполошное время: все неслось куда-то без руля и без ветрил, люди ошалело рыскали по городу с вытаращенными глазами, не зная, что делать с гласностью, свободой, беззаконием и безденежьем. Новые газеты и журналы появлялись как грибы и так же быстро бесследно исчезали.
Конечно, хотелось найти то, что было более или менее на плаву. Лена позвонила однокласснику, который успешно подвизался на радио. И уже на следующий день она стояла перед редактором одной из городских газет, приличный тираж которой раскупался подчистую.
Редактор весело «косил лиловым глазом», периодически тянулся за красивой бутылкой немецкого ликера, которая почему-то стояла не на редакторском столе, а у редакторской ноги, и, часто отхлебывая прямо из горлышка этой самой бутылки и снова ставя ее на место, то есть к ноге, вел с Леной беседу, забыв предложить ей сесть.
Принесенные Леной на всякий случай номера «Судоремонтника» с ее лучшими статьями он смотреть не стал. «Это все в прошлом, — изрек лениво. — Сейчас надо не так писать». Правда, как надо писать, он не сказал. А сказал, что Лену, хотя у него и нет пока для нее достойного места, он берет. Пока корректором. Назвал оклад у Лены от счастья закружилась голова.
— Думаю, корректор — это ненадолго. Дерзай, пиши, — весело сказал редактор, в очередной раз хлебнув немецкого ликера. — Понравится — какого-нибудь начальника отдела уволю, тебя поставлю. Без базара.
На следующий же день Лена вышла на работу. И в ожидании своего непосредственного начальника, не успев пока еще приступить к своим обязанностям, взяла в руки сверстанный номер: скандальные наезды на коммунистов в духе Валерии Новодворской, которая вызывала у Лены физическое отвращение; кровавый репортаж об очередном изнасиловании и убийстве; похабные анекдоты. И это все предстояло вычитывать ей, Лене. А если не хочешь засидеться в корректорах, то пиши, голубушка, то же самое и в том же духе. Все ясно. Надо же было быть такой идиоткой — идти в газету, не зная, что она собой представляет! И Лена, извиняясь-раскланиваясь и, разумеется, ничего не объясняя, в тот же день ретировалась.
— Ну ты вообще, — сказала Ольгунчик. — Знаешь, сколько желающих туда устроиться? Давай иди теперь в «Рязанскую правду». Там не платят ни фига.
Но в «Рязанскую правду» Лена тоже не пошла. И не потому, что там действительно ничего не платили. Просто она поняла, что, работая в любой газете, надо быть или оголтелой демократкой, или стопроцентной коммунисткой. Журналистика — это политика. А коль политика — дело грязное, значит, журналистика не чище. Собственно, так, наверное, было всегда. Но в своем «Судоремонтнике» в мелкомасштабных баталиях со Званцевой Лена Турбина понять и почувствовать этого не успела. И вдруг — пожалуйста, сразу все стало ясно. А может, просто время тогда было такое. Но на журналистике был поставлен крест. Навсегда.
Когда подвернулась работа в типографии — Лена пошла не задумываясь. Во всяком случае, здесь было спокойно, понятно, определенно — и никакой политики. Деньги, конечно, платили смешные. Поэтому приходилось иногда подрабатывать на стороне: то писать тексты для рекламных буклетов, то выполнять контрольные или курсовики для студентов.
А самовыражалась Лена, как я уже сказала, в стихах. И это положение дел ее вполне устраивало.
Лена работала, много читала, ходила в театр — чаще одна, иногда с мамой. Кроме Ольгунчика, Денисова, бабы Зои с Алешкой (о котором разговор впереди — разговор, должна вам сказать, малоприятный и нелегкий), она почти ни с кем не общалась (собственно, общение с вышеназванными лицами поглощало практически все свободное от работы время).
Правда, иногда писала Наташке в Мурманск, а та откликалась спокойными, подробными письмами о жизни своей по-прежнему счастливой семьи.
Еще Лена посылала весточки и скромные посылки с игрушками в Полярный в ответ на нерегулярные поздравления Оксаны с очередным Новым годом — поздравления, к которым обычно присовокуплялось сообщение о рождении очередного ребенка (у Оксаны с Лехой — фантастика! — их было уже четверо).
А еще она часто отправляла свои коротенькие письма-записки Алле в Ленинград (именно так, по-советски, Лена продолжала его называть). Правда, в последнее время у нее все чаще стало проскакивать — «Питер», что вовсе не удивительно: только так называла этот город Алла Петрова, окончательно обосновавшись в нем (иначе не скажешь) уже лет шесть назад. Алла не писала — звонила. Тоже часто. Именно от нее доходили иногда какие-то размытые сведения о Буланкине. Кажется, он служил на Новой Земле. Кажется, не женился. Вот и все, что было известно о Юре. А про Аллу, питая к ней необъяснимую симпатию, я расскажу вам поподробнее. Ладно?
Алла Петрова мало изменилась за это время. А многих ли жизнь меняет? Случается, конечно. Только редко. Хотя, может быть, я и ошибаюсь.
Так вот. Сама Алла изменилась мало (разве стала еще более сексапильно-привлекательной), а вот бытие ее, которое вроде бы должно определять сознание (но все законы — не для Аллы, вы ж ее натуру знаете), изменилось кру-у-то. Она умудрилась организовать свое дело. И весьма в этом преуспела. Что в это самое дело входило, Лена особо не вникала, но знала, что фигурируют там и магазины, и ломбарды, и что-то еще и еще.
Саша Петров, демобилизовавшись, в новой жизни искать себя не захотел, довольствовался военной пенсией и заработком охранника (сутки через трое). Прожить на эти деньги семье с тремя взрослыми мужиками (близнецы вымахали оба под два метра, успешно поступили в университет и связывали свое будущее исключительно с наукой) было, ясное дело, невозможно. Таким образом, Алла поняла, что надеяться ей не на кого и что обеспечивать более или менее приличное существование и будущее детям предстоит именно ей.
В тот момент, когда Петровы приехали с Севера, вписаться куда-либо было уже очень трудно. Но, с другой стороны, время беспредела уже заканчивалось, поэтому было поспокойнее — и нужны были только деньги и везение. Деньги, хоть и небольшие, были: Саша, увольняясь, получил сертификат на квартиру, которую они, купив, стараниями Аллы сразу же выгодно продали. Везения Алле тоже хватило. Это поначалу жили они все вместе с родителями Саши в их однокомнатной квартире. «Озвереть можно, — устало говорила Алла Лене по телефону, но тут же успокаивала себя: — Ничего, мы еще увидим небо в алмазах».
Насчет алмазов — не знаю, но года через два у Петровых была отличная пятикомнатная квартира, дача и у всех (кроме Саши) — по иномарке.
Отделять близнецов, пока они не собрались жениться, Алла не хотела. И говорила Лене: счастье — это когда вечером все дома. Когда-то то же самое Лена слышала от мурманской Наташки. Алла, по-прежнему нещадно изменяя мужу, умудрялась каким-то особенным образом любить своего Сашу, восклицая: «Куда я без него?!»
Последний раз Лена ездила к Петровым два года назад. По их приглашению и за их счет. И Алла в тот момент, как всегда, была влюблена. И как всегда, по ее словам, смертельно. Выглядела она соответственно потрясающе.
Алла рассказывала Лене взахлеб о том, какой он, ее возлюбленный, необыкновенный. Но… Связь их длилась несколько лет, а Алла, по ее собственным словам, для него ничего не значила.
— Я гораздо умнее и лучше, чем он обо мне думает, — втолковывала подруга Лене. — Ну почему, почему он ко мне относится всего лишь как к бабе, которую можно трахнуть по случаю? Почему? И думает, наверное, что я так — с любым. Или с ним — потому, что у него море денег и мне иногда перепадает? Но ведь все не так! Надышаться не могу, налюбоваться не могу, крыша едет от восхищения и восторга. А он не дает мне даже малейшей возможности сказать ему об этом. Боится, что я буду претендовать на что-то? Но ведь знает, что мне нужна моя семья. Но не только. И он нужен. А я ему — нет. Совсем-совсем.
Лена вспоминала, что эти обиженные причитания она когда-то давным-давно уже слышала. И не раз. Смеялась. И обнимала Алку, страдалицу.
— Бедная ты моя! Когда ж ты успокоишься? Не надоело тебе жизнь на них тратить?
— Ты что? — возмущенно хлопала та своими желто-зелеными кошачьими глазами, горящими любовью и недоумением-возмущением одновременно. — Как это тратить? Это ведь и есть жизнь!
Вот такими приблизительно беседами был заполнен каждый вечер, когда Лена была у Аллы в Питере. А вечера они в основном проводили не в театре (как хотелось Лене), а в кафе или ресторане (как хотелось Алле), где Лене всегда было не очень уютно. Несмотря на то что она была одета в какой-нибудь из невозможных (прежде всего в смысле стоимости) нарядов своей подруги, сильно похудевшей за последнее время, и выглядела, как вы понимаете, великолепно, она неизменно чувствовала себя глубокой провинциалкой. Впрочем, ей это почти не мешало. Главной задачей все равно ведь было не себя показать, а Аллу выслушать, хотя та свято верила, что водит подругу по ресторанам для устройства ее личной жизни.
Личная жизнь Лены в ту поездку не устроилась, хотя несколько знакомств состоялось. У Аллы, кстати, тоже: ее «смертельная» влюбленность не могла, конечно, этому помешать — и когда она только все успевала?
Так вот. Несколько интересных знакомств у Лены состоялось. Одно из них показалось серьезным. И звонки были, и цветы-подарки, и даже одна встреча в Москве — но все быстро сошло на нет. Почему-то не находился никак для Лены Турбиной ЕЕ мужчина. И дело было даже не в том, что периодически встречающиеся на пути претенденты были чаще всего женаты. Наверное, это уже не могло бы стать препятствием для того, чтобы, никого ни у кого не отнимая, любить и быть любимой. Препятствие всегда было одно — не ЕЕ. И Лена с этим давно уже смирилась. Правда, иногда вспоминался Буланкин. И очень хотелось, чтобы однажды раздался звонок — и она, ничего не подозревающая, вдруг услышала бы в трубке Юрино: «Привет, Стрижик. Это я». Она бы сразу узнала. Сразу. Потому что, во-первых, только он так ее называл (даже Олег не успел в свое время придумать для Лены никакого милого прозвища, а Буланкин вот успел), а во-вторых, ни забыть этот голос, ни перепутать его с чьим-то было, конечно, невозможно.
3
Последнее время Лене постоянно снился один и тот же сон. Она поднимается по лестнице какого-то чужого дома — и вдруг на этой лестнице не оказывается целого пролета. Чтобы двигаться дальше, надо или карабкаться по стене, цепляясь за куски торчащей отовсюду арматуры, или акробатически подтягиваться на руках, хватаясь за непонятно откуда взявшиеся перекладины.
Этот повторяющийся сон был, как всегда, невероятно реален, и, просыпаясь усталой и от пережитого физического напряжения, и от моральной измотанности непонятностью происходящего, Лена помнила любую мимолетную подробность: косые полосы солнечного света, тянувшиеся от открытого чердачного окна где-то высоко и далеко (видимо, туда она и стремилась, упорно преодолевая пространство между лестничными пролетами); рыжий хвост кошки, мелькнувшей рядом (про нее было ничего непонятно: она — вверх или вниз?); засохшую розу на одном из подоконников грязного подъезда; короткий детский вскрик наверху Детали могли быть каждый раз разными, и лестница — тоже. Но пролет отсутствовал всегда. И всегда Лене приходилось карабкаться и думать при этом: я-то доберусь, а как же другие — какие-нибудь старушки? Как же они живут в этом доме с такой странной лестницей?
Наверное, сон этот что-нибудь значит, думала Лена. Надо спросить, видят ли другие что-либо подобное. Но спросить она почему-то всегда забывала. И снова и снова видела странную лестницу, и снова и снова карабкалась вверх. А утром думала: когда-то давно во сне я всегда летала…
Вот про полеты во сне она спрашивала: и у мамы, и у бабы Зои, и Ольгунчика. Да и так знала: все летали в свое время. Разве, кстати, не удивительно? И не значит ли это, что люди произошли от птиц? Ведь не снится всем одинаково, что они лазают по деревьям за бананами.
Правда, оказалось, что все летали по-разному. Ольгунчик — только тогда, когда убегала от кого-нибудь. Баба Зоя отрывалась от земли, чтобы обрывать яблоки, когда не было лестницы. Вера Петровна не помнила, зачем и куда она летала, но утверждала, что летала, как всем в детстве положено.
А вот Лена не только в детстве летала. И когда студенткой была, и позже. И не зачем-то, а просто от полноты ощущений. Это она и сейчас очень ясно помнила. Идешь-идешь хорошо вокруг, красиво… И чтобы еще лучше было, оттолкнешься — и летишь. И думаешь, как же здорово! Почему остальные-то не летят вместе с тобой, а скучно идут по земле? Что их держит там? Ведь настоящая жизнь — только в полете, когда кружишь над знакомыми и незнакомыми местами и задыхаешься от восторга: о, бесконечность красоты и красота бесконечности!
Как давно это было, когда чуть ли не каждую ночь — леталось. А теперь только эта ненавистная лестница! Лена как-то все-таки рассказала про нее Ольгунчику, когда они сидели у той на ее общежитской кухне и, пользуясь отсутствием всех соседей и не обращая внимания на четырнадцатилетнюю Сашуру (это, как вы помните, дочка Ольгунчика, которая жила не с ней, а только изредка приходила в гости), судили-рядили о жизни вообще и обо всех ее проявлениях в частности.
Про отсутствующий лестничный проем подруга ничего не поняла, только плечами пожала: ей ничего такого никогда не снилось. И они вернулись к первоначальной теме разговора: жизнь как она есть.
Расклад по обыкновению получался неважный. Ничто ни от кого не зависит. То, что человек — кузнец своего счастья, — самая настоящая ерунда, если не сказать больше. Обстоятельства раз. Удача-везение — два. Судьба — три. И все-таки… Все-таки Лена при этом продолжала наивно полагать, что добро возвращается добром, что нужно жить так, чтобы не было мучительно больно… и т.д. Ольгунчик, как водится, ее поругивала и призывала отказаться от розовых очков, которые давно уже никому не прописывают. Она, хоть и была моложе Лены почти на полтора года (пошла в школу с шести), любила иногда в обращении с ней позволить себе покровительственный тон.
Надо плыть по течению и не замахиваться на переустройство мира. Заниматься только внутренними работами: ставить на место ум, который с сердцем не в ладу, добиваясь, чтобы они дружили. Радоваться-веселиться побольше. Собственно, подруга Лены Турбиной только в этом и видела смысл. Когда, разумеется, не пребывала в депрессии, которая неизбежно настигала Ольгу Медведеву каждой весной (правда, Ольгунчик, как вы помните, научилась справляться со своей болезнью самостоятельно, с помощью таблеток, конечно). Ну а пока эта зараза-депрессия ее не накрыла, она с удовольствием и со знанием дела рассуждала о внутренней гармонии, которая и должна держать на[лаву, которая…
— Хорошо, — раздраженно перебила Лена красивые Ольгунчиковы рассуждения, — допустим, добилась я внутренней гармонии. А вокруг меня — матери, потерявшие сыновей, калеки, преступность, СПИД, беспризорники, спивающаяся нация… А я, вся такая гармоничная, буду ничего не замечать? Да?
— Если ты будешь от этого загибаться так, как ты сейчас это делаешь, значит, никакой внутренней гармонии ты не достигла, — рассуждала Ольгунчик, которой в данный момент ужасно нравилось выглядеть психологически продвинутой и логичной.
— Так я и говорю, что это — невозможно. Что мы родились на страдания… И нет, нет у нас выхода!
В общем, это был один из очередных совершенно бесполезных разговоров, которые Лена с Ольгунчиком вели постоянно и которые ни к чему конструктивному привести, разумеется, не могли. Хотя иногда подруги пытались вывести какую-нибудь закономерность, правило какое-нибудь, которое помогло бы кому-то в жизни — например, Сашуре.
— Сашура, — говорила совершенно серьезно Лена, — надо знать, за кого выходить замуж.
Сашура кивала, уж чего-чего, а это она понимала. Но Лена догадывалась, что она понимает что-то не то, и пыталась довести свою идею до конца:
— Шурка, ты не о том думаешь!
Сашура удивленно рассматривала тетю Лену: откуда она знает? И на всякий случай молчала, занимаясь своими делами. Она, на удивление, обожала, в отличие от Ольгунчика, все мыть и тереть.
— Шурочка, — продолжала Лена, переходя на ласковый тон, чтобы лучше дошло, — Шурочка, это очень серьезно. Надо знать, кому рожать детей. Женщина несет ответственность за своего будущего ребенка. Только она. Мужики — они…
— Сволочи, — вклинивалась Ольгунчик.
Лена возмущенно крутила головой:
— Олька, что ты несешь!
А Ольгунчик убежденно говорила:
— Пусть знает!
— Шурка, не выходи замуж за того, кто пьет. Никогда, слышишь? Никогда.
Почему тема пьянства была для Лены самой больной, вы узнаете чуть позже.
— Они сейчас все пьют. — Сашура махала рукой. Жест и интонации — пенсионерки, торгующей на рынке петрушкой.
— Значит, ни за кого не выходи! — настаивала Лена.
— Ага, — не соглашалась Шурка, — и буду как вы с мамой…
Такие недетские и, пожалуй, непедагогичные разговоры вели периодически Лена и Ольгунчик с девочкой Сашу-рой, которая относилась к ним снисходительно и великодушно делала вид, что слушает все, что они ей, такие чудные, пытались втолковать.
Бесконечно проговаривая то, что бродило в их больных душах, Лена с Ольгунчиком неизменно приходили к выводу: все-таки не по плечу им эта жизнь, где нет ни справедливости, ни гармонии, ни покоя.
Как им, таким ненормальным, было «не впасть в отчаяние при виде всего», что творилось вокруг. Чечня, где гибнут непонятно за что и становятся калеками мальчишки из простых бедных семей, которым не по карману «отмазать» детей от армии. Осенние взрывы в Волгодонске и Москве. Падающие самолеты. Наркотики.
Им обеим нельзя было смотреть «Новости». Они и не смотрели — но все равно все знали: не на острове ведь жили.
Они не смотрели «Новости» — и Ленина мама могла по этому поводу сказать дочери: «Нельзя же быть такой равнодушной ко всему, что происходит в мире». Сама она смотрела все. И после убийственных новостей, которые всегда обсуждала по телефону с кем-нибудь из подруг, гневно высказываясь в адрес президента настоящего и главным образом предшествующего, могла смотреть какую-нибудь комедию и даже смеяться. У нее была здоровая психика. И замечательная переключаемость. Когда нужно, она плакала, когда нужно — смеялась. Лена так не умела. Когда ее что-то потрясало, она слишком надолго теряла все ориентиры и не понимала, как с этим всем дальше жить. Но своей собственной матери Лена ни при каких обстоятельствах не могла бы объяснить, почему она не смотрит «Новости», почему не выносит, когда Вера Петровна со всеми подробностями в сотый раз пересказывает, как на ее знакомую в подъезде напал наркоман или что написали в местной газете про растущую беспризорность. Вера Петровна могла говорить об этом бесконечно. И возмущаться — бесконечно. И у нее хватало на это сил. А у Лены не было сил даже один раз выслушать. Она молча разворачивалась и уходила в свою комнату под гневные восклицания: «Вот все вы сейчас такие! Ничего вам не надо!»
Мама страдала от Лениной нечуткости и даже, как она говорила, жестокости. И в первую очередь по отношению к себе. Лена тоже маялась от того, что не может лишний раз прильнуть к материнскому плечу, чмокнуть в щеку, сказать «мамуля». Не получалось. Получалось другое. Например, оборвать на полуслове, сказав: «Сколько можно об одном и том же?» Лена страдала от этого, но ничего поделать с собой не могла. И рассказать, что страдает, тоже не могла.
Ольгунчик, с ее печальным опытом общения с психиатрами, разрыва отношений с родителями и неистребимым желанием всему найти причину, заставляла Лену вновь и вновь рассказывать про детство, копалась в деталях и подробностях — и снова и снова объясняла: как ни верти, все идет оттуда, из детства. И даже раньше.
Лена сказала однажды, что родители ее не планировали (это мама ей сама рассказывала зачем-то), она получилась случайно.
— Как и большинство детей, — грустно констатировала Ольгунчик, — вот тебе и причина того, что в лучшем случае у большинства из нас не ладятся отношения с родителями. А про худший я говорить не буду.
— Неужели так все просто? — удивилась тогда Лена.
— Просто? Ты представляешь, сколько всего должно совпасть и как все должно сложиться в одну счастливую картину, чтобы дети рождались запланированными и желанными?! — воскликнула Ольгунчик.
Получался замкнутый круг. И к этому замкнутому кругу они снова и снова возвращались. Лена считала, что вырваться из него невозможно. Ольгунчик была настроена более оптимистично. Конечно, у нее была Сашура, ей было на ком экспериментировать.
— Вспомни, — говорила она Лене, — как ты рассказывала, что в детстве мама тебе говорила: «Не люблю эти телячьи нежности», — когда ты пыталась к ней приласкаться. А сейчас ты хочешь, а не можешь быть по отношению к ней ласковой и нежной. И вы обе от этого страдаете?
— Так, — соглашалась Лена.
— И, помня об этом, ты уже никогда не скажешь ничего подобного своему ребенку, — развивала Ольгунчик мысль.
— Как ты можешь мне такое говорить? — удивлялась Лена, страдальчески морщась и закрывая лицо руками.
— Нечего тут изображать! — сердилась Ольгунчик. — Какие твои годы? — Она совершенно искренне верила, что у Лены все еще впереди.
Ольгунчик почему-то всегда забывала, сколько им уже лет. Даже возраст Сашуры не мешал ей, наверное, думать, что им с Леной не больше двадцати пяти. Кстати, никакие цифры у нее в голове никогда не держались. Вероятно, именно поэтому ею никак не осознавалось, что и она, и Лена прожили уже полжизни. А может, и больше.
4
Приближалась Пасха. Баба Зоя постилась, была сосредоточенной, строгой и вместе с тем, в ожидании праздника, просветленно-взволнованной. Каким-то удивительным образом это передавалось Лене, хотя она и не постилась. Баба Зоя заразила ее ожиданием и радостной тревогой. Лену вдруг начали томить неясные предчувствия счастливых свершений. В душе царила необъяснимая благодать и нежная любовь к миру и людям.
— Что с тобой, Леночка? — спрашивал Марк Захарович. — Ты вся светишься. Неужели влюбилась?
— Давно пора! — подхватывала Матильда. — А то повода выпить — никакого. Давай, Елена Станиславовна, порадуй нас каким-нибудь известием.
— Да нет, все обычно, — качала головой Лена. — Вам показалось.
Матильда обиженно поджимала и без того поджатые губы: с этой Турбиной каши не сваришь. Странная она все-таки какая-то. С такой внешностью — и никого не иметь? Или имеет, а прикидывается смиренницей? Сколько уж у них работает? Несколько лет. Пора бы что-нибудь про себя рассказать — нет, помалкивает, все только о работе. Бывают же такие зануды!
Сама Матильда (она, конечно, не знала, что так зовут ее между собой Лена с Ольгунчиком) была в чем-то хитра, а в чем-то — проста и грубовата. Последнего она не прикрывала никакими формами вежливости, считая это лицемерием и ханжеством. «Простите», «будьте любезны» — да противно! Это Марк тает от Леночкиной деликатности-тактичности, а она, Завражнова Анна Ивановна (так, как вы помните, на самом деле звали Матильду) не собирается из себя ничего изображать: какая есть, такая есть.
Лена чувствовала негативные флюиды Завражновой, вспоминала Званцеву, но подстраиваться не хотелось: не любит ее Матильда, и не надо. Зато благоговение и нежность Марка Захаровича не имели границ. И это спасало ситуацию, позволяло сохранять более или менее благоприятный климат в их маленьком коллективе и тесном кабинете.
В субботу, накануне праздника, Лена, Вера Петровна и баба Зоя — все сообща пекли пироги, кулич, варили яйца в луковой шелухе.
В воскресенье с утра Лена поехала на одно кладбище, к папе (Вера Петровна осталась дома: давление подскочило), а баба Зоя с Алешкой отправилась на другое, к своим.
Дорога с несколькими пересадками была долгой и утомительной.
Но остатки душевного дискомфорта от толчеи в общественном транспорте бесследно растаяли, стоило ступить за ворота кладбища, заросшего кленами и березами, которые только еще собирались выпустить свои первые клейкие листочки, но уже успели напитать воздух легким, чуть горьковатым запахом весны, свежести и надежды.
Центральные асфальтированные дорожки были более или менее чистыми, а между могилами пришлось помесить грязь. Сами могилы в большинстве своем были прибраны и ждали, когда к ним придут уже не затем, чтобы навести порядок, а затем, чтобы постоять в молчании, отдать в светлое Христово воскресение долг памяти и любви. Правда, не все посетители кладбища были проникнуты молчаливой благостью — некоторые ели-пили и чуть ли не плясали у памятников родственников, понимая праздник слишком буквально. А иные плакали-убивались, падали на сырую землю свежих холмов с цветами и венками: они не успели смириться, не успели постичь неизбежность утраты, и для них приход сюда еще не стал обычным ритуалом, а был пока суровым испытанием, продолжением неизбывного горя.
Но даже пронзительные причитания, от которых у Лены всегда ныло сердце и текли по щекам ответные слезы, не смогли заглушить в душе тихой радости. Весна! Вот где она настигла Лену окончательно — на кладбище! Парадоксально и необъяснимо, как, впрочем, все в этой жизни. И здесь же Лена поняла, что трепетное ожидание великого христианского праздника для нее все-таки было связано больше всего с приходом весны, а не с религиозным осознанием чуда древнего воскрешения. Значит, пока не доросла. Так сказала она себе.
А через два дня, когда Лена шла с работы, ноги как будто сами собой понесли ее в церковь. Просто было, наверное, по пути. Лишь немного нужно было свернуть в сторону. Лишь немного. Лена и свернула, не давая себе в том ясного отчета.
А может, и не таким уж случайным оказался этот поход в храм. Ведь отец Владимир (вы пока не знаете, кто это; я расскажу о нем позже) постоянно говорил о том, что нужно там бывать. Кроме этого, с неделю назад Лена была у Денисова, и Евгений Иванович подарил ей только что изданный, еще волнующе пахнущий типографской краской великолепный фотоальбом, одним из авторов которого, разумеется, был он сам.
Вероятно, прекрасно-строгий облик колокольни Борисо-Глебского собора с ярко-лазурной обложки и поманил Лену к себе.
Когда она рассматривала альбом и слушала, как все это Денисов снимал, у нее мелькнула мысль, что ведь она ни разу не была в этом храме и не видела собственными глазами то, о чем с тихим восторгом рассказывал Евгений Иванович.
Мысль мелькнула — и от нее, казалось, не осталось и следа. Мысль всего лишь мелькнула — а спустя несколько дней Лена уже стояла перед иконами, некоторые из которых Денисову пришлось фотографировать, стоя на коленях, — иначе они никак не давались. Денисов говорил об этом удивленно и шепотом, многозначительно склоняя при этом голову к правому плечу.
Лене приходилось бывать в церкви за всю свою жизнь не более двух раз. Никаких особенно ярких впечатлений она тогда не испытала. Но с некоторых пор, очевидно, в результате общения с Денисовым, бабой Зоей и отцом Владимиром, Лена все чаще ощущала, как иногда внутри становится тепло и ясно от осознания чего-то, что нельзя обозначить словом. Она никак не связывала это ни с молитвами, ни с церковью. Просто знала, тихо и про себя: есть. Просто искренне молила иногда: помоги. И все чаще ловила себя на слове, обращенном к Нему, — «прости». Хотя за что ее нужно простить, она толком и не знала.
И вот сегодня здесь, в многолюдном храме, где сияла лампочная гирлянда слов «Христос воскресе!», где могуче и слаженно звучали песнопения необыкновенной красоты и пронзительности, Лена вдруг совершенно ясно ощутила свою естественную и закономерную причастность ко всему православному миру, поняла, что это нельзя проговорить, можно только пропеть, как пели сейчас вместе с хором многие стоящие рядом с ней. Мужчины и женщины. Молодые и старые. И такие, как она.
Лена, разумеется, не знала слов. Но она чувствовала, что это нисколько не мешает всему ее существу влиться в торжественное многоголосие.
Она вышла на улицу, одновременно опустошенная и наполненная. И не успела она осознать и обдумать это, как запели колокола. Перезвоны их, как вначале показалось, звучали однообразно и незатейливо. Но уже буквально через минуту стало понятно, что их музыка не так проста. Мощный, но задумчиво-приглушенный гул, вероятно, огромного колокола вдруг перебивался радостными и звонкими голосами колоколов поменьше, а затем к ним присоединялись тонкие серебряные переливы, видимо, совсем небольших колокольчиков.
Это была в прямом смысле слова божественная музыка, которая светло и безоговорочно принималась всем сердцем, отзываясь в нем забытыми напевными старославянизмами: благолепие, благовестие, благословение… Но даже такие слова были бессильны на фоне колоколов, которые, казалось, могли пробить самую глухую стену людского равнодушия.
Лена в который раз с грустью подумала: словам не дана такая огромная сила, как музыке. И цвет сильнее слова. Она оглянулась. Небольшие купола храма и колокольни полыхали в последних закатных лучах солнца и тоже звучали, отражая колокольный перезвон. Было совершенно ясно, что все это переложимо только на холст и в звуки. Словам тут, увы, делать нечего.
Хотелось как можно дольше сохранить в себе чувство просветления, восторга и благодати. В многолюдном троллейбусе это было бы невозможно — и Лена пошла пешком.
Она шла очень медленно, слушая еще не утихший благовест и с восторгом вдыхая аппетитный ванильный запах сдобных булочек запах, который, вырвавшись из цехов хлебозавода, находящегося недалеко от храма, перебил все остальные запахи и заполонил собою все близлежащие улицы, смешивая воедино высокое и насущное, сокровенное и общечеловеческое, божественное и земное.
5
Молодая энергия весеннего солнца настойчиво и весело будоражила кровь. Свежий бодрящий воздух, пахнувший далеким северным морем и одновременно звеневший оптимизмом белых яхт с надутыми парусами, наполнял не только легкие, а все твое существо. И казалось, что ты полетишь сейчас над городом, как воздушный шарик, сбрасывая на ходу (точнее, на лету) тяжелую и лишнюю одежду — не всю, разумеется, но пальто и сапоги — точно.
Вокруг будут лететь такими же бездумно-счастливыми шарами другие люди, слегка, конечно, очумевшие от слишком неожиданного поворота событий.
На земле останутся только те, кого никогда не пробьет никакая весна и никакое солнце. И они будут недоуменно и скептически смотреть в небо: вот чудаки, полетели куда-то, не сидится им дома. А некоторые из них будут все-таки чуть-чуть завидовать и незаметно взмахивать руками.
Интересно, кого будет больше: тех, кто разноцветно и бесшабашно устремится ввысь, или тех, кого удержит земное притяжение?
— Нас будет больше, — уверенно выдала Ольгунчик. Дело в том, что Лена нарисовала подруге (словами, ясное дело) эту сумасшедшую картинку, когда они в обеденный перерыв очередного весеннего дня весело вышагивали по Астраханской.
— Кого — «нас»? — решила уточнить Лена.
— Того, кто полетит, конечно, — абсолютно серьезно откликнулась Ольгунчик.
— Олька, представляешь, кто со стороны послушает? И Лена с Ольгунчиком сначала фыркнули, сдерживая смех, а потом одновременно начали совершенно неинтеллигентно хохотать, представляя себе разношерстную армию толстых и тонких, взмывших разом, как по команде, в весеннее поднебесье. Сквозь приступы хохота они проговаривали-выкрикивали друг другу новые, сочиненные на ходу детали — и снова просто умирали со смеху, держась за животы, забыв о приличиях, забыв о том, что благопристойные женщины их возраста не должны так себя вести на центральной улице города.
А может, это и неплохо, забывать иногда о том, сколько тебе лет? Правда, всему должно быть время и место. Но не будем занудствовать, пусть посмеются. Тем более что они уже, кажется, успокоились.
— Вечно ты, — запоздало спохватилась Лена, — тебе бы только веселье…
— Это ты все придумала, между прочим, — не замедлила, как всегда, обидеться Ольгунчик.
Она замолчала, подобрав остатки смеха и демонстрируя это поджатыми губами и сдвинутыми к переносице нервными бровями. Вечно Ленка носится со своими приличиями! Сама боится расслабиться и Ольгу постоянно дергает, как невоспитанного ребенка. Только и бывает настоящая, когда чуть-чуть забудется. Что бы она без Ольгунчика делала, спрашивается? Нормальные люди (к ним Ольгунчик относила всех, кроме себя, Лены и Денисова) и так подступиться к ней из-за ее красоты боятся, а она еще и улыбается два раза в месяц — и то не всем. Почему она, Ленка то есть, так боится быть самой собой?
В этих сосредоточенных размышлениях обидевшейся на Лену (ненадолго, конечно) Ольги не все было верно (если в этой жизни вообще бывает что-либо верным). Для Ольгунчика быть самой собой означало бесконечно радоваться. А для Лены — наоборот. Следовательно, Ольгунчик на сей счет заблуждалась, забывая, что нельзя всех мерить на свой аршин. Лена всегда оставалась такой, какая она есть. И на горло собственной песне ей наступать вовсе не приходилось. Ну а что грустилось чаще, чем кому-либо… так для этого были причины.
И одной из таких причин был Алешка. Помните, в семье Лены его, маленького, называли Лелем? А баба Зоя его звала Лешей.
Я пока вам ничего о нем не рассказала. Все откладывала.
Дела с Лешей обстояли неважно. Училище он не закончил. Отчислили или комиссовали из-за язвы, как говорила баба Зоя, — дело темное. Факт, что обретался он давно уже в Рязани. Работал, часто меняя места, шофером. И, по словам бабы Зои, выпивал. А на самом деле — пил. Попадал в разные скверные истории, из которых его приходилось чаще всего вытаскивать Лене. Были у нее кое-какие связи. Ведь в типографии разные заказы случаются — например, из Управления внутренних дел. Где-то в глубине памяти упрямо хранилась и никак не желала стираться похотливая улыбка одного большого начальника: «Чем расплачиваться будете, Елена Станиславовна?»…
«Хоть бы уж женился», — все причитала баба Зоя. Но жениться Алешка не спешил, хотя желающих перевоспитать его находилось немало. Любили его женщины и трезвого, и пьяного.
Лена вспоминала, что Лель, когда был маленьким, часто плакал. И по пустякам. И из-за всяких детских обид и несчастий. Однажды (ему было лет шесть-семь) он появился у Турбиных на пороге, совершенно несчастный, с потрясенно-остановившимся взглядом. Лена затормошила его: «Что, что случилось? Кто тебя обидел?» А он сел на корточки и, обхватив голову, зарыдал так громко и так невыносимо, что ее сердце было готово разорваться от жалости к нему. Она собралась бежать во двор, чтобы расправиться со всеми его обидчиками. Чтобы в порошок стереть тех, из-за кого так горько плакал ее Алешка. Но нужно было знать: кто? кто его обидел?
Лена гладила Леля по голове, уговаривала, трясла, расспрашивая, — а он все плакал и плакал. Она села рядом с ним на корточки и начала ждать, когда он наконец все расскажет. Прошло, наверное, минут десять, прежде чем Алешка чуть-чуть успокоился и, посмотрев на нее своими огромными голубыми глазами, которые стали еще больше из-за переполняющих их слез, еле выговорил: «У Димки хомяк умирает…» — и снова заплакал.
Теперь Алешка был взрослый. Трезвый, он был молчалив и задумчив. Слегка выпивший — сентиментален, благороден, добр, заботлив по отношению ко всему и ко всем. Пьяный — непредсказуем, иногда агрессивен. А в целом он был — ребенок, наивный, доверчивый, не желающий принимать любую несправедливость. Он не понимал (как и Лена, наверное; но не понимал как-то более активно), почему есть богатые и бедные, почему кто-то должен гибнуть непонятно за что в Чечне, почему в мире есть зло как таковое. Он не мог пройти мимо валяющегося пьяного — поднимал, тащил; мимо плачущего ребенка — присаживался на корточки рядом, успокаивал; мимо бездомной кошки — приносил к себе, отогревал, откармливал, потом давал объявление в газету: «Отдам в хорошие руки» (баба Зоя не признавала в городской квартире ни кошек, ни собак).
6
Звонок в дверь раздался в тот самый момент, когда Лена уже была готова выйти из квартиры: собиралась к Ольгунчику. Та звонила, вся никакая. Нужно было съездить. Вот так они и жили: то одна в депрессии, то другая.
Впереди целый вечер, длинный, светлый — весенний. Так что можно успеть, хоть и далековато Ольгунчиково общежитие.
Но раздался звонок в дверь и на пороге предстал Алешка, качающийся, с задумчиво-растерянными глазами.
— Лен, вот баранину принес. Свежая. Пожарь, а? Баба Зоя с огорода когда теперь вернется…
Да, у бабы Зои, как у всех владельцев дач и огородов, начались весенне-полевые работы. И она, уезжая утром на электричке на свои шесть соток с домиком, построенным еще дедом Сережей на заре их семейной жизни, возвращалась обычно часов в одиннадцать, вкалывая там, по ее собственным словам, «до упаду». В выходные Алешка, конечно, тоже туда ездил. Если был трезвым. Иногда и на служебной машине, отвезти-привезти чего. Ну и уж если работал — то работал, баба Зоя нарадоваться не могла: не лентяй ведь какой, и руки золотые.
— Проходи, — сказала Лена Алешке и глубоко вздохнула. Визит к Ольгунчику придется теперь если не отменить, то отодвинуть. Ведь надо было этого охламона несчастного накормить и спать уложить, а то ведь отправится сейчас во двор: душа-то, подогретая и распахнутая алкоголем, общения просит. Значит, придется общаться ей, Лене. Иначе — дворовые друзья-собутыльники.
Вера Петровна тоже была на даче и тоже должна была вернуться поздно. Но она, в отличие от бабы Зои, ездила туда, как и положено, — отдыхать, дышать свежим воздухом. Сажала она там только цветочки и укроп-петрушку — и Лена ее в этом очень поддерживала. Сама же она на даче бывала редко: не любила тесноты в электричках, куда и втиснуться-то иногда и то была проблема.
Леша сидел у стола, подпирая голову руками. Думал. Молчал.
Лена возилась с мясом, точнее, с косточками. Разделав, поставила тушить. Где-то когда-то слышала, что никаких специй в баранину не добавляют. Соль и вода — все.
Лена помыла посуду, сварила макароны.
— Ну, рассказывай, — сказала, садясь наконец рядом с Алешкой за стол.
— А че рассказывать? Сама видишь. — Алешка поднял голову и снова уткнулся лицом в руки.
— По какому поводу сегодня? — презрительно усмехнулась Лена.
— Не спрашивай лучше, — глухо проговорил Алешка, очевидно, не расслышав презрения.
Лена знала эту его особенность: в пьяном виде все драматизировать и преувеличивать, нагонять тоску на себя и на всех окружающих.
— Ну, как хочешь! — Она махнула рукой и встала.
— Сядь, — Алешка потянул ее за подол халата. — Прошу, посиди со мной.
Лена послушно села. Вздохнула.
— Понимаешь… — сказал Алешка. И замолчал. Лена тоже молчала.
— Не понима-а-ешь, — протянул укоризненно Алешка. — И никто не поймет. Никто! И никогда!
Последние слова прозвучали истерично-хамовато, с вызовом. Как будто все кругом виноваты.
Лена продолжала молчать. А что она могла сказать? Все тысячу раз было сказано. Тысячу раз. И все равно Алешку было жалко. Поэтому она погладила его по голове. Как маленького. Он как-то сразу обмяк и, посопев, тяжело, с паузами, начал говорить:
— Брат Сашки из пятого подъезда подошел позавчера: «Лех, ты на колесах, говорят? Завтра не поможешь кой-че перевезти?» Ну я: не проблема, говорю. Смотря, конечно, когда. Ну и мотанули вчера вечером километров за тридцать. Приехали. К какому-то фермерскому хозяйству. Загон. Там овцы. Поблизости — никого. Я говорю: ребят, че-то я не врубаюсь. Они: за все заплачено, не… ну, в общем, не дрейфь. И начали они, Сашка с братом, хватать самых маленьких барашков и запихивать в багажник.
Тут Алешка остановился, долго искал в карманах сигареты. Не нашел. Встал. Снова сел. Продолжил:
— Не знаю, сколько напихали. — И он посмотрел Лене в глаза. Жалобно и растерянно. — Знаешь, как они там кричали, пока мы ехали. Даже не кричали, а стонали, сдавленно так. И жалобно очень.
Алешка заплакал. Снова уронил голову на руки и зарыдал уже в голос. И сквозь рыдания причитал, срываясь на крик:
— Я же не знал, понимаешь, не знал! Что барашки! Что живые! Что маленькие! Что вот так все будет… — Тут он перешел на свистящий шепот: — У меня до сих пор в ушах их стон. Понимаешь? Я спать не могу.
— А потом? Ты их убивал? — тоже прошептала Лена, уставившись не мигая на дрожащие руки Алешки — на его большие, по-шоферски сильные и неровно загорелые руки.
— Нет, привезли к одному. У него дом в деревне. Выгрузили. Я уехал. А сегодня Сашка вот принес. — Алешка мотнул головой в сторону сковороды на плите.
Он поднял голову и, вытирая кулаком глаза, снова посмотрел на Лену. Невыносимо посмотрел.
Она, встав, обхватила его голову и заплакала вместе с ним. Ну что же это? Как же ему теперь? Как же ему?
Расстались они часа через полтора, когда Лена, накормив Алешку макаронами (от баранины он напрочь отказался) и напоив чаем с лимоном, взяла с него тысячу обещаний, что он из дома ни ногой, проводила его, немного протрезвевшего и немного успокоенного, до квартиры.
Он ушел. А барашков теперь слышала она. Слышала, пока ехала к Ольгунчику. Слышала, когда разговаривала с ней, бледной и ко всему в этот вечер безразличной. Слышала, когда возвращалась.
Домой Лена попала часов в одиннадцать. Вера Петровна ждала, волновалась, сердилась, что никакой записки, ничего.
— Прости, — бесцветно сказала Лена и пошла спать.
Сон, разумеется, не шел. Они виделись ей: маленькие, беззащитные, на тоненьких ножках. Она по-прежнему слышала их встревоженное блеяние. И вспоминала вкус мяса, нежного, сладкого (она успела снять пробу до Алешкиного страшного рассказа).
Лена честно пыталась проанализировать ситуацию. В Чечне гибнут люди. Люди! Мальчишки. Каждый день. Зло существует. Всегда и везде. Мы знаем о нем или не знаем — но оно есть. Его много. Очень много. Каждую секунду в мире кто-то погибает: страшно, кроваво, несправедливо. Об этом нельзя думать. Нельзя! Ведь она, Лена, не в силах ничего изменить. И никто не в силах. «Жизнь тяжело нести…» Забыла? «…но не притворяйтесь такими нежными! Мы все прекрасные вьючные ослы и ослицы». Так говорил Заратустра…
О, если бы мудрые слова мудрых людей могли бы кому-то помочь в тяжелые минуты! Если бы… Увы. Не помогали. Не помогают. И никогда не помогут.
Уснуть Лене так и не удалось. Покурить, наверное, надо было бы. Но курить она, как вы помните, бросила давно. И сигарет в доме не держала. И зря, думала она, ох как зря.
А утром Лена снова вспоминала детскую растерянность и страдание в Лешиных глазах и словах. И думала: «Господи, ему же не по силам эта жизнь, с ее жестокостью, несправедливостью, с ее бесконечными проблемами! Куда ему, такому, деваться?»
Куда ему деваться? Как ему жить? Эти вопросы не давали Лене покоя, терзали ее разум и душу.
— Ну почему он такой? Почему? — спрашивала она и у Ольгунчика, и у Денисова. И видимо, забывала при этом, что они сами-то, Лена Турбина и ее верная подруга Ольга Медведева, недалеко ушли от Алешки, только что не пили.
— А ты бы какой была, если бы тебя с пяти лет бабушка воспитывала? — отвечала вопросом на вопрос Ольгунчик. Она тоже, конечно, забывала. Ну, про то, что их с Леной внутреннее устройство здорово смахивает на Алешкино.
— Такие люди всегда были, есть и будут, — отвечал Денисов. — Им дано много чувствовать, но не дано делать. Им действительно тяжело жить. Это скорее особенность психики, а не особенность характера.
— А что же с этим делать? Как же быть?
— Это болезнь, Леночка. Страшная болезнь. Болезнь духа и воли, неизлечимая, — отвечал Денисов.
— Мишка же вылечился, — возражала Лена, указывая на Ольгунчика, имея в виду ее брата. — Женился. Человеком стал.
Ольгунчик радостно кивала, подтверждая слова Лены.
Мишка действительно несколько лет назад, встретив добрую, умную и, видимо, волевую женщину, взялся за ум. И не только не пил теперь, но и вполне процветал. У него была собственная автомастерская, дела шли хорошо. В семье — покой и порядок, двое детей. Все как полагается. Отрадно было и то, что, не забыв, сколько сделала для него в свое время старшая сестра, он нежно о ней заботился, помогая ей всем — и в первую очередь деньгами. Собственно, на них она практически и существовала, поскольку, как вы, наверное, помните, работать не могла, во всяком случае, в обычном понимании этого слова.
И жила Ольгунчик, как птица небесная, не заботясь о хлебе насущном и довольствуясь слишком малым. Кстати, про одежду она тоже ничего лишнего в голову не брала, а с удовольствием надевала на себя («надевала», заметьте, а не «одевала», как все вокруг говорят — и слышать это совершенно невозможно! ну простите мне этот крик души) все, что добывал для нее Денисов из немецких посылок с гуманитарной помощью, и ей все всегда было впору, и выглядела она вполне стильно, правда, иногда несколько неряшливо, потому что ни стирать, ни тем более гладить ужасно не любила.
Имея перед глазами пример когда-то, казалось, безнадежного брата подруги, Лена очень хотела верить, что и у Алешки все будет хорошо. Хотела верить — но у нее это плохо получалось. И Денисов, вопреки своей сути, это Ленино неверие подтверждал:
— Значит, Миши болезнь не коснулась. Значит, он просто пьянствовал. Это была не более чем распущенность. Понимаете? Одни из этого могут выбраться, а другие — нет.
— Как же быть? Что же делать? — снова повторяла Лена.
— Эх, Леночка, если бы можно было что-то сделать… Но хороший психотерапевт твоему Леше, конечно, не помешал бы.
— Да знаю, — махала рукой Лена. — Не соглашается, считает себя абсолютно здоровым. Просто, говорит, не везет мне ни в чем.
— А почему не везет? Об этом он не задумывался? Ведь все в нас самих. Еще знаешь, что я думаю… Что для таких людей с обнаженными нервами, тонко чувствующих чужую боль, принимающих близко к сердцу все несчастья этого мира, есть только три пути: алкоголизм, клиника для душевнобольных (Денисов в силу своей необыкновенной деликатности не мог сказать просто «психушка») и вера. Примеров этому множество. Не нашедшие свою дорогу в храм обречены, увы, на первое или второе, как это ни ужасно.
Денисов, сочиняя в этот вечер, когда велся очередной разговор про Алешку, свою теорию, все больше и больше увлекался. Он любил философствовать на публику. Публика состояла в этот раз из Лены, Ольгунчика и некоего Геннадия Михайловича Степанова, по виду — «нового русского», пришедшего к Денисову, своему однокашнику, по одному, как он сам выразился, важному делу и участвующему, так уж получилось, в общем разговоре.
Лениво потягивая принесенный коньяк, Степанов, слушая Денисова, насмешливо улыбался. Евгений Иванович, видя это, конечно, не мог не отреагировать.
— Есть люди, которым Бог не нужен, — сказал он и многозначительно посмотрел на однокашника, — они слишком крепко стоят на земле, всегда знают, что им нужно делать и как нужно жить. У них все везде схвачено. Они делают дело — и им некогда думать о несовершенстве мира, о Чечне, о беспризорных детях, о голодающих стариках, о бездомных людях, о бродячих собаках и кошках. Зачем им Бог? Их бог — деньги…
— Ну это ты уж загнул, Иваныч, — перебил Денисова Степанов. — Это уж тебя занесло, родной.
— Прости, я не хотел тебя обидеть, — кротко сказал Денисов и замолчал.
Лена постаралась перевести разговор в другое русло. Ольгунчик умело поддержала ее — и по домам они разошлись мирно.
Степанов отправился провожать Ольгунчика, которая на этом настояла, хотя и видела, что тому явно хотелось проводить Лену.
А Лена с Денисовым, войдя в троллейбус, стали в уголок на задней площадке и продолжили разговор.
— Евгений Иванович, а вы верите в Бога?
— Леночка, это сложный вопрос. Деликатный. Но скорее да, чем нет. А как иначе выжить? Никак. Только это и спасает. А ты?
— Я не знаю. Все так сложно. Но кажется, тоже — больше да, чем нет.
— В церковь заглядывай почаще. У меня вот не получается почаще — и это неправильно.
— Мне иногда кажется, что приверженность какой-либо религии, любой фанатизм — это ограниченность. А иногда — наоборот. Это так естественно, что люди придумали Бога. И если эта идея живет на протяжении тысячелетий — то, может, и не придумали, а открыли как нечто объективно существующее. Как вы думаете?
Вот такой разговор вели Денисов с Леной до того момента, пока Евгений Иванович не доехал до своей остановки, — разговор, явно волновавший (хотя беседа велась совсем тихо) стоящего рядом подвыпившего мужичка, который то удивленно вскидывал редкие белобрысые брови, то согласно кивал и бормотал, подтверждая правоту попутчиков, что-то свое.
7
Чаще Лена, конечно, жалела Лешу. Но иногда ее душу разъедала ненависть. Ну сколько же можно издеваться над всеми? Сколько можно?! Не умеешь жить, приносишь самому близкому тебе человеку и самому себе одни страдания — так не живи! Соверши хоть раз поступок, достойный мужчины!
Эти чудовищные мысли Лена в приступах ярости не скрывала. Леша вскакивал, шатаясь, бежал прочь, кричал: «Вы меня больше не увидите!» Она бежала за ним. Иногда возвращала назад, иногда — нет. И это были самые страшные минуты в ее жизни. Но Леша неизменно через какое-то время появлялся, виноватый, растерзанный.
Он как будто и не помнил ужасных слов Лены. Но часто говорил одно и то же:
— Лен, зачем я живу? Я не хочу, не умею. Понимаешь? Ненавижу себя за то, что не могу взять и… Даже на это не способен, черт возьми!
— Лель, миленький, давай сходим с тобой к врачу. Или съездим к отцу Владимиру в монастырь. Или… ну я не знаю. Но что-то надо делать! Неужели тебе не жалко так бездарно расходовать свою жизнь? Ведь она дана тебе зачем-то.
— Вот именно — зачем? Я никого не просил! — кричал в ответ Леша. И глаза его наливались злобой, и страшно ходили желваки.
Ни к чему не приводили такие разговоры с пьяным Лешей. Ни к чему.
Когда Лель был трезвым, а значит, умным и добрым, Лена снова и снова, не отступая, вела с ним бесконечные беседы о жизни и ее смысле, о добре и зле, о радости (которая, конечно, есть в этом мире, стоит только присмотреться) и все-таки больше всего — обо всех печалях и скорбях человеческих. И разумеется, она пыталась говорить с ним о Боге — говорить так, как сама это чувствовала и понимала.
Но жизнь была явно Леше не по плечу. Он, наверное, мог бы быть счастливым только в каком-то идеальном мире, а в обычном — не мог.
Однажды, когда его в очередной раз привели домой пьяного, избитого до полусмерти, баба Зоя сказала Лене: «Хоть бы Господь прибрал его к себе. Сколько ж маяться ему, бедному?» Сказала — и заплакала. Заплакала навзрыд, горько и безутешно. Слов ее Леша не слышал, а на плач вышел, шатаясь, из комнаты и жалобно-жалобно попросил: «Ты не плачь только. Не плачь. Я больше никогда… Слышишь, никогда…»
Он не пил недели две. Успел за это время устроиться на новую работу. С девушкой начал встречаться. Он ведь всегда пользовался успехом. Потому что был высокий и красивый, умный и добрый.
Через несколько дней родители девушки обнаружили пропажу кольца с бриллиантом. Нет, никто не обвинял его. Просто Наташа (так звали девушку) простосердечно поведала ему об этом. В этот же вечер он и напился.
— Лен, они же на меня… На меня подумали. Понимаешь? — талдычил он Лене, которой пришлось его вести вместе с бабой Зоей от соседнего подъезда, где он был обнаружен спящим на лавке. — А я никогда ничего чужого не брал! И не возьму! Никогда! Понимаешь?
Лена понимала. Будучи абсолютно уверенной в Лешиной чуть ли не патологической порядочности, она буквально физически ощущала, как невыносима для него мысль о том, что кто-то думает, что он способен на воровство.
Запой длился несколько дней. Кончилось все ужасно. Баба Зоя не укараулила — Леша ушел из дома на поиски выпивки и приключений на свою голову.
Три дня про него ничего не было известно. Баба Зоя от горя почернела, осунулась. Она почти не спала, почти не ела — только плакала и молилась. Лена вечерами сидела с ней рядом, гладила ее плечи, руки — и молчала. Что она могла сказать?
«Сердечко ты мое на ножках», — говорила баба Зоя Лене и снова плакала.
Лена опрашивала Лешиных собутыльников во дворе, звонила в больницы и даже в морги — никаких известий не было: ни хороших, ни плохих.
На четвертый день в приемном покое областной клинической больницы ответили: привезли одного молодого человека без документов. Приезжайте, может, ваш.
«Скорая» подобрала Лешу на улице, снова избитого, избитого так, что не было на нем ни одного живого места, хотя все кости, на удивление, были целы. Смотреть на него было страшно и больно. Но самое невыносимое было — глаза. Беспомощные, как у потерявшейся собаки. «Заберите меня отсюда», — попросил. И просил об этом, как ребенок, каждый день, когда Лена и баба Зоя поочередно к нему приходили.
В один из этих тяжелых дней Лене совершенно случайно попались на глаза строчки:
Ройте землю. Упирайтесь рогом. Выйду из подъезда налегке. И — дойду. И окажусь пред Богом с детскою игрушкою в руке.Над этим маленьким пронзительным стихотворением[1] Лена проплакала два дня. Она плакала от боли, тоски, нежности и безысходности. И в каждом бомже на улице ей виделся теперь Лель. И история каждого бомжа с мертвыми глазами была ей страшно близка и понятна.
Психотерапевт, с которым свел Лену Денисов, внимательно ее выслушал и сказал: «Помощь нужна вам. А ему — скорее всего уже нет. Бросьте его. Не губите себя».
Бросить Лешу значило бросить и бабу Зою. Ни первое, ни второе было невозможно.
8
— Лена, милк, ты-то за что страдаешь? Мне-то деваться некуда. Своя ноша… говорят, своя ноша не тянет. Ох как тянет. Еще как тянет. А еще говорят… — Баба Зоя задумалась, как бы припоминая, что же еще говорят такого, что подходит к ее случаю. Вспомнила и как будто даже обрадовалась. — Вот. Маленькие детки, говорят, пьют молочко, а большие — кровушку. Вот как. Правильно, ничего не скажешь. Лучше не придумаешь.
Лена, засомневавшись, покачала головой, а баба Зоя вернулась к вопросу, на который не получила ответа.
— Только ты-то, Ленок, за что с нами маешься? Не пойму никак.
— Что ж тут непонятного, баб Зой, — усмехнулась Лена. — Мы ведь не чужие. Знаешь, слова такие есть: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Ты меня приручила — значит, за меня в ответе. Я Лешу приручила — значит, в ответе за него.
— Да он к тебе с детства прирученный, это точно. А кто это такой сказал, что в ответе-то, раз приручил кого?
— Экзюпери сказал.
— Знаю. Слышала. Француз вроде. Да? Я передачу смотрела. Только не поняла, кто он — летчик или писатель?
— И летчик, и писатель, и… — Лена, обрадовавшись смене темы разговора, была готова выложить бабе Зое все, что знала об Экзюпери.
Вот так и о тяжелой доле бабы Зои, и о Леше, и о французском летчике-писателе толковали Лена и ее соседка светлым весенним вечером на больничной скамейке.
Неделю назад поздно ночью в дверь Турбиных позвонили. Леша, глотая слезы, еле выговорил: «С бабой Зоей плохо. А „скорую“ не хочет».
Баба Зоя, в белой ночной сорочке, с таким же абсолютно белым лицом, сидела в кресле и, тяжело дыша, тихо приговаривала: «Сейчас пройдет». Лена кинулась сначала к ней (баба Зоя показала, что валидол у нее под языком уже есть), затем к телефону, но баба Зоя тихо, но очень внятно проговорила: «Не надо ничего, прошу тебя».
Посидев с бабой Зоей минут сорок (Леша в это время безостановочно курил на кухне) и убедившись, что ей на самом деле стало лучше, Лена помогла ей лечь в постель. Затем пошла к Леше. Он уже не курил. Застыл у открытой форточки — и на Ленины шаги не обернулся. Она подошла к нему и встала рядом.
Когда темноту за окном начал нехотя пробивать свет, Лена ушла домой.
Наутро перед работой Лена, разумеется, заглянула на минутку к Васильевым. Леша спал. А баба Зоя как ни в чем не бывало возилась на кухне. Но лицо ее светилось прозрачной бледностью, а глаза горели каким-то незнакомым сухим огнем.
Лена настаивала на том, чтобы вызвать на дом врача. Но баба Зоя бодро пообещала, что дойдет до больницы сама.
С работы Лена, улучив момент, позвонила: Леша собирался отправиться «к одному там» по поводу работы, баба Зоя, как и обещала, ушла к врачу.
Но все оставшееся до конца рабочего дня время внутри было тревожно-гулко, очень хотелось домой, точнее, к бабе Зое. Хотелось быстрее убедиться, что с ней все в порядке. Хотелось быстрее услышать, что Лешу взяли на работу.
Но услышала Лена другое. На работу Лешу взяли. А вот бабу Зою из больницы не отпустили. Инфаркт.
На березах уже были клейкие листочки, пока еще маленькие — но уже настоящие листочки. Они пахли весной: волнующей свежестью и щемящей тревогой. И горьковатый их запах провожал Лену до самой больницы: дорога к ней шла через молодую березовую рощу. Было еще очень светло, хотя время близилось к девяти.
В палату Лена проникла без труда.
Баба Зоя лежала на кровати, которая стояла у окна, и смотрела на Лену светлыми и радостными глазами.
— Лешенька только что ушел, — сказала она вместо приветствия. — На работу его берут. — Она попыталась привстать навстречу Лене.
— Лежи, тебе ведь нельзя вставать, — остановила ее Лена, присаживаясь рядом с ней.
— Да прям, нельзя! — махнула рукой баба Зоя. — Я и чувствую-то себя нормально. Врач, правда, сказала: лежать. Мне вон даже судно принесли, — указала баба Зоя рукой под кровать, — только зачем оно мне? Я и сама дойду, куда мне надо.
— Баба Зой, нельзя тебе вставать. Инфаркт ведь. — Лена оглянулась на лежащих в палате женщин (их было три, одна, как баба Зоя, другие — помоложе), ища поддержки.
Но баба Зоя потянула ее за руку: на меня смотри — и весело сказала:
— Да не настоящий инфаркт-то. Микро. Я ж в сознании. Все у меня действует. Сердце не болит. Полежу немножко — да и домой. На огороде, сама знаешь, работы сейчас сколько. Мне тут разлеживаться некогда.
— Да, тебе сейчас только на огород, — закивала головой Лена. — Там тебе сейчас самое место. С инфарктом.
— Говорю, не настоящий! — засердилась баба Зоя. — С настоящим в реанимацию кладут. А я в обычной палате. Значит, не страшно.
Итак, настроение у бабы Зои было боевое. О пребывании рядом с собой постоянных сиделок в лице Лены и Веры Петровны она даже слышать не захотела. И вообще велела не беспокоиться, в больницу к ней не рваться. «У вас всех своих делов хватает», — сказала.
И действительно баба Зоя быстро пошла на поправку. Дня через три и давление, и кардиограмма были чуть ли не в норме, по ее собственным словам. Врач, к которой Лена подошла поинтересоваться, как на самом деле обстоят дела, подтвердила, что дела идут неплохо, но… «Это все-таки инфаркт, — сказала, — исход может быть любой».
Лене постоянно казалось (да так оно и было), го она, несмотря на регулярные душеспасительные беседы с Алешкой, все никак не может сказать ему то главное, до чего она периодически договаривалась в своих внутренних диалогах с ним. А сказать было нужно.
Ведь всегда было как? Баба Зоя, любя своего Лешу до полного изнеможения, очень боялась обидеть его неосторожным словом, боялась расстроить и стать, таким образом, виновной в его очередном запое. И попробуй кто-нибудь другой сказать Леше, что он думает только о себе, что ему наплевать на самого близкого и дорогого человека — бабу Зою, он вскипел бы, он возмутился бы несправедливостью такого обвинения, он оскорбился бы до глубины души и, пожалуй, возненавидел бы этого человека до конца своих дней. Да он только и думает о бабе Зое! Сердце плавится от нежности и жалости к ней. И смертная тоска накрывает, когда она, как сейчас, например, болеет или когда он видит ее слезы. Потому он и пьет, что ему всех жалко. Что, не так? Да кто это может знать, кто влезет к нему в душу?!
С училищем такая дрянь получилась… А душа у него, между прочим, морская! Он по морю тоскует, по просторам, по подлодкам, на которых мечтал служить. Но вот не повезло! И все тут. Что, никто в «самоволку» не ходил? Не квасил никто? Все ходили. Все квасили. А замели его! И он, между прочим, никого не выдал. Хотя сам начальник училища стучал по столу кулаком: скажешь, кто еще с тобой в этой драке с «сапогами» махался с нашей стороны, оставлю в училище. «Не один ведь ты там был», — настаивал. Ясное дело, не один. Но никого он, Леха, не назвал. Никого. Его выгнали, а они, суки, теперь звезды получают: кто на Севере, кто на ТОФе. И хоть бы кто вспомнил! Хотя… Лучше, конечно, что не объявляются.
А ему, Алешке, эта сухопутная жизнь — поперек горла. Кругом жлобье и рвань. Словом перекинуться не с кем. Друзей нет. Одни собутыльники.
Своих собутыльников Леша откровенно презирал, но деваться от них было некуда.
С любовью ему тоже не везло. Вроде постоянно кто-то на шею вешается. Только ведь все дуры дурами. Нет, ну есть, наверное, где-то хорошие девчонки. Но все равно Леша никому не верил. В Питере была Маринка. Любил. И она любила. Вернее, это он так думал, что любила. А из училища выгнали — не нужен. Здесь, в Рязани, потом тоже были, конечно, женщины. И не такие уж дуры, если разобраться. Но все было не то. По Маринке тосковал очень. Звонил много раз. Зачем, спрашивается? Только душу себе рвал.
Вот и есть у него только баба Зоя, да Лена Турбина, да Вера Петровна.
Лена — вон какая! А тоже несчастная. И ее жалко. Он бы всем мужикам, которые ее когда-то обидели, морды набил. Всем! Он ее, конечно, не достоин. Кто он? Шофер. А то бы не посмотрел на разницу в возрасте! Подумаешь, десять лет… Да она выглядит как девочка! Он бы ее на руках, такую, носил. Ведь когда-то, мальчишкой еще, мечтая: офицером станет, приедет в форме, с кортиком — и женится на ней. Потом, правда, Маринку встретил. Потом из училища выкинули. И все покатилось к чертям собачьим! На свете счастья нет, как говорится…
А Лена Турбина — человек. Вот такую бы встретить! Да таких больше нет.
Приблизительно такие мысли бродили в Лешиной голове, когда он был более или менее трезв.
Разговор состоялся на балконе Турбиных в один из задумчиво-улыбчивых весенних вечеров после того, как Лена с Алешкой встретились у бабы Зои в больнице и вместе пришли домой. Как и с чего именно этот разговор начался, Лена потом, пожалуй, и не могла бы вспомнить.
Скорее всего Леша (кстати, абсолютно трезвый) начал жаловаться на неудачи. Скорее всего. А Лена, видимо, вспылила и решилась наконец высказать ему всю правду о нем. В этот момент она, очевидно, забыла, что никакие ее слова не могут быть истиной в последней инстанции и что правду об Алешке ей не дано знать так же, как любому другому смертному. Но тогда ей казалось, что она — именно тот, кому дано и знать, и понимать, и судить.
— Ты страдающий эгоист, который думает по большому счету только о себе и о своих страданиях, — сказала она. — Ты не можешь никак взять на себя ответственность, ответственность мужчины, за свою собственную жизнь и за жизнь бедной бабы Зои. Мы все носимся с тобой, жалеем, сочувствуем, из кожи лезем, чтобы чем-то тебе помочь. А ты плевал на нас всех! Неправда, что ты любишь бабу Зою. Ты любишь прежде всего себя, свои собственные переживания и возможность забыться по поводу этих самых переживаний в пьяном угаре.
Лена говорила на удивление спокойно и даже как-то отстраненно, только сердце очень ныло.
Она стояла рядом с Алешкой, облокотившись на балконные перила, уставившись глазами в цветущий куст вишни, хотя на самом деле не видела его и не испытывала того удивительного чувства обновления, детского удивления и тихого восторга, которые испытывает всякий нормальный человек, когда видит цветущее дерево.
Алешка, тоже облокотившись на перила, курил. И не совсем понимал, что говорит Лена. Понимал лишь, что что-то очень обидное и несправедливое. Почему? За что? Разве он когда-нибудь чем-нибудь ее обидел? Или бабу Зою? Да он за них… Он за них в огонь и в воду! Да он слова грубого бабе Зое ни разу в жизни не сказал, даже по пьяни. Лене — тем более.
— Алешка ты Алешка, как же ты не понимаешь, — продолжала Лена, будто угадав, что он действительно не понимает, — как невыносимо видеть, что ты, такой умный, хороший, добрый, губишь себя, пускаешь свою жизнь под откос. На тебе ведь живого места нет! Каково было бабе Зое видеть тебя тогда в больнице, едва живого, голодного, с затравленными глазами, вместо лица — кровавое месиво? Какое сердце это выдержит? Тебе нельзя пить. Совсем. Ты ведь всегда попадаешь в какую-нибудь переделку. И каждый раз может оказаться последним. Тебе нужно лечиться. Ведь лечатся другие.
— Кодироваться не буду, — несколько раз тупо повторил в ответ на это Алешка. — Я не алкоголик.
— Да кто же ты еще?! — раздраженно закричала Лена и, сама же испугавшись своего крика, тихо заплакала.
— Значит, ты думаешь, что я алкаш? — медленно проговорил Леша, злобно играя желваками и отводя взгляд все от того же вишневого куста, который он, рассматривая, тоже не видел.
— Ничего я не думаю, — пошла на попятную Лена. — Пить тебе нельзя. Вот и все. И в церковь тебе нужно.
— Че мне там делать? Для галочки пойти? Чтобы отчитаться перед тобой? — еще больше разозлился Леша и пошел прочь, шарахнув балконной дверью так, что стекло в ней задрожало и запело какую-то длинную и жалобную песню, но удержалось, не посыпалось и, наконец, испуганно всхлипнув, затихло.
Прошла ровно неделя с того дня, как баба Зоя попала в больницу. Чувствовала она себя очень даже неплохо. И посему не только сама доходила до туалета, но и умудрялась вечерком выйти по-тихому на улицу, посидеть на скамеечке. И соседки по палате, и Леша, и Лена с Верой Петровной пытались объяснить ей, что делать этого нельзя, но все было бесполезно. Баба Зоя упрямо твердила: я ведь не бегаю, я аккуратненько. «А свежий воздух — только на пользу, — объясняла она, — мне ж не надо спускаться с пятого этажа».
Отделение действительно располагалось на первом этаже, и нужно было пройти всего несколько метров от палаты до двери, спуститься на две ступеньки и сделать еще несколько шагов до скамейки. Одним словом, баба Зоя сама знала, что ей можно, а что нет.
Вот и нынешним вечером, когда Лена пришла в больницу, баба Зоя уже поджидала ее на скамейке.
В какой-то момент их беседы Лена, посмотрев вдруг повнимательнее на бабу Зою, сказала:
— А вот глаза твои мне сегодня не нравятся.
— Глаза как глаза. Нормальные, — ответила баба Зоя, улыбаясь.
Она улыбалась, и глаза ее цвета пересыхающей лесной речки — будто бы тоже, но были они какими-то нездешними, и улыбка в них была по-детски беспомощной и виновато-растерянной, как у внука.
Баба Зоя подставляла светлое, совсем не старое лицо вежливому весеннему ветерку, беспокойно вдыхала запах вскопанной на клумбах земли и радовалась.
— Хорошо-то как, Ленок! — счастливо вздыхала она. — И у Леши вроде бы все слава Богу. Ты ж знаешь, шоферить он любит. Начальника возит. Все мне рассказал. Хорошо вроде к нему этот… Павел Григорьевич его, что ли, зовут… отнесся. Лешка говорит, толковый мужик. Не наглый, по-человечески со всеми обращается. Говорит, если все без замечаний, без премий не останешься. Я, говорит, своим людям всегда помогу чем могу. Дай-то Бог…
Телефонный звонок вырвал Лену из какого-то путаного темного сна. Будильник показывал начало четвертого.
— Извините за беспокойство… — Высокий женский голос летел откуда-то очень издалека. — Васильева Зоя Николаевна кем вам доводится? Дело в том, — объясняли где-то там, далеко, — что домашний телефон не отвечает, а тут еще указан ваш номер. Вы ей кто?
— Соседка, — ответила Лена, понимая, что бабе Зое, очевидно, стало хуже. И нужна помощь. Срочная.
— Ваша соседка умерла час назад. Сообщите, пожалуйста, родственникам. Они должны подойти утром к лечащему врачу. Алло? Вы меня слышите?
— Слышу, — ответила Лена. И еще она почему-то сказала: — Спасибо.
9
Они пошли утром в больницу вдвоем: Леша и Лена.
Они шли молча, и каждый из них думал, что произошла какая-то чудовищная ошибка, что это кто-то так страшно пошутил…
В случившееся поверили тогда, когда увидели в палате голую панцирную сетку стоявшей у окна кровати и рядом с ней на полу — узел из свернутых и перевязанных бинтом вещей. А на тумбочке как-то неправдоподобно правильно, в одну линию, лежали маленькая иконка, расческа и потрепанный кошелек бабы Зои.
Все формальности заняли совсем немного времени.
Деньги у бабы Зои на похороны, оказывается, были. И хранились они у Веры Петровны, Лена об этом и не знала. И одежду себе на смерть баба Зоя тоже давно приготовила.
Вот чем определенно хороши послеперестроечные времена, так это тем, что с похоронами — никаких проблем, не то что раньше. Фирм полно, где все сделают в лучшем виде, в зависимости, конечно, от имеющейся суммы. Лена с Верой Петровной посетили одну из них, ближайшую. Оплатили услуги, получили квитанцию и необходимые разъяснения. Гроб с телом должны были привезти из морга на следующий день.
Впереди был целый вечер, долгий весенний вечер.
Находиться дома Лена не могла. Быть рядом с Лешей, видеть его пьяные слезы — тем более. Оставив с ним маму, Лена уехала к Денисову. Она позвонила ему. Сказала. И он, выпроводив всех, ждал ее. Бедная девочка. Сколько всего на нее…
Казалось бы, что может быть естественнее рождения и смерти? Но как непостижимы обе эти тайны. Причем чем больше пытаешься понять их, тем больше осознаешь, что никто и никогда не сможет ничего объяснить.
Раньше Лена думала, что самое непостижимое для нее — электричество. Это кто-то придумал про атомы и заряды. Красиво придумал. А на самом деле — как это? Что это?
А смерть? Был человек. Был! И вдруг — все. Нет.
— А он нужен. Понимаете, Евгений Иванович, миленький, нужен! Нельзя без него. Есть, пить, дышать нельзя. А мы пьем и едим.
Лена протянула Денисову листок.
«И если вы думаете, что весна — это здорово, то вы здорово заблуждаетесь».
Это было написано посредине листа крупно и размашисто. А ниже — мелко и неровно: «Смерть чаще всего приходит перед рассветом, чтобы дать понять, что она сильнее надежды на новый день. И она действительно сильнее».
— Нет, плохо, Леночка. Не надо так. Нельзя, — покачал головой Денисов. И пошел к холодильнику.
Лена пила водку с Денисовым и тихо плакала, перемежая всхлипывания какими-то бесполезными и бессвязными вопросами.
А Денисов, жалея ее бесконечно, грустил еще и о том, что не может ее сейчас сфотографировать (его фотоаппарат был заряжен сегодня суперкачественной немецкой пленкой), — снимок бы получился отменный. Такой он еще Лену не видел. Но, увы, нельзя было. Надо было сочувствовать и надо было находить нужные слова. Слова, слова… Как будто они когда-нибудь кому-нибудь помогли… А вот снимок бы получился совершенно потрясающий, это точно. И свет неплохо падает. Ничего менять не нужно. Эти невозможные глаза, полные слез. И вот этот момент, когда слеза отрывается от уголка глаза и медленно сползает по щеке.
Думая так, Денисов не молчал — говорил. Была у него эта способность: думать об одном, говорить другое.
— Смерть — это ведь не самое страшное. Непоправимое — да. Но не самое страшное. Поверь мне, Леночка. По крайней мере, это определенность. И во многих случаях понимание того, что человек отмучился. Надо верить, что твоей бабе Зое там лучше. Понимаешь?
— Но ведь это неправда, — качала головой Лена. — Неправда, что лучше.
— А кто знает? Я, кстати, и не сказал, что правда. Сказал, надо верить. Правда и вера — вещи разные. И еще, Леночка, смирение — вот что главное. Понимаешь?
— Нет, — упрямо мотала головой Лена. — Смириться — это значит спокойно принимать то зло, которое совершается в мире. Смириться — это значит ни JC кому не быть привязанным, не любить, не страдать от того, что кому-то плохо. Но ведь это невозможно! Невозможно. Как смириться с болезнями, с потерей близких? Как смириться, когда хочется кричать от боли, когда совершенно невыносимой становится тоска? Получается, что мы рождены только на страдания.
— Вот. Вот именно. Тебе, наверное, и отец Владимир твой это говорил. Говорил ведь, да?
Лена покивала: говорил, конечно. А Денисов продолжил:
— Нужно смириться с тем, что мы рождены на страдания. Страдать — это нормально для нормального человека. И смирение именно в этом, чтобы принимать эти страдания достойно.
— Ничего не понимаю, — махнула рукой Лена. — Ничего. Страдание и смирение одновременно? А нельзя, чтобы не страдать?
— Попробуй.
— Да со мной-то такого не может быть. Мне, видно, это на роду написано.
— Вот видишь, — чуть ли не обрадовался Денисов. — Это уже где-то и смирение. Отчаяния не должно быть и уныния — это большой грех. А когда душа болит, да еще за ближнего, а не за себя, — это нормально.
На этих словах Денисов замолчал. Молчала и Лена. Соглашалась ли она с Денисовым? Не знаю. Понимала. Это да.
И путь от денисовской мастерской до троллейбусной остановки они проделали в этом молчаливом понимании, для которого не нужны ни взгляды, ни жесты, ни тем более слова — ничего из того, что имеет довольно грубое, если вдуматься, материальное выражение.
Когда на следующий день бабу Зою привезли из морга домой и Лена увидела на светлом лице спокойную, чуть заметную улыбку, ей стало и в самом деле абсолютно ясно: бабе Зое там лучше. Ей была послана легкая, мгновенная смерть, о которой она — наверное, это звучит странно, но это именно так — мечтала. Часто говорила: «Моли не легкой жизни, а легкой смерти». Бог наградил ее за все страдания, за все муки невыносимые. Еще и тем наградил, что последние дни ее жизни были согреты и весенним солнцем, и хорошими новостями о Леше (у которого — она так в это верила — теперь-то уж все наладится), и его заботой, любовью и раскаянием.
10
Вера Петровна зашла в комнату дочери. Та спала, раскинув, как всегда, руки над головой. Раскрытые ладони чуть-чуть подрагивали от быстрого, неровного дыхания. Лицо на первый взгляд было спокойно. Но, приглядевшись, можно было увидеть или, скорее, почувствовать, что сон Лены — далеко не безмятежный. Может быть, ей ничего и не снилось: просто печаль последних дней не ушла во сне, не отпустила — она застыла в уголках губ, впадинах щек и резко обозначившейся в последнее время морщинке домиком над левой бровью.
На столе лежали листочки, на которых было что-то написано порывистым и неровным почерком дочери. Да, отличница и казавшаяся всем очень примерной девочкой Лена и в младших классах, и позже писала как-то рвано, коряво, за что, конечно, постоянно получала взбучку и от нее, Веры Петровны, и от отца. «Как будто это тетрадь двоечницы!» — возмущались они в один голос.
На листе было написано (невозможно ведь было удержаться, не прочитать) вот что: «Всюду — тайна. Она вокруг меня. Она внутри меня. И сложность не в том, чтобы раскрыть, а в том, чтобы понять, в чем она заключается. Но и это — невозможно. И остается только мучительно и беспокойно улавливать настойчивый тополиный запах ее присутствия».
Вера Петровна одобрительно-удивленно покачала головой (она больше привыкла к стихам, и ей нравилось, как пишет ее дочь, хотя она не все и не всегда понимала; вот и сейчас хотелось спросить: почему «тополиный»?). Она присела на краешек кровати и начала ждать, когда Лена проснется. Ждать пришлось недолго. Лена потянулась и, открыв глаза, которые сразу же наполнились слезами, сказала: «Привет». И погладила мамину руку. А потом, приподнявшись, обняла ее и заплакала.
Прошло уже две недели со смерти бабы Зои. И надо сказать, что боль уже стала понемногу притупляться. А вот слезы пока не кончались.
Боль в Лениной душе стала утихать. Точнее, ее все чаще стала вытеснять мысль, даже не мысль, а чувство горячей уверенности в том, что там, далеко, бабе Зое лучше, гораздо лучше. Это чувство помогало Лене все последние дни. Оно наполняло все ее существо светом и покоем. И в такие минуты Лена буквально физически ощущала незримое присутствие родной души. И это присутствие давало и силы, и тихую радость, и смирение.
В один из этих благостных моментов приятия всего мира Лена почувствовала, что в душе ее нет и следа обиды на маму — обиды, которая так часто вылезала из глубин подсознания, затаившись там на долгие годы. Эта обида вдруг бесследно растаяла. И для этого не понадобилось никаких объяснений, доводов, слов — излишних почти всегда, когда дело касается отношений между людьми, тем более близкими.
Удивительно, но именно смерть бабы Зои примирила Лену с жизнью, внесла в ее отношения с миром гармонию. То, что в свое время не удалось сделать Буланкину, то, что не удалось за эти несколько лет Денисову и за последние два года отцу Владимиру, — вдруг свершилось будто бы само собой. Только бабы Зои больше не было. В реальности не было. А на самом деле — была. Близко-близко, как никогда. И хотелось думать светло о грядущей собственной смерти. И светло — о смерти вообще. И писать об этом — тоже хотелось.
Мы все пришли сюда затем, чтобы уйти. И шапки белых хризантем уже в пути. А солнце шествует в зенит, не зная горя. И капелька росы звенит: «Mementomori». «Mementomori», — вторит ей судьбы крещендо. И сотни белых голубей летят зачем-то. И бесконечен этот круг в закатных зорях. И сердца ясен перестук: memento mori.Когда Лена прочитала эти стихи сначала маме, потом Денисову — они оба сказали: хорошо. А вот ей хотелось, чтобы на эту же тему получилось что-то другое, более отрадное, что ли. В душе у нее было светлее, чем в этих стихах. Но получилось то, что получилось. По существу, ей не удалось сказать то, что хотелось. Это, конечно, немного огорчало. Но не настолько, чтобы мучиться и что-то делать с этими строчками. И она оставила все как есть.
Яркие афиши, которые Лена не видела, не видела и вдруг увидела, сообщали, что тогда-то (буквально через два дня) и во столько-то на самой большой эстрадной площадке города, то есть в цирке, состоится концерт Олега Газманова.
Возвратившись с работы, Лена перевернула всю комнату в поисках кассеты, подаренной ей когда-то Буланкиным.
Кассета эта давным-давно не попадалась ей на глаза. Не хотела отыскиваться и сейчас.
Лена с грохотом вытаскивала ящики письменного стола, швыряла на пол многочисленные папки с многочисленными бумагами. Было ясно, что искомого здесь быть не может. Но она упорно продолжала рыться в бумагах.
Процесс затянул и затянулся.
Вера Петровна, обеспокоенная сначала нервным грохотом в Лениной комнате, а потом — подозрительной тишиной, осторожно заглянула к дочери. Та, не повернув головы, лежала на животе посреди комнаты и что-то читала. И на полу, и на диване валялись распотрошенные папки, газеты, все было буквально выстелено исписанными листами, которые только что не кружились в воздухе.
Исписанные листы были черновиками Лениных статей, которые она хранила бог знает зачем; газеты — пожелтевшими номерами «Судоремонтника».
От одного из номеров многотиражки и не могла оторваться сейчас Лена.
Собственно статейка-то была малюсенькая. И называлась «Будет ли на заводе подписка?». Восемь с лишним лет назад Елена Турбина язвительно отвечала на этот поставленный ею же вопрос: «А этого не знает никто. Даже те, кому знать положено. И кто (при большом опыте партийно-организационной работы и при таком количестве звезд на погонах) мог бы (и должен) организовать ее, то есть подписку, давно, месяца три назад».
Вот так, в духе времени, та Лена, которая сейчас сама себе представлялась молодой, не очень злой, но активной и задиристой Моськой, цапнула тогда за какое-то из мягких мест полнотелого и безобидного, как тюлень, замполита завода, капитана первого ранга Антошкина. Цапнула — на радость многим, кто ратовал тогда за отмену КПСС и за ликвидацию замполитов в армии как класса. Цапнула весело и задорно, не думая о том, что бедному Антошкину может быть больно.
Захар Степанович Антошкин, увидев тогда Ленину статью после многозначительных косящих взглядов Тамары (секретарши начальника завода, если помните) и пробежав ее от начала до конца буквально за секунду, сначала тяжело привстал, потом — сел, снова привстал и снова сел, хлопнув по газете рукой. Минуту подумав и покачав головой, он растерянно проговорил: «Вот стерва», — и жалобно посмотрел на Тамару, которая радостно закивала: конечно, стерва!
Всю ночь оскорбленный Захар Степанович сочинял открытое письмо Турбиной.
Он писал про свои функциональные обязанности, про славное прошлое, связанное со службой на дизельных и атомных лодках, про искажение истинного положения дел бездушной и черствой журналисткой, нарушившей законы профессиональной этики.
Его жалоба была с восторгом принята Званцевой, вернувшейся из командировки. «Кому доверили газету?!» — негодуя, кричала она при этом.
Дело в том, что Лена, хотя и не подчинялась ей, став радиоредактором, все равно замещала Званцеву в газете во время ее отсутствия. Поэтому и попала язвительная статейка Турбиной в «Судоремонтник».
Следующий номер вышел с огромным заголовком на первой полосе: «Газета приносит извинения». Званцева извинялась за «амбициозного автора, оттачивающего перо в нанесении оскорблений уважаемому человеку».
На Званцеву Лене тогда было наплевать. А вот на Антошкина — нет.
«Боже мой, где же грань между добром и злом? Где она? Делая что-либо, спроси себя: кому от этого станет лучше? А главное, не станет ли от этого кому-то плохо?
Кому, спрашивается, стало лучше от того, что я пнула Антошкина? (Приедешь, расскажу, в чем дело.) Ну, порадовалась публика. Так разве ради этого напечатала я эту заметку? Нет, не для этого. Ради высшей справедливости?
Ну да, наверное. Казалось, что нужно непременно сказать тому, кто не умеет работать, что он не умеет работать. Ну сказала. И что? Лучше не стало никому. А хуже — бедному Антошкину, которого я обидела. И кажется, действительно незаслуженно.
Приезжай быстрее, а то мне очень плохо».
Это было письмо Буланкину, которое Лена тогда написала ему, отсутствующему, и которое не отправила, потому что было некуда: он был в то время в командировке, кажется, в Москве. Хотела, наверное, отдать, когда вернется, но почему-то не отдала, и письмо лежало в папке вместе с газетами, посвященными Антошкину.
Отложив все в сторону, Лена, перевернувшись на спину, решила еще полежать на ковре и подумать. Нет, ну вот как она могла? Обидеть безропотного Антошкина — все равно что ребенка обидеть. Нет тебе никакого прощения, Елена Турбина.
Но вынесенный вердикт не остановил поисков кассеты — и в конце концов она была-таки найдена.
Приблизительно через час Вера Петровна снова заглянула к Лене. Та уже не лежала, а сидела на полу среди по-прежнему разбросанных бумаг. Сидела в позе лотоса, в наушниках, с закрытыми глазами.
Большие допотопные наушники делали ее похожей на Чебурашку.
Вера Петровна потихоньку прикрыла дверь.
«Я не верю, что жизнь оборвется», — пел Газманов. Пел только ей, Лене.
И казалось, что она явно чувствовала сейчас запах одеколона Буланкина, надевшего на нее такие же большие наушники в тот далекий вечер в полярнинском кафе «Сполохи».
Именно с того момента имя Газманова стало значить для Лены очень многое, хотя и не слушала она все это время подаренную кассету. Так уж почему-то получилось. А вот смотреть на Газманова, когда того показывали по телевизору, очень любила. За его «Офицеров» она его просто боготворила. В этом они совпадали с Верой Петровной, которая никогда не пропускала ни одного концерта по телевизору, посвященного военным, и слушала песню «Офицеры» только стоя. От начала до конца.
Лене очень хотелось сходить на Газманова. Но прошло только две недели со дня смерти бабы Зои…
— Иди, — сказала ей мама. — Душа просит — иди.
11
В день концерта с самого утра, не прекращаясь ни на секунду, лил дождь. Он был такой сильный, что настигал всех даже в троллейбусе: вода проникала отовсюду, по сиденьям растекались лужи и лужицы — и люди не садились, а сбивались в тесные мокрые кучи в том месте, где меньше капало сверху.
Водитель дырявого троллейбуса был в ударе. Весело и азартно он вел свою посудину, которая, громыхая, смело разрезала волны образовавшегося на дорогах моря. Окатываемые лавинами воды окна троллейбуса превратились в иллюминаторы кают третьего класса, в которые бились волны и в которые суши не было видно вовсе.
Лена сбилась, считая остановки, и не могла понять, скоро ли ей выходить. Водитель, увлеченный борьбой со стихией, напрочь забыл о том, что нужно хоть иногда что-нибудь объявлять.
В результате Лена проехала лишнюю остановку. Но лихая бесшабашность водителя передалась и ей, и она, нисколько не расстроившись, зная, что в запасе у нее есть время, побрела-поплыла по тротуару назад, к цирку.
Зонт был почти бессилен перед упругими хлыстами воды и спасал только голову и плечи; юбка, облепив ноги, мешала идти; вода хлюпала в парадно-выходных туфлях. И все это безобразие возвращало к жизни. Давало надежду. Смывало тоску. Радостно будоражило.
Народу у цирка было мало. Рано еще, решила Лена. Но, подойдя ближе, она увидела огромное объявление, которое сообщало: «В связи с болезнью… Переносится… Приносим извинения».
Как же это? Ведь она так ждала… Легкая неровная трещинка пробежала где-то внутри, там же что-то щелкнуло — и погасло.
Лена сдала билет. Домой не хотелось. Никуда не хотелось. Но ноги сами собой повели к Денисову, до мастерской которого от цирка было рукой подать.
— Леночка, светлый образ! — как всегда искренне, обрадовался Евгений Иванович мокрой как курица Лене. — Заходи, гостем будешь. Да ты вся насквозь!
— Ага, — сказала Лена, уже стуча зубами. — Знаю, не выгоните. Погреться зашла.
— Вот и умница. Вот и умница, — заприговаривал Денисов, помогая Лене снять легкую куртку, у которой сухой была только верхняя часть, а рукава и полы можно было выжимать.
— Леночка, да у тебя и юбочка совсем мокрая, — жалостливо покачал головой Денисов. — И колготочки, наверное. Ты как зайчик, который со скамейки слезть не мог, весь до ниточки промок.
— Как зайчиха, — засмеялась Лена.
Она стояла пока еще у двери. Стояла на одной ноге, потому что с другой сняла туфлю и соображала, куда бы вылить из нее воду.
— Сейчас, сейчас, — засуетился Денисов.
И уже через секунду Лена сидела на стуле и трясла обеими туфлями над ванночкой для реактивов, добиваясь, чтобы вылилось все до последней капли.
Снова надевать мокрые туфли на действительно мокрые колготки совсем не хотелось. Но Евгений Иванович уже нес из соседней комнаты синий рабочий халат, тапки и обогреватель.
— Леночка, халатик чистый, я его недавно только стирал. И тапочки, видишь, как пригодились. Это мне на Новый год друг подарил. Славик Сорокин. Он у меня часто бывает. А я разве тебя с ним не знакомил?
Лена отрицательно помотала головой: нет, не знакомил.
Через некоторое время куртка Лены, ее юбка, колготки и пиджак (он тоже умудрился промокнуть) висели на лесках, протянутых через всю мастерскую, вместе с досыхающими негативами, а сама Лена в широком синем халате Денисова и его мягких тапках в веселую красно-зеленую клетку сидела у стола, вытянув ноги к обогревателю, и ждала чая. Евгений Иванович хлопотал, что-то одновременно рассказывал.
Иногда, обрывая свой рассказ на самом неожиданном месте, он посылал Лене нежный взгляд и говорил:
— Хоро-о-шенькая. И халат этот, Леночка, очень тебе идет. Очень.
Чай наконец вскипел. Но Денисов, забыв о нем, сел напротив Лены и, подперев голову рукой, начал смотреть на нее не отрываясь. Лена нисколько не смущалась, зная, что она для Евгения Ивановича — всего лишь один из объектов, отвечающих его эстетическим идеалам. А он для нее, в свою очередь, не мужчина, а совершенно удивительная Личность, вне пола, вне времени и вне пространства, далекий от будничной суеты, от мелочных человеческих страстишек, то есть от всего, что мешает воспринимать жизнь как светлый, бесценный дар и в ответ на это с благодарностью и восторгом творить ее еще более светлой и еще более высокой — человек будущего, одним словом.
И все-таки Лена не выдержала затянувшегося взгляда и сказала:
— Ну давайте, что ли, чай пить.
— Да-да, Леночка, конечно, — встрепенулся Денисов и снова захлопотал, бегая от стола к холодильнику и от холодильника к столу.
В это время в мастерскую постучали и, не дожидаясь ответа, вошли. Это была компания из двух одинаково белобрысых и одинаково маленьких и худеньких девчонок и долговязого парня, похожего на грача.
Да, было бы глупо рассчитывать, что сюда на «огонек» никто не забредет. И колготки, пожалуй, следовало бы развешивать не на самом видном месте. Но поскольку все это происходило у Денисова, можно было не брать во внимание многие условности.
— Ребятишки, проходите, проходите, — обрадовался и этим пришедшим, как родным, Евгений Иванович. — А у меня вот Леночка сушится. Елена Турбина. Знакомьтесь. Елена — поэтесса. Она нам потом почитает свои стихи. А это ребятишки, которые у меня когда-то занимались. Теперь они студенты, им некогда. Вот Танечка и Сашенька. Они в пединституте учатся. Девочки, на каком вы уже курсе? На третьем? На тре-е-тьем. А Сережа в этом году в сельхозакадемию поступил.
Хрупкие Танечка с Сашенькой и неуклюжий Сережа долго мялись на пороге, раздумывая, проходить им или нет, но уже прикидывая, куда пристроить мокрые зонты.
— Да мы на минуточку, Евгений Иванович, — пробасил Сережа, — мимо проходили, ну и…
Лене, конечно, хотелось посидеть с Денисовым наедине: поговорить по душам, рассказать про все, чем она все последние дни жила, и дышала, и спасалась. Кто бы еще, кроме Денисова, ее понял?
Да, так хотелось, чтобы никто к Денисову сегодня не пришел. И вместе с тем Лена знала, что это невозможно. Не эти ребята, так еще кто-нибудь сейчас завалится. Бедный Денисов… Ему никогда не дают побыть одному. Идут все кому не лень. А Денисов, похоже, почему-то рад (во всяком случае, внешне) им не меньше, чем Лене. И это было обидно.
Денисов засокрушался, что мало еды, и, отведя Сережу в сторонку, пошептался с ним, пошарил в карманах и, сунув ему деньги, отправил в ближайший магазин.
Усадив девочек и сам присев на краешек стула, Евгений Иванович начал им рассказывать, какие хорошие стихи пишет Елена Турбина, а ей — какие это хорошие девочки. Тут же, не усидев долго на месте, он принялся разыскивать папку со снимками, которые были сделаны Танечкой и Сашенькой лет пять назад. Как он все умудрялся держать в памяти?
Найдя и показав-похвалив фотографии Танечки-Сашеньки, Евгений Иванович уже демонстрировал девчонкам книгу Лены и зачитывал отдельные строчки. Зачитывал с выражением, присущим только ему. Очень вдумчиво и очень печально. Когда он проникновенно произнес: «Ты на целую жизнь задержался», — дверь открылась. Но на пороге появился не Сережа, как ожидалось, а некто невысокий, с коротко стриженным ежиком серебристых волос, Лене не известный. Евгений Иванович немедленно обрадовался и ему:
— А это мой старый друг. Я сегодня, Леночка, тебе про него как раз говорил. Славик Сорокин. Точнее, Вячеслав Алексеевич.
— Приветствую честную компанию. Вот проходил мимо… Дай, думаю, зайду к Денисову, — сказал новый гость неожиданно густым и теплым басом, который никак не вязался с его никак не осанистой фигурой. И спросил, раскрывая зонт для просушки: — Где-нибудь пристрою?
— Что же это вы все в такую погоду гуляете? — спросил-посочувствовал Денисов. — Хороший хозяин собаку из дома не выгонит.
— У меня дело было здесь неподалеку, — начал оправдывать свой визит Славик, которому было, как и Денисову, лет пятьдесят или, может, чуть меньше.
Но Денисов, нисколько не интересуясь мотивами прихода к нему Славика, уже рассказывал ему:
— Это Танечка с Сашенькой. Они учатся в пединституте, на литфаке, уже на третьем курсе. Да ты их должен помнить.
Славик покивал: помню, помню. И вопросительно посмотрел на Лену.
— А это Елена Турбина. Она пишет стихи. Вот ее книжка. Леночка МГУ закончила, журналистка…
— Бывшая, — вклинилась Лена и поглубже запахнула синий халат, у которого не было пуговиц и полы которого ей приходилось придерживать скрещенными на груди руками.
Славик перевел заинтересованно-насмешливый взгляд с Лениного лица на руки, потом — на голые Ленины ноги в клетчатых тапочках, которые он для хохмы подарил Денисову на Новый год.
— Вы тут по-домашнему совсем, — сказал.
Лена хотела объяснить, но Денисов уже сам все объяснял, показывая на развешенные по всей мастерской Ленины вещи:
— Леночка шла на концерт. А его отменили. И она промокла. Ну просто вся насквозь, до ниточки, как зайчик на скамейке. Боюсь, не простудилась бы. Сейчас будем чай пить.
— Да не чаю, а водки ей надо, — сказал абсолютно серьезно Славик, взял свой зонт и вышел, бросив на ходу: — Я сейчас.
— Славик водочки сейчас принесет, — сказал Денисов и налил Лене чаю. — А ты, Леночка, пока все-таки чайку выпей. И вы, девочки, попейте чайку. Водочку вам рано еще пить.
Пришел Сережа, принес вафельный торт, конфеты. Он оказался подвижным, шумным, юморным, подсел поближе к девочкам — и у них завязалась своя беседа, состоящая в основном из возгласов «круто» и «вау». А Денисов снова подсел к Лене и снова заглянул ей в глаза:
— Глазки-то у тебя грустные.
— А с чего им быть веселыми? — спросила Лена, моментально настроившись на разговор по душам и забыв, что такого разговора сейчас никак получиться не может.
— Леночка, ты такая красивая. У тебя должен быть любимый мужчина.
— Нету, Евгений Иванович. Не-ту.
— Но это неправильно. — Денисов вздохнул и сокрушенно покачал головой.
— Конечно, неправильно, — тоже вздохнула Лена.
— Надо же как-то искать, — задумался Денисов.
— Как? Посоветуйте.
— А Славик, — встрепенулся вдруг Денисов, — между прочим, не женат. Он тебе понравился?
— Евгений Иванович, миленький, ну как он мне может понравиться? Я его первый раз вижу!
Сказать откровенно, Лена покривила душой. Славик показался ей очень симпатичным.
— А ты ему понравилась, — тихо, но очень воодушевленно говорил Денисов, — я это сразу почувствовал. Ты присмотрись к нему. Он, правда…
Лене уже было интересно. Свободные мужчины с такой красивой сединой и таким приятным голосом встречаются не часто. Но в этот самый момент, когда она уже была готова слушать историю Славика, он и вошел. С большим пакетом.
Несмотря на худощавость и невысокий рост, Сорокин производил впечатление неторопливого и основательного человека. Он поставил пакет у двери, снова раскрыл зонт, снова поискал, куда его можно поставить, и поставил, снял кожаную куртку, повесил ее, вернулся к дверям, взял пакет и направился к столу. Все это — медленно и молча. По пути он, опять же без улыбки, отвел рукой мешающие ему пройти прозрачные макаронины Лениных колготок и наконец оказался рядом с ней. Он поставил на стол сначала бутылку дорогой водки, а потом выложил рядом с ней апельсины, шоколад и еще какие-то вкусности.
— Ну-у, пируем, — протянул удивленно Денисов и, быстро повернувшись к Лене, сделал большие глаза: я же говорил!
Лена поняла, что подобные приступы щедрости у друга Евгения Ивановича случаются, видимо, не часто.
«Ребятишки» активно набросились на еду, наотрез отказавшись от водки, которую им антипедагогично предлагал Сорокин. А Денисов, Вячеслав Алексеевич и Лена активно выпивали. Сначала — за знакомство, потом — за Лену, потом — за Денисова. Закусывать как-то не очень получалось, потому что они много говорили.
Денисовский друг оказался умен и начитан. Просто до безобразия умен и начитан. Все время цитировал Чехова, которого он знал, кажется, наизусть. До сегодняшнего вечера Лена думала, что она тоже любит Антона Павловича. Но, во-первых, оказалось, что не так уж хорошо она его знает; а во-вторых, соглашаться во всем со Славиком, которого она, конечно же, почтительно называла Вячеславом Алексеевичем, было скучно. Поэтому она спорила почти со всеми утверждениями великого писателя, которые сыпались из уст друга Денисова как из рога изобилия. Правда, иногда можно было догадаться, что за чеховские Сорокин иногда выдает и суждения других писателей, и свои собственные.
— Как сказал Антон Павлович, Леночка, женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского глупеют. Выпьем же за гармонию.
— В этом ваш Чехов, может быть, и прав, — решила согласиться Лена, не зная еще, что скажет дальше.
— А в чем же не прав, позвольте полюбопытствовать? — Славик постоянно вызывал Лену на спор. Ему откровенно нравилось, как она горячится. — Так в чем же не прав Чехов? — повторил Славик, не сводя с Лены всезнающе-всепонимающих прозрачно-серых глаз.
— Я вообще Чехова не люблю, — ответила Лена. Как и положено женщине ответила.
Славик это оценил, захохотал и похлопал в ладоши. И стал смотреть в Леночкины глаза еще более проникновенно и, пожалуй, как ей начало в какой-то момент казаться, восторженно. А она попробовала развить свою мысль о нелюбви к Чехову. Сделать ей это было довольно трудно. И потому, что она все-таки всегда этого писателя, как умела, любила. И потому, что водки было выпито многовато — хотя она каждый раз делала буквально по глотку, но для нее все равно многовато.
— Я не могу понять этого всеобщего поклонения. — Лена с трудом, но все-таки нашла красивые слова, принадлежавшие вовсе не ей, а вычитанные недавно из воспоминаний об Ахматовой.
— Его вселенная однообразно-тускла, его мир покрыт тиной и серой мглой, — мужественно барахталась она в ахматовских словах и мыслях, прикрывая свою неубежденность патетикой голоса и рук. — Его мир — это море слякоти, в котором беспомощно увязли маленькие никудышные человечки… Он принижает всех, особенно женщин, — продолжала Лена уже от себя и удивляясь, почему она раньше не понимала, как права Ахматова, — считая, что вокруг — только пошлость и бездуховность, только обыватели с мелочными запросами. Не слишком, между прочим, благородная позиция: считать себя на рубль дороже.
— Но абсолютно честная и лишенная всяких иллюзий. — Славик немного занервничал. — Да и не на рубль. А на много-много рублей.
— Тем более, — отчеканила Лена и поднялась, давая понять, что спор окончен и последнее слово должно остаться за ней.
— Этот халатик, Леночка, тебе очень идет, — примирительно сказал Денисов.
Евгений Иванович не любил никакого рода споров. И пребывал все это время, пока длилась перепалка межу Славиком и Леной, в легком замешательстве.
Леночка, забыв придерживать разъезжающиеся полы халата, напряженно соображала, что же ей делать дальше. Вот она встала — а теперь что? Денисов на всякий случай пошел снова ставить чайник. «Ребятишки», насытившись, оказывается, давно уже ушли, чего Лена и не заметила. Славик с любопытством взирал на окончательно смешавшуюся и растерявшуюся Лену. Не любящая Чехова, она ему все равно нравилась.
Через полчаса, после чая с лимоном, Лена почувствовала себя увереннее и сказала Славику под ободряющие взгляды Денисова:
— Вы, конечно, меня проводите.
— Конечно, — откликнулся он. — А вы так и отправитесь — в халате и тапочках Евгения Ивановича?
12
Когда Лена рассказала Ольгунчику, что у Денисова познакомилась с Сорокиным, та замахала руками:
— Да знаю я этого Славика! Папочка давно мне его сватал.
— Ты ничего не говорила, — удивилась Лена.
— Было бы что говорить! Зануда жуткий. Человек в футляре. Премудрый пескарь. Как бы чего не вышло. Тоска. Ленка, он тебе не пара! — Все это Ольгунчик выдала почти без пауз. А потом уверенно заключила: — Даже не думай. Там зацепиться не за что.
Но с точки зрения Лены, напротив, зацепиться как раз было за что. Умный — раз. Ироничный — два. И кажется, ищущий серьезных отношений — три. Таковы были доводы разума. У сердца, как водится, доводов никаких не было, но оно уже радостно замирало при мысли о Сорокине.
А Денисов после знакомства Сорокина с Леной, почувствовав, что Славик не на шутку увлечен, хотя и пытается это всячески скрыть, втолковывал другу детства:
— Она живет, как бы это сказать… Тепло и радостно. Вот как. Это бывает редко, поверь. От нее исходит свет.
Понимаешь? Между прочим, Елена в переводе с греческого означает «светлая, сияющая». Чтоб ты знал. И вместе с тем такая незащищенность… Ее хочется оберегать.
И вдруг, вскинув голову и сам засветившись изнутри благородным светом борьбы за счастье всех живущих, Денисов воскликнул:
— Славик, неужели ты не видишь, какая это необыкновенная женщина?!
— Действительно, она очень красивая, — невозмутимо откликнулся Сорокин.
— Да не то ты говоришь! — Денисов расстроился и махнул рукой.
— А сам-то ты чего? — поинтересовался Сорокин.
— Ты о чем? — искренне не понял Денисов. Сорокин мефистофельски захохотал, обнажая ровные белые зубы.
— Зубы у тебя, как у голливудской кинозвезды, — заметил Денисов. — И за что только Леночка на тебя глаз положила?
Сорокин, скрывая свои истинные чувства от Денисова, не мог скрыть их от самого себя. Конечно, Лена ему понравилась. Да какое, черт возьми, понравилась! Он уже спать не мог! И не только от того, что его воображение будоражили разные смелые фантазии, связанные с этой красивой и желанной до зубовного скрежета женщиной. Он не спал еще и потому, что обмозговывал и никак до конца не мог обмозговать, насколько все это может быть серьезно. Ну, постель — дело нехитрое. До этого должно дойти быстро. Сорокин не сомневался в себе по этому поводу. Он не помнил случая, чтобы ему не удалось «уговорить» понравившуюся женщину. Правда, таких красивых, как эта, он, кажется, пока не встречал. Но это, как говорится, детали. Что дальше-то? Сможет ли такая стать хорошей женой, вот в чем все дело.
Печальный опыт и официального, и гражданских браков у Сорокина уже был. Вроде любил, и его любили. А потом — куда все девается? Конечно, пора, наверное, как-то определиться. Матушка была бы рада. А с другой стороны, разве им плохо вдвоем? Маме в ее возрасте привыкнуть к чужому человеку будет трудно, хоть она и говорит, что не сможет спокойно умереть, пока не увидит его счастливым. Вот и пусть живет! Ведь женитьба и счастье, к сожалению, не всегда совпадают. Точнее, совпадают редко. Да и вообще… Менять что-то… Какой он, к черту, молодожен? И детей заводить в таком возрасте… Нет, покой и воля всего дороже. Да, на этом и надо остановиться. Значит… Значит, достанется Леночка, как зовет ее Женька, кому-то другому?! Вот это Сорокину определенно не нравилось. Кстати, почему она, спрашивается, замуж не вышла? А? Лет-то ей не так уж мало, хоть и выглядит… Да… Ну, любовники-то у нее определенно водятся. А кандидатур в мужья наверняка кот наплакал. Так что шансы у Сорокина есть. Определенно. Жениться, что ли? А кто, собственно, сказал, что обязательно нужно жениться? Что он, в самом деле? Как мальчишка, ей-богу!
Сомнения, терзающие бедного Славика, не помешали ему позвонить Лене. Правда, дня четыре он выдержал, решив, что так будет лучше.
Лена на самом деле ждала звонка. Нервничала, кидалась к телефону — и дома, и на работе.
В конце концов они встретились. Слава пригласил Лену в кафе, где они просидели долго, часа три.
Разговор сложился, несмотря на то что Лене было сначала нелегко подстроиться: манера общения Славы, его изысканно-витиеватый слог мешали и отвлекали от главного: от него самого. Но часа через полтора Лена уже могла вполне спокойно слушать Сорокина. Состояние мучительной напряженности — что же такое сказать, чтобы соответствовать? — постепенно ушло. И она стала самой собой. Говорила так, как говорила всегда. Говорила о том, чем жила последнее время: баба Зоя и ее незримое присутствие, Алешка и его неумение жить, мама и их былое непонимание.
Слава слушал внимательно. Не все ему было понятно в этой женщине. Что-то даже слегка пугало. Но ничто не отталкивало. Слушать и слышать ее хотелось. А еще больше хотелось смотреть на нее. И гладить ее лицо, руки, всю — тоже хотелось. Но пока это представлялось совершенно невозможным. Это нужно было заслужить: пониманием, красивыми поступками. Так Слава почему-то решил сейчас, хотя в общении с женщинами не привык откладывать желаемое в долгий ящик.
Они встретились на следующий день.
Лена, тщательно выстраивая сценарий их встречи, рисовала себе прогулку по набережной, куда каждый год в половодье весна собирала влюбленных и пенсионеров со всего города. Ничего более оригинального, чем стать частью толпы на набережной, Лене почему-то не придумалось. Хотелось широты, простора, весеннего ветра с разлившейся Оки, становившейся в иные годы бескрайним морем с далеким манящим горизонтом и настоящими волнами. После возвращения с Севера прогулки по набережной во время разлива стали для Лены традицией. Наверное, это была ностальгия по настоящему морю. Но к ностальгии всегда примешивалось что-то еще необъяснимое, волнующее, такое же безбрежное, как река-море. И загадочное. Но разгадок Лена не искала. Все просто. Весна. И Лена, испытывая необъяснимое блаженство, радостно и с восторгом сливалась с толпой. Она без всякого сожаления теряла себя в многоликом людском потоке, легко и свободно отказываясь от своего «я», от своей избранности-неповторимости. Быть частью толпы — унизительно? Это неправда. Быть частью толпы, опьяненной весной, — здорово.
— Что? На набережную? — с нескрываемым ужасом спросил Славик. — Леночка, вы меня удивляете. Да вы знаете, сколько там сейчас народу? Эта разношерстная толпа… И потом, это так неоригинально — набережная. Давайте придумаем что-нибудь другое.
Славик в отличие от Лены толпу презирал и свое «я» отдавать ей не хотел. Лена решила не настаивать. Любопытно, что он сможет предложить? На ее непрозвучавший вопрос он ответил вопросом:
— Вы бывали на Лазаревском кладбище?
И, не давая опешившей Лене опомниться, продолжил:
— Там сейчас, наверное, много ландышей. И — тишина.
— И мертвые с косами стоят, — задушевно добавила Лена. А потом, остановившись, начала раздумывать: — Нет, кладбище — это, конечно, очень оригинально. Но как-то, знаете, не хочется… на кладбище. Почему-то.
Лазаревское кладбище находилось в самом что ни на есть центре города. Лет ему было много. Может, двести, а может, и все триста.
Кладбище оказалось не столько скорбным приютом для памятников и надгробий над останками усопших, сколько величественной державой огромных старых лип и берез. Давно уставшие тянуться вверх, они покорно отдались времени, ожидая неизбежного конца. Но их изможденные ветки уже украсились молодыми наивными листочками, и это снова обещало им еще один год жизни. Сквозь негустую зелень переплетающихся веток проникал яркий свет царящего в мире солнца, не оставляющего своим вниманием ни единого уголка, в том числе и этого, который назывался Лазаревским кладбищем.
Яркий свет, несущий безудержную до неприличия радость и ощущение счастья, нарушал гармонию пространства, в котором должна была царить сама вечность с ее скорбью и надменным покоем.
Тишины, обещанной Славиком, здесь тоже не было. Птицы заливались так звонко, их щебет был так разноголос и боек, что Лене захотелось им сказать: «Товарищи, потише, пожалуйста!» Она так и сказала. Совершенно серьезно. Вячеслава Алексеевича это необыкновенно развеселило. Лене захотелось и его приструнить. Останавливая его совершенно неуместный хохот, она приложила ладонь к его губам. Славик замер на мгновение, потом положил свою руку на Ленину, нежно сжал ее и, прежде чем отвести от своего лица, несколько раз поцеловал ладонь. Что было делать после этого? Лена, чтобы скрыть неловкость-замешательство, отступив на шаг назад, начала, оглядываясь по сторонам, задавать разные вопросы. А почему кладбище называется Лазаревским? Почему оно находится в центре города? И вообще…
Славик, снисходительно-понимающе усмехнувшись, начал объяснять. Он объяснял интересно, но слишком долго. Можно было бы и покороче.
А вот ландышей на кладбище действительно было очень много. Они росли везде: в оградах могил и между ними, вдоль дорожек и даже на них самих. Было понятно, что рвать — нельзя. А вот вдыхать их пронзительный, пьяняще-горьковатый запах — сколько угодно. Изредка набегал ветер, принося на мгновение машинный дух города, но ландышевый дурман оказывался сильнее и крепче — и ничто не могло помешать его беспредельному господству.
Лена и Вячеслав Алексеевич бродили между надгробиями, вчитывались в фамилии, всматривались в даты жизни и смерти.
— Мир полон дремлющей любви, — вдруг остановившись, задумчиво проговорил Вячеслав Алексеевич. Как-то не очень к месту проговорил.
— Я не знаю, чьи это слова, — откликнулась Лена. И продолжила, — но мне кажется, что не Чехова.
— Леночка, с юмором у вас все в порядке, — засмеялся Слава. — Но клянусь, я не только Чехова читаю. А это сказал Иван Александрович Ильин, знаете, кто такой? Или рассказать?
— Представьте себе, знаю, — улыбаясь ответила Лена. — И даже читала. И даже книжка его имеется. «Поющее сердце» называется. Вам, конечно, знакомо это название.
— Конечно, знакомо. Между прочим, про дремлющую любовь — это или оттуда, или из другой — «Я вглядываюсь в жизнь». Если позволите, продолжу. — Слава вопросительно посмотрел на Лену. Она благосклонно кивнула.
— Так вот. Далее (за точность не ручаюсь) Ильин пишет: «Счастлив тот, в ком она проснется и кто сумеет не упустить ее, не опошлить, а сохранить живой». Не помните такого? А мне вот запало. Поговорим в связи с этим о странностях любви? А, Леночка?
— Господи, как вам удается столько всего держать в памяти? — Лена удивленно покачала головой, вспоминая, как когда-то подобный вопрос она задавала Буланкину (везет же ей на начитанных!).
Предложение «поговорить о странностях любви» она попыталась оставить незамеченным. Но Слава не сдавался.
— Лена, так что вы думаете по этому поводу?
— Да ничего не думаю, — отмахнулась та.
— Ну-у, такая красивая женщина — и ничего не думает о любви? Так не бывает.
— Послушайте, Вячеслав Алексеевич, — начала вдруг раздражаться Лена, — если вам так интересна эта тема, то, пожалуйста, развивайте… Вы же видите, я готова слушать. А вот вытягивать из меня ничего не надо!
Когда они вышли за ворота кладбища, солнце уже скрылось за городскими постройками, но, посылая оттуда свое розовое золото, торопилось дополыхать-догреть, торопилось отдать свое тепло, заботу и любовь тем, кому не хватило этого днем. Отдать тем, чью «дремлющую любовь» оно не успело разбудить и кто остался глух к свету и добру, посылаемым свыше.
— Вы так и будете меня все время звать Вячеславом Алексеевичем? — спросил Сорокин Лену, когда они прощались у ее дома.
— Признаться, я с самого начала зову вас про себя Славиком, как Денисов, — засмеялась она.
— Ну-у, Славик — это как-то несерьезно. Просто Слава. Хорошо?
— Хорошо, — весело кивнула головой Лена.
— А на «ты» мы перейдем? — спросил Сорокин, обнимая ее и заглядывая в глаза.
— Не знаю, — мягко освобождаясь от объятий, ответила Лена, — время покажет.
— Я позвоню завтра. Да?
Слава не обиделся на то, что Лена выскользнула из его рук. Ее это обрадовало, а то она уже готова была пожалеть, что поторопилась освободиться от его объятий. Он ведь мог подумать, что они ей неприятны. А это было не так.
Вячеслав Алексеевич, Слава, был не просто приятен ей — он был ей слишком приятен. Ей хотелось вдыхать его запах, слышать его голос, ощущать рядом его плечо. Возможно, это был наконец ее мужчина. Как Олег. Как Буланкин. Судьба отняла одного, не дала другого… Но не может же она оставить Лену совсем без никого.
Лена размышляла об этом всю ночь, прихватив и кусочек утра. И все равно не хватило времени, чтобы все как следует обдумать-осознать. Она вспоминала, что ей не было со Славиком легко и просто. И вместе с тем чувствовала, что он ее необыкновенно притягивает.
Она рассуждала: да, именно таким ей хотелось видеть своего мужчину — умным, снисходительно-великодушным, спокойным и уверенным в себе.
Она вспоминала: он похож на Буланкина — и это хорошо.
Она переживала: вдруг ошибается?
Она боялась: может, она Славе и не понравилась вовсе? Хотя было совершенно ясно, что понравилась. Очень понравилась. И все равно не засыпалось — не спалось. Никак не спалось.
А Сорокин спал очень даже хорошо. Крепко и спокойно. Потому что перед сном твердо все решил. И нечего тянуть. Завтра же он обо всем ей скажет.
Правда, на следующий день ничего такого Слава Лене не сказал. И позже — тоже не сказал.
Денисов был вроде бы и рад, что У Лены начало что-то складываться с Сорокиным. Но было видно, что он как будто бы сомневается. При встрече с Леной он пытливо заглядывал ей в глаза:
— Леночка, я надеюсь, у вас со Славиком все хорошо? Лена пожимала плечами.
— Не знаю. Нормально. Вчера были в театре. Ольгунчик, несмотря на то что Славик ей активно не нравился, возмущалась, что события развиваются так медленно: театр, прогулки — и все. .
— Ленка, ну вы хоть целуетесь?
— Один раз целовались. Так получилось.
— Один раз! Обалдеть можно! Вам что — по пятнадцать лет? А вдруг он вообще импотент? Зачем тогда время на него тратить?
— Да нет, не думаю. Просто как-то… Ну негде, понимаешь. Ты же знаешь, что он тоже с мамой живет. Вот моя на дачу уедет, тогда, может, в гости его приглашу.
— Нет, ну он что, не может ничего придумать? — удивлялась Ольгунчик. Ей страшно хотелось интимных подробностей. А их все не было и не было.
Слава исправно звонил Лене каждый день. Раза два в неделю они встречались. Лена подробно рассказывала о работе, о своих мыслях, иногда читала стихи. О своей работе Слава по-прежнему ничего толком не рассказывал: что-то коммерческое. А вот порассуждать-пофилософствовать любил. Лена слушала внимательно, пытаясь запомнить слова классиков, которыми Сорокин любил подтверждать свои мысли. Но потом она быстро все забывала. И расстраивалась по этому поводу. Правда, успокаивала себя: ум и память ведь не одно и то же. Ну не может она так легко цитировать Чехова, Толстого или Пушкина! Но это вовсе не значит, что она ничего не знает. Очень даже знает. А главное, и понимать, и чувствовать ей было дано не меньше, чем Славе, а скорее гораздо больше. Она была в этом почему-то абсолютно уверена. И была, заметим, права.
13
Весна звала Лену не только на набережную: еще больше ее тянуло в лес. Тем более что незакончившаяся весна уже вовсю пахла неначавшимся летом.
Совершенно спятившее по неизвестной причине солнце, потеряв всякое чувство времени, меры и степени, палило так неутомимо и так страстно, что все под ним (люди, собаки и кошки, земля, деревья и трава) тоже слегка обалдело и совершенно терялось, не понимая, как себя вести.
Людям было пока еще неловко и непривычно обнажать свои бледные тела, и они ежеутренне маялись вопросом: что надеть?
Дворовые собаки, разморенные, валялись на каждом шагу, мешая пройти.
Кошки лениво бродили, покачиваясь, и вопросительно таращили свои желто-шальные, как одуванчики, глаза. А одуванчики, кстати, уже отцветали, потому что — всему свое время, которое, как оказалось, определяется вовсе не календарем.
Земля, прогревшись, дала волю буйной траве, которая умудрилась в считанные дни вымахать во всех дворах и закоулках чуть ли не по пояс, а теперь упорно пробивала ненадежный асфальт городских тротуаров.
Каждое утро по пути на работу Лена, вглядываясь в густую, уже почти темно-зеленую листву, с беспокойством отмечала, что воинственно наступающая жара успела бесследно смести трогательную наивность-неуверенность весны с ее девическими тайнами и робкими вопросами. Лене было жалко загубленную девушку-весну. Ей было грустно. Но все равно тянуло на природу. В лес.
Слава откликнулся на предложение с охотой. И сказал, что нет ничего лучше леса, когда он уже зелен, прогрет и цветист. Правда, комары помучат, это уж точно. Поэтому позаботьтесь, Леночка. А уж обо всем остальном позаботится он, Слава.
Машины у Славы не было. К глубокому сожалению Лены. И они поехали в лес на автобусе — на автобусе, который был, конечно же, переполнен, в котором толкались, беззлобно переругивались и громко обсуждались глобальные проблемы современности (основной среди которых просматривалось текущее безденежье).
Лене со Славой удалось занять уголок на задней площадке, и им было относительно удобно. Неудобным, по мнению Лены, было только то, что Славу к ней слишком уж прижали. И она, смущаясь, все пыталась как-нибудь отклониться-отдалиться, увеличив между ними несуществующее расстояние. Но у нее ничего не получалось.
Слава понимающе и, как всегда, немного снисходительно усмехался. При этом в глазах его прыгали веселые и ужасно довольные чертики.
Тепло Славиного тела, ощущение того, что он чувствует ее грудь так, как будто они уже слились в страстных объятиях, близость его губ и глаз, запах его одеколона — все это кружило голову и мешало воспринимать то, что он говорил. Мешало понимать суть его вопросов. Мешало отвечать. Лена только беспомощно улыбалась и отрицательно качала головой: ничего не могу сказать!
Хотя Лена и была инициатором этой поездки, она совершенно не представляла, куда они едут и куда пойдут. Но Слава сказал, что он все знает.
Они долго-долго пробирались узкими тропинками к какой-то удивительной, как обещал Слава, полянке.
Поляна действительно оказалась очень симпатичной. Вокруг нее беспорядочно, но при этом весьма почтительно толпились огромные старые сосны с рыжими голыми стволами и зеленью где-то высоко-высоко. Между ними теснились молодые, но вполне уверенные и любопытные березки и высокие кусты неизвестной породы с широкими длинными листьями.
На поляне было много новой травы, густой и яркой; бело-розово пестрели скромные, но многочисленные лютики-цветочки; в своих отдельных колониях беспощадно-желто глазели одуванчики (здесь, в лесу, они отцветать пока еще не собирались). Но милее и ближе показались островки сухостоя, которые манили своей скромностью, деревенской домашней прогретостью и душновато-теплым запахом сена, всегда с радостью узнаваемого горожанами.
На одном из таких островков и расположились Слава с Леной.
Лена прихватила с собой не только мазь от комаров (которые, кстати, страшно обрадовались долгожданным гостям), но и плотное покрывало, на котором можно было бы посидеть.
На этом самом покрывале, не успела Лена его расстелить, Слава быстро раскинул большую красивую салфетку и обстоятельно начал выгружать на нее содержимое своей сумки. И выгружал, надо сказать, очень долго.
— Как вам, Леночка, наша скатерть-самобранка? — поинтересовался.
— Очень, — сказала Лена. — Только спиртного, кажется, многовато. И закуски — тоже.
— А я, между прочим, проголодался. И сейчас уже время обеда. Так что все — в самый раз. А спиртное… Разве это много? Кстати, с чего начнем? По правилам, надо начинать с того, где градусов меньше. Но я предлагаю — с водочки. А вино — на десерт, с фруктами. Годится?
— Годится, — кивнула Лена. — А руки где будем мыть?
— А на этот случай, представьте себе, Леночка, недалеко есть колонка. На турбазе. Турбаза скорее всего еще не работает, а вода в колонке, хочется верить, есть.
— Ой, а как же наша скатерть-самобранка? — засомневалась Лена. — Вдруг кто-нибудь…
— Леночка, да мы здесь с вами одни совсем! Кроме комаров и птиц — никого. Слышите?
Лена прислушалась — действительно никого.
Колонка среди заколоченных турбазовских домиков на самом деле работала. На голоса и на шум воды пришли две собаки: одна черная, гладкошерстная и большая, другая — грязно-белая, лохматая и маленькая. Но обе — жутко беспородные и худые, с одинаково грустными глазами, в которых при виде моющих руки людей одинаково заплескалась надежда: не может быть, чтобы не накормили.
Конечно, и мясо, и колбаса Лениными стараниями достались сначала собакам. Слава ворчал:
— Леночка, я ведь тоже есть хочу, и вы, полагаю, проголодались. Нам ничего не достанется. Да и вредно им так много сразу.
Собаки не понимали, что вредно, и, мгновенно глотая по очередному куску, синхронно-радостно вскидывали головы: еще!
Все это безобразие, как выразился Слава, длилось до тех пор, пока он не замахал на собак руками: «Все, все! Пошли отсюда!»
Братья меньшие покорно потрусили по своим собачьим делам, а Лена и Слава наконец уселись и приступили, как торжественно провозгласил Слава, к трапезе.
Чокнувшись белыми пластмассовыми стаканами с водкой, они сначала выпили за то, что у Лены родилась такая прекрасная мысль приехать сюда, потом — за «нетленную красоту русской природы» (это были, разумеется, Славины изыски), потом — снова за красоту, но уже за Леночкину.
Лена, стараясь каждый раз только слегка пригубить, все равно моментально запьянела. На душе было странно легко. Все несчастья-страдания, и давние, и последние, как будто бы остались в другой жизни. А может, их и вовсе не было. Точнее, все, что было, было не с ней. И она просто прочитала об этом где-то? А сейчас открыта новая страница новой книги, и впереди — неведомое, незнакомое и беспечальное.
Лене нравилось все. Поляна — прелесть! Еда — вкуснотища! Слава — очень мил. Очень. И разговор за питьем-едой порхал легко, как бабочки на поляне.
Обычные для Сорокина витиеватость и некоторая заумность рассуждений сменились тонкими остротами и доступными афоризмами. И Лена непринужденно поддакивала, а чаще — роняла вскользь что-нибудь очень в том же духе, что еще больше, с точки зрения Сорокина, добавляло Лене привлекательности-сексуальности — и вообще он уже за себя не ручался.
А Лене в свою очередь думалось, что она, возможно, уже влюбилась в Славу. Такого умного, такого… В общем, ей было хорошо. Мешали только комары, которых мазь не только не отпугивала, а казалось, наоборот, притягивала.
Турбаза, куда Лена и Слава опять отправились мыть руки, снова встретила их молчанием забитых окон. Ни сторожа, ни рабочих каких-нибудь — никого.
А возвращались они на поляну, уже обнявшись. И Слава почти уже ничего не говорил.
Когда они добрались до своего островка с покрывалом, Лена, пытаясь почему-то отдалить то, что неминуемо приближалось, сказала:
— А сейчас мы будем есть фрукты!
— А потом опять пойдем мыть руки? — поинтересовался Слава.
— Возможно, — ответила Лена.
— Фрукты так фрукты, — сказал Слава.
«Фрукты так фрукты», — не только сказал, но и подумал Сорокин и взял в руки бутылку с вином. Бутылка была красивая. Название на этикетке — тоже. А вот штопора не было. Не проблема. Сейчас…
Слава поднялся в поисках какой-нибудь палочки: пробку надо было проткнуть в бутылку. Не проблема.
Сорокин нашел подходящую сухую ветку, отошел на несколько метров к удобному пеньку, поставил на него бутылку.
Лена, полулежа на покрывале, лениво наблюдала за Сорокиным. Потом на секунду отвлеклась, увидев нарядную бабочку, замершую рядом на сухой траве. Раздался хлопок. Громкий, как выстрел. И звон стекла. Ясно: вина не будет.
— Лена, несчастье! — это голос Славы.
Он уже рядом. Его лицо — белее пластмассового стакана. И кровь. Много крови.
Слава пытался зажать страшную скважину у запястья левой руки, из которой фонтаном, прямо ему в лицо, била алая кровь. Алая. Артерия. Лена это знала. Помнила откуда-то. Перетянуть жгутом. Скорее!
Стоять Слава уже не мог. Силы покидали его. Он сидел на земле, держа вверх перетянутую всеми Лениными силами и его носовым платком руку и ничего не говорил. Лена шлепала его по щекам и кричала:
— Слава, я умоляю! Слава, сейчас!
Лихорадочно, неотступно стучало в голове: «Здесь же — никого!»
И вдруг… Господи, голоса! Не может быть, голоса! А с другой стороны — шум мотора. Где-то близко — машина!
— Помогите! — закричала, оглянувшись, Лена. — Помогите! Быстрее!
К ним уже спешила пожилая пара. Оба — в спортивных костюмах. Он — почти бежал, за ним прихрамывала она.
— Побудьте с ним. Не дайте ему потерять сознание, — быстро проговорила Лена уже на ходу. И она побежала в сторону турбазы. Именно туда поехала машина.
«Господи… Туда… Там… Умоляю…» Лена вслух, то тихо, то громко, выкрикивала обрывки бессмысленных фраз. И неслась, не разбирая дороги, туда, где только что затих мотор.
— Господи, спасибо, — выдохнула она, увидев, как из машины вышли парень с девушкой и поднялись на крыльцо домика с забитыми окнами.
Она хотела крикнуть им, чтобы они остановились. Она хотела крикнуть — но не смогла. Они закрыли за собой дверь. Через секунду Лена уже рванула ее на себя. В темном коридоре парень обнимал девушку.
Лена кинулась к ним, оторвала парня от девушки и вытащила его на крыльцо, приговаривая:
— Быстрее! Умоляю, быстрее!
Ошалевший парень ничего не мог понять, но уже сидел за рулем. «Туда!» — показала она рукой.
Дороги как таковой не было. Но они проехали. Одинаково седые старички уже вели Славу к машине. Кровь теперь уже не била фонтаном, а ровно заливала всего Славу из-под еще одной повязки, которую наложили на рану старики. Жгут почему-то не спасал. Джинсы, рубашка… их можно было выжимать. Парень, видимо, засомневался: машину пачкать не хотелось. Но под Лениным молящим взглядом решительно шагнул к Славе и помог усадить его на переднее сиденье.
Лена метнулась к задней двери, резко распахнула ее. Понимая, что нельзя терять ни секунды, она в последний момент все-таки успела обернуться к старикам и, прижав руки к груди, не в силах выразить им благодарность, помотала головой и возвела глаза к небу, очевидно, призывая Бога воздать им за милосердие. Они тоже качали головами, но сокрушенно-сочувственно. Что-то говорили на прощание. Что-то советовали. Но Лена этого уже не слышала.
Машина бешено неслась, подпрыгивая на ухабах лесной дороги. При этом она отчаянно дребезжала всеми своими составляющими, грозящими в любой момент отвалиться. Поэтому Лена истово молила про себя: «Господи, сделай так, чтобы доехали, чтобы ничего не сломалось». А вслух, то обнимая Славу сзади за плечи, то гладя его волосы, она приговаривала: «Миленький мой, родненький, потерпи».
Казалось, что они едут вечность. А до поселковой больницы было всего шесть минут езды. Так сказал парень.
В больнице, к счастью, было целых три единицы свободного медперсонала женского пола. Они чуть ли не с радостью бросились к Славе: наконец-то есть кого спасти!
Славу довели до кабинета, усадили на стул. Он тут же потерял сознание. Но это уже не было так страшно. Рядом были врачи, которые с помощью, очевидно, нашатыря сразу же привели его в чувство. Передав им Славу и ответив на какие-то вопросы, Лена вышла из кабинета и обессиленно прислонилась к стене. Парень, привезший их (Лена теперь рассмотрела: он был круглолиц, румян и черноглаз), топтался около двери. Лена полезла в сумку за деньгами, которых, признаться, у нее было очень мало. Он отшатнулся: да вы что! Повиснув у него на шее, Лена наконец заплакала.
Потом была «скорая помощь», мчащаяся с сиреной в город, приемный покой БСП, снова рассказ о том, что произошло.
На каталке Славу повезли в операционную, Лена еле поспевала рядом, держа его за руку. А он все пытался сообразить, как же лучше сообщить маме. Паниковал, что останется без руки.
Лене хотелось, чтобы он вел себя помужественнее, чтобы подбодрил ее, успокоил. Но успокаивать и говорить что-то бодрое приходилось ей: у Славы была тихая истерика.
Перед операционной Лена помогла медбрату снять со Славы бурые и жесткие от высыхающей крови джинсы и рубашку — все это она с трудом свернула и сложила в пакет. И осталась под дверью ждать. Было шесть часов вечера. Надо было позвонить маме. Своей. А потом уже придумать, как быть с мамой Славы. Придется ведь, наверное, идти к ней, надо же какую-нибудь одежду ему принести. Но сейчас — только ждать. Хирург в приемном покое сказал, что травма очень серьезная. Как пройдет операция? Каковы будут последствия? И все-таки самое страшное было позади. Лена снова и снова прокручивала в памяти все, что случилось на поляне. Как это случилось. И никак не могла взять в толк: почему получилось все именно так? Ведь было так хорошо. И могло бы продолжаться, если бы не эта проклятая бутылка. Но ведь все и всегда так поступают, если нет под рукой штопора. Кто бы мог подумать… Ну почему? Почему так все получилось?
Но главное, чего никак не могла и не хотела понять Лена, — это то, как хрупка человеческая жизнь, как непредсказуема каждая ее секунда, какая тоненькая ниточка соединяет жизнь и смерть. Какая тоненькая ниточка. И ничего ни от кого не зависит. Ничего ни от кого! Болезнь, война, катастрофа — страшно, но понятно. А вот такая, совершенно дикая, случайность — как ее осознать, как объяснить? Как предотвратить? И можно ли предотвратить? Если нельзя, значит — судьба? От которой не уйдешь. Хорошо, допустим. А помощь — фантастическая, просто ниоткуда? Это что? Ведь если бы… Там же не было никого. Никого! И вдруг — старики. И вдруг — парень с машиной. Это ведь тоже судьба, которая, как любила повторять баба Зоя, «и подстережет, и убережет». Ни обмануть, ни уйти нельзя. Подстережет. И спасет, если нужно? Нужно кому? И зачем тогда то, что предшествовало спасению? Что это? Предупреждение?
Лена извелась в поисках ответов на все эти мучительные вопросы, которые ответов и не предполагают. Что мы можем знать? Ничего. Жизнь — цепь случайностей. Так однажды сказал Слава. Да, именно так он сказал. А Лена горячилась и доказывала, что все дело в судьбе. Что то, что нам кажется случайностью, где-то кем-то определено таким образом, чтобы подвести к тому, что в конечном итоге должно получиться. Слава удивлялся нематериалистическим взглядам своей собеседницы и периодически возвращался к этому, подшучивая над Леной: «А вы, Леночка, говорите, судьба…»
— Ну, Леночка, убедились, что все в этой жизни определяет его величество случай? — этим вопросом встретил Слава Лену на следующий день, когда она рано утром вошла в палату буквально на цыпочках, боясь побеспокоить Славиных сопалатников, с которыми вчера уже успела познакомиться. В том, что Слава уже не спит, она почему-то не сомневалась.
— Слава Богу, вы уже в состоянии спорить, вчера дела обстояли гораздо хуже, — обрадовалась Лена, забыв почему-то, как и Сорокин, поздороваться.
— Да и сегодня все скверно, — махнул здоровой рукой Слава.
— Нет, так не надо, — заволновалась Лена, присаживаясь на краешек его кровати, стоящей у окна.
— Что не надо, Лена? Что не надо? Надо правде смотреть в глаза. Вот я и говорю… Не судьба, а цепь случайностей определяет нашу жизнь. Не приди я тогда к Денисову…
Лена грустно усмехнулась:
— Я поняла, Слава. Не было бы знакомства со мной — не было бы поездки в лес. Не было бы поездки — и рука была бы цела.
— Да, Леночка! Да! Именно так. И вы сами прекрасно это понимаете.
Лене стало неуютно. Она столько пережила вчера. Разве нельзя ее было пожалеть за это? Но Слава, видимо, жалел только себя. Что ж. Действительно. Легко ей рассуждать. Это ведь у него, а не у нее — перерезанные артерия, сухожилия и нервы. Последствия ясны даже неспециалисту: неподвижная кисть, фактически — инвалидность. И все-таки… И все-таки Лене хотелось, чтобы Слава вел себя по-другому. Ведь вчера он, пожалуй, держался более мужественно. Так это вчера. Вчера реальность, вспоротая бутылочным осколком и заливаемая кровью, была мистически неправдоподобной, казалась страшным сном, который в конце концов закончится. Он и закончился. Инвалидностью. Значит, закончился плохо. Но Слава жив! И это главное. Но это только с точки зрения тех, у кого руки-ноги целы. И у кого вообще все замечательно.
— У вас ведь все замечательно, Леночка? Не так ли? — спросил Слава, явно издеваясь.
Сил для оптимизма у него не было. А вот для злой иронии — хватало.
— Да. У меня все здорово. — Лена поднялась и пошла к выходу.
Слава молчал. Она вернулась, снова села рядом:
— Я вот тут кое-что принесла…
— Нет-нет, ничего не надо. И… знаете… Лена, я, наверное, не прав. — Все это прозвучало напряженно-дежурно.
— Думаю, что не правы. Но это не важно, — ответила Лена, пытаясь выйти на легкие, непосредственные интонации. Кажется, у нее ничего не получилось.
— Леночка, вы мне про матушку мою расскажите лучше. А то я вчера не все понял, — попытался исправить ситуацию Слава.
— Не переживайте. Сказала все, как велели. Успокоила как могла. А она просила успокоить вас, сказать, что чувствует себя нормально. Вот.
— Да, бедная моя матушка… Только этого ей не хватало. — Кривая Славиного пессимизма снова поползла вверх. И скрывать этого он и не собирался.
Лена с тяжелым сердцем покинула палату. Вчера она испытывала к этому человеку столько любви, нежности, сострадания. Думала, что то, что случилось, свяжет их, видимо, навсегда. Ошиблась. В себе ошиблась. В нем ошиблась. Хотя… Никто ничего не знает. Может, все еще образуется. Нельзя требовать от человека мужества в такой ситуации. Это только в книжках бывает.
Чувство разочарования, опустошенности, неудовлетворенности собой и острой досады на судьбу, неправильную и несправедливую, не покидало Лену весь день.
— Леночка, что с вами сегодня? — несколько раз удивился Марк Захарович в ответ на ее раздраженный тон.
Матильда потихоньку порадовалась: «А ты думал, ангел — твоя Леночка? И у нее может быть плохое настроение. Все мы не ангелы!»
Все проговорить, доосмыслить и докопаться до истины (относительной, разумеется, — до той, которая — только сейчас, здесь и для нас) можно было только с Ольгунчиком.
Она слушала взахлеб. И качала головой. И взмахивала руками. И бесконечно повторяла: «Ну и ну!»
Перед тем как начать ей все подробно, в красках, описывать, Лена сто раз сказала: «Умоляю, никому!» Ольгунчик клятвенно заверяла, что ни-ни. Дело в том, что Сорокин на самом деле просил Лену никому ничего не говорить. Особенно подруге Оле. Потому что если будет знать Оля, то обязательно будет знать и Денисов. А Денисов, несколько раз повторил Слава, не так прост, Леночка, как кажется. Никому не надо знать, как и где это произошло.
Лена знала, что Сорокин почему-то тщательно скрывает их отношения от Денисова. Ей это было непонятно. Ведь друзья вроде… Сильно она, правда, в это не вникала и сама от Денисова ничего не скрывала: да, встречаются они иногда с Сорокиным и по телефону общаются. Но раз теперь Слава так настойчиво просил ничего не говорить, она, конечно, не скажет. Хотя совсем никому — это же просто невозможно. Ольгунчик, безусловно, ненадежный в этом плане человек. Но вместе с тем кто же лучше, чем она, все поймет? Никто. Лена просто попросит как следует, чтобы она ничего Денисову не рассказывала, да и все.
Поведение Сорокина в больнице Ольгунчику тоже не понравилось.
— Я же говорила, человек в футляре, — твердила она.
— Да при чем тут это? — недоумевала Лена.
— При всем. — Ольгунчик, как всегда, была категорична и непримирима. — Я тебе сразу сказала, что он тебе не пара. Слюнтяй, размазня, да еще в футляре. Понимаешь? Он не может расслабиться, отдаться полностью чувствам. Такая женщина рядом. А он?
— Ольгунчик, ты все не про то, — пыталась возразить Лена.
Но Ольгунчика остановить было трудно:
— Я тебе сразу сказала: зануда. Не, ну сама подумай: не рассказывать Денисову! Разве не странно? Они же друзья. Он весь из каких-то условностей состоит. Понимаешь? Всего боится, все просчитывает. Как бы чего не вышло! Вот его Бог и наказал.
— А он считает, что я всему виной. Представляешь? Говорит, женщины всегда приносят ему несчастье.
— Вот-вот, и я о том же. Зануда. Плюнь на него и в больницу больше не езди.
— Ну конечно! А кто ж к нему, кроме меня, придет? Нет, я должна. И потом… Это все пустяки. Это пройдет. Я думала, ты поможешь мне закрыть на все это глаза… Понимаешь, я не хочу его терять. Не хочу.
— Да ну тебя! — рассердилась Ольгунчик. — Тоже мне нашла! Я, наоборот, рада, что все так получилось.
В общем, тот разговор с Ольгунчиком, на который рассчитывала Лена, не получился. Получился другой. Но сердиться на подругу было невозможно. А уж обижаться — тем более. И даже когда на следующий же день Ольгунчик чистосердечно призналась, что все рассказала Денисову, Лена просто не нашлась что ответить — и не более того. Правда, Ольгунчик заверила, что уж Денисов точно не проболтается.
Славу выписали через неделю. Всю эту неделю Лена ходила к нему, они вели какие-то пустопорожние разговоры, и Лена уходила неизменно расстроенной. Завязавшиеся отношения рассыпались на глазах. От нежности Сорокина не осталось и следа. Отвлеченные философствования — и ничего более. Лена недоумевала: как же так? Ведь до этой проклятой поездки было совершенно ясно, что он влюблен. И по идее то, что случилось, должно было только еще больше сблизить их. Но увы…
Итак, Славу выписали через неделю. И теперь Лена ежедневно справлялась о его здоровье по телефону. Кстати, когда он поднимал трубку, то произносил свое «да» с таким неудовольствием и нелюбовью ко всему миру, что Лена содрогалась и не понимала, как она раньше этого не слышала. Удивляясь, она забывала, что раньше и не могла слышать, как он отвечает на звонок, по той простой причине, что Сорокин всегда звонил ей сам. И не раз удивлялся, между прочим, Лениному легкому и веселому «але», спрашивая: «Леночка, неужели у вас всегда такое хорошее настроение?» Да, сорокинская ипохондрия, давно замеченная Ольгунчиком, просто на время задремала. А ведь Лена тоже видела ее признаки в самом начале, но была уверена, что рядом с ней, с Леной Турбиной, Слава не сможет не измениться в лучшую сторону. Он и изменился. Но случай… Предатель-случай подстерег и все испортил. Все испортил. Может, Слава и прав? Цепь случайностей. С этим, кстати, смириться легче. Легче, чем с приговором бескомпромиссной и безжалостной, если вдуматься, судьбы. К кому она благосклонна? Ну-ка поищем. Кому живется весело, вольготно на Руси? Где оно, счастье-то? У кого? Покажите нам! Без денег счастливым, прямо скажем, быть трудно. А таких — большинство. А те, которых меньшинство, тоже плачут. Им тоже чего-то не хватает. То здоровья, то любви, то понимания. Так что судьба если и есть, то злодейка. И нечего поэтому в нее верить и на нее рассчитывать. Живи, лови момент, радуйся случаю, если он хорош, и плачь, если плох.
Эти неутешительные выводы сделала уже не Лена, а Ольгунчик, когда они, сидя на скамейке в парке, в очередной раз проговаривали-обмусоливали свою жизнь и жизнь вообще в свете последних событий.4
— О, Денисов! — вдруг радостно заорала Ольгунчик, чуть не подавившись шоколадным батончиком, который был куплен ею на последнюю десятку и от которого они с Леной сейчас, в обеденный перерыв, по очереди откусывали.
— Девочки! — тоже обрадовался Денисов, подходя к ним и усаживаясь рядом на лавку. — А вы что здесь делаете?
— Обедаем, — почти хором ответили Лена с Ольгунчиком.
Денисов, посмотрев на кончающийся батончик, сочувственно покачал головой и, порывшись в своем кофре, достал яблоко:
— Вот вам еще яблочко.
В парк Евгений Иванович пришел, оказывается, по делу. Через полчаса здесь должен будет состояться митинг «зеленых» в защиту чего-то там (чего именно, Денисов, конечно, не вник), вот его и пригласили.
— Фотографировать или выступать? — поинтересовалась Лена.
— Конечно, фотографировать, Леночка. Ты же знаешь, выступать я не люблю.
— Но у вас это хорошо получается. Последняя ваша передача мне очень понравилась. Впрочем, как и все остальные.
— Ты просто добрая очень, Леночка, — засветился Денисов. — Снимали на ходу. Там много не так, как хотелось бы…
Евгений Иванович хотел подробно рассказать, что же там было не так, но тут к нему подбежали два немолодых возбужденно-лохматых мужика и потащили к воротам парка, где уже собирался такой же нечесаный народ с пока еще не развернутыми транспарантами.
— Вот ведь еще чудилы, — покачала головой Ольгунчик. — И охота им…
Лена решила больше Сорокину не звонить. Может, сам догадается? Но он не догадался. Прошел день, другой, неделя…
— Не звонил? — спросила с порога в очередной свой визит к Лене Ольгунчик. — И не позвонит. Не жди. Папочка его так умыл! Ты не представляешь!
Ольгунчик начала рыться в своем безразмерном мешке, который мнила сумкой.
— Я тебе сейчас все прочитаю!
— Может, так расскажешь? — попыталась протестовать Лена, которая по большому счету не была поклонницей дневникового жанра.
— Нет, послушай. — Ольгунчик наконец нашла свои записи, которые начинались так: «Я пришла к Денисову. А там Славик с забинтованной рукой. Ничто не предвещало беды…»
Читала она долго, с выражением, особо выделяя свои, как ей казалось, писательские находки. Из всего Лена поняла одно: Денисов сказал Сорокину в ответ на его выдуманную историю по поводу травмы, что он прекрасно знает, что произошло на самом деле. Вот, собственно, и все. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо.
Ольгунчик себя виноватой не чувствовала вовсе. И не понимала, что скорее всего именно она поставила точку в отношениях Лены с Сорокиным. Она свято верила, что все идет совершенно нормально. Лена, оглушенная, растерянная, не знала, как реагировать на то, что прочитала, а теперь рассказывала по третьему разу Ольгунчик. А надо было, оказывается, восхищаться не только ею, Ольгунчиком, которая сумела передать все с таким искрометным юмором, но и Денисовым, который отомстил Славику за всех женщин.
— За каких женщин? — не поняла ничего Лена.
— Господи, ну я же тебе рассказываю. Славик подарил Денисову на день рождения видеокассету. Там сняты скрытой камерой женщины, которым Славик назначал свидания. И не приходил. Ну, как бы не приходил. А снимал со стороны, как они ждут. Как оглядываются. Как переживают. Представляешь, гад какой?
Лена неуверенно пожала плечами: ну, гад, наверное…
— Вот Денисов и обиделся за женщин. Это же папочка! Он не мог не обидеться. Ну вот. И когда Славик начал рассказывать, что это он на работе руку травмировал (представляешь, так и сказал — «травмировал»!), Денисов ему и выдал. Не надо, говорит, Славик, знаем мы про поляну в лесу. Ведь все снимали. И пленочка имеется. И Славик, дурак, поверил! — Ольгунчик, довольная, хохотала-заливалась: — Поверил, представляешь?!
Лена молчала. А Ольгунчик, не замечая ее реакции, продолжала:
— Я сначала ничего не поняла. А папочка потом мне сказал, что это он Славику за женщин отомстил. Вот!
— А мне вы с Денисовым за что отомстили? — спросила Лена, еле сдерживая слезы. — А? За что? Я же просила тебя, как человека просила…
Ольгунчик почему-то не ожидала такого поворота событий. И застыла, подбирая растянутый в хохоте рот, судорожно сглатывая недоумение, не сводя с Лены виновато-непонимающих глаз.
Лена ушла в другую комнату и не вышла оттуда. Ольгунчика провожала Вера Петровна. Было слышно, как она что-то оживленно рассказывала. Было слышно, как потрясение молчала Ольгунчик.
Кому теперь все это могла рассказать Лена? Не маме же. Но переживать свое горе одна она еще не научилась. И позвонила Алле в Питер. Вот Алла все удивительным образом и поняла. Про Сорокина она немного знала. А про все остальное до сегодняшнего разговора — нет. Поэтому она сначала пережила вместе с Леной кровавые события на поляне, потом — предательство Ольгунчика и Денисова. Нет, только Ольгунчика. Денисов мог и не знать, что Лена обещала ничего никому не говорить. Хотя стоп. Ты же, Лен, сказала, что Ольгунчик просила папочку: никому. Значит, и Ольгунчик, и Денисов попросту забыли про Лену. У каждого была своя цель и задача. У Ольгунчика — живописать Денисову то, что случилось в лесу. Отточить свой талант рассказчика. У Денисова — отомстить за женщин. Благородно на первый взгляд. Только про Леночку, «лучшую подругу» и «светлый образ», они забыли. Нет им никакого прощения. Таков был суровый приговор Аллы. А Сорокин? Как быть с Сорокиным? Позвони и повинись, сказала Алла. Расскажи все как есть. Настоящий мужчина должен быть великодушным. А если?.. То и не надо нам таких, подвела итог Алла.
Стало легче. Но не намного. Что же выходит? Ни Сорокина, ни Денисова, ни Ольгунчика у нее, у Лены, теперь не будет? Только из-за того, что не удержалась и все рассказала Ольгунчику? Стоп! Почему та и Денисов должны были хранить ее тайну? С какой такой радости? Каждый из них — не шкаф и не музей, как пелось когда-то в одной детской песенке. Это ее, Лену, Слава просил ничего не говорить. Ее! Значит, она одна во всем и виновата. Никто ничего никому не должен. Ведь знала, что не в характере Ольгунчика что-то от кого-то скрывать! Она простосердечна, как голубь. Но не мудра, как змея. И всякие тайны мадридского двора, какие-то недомолвки, какие-то расчеты — не для нее. В чем же ее можно винить? В том, что она такая? Или в том, что обещала не говорить и нарушила свое обещание? Так Лена тоже обещала Сорокину, что ничего никому не скажет, а уж подруге Оле, раз он так просит, тем более. Значит, что мы имеем? Если кто и виноват, то только Лена. А если подумать, ведь и она никого не предала. Да и вообще, что это за слово такое — «предательство»? Обозначаемое им понятие применимо только на войне. А в мирной жизни никто никого не предает. Все просто живут так, как умеют. И спрашивать что-то, что-то требовать можно только с себя.
На следующий день, в обеденный перерыв, все в том же парке, все на той же скамейке, сидели Лена, Ольгунчик и Денисов и откусывали по очереди от одной, теперь уже большой, шоколадки, которую принес папочка.
Евгений Иванович увлеченно рассказывал об одном замечательном художнике, который недавно умер и завещал городу все свои картины. А они, между прочим, стоят огромных денег. В Германии, например, их купили бы с огромным удовольствием.
Денисов увлеченно рассказывал. А Лена с Ольгунчиком увлеченно слушали.
ЛЕТО
Над простором полей -
Ничем к земле не привязан -
Жаворонок звенит.
Басе1
Сон был неглубоким, непонятным, держал сознание где-то близко к реальности, черной и вязкой, которая, как болото, глухо и настойчиво затягивала в себя.
Когда стало совершенно невыносимо, темнота вдруг распалась на рваные куски — и они разлетелись в стороны, уступая место множеству зажженных свечей.
Было неясно, на чем и как эти свечи держатся, — только маленькие вытянутые купола пламени и стекающие в никуда тяжелые капли расплавленного воска.
И тепло, очень тепло от сотен беспокойно подрагивающих огоньков.
Солнечный свет давно уже заполнил собой Ленину комнату и нагрел стены с обоями невразумительного рисунка и цвета, рамы и полотна северных пейзажей, корешки книг на полках и белого медведя Сашу, дремлющего в кресле.
Солнце согрело и лицо хозяйки комнаты, и ее шею, и руки на подушке, раскинутые над головой.
Лена уже начала понимать, что просыпается. Что ей этого ужасно не хочется. Вспомнила, что лето. Вспомнила, что суббота. Обрадовалась. Будет сейчас валяться с книжкой долго-долго, не умываясь и не завтракая. Мама перебралась на дачу, так что да здравствует свобода!
В тот самый момент, когда Лена обдумывала, что ей с этой самой свободой делать и обмозговывала вариант поездки с Ольгунчиком на пляж (подруга должна была где-нибудь к обеду появиться), позвонил вдруг Сорокин. Услышав его «приветствую!» с какими-то трудноразличимыми, но далеко не приветственными интонациями, Лена усмехнулась: совсем недавно она мечтала пригласить его в гости, как только мама уедет на дачу.
Да, как это ни странно, отношения с Сорокиным, которые, наверное, можно было назвать полуприятельскими, каким-то чудом сохранились. Правда, сводились они в основном к телефонным дискуссиям. Слава звонил через день-два. Зачем? Кто ж его знает. Поговорить. Обо всем и ни о чем. Иногда они, конечно, говорили о литературе. Сорокин называл какие-то имена, передавал через Денисова книжки, писанные в основном в манере интеллектуально-иронического бреда. Нечто — не для всех, а лишь для как бы посвященных. Чаще всего — этакий всепронизывающий, неутомимый стеб. Лена не понимала: чего ради? Не понимала и не принимала. Славик издевался: Леночка, ну не любовные же романы читать!
Изредка Лена (по глупости, наверное) делилась вдруг сокровенным. Потому что иногда Сорокин мог посоветовать что-нибудь дельное. Казалось, он по-настоящему понимает ее. И она теряла бдительность, оставалась такой же искренней, какой была тогда, когда они встречались. И забывала, что Славик, как на поверку оказалось, — из другого теста. Вот взяла — и снова ему как-то про Алешку рассказала. Про барашков вспомнила. Зачем, спрашивается? Видимо, хотелось, чтобы он знал, как она страдает, как ей больно. Видимо, хотелось, чтобы посочувствовал.
— Все это оттого, что тебе хочется быть добренькой, — сказал Слава в следующий разговор, продолжая тему Алешки. — Это псевдолюбовь. Понимаешь? Я очень много об этом думал. Очень много. Он идет к тебе, потому что ты этого хочешь. И так будет всегда. Он знает, что ты кинешься решать все его проблемы. И у него никогда не возникнет чувства ответственности за свою собственную жизнь. До тех пор, пока ты не закроешь перед ним свою дверь. Ты портишь его своей любовью. Это с одной стороны. А с другой, все это от недостатка любви. Тебе хочется, чтоб хотя бы он тебя любил. Вот так-то, Леночка.
Лена потрясенно слушала этот монолог и не находила что сказать. Потом все-таки попыталась:
— Слава, только не надо учить меня жить. Я сама разберусь, что к чему.
— Горды-ы-ня, горды-ы-ня, — протяжно, насмешливо и всезнающе молвил Славик.
— А ты хоть знаешь, что это такое?! — вскипела Лена. — Ты ведь, помнится, некрещеный? Тебе ли об этом говорить, мой дорогой?
Она бросила трубку, вскочила с дивана, заходила по комнате. Очень хотелось плюнуть в лицо нехристю Славику. Это было, конечно, нехорошее желание, нехристианское — это уж точно. Так что с гневом нужно было срочно справиться. Что Лена и сделала через минуту-другую, проговорив несколько раз вслух: «Бог с ним!»
Правда, совсем отключиться тогда от Сорокина (Лена это хорошо помнила) не получилось. Его назидательный тон, его несгибаемая уверенность в том, что Лена все в этой жизни делает неправильно, были ей неприятны и постоянно напоминали о себе неясным ощущением внутреннего дискомфорта и состоянием беспокойного прислушивания. Казалось, что где-то в глубине души какая-то из дальних незапертых дверей постоянно раздражающе постукивает и поскрипывает. И прекратить это почему-то невозможно. И смириться очень тяжело.
«Смириться» — вот главное слово, вспоминала Лена. Но тут же думала, что все-таки было бы неплохо при случае уничтожить Славика какой-нибудь сильной фразой. Одним словом, возлюбить таких ближних, как Сорокин, у Лены так пока и не получалось.
И вот сегодня Сорокин снова позвонил. Дабы продолжить, как он выразился, дискуссию. Потому что Лена ему не чужая и его беспокоит ее жизнь, которую она просто не имеет права расходовать на пьющего соседа, которого они там все вместе с покойной бабушкой избаловали, а он сел им на шею и ножки свесил.
— Я думаю, ты не прав, — попыталась спокойно возразить Лена. — Возможно, когда-то мы все действительно его испортили. Именно любовью. Сейчас этого, кстати, нет. К сожалению. Собственно, я не это хотела сказать. Все ведь достаточно просто. Он приходит за помощью — я в ней не отказываю. Вот и все. Закрыть перед ним дверь… Не могу. И вовсе не потому, что хочу выглядеть доброй или завоевать его любовь. Ведь и ты не отказал бы в помощи, если бы к тебе за нею обратились. Тяжело это, конечно, все. Но такое уж Бог посылает мне испытание. И нужно достойно его выдержать. Достойно. Чтоб остаться человеком, а не умной сволочью с красивыми принципами.
Эти последние слова, наверное, и были той фразой, которой Лене хотелось убить Сорокина.
Сорокин молчал. Лена перевела дыхание и продолжила:
— Знаешь, между нами — пропасть. Ты теоретик, я практик. Пока ты теоретизируешь — я живу. Причем, заметь, своей жизнью. И меньше всего мне приходит в голову выстраивать схемы по поводу чужой. Жизни, я имею в виду. Потому что своя — до краев наполнена. И счастьем…
На этих словах Славик хмыкнул: не поверил. Но Лена, не обратив на это внимания, говорила дальше:
— И несчастьем. Всем, чего заслуживаю. Что Бог посылает. И все это — мое. И ничьего участия я не прошу. А тебе поражаюсь: тратить столько времени на объяснение чужих поступков. Как ты говоришь? У меня недостаток в любви?
Здесь Лену, кажется, понесло. Здорово понесло.
— А у тебя достаток?! Что-то не замечала. А чего уж точно недостаток — так это собственных переживаний! Так, наверное, если следовать твоей теории.
Лена сердито шмякнула трубку на аппарат и в очередной раз подумала: «Господи, я была почти влюблена в этого идиота!» Вот так начался этот субботний день. Скверно начался, прямо скажем.
А тут еще Ольгунчик примчалась с вытаращенными глазами и новой идеей. Как вы помните, книг она по принципиальным соображениям не читала. Никогда и никаких. Правда, иногда соглашалась послушать, что говорит по поводу прочитанного Лена. Причем благодаря своей цепкой памяти и удивительному ассоциативному мышлению она многое брала в голову и при случае могла еще и блеснуть какой-нибудь неординарной фразой, абсолютно точно назвав источник.
И вот сегодня нечитающая подруга, пролистав по странному стечению обстоятельств книжку какой-то американки, просто неистовствовала в своем восторге по этому поводу.
— Понимаешь, «подлинные моменты» — вот чем надо жить! А мы — не замечаем, не ценим ни неба над головой, ни улыбку незнакомца, ни хороших слов в свой адрес…
— Да, твоя американка, конечно, открыла Америку, — перебила, усмехаясь, Лена. — И потом… Не обобщай, пожалуйста. Кто это «мы»? Я к твоим «мы» не отношусь, между прочим. Извини, конечно.
Ольгунчик сразу же обиделась. Сразу. Вот вечно так. Несешься к ней с чем-нибудь, что тебя так захватило, окрылило и так далее. А она скажет как ушат холодной воды выльет.
А Лена думала: «Олька, ну что ж ты так хватаешься за всякие примитивные идеи, когда все, что нам нужно, — уже давно придумано, все это есть. У нас есть. Зачем нам какой-то американский ширпотреб? Что значит „подлинные моменты“? А какие неподлинные? Ну да, излишняя суета по пустякам — это неподлинные моменты. Так ведь все религии, сколько их ни есть, говорят об этом. Что же здесь нового? А страдания, горе — это что? Это вам не подлинные моменты? Куда уж подлиннее! Тут, правда, в религиях пошли расхождения. У одних — все принимать как должное и не страдать. У других — страдать, принимая это как должное. В страданиях, испытаниях очищается душа, укрепляется вера».
В общем, повздорили Лена с Ольгунчиком слегка. Повздорили из-за «подлинных моментов». Но ничего, обошлось. Заели спор очередной шоколадкой, подаренной Лене очередным воздыхателем, — на этом и успокоились.
Умиротворенно и молча они сидели недолго. Ольгунчик, поерзав, начала говорить о больном и вечном: остром дефиците особей мужского пола в Рязани. Ей всегда казалось, что в других городах дела обстоят гораздо лучше, а уж за границей этих особей, свободных и богатых, — просто пруд пруди, и некоторые задумки по этому поводу у нее в голове уже бродили.
Ну а пока Ольгунчик сидела на Лениной диване и сокрушалась:
— Лен, вот иду по улице и смотрю. Специально смотрю, понимаешь? Просто в рожи всем заглядываю — и хотя бы одна приличная физиономия. Хотя бы одна! Ни одного мужика! Ни одного! Где они? Знать бы, где можно встретить хоть одного. Просто посмотреть на него и понять, что они есть в принципе. Понимаешь? А кстати, я тебе не говорила? Читаю на днях объявление: «Познакомлюсь с красивой стройной блондинкой, размер груди не меньше третьего, интеллигентных и с высшим образованием прошу не беспокоиться». Сплошные моральные уроды кругом! Представляешь?
Возмущаясь настолько громко, убедительно и эмоционально, как будто в жилах ее текла итальянская или еврейская кровь, Ольгунчик размахивала руками и при этом еще и активно вертела головой по сторонам. И вдруг ее быстрый взгляд — почему, совершенно необъяснимо — зацепил красивый переплет на книжной полке.
Книга называлась «Старец Ефрем Катунакский». Она была подарена кем-то из священников Денисову (он часто общался и со служителями культа), а тот, в свою очередь, подарил ее Лене.
Парадоксально, но Ольгунчик не только взяла в руки вторую за день книгу, но и открыла ее. (Видимо, в этот день в атмосфере происходило что-то особенное.) Открыла обомлела. С первой страницы на нее взглянули пронзительно-умные глаза с лукавым прищуром. Лицо старца Ефрема Катунакского, хотя и было наполовину занавешено седой бородой, выглядело открытым, а еще — мужественным, благообразным и совсем не старым.
— Вот, — выдохнула Ольгунчик. — Я так и знала! Я так и знала, что имеется утечка кадров. Вот куда деваются приличные мужики! В монастыри уходят. Скажи, есть справедливость на земле?
Ольгунчик говорила все это совершенно серьезно. И пафос ее был абсолютно искренним. И сделанное открытие потрясло ее не на шутку.
— Ты только погляди, — совала она Лене книгу в руки, — ты погляди! Это ведь абсолютно мой человек. Нос какой — с горбинкой! Обожаю. А глаза… Глаза какие! Где ты еще такие видела? Характер, сила. А он — в монастырь. По-божески это, по-твоему? А? Да хоть отца Владимира твоего возьми…
Про упомянутого Ольгунчиком отца Владимира я вам уже обещала рассказать. И непременно расскажу, только чуть-чуть позже.
— Тоже вон какой… — продолжала Ольгунчик. — И тоже — в монахи. А мы — как хочешь. Шелупонь всякая под ногами путается. Глянуть не на кого! Негуманно это. Согласись, негуманно.
Лена беззвучно хохотала, обняв медведя Сашу, и никак не могла остановиться. Господи, как вовремя Ольгунчик заявилась, , а то после разговора с Сорокиным весь день на душе было бы скверно.
Оставив в покое Ефрема Катунакского и отца Владимира как желаемые, но недосягаемые высоты духа и тела, Ольгунчик сообщила Лене очень важную вещь: она решила искать свою «половинку» за границей. Только там — она почему-то была в этом абсолютно уверена — есть те, кто способен оценить ее и как женщину, и как личность.
Бросив на стол веером лучшие изображения себя, любимой (надо заметить, Ольга Медведева была необыкновенно фотогенична и с удовольствием позировала, в том числе и полуобнаженной, правда — не Денисову: его она стеснялась), Ольгунчик заявила, что на пляж они не поедут до тех пор, пока не напишут резюме, которое нужно будет разместить на сайте международных брачных объявлений.
Лена сомневалась, можно ли сказать словами более того, что говорили фотографии.
Вот Ольга в цветастой юбке, обтягивающей майке, с непокорными кудряшками. Она сидит на пенечке на фоне густого сада. Огромные спелые яблоки с красными боками — на ветвях, пригибают их к земле. Огромные яблоки — в плетеной корзине у ее босых ног. Яблоки — на траве.
Лена знала и любила эту фотографию. Это была работа еще одного известного рязанского фотохудожника — Ермолаева. Но придумала все Ольгунчик сама. И это было потрясающе!
— Олька, мне кажется, надо послать эту фотографию — и все. Яблоки вон какие! И ты — ничего.
— А эту? — подвинула Ольгунчик пальцем другой снимок. — Хуже, что ли?
О нет, этот снимок был не хуже! И уж определенно эротичнее. Центром фотографии была скрипка, прислоненная к обнаженной Ольгунчиковой спине, которая вместе с тонкой талией и пышными бедрами повторяла форму этой самой скрипки. Ольгунчик сидела в ворохе какого-то умопомрачительного кораллового шелка, целью которого было не прикрыть тело, а оттенить его белизну. Поворот головы открывал только часть лица с надменно опущенным уголком рта и тенью длинных ресниц на бледной, впалой (хотя Ольгунчик никогда не отличалась худобой) щеке.
— Хороша! — восхитилась Лена (эту фотографию она еще не видела). — Вот я и говорю, что писать ничего не надо.
— Ну конечно, — возмутилась Ольгунчик. — Я же не тело должна демонстрировать, а рассказать о своей загадочной русской душе.
— Тогда давай напишем про душу и пошлем фотографию с яблоками.
— Ага, а эту, со скрипкой? — не сдавалась Ольгунчик.
— И эту. И все пошлем. — Лена сгребла со стола ворох фотографий.
— Знаешь, Лен, я тебя прошу серьезно заняться моей проблемой. Все-таки за границу отправляем. Лицо страны показываем.
Ольгунчик всегда была яростной патриоткой, хоть страна о ней и раньше заботилась не особо рьяно, а теперь и подавно на нее плюнула, оставив навечно в общежитской комнате, за которую еще нужно было платить бешеные деньги; а поскольку Ольгунчик их не имела, то и не платила, а раз не платила, то была кандидатом номер один на выселение.
Решили в качестве лица страны отправить пока все-таки босоногую Ольгу с яблоками и Ольгу на фоне Рязанского кремля. Ну а уж спину со всем остальным и со скрипкой — попозже, когда уже завяжется какое-нибудь знакомство. А в резюме написали следующее: «Романтичная, ласковая и заботливая женщина из России мечтает стать для своего единственного мужчины другом, верной женой и помощницей во всем».
Ольга осталась недовольна таким лаконизмом и все пыталась вставить про загадочную душу, но Лена сумела-таки ее убедить, что сообщение должно быть коротким, все главное — на подтексте.
На пляж Лена с Ольгунчиком все же съездили, позагорали-поплавали-подискутировали и расстались. Ольгунчик с фотографиями и резюме отправилась к какому-то знакомому компьютерщику, обещавшему за небольшие деньги протолкнуть ее на международную ярмарку невест, а Лена поехала домой, где ее ждало множество безрадостных дел, которые нужно было осилить, пока не приехала с дачи мама и не обнаружила неглаженое белье, непросушенные зимние вещи и т.д. и т.п.
Но делать ничего категорически не хотелось. Даже читать — не хотелось. А уж гладить — тем более. А выносить к вечеру вещи на просушку и совсем было бессмысленно.
И Лена долго-долго стояла на балконе и смотрела вниз со своего третьего этажа.
Под балконом бродили козы. Штук семь. Они без всякого зазрения совести не только щипали газонную траву, но и обдирали ветки с низких кленов и кустов сирени и сочно их жевали. Этих коз из частных домов с окраины пас совершенно библейского вида дед — заросший седыми волосами, в немыслимых холщовых выбеленных одеждах. Он то подходил к одной козочке и ласково оглаживал ее худые бока, то отгонял другую от идущего вдоль газона тротуара, то садился прямо на траву и что-то бубнил себе под нос. Возможно, даже пел, потому что иногда угадывались ритм и некое подобие незамысловатой мелодии.
Лена уже не раз видела здесь этого деда с козами. Удивительно было то, что его подопечные еще не успели сожрать всю зелень вокруг дома. Как-то кто-то с верхних этажей кричал-возмущался, но и дед, и козы единодушно делали вид, что не слышат.
Эта периодически повторяющаяся мирная картина неизменно вселяла в душу Лены Турбиной ощущение покоя и какой-то наивной, детской, вечной правды.
2
А на следующий день пропал Алешка. Не пришел с работы. И назавтра не появился. И ниоткуда не позвонил.
Сначала казалось: никуда не денется, объявится дня через три, как это не раз уже бывало. Не объявился. Ни через три дня, ни через неделю. Друзья-собутыльники сообщали размыто-пьяные и разноречивые сведения: кто-то встретил его (конечно, по их словам, «бухого») где-то в центре и кому-то он якобы сказал, что ему теперь крышка, потому что у него теперь ни прав, ни документов; кто-то, наоборот, видел его чуть ли не вчера на машине и «в порядке».
Лена пошла в милицию, где ее заявление приняли весьма неохотно и ничего не пообещали.
— Пил? — спросили.
— Пил, — ответила Лена честно.
— Ну и чего же вы хотите?
— Человек все-таки… — попыталась объяснить Лена.
Но ее не поняли, разговаривать по душам не захотели.
Лена кидалась сломя голову к телефону на каждый звонок и прислушивалась к скрипу коридорной двери. Ничего. Хоть бы какая весточка…
Через некоторое время пришли из домоуправления, забрали у Лены ключи, опечатали Лешину квартиру. Скорее всего это было незаконно. Но нужны были силы, чтобы сопротивляться, — а их не было.
Белая узкая полоска бумаги на коричневой двери каждый раз полосовала сердце: Лешка, где ты, бедолага?
«Нет тебя больше в живых, Леленок ты наш», — плакала и причитала Вера Петровна и одна на даче, и дома, приезжая сюда раз в несколько дней.
Лена не плакала. Хотя было больно. Очень больно. И самая невыносимая мысль: где-то с бомжами, оборванный и голодный.
Она заходила в церковь, вносила Лешу в записку о здравии и ставила свечку Спасителю: помоги, наставь на путь истинный раба твоего Алексея.
Время шло. День — за год. И все-таки боль снова, как после смерти бабы Зои, стала утихать. Оказалось, что с ней можно жить, иногда — даже не замечать, потому что она стала твоей частью.
«Господи, помоги ему, если жив, упокой душу его, если — нет» — это были слова постоянной молитвы — молитвы, слова которой Лена нигде и никогда не произносила вслух, даже в храме. Они, казалось, звучали сами по себе, независимо от Лены. Но именно она посылала их ввысь — и они уходили туда. Она была в этом абсолютно уверена, и в эти минуты ставшая привычной тоска исчезала, уступая место лучезарной надежде, и Лена ощущала себя свободной и легкой, как осенняя паутина, как солнечный свет, как песня жаворонка над полевой дорогой.
Песню жаворонка Лена слышала тысячу лет назад, в Глебове. А больше — не пришлось. Они зачем-то отправились тогда с бабой Маней в соседнюю деревню. Путь их лежал вдоль пшеничного поля. Это, конечно, баба Маня просветила: Лене ведь что пшеница, что рожь — все одно.
Жара стояла невыносимая. Идти было тяжело. Но помогали и радовали две птички, которые сопровождали их до самой деревни. Они, эти птички, оказывались все время прямо над Леной и бабой Маней — только высоко-высоко. И Лена постоянно закидывала голову: так хотелось получше разглядеть. Но были видны только трепещущие серые крылышки, которые, впрочем, больше угадывались, чем просматривались.
Эти быстрые серые крылышки и высокая, чистая, звонкая песня вместе с душистым зноем пшеницы и полевых цветов часто всплывали в памяти Лены. Всплывали в памяти порой совершенно, казалось, беспричинно. И волновали — горячо, тревожно и сладко.
3
После исчезновения Леши прошло больше месяца. В один из дней начала июля — дней, наполненных одновременно и безграничной тоской, и безграничной верой, — Лена встретила по пути на работу Татьяну Алексеевну, которая, внимательно посмотрев ей в глаза, сказала: «Глаза мне твои не нравятся. Поедем к нам».
Вы пока еще не знаете, кто такая Татьяна Алексеевна. Сейчас я наконец расскажу и про ее сына — отца Владимира, и про нее саму.
Они познакомились совершенно случайно. Это было два года назад.
Поссорившись в очередной раз с мамой, Лена уехала на набережную: восстанавливаться.
Она медленно брела от Успенского собора к реставрированной и недавно вновь открывшейся церкви Спаса на Яру. Шла на звон колоколов, который манил странной задумчивой отрешенностью и одновременно, обладая необъяснимой властью, не давал воли посметь идти в каком-либо другом направлении.
Серебряные легкие переливы плавно поднимались в небо и уносили с собой черный налет прошедших, текущих и будущих дней, уносили печали и скорби, оставляя на земле только радость и добро.
Все, кто слышал эти колокола, непременно должны были светлеть лицом и душой. И они светлели — иначе было невозможно.
У входа в храм Лена остановилась. Вспомнила, что в церковь с непокрытой головой нельзя. Собираясь на набережную, она не могла предположить, что ей захочется зайти сюда.
Лена стояла в раздумье перед открытой дверью храма.
Ярко накрашенная женщина в легко наброшенном на голову и плечи широком шифоновом шарфе остановилась рядом с Леной и сказала: «Господи, какая красота». А потом посмотрела на Лену и спросила: «Вы, наверное, хотите зайти в храм?» Та в ответ утвердительно кивнула и отчего-то жестом, а не словами, объяснила, почему она не может войти.
Женщина открыла серебристо-сиреневую молодежную сумку, вынула оттуда невесомую крепдешиновую косынку: белый горох на черном фоне.
Они вместе поднялись по невысоким ступенькам, вместе купили свечи, вместе зажгли их поочередно перед распятием канона, перед Богоматерью, перед Спасителем.
А потом Лена и Татьяна Алексеевна (так звали ее новую знакомую) сидели на лавочке. И говорили. Говорили — и наговориться не могли.
Татьяна Алексеевна, эта яркая, холеная и соответственно очень далекая, как могло бы показаться на первый взгляд, от религии женщина, была матерью настоятеля мужского монастыря, который находился от Рязани довольно далеко и о котором Лена никогда не слышала.
— Представляешь, Леночка, единственный сыночек — и в монахи. Сразу после школы. — Татьяна Алексеевна, стараясь, чтобы не размазалась тушь на ресницах, сдерживалась изо всех сил, но слезы все равно безостановочно текли по ее молодому и ухоженному лицу.
Лена не представляла. Обыкновенная семья, никакого отношения к церкви никто не имел — и вдруг…
— Конечно, он был не такой, как все. Конечно, — пыталась объяснить и Лене, и самой себе Татьяна Алексеевна. — Молчаливый, задумчивый, добрый, всех всегда жалел. Но про Бога ничего не говорил никогда. Потом уж мне сказал: «Я знал, что ты не поймешь». Он, оказывается, в монастырь уже класса с шестого засобирался. Только молчал. Меня жалел очень. Отец у нас… — Татьяна Алексеевна махнула рукой. — Пил. Может, поэтому Сереженька и решил все наши грехи отмаливать.
— Сережа — это вашего сына так зовут? — осторожно поинтересовалась Лена.
— Да, конечно. Это теперь он отец Владимир — при постриге его так нарекли. И ведь хотя бы в обычные священники пошел женился, дети бы были. А то нет в монахи.
— Как же вы смогли его отпустить? — Лена сочувственно качала головой.
Вместе с тем она понимала, что ее собеседница, видимо, уже вполне смирилась с тем, что произошло. И сейчас она хоть и плачет, но чувствуется, что по большому счету гордится своим сыном: в такие годы — и уже настоятель монастыря, почитаемый верующими, выделяемый самим владыкой. А тогда? Как тогда все это можно было принять и пережить?
В свое время Татьяна Алексеевна была главным бухгалтером одного из крупных предприятий; потом, в перестройку, когда все развалилось, торговала в палатке. Позже ей удалось устроиться в одну преуспевающую фирму. Появилась возможность понемногу помогать монастырю, который отец Владимир принял в самом плачевном виде. Но, дотянув до пенсии, Татьяна Алексеевна была вынуждена оставить работу и уехать к сыну, чтобы взвалить на свои плечи все хозяйственно-строительно-восстановительные заботы, с которыми отец Владимир никогда бы не справился, даже и с Божьей помощью.
Будучи абсолютно мирской женщиной, она страшно тосковала по городу, по своей удобной и уютной квартире (с пьющим мужем они давно разъехались).
Она умела жить широко и радостно: любила компании, шумные застолья, у нее было множество друзей и подруг. И от всего этого нужно было отказаться. Отказаться, чтобы помогать в служении Богу своему единственному сыну.
Она делала все, чтобы «батюшке» (так она чаще всего называла отца Владимира) было легче.
Она доставала кирпич и нанимала рабочих, заведовала монастырской кухней и скотным двором, закупала продовольствие и всю церковную утварь.
Она несла бремя всех этих забот довольно мужественно. Но, случалось, роптала. И уезжала иногда на несколько дней в Рязань: развеяться. А потом всегда жалела, что приехала, потому что расставаться с милой сердцу городской жизнью было каждый раз невыносимо.
Все это и рассказала Татьяна Алексеевна Лене. А та ей — про себя: про Север, про Олега и про Буланкина, про маму, про Ольгунчика и про бабу Зою с Алешкой.
И так почему-то хорошо они все друг про друга поняли, что стала их случайная встреча началом большой дружбы.
Совсем скоро Лена познакомилась и с отцом Владимиром: по приглашению Татьяны Алексеевны они с Ольгунчиком поехали к ней в гости.
Ну вот, хотела вам рассказать только про Татьяну Алексеевну. А придется заодно уж вспомнить и подробности пребывания Лены и ее подруги в мужском монастыре — не в самом монастыре, конечно, а недалеко от него — в избушке, сказочно маленькой и уютной, которая называлась гостевым домиком.
4
Это было место — удивительное. Поистине божественное. И не почувствовать его благодати было невозможно. Даже Ольгунчик, непонятно зачем увязавшаяся за Леной в эту поездку, всплеснув руками, сказала: «Я, конечно, ни во что не верю. Но здесь…» Она сказала это, когда стояла на берегу широкой спокойной реки, в прозрачные воды которой опрокинулось небо со всеми своими ослепительно нарядными пышными облаками, в которой задумчиво плавало удивительно четкое изображение всего монастыря с его колокольней, куполами двух храмов, шпилями угловых башенок.
Лену и Ольгунчика поселили, как я уже сказала, в маленькой бревенчатой избушке, которая находилась в полукилометре от монастырских стен.
Вход на территорию монастыря был открыт для всех желающих. Но для женщин обязательными были юбка, платок и ненакрашенное лицо. Лена этому следовала спокойно, а Ольгунчик возмущалась, но деваться было некуда пришлось ей перелезть из своих вечных джинсов в длинную и широкую сатиновую юбку на резинке, которую ей выдала Татьяна Алексеевна.
Татьяна Алексеевна здесь тоже преобразилась Лена ни за что бы ее не узнала. Впрочем, лицо без косметики, строгое и сосредоточенное, выглядело еще моложе и симпатичнее. И теперь было особенно заметно, как похож на нее ее Сереженька.
Отец Владимир был настолько хорош собой и настолько деликатен и предупредителен, что никакая другая мысль, кроме как об ангелоподобности его, не могла бы прийти в голову тому, кто видел тонкое светлое лицо, добрые, всепонимающие глаза, мягкую стеснительную улыбку молодого настоятеля, кто слышал его неторопливую, напевную речь.
Итак, Ольгунчик приехала сюда неизвестно зачем, просто за компанию. А Лена — за успокоением и верой. Но с самого начала все было испорчено. Потому что, к несчастью своему, Лена Турбина невольно, как это и бывало всегда, влюбила в себя гостящего в монастыре художника, который жил в одной из келий и каждый день часов по пять сидел на берегу реки с мольбертом, благо дни стояли ясные.
Когда Константин (так звали художника) увидел Лену, он сразу же, молитвенно сложив худые руки, попросил ему позировать. Лена по доброте душевной согласилась.
Константин, не уставая, говорил о своей любви к природе, искусству, к Богу и к Лене. Говорил не только в тот момент, когда писал, но и тогда, когда Лена, пытаясь уединиться, уходила далеко по берегу реки или скрывалась вечером в избушке, — он везде настигал ее, продолжая досказывать недосказанное.
Лена, искренне жалея его и не желая обидеть, была с ним предельно вежлива. А Константин, очевидно, воспринимал это ни больше ни меньше как ответное чувство.
— Но он же совсем сумасшедший, — шептала Ольгунчик прямо в его присутствии.
— Ну и что? Я же замуж за него не собираюсь, — шептала в ответ Лена.
— Да кто тебя знает, — качала головой Ольгунчик. — Не отмотаешься потом. Он-то — совсем на тебе помешался.
— Богородица, — шептал Константин. — Не двигайтесь, умоляю. Солнце… Господи, оно же сейчас уйдет. Умоляю, потерпите, не двигайтесь.
Конечно, он был сумасшедший. И иногда оставаться наедине с ним было страшновато. Отец Владимир тоже, видимо, побаивался за Лену и иногда заглядывал в избушку: как там его гостьи, не нужно ли чего.
— Матушка, — говорил Лене, — вы поосторожнее с Константином. — Вы же видите… болящий…
— Конечно, — соглашалась Лена. И еще ниже надвигала на лоб платок. Правда, глаза ее становились от этого еще больше и выразительнее — и отец Владимир в ответ только качал головой.
Через некоторое время за Константином, слава Богу, приехала жена, тоже немножко безумная. Но к Лене она отнеслась неожиданно миролюбиво. «Он мне про вас писал, — сказала. — Я не ревную, вы не женщина — икона». Лена не знала, хорошо это или плохо. Ей больше хотелось быть женщиной. Не для Константина, конечно. Для него — лучше иконой. И для отца Владимира — тоже не женщиной, а матушкой, почти без пола и без возраста.
Когда Константин уехал, Лена стала с большей радостью бродить вдоль монастырских стен и по берегу реки: никто не преследовал, никто не мешал быть одной. У Ольгунчика были свои интересы: она, как это ни странно, уходила одна, ничего не боясь, в лес за грибами-ягодами, а потом (и это было еще более странным!) пропадала на кухне. Она самозабвенно готовила варенья-соленья для монастыря, за что Татьяна Алексеевна ее просто обожала.
Итак, Лена любила гулять одна, наслаждаясь простором, смешанным запахом разнотравья, речного ила и пасущегося стада, тишиной. Изредка встречающиеся монахи сдержанно здоровались, почти не улыбаясь и не вступая в разговоры.
— Ленка, ну они же такие молодые, — сокрушалась Ольгунчик, когда они были вместе. — Неужели им ничего не хочется?
— Им хочется служить Богу, что тут непонятного, — отмахивалась Лена. — Они существуют в другом измерении. Понимаешь?
Нет, Ольгунчик решительно отказывалась это понимать и, выбрав самого красивого монаха — отца Серафима, начала привязываться к нему с разговорами о Боге. Монах был вежлив и отзывчив, надеясь стать пастырем духовным и обратить в веру заблудшую овцу — Ольгунчика, нисколько не догадываясь об истинных намерениях этой действительно заблудшей овцы.
Одним словом, Лене пришлось увезти подругу из монастыря от греха подальше на несколько дней раньше намеченного срока.
Ольгунчик сопротивлялась как могла, но Лена оказалась сильнее.
— Разве вам здесь плохо? Побыли бы еще, — мягко улыбаясь, спрашивал-уговаривал отец Владимир.
Уговаривала остаться и Татьяна Алексеевна. А Лена, стыдясь открыть истинную причину отъезда, ссылалась на неотложные дела.
Ольгунчик вела себя как обиженный ребенок: демонстративно, с гордо закинутой головой и поэтому почти ничего не видя, она собирала вещи и не обратилась к Лене ни с единым вопросом. Потом всю дорогу в автобусе молчала, и только когда Лена толкнула ее в бок — «ну хватит дуться», — ответила: «Зараза ты, Ленка! И жуткая зануда. Он бы потом, может, всю жизнь вспоминал». И сразу же переключилась на одного из пассажиров: «А как тебе вон тот, чудной? Согласись, в нем что-то есть».
Поездка, о которой так мечтала Лена, была, как она ни пыталась убедить себя в обратном, испорчена. Не дала она душевного покоя. И веры не прибавила. «Значит, не заслужила» — так решила тогда Лена, но от мысли снова когда-нибудь поехать к Татьяне Алексеевне и отцу Владимиру не отказалась.
5
С первой поездки Лены с Ольгунчиком в монастырь прошло, как я уже сказала, почти два года. Больше съездить туда не удалось. Но очень-очень хотелось. И верилось, что получится. Правда, Ольгунчика Лена теперь с собой не взяла бы, это уж точно.
С Татьяной Алексеевной и отцом Владимиром Лена несколько раз виделась, когда они приезжали в Рязань.
Короткие разговоры с отцом Владимиром всегда наполняли душу светом надежды и любви ко всему миру, но почему-то не могли пока привить того глубокого религиозного чувства, которое так хотел вселить в нее батюшка.
Многое в религии казалось Лене условным и необязательным. Многое невозможно было принять разумом. И все-таки сердце ее давно уже было открыто для веры.
Да, постичь существование Бога разумом действительно невозможно (не надо быть Иммануилом Кантом, чтобы это понять). Только сердцем. Но именно разум помогает осознать необходимость существования веры в Бога. Ведь любая религия — это способ противостоять суете, способ защититься от жизни, которая многим из нас просто не по плечу.
Тяжела жизнь, тяжела, как шапка Мономаха. И если бы не было в истории человечества религий, то их выдумывали бы снова и снова. Что, собственно, и происходит постоянно.
Кто не успел вовремя прибиться к православию или другому виду христианства, уходит или в дзэн-буддизм, или в дианетику, или принимает сообщения из космоса. И наверное, все это нормально. Лишь бы каждому из нас, поверившему во что-то, было легче сносить тяготы жизни. Лишь бы каждый из нас, поверивший и познавший, мог преодолеть зло силой своей веры и любви. Лишь бы о каждом из нас, поверившем, познавшем и укрепившемся, можно было сказать: он несет в мир добро и свет.
Но я, как всегда, немного отвлеклась. Вернемся с вами в ту июльскую пятницу, когда Татьяна Алексеевна, случайно встретив Лену на улице, сказала: «Глаза мне твои не нравятся. Поедем к нам».
Я, кстати, не упомянула о том, что Татьяна Алексеевна плюс ко всему еще и водила машину — подаренную монастырю одним московским спонсором подержанную «Волгу». И вот на этой самой черной «Волге» она и заехала вечером за Леной, чтобы увезти ее на выходные в монастырь.
— Гуляй, дыши, пей молоко — у нас свое, хорошее, — и ни о чем не думай. Захочешь с батюшкой поговорить — поговоришь. Он тебя всегда рад видеть.
Эти слова Татьяны Алексеевны, убегающей по своим делам, Лена услышала ранним солнечным утром, ласково заглядывающим в маленькие окошки гостевого домика монастыря. Она приняла наставления к сведению — и тут же снова уснула. А проснувшись, сообразила, что надо бы успеть в монастырь хотя бы к концу службы.
За два года тут многое изменилось: красиво были отделаны фасады трапезной и братского корпуса, сиял позолоченным куполом совсем недавно отреставрированный Никольский храм. Именно его дверь была открыта туда и направилась Лена.
Дорога к храму была выложена разноцветной плиткой, а вдоль нее по обе стороны росли кусты уже начинавшего отцветать шиповника, знакомый сладко-розовый запах которого едва угадывался — и поэтому хотелось остановиться и перенюхать каждый цветок. Лена оглянулась — не видит никто? — и наклонилась сначала к одному кусту, потом через несколько шагов — к другому.
Заканчивалась утренняя служба. На исповедь к отцу Владимиру стояли несколько человек: два молодых и красивых монаха (Лена давно заметила, что Богу служат чаще всего красивые люди), пожилой трудник со слезящимися глазами на темном, морщинистом лице и две довольно молодые женщины в ярких сарафанах, но в непременных платках, скорее всего отпускницы, приехавшие в одно из соседних сел.
Лена заняла очередь и подошла к церковному прилавку со свечами и книгами. Перелистывая страницы и раздумывая над тем, что именно купить, Лена одновременно посматривала на отца Владимира, который начал исповедовать. Хотелось поздороваться с ним издалека хотя бы взглядом. Но он, внимательно выслушивая исповедующихся, ничего вокруг, казалось, не видел.
Когда же настала Ленина очередь — он улыбнулся светло и радостно:
— Здравствуйте, матушка. Хорошо, что вы к нам приехали.
Конечно, Лена говорила о Леше, рассказывала о своей невыносимой тоске, которая вроде бы иногда и притупляется, но потом накрывает с новой силой, безмерной и безжалостной.
— Выходит, все зря? — вопрошала она. — Ведь я так надеялась, что спасу его, что у меня хватит на это и сил и любви. Я ведь и Бога молила. Как же мне после этого верить?
— У вас, матушка, потребительское отношение к Богу. Ты сделай для меня то-то и то-то, тогда я в тебя поверю. Такая позиция недостойна верующего человека. Но Господь милостив, великодушен, тем более не злопамятен. И этот грех вам, конечно, простит. Любые испытания должны укреплять веру, а не разрушать ее.
— Должны. А на самом деле? Где же взять сил? Где? — не понимала, почти сердилась Лена.
— Нельзя отчаиваться. Нельзя роптать. Господь милостив. Он поможет преодолеть вам ваше… — отец Владимир поискал слово, — ваше непонимание.
— А Леша?
— Молитесь, матушка. Помоги вам Господи.
После исповеди Лена пошла гулять и долго бродила вдоль реки. Бродила и думала. Думала и сомневалась. Потом — просто бродила, наслаждаясь красотой, покоем и гармонией всего, что ее сейчас окружало.
После прогулки Лена вернулась в монастырь, где ей нашлась работа: нужно было (непременно после благословения на это отца Владимира) погладить новые шторы для приемной. Это слово «приемная», так не сочетающееся со словом «монастырь», вызвало немалое удивление, как и то, что оно обозначало. Это была большая светлая комната, похожая на кабинет современного руководителя: длинный полированный стол, два ряда стульев по обе стороны от него, рядом с портретом Алексия II — портрет Путина, цветы на подоконниках, пейзажи на стенах.
— Надо же, — сказала Лена, — как у вас тут…
— Стараемся, — ответила Татьяна Алексеевна. — У нас ведь гости часто бывают. Через неделю губернатор обещался приехать. Вот и готовимся. Ты еще, кстати, нашу библиотеку не видела. Пойдем, покажу.
Среди книг Лена могла находиться бесконечно долго. Здесь было много интересного. Рядом с церковными изданиями стояла русская классика: и Пушкин, и Толстой, и Достоевский. Отдельно, под стеклом, хранились старинные фолианты, от одного вида которых дух захватывало.
— Как они могли уцелеть? — удивлялась Лена.
— Чудом. Семнадцатый век. Есть даже конца шестнадцатого, — с гордостью говорила Татьяна Алексеевна. — Видишь эту книгу? «Четьи-Минеи». Нам ее совсем недавно помогли выкупить у одного москвича.
Татьяна Алексеевна рассказала, что в свое время, когда монастырь разоряли, когда жгли-крушили все, что можно, крестьяне кое-что успели растащить по домам. Потом, конечно, многое за бесценок распродали. Но, слава Богу, не все. Стали монастырь в перестройку восстанавливать — и потихоньку начали с окрестных сел приносить иконы, книги. И не только. Один у себя на чердаке среди рухляди нашел паникадило. И принес ведь. Почистили — засияло как новое. Серебро с позолотой. Цены нет.
Татьяна Алексеевна могла говорить про монастырь сколько угодно. Она досконально знала его историю, знала имена всех настоятелей, начиная с конца XVI века — времени основания монастыря.
Обедали Лена с Татьяной Алексеевной в своей избушке. Еда была принесена из монастырской трапезной, где все готовилось монахами, но, разумеется, под руководством Татьяны Алексеевны. И картофельный суп, и перловая каша с морковью, и кисель показались Лене необыкновенно вкусными.
Остаток дня Лена снова провела на берегу реки. Сидя в густой траве, она сначала читала купленную утром в храме книгу «Начала православия», потом переключилась на прихваченного из дома Розанова, о котором, кстати, отец Владимир отзывался весьма неодобрительно. А Лене нравилось. Многое было созвучно ее мироощущению.
«Христос — это слезы человечества», «В радости я язычник, в горе — христианин», «Я не хочу истины, я хочу покоя»… Эти и другие мысли Розанова не заставляли работать разум, не заставляли соглашаться или не соглашаться с ними — напротив, убаюкивали сознание, отключали его, обостряли ощущения.
Запах травы и цветов. Тонкие прикосновения ветра. Чуть слышное журчание текущей в реке воды, сталкивающейся с прибрежными ивами. Много синего неба с кудрявыми барашками облаков на горизонте. Снова — дурман полевых трав. И зудение веселой и привязчивой мошкары. И казалось, что на свете нет и не может быть ничего плохого. Нет и не может быть, раз есть это бездонное небо, раз есть журчащая река и монастырь на ее берегу.
Проснувшись на следующий день часов в шесть (Татьяны Алексеевны уже не было), Лена с сожалением сообразила, что вечером — уезжать. Но ведь только вечером. Впереди у нее был еще целый день!
Утро было звонким, прохладным и чистым. Воздух его хотелось вдыхать каждой клеточкой — чтобы много-много и надолго.
Дорога к реке вела сначала мимо рощицы молодых, веселых березок, потом — вдоль глухой монастырской стены, заросшей крапивой, а потом сразу обрывалась у берега с деревянными мостками.
Раздеться бы — и в воду! Но здесь этого делать нельзя. Вот придет Татьяна Алексеевна, и они с Леной уйдут подальше от монастыря, на пустынный песчаный пляж, там и искупаются. А сейчас можно было только снять босоножки, усесться на гладкие доски и опустить ноги в воду.
Вода показалась Лене на удивление теплой, и она решила, что будет сидеть на этом месте, полоща ноги в речке, долго-долго. Пока никто не прогонит. Но кто бы мог прогнать ее отсюда, если просыпающиеся чуть свет монахи и послушники давно уже здесь, на этих мостках, умылись и приступили каждый к своим обязанностям и из праздношатающихся во всей округе была только Лена?
Думать ни о чем не хотелось — Лена и не думала. Все возможные мысли, о плохом и хорошем, заменились удивительным ощущением легкости бытия.
Время остановилось. Небо еще больше увеличилось в размерах, вобрав в себя и реку, и монастырь, и дальний и ближний лес, и Лену, и маленьких коров на другом берегу.
Мгновения летели в вечность, а вечность дробилась на мгновения — и время действительно было не властно над ними, потому что даже не остановилось, а просто перестало быть, растаяло, растворилось — легко, бесследно и беспечально.
Все это продолжалось… Впрочем, кто же знает, сколько это могло продолжаться? Правильно, никто.
Пришла Татьяна Алексеевна, увела Лену в избушку — то ли завтракать, то ли обедать. Потом они, как планировалось, ушли подальше от монастыря — и купались, и лежали, блаженствуя, на душном, горячем песке.
Час расставания с этим местом, где небо, река и монастырь, объединившись, врачуют больные души, наполняя их светом и верой, приблизился гораздо быстрее, чем думалось.
Татьяна Алексеевна должна была отвезти Лену в ближайший районный городок, откуда через полтора часа уходил автобус в Рязань.
Поскольку вещи Лены состояли из одной небольшой сумки, в которой вполне уместилось все необходимое, договорились, что Лена, закрыв домик, сама придет за Татьяной Алексеевной, у которой было еще множество дел на территории вверенного ей хозяйства. Кроме этого, Лена перед отъездом собиралась зайти еще раз на прощание в храм.
Потрескивали свечи. Отец Владимир строго и спокойно вел вечернюю службу. Монахи и послушники, склонив головы, кто шепотом, кто громче, вторили ему, истово крестились. Лица их были размыто-бледными, отрешенными. На Лену практически никто не обратил внимания. Только два-три быстрых любопытных взгляда — и все.
Лена постояла сколько смогла и, стараясь не привлекать к себе внимания, осторожно и медленно двинулась к выходу. Навстречу ей вошел в храм очень высокий светловолосый послушник.
Лена еще ничего не поняла. Только почувствовала, как рванулось из груди сердце. Рванулось к нему.
Леша, остановившись у самой двери, сначала, не замечая никого, несколько раз перекрестился, потом замер, опустив голову.
Лена, еле переставляя ноги, прошла мимо, тоже низко опустив голову. Прошла совсем рядом.
Ничего не видя от слез, Лена буквально упала с крыльца храма в объятия Татьяны Алексеевны, которая торопилась за ней. Нужно было выезжать.
Когда Татьяна Алексеевна поняла, в чем дело, она сама сначала долго приходила в себя, потом плакала, потом всплескивала руками и снова плакала — и, наконец, рассказала, что Алексей пришел к ним недели три назад, избитый, оборванный, худющий. Попросил отвести его к отцу Владимиру, который отнесся к нему очень внимательно (разве могло быть иначе?) и оставил при монастыре. Господи, да разве они могли подумать, что это тот самый Леша?
Новый послушник, по словам Татьяны Алексеевны, говорил очень мало — только делал все, что скажут, читал Священное Писание и не пропускал ни одной службы.
— Сережа сказал, — Татьяна Алексеевна иногда, забываясь, называла сына мирским именем, — что очень умный твой Алеша, знает много. И душа у него — чистая.
Уехать прямо сейчас, не поговорив с Лешей, было, конечно, совершенно невозможно. И не ехать было нельзя.
— Леночка, да утрясем сейчас все как-нибудь, — радостно суетилась Татьяна Алексеевна. — Телефон, славу Богу, есть. Уедешь завтра утром.
На том и порешили.
Летние сумерки были светлыми, теплыми и тихими.
Леша провожал Лену с Татьяной Алексеевной до их избушки. Татьяна Алексеевна шла впереди, а Лена с Лешей — за ней. Леша смотрел в основном под ноги, лишь изредка, задумчиво улыбаясь, отвечал на изучающе-вопросительный взгляд Лены.
Леша очень изменился. Изменился не только из-за такой странной на его лице рыжеватой, негустой, толком не оформившейся бороды. Через лоб и щеку проходил наискосок розовый шрам, от крыльев носа к уголкам губ залегли глубокие морщины. Но, видимо, не это делало его лицо новым. Новым, незнакомым делали его глаза. Они были по-прежнему очень печальны, но вместо детской растерянности в них появились достоинство и спокойное внимание.
Лене хотелось ему рассказать, как они с Верой Петровной страдали все это время, как пытались искать. Хотелось, чтобы и он рассказал все-все. Но разговора не получилось. На все вопросы: «Ну как же ты мог? Что же ты ничего не сообщил о себе?» — Леша отвечал серьезно и сдержанно: «Не время еще было. Пойми, не время».
На следующее утро Лена с Лешей прощались у машины, в которой уже сидела за рулем Татьяна Алексеевна.
Леша держал Лену за руку и молчал. Она что-то хотела сказать — но не смогла.
Нужно было ехать.
Лена быстро наклонила-притянула Лешину голову к себе и прижалась лицом к заросшей впалой щеке. Потом отпустила его, даже чуть-чуть оттолкнула — и сделала шаг к машине.
— Вере Петровне — поклон, — сказал наконец Леша. И добавил с трудом: — Простите меня, Христа ради.
— Леша, — снова рванулась к нему Лена, — Лешенька… Какое счастье…
— Я напишу. Обязательно напишу. Только не сейчас. Потом. Хорошо?
Леша снова и снова повторял: «Я напишу. Обязательно». А Лена, вытянувшись в струнку, старательно вытирала обеими ладонями его мокрые заросшие впалые щеки.
6
Вскоре после поездки в монастырь Лене позвонил Денисов. Он предлагал поехать во Владимир. Через неделю. Почти на четыре дня: с пятницы по вторник включительно. Лена засомневалась, удастся ли отпроситься с работы. Через пару недель отпуск, в»се не так просто. Но соблазн, конечно, был велик. Всегда очень хотелось посмотреть владимирские храмы.
— Только без Оленьки, — предупредил Евгений Иванович. — А то я от нее устану.
Марк Захарович пообещал отпустить Лену без всяких лишних упрашиваний с ее стороны. И она начала собираться-настраиваться, не говоря ничего при этом Ольгунчику. До самого последнего момента молчала как партизанка, хотя подруга появлялась у нее каждодневно, чтобы выложить все, чем ей живется-дышится. Она рассказывала — Лена слушала и большей частью, кивая головой, помалкивала: боялась проговориться. И Вере Петровне на всякий случай сказала про Владимир только накануне отъезда, попросив объяснить Ольгунчику, когда та появится, что все получилось совершенно неожиданно и у Лены не было ни малейшей возможности сообщить подруге об этой поездке.
До автобуса оставался час. Все шло по плану.
За минуту до выхода Лены из дома и за сорок минут до отхода автобуса зазвонил телефон. Конечно, это была Ольгунчик.
Вера Петровна, не умеющая врать, несмотря на большие вращающиеся глаза дочери, вручила ей трубку.
— Оль, уезжаю. Во Владимир. Совершенно неожиданно все получилось, — страдая, проговорила Лена. — Через четыре дня вернусь, все расскажу.
— Я с тобой! — завопила Ольгунчик. — Куда? Когда? Я мигом!
— Прости, ради Бога, но это невозможно. Автобус — через полчаса.
Лене было невыносимо стыдно перед подругой. И жалко Ольгунчика было ужасно. Но не могла же она нарушить обещание, данное Денисову.
Полчаса — это было мало даже для Ольгунчика. Тем не менее Лена до последнего с опаской посматривала в окно автобуса, постепенно набивающегося пассажирами.
Денисов тоже немножко нервничал: Лена сказала ему про звонок. И только когда автобус выехал за город, они оба расслабились и уснули.
Владимирский фотоклуб пригласил Денисова как известного мастера поучаствовать в престижной международной выставке. Ехать одному ему было не то чтобы скучно (он никогда не скучал) — просто была возможность взять кого-нибудь с собой. И не использовать эту возможность, с его точки зрения, было бы неправильно.
Российских участников разместили в школе-интернате, как это было когда-то в советские времена, в двух больших классах: «мальчики» отдельно, «девочки» отдельно. Зарубежные гости, они же и спонсоры всего мероприятия, жили, конечно, в лучшей гостинице города. Но вечером они шли не в ресторан, а в интернат — пить водку с русскими фотографами. Дружба между народами крепла с каждым днем: расползались все далеко за полночь.
Денисов все присматривал Лене заграничного жениха, но они хоть при виде Лены и щелкали языками от восторга, все до одного были женаты.
— Что ж не могли хоть одного холостого прислать? — просил перевести Денисов.
Немцы и французы смеялись и разводили руками. Но это все так — пустяки, к слову.
— Я должна еще раз посмотреть Покров. — Лена имела в виду храм Покрова на Нерли, на экскурсию в который их возили в первый же день пребывания во Владимире.
Это было уже накануне их отъезда. Они сбежали ото всех, уехав уже ближе к вечеру на попутной машине туда, куда так тянуло обоих.
Денисов фотографировал. Лена сидела в траве и смотрела. Кроме них, здесь почти никого не было.
День выдался хмурый, но от белокаменной церкви исходило какое-то особенное сияние, делающее светлее пасмурные сумерки.
Летящий ввысь одинокий крест однокупольного храма тянул за собой все: и само строение, совершенное в своей простоте и скромности, и его отражение в воде, и луга с уже выцветшей травой и пятнами желтых цветов, и души всех, кто оказался вблизи этого древнерусского чуда, этой сказки, этого наваждения.
Лена, ясное дело, всплакнула. Невозможно же не плакать, когда так красиво. Денисов, конечно, увидел. И конечно, сказал: «Хорошенькая. Даже когда плачешь». И разумеется, сфотографировал сидящую в траве Лену, размазывающую по щекам слезы.
А потом он долго-долго рассказывал, чем владимиро-суздальская архитектура отличается, например, от новгородской. И слушать его, как всегда, было безумно интересно. Хотя Лена и знала многое из того, о чем с воодушевлением и подъемом повествовал Евгений Иванович.
А потом, когда Денисов, иссякнув, замолчал и Лена вновь услышала божественную тишину, она вдруг поняла, что именно здесь и сейчас душа ее познала — нет-нет, не окончательно, это ведь невозможно, и все-таки познала — нечто, к чему так стремилась последнее время.
Умиротворение, свет в душе, умение одинаково радоваться дождю и солнцу, умение принимать этот мир таким, каков он есть, — это и есть, наверное, счастье. И это так просто. Только прийти к этому почему-то удается далеко не всем.
Вернувшись из Владимира, Лена еще долго наслаждалась удивительным состоянием покоя и ощущением полной гармонии в душе. И не уставала постоянно обращаться к Богу. «Господи, — говорила она, — благодарю тебя за все». И почему-то совсем не испытывала страха оттого, что блаженство это может кончиться в один миг. Хотя умом она все понимала, ко всему была готова. Понимала, что в час испытаний, который, конечно же, не пропустит ее снова, она не будет роптать, а все снесет, потому что есть за что. Разве эти дни умиротворения и покоя не дорогого стоят? Правда, иногда неясно обозначалась затаенная надежда: а может, за все уже заплачено? И впереди — только свет? Но Лена старалась не лелеять эту мысль. Разве мы можем хоть что-то знать? Разве можем измерить, чего и сколько кому положено? Не можем. Поэтому готовность к новым испытаниям никогда не должна покидать человека. Но эта готовность не имеет, оказывается, ничего общего ее страхом. Вот что было теперь главным: не бояться грядущих испытаний, а жить, наслаждаясь каждой секундой этого удивительного всепоглощающего покоя, дарованного свыше. «Благодарю тебя, Господи!» — повторяла Лена.
Из монастыря приехала Татьяна Алексеевна. Они с Леной встретились в этот же день.
Татьяна Алексеевна, как всегда, была вся в проблемах, но выглядела — опять же как всегда — ярко и, пожалуй, как-то по-особенному привлекательно. Что-то такое светилось в ее глазах. Вроде ничего особенного, как она утверждала, и не произошло. Но Лена видела: произошло-произошло!
— Леночка, у меня появился поклонник, — подтвердила все-таки она Ленины подозрения. — Представляешь? В мои-то годы…
Про какие такие годы толковала Татьяна Алексеевна, было совершенно непонятно. Сорок пять. Ни годом больше! А сорок пять — для понимающих — лучшее время женщины! Ну а что ей было на самом деле больше на десяток с хвостиком — это по большому счету не важно. Правда? Так что наличие поклонника у Татьяны Алексеевны было явлением вполне объяснимым и закономерным.
— Знаешь, Лен, как будто заново родилась. Он такой… Господи, да это не расскажешь! Молодой — сорока нет. Реставратором к нам приехал. Такой талантливый. Он нам так Николая Угодника подновил, ты не представляешь! И такой, знаешь, интеллигентный, аккуратненький весь. Смотрит на меня… Ой, ну не знаю, никто так никогда не смотрел. Всем только одно всегда надо было. А этот… У нас ведь и не было ничего…
Татьяна Алексеевна перешла на доверчивый шепот. Но тут же снова заговорила свободно и звонко.
— А вот как, оказывается, нужно, чтобы кто-то так смотрел! И слова такие говорил. Знаешь, скажет что-нибудь — и весь день как на крыльях летаешь. Сколько дел переделаешь. И все в радость. Все! Вы, говорит, удивительная. Вы, говорит, цены себе не знаете. Красавица, представляешь, говорит.
На последних словах Татьяна Алексеевна смущенно засмеялась.
— Лен, он, наверное, и не может подумать, сколько мне лет. Чудно! Вот уж не думала…
Татьяна Алексеевна перевела дух и покачала головой.
Они сидели с Леной на кремлевской набережной, на скамейке рядом с храмом Спаса на Яру, где когда-то и познакомились. У Татьяны Алексеевны были здесь дела, и Лена решила перехватить ее в свой обеденный перерыв, чтобы узнать все получше об Алешке, услышать о нем именно при встрече, а не по телефону.
— Ой, Лена, прости ты меня, дуру старую, — спохватилась Татьяна Алексеевна. — Все хорошо с Алексеем. Все слава Богу. Не нарадуемся на него. Умница. Работник хороший. Руки прям у парня золотые. Веришь, все на нем держится. Даже не представляю, как бы мы без него обходились.
Татьяна Алексеевна говорила слишком энергично и слишком воодушевленно. Слишком. И Лена смотрела на нее недоверчиво и требовательно, хотя очень хотелось, чтобы все было именно так и никак иначе.
Татьяна Алексеевна вздохнула: поняла, что говорить нужно все.
— Ну, было один раз. Запил. Затосковал — и запил. В деревню ушел. И не появлялся дня четыре. Мы-то знали, где он, у кого. Решили с батюшкой не ходить за ним. Чтобы он сам. Сам вернулся.
Татьяна Алексеевна, рассказывая это, горестно качала головой, вспоминая, как это было трудно — ждать. Алешка ведь ей, после всех Лениных рассказов, давно как родной стал. Невыносимо тяжело было. Отец Владимир молился за него. Так молился… Помогло. Пришел Алексей. С такими глазами… Понимал, что виноват. А уж какая вина, если болезнь. Если тоска. Это сколько молиться надо, чтоб от нее, проклятой, избавиться.
— Нет, Лен, ты не думай, — уже не энергично, а задумчиво говорила Татьяна Алексеевна, — мы его вытащим. Господь поможет. Не оставит. Все будет хорошо. Это ведь не просто — к Богу прийти. А он придет. Вот увидишь. Будет как мой Сереженька. Я в этом и не сомневаюсь нисколько. Потому что душа у него… Даже и не знаю, как сказать. Я с ним долго иногда разговариваю. И батюшка много внимания ему уделяет. Верит в него очень.
— Спасибо вам. — Лена обняла Татьяну Алексеевну, а та — ее.
Так, обнявшись, они и сидели. Хотелось бы сказать: «долго-долго». Но это было бы неправдой. У Татьяны Алексеевны дел было полно. А у Лены обеденный перерыв заканчивался.
7
Электричка тянулась так медленно, как будто в нее впрягли уставшую от жизни старую лошадь.
Лена ехала в Москву. А из Москвы вечером — поездом в Питер. Поскольку времени до вечера должно было остаться много, Лена планировала съездить на Ленинские (а теперь снова Воробьевы) горы поклониться альма-матер, погулять по Старому Арбату и побывать в каком-нибудь музее (в каком именно, она еще не решила). Звонить никому из однокашников-москвичей (лица некоторых мелькали на экране, фамилии других встречались на страницах журналов и газет — и серьезных, и «желтых», и разных) почему-то не хотелось.
Так сложилось, что, уехав на Север, она почти со всеми потеряла связь. И только через мурманскую Наташку кто-нибудь из звезд средней величины (в большие звезды никому из их однокурсников выбиться не удалось) передавал ей иногда приветы, просил непременно позвонить.
Приветы Лена с радостью принимала, радовалась, что помнят. А вот звонить — не звонила. Ну что бы она сказала? Что работает непонятно кем и непонятно где? Разве поверят, что ее все устраивает? Не поверят. И правильно сделают. Пожалеют — это конечно. У нее, у Лены Турбиной, во всем когда-то первой, — не сложилось. Ничего не сложилось. Ни семьи у нее нет. Ни дела. Только душа, наполненная светом, — вот и все. Хотя по большому, самому большому счету — это и есть самое главное. Только кому это объяснишь? Самой себе — и то не всегда получается.
А электричка по-прежнему тянулась в направлении Москвы устало, нехотя и недовольно. И надежды, что она когда-нибудь спохватится и нагонит потерянное время, не было.
Лена пыталась читать, не обращая внимания на стоявший в вагоне ровный гул беспрестанного общения с отдельно прорывающимися взвизгами смеха или странными пьяными выкриками. Она пыталась смотреть в окно — но сегодня это ее почему-то утомляло и не радовало. Настроение, одним словом, было никудышное.
Электричка, несмотря на ярко выраженное нежелание, Москвы все-таки достигла.
Казанский вокзал встретил, как всегда, приподнятым оживлением, целеустремленной суетой и — при одновременном поглощении каждого человека со всеми его потрохами — учтивым неучастием в его проблемах, а также множеством похоже-непохожих лиц, слившихся в одно отстраненно-озабоченное лицо непонятной национальности.
Странно, но вместо чувства жгучего одиночества и горькой жалости к каждому отдельному человеку из толпы — чувства, которое всегда охватывает на многолюдных вокзалах, — Лену посетило нечто похожее и на успокоение, и на просветление. Ей стало лучше и легче, чем было в электричке. Она вдруг как-то встрепенулась и поняла: все нормально.
И были и Воробьевы горы, и чувство полета со светлыми нотами ностальгии, и Старый Арбат с бородатыми неопрятными художниками в беретах и музыкантами в майках, с гребнями на голове, и Музей Пушкина — здесь же, на Арбате (как хорошо после «музыки» тех, с гребнями), и кафе с хорошим кофе, и ощущение того, что ты — молодая, красивая, не обремененная проблемами, и восхищенные, ничего не значащие (но все равно приятно!) взгляды мужчин, и легкие ее улыбки в ответ, тоже ничего не значащие.
И, наконец, поезд. И не какой-нибудь, а «Красная стрела»!
Лена вдруг поняла, как отчаянно она любит комфорт. И вспомнила это мягкое, сладостно расслабляющее чувство удовлетворения, когда входишь в вагон фирменного поезда («Арктика», любимая «Арктика»!), где тебе неизменно хорошо, оттого что все здесь — для тебя, и оттого, что, хотя и тоскуешь немного по оставленному в точке А, все равно веришь, что в точке Б тебя ждет что-то очень-очень хорошее: светлое, радостное, доброе.
Конечно, вы прекрасно понимаете, что с Лениной зарплатой на «Красной стреле» в Питер не поедешь. Кстати, электричка до Москвы была случайной. Можно было доехать или на автобусе, или на приличном поезде. И Лена ужасно жалела о четырех часах унижения в грубом, пахнущем едой и потом вагоне ленивой электрички. Поймав себя на этой мысли об унижении, Лена застыдилась: неправильные мысли.
Так вот — о «Красной стреле». Это была идея Аллы.
— Ленка, бери билет на «Красную стрелу». Поняла? Что? Билетов не будет? Будет! Я тебе специально заранее звоню. Как человек поедешь. Все компенсирую, сама понимаешь. Так что займи — и купи. Ясно? И еще… — тут возбужденно тараторящая Алла перешла на выразительный шепот, — бери СВ. Поняла? Ну вдруг… — И снова возбужденно, громко, не терпящим возражений тоном бизнес-леди: — В общем, только «Стрела». И только СВ. Усекла?
Лена все «усекла». И, сидя в двухместном купе (чистейшем, уютном, дышащем свежестью кондиционеров), с интересом, которым заразила-таки ее Алла, посматривала на тех, кто проходил мимо ее открытой двери. Мужчин презентабельного вида было достаточно. Но все они следовали мимо, хотя и успевали, увидев Лену, изобразить на лице что-то огорченно-призывное.
До отхода поезда оставалось уже совсем немного. Лена в конце концов расслабилась и, сняв с лица выражение спокойно-достойного ожидания, стала смотреть в окно.
Перрон, сделанный из какого-то блестящего скользкого материала, вдруг поплыл. Значит, поехали. А где же попутчик? Или хотя бы попутчица?
Тронулся поезд — а отъезжал перрон.
Как отъезжающий перрон, Как провожающий вокзал…
А дальше? Что же должно быть дальше?
— Добрый вечер. — Голос был одновременно и интеллигентным, и мужественным, и бархатным.
Лена удивленно повернула голову: неужели проводник? Нет, это был не проводник. Это был Ленин попутчик. Как хотелось Алле (да и самой Лене, чего уж там), достойный внимания. Более чем.
— Меня зовут Олег Павлович, — представился высокий блондин, смахивающий на немца или на эстонца. — Вы позволите присесть?
Лена не совсем поняла, почему она должна позволить занять попутчику его собственное место, но согласно закивала головой и почему-то подвинулась еще ближе к окну, забыв, что ей тоже нужно себя назвать.
— Могу я полюбопытствовать, как ваше имя9 — сдержанно, по-эстонски, улыбнулся немец.
Попутчик, похожий на какого-то заграничного киногероя, никак не мог быть русским, и почему его звали Олег, да еще Павлович — именно так, как звали ее Олега, — было совершенно непонятно. Лена, раздумывая об этом, снова промолчала.
Олег Павлович (его отец Пауль Кроуз, из волжских немцев, был женат на русской) чрезвычайно удивился. Красивая, ничего не скажешь. И возраст хороший (Олег не любил молоденьких, смазливых и глупых девиц). Но какая-то странная. Обидно. Он лелеял тайные мысли о другой попутчице. Ну что ж, нет худа без добра. По крайней мере можно будет выспаться.
Ленин попутчик вздохнул, пожал плечами. — Меня зовут Елена, — сказала наконец эта красивая и странная женщина. Собственно, чем она странная? Голос приятный. Глаза не просто красивые, а умные. И еще есть в них что-то такое, что трудно поддается определению. Одета, правда, слишком непритязательно. Женщины с такой внешностью и фигурой (пока не совсем ясно, но, кажется, фигурка должна быть ничего) обычно стараются одеваться соответственно. Видимо, из верных жен. Не очень хороший вариант. Что ж муж ее получше не оденет? Раз едет «Стрелой», да еще в СВ, значит, не бедствуют. Хотя скромность в одежде в последнее время может быть весьма обманчивой. Линялая серая маечка может оказаться маечкой от Версаче с соответствующей ценой в долларах. Юбочка — то же самое. Вот сумка — точно бедновата. Ценой в долларах и не пахнет. И все равно в этой Елене что-то есть. Скромность — признак вкуса вообще-то. Но сумка и обувь могли бы быть получше. Стрижка стильная. Черт, шея-то у нее какая! И ушки трогательные очень. Маленькие. И непохоже, чтобы в них блестели стекляшки. Уж больно форма интересная. Поди, фамильные бриллианты. А взгляд все равно странный. Насмешливо-высокомерный. С какой это кстати? В нем что-то не так? Что сказать? Как вести себя? Черт его знает… Посмотрим.
Олег снял пиджак («Вы позволите?» — снова спросил), повесил на вешалку. Бросил наверх дорогой кейс. Снова сел. Попутчица, развернувшись к нему, смотрела выжидательно. И все равно — насмешливо. Ну и… Сейчас он заляжет — да и все. Черт с ней, с этой высокомерной красавицей. Правда, Олегу ужасно хотелось хлебнуть «для засыпа» припасенного коньяку. Значит, придется предлагать и ей. Придется разговаривать. Посмотрим, что из этого получится. Олегу все-таки хотелось, чтобы что-то получилось. — Елена, как вы относитесь к хорошему коньяку? По случаю знакомства?
«Алка будет счастлива, когда расскажу», — опять-таки насмешливо (уж слишком все банально!) подумала Лена.
Я не буду вам подробно пересказывать, что было дальше. Было все. Надеюсь, у вас хватит ума не обвинять Лену в распущенности. Хотя о чем это я?
Олегу Кроузу было тридцать пять. В свое время он окончил МГИМО, успел поездить по миру. Собственно, это был настоящий современный принц: москвич, обаятельный-умный-тонкий, с престижной работой и очень приличной зарплатой, с квартирой-машиной-дачей. О своем благополучии он говорил легко, просто, естественно, как о само собой разумеющемся.
Лена Олегу вполне верила. С ним было хорошо. Спокойно. Надежно. Но думала: хорошо и надежно — в эту ночь и в этом поезде. Так что обольщаться на его счет она не собиралась. И на чудо не рассчитывала. Хотя, начни что-то складываться, была бы, конечно, рада. И душа, и тело уже изо всех сил тянулись к душе и телу Олега Павловича Кроуза. Но ум все ставил на свои места. Нетрудно было догадаться, что принц немецкого происхождения скорее всего не спешит никому доставаться (печальный опыт брака у него уже был, о чем он не преминул вскользь заметить), а когда он созреет до создания новой семьи, на его горизонте будет маячить достаточно достойных претенденток. Так думала Лена.
Что думал Олег? Думал: умная, красивая, страстная и отнюдь не провинциалка, что-то есть в ней чертовски благородное. И эта некоторая насмешливая снисходительность… В постели — порывиста и непосредственно-восторженна, а не профессиональна. И это замечательно. Кожа у нее — удивительная. Грудь хороша: не большая, не маленькая, а то, что нужно. Ну, в Питере-то они, конечно, встретятся. О дальнейшем Олег не думал: не привык. Хотя предательская антихолостяцкая мыслишка мелькнула: маме она понравилась бы, это точно.
Телефон Петровых Лена Олегу дала. Рассказала, что будет в Питере две недели. Назвала число, когда планирует ехать назад.
Олег искренне огорчился, что его пребывание в Петербурге ограничивается всего лишь тремя днями. И про себя решил, что назад, пожалуй, полетит самолетом. Не может же и в следующий раз встретиться в поезде такая женщина. А не такую уже не хотелось. Может, и вообще никого, кроме нее, не хотелось. Во всяком случае, пока.
Кстати, Лена отказалась взять визитку Олега, хотя он очень настаивал. Ему хотелось, чтобы Лена увидела, с кем имеет дело, а она даже не взглянула на глянцевый прямоугольник темно-синего цвета, на котором золотом были перечислены его должности, номера телефонов и факсов.
То, что Лена равнодушно отвела взгляд от его визитки, Олега задело и порадовало одновременно. Лена не была похожа ни на одну из тех женщин, с которыми Олег привык общаться: те всегда норовили побыстрее заполучить номер его мобильника. И он, дурак, иногда прокалывался, а потом приходилось менять номер.
Да, Лена не взяла телефон Олега Кроуза. Не взяла, потому что не собиралась ему звонить сама. Захочет — позвонит. А нет — значит, не судьба. После того как она когда-то отчаянно цеплялась за Буланкина, а потом потеряла его навсегда (не потому, конечно, что цеплялась, а просто — не сложилось), у Лены как-то само собой выработался железный принцип: никогда не звонить мужчинам первой. Никогда! А уж такому, как Олег, безусловно, избалованному женским вниманием (Лена могла представить, в каких кругах он общался и из каких женщин мог выбирать), — тем более.
Судьбу обмануть невозможно. Лена может приложить сколько угодно усилий, чтобы привязать к себе этого мужчину, но зачем? Если судьба не запланировала их союз, все будет тщетно, только себя уважать перестанешь. А уж если где-то кем-то предначертано, то что ж, шанс есть. Вот пусть Олег его и использует.
Олег честно намеревался позвонить. И очень хотел встречи. Но получилось так, что в Питере у него не оказалось ни единой свободной минутки. Договор подписали — и, соответственно, был ресторан (разумеется, один из лучших), были девочки, тоже потрясающе дорогие. Но сумма договора была столь велика, что все должно было быть по высшему разряду. Кстати, с девочками у Олега не сложилось. Почему-то.
Наутро партнеры увезли в Петродворец. Олег набрал между делом данный ему в поезде номер — никто не ответил. Чуть позже набрал еще. Снова — никого. Да, может, и к лучшему. Что бы он сказал Лене, если со встречей все равно ничего не вырисовывалось. Решил, что позвонит потом, из Москвы. На этом и успокоился.
Но я немного забежала вперед. Вернемся в то утро, когда «Красная стрела» нарядно подкатила к Питеру и Олег, благоухающий, свежий, подтянуто-раскованный, в прекрасном костюме оливкового цвета и стодолларовом галстуке (уж Алла-то знала, что почем), выйдя из вагона, галантно подал руку Лене, которая, кстати, несмотря на скромную футболку и скромную юбку (подросток семидесятых, да и только!), выглядела не хуже, так как вся лучилась-светилась после, ясное дело, бессонной ночи. Алла была счастлива: молодец Ленка! Оторвала мужика что надо. Даже легкая зависть коснулась сердца Аллы: у нее таких красавцев не было, пожалуй, никогда. Да ладно! Пусть Ленке достается! Уж она ли не достойна такого плейбоя? Хотя для семейной жизни такие герои не слишком пригодны, лучше бы попроще, конечно.
«Плейбой» приветливо, с чертиками в глазах, поздоровался с Аллой, обнял Лену, пошептал ей на ушко что-то нежно-игривое и, сделав серьезно-непроницаемое лицо, шагнул навстречу двоим: весьма представительному, толстому и лысому мужчине в очках с тонкой золотой оправой, тоже упакованному в костюм и галстук — все в светлых, песочных тонах, и яркой молодой женщине, одетой так же по-офисному сурово: костюм, белая блузка, туфли на шпильках. Она, как и Ленин попутчик, старалась придать лицу деловое выражение. Из всех троих только толстяк ничего не изображал, а добродушно улыбался. Понять расстановку сил было несложно: от толстяка в песочном костюме что-то зависело. А остальные должны были в связи с этим немного понервничать. Что они и делали.
Алла оценила все это своим опытным глазом в те две-три минуты, пока эта группа здоровалась и обменивалась ничего еще не значащими (но это только на первый взгляд — незначащими) замечаниями. Потом они двинулись вперед, и Ленин красавец успел на ходу оглянуться и послать своей попутчице обволакивающую, но все же немного растерянную улыбку.
— Ну? — заторопила Алла Лену. — Давай колись. Хорош? Телефон оставил?
— Алка, ты в своем репертуаре! Ну подожди, потом. Знаешь, как спать хочу?
— Догадываюсь! — Алла довольно захохотала.
А у Лены не было даже сил оценить новый имидж подруги. Между тем удивиться было чему.
У Аллы была короткая-короткая стрижка: «ежик» такой стильный серебристого цвета. Только сзади были оставлены довольно длинные редкие пряди, выкрашенные в красно-фиолетовый цвет. Это была прическа спешащего самовыразиться подростка. Но все остальное: глаза, губы, фигура (здорово похудевшая, Алла оставалась обладательницей роскошного бюста) — было столь женственно и притягательно, что у окружающих никаких сомнений в том, что это така-а-я женщина, возникнуть не могло.
Весело подхватив Ленину дорожную сумку одной рукой, а другой взяв подругу за запястье, Алла потянула ее за собой, к машине. Она умудрилась поставить ее не там, где ставят все, а где-то очень близко от перрона.
Они ехали по утреннему, свежему после ночного дождя городу городу, который был Лене очень близок и дорог. И, несмотря на усталость, она была готова снова и снова восторгаться дворцами и просто домами, мостами и мостиками, быстрыми чайками над беспокойной Невой.
Лена любила этот славный город за красоту камня, его составляющего, за стойкость людей, его населяющих, любила за то, что Питер был городом военных моряков и здесь учился и ее папа, и ее Саша, и ее Олег.
Кстати, в каждую свою поездку сюда (хоть и немного их было) она непременно отправлялась на Северное кладбище, чтобы поклониться Олегу (его портрет на памятнике был одновременно и родным и чужим, и близким и бесконечно далеким) и его родителям (они пережили сына совсем не намного: Павел Григорьевич умер через полтора года, а через несколько месяцев ушла вслед за сыном и мужем и Ольга Николаевна).
Лена приходила к двум небольшим памятникам из черного гранита с золотыми буквами, золотыми якорями и чайками — неизменно с белыми розами. Ей казалось, что именно эти цветы должны были лежать здесь всегда. И если бы она жила в Ленинграде, то, наверное, все, что зарабатывала, тратила бы только на белые розы. Алла, умница, зная это, раза два в год (обычно на Пасху и в День Военно-морского флота), несмотря на свою жуткую занятость, приезжала на Северное кладбище и тоже привозила розы. Только это были не несколько цветков, а роскошные белые букеты. Алла ведь не признавала ничего чисто символического: и количество, и качество, и размеры — все должно было быть самое-самое. Такая уж она, Алла, была. Укладывая розы на отполированные могильные плиты, она неизменно приговаривала: «Это тебе, Олеженька, от Лены нашей. А это вам, Ольга Николаевна и Павел Григорьевич». И плакала. Она ведь, Алла, была очень эмоциональна.
Но сейчас — о другом. Сейчас подруги мчали на белом «фольксвагене» по стрелке Васильевского острова, и Алла на ходу, мешая встрече Лены с городом, беспрерывно тараторила обо всем на свете. Несколько раз она возвращалась к главному: недавно была така-а-я шикарная встреча с Гаврилиным, ты не поверишь. Он, оказывается, перевелся в Питер почти полтора года назад. На адмиральскую должность, между прочим. Так этот гад (представляешь, Лен?) позвонил только тогда, когда получил адмирала. И позвонил так, как будто он только тут появился. Это Алла уж потом разнюхала, что он в Питере уже больше года. Ну, по телефону-то он, конечно, ничего про адмиральские погоны не сказал. Думал убить наповал. А Алле, сами понимаете, еще больше хотелось его сразить. Она, бедная, всю башку, по ее собственному выражению, сломала, на чем подъехать: на этом (Алла небрежно вскинула подбородок, указывая на капот своего «фольксвагена») или на «мерсе» (да-да, Лен, у меня еще и «мерседес» теперь есть, увидишь). «Мерс», ясное дело, эффектнее, но на нем Алла чувствовала себя пока не слишком уверенно. В общем, вся измучилась. Как обезьяна.
Лена не поняла про обезьяну.
— Ну, как обезьяна в том самом анекдоте. Когда попросили умных сделать шаг вперед, а красивым велели остаться на месте. Бедная обезьяна! Как я ее понимаю. Ленка, а ты бы, кстати, на месте осталась или вперед подалась?
Лена засомневалась.
Подруга довольно хихикала.
— Не, Ленка, с тобой-то понятно. Но обезьяна-то, обезьяна! Представляешь?!
На Аллу напал жуткий приступ хохота. При этом она, однако, вполне успевала следить за дорогой.
— Так вот, — успокоившись, продолжала Алла. — Он назначил мне свидание. Мы, кстати, не виделись почти шесть лет. Я, конечно, все-таки пересела на «мерс». Да, главное, сделала эту стрижку. — Алла, отняв руки от руля, попыталась ухватиться за остатки волос на голове, это не получилось, и она любовно погладила свой «ежик».
По наблюдениям Лены, Алла вела себя за рулем все же несколько странно: рассказывая что-то взахлеб, она пыталась изобразить это еще и руками. «Господи, помилуй, — твердила Лена про себя. — Господи, помоги нам доехать». Но при этом она, чтобы не обидеть Аллу, изображала внимание, удивление, восхищение и все, что требовалось, хоть и боялась при этом — страшно.
Алла так и не досказала про Гаврилина, потому что по пути встретился какой-то нужный супермаркет и она, ловко припарковав машину там, где, казалось бы, втиснуться было невозможно, потянула Лену за покупками.
Лена, как положено провинциалке, изумленно озиралась по сторонам: всего было настырно-много, и все было ярко, разноцветно, призывно. В Рязани таких магазинов, кажется, еще не было. Во всяком случае, Лена ничего подобного не видела.
Загрузив всякой продуктовой всячиной огромную корзину на колесиках, Алла уверенно покатила ее и потянула за собой подругу в тот отдел огромного зала, где были красиво разложены-развешаны купальники и майки, футболки и сарафаны, где стояли ряды модной небьющейся посуды и где по-дизайнерски точно было расставлено множество необходимых в хозяйстве вещей. Больше разнообразия и красоты поражали написанные большими цифрами цены — они кричали и рвались к людям. И люди почему-то не шарахались от них, а спокойно выбирали то, что им нужно, поскольку это был магазин, куда приезжают только те, кого ценами испугать трудно. И этих «тех», надо заметить, было немало. Это Лена тут оказалась чужой. Все остальные были своими. Правда, внешне, под прикрытием Аллы, она выглядела вполне уверенно и, освоившись, нарочито-скучающим взглядом обводила все то, что иметь, наверное, было бы приятно. Случайно поймалось несколько робких и растерянных взглядов — значит, все-таки не одна Лена попала не в свой аквариум. Она действительно плавала за Аллой, как задумчивая рыбка, без цели и без энтузиазма.
Глаз у Аллы был верный, и, выбирая что-то для подруги, она даже не считала нужным советоваться с ней: все сама знала и понимала — и про размер, и про цвет, и про фасон.
Лена, выйдя из задумчивого оцепенения, пыталась урезонить Петрову, пыталась напомнить, что у той были какие-то дела.
На «дела» Алла отреагировала мгновенно. Остановившись перед стеллажами, заманивающими кружевом белья, она сначала позвонила, очевидно, своему бухгалтеру, напомнив про платежки и про что-то еще, о чем Лена не имела ни малейшего представления. Затем, набрав другой номер, довольно грубо кому-то намекнула, что если то-то и то-то (что именно, Лена опять же не поняла) до завтра не будет сделано, то она, Алла, с этим кем-то будет говорить по-другому.
— Нет, ну не собаки, а? Чуть-чуть стоит расслабиться, все под откос пустят. С лучшей подругой пообщаться не дадут! А уеду, что будет? Хоть не езди никуда, ей-богу. А с другой стороны, я пашу без отдыха лет пять, не меньше. Ну, вылеты на теплые моря на пару-тройку дней, сама понимаешь, не считаются…
А теперь я объясню, для чего Лена была вызвана Аллой в Питер на целых две недели.
Дело в том, что Петровы решили наконец всей семьей отдохнуть. Они выбрали (точнее, Алла выбрала) Кипр. Глава семьи, то есть опять же Алла, постановила, что надо не просто отдохнуть, а непременно — всем вместе. Надо успеть отдохнуть всем вместе, пока Ромка с Антоном не вылетели из родительского гнезда и не обзавелись своими гнездами, пока она, Алла, может блеснуть молодостью и красотой на фоне своих громадных близнецов (ее действительно можно было принять за старшую сестру, а может, и возлюбленную — это ведь сейчас не редкость — одного из ее красавцев сыновей). Нельзя было обойтись и без Петрова-старшего: ему отводилась роль хозяйственника.
В общем, такова была воля Аллы: отдохнуть вчетвером, и никак иначе. Соответственно возникала проблема. С кем оставить пятого члена семьи — таксу Рэту? Брать ее с собой не хотелось. Рэта плохо переносила самолет, да и вообще была натурой тонкой, впечатлительной, нервной — одним словом, она была, как все женщины, немножко неврастеничкой. Любые изменения привычного образа жизни действовали на рыжую таксу отрицательно.
Таким образом, собаку нужно было оставить в квартире с надежным человеком. Надежные люди находились и в Питере, но Алла решила, что будет здорово, если приедет именно Лена, которую Рэта знала и любила. Лена совместит приятное с полезным: сменит обстановку, побродит по музеям (она большая любительница этого дела), ну и Рэта будет под присмотром и в интеллигентном обществе, а забот она особенных и не требует. С кормежкой — вообще никаких проблем. Рэта с детства — аллергик, и ей ничего нельзя, кроме отварной гречки, телятины и зелени. Кормить — строго два раза в день, утром и вечером. Причем и гречку, и мясо можно сварить на два-три дня — и в холодильник. И гулять два раза. Парк — рядом.
Нарисованная по телефону Аллой перспектива Лену более чем устроила. Главное, что ее отпуск совпадал с отдыхом Петровых. Так что все складывалось как нельзя лучше. Возможности поехать куда-то еще у Лены Турбиной не было. Питер она обожала. Рэту — тоже.
Да, кроме цели пристроить свою таксу, Алла держала в голове еще одну тайную мысль, связанную с пребыванием Лены в Питере. И хотя это было не в ее характере, мыслью этой делиться с Леной она не стала. Я вам об этом тоже, пожалуй, пока ничего не скажу. Хотя нетрудно догадаться. Алла постоянно пеклась о Лениной судьбе, и ей хотелось восстановить справедливость: уж кто-кто, а Лена должна быть счастлива.
Рэта встретила Аллу с Леной укоризненно-радостным визгом (она ужасно не любила находиться дома одна), припаданием на передние лапы и высокими подскоками с попытками лизнуть в лицо то хозяйку, то гостью.
Отъезд семейства планировался на следующий день. Петровы-младшие тусовались где-то на природе. Петров-старший был отослан Аллой с разного рода поручениями. А сама Алла пребывала в приподнято-возбужденном состоянии, не зная, за что хвататься.
Посреди гостиной лежал распахнутый чемодан, в нем — ворох разноцветно-разнокалиберной одежды от бюстгальтеров, плавок, мужских носков до джинсов и свитеров.
— Рэтка повеселилась, — кивнула на чемодан Алла. — Я ведь складывала все как надо, а эта морда разрыла. Чего уж она там искала?
Рэта, услышав свое имя и уразумев, что она, наверное, что-то сделала не так„потупила глаза, затем опустила голову (ушами — до пола) и виновато повесила хвост. Так и стояла она рядом с чемоданом, полностью осознавая свою вину и, очевидно, глубоко раскаиваясь.
— Рэта, Рэточка, — ласково позвала Лена.
Собака глаз не подняла и хвостом не вильнула: переживала.
— Ладно уж, дура ты моя, — сказала ей Алла примирительно.
Рэта подняла голову и вопросительно-грустно посмотрела в глаза хозяйке: на самом ли деле на нее, собаку, не сердятся?
— Знаешь, Ленка, — сказала Алла, сев перед Рэтой на корточки, притянув ее к себе за передние лапы и целуя в нос, — мне кажется иногда, что эта паразитка умнее всех нас, вместе взятых.
На «паразитку» Рэта тоже отреагировала вполне адекватно: самолюбиво вырвалась из рук Аллы и пошла к Лене, с обидой оглядываясь на хозяйку: если уж простила, то будь добра и слова подбирать соответствующие.
Забыв про растерзанный чемодан, Алла начала выгружать из пакетов и пакетищ купленное в супермаркете. Доставая то, что нельзя было примерить на себя или на Лену, она кидала это в сторону на диван, кресло или прямо на пол, а выудив очередную одежку и вспомнив, кому она предназначается, или скидывала все с себя и влезала в нее, или заставляла то же самое проделывать Лену. Между делом она врубила музыку (именно «врубила» — на полную громкость).
Под какие-то немыслимые ритмы Алла с Леной вертелись, пританцовывая перед зеркалом (зеркала у Аллы были повсюду), переступая или перепрыгивая через разбросанные по всей комнате самые разные вещи — от одежды из чемодана до купленных в дорогу нужных и ненужных мелочей. Рэта, всех простив, самозабвенно участвовала в этом вертепе: носилась по огромной комнате, развевая ушами и вращая хвостом, запрыгивала от избытка чувств на диван и снова, опять же от избытка чувств, спрыгивала.
Перекрикивая музыку, Алла рассказывала о своей жизни. Собственно, Лена и так все достаточно хорошо представляла.
В своей бурной жизни Алла Петрова успевала очень многое. Спала, правда, часа четыре в сутки — не больше. И поэтому в субботу-воскресенье просила своих домашних об одном: не трогать ее, дать ей возможность поваляться в постели столько, сколько ей захочется. Она валялась часов до двенадцати, а потом вскакивала и снова включалась в свой бешеный ритм, и поспеть за ней было совершено невозможно.
Она успевала все: отмахивать утром на велотренажере километров пятнадцать-двадцать; посещать косметичек и массажистов; плавать в бассейне; раздавать ценные указания всем Петровым-мужчинам и строго следить за исполнением этих указаний; руководить приходящей домработницей; успешно вести уже сложившийся бизнес, влезая при этом в какие-то новые рискованные проекты; строго следить за здоровьем Петрова-старшего и за увлечениями Петровых-младших; иметь двух-трех любовников — и слыть при этом хорошей женой и хорошей матерью. Пожалуй, слово «слыть» здесь не очень уместно — Алла Петрова, сколь парадоксальным вам это ни покажется, на самом деле была хорошей женой и хорошей матерью. Так бывает, поверьте мне.
Алла, по-прежнему склонная к полноте и поэтому постоянно сидящая на диетах, была пластична и грациозна, как пантера. Она любила яркое, блестящее — все это удивительным образом ей шло. Самооценка ее была, наверное, слегка завышена, разрезы на юбках — тоже (но не слегка, а по самое некуда), а вот вырезы на платьях и блузках, напротив, были сильно занижены. Мужики вились, конечно, вокруг нее как мухи. Она только успевала отмахиваться. Хотя, если появлялся достойный экземпляр, она сразу делала задумчиво-внимательный взгляд, убирала с лица все признаки кокетства, выбирала для общения более чем серьезный тон — и все это в неожиданном сочетании с ее обликом великосветской путаны производило эффект — потрясающий.
Любовники Аллы при том ритме жизни, о котором я вам рассказала, отлавливали ее, конечно, с трудом. Только для одного, редко досягаемого (я о нем уже упоминала, если помните), становилась она вдруг, когда он звонил, совершенно свободной, только бы позвал, только бы поманил. Сама она ему не звонила. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Считала ниже своего достоинства навязываться кому бы то ни было, а ему — тем более.
Она была создана, конечно, только для любви, эта яркая, холеная женщина, в которой бархатная нежность сочеталась с колючей резкостью, неуемная страсть — с гордостью, умение подчинять — с умением безропотно подчиняться, проницательность и эмпатия — с наивностью и даже в нужных случаях — с глупинкой. Она была женщиной от стриженой макушки до младенчески шелковых пяток, над которыми неустанно трудилась ее педикюрша (Алла всегда считала, что пятки для женщины — главное, не говоря обо всем остальном).
Самым ярким событием за последнее время для Аллы стала встреча с Гаврилиным — встреча, о которой она все никак не могла толком поведать Лене. Это случилось уже поздним вечером. А сначала, кое-как собрав чемодан, они дождались появления слегка постаревшего и сильно поседевшего (но по-прежнему очень симпатичного и добродушного) Саши Петрова, испытывающего к Лене очень нежные дружеские чувства. Потом пришел Ромка ростом метр девяносто, спокойно-немногословный, флегматичный — в отца. Чуть позже тайфуном ворвался Антон (рост и внешность — Ромки, а характер — Аллы), сразу же снова убежал, сказав «я сейчас», и вернулся только минут через сорок.
Часам к девяти семья была в сборе. За ужином все, кроме Лены и Рэты, получили от Аллы нагоняй, поскольку провели сегодняшний день с некоторыми отклонениями от четко намеченных ею планов.
Наконец, дав Петровым-мужчинам последние наставления и отправив всех их спать, Алла настроилась на долгий душевный разговор с подругой, в ходе которого нужно было донести до Лены подробности про Гаврилина и про того недосягаемо-единственного, которого Алла никак не могла приручить. Кроме того, Лена, в свою очередь, должна была рассказать про ночь в «Красной стреле».
Несмотря на внушительное количество комнат в петровской квартире, разговоры «за жизнь» велись, по обыкновению, на кухне.
Быстренько затолкав чашки-тарелки в посудомоечную машину, Алла вытерла стол и набросила на него извлеченную откуда-то знакомую зеленую вязаную скатерть, лохматую от времени и очень родную; принесла из гостиной тот самый подсвечник, который когда-то очень-очень давно подарила ей Сашина бабушка; зажгла стоящую в ней уже наполовину оплывшую свечу; прикинула, что этого света слишком мало, поэтому достала из настенного шкафа еще одну свечку и пристроила ее рядом на блюдечке; поняла, что нарушена гармония, но второй свечи не загасила, а просто переставила ее на подоконник и, наконец, уселась напротив Лены, так же поставив локти на стол и положив подбородок в ладони.
Они вопросительно посмотрели друг другу в глаза: кто первый?
— О, подожди! — Алла вскочила и снова кинулась (времени было жалко!), кажется, в спальню.
Оттуда она приволокла тяжелую напольную вазу с огромными белыми розами — их было штук двадцать пять, не меньше.
Алла поставила вазу не далеко и не близко, а так, чтобы ее было видно в полумраке, царившем теперь на кухне.
Лена знала эту потрясающую привычку подруги: если в доме есть живые цветы, перетаскивать их за собой из комнаты в комнату. Цветы в доме были почти всегда. Алла могла и сама их себе купить, если вдруг по пути домой глаз вдруг выхватывал среди множества букетов, продающихся обычно у каждой станции метро, что-то волнующее ее, близкое ей, вызывающее у нее эстетический восторг. Она любила розы. Она любила герберы. Она любила и крупные садовые ромашки. Все зависело от ее внутреннего состояния. И никогда от состояния кошелька! Алла могла купить букет на последние деньги (ведь были и в ее жизни времена, когда приходилось буквально считать копейки).
И вот наконец, когда шептали-потрескивали свечи, когда лунно сияли в напольной вазе розы, а по потолку вспуганно порхали тени от всплесков рук, участвующих в повествовании, Алла с Леной и узнали друг о друге то, чего не было еще сказано по телефону.
Конечно, Алла начала с себя. То есть с Гаврилина. Господи, кто бы мог подумать, что он может оказаться столь романтичным!
— Ленка, ты не представляешь, — громко шептала Алла, — ты просто не представляешь! Договорились встретиться знаешь где… у Исаакия! Где всегда полно народу, где вечно полно иностранцев! Это он, кстати, предложил. Там не очень удобно парковаться, но я упираться не стала. Ну вот. Еду, в общем. Сама понимаешь, выгляжу на все сто. Ты еще, кстати, не видела у меня потрясный красный костюм, брючный. Между прочим, не фирма! У меня теперь есть такой модельер на Невском — обалдеть можно! Такой мальчик… У нас пока еще ничего не было, но… Ученик Зайцева, между прочим. Ну ладно, о нем — потом.
Короче. Смотрю: стоит. В форме. Весь из себя адмирал (это я сразу усекла). Ну, покруглел еще, конечно. Нехорош! И на фоне черной формы — вот эти розы.
Алла влюблено посмотрела на живых, но безмолвных свидетелей ее потрясающей встречи с Гаврилиным.
— Все на него таращатся, — продолжала взахлеб Алла. — И видно, ну прямо совершенно отчетливо видно, — балдеют! А он… вроде пытается не дергаться, а сам зырит по сторонам: откуда я появлюсь? А я на самой малой подъезжаю прямо к нему. Он не смотрит. Все пялит глаза туда, откуда народ идет. Ну вот. Я остановилась, посигналила.
Ну и сигнал у меня, сама понимаешь… не сигнал, а песня райской птицы… Этот смотрит и челюсть у него, конечно, отваливается! Меня пока еще плохо видно, но он уже понимает, что это — я! Адмиральские погоны против «мерса»! А?!
Он стоит с отпавшей челюстью, я выпархиваю — и к нему. Снимаю черные очки: не меня ли дожидаетесь, товарищ контр-адмирал?
Но этот гад быстро собрался, изобразил сдержанное восхищение, поднес мою руку к губам, а потом вручает мне букет. Уж не знаю, как он умудрился так сделать, что, пока он стоял на месте, с букета ничего не сыпалось, а как только я взяла цветы, порыв ветра сорвал с них лепестки — много-много! — и они меня осыпали — с плеч до ног, а некоторые еще и на мой «ежик» сумели спланировать. Картина была! Обалдеть! Лепестки роз, осыпавшие меня всю, белое на красном. И все это — на фоне серебристого «мерса». Ну и адмирал опять же — рядом. Классно?
— Классно! — подтвердила Лена, оглядываясь на лунные розы и ясно представляя себе все, что так сочно и азартно нарисовала ей Алла.
А та упоенно продолжала:
— Краем глаза вижу: какой-то иностранец щелкает нас своей «мыльницей». Представляешь? Но ты не думай, что лепестки осыпались, и от цветов ничего не осталось. Вот они, целые! Это он купил еще десяток и ободрал их все на лепестки, а потом обложил ими весь этот букет.
Алла сделала нужную паузу, наблюдая эффект, который должны были произвести ее слова. Эффект был.
— Вот ты бы додумалась до такого? — спросила торжествующе Алла Петрова.
— Я — нет, — восхищенно покачала головой Лена.
— Вот и я — нет. А этот гад — додумался!
Алла еще несколько раз вернулась к белым розам, красному костюму, серебристому «мерсу» и адмиральским погонам — то есть тем атрибутам, которые и сделали встречу потрясающей. Потом коротко обрисовала ужин в ресторане (ресторан был так себе), и пару часов в чьей-то квартире (на «номера» Гаврилин опять же не потянул!), впрочем, вполне приличной. И хотя тут тоже были неожиданные нюансы («люблю» говорил — представляешь? Дождалась, слава тебе, Господи!), все-таки самым главным Алла считала романтическую метель из белых лепестков роз.
Про недосягаемого и единственного сказала то же, что всегда: недосягаем и в этом неповторим. Отношения не изменились ни на йоту. Звонит только тогда, когда ему удобно и нужно. Приблизительно пару раз в месяц не чаще, но и не реже. Подарки делает шикарные: все, что Алле захочется. Когда ей на что-то не хватает, занимает у него же. Естественно, без отдачи. Слова «люблю» не знает в принципе и в сфере духовной держит Аллу на расстоянии вытянутых рук, предупреждая любое ее исступление суровыми словами: «только без фанатизма, пожалуйста».
— Помнишь, как там у тебя… — Алла закинула голову, припоминая. — «И ближе вытянутых рук не пустишь, и сердца своего мне не откроешь…»
— Да, было такое, — откликнулась Лена, — Буланкину посвящалось. Кстати, о нем что-нибудь слышно?
— Все то же самое, — неопределенно мотнула головой Алла. — Ты лучше мне про этого плейбоя, с которым в поезде ехала, расскажи.
Лена старательно пересказала все, что успела узнать за ночь об Олеге Кроузе.
— Подходяще. — Алла удовлетворенно кивнула головой, хотя было видно, что что-то ее смущает.
— Ты чего? — спросила Лена.
— Ленка, не упускай ты его. На всех остальных плюнь, а его не упускай, — попросила Алла.
— На кого это — остальных? — удивилась Лена.
— Ну мало ли кто объявится, — пожала плечами Алла.
— Вот ты еще говоришь: «не упускай», — усмехнулась Лена. — Как будто от меня что-нибудь зависит. У него таких знаешь сколько!
— Не скажи, — активно замотала головой Алла. — Если у него башка на плечах есть, он должен понять, что к чему. Тебе-то он как?
— Хорошо, — улыбнулась Лена. — Мне он — хорошо. Более чем.
— Классно! А я-то дура… — Алла запнулась и замолчала.
— Что? Ну что ты хотела сказать? Ну, Алка… — затормошила ее словами Лена.
— Да были у меня планы… Но это не важно теперь! Как карты лягут, как звезды скажут, так и будет, — затуманилась Алла. И больше не сказала ни слова. А принесла откуда-то из кладовки пыльную гитару, подула на нее, зачем-то постучала костяшками пальцев по корпусу и только потом начала настраивать.
— Сто лет не брала в руки гитару. Сто лет. В тот твой приезд так и не получилось… А сейчас вот до утра осталось всего ничего, а так хочется попеть с тобой. Как тогда, помнишь?
Как пели они с Аллой, пьяные, романс (музыка Аллы Петровой, стихи Елены Турбиной), — Лена помнила. А вот слова, кажется, забыла. Но Алла достала еще одну бутылку водки. И они быстро все вспомнили. И пели и этот романс, и другие — из репертуара Аллы, которая, запьянев, в перерывах между пением говорила:
— Ленка, а по мне что Ахматова с Цветаевой, что ты — лишь бы на душу легло.
А Лена (тоже, конечно, пьяная) водила указательным пальцем перед своим собственным носом и объясняла:
— Это ты загнула. Это ты не права. Хотя… Знаешь… Я вот что думаю… Ахматова… ранняя, я имею в виду… близка, понятна. Понимаешь? И поэтому, быть может, повторима. Хотя бы даже и мной. А вот Цвета-а-ева… О-о…
Лена еще выразительнее поводила пальцем в параллельной ей плоскости:
— Цветаева. Цветаева — она недоступна, она непостижима… я бы сказала заоблачна… и поэтому, знаешь… любится больнее, труднее… а значит, и больше.
Алла понимающе кивала, но вопрос задавала из другой области. Вопрос важный. Можно сказать, роковой.
— Думаешь, я не хотела бы быть женщиной одного мужчины? Думаешь, не хотела б?
И сама же на этот вопрос отвечала:
— Да каждая баба, чтоб ты знала, хотела б быть женщиной одного мужчины. Запомни, Лена. Женщиной одного мужчины. Но…
Тут Алла тоже прибегла к помощи указательного пальца, воздев его высоко:
— Но! Какого мужчины? Вот в чем вопрос!
А еще они говорили о добром и вечном. И Алла рассказывала, как участковый врач поликлиники, пожилая, с умным и светлым взором, не взяла от нее, Аллы, денег, которыми она пыталась отблагодарить за чуткость и внимание, объясняя, что это от всей души. А та улыбнулась, посмотрела — как на больную, с любовью и жалостью, и покачала головой: «Разве от всей души дарят деньги?»
Рассказывая это, Алла снова переживала бесконечный стыд… И говорила, говорила с воодушевлением:
— Я ведь сто лет в своей поликлинике не была. Когда надо — куча частников наготове. А тут — случайно совершенно, понимаешь… Они там — знаю ведь, знаю — за гроши… за гроши… И представляешь, не взяла! И никогда не возьмет. Ленка, какие же люди еще есть! А? Какие люди…
И они плакали, одинаково размазывая по щекам слезы. Плакали светло и тихо. Плакали от благодарности, нежности и любви к хорошим людям, которых, слава Богу, так много в многострадальной России. И о ней, о России — наивной, доверчивой, обманутой — они тоже, конечно, говорили. Говорили истово, взахлеб, перебивая друг друга. Говорили много, сумбурно, по сто раз повторяя одно и то же.
Саша Петров, не обнаружив под боком жены, отправился на кухню.
Алла, положив голову в «изгиб гитары желтой», дремала, а Лена что-то пыталась ей объяснить.
Саша сначала отвел гостью в гостевую комнату, где он уже давно приготовил ей постель. Потом вернулся на кухню. Освободив руки Аллы от гитары, он взял ее на руки и унес в спальню. Осторожно раздел, уложил, подоткнув со всех сторон легкое одеяло. И уселся рядом сторожить: вдруг ей станет плохо.
Было четыре часа. Столько же оставалось до самолета.
8
Лена сидела на диване. Ей было хорошо: спокойно и печально. Рэта лежала рядом и так же светло грустила. Они дружно грустили под музыку Мишеля Леграна из «Шербурских зонтиков», под которую не грустить просто невозможно. Ни людям. Ни собакам. Особенно таким тонким и впечатлительным натурам, как Лена и Рэта. Только Рэтина печаль, понятное дело, была связана с отъездом хозяев. Ну а Ленина… Нет, ничего определенного, пожалуй, Лена сказать по этому поводу не могла бы. Грустно, да и все. Просто музыка такая.
Почему-то вспомнилось, как в «Красной стреле» ее посетили строчки, из которых, если бы не появление Олега, могло бы что-то получиться.
Как отъезжающий перрон, Как провожающий вокзал…
И что, спрашивается, делать с этими сравнительными оборотами? К чему они? О чем вообще это могло бы быть?
Как отъезжающий перрон, Как провожающий вокзал… Как стая городских ворон, Которых здесь никто не ждал…
Вот бред-то… Про что это все-таки? Или, может, про кого?
Ты был бесстрастен и ленив, Ты был бездушен и упрям…
Вот, оказывается, про кого… И кто же это? Некто, Лене не известный. И вместе с тем вполне узнаваемый тип. Может быть, она когда-то где-то видела такого провожающего? Может, видела… Может, просто способна представить… «Ленив» — «криклив», «упрям» — «пьян». Простенько и без вкуса. А что сделаешь?
Ты был бесстрастен и лепив, Ты был бездушен и упрям… И вдруг — неряшливо-криклив, Как наш сосед, когда он пьян.
«Сосед» — тоже образ придуманно-обобщенный, во всяком случае, никакого такого соседа у Лены не было — Алешка таких ассоциаций не вызывал, его-то она сейчас точно в голове не держала.
Я буду долго вспоминать Все то, чего ты не сказал, — Ворон воинствующих рать, Перрон, соседа и вокзал.
Ну что ж. Есть в этом что-то экзистенциальное. И «ворон воинствующих рать» — неплохо, пожалуй. Но откуда взялось? Кроме «отъезжающего перрона», ничего не было. Хотя, если допустить к этому какого-нибудь продвинутого психоаналитика, уж он бы повеселился: влез в Ленино подсознание и все бы, конечно, объяснил. И все было бы неправдой. Потому что Лена не собиралась доносить ни мысли никакой, ни настроения — ничего. Рифма и форма — больше ее ничто не заботило. Но именно это и определило то, что получилось.
Я буду долго вспоминать Все то, чего ты не сказал…
А ведь получилось. Картинка получилась. Настроение получилось. И идеи формалистов Лене, оказывается, очень даже близки. Хоть бы позвонил Олег. Олег Павлович Кроуз. А вот интересно: позвонит или нет? Если Лена будет этого очень-очень хотеть, то не позвонит. Это аксиома. Значит, надо постараться забыть о нем, переключиться на что-нибудь.
Лене было на что переключиться. Она привезла с собой из Рязани две книги: одну нечитаную, а другую — читаную-перечитаную. Ну и у Алки, конечно, было что почитать. А вот выход в город Лена пока не планировала. Почему-то не тянули музеи, и Невский (по которому Лена обычно очень любила гулять) не манил. Чуть попозже они с Рэтой пойдут погулять. А сейчас действительно можно было почитать.
Обе книги, давно приготовленные, лежали рядом: неизвестная пока Лене Людмила Улицкая и любимый Веллер.
Раздумывая, на чем остановиться, Лена ткнула кнопку на пульте, который давно уже бесцельно вертела в руках: выключила музыкальный центр с давно уже отзвучавшим Леграном. Нажала другую кнопку: на громадном экране телевизора (того, что называют домашним кинотеатром) появился Розенбаум. «Любить так любить, летать так летать…»
Два потрясающих питерских еврея — Розенбаум и Веллер! Всеобщие кумиры. Конечно, нельзя быть уверенной в их еврействе на сто процентов. Но разве могут быть неевреи такими умными? Лена сходила с ума и от одного, и от другого. И думала: а вот если бы где-нибудь когда-нибудь с одним из них пересечься, а? Вот что тогда? Что? Но где она, Лена Турбина, корректор рязанской типографии, могла, спрашивается, с ними пересечься? Вот именно, нигде. А если бы и пересеклась, то, какой бы красивой она ни была, и у того, и у другого — свои женщины, может, не такие красивые, но свои. И ничего с этим уже не поделаешь.
Но она все равно любила и того и другого. За билет на концерт первого в прошлый свой приезд выложила почти все, что отстегнула ей Алла на мелкие расходы. Алла Розенбаума почему-то не любила, поэтому Лена пошла на концерт одна.
Концерт был — ох! Не передать! И Лена со всеми питерцами и непитерцами подпевала ему (Господи, до чего же хорош!) и «На улице Марата», и упоительный «Вальс-бостон», и особенно дорогую ее сердцу, отданному военным морякам, — «38 узлов».
Она пела, плакала, поднимала руки вверх и плавно качала ими вместе с соседями, незнакомыми и такими родными. И мысли о том, что вот бы быть увиденной-выделенной, не возникло вовсе — он был общим, и не могло быть иначе!
Второй еврей, то есть Веллер, как казалось Лене, менее добр и более язвителен — и все равно притягивал. Ум — великое дело. Главное для мужчины. Безусловно, главное. И, к сожалению, редко встречающееся. Вот поэтому Лена, наверное, и осталась одна. Не появлялось рядом ни Розенбаума, ни Веллера. Хоть разбейся. И даже Буланкина не возникало на горизонте. Поэтому оставалось слушать первого, читать второго и изредка вспоминать о третьем. Странный, конечно, ряд получился — но это ведь Ленин ряд, субъективный.
Кстати, Лена как-то ехала в троллейбусе, в Рязани еще, и увидела женщину, не молодую и не старую, не красивую и не страшненькую, не брюнетку и не блондинку — одним словом, казалось бы, ничем, кроме очков, не примечательную — если бы она не читала, ничего вокруг не видя, любимого Леной «Звягина», ну, в смысле, «Приключения майора Звягина». Женщина читала Веллера. Очки постоянно сваливались с ее носа: так он, то есть Веллер Михаил, ей нравился! Лена не удержалась. «Нравится?» — спросила.
Читающая счастливо вскинула на нее поверх очков глаза: «Очень!»
О, как была Лена благодарна ему именно за «Звягина»! Вот, пожалуй, чего ради стоило бы встретиться когда-нибудь и где-нибудь — чтобы сказать: нет ничего лучше вашего «Звягина», кроме первой главы, конечно, — мрачной, зловещей, ненужной; но это, сами понимаете, тоже субъективно, но она бы все-таки сказала, но это не главное, она сказала бы совершенно банальную вещь, что если бы — на необитаемый остров и если — взять с собой одну, лишь одну книгу, то это был бы только «Звягин». Только он.
Восторги Лены, кстати, разделяли далеко не все, кому она книгу подсовывала, умоляя читать ее со второй главы (точнее, не читать пролога). И на какое-то время именно эта книжка стала лакмусовой бумажкой: свой человек или нет. И своих почти не встречалось. Ни Ольгунчик, ни Денисов книг, как вы помните, патологически не читали. Если бы читали — оценили бы, конечно. Лена в этом нисколько не сомневалась. И Олег бы оценил, если бы… И Буланкин бы оценил. Только где он? Где ты, Буланкин? Служишь на Новой Земле и, наверное, не знаешь, что нужно читать Веллера. Розенбаума, конечно, слушаешь, это да. Тогда в Полярном взахлеб слушали, переписывали друг у друга кассеты и, собственно, ничего по этому поводу не говорили, просто знали, что это — как очистительный ливень, как… Да что там говорить!
9
По всему нарядно-голубому небу небрежно и тонко были прорисованы перышки-пушинки облаков, которые и облаками-то назвать было трудно, настолько они были легки и прозрачны, одно слово, перистые. А самого неба было много-много.
Лена с Рэтой остановились на огромной поляне, которая широко и привольно раскинулась посреди старого парка.
Рэта писала, изящно присев на одну заднюю лапу и грациозно вытянув в сторону другую.
— Пойдем, балерина, — сказала ей Лена и дернула за поводок.
Рэта оглянулась и, не прерывая процесса, посмотрела очень укоризненно: а если бы тебя так дергали в самый неподходящий момент?
Лена устыдилась: прости, поспешила, виновата, больше не повторится.
Проделав по поляне выгоревшего цвета некороткий путь, Лена с Рэтой вошли в липовую аллею, где закончилось царство неба и солнца, уступив место сырой прохладе и жутковато-тревожной таинственности.
— Может, назад, к солнцу? — спросила Лена собаку, отстегивая поводок. Но та чувствовала себя уверенней именно здесь и рванула вперед.
Рэтин хвост, барометр счастья, казалось, мог отвалиться от скорости вращения сто поворотов в секунду. Уши радостно развевались на ветру. Свобода! Скорость! Блаженство! И вдруг — резкий поворот в сторону. Где-то там, среди деревьев, под землей, наверняка копошится какая-нибудь мышка. Копать! Мордой, лапами — чуть ли не всеми четырьмя!
Рэта вырыла одну яму, рядом — вторую. Никакой мышки обнаружено не было. Рэта слегка огорчилась: нечем порадовать Лену. Но ее перепачканная морда все равно светилась счастьем, ликованием и восторгом бытия.
Вот уже несколько дней Лена с Рэтой жили в мире, согласии и праздности в квартире Петровых. Они подолгу гуляли в парке, наслаждаясь ровным покоем, отсутствием общения и прекрасной погодой.
Лену почему-то не тянуло к памятникам, музеям и достопримечательностям. Хотелось съездить только на кладбище, к Олегу. Но Лена почему-то пока отодвигала эту поездку. Время еще было.
Телевизор они с Рэтой не включали. Слушали музыку. Валялись на ковре: Лена с книжкой, а Рэта — без книжки, просто так.
Насытившись Веллером, Лена переключилась на Улицкую.
«Медея и ее дети»… Глаза пробежали последнюю страницу. Двух дней хватило, чтобы прочитать этот роман. Хорошо, что рядом была только Рэта, потому что после «Медеи» нельзя было говорить. Ни о самой книге, ни тем более о чем-либо другом. Хотелось молчать. Хотелось плакать. Хотелось сохранить в себе и печаль, и свет, и еще что-то неуловимое и не выговаривающееся в слова.
Прошло, наверное, не меньше часа, прежде чем Лена собралась что-нибудь сказать Рэте. Именно в этот момент зазвонил телефон. Трубка лежала рядом, вставать было не нужно.
— Але? — спросила Лена задумчиво.
— Это Елена? — строго поинтересовался незнакомый мужской голос.
— Да, — кивнула Лена.
— Это Олег, — сказали в трубке.
Лена помолчала, соображая, из какой это жизни. Сообразила. Но почему-то продолжала молчать.
— Лен, ты прости, что я не позвонил, пока был в Питере, — заизвинялся Олег, очевидно, подумавший, что Лена на него сердится. — Я вообще-то звонил, — торопился объяснить он, — но никто не ответил. Ты только не молчи, пожалуйста.
— Я не молчу, — отозвалась Лена. — Как твои дела?
— Мои — отлично! — почему-то заволновался Олег. — А ты как? Ты уже взяла обратный билет? Я тебя встречу. Обязательно. Слышишь?
— Нет, я не брала билет. Я вообще-то хотела ехать на прямом поезде. Не через Москву.
— Ты это дело брось, — серьезно проговорил Олег. — Только через Москву. Договорились?
— Хорошо, — покорно согласилась Лена.
— А почему ты такая? — подозрительно спросил Олег.
— Олег, ты книжки читаешь? — ошарашила вопросом Лена.
— Какие? — опешили в Москве.
— Ну, всякие, — пожали плечами в Питере. — Читаешь?
— Нет, — честно сознался Олег. И секунду подумав, твердо пообещал: — Но если надо — буду.
— Ты позвонишь еще? — осторожно поинтересовалась Лена.
— А ты больше не можешь говорить? — явно расстроился Олег.
— Не могу, — прозвучало в ответ.
— Я позвоню завтра, — пообещал Кроуз.
— Хорошо, — ответила Лена.
— Целую, — сказал главное слово Олег.
— Я тоже! — обрадовалась наконец Лена.
Ей не очень верилось, что Олег все-таки позвонит. Но он позвонил. И это нужно было обдумать. Но не успела она перестроиться с «Медеи и ее детей» на Олега Кроуза, как снова раздался звонок.
— Ленка, его зовут Доминик! Он сказал, в смысле, написал… по-немецки, конечно… но мне все перевели… что всегда мечтал о такой женщине, как я! Представляешь? Приезжай скорее! Надо ответ сочинять!
Вы, разумеется, поняли, что это была Ольгунчик.
Поговорив с рязанской подругой, Лена блаженно растянулась на ковре. Жизнь-то налаживается! Как в известном анекдоте. Олька выйдет замуж за немца Доминика, уедет в Германию; Лена — за полунемца Олега… И будут они дружить семьями, укрепляя российско-германские отношения. Все будут здоровы, богаты, довольны и счастливы…
А через минуту раздался еще один звонок. Снова из Рязани. Это была мама. Она плакала. Очень горько.
— Что?! — закричала Лена.
— Ты разве ничего не знаешь? — еле выговорила мама. — Не знаешь про «Курск»?
— Какой Курск? — удивилась Лена, сразу успокоившись.
— Ты с ума сошла, — ответила мама. — Ты что, телевизор не смотришь?
Мама снова заплакала. А Лена нажала кнопку пульта. Шел какой-то фильм.
— Мам, что случилось? Объясни, Христа ради.
Вера Петровна сбивчиво заговорила, перемежая разговорный и публицистический стили, что позавчера в Баренцевом море легла на грунт подводная лодка «Курск». Численность экипажа — сто восемнадцать человек. Связи нет. Но говорят, что слышат SOS — удары по корпусу. Значит, есть еще надежда.
— Как же ты не знаешь ничего? — опять спрашивала мама. — Ведь сейчас только об этом и говорят. Я от телевизора отойти не могу. Саше звонила, может, он что-то получше знает. А он говорит: «Мам, выключи ты этот телевизор. Эти журналюги-сволочи устраивают шоу. Ты ведь жена подводника, понимаешь, что об этом никто ничего не должен знать, кроме тех, кому положено. Лен, и я тоже так думаю. Каково это близким сейчас? Это ведь все должно быть военной тайной. Так ведь раньше было. Я, конечно, все равно от телевизора не отхожу. Плачу день и ночь. Помоги им, Господи! Может, спасут еще.
Дождавшись программы новостей, Лена узнала и про затонувшую подлодку, и про то, что за несколько дней до этого в Москве, оказывается, был взрыв в переходе на Пушкинской площади. Столько горя — сразу.
Теперь Лена практически не отходила от телевизора. Военные, обозреватели, журналисты — все судили-рядили о причинах трагедии в Баренцевом море. Версии были самые разные. Но главным было — успеют ли кого-нибудь спасти. Одни — успокаивали и обещали, другие — обвиняли, третьи — сыпали соль на рану.
Штормовая погода не позволяла вести спасательные работы. Все было ужасно. Показывали родственников, прибывающих в Мурманск. Показывали волнующееся свинцовое море и подтянувшиеся к месту трагедии корабли. Показывали Алексия II, призывающего молиться о тех, кто находился в «железном плену».
10
Выключив телевизор на кухне, где она теперь проводила все время, Лена пошла в гостиную, легла на диван, машинально нажала кнопку на пульте. Зазвучала нежная мелодия Джо Дассена. Все-таки еще есть надежда, подумала. Не дадут им погибнуть на глазах всего мира. Не дадут. Должны спасти. Только каково им там? Связи нет — и они не знают, что им пытаются помочь. И каково женам и матерям? И всем остальным? Отцам, братьям-сестрам, детям? Лучше бы уж действительно все это не показывали. Как раньше.
«О Боже, дай им сил», — мысленно проговаривала Лена под Джо Дассена. Потом была еще какая-то музыка, и еще какая-то… Диск, видимо, закончился. Послышался характерный звук: умная машина запускала новый. Легкий щелчок. «Синее море, только море за кормой…» — запел Николай Расторгуев. Это была любимая песня Лены с того самого момента, как только она, то есть песня, появилась в репертуаре «Любэ».
Прослушав очередной неутешительный репортаж по телевизору, Лена поняла, что не может находиться дома: ей нужно было на улицу, к людям, в толпу.
Рэта, сообразив, что Лена собралась уходить, радостно запрыгала вокруг в надежде, что та возьмет ее с собой.
— Уже гуляли, успокойся! — сухо сказала ей Лена. Рэта обиделась и вернулась в гостиную на свое окно, где у нее лежала подушка, сидя на которой она смотрела за происходящим на улице, оглашая заливистым лаем появление под окнами собак, кошек, бегущих детей, пьяных бомжей — одним словом, всех, кто отличался от просто людей.
Лена еще не знала, куда она отправится: побродит рядом с домом или все-таки съездит на Невский. Невский — это легко: метро рядом с домом Петровых, пятнадцать минут — и ты в центре Питера, на вожделенном многолюдном проспекте, ровно устремленном к башне Адмиралтейства с ее сияющим шпилем, рвущимся в небо, волнующим и зовущим всегда: и наяву, и на открытках, и на экране телевизора.
Ноги несли к метро, сквозь киоски и лотки; сквозь торговцев цветами, грибами и зеленью; сквозь припозднившихся рекламных агентов, сующих в руки сомнительные проспекты с невыполнимыми обещаниями; сквозь ряды расплодившихся нищих. И кучкующиеся к вечеру бомжи в осенних куртках и бомжихи с дешево накрашенными губами, в когда-то модных легинсах и грязных босоножках на криво стоптанных высоких каблуках, в неожиданно ярких, с рюшами, и ожидаемо дешевых и несвежих блузках, — все с подбитыми глазами, характерно опухшими физиономиями, считающие рубли, соображающие, что делать, если не хватит.
И среди привычно-беспокойного, неопрятного, опять же очень характерного гомона вечерней площади перед станцией метро не дающая идти дальше, своим путем, песня двух слепых под слабое постукивание бубна и звон легких колокольчиков на нем.
Этих слепых Лена видела и раньше, не один раз, и помнила их еще со своего прошлого приезда. Они пели «Каховку», «Там вдали за рекой…», «Землянку», «Синий плато339
чек». И всегда рядом останавливались люди, сегодня их было особенно много. Избегая смотреть на одинаково невидящие, бледные, невыразительно-плоские лица мужчины среднего возраста и мальчика-подростка, люди слушали негромкое, но ладное и чистое пение слепых. Слушали долго. И осторожно клали деньги в раскрытый деревянный ящичек — футляр от бубна.
Лена остановилась. Кто-то сказал: «Там за туманами». И слепые, старательно выговаривая каждое слово, запели: «Плещутся волны, только волны за кормой…» Кольцо вокруг поющих стало еще плотнее. Но никто не посмел ни словом, ни движением помешать звучанию песни.
Лена вернулась домой поздно. Вернулась с надеждой. Может, какие-то новости утешительные? Но ничего утешительного не было. И надежды, собственно, уже не было. Была только боль.
11
Утром следующего дня Лена медленно шла по Невскому. Именно здесь, в разноцветном и разноликом потоке людей, и озабоченных, и спешащих, и расслабленно праздношатающихся, стало совсем невыносимо.
Глаза снова наполнились слезами — и Лена, запрокинув голову, пыталась помешать им пролиться. Так и несла блюдца своих кофейных глаз — чтобы не расплескать.
В груди, там, где находится душа, все ныло от горя, тоски, безысходности, жалости — жалости к тем, кому теперь до конца жизни оплакивать погибших. А про тех, кто остался в «железном плену», как сказал Алексий, об их последних часах и минутах жизни, об их неоправдавшейся надежде на спасение думать было просто нельзя. Нельзя, потому что сердце могло бы разорваться на мелкие-мелкие кусочки, которые разлетелись бы острыми осколками боли по всему Невскому. Или даже по всему Питеру.
«Нельзя об этом думать. Нельзя», — убеждала себя Лена. И у нее, разумеется, ничего не получалось. Оставалось надеяться только на то, что ее сердце никуда не денется, выдержит. Ведь даже близкие погибших будут продолжать жить. И их сердца тоже не разорвутся и не разлетятся обжигающими льдинками по всему свету. А только обуглятся, продолжая отстукивать свое существование, которое многим теперь наверняка кажется бессмысленным. Что, наверное, в тысячу раз страшнее. Но разве может в данном случае идти речь о бессмысленном существовании? Женам — растить детей, матерям — помогать воспитывать внуков, а всем вместе — помнить и молиться. Вот и смысл. Как же сказать это им? Как сказать, что посланное Богом испытание нужно принять достойно?
Долго идти с запрокинутой головой не получилось. Это, оказывается, было очень неудобно. Лена постоянно с кем-нибудь сталкивалась и торопливо извинялась, снова продолжая щуриться на питерское небо, удивляющее своей неправдоподобной безоблачностью. Кстати, царящее на нем солнце виделось ей не ласковым и теплым, а уверенным, властным и высокомерным.
Наверное, наталкивающаяся на прохожих Лена Турбина с запрокинутой своей головой вызывала удивление и недоумение. Но это-то как раз меньше всего ее волновало. Кому какое дело до нее? Каждый — сам по себе в этом огромном городе с его роскошью и нищетой, с обилием «новых русских» на красавицах иномарках и не меньшим количеством спившихся люмпенов. Каждый — сам по себе. Но оказалось, что Лена, думая так, была не права. И когда она стала смотреть перед собой, решив, что пусть уж лучше слезы, чем столкновения, то увидела, как сочувствующие глаза из толпы начали спрашивать: «Вам плохо? Помочь?» Лена благодарно улыбалась и мотала головой: «Спасибо. Не надо».
Вдруг этот вопрос «Вам плохо? Помочь?» она прочитала в глазах, хорошо ей знакомых. «Так не бывает!» — сразу подумала она про себя. И сразу же сказала это Буланкину, который был уже рядом и осторожно вытирал ладонью ее щеки.
— Так не бывает, — повторила она еще раз.
А Буланкин ничего не сказал, даже «здрасте», а продолжал размазывать Ленины слезы по Лениному лицу.
— У тебя, наверное, руки грязные, — сказала она абсолютно серьезно.
— Прости, я об этом как-то не подумал, — ответил Юра и полез в карман джинсов за носовым платком, которого там, конечно же, не оказалось.
Юра развел руками и засмеялся. А потом схватил Лену за плечи и стал ее трясти, как грушу какую-нибудь безответную, и вопить на весь Невский:
— Неужели это ты, Ленка? Так же не бывает! Не бывает!
— Это я… сказала, что так… не бывает. Так что… не присваивай себе… чужие… мысли. — В связи с тряской эта фраза распалась на отдельные фрагменты, из которых Лена, пожалуй, ни за что не смогла бы снова собрать предложение, потому что пока еще слабо понимала, что же все-таки происходит.
— И вообще… не тряси меня, — попросила она жалобно, — а то в голове и так непонятно что.
Юра, продолжая держать Лену за плечи, начал говорить уже тише и спокойнее:
— Я же звонить тебе собирался. И вдруг… вот так, тут… Я ведь сначала даже не понял, что это ты. С ума сойти можно.
— Погоди, Юр, как это — звонить? Откуда ты узнал, что я здесь? И телефон — откуда? — Лена тоже все никак не могла опомниться. И не могла отвести своих заплаканных глаз от радостно-счастливых буланкинских.
— Разведка донесла. Вот и прилетел.
— Прямо с Новой Земли, да? — по-детски обрадовалась Лена.
— Прямо с нее, родимой, — подтвердил Юра. Он уже отпустил ее плечи. И просто стоял рядом. И просто смотрел на нее.
— Получается, что мы все равно встретились бы… — Лена опустила глаза и задумчиво покачала головой.
— Почему ты плакала? — Буланкин хотел снова дотронуться до Лениной щеки, но, вспомнив про «грязные руки», засмеялся, что никак не вязалось с его вопросом. Осознав это, он сразу же посерьезнел и повторил: — Так почему же ты плакала?
— Как тебе сказать… — замялась Лена.
— Господи, какой же я идиот! Из-за «Курска» ты плакала. Ведь так?
— Да.
— Господи, — прижал он ее к себе. — Ты нисколько не изменилась.
И тут же, отклонившись назад, начал снова внимательно вглядываться в лицо Лены. Она отворачивалась, вырывалась, зная, что с заплаканными глазами и покрасневшим носом она выглядит, прямо скажем, неважно. Но Буланкин не выпустил ее до тех пор, пока как следует не рассмотрел ее зареванность. И, отметив из нового практически только морщинку домиком над левой бровью, изрек:
— И внешне. И внешне ты не изменилась. Пожалуй, даже еще красивее стала.
Ну а Буланкин (вмешаемся в их диалог)… Он тоже почти не изменился, только здорово поседел, что, надо сказать, его вовсе не портило — скорее, наоборот.
На Юрино «еще красивее стала» Лена ответила:
— Ага, особенно сейчас. Красавица невозможная. Ни в сказке сказать, ни пером описать.
— Вот именно. — Юра обнял ее и повел в ту сторону, куда она шла, к Адмиралтейству. — Куда идем?
— Я не знаю. Я просто так шла — и все. А ты куда шел?
— А я тоже почти просто так. Искал автомат нормальный. Все — по картам, а у меня — жетоны. Знал бы, карту сразу купил. Их где продают, как думаешь?
— Не знаю. В метро, наверное. Или на почте.
— Сложно тут все как-то, в Питере. Да?
— Да, — согласилась Лена. И тут же наивным голосом спросила: — А кому тебе нужно позвонить?
— Теперь — ни-ко-му, — проговорил Юра прямо ей в ухо и прижался губами к ее соленой щеке.
Она коротко и счастливо вздохнула и снова подумала: «Нет, так все-таки не бывает». Они бродили по Александровскому саду, сидели на скамеечках, ели мороженое. И говорили, говорили, говорили.
— А почему ты сразу не позвонил? — самолюбиво поинтересовалась Лена в какой-то момент.
— Не знаю, Лен. Не знаю. Боялся, наверное. Решил пошататься немного, а потом уж… Думал, пошлешь куда подальше. Столько лет — ни ответа, ни привета. Я, честно говоря, был уверен, что ты давно замужем. Поклонников у тебя всегда хватало.
— Да, хватало, — грустно согласилась Лена. — А потом куда-то все делись. Нет, периодически, конечно, возникал кто-то на горизонте… Только я, честно говоря, в каждом тебя искала. Не находила. И знаешь…
Лена не договорила — нет, вовсе не потому, что Юра прервал ее поцелуем, как пишут в романах, а потому, что она просто не знала, что еще может сказать. Нечего было ей сказать. Вот и все. А Юра продолжал свой рассказ.
— Зимой приехал сюда в командировку. Узнал через Сашку Тимченко… Ты его не помнишь? Он в техотделе на заводе служил…
Нет, никакого Тимченко Лена не помнила.
— Должна ты его помнить… но это не важно. Я, кстати, у него остановился, — продолжал Юра. — Так вот. Раздобыл телефон Петровых. Позвонил. Алла мне все и рассказала. Сказала, что я идиот. Что должен тебе написать, позвонить. Но, знаешь, писать я не умею. И позвонить как-то с бухты-барахты… В общем, не думал, что… Черт, что-то мысли плохо формулируются. По-моему, нам надо выпить. За встречу. Куда-нибудь зайдем?
Лене не хотелось никуда заходить. Но сразу вот так позвать Юру в квартиру Петровых тоже было как-то неудобно. Она заколебалась. Но сомнения терзали ее, откровенно говоря, не слишком долго.
— Нет, мы поедем ко мне. То есть к Алле. — Лена решительно встала с лавочки, на которой, кроме них, сидела милая интеллигентная (вязанный крючком белый беретик не позволял в этом усомниться) старушка, которая внимательно — даже, пожалуй, слишком внимательно — читала какую-то крошечную книжечку.
Реакцией на заявление Лены стало выпадение этой самой книжечки из рук — и Юра с Леной одновременно метнулись к ногам старушки: поднимать.
Сидя на корточках перед этим приветом из Серебряного века, чьи худенькие ножки были обуты в простые чулочки и в совершенно редкостные музейные сандалии, они смотрели друг другу в глаза и беззвучно хохотали.
Книжечка оказалась прекрасно изданным подарочным томиком стихов Бунина. Томик этот был величиной чуть ли не со спичечный коробок, но они умудрились взять его вместе. В Юрину ладонь, как в большую полуматрешку, была вложена рука Лены, в которой отлично поместился Бунин со своей лирикой. Так, двумя руками, они и протянули старушке ее книгу.
— Молодые люди, — торжественно сказала она, — спасибо. Желаю вам счастья.
— Спасибо, — тоже сказали Лена с Юрой вместе, поднимаясь.
12
Рэта встретила их радостным поскуливанием: соскучилась. На Юру, правда, посмотрела подозрительно и даже хотела полаять, но потом, очевидно, передумала. Она уже полностью доверяла Лене и понимала, что та не приведет в дом неизвестно кого.
А Юра, вернувшись сначала в прихожую за пакетом, пошел на кухню, сказав Лене:
— Девочка моя, ты отдохни. Я все приготовлю.
Лена зашла в ванную помыть руки, но вместо этого решительно сняла с себя футболку, стянула юбку и все остальное — и зашла в душевую кабину. Все-все с себя смыть! Все, что было до сегодняшнего дня. Она пришла на кухню в халате, с мокрыми, зачесанными назад волосами. Полное отсутствие косметики (которой Лена в последнее время все-таки стала пользоваться) делало ее лицо по-детски нежным и трогательным.
Буланкин затих. Положив на стол нож, тщательно вытерев руки полотенцем, он медленно приблизился к Лене и остановился, не в силах сделать последний шаг. Этот шаг Лена сделала сама.
Прекрасно накрытый стол ждал их долго. Так долго, что веточки петрушки успели поникнуть, сыр — подсохнуть, а шкворчащее поначалу на сковородке мясо — утихнуть и, естественно, сто раз остыть.
Востребованными оказались только фрукты и две бутылки шампанского. Хрустальные бокалы стояли на полу у дивана, и Буланкин периодически снова и снова наполнял их.
Нежные ласки сменялись приступами страсти, буйной, безудержной, забывавшей о каких бы то ни было правилах приличия. Затем страсть, как ей и положено, вдруг затухала, откатывалась засмущавшейся волной — и на смену ей приходили разговоры, перебивчиво-торопливые, непоследовательные, скачущие с одной темы на другую. А потом снова была нежность, легчайшая, эфирная, с прерывающимся шепотом, с останавливающимся дыханием. А потом — снова страсть, которую ни Юра, ни Лена не пытались утихомирить. Зачем? Пусть будет. Хотя разве можно было вот так, одной встречей, наверстать упущенное? Конечно, нельзя. Юра с Леной иногда, кажется, это понимали. И снова затихали. В эти минуты каждый был сам по себе. Ни нежности, ни разговоров — ничего. Души парили в безбрежном космосе, а тела безгрешно белели на яркой простыне с черными квадратами и желто-фиолетовыми ромбами, о чем Юра, когда увидел, сказал: «Ранний Малевич плюс поздний Кандинский».
В эти минуты отдыха широкий диван вдруг становился как-то мал и узок — и Юра скатывался на ковер, оставляя Лену одну украшать собою авангардистскую простыню. А потом они снова тянулись друг к другу — и встречались то на диване, то на ковре.
— Я ужасно хочу есть, — вспомнила наконец Лена.
— Да, неплохо было бы перекусить, — согласился Юра. — Времени, между прочим, знаешь сколько?
— Вечер, наверное, — Лена блаженно потянулась и не пожелала даже открыть глаза, чтобы посмотреть на часы. Ей было лень смотреть на часы. Ей было лень разговаривать. Вернее, у нее просто не было сил.
Но через несколько минут, одетые и причесанные, они чинно сидели друг напротив друга за столом, уставленным едой.
— Ленка, надо же выпить за тех, кто… — начал Юра. — А пить у нас нечего.
Вернувшись в реальную жизнь, полную несчастья, Лена застыдилась того, что она так надолго обо всем на свете забыла, обо всем.
— Сходи за водкой, — сказала она, встав из-за стола и отойдя к окну.
За окном было уже совсем темно, тихо и горько.
Закрыв за Юрой дверь, Лена, вернувшись на кухню, включила телевизор.
Об экран бесшумно бились волны Баренцева моря, на фоне которого сменяли друг друга строчки: фамилии, звания погибших и номера отсеков, в которых они все еще продолжали оставаться. Скорбный список закончился. Снова, теперь уже по телевизору, запел Расторгуев, разрывая сердце.
Вернулся Юра, Лена открыла ему и, ни слова не говоря, ушла на кухню. Он подошел, замер у нее за спиной.
Они вернулись к столу. Стоя и молча выпили. И снова выпили; подряд второй и третий раз.
А потом долго сидели здесь же, на кухне, думая об одном и том же. А может, и не думая. О чем можно было думать? Можно было только попытаться безмолвно прикоснуться скорбящей душой к витающим где-то еще недалеко душам погибших подводников и к стонущим душам их родных. Все. Больше ничего сделать было нельзя.
Зазвонил телефон. Лена взяла трубку и, удивившись, подала ее Юре: «Тебя». Буланкин хлопнул себя по лбу: «Забыл!» И начал торопливо объясняться с тем, кто его нашел здесь, в квартире Петровых.
— Слушай, я… Да, сейчас буду! Такси возьму. На метро быстрее? Значит, на метро. Жди. Пока.
Лена поняла, что Юра сейчас уйдет. Правда, изначально она как-то и не представляла себе, что он останется здесь ночевать. Теперь же она не представляла, как останется одна (про Рэту она, признаться, совсем забыла).
— Девочка моя, — Юра встал, взял ее руки в свои, — понимаешь, ключи от Сашкиной квартиры у меня. Я забыл, представляешь… Мы с ним договаривались, что к десяти я буду у него. Он ждет, у соседа сидит. Матерится, но не сильно. Мне надо ехать, Лен.
— Конечно, — сказала Лена. — Я понимаю.
— Как же ты тут одна? — забеспокоился Юра. — Послушай, давай к нему вместе поедем. Он нормальный мужик. Ты ж его помнишь…
— Да не помню я его! — Лена расстроенно махнула рукой.
— Господи, да это не важно, — занервничал Юра. — У него сейчас жена с дочкой на даче. Квартира трехкомнатная…
Вообще-то Лене так не хотелось расставаться, что она была готова ехать куда угодно. И к кому угодно. Но что-то держало… Ну конечно, а Рэту-то она с кем оставит?
— Юр, у меня же Рэта. Так что…
— А, черт! Я совсем о ней забыл. Что-то ее, кстати, не слышно?
— Дрыхнет. Она сама не своя поспать. Тем более стресс перенесла: появление незнакомого мужчины в доме.
— Да уж намаялась, бедняга, — засмеялся Юра.
Они говорили уже в коридоре, а Лена все еще не знала, как спросить: «А дальше что? Юра, дальше-то что?!» — хотелось крикнуть, но она, стараясь казаться спокойной и даже немного равнодушной, улыбалась и что-то снова говорила про Рэту.
— Я пойду. Надо. Спокойной тебе ночи.
Буланкин стоял на пороге. Лена сама прижалась к нему, опасаясь, что он этого может не сделать. Юра обнял ее, поцеловал в ухо и в нос, на какое-то время замер — но уже через минуту быстро спускался по лестнице.
Лена стояла в дверном проеме, как всегда стоят провожающие женщины, которые не слишком надеются, что уходящий сейчас мужчина когда-нибудь захочет вернуться, и поэтому так скорбно и так надолго застывают в проеме.
Где-то далеко внизу Юра все-таки остановился и крикнул:
— До завтра.
— До завтра, — повторила Лена машинально, без интонаций. И только мгновение спустя она поняла, что это, кажется, очень хорошее и очень нужное слово.
Этого «завтра» Лена и прождала всю ночь. А дождавшись, спокойно и глубоко заснула.
Она спала до тех пор, пока не зазвонил телефон. Без всякого «здрасте» Буланкин поинтересовался, давно ли Лена в последний раз улыбалась незнакомой собаке.
— Только знакомые собаки не считаются, сама понимаешь, — предупредил он.
— Тогда — давно, — ответила Лена серьезно (потому что еще не успела проснуться) и честно (потому что врать за свою жизнь она так и не научилась).
— Это никуда не годится, — строго заметил Юра. И без всякого перехода невнятно и сбивчиво начал говорить: — Лен, Новая Земля не так уж и далеко. Правда. От Москвы всего несколько часов лету. И там не намного холоднее, чем в Полярном. Честное слово. Я тебе шубу куплю. Ты не замерзнешь…
Он что-то еще и еще говорил. Лена молча слушала. Слушала и улыбалась Рэте, которая преданно заглядывала ей в глаза, лизала щеки и теребила лапой за плечо: звала гулять.
И они отправились гулять — задумчиво-сосредоточенная Лена и радостно-возбужденная Рэта, пребывающая в прекрасном настроении: ее безошибочный собачий нюх подсказывал, что вот-вот должны вернуться хозяева, — а она их очень ждала, хотя ничего не имела против их подруги; правда, чужого мужчину в дом приводить, по Рэтиным понятиям, все же не следовало.
Лена с Рэтой постарались побыстрее миновать большую солнечную поляну и скрыться в спасительной тени старых буйно-зеленых лип, спасающих от непривычного зноя питерского лета, которое будто бы никогда не собиралось заканчиваться. Но пожелтевшая кое-где трава, редкие золотые пряди в густой зелени деревьев и оранжевые гроздья рябины говорили о том, что в это самое лето, пока еще столь уверенно царящее, уже осторожно заглядывает осень — любимое время года Лены Турбиной.
Примечания
1
Стихи Евгения Калакина.
(обратно)





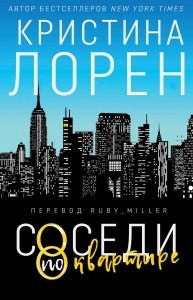

Комментарии к книге «Вы способны улыбнуться незнакомой собаке?», Людмила Анисарова
Всего 0 комментариев