Ольга Ш.[1] ВРАЗНОС Роман
1. НОЧНОЙ ЖОР
Проснулась рывком.
Тихо. Спит.
Ура! Вся ночь — мне.
Сначала — пожрать.
На кухню к холодильнику.
Вываливается кус света в темноте.
Со сна рыщу на полках. Что-то свернула. Оп — подхватила, не нашумела. Уф.
А вот и он, сыр.
Борюсь с пластиковой пупкой. Должно автоматически раскрываться: подцепил — и пошло. Подцепил — и не пошло.
Вскрываю ножом.
Заправляю кус сыра в рот.
Из комнаты Макса скрип. Оборачиваюсь, как вор.
Там меняется звук.
Сначала тихий, потом явственный скрип.
Он начинает дышать, как дышат, проснувшись.
Ночь пошла заново.
То была одна я.
А теперь еще кто-то есть.
— Ну что ты?
У меня в лице проколупываются глаза, нарастают щеки, голова обрастает ворсом — пригладить ворс.
Нельзя ж лахудрой.
Топ-топ-топ. Смотрю глазками.
— Ты ок?
— Ок!.. Пожрать надо. На самом деле — не ок. Живот крутит.
Он держит руки косолапо, смотрит жалобно.
У киски боли, у собачки боли, а у Макса заживи.
Мы стоим, смотрим друг на друга — большой зверь в синей пижамке, маленький и прожорливый в зеленой.
Стоим и смотрим жалобно:
— Кто-то съел мой сон.
Ты съел мой сон. Я съела твой сон.
У киски боли, у собачки.
Я сижу на постели, глажу ему живот. Думочка под голову. Ты лежи, спи, спи.
Ну, вот, и пройти должно.
— Если б тут была мама — она бы помогла. Какая от тебя помошь! — говорит Макс.
— Вот, глажу, — говорю я. — Я тебя замусю. Со мной ты заснешь.
Ночь глянула в окно, посмотрела на нас всех, подышала мордой и ушла.
Ничего не будет. Никто мне не позвонит, меня не высвистит. Серенький волчок не придет, не утащит за бочок — нужны мы ему, скучные взрослые люди!
Все кончилось.
Ты лежи, спи, спи. Глажу, глажу по животику.
Утро вечера мудренее. Спи.
— Вот и славненько, вот и ладненько.
А у него болит животик. А у меня ничего не болит.
А у меня зато никогда не пройдет.
А у меня и ушко не болит.
И у меня не пройдет.
А у меня и голова после вчерашнего не болит.
А у меня не пройдет.
А у меня и ручки не болят, и ножки не болят.
И спится мне в постельке сладенько.
И у меня никогда не пройдет.
Я — навсегда сломаная, и не починить.
— Аа-аа-аа-а! Баю-бай, оченяты закрывай.
И я пойду.
Вспоминать о том, как это было прекрасно.
2. КАК ЭТО БЫЛО ПРЕКРАСНО
— Великолепно, великолепно! Я давно не был так тронут! — дряхлое человеческое тело испытывает восторг. Дряхлое человеческое тело положило мне лапку на плечо, и в глазах слезы старости наплывают на слезы радости. Голова, как белый одуванчик, поднялась и поплыла в волнах музыки. На миг ему кажется, что он, бедный старичок, ступит с волны музыки и пойдет, легкий и сильный.
Молодой пианист скорчился за роялем. Сморщился, почернел, высвобождает из черной коробочки волны музыки — вольные, светлые, они подхватывают старичка. Он давно не был так тронут, так светел, так свободен.
— Как играет! Какой восторг!
Он давно не был так тронут. Под желто-белым сводом с казенными колоннами, на бесплатном концерте с двумя с половиной посетителями, на бесплатном концерте, который равнодушная рука поставила в программу. Как часть культурной программы — бесплатный концерт, пианисту в зубы — 400 фунтов. Забежал, сбацал, положил в сумку, вкочил на подножку, побежал с пацанами квасить.
— Через десять лет, поверь, Лотта, — билеты на его концерты будут стоить сотни! (А где мы с тобой будем через десять лет, Джон?)
— Скажите вашему другу… Ах..! — он снимает лапку с моего плеча, машет рукой. Не в силах говорить.
Молодой пианист подъехал на аккорде к порогу, тпруу — остановил черных коней. Музыка поднесла старичков к порогу: ну, все, приехали. Они завозились, засобирались, роются по карманам: где билет… А на глазах еще слезы.
Пианист вынул руки из музыки, обрастает мясом, возвращается в человеческий вид. На губах проступают краска и спокойствие. Тени вокруг глазниц — провалами — превращаются в легкую синеву и акварельную тень от ресниц. Все. Отыграл. Спускается со сцены, зовет нас с Кириллом — айда!
Он еще вежливый, чистенький, взволнованный представлением мальчик, юный профессионал, который относится ответственно к любому концерту — в центральном концертном зале — или таком вот, во второразрядном институте. Стройный, гибкий, с черными кудрями. Но из-под манжет выглядывают мужские запястья, в глазах — взрослая усталость. Чернота. Пепел. Он давно уже взрослый. Привык.
— Хорошо отыграл? — спрашиваю из вежливости.
— Я по классу плохо не играю, — говорит он снисходительно, поправляя меня: так, мы же договорились — краше меня здесь солнца нет? — Молчу, молчу! Конечно, нету!
…На глазах у старичков слезы, а стариковская жизнь подступает со всеми своими вязкими мелкими загадками. Где ключи? Где кошелек? Лотта, посмотри, где там автобус. Ты еще плачешь, Лотта? Да, было замечательно. Стоят на остановке, роются в сумках, облепили столб и читают расписание, беспокоятся. Старушка ловит прохожих, спросить, та ли остановка. Почему, почему старики так мешкотны — что они так боятся упустить? …Загадка. Загадка, над которой я думаю полсекунды, а потом забываю навсегда.
— Очень, очень талантливый молодой человек! — говорит старичок Джон. — Юный Рахманинов.
Юный Рахманинов. Другой Рахманинов. Рахманинов кокаиновый, расхлябанный, строгий, с женскими слезами, с абортами, с визовыми проблемами, с ночной слепотой, с русским матом посреди английского фака, с «побрей п….» из динамиков, с водочкой и cartoshechka с укропчиком — стоит молодой хулиган посреди качающейся черной комнаты. Вокруг армия собутыльников. В углу — верная шлюха.
Это же — он. Это все он. Александр Айс.
— Лотта, Лотта!
— Ну что ты, спи!
— Я вот что подумал — может, найти запись этого музыканта? Позвонить в… как его, колледж? Уж больно мне понравилось. Есть в нем что-то! Ты уж поверь мне — я-то разбираюсь!
— Да нет у него записей, молодой еще. Потом — запишется. Спи ты уж!
— Потом будет не то, — укладывается старичок Джон. Хочет сохранить подольше радость от сегодняшней музыки, которая с ним — говорила, которая ему — обещала.
А на другом конце города — вечная жизнь, вечная радость — вот она, плещет и хлещет. Александр Айс и его цирк. Море вина и секса. Пить и наливать, нюхать и насыпать, ждать — и дожидаться. Подмахивать, хотеть, гладить — и снова хотеть — всю ночь. Вечная жизнь, вечная радость — бери, сколько здоровья хватит.
Рахманинов, какой Рахманинов? … Тело, руки, глаза… Жизнь.
Старичок Джон трогает языком саднящую ямку во рту.
3. БУДЕТ ПРИСТАВАТЬ — ТЫ ЕГО ПО СУСАЛАМ
Звон вилок. Фортепианные раскаты по радио:
— …Ну да, ну да… Чистенько.
Макс морщится. Утка не нравится? Вроде утушила. Болтать. Светская беседа. На секунду прислушиваюсь:
— А что? Вроде — музыка… Должно быть как-то по-другому? Ничего я в вашем Рахманинове не понимаю! — Я закапываю картошку на тарелке, авось не увидит, что не съела. Тянусь за вином.
— Вот именно. «Так и должно быть». Утку доешь? — он приподнимает тарелку, ставит вилку горизонтально, собираясь счистить утку мне на тарелку.
— Нет, не хочу.
На экране: «Отыграл. Кто по пиву-то со мной?».
Пожалуй! Вечером нечего делать. Помыть кастрюлю из-под утки. Завернуться в одеяло, лечь на щеку. Одним глазом читать, пока книжка не выпадет из рук. Сна — достаточно. Чего другого — дефицит.
— Пойду, пожалуй? Музыкант. Интересно.
— Будет приставать, — зевок, — ты его по сусалам.
Зевок. И на боковую. Пледик в клеточку.
— Не шуми… когда… придешь.
* * *
Сижу в богемном кафе. Тут у нас выдают культуру. Вокруг — лысые, с внимательными, вкрадчивыми глазами. Девушки — с цветными волосами. Женщины в этнических украшениях. Приятные голоса, раздражающие голоса, уверенные голоса.
Сижу. Тереблю брошку в виде котенка.
Вот он какой! Худой и черный. Маленькая голова. В свитере под горло. Кажется, никто не носит сейчас свитера? Как это… водолазка? Ну, привет.
— Что пьешь?
— Ммм… текилу, пожалуй!
— Шесть шотов текилы! — с небрежно-фамильярным жестом к официанту.
— Ну что ж. За знакомство?! Меня, кстати, зовут Александр.
— Да уж слышала.
И по чарочке текилы — и каждый профессионально закусывает лимончиком, зализывает сольцой.
— Ты замужем?
— Да, — говорю я, посмотрев на свои руки с вечным колечком, подарком подруги.
— Понятно.
— Понятно — что?
У него на пальце тоже — тонкое колечко.
— Ношу, чтоб не было вопросов, — объясняет он. — Знаешь, у нас в колледже все на виду.
И по чарочке текилы. Соль. Лимон.
— Давай играть в игру: ты задаешь один вопрос мне — любой, а я откровенно отвечаю, а потом я задаю.
— Ну, давай.
— Твоя очередь.
— Моя? Ну, ладно… Ммм… Ну… Ты хочешь детей? Потом. Когда-нибудь.
— Сдохнуть, как хочу!
Люди не умеют ни ждать, ни желать. И тут появляешься ты со своим «сдохнуть как хочу!» По мозгам шибает.
И не важно, что я не о том спрашивала. Я уже верю, если ты хочешь — так.
— Теперь ты.
И тут какой-то вопрос, на который я, конечно, мямлю. У меня нет к нему вопросов. Мне и так интересно на него смотреть.
— Пойдем куда-нибудь еще? Хорошо сидим…
Косые огни машин, то прыгающие, то замедляющиеся огни клубов и борделей. И напористый новый знакомый неожиданно тих. Худые черные музыканты на углу — он останавливается и тихо, намеком на движение, пританцовывает — плотно приник к звону саксофона, увел звук из черных рук, повел сам — притоптывая… повел саксофон, отвлекшись от меня. Потом поворачивается обратно — извини, исчез на минутку.
Красиво.
— …Зайдем ко мне?
— Просто посмотреть, как живешь.
Меня можно ловить на старые крючки. Я не возражаю.
А вот так вот живет. Аккуратно. Черные простыни. Стопка порножурналов. Фотографии на стене. Его фотографии. Много. Ребенком он был — ангелок. Я брожу между стопок журналов, чужая и мирная, пьяная, мне хорошо. Лежу, листаю журналы, жду, когда созреет мгновение, когда мне надо бы уж идти домой. Он наливает еще вина — и оставляет бродить. Дает мне дышать, не лезет. Но присутствует. Очень.
Я не привыкла к тому, чтобы меня красиво соблазняли. Соблазняли. И вообще… смотрели глазами.
Дыхание, которое не пахнет ничем, чистое юркое тело и черная одежда.
Не равнодушен. Взволнован. Но — оформленное, сдержанное волнение.
Легко с собой — легко с каждой.
Тихим голосом:
— Не возражаешь, если я разденусь и потрогаю себя?
Вот как, да?
Красиво раздевается. Небольшое соразмерное тело, длинные ноги, узкий таз, тонкая талия. Виляя тазом, как модель на подиуме, идет на кухню за вином. Возвращается. Улыбается — вот как поутру потянуться на балконе.
— Харррашо!
Не стесняясь и не прося ничего, не спеша, не проверяя мою реакцию, спокойно дрочит, не торопясь, играет вариации. Смотрит в пространство. Печально, спокойно. Контролируя. Кажется, все-таки мне можно протянуть руку и поучаствовать.
У меня давно растаяли какие-то возражения, которых и не было.
Еще сегодня утром — у меня не было никакого плана дня. А тут подвернулся ты. И вот все началось.
Я пьяная и ленивая, а рука — жаждущая, но (перенимая его манеру) — тоже спокойная, исследующая. Он откидывается на спину… говорит тоном удивленного откровения:
— Александр Айс — это он. — Указывает вниз. — И больше ничего нет.
И я понимаю, о чем он. Каждый атом на земле сейчас — захватывает, пронзает, дышит… хочет.
Физиология. Желание. Красота.
И больше ничего нет.
Все. Нежно и насмешливо закуривает.
* * *
…И в полночь ухожу. Обратно по коридору, по долгим лестницам, под закопчеными люстрами. Это хорошо, это все хорошо. Александр Айс, устав, курит и молчит. Он не озаботился переодеться и слегка ковыляет и припрыгивает, прямо как есть, в пижаме, провожая меня, ленивый, пьяный, сонный, элегантный — даже в пижамных штанах.
4. МАМА
Опаздывает. Вместо веселой маски — ниточка между бровей. Мобильник аккуратно в карман:
— Маме звонил. Мы с ней очень… близки. Она у меня красавица, и…
Прямо до того прочитан «Архипелаг» Мишеля Рио. Красавица мать, инцест, томный и развратный сын, пытающийся подражать красавцу, стеснительный, неловкий рассказчик, еще одна красавица в возрасте. Все пряное, придуманное, томное.
Стильная вещица. Пробую на вкус: а как у меня получатся банальные — вкусные, смачные фразы? Мне просто интересно попробовать — не значит, что я дальше буду ими пользоваться.
В конце концов — это он пустил меня в свою жизнь, и если тут — играют с такими резкими тенями, с такими словами, то что же я….
— Знаешь — в тебя можно влюбиться….
…Так себе получилось.
И неправда, и не про то, а вот ведь — будет теперь в воздухе висеть!
* * *
…Черные простыни отброшены, сбиты в ком. Зеркало поставлено на пол. Время осыпается, как песок, в зияющую яму — неостановимо. Жажда растет, как оплавленное пятно на пластике. Мы бьемся, чтоб залечить эту простуду — но она все растет, болит…
…Потом простыни медленно наползают обратно, укутывают плечи, ноги. Спать. Мирно. Он даже спит щеголевато.
Он даже спит так, как будто на него смотрят.
5. ДЫНЯ
…Сначала заходишь — по дороге, почему бы и нет, для фана, а потом, если не зовут — уж и не знаешь, куда идти.
* * *
Знаете, как потягиваются кошки на рогожке? Всем своим существом и как бы пространством вокруг, такое сладостное оооо, такое растягивание на уровне атомов и молекул… потягуушечки. Почему так сладко — спать, и почему так сладко — потягиваться?
Я потягиваюсь, зарывшись в одеяло, не открывая глаз, хочется только лежать, лежать и вдыхать свежий пот наших чистых тел, — но почему-то хочется внезапно сказать что-то сладкое, фальшивое, но нужное именно сейчас.
— Знаешь, сейчас бы… — тянет Сашечка…
— Дыни. Свежую сладкую дыню, — заканчиваю я, сонно щурясь из-за подушки.
И Сашечка распахивает удивленный глаз:
— Разве так бывает? Разве так когда-нибудь бывает?
Нет, ну ты что! Конечно никогда… Чтоб так совпадали мысли! Нет, это определенно сродство душ! …Ага-ага!
…Ах, я все понимаю — все это повод для еще одного взмаха ресниц. Чтоб не просто давала, а — млела. Не просто хотела, а — умереть как хотела! Да млею я, млею, давно уже млею. Хватит меня обрабатывать!
Но через минуту нам обоим захочется, чтоб рядом никого не было. Чтоб потянуться когтями вооооот до того угла, и никого не завлекать — и никого не любить.
И мы лежим — такие разные. Он — для того чтоб на него смотреть. И слова у него — отрепетированные, чтоб их слушать.
Так это же идет с профессией! Репетировать. Работать на публику. Смотреть, что работает. Смешно обвинять в том, что он — по классу плохо не играет, по классу — не употребляет невыигрышные ходы, неловкие ноты.
Это — как обвинять бога в том, что в него — верят. Вино — в том, что его пьют.
На это смешно сердиться! И я не сержусь, я — в восторге и благодарна.
Вся неловкость — копится в другом углу комнаты. Я лежу. И стараюсь не дергаться. И дергаюсь.
* * *
Мы, что ли, клоуны, канатоходцы? Мы живем и жить будем вечно — неошкуренно, необработанно, для себя, а не для чужих глаз. Мы — хозяева жизни, мы просто есть. Неповоротливые и сырые. Масок не носим. Уползаем в уголок: да не нужно нам это все… Вульгарность и обман.
Это лакеи и фаты — это они бегают на тонких ножках, прищелкивая пальцами. Это дворовые провинциалы кичатся своими небогатыми трофеями. Они делают красиво. Мы, обсыпаясь, грызем попкорн. Лениво хлопаем, когда нам показывают представление. Утомленно засыпаем после. А фаты-то, фаты… неутомимы..
Мы не фаты. Мы — тюхи. Не фа-ты мы.
Но дайте, дайте нам — красивое, звонкое, на что можно — посмотреть. Посмотреть, а самим — уйти в тень
6. ХОЧУНЕМОГУ
— Ты единственная, кто не считает, что Кирилл в меня влюблен, — говорит Сашечка, складывая какие-то свои черные тряпочки.
— Так он что…?!
— Да нет, нет, совсем нет, то есть — он сам не понимает, человек-то сложный… Просто — все так считают.
Сашечка поворачивается. Складывает тряпочки. Дает мне полюбоваться своей спинкой.
Шот за шотом виски. Кто первый скажет «стоп»? Никто. Я пожимаю плечами, — перелистываю журналы, потягиваюсь, playing cool, искоса поглядываю на загорелый животик между краем футболки и джинсов. А вот кому кусочек красивого мяса? Сашечка поворачивается, изгибается, животик еще приоткрывается. Слова бегают, как маленькие быстрые птички, по тяжелому, лиловому, заполняющему низины туману моего «хочу, хочу»…
Такие игры могут продолжаться часами. Мы никуда не спешим, у нас впереди — вечность.
Но вот в коридоре — шуршание пакетов и шорох одежды. Входит Кирилл. Он маленький, светловолосый, со странными карими раскосыми глазами. Сашечка разогревает сковороду, жарит тонкие свиные ломтики, накрывает на стол.
— Устал? — спрашивает Сашечка, заглядывая ему в глаза. — Тебе рис или картошку?
Никогда не могла выносить без трепета это «что ты хочешь?» между людьми, которые «нет, совсем нет, просто так». Нежность, направленная на меня, замораживает меня, нежность между другими — растапливает мое сердце. Внимательность, черт, трепетность отношений!
— Как вы тут? — спрашивает Кирилл с искренней теплотой.
— Поверишь — два часа уже о чем-то треплемся!.. А могли бы трахаться! — восклицает Сашечка.
Действительно — почему?
Уютно разваливаемся на подушках. Изящные тарелки и разномастные стаканы.
Задорный шепот: «Слушай, я хочу, чтобы ты — его…»
Искоса смотрю в зеркало. Мой подкачанный животик и загорелая задница — вполне неплохой кусок мяса. Черное белье, черные волосы дыбом. С пивом потянет… А с виски — прокатит на ура.
Наши роли давно распределены: Шлюха, Резонер, Соблазнитель. Или: кусочек мяса и два дурака, киснущих от любви, playing cool.
Кирилл целует меня, утешает без слов: «Вот такой он у нас, Сашечка, а что делать, другого-то — нет».
У Кирилла грустные и спокойные губы. Я соглашаюсь: «другого — нет»… Действительно, если б он не развлекал нас, не придумывал сценарии — что б мы все (я, Кирилл, Алеша, Ваня и другие) — без него делали, семечки лузгали бы? Кто-то должен быть Зрелищем… Господин Сашечка Айс и его цирк.
Сашечка пристально и равнодушно наблюдает за нами, сидя, поглаживая себя… Его веки шелковисто блестят, губы слегка закушены. Потом он медленно, спокойно входит в меня… у нас-есть-все-время-мира-спокойно — вот тааак спокойно — и еще микроскопическая пауза, чтобы было понятно, кто здесь хозяин.
Я млею, а Кирилл смотрит сквозь веки.
Как только я немного прихожу в себя — предлагаю Кириллу руку помощи… потом вторую руку, потом все, что могу… — не надо тут сидеть с таким лицом, как в храме, — веселись с нами, так надо!
Я чересчур напряжена, чтобы кончить. Сашечка бродит небрежной рукой у меня по бедрам, между ног…
— Вы говорите, говорите… — приказывает он. Поглаживая — медленно, холодно, в правильном ритме — обнаженный нерв.
— Это чучело ничего не понимает в литературе, — громко шепчем мы между поцелуями. — Он ведь почти неграмотный, еле знает, как написать свое имя.
— Ага. Но зато какая задница!
— Лучшая в городе!
Утрахались до ватных ног и звона в голове, комариными голосами: ты дойдешь? — видно, что сами рухнут — в коридоре.
— А че не дойти, все нормально!
Я ухожу по синусоиде. Мы попали в рай Вусмерть Уставших и Не Задающих Вопросов… Боже, благослови нас.
Представляю: назавтра, на кухне, за поздним, послеполуденным завтраком, Сашечка, потягивась, выгибая спинку, скажет:
— Ну вот эта еще….
— Скучно ей, — скажет Кирилл. — Еще кофе?..
— Бадью…!
7. ДЕРЖИСЬ СВОИХ
Своих надо держаться, своих! Это мне Макс говорил. Своих бы держалась — было бы тип-топ. И не про христианскую мораль здесь, про — животное, звериное, самое первое правило в книжке: держись своих, не суйся в другое стадо.
Как же меня занесло в этот цирк, как же я не поосторожничала, не дала себе по рукам, не ушла, качая головой, не перестраховалась против грядущих убытков? Что же мне, совсем себя было не жалко, совсем нечего терять? Или я верила, что пройду по воде и огню, что со мной — ничего не случится, а если случится — только хорошее, что яд обратится в еду?
И ведь не скрывались они, кричали мне: мы — другие, для нас законы не писаны, мы можем развлечь тебя, можем — съесть.
Интересно — будет, а предсказать — нельзя.
Давайте, давайте «интересно, а предсказать нельзя», — сказала я.
* * *
Вот фотография класса: косо стою с правого краю. Волосы подстрижены в каре. На щеке — на щеке на фотографии — замазюкано черными чернилами. Это я хотела подправить, чтоб челюсть не торчала. Испортила карточку.
Когда мне было 15 — врачи рыдали над моими справками: по всем показаниям — оно ж ходить не может. Дисплазия суставов. Но оно тайком вполне себе ходило, обвешанное очками, зубастое, и, может, если подстричь — милое. Предпочитало ходить в библиотеку, а не на физру.
Макс же в свои пятнадцать — ковылял вдоль ограды со львами после уроков шахмат, грызя пломбир. В вязанном мамой свитере, на заказ сшитых штанах и в берете. Вот его фото. Серьезный такой барсучонок. На фотах, где ему до четырех, он похож на свою маму. Потом — только на себя.
В свои пятнадцать лет Черный Алекс сидел в школе, лучшей школе города. Рубашка промокла от пота. Слушал шум водопада Виктория. Его фотографий нет. Возьмите фото любого негритенка. Цвета шоколада. А то, знаете ли, бывают совсем черные. Приличного, в белой рубашечке.
А Сашечке-то тогда еще было пять, он лупил кого-то кубиком по башке в детсаду. А еще через десять, в свои пятнадцать — бежал с футбола на бокс, по дороге хлопнув тубусом с нотами по башке какого-то прохожего хулигана, чтоб не зарывался.
Вот его фотографии: целый иконостас. Ребеночек с серьезными черными глазками. Курчавый. Итальяшечка. В десять он уже выступал с оркестром.
* * *
Разные, разные, разные… Все не свои, чужие. Своих надо держаться, своих! Это мне Макс говорил. А какие мои «свои»? Кто они? Макс — свой, кто еще? …был такой еще, как его… Ну же… Коллега мужа. Русский. Черная футболка, модные очки, взвешенные фразы. Старательно пережевывает еду, аккуратно отпивает вино. Научился не спорить, но молчать, чтобы ты сама устыдилась. Жизнь посвящена тому, чтоб доказать: я — молодец-огурец. Не красавец — но красивее многих. Не качок — но накачаннее многих. Не интеллектуал — но может и про книжки поговорить. Не первый по алфавиту — но первее многих. Да никто и не спорит, что он молодец-огурец, все давно расступились: хочется быть самым-самым (пожимают плечами) — да будь ты, пожалуйста, кто мешает!
…Вот общалась бы с такими — было б у меня все тип-топ.
Зато свои, зато — не обидят.
Поздно уже говорить, но — разве это возможно?
8. В МАНСАРДЕ
Кабачок, мокрые тени на стенам, на потолке пляшет оранжевое пятно фонаря. Русская вечеринка. Девочки на каблуках, волосы до попы, сигареты, бокал вина в руке. Все больше мнутся, не танцуют.
Я — лохматое, в драных джинсах. Пузо к позвоночнику прилипло. Танцевала два дня.
— Саш, заходи! Тут Ксюша, она пляшет здорово. Ну, помнишь, у нее еще такое движение, когда она вот так встанет, выгнется и — волной?
Ну все мне ему хочется подарить, и Ксюшу волной — ему!
— Видел. Классная девчонка.
— Хорошо. И Васю еще приведу, — говорит Сашечка. — Молодой совсем. Тоже музыкант. Он никогда не был на тусовках. А я — один раз.
Ну, ладно, пусть Вася. Я из Лондона только, всякое в крови бродит. Проездом пока, не окостенела. Все смешно. Пусть Вася.
Своя же тусовка! Не обидят. Я ложусь в музыку и плыву.
А тут работяги, оказывается, просочились. Сидят, развалившись — хозяева жизни! Ноги растопырили, в клешнях по банке с пивом, тусклые глазки гордо посматривают по сторонам. Видят меня, дешифруют — тетка на наркоте. Или пьяная. Надо трахнуть.
— А садись к нам, девушка. Вы вообще тут часто собираетесь?
Мы вообще — часто (а вас не приглашали).
С радостью ребенка, который дяденькам посторонним обьясняет, что ему с дяденьками посторонними разговаривать запрещено.
Думала, что успею отвязаться — но тут на пороге возникли Сашечка и Вася.
Вася высокий, худой, костистый. Лицо в оспинах. Дите. Но сызмала взрослое дите. Неинтересное, в общем. Напряженное, закрытое лицо. Этакий юный скептик — при Сашечкином попрыгайстве.
Я говорю работягам шшш, а Сашечке киваю и — в туалет.
А обратно возвращаюсь — тут уже драма. Работяги разжужжались, как осы: нашу девушку уводят!
Сашечка звонит в полицию:
— Ты что, с ума сошла, а если они мне руки переломают?
А ты с ума сошел в полицию звонить? Да шикни ты на них — и все! Представляю, в русской газете: работяги устроили месилово с мальчишками. Из-за Ольги. Умора!
Я понимаю, что руки. Я понимаю, юрист. Все поняла. У тебя есть юрист. Круто. Ничего же не говорю! Просто успокойся и все. Go with the flow.
— Да ушли они уже, ушли! …Ну, пошли домой ко мне, что ли. Переждем.
Вася, бедный, головой крутит: Что? Где? Куда мы вляпались?
А не влезай тут со своими дворовыми разборками! Тут Запад, понимаешь? За-пад. Никто ни на кого не смотрит. Никто никого не тронет.
— Да ушли они уже, ушли! …Ну, пошли домой ко мне, что ли. Переждем.
Я иду по лестнице, оборачиваюсь и говорю «тссс!», поворачивая ключ в замочной скважине.
Первым проходит Сашечка, трясет рукой:
— Обалдела!
Вася тоже осматривает свою руку, шевелит пальцами. Рука немного подрагивает, но пальцы годны для работы.
— Я знаю, как все исправить!
Из скрипучего маленького шкафчика с дребезжащими стеклышками — достаю бутылку рома.
Сашечка берет левой рукой стаканчик. Глаза у него меняют цвет, словно на театральной тумбе перелистнулась афиша:
— Ладно, проехали!
Он придумал одну штучку. Он шепчет Васе, протягивая ему стакан.
Я вспоминаю детство — когда с друзьями бегали взапуски, пока не устанем, а когда устанем — устраивали кучу малу, не разобрать, где чьи руки, ноги. Смотрю на Сашечку: кучамала?
— У него еще не было женщины, — шепчет Сашечка.
Опять не тот словарь, не те мифы! Опять как-то — по-дворовому.
Меня это не заводит. Ах, ты уже разделся? Раз — и голенький. Это — заводит.
Через час пьяная белая луна, заглянув в окно, зажмуривается — на нее смотрит мой белый зад. Вот его заслоняет смуглое тело Сашечки. Вот его сменяет белое, слегка волосатое тело Васи, стройные ноги и длинная спина.
— У вас тут что, без презервативов? — успевает спросить Вася.
— А вот мы тут тааак, — говорит голый и пьяный Сашечка. Растягивает «таак» — мстительно, и весело, и жестко.
Так, по-взрослому.
И мы засыпаем кто где, вповалку, в месиве рук, ног и запахов.
Но через час все расползаются по кроваткам. Никто не может перенести спать вместе.
* * *
Утром просыпаемся, стесняемся, бродим по квартире, собираем одежду. Я варю кофе и кашку, как походная мама. Чашки. Вот чашки. Где третья мисочка?
Сашечка устраивается на диване, закидывает руку за голову. Улыбка — нежнейшая и наглейшая. Хочу.
Смотрим «Остров сокровищ».
— А теперь мы вам расскажем историю… Про мальчика Бобби. Который очень любил… Очень любил деньги.
Кхм, кхм. Мультики — хорошо. А я вот, кстати, например — не устала…
Поглядываю то на одного, то на другого.
Сашечка смотрит мультик взахлеб, растопырив ресницы. Собачка смеется. Доктор Ливси — душка.
— Ну, ладно. Next time.
9. КАК ХОРОШО БЕЗ ЖЕНЩИН И БЕЗ ФРАЗ
Помню один концерт. Музыкант — его имя вы все знаете — вышел на сцену, спел что-то, а потом — воздух в зале расслоился, дрогнул, все стали восторженны и торжественны. В прозрачной тишине он начал — тихо и интимно:
— Как хорошо…
И замолчал. Молчание облетело зал — и заглянуло каждому в глаза. Все замерли. Каждый стал — наедине с певцом. Или даже — один.
И он продолжил — тихо, спокойно, как будто сидя напротив каждого на расстоянии вытянутой руки:
— Как хорошо без женщин и без фраз…
Все поняли. Все. Весь зал. Ох, как все поняли! Женщины захлопали. Мужики просто застонали. Без женщин и без фраз! И бог мой, какую ему устроили овацию!
…Вот так и мы — трахались. Без затей и без «фраз».
А потом неумело закуривала: хорошо! Хорошо, по-честному, по-пацански.
Эти девочки — мокнут. Требуют — женись.
И я — мокну, жду, смотрю на телефон… Позови.
Но все равно как бы — по-пацански. И давай, давай, со мной можно — жестко. Ты и так много врешь. И так много накручиваешь. Хотя бы со мной — расслабься.
Ну мы-то с тобой, брат, понимаем…
Без женщин и без фраз.
10. БУЛЬК В СКВЕРИКЕ
Сашечка достает из-за пазухи фляжку. Отхлебывает, передает мне. В темноте блестит его горло.
«Бульк в скверике». Как бомж. Но бомж — в Праде.
Вокруг кусты, чернильная темнота. Ее объедают фонари. И мокредь.
Нас могут замести.
Да бог с вами, кто нас заметет! Успеем спрятать в сумку.
И вообще: два приличных человека. Я вне подозрений, он — полон шарма. Черное платье. На нем — оранжевый пиджак. Стильные. Худые. Немного странная пара — ну и что?
В глубине высится дом. Похож на питерский. Красивый. Балкончики. Лепнина. Квартиры там стоят — миллион. Местные отгрызли бы себе руку, чтоб там жить. Убить тридцать лет, чтоб накопить на флэт там — легко.
Они вообще любят убивать жизнь на то, чтобы накопить.
А мы — забесплатно внизу сидим.
Сидим. Пьем дешевый виски. И мокредь. Черная решетка кустов. Мы — парижские бретеры, опасно, наравне.
Сейчас взовьемся двумя ракетами и жахнем над этим сонным городом, где нас не пустили в Хилтон — нас! Ну и что, что зрачки бесятся. Это же — мы! Вы еще узнаете!
Еще глоток — и шорох по кустам.
…Но каждый смотрит на часы. У ночи зарастает мозжечок. Домой. Недокутили. Жаль.
Ты продолжаешь играть — я ухожу в мох.
* * *
Дома:
— Эх, купил бы ты мне фляжечку!
— Серебряные стоят дорого!
— А что, уж не серебряную — нельзя?
— Посмотри, такая — хороша?
— Хорошша.
— Ну — заказываю!
И вот через неделю — пакет.
— Хороша?
— Хороша!.. Ух, хороша!.. Для дюймовочек! Тут же — два глотка!
— Зато — можешь залить туда восемнадцатилетний Гленфиддих. Качество! Качество прежде всего!
Ты не понимаешь. Алкоголь — чтоб пить, не смаковать — пить! Пить и напиваться — пока здоровья хватит.
И вот стою я с фляжечкой для мальчик-с-пальчиков, с каплей хорошего — но очень хорошего — виски. А главное — не с кем пить по скверикам. Бульк. Черные кусты. Как бомж. Не с кем пить.
11. ВСТРЕЧА С НАСТЕНЬКОЙ. VICTORIA — PICCADILLY CIRCUS — CAMDEN TOWN — VICTORIA
Вокруг Виктории — целый квартал украшенных лепниной, базовых гостиниц. Кран течет, душ холодный, постель пованивает плесенью. На ресепшене — зевающий индус. Устраиваюсь сама, забрасываю чемодан, иду к Виктории, встречаю Криса с его надутыми губками бантиком и в гопницком прикиде.
Когда он прислал фотографию, засмеялась — пацан выглядит лет на тринадцать и хорошенький как кукла. В красном свитере, сидит за компом. Черные глазки и челка на глаза. Потом мы встретились. Ну, двадцать и толстоват, но серьезный и… и я нравлюсь ему.
Второе поколение. Аккуратно подбирает слова.
— Тебе нравится моя новая прическа?
— Да. Тебе идет.
Торчащий гребень посреди головы. Ну какой же ты, парень, рэппер! Но хорошо. Идет тебе, идет. Чопорно, как новобрачные, поднимаемся в номер. Складывает бренчащие цепями джинсы на стул. Рассматривает себя в зеркало.
Секс так себе, это для понтов.
Сходим вниз. Мне нравится, как, выпучив губки, он держит меня за руки. Как мы спускаемся по лестнице и идем в паб. Мне нравится, что записной пабский шут и приставала говорит нам: «вы — самая красивая пара в этом пабе!» Я даю ему камеру: щелкни нас. Двадцать лет — и тридцать шесть.
Крис дуется: не надо было слушать его, не отстанет же потом. Я веселюсь. Все невсерьез. Расслабься.
И мы нежно прощаемся, и уговариваемся встретиться скоро-скоро. Теперь я могу его еще месяц динамить.
* * *
Каждый раз когда я в Лондоне — забегаем с Галькой на попить-кофе. Каждый раз немного более чужие друг другу. И все труднее выслушивать все эти «а он что? а ты что?» — и ее обиды — и ее гороскопы.
Галька — из Архангельска. Милая и смешливая. Девочкина фигура, провинциальный говорок — и женские, острые глаза. Галька жила у нас. Потом уехала в Лондон — на ловлю счастья и мужиков. Не знаю, поймала — не поймала. Вроде живет одна, работает, справляется. Но Лондон ее немного объел по краям.
Когда-то, честно говоря, было и больше, чем кофе — но от одинокой жизни Галька слегка окостенела. Словно — испугалась и остановилась с поднятой лапкой. Теперь — почти не пьет, и кокс — ни-ни.
Она отдувает челку от лица:
— Менеджер сказал подстричься. Говорит — принеси чек за стрижку, оплачу.
— Ну и наглеееец! Но правильно сказал — тебе идет. Что берешь?
— Только кофе. Ну так как ты? Кого дейтишь?
— Да вот был один… пропал. Такой… музыкант. А потом никого. Тут вот только с одним, в Лондоне, встретилась. Но это невсерьез.
— Доиграешься со своими молоденькими!
— Да ладно! Это для фана! А ты кого?
— Ну, сама смотри! Я? Ну, с Надимом-то мы разошлись…
— А теперь?
— Да так… Есть тут один..
(И так далее. Lunch with a girlfriend. Decaf latte.)
— …А музыкант — появится еще, — убеждает она меня. — Он кто по гороскопу?
— Вот уж не спрашивала! Да и — не появится!
— Ну, спорим?
— Да не появится — и спорить нечего!
— На шоколадку из «Либерти!»
О! Шоколадка из «Либерти» — это класс, ради нее можно забыть и потерю Сашечки.
— По рукам?
— По рукам!
Галька с элегантностью столичной штучки подзывает официанта. Я подхватываю сумку, мы целуемся: «звони, когда» — «обязательно!» — и ныряю в метро.
Теперь у меня будет или Сашечка — или шоколадка! В проигрыше не останусь.
* * *
Весь какой-то влажный, с медленными жестами рук, Миша берет только чай.
— Тут хороший чай, — медленно говорит Миша, грея руки о чашку. Сразу исключая меня из братства людей, способных получать истинное наслаждение от стакана простого чая.
— Знаешь, Настенька скоро будет, — говорит он как-то вбок.
— Это вот эта знаменитая Настенька, красавица Настенька с богатым мужем?
— Да…
— Ну конечно, конечно! Где? Что? Когда?
— Попозже, — и больше ни слова, только загадочная улыбка реет над чаем.
Мы идем в какой-то бар за углом, где по дощатым стенам носятся тени ковбоев, стреляющих друг в друга. Лондонские понты.
Там накапливаются, втекают и вытекают какие-то люди. Мне кивают на них, им кивают на меня — и они продолжают протягивать ленты в толпе. Сошиалайзинг и нетворкинг. Получится ли у меня быть — такой легкой, такой неспешной, такой целеустремленной — чтобы плавать с ними, переплетая ленты? Лондон, Лондон, Лондон.
Наконец появляется Настенька — и тоже смотрит в сторону. Она светлая и легкая. Это, пожалуй, главное в ней. Она — как майская шелковая ленточка, в любой сезон. Вплетается тут и там, не теряя задора, пытаясь не уставать, уставая, пытаясь не терять ритм, теряя.
Она смотрит в сторону, — мило порхая и очаровательно радуясь нашему наконец-так хотела-так ждала-и вот-свершилось! — знакомству, но как бы все время улетая вбок.
И все кружатся и топчутся на месте, а через полчаса оказывается, что все все-таки ждут кого-то очень важного, всеми любимого, необходимого и без него не сдвинутся с места… Аааа, эти лондонские networking зависания! Через три часа, не дождавшись этого совершенно не нужного, необязательного, ничтожного, всеми презираемого человека, все наконец разъезжаются.
Настя едет со мной в одном автобусе. Она немного усталая и нежная. И какие-то на ней сапожки, ботиночки. Какое-то пальтишко, курточка. И маленькие ручки. И она сразу ложится мне в сердце, как будто там всегда была.
— Не зайдешь — вот так вот сразу — на чашку чаю?
Это! Было бы! Так! Круто! Завалить! Ее! В том же номере! Утром мальчик, вечером — девочка!
— Да, пожалуй, не сегодня, — смотрит в сторону.
12. ШАРЛОТКА
Наконец-то я приехала к Настеньке, во всеоружии, в full power. Привезла с собой домашнюю шарлотку, — яблочную мокренькую шарлотку с меренгами — и повалила хозяюшку прямо на стол, руки — за голову, прижалась губами к губам… Наказать, наказать ее за все! Ненавижу это маленькое гибкое тело, оттопыренную попочку, лукавые глазки!
Повалила, руки — за голову, обхватила за плечи, рукой за попу. Душистая, прогибается, думает — это такая игра. Залезла ей рукой в штаны, нащупала аккуратную щелку между двумя выпуклостями, все тугенько, и ниточка висит… измяла ей рот, за попу пощипала — и бросила.
Шарлотка совершенно сплющилась под ее плечиками, в серединке — еще можно выскрести съедобные кусочки горкой… Эта маленькая притворщица все время держит спинку!
Она села, спокойно выпутала из волос кусочек теста с белой пенкой, отправила в рот — вкусно. — Ты бешеная! — Ну, бешеная, да.
Села на диванчик — мягонькая, свежая, как листик заячьей капустки. Маечка — розовая.
Сую ей в руки бокал. Пей, пей. Напейся хотя бы! Ты ж пила когда-то — и еще как! С каких это пор ты решила, что даме не пристало блевать? Жаль, что девочек нельзя бить. Иметь — можно, а бить — нельзя.
Я молча выхлестала бокал. Она — тоже опьянела, из сочувствия.
Теперь я — размякла, легла к ней на колени, больше не лезу, перебираю пряди…
Теперь я — мягкая и сонная, а она — бодрая, и не знает, что со мной делать — ленивой кошкой валяющейся у нее на коленях.
* * *
СМС: ты на поезде?
СМС (время обдумывания: 0 сек): нет. Я у Насти.
СМС: что случилось? Ты пропустила поезд!
СМС (время обдумывания: 7 мин): НАМ не хочется из постели вылезать…
СМС: А! %-) Ну, ТОГДА конечно!
СМС (время обдумывания 0 сек): %-)
СМС: Когда обратно? Поезд — 59 фунтов!
СМС (время обдумывания — 10 мин): Настенька заплатит.
…У Настеньки — маленькие беленькие ручки. А на запястьях — шрамики.
13. ФРАНЦУЗСКИЕ ДЕВОЧКИ
За Лондоном, в чистом поле, позади какой-то заброшенной стоянки, звук просачивается тоненько, въется дымком — и вдруг вспухает шевелящимся комом. «Правильные» люди — мы с Настей зовем их «creatures», «кричи» — растут прямо там, выходят из-за ветл, по одному, парочками спускаются с холма. И появляются и появляются из темноты, и встают в ряды. А я — уже давно бьюсь ряду во втором, поближе к звуку — но чтоб и на людей посмотреть тоже.
Андеграундная парти, за Лондоном. Сама, без Настеньки, дорогу нашла! По секретному телефону позвонила, и механический голос сказал мне секретный адрес. И сама доехала, сама свернула под мост, пошла по берегу, а там — там уже на звук.
Сначала было почти пусто — я, пара слоняющихся и бешеный гопник в капюшоне — он как врылся перед динамиками, так было видно, что до полудня не сдвинется. Я заозиралась, почти запаниковала, но потом нашла источник вечного блаженства, повесила сумку на березу и — пошло!.. А тут уже и — наползли, вышли из-за леса, спустились с холма, и смотри, к часу — ночь съела кусты и холмы, помойки и дальний город, свет выхватил динамики, переливающиеся кубы над головой — и нас — и парти заиграла!
Ходят, красивые, поводят глазами. Некоторые — притягиваются к каждому, трогают тебя лапкой, принимают твой цвет. Другие, как медленные угри в темноте, плывут по своим путям миграции, никого не видя. Красивые!.. Вот — существо прекрасноногое, прекрасноглазое, в прозрачной юбке, — пола непонятного, — и не важно — прошло мимо. Вот — девушка строгая, рыжая, эпохи викингов — плывет навстречу музыке, как фигура на носу корабля — прорубается сквозь волны. Я уже чувствую себя старожилом — я и тот, в капюшоне, вросший перед динамиками — мы были тут с самого начала.
Моего вдоха хватает на два часа — я в восторге. Неизьяснимом. Приехала же в надежде на — заговорить, встретить, упасть. Найти родных, чтобы — глаза в глаза, и не объяснять. Но — онемела, вся вылилась в танец. Ну и хорошо, и не надо ничего. Похоть радостна, она раскрашивает деревья, она в ветлах и в небе. Смотреть на какого-нибудь тоооненького, серьезного мальчика — и хотеть. Хорошо! Потом буду жалеть, но сейчас — не надо. Не окликайте.
Ноздри у меня черные от пыли. Глаза — не для предъявления приличным людям.
Время, как всегда — растянулось, истончилась, каждая минута обещает (и дает) — что-то, и так проходят часы… Вот уже чернота спускается по деревьям и уходит в землю. Рассвет разливается между верхних веток. Мне так сладко, что голова кружится. Я приехала встретить кого-то, поговорить, но нет сил от счастья.
Я падаю на траву. Тут же везде дом — мы надышали, натанцевали проталинку. Под любым листком — стол и дом. Сплю, а внутри корочки головы толкутся круги, сполохи, звуки, прорастают бесконечными цветами бесконечные кактусы, мне в лицо летят дракончики размером со стрекоз… Цветные, щекотят.
* * *
— Ты ок?
— Я ок.
— Ты уверена, что ты ок?
— Да, совершенно уверена!
— Ну, мы все-таки рядом с тобой посидим.
Усаживаются вокруг меня кругом, как индейцы. Передают по кругу косяк. И трубочку. И беленькое в бумажке. Мои игрушечные индейцы! Мое названное, только что найденное племя! Говорят на почти понятном, но так сладостно уплывающем в милую неразборчивую скороговорку — французском. Я же знала, что кто-то найдется, что кто-то меня найдет! Что кто-то — всегда был!
Посередине — душа компании — улыбка в сорок четыре зуба, — Одри. Справа — тоненькая, с глазами заплаканной мышки — Марина. Слева — строгая, молчаливая, с мужскими руками — Дороти. И рыжая, которая девушка-викинг — она тоже с ними.
— Смотри, Марин, смотри, кого мы нашли.
— Кто это?
— Она спала тут под деревом.
— Она одна?
— Да. Она была одна и спала под деревом.
— Берегите ее, раз нашли. Не давайте ей спать одной.
— Не дадим. Теперь она с нами.
Я лежу посередине: найденыш, подкидыш, Маугли. Я случилась сегодня в первый раз за всю историю Земли. И я всем — радость.
— Хочешь?
— Что это?
— Немножко кетамина.
— Вы милые.
Я раньше не пробовала. Но не дадут же они мне вредного! Моя новая семья.
— Я немножко посплю.
— Спи, — Одри укутывает меня оранжевым пончо. — Мы тебя будем сторожить. А потом возьмем с собой. Ты теперь — с нами! Ничего не бойся. Спи.
Я не знала, что меня надо защищать, но теперь — кто-то есть, чтоб защитить — хорошо! Я вдыхаю все сразу — деревья, что-то белое, пыль, солнце, рассвет, ласковых дружелюбных зверюшек вокруг, лопочущих по-ненашему… Мир превосходно устроен. Стоило немножко подождать, чтоб так все наконец нашлось и совпало, чтобы — мое маленькое племя.
Я засыпаю еще на долгие три секунды. А когда просыпаюсь — мы уже собираемся, и день светел и сер, от парти осталось пожарище: вытоптанное место и серые деревья. И все в пыли по самую макушку, Одри тащит одеяло… Мы все улыбаемся от уха до уха, не в силах говорить… И меня везут в чудесный французский домик с чудным садиком, и меня ждет долгий отдых и долгий сон в теплых, добрых руках.
14. ГЛАЗА НА СТЕБЕЛЬКАХ
Настенька — заинька. У меня челка на глаза, а у нее — гладкий доб. Брови тоненькие. И губы маленькой смешной губошлепочкой, как будто она говорит «тютечка, чапочка» — и при этом улыбается.
— Бобик в гостях у Барбоса, — говорит Макс, когда я отпрашиваюсь. — А ну как дедушка нагрянет? Ну, поезжай, поезжай.
А мне нравится, что у нее все заемное, дорогущая квартира — ее — и не ее, и нравится, как она смотрит, как вещи разлетаются у нее из рук. Она не жадная. Добрая. Хотя не была бы она практичной — ей нечем было бы делиться.
Мы стоим посреди пустой и чистой квартиры, как две девочки в гимнастическом классе. Чисто, светло, просторно. Спинки пряменько, носки развернуть. Дисциплина бала. Быть легкими, держать спинку, мы идем спать в сквот — так конечно у нас должны быть платья от Карен Миллен, лучшее белье, и мы должны быть чистенькие-чистенькие! Это новая сказка про Золушку: Золушке дали пожить во дворце и немножко подружить с принцем. Это лучше, чем жить во дворце и замуж за принца. Значительно, значительно лучше!
Мы ходим по парти, двумя этакими Жучками. В зубах аккуратно носим поводок. Вообще домашние, и только недавно — ничьи. Подходим и заглядываем всем в глаза: хочешь побыть хозяином?
Ах, хорошо! Все — легко-легко.
* * *
Но Настенька — там. А тут — Рейчел. Должно же быть домашнее, в своем городе чудо, смелая и ласковая подруга, должно же быть?.. Я — попыталась.
— А где эта твоя подруга, c глазами на стебельках? Уже родила?
— Не знаю. Наверное.
Подруга с глазами на стебельках — Рейчел — пропала в гулком свете дня.
Мы познакомились на местном трансовом балу — балу кожевенников и мастеровых, бешеных тинейджеров и редких студентов-расстриг, под потертым зелено-розовым драконом — старым знакомцем, из которого лезет пакля.
Как странно, да — все то же, что в Лондоне — и совсем не то?! В Лондоне все — свежесрезанные, только здесь и сейчас. И с каплями росы.
Здесь они одним глазом косят за дверь, пересчитывают в кармане мелочь.
Законы физики здесь пожестче. Реальность стоит на страже у двери. Не врывается — но и не уходит. И в чилауте слышится: Шеффилд? Дыра. Да я оттуда родом, я знаю! — И еще: «Я совсем поиздержался! — Нет, это у меня в кармане — дыра».
…В ту ночь старые кожевенники и мастеровые вели себя весело и прилично. Совсем старики колосились в углах. Молодые ужирались в хлам. Была пара девочек в неоновых купальниках, со слегка подбитыми жирком животиками. И — красивая, с белыми ручалочьими волосами, с пластинкой на прозрачных зубах.
Дракон летал и вертелся, как новенький. Посередине ночи девушка с обручем во лбу разносила фрукты.
Я ежилась ключицами, как Наташа Ростова на балу, я раз за разом ныряла в музыку — чтоб окончательно расплясаться, раззадориться, забыться. Взмахивала руками знакомцам. Как приятно встретить их на парти! И как кривит от мысли, что те же люди — будут снова и снова попадаться, до скончания времен!.. Вот этот, дрожащий одной левой икрой, но удивительно в такт дядечка — он всегда. Столетний беззубый диджей — он всегда. Вот эта веселая тетка, толстая, в полном трансовом прикиде, зелено-розовые перышки на толстых руках — она всегда. Бабушка с грибами продает грибное варенье по пять рублей ложечка — всегда.
…Ах, Ольга, не бурчи! Все еще наладится. Только как бы самой не стать «ну, эта — всегда»!
Наконец — я легла на диванчик и попыталась наментить Лондон. Там вместо кожевенников и сантехников — итальянские официанты и прованские принцессы, сбежавшие из дома. Там Настенька… Все сладко поплыло и забумкало внутри головы. Мир свернулся в клубок. Может, развернется — и будет что-то новое.
И как всегда, надеясь на то, что меня найдут, я закрываю глаза…
Просыпаюсь оттого, что кто-то перекладывает мои ноги:
— Привет. Спи-спи. Смешно спишь.
У тетечки глаза там, где должны быть уши. Не могу понять, красивая — или уродина. Нос — словно срезан лопатой. Круглая голова.
Но я же всегда на парти сплю! Утомившись, устав от восхищения, уютно сворачиваюсь на диване, на больших подушках. Когда открываю глаза — нежные, сидят и улыбаются рядом, охраняют и стерегут. Кто-нибудь — всегда новый. Этот закон я угадала! Работает всегда. По крайней мере… по крайней мере — в Лондоне.
«Смешно спишь». Смешно?
— Да я… хм. Так. Не сплю. Я дремлю, мечтаю.
— А я Рейчел. Спи…
Повозилась, поерзала — и опять:
— …Ну как, все спишь? Мне поболтать хочется!
— Да я уже проснулась.
— Ты откуда?
— Я — из России.
— Ага. А я Рейчел. Отсюда я. Нет, сначала я жила в Лидсе, а потом была в Лондоне, а потом сюда переехала.
— Ага. Прекрасно. Прекрасное парти, да?
— Я расплясалась! Ты на чем? Мы еще дома добавили! Мы с Клер.
— Привет, Клер.
— Привет… э… Как тебя?
— Ольга.
— Привет, Ольга!.
— Она русская, прикинь!
— Ага. Я пописать пойду.
— Давай! (Ко мне.) Знаешь, я чувствую… вот что! Надо всем ехать в Хэптон Бридж! Ты поедешь со мной в Хэптон Бридж?
— А что там?
— Там — невероятные люди! Вот кого я ни встречаю, если он — невероятный — то можно спорить, не проиграешь — он оттуда. Там хиппарское поселение. И все-е-е-е просто здоровские! Ты кто? Писательница? Прекрасно! Поедем в Хэптон Бридж! — Привет, Клер! Вот ты и вернулась! Представь, Ольга — писательница. И она — из России. Прикинь!
— Превосходно!
— И мы все едем в Хэптон Бридж!
— Хорошо. Поедем. Завтра. Что ты пьешь?
— Бренди!
Рейч сворачивает джойнт. Глаза плывут, а руки аккуратно, умело — сворачивают.
Большой опыт. Большой опыт быть немного не в себе. Но самой по себе.
И вдруг остро, подозрительно, отрезвляюще — смотрит на меня:
— Тебе сколько лет?
* * *
— Поехали ко мне!
— Давай. Я за такси заплачу.
Красный дом. Подсвечники. Камин. Диваны, горы всяких приятных вещичек, металлические подсвечники (ах да, она же — кузнец!). Почти русский по безалаберности дом. Было бы уютно, если бы не — холод.
Рейчел подкручивает камин, дергает за штырьки: «Что, неужели кончилось на счетчике? — идет на кухню, залезает на стул и долго светит свечкой куда-то под плиту. — Нет, вроде должно остаться»… Я знаю, что Англия — не изобретательная Япония, не богатая Америка, но не встречала такой присохший к позвоночнику минимализм: чтоб только в гостиной топилось, и ветер выл в остальных комнатах. Это невероятно, это прошлый век, это «Незнайка на Луне», этого не бывает. Я сижу притихнув, я не хочу, чтоб все рухнуло в мизерабельность.
Я хочу, чтоб и здесь, не только в Лондоне — был дом и друзья. Я хочу — кусок этой страны, не только иностранцы. Почему же все так быстро — рушится в мизерабельность, почему — ну уж ни шагу не отходи от дома, держи базу, шаг шагнешь — и вино уже — невообразимая болотная водица?
Рейч дергает за шпенек, и, о радость! — сипелка разгорается. И через полчаса мы — печеные, по крайней мере с одной стороны.
Пытаюсь забыть чаплиновскую трагедию со счетчиком. Но это и не важно — согрелись же.
Зато есть — настоящая живая (красивая?) местная подруга, (ужасное) вино и — чужой заповедный дом.
Диски на полу. На колени вскакивает кот. Он пестрый. Другой вьется сбоку.
Рейчел подхватывает одного кота на руки и начинает длинную сагу про его судьбу и привычки… Скучно. Я сбрасываю кофту, остаюсь в праздничном платье, волосы торчат от высохшего пота. У Настеньки я бы помылась и залезла в халатик… Здесь пережидаю, улыбаюсь… и все же чего-то жду.
Вот сейчас предложат (как у нас водится) — дринк, чай, еду, секс… Пожалуй, мне она нравится. Сильная женщина. Томбой. Сорванец. Не девочка-девочка, как Настенька.
Может, и не красавица — но надо же делать поправку на местность.
Хожу-хожу. Жду-жду. Глажу по волосам… А она с котом играет.
* * *
Спать будем!
Дома — я закрываю ухо ухом от одеяла и устанавливаю вокруг глаза книжку, и слушаю топот и стуки и кашель в соседней комнате… а потом утягивает и думается какая-то мысль, которая не может быть правильной, — и так я понимаю, что сплю.
Тут — громадная постель с высокими сырыми одеялами в нетопленой спальне. Стаканы и пакеты из ALDI c клюквенным соком из концентрата. Размах приготовлений ко сну пугает меня. Может, еще и тазики для кала и рвоты? Мы что же, наркомаааны, как в «Trainspotting»?
Я немного жду, может, все-таки — что-нибудь?
Но потом понимаю, что и самой не хочется.
Каменное одеяло погребает меня под собой, сминает, как травку под метровым снегом. Я вдавлена в матрас. Матрас пахнет слежавшейся сыростью. Не простудиться бы.
Вот коты верхом на красных каминных щипчах запрыгали по комнате… Сплю.
Утром — трогаю грудь. Свою. На предмет простуды. Там — ком. Но вроде не в ушах. Прокашляться — и пройдет. Не заболела…
Но долго, долго еще чихаю и хриплю, вспоминая этот дом.
* * *
Через неделю встречаемся. Рейч в ажитации:
— Я познакомилась с таким молодым, молодым, мне даже стыдно, насколько молод! И секс какой! Но сам — такой хрупкий — мне прям не по себе. Как ребенок. А я привыкла, чтоб мужик был — как кирпичный дом! Чтоб он был — как гора! Чтоб руки не сомкнуть, когда обнимаешь! Вот какой должен быть мужик! А к этому — ну никак не привыкну!
— Ну, рада за тебя. Покажешь это свое чудо?
— Жди. Натрахаемся — придем.
И вот я прихожу уже в два, чтоб уж всяко у них было время. Но — просчиталась, жду еще час. Любопытство разгорается. И вот, наконец, в начале четвертого — что это за чертенок впрыгнул в середину толпы?
Кто это прыгает, как на углях, кто — чуть не идет колесом?
И что это за бледное тело с пузцом, в кожаных штанах — прыгает рядом с нею?
Я знаю, знаю! Это — Рейч, а рядом с ней ее — молодой, хрупкий, загадочный!
Спросите меня — мужик как мужик, за тридцать, рыжий, бледный, квелый, на руке татуировка, под соском — прыщ.
— Здравствуй.
— Ольга.
— Стив.
— Сколько лет ему? — спрашиваю, когда уходит пописать и мы остаемся с Рейч.
— Двадцать восемь. Бейби!
— Мне он не кажется хрупким.
— Да ты что! Я привыкла, что мужик — как гора!
И она демонстративно уволакивает с парти свою новую игрушку. Меня, конечно, не зовут.
* * *
— Я, кажется, беременна, — говорит Рейч.
Мы стоим в очереди в «Зев». На мне платье с золотым хомутом, на ней — черные леггинсы и клетчатая мини. Ей идет. Хотя зад великоват.
— Подожди, сейчас, — она ныряет за машину, и я не знаю, идти за ней или не идти.
— Бюе, — облевана еще одна машина. Рот — вытерт.
— Девочки, проходите, — поворачивается всем телом монументальный охранник.
Штамп на ладонь.
— Ты держишься?
— Держусь. Плясать хочу!
— Ну и как? Стив знает?
— Конечно! Он был такая лапочка! Сказал — давай сохраним, я перееду к тебе, будем вместе жить…
— Молодец! Что пьешь?
— Бренди с колой.
— Бренди с колой, и джин, и тоник. Ну, ты решила — ты с ним?
— Я… хочу опции сохранить. Он так юн! Я хочу детей, но не сейчас. Позже. Но — точно детей. И много! — говорит Рейч и гордо вскидывает круглую голову.
Представляю: рой маленьких Рейчел — все с широко расставленными глазами и скошенным носом. Картинка приобретает выпуклость. Маленькие Рейч множатся.
— А на свадьбу мне плевать. Но уж если свадьба — чтоб все ужрались в хлам! Каждому — по три марочки! Вот у папаши была свадьба — ну помнишь, он был на парти с Меган — вот они с Меган когда поженились — у них свадьба была прямо в лесу! Человек пятьдесят, и развесили фонарики, и ходили по лесу, и там в дуплах и под камушками были запрятаны стихи — папа сам написал. Вот как сказочно!
— Да… прекрасная идея. Представляю, в каком все были восторге! — кисло поддакиваю я.
— Ну вот, так что свадьба — не вопрос. Я больше беспокоюсь, как мы вместе-то жить будем. Не уверена. Уж очень юн.
— Но видишь — он все же молодец.
— Да, он очень sweet.
* * *
… А через еще пару месяцев:
— Я беременна! Стив переезжает. Будет жить со мной. Я все же немного боюсь…
…Да, милая. Вот и реальность наплыла.
…И после этого она пропала.
15. СЕКС-ТУРИЗМ
Время течет бесконечно, как сопля. Чем дальше, тем тошнее. Серый Манчестер, за окном гадость. Хоть молотком по пальцам бей, чтоб развеселиться. Весь день сидишь и, как монотонный дождь, — клик-клик-клик мышкой… И ничего там нет, пусто, серо.
И Сашечка, как заведено, бойко отвечает на первый СМС — и потом замолкает. И я отдергиваю руку после второго СМС — бью себя по пальцам — опять суешься, лезешь, пристаешь, опять выдумываешь, что там есть что-то «легко, на ход ноги»? Так тебе и позволят там «ход ноги»!..
Надо куда-то себя бросить, как пульку из рогатки. И тут как раз у Настеньки — новая идея: «Поедем в Турцию? Билеты дешевые, вполне! — Ннннну… — Соглашайся-соглашайся, будет фан-фан-фан!»… Ах, мое солнце, моя розовая зайка, ты так веришь в прекрасное «где-то»!
Не могу устоять против фан-фан-фан! Начинаются долгие сборы: «эту маечку взять? — нет, эту»…. Все лучше, чем клик-клик-клик по пустому серому Интернету.
Да и правда ведь, хорошая идея — Турция, национальный заповедник, солнечное затмение! Заманчиво. Пусть не сказка — но разумная перемена. А английское лето — это английское лето. Даже если солнце будет жарить — как-то проскочит незаметно. А уж если дождь зарядит — все только и будут ходить и жалиться: «ужас, а не лето».
Настенька — сейчас вроде — in full power, искрится и сверкает, и Найджел слегка покровительственно, но по правилам — играет свою роль. Он устроил все с организаторами — они с Настенькой будут жить в районе «для диджеев» — и продумал потом, когда нам «все уже надоест» на фестивале — возьмем машину и поедем в поездку по местным красотам. Все складывается замечательно. Надо ловить момент.
Все, покупаю? У меня палец на кнопке «buy». Ну все, жму!
* * *
Мы привычно танцуем среди непривычных холмов за тридевять земель от дома. На языке — горечь, в палатке есть еще пять чистых футболок. Вокруг — холмы.
Первый день шел дождь, все поплыло, главная сцена сломалась… В грязюке мы брели по тропинке на вторую, запасную сцену. Но зажгли потом, зажгли, и погода сдалась — на третий день «по заказу зрителей» — вышло солнышко. Попробовало бы оно не выйти… тысячи народу, вдали от дома, из всех стран — мы б его вручную выкатили!
Настенькин голенький животик соблазнителен. Найджел надменно хрюкает. Но рад — видно, что рад. Вот и славно! Мы — слегка замазюканные чистенькие леди, со слегка покореженными драгз, но здоровыми мозгами. Радость для всех.
А может, мы — клоуны, размалеванные до ушей морщинистые жабы с хлопающими по коленям животами? Кричим детям «А вот и я! А вот и я!» — а дети и рады развлекухе?..
Настенька заглядывает в палатку.
— Это платье? — Нет, это? — Сотри немного мейк-ап. Дай я… Вот, так хорошо.
* * *
Ночью мы танцуем — днем сидим в отеле в расположенном рядом городке и пьем коктейли. Коктейли — почти по той же цене, что кусок пиццы на фестивале. Гады! Своих обирают.
Весь усы, пиджак и улыбка, пожилой турок Керим вкручивает нам, как он невероятно крут. У него бизнес здесь и в Европе. Его хвастовство даже не напрягает. Он в восторге от себя, он накручивает себя, еще немного и вжжж, как ракета, взовьется в космос — сможет с нами танцевать под «Астрикс» без всяких таблеток. А мне плевать, старый смешной дядечка.
В руке бокал, голые ключицы, на джинсах — позавчерашняя грязь. Я — леди-бродяжка, я здесь проездом, мне все внове, и потому — смешно и легко. Я вежлива со всеми, в том числе и с усатыми турками.
Разговор сходит на нет. То ли нам надоело вежливо кивать, то ли он унесся до звездных высот и видит себя в окружении сказочных красоток, а вовсе не нас. Мы делаем все больше пауз в разговоре и, наконец, удираем. Хихикаем: смешной, смешной дядька! И — обратно в палаточный городок, где просторно, и просто, и наши.
Перед палаткой лежу с книжечкой, загораю. Бродят люди — молодые и красивые, полуголые, с поразительными спинами. Усесться за и долго гладить такую шелковую спину… вечером они все, блестя от пота, будут отплясывать, а я пристроюсь за кем-нибудь, подпитаюсь энергией, оторвусь…
Ни вины, ни беды моей нет, что все мы выглядим одинаково, от двадцати до сорока, — загорелые, поджарые, глаза как плошки, медленные улыбки, живот к ребрам прилип…. «Она замечательная, правда?» — «Мне так хорошо!» Обняться — хорошо-хорошо-хорошо.
К полуночи ко мне прилипает сказочный. Как заказывали. Даже если бы хотела — ничего не могу возразить. Глаза, губы, скулы… гордая осанка… Где ж у него изъян? Рука на… О! Ого! Нет, и тут все в порядке. Целуемся, как в пятнадцать… искренне, хорошо. Надо брать! Чтоб и глаза, и губы, и ручки, и не волосатый, и рост… черт!.. Даже на раз такое сокровище мне не должно было достаться! Нас притягивает друг к другу быстро, искренне, без вопросов… Еще и лучше, что его английский — почти как мой турецкий, почти нулевой.
У него из носа немного пахнет, воздух выходит с тонким свистом…
Ох! Подожди, подожди… Пойдем на другую сцену, там — сказка!
Мы стоим, обнявшись, и смотрим на жонглеров. На каждом пальце у танцовщицы — по длинной проволоке со свечкой, руки — как веера с огненными ногтями. Он обнимает меня сзади, нам невероятно хорошо, мы не спешим.
Сейчас все это будет мое.
…Говорю что-то через плечо — и эти пухлые, прекрасные чужие губы ловят мои. Можно поверить, что до того — я не жила, что все это нарисовали только сейчас, что в этот момент — как в ямке на ладошке, — все самое чистое и спонтанное, собралось в одну точку…
Когда — самый прекрасный, единственный момент моей жизни? Сейчас!..
Он мне про ты ангел, а я ему про колледж, он мне про глаза, а я ему про спинку, он мне про мотоцикл и как мы объедем все горы… а у него такая спина и какие горы, чтоб я туда поехала, я ж его не знаю совсем, заскучаю… Кто он? Хитрец? Глупец? Или — чистая душа без задних мыслей, и ему просто хорошо?
Мы идем в палатку, я мажу руки кремом (медленно, томно, чтобы не сломать настроение). Запах косметики забивает запах пота.
— Ты такая романтичная — говорит он. И сквозь языковой барьер пробивается только грубое обожание, грубая похоть. Все красиво, произнесенное такими губами. Все ново, когда вдали от дома.
МДМА вымела у меня из души ложь. Мне все красиво, мне все — нежно. Он ни на чем — мальчик из соседней деревни, только пару банок пива.
Майка. Давно не видела на мужиках майки. Ну, Макс майки носит, так на то он и Макс. Мальчик, а одет, как старичок.
Мобильник, конечно, навороченный — это важно, я знаю, я сама из России. Рядом — мой потертый пластиковый инвалид.
Секс немного хуже, чем поцелуи… губы его я уже успела полюбить. «Ты так приятно пахнешь!»…
Идет пописать. По уму, надо его проводить: темнотища, грязь вокруг, а просто за дверью не пописаешь — палатки плотно. Переворачиваюсь на живот, потягиваюсь… А, будь что будет.
Не найдет путь обратно — так не найдет. Тогда — засну и высплюсь. Надо только не забыть задернуть «дверь» палатки, а то проморожусь.
Надо же, нашел дорогу обратно! «Не спеши, детка, не спеши»… Я тебе не детка, малек!.. Майка… смешная майка. Детка, бейби.
Мальчик, ты знаешь, насколько ты хорош? Или тут это не ценится? Или как раз ценится? Что сказали б про меня твои усатые родственники? Ты с ума сошел, ей же сто лет?! — или — Давай, давай, жми, добейся приглашения, очаруй!.. Сколько иностранных туристок ты снимаешь в год? Показывают ли они тебе всякие штуки — или расслабляются и позволяют тебе работать? Спорим, что ты все думаешь — русский ли у меня паспорт или английский, но не под силу сформулировать, с твоим английским!.. Был ли у тебя соблазн взять «за это» деньги? Хочешь ли ты, чтоб твоя будущая жена была девственницей?
…Вместо этого мы говорим про глаза и звезды…
* * *
А на следующий день опять идет дождь. Мокрые холмы. Все бродят по лужам в сапогах. Перекликаются. Курят. Щурятся на горы. Все копят силы, помаленьку собирается веселье, там, под серой кожей дня — копятся силы на радость.
Пока еще — в палатках, по двое-трое — на маленьких примусах люди варят ночь. Скоро, скоро вынесут ее из палаток.
А мне уже грустновато и не верится. Я тут никого не знаю, кроме Настеньки — и мальчика в белом. Он хочет заехать за мной на мотоцикле и поехать в горы. Я — его ангел. Но мне лень.
Было весело, и совершилось чудо, а потом стало грустно, и все поехало, как петля на чулке. И не танцуется, после такой скачки. И ничего романтичного нет в маленькой деревушке, в усатых родственниках, в работе в гостинице, в иностранных туристках и дискотеках, в майке и в старом мотоцикле, и в попытках выучить английский, и в брошенном колледже… Скоро ему — в армию. А мне — уезжать в серую Англию.
И вот там, в нашем сером городе, в слякоти, после осточертевшей работы — я буду вспоминать… Руки на плечах, ночь и жонглеры, и нельзя ничего сказать, потому что только повернешься и откроешь рот — начинаешь целоваться.
С хитрецом, глупцом, чужаком, охотником за паспортом.
16. ПРОПАВШАЯ КНИЖКА
— Подожди-подожди, открой багажник! — говорю Настеньке.
Настенька улыбается. Открывает. На ней красная кепочка и маечка в вишенках. Найджел — в чем-то походном, но отутюженном. Я — в джинсах. Джинсы спадают с попы. Опять забываю жрать.
У Найджела и Насти — план: покатать меня по горам, помокнуть в синем бассейне — знаменитых источниках, потом — отправив меня домой — на красоте, на природе, — романтически съесть кислоты. Это — не мой драг. Меня не берет.
Они — любят.
Кислоту капнули в мою книжку — Тама Яновиц.
Теперь книжку можно читать — а можно есть.
Капнули — и дали книжку мне обратно — храни.
У них — обширные планы.
Надя в шортиках. Меня трясет колотун.
Я роюсь в сумках. Вытягиваю долгий свитер за рукав.
Рукав тянется. Наконец — свитер весь мой. Что вывалилось — заталкиваю обратно в пакет.
— Тебе холодно? — заглядывает она в глаза.
— Немножко. Да ничего-ничего.
Сейчас согреюсь, мне нужно только как-то устроиться. В свитере, наверное, дыра, надо засупониться.
Нужно не тепло, а чтобы сквозняка не было.
Странно, конечно — жара ведь, а я…
А! Нет, я поняла! Мне надо немного пройтись, пробежаться. Нарастить под свитером теплоту. Как же я не догадалась!.. Сейчас-сейчас.
— Оль, ты сегодня что-нибудь ела? — Настя смотрит на меня, прерывая мои ритуалы и заклинания.
А и действительно ведь — не ела. Все так просто. Кофе — да… Больше — не помню. Да и вообще за эти три дня в моем животе было не много еды! А танцы! А секс!
Чуть не со слезами благодарности сгрызаю банан. Отогреваюсь, постепенно сбрасываю шерстяную шкуру.
* * *
Едем по дороге, вокруг — красивые, лысые, как вытертый ковер, холмы. На них — жалкенькие шелковые маки треплются, как тряпочки. Их много. Я знаю, как быстро они вянут. Но когда так много — они веселенькие.
Заходим в супермаркет, покупаем гору еды для пикника.
Потом дорога петляет. Заезжаем в маленькую деревню. Пыльные пиджаки на углу неподвижно смотрят на нас. Кажется, здесь нет женщин, нет молодых — всюду на улицах — пиджаки, пиджаки.
Долго бродим по заброшенной лавочке, среди краски для волос, ершиков, открыток, записей цымбальной музыки, застекляневших засахаренных сластей, поседевших орешков. Я выбираю сувенир — маленькую, покрытую патиной тарелочку. На ней нет цены.
Турок вертит в руках, от балды говорит: рупь.
Гордо плачу рубль, умиляюсь на нее, кладу в сумку. Достаю, опять умиляюсь. Нечаянная, аляповатая красота — синие цветки поверх чеканки. И ни убавить, ни прибавить.
Заказываем кальян. Дыня. Сидим в креслах, передаем мундштук, щуримся на пустынную дорогу.
Слева посреди странной дощатой стены прибит маленький, с ладонь, коврик. Никто, кроме меня, не видит, как он случаен и красив. Трачу на него десять кадров.
Настенька и Найджел, улыбаясь, курят.
Вы знаете, ребята, я, пожалуй, тут останусь! Приеду сюда жить. С ними же не надо разговаривать. Они задирают — но быстро отстают. Можно просто сидеть и курить шишу. Я буду странником-дервишем-статуей-с-кальяном. Столько тут бесплатной красоты — ходи и подбирай! Коврик. Мальчик в лагере. Тарелочка.
Ну да, они все кричат «Купи!». Но настоящая-то красотища — валяется под ногами.
Настенька с Найджелом шушукаются: «А потом мы поедем… А потом поедем…» — вдруг оборачиваются ко мне (я еще вся в мечтах).
— Оль, где книжка-то? — медленно плывет с дымом.
Доплыло до меня — и упало камнем.
Книжка? Книжка? О-о-о!
…Все осыпается в воронку. Первым утягивается кальян. Затем — коврик. Тарелочка. Пиджаки. Холмы. Небо. Потом — мои мечты, моя жизнь странника-дервиша-статуи-с-кальяном. Остается горькая, пустая воронка:
Я ДАВНО НЕ ВИДЕЛА КНИЖКИ!
Пытаюсь вспомнить — пальцами, руками: магазин — книжка в руках, палец между страниц, как закладка. Почитать мне, видите ли, захотелось!
Потом — книжки — нет! В руках — пустота, — нет ее веса, нет гладкости обложки, нет легкой покоробленности страниц.
Перетряхиваю один за другим мешки и чемоданы — нет.
Я убила, прошла с огнеметом, стерла большой резинкой их рай.
Нет мне прощенья!. Книжка — как дыра в мире — выломали кусок — спокойствия, дружбы… все осыпалось, полмира пошло трещинами, а что осталось — не стоит и спасать!
— Где забыла? Точно в супермаркете? Или в гостинице? Успокойся, успокойся! Сейчас позвоним в гостиницу! Заедем в магазин!..
Прослеживаем назад маршрут. То тут, то там мерцают лампочки — места возможной пропажи… Найджел звонит в гостиницу, со своим оксфордским говором пытается пробиться сквозь турецкий английский.
— Понимаете, очень ценная книжка, она нам очень дорога. Как память. Бабушка, бабушка подарила. Единственная память о старушке!.. Посмотрите, пожалуйста, в номере. Спросите тех, кто убирал. Да, я позвоню завтра.
Настенька уже немного хихикает — версия про бабушку веселит ее. Потом заезжаем в супермаркет — с тем же текстом. Толстая кассирша проверяет под прилавком — нет, сменщица не оставляла.
Одна за другой лампочки гаснут — и гаснет надежда.
Я — убила — все!
— Оля, не переживай!
— Да как же не переживать!
— Ну не переживай! Мы съездим снова в лагерь, там, наверное, кто-то остался, нам продадут.
У нас есть еще немного сиреневой странной МДМА, похожей на измельченные кристаллы. Помаленьку отъедаем от нее. В молчании.
К моменту, когда доезжаем до источника и погружаемся в сине-зеленый теплый, как чай, бассейн с обломками колонн на дне — края черной дыры в мире немного зарастают. Пролом в мире еще зияет, но уже затягивается, он не такой страшный. Они съездят в лагерь, купят… Все будет хорошо.
Настя подплывает, в своем разноцветном купальнике, смотрит на меня аквамариновыми глазами:
— Фан! Да? Ну, плиииз — да!
— Немножко да… Ты не очень сердишься? Ну, ужасно, конечно, сердишься — но простишь?
Вокруг источника продают туристическую белиберду, напитки, еду… Так мило спрашивают, откуда мы. Усатый охранник такой — смешной, надежный. Мальчик, продающий футболки — так трогательно говорит «привет»!
…Как тепло и свободно! Я плыву одна, вокруг маленькие лунки-волны в зеленой воде, по дну — ходит светлая сетка. Из стен льются струйки. Подставляю ногу. Я одна — но весь мир готов подружиться со мной, в любой момент.
Выныриваю. Найджел с Настенькой воркуют за столиком над коктейлями. Кажется — все починилось, заросло, исправилось? Ну, может, не совсем-совсем, но почти?
Они забросят меня в аэропорт и вернутся в лагерь. И будут, будут у них — водопады и леса, водопады и леса, и что они там видят под кислотой, и что она там видит в нем под кислотой — мне не понять, но я верю, что что-то — прекрасное, милое, свое.
Найджел для Настеньки будет — дом и сказка. Ей это нужно. Чтоб кто-то добрый. И все это — еще будет.
Ложусь на спину. Плыву.
17. ПЕРЧАТКИ
— Перчатки-то не посеяла? — спрашивает Макс, проводя ревизию к зиме. — Те Самые Перчатки?
Есть у нас дома одна вещь, которая должна быть для меня самой дорогой. Самой дорогой, нежно лелеемой, бережно хранимой. А и действительно эта вещь — то есть пара вещей — перчатки — хороши. Мягкой кожи, тонкая отделка, все дела. Я их извозюкала, конечно. И прорезала ножницами, не специально. Просто ножницы вместе лежали в сумке. И вообще это уже не перчатки, а какой-то артефакт засаленный. Но вот живут же в ящике, не уползают никуда!
«Перчатки? Какие перчатки? Я говорю — я полюбила другого!» — дразнится Макс.
Типа он Шурик-изобретатель, а я попрыгунья-стрекоза, жена в парике барашком и в сапожках, и глазками хлоп-хлоп. «И представь, этот Якин бросил свою мымру, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры». Только все не так. Где он, этот другой? Ау! Исчез. И не было никогда. А перчатки остались.
Помню, как Сашечка задумчиво мерял мою руку, что казалось мне несуразной интимностью: секс — это одно, а вот фокусы на мне показывать — другое.
Был у него такой конек — умел подбирать обувь и перчатки без примерки.
Пару раз я его встретила в нашем любимом магазине дискаутных дизайнерских шмоток. Он сосредоточенно бродил вдоль ряда с туфельками, выбирая пару для своей любушки, смотря на них и как бы вопрошая — вы подойдете?
Брал сапожок в руки и смотрел внутрь, проводил пальцем по подошве, прикидывал на вес и ставил обратно. Посмотрел на меня мечтательно — и продолжил свое занятие. Потом осветился улыбкой, помахал рукой — снова погрузился: снова пошел по ряду, разговаривая с ботиночками, поражая меня нежной сосредоточенностью.
И уж совсем драгоценной мне казалось ножка любушки, ножка, которая скользнет в любовно выбранный ботиночек… но недолго она в нем проходит — соскользнет ботиночек с ноги, соскользнет, а нога к потолку задерется… Стоп! Не ходи туда, Ольга, не ходи!
А перчатки?.. Да! Перчатки мне достались под Рождество. Сашечка присел на краешек стула, потряс рукой, закурил, открыл портфель:
— Украл в ТК-максе, — сказал гордо.
Ну конечно — они пришлись точно впору. Ну конечно!
— Спасибо!
Мама — красавица и умница, с которой близость чуть ли не до инцеста — мама-красавица была с треском брошена в предрождественском городе. Она что-то там не оценила, прие….сь, ляпнула. И вот, взбешенный, улепетывая в Лондон после ссоры с мамой, он на полчаса бросил свое дымящееся от гнева тельце на стул в привокзальном кафе.
— А что случилось?
От злости Сашечка весь дерганый, трясет рукой, шипит, не попадая в бороздки, как граммофонная игла.
А слов и не надо. Ну, посрались и посрались — и понятно. Если б я со своей мамой хоть раз всерьез попробовала поговорить — мы б тоже посрались.
— Мой поезд! — вскакивает он — и взваливает на плечо потертую папку, тоже спертую в ТК-максе. — Я помчался.
И — мчится, оставив нас всех, немобильных, скучных, ляпающих не то. Мчится к свободе от салатов, и маминых пирожков, и нотаций.
…И три рождественских дня я мысленно начинала поход к брошенной маме с миской русского салата.
— А вы, простите, кто? — посмотрит она на меня. — Я знакомая вашего сына. — А, — скажет она. — Ваш сын — он очень здоровский… — скажу я. — Нет, не здоровский… интересный человек…. черт, слова-то какие дубовые, неуклюжие. Знаете, он — это он. Вы на него не обижайтесь. Ему непросто жить. Он вокруг себя что-то такое конструирует… особенное. Особую зону. Ну и… щепки летят.
И потом мы заговорим на отвлеченные темы. Мало ли кто я и откуда… Мимо проходила. Маме, даже замечательной маме — не надо знать всю правду про сына.
Но я так и не дошла, и так и не сказала, что он интересный, здоровский, и главное, он — это он.
Не сказала и не поболтала с мамой.
А перчатки остались. Вот они — с маленькой дырочкой и немного замазанные, но вполне в сохранности, спят в углу шкафа и дожидаются зимы.
— У тебя же есть перчатки! От любимого-дорогого! Ты их, конечно, бережешь, не посеяла?
— Берегу, не посеяла, но случайно!
— Перчатки, что перчатки? — рассеянно бормочет Макс.
Действительно, если знать все обстоятельства, то что уж тут — перчатки!
Даже Те Самые Перчатки!
18. НОВЫЙ ГОД
Новый год — это такое серое и скучное подбрюшье года, когда вроде бы что-то должно быть — ан нет. Только вся накопленная тяжесть начинает давить, и елка в углу стоит, немым укором, осыпается и желтеет, преждевременно стареет под густой косметикой игрушек и мишуры.
Водка, салат и «Ирония судьбы». Ежегодная прививка ироничности. Мягков — не секси. Брыльска — ну, если причесать… Да они старые!.. Шутишь?! Они (тогда) — моложе тебя (сейчас).
Горошек, картошка, майонез, особая колбаса мортаделла, единственная здесь похожая на вареную колбасу. Не забыть остановить их ДО того, как они построгают листочками. Успеть в броске вырвать батон колбасы, положить на стол, торжественно, тихим голосом, медленно — чтоб не заподозрили маньяка — объяснить: мне куском! — Куско-о-о-м??? — Да, я сама порежу.
А огурцы? Ну, и так понятно. «Здесь вам не там». Чтоб не забывались. Мы же — колбасная эмиграция, а не огуречная — вот и мучайтесь. Не все купишь за деньги. Дождись рынка, когда немцы приедут со своими огурчиками. Тогда и будут тебе огурцы.
…Ох уж этот русский салат, «простая еда» — ничего себе простая, пока все купишь — ноги сотрешь. Не люблю, не люблю — и злюсь.
Зачем салат? Чтоб напомнить — мы русские? Кому напомнить? Перед кем напомнить? Да просто вкусный салат, ничего не надо напоминать. Просто вкусный? Ах, вот оно что? Просто вкусный, не надо напоминать, понятно.
И смотреть «Иронию судьбы», потому что так принято? Как им сначала не везло, потом прорыв, а потом все-таки повезло? Сначала были лузерами, а потом напряглись (и повезло) и — в дамки?!
«Брыльска… Я не сказал бы ей нет. Не сейчас, а тогда…» — «Что ты на меня смотришь? Я таких, как Мягков, на парти не встречаю». — «Ну, это понятно! Приличный человек!» — «Знаешь, куда все эти ваши приличные? Вот-вот»…
Если б у меня на диване оказался незнакомый пьяный мужик — я не стала б его метлой. Я бы ходила вокруг и делала маленькие шумы. Пока не проснется. И он не оказался бы Мягковым. Башибузуком он бы оказался, вот что.
Не надо бояться прорывов, пьяных слез, не надо бояться мордой в салат. Не надо бояться такого платья, как у нее, не надо бояться пиджака, как у него. Не надо бояться, и не надо стесняться… Местные обо всем этом просто не знают, этого для них не существует, для них это — пустое место.
«Да они моложе тебя!.. Тогда были моложе».
* * *
Нет, мне не потянуть этот город, мне не потянуть эти салаты, мне не потянуть — пустоту улиц и пустые магазины! Мне не потянуть — молчащий, замолкающий после строгого СМС мобильник… Но ведь я и не должна это все тянуть? Достаточно только купить билет. Достаточно — удрать, увернуться от умывальников начальника, и — по английской Садовой, по лондонской Тверской.
* * *
Я наготовила салат, вот вам — ведро.
А сама — еду в Лондон, потому что здесь уже — ничего уже не исправишь.
Еду — и стараюсь ни о чем не думать, приготовиться к радости.
СМСю, тычу палочкой подружку: есть новогодний спирит или нет? Вроде есть — от одного ее голоса уже радостно.
Может, и встречу кого на парти. Я не то что надеюсь, не то что расчитываю (хотя у меня и ручки болят, нецелованы, у меня и попка болит, у меня и животик болит, у меня и язычок болит) — но — нет, ничего делать не буду, и планировать не буду, и мечтать… Мы же не те, кто планирует, рассчитывает, заманивает. Нет.
Но все может случайно — завариться, притянуться, случиться — само по себе. Случайно, нежданно… Просто от общего восторга. А вы тут кушайте ваши салаты — и не надейтесь на большее.
Вот и еду, еду, за окном — лысые поля, белые домики. Все в предвкушении Нового года, который просыпется, как мишура с неба.
Настенька лежит на спине посреди комнаты, балкон открыт, белые подушки на полу и белый диван в углу. Под потолком кружится музыка. Лапки у Настеньки подогнуты. Длинный Томас машет мне вялой рукой — тот самый Томас, которого видно отовсюду, как Эйфелеву башню.
Новогодний спирит, как я вижу, уже вовсю. Я ложусь рядом. Хорошо. Но тревожно. Радужные волны начинают бродить во мне, но потом взрываются пузырями. Я приподнимаюсь на локте.
— Настенька, моя вечная сказка, сладкая мушиная бумага!!! Нет никого слаще тебя! Но — слушай меня, я скажу что-то неважное! — только тогда сказка настоящая — когда можно — выбежать и забежать обратно! Да-да, у меня есть — другой домик, куда нужно забежать! Я поеду к французским девочкам, они меня зовут и ждут, я их любимая мягкая игрушка! Они на меня не нарадуются — уж не знаю, за что полюбили, но полюбили же! У главной французской девочки улыбка как у Чеширского кота! А мышка Марин? Ох, они все славные! Славные, нездешние, юные! А потом, обласканная и обцелованная, я приеду к вам — и еще их приведу!
Настенька машет лапкой:
— Давай. Потом встретимся.
* * *
Новый бойфренд Марин, нервный португалец, по тощим мускулам пробегают искры, кудри вздрагивают, как пчелиный рой.
— Идите-идите! Вы хотите на прогрессиииивный транс. Девочки же любят прогрессииииивный! — кричит он.
Какое-то неприятное, взвинченное безумие. И тарелки хлопают. Люди сталкиваются на лестнице, не видя друг друга, не здороваясь. Французские девочки летают кругами, меняют платья, наливают вино, меняют бокалы, режут и не дорезают колбасу, раскладывают и собирают еду. Кто-то сильно взрослый и тоже, очевидно, примазавшийся ко француженкам, — сидит на софе, посредине развала и раздрая, кружения и жужжания, и с терпением, показывающим опытного фестивального ветерана, пьет чай (держа чашечку в мощных татуированных ручищах) и что-то грузит некрасивой и тоже «примазавшейся» английской девочке с серьгами-рожками в ушах. Они тут так же не к селу, как я — и мне становится грустно на них смотреть. Нервно жужжащий рой. Кокаин. Я не вплетаюсь в этот рой, сижу в сторонке, чужая. Они — зимние, тревожные, не летние.
Все другое, я не попадаю в такт — то ли просто время прошло, то ли в нашем сером городе, вдали от Лондона — сбилась. Как славно было летом!.. На какой камешек наступить, чтобы стало радостно и просто? Я не знаю. А там, тогда, под деревом? Нууу… там мы уж все опростились до безобразия. Там я камешек отыскала. Снова ждать, пока все станет легко? Нет.
Я ни на кого не сержусь, ночь только начинается… Мне надо просто подкопить… энергии, что ли, и легкости… Стряхнуть, отступить на шаг и начать снова… Я еду, еду обратно к Настеньке, еду на парти — ready or not. Вы думаете, мне некуда податься? Да мне под каждым листком!.. Я уже готова. И дорожку на дорожку.
…И за секунду до моего ухода все снова становятся веселы, дружелюбны, направлены на меня, дергают, теребят, тетешкают — OlgA est jolie! OlgA, OlgA! — но я уже нацелена убегать.
* * *
В метро толпы поляков, пьют, не скрываясь, водку, кричат. Я морщусь. Против ветра пробираюсь в мрачном районе складов. Где-то здесь, в одном из мрачных кирпичных ангаров — мега-супер-парти, и Настенька с Томасом уже там…
Но как страшно и мрачно небо, как черны эти склады! Я не верю, что будет что-то, что что-то получится — с таким несчастливым началом… Все тревожно и никогда уже не станет спокойно, матово. Для спокойствия нет материала — все порвалось, износилось. Неужели вы не поняли??? Порвалось, износилось. Давно.
— Вы уверены, что правильно идете? А может — другая будет лучше? Кто все эти люди, все эти поляки с запавшими глазами, рубашками навыпуск, банками пива в руке? Где же все наши, где же все кричи? Как страшно хлопает полог над головой! Посмотри, какая толпа — это же пол-Лондона, мы никогда не попадем внутрь, а если попадем — зачем нам эти, с дырами вместо глаз, Настенька? Какая ж это будет парти — нас загонят в этот сарай, и будет ужасный шум, грохот — как давно не было хорошей музыки — и как мы встретим Новый год, так и проведем — это будет не год, а черная дыра, если мы… С дыроглазами?
Настенька обнимает меня и гладит:
— Я понимаю. Damn bats.
— Настя, посмотри, какая толпа, посмотри, какой народ…
— Придет серенький волчок и ухватит за бочок… После кокса косячок, а пока стоим — молчок.
— Ужасная, ужасная очередь! Тут что, собрались все люди на земле, которые не верят в Деда Мороза?
— Ольга забавная. Ольга разговаривает смешно!
— Зато чувствую себя — ничего смешного. Настенька, помнишь, когда мы входили — и проходили прямо к кричам, и они нам улыбались? И какая была музыка?!
— И сейчас так будет!
— Никогда, никогда уже так не будет! Мы никому не нужны! Я, я — никому не нужна. Все это пустое!
Длинный Томас, почуяв мою панику, не переставая светить улыбкой, начинает творить чудо: он разделяет волны и ведет свой народ. Вот он нашел знакомых на полпути. Вот — почти у входа… но чем ближе к входу — тем черная пленка от дождя хлопает громче, и я больше маньячу… Люди знакомятся прямо в толпе, а нас — никто не любит. Томас ныряет в толпу последний раз, таща нас, как воздушный змей на хвосте тащит цветные тряпочки. И вот — мы у входа. Наконец — штамп на запястье… Мы стоим, потерянные, посреди склада. У меня стучат зубы. Холодно. Космос под крышей. Огни. Светятся костры — сцен. Слоняются тысячи теней. Тысячи надежд. И ни одна не сбудется. Или сбудется — не так.
Настенька клонится, как лютик. Ей надоело со мной возиться. Надоело выдавать мне ключик и пропускать меня в сказку. Она ловит усиками запах: карамора в малахае испускает правильные импульсы. Они — на одной волне. Настя подскакивает к нему, и они начинают тереться носами. Шу-шу-шу — светлая радужная аура Настеньки напрыгивает на большую ауру караморы — и отскакивает. Он отвечает, машет руками — по-своему, по-караморски. Вот она и нашла свою сказку. Она — выживет в ночи, она — нашла огонек. А я?
— Вы очень нравитесь моей подруге, — Настенька сводит коленочки вместе, переминается, в черных сапожках. Мальчик с глазками падает на нее, он думает, что это она сама машет ему, а не послом от меня. Но ему подставляют меня, и он с теплой улыбкой благодарно повисает уж ладно на мне. Красивые руки. Музыкальные. Красивые глазки без тени мысли.
— Играешь на чем нибудь?
— Что тебе, детка?
— Играешь на чем-нибудь, говорю?
— Не понимаю. Я просто хочу немного повеселиться.
— Это-то понятно! Ты откуда?
— Я из Израиля. Я просто хочу немного повеселиться… Ты что, бывшая модель, что ли, детка — такое тело… — Он проводит рукой мне по животу. — You are so fit.
— У тебя — красивые руки. Ты музыкант?
— А, нет, никогда не играл. Я просто хочу немного повеселиться. Пойдем куда-нибудь, тут есть уголочек.
Уголочек есть, по лестницам и коридорам наверняка есть куча комнат. Но что там в них, что… туалеты затоплены, девочки с крылышками и девочки в мохнатых сапогах пробираются по морю разливанному. Скорее! Мне нужен ключ. Ключ — и мы поедем в эмпиреи, с мальчиком, и может, у нас будет еще пара белых таблеток и белый порошок — и мы будет трогать друг друга и резвиться, между Настенькиных шелковых простыней… Я не слишком тороплю события? Я не слишком выгляжу несытой хищницей, волчицей в течке?.. Нет, это только выглядит так… Все еще можно повернуть. Нажать, а потом — повернуть. Где же, где эта чертова Настенька?
— Подожди здесь, — говорю я мальчику. — Подожди, я на секундочку.
Я поднимаюсь, восхожу через все этажи — в кружении комнат — в эмпиреи. Люди еще веселы, но слабеют. Все уже разбрелись, кто где, шушукаются или молчат со своими. Вот и Настенька! Она тоже вянет и никнет, и медленно перебрасывает большой радужный шар — уже с другим, странным, но безобидным. Почему у нее всегда — странные, но безобидные? Умеет выбирать.
— Настенька, дай ключ… — Шарик летит… — Сейчас… — Настенька… Ключ… — Сейчас доиграем! — Настенька, дай ключ!
Мой мальчик проходит мимо, с фосфоресцентным цветком на щеке. У него тонкий пушок на щеках и красивый изгиб губ. Глаза — засвечены изнутри. Он просто хочет иметь фан. Надо же — как-то встал, добрался до этого высокого этажа… Искал меня? Или сбежал от меня? Я еще думаю, что — искал.
— Сейчас! — Я посылаю ему улыбку… — Настенька, ключ! — и с ключом оборачиваюсь к месту, где он только что был.
Там толпятся веселые лица, а его — нет. Нет? Совсем нет!
Я прохожу по всем залам и не вижу мальчика. Нет красивых глазок без признака мысли, нет цветка на щеке. Ничего нет. Только упертый или вялый народ. От них уже вайбз не больше, чем от спитого пакетика чаю. Брожу по этажам бесконечно. По новой и по новой вглядываюсь в живописные группы в углах. Без толку! Пропал! А значит — он и не искал меня! Не искал, а просто — очнулся и побрел… Мы едем домой на поезде, я, Настя и кто-то. Я еду — поджав губы: вы веселитесь, а я! А я!.. Не Новый год, а — новая дыра во времени. …Тонкие ручки, пухлые губы, ресницы. Broken English. Был-был — и пропал. Не честно! В последний момент! Не правильно!..Уж лучше бы… Уж лучше бы его совсем не было! А все Настенька со своим «фан!» Все Настенька со своими идеями!..
Она меня обнимает:
— Все хорошо?
— Нормально! — гавкаю я. В молчании прибываем домой. Это вместо обычных ласковых слов и веселых «а ты видела?»…
Она ставит передо мной чай:
— Все хорошо?
— Нормально! — подвигаю я к себе чашку. — Я мыться пошла.
Скривившись в душе, трогаю себя между ног. А там — то ли утянет как в черную дыру, то ли откусит пальцы по локоть. Адская, зверская голодуха! Кусочек, который пронесли мимо носа — и кто — лучшая подруга! Даже не дрочится, — только потрепать зря эту красную тряпочку, чтоб хоть болью заглушить голод.
…Да нет, все было не о том, надежды же были — радужны, размыты. И вдруг — так больно, оскорбительно — все стянулось в точку.
Все подтвердилось: больше никогда. Порвалось, износилось.
Выхожу из ванной, в Настином халатике. Мы как сестрички-близнецы, только она смотрит глазками направо и налево, а я вся злобная и скукоженная.
— Еще чайку?
Все, не могу больше! Чайком не залечишь!
— Ну и зачем ты мне это устроила? Зачем ты мне притащила этот подарочек? Я б ни за что его не выбрала — он с самого начала уже падал! И если уж что-то — он запал на тебя!
За окном — крыши дорогих гостиниц. На балконе курит официант. Он смотрит в наши окна. Мы смотрим на него.
— Почему ты не уследила? Почему вовремя не дала ключ? Ты знаешь, что у меня и так все время внутри болит? Ты-то изображаешь заиньку, а каждый мужик просто тебя хочет завалить… ты играешь с ними — ах ты заинька, ах ты серенький — а ты не заинька и не серенький, просто здоровая баба с сиськами, и тебя хотят трахнуть! А я всегда на стороне мужиков! Всегда! Знаешь выражение — синие яйца? Вот до чего ты доводишь их — до синих яиц. Тьфу! Тут все вежливые, иностранцы, никто прямо не скажет! Ты и пользуешься… Ну, что глазками хлопаешь?
И колеса чемодана косо переезжают через порог. Мой поезд — еще через три часа, но ничего — посижу на вокзале… Потому что не могу, не могу уже! Кривляка, попрыгунья, предательница! Все выдумывает, выдумывает, напускает туман… А все просто! Просто и грубо!.. Зубами — выдернуть чеку — и бум! — белый дом на Мейфеа оседает в медленном облаке. Официант насмотрелся на нас, докурил и ушел.
19. ЛАМПОЧКА
Я сижу на черной постели, низкой, продавленной, аккуратно застеленной, смотрю, как Сашечка челноком бегает по скучной комнате… Куча ненужного времени, как грязного белья, растет с каждым нашим шагом. Что делать в комнате, только если не скрутить ее в узел, не бросить в машину, не нажать кнопку «секс»?
— Что-то мне… — Он останавливается, мнет шею.
— Что-то я…. — Он останавливается, смотрит в окно…
Да и мне тоже как-то… Может, и вовсе зря пришла. Но мы знаем, как все сделать простым. Скажи «хочу!». И мы в тысячный раз поймем: а другого-то ответа — нет!!!!
* * *
Еще один бокал вина сначала содрал кору с горла, потом прокатился по пищеводу теплым шаром. Сашечка повел плечами, расправил спинку… Тут бы ему и прищурить глаз да и скомандовать — он уже открывает рот — но раздается сип домофона.
Звонок в домофон, — мум-бул-бус-бул — входит лысый с рыжими бровями человек.
Он смотрит на лампочку и произносит речь. Что-то починить надо, но деталей нет, сменщик уехал, и вообще лето. Здешние работяги горазды лепить откорячки.
Сашечка надевает взрослый голос:
— Не дай бог вы подумаете, что я — какой-нибудь пацан желторотый, студент. Не дай бог, я — мужик, как ты. Ха! Видел я этих студентов! …Мы с тобой договоримся, да, мужик? — Сует ему в карман русские сигареты.
Что делает его похожим на циркового уродца, на старого карлика ростом с ребенка: какой же Сашечка мужик, он — тощий пацан, слегка обугленный по краям из-за излишеств, но излишествам всего лет пять, а до того была работа до упора. И сейчас — до упора. Между излишествами.
Я пересчитала все пальцы на ногах, пересчитала все пальцы на руках… Каждую минуту от моей головы отпадает и отползает вбок мысль: «надо уйти»… «вот сейчас самое время»… «да что же я за ним гоняюсь… и главное — без толку гоняюсь! Вот что обидно!».
— Пойду я, пожалуй, — говорю я, ерзая.
Сколько можно сидеть в приемной с прошением: «Я, нижеподписавшаяся, поелику и засим, жажду пригубить, прикоснуться, потрогать, хочу тебя в себя, …что хоть вешайся».
— Ну, тАк ты, конечно, не уйдешь, — говорит Сашечка — и уходит опять выпендриваться перед работягой.
* * *
И наконец Сашечка втанцовывает в комнату. Работяга ушел, очарован.
Он смотрит на все эти каменные мысли, отвалившиеся от моей головы и загромоздившие комнату. Спокойно пьет. Его это все не стесняет. Нормально, что гоняюсь… нормально, что хочу.
Он расстегивает штаны. Правильно ждали. Сейчас получите. Лапкой и языком. Я плоским крабом ползаю по дну, задеваю брюхом камешки… Я забираюсь на пальму, ветер раскачивает вершину, солнце жарит, у меня перед глазами цветные полосы, и с земли далекий неорганический бесстрастный голос: выше, левее, вот так. Я предлагаю нестандартный маршрут, и мой спутник полностью мне доверяет. Тропинка петляет под моими ногами, ежась от удовольствия… под горку, под горку… и складочки, складочки. Я ж с ума сойду от этих складочек, они мне по ночам сниться будут. Ты можешь положить ногу мне на шею? Как солнечный зайчик, вспыхивая на шкафу, на умывальнике, на люстре — к нам движется оргазм.
Видишь — все стало по-другому! Слишком долго мы сюда шли. Петляли, петляли… А нам же надо было именно сюда!
Город теплый. Ненужные слова улетели в небеса и там рассеялись. Лампочки починились или — ну их на фиг. Деньги устаканились. Девки перестали выпендриваться. Ниточка между бровей исчезла. Все хорошо. Твое удовольствие — мое счастье. Или развлечение. Охота пуще неволи. Охота сегодня — дороже любого завтра, сколько его там ни есть. Сегодня трахнулись — а завтра хоть сто лет без этого. Вот такая охота!
Именно сюда мы и шли так долго.
20. ЧЕРНЫЙ АЛЕКС
Мы гуляем с Черным Алексом по городу ночью. Я вожу его по любимому месту в городе — маленькой пристани. Его черепашья голова покачивается в такт неслышной музыке.
— Бейби-детка, ты просто праздник. Я счастливейший человек на земле! Хожу по такому красивому месту, с такой красивой девушкой. — Стекла его очков блестят, он лукаво поглядывает на меня и вжимает голову в плечи.
— Тихо! Послушай, как тихо!
В корабликах за зашторенными окнами живут люди. Мое любимое место, а он здесь не был. Он вообще не знает город. Он немного странный. Но он не портит это место — не шумит.
Мы с ним познакомились в «Роге быка». Я искала сумку и крутилась, как бешеная собака, ловящая свой хвост. Никто здоровый, увидев меня в таком состоянии, и на пушечный выстрел бы не подошел второй раз, а он — подошел. Люблю его — за легкость, готовность всегда выскочить в клуб, за эти его «бейби, ты знаешь, что я тебя хочу»! Хорошо быть негром. Даже таким почти пожилым негром, как Черный Алекс. Вы мне скажете, Черный Алекс — неполиткорректно? Ээээ! Сначала поцелуйтесь с негром ночь напролет — а потом мне говорите про политкорректность! Он черного цвета, а зовут его Алекс. Так вот, чтоб не путать с Белым Алексом — Сашечкой…
Некоторые кораблики стоят пустые и даже надолго покинутые. Я тоже хочу однажды хоть недельку пожить в таком странном доме. Тихо плыть вниз по речке. Выходить из кораблика, в дождевике, и возиться со шлюзами, а потом плыть дальше, по узким каналам, между кустов и тонких тропинок с велосипедистами и широких пастбищ с коровами. Ведь даже вот тот, с мусором наверху и пустыми ведрами — его же можно починить — или хотя бы договориться с хозяином и иногда там жить… Плавучий домик.
Гуси спят. Днем они гуляют по парапету, и каждому мается их сфотографировать или подразнить.
— Поехали ко мне? — говорит он. — Поехали, наконец, ко мне! У меня тоже не шумно. У меня есть тихая музыка. Я же давно тебя зову! Почему б нам сегодня не послушать музыку у меня? У меня тоже тихо!..
От него исходит ровный жар, эта трясучка, которую я так хорошо знаю. Течка. Гон. Он — такой же, как я. Слов не надо, если есть — жар. Это напоминает упражнения из учебника: я хочу секса, ты хочешь секса, я тебя хочу — и я не прочь, ну так что же? — да не сейчас!.. ну же, детка! Не кобенься. Я не кобенюсь, но и не хочу давить, и чтоб на меня давили. Хотим и хотим, ходим и ходим. Как-нибудь попробуем. Это не уйдет. Я ведь — такая же, как ты… Но сегодня так тихо… Так хорошо… Вода обнимает островки рукавами. Огоньки чертят зигзаги в воде. Вот дедушка вышел почистить кораблик, собачка от проходящей пары рванулась к нему. Он поставил швабру, наклонился…
…Ну, хорошо, хорошо, поехали, поехали к тебе! Нипочему, просто так, я так решила!
Скажу твоему черному зверю «да» — и скажу моему черному зверю «да». Я умываю руки, я ни за что не отвечаю, пусть эти черные звери теперь — договариваются между собой!..
…Разодранная с одного бока софа, из которой, как из плюшевого медвежонка, лезет начинка. Покрывало цвета полинявшего после зимы ежика, украшают жилище. Бутылка дешевого вина на столе. Первую минуту в чужом доме всегда интересно. Потом начинаешь замечать грустные детали. Потом натыкаешься на чужое тело, тебя находят губы — и дом пропадает, только тело и жажда — и все.
— Бейби, почему б тебе не пойти на кухню и не найти там стакан для вина? — «вина» он произносит гордо. Это ужасное дешевое пойло дерет горло, но я пью его и пью — жажда, только сейчас я поняла, как мне хотелось пить… Я вытираю рот от красного и оборачиваюсь к нему…
Он лежит на матрасе, раскинув ноги. За эти часы он взял меня и выпил. Мне хорошо, как съеденному хлебу, но я не чувствую благодарности. Я достигла destination. Хлеб — для того, чтоб его съели, вино — для того, чтоб выпили. Я — для того, чтобы… Я не чувствую благодарности. Так было нужно.
— Ну не самый ли я счастливый человек на земле? Лежу, пью вино и принимаю в своей квартире такую красивую девушку?! — Я киваю, пью вино, улыбаюсь — но все это над, над туманом. Главное случилось, слова тут не нужны. Просто впервые вместо черной дыры — сытость.
Потом, голый, прячась за дверью, идет провожать, когда такси сигналит на улице. Таксист встревоженно озирается, уловив мое распаренное тепло.
— Вам куда?
— В центр.
— Хорошо отдохнули?
— О да!
Пять часов утра. Усталость. Веселое, птичье утро. Идут по улице одинокие, закрытые или искательные прохожие… Вы заметили? Все или закрыты, или искательны… Но не я. Я — не проект, не загадка, не вопрос. Я случилась.
Я — парное блюдо, и таксист несет меня, как официант — дымящуюся баранину. Сижу в углу машины, как маленький собственный пимп, и дергаю эту дымящуюся куклу за ниточки: да… нет… нравится… ха-ха-ха. Я вежлива и распарена. Таксист пьян. Даже если б я говорила: «косинус, география, Линкольн» — он бы отвечал: да… нет… ха-ха-ха.
Таксист пьян мной, ночь пьяна движением такси, мир пьян мясом…
Так и должно быть.
21. СИГАРЕТА
— Подержи, — Сашечка передает мне сигарету.
Я кладу ее на пластиковую обертку огоньком.
— Ну когда ты научишься?!!
Сашечка нежно — к сигарете нежно, а не ко мне, — передвигает окурочек.
— Что ты мне вчера написала — круто. В точку!
Вчера он вызвал меня поздно — в два часа. Зевая и чувствуя, как подушка гудит, притягивая мою голову, я сочинила: «your local friendly slut’s working hours — 11 pm to 1 am. Еnjoy our services». И нажала «послать» — и тут же пожалела: немного слишком сильно!
Просек, значит. Хорошо.
— Я как раз пил с Колей — и прямо заржал. В точку!
Он всегда аккуратно подчеркивает, с кем он был, с кем он пил и какая девочка — «его» на данный момент. Это вроде бюллетеня о здоровье короля, который любой из подданных знает наизусть.
Вдохнули по линии. Я, как водится, неряшливо, белая пыль веером раздулась по крышке.
— Когда же ты научишься?!!
Наверное, я никогда не научусь, наверное — вещи всегда будут от меня разлетаться, разбегаться… А люди — или прилипать намертво, или оставаться необъясненными. Или — и то и другое… Но тебе-то что. Ты живешь на другой скорости. В другой зоне ясности. Ты знаешь правила, а не рвешь все сослепу.
Благослови тебя бог.
22. СКАМЕЕЧКА (LUST)
Мы с Черным Алексом выходим из «Зева демона» и берем такси. Мы легкие и какие-то ватные, распаренные, наши тела — однородная субстанция, колени скручиваются в спираль и распрямляются, скручиваются и распрямляются.
Мы разговариваем — не звери же!
— Ты видел ту девушку в белом?
— Ты видел девушку в зеленом?
— Она милая.
— Она славная.
— Она замечательная.
Он смотрит на меня, как веселый охотник с сетью — заходи справа, заходи слева.
Мне хочется сказать:
— Алекс, прими более человеческое обличие! — Я сажаю его в такси, надеясь, что таксист не заметил, что у Алекса три руки, три ноги и четыре черных зверька между ног.
Высаживаемся из такси и идем по кромке поля, и поле колышется, как под музыку. Трава прислушивается то к чему-то справа, то к чему-то слева.
Я раскрываю руки и показываю: поле широоокое. — Он сводит руки: а посреди поля — скамееечка. Маахонькая. А на скамеечке — можно потрахаться.
Я развожу руки: поле большоое. Я бы в нем потрахалась, с травой туда и сюда, но — мокро. И скамеечки никакой быть не должно.
А он становится доброй бабушкой с пирогами и улыбается от уха до уха:
— Ну должна быть скамеечка, должна быть!
И мы бредем по колено в траве, и — оп-па — там есть маленькая скамеечка! И столичек, в сопливых потеках от дождя. Он встает на колешки и вжаривает мне. Мы укрыты черными плащами и составляем зверя о двух плащах.
— Хорошо. Огоньки, — говорю я, выглядывая из-под плаща, как из домика.
— Хорошо. Мне нравится твоя …дырка-киска.
— Как ты можешь говорить так — дырка-киска!
— А что мне говорить — я ее чувствую. Уверяю — ей тоже нравится.
— Поехали лучше домой.
Мы отлипаем друг от друга и идем по краю поля, и бредем, в плащах, как живые палатки, с отдельным светом.
23. ОПЯТЬ ЛОНДОН, ВЕСНА
Мы гуляем по Мейфеа. Дети на прогулке. Тридцати-сорокалетние птички божьи — в окружении Домов для Людей с Большими Деньгами.
Мы деньги не зарабатываем и не просим. Случайно ладошку подставили — и поймали. Завтра — могут кончиться. Так веселей. Так и живем.
Настенька идет с Черным Алексом. Они обсуждают Сашечку — то есть меня… то есть Сашечку. Она добрая. Она простила мне Новый год. К тому же Нового года больше не будет.
Уж, кажется, моя страдающая душа теперь залеплена всеми пластырями: теперь есть еще и Черный Алекс.
Я горда, что забила на Сашечку, у меня своя жизнь — вон, приехала на парти с Черным Алексом. Он хорошо танцует, веселый, не толстый — и трахается как машина. Всех обаял. Настеньку тоже — хватает ее за попу, а она смеется.
Настенька и Черный Алекс распускают сироп:
— Она музыканта так лююююбит. Но скрывает это. Циника играет. А сама!..
Дети!
* * *
В клубе Черный Алекс вытягивает голову, трясет шеей, посматривает на Настю, как опьяневшая от похоти черепаха.
— Вот смотри, — показывает он на роящийся клубный народ. — Ведь нет тут ни одного, кто не хотел бы ей вставить. Смотри, как она ходит — чувствует. Летает просто!
Тут раздается звонок, он отходит и с кем-то говорит по-ненашему.
Возвращается и шепчет:
— Моя бывшая жена. Позвонил ей на всякий случай. Вдруг ты мне не дашь, что же, буду ходить между двух красивых баб — а мне и вжарить некому?
Такая честность на грани убийства. Прекрасно! Кажется, я наконец — получила по заслугам.
* * *
Но под утро, успокоившийся, получивший (хотя бы) меня, Черный Алекс вылезает из постели (из Настенькиных шелковых простыней, которые мы перекрутили в узел) и трясет шеей, и блестит очками:
— А вот приедем обратно — Сашечка вечером позвонит — и пойдешь!
— Вечером позвонит — и пойду!
— И друзей позовет — ты и сдрузьями?
— Друзей позовет — и с друзьями!
— Ты — его битч.
— В точку! Я — его битч.
— Он тебя использует!
— Верно! Он — меня использует!
Я — «его» (Сашечкина) битч — и еще и ниггерская битч. Ты наших легенд не знаешь, так молчи!
Черный Алекс, распаренный, лежит в постели, зовет обратно. Голый. И торчит. Черный.
— Давай, давай, иди сюда, не отлынивай! — манит он.
— Опять?
* * *
На следующее утро — выходим из клуба — земля растворяется под нашими ногами. Гораздо проще летать, чем ходить. Деревья цвета вереска, вокруг них обвивается лента заката. Шелковая лента, почти слышу ее шорох. Зрачки растоплены. Мы перетекаем друг в друга, но все-таки помним, кто с кем… Секс и укутаться. И укутаться и секс. Чем больше мы хотим секса — тем дольше растягиваем прогулку. Идем через лондонские парки, усталые, медлительные, внимательные ко всему… Ко всему, что странно, воздушно, растянуто… Как мы.
Навстречу нам бегут физкультурники — белые маечки и трусы, трусят сосредоточенно, бегут для здоровья и еще в борьбе за что-то. Физкультурники довольно жирненькие и смешные. Мы — поджарые, веселые и вечные. Для них — это начала дня, для нас — конец ночи. Мы беремся за руки — вызов дурацкой борьбе за здоровый образ жизни.
— Как вы сохраняете такую красоту, молодость и жизнелюбие? — спрашиваю я Настеньку тоном назойливого журналиста.
— Да, знаете ли… Танцы до утра, наркотики и секс, — скромно говорит она своим лучшим тоном дивы, кутаясь в шарфик.
(Ах, я не знаю еще, не знаю, КАК мы подрываем здоровье! Я не знаю еще всей изнанки, я не знаю предательства, я не знаю, что черное — может быть черным!.. Я не знаю, как меня вычеркнули не только из «физкультурников», но и из «клубящихся»! Пока еще — мы просто шалим.)
Потом она мне шепчет: «Ты знаешь, пока ты спала, Алекс держал твою голову на коленях. Сторожил, баюкал. Он — замечательный!» — Она рада за меня, что я нашла себе кого-то. И, конечно, он должен быть «замечательный»!
24. КУЛЕЧЕК
Снова началась рутина — папки, компьютер, фальшивые улыбки, стеллажи. Снова — офис — и надежды на звонок и скука, или — все тело болит и крутит после бессонной ночи. И никому не говори, не жалуйся — сама на себя все навлекаешь. …Но надо, надо все это упаковать — в нормальный офисный день, не выбиться, не сбиться.
Босс притащил на работу ребенка. Тонкий, седой, с мелкими чертами лица, с таким же мягким, бабьим выражением лица, как у Пола Маккартни. Пол трогает маленький сопливый кулечек — свою донюшку — смотрит на нас с радостью новообращенного наркомана, который открыл, что апельсин — оранжевый, а узоры на ковре смешно шевелятся, а все мы — вечные и не умрем.
Это — его первый ребенок. Родилась в день, когда ему исполнилось пятьдесят. Не первый раз ее вижу. До того — каждый день — у Пола на скринсейвере. Зоя, дочка, нежное солнышко.
Рядом с коляской стоит жена, Варечка. Варечке под сорок, чуть старше меня. Пол у нее второй муж. Зоя — второй ребенок. Варечка бодра. Для сохранения сил, небось, прыгает через скакалку и обливается, как ее бабушка в 1920 году. А мы тут, дуры: амфетамины, химия…
Пол наконец насмотрелся, укладывает тючок в колясочку, подталкивает Варечку — «ну, идите уж». И взор его гаснет. Мягкость уходит. Остается железная решимость… Я опять ухожу биться головой о железные стеллажи. Я — мелкая сошка, мелкая, развратная, не спящая ночами сошка, и за свои копейки я должна быть предана фирме, толкать колесики, нажимать кнопочки, видимо не скучать, улыбаться… А конечный продукт фирмы, после всех налогов на чувства — это колясочка для Зои.
…Дети — радость, дети — счастье… Какие-то другие дети? Дети от неизвестных пап и мам, не от Сашечки?.. Странно, что люди еще соглашаются их рожать.
Им все равно, отчего я не сплю ночами. Бессонница, вечеринки, любовники. Им все равно. Это мое дело. Никому не говори, не жалуйся — сама хотела. Колесики должны крутиться. Тик-тик.
* * *
…Нежная моя Настенька, мякнущая, теряющая там, в Лондоне, сначала гласные, потом согласные, покрывающаяся галькой — как тогда, в Турции, галька лежала на ее животике, на море! — нежная моя подруга звонит и говорит:
— Оля, неужели ты — никогда?! Подумай! Ведь так было бы славно! Почему бы тебе не завести ребенка. Неужели ты никогда не заведешь ребенка. Подумай, как было бы прекрасно!
Прелестная картинка — мы, с ворохами свежих кружев, под осенними деревьями, слегка закинутые, но чуть-чуть, чтоб только листья кружились веселее, и наши хиппарские (но купающиеся во всем необходимом) дети кружатся вокруг. У твоего такие же губы «чупочка, чапочка», внимательные бровки, маленькие ручки, моя девочка — черноглазая, и ресницы смялись, и глазки умные… Где-то я видела такие глазки.
— Нет. И ты — не думай! У тебя же порушится весь лайф-стайл! Ты с ума сошла! Мечтать — мечтай, но… ты же не всерьез?
— А ты?.. Подуумай!
Я подумаю. Почему бы не подумать? Посмотри на Макса в магазине, как он каменеет, когда дорогу ему подрезает какой-нибудь беспечный карапуз! Для Макса дети — летающие головешки, ракеты, издающие непрерывный вой.
— Ну, это он просто пугает! А вот увидит своего!..
— Хорошо, — не спорю. — Конечно-конечно! Когда-нибудь!.. Только пока ничего не делай!
Как будто я могу среди ночи, хлопнув дверью, побежать в ночной магазин — и принести, запыхавшись, сопливый кулечек с Максовыми сонными и умными глазками! И с Макса в одно мгновенье счистится скорлупа, он выйдет новенький, с этим мягким, бабьим, лучистым взглядом, как Пол!
…Уж если б я принесла кулечек среди ночи — чьи б у него были глазки? Угадай, чьи?
25. ПИРОГИ НА СОДЕ
Сегодня готовит строгая Джейн, Сашечкина Джейн. Карие глазки и упрямый носик. Она ходит, как ежик, пофыркивает — то того не найти, то сего — но справляется на славу. Скоро пирог будет готов! Между кухней и гостиной ходят туда-сюда, в ожидании — Вася, Петя, Сашечка. Ну и и тетю Олю пригласили — да что там, она сама, как кошка, напросилась.
Сашечку прорывает: он, как Огневушка-Поскакушка, охватывает все искрами, опоясывает огнем. Его девочка готовит! На него любо посмотреть. Он цап кусочек у нее из-под руки… А она на него полотенцем — да поди ты! Не готово! А он под руку ей: Не готово? Правда, что ли? — и в глазки ей насмешливо заглядывает.
Но она строга. У нее, опытной 22-летней девочки, он уже третий! Третий! Ему смешно. Сотни женщин всех мастей научили его и как воровать пироги из-под руки.
Придвигаю пирог, вздыхаю: ох, надо есть, Джейн готовила. Сашечкина Джейн. Просто серая мышка. И еще с претензиями! Но — его выбор!.. Ну и какие у них тут пироги-то? Все на соде, нет чтоб наш — пухлый, дрожжевой, с корочкой!
Сашечка за всех целует хозяюшку… и в правую щеку… и в левую. И вот уже у хозяюшки и щеки разгорелись, глазки затуманились! От вина или от Сашечкиных поцелуев? Сашечка ее приобнимает, вертит, крутит ее, притопывает — эх, эх, жги, жги! Задирает рубашку и скачет козлом — раскачался, ах, зачем!
Эх, загорелось, зажглось, она пьяна и весела, — серой уточкой плывет налево, белой лебедушкой направо!
Плывет по этому полу, отполированному моей спиной, — мимо дивана, на котором смотрели смешную старомодную порнуху с невероятными усами и густыми лобками, — мимо зеркала, в которое, изогнувшись, мы смотрелись, вздрагивая спиной, и мокрые волосы падают на глаза, — мимо стола, на котором обычно — не пироги, а простая честная бутылка виски и пара яблок.
Плывет лебедушкой, красным закрашивает все наши вторники да пятницы. Разгорелась. Пироги поспели.
Приятно, ах, приятно наблюдать мастера за работой!
26. ГЛЕЙД
Рыча и огрызаясь и мечась по хозяйству — складываю чемодан. Сложить чемодан для себя — но главное — сдать фронт работ.
— Ты еще ничего не собрала! — заходит грозно в мою комнату.
— Ни фига себе фига! Я с утра для себя шуршу! Ну ладно, начну тогда собирать! Прямо сейчас!
Вот это платье. И это. И это. И джинсы. И кеды… Нет, все не так.
И вот знаю же, что на фестивале буду укрываться листиками и спать на земельке — и любая маечка в ход пойдет! Но — в который раз складываю и перекладываю. Не подходи — мысль собьешь.
— А носки где? Ты посуду мыла? Где ложечки? Шампунь опять к себе утащила?
— Нет! Это немыслимо! Ты же сам сказал — собираться! А теперь сам мешаешь! — Бросаю все, что держала в руках, в чемодан. — Сил моих нет! Ты хочешь, чтобы я собралась, или нет?
— Не ори на меня!
— Но я собираюсь!
— Ну и собирайся, ради бога!
— Как же собирайся, когда все брось и ищи тебе ложки!
— Ты скандала хочешь? Фиг ты поедешь!
— Фиг я не поеду!
— Ну конечно, что ты мне сделаешь!
Перед глазами плывет красный туман, с наслаждением представляю, что именно можно сделать: компьютер — в окно, окна — разбить, бутылки вина — об стену…. Оооо! Как много можно сделать! Какое сладкое чувство непоправимости можно — выпустить в мир!
— Многое можно сделать! — говорю.
Туман понемногу рассеивается.
— Ладно, вот твоя ложечка! — вылавливаю в раковине из жижи. — Доволен? Счастлив? Можно мне собираться?
— Да я и не мешал!
Ругаясь и фырча, вылетаю из дверей пулей.
— Вот точно что-то важное забыла! Точно!!!
Настроение опять испоганено, зачем и ехать!
И все же я еду, и почти насильно наплывают новые пейзажи, и мир становится другой, и перетаскивает меня на новый квадрат: ну что, опять нагородила себе препятствий.
Вот они где все: шшшу! — ветер сдул, пусто.
27. ЕЖИК
Обратно — тащу чемодан по грязи, трава набивается в пазы колес. Я устала прозрачной усталостью, когда на улыбке, слабыми шагами, переступая неслышно — можно и полпланеты обойти.
С высоты автобусного трона смотрю на всех этих загорелых, тонких, царственных людей в красивых пыльных тряпках-парче-веревочках-племенной одежде. Почему я не познакомилась ни с кем, ни к кому не подошла за эти три дня? Вот же — один красивее другого… Мое племя. Кричи… Не подошла. Но нет сожалений — смотрю сверху — и радуюсь. Из лагеря доносится музыка, медленно колышутся флаги.
Не беспокойтесь обо мне — я возвращаюсь домой! После Глейда! Все перевернулось с ног на голову, перекрутилось, дошло до атомов — и атомы почистило и переменило — и опять вышло обратно, к людям и городам… Но теперь все должно быть другое — атомы-то другие, новенькие. Ты так не ходил, я так не ходила, ты морок не наводил, я за тобой не бегала. И нет никакого «понимаешь»… все набело. Внутри искрится, и мне неловко за предыдущую тяжесть. Но есть оправдание: я тогда была усталая, атомы — проржавели, шлюзы в крови поднимались со скрежетом… Теперь все помыли, обновили, теперь я — поборюсь!
Кажется, тут жил какой-то Сашечка… Смешно. Что-то опять навыдумывала, накрутила. Все же легко! Ну, забежать… чмокнуть в носик… Все весело.
Время, как всегда, когда возвращаешься — вязкое и медленное (но легкое внутри). Опоздала на поезд, еду на другом. Платформа посередине нигде, и на ней — наше поселение, маленький временный городок: красивые люди сидят на рюкзаках, щурятся на солнце, каждый — нашел себе новую родню. Даже холмы вдали — солнечные, дружелюбные, и кажется, что и остающиеся здесь люди — красивые… Жаль уезжать. Но ничего не жаль. Плыву. СМС домой: торможу, но еду, еду. Весело-весело. И легко.
И вдруг — спокойненькое, как ни в чем не бывало, СМС от Сашечки: «Ты свободна? А у нас как раз барбекью».
Вот это да! Он как знал, как угадал! Он определенно чувствует!
Слышишь, Настенька! Он ловит флюиды! И не надо фыркать. Ловит!
Знает, что сейчас я — радужная, сильная, что от меня можно подпитаться! Ну и как после этого отрицать, что — чувствует?… Забежать, забежать, пока пыльца не облетела!.. Повертеться, посмеяться, чмокнуть в нос. А только потом, так уж и быть — домой!
Так, если прибываю в 10… полчасика еще можно… ну, часик… если быстро на такси. Если все время писать «еще еду, задерживаемся»… Почти невозможно — смешно — в таком состоянии рассчитывать время. Смешно — невозможно — долго — но мы проломим. Выкроим этот час. Ничего, подождет.
Ну опаздывает же поезд — что я могу сделать!
Наконец, поезд упирается в платформу лбом. Притопывая, стою в очереди на такси. Быстрее! И вот — вваливаюсь в заднюю калитку Сашечкиного садика, грязная и загорелая, толкаю чемодан.
— Не беспокойтесь, я к вам не жить! — улыбаюсь расхлябанно.
Все в сборе. Весь цирк, весь двор. Джейн смотрит строгонько.
— Тарелку ей! Тебе какого вина?
И большую, большую мне тарелку, и кормите, кормите меня. Это я же — путешественница, это у меня же — красные плечи и черные ноги, и глаза — не для предъявления приличным людям. Смотрите, учитесь! Не все достается тяжелым трудом, что-то — падает в руки, если ты доверчив к миру!
Вся походная и поджарая, смотрю на Джейн. Ей — меня вежливо расспрашивать. Ей — играть хозяюшку. Терпи уж. Она не была там, где живут Вусмерть Уставшие и Не Задающие Вопросов. Она из него бойфренда лепит. Которого можно к родителям пригласить. Она его на английский переводит. Ну-ну.
Я смотрю на их садик: это — мой садик, мои листики и деревья. Не для них, для меня сажен. Шашлык. Мва… давайте сюда и шашлык. Вино… Я — лечу. Показывай, показывай мне свою девочку и свой рай. Меня сейчас этим не уешь.
— Привееет! Суп, шашлычки! Да ты ешь, ешь! — ах, это знакомое, сытное, вкусное, соблазняющее «е-е-е-ешь!».
Я машу лапками:
— А там такое, такое!
— Агааа, — смотрит насмешливо. — С собой привезла?
— Да как-то нет.
— Ну, ладно! Еееешь! Потом расскажешь!
— Смотрите, ежик!
Я, я, никто другой — я заметила ежика в траве! Есть ли предел счастью? Ко мне сбегаются птицы и звери, и сказка следует за мной по пятам. Сказочный ежик переливается психоделическими иголками, чихает, подмигивает из-за колючек.
Джейн, и Сашечка, и Вася сидят и без интереса смотрят на негигиеничное четвероногое, заползшее к ним в садик. Вот этими пальчиками они заработали денежки, чтоб снять домик. Вот этими глазенками насверкали, чтоб привлечь друг друга, посреди пустыни наскребли себе Дом, Сад, Еду, Вино, Любовников.
А вот ежики — это сверх программы.
— Да где же?
— Да вон же!
So cute. Ежик сразу свернулся, едва дав рассмотреть свой лысый носик и подслеповатые глазки. Сомкнулся плотным комком. Может ждать вечно, пока опасность не отступит. У него своя программа. У них — своя. Ну и я вокруг летаю… Пока.
Джейн и Сашечка смотрят на ежа со скукой. Строгие дети. Сегодня они не играют в so cute.
Сашечка рассеянно капает на него пивом, еж — не ведется, еж намерился терпеть. А у Сашечки опять опускаются тяжелые веки, и, несмотря на весь рай, аккуратно устроенный, собранный — друг, девочка, дом, барбекью — он чернеет.
Добро пожаловать в родной город, стрекоза!
28. ЗА НОГУ
Какой нежной почти-тишины мы требуем от других! Вот за окном протапливается рассвет. Ангелы-истопники ходят, сонные, постепенно просыпаясь, подкидывают полешко за полешком. Хочется, чтоб я встала с кровати, а он, тихий, слегка пошевелился — складки простыни легли по-новому. …Промычит-простонет что-то нежное, но не выныривая из сна. — Ты ок, манечка? — но размазанно, почти неразличимо.
Мммм — и снова тишина застынет. И я хожу одна, на цыпочках. Потом — заводится, мурлычет…. Разогревается… Потом — лежать в лапах, потягиваться, а потом почувствовать, завестись, выгнуться. И после — отпить вино.
* * *
Мы танцевали всю ночь с Черным Алексом. Рядом расцветали лица. Две маленькие грязные комнатки, как всегда — развернулись в лабиринт. Под потолком — висела какая-то флюоресцентная рыба, я прыгнула и дала ей в нос. Рыба закрутилась и вытаращилась в изумлении — то на меня, то на Алекса, и опять на меня. Ну и люди! Ну и одежда! А прыгают как!.. Трансовый «придворный фотограф» ходил кругами и щелкал нас. Вот она, фотография, в альбоме: у меня безумное и счастливое лицо, он — в своей черной куртке, голова качается, как у черепахи, очки блестят, губы сплющены в улыбке.
Моя рука на его плече, улыбка — в сторону музыки. Картинка полного счастья.
— Все так прекрасно, нууу, плииз, останемся!
— Ну, пойдем, — повторяет он. — Пойдем домой… Что нам, дома заняться нечем?
Все так прекрасно, прекрасно. Но дальше будет все то же. Так было уже тысячу раз. И почему бы не пойти. Какая-то крошка из радости исчезла, и ах — сразу стало скучно и низачем.
— Ну ладно уж, пойдем.
Ну не гнать же его, раз квартира свободна — пошли уж ко мне. Да что там лукавить — наконец-то у меня полная парти: сначала танцы до упаду, потом секс без устали.
— Заходи! — Он входит робко.
— Садись! — Он рассаживается нагло.
Ох.
Кажется, я опять пытаюсь играть Настеньку — рассаживать, и развлекать, и подтыкать подушечки. Но он не нужный здесь, чужой. Он не доигрывает или переигрывает. Ждет момента, а до момента — застыл, как ящерица. Все не то!
Перед зеркалом. Черная рука на моем белом теле. Ах, какой был бы кадр! Но в зеркало не сфотографируешь — засвечивается.
— Хватит порхать, пора за дело!
И мы неловко, гуськом, не разлипаясь, идем в спальню, — и, как всегда, идем на рекорд, но магии в этом нет.
— Я, пожалуй, в другую комнату пойду. А ты здесь спи.
Хм, раскинулся, ишь!
Я маюсь, пью воду, меня ломает, не заснуть, а спать хочется, не напиться, и все же в бока пойдет, и послезавтра понедельник и на работу, и опять весь этот джаз… Спасите-помогите! У меня дома — лишняя громоздкая вещь! Не расслабиться, ноги не вытянуть, место занимает, свет застит.
Вот налип! Теснит… Жарко. Душно от него. Кыш, смоляное чучелко! Разлегся тут! Неужели он надеется на весь день тут зависнуть? Ужасная мысль! Фу!
— Оставь меня в покое. Не хочу.
Ненавижу, когда кто-то стоит в дверях комнаты, преграждая мне выход. И не надо ко мне руки тянуть!
— Я сказала — не хочу. Давай уж… оденемся и пойдем, — говорю я тускло, намекая: давай уж ТЫ — оденешься и выметешься отсюда.
Он видимо подчиняется, прыгает на одной ноге, натягивает свои кожаные штаны — какая пошлость, я уже не говорю про гигиену!.. Я вздыхаю — вот, сейчас наконец уйдет. Радости не будет, но хоть покой. Какая радость! Все остыло, волна — ушла. Хоть поспать перед тем, как все опять навалится.
— Заткнись! — вдруг орет он на меня, дергает за ногу, валит на кровать…
И корчит такую уморительную рожу, «а вот я тебя съем!», что я не могу не ржать.
Как будто поезд пронесся — и выбросил меня со свистом в другой совершенно мир, где все мирное, и я не злая.
И я добрая, как свежевыпеченный хлеб.
Я сердилась прежде? Это когда? Не упомню! Ну, это так было, пустячки!
Я высовываю мордочку из-под одеяла — давай оденемся и гулять? Вместе, конечно вместе! И мы идем гулять, крутя головами на диковины, как дети. Права Настенька, он — то, что мне надо. И даже кожаные штаны — смешные.
И Черный Алекс опять — адекватный, тихий, послушный, слегка безумный, сокровище, других таких нет, и я молодец, что отрыла такое.
Так меня и надо: за ногу — и нишкни!
29. ДЖЕЙН ИСЧЕЗАЕТ
Сашечка исчезает на месяцы. Скользнул по небу — и нет. У меня начинает болеть спина, я жалуюсь, сплю, начинаю забывать вынуть линзы. Просто усталая женщина за тридцать.
Дни идут один за другим, как серые ослики.
И вдруг он возникает на минуту, распарывает спокойную ночь звонком.
Я выскальзываю из квартиры, даже не позаботившись слепить откорячку — просто ушла.
Нет меня.
Если Макс заглянет в мою комнату, где я, предположительно, вижу десятый сон… ну что ж, позвонит. Тогда и решу, как выкручиваться.
Я в другой вселенной.
Наша лестница — черный корабль, идущий под воду.
Оказывается, пока я скучала и кисла — на Земле все стало резче и грубее. Алфавит усох до названий авиакомпаний и адресов дилеров. Количество любви в руки населения резко уменьшилось, и даже моя кроха ценна.
Он сидит на подоконнике, как стриж. Он совсем почернел, стал птицей с человеческим членом, я едва разбираю его свист:
— Я столько пил! Столько! Я думал — сойду с ума! Ухожу в комнату с бутылкой водки — а Колян так: «ну — спокойной ночи!». Предатели!
Но как его можно послать? Джейн — сильная женщина.
Как его можно посметь огорчить? Гадина. Найти и нашлепать мерзавку.
— Давай! Иначе мы его потеряем! — расстегивает ремень.
Пока он стучит и делит, и белые следы от самолета вырастают на подоконнике — я поддерживаю огонь.
— Давай, давай!
Мы его не потеряли. Может, он теперь не стоит миллион, просто мясной цилиндрик с нервными окончаниями, но — не могу его бросить.
Если брошу — мое время станет совсем немыслимым, расползется дырами, как изъеденное молью. Я — не Джейн. Я не могу выбирать.
А он сидит на подоконнике, скорчившись, и злобно смотрит за окно. Там все серо, а здесь все использовано.
Все равно.
Он опять исчезает.
30. БЛИЗОСТЬ
— Понимаешь…. — голос переключается на «интим».
Комната меняется, свет стал мягче, мы склонились друг к другу, как дети, — шепчемся. Мы голые и упоротые и пьяны. И сейчас что-то скажем… новое, что раньше не говорили.
Секс — что секс! Главное, начать, а тело подскажет. Нет, сейчас — время интимности. Не секса. Время идти глубже, трогать запретное. Очень хочется что-то такое найти… голенькое, новенькое, за что еще не дергали.
Он ходит по комнате. То так повернется, то так пройдет. Нет. Нужно что-то еще. Ночь провисает, становится липкой. Ему надоело вальяжно ходить перед зеркалами, отражаться — где? — да все там же, все в моих глазах. И сколько ни пытались — не удалось сказать, ухватить что-то новое. Он потирает руки: что бы еще? Порвать, замутить, жахнуть?
— Взбодримся? — на стеклянном столике появляются — новые линеечки для прописей.
— Понимаешь… У тебя ведь нет, — говорит он с изумлением… — У тебя… как это… — You don’t have an evil bone in your body.
То есть: ты — добрая до самых печенок, ты сама доброта и ничего, кроме доброты. Он меня испытал и пришел к выводу: не предаст. Намеренно не предаст. Да-да-да. Со мной безопасно.
Перевод: ему не интересно. Ему хочется — приключение, риск. А я — просто добрая.
— Я, знаешь, все могу изменить… — говорит он, выпрямляясь, потягивая носом. — Вообще мог бы все бросить и пойти в эскорты.
Конечно можешь! Измениться в одночасье, пойти в эскорты, стать барабанщиком, джазменом, «вообще все бросить!!!». Можешь. Все равно это будешь ты. Ты — это не то, что ты производишь: музыка, секс. Ты — это ты. Источник. Киваю: да-да. Ты так активно существуешь. Я так активно — желаю. Весь этот роман — это побег от сна.
Я боюсь упасть в сон и проснуться старой, с жирной спиной и тусклым пыльным запахом тела. Чувства? Какие чувства, кроме страха: свет выключат — и все закончится?
Взбодриться? Конечно — да!
Что-то надо еще выжать из ночи.
Он трясет головой. Ночь как долгая дрожь. Tense.
— Сделать тебе массажик?
— Давай! — как будто это такая новая, свежая идея, как будто это не происходит каждый раз.
Мускул за мускулом, напряженные, расправляются и засыпают под моими руками.
* * *
Прокатываю пальцы по мускулам. Словно тромбы растекаются, размягчаются под пальцами.
— Когда ты играешь — они тебя вообще слышат? Я о чем… А они — ну, обычная же закостенелая публика! Подписались — и ходят… От скуки ходят. По привычке ходят. Чтоб себя почувствовать культурными — ходят… Но ты же про другое, да? Вот ты им играешь — и?.. Они же — не ты!
Сашечка раскачивает вопрос, как зуб, он — сейчас скажет мне — правильно. Как надо.
Правильно ответит на мой неправильный вопрос.
— Да, мне надо их — так, — он сжимает ладонь, подтягивает к груди, потом разжимает. — Мне их всех надо — завоевать, повести. Чтоб слушали только — меня… Энергия! Понимаешь?
Он слегка разводит ладони. Вижу его — в концертном зале. Он питает зал — питает своими руками. Руки на клавиши — и по пуповинам струн течет — жизнь.
Но насколько это? Надолго? Музыка — пока слышна музыка? Секс — пока секс?
Сашечка показывает, как он умеет — держать. Питать. Подключаться. На час.
И плевать, куда они опять упадут — уйдут — рассыпятся — когда разбредутся с концерта.
Слегка портит дело, говоря:
— Нет работы трудней! Что вот этот твой делает? Цифирки? Ха! Тут — надо… излучать энергию. Это — работа! Понимаешь? Ра-бо-та!
— Подожди вот, я тебе сыграю… Свое.
Выползает из-под рук, садится к пианино.
В черном коробе музыки ворочаются глухие, несвязные ноты.
— Это я сочинил… Понимаешь… Тогда.
«Тогда» — когда Джейн исчезла. Черное время, про которое говорим — шопотом.
Не музыка — отдельные больные ноты. Одна за другой ложатся умирать в снег. Музыки не получилось. Боль.
Я понимаю. Музыка тебя не поняла, а я — пойму.
Последняя покалеченная нота подсыхает на песке.
— Ну, ладно, — встряхивается, идет к столику. — Еще?
Да, понимаю. Такой вирус несчастья через музыку — не передашь. И — хорошо. Пусть будет — Рахманинов.
Иди сюда. Не дрожи. Давай я помассирую тебе спинку, на которой — черной коростой осело, застряло все: и Джейн, и мокрая ночь за окном, и Рахманинов, и «энергия».
* * *
…Он еще отвечает — но уже уютно падает в сон.
Промежутки между словами становятся все дольше. Слова, как разреженные бусины, свободно катаются влево-вправо…
Мне — оставаться (он нисколько не возражает, напротив, будет рад) — или идти (если надо — то иди).
Уже никогда он САМ не скажет (серьезным тоном, ни намека на секс, только спокойный тон человека, ответственного за безопасность присутствующих): «Так, ну, надо уж или оставаться — или я тебя провожу».
Теперь я сама решаю (пока он потягивается):
— Пожалуй, мне надо идти.
— Хорошо. Я тебя — (зевок) — провожу. Провожу, провожу — (пауза) — потом засну.
— Я уже ушла. Спи.
Мррр — он уютно сворачивается.
За окном сереет день.
И нельзя на день сердиться, что он нас разлучил. Скорее — быть благодарными, что дал предлог наконец расстаться.
31. ДЕВОЧКА-ТОЖЕ
Макс свалил на конференцию. Я могу пригласить гостей в нашу квартиру величиной с аэродром. Квартира нанята в подражание Настеньке, в пику скучным людям предместий — «ну, знаете, эти, которые в город только по субботам выбираются».
Только у Настеньки квартира — в Мэйфеа в Лондоне, а у нас уж — тут, так, по дешевке.
Две большие спальни, две ванных, с балкона — интригующий вид на бесконечную цинковую крышу. И зеленым светится таинственная башня. Обычно некому на вид любоваться — мало с кем мы дружим, редко приглашаем гостей.
А Макс — только выходит на балкон, чтоб проверить — кто из соседей шумит, кто сбрасывает пепел.
— Заходи в гости, — пишу, как будто это просто, как будто это — принято у нас так, как будто я не ждала полгода, пока не освободится берег.
— Жди.
Сашечка прикатил, свежий и веселый, в белой льняной рубашечке (странно видеть его не в черном), и, как всегда, сразу закурил-налил, музыку поставил, полез на балкон… Все сразу.
— У меня нет, наверное, сейчас более близкой женщины, чем ты, — говорит Сашечка, сидя на балконе и стряхивая пепел в блюдечко и мимо. Пепел падает этажом ниже. Макс бы взбеленился.
Соседи тоже открывают балконные двери. Но если обычно любой посторонний звук — угроза, сейчас — все не так. Сейчас наш балкон — самый сильный, самый агрессивный во всем доме. Если кто будет шуметь — это мы!
Я сижу на диване, с первым бокалом. Время течет медленно, время слегка горьковатое, но пусть, пусть тянется. Балкон, пепел, бокал, Сашечка похаживает… Это почти слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Близкая женщина… Близкая! Умеет он сказать такое — и без тени иронии! Это просто фраза. Прекрасно исполненная, с аппетитом и искренностью проговоренная. Хошь верь, хочешь не верь — произнесено, свершилось. Только фраза. Но она запоминается. В нашей среде вообще такое не говорят, тем более так — смачно. Наши люди так не говорят — ну вот у них и одна манечка, если повезло.
Просто фраза, и ее лучше забыть.
Он меняется быстро-быстро: вот веселый и наглый мальчонка, а вот набычился, насупился, напялил на себя ответственность за все, оброс щетиной — неприятный, мелкоголовый, с кадыком… чужой.
Достает мобильник.
— Позову девочку… не возражаешь? Тоже одна, вроде тебя. Ревновать не будешь? Не ревнуй, пожалуйста.
И я стала не ревновать. Совсем не стала. Ни капельки. Просто все переменилось, просто разбился вечер… А что мне ревновать? Не впервой. А может — это еще не такая серьезная девочка? Кто знает.
— У нее день рождения. Нет у тебя… чего-нибудь… подарить?
Снимаю с полки игрушечного зайца — курчавая короткая шерсть, печальные уши, покорное выражение морды. Не какая-нибудь подделка — настоящий английский грустный заяц.
«Девочка-тоже» приходит. Чопорная, как матрешка, китайская девочка. Плоское лицо, красивые растянутые к вискам глаза. Какая-то воздушная лиловая кофточка.
— Привееет!
— Джулия.
— Очень приятно.
Он целует ее в обе щеки.
Ногти — лепестки. Смотрю на свои. Прячу руку.
— С днем рождения! — он протягивает ей игрушку.
Она хватает зайца и прижимает его к груди.
Джулия садится на краешек, говорит мало, вина не пьет. Она не скучает и не злится. Что-то про тысячелетнее терпение.
И только при взгляде на Сашечку у нее проплескивает в глазах живое.
Ухоженная — у нее, верно, даже дырочка в попе лавандой пахнет. Радость для Сашечки: чистая душа.
Он берет ягодку из миски — протягивает ей — она раскрывает свои свежие, тщательно накрашенные губки. Ам!
Всего лишь ягодка. Всего лишь его рука. И ее покорность. И понятно без перевода: они уже переспали. И это был самый нежный секс в ее жизни.
Ну что ему делать с этими бабами, их помани — они уже мокнут!
Он кормит ее ягодками, обнимает, смотрит вбок. Я — как гость в собственной квартире. Только краешком взгляда он говорит мне: «Видишь — опять! Ну что я могу поделать!»
Краешком. Мог бы и не стараться.
Налила девочке-тоже-одной вина, посмотрела, как он кормит девочку-тоже-одну конфетами изо рта в рот — и, даже готова постелить ему и девочке-тоже-одной в свободной комнате — веселитесь, детки, тетя пойдет к себе (а может быть, позовут?).
Может, все еще перевернется и пойдет моим путем — враздрызг?
Нетушки.
Мне говорят спасибо за все-за все — со значением — (нечего тут детей пугать нашими порядочками) — и садятся в такси. Она уходит, прижимая к груди моего зайца.
Я вспоминаю, прикидываю: за все это время Джулия не сказала ничего умного, странного, интересного — ничего. Только поправляла волосы и гладила его руки… Что там, за раскосыми глазками, под гладкими, как стекло, волосами?..
Да что еще тебе нужно? Что ему — еще нужно? Свежие ручки, покорный рот.
А я тем временем надралась как никогда в жизни и не годна ни на что, кроме как рухнуть в одеяло и ни о чем не думать.
И засыпаю, не донеся руку до между ног.
32. ПО РАДУЖНЫМ ХОЛМАМ
Я просыпаюсь у Сашечки, становлюсь на угол треугольника: дом-Сашечкин дом-работа. Рутина.
Все три точки неправильные, везде я не у дел, нигде меня не хвалят. Но так уж заведено, в такой системе — жива.
Сашечка просыпается меня проводить. Между двумя снами он легок и свеж и нежен. Не ко мне нежен, а просто так.
— Ну, пока! — говорит он.
Ухожу легко, как будто он мне завтра позвонит. А может, следующее «завтра» будет — через год.
А что будет через год? Через год — меня уже не достанешь, не восстановишь. Опилки сгниют, я стану не я.
Буду осторожно вылезать из ванны, чтоб не поскользнуться, держась за край. Составлять долгие списки перед магазином. В магазине — отмечать галочкой купленное. И выбирать кофточки с закрытым рукавчиком.
Опилки сгниют. Стрелки погнутся. Постарею — рывком…
Только треугольник сохраняет меня — мной…
Но ухожу так легко, будто позвонит — вечером, — и иначе быть не может.
* * *
…А он все не звонит и не звонит, и бодро взятый разбег теряет свои обороты. Остается только: дайте поспать!
Свет выключили — наконец-то.
И вдруг ночью: «Простыл. Уши заложило, как после „Лондон-Джамбул“».
Зовет? Нет.
Делится.
Уууу… Какая нежность.
И это так нежно-физиологично, это настолько он! Это — как те фотографии его, писающего в каких-то горах, которые сделала девочка — Джейн. Карточка, которую я — спросила и взяла, а так бы все равно украла.
Жалко дитятко. Ууушки болят!
Потом — пишет, уже довольный: «Хорошенько высморкался — прошло».
Это — греет несколько месяцев. Прошли ушки.
* * *
И вдруг — однажды утром, неурочно, врезаясь в мой поскучневший процесс вставания — сумбурный СМС:
— Приезжай, я у друзей.
— Что там? — надеваю блузку и пиджак. Волосы шипят в щипцах.
— Я у друзей. Друг — мертв. В смысле — спит как мертв. Приезжай.
Я подъезжаю на такси. В квартире — срач. Сашечка — выкручен после ночной оргии.
Глазки — не более осмысленные, чем ряска на болоте. Ресницы, по-прежнему, — дюйм.
Ну, как наш мальчик? — А мальчик наш, судя по внешним признакам, почти исчез с лица земли.
Только тело смутно посылает сигналы. Хотя уже никому ничего не хочется. Так, по памяти. Ремень расстегнуть расхлябанной рукой.
Резко не хочется только одного: одиночества. Отталкивается от него, как вода от масла.
— Украли чемодан. С ключом от дома. И концертный костюм. Ботинки. Паспорт. Все. Поставил в машину — и исчезла. Знаю, так не бывает. Ключ — завтра. Вот — Славка дома…
Расхлябанная кукла с разваленным руками-ногами, щелкунчик — протягивает мне трубочку с хашем. Включает порнуху. Жесты небрежны, водянисты. Все — мутно. Пусто. Я не чувствую его. Тоскливый кошмар.
Порно, его похудевшее тельце на диване, неловкие пальцы, роющиеся в чужом компьютере… а над всем нависает глыба: мне все же надо на работу!
Вылечить — и поехать. Утомить, чтоб заснул — и уйти по холмам.
Клюет носом. Пора.
И, ковыляя по дороге (где я? как здесь поймать такси?):
— Роджер, все нормально, я буду в 12… Может, чуть позже. Да, врач сказал — все хорошо. Но дал лекарства, так что, может, я буду… слегка dizzy. (Сколько нужно, чтоб выветрились эти две трубочки? И чтоб прошла слабость в ногах от встречи в неурочный час?) Нет, мне лучше на работе, чем сидеть дома.
Там — спит он. Нежный, чужой. В пижамке. А может — его уже нет. Так, по памяти. Боже мой, сколько сил, сколько сил — на то, чтоб поддерживать этот огонь. А может, там нет ничего… Только какое-то скрипучее, надсадное дыхание. Сбитые бороздки, скачущая игла. И нечего вслушиваться в шипение — музыку давно убрали.
33. ЧЕРНЫЙ ВТОРНИК
А вот сегодня все — черное.
— Почему. Твой муж. Сюда. Звонит?
Сашечка вскакивает и ходит по комнате, пошатываясь.
— Ты знаешь, кто я? Ты знаешь, что я никому не даю телефон? Это что, заговор? Какое ты имела право? Что он, еще придет за тобой сюда? Да? Это твоя месть?
Отправляю ягодку винограда в рот: Макс позвонил — один раз! — когда совсем меня потерял. Я не отвечала на звонки, и он набрал Сашечкин номер. …Сашечка — взбеленился.
Макс — прибежит сюда? Начнет «выяснять отношения»? Что за глупость! Что за — непонимание! Да он все силы приложит, чтоб этот кусок жизни — оттолкнуть, как льдину от берега!
— Какой там заговор… Нет. О чем ты?
Что еще ему надо? Тут пространство заточено под него. На всех площадях — его статуя. Во всех свитках — легенды про него.
После ночи секса, пьяным, отбарабанить концерт?
Кто же, если не он! Кто спорит?
Что еще?
…Я, тем временем, каждое утро в 9 — на работу. И возвращаюсь в 4 ночи, и ледяное дыхание из комнаты Макса… Нет-нет, я не ною.
Меня кто-то зовет? Обрывает телефон? Нет, сама приползаю.
Так что же?
— Все хотят меня… Все хотят… Тела, денег… С утра разбудить, полезть — пожалуйста! На самолет растолкать — не дождешься! И деньги! Деньги — так и летят! Кто платит за выпивку? Алекс Айс! За кокс? Алекс Айс! Конечно, Сашечка — бездонный!
Да я же понимаааю! Я же — сочуууувствую!
За окном по мокрой пожарной лестнице прыгает сорока, и взгляд у сороки — мертвый.
…Надевает футболку, стоит посреди комнаты, черный и резкий.
Все его обирают и предают. Просто все. Я — первая на отбраковку.
Тихо поворачивается, опускает ресницы, тихо:
— Уходи!
Это громче любого крика и громче любого «вон!».
34. ПОКИДАЕМСЯ?
Дома — не лучше.
— Скандала хочешь? Я вполне в настроении!
Макс грозен. Глазки переключились на крайний режим ненависти. Меня зашкаливает от одного взгляда на эти две злобные точки.
Все падает в тартарары, ничего не жаль. Завтра? Нет никакого завтра. Есть только ненависть.
— Если ты сейчас не прекратишь, то я…
Демонстрация переходит в действие.
— Ну, что ты еще посеяла? Говори уж сразу!
Вещи начинают перемещаться с невиданной быстротой. Вещи, не предназначенные для полета.
— Ты у меня еще покидайся, покидайся! Я тоже умею кидаться!
…Конечно, мы умеем кидаться! И еще как! Прирожденный талант — плюс непрестанное повышение квалификации. У него вернее рука — но у меня больше энергии.
Чем мы только не кидались! Крикетными мячами (синяк на плече), бутылками из-под кока-колы (почти безопасно), лампами (выключенными, перегоревшими, горящими или перегорающими в полете), треногами для ночных съемок, вазами (с цветами, без цветов или букетами, еще в вазу не поставленными), кофейными столиками (одна штука, сломался на фиг, — к счастью, не долетев до меня), креслами (до сих пор горжусь — бросок был довольно прицельный!), мп3-плейерами, зарядниками для батареек, пригорошнями батареек, машинками для скручивания джойнтов, ремоутами от телевизора, к счастью, до самого телевизора дело не дошло… чашками, термосами, котлетами, блинами (с вареньем и без), банками с артишоками, бутылками бордо и, наконец, — фазанами, запеченными в винном соусе, с корицей и шафраном — вон, до сих пор на груди след от кости.
Происхождение некоторых вмятин на паркете трудно будет объяснить хозяину. И их форму. И глубину. И кучность.
Обычно достаточно пары брошенных предметов, чтобы на тебя обратили внимание. Поняли, что ты имеешь в виду. Удостоверились в серьезности намерений.
Или одного предмета, попавшего в цель (например — фазана с подливкой, расплывающейся по свежекупленному свитеру).
…Большинство вмятин появляются в субботу утром. Или в воскресенье вечером. Когда подсчитываются потери. Материальные и моральные. Когда я наконец вваливаюсь — вот она я, не ждали?
…Ждали, ждали — примерно с пятницы вечера!
— Ну, что еще посеяла? Колись!
Вмятина в полу.
Жирное пятно на свитере.
…Что я только не теряла! Мобильники, карточки, билеты, зонтики, сумки, куртки (свои и чужие), пуговицы от курток, кофты, лифчики, трусы, купальники, камеры, чехлы от камер, палатки (оставлена на фестивале, когда я поняла, что мне и самой-то затруднительно будет выбраться, не то что палатку тащить), помаду, джинсы и щипцы, оставленные у подружек (приеду — заберу), лифчики и колготки, забытые у мужиков (сами все возвращают — глаженое и стираное; маньяки!)… телефоны знакомых, друзей, работодателей, встречи, …доверие, хорошие отношения, дружбу (но сохранила — со значительно большим количеством людей, чем можно себе представить).
Сколько всего брошено, выброшено, засунуто в отверстия! Скооолько всего! …Список бессмысленных рекордов, олимпиада в пределах одной отдельно взятой квартиры, моральная растяжка в размерах одной отдельно взятой семьи. Малая книга Гиннеса. Это при том, что голова у меня еще на месте.
Ну, посеяла что-то. Было б о чем говорить! Руки-ноги целы… Не могу тебе объяснить, что это не важно, что не про накопление, не про выживание здесь — речь! Что мне вещи, что мне — я! Не про то, не про то!..
— Выметайся отсюда! Где шлялась?
— Ты… Ты…! Гад! Где шлялась — туда и выметусь!
— Я — гад? Я — гад???!!! Куда пошла? Стоять! Только попробуй! В свою комнату! Интернет отрубаю! Мобильник выключить! Все вымыть! Все выстирать! Носки на завтра мне найти! В Лондон теперь фиг когда поедешь! И утром не шуметь!
Он пытается меня — привести в норму, сохранить… Ах, не про то!.. Тратьте меня, тратьте! Тратьте — эти ваши вещи!..
Мне сейчас все равно, хоть тушкой, хоть чучелом. Мне бы главное — выспаться. Череп тоненький, как папиросная бумага, всё плывёт перед глазами — меедленно, меедленно заплывая в мозг. К стенам стараюсь не прикасаться — утянет.
…Свитер — в раковину, тряпкой вытереть пол — и только потом — хлопок дверью и — слезы.
35. DRUGS ARE GOOD
— Я завязал! — гордо говорит Черный Алекс.
Дурак! Было так весело.
Дурак! Сам ведь сжирал и снюхивал все, что было.
Дурак! Разве от наркотиков вред бывает?
Вред бывает — когда тебе грустно. Когда тебя — некому тратить. Когда рутина.
Зачем отказываться?
Перед кем выпендриваться?
Перед кем выслуживаться?
Здоровье беречь?
Начнешь его экономить — оно и кончится.
Но я ему не надсмотрщик. Хочет быть дураком…
Пожимаю плечами: завязал — и завязал.
— Я в церковь сегодня ходил.
Ну еще не легче! Бросать его надо… Но где же — где второе такое же найдешь?
36. БОГИНЯ
— Она прилетает!!!!
— Кто она? Ассоль?
— Ассоль! Богиня! Она! Она! Она! Моя богиня прилетает! Знаешь, какой у меня счет за мобильник? Триста фунтов! Я каждый день с ней говорю по телефону.
Поддаю носком камешек:
— Триста — это, пожалуй, много.
Черный Алекс сбрендил. Это бывает. Никогда на голову не был крепок.
— Она бросает мужа. И будет жить со мной.
— Прекрасно. Рада за вас.
— Она — солнце. Я в таком восторге! Алекс в восторге! Алекс звонит своей любимой каждый вечер и разговаривает с ней по два часа! Алекс счастлив! Итс бьюююютифул!
— Ммм… А я расчитывала тебя самый последний разочек выкрутить досуха.
Я в очередной раз дошла до точки — и маленькие черные зверьки грызут отдельные детали организма. Внутри кружится галактика и говорит голосом гулким, как мировое зло: Хочуууу! Сто раз. Сто мужиков. Хотя бы одного. Хотя бы на секууууундочку. Ну пожааалуйста!
А тут Черный Алекс со своим любовным помешательством. Как некстати! Влюбился, вишь ли, в эту маленькую эстоночку, щеночка, лапу. Теперь она приезжает к нему — и ей ничего не надо. Она готова с ним вместе под шарманку топать по дворам. Лишь бы вместе.
— Понимаешь, я сам — ничто, и она — не очень много. Но вместе мы — сияем! — слов почти не разобрать, склеиваются в ком. Он подпрыгивает, повизгивает, машет руками.
Он уже совсем, совсем не работает на меня. И ни на кого. Он сам по себе. Он — и Ассоль. Светит внутрь, все равно ему, что наружу — торчат только перепутанные провода.
Пожимаю плечами. А почему бы и по отдельности — не быть кем-то? Посмотри на Сашечку, Макса… да хоть меня. Мы — отдельно.
Я мысленно поглаживаю скулящую черноту между ног: нет, видно, родная, ничего нам с тобой сегодня не будет. Скулит, виляет маленьким звездным хвостиком: что, совсем-совсем ничего?
— Нет, не получится. Я буду теперь совершенно сто процентов верным. Абсолютно! Только представь себе такого зверя — сто процентов Абсолютно Верный Алекс!
— Что-то не похоже на тебя!
— Сам удивляюсь. А вот поди ж ты! А кое-кто упустил свой шанс! Я шел к тебе в руки — ты же не захотела!
— Это когда ты ко мне шел в руки?
Нет, бывает, бывает. Это ведь он продавал бриллианты и почти уже продал большую партию — но все сорвалось?
…Заходил в один магазин за другим, блестящие магазины на главной площади, протягивал горсть бриллиантов — и его отвергали. И он брел в следующий сверкающий шоп — черный, отверженный, в люнючем плаще — его заворачивали и там.
Мне тогда эта история не казалась опасной, не казалась индикатором безумия?
Нет, тогда было — смешно.
Это ведь он — в первое свидание скромно сказал мне, что он — бог, та сила, что стоит за мировыми войнами, а Саддам Хуссейн — его воплощение на земле.
Это не казалось опасным? Нет, — было по приколу.
Думала — он так неловко, глупо, — интересничает.
Так что — не на пустом месте.
Знаки складываются, все становится ясно: совсем обезумел.
Бывает.
Просто момент, как всегда, неудачный. Для меня.
— Как же! Ты же хотела уходить от мужа?
— Ну, и так можно сказать.
— Ты же искала квартиру?
— Да, вроде как бы искала… искала….
Я смотрю на струю фонтана, сверкающей прерывистой строчкой он писает на голубя. Голубь похож на профессора с насморком — горлы-горлы — удирает от струи. В недоумении: как же так! Его! посмели замочить. Он вперевалочку идет к группе не столь авантюрных голубей, мирно клюющих крошки.
— Ну и что ты думала, мы будем делить квартиру — и после ужина просто расходиться по разным комнатам?
— И после секса.
— Ты думала — после ужина и секса будем расходиться по своим комнатам?
— И после косяка или что бог пошлет.
— Всерьез считала, что после ужина и секса и косяка или что бог пошлет — мы просто вот так возьмем и разойдемся по разным комнатам…
— Ммм… да?
— Вот видишь, бейби, какие мы разные! Но это все в прошлом! Я тебе по гроб жизни благодарен — только представь, что ты б переехала! Я мог бы сделать Самую Большую Глупость в своей жизни — не пригласить сюда свою Богиню. Представляешь!
— Да даже представить не могу — мороз по коже!
Звонок.
Он подпрыгивает на полметра вверх и хватает мобильник:
— Богиня! Мы как раз с Ольгой говорим о тебе! Как ты там? Я ждууу….
Глаза Черного Алекса косят в разные стороны, он заходится:
— Родная! Богиня! Ты знаешь, что твой Алекс умирает без тебя? Когда ты прилетишь и оживишь его?
Осколки сложились. Безумие прет, голосит, выделывается. И хорошо, что двинулся. Пора идти. Мне здесь больше пищи нет.
Голубь ушел от фонтана и гортанно рассказывает другим голубям: — Вы не поверите, но вот там вот — не безопасно… Я бы, коллеги, не рекомендовал вам идти дальше. Там, выражаясь языком простонародья, — мокро и противно.
И коллеги напыщенно надувают зобы.
Посредине сквера стоит медный Линкольн, растопырив ладони-лопаты. Шныряют прохожие, поправляют сумки, голосят по мобильникам.
Черный Алекс прыгает. Параллельно жизни города, заглушая ее — раздается первобытный Зов Любви.
37. ЛЕТАЙТЕ НАШИМИ ЛИНИЯМИ
Сашечка прилетел — вообще нездешний. Глазки яркие, и опять мальчишески-хулиганистый. Ни этих складок на лбу, ни тяжелого взгляда. Новый. Переписанный заново.
Смотрит на тебя глазками, и — ведет. Все-таки наш гадский, тяжелый северный город — тянет и высасывает силы. Смотрите-ка — там ведь пил, флиртовал, играл, а вид — как с курорта! Кокс со столика вдыхается со смаком, словно ребенок хрустит сочным яблоком!
Да тебя бы, брат, сейчас на плакат «Летайте нашими линиями!».
Стеклянная табличка, глупая такая, величиной с ладошку. Толстого стекла. «Победителю….» и дальше по-итальянски.
И эти 15 тысяч, которые я не видела. Но слышала о них.
И байки.
— Ну, она на меня смотрит, потом всех спрашивает: не могли бы вы мне все оставить телефоны. Ну, понятно. Потом звонит — нельзя ли встретиться, для частного интервью. Для частного, ага! А сама — действительно красивая. Без дураков!
(Пауза). Не хочется ему никого огорчать сейчас!
— …Но ничего не было!
И продолжает взахлеб:
— Утром говорю: давай тебе платье купим! Пойдем, выберешь!
(Ах, какой восторг это был, наверное, когда ему было 18, 20, как выглядело трогательно, мило, когда он, пацан пацаном, важно и весело предлагал: «пойдем платье купим» (на мои только что выигранные). Теперь уже слегка чуть-чуть не то. Но все еще очень.
Он окунулся там в какую-то купель, и вот — стоит тут, среди нас, сверкает. Свежий. И мы все — тоже хотим!
И потом, душевно так, удивляясь, как привезенную из поездки бабочку — выпускает в комнату слова этой незнакомой, иностранной, далекой (ревную ли я? Да, ревную — но мне она видится — прекрасной):
— Она мне сказала: «Ты такой легкий! Я бы так легко тебя могла использовать».
(Но пожалела. Не обидела мальчика! Спасибо ей!)
И так нежно удивляется — ее удивлению. Вглядывается в свое отражение. В комнате — далекий звон ее слов. И далекий запах юга. Чудесное слово — Италия.
Мы пьем. Как тут мы без него жили? Загнивали, право слово!
Мы тоже снимемся — и куда-нибудь полетим! Мы тоже будем легкими!
— Будем?
— Точно будем!
Посмотрели — а виновник торжества уже носом клюет.
А мы уже были готовы поверить, что ночь так и пойдет, так и разгонится в наше обычное буйство. Но надо и честь знать. Легенды легендами, а — живой человек. Железный, медный — а тоже умаялся. И линии не спасли.
Добираюсь до дома и счастливо засыпаю, подушку под голову, угол одеяла — под щеку.
Но тут мобильник прыгает — СМС: «Спать хочу — умираю. А вот азиаточку бы какую-нибудь ласковую сейчас — жизнь бы отдал! Посмотри телефончик местного эскорт-агентства, а, будь другом!»
— Не могу, — я нагребаю ногами одеяло, как скарабей. — Не могу. Сплю.
Я, по-честному, — сплю. Укладываюсь спать.
Слева — белый мишка: счастье, что он прилетел.
Справа — черный мишка: азиаточку ему!
Легкий такой человек. Легкий.
38. МИЛАЯ, МЫ СОВСЕМ НЕ О ТОМ
— Конечно, он хочет залезть ко мне в штаны, — говорит Настенька с милой ужимкой, ушко к плечику, мол — да, ну и что?
— Да ничего! Просто я всегда на стороне мужиков. Нечестно, и все. За нос водишь. Не за нос, а за… (Обрываю себя, вспоминаю Черный Новый год. Лучше — молчок об этом, тсс!)
Настенька дергает плечиком: если они хотят общаться — пусть. Она ничего не обещает.
Она ходит по квартире в халатике, не накрашенная, но лицо сложено в милую гримаску. Она наливает мне чай, медленно хлопочет, долго уговаривает поесть, и хотя я и не хочу — мне приятно… Я понимаю, о чем она. Сказка работает — вот так. И что же — каждому давать?
…Меня злит, когда она говорит «люблююю его» — но сама я ведусь на ее (всегда с одной интонацией) «я так скучаааю!».
Она говорит «я так соскуучилась!» — и я понимаю: нужно, просто необходимо ехать в Лондон.
Никак нельзя не ехать, а то взорвусь!
Она соскучилась — я должна быть там.
…Нет, все-таки некоторые люди — наваждение, морок!
И вот приезжаю. И пью чай, а скоро — собираться на парти.
— Еще чашечку?
Люблю ее маленькие ручки, смешные губы, все ее слабенькие, хрупкие ужимочки. Люблю, когда она наливает мне чай… Люблююю! И не могу с ней не спорить.
— Ну вот ты же Сашечку любишь?
— Ммм… Это все вы так считаете. Тут другое.
Она рада: поймала меня.
…Лююбит, лююбит, люблююю — и что? Какой прок?.. Все хорошо — пока хорошо, все хорошо — пока не потребовали, не бросили, не сломали. Все на ниточке висит! На честном слове, на случае… Нет, я тоже верю, что у нас — по двенадцати жизней!..
Возможно, что мы с тобой рождены именно для того, — чтоб порадоваться, погрустить, поплясать на вечеринках, присниться кому-нибудь пару раз, поводить по холмам — и сгинуть без следа.
Хорошо, ты, наверное, родишь ребенка. Как нестандартный творческий проект.
Не обижайся, я ж любя.
А давай, давай… Давай — выжмем эту сказку досуха? До конца, до когда уже нельзя — побудем ничьими и чудесными?.. Нам кажется, что сказки уже нет — но на самом деле еще немножко есть.
Нас уже везде знают как облупленных — но неужели есть кто-то, кто на самом деле может сказать слово поперек? Просто выйти и сказать — или хотя бы поморщиться: «Настенька? Знаем эту Настеньку!» Нет-нет, невозможно!
Ты выглядишь замечательно, поверь мне!
— Пора?
— Пора.
Стоим на пороге.
Закинутые, смешные.
— Давай только говорить друг другу, если… тушь размажется.
— Конечно!
— И утром?
— Особенно утром!
Мы знаем, что после шести ночи все выглядят — ужасно, ужасно, — особенно если тебе не пятнадцать… и не двадцать… давно… — но все же — может, немного волшебно?
39. ЧЕРНАЯ МЕТКА
Я спускаюсь по лестнице в магазин за хлебом, молоком, что-то к чаю и что-то еще… Потом вспомню.
Снаружи — обычный серый день, а возле дома, как обычно — настоящая аэротруба. Толкаю рукой дверь, ветер взвывает и прижимает дверь плечом.
Толкаю второй раз. Но тут в руке оживает мобильник.
Официальный голос, скороговоркой:
— Вам звонят из (неразборчиво).
— Простите?
— Вам звонят из (неразборчиво).
— Хорошо (они так десять раз будут повторять одно и то же, мы это уже проходили). В чем дело?
— Один из ваших партнеров ВИЧ-инфицирован. Он дал нам ваш телефон. Когда вам удобнее прийти и провериться? Наши часы приема… Это центр сексуального здоровья и заболеваний, передающихся половым путем, — голос выныривает из гула, и последние слова звучат отчетливо.
ВИЧ? Партнер? Инфицирован?.. Подождите. Сейчас достану ручку, запишу.
Голова плывет — а руки достают блокнотик и листают расписание.
Партнер дал мой телефон? У кого это мой телефон? Это может быть — или Черный Алекс, или Сашечка… Проверился, узнал, — побежал спасать меня.
Узнал? …Сашечка? Конец света.
Или? Может, это Крис. Может, это злая шутка, может, это Крис.
Да, еще возможно…
Говорят — люди обычно в страшное не верят, сопротивляются, — даже тогда, когда уже точно все подтверждено. Я почему-то верю — сразу.
Я верю. Я только решаю, что теперь делать. Когда удобнее прийти на проверку. Кому что говорить. И кому — не говорить ничего. И — кто? Черный Алекс или Белый?
И все же… (может, все же это — Крис). Звоню реплаем.
— Это центр? Вы мне звонили? Нет, кто-то мне звонил и…
Пять минут свистящей надежды…
— Да, ваше имя есть в наших записях. Так когда вам удобнее провериться?
Дверь закрыта. Наглухо.
…Почему-то мне выпало — самое страшное на Земле слово. Слово, которым люди бросаются друг в друга — когда шутят неосторожно, неполиткорректно, грязно. Никто не признает это слово своим. Теперь оно — мое. ВИЧ, СПИД.
Все, во что вы не верили.
— Да, спасибо, в четверг мне удобно.
* * *
Я третий раз берусь за ручку двери.
Что-то надо купить… Молоко, хлеб, к чаю.
40. ЧЕРНЫЙ ИЛИ БЕЛЫЙ?
Две СМС-ки идут, к Сашечке и к Черному Алексу.
«Как дела?»
Ответ от Сашечки:
«Зашибись! Прошел в финал».
«Все прекрасно!» — от Черного Алекса.
Ну, раз в финал — лучше не беспокоить.
Тормошу Черного Алекса, с подковыркой:
«Как дела со здоровьем? Ты точно уверен, что все нормально?»
И ответ: «С тобой уже связались?»
Все зеркала почернели. И воздух… Что-то произошло с воздухом.
— Когда ты узнал??? — пишу ему.
Еще не в силах сложить два и два. Еще выстраивая невинненький сценарий: почувствовал себя плохо, проверился, и тут же дал мой телефон.
— Я диагностирован в 2001, — приходит ответ.
От меня осталась только оболочка. Сашечка… Вася… Алеша…
«Ты — преступник!»
«Да, я сделал много плохого и теперь раскаиваюсь. Давай встретимся, поговорим», — пишет он.
…Нет, я действительно — лауреат премиии Дарвина. Я что, не знала, что Африка — рассадник СПИДА? Зимбабве — не должно ли было бить в уши, как тимпаны? Что тебе. Африка — это Чунга-Чанга из детства? Личная сказка? Порнуха на экране? Выдумка?…
«Потому что этот СПИД в кажной бабе там сидит»… Откуда это?.. Я что, не знала? Ах, меня никогда не обижали? Кого угодно — но не меня. Милую и пушистую.
На, получай!
…И это еще не самое страшное! Как бы мне самой не оказаться — убийцей. Злом.
Саша… Вася… Алеша…
41. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
Обстановка — зеркало, кровать, застеленная черным, пианино, омерзительная мокрая лестницей за окном, с вечной мокрой вороной.
Я уже изрядно пьяна. А я трезвой тут и не бываю. Эта комната закрыта для трезвых. А как тут качается пол! Ни в одной сухопутной комнате так не качается пол!
Помнишь, как ты поднимал ноги и переставлял, как журавль, а я пробегала до туалета рывками, как между взрывами гранат? Ты вытаращил невидящие глаза: свет мигает! И встал, шатаясь, протягивая незрячие руки… Еще и не то может быть, если взять полпакета МДМА и снюхать за полночи.
На мобильнике у меня осталась фотка от того вечера: мы, голые и «упоротые» — с растопыренными глазами смотрим в зеркало. Он урод, и я урод. Красавцы!
Как они отмоют, починят комнату, когда ты съедешь? Как зафиксируют пол? Как починят свет? Как сдадут новому жильцу? Какие ему будут сниться кошмары?
Тут в каждой вещи — как чертик на пружине, сидит паническая атака.
* * *
Мы с Васей сидим у зеркала, я — элегантная как рояль, с бокалом вина. Сашечка с Каролинкой — за столом.
Все, казалось бы, привычно и знакомо.
Вася ежится от моей близости. Его нога — сама ползет к моей ноге.
— Знаешь, я просто не могу смотреть спокойно на такую обтягивающую одежду, — говорит он тоном «черт меня побери, мадам, если я сейчас не ущипну вас за жопу».
Хотя обычно только хмыкает и качает головой на мальчиков «охо-хо-нюшки», но сегодня он в ударе… И я вся такая тонкая и в джинсах. Это он зря. Сегодня здесь все не о том. Но Вася про это не знает. И у него шевелится в штанах, а у всех, кто в теме, шевелятся волосы на голове.
Я отвечаю смешком: «все шалите, барин!» И вспоминаю — башку-то мне не отрезало — какой у Васи классный.
Каролинка блестит глазками и мелкими глотками отпивает бокальчик.
* * *
Саша зовет меня на кухню. Кивает — не вижу. Кивает — не вижу. А! Иду.
Я слегка испортилась, я не различаю знаки.
— Ну, что? Рассказывай.
Я повторяю то, что уже сказано. Звонок. Проверка. Позитив. Признание Черного Алекса.
— Понимаешь, он выглядел таким здоровым, таким бойким… для своего возраста. Чистая кожа, зубы…
С гадливостью машет рукой. Плевал он на Черного Алекса.
— Я ж тебя спрашивал: ты чистая?
Какая гадкая чужая фраза. Какое слово! Это как «белый». Не наше слово. Дворовое.
Слово — мира страха. Регулярных проверок. Из мира тех самых взаправдашних проституток, которых он еще в двадцать лет снимал. Останавливает мент. У нее проверяют паспорт. А паспорта, конечно, нет. Ну, понятно, даешь десятку.
Вот из такой глубины все идет. Вот из такой.
— Чистая! Ты так говоришь, словно я уколы не колол. В жопу. Сам себе.
У него тяжелый подозрительный взгляд. Я игралась и хиханьки. Вляпалась и чуть его не утянула.
Я! Кто я? Неизвестно кто, перезрелая, старая игрушка, которую лишь допускали до игры…
И он! Вы смеетесь! Столько таланта, работы, столько надежд… И все — еще! — только в самом начале.
Сколько позади — побед, концертов, женщин.
Но сколько еще — впереди!
Его НЕЛЬЗЯ разрушать.
И принял он смерть от коня своего. От плюшевой, старой, привычной, верной-без вопросов игрушки! Нет, невозможно!
…Его-то за что — он же правила игры знает? По-жесткому, по-дворовому. Он выжил. И не через такое проходил. А меня «никто никогда не обижал»!
В мраморном молчании возвращаемся в комнату.
Каролинка попивает из бокальчика и весело крутит головой. Вася мудро улыбается — не понимает, что там, черное, страшное — идет за кулисами?
— Ладно, — кивает Сашечка. — Будем считать, что все здесь свои. — Включая в круг посвященных Каролинку.
Эх, ходи изба, ходи печь, Настасья Филипповна для бедных!
— Я уверена — все, все прошло, ударило только меня. Понимаете? А теперь у всех ТОЧНО все будет хорошо. Теперь есть гарантия. Я пострадала за всех. А вам — вам-то теперь просто надо жить и жить, и играть на этих ваших пианинах.
И прочий шит на запинающемся английском.
Мне хочется всех утешить, простереть крыла… Я — мать, выклевавшая себе сердце, защищая птенцов.
(Встаньте, детки, встаньте в круг!) Что же сегодня все так скучно? Почему под ногами не качается пол, не мигает свет, одежда не летит на пол? Почему сколько мы ни пьем — все трезвы?
Я раскидываю руки, я Джизус Крайст. Урра! Я снова с вами — вот радость-то какая!
* * *
А зачем я пришла? Зачем же я приперлась, какие точки над i я хочу поставить? Я приходила сюда как проститутка, которой перестали платить — и она скулит под окном, чтоб обслужить мальчиков забесплатно. Но теперь даже это прошло. Что мне еще надо? Я все сказала по телефону.
Сашечка сползает со стула, роется, достает пульт, они с Васей усаживаются играть.
Вася за синего в кимоно, Сашечка — за красного. Бам — по мордасам. Присел. Отскочил. Сальто назад. И снова по мордасам — бац! Обманное движение. Взял в клинч. Отскочил. И ногой, ногой, ногой!..
— Ах ты так меня!?
Вася уходит пописать. Каролинка возится на кухне. Звонок мобильника.
Сашечка уходит. Гул голоса не удивленный. Но — черный. Возвращается. Что еще? Что у нас еще произошло?
Нам что, мало завязок для сюжета?
Кажется, уже все барабаны охрипли.
И точно, новость — тиха:
— Понимаешь… Джули — беременна.
Осколком старого голоса, когда я — самая близкая женщина. Мне можно сказать. Я ревновать не буду. Ну, буду, но насрать.
Джули — это та самая китайская «девочка-тоже». Фиолетовая кофточка, ногти-лепестки.
Я падаю на диван. Комната плывет. Еще и это.
Он появился перед ней — сияющий, нежный, ягодками кормил. Смотрел прямо в душеньку. Взял за руку и увел в ночь. В ночь, где не пыхтят, не просят. Красиво раздеваются, как взрослые.
Надеется, небось. В будущем — розовые поля, и они по ним плывут. С маленьким китайчонком между ними. Он же влюбился в нее. Она же это видела своими собственными глазами. Женское сердце не обманешь.
…Если он — от меня, а она — от него, то может все обойтись. Накачают драгз по самое некуда, получится нормальный ребенок. Мне про это все уши прожужжали там, в больничке.
Что я порю, это из другого сценария! Ты — все просчитывать взялась? Ты?..
Ты уже все запорола!
Аборт, конечно. Очередной аборт и очередная драма. Стряхнуть с рукава. Достать денег и оплатить. Ему не впервой.
И я — что я порю? Если он от меня, а она от него, то кто тогда получаюсь я?
Молния на черном мешке, неподвижные ступни под простыней, сопящий полицейский, Макс в неглаженой рубашке:
— Это ваша жена?…
— Да.
* * *
Мы еще раз идем на кухню.
Презрительно, но слегка нежно:
— Что ж ты так не заботишься о своем мужчине?
Черная игла попадает в бороздку. В воздухе — шипение, — как стая ворон, как гарь от костра…
Я ничего не вижу, я не слышу собственных слов.
Кто это «мой мужчина»? Ты? Макс?
Ты — мой мужчина? Смешно!
Условием договора было — не лапать, не смотреть, не требовать. Я и не. Я послушная.
Ты — мой самый любимый абсолютно чужой человек. Вот ты кто. Был.
Ты — тот, кто кончился и никогда больше не будет.
Да и я — кончилась. О чем мы?
Сердце у меня давно взорвалось. Но я еще оглушена взрывом.
Это нечестно! Даже мертвым — не надо врать.
Я о тебе не заботилась?
Я почти месяц думала — только о тебе. Только о тебе — и о мальчиках.
Вставала с постели — и меня не было, была только огромная мысль, бьющаяся в стекло, как гигантская моль: как они?
И не я ли чуть не грохнулась в обморок при вести — о твоем ребенке?
Меня больше не будет — и тебя не будет. О чем мы говорим?
Только не говори — «не думала о тебе»…
— Ну, признай, что ты — ни в грош меня не ставил! Использовал меня, как половую тряпку! Как ветошку! — и получаю пощечину.
Горящая кошка получает не больше прав, чем обычная кошка, пришедшая за молоком.
Сашечка выламывается из кухни. Из глубины комнаты — Васе:
— Проводи ее!
У порога я оборачиваюсь, бросаю назад, в черноту:
— Об одном прошу: скажи результаты.
* * *
И через три дня приходит СМС «негатив».
Навсегда останется у меня в мобильнике.
И мальчики — негатив.
И — Макс.
42. КАРОЛИНКА
Мы гуляем по городу с Каролинкой. Каролинка — маленькая, как королек. Польско-тайванского происхождения. Из Голландии.
У нее детское личико. Детские ручки. Детский голосок. И большие сиськи. Она на шестнадцать лет меня моложе.
И еще немного о Каролинке: Каролинка спала с Сашечкой, болталась с Сашечкой, была приближена — и Каролинка совершенно не завелась. Мужик как мужик. Талантливый. Кокса много нюхает. Но никак не «он».
Они, наверное — иммунны. Могут, как Джейн, — прекратить. Могут, как Каролинка, — не начинать. Как получается?…
Каролинка тоже считает, что она — трагична. В нее влюблен пожилой виолончелист с мировым именем. Вот. Дать — не дать, ответить — не ответить?
Ее трясет от невероятных возможностей, от ответственности: кому ссудить свое маленькое тело.
— Я ленивая, — сетует она. — Мне надо музыкой заниматься, а я!..
Мы заходим в ночную забегаловку, продавец изгибается и скалится на Каролинку:
— Только для вас!
И поливает чипсы за три копейки кетчупом на копейку — жестом официанта, подающего лобстеров в Харвей Николсе.
А я беру ее за руку и делаю злобное лицо.
И кетчуп в его руке пересыхает, и он делает лицо «понятно-понятно».
Тут такой город: половина — лесбиянки.
Это мы так прикалываемся.
Мы садимся на узенькую скамеечку и кормим друг друга чипсами, и я показываю ей ту знаменитую СМС: «Сорри. Я сделал много плохого. Давай встретимся-поговорим. Алекс».
Увидев подпись, она застывает, чипс выпадает из крошечного ротика:
— Как, Сашечка?…
Секунду врубаюсь:
— Сашечка? Почему Сашечка? При чем тут Сашеч?.. А! Ха! Нет, ты что, не боись — их просто зовут одинаково. Черный Алекс и белый Алекс.
(Моя жизнь — дешевый каламбур.)
Она вздыхает с облегчением и дожевывает чипс. И мы выходим из заведеньица.
И идем по улице. Огоньки. Она говорит:
— Давай улетим в Турцию? Прямо сейчас. У меня есть деньги.
У нее, соплюхи, деньги есть! А у меня нет.
Нет, не так: у нее, соплюхи, есть СОБСТВЕННЫЕ деньги. Она их заработала. Наиграла на большом рояле вот этими малюсенькими лапками.
Они все-все-все считают себя трагическими фигурами. И все — на Рождество едут к маме.
— А паспорт?
— И паспорт!
— А у меня паспорт — дома.
И мы идем домой. Но я не собираюсь улетать с ней и сейчас.
Хотя могла бы.
…Странно, что я еще двигаюсь, разговариваю, шучу, примеряюсь к чужой жизни… А все уже уплыло, свернулось колечком — и давно. Счет уже идет на недели, месяцы. Пора написать на стене дату и класть цветочки на годовщину: все кончилось тогда… Но я еще — гуляю, планирую, куда поехать, выслушиваю чужие признания…
…И что мне ее пресная трагичность — трагичность, когда в любой момент вы можетет поставить тумблер на «стоп»?
43. СТРАХ
Страх и шок вымораживают сказки. Вымораживают саму ткань, основу, по которой мы вышивали. Не только настоящее — и прошлое тоже. Фразы становятся лишь фразами, отделенными от людей… Все, что было легкой шуткой, легким дождиком и светлыми лучами солнышка — вдруг распадается на куски.
Всю жизнь притворялась, что я — записная книжка, альбом, наблюдатель. Нечто в форме женщины. Меня вообще нет. Не надо на меня смотреть!
Ведь есть же — есть же столько по-настоящему интересных персонажей! Посмотрите на Макса — как он реален.
Посмотрите на Сашечку — это же фейерверк, шутиха!..
А я — так просто, антракт в перерыве между сном.
Вдруг, когда наступает страх, — альбом распадается на листочки. Нет тебя — и нет истории. А ведь врала-то, врала! «У них все нормально — и я — счастлива!» «Только бы, только бы, только бы!» Ну вот, считай — повезло. Никто не задет. У всех все нормально. У всех. Так что же? What’s the problem? Почему — чернота, почему — страх?
Неужели все-таки я — главная в моей жизни?
44. ЧЕРНОТА ПО ТУ СТОРОНУ
— А, приссала?
Смирись. Отныне будет только так. Раз в три месяца — анализ крови. Потом — результат. Когда число упадет до 350 — таблетки. И эффекты всякие там, побочные. А ты что думала? Вечно быть милой и пушистой? Истекая слизью, распаренная, как после бани, доверяясь всему миру, дуясь на весь мир, — а поутру лапкой умылась — и опять ясочка?
Зайку бросила хозяйка. Зайке вдули в кровь красивый вирус. У зайки вместо крови — говно.
Стены крашеные, халаты синие и зеленые. Медсестры весело смеются, врачи — добродушно-английски офисно, обыденно — болтают. Как дела? Как здоровье? Ах, вы в спортзал? Молодец! Не курите? А я вот не могу бросить. Нового бойфренда завели?…
Врачи — только стрелочники, что они могут предсказать? Никто ничего не знает, все индивидуально.
— Теперь ВИЧ — это не смертный приговор. Люди живут, заводят детей. Скорее всего, вы умрете от чего-нибудь еще.
Умру от чего-нибудь другого… Доктор, а отчего я буду жить? Я — мастер жить на последние минуточки, на краю ступеньки, на грани приличного возраста, но не так же — с дырой в груди и дерьмом вместо крови?
Чужое, чужое, роевое…
Чужие. Чужие. Не потому, что я больная, а вы — здоровые. Не потому, что на мне дорогое платье и серебряные браслеты, зато нет ни машины, ни дома, ни детей. Не потому, что я вчера танцевала до 5 утра.
Я привыкла дожимать досуха. Я привыкла жить на приступочке.
Но не на пожарище.
Это — новое умение.
Посмотрим, как ты тут сможешь приладить — розовые занавесочки.
* * *
Я (почти) могу вести (почти) нормальную жизнь?
Это мне говорит кособокая, рыхлолицая медсестра. Веселая. С местным акцентом.
Кому заманчива нормальная жизнь?
Благодетельствуете, принимая обратно в «нормальные»? Подаете руку? Я польщена.
Я киваю.
Раз в три месяца — проверки. Потом — таблетки. Я не хочу знать число. Скажите мне просто, когда начнется.
Да или нет.
Мое право.
* * *
И все в мире — стало про это. И вокруг — болезни, болезни… Газеты, телевизор… Словно люди стали в сто раз больше болеть. Обращаю внимание, примечаю, читаю. Неизлечимые болезни, возникающие неизвестно почему, срок жизни — год, два, при лечении — пять… Откуда возникло? Раньше ведь вроде — не было? Страшная, страшная разыгрывается лотерея. ВИЧ еще — не из самых плохих. Да, неизлечим… Но лет пятнадцать, двадцать… даже до тридцати — будет… А что же ты — до ста лет хотела? Все равно же нет!
И если кто-то неосторожно начинает пороть, что СПИД придумали, чтобы выбить фонды, чтобы всех запугать, что лучше бы — бросить исследования, и бросить все силы, например, на рак, который изучают-изучают — и все не победят…
Как я могу смотреть на этих людей?
Как я могу смотреть на тех, кто хочет меня убить?
45. ВСТРЕЧА
Макс и Сашечка сидят за столом. За нашим столом. И кушают мою жареху.
Да ни в жисть бы не подумала!
Встретились передать что-то забытое у него, ерунду какую-то — он был со всей свитой, с Каролинкой — и свита рассосалась, осталась одна я.
Болтались-болтались-болтались — в дом зашли.
— Давай я зайду пописать?
Ну и:
— Водку буде… те?
— Да, давай… те.
— Красивое у вас серебро. Ух как!
— Да… серебро. У нас.
Забавно, но не как я ожидала. Разные. Космически разные. Разные до того, что друг друга — не видят.
Сашечка достает мобильник.
Хмурится, достает из кармана рулон денег и пересчитывает (я такого рулона давно не видела — if ever. Зачем вообще наличные?), отрывисто бросает:
— Да, есть… Ну, рублей двести-то у меня будет!
Он бежит по лезвию ножа, черный, резкий, пробежал через наш дом — и сейчас выбежит.
По неотложным, настоящим делам. А мы-то тут — сидим, вялыми серыми кульками.
Черный свитер Сашечки — и обширное блеклое пятно Максиной жилетки.
Макс скучно смотрит маленькими глазками: и это все? Он даже не позволяет себе иронии, даже не поднимает бровь. Просто — сереет в желтом свете комнаты и пережидает, пока это черное, шумное отсюда унесут.
— Красивые у вас часы.
— Старая «Омега».
— Дайте посмотреть. Продашь?
— Извини, самому нравятся.
(Макс сейчас уснет. Кто это? Тощий, черный, шумный и глаза таращит. Ей-богу — чертяка! Страшно! Ольга, конечно, не просто дура, а мегадура: нашла на кого запасть! Но сердцу не прикажешь.)
Но легче всего, конечно, мне, — дуре, невинной жертве, и вообще я писать хочу.
Сашечка смотрит на меня с жалостью:
— Почему ты все это разрешал? Ей… ходить… ко мне?
— Ну, я думал — возьмется за ум. Все же взрослый человек. (Это все? Теперь, наконец, уйдешь?)
Сашечка пытается не смотреть на Макса как на идиота. Это — взрослый человек? Это?
Я сижу на полу, играю в кубики и пускаю слюни. Все не так интересно, как я думала.
Тоже мне! Взрослые, умные мужчины! Ха! Макс просто не выспался, а Сашечка — искрит от кокса.
Макс верит в любовь. Я верю в развлечения, Сашечка верит в себя. Вот и все.
Я играла и проиграла, Сашечка играет и выигрывает.
А Макс — самый умный: он не играл — и у него «Омега».
…Сейчас Сашечка что-нибудь отчебучит. Знаю я его в таком состоянии!
И точно! Ухожу пописать — Сашечка поднимается с колен. Перед Максом.
— Понимаешь — я ничего не делал! Я просто разрешал ей приходить — как ты разрешал ей выскальзывать из дома. Взрослый же человек, действительно! Да, я видел, что она влюблена и что хочет меня. Но что скрывать — она же сексоголик! Ей все время хочется — и всех. Ну да, меня ей хотелось больше и чаще… Но взрослый же человек! Действительно!.. Добрая… Никому не верила… Каким я-то боком виноват? Каким боком я виноват, что она решила — нет запретов? Что можно просто сказать — мне вот это нравится — и буду ходить, и буду из дома убегать?… С негром… тьфу — с негром трахаться? Ну, мужик, ты ж меня понимаешь! Это уже вообще! Я-то тут при чем? Да, я знаю, что такое боль и ревность… О, я знаю, не буду отпираться, я не скажу, что это ерунда — сам прошел через ад. Но ты же не ревновал? Ты так — не ревновал?… Ну не могу я следить за всеми бабами, что рядом вьются! Не держи зла, мужик!
Но говорит-то он только:
— Извини… те.
Пауза. Макс с трудом разлепляет глаза. (Боже, оно еще и на пол бухается! Прямо в гостиной! Ольга, кажется, это твой знакомый? Нельзя ли ему намекнуть, что он… засиделся?) Разлепляет глаза и бормочет:
— Наша собачка, наша… А то ж… Да дурная она у нас. Мы уж ее привязывали — все без толку. Перегрызает поводок. Вот вам, батюшка, за труды рупь… Рупь вам… за труды… ну и… того… мы тут чаевничаем…
— Наша собачка, наша…
И Сашечка уходит в ночь. Весь черный и острый. Он же не планировал на колени бухаться! И на фиг ему эта больная баба и этот сонный тюфяк! …И в ночи его ждут друзья, которым он с небрежностью элегантно отслюнит из пачки двести фунтов.
— Он ушел?.. — открывает Макс на пробу один глаз. — Уф! Наконец-то. Это черт знает что такое! Почему он такого… цвета? Почему так… дергается? — И он достает чайничек с инкрустацией и клубничный чай. — Можно хоть чаю попить!
И я завариваю чай. В пижамке.
46. ЭМЕТ И ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ
…Not being judgemental.
Полицейский — его зовут Эмет — одет во что-то немаркое, запоминается только его серьезное розовое лицо. Кажется, что он подкручивает какой-то невидимый тумблер, меняя степень озабоченности на лице.
Вошел весь строгий, лаковый — а потом смотрит, что я вроде ничего, не кричу — успокоился.
Посветлел.
У женщины-полицейской (ее зовут Рейчел) уровень тревоги в лице фиксирован.
Прикидываю: она-то должна быть на моей стороне.
— Мы понимаем, как это серьезно. Это первое дело подобного рода.
Я пошла в полицию (благо рядом, напротив дома) — и заявила о совершенном преступлении. Потребовалось время, чтобы пробиться. В холодном коридоре, перегибаясь через прилавок, я кричала кривой бабе в тулупе: да, заразили. Что значит «если заразили — это не значит, что больна»? Именно, что больна. Нет, вы уж запишите! Потом она утопала в глубину, оттуда крикнула: это все, с вами свяжутся.
Теперь они пришли ко мне домой, чтобы снять показания.
Женщина достает блокнот и начинает записывать. Прошлый век какой-то.
— Сколько ему грозит?
— До 7 лет.
Большой срок для смертельно больного человека. Вряд ли в 50 он сможет снимать девок по клубам. Хорошо.
— Понимаете, я не отомстить ему хочу — а предотвратить распространение вируса. Он очень сексуально активный. За год он точно заразил трех. И это будет продолжаться. Вряд ли он остановится.
«Не хочу отомстить». Но картинка: Черный Алекс в оранжевой робе за решеткой — приятна. Justice. От слова just. Берем лист — вот так, проводим черту. Я на воле. Что бы я ни делала — я не преступница. Ну, наркотики… так это закон неправильный.
Моральные законы я не преступала. Я не причиняла другим вреда. Я делала другим хорошо. Значит, он должен быть — навсегда (7 лет — почти навсегда), прочно и надежно упрятан туда, за черту.
Кажется, оранжевая роба — в Америке. А здесь?
— Чашечку чаю? — Расставлены чашечки тонкого фарфора, серебряные ложечки блестят.
— Пожалуй, нет.
У Эмета такой вид, словно главное для него, — укутаться и правильно питаться. Жена, небось, звонит на работу, проверяет, как он там. И дает с собой термос чая.
— Вы разрешаете доступ к вашим медицинским записям?
И тут бы мне и спросить, что такое эти «медицинские записи»! Хотя бы задуматься. Я забываю, что в этой стране все по-другому. Я знаю слова — но не знаю, как у них работают мозги.
Медицинские записи — это те ведра соплей, которые я наплакала медсестре, когда была не в себе… Это мои проклятья Черному Алексу… Это мои стоны: «Ну и что со мной теперь? Как быстро разовьется? Он выглядел таким здоровым…»
И главное — это мои стоны «бедные мальчики!».
Вот это все — медицинские записи!
Хотя бы задуматься. Или сказать «нет, не разрешаю доступ». Или понять, как все безнадежно, и все прекратить.
— Да, конечно, — говорю я.
Я верю в науку.
— Опишите, пожалуйста, как на вас это отразилось.
Шок, замедление рефлексов, провалы в памяти… Социальные последствия: мне, правдивой женщине, придется утаивать, в общем — лгать друзьям и знакомым (хотя на работе все равно начальство догадалось). Меня не пустят в некоторые страны. В Австралию. Я никогда не увижу коал! Никогда. Мою жизнь никто не застрахует. Мне не дадут ссуду на дом. Это-то должно их пробить! Дом, страховка — это же для них все!
Да, я знаю, что я не умру. Сразу.
Easy to say when somebody else’s blood is shite. Кажется, я наступила на правильный камешек.
Ха-ха, ну конечно, вот я прямо угадала, что сказать и как! Как всегда, сглупила! Все не так!
Я сломлена, напугана, моя жизнь разбита… но я по-другому сломлена, неправильно разбита. Я не раскаиваюсь по поводу своей беспорядочной сексуальной жизни, я не прозрела… я просто ошиблась. Мне просто не повезло.
Полицейские не judgemental — но чувствуют фальшь.
Черный Алекс просто оказался аморален на два шага больше. Нам вместе было круто. А может быть, — подводный страх, через который он уже переплыл и который накрыл меня сейчас — может, он и делал такой крутой расслабуху.
Видно же — не раскаиваюсь. Половина населения пьет, другая употребляет наркотики, в Моссаде режут, на улице насилуют.
Но спроси любого — они знают, что хорошо, что плохо. Re-la-tionships. Трахаются — чтоб отношееения!
Я только одна считаю, что гулять — по приколу. И что все пацаны поймут.
А какие там пацаны! Взрослая уже тетка.
Эмет зачитывает написанное и уходит. С моих слов записано верно.
Революционное дело — Алекса обвинят в нанесении grievous bodily harm. Не просто в том, что подверг опасности.
(Зря, зря, зря!)
— Я слишком болботала? — спрашиваю Макса.
— В конце — немного да.
Знаю, что и не в конце, а всегда, но это же не важно. Они должны всех защищать, и тех, кто болбочет — тоже.
* * *
— Ваши медицинские записи показывают, что у вас были другие партнеры.
Да? Это осложняет дело. Но еще не все пропало! Правда на моей стороне. У нас же есть признание, его добровольное признание — я на него не давила, не пытала его, сам сказал.
— Хорошо, давайте признаемся — были еще партнеры.
Я опускаю глазки и говорю со скорбью в голосе: понимаете, черт попутал. Были и Вася, и Алеша…
Я — сука такая — при живом муже рассказываю про своих любовников! Множественное число.
Назвать их телефоны? Для этого мне надо им позвонить. Не могу без разрешения.
Damage limitation. Давайте уж хоть как-то! Тут немного соврем, тут глазки опустим. Дело-то ясное!
Задача — его остановить. Не наказать. Остановить.
Эмет зачитывает написанное и уходит. С моих слов записано верно.
* * *
Почему Сашечка не звонит? Неужели ему даже такой малости для меня не сделать? Неужели… трусит? Нет, точно не трусит. Невероятно. Возиться не хочет. Жду-жду-жду.
— Послушай, ты не мог бы позвонить полицейскому? Ему нужно только одно: что ты проверился и здоров.
Долгое молчание. Молчаливая брезгливость. Но голос мягок, пусть и устал.
— Я в Германии. С туром. Если тебе это надо, то приеду — позвоню. Хорошо?
В следующий раз приходит только рыжая Рейчел и смотрит на меня во все глаза.
— Ну как, он позвонил?
— Нет. Дайте нам телефон, и мы сами выйдем на него.
— Я все-таки еще постараюсь пробиться…
Потом я узнаю. Его юрист сказал: нет шансов. Правосудие, факты — все на ладони. А шансов нет.
Да, все это было бессмысленно, нелепо, ненужно — как все, что я начинаю. Как веером распылившаяся дорожка, как огонек сигареты на пластике, как разлитое вино…
Я — не та, кто усмиряет вещи и людей. Я не могу жить в недобром, преступном мире. В мире, где мне так активно хотят — повредить.
А Сашка — умный, он знает, где его могут схватить за жопу, где он может вывернуться. Он и в больничку-то пришел, посмотрел на черные рожи с коростой — и ушмыгнул в частную клинику.
«А они увидят в крови белый?» — спросил Сашечка.
А мне, как честной гражданке, нечего скрывать.
Ах, мне все уже равно, поскорее бы все кончилось!
— Хорошо. Вот его телефон. Но он может не взять трубку сразу. Обычно не берет.
— Мы знаем, как действовать в таких случаях.
Когда ему позвонили — этот очаровательный молодой человек очаровал и полицейских.
* * *
Зачем вы раскопали этих других партнеров? Это же не обвинение — вы сами. Вы что, хотите, чтоб он гулял по улицам и распространял? А бесплатный абонемент в клубы вы не хотите ему дать?
* * *
Розовый Эмет и рыжая Рейчел ходят ко мне, звонят, мучают меня и мучают мальчиков.
Бедный Вася страдает:
— Замучил. Звонит, звонит. С моим английским — тяжело. Но я сделал все, что мог.
Алеша назвался другим именем, перенервничал.
* * *
— К сожалению, у нас плохие новости: судья прекратил дело.
— Прекратил? Вот просто так прекратил? Ах, какой шалун!
* * *
Через пару недель ко мне на почту сваливается письмо: «Вы, наверное, возмущены тем, как вас представили на процессе. Мы можем вам помочь представить дело в истинном свете».
И адрес скандальнейшего, грязнейшего, бесстыднейшего таблоида.
Пять раз усаживаюсь писать ответ: я не возмущена и не поражена тем, как меня описывали на процессе.
Это вообще не имеет отношения к делу.
Я возмущена и поражена, что судья терял время и копался в блокнотиках, вместо того, чтобы отнести две пробирки в лабораторию на анализ.
В две секунды вопрос был бы решен.
Я возмущена и поражена, что судья, отпустивший гулять по улицам человеческую бомбу, начиненную смертельным вирусом, пошел домой, потрепал своих детей по волосам и лег в кроватку, довольный собой.
Но я не отправлю письмо.
Пару дней мы взвешиваем, сколько стоит честное слово такого журналиста — честное слово не разглашать имена и не публиковать фотографии.
Потом до нас доходит.
Цена этому слову — пшик.
Так я и не прославилась всенародно.
47. ПРОСТУДА
Макс выходит на кухню, брякает кружками необычно долго, открывает ящики.
Бряк! Шшшу! Звуки становятся более злыми. Звуки хотят, чтоб их услышали.
Это громкое, показное «кхе-кхе» — берет меня за шкирку и переносит в другую вселенную.
Я жду, медлю, злость и желание внимания копятся в воздухе, спичку поднеси — будет взрыв… Все. Дольше ждать нельзя.
— Бряк!
Все. Надо выйти.
— Ну что там? — самым невинным, «я только что проснулась и ничего не знаю» голосом.
Он уже все нашел. Сидит с кисло-обвиняющим видом. Как-то сразу скособочившись внутри свитера так, что видно — ему хреново. Рукава висят. Ворот на одну сторону. Медведик.
Таблетка прыгает в стакане.
— Начинаю заболевать.
Ни разу не было, чтоб аспирин спас. Маленький бесполезный ритуал.
— Пожааалуйста, не заболевай!
Идет в комнату, ложится на постель, в халате поверх свитера. Может, и не заболеет. Ждет.
— Я выходить уж сегодня не буду.
Но пока — не постельный режим.
Домываю посуду. Вешаю на мойку желтые перчатки. Правая порвалась. Правая рука — парнАя, мокрая, сморщенная. Не забыть купить перчатки.
— Что тебе купить?
— Все!
Список еды как стихотворение, белое. Белое, скучное.
Курица.
Каша.
Сок.
Прихожу, ставлю сумки в коридоре:
— Ты как?
Выходит из комнаты, хмурится:
— Я? Все так же.
И, конечно, про перчатки забыла. Опять надеваю старые. В правой — хлюпанье воды.
И ночью — шум, шорох из комнаты. Потом — молчание. Лежит, смотрит в стенку. Ждет.
Ночные часы расплываются, как чернила на промокашке. Доползают до краев дня.
Заболевает или нет?
— Поставь мне водички — и спи.
Он так деловито болеет. Он с такой готовностью стареет. Он так пронзительно смотрит на меня:
— Ох, плохо тебе будет! Ты же — не привыкла болеть.
Он — привык. Он — профессионал маленьких недомоганий: то в боку колет, то из носу течет, то живот болит… На тумбочке — стакан воды, платки, микстура. Аккуратная тумбочка больного. А я?..
Да. Я — не привыкла болеть. Простуда для меня — катастрофа, насморк — свидетельство провала, бульканье в животе — серьезное обвинение.
Лучшее лечение от всего — часика два в спортзале.
Просыпаюсь в девять. Звякает какая-то кувалда за окном. В его комнате — тишина. Сонная тишина. Как он там, во сне, — выздоравливает или просто преет в коконе халата?
…Прислушиваюсь к тишине, наскоро записываю сон.
Кто здоров, кто болен?
Я — больна.
48. АССОЛЬ (ЧЕРНЫЙ АЛЕКС)
Я пришел домой… Желтые потоки воды текли из-под двери. Моя принцесса сидела в ванной, скорчившись в форме буквы Ф.
— I’m scared… Scared of dying… Я боюсь, что я умру, пока тебя нет… Я боюсь.
Я сдернул джинсы, они вывернулись, черные трусы глянули своей не очень чистой изнанкой… Мои нежные, нежные и нужные ей вещи, вещички, лежали там, свернутые в комочек, весь долгий день, пока она сидела в ванной, а бедняга Алекс работал на заводе и ходил в желтый офис мистера Д, и скалил зубы, — скалил зубы и корчил клоуна, чтоб они думали: этот прикольный Алекс — не будем его увольнять, он веселый парень!
И все для того, чтобы у нас была эта клетчатая квартирка, похожая на ящичек со швейными принадлежностями… Но в этой квартирке целый день она сидит и думает обо мне, и ей кажется, что она умирает.
Глупый Алекс, в первый месяц я ей сказал: хочешь, я куплю тебе швейную машинку — шей, не скучай все время по мне. Но она обхватила меня своими маленькими ручками, испугалась — и на следующий день не смогла успокоиться: пришлось мне пропустить день. Не знаю, приносить ее на работу в корзинке, что ли? Оставлять в шкафчике, прятать за большой трубой? Выдумывать поручения и забегать к ней каждые пять минут на секундочку… Но рядом с ней я стану сумасшедшим, я выну ее из корзинки и зацелую при всех!
Я сажусь напротив нее в ванну, пятки к пяткам, говорю:
— Все-все-все. Теперь я с тобой. Извини, что я тебя оставил. Теперь я с тобой… Бейби, нам здесь будет определенно мало места! Видишь — не все влезает в ванную. Видишь? Торчит! — Я корчу клоуна.
Она всхлипывает и скребет по ванной пяткой. Старинная ванна издает звук, как будто где-то в болоте умирает чудовище. А может, — так воют старые трубы. Она перестала быть как буква Ф и стала как буква М. Ее черные глазки выглядывают из-за мокрых, спутанных волос.
Я глажу ее маленькие ручки — большими пальцами по ладошке.
— Ну, ну, ну… ну?
Она выгибается — становится как буква А.
До нее я тоже как-то жил, и даже был весел — а теперь без нее мне невыносимо грустно, а с ней — так, как надо. И ей без меня тоже никак. Вот так и получилось, что до встречи мы были целыми и иногда счастливыми, а сейчас друг без друга мы — безумны. И полдня для нас — черный ад, а ночи никогда не хватает.
Я беру ее на руки, с пяток ее капает вода, капает между моими большими следами. Я как будто несу ведро с водопоя: черные следы и многоточия капель. Я кладу ее на диван и на секунду думаю: укутать ее, мою маленькую, оставить спать — или разодрать ее на части — и начинаю ее помаленьку целовать и распеленывать, целовать и раскрывать. Она вздыхает и раскидывается на диване, как под солнцем, — и я падаю на нее и покрываю ее всю.
Белое мое зернышко в моей черной мякоти! Я расту из тебя, я расту из тебя вверх — и вновь пускаю корни глубоко вниз… Я пускаю корни глубоко, и мои корни — живые, а мои ветви пробираются к небу, — живые, чуткие.
Почему нас разлучают? Ведь не я придумал слово «счастье» — оно придумано до меня. Значит — они знают, знают, что такое бывает, они знают, что жизнь коротка, что моя бейби умирает без меня, и сидит в холодной воде, и смотрит, как ржавые трубы трясутся от хохота… Вы все это знаете, богатые, сильные люди в телевизоре! Вы знаете про счастье — если вы забыли — я покажу вам, я приведу вас за руку и покажу вам: вот глаза моей девочки, когда она смотрит на меня. Вот глаза моей девочки после того, как море-Алекс покачал ее на руках, словно лодочку.
Почему же вы не сделаете, чтоб счастья на земле было больше?
…Я знал многих женщин. Я знал эту странную русскую. Но она ничего не знала про любовь. Не так, как у нас с бейби. Мы вместе — неостановимы. Бессмертны. Да, — бессмертны!
…В четыре часа ночи стена справа превращается в барабан… Мы с бейби плаваем по морю. Нас много раз штормило и трясло, наш корабль уже давно стал призраком, но раз за разом выныривает из тумана — а кому-то не нравятся наши стоны.
Я заматываю полотенце вокруг бедер и выхожу. На пороге стоит бочонок в цветном халате, бочонок по имени Миссис Лейла Джонс. У бочонка усы под носом, и он хочет спать.
— Вы мешаете мне спать, — говорит Мисс Лейла Джонс.
Она похожа одновременно на букву О и букву Ж. Она не нужна. Она не бессмертна.
Говорят, у нее есть деньги.
— Мы будем потише, Мисс Лейла Джонс, — говорю я.
Корчу глупого клоуна, чтобы она поскорее ушла.
И я возвращаюсь и целую свою куколку, и она цепляется за мою руку и сворачивается в букву С, собираясь заснуть, но я шепчу ей: веселый Алекс не устал — и поворачиваю ее к себе — и говорю: скоро мы будем вместе — навсегда.
Навсегда. Вместе мы сияем. Вместе мы — не умрем.
49. ЕГО НЕТ И НЕ БЫЛО
Если встречу на улице? Что тогда? Что? Не грохнуться бы в обморок… Или еще хуже — опять начнется — вещи летят из рук, мысли путаются, память — разлезается, как слепая марля. Ты отправила письмо? — Не помню.
…Пройти быстро мимо, как не было. Черная дыра, нелюдь, зверь, умирающий, испуганный, чужой. Мне ли в этом разбираться? Обойти, не заметить, под нос пробормотать: тут никого нет, пусто.
Он — убийца. Я знакома с убийцей. Я знакома с тем, кто сокращал людям жизнь. Для своего удовольствия. Никто из моих знакомых убийц не видел, а я — знала. Спала с ним. Да. Нет, не говорите, что я сама виновата. Я — сама виновата, но он знал про вирус. Знал. Это — меняет все дело. Убийца. Он должен быть не здесь, он должен быть в тюрьме. Я сделала все для того, чтоб он там был.
Значит — я просто обхожу и иду дальше.
Или он — животное, зверь, за гранью добра и зла. Если он — не виноват, значит — они его считают — зверем, вины не ведающим. Значит — я могу пройти мимо, как мимо голубя, собаки.
Значит — не могу злиться на него, как не буду злиться на неживую, недобрую природу… Как лягушку бить палкой.
Но это — на улице, а в клубе — не пройти, не разойтись. А что, если я пойду в «Зев» — и он там? Что, если — он будет с новой девушкой? Новой жертвой? О, проблемы. И почему мне решать? Я и не буду решать.
Я или сбегу — или грохнусь в обморок.
Музыка, я — в черном платье, вся из себя, и вдруг — очочки и качающаяся голова… И все как нахлынет. Черный Алекс. И меня уносят прочь на носилках. А он достает большой клетчатый платок, шумно сморкается и плачет: бедная! Я не хотел ее напугать! Я вообще сейчас весь за бога и любовь!
К счастью, в клубах не очень много негров в очках… А может, — у него нет денег. А может, — ему уже не до того… А может — и мне скоро будет не до клубов. Молится и думает о вечном, а Ассоль ему носки штопает.
Он от нее никуда не сбежит. Начнет он гулять — она просто пойдет и докажет, что заразил. Мне не удалось — потому, что она промолчала. И она, и английская баба. Умные. Знали — не поможет. А мое слово — ничего не стоит.
…Нет, пока не встретила. Ни в клубе, ни на улице. Нет и не было. И нет.
50. БУХАУ
В форуме люди спрашивают, как на парти пройти нестудентам. Ерунда. Пусть попробуют меня не пустить. Надеваю дрянную белую майку и свои единственные кеды и иду, особенно не задумываясь. Что значит «могут спросить студенческий билет»? Бред! Никто в этой стране ничего не спрашивает! Если не нарываться. Зачешу челку на глаза, и… да на самом деле — всем наплевать.
…Четыре этажа разной музыки и народу! Вавилон! Нахожу зал с «нашей» музыкой. На потолке висит старый знакомец — потертый зелено-розовый дракон. И светящиеся грибы у сцены. И, заметьте, все наши старые знакомцы — тут как тут. Просочились как-то. А уж они — совсем не студенты, ни капельки!
Больное я чучелко. Старое. Печальное. Не буду ни с кем разговаривать, ни на кого смотреть. Тихо потанцую, пока не выгнали. Ну что ты сюда приперлось, больное старое чучелко?
— Мужик! Классно танцуешь! — улыбаюсь я китайскому пацану — просто так.
— А! Ух! Тетка улыбнулась! — улыбается он мне.
(Тете лет тридцать, небось! Взрослая и опытная… Ух, вот свезло, так свезло! Вечер не зря прошел!)
— Ты че изучаешь? — спрашивает он.
— Да я, в общем, отучилась… Всему, чему могла. Лучшие учителя в городе.
— Чиво-чиво?
— Так, сама с собой шучу. Невермайнд. Не учусь я, работаю.
Задание выполнено, тетка снята. Обхватывает меня за плечи, встает сзади и трется об меня тазом. Если там что-то есть — я ничего не чувствую.
Вдруг он впивается в мой рот — и почти прокусывает мне нижнюю губу!
— Ты что? Идиот! Жить надоело? — Я отскакиваю от него, как от чумы. Как чума — от человека.
— А что такого? Я страстный. Тебе же понравилось?
— Нет-нет, ничего. Страстный — это хорошо. Мне просто в туалет надо. Извини. Сейчас вернусь. Не уходи, — и я пулей несусь по коридору.
Вампирушечки-игрушечки ноу-ноу! Бухау!
Скрючившись на унитазе, достаю свою верную пудреницу, старую-престарую, любимую, с удобным отделением для таблеток. Осматриваю губу. Не прокусил, слава богу.
Выхожу из кабинки, и хорошенькая девочка улыбается и хитренько подмигивает: «А! Знаем, что вы там делали!»
У девочки самой в руках свернутая десятка и нос в муке — миленький такой курносенький носик.
Мы подмигиваем с ней — о разном.
Она вытирает носик. Я трогаю губу.
Я — страстное, красивое, яркое — только кусать меня нельзя.
Полный бухау. Ядовитое.
Пора мне уже — научиться с этим жить.
51. СВИСТ
Пщщ
RU-EN
Jkmuf
EN-RU
Ольга П.
Litpr, Topos, BBC, magazines.russ.ru, zhurnal.lib.ru
Пщщ
RU-EN
Alexandre Ice
BBC new generation artists, youtube ***competition…
…Не могу слушать его запись на ютьюбе: жесты заслоняют музыку. Музыка идет фоном, как трафик за окном, а я вижу только — его кивок оркестру, и руки на клавиши, и чуть сгорбленная спина. Худая шея с кадыком. Сгорбленные плечи. Пиджак не по росту. Мои по праву жесты. Мои.
Полуприкрыть глаза, так же сгорбиться, я — это он. Я — Сашечка. И все вокруг искрит, и все мне подвластно.
И опять звучит — нежное, хулиганское:
— Вчера была я звездочка, шампанское пила!
Или
— Ну — подводят мне ее за ручку: вот, деточки, женихайтесь. Оставляют в гостиной, как с путным. Девочка чииистенькая, кофточка рооооозовая, носочки беееленькие. А я ее прямо там, в гостиной. И потом наверх завел — и там еще!
И невозможно не порадоваться! И невозможно не улыбнуться в ответ!
(И невозможно, невозможно передать интонацию, которая — звучит в ушах!)
Это же — праздник. Это же — Сашечка! Это же — впечаталось, внутри, ближе, чем кожа.
* * *
— Да он только свистнет — побежишь.
— Уж так положено! Побегу. …Но он никогда не свистнет!
И его нет и не будет. Но всегда есть и будет. И всегда есть вероятность, что свистнет.
Как только я разворачиваюсь, оживаю, гремлю весенним громом — на противоположном горизонте Сашечка подмигивает глазом: а что? Очень даже и запросто высвищу! Ты жди только!
Но когда я вялая, серая, никакая — никакого Сашечки нет. Просто нет.
Он тоже вянет.
А откуда, отчего мне сейчас — сверкать? На какой энергии, откуда?
* * *
…И как заказывали! В 4 часа ночи — расхлябанный кокаиновый СМС: «Приезжай, посидим-поговорим, потрогаем».
Потрогаем?! А что, с него бы сталось!
Почему такой долгий путь между Лондоном и нашим захолустьем? Я еду в поезде и считаю минуты. От ночного СМС, когда он был full power, время неумолимо отьедает по песчинке. Я чувствую, как он вянет, остывает, исчезает, кокаиновая гонка выветривается из вен…
Мы его теряем!
Пожалуйста, пожалуйста, сохрани! Сохрани, пока я не доеду!
* * *
Бетонная будочка в земле — станция метро — и вокруг незнакомый пригород, ни такси, ничего. Бодренько сейчас, на рывочке, найдем:
— Где ты?
И ленивое, отходное от Сашечки:
— Там такая дорога, большая… сразу найдешь… Направо. И адрес — Хилвью Гарденс…
Так… Бодренько, на рывочке… И какие-то кривые люди говорят:
— Га? Чаво? Хилвью Гарденс? Га?
И водитель автобуса:
— Впервые слышу!
— Там направо… налево… — лениво выталкивает Сашечка слова…
Да тут в разные стороны — разное лево и разное право же!
Начинаю сердиться. Голова не варит. Из головы вываливается основные навыки, выпадают слова…
И ленивое, тепловатое, слова размазаны, слова текут изо рта, как струйка слюны:
— Да где ты?
Уже я совершенно не нужна. Помеха. Липкое что-то, мешает заснуть… Его голос в телефоне болтается, как голова дебила на тонкой шейке:
— Дорога… Там… Найдешь…
Опять мечусь по улицам — никто не знает…
Я сажусь на автобусную остановку на скамеечке. Все. Устала.
Я и не говорила, что я залечила голову. Чем проще задачи — тем мне сложнее. Я могу написать рассказ, перечитать договор, смешить и смеяться… я не помню, что мои руки делали секунду назад, положила я письмо в конверт или нет, выключила огонь под кашей или нет… В моей голове что-то стирается, обрушиваются какие-то пласты, переписываются пути… Не могу я нарисовать в этом Лондоне эти ваши Хилвью Гарденс. Не получаются они у меня. Не осилить.
Я вам и не говорила, что меня так повело, я не жаловалось — и это не связано с болезнью. Это связано с шоком. Мне надо было быть прочнее. Я дала слабину. Но от этого не легче. Я еще не залечила голову. Мои руки — медленны, сбиваются. Трудно ориентироваться. Я не знаю этот кусок жизни. Я не узнаю этот Лондон. Это чужое поле, это чужая жизнь… Где?…
* * *
На скамейке на остановке сидит — светленькая голубоглазая Аленка с туеском. Синенькие глазки смотрят на меня доверчиво, как теленок на маму. Здесь такие глаза не выпекают.
— Давно автобуса ждете?
— Полчаса.
Наши акценты отражаются в друг друга.
— А… Вы… не из Лондона.
— Да… Из Словакии.
— А зовут как?
— Ленка.
— Давно здесь?
— Две недели.
— Учитесь?
— Au pair.
— Большой город Лондон.
— Очень большой. Я из деревни. Не привыкла.
Вот-вот-вот, вот оно, то, что мы на парти ищем — чтоб вчера было смыто, забыто, и телята, новорожденные, облизывали тебя и смотрели доверчиво. Голубыми глазенками. А я-то, куда я прусь? Где все сожжено и пепел развеян. Куда-то, где меня и ждать уже перестали!
Но я же забыла! Я же обещала, свистнет — поползу. Надо ползти. Антракт кончился.
* * *
По кругу обхожу станцию — вырываю из-под земли контору такси.
Я сама уже прыгаю, как на кокаине — таксист сторонится меня:
— Хиллвью Гарденс?
— Заметано!
— Да вы знаете, где это?
— Знаем, не беспокойтесть!
— Вот здорово, а то никто не знает… Вы точно знаете? Давайте позвоню и вам обьяснят?
— Зачем звонить? Знаю, довезу, нет проблем.
— Ну хорошо… Точно знаете?
— Вот он, твой бойфренд! — говорит измученный таксист.
Это действительно за углом, как Сашечка и говорил.
Сашечка — в черном — стоит на пороге домика. Домика в розочках.
— Привееееет! Ну, молодец! Сколько ж ты добиралась? Сорок минут от станции? — он смеется.
— Никто не говорил, что я голову залечила! — Я еще сильнее смеюсь.
Вхожу в чужой уют, пытаюсь устроиться за столом.
Сашечка раскладывает по тарелочкам, фирменное — картошечку с укропчиком — и под водочку.
— За встречу!
— Сколько мы не виделись? Год?
— Неужели год?
Подушечки. В окна бьется сад. Пианино. Кассеты.
Вот она я. Жива, весела. Убедился? Как прежняя. Не растолстела. С чувством юмора все нормально. Но без глупостей типа regained her vitality. Этого я не терплю.
На пианино — диплом с именем девочки, с которой сейчас любовь и вместе. Потом погуглим.
* * *
Отворачивается от стола, заглядывает в холодильник, потом садится:
— Я же хотел тогда нанять людей, чтоб его избили. Это просто. Тем более в вашем городишке.
— Зачем? — я, как всегда, пытаюсь объяснить — свое. — Если он преступник — пусть они его наказывают. Если животное — это как лягушку бить палкой. Мне все равно. Я сделала что могла.
Ну, «бедняжка» от тебя не дождешься, а «дура» — это мы и так знаем!
Сашечкины глазки — мигают, сон заволакивает их. Он куролесил всю ночь. Он меня ждал. Моя вина, что так долго ехала.
— Что могла!.. — говорит он презрительно. — Ты там небось, на суде — глазками хлопала. В своем стиле.
— Какой суд? Суда не было… Я только с полицейским разговаривала. Он домой приходил.
— Домой приходил?
— Их на самом деле двое было — он и тетка. Мы их чаем поили.
— Из чашечек?
— Ага. Только они все отказывались.
— Ну, понятно.
Я — глазками хлопала, в своем стиле. Ты бы — нанял бандитов, в своем, дворовом стиле. Вот и поговорили.
— Моя совесть спокойна. Ну, не получилось — что уж теперь. Презерватив — всегда в сумке. Раз в три месяца — кровь. Мое дело простое.
— Ну да, ну да…. — он укладывается на диван, расслабленно, закидывает руки, на голову шляпой водружает подушку и рассматривает меня из-под нее.
Мысли его убегают далеко от меня, от моей «ситуации». Всплывает опять — то, о чем стоит думать, над чем стоит работать. Он. Александр Айс.
— Я, может быть, поеду в Берлин. Понимаешь — хочу большой дом, чтоб было где поставить два инструмента…
Вам нужен дом, где можно поставить два инструмента.
Две полнозвучные жизни.
А с полным регистром: карьера, любовь, секс.
Зачем думать — о сломанном.
— Я же не хочу жить так, как ты — и Настенька, — говорит он, немножко слишком резко.
* * *
Последняя попытка от меня, связать ниточки:
— Поедем с нами… С Настенькой. Сегодня парти, будет здорово!
— Не могу. Если не буду дома — со мной разведутся.
* * *
Потягивается (как встарь). Мнет плечо:
— Что-то рука болит… Додрочился.
Тонкий намек.
— Но спать хочется. Сгонять, что ли? (Лениво. Мой выбор. Ему и так хорошо. У него тут дом.)
— Сколько?
— Пятьдесят, и двадцать пять — такси.
И тут бы — схватить вихрем такси — и за коксом, и плевать на все! И сжечь еще одну ночь в почти-сексе, громоздя горячечные башни до неба…
И что-то — нет.
И как-то — пшик.
Если он не будет дома в 10 — с ним разведутся.
Если я потрачу сто фунтов на дорогу и кокс — на меня обидятся.
Сдулось все. Истончилось. Пшик.
* * *
Он трет льдом лицо:
— Брр… Хотя бы немного оживит!
И идет рядом, встряхиваясь, как собака.
В который раз переписав себя на новый, сверкающий носитель.
В который раз — мальчик. Прыгает.
52. ЗОЛОТОЙ КРЕСТИК И КРАСНЫЙ БАНТИК
Люди, люди, люди… Бесконечная запись города. Бесконечно, как дождь, как облака… Их запустили — они крутятся. И квакеры. И евреи. И негритянки, завернутые в узорчатые рулоны. И эмо. Толстые эмо. Тоненькие эмо. И офисные клоны. И нищие. Шаркающая походка, мешки. Кричат друг другу через улицу. Все равно они — невидимы. Тысячи людей. Спешат, закрывают и открывают зонтики, перебегают улицу. Останавливаются и тихо шипят: опять забыл ключ, опять забыли купить масло. Громко, прямо в уши. Но не про меня. …Разные, разные. Все — не мои.
Все они — не я. И даже не знают про меня. И про Сашечку. И про Черного Алекса. Поразительно, да? Моя жизнь — проходит — прошла — мимо них, а их — проходит мимо меня. Мы друг для друга не урок, не указ. Мы — в разном формате…. Что им до меня? Я могу помереть сейчас, сегодня — и никто не заметит.
Боже, зачем ты сотворил столько людей? Что ты МНЕ этим хотел сказать? К чему? Зачем? Ведь не только — вирус, не только — любовь! Что же??
…Это как заглядывать в тюбик с зубной пастой, надеясь услышать Брамса.
* * *
— Может, сходишь в церковь?…
Конечно, сейчас — время начать его дергать и ныть. Как раз сейчас — самое время.
Все равно же с кем-то — разговариваешь. Так почему бы не — в церкви?
— (Боже или кто там есть!) Я не спрашиваю «за что»?.. Я даже не спрашиваю «что это?»… Врачи не знают, ничего не могут сказать, так что можешь сказать ты?… Я должна разобраться сама. Я просто говорю вслух — так мне легче. Ты же не возражаешь, Боже или кто там есть? С тобой все разговаривают, ты уже научился молчать, может, тебе уже даже не стыдно, что ты молчишь. Я бы тоже молчала, если бы была тобой. Я уже поняла, что чем меньше ляпаешь — тем лучше. Все потом — припомнится. Лучше всего — общие места. Ты тоже это понял, да? Общие места и тысячелетняя мораль. Тысячелетняя мораль — против новых болезней.
— А тот голос, что я слышала ясно (Боже или кто там есть) — что это было? Тот голос, что позволял мне — посылать всех «скучных»? Он звал, он хотел — и все. Выше правды не было. Ты ведь шутишь, да? Я не могла ошибиться. Красота — и есть красота, ее не надо оправдывать. Ее сразу видно. Желание — есть желание. Мы разговаривали с тобой по душам — долго, на одной волне. И все было понятно. А теперь ты мне говоришь, что ты мне не звонил, что тебя зовут по-другому, что ты не любишь секс, что ты живешь в церкви?
…Может, это был не ты, может — это была болезнь, которая требовала к себе мои кости?
Нет. Все было правильно. Просто луч — ушел. Наступила темнота. Не вечно же.
— Конечно, прямо так вот завтра пойду… Как это по-русски… к заутренней.
* * *
Ну что, опять спокойная, а руки дрожат? Опять не бодришься нисколечки? Опять не хочешь жалости — от кого — от них? … И не от них тоже не хочешь. Ни в церковь, ни к психологу… только антидепрессанты, да и то — через раз?
Ни от кого ничего? … Ну, давай, мы посмотрим, сколько продержишься.
Истери. Не истери. Болей. Бодрись…
53. ФЕСТИВАЛЬ. СВИНДОН
Магрибская роскошь — солома, шатры, влажная глина, синий шелк и расплывающиеся зрачки. На Настеньке опять какое-то платье, нежное, как мечта. К утру мы его бросим в грязь. К утру мы устанем ходить в пластиковые туалеты. К утру наши лица истлеют…
Но о чем ты, о чем — грязь не пристанет! …Щеки могут побледнеть — но глаза будут сиять.
Шелк шелестит по соломе.
— Я пойду потанцую, — говорю подругам, еще бодрая, свежая, платье — синий шелк, золотые птицы.
По вечерней траве иду к шатру, надутому музыкой, похожему на половинку шарика для гольфа.
Музыка пока — старая, скучная, та же, что вчера и позавчера, слышали мы это… Но уже то та, то другая нота — взвивается в другое небо. Уже то то, то другое лицо — смотрит на меня так, словно они меня — знают, любят, увидели, верят… Узнают меня мгновенно, радуются мне.
Еще пара вздохов — и мы втащим мир туда, где он должен быть и откуда он все время упрямо уплывает.
* * *
Настенька смотрит на рыжего гиганта с дредами, как ребенок — на ветряную мельницу. Ее восторг все растет, она передать мне его уже не может, только указать: я — в восторге. Я верю.
— Это мой новый друг. Его зовут Майкл.
Майкл с высоты протягивает руку, словно сухую ветвь. В глазах у него — калейдоскоп, а во рту — вавилонское столпотворение. Это английский? Наверное. Как она его понимает?!
…Новый зверик в коллекции. Зверики подбираются — все страньше и страньше.
— Он прекрасный, нет? И даже красивый, ты присмотрись, присмотрись!
Настенька моя, девочка моя, в какие сверкающие поля ты уходишь?… Рот скособочен, руки повисли плетями, в глазах смерть, но — встряхнулся и снова пошел колесом, и снова в глазах — радуга.
Настенька, ты меня удивляешь… Если что — мне тебя не вытащить, я сама себя уже вытащить не в силах.
Хотя — я всегда говорила, что мы живем по другим законам, нужно двенадцать смертей, чтобы нас убить.
* * *
Ушла в чиллаут.
Легла в шатре на водяной матрас, смотрю в потолок. Высокий рыже-красный шатер похож на дотлевающее солнце. Тихо остывает. На наш век хватит.
Кто-то берет меня за руку слабыми, цепкими пальчиками.
Повернулась — юная китаянка с глазами как маленькие живые проталинки, смотрит снизу вверх.
— Как вас зовут? Меня — Кейт.
— Здравствуй, красивая Кейт!
* * *
Вчера я отчаивалась: нет Сашечки, нет здоровья, нет секса.
Глупая я какая! Все есть. Только другое.
Все есть. Посверкало — и улеглось новым узором.
54. СТРЕСС, БОСС…
Поутру — к врачу, не в свою больничку, а в обычную поликлинику, — опоздав на полчаса, испытывая удачу. Но меня пускают.
— А я заинька, а я серенький!
А глаза от кислоты в разные стороны крутятся.
— Что вы хотите? — устало спрашивает врач.
Ничего не хотеть в нашем обществе не принято. Надо высказывать желания ясно, четко, разумно, рационально.
Врач наладил тактику: сначала надо больного встряхнуть. Окрикнуть. Привести в чувство. Он немного тобой покомандует, причешет, встряхнет, и выйдешь таким же больным, как был, но — послушным, готовым дисциплинированно болеть.
Нет, теперь такие штуки со мной не пройдут. С моим диагнозом — мне проще. Я их — переиграла. С разгромным для себя счетом — но переиграла. Пусть попробуют мне отказать!
— Хочу успокоительное. Антидепрессант.
— Нервничаете?
— Да, знаете ли, что-то тут, понимаете ли, разнервничалась! Стресс, знаете ли, босс, ВИЧ. И прочие мелочи.
— Хорошо, хорошо. Понимаю. Вот вам. Два раза в день — и не передозировать. Поняли? Они вызывают привыкание.
— Доктор! Я же ответственный человек! Что же вы, не видите? Посмотрите — я всего два раза просила таблетки. Это есть в моей карточке. Вы что же думаете, я могу — злоупотребить? Я?
Промаргиваюсь, снимаю с глаз серую пленку и иду гулять по городу. Широкими дугами вырастают дома. Коктейль в моей крови — МДМА и кислота — еще переливается и пузырится. Люди — красивые, смешные — хоть не такие красивые и смешные, как там.
Все такое нееежное, случайное, только что нарисованное!
* * *
Дома Макс спрашивает:
— Выписал?
— Выписал.
— Посмотрел тебе в глаза (Макс смеется) — и выписал? Ну ты даешь — приехать после наркофеста — и пойти к врачу за таблетками!
Я хихикаю. Меня по-прежнему прет. Спотыкаясь, собираю шмотки и кеды по коридору.
— Я пошла в жим.
— Пьяная?
— Кам он! А всегда какая хожу? Трезвая, что ли?
— Вечером у тебя планы?
— Может, выйду. Там посмотрим.
— Опять с архитектором?
— Ну да. Я ж не то что что-то, я — так.
— Может, не надо? Вдруг мне опять с животом нехорошо — а тебя нет?
— Хорошо. Там посмотрим.
Там посмотрим.
Примечания
1
Биографическими сведениями об авторе, скрывшемся за псевдонимом Ольга Ш., редакция не располагает.
(обратно)




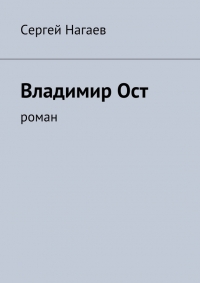

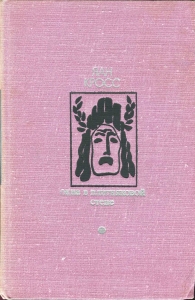


Комментарии к книге «Вразнос», Ольга Ш.
Всего 0 комментариев