Александр Яшин СИРОТА Повесть
Когда Павлуша понял, что не осилит троих, он испугался и предусмотрительно заревел на всю улицу. Ребята опешили: как так? — сам первый бросился в драку, сам их поколотил, его не тронули, и орет во все горло.
— У, гнида! — с отвращением и ненавистью прошипел ему в лицо кривоногий некрасивый мальчишка, облизнул с верхней губы соленую кровь и сплюнул ее. Чего вопишь?
— А ты не лезь.
— Мы на тебя лезли? Чего воешь?
— Бабушке скажу-у.
— Драться не хочешь, да?
— Я устал!
— У, гнида! — зашипел опять мальчишка и, размахнувшись из последних сил, ткнул кулачонком, целясь в щеку Павлуши. Но Павлуша ловко отклонился, и тот упал ему в ноги, ударившись лицом о твердую землю. Кривоногому мальчишке было, по-видимому, очень больно, но он не заплакал, а Павлуша пнул его, лежачего, несколько раз и заревел громче прежнего, хотя на него никто не нападал. Двое других супротивников смотрели, раскрыв рты от удивления.
На рев вышел из соседнего дома мужчина, босой, в нижних домотканых портках, с густыми нечесаными волосами и грязной бородой, и еще с крыльца, скороговоркой и нехотя, словно отмахиваясь от комаров, заворчал:
— Что тут у вас, обломоны? Набросились трое на одного — победители! Всем уши выдеру!
Павлуша наспех вытер глаза и приготовился бежать, потому что увидел перед собой отца того кривоногого мальчишки, который валялся на земле, какая уж тут Павлуше поддержка! Но… услышав слова: «Набросились трое на одного», — не побежал, а завыл еще пуще.
— Бесстыжие! — кричал мужик, приближаясь к ним. — Чего делите? Из-за чего воюете?
Сынишка его поднялся с земли и, съежившись, ждал трепки, но не плакал.
— Мы не воюем, — стал оправдываться он.
— Как не воюете?
— Он первый полез. Он у Петьки морковку отнял. Мы его еще не били.
Мужик осмотрел ребятишек: у сынка течет кровь из носу; Петька весь в грязи — тоже, видно, валялся на земле; третий держится за ухо, а у Павлуши хоть и незаметно никаких следов побоев, но вся рожа в слезах…
И он сказал:
— Гм!..
Потом запустил руку в грязную бороду, поскоблил ее, поскоблил затылок, что означало глубокое раздумье, и, наконец, вынес решение:
— Не трогайте его, ребята: он сирота.
* * *
Так в шесть лет Павлик понял, что быть сиротой не так уж плохо. Понял и запомнил.
А осиротел Павлуша в своей жизни дважды. В первый раз во время войны.
Как-то он вернулся с реки — хотелось есть, хотя живот был до отказа набит щавелем и зелеными дудками, — и застал дома мать, плачущую навзрыд. Мать плакала часто, поэтому он не обратил на это особого внимания, к тому же за печкой, захлебываясь слезами, плакал его младший братик Шурка, тоже, наверно, есть хотел. Все же Павлуша не стал просить еды у матери. Но бабушка его удивила.
По правде сказать, Павлик не надеялся, что ему дадут что-нибудь поесть в середине дня, и потому заранее набил живот луговой зеленью, но и не просить поесть он тоже не мог: вдруг перепадет кусок хлеба либо сухарь, намоченный в соленой воде, — ведь всякое случается, а есть ему всегда хотелось. И он подошел к бабушке почти равнодушно, без всякой надежды на успех.
— Бабушка, поись ба!
И вдруг бабушка, ни слова не говоря, чего никогда раньше не случалось, отдала ему половину молока из Шуркиной чашки. Мало этого, она еще обняла его и капнула ему на голову, на самую макушку, теплую слезу. «Вот те на — и бабка заревела!» — с удивлением отметил он про себя.
— Кушай на здоровье, внученька, сиротинушка ты моя горемычная! сказала бабка с причетом, и Павлик все понял.
— Али тятьку убили? — спросил он с интересом, но еще без всякого чувства.
— Убили родителя твоего, внучек, кормильца нашего богоданного убили, запричитала бабка. — Извещение пришло.
Мать в углу на лавке после этих слов залилась еще безутешнее, а перепуганный Шурка перешел на визг.
Павлуша почти не помнил своего отца и, прислушиваясь к реву, безуспешно старался вызвать в душе сожаление о случившемся, но никакого горя пока не испытывал. Наевшись молока с хлебом, он заплакал вместе со всеми, но лишь потому, что знал: так надо!
На рев и причитания в избу стали заходить соседки и соседские ребятишки. Одни женщины останавливались у порога, другие проходили вперед, крестились на иконы и тоже начинали плакать — сначала беззвучно, вытирая слезы концами платков и фартуками, потом навзрыд, закрывая лицо руками либо тычась друг другу в плечо. Сразу в голос начинали плакать женщины, которые сами получили извещения о смерти. Другие, прежде чем поддаться чужому горю, подолгу стояли, суеверно вытянувшись, и в их широко открытых глазах накапливались тревога и страх за жизнь своих мужей и сыновей. От них еще на днях были письма, но письма эти писались месяца два тому назад, и один бог знает, что могло произойти на войне за это время. Быть может, от солдат еще письма идут, а может, на почте лежат уже извещения о «павших смертью храбрых» и не сегодня-завтра почтальон сунет их в окно и кинется к следующей избе со своей черной сумкой.
На причитания бабушки и на крик Шурки женщины не обращали внимания, и если проходили вперед, то становились поближе к матери либо к Павлику и молча гладили его по голове. Наверно, они думали, что Павлик уже понимает свое горе, и жалели его. А он еше ничего не понимал, ему было только хорошо оттого, что его все жалеют. И когда соседский мальчишка шепнул ему на ухо: «У меня что-то есть, пойдем!» — Павлик выскользнул из избы.
— Половину мне!
— Все отдам! — с готовностью согласился мальчишка.
— А чего?
— Там увидишь.
Павлик смутно чувствовал, что ему теперь все можно, что никто ничего для него теперь не пожалеет, и радовался этому.
* * *
Спустя два года Павлуша осиротел вторично. Война к тому времени уже закончилась, но жить было еще трудно. И он, и его братишка Шурка часто недоедали — корова в личном хозяйстве была, но молока в доме не оставалось, потому что колхозная молочнотоварная ферма плана своего из года в год не выполняла. Недоставало и хлеба своего, собранного с приусадебного участка. Не досыта ели ребята, не досыта ела и бабушка Анисья. Но больше всех голодала мать. Что бы ни появлялось на обеденном столе, она говорила, что уже сыта. A работа была тяжелая, и она не жалела себя. Весной она заболела. Особенно истощали и мучили ее чирьи под мышками, из-за которых она не могла ни поднимать, ни опускать рук.
— Сучье вымя! — сказал про эти чирьи сельсоветский фельдшер, случайно оказавшийся в деревне. — Организм истощен. От работы на время освобождаю, справку дам.
Мать мучилась долго, и все это время семья бедствовала. В правлении колхоза чирьи не считали серьезным заболеванием, от работы ее не освободили. Председатель Прокофий Кузьмич говорил так:
— Если из-за каждого пупыша будем руки опускать, то весь колхоз по миру пустим.
Бабка Анисья сама не хуже любого фельдшера лечила в деревне всех скудающихся: снимала переполох с малых и старых, правила пупы, заговаривала гнилые зубы, чтобы не ныли, выпаривала из тела простуду и ревматизм.
Бывало, напугается чего-нибудь мальчонка, потеряет сон, вскакивает в полночь, кричит не своим голосом. Анисья наденет на него потный хомут, только что снятый с лошади, да повторит трижды немудреный заговор: «Страхи-переполохи, идите в хомут!» — и вся болезнь исчезает, спит мальчонка спокойно, ест в охоту. А ежели какой ребенок еще мал, сосунок еще, и сам на ножках стоять не может, просовывает его Анисья в хомут всего, как есть, а мать принимает его с другой стороны, и так трижды, с тем же причетом польза наступает сразу почти всегда. Редко кто не верил в Анисью, не обращался к ней. Взялась она лечить и невестку свою: сначала пользовала разными травами, потом стала прикладывать к нарывам лепешки из свежего конского навоза. Но облегченья больная не чувствовала.
Через несколько дней мать умерла от заражения крови.
Прощаясь с Павлом, она долго внушала ему, старшему, как себя вести надо:
— Ты теперь сирота, сынок. Не возвышайся зазря, чтобы люди на тебя не обижались. Людей обижать не будешь — они тебя не оставят. А без них вам не прожить. Бабушка — она гордая, а вам теперь гордиться нельзя. Помни: сирота ты теперь круглая, сиротинушка вечная. Поцелуй маму. Прощай! О Шурке заботься. Ты — старший, понял?
— Понял, мама. Прощай! — ответил Павлик, думая, что мать разрешает ему бежать с ребятишками куда вздумается.
И он убежал с дружками на весь день. В поле они собирали пистики молодой хвощ, на Мокрушах пили березовый сок, в сосновом мелколесье вырезали пищали.
Домой возвратился Павлик уже круглым сиротой, когда бабушка выла и причитала:
— Сироты мы теперь все, сироты-сиротинушки. Без отца, без матери как жить будем? Умрем все с голоду або что?..
Как это ни странно, а после смерти матери и детям и бабушке стало жить сразу намного легче. Председатель колхоза, должно быть, посчитал себя в чем-то виноватым и потому поставил на правлении колхоза вопрос «О положении дел в семье бывшего фронтовика». «К сиротам мы обязаны проявлять свое внимание!» — сказал председатель. После этого кладовщик сам принес им полпуда ржаной муки и корзину картошки. «Семенная», — сказал он. А дня через два послал овсяной крупы — заспы да бутылку льняного масла. Павлик вместе с ним ходил в колхозный продовольственный амбар и после долго рассказывал бабушке, как много там всего.
О сиротах вдруг все начали заботиться.
Райсобес назначил им денежную пенсию. Сельсовет освободил от молоконалога.
Бабушка ахала и охала.
— Все это нам за отца, ребятушки! — говорила она. — Бог дает!
А ребятушки ели, пили и не спрашивали, кто им все это дает и за что.
Иногда сердобольные соседки несли им то кусок пирога, то горшок каши, либо обноски какой-нибудь детской одежонки, или старые обутки. Но это уже походило на подаяние, и бабушка обижалась.
— Мы не нищие! — говорила она.
Шурка подрос быстро, не по годам вытянулся и окреп, и теперь два брата повсюду носились вместе, как равные товарищи, почти одногодки.
Если сверстники обижали одного из них, другой вступался:
— Не трогайте его, он сирота!
* * *
Вскоре после смерти матери колхозный пасечник Михайло Лексеич позвал ребятишек к себе на первую выемку меда.
Пасека находилась километрах в трех от деревни, на цветистой луговой полянке близ старого русла реки, которое давно превратилось в озеро. Крутой спуск к озеру зарос мелким березнячком и осинничком, но эта молодая поросль не закрывала горизонта. Сверху, с поляны, от избушки пасечника, хорошо была видна даль.
— Что там? — спросил Павлуша, когда немного осмелел.
— Там-то? — переспросил старик. — Там все есть. На крутизне в мелколесье тетерки, конечно, водятся и зайцы бегают, осинку грызут; чуть подальше на озере, в камышах да в осоке, утиные выводки всяких пород; а в самом озере, конечно, рыба, тоже всякая; еще дальше, за озером — ну, там уж луга, сенокосы, а на лугах в траве тоже, конечно, всякая живность таится, там мои пчелки мед добывают; потом идет лес, во-он темная полоса, а в лесу, как положено, конечно, и волки, и лисицы, и даже медведи есть, из птиц рябчики больше да глухари. Ну и, конечно, нечисть всякая лесная, как положено во всяком темном лесе. Вот ужо подрастете…
Михайло Лексеич разговаривал с ребятами в первый раз и теперь показался Шурке человеком необыкновенной доброты, у него даже глаза были синие, ласковые и теплые и борода тоже теплая. В этой бороде ему, должно быть, всегда было жарко, но он не снимал ее: жалел, наверно. Двигался Михайло Лексеич неторопливо, говорил тихо, медленно, немного нараспев. А пчелы горячились, но Михайло Лексеич не обижался на них, он словно не замечал, что одна или две пчелки все время возились в его теплой бороде и надоедливо, нудно зудили, жужжали, чтобы вывести его из терпения. А он не выходил из терпения: видно, он всегда был спокоен.
— Вот подрастете, ребятушки, и дам я вам свое ружье, и пойдете вы в темный лес, — говорил нараспев, будто сказку рассказывал, Михайло Лексеич. — И найдете вы не одну колоду диких пчел, и переселим мы их сюда, на нашу пасеку, и будут они, новые пчелы, выносливые, добычливые, и зальемся мы медом по уши, и заживем все богато…
— А ружье для чего? — спросил Шурка. — Пчел отгонять?
— Ружье для медведей — медведей отгонять, пчел охранять.
— А зачем по уши?
— Чего «по уши»?
— «Зальемся медом по уши…»
— А вот дам я вам меду, и будут у вас в меду и носы и уши.
— Поглядим! — весело сказал Павлик.
— Пойдемте в сторожку, — пригласил их дед.
— А когда мед доставать будем?
— Мед не достают, а качают.
— Как это качают?
Они вошли в избушку пасечника, маленькую, как банька, с одним окном, с маленькой печкой. Между печкой и стеной лежали доски, прикрытые старым полушубком, — дедова постель. На полушубке спала, тихо и смешно посапывая, маленькая курносенькая девчонка, внучка Михайлы Лексеича, Нюрка. Губы и круглые щеки ее были перепачканы медом, к кончику носа прилип клочок шерсти, и шерсть шевелилась от Нюркиного дыхания. На стенах висели дымогары и сетки, которые пчеловоды надевают на голову, когда идут к ульям, — Михайло Лексеич не надевал их никогда. Посреди избушки стояла бочка-медогонка, по краям ее ползали пчелы. Пчелы бились и на оконном стекле — сытые, ленивые. От всего пахло медом, только от дымогаров — чадом, дымком.
— Так вот и качают, — начал объяснять Михайло Лексеич, подойдя к медогонке. — Видите, в бочке вроде ветряной мельницы. Вставишь в эти крылья рамки с сотами и крутишь и крутишь, мед разлетается по стенкам бочки и стекает на дно.
Дед взялся за металлическую ручку и раскрутил мельницу до свиста, до стука.
Ребята отступили.
Павлик заметил:
— Значит, не качают, а вертят.
— А сейчас я вас медом угощу! — сказал Михайло Лексеич и, подняв западню, неторопливо спустился в подполье.
— Ну и старик! — прошептал Павлик Шурке. — Никогда бы он нас раньше сюда не пустил.
— Он добрый! — не согласился Шурка с братом.
— Добрый!
Михайло Лексеич вынес из подполья подойник со старым, засахарившимся медом вместе с обрезками вощины и поставил перед ребятишками.
— С батькой-то вашим мы на охоту вместе хаживали. Хороший был парень! И матка ничего, бог ее прибрал. — И дед вздохнул.
Ребята начали сосредоточенно жевать сладкий воск, складывая выжеванные куски на подоконник.
— А мед качать будешь?
— Сейчас начну. Только вы домой пойдете, а то пчелы искусают.
— Мы ничего не боимся.
— Хвастунишки, — ласково сказал старик. — Ничего не бояться нельзя. Надо бояться.
За стеной избушки послышался говор. Старик насторожился, встал и открыл дверь. Прямо против входа стояла кучка ребятишек, сверстников Павлуши.
Некоторые, что потрусливее, тотчас шагнули в кусты.
— Вам чего надо? Опять пришли? — крикнул им Михайло Лексеич, и вся ласковость в голосе его исчезла.
— А им чего надо? — дерзко ответил кривоногий, худосочный мальчишка лет семи-восьми в солдатской пилотке и кивнул головой на Шурку и Павлушу.
— Не твоего ума дело.
— Моего!
— Трепки захотел, разбойник? — спросил дед.
— Меду захотел!
— A потом разговоров не оберешься. Давно ли я давал тебе меду?
— Давно!
— Ну и хватит, а то брюхо заболит.
— Дай меду!
— Вот я тебе дам меду. Штаны спущу да крапивой!
Ребятишки скрылись в лиственной рощице.
На полушубке завозилась курносенькая Нюрка, привстала, потерла ручонкой глаза, нос, и медовые пальцы ее склеились в кулаке.
— Спи, спи, чего ты, внученька? — снова ласково заворковал дед.
— Не хочу спать, — сказала Нюрка.
— А меду хочешь?
— Не хочу меду.
— Так приляг еще. Разбудили тебя эти разбойники?
Скоро ушли с пасеки и Павлик с Шуркой. По дороге Шурка думал и говорил только о пасеке.
— Я бы всю жизнь пчел обхаживал и спал бы здесь!
— Ну да? — сказал Павлик. — Нажрался бы раз до отвала меду — и все.
— Тут жить хорошо, красиво, — продолжал Шурка. — Выйдешь из избушки и смотри во все стороны.
— Ну да, во все стороны, — опять не согласился Павлик. — Видел, как он ребятишек во все стороны?
— Он добрый! — твердо заявил Шурка.
— Ладно, добрый, — не стал спорить Павлик. — Мы теперь всегда мед есть будем!
* * *
В школу Павлик и Шурка поступили одновременно — Павлуша с запозданием года на два, а Шурка на год раньше, чем следовало, и учиться Павлуше было легко, а Шурка отставал. Зато, не в пример Павлику, он рос крепышом, круглолицым, устойчивым на ногах, почти никогда не простужался, не болел ни насморком, ни гриппом. Павлик же был длинен, худ, часто кашлял, из-за постоянных насморков привык держать рот открытым, отчего видом своим вызывал жалость и казался иногда простачком, хотя не был ни глуп, ни простодушен. Незаметно сложилось мнение, что Павел создан для ученья, для умственного труда, а Шурка — для земли, для деревни, и когда братья окончили свою деревенскую начальную школу, все решили, что старший должен учиться дальше, а Шурка будет работать в колхозе: нельзя же бабушку оставлять одну. Шурка смирился с этим.
Павлика отвезли за двенадцать километров в село, где была семилетняя школа. Отвез его сам председатель колхоза, устроил на постой у своих дальних родственников, сказал, чтоб не сомневались — никакая услуга за ним не пропадет, а в крайнем случае бабка Павлуши будет платить им по десятке в месяц за хлопоты; потом отвел Павла к директору школы и от имени правления колхоза попросил, чтобы директор не оставлял сироту без присмотра и без своего человеческого внимания.
— Смену себе готовлю! — сказал он. — Нам самим поучиться как следует не довелось, так пусть хоть наши ребятишки выучатся. Вот о них и хлопочу.
— Тэк, тэк, понимаю, Прокофий Кузьмич, — сказал директор. — Хорошее дело — забота о смене.
— А как же! И о людях заботу проявляем. Это уж как положено. Семья бывшего фронтовика…
— Хорошо это, — повторил директор и улыбнулся. — Только, надо полагать, у вас есть ко мне еще какое-нибудь дело? Попутное, так сказать?
Директор был широкоплечий мужчина, усатый и загорелый настолько, что казался прокопченным насквозь. Он достаточно хорошо знал председателя колхоза Прокофия Кузьмича и не поверил, что тот может приехать за двенадцать километров только ради устройства на учебу какого-то сироты. В течение многих лет учителя и старшеклассники каждую осень проводили на колхозных полях, а не в классах, — жали рожь и овес серпами, теребили лен, копали картошку, вывозили из скотных дворов навоз и раскидывали его под плуг, делали многое такое, что требует простой физической силы. Нередко работа находилась для них и весной. Председатели колхозов и в первую голову Прокофий Кузьмич утверждали, что это и есть соединение учебы с производственным трудом, учителя же объясняли все проще: в колхозах не хватает рабочих рук. Сам директор школы любил физический труд больше, чем занятия у классной доски, — он преподавал математику, — и охотно соглашался выводить на поля всю школу.
Гостя он принимал в своем кабинете; над письменным его столом широко раскинулись зеленые листья фикуса.
— Так какое же попутное дело привело вас в нашу даль в уборочное время? — спросил он Прокофия Кузьмича и потянул себя за усы книзу — такова была его привычка.
— Попутное дельце, конечно, есть, нельзя без попутного дельца, согласился Прокофий Кузьмич. — Вы нас выручали частенько, я не отрицаю. Может быть, и в этом году выручите?
— А кто будет смену вам готовить? — улыбнулся директор, хотя обоим уже было ясно, о чем и как нужно договариваться. — Самим поучиться не довелось, так пусть хоть ребятишки поучатся, так ведь?
— Так-то оно так, Аристарх Николаевич, конечно. Но все-таки и без практики ребятам не ученье. Да и вам что за жизнь без работы — вон вы какой детинушка! А я бы грузовичок послал за вами немедленно.
— На сколько вы человек рассчитываете?
— Да сколько грузовик подымет.
— С райкомом договаривались? Или с районе?
— Вот ведь вы какой, Аристарх Николаевич! Неужто мы сами не сумеем столковаться: вы — директор, я — председатель?.. Сумеем и должны, я так полагаю.
— Тэк, тэк, тэк! — все еще как бы упорствовал директор. — Вы председатель, я — директор, все так. Только односторонние у нас обязательства, вот что плохо. Мы вам — рабочую силу, а вы нам — ничего. А на заре революции в школах наших горячие завтраки и даже обеды были.
— Ну что вы от нас хотите? — удивился Прокофий Кузьмич.
— Может, помогли бы организовать горячие завтраки? Овощей бы подбросили, продуктов, одним словом.
— А разве наши овощи не государству идут? Все сдаем государству, чего вам обижаться? Вы с государства требуйте.
— Все — еще не значит много. За вас, дорогой Прокофий Кузьмич, всю жизнь другие расплачиваются.
— Что поделаешь, Аристарх Николаевич, мы слабые, нам и должны помогать. Отстающих вытягивать надо.
— Тэк, тзк, тэк! — раздумчиво повторял директор. — Не такие уж вы слабые. Лучше бы вы не прибеднялись.
— Кто знает, лучше ли? — засмеявшись, возразил председатель колхоза. — К сильным вы на выручку не пойдете, верно ведь? А слабому да отстающему вы обязаны помочь. Советская власть не позволит обижать сирых. Не правду я говорю?
Председатель колхоза говорил о вещах весьма серьезных, но так, что при случае все свои слова мог обратить в шутку. И директор понял это.
— Да, действительно, в слабых ходить иногда легче, — мрачно сказал он, с них меньше спрашивается. Ну, где ваш сирота? Ему ведь тоже помогать надо будет? — завершил он разговор и потянул усы книзу.
— А как с уборочкой-то, Аристарх Николаевич? — не сдавался председатель.
— Буду ждать директивных указаний из района, — сказал директор. Но это означало, что он соглашается с председателем.
* * *
Бабушка часто рассказывала внукам об отце.
Шурка отца помнить не мог, но по рассказам бабушки представлял его солдатом, увешанным с головы до ног разным оружием: на спине крест-накрест две винтовки, на груди автомат, на поясе гранаты вроде бутылок и серебряная сабля, из каждого кармана торчат отнятые у немцев пистолеты, за голенищами сапог тоже пистолеты и гранаты.
Павлик спрашивал бабушку:
— Хороший он был, бабушка, наш батько?
— Кабы нехороший был, не так бы вам сейчас и жилось. Храбрый был, работящий был, справедливый. Курицы не обидит, а медведь в лесу лучше ему на глаза не кажись, живо спроворит: застрелит або топором зарубит. Когда на войну пошел — вся деревня в голос ревела. А он и говорит: буду так воевать, что вся грудь в крестах — в орденах, значит, — або голова в кустах. Вот оно так и вышло.
В Шуркином представлении постепенно сложился образ былинного богатыря. И стало ему казаться, что он даже запомнил, как провожала отца на войну вся деревня. Ранним утром высыпал народ на улицу, и все смотрят в сторону поля, чего-то ждут. Петухи давно с насестов послетали, солнце вылезло из-за крыш, над землей плывет музыка — либо гармони играют, либо радио в домах включили на полную катушку. Из конторы вышел на крыльцо председатель колхоза Прокофий Кузьмич, поднял руку и начал кричать:
— Пойте все! Пойте все!
Музыка заиграла еще громче, и все запели:
Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой!Широкие ворота распахнулись, и в деревню, по дороге из города, вошел танк, огромный и медлительный, будто слон, и с таким же слоновьим хоботом, вскинутым на уровень избяных коньков.
Народ расступился на обе стороны, танк подошел к конторе, и Шуркин отец в полном своем вооружении переступил с крыльца правления колхоза прямо на броню танка. Музыка усилилась, песня загремела так, что даже ветер поднялся в палисадниках, а отец поклонился народу и сказал: «Або грудь в крестах, або голова в кустах!» И танк медленно развернулся и понес отца на войну.
— Откройте ворота в поле, шире откройте! — закричал Прокофий Кузьмич, потому что ворота в поле, через которые ездили в город, всегда были закрытыми. Но никто не решился бежать впереди танка, и он, черный, тяжелый, под песню и музыку раздавил эти ворота, будто их не было вовсе. Когда танк вышел в поле, отец-богатырь, стоявший на броне и державшийся одной рукой за поднятый хобот орудия, махнул саблей, и деревянные остатки изгороди вспыхнули ярким пламенем. За этим пламенем и дымом танк исчез. Вместе с ним исчез и отец Шуркин. А в деревне все еще пели «Вставай, страна огромная» и гремела страшная и радостная музыка, и ветер гнул деревья до земли.
Все происходило именно так, иначе и быть не могло. Смутные представления об этом событии отложились, должно быть, в каком-то дальнем уголке Шуркиной детской памяти и становились все яснее и яснее по мере того, как он взрослел.
Шурка решил, что он обязательно должен вырасти таким же, каким был его отец, — защитником родной земли: бесстрашным, вооруженным с головы до ног, всеми любимым, — и ни перед кем не кланяться, и за всю жизнь не обидеть ни одной курицы.
Конечно, он подражал старшему брату во всем и тоже иногда плаксиво ссылался на свое сиротство, но делал это, лишь когда требовалось поддержать брата или защитить его. Если б у него была такая же сила, как у отца, он, конечно, защитил бы брата не жалостливыми словами. Только вот оружия у него не хватало, особенно если иметь в виду оружие настоящее, а не самодельное. Главное- надо было вырасти. Важнее задачи на сегодняшний день он не знал.
— Бабушка, а где батько оружие доставал? — спрашивал он не раз, требуя все больших уточнений.
— Оружие-то? — раздумывала Анисья, как бы ему ответить получше. — Время такое было, что всем храбрым людям оружие на руки выдавали, под расписку. А батько у тебя был знаешь какой? Вот какой! Никому слова «наплевать» зря не говаривал, все ласково да обходительно, ни одной мухи за всю жизнь не раздавил, а силушкой владел непомерной.
— Верно, что его на танке из дому увезли?
— Все верно, внучек! В ту пору в селе храбрым по танку давали. А кабы не это, разве бы одолеть нам нечисть эту поганую? Нипочем бы не одолеть.
— А он был ученый? — вмешивался в разговор Павлик.
— Кто?
— Тятька наш.
— Лишнего ученья не было, только ведь не одним ученьем ум человеку дается. Кому-то надо и землю пахать. Вот ты у нас будешь учиться, а Шурик будет дома, он младший, его судьба такая.
Однажды бабушка нашла в сундучке среди отцовских треугольных писем обыкновенный конверт и в нем фотографию.
— Вот он, кормилец наш! — кинулась она с находкой к свету. — Ну-ко, смотрите, ребята!
— Кто это? — спросил Шурка.
— Ты что, ополоумел або как? Батько это!
Солдат без оружия, в кирзовых сапогах, в помятой гимнастерке без погон, без орденов совершенно не походил на праздничного паренька в белой вышитой рубашке с поясными белыми кистями до колен, снимок с которого висел на стенке около божницы, и на того отца-богатыря, проводы которого на войну запомнились Шурке, как ему казалось, на веки вечные. Солдат походил на пахаря, на колхозного бригадира, только не на воина.
Это был обыкновенный и очень понятный деревенский мужик, свой хлебороб, а не тот полусказочный Илья Муромец, которого ясно видел в своем воображении Шурка.
— Кем он был, бабушка? — спросил Павлик, пристально разглядывая своего отца.
— Как это — кем был?
— Что в колхозе делал?
— В колхозе-то? Все делал. Что надо было, то и делал. Колхозник ведь!
— А снимался где? — спросил Шурка.
— На войне снимался або где, не знаю.
— Без оружия?
Бабушка рассмеялась.
— Тебе бы все ружья да ружья, экой какой! А он положил ружье свое на землю и снялся — вот и все тут.
Шурка это понял: и верно, почему солдат должен быть всегда при оружии? А на отдыхе у ключа с живой водой? А на пиру за дубовыми столами, за скатертями самобранными? Правда, вид у отца не такой уж могучий, каким он представлялся, — в плечах, пожалуй, не косая сажень, но это был его отец, и он вправду был солдатом и защищал советскую землю и, наверно, дошел до Берлина вместе со всеми. Значит, все так, все правильно! И до войны он был колхозником и не гнушался никакой работой, делал все, что требовалось, и его любили.
Шурка ни разу не слыхал, чтобы кто-нибудь в колхозе помянул отца недобром, напротив, его только хвалили. А плохого человека даже после смерти не будут все хвалить в один голос. Павлику и Шурке нередко ставили отца в пример. Но Павлик пошел в ученье и не мог во всем подражать отцу, у него жизнь началась совсем иная. А вот Шурка мог подражать отцу во всем, потому что сам стал заниматься тем же, чем занимался всю жизнь его отец. И Шурка очень хотел походить на своего отца.
* * *
Интересно менять места на земле. Сменишь место, и будто все в жизни твоей начинается заново.
Изба, в которой Павел должен был прожить несколько лет, была совершенно такой же, как все деревенские избы: при входе, над головой, — полати; от входа справа — большая русская печь, при ней лежанка-подтопок на время зимних морозов; за пекаркой — кухня, кое-где ее зовут кутьей; там чело — там стряпают, варят, разливают парное молоко, стирают белье; там же вход в подполье, в голбец, — это либо дверь между стеной и печкой, либо западня прямо на середине пола и спуск под пол, как в трюм парохода. В кухне же суденка, вроде низкого посудного шкафа, набитая до отказа блюдами, глиняными плошками, алюминиевыми тазиками и чайными чашками, а чуть повыше — полицы с глиняными горшками и кринками, с подойницей, с чугунками. От главной половины избы кухня отделена дощатой заборкой (в иных избах — занавеской). В этой главной половине напротив входа — сутный угол, в котором вперемежку с иконами висят портреты разных больших и небольших людей, а по обе стороны от обеденного стола тянутся вдоль стен массивные сосновые лавки-скамьи.
Изба как изба. Но для Павла все в ней казалось новым и необыкновенным, потому что это была изба не своя, и, поскольку Павел считался в ней квартирантом, у дощатой заборки выделен был для него особый уголок, куда хозяин дома Иван Тимофеевич поставил даже нечто вроде столика, чтобы постоялец мог сидя заниматься своими науками. На заборке Павел повесил листок из тетрадки с расписанием уроков да вырезанную из газеты фотографию лыжника, а на столик положил несколько учебников.
Спал он на полатях вместе с хозяйскими сыновьями — Васюткой и Антоном. Васютка был пареньком плутоватым, озорным, дерзким, примерно одного возраста с Павлом и учиться стал с ним в одном классе, а вялому и простодушному Антону едва исполнилось восемь лет, и он больше всего на свете гордился тем, что стал наконец учеником первого класса: значит, как-то поравнялся со своим старшим братом.
На полатях ребята познакомились друг с другом.
— Ты уроки учить будешь? — спросил Васютка Павла.
— Как? — раскрыл Павел рот от удивления.
— Так! Я никогда не учу. Лучше на реку бегать, рыбу удить. А зима начнется — на лыжах ходить будем.
— Разве уроки не задают? — поразился Павел.
— Задают. Тятьке тоже в колхозе много задают, а он чего делает?..
Павлу на первых порах учеба и в этой школе давалась легко, и они подружились с Васюткой. Школьные отметки у обоих были хорошие, и ребята ждали только окончания уроков, чтобы схватить удочки да убежать на реку. Дома они почти ничем не занимались.
Отец Васютки тоже не много занимался делами, хотя среди начальства считался неплохим работником. Он состоял в разных комиссиях, был то бригадиром, то каким-нибудь учетчиком, много выступал на собраниях и даже на районных активах, следил за тем, чтобы работали другие, постоянно кого-то хвалил и выдвигал, кого-то отчитывал — словом, руководил. Время от времени он признавал и свои ошибки, и это производило на всех хорошее впечатление. Здоровье у Ивана Тимофеевича было выдающееся, он мог подолгу и помногу пить в нужной компании и не напиваться, а приходил домой и принимался рассказывать о своей жизни сыновьям и квартиранту Павлуше.
— Главное — не завалиться! — говорил он для начала, имея в виду количество выпитого. — И вообще надо не заваливаться. А на жизнь заработать всегда можно. Вот приехал я как-то в Москву. То-се, туда-сюда — деньги идут. Не стало денег. Как же так: нужный человек, а без денег? Поговорил с одним, с другим. «Колхозник?» — спрашивают. «Колхозник, говорю, руководящий!» «Член партии?» — «Член». — «Иди, говорят, на такой-то этаж, в такой-то отдел, скажи — приезжий, руководящий колхозник, поиздержался, денег на дорогу нет, там очень чутко к этому относятся». Я пришел. Так и так, мол… И не успел я поговорить как следует, подают бланк: пиши заявление. Я стал писать. «Покороче», — говорят. Я покороче. «Распишитесь, говорят, и получите деньги». Я расписался и тут же получил. Фу ты черт! А им все равно, у них фонды. Очень мне это понравилось — никакой волокиты. Конечно, для них я — капля в море, но у меня-то впечатление осталось хорошее. Одного себе простить не могу: мало попросил. Ну что мне стоило написать цифру покруглее? Им-то все равно, а для меня — заработок. Ну, в общем, понравилось!
Павел слушал и удивлялся: как все просто — зашел, написал заявление и получил.
Васютка начинал спрашивать отца:
— Как там в Москве, тятя, расскажи?
— Разве я мало рассказывал?
— Расскажи, тятя, как там?
— Что тебе Москва? Ты смотри, как здесь. Учиться, ребята, надо, вот что я вам скажу. Без ученья никуда. Только и с ученьем можно в дураках всю жизнь проходить, а на дураках воду возят. Активность надо проявлять, вот что я вам скажу, выступать надо, заинтересованность показывать. Говорить не научишься — жить не научишься! Ты чего рот раскрыл? — вдруг обращался он к Павлу.
А Павел слушал. Все в этом доме для него было интересно, и он не тосковал ни по своим родным, ни по своей деревне. К тому же Шурка чуть ли не каждую неделю навещал его, не считаясь ни с какой погодой, возил ему пироги, картошку, мясо, молоко — все, что скапливала и приготовляла бабушка. Павел, видимо, понимал, чего это ей стоило, и умел быть благодарным: передавал бабушке поклоны и даже писал письма. А бабушка частенько с надеждой говорила:
— Вот выучится — за все отплатит, все возворотит! — Правда, при этом она добавляла иногда: — Все возворотит, коли совесть не потеряет.
Шурка нередко навещал Павла и пешком, если в колхозе не оказывалось свободной лошади, либо пересылал еду с попутчиками.
В общем, Павлуша не голодал. Но все же, когда хозяйская семья садилась за обед, за ужин, он торчал в стороне и вздыхал, пока не приглашали за стол и его.
После ужина подвыпивший Иван Тимофеевич хвастался своей силой. Он становился раскорякой посреди избы, выпячивал живот и подзывал либо Васютку, либо Павла.
— А ну, давай!
Васютка брал от печи сосновое полено и привычно, со всего размаха бил поленом по отцовскому брюху. Иван Тимофеевич, даже не покачнувшись, выдыхал воздух и говорил Павлу:
— Теперь ты!
Павел первое время боялся бить изо всей силы, ему казалось, что случится какое-нибудь несчастье. Тогда Иван Тимофеевич обижался.
— Осторожничаешь? Этак из тебя никакого толку не выйдет. Давай еще! Только ребром не ударяй, держи полено так, чтобы попало круглой стороной. Ну!
Павел бил снова. Раздавался мягкий, невыразительный звук, полено отскакивало от бригадирского брюха, как от туго надутой резиновой подушки, и Иван Тимофеевич снова садился за стол, чтобы выпить еще два-три стакана чаю. В зимнее время ребята приносили ему из сеней с мороза огромный матрас, набитый соломой, ватное одеяло и делали еще что-нибудь по его требованию, иногда просто чудачили, читали таблицу умножения шиворот-навыпорот, а он хохотал.
Однажды Павел ударил поленом неудачно, выше, чем следует, и Иван Тимофеевич задал ему трепку.
— Бей, да знай, кого бьешь, дурак!
Позднее дружба с Васюткой у Павла разладилась, хозяйский сын невзлюбил квартиранта. Но это произошло не сразу. Неторопливый Павел не мог все же угнаться за смышленым и быстрым своим дружком. Способности его оказались хуже, чем у Васютки, и когда он перестал заниматься на дому, ученье стало даваться ему с трудом. Павел не всегда успевал записывать, что говорили учителя на уроках. Поначалу Васютка охотно давал ему свои тетради.
— Ладно, списывай, потом сам не зевай! Но Павел зевал снова и снова.
— Ты рот не раскрывай, раззява! — обижался Васютка. — Списывай, на!
Павел переписывал Васюткины тетради и постепенно стал подражать ему во всем, даже почерк его перенял. Он повторял Васюткины поговорки и прибаутки, копировал его повадки, походку. Васютка увлекался рисованием — и Павел стал рисовать, Васютка набросился на Майна Рида — и Павел тоже. Но Павел все делал медленно. Пока он читал «Всадника без головы», Васютка успел прочитать и «Отважную охотницу», и «Мароны», и «Охотников за черепами». Мало этого, в школе выяснилось, что и домашние задания у Васютки все готовы, а Павел то с одним не справится, то другое что не выполнит.
Пришло время, классный руководитель поручил Василию Бобкову взять шефство над отстающим Павлом Мамыкиным.
— А если он всю жизнь будет отставать? — спросил Васютка.
— Это твоя общественная нагрузка, — разъяснил ему учитель. — Твой общественный долг!
— Ничего я ему не должен!
— Бобков, я призываю тебя к порядку.
Бобков подчинился.
Вернутся они с занятий, Васютка наскоро поест — и на лыжи. Павел тоже.
— А уроки сделал? — спрашивает его Васютка.
— Когда? Мы только пришли.
— Тогда садись решай задачи.
— А ты?
— А я пойду покатаюсь.
— А задачи?
— Я решил за уроком.
— Я перепишу потом у тебя.
— А сочинение по русскому тоже мое сдашь?
— От тебя же не убудет? — искренне удивлялся Павел.
Но Васютка все-таки злился всерьез и все чаще.
— Ты так и будешь всю жизнь на чужой шее ездить? — спрашивал он.
Васютка стал охотнее проводить свободное время со своим младшим братом, чем с Павлом. Антона уроками еще не загружали, и его можно было таскать с собой и на лыжах и на санках. Павел обижался и обиды свои вымещал на добродушном Антоне. Он прятал Антошкины лыжи, пачкал его тетради, однажды положил ему в карман несколько папирос из пачки, забытой Иваном Тимофеевичем на подоконнике, и Васютка, найдя эти папиросы, пожаловался отцу, решив, что его братишка уже курит. Отец без долгих расспросов и следствий выпорол парнишку.
— Кто тебя плохому учит, кто тебя воровству учит? — кричал он, совершенно рассвирепев от одного предположения, что в доме от него, от большака, что-то скрывают. — Разве я учу тебя воровать? Пусть все воруют, а ты не смей! Не смей себя марать, у тебя еще все впереди, тебе жить надо.
Настоящий виновник переполоха так и не был обнаружен.
* * *
Лишившись Васюткиной поддержки, Павел стал учиться плохо и в пятом классе просидел два года. В насмешку над его великовозрастностью одноклассники да и старшие ученики то и дело спрашивали его: «Когда женишься?» Если обидчик был не очень крепок, Павел шел на него с кулаками в открытую, в противном случае действовал исподтишка. Школа со всеми ее порядками, даже здание ее — деревянное, двухэтажное, с большими барачными окнами — стала ему немилой. Иногда Павел утешал себя, вспоминая слова Ивана Тимофеевича, что и с учением можно всю жизнь в дураках проходить, и пробовал «проявлять активность» на школьных собраниях.
Однажды это помогло. Поставили ему двойку по русскому языку, а на школьном совете нашелся защитник. «Надо ученика рассматривать в комплексе, сказала о нем пионервожатая, она же преподавательница истории СССР. — Мамыкин — человек с общественным сознанием, растет в активисты. Это качество для нашего времени великое. Надо оказать Мамыкину моральную поддержку по всем линиям!..»
Преподавательницу истории поддержали, отметку Мамыкину повысили. Но это случилось только один раз. Больше общественное сознание Павла на оценке его успеваемости не сказывалось. И немилым стало ему даже село, где находилась школа: шумное, многолюдное, на высоком берегу реки, открытое всем ветрам зимой и летом. Павел на воскресные дни все чаще стал уходить вместе с другими учениками пешком в свою родную деревню, к бабушке, домой, где всегда для него были и горячие блины, и картофельные тетери с маслом и где его никто не обижал.
Павлуша тоже старался угодить своей бабушке, как мог. Во время весенних оттепелей ученики собирали граблями для школьного участка навоз на базарной площади близ сельпо и на местах коновязей. Павел на эту работу ходил охотно, потому что в вытаявшей коричневой кашице нет-нет да и мелькали серебряные и медные монеты, оброненные зимой приезжими колхозниками. Как многие другие, он искал эти деньги, но собирал их не для себя, а для бабушки. Когда в фанерной копилочке, сколоченной им самим, набралось до двух десятков рублей, Павел разложил монеты стопками по их достоинству, завернул в бумагу каждую стопку в отдельности, перевязал нитками и передал бабушке сам, из рук в руки, как первый в жизни подарок. Анисья сначала испугалась, не начал ли ее внучек воровать, но, узнав, откуда деньги, обрадовалась им несказанно, показывала их и Шурке и соседкам, хвалилась:
— Понимающий растет человек, справедливый. Вот подождите, то ли еще будет!
Наевшись и отоспавшись, Павел ходил по улице, задрав голову, и, как в строю, высоко поднимал свои длинные ноги: знай наших! Вместе с ним маршировали и его товарищи по школе. Их никто не спрашивал, какие у них отметки, — достаточно того, что учатся, значит, не зря хлеб едят, выйдут в люди и не будут носом землю рыть. Взрослые смотрели на них с уважением, разговаривали по меньшей мере как с равными, а некоторые даже с оттенком подобострастности, словно с будущими светилами: кто их знает, может, все в начальники выйдут, и если не устроятся где-нибудь на районных постах, то в своем колхозе все равно сядут в контору, и с этим шутить нельзя. Ребята чувствовали, какое им отведено место на земле, и держали себя с достоинством, ни в какие драки не вступали, скандалов не затевали, да никто из сверстников и не посмел бы скандалить с ними. Подростки смотрели на выдающихся земляков с завистью и почтительностью, на какие только способны были в своем неустоявшемся возрасте.
А в последний год Павел начал даже посещать молодежные беседки, подсаживался к взрослым девушкам, привыкал разговаривать, шутить.
Беседки устраивались в избах то у одной девушки, то у другой понедельно. А иногда целую зиму в одной и той же избе у каких-нибудь бессемейных стариков, которым каждая девушка оплачивала свою очередь. Парни помещения не нанимали — так было заведено издавна.
Девушки собирались на беседки с вечера с рукодельем — вязаньем, вышивкой, чаще всего с прясницами и, рассаживаясь на лавках вдоль стен, крутили веретена, пряли лен и льняную кудель. Парни же толкались без всякой работы, переходили от девушки к девушке, иногда садились к ним на колени тоже так было заведено от века.
Павел, конечно, не думал еще ни о невесте, ни даже о любви. Чаще всего он садился рядом с Нюркой, внучкой пасечника Михаилы Лексеича. Она подросла, считала себя уже взрослой, хотя на взрослую еще не походила. Невысокая и чересчур тихая, она была принята в круг взрослых девушек-невест несколько раньше обычного лишь потому, что слыла в колхозе работящей и была старшей дочерью в семье.
В деревне Нюрку прозвали Молчуньей за eе необыкновенную стеснительность и немногословие. Может быть, Павел потому и сидел подолгу рядом с нею, что можно было им о чем не говорить. Она молчала, и Павел молчал. Она часами сидела, пряла и ни о чем не спрашивала Павла, разве что только молча, глазами, которые изредка поднимала на него, и Павел, в свою очередь, ни о чем не спрашивал ее, и не дразнил, и не щипал, и не садился к ней на колени, как это делали другие, менее робкие ребята. За эти его великие достоинства Нюрка Молчунья прощала Павлу даже то, что у него часто был приоткрыт рот.
Летние каникулы Павел проводил дома в своем колхозе, но в полную силу не работал, да никто и не заставлял его работать, потому что ему была уготована иная жизнь. Сходит он, бывало, вместе со всеми на дальний сенокос и косу и грабли с собой возьмет, но не столько косит и гребет сено, сколько держится поближе к бригдирам, бродит по пожням да по перелескам, ест красную смородину, спугивает рябчиков и тетерок, гоняется за только что появившимися на свет зайчишками. Вечером он заберется в бревенчатый шалаш-избушку на душистое сено, отдыхает, пока не вернутся работники, а если они слишком задерживаются, нарубит сухих дров, разложит костер посреди избушки, повесит чайники и котелки с водой, а порой даже картошки для щей начистит, если старик кашевар тоже на работе, и опять лежит отдыхает. Уже в сумерках сойдется на ночлег вся сеноуборочная бригада: десять — пятнадцать девушек и баб, усталые, но шумные, радостные, да два-три старика, да молодой бригадир и его заместитель — учетчик, и начинается для Павла самая развеселая жизнь. Пока готовится ужин, он возится с девушками, бегает за ними в темноте по кустам, играет в кошки-мышки, затем поест вместе со всеми из общего котла, хотя все лето бабушка собирала для него еду на особицу, — поест, послушает шутки-прибаутки да разные бывальщинки, сам расскажет какой-нибудь проезжий анекдотец, опять поиграет с девушками и засыпает позже всех, прикорнув между ними, отдыхая от своих наук и от трудов праведных.
Нюрка Молчунья неизменно оказывалась на этих дальних сенокосах, особенно когда узнавала, что там будет Павел. Что бы она ни делала, она делала хорошо, споро и на покосе становилась в голове всей колонны. Одно было плохо и беспокойно: работая на пожнях вместе со всеми, она почти по целому дню не видела Павла, а видеть его почему-то хотелось. Когда же Павел появлялся и даже становился с косой в один ряд со всеми, она беспокоилась еще больше: его ли это дело? A вдруг обрежется? Все-таки косить — не пером по бумаге водить.
Как-то Нюрка сказала Павлу:
— Сходи на пасеку.
— Зачем?
— Дедушка говорит: чего это мамыкинские ребята не зайдут, я бы, говорит, им…
— Чего — им? — заинтересовался Павел.
— Ну, медом накормить хочет, — застеснялась Нюрка.
— А ты ходишь?
— Я не хожу, чтобы разговоров не было.
— А нам можно?
— Другие-то ходят…
Шурка на пасеку не пошел, сослался на недосуг, Павел пошел один.
Разговорчивый Михайло Лексеич обрадовался ему, начал со старого:
— С батькой-то твоим мы, бывало, зайчиков били. Метко стрелял мужик, ничего не скажешь. И маховитый был характером, не жадный: двух зайцев несем — поровну, а если одного — мне отдает, широкая душа! Вот она, судьба, какая: метко стрелял, а не воротился с войны, царство ему небесное. Хорошие, совестливые люди завсегда раньше гибнут. А мы тут живем, прости господи!..Старик тяжело вздохнул. — Пойдем-ка давай в сторожку, у меня там под полом, конечно, запасец есть.
Михайло Лексеич старел, длинная борода его поседела и поредела, сквозь нее был виден незастегнутый ворот рубахи. Так поздней осенью начинает просвечивать лесная опушка. А брови разрослись и загустели еще больше, и глаза стали еще синее, только из-за бровей они редко показывались.
— Голову-то пригни, — сказал он Павлу, открывая дверцу в сторожку. — Ну и вытянулся ты, паренек, дай бог здоровья! Батько твой тоже был немалого росту, а ты, видно, еще выше пойдешь. Кедра, да и только!
В сторожке ничего не изменилось: слабый свет, бочка-медогонка, тихое жужжание пчелок на оконном стекле. Казалось, это были те же пчелки, что и много лет назад, они так же сверлили стекло: сверлят, сверлят, а просверлить никак не могут.
Густой запах меда защекотал Павлу ноздри.
— А зайцев нынче мало стало, — продолжал напевать дед. — Говорят, будто от авиации на них порча идет. Рассевает она всякие вредные порошки, крошит сверху, куда надо и не надо, а зайцы питаются травой да озимью, вот и дохнут.
Павел обиделся за авиацию:
— От авиации только польза, дедушка. Самолеты землю удобряют, а от этого урожаи растут.
— Ну что ж, растут так растут! — не стал спорить дед. — Тогда, стало быть, красный зверь зайца портит. Красного зверя развелось ныне видимо-невидимо, изничтожать его некому, собак подходящих нет.
— Что это за красный зверь? — спросил Павел.
— Лисица. Для кого лисица, а для охотника — красный зверь.
Михайло Лексеич слазил в подполье, вынес горшок меду с вощиной, зачерпнул стакан холодной воды из ведра, вытер о штанину деревянную ложку; все расставлял и раскладывал перед Павлушей на скамье, а сам говорил, говорил:
— Вот и с медом нынче худо стало. Пчел поубавилось, а может, изленились и они — никак настоящего взятку нет. Я так полагаю, что и пчелы гибнут, конечно, от порошков, от удобрений этих. Совсем ослабели семьи. Да ты ешь, ешь, не сумлевайся! — вдруг перебивал он свой рассказ. — Тебе не грех, ты много не съешь, можно. Другие вон бидоны сюда присылают: председателю дай, кладовщику дай, бухгалтеру дай! И все — пока на весы взяток не ставили… Кушай на здоровье!
Павлу нравилось, что дед разговаривал с ним теперь, как со взрослым.
— Не иначе как от авиации и пчелки гибнут, — повторил старик. — Семьи ослабели, меду не стало, а меня, вишь, во всем обвинить хотят. Слыхал, наверно? Всем дай, да меня же и винят, вот, брат, какое дело. А попробуй не дай — беда! Лучше бы совсем пасеку закрыли. Так нет, под меня подкапываются…
Михайло Лексеич внимательно посмотрел на Павла, словно задумался, рассказывать ли ему все до конца, синие глаза его блеснули из-под бровей, посмотрел и договорил:
— Меня винят во всем: «Твои-то ульи, говорят, сильные!» Что я им скажу на это, прости меня, господи? Конечно, свои — они свои и есть. Только и моим в этом году несладко приходится. Для своих-то я на черный год запасец меду оставляю. А колхозных зимой сахаром кормим, мед по бидонам расходится. А сахарный сироп для пчел все равно что веточный корм для коров.
Павел слушал, как Михайло Лексеич доверчиво жаловался ему на какие-то несправедливости, но вникнуть ни во что не мог и только аппетитнее выжевывал вощину да запивал мед водой. А дед, выложив все свои обиды, опять начинал угощать его.
— Нюрке я давно говорю: посылай, мол, парня ко мне, он учится, ему мед на пользу. Один выучится, другой выучится — глядишь, везде лучше дела пойдут. Тогда и меду всем хватать будет, и воровать люди перестанут: что без нужды воровать? Да ты ешь, ешь! И за батьку своего ешь! Уж я бы его накормил ныне, да, вишь, не привелось. Погиб человек. Вот совестливый был мужик…
Павел зачастил на пасеку. Дед встречал его по-разному: то приветливо, почти по-родственному, то начинал ворчать и жаловаться и тогда не угощал медом. Все чаще говорил он о бессовестных людях, расхищающих пчелиное добро, а не об охоте, не о красоте окрестных лесов и лугов. И о своей совести что-то поговаривать начал, вздыхая и обращаясь при этом к своему богу, словно чувствовал перед ним какую-то большую вину…
А когда Павел уезжал из деревни, Нюрка Молчунья навещала его бабушку. Придет, скажет:
— Я просто так.
— Ну, коли так, садись.
— Шла мимо, дай, думаю, зайду, и зашла.
— Так садись.
— Да я так. — А сама стоит у порога и приглядывается, нельзя ли чем помочь старой Анисье по хозяйству, не нуждается ли она в чем. Однажды принесла полкринки меду, сказала:
— Это дедушка прислал в поклон. «Передай, говорит, Анисье, она, говорит, не дурная, не откажется». Только ты, бабушка, не подумай чего-нибудь: у него свои колоды есть, этот мед из своих ульев.
Бабушка обрадовалась меду, она сама любила его больше, чем сахар, и для здоровья внуков считала его шибко полезным, а потому приняла и поблагодарила:
— Коли свои колоды, то можно, принимаем! Скажи дедушке спасибо. Вот Пашута выучится, он его добро не забудет.
Подружилась Молчунья с Шуркой, с ним и разговаривала больше, чем с кем бы то ни было. Как-то вышила ему кисет для табаку. Шурка удивился:
— Ты чего? Я ведь не курю.
— Я просто так. Не куришь, а все равно будешь. Все курят, никуда от этого не уйдешь.
— Ну ладно, коли так, — согласился Шурка и взял кисет.
А бабка Анисья узнала, крик подняла:
— Ты мне парня с ума не своди! Ты еще самогонки принесешь або водкой будешь спаивать?
Нюрка с перепугу проговорилась:
— Это я для Паши, коли Шура не курит, — сказала она и перепугалась еще больше.
— Паша тоже не курит! — закричала Анисья и вдруг впервые как-то очень внимательно посмотрела на Нюрку. — Ах, ты для Паши это?..
Никто еще ничего не замечал за Нюркой, и никто ни на что не намекал ей, но сама-то она уже догадывалась, что дело ее неладно, влюбилась она.
Оставаясь одна, Нюрка припадала головой к теплой печи и плакала:
«Ох, неладное мое дело! И что же ты задумала, головушка моя непутевая! На что же ты, сердечушко мое несуразное, полагаишьси! Я-то ведь неграмотная, как была, так и есть темная бутылка, а он — вон он какой! Выучится да нахватается всего, войдет в пору и уедет на города — только его и видели!»
На угоре и на беседках она все чаще пела свою любимую частушку-коротышку:
Голова моя не дура, Голова моя не пень, Только думает головушка О дроле целый день.* * *
Председатель колхоза Прокофий Кузьмич все же считал, что из всех ребят его деревни, обучавшихся в семилетке, самые серьезные надежды подает Павел Мамыкин. «Что-то в нем такое имеется, умственное что-то… — думал он, когда видел Павла на гулянке. — Этот своего не упустит, цепкий. Вот, скажем, Нюрка. А что? Нюрка — девка работящая, даром что с виду никуда. Для жизни такая именно и нужна. А у самого Пашки и вид подходящий, и рост есть. Главное — не дуролом, горячки зря не порет, держит что-то себе на уме. Из такого может человек получиться. В кадры может пойти, руководителем стать…»
— Я тебя, Павел, приобщу, — говорил он ему не раз. — Учись только, а уж я тебя поддержу. Раз начал тянуть, так и буду тянуть до конца. Своих сынов у меня нет.
Прокофий Кузьмич с умилением вспоминал, как привез Пашуту сам к директору школы, и устроил его на квартиру, и бабке Анисье помогал, и начинало ему казаться, что он сделал так много для этой семьи, особенно для Павла, — так много; что отступать было уже нельзя.
— Дорого, брат, ты мне достался, потому должен оправдать доверие, вырастешь — послужишь колхозу. Возлагаю на тебя надежды! — И Прокофий Кузьмич похлопывал Павла по плечу.
Шурка тоже, конечно, парень неплохой, растет в отца, но это же простой работяга, земляной человек. Такие вытягиваются сами по себе, как сорная трава, чего с ними возиться. А и возиться будешь — никто тебя за это не похвалит. Ломит он спину, как и отец ломил, как тысячи лет до него ломили. Ученье не для него. А ныне для руководства образование необходимо, горизонт. И характер! Так считал Прокофий Кузьмич.
— А как ты считаешь? — спрашивал он у Павла.
Никакого мнения на этот счет у Павла еще не было, он стеснялся, робел и, кроме «спасиба», ничего выговорить не мог. Но лестные намеки Прокофия Кузьмича относительно своей будущности выслушивал с удовольствием.
Руководить? К этому Павел готов был приобщиться хоть сейчас. Только почему в деревне? Ведь это значит — так и не выбиться в люди. Для чего же тогда учиться? А может, и верно не стоит учиться?
Часто бывая в селе, где находилась семилетняя школа, Прокофий Кузьмич навестил как-то своих дальних родственников, у которых Павел стоял на квартире.
— Ну, как вы тут? Как мой сирота пригрелся у вас?
— Парень ничего, толковый, — ответил ему Иван Тимофеевич, — пальца в рот не клади! Только вот с моими ребятишками чего-то не поладил. Грызутся из-за уроков.
— Кто кого грызет?
— А разве поймешь? То-се, пятое-десятое, глядишь, уж переругались. Васютка мой — на него, он — на Васютку: «Не помогает, говорит, ничего».
— Почему не помогает? Это нехорошо. Выручать надо друг друга, тянуть! наставительно заговорил Прокофий Кузьмич, раздеваясь и усаживаясь за стол, на котором уже появились водка и еда.
Васютка вышел из кухни, сказал:
— Вот он и тянет. Списывает все время.
— Что значит списывает?
— То и списывает…
— Ты подожди, малец, помолчи! — обиделся Прокофий Кузьмич. — Чего списывает? Что плохого, что списывает? Жалко тебе, что ли? Пускай списывает! А ты у него списывай. Что ж ты, брат Иван Тимофеевич, просветить их не можешь? — обратился он к хозяину не то всерьез, не то в шутку.
— Просвещаю! — засмеялся Иван Тимофеевич. — Так и сяк просвещаю. Тоже про взаимную выручку им говорю. Не воспринимают. И водку не могу научить пить, сукиных детей. Может, ремнем попробовать? Давай, Прокофий Кузьмич, просветимся сами!
Иван Тимофеевич налил водки, и они выпили как бы между прочим.
— А где Пашка? — заинтересовался председатель.
Павел тоже вышел из кухни, поздоровался.
Прокофий Кузьмич осмотрел его с ног до головы, спросил:
— Ну что?
Павел переступил с ноги на ногу, промолчал.
— Если что нужно, говори, я тебя всегда поддержу, — сказал председатель. — Вытяну! Другие не помогают — я помогу. Советская власть поддержит. А вырастешь, тогда мы посмотрим. Ты им еще покажешь!
Иван Тимофеевич с готовностью поддакивал председателю:
— А я что ему внушаю? Учись жить у Прокофия Кузьмича — вот что я ему внушаю, он сам это может подтвердить. «Вот твоя главная школа», — говорю я ему!
— Ладно, ладно! — прервал его Прокофий Кузьмич. — Пьянеешь ты, что ли?
Но Иван Тимофеевич пьянел не от вина.
— Что «ладно, ладно»? Разве я не правду говорю? Ты, Прокофий Кузьмич, оборотливый и знаешь, что выгодно, что нет. Продал петушков по базарной цене, курочек купил у соседнего колхоза по дешевке. Выгодно? Выгодно! Потом совсем птицеферму ликвидировал — значит, так выгоднее, хлопот меньше. Мы все у тебя учимся, Прокофий Кузьмич! Вот был я в Москве, поиздержался, то-се, пятое-десятое, написал заявление, и дали мне на дорогу двести двадцать пять: сколько попросил — столько и дали. Прогадал я? Прогадал! А Прокофий Кузьмич не прогадал бы…
— Ладно, ладно, не мели. Наливай лучше! — опять попробовал остановить его Прокофий Кузьмич, хотя похвалы в свой адрес обычно принимал благосклонно. — Я же не о своей выгоде беспокоюсь.
— А если бы и о своей, что ж такое? Почему грех о своей выгоде побеспокоиться?
Прокофий Кузьмич взял бутылку сам и налил водки в две стопки.
— Пил ты сегодня, что ли? — спросил он Ивана Тимофеевича. — И почему для хозяйки стопки нет? Анна, выпей с нами!
Жена Ивана Тимофеевича, Анна, рано и быстро постаревшая женщина, увядшая уже настолько, что Васютку и Антошку можно было принять за ее внуков, не успела ничего ответить, как муж ответил за нее:
— Зачем Анне пить, ей здоровье не позволяет. — И добавил, обращаясь к жене: — Делай свое дело!
Прокофий Кузьмич возражать не стал, и мужики выпили вдвоем.
Анна, сидевшая перед этим на лавке возле стола, встала и ушла на кухню. Она всю жизнь делала свое дело: с утра до вечера возилась по хозяйству, что-то стирала, сушила, что-то варила и стряпала, собирала на стол, убирала со стола, и молчала, и довольна была уже тем, что муж часто освобождал ее от тяжелой колхозной работы.
Васютка и Павел тоже пошли на кухню, но Иван Тимофеевич остановил их:
— А вы сидите с нами и слушайте, что будет говорить Прокофий Кузьмич.
Ребята послушно сели: даже озорной Васютка знал, что с захмелевшим отцом можно шутить, но спорить нельзя.
Прокофий Кузьмич налил еще по стопке.
— Ты из меня профессора не делай, — сказал он своему родственнику. — Чего я им буду рассказывать? Мое дело к пенсии идет. Я все свои копья уже обломал. Вот дотяну как-нибудь до возраста и сдам дела, пусть теперь молодежь орудует. Молодых приобщать надо, им виднее, куда что движется. — И он посмотрел на Васютку и Павла.
— У нас никуда не движется. Вот в Москве движется. — Ивана Тимофеевича опять понесло на воспоминания о Москве. — Денег там, конечно, идет много, зато и добывать есть где. Там базары, то-се, пятое-десятое, обороты, а у нас тут вонючее болото. Но и чудят там больше. Вот, скажем, магазины продовольственные — хлеб, булки всякие, бакалея, то-се, пятое-десятое. Входишь, берешь корзину, идешь по кругу, накладываешь полную корзину, круг кончается, тут тебе, голубчику, насчитывают, корзину отбирают, и ты идешь домой как миленький, с полной охапкой товара — быстро и здорово.
— Здорово! — воскликнул Васютка, которого возбуждали любые рассказы отца о Москве. Оживился и Павел.
— У нас бы такой магазин — все булки по карманам бы рассовали, — сказал он.
— Да что ты понимаешь! — зыкнул на него Васютка.
— А что, неправда, скажешь? Народ у нас несознательный.
— Много ты понимаешь — народ, народ!
Прокофий Кузьмич посмотрел на ребят и хитро заулыбался.
Павла поддержал Иван Тимофеевич:
— Правду, Пашка, говоришь! Мыслимое ли дело, чтобы наш здешний человек сам за себя отвечал? Вот если бы он по трудодням получал полной мерой!
Поддержал Павла и председатель:
— Народ воспитывать надо, а потом уж по трудодням, Пашутка правильно мыслит!
Павел не очень понимал, за какие мысли его похвалили, но раз хвалят старшие, значит, он сказал то, что надо, и Васютка оказался в дураках.
Окончить семилетку Павел не смог. Хотели его оставить на второй год и в шестом классе, но не решились: Мамыкин считался уже переростком. Тогда учителя договорились устроить его в ремесленное училище в ближнем городке и попросили Павла вызвать на совет кого-нибудь из родственников.
Приехал Шурка.
* * *
Здоровый, сильный Шурка постепенно втягивался в колхозную работу на положении взрослого и становился как бы главой семьи, хотя сам признавал за старшего во всем только Павла. Шурка не удивлялся, не обижался на то, что вот он и зимой и летом делает все, что положено по хозяйству и до колхозным нарядам, а Павла зимой дома нет, а летом он хоть и живет дома, но вроде как на курорте. Более того, Шурка теперь относился к своему старшему брату даже почтительнее, чем раньше. Он не только уважал его, он даже восхищался им. А то, что брат имел право ничего не делать с утра до вечера и день за днем, вызывало в нем какое-то даже особое расположение к нему и особую предупредительность в отношениях. «У каждого своя судьба, — думал он, — не всем же быть образованными. Зато уж когда брат выучится, он сразу изменит всю мою жизнь — и мою и бабушки».
Просить и ходатайствовать за своего брата — в этом никакого унижения для себя и для своего отца Шурка не видел. Если бы речь шла о нем самом, Шурка никогда не ссылался бы ни на какие семейные и хозяйственные затруднения, а о своем собственном сиротстве он вообще не думал. При чем тут…
Шурка прошел в кабинет директора, куда показал ему Павлик, в конце длинного светлого коридора с желтым, протертым изрядно полом, искоса оглядывая на ходу яркие стенные газеты, географические карты и лозунги о борьбе за молоко и масло, за лен и силос, о подготовке к весеннему севу на колхозных полях. Он не робел, не пригибал голову, не сторонился встречных ребят и девушек, шел свободно в своем рабочем пиджаке и кирзовых сапогах, держа кепку в руке. Он даже не спрашивал себя, зачем идет к директору школы, в которой обучается его брат. Раз позвали — значит, надо. А робеть? Что ему робеть — он же не учится здесь и никогда не будет учиться, это не его доля. Его доля землю пахать. Он же пробовал учиться… А землю он любит. Да и нельзя оставлять ее совсем без хозяина. Бесхозная земля рожать не будет. Надо, чтобы земля не осиротела.
— Тебе что нужно? — мельком взглянув на Шурку, спросил загорелый, прокопченный директор.
Шурка его сразу узнал — директор школы много раз приезжал в деревню в роли уполномоченного райкома и райисполкома либо от сельсовета по разным кампаниям и налоговым обложениям и сборам.
— Почему не на занятиях?
Шурка прикрыл двухстворчатую дверь, обошел широколистый фикус, возвышающийся в кадушке на табурете, и предстал перед зеленым письменным столом, на котором были и стопки тетрадей, и книги, и глобус, и микроскоп, и желтая из деревянных палочек модель типового скотного двора.
— Я Мамыкин.
— Что Мамыкин?
— У вас учится мой брат. Меня приглашали.
— Простите… Тэк-тэк-тэк. Вы старший брат Павла Мамыкина? Тогда давайте поразговариваем.
— Я его младший брат, — смутился Шурка.
Директор стал медленно подниматься со стула, словно откуда-то издалека возвращался на землю.
— Тэк-тэк-тэк… Значит, вы его младший брат. Очень хорошо! Ну что ж, очень хорошо!
— Вы меня приглашали?
— Да! А бабушка?
— Бабушка не может — стара, слаба.
— Тэк-тэк, очень хорошо! А как у вас дела идут предвесенние?
— Да ничего, идут. Только семян придется прикупать. Недавно стали проверять сусеки, а там — мыши, много семенного овса поели. И льносемян не хватает. Сейчас вся надежда на лен. Ставку на лен делаем!
Директор начал разглаживать свои усы, оттягивать их книзу, словно они мешали ему получше разглядеть стоящего перед ним гражданина.
— Тэк-тэк… Очень хорошо! А со скотом как? Падеж в этом году был?
— Падежа не было, — отвечал, как на уроке, Шурка. — Мы что в этом году сделали? Мы на зиму наготовили возов пятнадцать веточного корму. Помогло!
— Тэк, очень правильно сделали!
— Да что уж тут правильного, если скот приходится хворостом кормить, а трава нескошенная под снег уходит?
— Это интересно! — вроде как обрадовался директор. — Не успели скосить?
— Каждое лето не скашиваем. А и скосим, так сено гниет на месте, неубранное. Бабушка моя говорит, что бог наказывает. Лучше бы уж разрешили для своих коров хоть понемногу корму заготовить, а то и свои коровы голодные стоят всю зиму.
Директор потянул усы книзу.
— Выходит, что вы хотите в первую голову кормить своих личных коров? спросил он. — А как это называется на нашем языке, товарищ Мамыкин? Слыхали вы что-нибудь о частном секторе в народном хозяйстве?
Шурка не смутился, ответил:
— Коровы не виноваты, что они в частном секторе. Они ведь не в чужом государстве, все советские. И молоко от них пьют не буржуи какие-нибудь, а свои люди. А получается, что ни колхозных, ни своих коров не кормим. Вон какие они стали теперь, от овец не отличишь, разве это коровы — выродки. Сердце кровью обливается, как посмотришь на их жизнь.
— Это у кого сердце кровью обливается, у вас, что ли?
— И у меня. Что я, не человек?
— А председатель ваш куда смотрит?
— Что председатель? Он все помощи ждет. Если б он меньше на советскую власть надеялся, может, лучше было бы. Сам бы думать начал, и скот бы меньше скудался. И свиньи у нас голодают, жалко смотреть.
— Тэк-тэк!..
— Есть у нас такая Нюрка, маленькая девчонка, Молчунья. Ее поставили на свиноферму. А зимой свиньи от голода — совсем как дикие звери. Все деревянные кормушки изгрызли. Нюрка каждое утро уходит из дому и с матерью прощается, потому что боится: схватят ее когда-нибудь свиньи и съедят. И падеж каждую зиму. Тогда что Нюрка придумала? Стала собирать конские свежие яблоки и кормить ими свиней. Навалит полное корыто, чуть посыплет отрубями да перемешает, и свиньи жрут на доброе здоровье. Падеж прекратился. В районной газете — читали, наверно? — целая страница была напечатана, как в нашем колхозе свиное поголовье сохранили. Нюрка делилась своим опытом.
— Изобретательная девушка! — восхищенно сказал директор. — Правильно сделала, молодец!
— Конечно, правильно сделала. И молодец — тоже правильно. Только про такую правду лучше бы в газете не печатали. Свиньям и то стыдно было…
И вдруг директор спросил:
— Вы, случайно, не бригадир, товарищ Мамыкин? Не председатель колхоза?
Шурка сразу осел, застеснялся.
— Почему вы не учитесь, молодой человек? Как тебя звать?
— Александр.
— Так почему же ты, Александр, не учишься?
— Павлик учится.
— Павлик?
— Да.
— А ты что?
— А я уж буду на земле.
— Вот для земли-то и надо бы учиться.
— Нельзя мне, Аристарх Николаевич.
— Тэк! Не понимаю. А ну-ка, садись, Александр!
Шурка сел на стул под фикусом.
— Не понимаю, — повторил директор.
— У нас так ведется, Аристарх Николаевич: если всем учиться нельзя старший учится. И бабушка хочет, чтобы Павел выучился, скорее помощь придет.
— Значит, бабушка за Павла стоит?
— Да! И Прокофий Кузьмич, председатель наш, на него очень надеется. А я — чтобы земля не осиротела.
— Как ты сказал? — переспросил директор.
Шурка смущенно промолчал.
— Значит, чтобы земля не осиротела? Тэк-тэк! Хорошо сказал! — Директор подвинул к себе тетрадку и записал что-то на чистой линованой страничке, словно поставил Шурке отметку за хороший ответ. — А Прокофий Кузьмич ваш… что ж, Прокофий Кузьмич, он действительно все на кого-нибудь надеется. Не просчитается он с Павлом, не ошибется, как ты думаешь?
Шурка опять промолчал.
— Я хочу сказать, — пояснил директор, — будет ли ваш Павел потом работать в колхозе?
Что мог ответить на это Шурка? Разве Павел учится для того, чтобы работать в колхозе? Бабушка об этом думает совсем иначе. А как думает об этом сам он, и думал ли он об этом когда-нибудь и как следует?
— Прокофию Кузьмичу виднее, — сказал он невнятно. — Надо же кому-то и в люди выходить. Директор удивился.
— Вот это, батенька мой, что-то не то. По-моему, ты говоришь не свои слова. На тебя это не похоже. — И Аристарх Николаевич потянул усы книзу. Прокофий только и ждет, чтобы на пенсию выйти, а ты говоришь — ему виднее. Да что ему виднее? Все ли он видит, твой Прокофий Кузьмич? Видит ли он тебя, например?
И на это Шурка не мог ничего ответить.
Директор опять что-то записал в тетрадку и заговорил словно бы о чем-то другом, очень спокойно:
— Отец твой — я же его хорошо знал! — обязательно бы стал тебя учить. Тебя, а не Павла.
— Почему не Павла?
— Да вот так: тебя, а не Павла!
— Пускай уж лучше Павлик учится, — тихо сказал Шурка.
— Вот именно: если бы лучше! Не получается что-то у твоего Павлика, дорогой мой Александр. Не получается!
— Что не получается? Как?
— Да вот так, не получается.
Шурка заволновался, оперся руками о стол, словно раздумывая — встать ему и уйти сразу или остаться и слушать, что скажет директор еще.
И директор сказал еще:
— Опять на второй год остается ваш Павлик.
Тогда Шурка понял и испугался.
— Не оставляйте его, пожалуйста! Он у нас старший… и сирота, торопливо стал просить он.
— Старший, да! Годиков ему многовато. А насчет сиротства — ну сколько же можно? Подрос уже… Выходит, он сирота, а ты его покровитель? Нельзя ему больше оставаться на второй год.
— Нельзя, бабушка очень худа стала, — подтвердил Шурка. — А мы с ним поговорим, он все поймет. Он же у нас… Мы на него так надеялись… Как же это он?.. — Говоря так о старшем брате, Шурка пока недоумевал больше, чем негодовал.
— Тэк-тэк, понимаю, — снова раздумчиво затэкал директор. — Бабушка, значит, не в курсе дела, ничего не знает?
— Бабушка ничего не знает. Но мы поговорим с Павликом.
— Ну, хорошо!
Директор рассказал Шурке о школах фабрично-заводского обучения, о ремесленном училище, куда он рекомендует направить Павла, — как раз будет очередной набор. Шурка ничего не слыхал об этом обучении, но, по словам директора, выходило, что это прямой путь в инженеры, и он успокоился: чем инженер хуже любого районного начальника? Значит, в судьбе брата ничего не меняется? Но что же он, Павел, думает все-таки?.. Как же он все-таки мог?..
— А тебе, Саша, еще раз говорю: хорошо бы поучиться самому. На себя надо больше надеяться! — заключил Аристарх Николаевич, поднимаясь с кресла и доброжелательно глядя ему в глаза, отчего Шурка покраснел. — Конечно, без отца, без матери плохо жить. Иные с пути сбиваются, растут вкривь и вкось. Но ведь это не со всеми случается… А отец у вас был настоящий работяга. Не думаешь же ты, что он в люди не выбился? Поучиться бы тебе…
Шурка понял, что понравился директору школы, и это ему было приятно. Из кабинета он вышел в хорошем настроении, даже о Павле не стал думать плохо. Но через несколько минут он вернулся.
— Извините, Аристарх Николаевич, я воротился…Бабушка у нас очень плоха, я ничего не буду ей говорить. Пожалуйста, не передавайте ей ничего…
Аристарх Николаевич пожал Шурке руку.
* * *
Все лето Павел провел дома. Он радовался, что больше не надо возвращаться в семилетку, где приходилось драться из-за того, что его дразнили «женихом». Драться он уже стыдился: с кем ни свяжись, все ему до подмышек. И сила появилась мужская. Чуть толкнет, бывало, одноклассника, а тот летит поперек коридора, того гляди, стукнется головой о подоконник. Слегка возьмет кого-нибудь за ворот, чтобы только припугнуть, а у того, смотришь, ни одной пуговицы на рубашке.
Все-таки в семилетке трудная была жизнь для Павла. Приходилось то и дело хитрить, изворачиваться, чтобы не получать частых взысканий от учителей. Других держит в страхе и сам постоянно дрожит: вдруг увидят, застанут, застукают. Только, бывало, выпрямится во весь рост, сожмет кулачищи, оскалит зубы, чтобы образумить обидчика, как возникает перед ним учитель математики, словно восклицательный знак, или погрозит скрюченным пальцем сладкогласая учительница пения в узкой юбке. И Павел, грозный, с авторитетными кулаками, вдруг сгибается и начинает униженно улыбаться, словно милостыню просит: не обижайте, Христа ради, круглого сироту!
Бабушка ухаживала за Павлом, как только могла: она его кормила с утра до вечера и все спрашивала: «Не голоден ли, Павлуша?» Наверное, все бабушки одинаковы. Пашута еще спит, а она уже затопит печку, подоит корову, приготовит для него молока, и парного, и топленого с коричневой, чуть подожженной жирной пенкой, положит в чашку простокваши с добавкой нескольких ложек кисловатой густой сметаны, в другую чашку положит гущи вместе с сывороткой: этот домашний деревенский творог, полученный в печи на вольном духу из простокваши и разрезанный еще в кринке на четыре дольки, Пашута особенно любил; кроме того, прикроет бабушка от мух на чайном блюдце колобок только что взбитого сосновой мутовочкой сливочного масла; выставит все богатство на стол и ждет, когда внук проснется. А в большом глиняном горшке уже затворены блинки, а на сковородке в свином сале шипят для блинов ошурки-шкварки: Павлуша любит свернуть широкий горячий блин в трубочку, вывалять его целиком в кипящем сале, прихватить ложкой несколько ошурков и есть по целому блину сразу, не разрывая. А с огорода уже принесены и лучок, и свежая редька, и свежая картошка.
Любит еще Павлуша студень из свиных ножек — светлый, со снежными блестками, только что из подвала, с ледника. Он как-то сказал, — пошутил, наверно, озорник! — что любит все такое, чего жевать не надо. А студень — что его жевать? Он во рту тает.
Для Павла каждый день праздник. Просыпается он поздно, потому что до полуночи и дольше гуляет на угоре, шутит с девушками — большой уже стал внучек, дай бог ему здоровья! Вот полюбовался бы на него отец, если бы жив был, царство ему небесное!
Проснется Павлуша, спустится с сеновала, сделает зарядку на дворе попрыгает, помотает руками, умоется на колодце, придет в избу, глянет на стол и ахнет:
— Ну, бабушка! Как бы я без тебя жил? И откуда у тебя все это берется?
И бабушка старается еще больше: благодарность внука ей дороже всего. Шурку корми не корми — он молчит, а Павлуша рассыпается.
Так каждое утро.
А как бы она сама жила без Павлуши, без того, чтобы думать о его большом пути, надеяться на него, кормить, обхаживать его, угождать ему?
Конечно, младшего внука, Шурку, она тоже любит, и не меньше, но Шурка он привычный, на земле родился, землей и живет. А Пашута пошел дальше, этот учится, от него всего можно ожидать. Поэтому все, что есть лучшего в доме, в бабушкиных чуланах и в погребе, в поле и на огороде, — все для старшего внучка, все для Павлуши. Ему лучший кусочек, ему рубашку поновее да попригляднее, и шапку заячью, и сапоги покрепче, на него идет большая часть отцовской пенсии, ведь и на карманные траты все рублевочку-две ему положено, не откажешь, — слава богу еще, что хоть не курит, не пьет, в карты не играет!
Павел принимал все, хотя о будущем своем пока много не задумывался. Знал только уже, что в деревне ему жить не придется, что хорошее будущее у него будет. Бывало, правда, что он стеснялся есть отдельно от своего брата и от бабушки, есть не то, что едят они. Как-то бабка достала у соседей по дешевке молочного поросенка-ососка, вымыла его, вычистила, опалила, нафаршировала гречневой кашей да молоком со взбитыми яйцами и. зажаренного, с хрустящей золотистой корочкой подала Пашуте в плошке, как к престольному празднику или к свадьбе, целиком. Павел втянул в себя воздух и смущенно оглянулся: у порога стоял Шурка, проверяя пальцем остроту серпа, — он только что поел вареной картошки на кухне и готовился снова идти в поле; бабушка поставила в угол ухват, которым достала плошку с поросенком, и сметала хлебные крошки и картофельные очистки с кухонного стола, сама она еще не обедала, — посмотрел на них Павел и совестливо забормотал:
— Не буду есть один. Такого поросенка на всех хватит. Давайте вместе!
— Что ты, что ты, Пашута! Мы сытые, мы всегда дома, а ты будто гость у нас. Мы едали всего. И не выдумывай, садись давай. У тебя голова вон как должна работать. Что ты, родной!
Шурка повернулся от порога и выжидательно глянул на своего старшего брата.
— Ты думаешь, мы голодные, да? Мы ничего сами не едим, да?
— Знаю, как вы едите. Садитесь, а то и я не буду есть.
Павел настоял на своем, поросенка они съели вместе. Шурка был этим растроган, а бабушка не раз после хвалилась:
— Вот он какой у меня, Павлуша-то!
Но бывало и по-другому. Павел приносил рыбу с реки — окуньков, плотичек, пескарей: с удочкой он мог сидеть над заводями по целому дню. Бабушка наварит в горшочке ушицы с лучком, с красным перчиком и жаркое из плотичек приготовит такое, что пальчики оближешь.
Павел опять обижается:
— Все одному? Шурка, садись со мной!
Бабушка кидается сразу на обоих:
— Что вы, что вы, много ли тут рыбки, что с ней двоим делать, на одного не хватят.
Павел поломается немного и начинает есть один.
Иногда Шурка искренне удивлялся, что Павлика может что-то смущать. Зависть или иное какое недоброе чувство еще не проникали в его сердце. Казалось, разговор с директором школы ничего не изменил в его отношении к брату. К тому же это был все-таки его старший брат!
Лето выдалось слишком хорошее, жилось слишком легко, и Павел опоздал с представлением необходимых документов в ремесленное училище. Когда он приехал в город — а привез его опять же Шурка, — там занятия уже начались, в общежитии не было ни одной свободной койки, и Павел в списках учащихся не числился.
В первый раз он испугался, что не будет учиться и придется вернуться домой, работать в колхозе. За него опять стал действовать Шурка. Он попал к заведующему учебной частью, объяснил, в чем дело, ссылаясь на то, что Павел Мамыкин — сын солдата, погибшего смертью храбрых в Великую Отечественную войну, и завуч согласился сделать для него исключение, если будет написано соответствующее, хорошо аргументированное заявление. «Правда, возраст уже на пределе, ну да как-нибудь…»
Шурка передал разговор брату, и Павел написал заявление:
«Прошу не отказать в моей просьбе. Вырос я без отца, без матери. Отец мой погиб смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками, а мать умерла на колхозной работе. Я хочу честно трудиться для Родины, вырастившей меня, и, если потребуется, отдать за нее свою молодую жизнь. Пожалейте сироту, не откажите!
К сему Павел Мамыкин».
— Силен! — сказал завуч, прочитав это заявление, должно быть имея в виду его слог, и включил Павла в список учащихся дополнительно.
Койка в общежитии тоже нашлась.
* * *
Озимые вымокли еще осенью. Яровые посеяны были слишком рано, задолго до окончания заморозков, — Прокофий Кузьмич очень хотел отчитаться первым, — и проку от яровых тоже не предвиделось. Колхозники могли надеяться только на лен.
Лето выдалось мягкое, влажное, лен шел хорошо. Не раз менялись цвета ржи, а лен до поздней осени оставался ярко-зеленым. Во время цветения участки его превратились в бирюзовые озерца, и перед этим нежным сиянием даже леса окрестные казались черными.
Шурка посоветовался с бабушкой и сам напросился в льноводческое звено. Женщины приняли его охотно, не посмотрев на то, что он парень, хотя льном парни обычно не занимались. Шурка был у них на особом счету. Если бы не Шурка Мамыкин, может быть, и не было бы такого льна в этом году — так думали многие.
Но Шурка-то знал, что все сделала бабушка, а не он. Ранней весной, когда в колхоз поступила команда начать сеять лен, бабушка Анисья спросила внука:
— Неужто правду про лен люди судачат?
— А что? — спросил, в свою очередь, Шурка.
— Будто сеять приказано?
— Сегодня начинали, да трактор забуксовал, грязно.
— Ну, слава богу!
— А что? — спросил снова Шурка.
— Что, что!.. С ума они посходили, вот что! Где это видано, чтобы лен по грязи сеяли?
— А как же, бабушка, говорится: сей в грязь — будешь князь.
— Разве это про лен? Это про зерно говорилось.
Шурка бабушке поверил, тем более что слышал в поле, как один тракторист ругался: «Опять головотяпите! Обсуждали, обсуждали, а вы опять за старое!» Тракториста оборвал полеводческий бригадир: «Сей, тебе говорят! Указание есть». — «Не вырастет ведь ничего». — «А что я могу сделать? Пускай не вырастет…»
И Шурка сказал бабушке:
— Заставят сеять все равно.
Анисья сразу подняла крик:
— А ты чего слюни распустил? Сколько вас там, эдакие ребята, а сдобровать не можете! Взяли бы по батогу або что — да на поле: не дадим колхоз разорять! Теперь не война, самим думать надо. Иди-ка позови мне председателя! — вдруг приказала она.
Шурка подумал и ответил:
— Не пойдет он.
— Конечно, не пойдет, — согласилась бабушка. — А ты скажи: бабушке, мол, худо, карачун настает, проститься хочет, он и прикатит со вниманием со своим.
Председатель пришел, но договориться ни до чего они не смогли. А чтобы Прокофий Кузьмич не обижался, Анисья поставила ему бутылку водки.
Шурка отправился к трактористам, авось они что-нибудь придумают, помогут.
— Ты чего от нас хочешь? — удивился парень в промасленном ватнике. Наше дело маленькое, понял? Сказали в МТС: сеять! — и будем сеять.
— Вы же сами ругались, что трактор не идет.
— Ну и что?
— Вот и пускай трактор не идет, — улыбнулся Шурка. Он делал вид, что шутит.
Тракторист засмеялся.
— Ты слыхал его? — обратился он к своему напарнику. — А кто деньги нам платить будет? На нашем горбу хочешь выехать? Собери деньги, тогда и трактор будет стоять.
— Лен не вырастет! — вздохнул Шурка.
— Все сеют, не вы одни. Да кто ты такой? Иди к своему бригадиру, его уговаривай. А нам что… Шурка пошел к бригадиру.
— Бабушка говорит, что на лен вся надежа, а теперь и льну не будет.
Безрукий бригадир, инвалид войны, не смеялся над Шуркой и не кричал на него, только сказал:
— Не в свое дело лезет твоя бабушка. Голова не у нее одной на плечах, есть и посветлее, соображают.
И все. Шурка решил, что ничего у него не вышло. Но на другой день председатель колхоза Прокофий Кузьмич уехал на какое-то совещание, а оттуда на железную дорогу добывать гвозди для строительства скотного двора, и до его возвращения о посеве льна никто не заговаривал. Трактор ушел в другой колхоз, а из конторы в район сообщили, что лен посеяли.
Вернувшись в колхоз, Прокофий Кузьмич поднял крик:
— Самоуправство? Государственная дисциплина вам что? А того не знаете, что с меня голову снимут? Всех под суд отдам!
Кричал он долго, пока бухгалтер не сообщил ему:
— А лен-то за нами не числится, Прокофий Кузьмич.
— Как так?
— Мы его в сводку включили.
— Передали?
— Передали.
— Ну, то-то! — сказал председатель и успокоился. — Смотрите вы у меня!
Земля к тому времени подсохла, и лен посеяли вручную под конную борону. Поле зазеленело дружно.
Встретившись с Шуркой, Молчунья сказала ему:
— А тебя, Шура, бабы хвалят не нахвалятся.
— Вишь ты! За что это? — заулыбался довольный Шурка.
— Говорят: «Кабы не этот парень, так и льну бы нам не видать».
— Да это не я — бабушка, — признался он и покраснел.
— Может, и бабушка, только тебя хвалят.
Больше разговаривать было не о чем, и они замолчали. Потом Шурка спросил все же:
— Кто им сказал, будто это я сделал?
— Не знаю, кто сказал, только тебя хвалят.
— Не ты ли уж сказала?
— Не знаю кто, — ответила Нюрка, — может, и я.
Шурке хотелось верить, что именно он весной помешал высеять лен раньше времени. Как бы то ни было, похвалы ему пришлись по душе, и после он почувствовал какую-то особую свою ответственность за эту культуру.
Вступив в льноводческое звено, Шурка стал работать наравне с женщинами с утра до ночи. Он первый пошел и на прополку сорняков, с яростью вырывал васильки, про которые в детстве думал, что они для красоты. И все жалел, что мало, слишком мало посеяли льна. Ведь и семена, кажется, были.
— Да ты маленький, что ли? — рявкнула однажды на него звеньевая, толстая неопрятная Клаша, вдова-солдатка, переставшая следить за собой с тех пор, как потеряла надежду снова найти себе мужа. — Будто мы сами не знаем, что мало. А план на что? Кто бы нам позволил не по плану сеять?
Еще не закончилась уборка зерновых, а бабушка Анисья уже начала тормошить Шурку:
— Лен-то когда теребить будете? В августе его разостлать бы надо, августовские росы слаще меду.
— Машину ждем, бабушка.
— Не прогадайте с машиной-то. Машина — она машина и есть. Не столько льну, сколько мусору всякого нарвет. Попробуй потом отбери руками. А деньги какие!
Анисья всю свою жизнь, почти с детства, возилась со льном: выращивала его, расстилала, сушила, мяла, трепала, чесала… В каждом хозяйстве были обязательно две-три полоски своего льна. Наготовив кудели, девки и бабы, и Анисья тоже, в долгие зимние вечера сидели за прясницами либо за прялками. У Анисьи и прялка была. Льняную нить с веретен перематывали на мотовила, делили на чисменицы, на пасмы, готовые моты бучили, отжимали, отбеливали на снегу, красили, если надо было, и разные цвета, растягивали на воробах, перевивали на трубицы, сновали, затем уже по ниточке продевали основу в бедра… Господи, чего только не делалось с этим ленком — сейчас и слова-то многие забываться стали. Наконец, уже в середине зимы, а то к весне в избу заносили по частям ткацкий самодельный стан со всеми его крюками, бабурками, подножками, сколачивали, выверяли, и начиналось тканье. День и ночь дрожали оконные стекла в избе. Фабричная мануфактура — ситчик, сатин — была тогда доступна далеко не всем и шла только на праздничную одежду. Холст для половиков и постелей, для мешков и онуч, полотно для нижних рубах, для штанов и рукотерников, всякая цветная пестрядина для верхнего белья и верхней одежды, даже радужные кушаки и пояса из шерстяной пряжи — все изготовлялось на дому, на своем деревянном стану золотыми, многотерпеливыми бабьими руками.
Каторжная это была работа! А вот не стало своего льна, и затосковала Анисья по этой каторге. Много лет стан валяется на повети, ни для чего не нужный, молодым даже незнакомый, по ночам сидят на нем куры, зимой косы да серпы висят на крюках.
Давно уже лен сеют только на колхозной земле и трестой сдают на завод. И хоть лен этот колхозный, и прясть его Анисье не доведется, и масла льняного от него не будет, а все-таки это лен. Не может Анисья спокойно смотреть, если обходятся с ним не по-хозяйски, без души, без соображения.
— Пришла машина-то? — спрашивала она Шурку чуть ли не каждый день.
— Нет еще, бабушка.
— Начинайте, нечего тянуть! А там видно будет.
С разрешения Прокофия Кузьмина лен начали теребить вручную. И только тогда полностью обнаружилось, до чего же он был засорен. Соломку выбирали по щепотке, а когда оборачивались, казалось, будто на полосах ничего не изменилось: по-прежнему густая сочная трава, осот и всякие колючки до колена покрывали землю густым зеленым слоем.
Работа шла медленно, женщины нервничали, ждали из МТС льнотеребилку. А пришла льнотеребилка, зашумели еще пуще: старая, проржавевшая, плохо налаженная машина больше путала, чем теребила. Соломка перемешивалась с сорняками и ложилась на полосу в таком неприглядном виде, что к ней страшно было подступиться.
Машину остановили.
Шурка сказал:
— Артель «Напрасный труд». Да еще натуроплата. Вот и получится: с одной рожи сдерем по две кожи. Надо бы председателя сюда.
— А что председателя? — наперебой заговорили женщины. — Он сам против. «Только деньги, говорит, выбрасываем. Лучше бы, говорит, ребятишек из школы, которые постарше, привезти на подмогу».
— Не управимся руками, бабы, — встревожилась звеньевая Клаша.
— Так и эдак не управимся, зато хоть лен цел будет. Механизаторы из МТС, молодые ребята, стояли рядом, курили, слушали.
— Что будем делать? — спросил их Шурка. — Сами видите.
— Видеть-то видим, только наше дело маленькое.
— Может, где почище участки есть, поищите.
— Нам приказано, будем теребить все подряд.
— Не дадим! — сказал Шурка.
Ребята заглушили трактор и ушли в деревню, в магазин.
Женщины разобрали остатки льна после теребилки и, не отдыхая, принялись за работу вручную.
В это время в поле заскочил на мотоцикле корреспондент районной газеты — бойкий парнишка в кожаной куртке, в защитных очках.
— Здорово, бабы! — закричал он, еще не успев слезть с мотоцикла. — Как трудитесь?
— Здорово, мужик! — ответили ему. — Становись, помогай.
Корреспондент бросил мотоцикл на пласт у обочины дороги, подошел и со всеми поздоровался за руку. Руки у женщин были зеленые по локоть. Весело пожимая ладони, корреспондент называл себя всем поочередно: «Вася!», «Вася!», «Вася!». Только Шурке отрекомендовался иначе: «Василий Вениаминыч!»
— Ты бригадир? — спросил он Шурку.
— Вот звеньевая, — указал Шурка на Клашу.
Василий Вениаминыч повернулся к Клаше, расставил ноги, как перед утренней зарядкой, шире плеч и спросил коротко:
— Прогнали механизаторов?
Клаша испугалась.
— Мы их не трогали, они сами ушли.
— Я из газеты! — сказал Вася.
Клаша испугалась еще больше, стала оправдываться:
— Пальцем не тронули. Только вы сами видите, ленто какой и машина, видите, какая.
А Шурка вдруг взял да и брякнул:
— Верно, прогнали!
Василий Вениаминыч резко повернулся к Шурке, повторил:
— Я из газеты!
Но на Шурку это не подействовало.
— Вот и поезжайте к ним, — сказал он. — Ребята теперь в деревне с горя, наверно, водку хлещут.
Через три-четыре дня в районной газете появилась Васина статья: «Антимеханизаторы в колхозе „Красный Боровик“».
* * *
Директору школы Аристарху Николаевичу было предложено из района срочно выехать в качестве уполномоченного в колхоз «Красный Боровик», ознакомиться на месте со всем, что там происходит, принять исчерпывающие меры и доложить…
Аристарх Николаевич с удовольствием передал свои уроки другому преподавателю и в седле на сельсоветской расхожей лошаденке приехал к Прокофию Кузьмичу.
С тех пор как колхозная деревня подверглась организованному нашествию всякого рода уполномоченных — районных, областных, республиканских — и всевозможных заготовителей, агентов, толкачей, прошло времени немало, и Прокофий Кузьмич хорошо научился ладить с ними. Поначалу, когда уполномоченные еще отличались горячностью, неудержимой страстью вмешиваться не в свои дела, проводили общие собрания, а на худой конец — собрания актива, давали нагоняи, писали докладные, в общем, добросовестно и решительно выполняли все поручения, с которыми их посылали, — хлопот с ними было много. Приехав в деревню, такой уполномоченный обычно устраивался на жительство не у председателя колхоза и не у секретаря партийной организации, не у главного бухгалтера или кассира, а в неуютной колхозной конторе, в избе-читальне, спал на раскладушке либо на жесткой скамье, прикрываясь собственным плащом, питался чем попало, расплачиваясь наличными за каждый съеденный кусок хлеба, а то еще находил приют в какой-нибудь крайней избе рядового колхозника, обязательно рядового, да выбирал который поразговорчивее, потороватее, чтобы сразу выведать от него все колхозные новости, и чем народ живет, и чем дышит.
Трудные это были времена для Прокофия Кузьмича.
Но с той поры жизнь в районе изменилась, нервозность улеглась, и уполномоченные стали иными, многие из них пообтерлись, да и сам Прокофий Кузьмич стал мудрее и опытнее в делах руководства — и ему, как правило, удавалось избегать былых резкостей в отношениях с ними. Теперь Прокофий Кузьмич заранее определял для себя, с какими уполномоченными как следует ему держаться. При одних он был спокойно-строг, немногоречив, соблюдал достоинство, даже напускал на себя важность, на других просто ворчал, что мешают работать, ссылался на перегрузку, а кого-то сразу усаживал с собой в тарантас, катал по полям, завозил на пасеку отведать колхозного медку, а дома поил водкой.
Директора школы Прокофий Кузьмич всегда немного опасался. Но на этот раз Аристарх Николаевич подъехал не к конторе колхоза, а к его дому значит, никаких причин для тревоги не было.
Завидев из окна верхового и опознав его, Прокофий Кузьмич вышел из дому, застегивая на ходу широкий пиджак на все пуговицы. Вслед за ним на крыльцо выкатился злобный лохматый комок — комнатная собачонка — и с лаем метнулся под ноги лошади.
— Колхозный привет шефу! Здравствуйте, Аристарх Николаевич! — заговорил Прокофий Кузьмич, спускаясь с крыльца навстречу гостю и протягивая ему руку издалека. — Брысь, проклятая! — крикнул он на собаку, как на кошку.
Аристарх Николаевич легко приземлился с седла и передал председателю повод коня. Собачка не унималась, кидаясь то на директора школы, то на его лошадь.
— Опять не узнает меня песик-то ваш, — сказал директор.
Прокофий Кузьмич засмеялся.
— Тишка мой вас, наверно, за уполномоченного принимает. Не любит он уполномоченных.
— Мудрый песик.
— Породистый! — похвастался председатель.
Засмеялся и Аристарх Николаевич.
— Породистый — помесь половой щетки с гусеницей! Завели бы лучше охотничью, гончую.
— Охотничьей собаке корму больше надо. А я — какой я охотник! Зато Тишка служить умеет. — Прокофий Кузьмич переложил повод уздечки в левую руку, а правую поднял вверх и крикнул собачке: — Тишка, служи!
Тишка мгновенно перестал лаять, вскинулся на задние лапы, вытянул волосатую морду кверху и начал кружить на одном месте, подпираясь лохматым хвостом.
— И верно — служака! — похвалил Тишку директор. — Ну, что у вас тут?
— Что у нас? Живем, работаем. А что же вы: директор без армии? Сейчас бы самое время поддержать нас.
Аристарх Николаевич посмотрел на круглого, розового председателя.
— Зачем вам армия? У вас машины стоят.
— Были бы машины, стоять не дадим. А дела всякого и для вашей армии хватило бы.
Прокофий Кузьмич привязал коня к изгороди около двора, сказал, что сейчас подкинет травы, и повел директора в дом. Собачка метнулась в сени.
— Прошу в горницу, Аристарх Николаевич!
В избе председателя было много перегородок, занавесок и половиков. В прихожей на клеенчатом столе — самовар, прикрытый узорным полотенцем, а на стене — крупные в рамках портреты, как в конторе правления. Горница же, оклеенная бумажными обоями, напоминала больше квартиру районного служащего, чем деревенскую избу. В горнице полумрак — все окна снизу доверху зашторены тюлем. В простенках и по углам, на полу и на табуретках много цветочной зелени — в горшках, в кадушках, обернутых газетной бумагой. Целый лес зелени — если бы только в этом лесу хоть немножко шевелились и шелестели листья. Цветочные горшки виднелись и на подоконниках за тюлевыми занавесками. После войны Прокофий Кузьмич накупил в деревнях многоцветных немецких картонок с рельефными изображениями ветвистых оленей, тигров, готических замков и прудов с лебедями. И теперь эти картонки красовались на стенах и заборках его горницы.
Аристарх Николаевич прошел в горницу, сел к столу и начал привычно потягивать усы книзу. Присел к столу и Прокофий Кузьмич, расстегнул пиджак на круглом животе, потер лысину.
— Ну, что будем делать, дорогой гость? Жалко, хозяйка у меня где-то на работе, но мы можем сообразить и без хозяйки.
— Соображать не будем, — сказал директор. — Давайте лучше поговорим насчет антимеханизаторов.
— Каких это, о чем?
— А вы разве не читали в газете?
— Нет, мне не докладывали, — встревожился председатель.
— Отказались вы от льнотеребилки?
— Ну что вы, Аристарх Николаевич, мы же друг друга понимать должны…
— Что понимать должны?
— Ну как же? Вы же меня знаете?
— Ну, знаю. Вы о чем?
— А вы о чем? — спросил, в свою очередь, Прокофий Кузьмич.
— Что-то я вас не понимаю! — удивился директор.
— А вы думаете, я вас понимаю?
— Тэк-тэк!.. — затэкал сбитый с толку директор школы.
— Что «тэк-тэк»? — не сдавался Прокофий Кузьмин.
— Льнотеребилка у вас не работает? Скажите прямо.
Прокофий Кузьмич не хотел отвечать прямо.
— Вы лучше скажите, с чем ко мне приехали? — спросил он.
Аристарх Николаевич достал из кармана свернутую газету.
— Прочитайте, если не читали, и давайте не будем морочить друг другу голову.
Прокофий Кузьмич взял газету, но не стал разворачивать ее, а поднялся со стула, постоял, подумал и неожиданно для директора пошел за занавеску на кухню. Там загремела посуда.
Аристарх Николаевич прислушался, сказал:
— Не надо, Прокофий Кузьмич! Это от нас никуда не уйдет, успеем.
— Покушать надо с дороги, — сказал хозяин.
— Дорога не велика, я еще не проголодался. Читайте газету!
Прокофий Кузьмич вернулся с кухни, сел к столу и развернул газету. Читал он долго, читал и вскидывал время от времени глаза на директора. А директор сидел, ждал и все хотел понять: читал ли до его приезда председатель статью об антимеханизаторах или не читал.
Наконец Прокофий Кузьмич отложил газету и вспылил:
— Подвел, прохвост, это его дело!
— Кто подвел?
— Да молокосос этот. Видали, как за добро платят?
— Кто это?
— Да мамыкинский парнишка. Сирота этот.
— Павел?
— Павел что! Шурка, прохвост, подвел.
— В чем же он провинился?
— А вы читали газету?
— Я-то читал…
— Так вот это его дело.
И Прокофий Кузьмич дал волю своим обидам.
— Я ли не проявлял заботу о них, и о Шурке об этом! Выкормил, выпоил, на лен поставил. И вот благодарность. Дисциплины нет, никакого почтения к старшим нет, руководства не признает. А ведь молокосос! Весной также навредить мог. И бабка, эта старбень, не в свои дела лезет. Конечно, льнотеребилку увели с поля из-за Мамыкина, правильно корреспондент подметил. Обиделись ребята и уехали. Мне рассказывали об этом деле, факты подтверждаются.
— Тэк-тэк! — раздумчиво потягивал усы директор. — Нашли зверя! Какие же вы меры приняли?
— Поздно было меры принимать. Да меня и дома не было. Слово они дали, что весь лен руками уберут.
— Однажды приходил ко мне этот Шурка, — сказал директор. — Понравился мне паренек: умный, самостоятельный.
— Вот-вот, самостоятельный! — опять вскинулся Прокофий Кузьмин. Знаете, к чему такая самостоятельность приводит? Сегодня он меня не признает, завтра вас, потом секретарю райкома нагрубит, а там, гляди… Молодые!
— А Павел? Смена-то ваша?
— Что — Павел? Пашка — он тоже… Черт его знает, что еще из него получится. Может, я зря за него душу отдаю.
— Да разве вы отдаете душу, Прокофий Кузьмин? — сказал директор. — Если бы душу отдавали, другой бы разговор был. Не ошибаетесь ли вы с Павлом? А младшего не видите!
Прокофий Кузьмин внимательно посмотрел на директора: шутит он или не шутит? Потом сказал:
— Быть председателем колхоза — дело тонкое, Аристарх Николаевич! Тонкое это дело — меж двух-трех огней стоять. Надо знать, кого слушаться, кому приказывать. Тут дуроломам делать нечего. Дуроломы разные чуть что меня под удар подводят, сами видите. А такой вот Шурка подрастет, да волю ему дай, да власть, весь народ разболтается, сами править начнут, колхоз распустят.
— Тэк-тэк! Выходит, что младший эту кашу заварил?
— А кто же еще? Женщины такого не выкинут, сами понимаете.
— Да-а! — сказал директор. Так и сказал «да-а!», а не «тэк-тэк», значит, согласился с Прокофием Кузьмичом. — На чем же мы порешим?
— Пойдемте в поле, там картина будет ясная, — поднялся от стола председатель.
В сенях опять зарычала собачка. Прокофий Кузьмич зыкнул на нее: «Тишка!» — и собачка кинулась вперед, с крыльца, на улицу. На улице она каталась колобком от дома к дому, перепрыгивала через лужи, бросаясь на кур, на овец, на жеребят, на мальчишек с лаем, то злобным, то веселым, и от нее все сторонились, убегали.
— Редкий песик! — сказал директор. — Раньше в деревнях таких не держали.
Не испугались Тишки только козы: в конце деревни они запрудили улицу целое стадо, и Тишка сам сбежал от них к полевой изгороди.
— Порядочно у вас развелось этих коровок. Тоже корму меньше надо?
— Враги колхозного строя! — сказал на это Прокофий Кузьмич. — Корму меньше — верно, но и молока от них ни себе, ни государству. Козы людей из повиновения выводят. Выродки! И все это послевоенные годы: вместо коров козы, вместо дворов — хлевы. Избы тоже перестраивают, от старых пятистенков остаются половинки.
— А вместо гончих эдакие вот Тишки?.. Сколько же времени продлятся ваши послевоенные годы? — мрачно спросил директор.
Прокофий Кузьмич помедлил с ответом; ответил только, когда они уже вышли из деревни в поле:
— Вам видней, Аристарх Николаевич. По-моему, пока не начнется новая война, все будут послевоенные годы. Разве не так?
Аристарх Николаевич нахмурился еще больше.
— Не умеете вы шутить, председатель! — сказал он и замолчал.
Тишка в поле не побежал — он шумел и наводил порядок только в самой деревне.
* * *
На полосах работало все льноводческое звено — шесть женщин и девушек и Шурка. Около Шурки, не разгибаясь, теребила лен Нюрка Молчунья. Заметив председателя колхоза и директора школы, она поспешно, стараясь не обнаружить себя, шмыгнула в сторону звеньевой Клаши.
Невытеребленного льна было еще так много, что, казалось, конца-края ему нет. А на убранных площадях стеной стояли зеленая трава, хвощ и колючки, похожие на кустарники, из-за чего Аристарх Николаевич подумал вначале, что весь лен не тронут.
Подойдя к работающим, он шутливо поздоровался: «Помогай бог!» — на что звеньевая Клавдия серьезно ответила: «Спасибо!» А Прокофий Кузьмич ничего не сказал, но, завидев Нюрку Молчунью, набросился на нее:
— Ты чего здесь околачиваешься? Жениха нашла?
Нюрка разогнулась, посмотрела на Шурку, на председателя и тихо ответила:
— Я-то?
— Ты-то.
— За травой пришла.
— За какой такой травой?
— А вот возьму косу да и выкошу весь мусор для коров. Меня теперь на коров поставили.
— Так коси!
— А я косу не взяла.
— Ну и топай за косой.
— А я помогаю лен рвать.
— Не будут коровы такие колючки есть, — сказал председатель.
— А я на подстилку.
— Ну и коси.
— Я-то бы выкосила, да вот… — Молчунья взглянула на Шурку и замялась.
— Что вот?
— Ничего, я так.
Тогда Прокофий Кузьмич взялся за Клашу:
— Не пропололи лен, а теперь мучаетесь!
— Мы пропалывали, — ответила Клаша, — только не весь. Снова наросло везде.
— Если бы пропалывали, лен был бы.
— Мы пропалывали, — повторила Клавдия.
Пока Прокофий Кузьмич нагонял страх на всех, директор натеребил снопик льна. На загорелых руках его появился зеленый налет, медная кожа будто окислилась.
Кинув снопик на полосу и потерев ладони о брюки, Аристарх Николаевич повернулся к Шурке.
— Ну, что у вас тут произошло, Александр?
Шурка тоже бросил на межу только что затянутый сноп и подошел к директору. Бросили работу и женщины.
— Что с механизаторами вышло? — пояснил свой вопрос Аристарх Николаевич.
— Вот звеньевая, ее спрашивайте! — ответил Шурка, указывая на Клавдию.
Клавдия одернула подол замусоленного ситцевого сарафана, вытерла фартуком спекшиеся губы и тоже подошла к директору. За ней потянулись остальные.
— Что у нас вышло? Ничего у нас не вышло! — сказала Клавдия.
— Прогнали их, что ли?
— Кто их прогонял! Видите, лен-то какой.
— А в газете написано, что вы прогнали их.
— Мало ли чего в газетах пишут! Это Шурка вон пошутил, будто мы их турнули.
Молчавший Прокофий Кузьмич сразу оживился:
— Вот, пожалуйста! А я что говорил?
— Ну, давайте присядем, что ли, — предложил Аристарх Николаевич, словно не слышал слов председателя, и первый опустился на межу.
Стали рассаживаться и женщины. Председатель и Шурка не сели, стояли друг против друга: один рыхлый, приземистый, другой плотный, рослый.
Аристарх Николаевич поднял голову к Шурке:
— Выходит все-таки, что ты здесь тон задаешь, а не звеньевая?
Шурка не смутился.
— Турнуть их и надо было.
— За что?
— Да ни за что. Механизаторы тут ни при чем.
— Тэк, что же дальше?
— А что дальше? Руками будем рвать.
— Послать вам машину?
— Не надо машину.
— Слыхали? — опять обрадовался Прокофий Кузьмич. — Вот из-за кого весь район взбулгачили!
— Подождите, Прокофий Кузьмич, — остановил его директор. — Давайте разберемся. Говори, Александр!
— Что ж говорить? Вам звеньевая уже сказала. На такой лен пустить машину — одни убытки будут. Да и машина тоже — только название от нее осталось: мнет, путает, елозит. Разве это механизация?!
Прокофий Кузьмич еще раз не выдержал:
— Вот видите! Все факты имели место!
Аристарх Николаевич, казалось, не слышал его, он разговаривал с Шуркой.
— Осень поздняя, Александр, не справитесь вы со льном, много его. Директор повел рукой вокруг. С земли ему были видны только желто-зеленый с коричневым оттенком спелый лен да мутное осеннее небо, лен и небо — ничего больше.
Шурка тоже посмотрел вокруг. Его лен не пугал своей бесконечностью: стоя, он видел границы поля — лесные опушки, стога сена на клеверищах, холмы перед спуском к реке.
— Справимся, Аристарх Николаевич, — уверенно сказал он. — Не беспокойтесь за нас.
— Шурка тут такое навыдумывал! — прыснула вдруг молодая девушка, прятавшаяся за спиной Клавдии. — «Завтра, говорит, вся деревня к нам сбежится лен теребить».
— А что, и сбежится! — поддержала Шурку звеньевая.
— Чего он навыдумывал? — почти встревожился директор.
Ответила Клавдия:
— А вот мы объявим, чтобы косы с собой брали, кто хочет: пусть всю траву из-подо льна для своих коров скашивают. Вот и сбегутся. Сена для своих коров никто не заготовил, а колючки все-таки не веточный корм.
— Здорово! — вырвалось у директора школы.
А Прокофий Кузьмич возмутился, начал кричать:
— Опять самоуправство! Кто разрешил? У кого спросили? Козами обзавелись, чтобы с колхозом меньше считаться, а сейчас новую лазейку изобрели!
— Надо же и своих коров чем-то кормить, товарищ председатель, — сказал Шурка. — Молоко от них и государству идет.
— Хитрить стали, на кривой все запреты хотят объехать! — шумел Прокофий Кузьмич.
— И будут хитрить, коли запретов много.
— Я тебя научу, молокосос, как хитрить! Нюрка, коси все подряд!
Когда председатель закричал, женщины и девушки, сидевшие на земле, повскакали с мест. Клавдия испуганно заморгала глазами. Кто-то тяжело вздохнул.
Нюрка перепугалась больше всех: ведь если бы она первая не брякнула об этой поганой траве, может, и крику бы такого не было. Во всем она виновата молчала бы да молчала!..
Шурка хотя и старался держаться как подобает взрослому мужчине, каким он хотел быть, но все лицо его покраснело, и он начал поглядывать на директора школы, словно ждал от него защиты.
А директор сидел себе на земле да тэкал, будто дразнил кого:
— Тэк-тэк! Тэк-тэк!
И поглядывал снизу то на председателя колхоза, то на занятного подростка Шурку.
— Не буду я косить! — вдруг сказала Нюрка Молчунья.
— Что, что? — искренне удивился Прокофий Кузьмич. — И эта туда же? Ты кому здесь подчиняешься? Обоих из колхоза выгоню и участки отберу! Видали, что делается? — обратился он к Аристарху Николаевичу. — Ославили на весь район, да еще голос подымают, антимеханизаторы проклятые! Я этот дух из вас вышибу.
Нюрка заплакала.
Директор школы решился наконец вмешаться в разговор.
— Прокофий Кузьмич, — начал он тихо и спокойно, — с травой никакой хитрости, по-моему, нет. Все честь по чести: люди теребят лен, за это им колхоз оплачивает, а трава, как премия за тяжелую работу вроде дополнительной оплаты. Лен засорен сильно, это же верно?
— Верно или не верно, — не унимался Прокофий Кузьмич, — только здесь косить никто не будет. План по кормам для колхоза не выполнили, а своих коров кормить хотят. Не позволю!
— А вы успокойтесь, Прокофий Кузьмич, и подумайте.
Но успокоить председателя было уже нелегко.
— И думать не буду! — кричал он.
— А вы подумайте. Люди же хорошее предлагают.
— А я разве плохого для колхоза хочу? Я из-за чего кровь свою порчу?
Аристарх Николаевич посуровел.
— Сейчас вы не правы, товарищ председатель, позвольте вам это сказать.
— Я здесь хозяин! — отрезал председатель. — Всю траву на подстилку выкосим, а будет по-моему.
— Вы не правы.
— Прав или не прав, а я хозяин.
— Значит, так и в райком передать? — спросил Аристарх Николаевич.
Что-то произошло с Прокофием Кузьмичом после этих слов.
— А? — сказал он, и глаза его на мгновение расширились и остановились на директоре, руки недоуменно легли на живот. Он стал быстро успокаиваться. Крик перешел в полушепот, словно председатель сразу охрип. — А? — сказал он.
— Что «а»?
— Да ведь что ж… Вы меня понимать должны…
Аристарх Николаевич засмеялся.
— Ну вот, так-то оно лучше. Песик ваш не зря на меня лаял.
— Понятно! — еще тише сказал Прокофий Кузьмич и повторил: — Понятно!
Он оглянулся на теребильщиц. Те ничего не понимали, но тоже стали успокаиваться. Только Шурка улыбался.
— Тогда понятно! — еще раз повторил председатель. — Тогда другой разговор.
На этом и порешили.
Уходя с поля, Прокофий Кузьмич все же погрозил Шурке:
— Ну, ты смотри у меня!
* * *
Опять Павел сменил место, и опять жизнь его началась как бы сначала.
На новом месте Павлу понравилось все. Понравилось, что здесь меньше надо было записывать и заучивать, а больше возиться в мастерских с разными инструментами, стучать молотком, строгать, сверлить. Здесь рослых и сильных, как Павел, было много, и его не дразнили ни «женихом», ни «дяденькой, достань воробушка». Нравилась ему форма одежды и то, что не нужно было самому заботиться о белье, о постели, о бане, о еде — обо всем этом за него думали другие. Нравилось строгое расписание дня — его будили, его вели на утреннюю гимнастику, в столовую, на занятия, в кино.
И Павел стал прилежным учеником.
Слесарные и деревообделочные мастерские ремесленного училища находились в просторном гулком помещении бывшего собора, давно оставленного верующими, на стенах которого еще сохранились красочные изображения богов и богородиц. К ним ребята добавили немало своих рисунков, не отличавшихся особой святостью, зато не скучных.
Высоко под куполом летали голуби, неизвестно каким образом проникавшие в это теперь хорошо отапливаемое и освещаемое здание, вили гнезда на разных выступах и в углублениях, на верхних подоконниках, на скрещениях балок.
Ниже голубиного потолка висела сеть электрических проводов, вращались трансмиссии, гудели моторы, шлепали ремни, и, наконец, уже на цементном полу, местами застланном досками, стояли столы, обитые жестью, и станки довоенных и даже дореволюционных марок. Был там один токарный станок «ДИП», и он во всем городе считался чудом техники.
Массивные четырехугольные колонны, соединенные деревянной переборкой, делили помещение на две половины, и не только помещение, но даже запахи и звуки в нем. В первой от входа половине было царство мазута и машинных масел, металлические спиральные змейки свисали со станков, стоял звон, скрежет, визг. Во второй половине, начавшейся примерно там, где раньше был клирос, на полу валялись вороха желтых сосновых и березовых стружек, в которые обязательно хотелось запустить руки, как в вороха ржи на полевом току, либо просто на ходу разгребать их ногами; здесь преобладали звуки шваркающие, шипящие — не звуки, а шумы.
Павел переходил из одной мастерской в другую. На первых порах ему больше нравилось быть в слесарной, где все напоминало о промышленности, об индустрии и все для него было новым, а в столярной пахло деревом, лесом, живицей — все это было чересчур свое, знакомое, деревенское. Поэтому, хотя учителя и называли оба помещения цехами, Павел не принял этого названия для деревообделочников. Какой же это цех? Это даже не мастерская. Это деревня, дерево, надоевшее с детства, неинтересное. Заводом, техникой тут и не пахнет.
Настоящего труда до жестокой усталости, до ломоты в костях, до боли в спине Павел еще не испытывал, но работать ему хотелось. Он не отказался бы от любого поручения, стоял бы за станком день и ночь у всех на виду, только чтоб это было не в столярном, а в слесарном, в железном цехе. Павел мечтал: придет такое время, вызовут его в дирекцию училища (может, сам директор, а?) и окажут ему: «Товарищ Павел Мамыкин! Получен срочный заказ (а вдруг правительственный, а?). Изготовить к такому-то сроку вот это (Павел пока не мог представить себе, что это будет такое), и вам, как лучшему нашему ученику и умельцу, доверяется сделать это, не щадя своих самоотверженных сил и времени». И Павел сразу станет за станок и будет делать это, все будут смотреть на него и помогать ему. Из столовой в цех принесут обед: «Кушай, Мамыкин, пожалуйста, тебе сейчас надо хорошо кушать!» Он поест и все нормы выполнит и перевыполнит. И снимок его будет висеть на самой почетной, на красной доске, и в дирекции будут говорить: «Вот видите, из деревни, а в какие люди выходит человек, деревня тоже новые кадры поставляет!»
Хронический насморк давно уже не беспокоил Павла, но рот его по привычке все еще частенько был приоткрыт, особенно если удивление и любопытство брали верх над всеми прочими чувствами.
— Куда прешь? — закричали на него в слесарной, когда, размечтавшись, Павел ступил в масляную лужу на цементном полу. Вздрогнув, он метнулся в сторону, под трансмиссии, и какая-то неловкая чудо-техника сбила его с ног.
— Вот черт! Не повезло парню! — крикнули рядом, и больше Павел ничего не слыхал.
Прямо с грязного цементного пола перенесли его с разбитой головой в карету Скорой помощи.
Для ремесленного училища это было чрезвычайным происшествием. Значение этого факта перешло даже границы училища. Им заинтересовались и в милиции, и в профсоюзной организации, и в райкоме комсомола. На какое-то время к Павлу Мамыкину было приковано внимание всего районного начальства. И аппарат заработал. Раздавались телефонные звонки, составлялись акты, писались донесения по службе, кому-то грозило наказание за халатное отношение к технике безопасности в мастерских РУ.
В больнице Павла навещали одноклассники и учителя, несли ему разные вкусные передачи, спрашивали его о состоянии здоровья, о температуре, об аппетите, о работе желудка. Казалось, всему городу было нужно, чтобы он скорей поправился.
Павлу все это очень понравилось. Настолько понравилось, что ему даже захотелось подольше полежать в больнице. Врачи спрашивали его: не кружится ли голова, не наблюдаются ли приступы тошноты? А как зрение? Как слух? И Павел стал говорить: приступы тошноты наблюдаются, голова побаливает, зрение и слух как будто немного ослабели. К нему приходили специалисты отоларингологи, окулисты, показывали ему с разных расстояний таблицы с буквами и знаками, спрашивали: «Как видите?», проверяли глазное дно, лазили в уши, в нос.
Павел заметно поправился, раздобрел, привык подолгу спать.
Незадолго до выхода его из больницы в палате появился сам директор ремесленного училища товарищ Тетеркин и сообщил своему воспитаннику, что для него в профсоюзной организации приготовлена путевка в областной дом отдыха работников лесной промышленности. Разумеется, бесплатная.
Директор Тетеркин очень боялся за свой пост. Его уже не раз перемещали, как не обеспечивающего нужного руководства, с одного места на другое: с картофелесушильного завода на лесопильный, с лесопильного на маслобойный, с маслобойного в ремесленное училище, но все в должности директора. А сейчас появилась реальная опасность, что его лишат этого почетного звания.
В палату к Павлу Тетеркин вошел с сияющей, добрейшей улыбкой, какая может быть только у отца родного. Но именно из-за этой сияющей улыбки да еще из-за белого халата, необычно висевшего на директорских плечах, Павел и не узнал сразу своего посетителя. А когда узнал, то поначалу оробел.
— Как здоровье наше, Мамыкин, как лечимся? — заговорил директор весело и вроде бы непринужденно, но глаза его при этом крутились настороженно и воровато.
— Да я уже… я скоро! — замялся Павел. — Опять учиться буду. Я же не виноват… Если бы я знал…
— Что ты, что ты! Разве мы тебя виним? В таком деле никого винить нельзя, — обрадовался Тетеркин. — Несчастный случай, и только! Кого мы с тобой винить будем? Никого винить не будем! А тебя в беде не оставим, даже не беспокойся. Вылечим тебя, до конца вылечим, это я тебе говорю.
— Понимаю! — Павел действительно начинал понимать, что ничего плохого ему не будет и опасаться нечего. — Я же не виноват.
— Конечно, не виноват, никто не виноват, ты так и говори. А мы для тебя путевочку выхлопотали. Тебе, брат Павлуша, просто повезло.
— Понимаю! — сказал Павел.
— Путевочку, брат, тебе достали. В дом отдыха. Повезло тебе.
— А что я там буду делать? — спросил Павел.
— Отдыхать. Лечиться.
— Как, ничего не делать?
— В том-то и дело, что ничего не делать. Повезло, говорю.
— И кормить будут?
— Еще как!
— Здорово! А далеко это? — В голосе Павла слышалось уже ликование.
— Ехать надо. Сначала на попутной, потом — поездом.
— Где я возьму деньги на дорогу?
— Попроси у родных.
— Бабушка не даст, у нее нет.
— Напиши заявление.
— Кому?
— В профсоюз. Я передам…
И Павел написал еще одно заявление:
«Мой отец погиб смертью храбрых на фронте Отечественной войны. Моя мать, не щадя своих сил, работала на колхозных полях и отдала жизнь за высокую производительность труда. Я — круглый сирота, учусь в рабочем училище. Прошу дать мне денег, чтобы съездить в дом отдыха на лечение, на туда и обратно. Выучусь — за все отработаю».
* * *
Выйдя из больницы, Павел расписался в ведомости на получение бесплатной путевки, затем получил деньги на дорогу — опять расписался. Как это просто: распишись — и на тебе путевку, еще распишись — и на тебе двести рублей! Иван Тимофеевич, его бывший квартирный хозяин, рассказывал однажды про такое же. Но то было в Москве…
До ближайшей железнодорожной станции шестьдесят километров. Осень наступила в этом году поздно, но зато в течение нескольких дней подняла реки, размыла дороги, разнесла по бревну ветхие мосты. Движение грузовиков прекратилось. Пассажиры, застрявшие на волоках, оставляли громоздкие вещи на время распутицы в знакомых деревнях и продолжали путь пешком.
Павел не смог выехать из района и, огорченный, пришел в райсовет профсоюзов. В тот день на станцию отправляли инструктора областного совета профсоюзов. Женщина, маленькая, круглая, в очках, уже одетая для дороги — в сером брезентовом плаще, наброшенном поверх зимнего пальто, и толстой шерстяной шали, согласилась взять его с собой.
Профсоюзная лошадь, запряженная в легкий, плетенный из ивовых прутьев тарантас, стояла под окном. На козлах сидела девушка-возница, тоже в сером брезенте, но уже заляпанном грязью.
Павел едва успел сбегать в общежитие, взять фанерный, выкрашенный зеленой масляной краской баул с висячим побрякивающим замочком на крышке, и они поехали.
Сидит Павел на мягком свежем сене в тарантасе, ноги его прикрыты учрежденческим тулупом, взятым только ради него, потому что областная начальница заметила, как легко парень одет, и пожалела его, и теперь Павлу тепло и покойно — все его заботы и тревоги остались позади.
Первые несколько километров от городка дорога была песчаной, негрязной, и лошадь бежала споро. Позвякивал колокольчик под дугой, постукивали железные шины о камушки, скрипел хомут твердой кожей. Все располагало к размышлению.
Павел поначалу чувствовал себя неловко, сжимался в тарантасе, сколько мог, чтобы не стеснить свою благодетельную начальницу; боялся кашлять, сморкаться и даже старался дышать как можно деликатнее. Но постепенно угнетающая скромность его оставила, он небрежно откинул казенный тулуп, высвободил левую ногу и свесил ее снаружи корзины: в этом было какое-то щегольство, так ездят люди, знающие себе цену, — председатели колхозов, районные служащие. Приятное ощущение своей значительности, незаурядности все больше и больше щекотало его самолюбие. Вот уже и начал он выходить в люди! Такую ли жизнь пророчил ему Прокофий Кузьмич или намекал на что-то другое? Конечно, он еще не служащий и зарплаты не получает, но все-таки и не простой учащийся-ремесленник. Кто еще, кроме него, может вот так взять да и поехать, сидя рядом с областным ответственным работником? И куда? В дом отдыха! И зачем? Отдыхать! От-ды-хать, черт возьми! И все правильно, все по закону. В кармане у него путевка: фамилия, имя, отчество — Мамыкин Павел Иванович; год рождения — указан, место рождения — тоже, пол — мужской, профессия такая-то, путевка выдана по решению… Все законно!
Хорошо бы сейчас свернуть с большого тракта на проселок, да заехать бы в свою деревню, да подкатить бы к своему родному дому, да чтоб Шурка с бабушкой выбежали на крыльцо: «Господи, кто это к нам?» Да чтоб слетелись ребятишки со всех концов стайками воробьиными, а потом бы подошли мужики, хозяева домов: «Здравствуйте, мол, Павел Иванович, спасибо, что мимо своего колхоза не проехали, не побрезговали земляками, не похармовали!»
Да еще чтобы женщины столпились вокруг тарантаса, и под окном избы, и у крыльца и ахали бы да охали: «Наш ведь парень-то, свой, не чей-нибудь, Пашка, Ваньки-солдата сын, а ныне Павел Иванович, вот как!» А главное, чтобы девушки увидели его и пожалели бы, что не понимали раньше, какой он, раскаялись бы: «Вот, дескать, думали мы, Павлик, Павлуша — и все тут, а, оказывается, пальца в рот ему не клади, не простой он, Павлушка-то! С таким человеком любая девушка пойдет хоть на гулянку, хоть на край света — не зазорно, таким Павлушей вся деревня еще гордиться будет, за такой спиной, как у этого Павлуши, не пропадешь!» Вот как!
Сидит Павел на теплом сене, теплый тулуп в ногах, и картины одна обольстительней другой разворачиваются в его воображении. Негромко, размеренно поет колокольчик, хрустят рессоры, постукивают колеса, на ухабах раскачивается тарантас и кидает Павла то в одну сторону, то в другую, то притиснет его к плетеному боку корзины, то прислонит к теплому мягкому боку женщины. И вздрагивается и дремлется. А колокольчик то замирает совсем, то вдруг начинает звенеть продолжительно и требовательно, и звук этот сливается в одно сплошное гудение, и это уже не колокольчик, а автомобильный сигнал. И, тарантас уже не тарантас, а легковая машина. И восседает в ней, мягко откинувшись на спинку, и впрямь уже не какой-то Пашка Мамыкин, а Павел Иванович, не то генерал, не то секретарь райкома. Здорово!..
Жалко, что и ребята из училища не видят его в эти минуты, среди ребят все-таки есть ничего парни, те, что ходили к нему в больницу и всегда что-нибудь приносили с собой. Ничего ребята!
— Что с тобой стряслось? — вдруг спросила его женщина.
— Что? Чего стряслось? — встрепенулся задремавший Павел.
— Отчего заболел?
— А… Не помню. Меня ударило по голове в цеху.
— Травма, значит?
— Вот-вот, травма.
— Меня зовут Людмила Константиновна.
— Ладно! — сказал Павел.
— Тебе удобно?
— Ничего.
— Голова не болит?
— Шумит немножко.
Шумел лес по обеим сторонам дороги, шумела вода в речках, под мостиками и в канавах, шумела и шипела грязь под колесами. Девушка-возница то и дело спрыгивала с козел прямо в жидкую, либо коричневую, либо серую, либо черную с примесью торфа кашу, и плечом и руками поддерживала тарантас, и кричала на лошадь, и била ее кнутом по крупу, на что та неизменно помахивала хвостом, словно от овода отбивалась. Брезентовый плащ на девушке покрылся свежим слоем грязи. Трудно ей было.
Молодая, с ямочкой на самой середине подбородка, белобрысенькая, в мужской зимней шапке, из-под которой выбивалась и падала в откинутый брезентовый капюшон негустая льняная коса, девушка делала свое неженское дело старательно и ни на кого и ни на что не роптала. Дорога ей была знакома от начала до конца, как сплавщику капризная неширокая река, где за каждым поворотом ждет его какая-нибудь каверза, — должно быть, ездила девушка здесь взад и вперед бесконечное количество раз. А ей бы, с этими ее маленькими, несильными руками, ходить в ненастную осень на гулянки (и Павлу бы вместе с ней!), участвовать бы в клубных кружках, ставить спектакли или читать стихи со сцены. Почему она стала возницей, училась, что ли, мало? Павел начал всматриваться в нее пристальнее, и она ему понравилась. Он с пониманием и сердечным сочувствием следил за ней из тарантаса, когда девушка утопала в грязи и задыхалась от усталости.
Грязи особенно много было на улицах деревень. В одной деревне на крутом подъеме лошадь заскользила и упала на колени. Круглая Людмила Константиновна мгновенно выпорхнула из тарантаса, и этого одного оказалось достаточно, чтобы лошадь справилась, ободрилась и потянула дальше. Павел просто не успел выскочить на дорогу.
Опять стали сменяться избы, серые от дождя, кривые от времени, и у каждой под окнами палисаднички с черемухами да рябинами, да колодезные журавли — на одном конце коромысла длиннющий шест и бадья, на другом — груз для равновесия: разные деревянные и металлические подвески вплоть до тракторных шестерен и колесных втулок от старых телег.
На волоку, где дорога проходила над рекой по самому краю высокого подмытого и не огражденного никакими столбиками берега, тарантас вдруг начал резко крениться, и его потащило к обрыву. Даже лошадь почувствовала неладное, всхрапнула и круто повернула в сторону от реки, напрягаясь изо всех сил, и, кажется, не устояла бы, не совладала бы с экипажем, если бы из него вовремя не выпрыгнули и Людмила Константиновна и возница. Только Павел остался сидеть как сидел. Вероятно, он просто не успел сразу понять опасности.
И тогда нравившаяся ему девушка вдруг рявкнула на него совсем не по-девчачьи:
— Вылезай, раззява, ваше благородие!..
Ямочка на ее подбородке была заляпана грязью.
Павел испуганно выскочил, когда этого можно было уже и не делать, и, очутившись по колено в грязи, испугался еще больше. Людмила Константиновна и девушка, схватившись за оглобли с двух сторон, помогали лошади, а Павел стоял в грязи и, виновато моргая, смотрел на них, не зная, что делать, за что взяться.
— Барин! До дыр просидел свою сидальницу! — ругалась девушка-возница. Еще один начальничек растет, не хватает их.
Людмила Константиновна, то ли обидясь за «начальничков», то ли Павла пожалев, негромко, но внушительно остановила ее:
— Чего взбунтовалась? Шумишь? Он нездоров, а ты его в грязь вытолкала. Дались тебе начальники! Не любишь, а возишь. Не вози тогда, откажись. — И она приказала Павлу: — Садись, Павел, не слушай ее!
И Павел больше ее не слушал, сидел в тарантасе, не вылезая до самой станции, и думал о своей болезни. Разное думал.
А все-таки настроение его было испорчено. Исправилось оно лишь около железнодорожной кассы, когда Людмила Константиновна купила билеты и для себя и для него за свои деньги и не захотела, чтобы Павел платил, хотя он настаивал, очень настаивал.
— Ладно, ладно, — отбивалась она, — помалкивай! Не стесняйся. Тебе эти деньги пригодятся, а у меня есть, я работаю. Будешь работать и ты — все окупится, расплатишься.
Павел стеснялся недолго, сказал: «Спасибо!» — и замолчал. Ему было не так неловко, как радостно. Все-таки здорово ему везет: какая-то ответственная бабеха, незнакомая тетка, а почти сто рублей остается в кармане.
* * *
Профсоюзный дом отдыха помещался в старинном купеческом особняке на высокой сосновой гриве. Правда, старое здание много раз уже перестраивалось, и столько выросло вокруг него всевозможных новых построек — флигелей, крытых веранд, сараев, что былой хозяин вряд ли теперь узнал бы свои владения. Конечно, и сосны были уже не купеческие. Стволы в один, в два обхвата, с массивной, рубчатой, пепельного цвета корой — снизу, бронзовой и медной сверху, вздымались в небо, словно кирпичные трубы, и там их зеленые кроны, как дымы, сливались в сплошной непроницаемый полог. Все дорожки в парке ежились шишками и колючими, затвердевшими от первого заморозка иголками. Сосновые иголки лежали на скамейках, на круглых, сколоченных из грубых досок одноногих столиках, на беседках, бесхитростно изображавших шляпки белых грибов и мухоморов, на декоративных мостиках и клумбах с поблекшими хризантемами. С одной стороны сосновая грива примыкала к полям пригородного овощеводческого совхоза, с другой — к большой сплавной реке. Спуск к ней начинался от самого дома отдыха.
С железнодорожной станции Павел шел пешком. Он робел и перестал верить в магическую силу своей путевки — что-то его ждет там? А вдруг не примут? Но кругом были обыкновенные, знакомые с детства поля, и знакомо, по-обыкновенному побрякивал замочек на крышке фанерного баула — это успокаивало. Везде своя земля, везде свои люди — может быть, все еще будет хорошо.
И как только он вступил за ограду соснового бора, с ним стали происходить чудеса, не всегда понятные, но, безусловно, приятные и лестные для воображения.
— Добро пожаловать! — сказала ему молодая женщина в белоснежном халате еще при входе в дом и повела его в контору. — Вы отдыхать?
— Да, — робко ответил Павел.
— Вашу путевку.
Он достал из баула путевку, передал ее, при этом рука у него дрожала.
— Вот, — сказал он.
— Раздевайтесь, пожалуйста…
Законность путевки не вызывала никаких сомнений. Тогда Павел сразу почувствовал себя уверенней.
— Обедать скоро? — спросил он.
— Обед уже закончился. А вы проголодались? Я сейчас отведу вас в столовую, все сделаем, все устроим, не беспокойтесь.
— Я не беспокоюсь.
Женщину в белом халате не смутило, что Павел был одет неказисто; насколько он успел заметить, тут все отдыхающие одевались не ахти как рабочий народ, сплавщики, лесорубы.
В столовой, похожей на светлую больничную палату, Павла усадили за квадратный стол, рассчитанный на четырех человек, накрытый такой чистой белой скатертью, что он даже откинул один ее конец, чтобы не запачкать.
— Обед новенькому! — крикнула официантка на кухню.
— Что поздно? — спросил откуда-то грубый женский голос.
— Он не виноват. Новенький, говорю!
Из окон столовой, как из любых окон этого дома, видны массивные сосновые стволы с их зеленой иглистой кроной, а дальше, за соснами, — спуск к реке и сверкающая извилистая вода, в одном месте широкая, как озеро, в другом — как узкий ручеек, еле заметный под крутым берегом; еще дальше необычайные поемные луга, забитые древесиной, оставшейся от молевого сплава, теперь обсохшей и сложенной кое-где в штабеля, либо гниющей вразброс.
Павлу подали сразу три блюда: первое — кислые щи, второе — антрекот («Что?» — весело переспросил он, когда услышал название блюда. «Просто кусок мяса», — ответила девушка. «Кусок мяса — это и просто неплохо!» — сострил новичок) и на третье — клюквенный кисель.
— Рыбий жир будете пить? — спросила девушка.
— Как в больнице? — вопросом ответил Павел. — Я уже не грудной, можно пить и не рыбий жир.
Он съел все и не наелся, но добавки не попросил. «Успеется еще!» подумал.
— Что дальше?
— Идите опять в контору, откуда пришли. Вы еще не мылись?
— Нет.
— Ужин в восемь часов.
Из конторы та же сестра в белом халате, которая принимала Павла и отводила в столовую, сейчас провела его в комнату на втором этаже, сказала: «Вот ваша постель, ваша тумбочка!» Затем показала ему душ, сказала: «Мыться обязательно. А через два дня общая баня. Ужинать в восемь часов».
«О-го! — подумал Павел. — Порядочек, как в ремесленном общежитии», — и спросил:
— Что дальше?
— Дальше ничего. Отдыхайте! Завтра утром обратитесь к врачу, если нуждаетесь в чем. Библиотека внизу. «Распорядок дня» висит на стенке. До свиданья!
К строгому режиму дня, при котором по часам встают, по часам завтракают и обедают, Павел уже привык, и дисциплина эта не удивила его и не огорчила. Напротив, он, как почти все, скоро научился и нервничать и ворчать, если встречались даже незначительные отступления от распорядка. Быстро свыкся он и с тем, что здесь после завтрака и после обеда, да и весь день с утра до вечера ему не нужно было ни работать, ни учиться, ни готовить уроки. У него не было никаких обязанностей, если не считать обязанности хорошо отдыхать. И он стал считать отдых своей обязанностью, это было для него ново и приятно. Хорошо отдохнуть, восстановить свои силы, свое здоровье — это долг. Для этого тебе предоставлены все условия, все возможности. Обслуживающий персонал дома отдыха обязан тебя обслуживать, обязан — это Павел скоро и хорошо уяснил. За это ему, обслуживающему персоналу, деньги платят. И надо уметь требовать, чтобы обслуживающий персонал честно и добросовестно выполнял свои обязанности по отношению к тебе.
И Павел стал требовать.
Утром он терпеливо выстоял длинную очередь у кабинета врача. Врач, седая женщина лет семидесяти, не меньше, задыхающаяся от астмы, сгорбленная, которая сама должна бы жить здесь в качестве отдыхающей, взглянула на молодого Мамыкина с явным, как ему показалось, недружелюбием.
— На что жалуетесь, молодой товарищ?
— На травму.
— А что с вами случилось?
— Голова болит.
— Вы лечились? Случилось что?
— Лечился в больнице. Был удар по голове в цеху.
— В цехе? Вы — рабочий?
Павел промолчал. Врач заглянула в документы Мамыкина, в медицинское заключение, прилагаемое к путевке, и спросила снова:
— Сильно болит голова?
— По-разному.
— Часто?
— Вот посидел у вас в очереди, и опять заболела.
— Очередь… да… одна я здесь, — начала оправдываться старая женщина. Очереди большие. Вам бы в санаторий надо, а не в дом отдыха, там — лечение.
— Начальству виднее, куда посылать, — дерзко сказал Павел.
— Начальству? — удивленно переспросила женщина и опять посмотрела в его анкету. — Мо-олод! — покачала она головой, увидев его год рождения, и словно задумалась: продолжать ли называть этого дерзкого мальчишку на «вы» или разговаривать с ним, как принято разговаривать со школьниками. — До чего молод! — еще раз протянула она.
— Молод, значит, и лечить не надо? — спросил Павел.
— Нет, лечить мы тебя будем, — решительно перешла врач на «ты». — Будем лечить. Только без лекарств. Отдыхать будешь, гулять, много кушать, заниматься физкультурой, обтираться холодной водой. А снег выпадет — на лыжах пойдешь. Аппетит хороший?
— Аппетит ничего, есть могу.
— Ну вот и будешь много есть. Обязательно принимай рыбий жир, он с витаминами. И воздух тут витаминный, смоляной с фитонцидами. Дыши глубже. Я тоже здесь живу из-за воздуха. Он лучше всякой пенсии. Люблю запах живицы. Ну иди, все!
— Как все?
— Все! Иди гуляй. Следующий! — крикнула врач в дверь уже мимо Павла, не глядя на него.
* * *
Из-за сырой, мозглой погоды отдыхающие сидели в парковых беседках и в главном здании — в коридорах, в комнатах общего пользования. Играли в шашки, в шахматы, катали на маленьком бильярдном столе светлые подшипнички, не крупнее пушечной картечи, — на приобретение большого бильярда профсоюзных средств пока не хватало. Кое-кто сидел по углам, на стульях и диванах, либо у светлых окон, читали книги.
Никаких знакомых здесь у Павла, конечно, не оказалось. Не было и сверстников. Но он не унывал. Последнее обстоятельство ему даже льстило — он тут самый молодой, значит, самый удачливый. Скрытого ликования его не испортили даже грубоватые слова рыжего бородача с рыжими глазами и рыжими волосами на руках:
— Рано ты, паренек, начал по домам отдыха ездить, голова бы не закружилась.
— Из-за головы я и приехал.
— А что у тебя с ней?
— Травма.
— На работе получил?
— Да.
— Вершиной прихватило или комлем?
— Не, не в лесу.
— Значит, на сплаве? Или в конторе служишь?
— Не, в цеху.
— Так, понятно. Ну ничего, вылечат. Только маху дал, парень. В другой раз проси путевку в санаторий. Государство у нас богатое!
Павел не ответил, но совет запомнил.
За обедом в столовой не оказалось рыбьего жира. Павел не забыл, что ему врач советовала обязательно принимать рыбий жир, и хоть не любил ни вкуса, ни запаха его и, возможно, даже не стал бы пить ежедневно да еще трижды, но раз жиру не оказалось, Павел потребовал, чтобы ему дали его.
— Положено — значит, подай! — сказал он официантке — низкорослой, некрасивой и, вероятно, потому много кокетничавшей, грубо накрашенной и мелко завитой девушке Фросе.
Фрося обиделась.
— Во-первых, я тебе не «ты». А во-вторых, где я тебе возьму рыбий жир, я не рыба.
— Какое мое дело, — сказал Павел. — Положено — подай!
— Что значит «подай»? — возмутилась Фрося. — Я тебе не лакейка какая-нибудь и не куфарка. Я такая же служащая, как и ты.
— Вот и служи, — сказал Павел. — Ты к чему приставлена?
— Не к тебе же!
— Нет, ко мне. Тебе государство за что деньги платит?
— Много я получаю! — разбушевалась Фрося. — Ученый приехал.
— Где мой рыбий жир? — настаивал Павел на своем.
Вокруг одобрительно засмеялись.
Послеобеденный тихий час отдыхающие обязаны были проводить на открытой веранде. Павлу отвели плетеный лежак, старенькая няня показала ему, как пользоваться спальным ватным мешком; на первый раз сама помогла ему залезть в мешок, застегнула все пуговицы и затянула все шнурки на нем.
Густо, бархатисто шумели влажные сосны, мелкий осенний дождик шебаршил на дощатой крыше, то затихая, то усиливаясь, водяная пыль пронизывала воздух, он становился зримым. А в ватном мешке было и тепло и сухо, и Павлу приснился добрый сон.
Опять поет колокольчик, дорога постепенно становится грязнее. Деревня. Перелески. Поля. Изгороди.
Возница понукает лошадь, на подъемах соскакивает с козел, идет пешком.
Павел поначалу чувствовал себя неловко, потом осмелел, высвободил левую ногу и свесил ее снаружи корзины — так ездят люди, знающие себе цену: районные уполномоченные, председатели колхозов.
И вот уже слышен не робкий звон колокольчика, а требовательный, резкий звук автомобильного сигнала, и тарантас уже не тарантас, а легковая автомашина. И восседает в ней, мягко откинувшись на спинку, не какой-то Пашка Мамыкин, а Павел Иванович — не то директор, не то секретарь райкома…
…Шумят влажные сосны, идет мелкий дождик. Людмила Константиновна накрывает колени Павла тулупом, а он с сочувствием смотрит на девушку-возницу, которая опять одна бредет по грязи сбоку лошади…
— Садись рядом со мной, — говорит он ей. — Что ж ты в люди не выбилась? Хочешь я тебя научу?
Девушка благодарно садится рядом, прижимается к нему, а Людмила Константиновна залезает на козлы и погоняет лошадь. Она же первая замечает на дороге узелок и показывает на него кнутовищем.
— А ну, подними! — приказывает Павел.
Людмила Константиновна, не слезая с лошади, поднимает кнутовищем узелок. А узелок этот оказывается бабушкиным платком, а в платке — деньги.
— Возьмите, Павел Иванович, это ваши деньги! — говорит Людмила Константиновна.
Павел набивает деньгами карман и выбрасывает старый платок на дорогу. Платок на дороге опять свертывается в узелок, а в узелке опять деньги. Тогда Павел слезает с лошади, чтобы поднять узелок, и видит, что грязь на дороге тоже деньги. Он собирает их — мокрые, мятые рублевки и десятки — и развешивает на оглоблях, на ободах колес, на дуге, как выстиранное белье для просушки.
Деньги подсыхают, он заполняет ими все карманы. А Людмила Константиновна говорит ему, протягивая расходную ведомость:
— Распишитесь, пожалуйста, это же деньги. Просто распишитесь!
…Между тем тарантас потянуло под откос, лошадь напряглась, Людмила Константиновна и девушка-возница изо всех сил стали помогать ей.
И вот девушка, которая нравилась Павлу, вдруг рявкнула на него:
— Вылезай, раззява, ваше благородие! Ямочка на ее подбородке заляпана грязью. Павел выскочил на дорогу и стоит по колено в грязи, не зная, что ему делать.
— До дыр просидел свою сидальницу! — продолжает ругаться девушка. — Еще один начальничек растет, не хватает их нам!
На следующий день после обеда отдыхающие опять устраивались на веранде, и Павел захотел, чтобы ему снова помогли забраться в спальный мешок.
— Дует! — крикнул он няне, пожелавшей всем хорошего отдыха.
— Застегнуться надо.
— Как же я застегнусь, руки-то в мешке?
— А как другие застегиваются? — удивленно спросила старушка.
— Я в мешках никогда не спал. У нас в мешках только картошку хранят.
На плетеном лежаке недалеко от Павла поднялась рыжебородая, рыжебровая голова.
— Слушай ты, начальничек! У тебя травма, ну и лежи спокойно.
— Я и лежу.
— Спокойно лежи, не картошка, не рассыплешься. Ишь нервный какой.
— Ну нервный, и что? — не испугался Павел.
— А то! Рано привередничать начал.
— Тебе хорошо говорить.
— А тебе плохо?
— Плохо. Я всю жизнь без отца, без матери рос.
— После войны, может, половина людей так выросла. Ты один, бедный, обижен! Наверно, давно уже за девками бегаешь…
* * *
Доить коров, конечно, нелегко, особенно если их много, убирать двор лопатой и вилами тоже не сладость, а носить утром и вечером воду на коромысле, да греть ее, да разливать пойло по корытам — от этого одного за один год можно сгорбиться. Но, пожалуй, тяжелее и надоедливее всего — каждый вечер бегать за коровами на выпас. Если бы только раз в неделю, ну, на худой конец, два раза, а то ежевечерне, да по одним и тем же местам. Обрыдло!
Нюрку еще выручали молодые ноги, а пожилым напарницам ее было просто невмоготу.
Так велось от века: по утрам подоенных коров выгоняли из оград на улицу, иногда провожали их до околицы, а дальше они шли, позвякивая колокольцами, уже одни, без пастухов, и кормились до вечера, разбившись на небольшие стада.
В сумерках ко второй дойке коровы сами возвращались в деревню, каждая спешила в свой дом, к своему стойлу, где приветливые хозяйки встречали их крепко посоленным куском хлеба, мучной с отрубями болтушкой или охапкой зеленой травы. Редко-редко какая-нибудь строптивая пеструха устраивалась на ночевку на выгоне, и то лишь потому, что дома во дворе было слишком грязно либо хозяйка угощала ее чаще пинком, чем хлебным куском.
Заблудиться коровам было негде. На десятки верст вокруг деревни тянулись изгороди из жердей и кольев. Они охватывали и поля, и луга, и выпасы, разделяя их и перекрывая все выходы в глухой лес и на угодья других сельских общин.
Называли эти изгороди осеками. За каждым домохозяином закреплялось по нескольку участков осеков, за исправность которых он отвечал своей совестью и головой перед сельским сходом.
— Как это — головой? — спросила однажды Нюрка у своего деда, когда он рассказывал о том, что было раньше.
— Да что ж, простое дело. Если кто прохлопает ушами, не починит вовремя свой огород, потраву допустит — вызовут его на общий сход и поучат.
— Как поучат?
— Что, паре, свой язык понимать перестала? Ну, по шее поучат, по спине и по разным другим местам. Да так поучат, что больше вовек не забудет, и совесть не потеряет, и осека будут всегда целы.
Никакой необходимости в пастухах раньше не было. Но с годами старые осека подгнили, начали разваливаться, чинить их не стало сил, и колхозное стадо уходило от деревни порой слишком далеко. К тому же не стало и колокольцов на коровах.
Поначалу отказывали ворота в изгородях, поломались запоры.
Сейчас дивно вспомнить, сколько раньше было самых необыкновенных, простых и хитроумных деревянных запоров у полевых ворот. К установке их крестьяне относились как к искусству. Не признавали никаких железных крючков, никаких ершей и гвоздей — это было бы слишком богато и чересчур непритязательно. Зато изготовление накидных колец, петель и обручей из распаренных виц, всяких березовых задвижек, упоров, заворней, заверток, щеколд требовало выдумки и мастерского владения топором.
Сооружались даже своеобычные автоматические защелки: чуть отогнешь в сторону пружинистую жердочку — и ворота, скрипя деревянной пятой, распахиваются сами, хлопнешь ими — и жердочка становится на свое место, упираясь концом в гнездо обвязки. Не то что корова или лошадь, никакая коза таких ворот не откроет.
Хорошими запорами деревня гордилась, как резными балконами, просмоленными крышами и убранством своей часовни. Это, как и многое другое в те времена, было творчеством.
Но вот перестали запираться ворота, начали обваливаться изгороди то в одном месте, то в другом — и скот пошел гулять по посевам, по сенокосам, по болотам и лесам. Вечером жди не жди — не придет в колхозный двор ни одна корова.
Долгое время на выгон в сумерках бегали сами доярки. Выйдут из деревни, осмотрятся: «Ну, кто куда? Давайте лучше порознь — скорей наткнемся». Нюрка Молчунья несется через все Летовище в Угол, Авдотья Мишиха к Югскому кордону, Ваниха Пронькина на Казино болото — все в разные стороны. Найдут коров, пригонят домой, но сами так вымотаются, что и подойник в руки брать неохота.
Пастух нужен — это уже понимали многие, но слишком необычным, даже нелепым казалось для здешних мест: пастух за коровами! Ну, пастушок, мальчонка какой-нибудь, школьник — еще куда ни шло. Но мальчонка с коровами не управится. А взрослого ставить — это значит оторвать от дела рабочего человека, да еще и платить ему придется.
Нюрка долго молчала, думала, как быть, и, наконец, решилась пойти в контору, к самому председателю. О своей усталости она не заикнулась бы, но за других постоять ей не казалось зазорным.
— Чего тебе? — спросил ее Прокофий Кузьмич, когда Нюрка переступила порог кабинета и молча замерла у дверей. Письменный стол председателя был завален какими-то ведомостями и окурками. Хозяин неохотно поднял глаза на девушку.
— Ну, чего молчишь?
— Я не молчу.
— Чего тебе?
— О пастухах нынче много пишут, Прокофий Кузьмич, — сказала Нюрка.
— Тебе что за дело?
— А у нас пастуха нет.
— В пастухи, что ли, хочешь?
— Нет, я коров дою.
— Ну и дой, выполняй план.
— Я выполняю.
— Тогда иди, все!
Прокофий Кузьмич снова уткнулся в ведомости. Но Молчунья продолжала стоять у порога. Прокофий Кузьмич подождал и спросил ее снова:
— Еще чего тебе?
— Пастуха бы, Прокофий Кузьмич.
— Так, опять пастуха?
— Пастуха.
— Вот что! — В голосе Прокофия Кузьмина послышалось озорство, он захотел пошутить с робкой девушкой. — Значит, пастуха захотела?
— Колхозу пастух нужен! — ответила Нюрка серьезно.
— Вот Пашка выучится, и отдам его тебе в пастухи.
Нюрка пропустила мимо ушей и эту шутку.
— Удои бы сразу прибавились, — сказала она.
— Все у тебя или еще не все?
— У всех пастухи есть, — настаивала Нюрка.
Прокофий Кузьмич начал терять терпение.
— Да ты что, ополоумела? И без того работать некому, а тебе еще пастуха подай!
— Без пастуха коровы бегают далеко, не столько едят, сколько траву топчут, — не унималась Нюрка.
Прокофий Кузьмич мог накричать, указать Нюрке на дверь — выйди, дескать, и не мешай работать, тем более что работы всякой в страду было много и не так уж хорошо все шло, а тут еще уполномоченные один за другим… Но он сдержался и заговорил с Нюркой совершенно спокойно, сквозь зубы:
— Вот что, девонька. Если Пашку ждать не хочешь, мы тебе другого пастушка подберем, раз уж приспичило. Или подождешь? Любовь, говорят, зла… За такой клад, как ты, любой парень ухватится…
— Тогда я зайду в другой раз! — спокойно и серьезно сказала Нюрка, как будто не слышала, о чем перед этим говорил председатель.
В другой раз она держалась так же робко и так же твердо.
— Людей жалко, Прокофий Кузьмич, — начала она, остановившись опять у порога.
— О чем ты? — не сразу понял ее председатель.
— О доярках, о напарницах своих.
— А! О пастухе?
— О пастухе, извините уж меня.
Прокофий Кузьмич взял со стола тяжелые, массивные счеты, неторопливо вышел из кабинета в общую конторскую комнату, что-то поговорил там с бухгалтером и скрылся.
Через несколько дней Нюрка пришла к нему в третий раз. Перед этим она повидалась с директором школы Аристархом Николаевичем и разговаривала еще с каким-то уполномоченным.
В третий раз к Прокофию Кузьмичу ее не пустил главный бухгалтер, лысоватый старомодный человек, нанятый колхозом где-то на стороне и отлично умевший исполнять приказания непосредственного своего начальника. Он просто взял Нюрку за рукав, притянул к своему столу и сказал:
— Не надо, Аннушка-девочка, туда больше ходить, ты своего добилась: пастуха мы уже подобрали, приказ подписан, все по закону, и послезавтра за твоими коровами будет полный присмотр и пригляд. Все по закону!
* * *
В парке дома отдыха вокруг одного из сосновых стволов был сколочен грубый, но милый для всех дощатый стол. Сосна поднималась к небу прямо из середины его. Замкнутым кольцом вокруг стола была сделана и скамейка. В хорошую погоду здесь собирались отдыхающие, играли в карты, в домино, рассказывали анекдоты. Книги тут читались редко — все, кто любил посидеть с книгой, забирались подальше от дома, в глубь сосновой гривы или на берег реки, в кусты, где ютилось множество разных птичек, а весной заливались по ночам даже соловьи.
В туманное осеннее утро Павел ходил по парку. На тропинках валялись ощеренные сосновые шишки, похожие на маленьких ежиков, и навалом лежали мягкие хвойные иглы. Иголок особенно много было там, где в дождливые дни текли ручейки. Увидев круглый стол вокруг сосны и подивившись выдумке мастера, Павел присел на скамью и почувствовал, что ему страшно не хватает брата или бабушки или хоть кого-нибудь из односельчан, чтобы можно было поговорить со своим человеком и похвастать всем, что он теперь имеет. Разве не ему принадлежит все это богатство, разве не он, рабочий человек, здесь хозяин? Он! Ведь так и в газетах пишут. Он — хозяин, и все это — его! Посмотрел бы сейчас Шурка, каким стал его брат! Глянула бы бабушка заплакала бы!
Павел решил написать письмо. Сходил в свою комнату, взял из баула бумагу, карандаш, конверт.
«Здравствуй, бабушка, здравствуй, Шурка-черт! Всем по низкому поклону. Вы сейчас меня не узнали бы, какой я стал. Живем мы на высокой горе в двухэтажном доме. Это дворец! В одних комнатах живем, в других питаемся. Столовка наша вся в узорных скатертях, и это не столовка, а ресторан. Кормят меня почем зря, чем только не кормят, как на убой, и все бесплатно. И лечат. И все по часам. Три раза в день дают рыбий жир с витаминами. И разные другие блюда. Везла меня от нашего города до станции сама Людмила Константиновна из области. И по железной дороге у меня билет был бесплатный. Мне все везде дают бесплатно. Директор нашего дома, когда узнал, что меня привезла сама Людмила Константиновна, обрадовался и распорядился, чтоб все для меня было. Спим мы не в доме, а на веранде, под крышей без стен — мороз не мороз. Это для здоровья. И все за мной ухаживают…»
Павел кончил писать, и неожиданно ему пришло на ум: а вдруг бабушка испугается, что на веранде он мерзнет, что кашлять начнет? И он хотел было зачеркнуть слова про веранду, но подумал и не зачеркнул: даже интересно, что бабушка из-за него может прослезиться. И, представив себе, как она будет охать и ахать, и сердиться и ругаться, он добавил в письме, что голова у него все еще болит. Ничего, пускай бабушка немножко испугается!
В поисках почтового ящика Павел вышел за деревянную ограду дома отдыха. В мокром песке, среди обнажившихся корней старой сосны, возились ребятишки, о чем-то разговаривали, спорили. Они не сразу заметили Павла, остановившегося над ними, и он услышал, о чем они говорят.
— Как это — охотником? На охоту ходят, когда уработаются до смерти. На охоту все ходят — и летчики, и моряки, и звездолеты. А кем ты будешь жить?
— Я все равно охотником буду.
— Это не жизнь.
— А я хочу всю жизнь спектакли ставить.
— Ну и ставь!
— А я никуда отсюда не уеду. Я всю жизнь буду отдыханцем.
— Кто тебе столько путевок даст? — неожиданно для ребят спросил Павел.
Мальчики вскинули на него глаза, но не испугались, потому что Павел не показался им настоящим взрослым. Один мальчишка ответил:
— Зачем ему путевки, он — сын здешнего директора.
Тогда Павел сказал уже по-взрослому, строго:
— Простудитесь тут. Идите домой! Зачем корни у сосны подрываете?
— Мы не подрываем! — дерзко ответил сын директора, малец лет пяти-шести в ярком шерстяном костюме-комбинезоне и прорезиненной куртке.
— Как не подрываете?
— Не твои корни!
Чтобы не унизить себя, Павел не стал спрашивать о почтовом ящике, а прошел мимо, словно перешагнул ребятишек. Им еще мечтать да мечтать о путевках в дом отдыха, а он уже отдыхает в нем, как все, и живет на всем готовом.
* * *
Одно тревожило Павла, что врач, старая женщина, не хотела его лечить, то есть не давала ему никаких лекарств. Не выписывала лекарств, значит, не признавала больным — как же иначе можно понимать ее? Так именно Павел ее и понимал. А если врач не считает его больным, то, спрашивается, зачем же его, молодого парня, сюда послали, за что ему бесплатную путевку дали? Конечно, врач об этом своем мнении либо скажет кому-нибудь, либо напишет, что еще хуже, и тогда Павлу больше уже не видать никаких путевок.
Такое предположение беспокоило Павла настолько, что он изо дня в день стал навещать врача и убеждать ее, что болен всерьез, а не как-нибудь, и что его надо лечить, несмотря на возраст, и что жалеть для него лекарства сейчас нельзя, иначе потом придется расходовать в несколько раз больше. Это ли не антигосударственная практика? Он так и говорил: «антигосударственная практика».
Как-то Павел узнал стороной про сердечные приступы и какие ощущения при них испытывает больной. В результате у него несколько раз произошли неприятности с сердцем.
Старушка на первых порах выслушивала все его жалобы, но потом стала отделываться от него шуточками, посылала выкупаться в холодной осенней воде, либо поиграть в волейбол, либо поухаживать за девушками — да, да! Посылала ухаживать за девушками. И Павел невзлюбил врача, эту старую несерьезную женщину.
Только ведь другого врача в доме отдыха не было. Были медицинские сестры, но разве без докторских указаний могли они хоть шаг ступить? Да, кажется, и сестры не относились к Павлу Мамыкину всерьез. По крайней мере, ни разу среди ночи, когда его донимала бессонница, сестры не вызывали врача к его постели. И Мамыкин рассердился и пригрозил сообщить о невнимательном к себе отношении директору дома отдыха, а главное — Людмиле Константиновне, в областной Совет профессиональных союзов.
Эта угроза произвела впечатление на дежурную няню, и когда однажды, глубоко за полночь, Павел вдруг забился в нервном припадке, она, всполошенная, бросилась прямо на квартиру к доктору, в дальний флигелек в парке, и забарабанила в дверь, потом в окно, потом опять в дверь, вопя: «Человек умирает!»
Павлу приснился страшный сон с участием всех главных нечистых сил сразу, от страха он дико закричал и проснулся, когда простыня была уже основательно подмочена. Страх сменился стыдом, поэтому Павел продолжал кричать и визжать даже после того, как проснулся, затем упал с кровати и забился в истерике на полу. Повскакавшие спросонок соседи попытались его поднять с полу, но парень стал драться, и они робко топтались вокруг, не зная, чему верить, чему нет и что они обязаны делать в таких случаях.
Разбуженная воплем няни старушка врач, не зная, к кому ее зовут среди ночи, кто умирает, разволновалась больше, чем ей было положено, с трудом и кое-как оделась и почти бегом кинулась через весь парк в главный корпус. Поднявшись на второй этаж гораздо быстрее, чем ей самой разрешалось по состоянию здоровья, и увидев на полу ругающегося и хрипящего Мамыкина, она сразу заподозрила симуляцию. Гнев отнял последние силы у ее больного сердца, и срочная помощь потребовалась ей самой.
* * *
Голова у Павла действительно побаливала, но не так сильно и не так часто, как он любил об этом говорить. Через месяц, вернувшись домой, он сказал о головной боли бабушке и еще о том, что у него время от времени покалывает в боку, и есть кашель, и опять бывает насморк, и бабушка не отпустила его в город на ученье, а принялась лечить по-своему.
В избу затащили деревянный бук — кадку почти в рост человека, в которой можно и пиво варить, и белье бучить, и поставили между печным челом и кухонной заборкой. Павел сам носил с колодца воду, а бабушка кипятила ее в чугунах и в самоваре и сливала в кадку. Кадку она прикрыла половиками и полушубками в несколько слоев.
— В этом чане, Пашута, — говорила она, — я не раз твоего батьку лечила. И дедушку лечила. Приедет, бывало, дед из лесу, из деляны, в страшный мороз або со сплава, ледяной насквозь, что тебе кашель, что хрипота в грудях, и горлом глотать не может, а я его в баню, в вольный дух. Парю день, парю два — у самой сил уж нет, а немочь из него никак не выпарю. Ну тогда сажаю его в чан, на бук, да и кипячу под ним воду, а потом дам выпить стаканчик-другой перегару або водки — все немочи как рукой сымает. Да что немочи — любая лихоманка от такого пользования не устоит. Каюсь, грешная, матерь твою лечила не тем, надо бы и ее на бук посадить сразу, ни одного пупыша на теле не осталось бы. Опоздала я, окаянная! Все пупыши у нее были от простуды, простуду каменьями выпаривать надо — люди дольше жить будут. Вот сейчас я тебя попользую, ты уж на меня надейся.
В печи, в березовом жару, камни доходили до белого каленья — не один десяток булыжников. Бери их, шипящие, вилами по паре и стряхивай в кипяток на дно кадки, чтобы заклокотало, забурлило, чтобы пар приподнимал над головой болящего половики и овчины.
Бабушка заранее поставила в кадку высокую табуретку и придирчиво осмотрела, высоко ли она стоит над водой, — не дай бог обжечь парня, когда вода закипит.
Павел не раз слыхал, как лечат людей на пару, и относился к бабушкиному колдовству с полным доверием.
— Полезай, Павлуша! — сказала она наконец, заглянув в печь и убедившись, что камни достаточно раскалены. — Раздевайся!
Павел разделся за печкой догола и, стыдливо прикрываясь, пододвинул скамейку к кадке, чтобы забраться в нее.
— Будто газовая камера, бабушка.
— Какая такая?
— Ну, душегубка.
— Ты, соколик, неладно сделал. Подштанники надень на себя и рубаху нижнюю не сымай, брызгать будет. Да ноги под себя на табуретке подожми. И дыши паром, первое дело — дыши паром. Пар, он от всех недугов пользителен.
— Ладно, бабушка!
Когда Павел с головой укрылся в кадке, старуха достала с верхней полки-поднебицы глиняный горшок с мелко нарезанной вяленой травой вроде крапивы и темно-зелеными шишками хмеля, высыпала содержимое на белую тряпицу, посолила для силы, старательно перемешала, что-то шепча, и, оглянувшись, не следит ли за ней внучек-безбожник, перекрестила и стряхнула все это к нему под ноги в кадку. Затем она выгребла из печи клюкой румяный, в искрах, ставший почти прозрачным камень и, накрепко зажав его угольными щипцами, перенесла и опустила в воду под ноги Павлу.
— Держись, Павлуша! Блаослови, осподи!
Павел испуганно сжался, сдвинулся в сторону. Камень словно бы взорвался под ним, вода раздалась, сердито заклокотала, белый пар повалил клубами. Бабушка наглухо закрыла кадку. Второй камень обдал жаром лицо и босые ноги Павла, ему стало страшно — вдруг каленый орешек упадет на колени или просто коснется тела. Не успеешь закричать, а бабка замурует тебя — и все. И ничего не будет слышно в этом клокотании — ни стопа, ни рева.
Вот опять на мгновение появился просвет над головой, мелькнуло в тумане красное лицо старухи, и новое ядро взорвалось под ним. И снова он один в темноте, в жаре, как в кратере вулкана, как на сковороде у сатаны. А бомбардировка продолжается, а жар увеличивается, дышать все труднее.
— Доведу я каменья, — шепчет бабка, — до белого каленья, чтоб от пара, от жара простуда сбежала, чтоб от белого тела вся хворь отлетела…
Павел почувствовал себя маленьким и беззащитным.
— Баушка!
— Сиди, Пашута, не бойся. Вот я еще!..
— Баушка!
— Сиди, сиди, пущай пар до костей достигнет. Жарко тебе?
— Дых… дышать!
А половики и полушубки над головой опять сомкнулись. И Павел, теряя силы, исходил потом не столько от жары, сколько от страха.
— Бабка!
— Сейчас, сейчас, добавлю. Ты о хорошем думай, очищайся!
Павел слышит это, но думать ни о чем не может. В сознании мелькают только обрывки каких-то давних видений — лесные пожары в хвойных зарослях, зайцы и белки, бегущие к реке, красные птицы, косяками мечущиеся в небе, грозовая молния, однажды расколовшая колодезный журавель, изба, загоревшаяся посреди деревни, — в тот летний страшный день пламя смело половину посада и почти все поле спелой сухой ржи, прилегавшее к гумнам со стороны леса.
— Ба-абка!
— Сиди, говорят тебе. О хорошем думай!
Вода клокочет под табуреткой, вот-вот ключи коснутся скрещенных поджатых ног. Вскочить бы, поднять головой крышку, выбить дно и выйти вон! А вдруг качнешься неосторожно и табуретка подвернется, упадет набок. Или приподымешь голову, а бабка в этот миг сунется с камнем, — она торопится, — и сослепу да впопыхах ткнет тебе огнем прямо в лицо либо уронит красное ядро на плечо, на колени. Уф! «О хорошем думай!» О чем о хорошем? В сосновом бору, в доме отдыха дышалось легко и свободно. Главное в жизни — дышать. Дохнуть бы! Скоро ли она?
— Скоро ли, баушка?
— Сейчас подбавлю. Потерпи! Все как рукой сымет.
Павел не потерял сознания, но если бы бабушка не оказалась такой проворной, не вылезть бы ему из кадки, не забраться бы на печь, не укрыться. Нижнее белье, мокрое до нитки, облегло его тело, приклеилось; но будь он сейчас совсем голый, окажись в избе все деревенские девушки, он все равно не испытал бы уже никакого стыда — не до стыда было.
— Блаослови, осподи! — шептала бабушка, укладывая его на печи. — Уйди, хворь-хвороба, из костей хлебороба, из суставов, из жил, чтобы не ныла утроба, не скудался б до гроба, не хирел, не тужил. Руки, ноги покинь, не держись цепко. Слово мое крепко. Аминь!
Пар валил из кадки сквозь половики, в избе стояла духота, окна запотели, Павлу все еще трудно было дышать. Полегчало только, когда бабка влила ему в рот стакан самогона, крепкого, вонючего, живительного.
Через час-полтора прибежала Нюрка. Лицо ее было бледно, глаза расширены. Откуда она узнала и что — никто бы не сказал. Ни бабка Анисья, ни сам Павел никому ни слова не говорили о предстоявшем лечении. А Нюрка что-то узнала. И хоть губы ее дрожали, она постаралась вымолвить первые свои слова от порога как можно спокойнее:
— Здравствуйте! Я просто так. Шла и зашла. Никакого дела нет.
Говорила она это, а глаза ее так и бегали и, казалось, кричали от страха, пока Нюрка не увидела на печи живого Павла.
— Ой, что это у вас? — спросила она, указывая на бук, из которого валил пар.
Все окна были еще в испарине, и на потолке висели светлые капельки воды, словно после большой стирки.
Бабка Анисья вытирала тряпкой пол около печи, где была рассыпана зола и валялись мелкие угольки.
— Да вот Павлушу пользовала, — сказала она. — Лечили его там, на городах, лечили, а толку, гляжу, все мало. Дай, думаю, сама возьмусь, поставлю его на ноги, або всю жизнь будет скудаться здоровьем. Да ты проходи, садись, в ногах правды нет.
Нюрка сглотнула, словно во рту у нее была какая-то горечь, и, не сводя глаз с печки, спросила:
— Ой, что это с ним?
— Да ничего с ним. Садись, говорю, проходи! Я тебе толкую, что лечила, а ты спрашиваешь, что с ним. — Анисья повернулась к Павлу. — Жив ты там, Павлуша?
Павел застонал.
— Ой! — отозвалась на его стон Нюрка Молчунья. Ей, видимо, хотелось спросить о многом и сказать многое, но не решалась — боялась выдать себя, и она спросила только: — А Шуры дома нет?
— Нет Шуры дома, — ответила Анисья. — Нужен он тебе?
— Да нет, так я. Ну, я пойду!
Нюрка убежала. А через несколько минут после нее появился Нюркин дедушка, Михайло Лексеич. В бороде его желтели крошки вощины.
Надо полагать, Молчунья наговорила ему всяких страхов, потому что, едва переступив порог, он начал совестить Анисью:
— Ты что, ополоумела, старая? Что натворила? Погубить, конечно, парня хочешь аль что? Беги к председателю! Посылай за доктором!
Анисья, стоя на табуретке, выгребала угольным совком камни из бука и складывала их в ведро. Она только выше засучила рукава кофты и закричала в ответ так же неприветливо:
— А ты, старый умник, с цепи сорвался або что? Положи крест на лоб — в дом вошел.
— Что с парнем сделала, спрашиваю тебя? — настаивал старик.
— А ты кем ему доводишься? Может, ты ему дед аль тесть потайной? Або ты сам председатель колхоза, что входишь в чужие дома, не перекрестясь, будто в свой дом?
Михайло Лексеич сплюнул на пол и, поднявшись на печной приступок, заглянул в лицо Павлу.
Павел спал и потел. Струйка пота со лба по переносью и мимо носа стекала, как по желобку, в приоткрытый рот.
— Смотри у меня, дурная! — шепотом пригрозил Михайло Лексеич Анисье и, не попрощавшись, пошел из избы. Но в дверях столкнулся с председателем колхоза и вернулся.
— Что тут у вас, кто кого уморить хочет? Я ничего понять не мог! — во всю силу голоса закричал Прокофий Кузьмич, словно пришел не в избу, а на гумно.
Михайло Лексеич опять сплюнул и погрозился, на этот раз уже не в сторону Анисьи, а в адрес своей внучки.
— Вот полоумная, успела, конечно, взбулгачить всю деревню! Сейчас и доктора на себе, конечно, привезет, лошадь запрягать не надо.
Председатель колхоза разбудил Павла, чтобы спросить, как он себя чувствует. Павлуша поднял голову, лицо у него было жалкое, красное и все в поту. Казалось, он плачет.
— Мне хуже! — сказал он.
Тогда председатель набросился на Анисью:
— Ты, пережиток капитализма, что делаешь? Варварство в колхозе разводишь? Невежество? Государство не жалеет средств, учит людей, а ты подрываешь? Смену мою загубить хочешь? Шурку своего лечи…
Перепуганная Анисья перестала возражать, отмалчи валась, и только.
* * *
После этого Павел еще не раз получал курортные путевки. Бесплатное направление на курорт, как многие другие блага, получают далеко не все. Не все умеют писать заявления. Трудно бывает получить первую путевку, трудно распознать, как это делается, — научиться просить, войти в нужный список, в доверие. Павел прошел эту школу с успехом.
Женщина-врач, молодая, добрая, следившая за состоянием здоровья учеников ремесленного училища, однажды по-матерински посоветовала ему:
— Пожил бы ты подольше у своих родных в деревне. Походил бы там по лесам, полям, подышал бы родным воздухом, попил бы молока да поел бы не в столовой, а своей деревенской здоровой пищи — и перестал бы болеть.
Павел ответил ей с полным доверием:
— Сирота я круглый, Вера Дмитриевна, куда я поеду, кому я нужен? Дома только бабушка да брательник, совсем еще мальчишка. И одни-то они едва концы с концами сводят на своем участке. Что я свалюсь им на голову, больной, им и без меня тошно. Плохо у них. А меня воспитала советская власть. Я же не дома травму получил, не в колхозе. Бабушка меня лечила на буку паром, чуть до смерти не залечила. Варварство у нас там, невежество. Больные зубы лошадиным пометом лечат — кладут на зуб вместо лекарства. А кто с пупа сорвет — горшок на пуп ставят вместо банок, весь живот в горшок стягивается. Да разве бы я болел, если бы не сиротская жизнь!..
Всякие сомнения у Веры Дмитриевны исчезли, и она заполнила очередную курортную карту на имя Павла Мамыкина.
По этой причине он редко стал бывать дома, даже каникулы у него были заняты. Бабушка и Шурка недоумевали и обижались на него.
Чем дороже обходился Павел Мамыкин государству, тем значительнее казался он самому себе. Он становился своего рода «номенклатурным больным».
Заявления приходилось писать все чаще, и не только о выдаче бесплатных путевок. Однажды Шурка сообщил Павлу, что в колхозе не смогли достать нескольких мелких деталей для конного привода к молотилке. Павел поговорил с ребятами, с преподавателем слесарного дела, побывал вместе с ними в РТС, и было решено изготовить эти детали собственными силами и отправить в колхоз в качестве шефского подарка. Для оформления операции потребовалось заявление. Павел написал его по всем правилам от имени правления колхоза. Училище гордилось проделанной работой, и Павла очень хвалили за инициативу. Правда, когда подарок был отправлен, Павел написал своей бабушке, чтобы она знала, что это он, а не кто иной, удружил своему колхозу, и бабушка извлекла из его сообщения немалую пользу: в пору самой тяжелой бескормицы ей было отпущено для коровы несколько вязанок колхозного сена.
Павел продолжал писать заявления и по окончании учебы: о трудоустройстве — не по разнарядке, а где самому хотелось; о подыскании комнаты — не всю же сознательную молодую жизнь скитаться ему по общежитиям! — и, наконец, опять о курортном лечении.
Форма заявлений постепенно сложилась и отработалась — устойчивая, постоянная: вначале он рассказывал о своей тяжелой личной судьбе — отец погиб на войне, мать — на колхозном фронте двое маленьких детей остались круглыми сиротами; затем — что если бы не советская власть да не колхоз, погибли бы они голодной смертью. Но советская власть не бросила сирот, не позволила им пойти по миру. И вот они, два брата, теперь работают: один — в сельском хозяйстве, другой — на производстве. Далее он излагал, в чем нуждается и почему не может сейчас обойтись без поддержки, без помощи. При этом обещал, что придет время и он за все отплатит своему щедрому отечеству. Наконец: «Прошу не отказать мне в моей просьбе».
Редко, очень редко подобные заявления не действовали на сердобольных начальников: любой из них когда-нибудь сам побывал в беде, и государство у нас богатое…
* * *
Шурка так уставал на колхозной работе, что с вечера забирался на сеновал спать, когда его сверстники, умывшись и поужинав, шли на угор, в темноту, к девчатам, к песням. Деревня затихала не сразу: возвращались люди с сенокоса, возвращались коровы с выгона, лаяли собаки, гоняясь за скотом, скрипели колодезные журавли, молоковоз кричал на всю улицу, таская тяжелые бидоны в телегу и торопя оформление очередной накладной. Ветер замирал, и хвойные и травяные запахи, залетавшие в деревню из окрестных лесов и лугов, сменялись теплыми застойными запахами дворов и поветей. В небе проступали звезды, извечные, как слова любви, как звуки гармошки — простые и волнующие.
Молодежь зимой собиралась на беседки, а летом — на угор, обычно около пожарного сарая, где хорошая площадка для возни и для плясок.
С повети Шурке хорошо слышны и сонное бормотание кур на насестах, и всполошенные петушиные крики, и хлюпающая, влажная топотня дождя на драночной крыше, и грустные коровьи вздохи во дворе у пустых яслей, и, конечно, каждый живой звук на сельских улицах.
— Марья Митрошина, опять твоей пегой сатаны с рогами нет, весь день ходила вместе со стадом, а как вечер — она в лес. Гляди, медведь задерет, не ровен час.
— Вот окаянная, не любит домой ходить.
— Невзлюбишь, коли в стойле жижи по брюхо. В лесу грязи меньше.
— А может, она с колхозными на мэтэфэ ушла? Спроси доярок!
— Нет на мэтэфэ. Ищи на Мокрушах!
— Куда я в лес пойду на ночь глядя. Все равно молока со стакан дает.
Медные колокольцы гремят все реже и реже — коровы расходятся по дворам. Шурка не может заснуть, ожесточенно ворочается на сене, словно набилось оно под рубашку, и колет, и царапает, и щекочет его. А спать хочется. Если не заснуть сейчас, то завтра опять придется клевать весь день, того и гляди, под колеса попадешь, а то и под лемеха.
— Груня, пошли полуношничать! — слышит он знакомый зов девушки-соседки.
— Спать охота!
— Плюнь, на том свете выспишься. «Оно, пожалуй, и верно, — думает Шурка. — Все равно не заснуть».
— Эй, карапуз, позови батьку к окошку! — раздается другой голос где-то поблизости.
— Я здесь, кто это? — отзывается глухой бас.
— Пойдем хватим с устатку. Гарман в район ездил.
«Где-то сейчас Пашка? — начинает думать Шурка о старшем брате, и накопившиеся за эти годы боль и обида на Павла опять поднимаются в его душе. — В районе он или где? Неужто дальше куда уехал! Ученье, должно, уже закончил, а домой даже не заглянул. Бабушка слаба стала, спит мало, все переживает. А Пашка и на письмо не ответил. И летом дома не стал жить, все устраивает свои дела где-то. Все они такие, ученые, только выйдут в люди, хлебнут городской жизни — и ищи-свищи, назад в деревню калачом не заманишь, батогом не загонишь…»
А как жил сам Шурка все это время, чем он занимался? А тем и занимался, что колхозу требовалось. Увлекся льном, потому что от льна колхозу шла самая большая прибыль. В льноводческом звене вся инициатива постепенно перешла к нему, и Клавдия стала упрашивать его взять звено в свои руки. Женщины ее поддержали, и Шурка согласился. Со всеми наравне он возил навоз на участок, и теребил лен, и расстилал, и собирал, сам следил за его сортировкой. А когда выяснилось, что приемщики на льнозаводе занижают сортность тресты в своих интересах и спорить с ними невозможно — они специалисты, Шурка поехал в район к агроному, набрал книжек, чтобы досконально изучить, по каким признакам определяются номера тресты, и сам стал ездить сдавать лен заводу. Колхоз выиграл на этом несколько десятков тысяч рублей.
Но, взявшись за книжки, Шурка почувствовал, как много он потерял в жизни, как трудно ему будет без ученья. И об этом думал он сейчас:
«Уцепился за бабушкин подол, брату помогал, смотрел в его раскрытый рот, а о себе забыл! Теперь и брат забыл обо мне. А может, еще не забыл? Вот приедет начальник начальником и скажет: „Ну, родные мои, все, собирайтесь, всех с собой беру!“ Куда беру?..»
— Какое вам кино в горячую пору? — вдруг закричал на улице бригадир Шурка узнал его по голосу. — Планы сорвать охота?
— План, план… А люди для тебя что?
«Кино тоже по плану можно бы показывать, — думает Шурка. — А то кампания за кампанией по плану, всякие заготовки и сдачи по плану, а все, что для души, — от случая к случаю. Почему это?»
На повети такая темнота и так душно, что Шурке иногда кажется, будто он закрыт наглухо тяжелым покрывалом. А стоит курице или петуху переступить на насесте да квокнуть чуть слышно — и сразу становятся словно бы видимыми и крыша над ним, и стропила, а над крышей ночное небо и звезды.
«Все-таки не зря сказал тогда директор школы, — вспоминает Шурка, — я бы тоже учиться мог. Эх, мне бы поучиться! У меня и здоровья хватило бы. Для ученья хорошее здоровье нужно. Родись в деревне, закались на свежем воздухе, на колхозном хлебе — и тогда уж никакая наука не будет страшна…»
Шурка не верил, что в городах не хватает умных людей, таких, скажем, как Павел. В деревнях, да, не хватает! Значит, учиться надо не для города, а для своей же деревни, для своей земли. Людей кормить надо, а если земля совсем осиротеет, тогда что будем делать, куда покатимся?
«Где же все-таки Пашка, сукин сын? Хоть бы на время вернулся, пожил бы хоть один год с бабушкой, а я бы той порой… Эх, уж и впрягся бы я, сразу бы трехлемешным, четырехлемешным поднимать целину начал! За год — семилетку, за два года еще чего-нибудь кончил бы. Всех бы нагнал. Да разве опоздал я? Опоздаешь, если бабушка только и дело, что о женитьбе сказки рассказывает. Ей помощницу нужно. А бригадиром хотели избрать, так председатель сказал, что еще молод, рано и доверия, говорит, не заслуживает, шумит много. Шумит это значит критикует…»
Все дневные голоса и звуки на улице наконец смолкли. Тогда на угоре заиграла гармошка-хромка. Ее щемящие душу переборы возникли где-то далеко-далеко, наверно, еще в поле, и оттуда, из-за перелесков и пустошей, усиливаясь и раздаваясь вширь, неотвратимо надвигались на Шуркино неокрепшее сердце, как наводнение, как бедствие, и — какой уж тут сон! — Шурка не выдержал, встал, на ощупь оделся и почти бегом бросился с повети на призывный зов гармони и девичьих прибауток.
Бабка услышала, что внучек ушел на угор, и тайно порадовалась этому: «Растет, растет парень, еще немного — и невестку приведет в дом. Дай-то бог!» И лишь после его ухода она заснула спокойным, надежным сном.
А не спалось ей все потому же, что и Шурке: она много думала о своем старшем внуке, о Павле. Что-то не совсем понятное, не осознанное еще происходило в ее душе. Где же все-таки Пашута, чем он живет, почему не подает голоса и как ей ко всему этому относиться?
Бесконечно много надежд, больших и маленьких, связывала она с Павлом. «Вот вырастет, вот выучится, вот выйдет в люди!» — постоянно повторяла она и про себя и вслух, и это звучало как извечная старушечья молитва: «Помоги, господи! Спаси, Христос! На тебя вся надежда!»
Крыша над избой давно прохудилась, течет и весной и осенью, кое-где дранка совсем сгнила, сколько уж лет не смолили ее — какая ныне смола! Ладно, теперь недолго осталось ждать: Павлик вернется, либо сам перекроет, либо денег привезет, а на деньги и дранку и смолу достать можно.
С коровой тоже надо было что-то порешить — стара шибко, брюхо большое, а вымя как мочалка выжатая. Сдать бы Пеструху на мясо, хватит, послужила, а взять другую, первотелочку, либо своего телка выкормить. Да ведь без мужика нелегко решиться на это, на одну животину сена не наскребешь, а тут двоих надо кормить. И опять: вот ужо Пашута возьмется за все сам, парень он прилежный, не глупый, не шалопай какой-нибудь.
И с коровником тоже — ломать, перестраивать надо. Ставился двор не на одну скотину, а на целое стадо. И стояло в нем раньше, худо-бедно, четыре, пять коров, да бык, да телята, какой ни мороз — тепла хватало. А ныне в этом же дворе стоит-дрожит одна Пеструха, пережевывает свои коровьи думы, вздыхает, зимой вся закуржавеет, и на морде иней и в пахах, даже вымя в инее. А корму маловато — какое уж тут молоко! Развалить надо этот двор, отобрать бревна, которые поцелее, укоротить их, добавить свеженьких и собрать новый коровничек, чтобы в нем уместить всю свою живность — корову, пару овец, поросенка. А куры по-прежнему на повети… Эх, силы нужны, деньги нужны, хозяин нужен! Обсудить надо поначалу все как следует. С Шуриком не обсудишь — молод еще, не все понимает, старается не для дома, встает рано, приходит поздно, все на колхозной работе, все там, трудодни зарабатывает, ему не до своего хозяйства. А трудодни тебе двор не перестроят, крышу не закроют. Опять же своими руками надо делать. Вот выучится старшой: и глаз хозяйский, и деньги — все будет сразу.
Да мало ли всяких забот у бабки, мало ли о чем думает старуха, когда ей не спится! И все ее добрые помыслы, все заботы ее сходятся в одной точке: Пашута! Вот кто избавит ее от горьких дум, от мирских обид и несправедливостей, вот кто успокоит ее старость.
На чем держится любовь бабушки к своим внукам, в чем она и какова мера этой любви, — кто знает? Родительская любовь понятна. Детеныша своего защищают и звери и птицы. Чем неудачливее отпрыск, тем больше отдает ему мать сил и чувства, жалость к уродцу умножает ее самоотверженность. А почему бабушка с дедушкой любят своих внуков и внучек порой не меньше, чем матери своих детей? Что известно об этом, кроме того, что бабушка рассказывает сказки, а дедушка обещает: «Будет вам и белка, будет и свисток»?
У бабушки Анисьи никого в жизни не осталось, кроме Павлика и Александра. Они внуки ее, они и сыновья. Они наследники ее жизни, будущие хозяева, большаки. Если бы их не было, трудная ее судьба стала бы казаться совсем невыносимой, а испытания, выпавшие на ее долю, бессмысленными. Как можно допустить, будто не окупится все то, что она вложила в своих внуков, особенно в старшего! Об этом даже подумать страшно. Отдача будет, обязательно отдача будет! Вот только приедет Пашута…
И Павел приехал.
* * *
Но сначала от него пришло письмо.
Странное это было письмо. Шурка, устроившись на табуретке, читал его вслух, как обычно, но на этот раз часто останавливался, словно обдумывал прочитанное, а бабушка и ахала, и охала, и все торопила:
— Да читай же, читай скорей, только не прибавляй от себя ничего, выдумщик ты!
Она то садилась рядом с Шуркой и с недоверием поглядывала на листок бумаги, то поднималась и шла на кухню либо к порогу и обратно, а руки ее хватались за фартук; казалось, старушка вот-вот расплачется, и фартук был наготове, чтобы слезы вытереть и высморкаться.
Павел писал, что хотя здоровье его не поправляется, но на работу он устроился выгодную и сейчас хочет начинать жить как следует. Только на первых порах надо, чтобы ему помогли, потому что положение его трудное: он женился!
Дочитав до этого места, Шурка вдруг недобро расхохотался, а бабушка дотянула-таки фартук до лица, и ситчик быстро потемнел от мокрых пятен, будто на нем рядом с серенькими полинявшими цветочками появились какие-то новые причудливые узоры.
— Спаси Христос! — говорила она. — Ни о чем не спросил, не показал девку, какая такая, не пособирался, путного слова не молвил и… женился. Обманул ведь, а? Да как же это он?
«Дорогая бабушка, родимый мой братик Александр, — отхохотав, продолжал читать Шурка, — жена у меня городская, Валерия — ничего, хорошая. Кроме нее, у отца с матерью никого нет, и все хозяйство остается после их смерти за нею; значит, все будет наше. Есть корова, поросенок, огород, две яблони и все такое. И вот мы решили с тестем, с Петром Фомичом, сразу же, не оттягивая дела, перестроить дом, перебрать все стены и покрыть крышу, мало ли что может случиться. Здоровье у него неважнецкое, и всяких врагов много. На него опять насчитали по ларьку не одну тысячу, и надо все выплатить, а то уволят, и, говорит, денег теперь у него своих нет. А сами знаете, чтоб дом перестроить — лес нужен, и гвозди, и рабочая сила. Вы уж пожалейте меня („Слыхала?“ — резко крикнул Шурка, оторвавшись от письма и взглянув на бабушку), — помогите мне подняться на ноги, соберите, сколько сможете, и напишите, я живо приеду в деревню сам. По трудодням, наверно, как и прежде, одни разговоры, но, может, у вас боров хороший, можно заколоть да на базар увезти. Петр Фомич говорит, что он тоже мог бы способствовать пропустить мясо через ларек, только я думаю, что на базар лучше. Встану на свои ноги и больше никогда ничего не потребую, помогите лишь, не откажите в моей просьбе, никого у меня, кроме вас, нет.
К сему Павел Мамыкин».
— Слыхала?! — сказал опять Шурка, бросая письмо на стол и с укоризной обращаясь к бабушке, словно она в чем-то была виновата, при этом самое неподдельное удивление и недоумение звучали в его голосе. — Слыхала сироту? Казалось, он мог ожидать от Павла чего угодно, только не сообщения о женитьбе.
Бабушка с еще большим усердием начала сморкаться и протирать глаза свои ситцевым, уже наполовину мокрым фартуком.
— Слыхала, как не слыхать! Женился-таки… О, господи! И не отписал ничего, не посоветовался, будто ему советы мои больше и не нужны. — Бабушку, видно, больше всего обидело, что Павел не сообщил ей заранее о своей женитьбе. — Как же мы теперь с тобой будем, Шурик? Как же он-то без нас будет жить? Не рано ли женился-то? Парнишка ведь еще, есть ли у него самостоятельность-то, есть ли опытность-то? Как бы чужие люди над ним верх не взяли, как бы молодая жена каблуком на горло не наступила. А молодая ли жена-то? Может, вдова какая, раз хозяйство свое имеет? Отпиши-ка ты ему, Шурик, сейчас же и спроси: мол, была ли свадьба-то; может, бабушку-то на свадьбу позвать бы надо, коли еще не повенчанные?
С удивлением и недоумением смотрел теперь Шурка и на бабушку свою. Он словно впервые увидел ее такой, какова она есть, и растерялся.
— Он же не об этом пишет, бабушка, он помочь просит, ему дом перестроить надо, им с тестем деньги нужны! — закричал он ей в самые уши, будто глухой.
Растерялась и бабушка. Но представление о Павле, как о маленьком мальчишке, все еще нуждающемся в ее опеке, и жалость к нему постепенно брали верх над всеми прочими ее чувствами.
— А что же делать-то, Шурик? Брат ведь он родной тебе! Только как мы ему поможем, чем? Может, в правление сходить надо, посоветоваться або что, там тебя нынче уважать стали, никто о тебе худого слова не скажет. Так и так, мол, старший брат женился, подмогнуть бы ему на ноги встать, а уж он добра не забудет, не такой он человек.
Шурка рассердился.
— Никуда я не пойду и никого просить не буду. Не мое это дело. Я не нищий и не маленький, чтобы просить. Так я и буду на него всю жизнь работать? — Шурка впервые говорил о своем брате со злобой. — Не буду я на него работать! Женился, папочкой, наверно, уже зовут, а все в сиротах ходит да на подмогу надеется. Батраки ему нужны!
Бабушку испугали эти необычные слова его: какие батраки? Кому нужны? На кого он не будет работать?
— Ты это про кого? — тихо спросила она.
— Про него, про сиротинушку твоего, про Пашутеньку! — кричал Шурка. — Он всех обманул! Он и председателя колхоза обманул: тот на него надеялся — вот вырастет, вот выучится, руки ему развяжет, на пенсию отпустит. Он и нас с тобой обманул.
— Обманул, внученька, это уж верно, что обманул. А может, еще и не обманул?
Бабушка опустила фартук, разгладила его на коленях, и руки ее повисли, словно и они, и сама она не знали, что делать дальше.
— Ты от своего брата отказываешься? От родного брата отказываешься, Шура? — спросила она тихо. — Кто у нас еще есть, кроме него? А у него кто есть, кроме тебя? Никого нет. Всю свою молодость провел он на чужих людях, учился, а ты от него отказываешься?
Бабушка говорила тихо, она не ругалась, не корила внука, а все будто спрашивала, будто хотела уяснить, что же все-таки происходит на ее глазах.
— Ведь он сколько лет учился, ведь он уже выучился, как же ты от него отказываешься?
— И я бы учиться мог! — вставил Шурка, но уже без крика. — Мне директор говорил, что у Павла не получается, а у меня бы получилось. Директор сам говорил.
— Директор говорил, а вот Павлик-то выучился, в люди вышел, на городское жительство осел, а ты дома был, дома и остался. Как же ты без него, без брата, проживешь, коли от него отказываешься? Деревня — она деревня и есть, а Пашута в городе будет жить, он неделю поработает — и деньги получай на руки, чистенькие. А мы от кого помощи ждать будем, кто тебя выручит, когда хлеба купить будет не на что? Або не так?
— Бабушка, ты, видно, ничего не поняла. Пашка у нас денег просит.
— А ты не суди старшего, — успокаивала она его. — Чуть что — он тебе и заступа, и ходатай в районе.
— Никаких мне ходатаев не нужно. Руки свои да горб — вот наши ходатаи. Да и он, Пашка, со своими поросятами далеко не уйдет.
— Ученый, Шура, завсегда далеко пойдет. А Пашута теперь ученый.
— Никуда он не пойдет. А пойдет — так споткнется!
Перед самым закатом солнце заглянуло в избу. Днем оно было за облаками, а вечером, когда небо очистилось, его заслоняли крыши соседних домов. Но теперь солнце оказалось на противоположной улице в просвете между двух домов, прямо перед окнами и совсем рядом. В избу оно глянуло не сверху, а снизу. Засияли потолок, полати, печная лежанка, верхние края цветастых занавесок на кухне, горшки и подойник на полице и даже старинный медный с рожком висячий умывальник на стене около входной двери, а пол и вся часть избы ниже подоконников остались неосвещенными и, казалось, посерели еще больше. Так всегда: нет большого света — и серенькое кажется ярким, а при большом свете все черное чернеет еще сильнее, тени углубляются, краски свежеют, и оживают, и оживляют все вокруг.
Солнце озарило избу так неожиданно, что и бабушка и внук перестали разговаривать. Закатный огонь заиграл на стеклах окон, на стекле висевшей над столом лампы — похоже было, где-то затопилась большая печь и свет из ее чела проник в избу. Бабушка подошла к умывальнику сполоснуть руки и заслонила его спиной: умывальник потух, а когда повернулась боком, чтобы вытереть руки, медный раскачивающийся ковшик снова засиял, и медный зайчик забегал по стене и по полу. На освещенной стене зайчик казался бледным, робким, а на темном полу ярким, озорным.
Вытерев руки, бабушка прошла на кухню, села против печного чела и опять подняла фартук к глазам. Шурка услышал, как она вздохнула, всхлипнула и сквозь слезы начала жаловаться своей богородице:
— На свадьбу не позвал. Ведь не позвал! А уж я ли его не честила, я ли его не обхаживала. Конечно, куда мне, старой ведьме, все равно не поехала бы. Да и ехать-то не на чем. А все-таки пригласить должен был…
Перебежка зайчиков по избе оборвалась, солнце ушло из окон, и бабушка Анисья опустила голову еще ниже. Ни о чем ином она не могла сейчас думать, как только о Павле. А что можно было думать о нем и как о нем думать хорошее или плохое? Все-таки Шурка не зря обиделся на письмо брата, почуял он что-то неладное в нем. А что неладное? От веку так велось: женится один из братьев, и начинаются всякие ссоры да раздоры. Вот и женился Пашута, и стал он больше думать о себе. Ему же надо свой дом собирать. Что же в том неладного? Конечно, он сейчас только о себе думает…
Разные чувства боролись в душе старой Анисьи, когда она думала о неожиданной женитьбе своего старшего внука. Горечь и гордость, обида и радость. Ведь женился-таки! И свах никаких не понадобилось, все сам сделал значит, самостоятельный человек! Поглядеть бы, какова его Валерия? Городская, видно, коли Валерия. Городская, а пошла ведь за нашего Пашуту. Значит, верно, что выучился он. За ученого, конечно, любая девка пойдет, верное это дело ныне.
— Что написать ему, бабушка? — спросил Шурка.
— Ой, Шура, и не спрашивай, сама ничего не понимаю. Не знаю, что и написать ему, прости меня господи. Ничего не пиши!
* * *
В сумерках в избу вошла Нюрка Молчунья. Она открыла дверь, не постучавшись, ступила за порог неслышно, не здороваясь остановилась у печурки, постояла немного и прошла вперед, села. Платье на ней новое, бесшумное, как она сама, но, должно быть, дорогое, платок расшит своими руками — это было видно сразу.
— Чего тебе? — неприветливо спросила бабка.
— Я так. Дай, думаю, загляну, — смущенно ответила Нюрка.
— Ну, сиди! — разрешила бабка.
Шурка, согнувшись у края стола на лавке, мял в руках газету и отрывал от нее лоскутки, будто для цигарок. Но он не курил.
Молчунье на этот раз было тяжело молчать, и она, поерзав на месте, спросила:
— Может, вам что надо? Я бы сделала.
На молочнотоварной ферме Нюрка считалась теперь одной из лучших работниц. Ее выдвигали, ее ставили в пример другим чуть ли не на каждом собрании, по крайней мере, во всех отчетных докладах она упоминалась обязательно, и уже по имени, по отчеству. Кличка Молчунья постепенно забывалась. До наград дело еще не дошло, но славу создавали девушке быстро и организованно. Нюрка нравилась и председателю колхоза, и бригадирам, и всем прочим колхозным начальникам: безотказная, нестроптивая, нетребовательная, куда ни пошлешь — пойдет, что ни поручишь — сделает, нагрубишь ей — слова в ответ не скажет, роптать не станет.
С тех пор как Павел уехал учиться в город, она не переставала навещать бабушку и Шурку. То прибежит воды с колодца наносит полную кадушку, то под вечер избу вымоет, то баньку под праздник истопит. А для Шурки она уже не одну рубашку сшила, не один платок носовой вышила разноцветным крестом, а сколько носков заштопала — и сосчитать нельзя. Шурка принимал все без смущения: он знал, что делается это не для него. Понимала все и бабушка и часто называла Нюрку доченькой, привечала ее, как могла, заласкивала. Не очень-то она верила, что Нюрка, деревенская простая девушка, может стать подходящей парой для ее любимого Пашуты, но ведь девушка-то хорошая, работящая, как ее обидишь!
А теперь и бабушке было не до ласковых слов, письмо от Павла надолго расстроило ее и заставило думать, а думать бабушка не привыкла, она больше сердцем чувствовала, что хорошо, что плохо, что справедливо на земле, что нет.
— Что нам делать? Ничего нам не надо делать, — ответила она Молчунье.
Девушка быстро взглянула на Шурку, словно от него надеялась узнать, что случилось, почему бабушка не такая, как всегда.
Шурка не взглянул на нее.
— Может, тебе самой что надо? — спросила бабушка. — Не зря ведь пришла.
— Нет, я так.
— Узнать, поди, чего хочешь?
— Нет. Просто, дай, думаю, зайду.
— Письмо от него пришло, — жестко сказала вдруг бабушка.
— Ой! — вскрикнула девушка.
— Вот тебе и ой!
Нюрка вскочила с лавки и выбежала на улицу. И даже дверью на этот раз хлопнула.
— Видишь, до чего дошла девка. А у него — Ва-ле-ри-я!
В избе стало совсем темно, темней, чем было за окнами, на улице. Бабка сняла висячую лампу вместе с кругом, покачала ее, придерживая стекло, и, убедившись, что керосину мало, поставила на стол, сняла стекло, достала из-под лавки на кухне черную литровку и добавила из нее керосину в лампу. Резкий запах керосина разнесся по всей избе. Бабка убрала бутылку под лавку, зажгла лампу и опять повесила ее над столом. Теперь пахнуло жженой спичкой. Лампа разгоралась медленно: сначала обозначился светлый круг на потолке и темный на столе прямо под лампой, затем свет усилился и озарил весь стол, и лавки вокруг него, и табуретку, и две иконки в сутном углу, потом прояснилось и в остальных углах, опять стали видны кринки, горшки, подойница, и медный умывальник с рожком около входа, и березовая метла у порога.
В конце деревни сначала негромко, как бы прощупывая настроение молодых парней, подала голосок извечная гармошка, и Шурка встал и надел на голову кепку.
— Я пойду! — сказал он.
— Иди с богом, — согласилась бабушка, — иди погуляй. Когда придешь, в печке молоко не забудь. Лампу я потушу. — И она стала готовиться ко сну.
* * *
Нюрка вынырнула из темноты бесшумно и неожиданно, как лучик света. Шурка даже вздрогнул.
— Ой! — вскрикнула Нюрка только для того, чтобы что-нибудь сказать.
— Ты что? — спросил Шурка.
— Я ничего, так.
— На угор пойдешь?
— Не пойду. Я тебя ждала.
— Вот я. Пойдем.
— Не пойду.
— А чего тебе?
Девушка немного помедлила и вдруг тяжело повисла у него на руке, совершенно измученная, усталая, и зашептала торопливо, отрешенно, словно в воду кидаясь:
— Ой, Шура, Шурочка, скажи что-нибудь. Хоть что-нибудь!..
— Что я тебе скажу?
— Хоть что-нибудь. Что за письмо от Паши?
— А хочешь, я тебе все скажу?
— Все скажи, Шурочка, родненький мой!
— Тебя как зовут в деревне — Нюрка, Анюшка, Анюха? Да еще Молчунья. А тут Ва-ле-рия, понимаешь?
— Какая Валерия?
— А вот такая! Ты одна дочь у своих родителей? Не одна. А тут одна. А приданое у тебя есть? Корова, поросенок, дом свой есть? Нет ничего, все — на всех. А тут одна дочь, и корова, и поросенок, и дом, и родители скоро помрут — все ей достанется одной. И — Ва-ле-ри-я! Понимаешь? Ва-ле-ри-я! Я тебе все скажу: женился Пашка. И денег на обзаведение просит. Пожалейте, говорит, сироту. Все я тебе сказал?
Нюрка передохнула.
— Все, Шура! А как я-то теперь? Как? Куда я теперь, Шура? — И она еще тяжелее повисла на его руке, припала к нему, как маленькая девочка.
— Э, что он понимает! — зло сказал Шурка и по-взрослому стал гладить Нюркины волосы, мокрые щеки, вздрагивающие плечи. — И за что ты его, девонька, полюбила такого?! Ладно, не раскисай!
На угор они не пошли. Горе было обоюдным, и его не хотелось нести на люди.
* * *
Бабушка в душе почему-то все еще не верила, что Пашута ее взаправду женился, и когда он вошел в избу, она первым делом спросила:
— Один?
— Один. С кем еще?
— A о какой жене писал? Жены нет?
— Жена есть.
— Так хоть привез бы, показал, какую облюбовал да выбрал.
— Еще приедет. Недосуг было. Мы к тебе в гости все приедем.
— Вот-вот, всех и надо.
— Здравствуй, бабушка! Здравствуй, Шурка! — И Павел поздоровался за руку и с бабушкой и с братом.
Стояла осень, дороги всюду были непролазные, даже в самой деревне от дома к дому перебирались не по земле, а по изгородям, по жердочкам либо прыгали вдоль заборов да палисадников с камушка на камушек, с бугорка на бугорок.
На Павле топорщился дорожный брезентовый макинтош, в каких осенью разъезжают по колхозам районные уполномоченные; кожаные, с высокими голенищами сапоги казались тоже брезентовыми — таким плотным слоем покрыла их подсохшая грязь. Кепка на Павле была кожаная, в деревнях такие кепки даже шоферы раздобыть не могут. Портфеля у него не было, но все равно и без портфеля Павел так походил на районного ответственного товарища, что бабушка умилилась и сразу забыла обо всех своих обидах и горестях. Нет, что там ни говори, а не зря, видно, Пашута учился! Вот уже и рот больше не открывает, отучили, должно, возмужал парень. Рабочий он або кто другой, столяр, або слесарь, або еще кто, все равно городской житель. Даже если он простой кузнец покамест, так ведь и кузнец не деревенский, не у горна, не с кувалдой какой-нибудь стоит. Начать — главное дело, а там пойдет. Только бы на виду быть. А он, должно, теперь на виду. Вишь, какой стал сам по себе заметный да самостоятельный. Шурка что? Шурке, знамо дело, неловко, что не поучился, обижается на всех, злобится. А Пашута — вот он весь тут.
— На подводе, поди-ко, приехал али на машине або как? — захлопотала бабушка вокруг Павла.
— На подводе, — ответил Павел.
— На казенной али на какой?
— На попутной.
— Не озяб ли, Пашута, не продрог ли? Плащ-то сюда давай, я его вычищу да высушу. Ноги-то не мокрые ли? Сапожки снимай сразу, я их помою да на печке подсушу.
— На печку сапоги нельзя, кожа портится. А вымыть можно, — сказал Павел, снимая с себя все и отряхиваясь и одергивая пиджак и рубашку. Сапоги он поставил к умывальнику, а на ноги надел старые бабушкины валенки.
— Чайку, наверно, тебе, Пашута, — егозилась бабушка, — с дороги-то погреешься. Ох, и осень нынче, ох, и погода! Никогда раньше, такого климату не было, все пошло наперекос. Так поставить самоварчик-то?
— Озяб я, бабушка, водочки бы стаканчик! — вдруг сказал Павел, сказал и не засмеялся.
— О, господи! — опешила бабушка. — Да шутишь ты, что ли?
— Озяб я, не заболеть бы.
Бабушка посмотрела на серьезное Пашутино лицо, подумала и согласилась:
— Водочка, она, верно, помогает, ничего не скажешь. Раньше я тоже, бывало, как закашляю, так выпью лафетничек да протру поясницу — и ничего, вся хвороба перегорит. Водочка — это верно! Только вот при Шуре как-то опасаться стала. Паренек-то еще не вызрел: думаю, не дай господи, если начнет раньше времени потреблять, а я виновата буду. Нет у меня водочки, Пашута.
— Ну нет так нет. Тогда чаю!
Шурка встал и вышел из избы, в сенях он загремел ведрами — отправился на колодец за водой для самовара.
Павел вынес из-под полатей свой чемоданчик, положил на лавку поближе к столу и открыл.
— Моя Валерия вам подарки послала, бабушка, — и тебе и Шурке. Кланяться велела! — говорил он, выкладывая на стол несколько белых хлебцев домашнего печения, кулек с фруктовыми подушечками, слипшимися в сплошной комок, с проступившей кое-где патокой, кулек мятных пряников, пачку чаю в двадцать пять граммов, стопку ученических тетрадок — видимо, из тех, что сам не успел исписать, — да два школьных карандаша. А на-последок достал снизу, из-под газетной прокладки, кремовый полушерстяной платок с ярким, вышитым гладью крупным цветком во весь уголок — для бабушки да штапельный белый шарфик для брата.
— Вот! — сказал он, сам любуясь привезенными подарками. — Как в магазине.
Бабушка особенно обрадовалась сластям и чаю.
— Спасибо, вот уж спасибо! — то и дело повторяла она. — Вот уж знала, что послать. Ты думаешь, у нас чай? Разве по таким дорогам чай возят? Мы малиновый да клубничный пьем, в плитках.
За полушалок тоже благодарила, только примерять не стала, постеснялась.
— Куда мне, старухе, такой яркий? Не по роже кожа. Его бы Нюрке Молчунье подарил, девка то и дело о тебе спрашивала, полагалась на тебя. А нам сколько добра сделала — и не сказать!
Павел на это ничего не ответил. А когда вошел с ведром воды Шурка, он взял белый мягкий шарфик, встряхнул его, как заячью шкурку, и накинул на шею брата.
— Вот это тебе. От Валерии от моей.
— Спасибо! — поблагодарил Шурка.
— Торопился я очень со сборами, а то бы она больше послала всего. Она у меня такая! — хвалился Павел.
Анисья снова начала благодарить и Павла, и его жену.
— Да уж видно, что она такая! Уж знала, что послать, чем нас потешить. Как же ты такую бабу себе отхватил, городская ведь она?
— Городская, бабушка.
— Чем же ты взял ее, приворожил чем?
— Да ведь и я теперь не деревенский.
— А все-таки? Городские, ведь они гордые. А ты еще не совсем, поди, обтерся або совсем?
— Она у меня умная, бабушка. Она меня сразу увидела: «Ты, говорит, человек с будущим!» — продолжал хвалиться Павел. — Это мы с ней вместе на курорте были.
— Неужто и она по курортам ездит? — ахнула Анисья. — Скудается она чем або что?
— Да нет, здоровая. На курорты и здоровые ездят, отдыхают.
— Ой, паре! — охает Анисья. — Хоть бы Шурку этак-то послали куда-нибудь.
Павел удивился.
— А зачем ему это? И за что его? Он в деревне живет…
— И то верно, — согласилась бабушка. — Не за что. Да и не попросится он никогда. А старая она или молодая, жена-то, что по курортам ездит?
— Она, бабушка, одна у отца с матерью. И батька ее смолоду на курорты посылал. Вот и встретились.
— Ну, дай тебе бог! Добрая, видно: ишь, какой шарфик послала.
— Это для зимы или для лета? — спросил Шурка про шарфик.
— На всю жизнь хватит — и для лета и для зимы. На беседки будешь в нем ходить.
— Я же не всю жизнь буду на беседки ходить.
— Походишь еще.
— Ладно, спасибо. А тетради для чего? Бабушка неграмотная, мне учиться уже поздно. — Казалось, брат был недоволен подарками.
— Тетради для писем. Чтобы мне писал. Почему не ответил на письмо? — с упреком спросил Павел.
— Не знали мы, что ответить, — буркнул Шурка. Он был мрачен.
Бабушка убрала со стола все, кроме конфет, пряников и чаю, залила воду в самовар, опустила в трубу горящую лучину и угли и вернулась к столу.
— Ты уж прости, что не ответили, — вмешалась она в разговор. — Это я виновата.
— Тебе ведь не письмо нужно было, — мрачно заметил Шурка.
— А что мне нужно?
— Сам знаешь.
— А ты думаешь, если я женился, так уж больше ничего мне и не нужно? Все тебе одному? Ты думаешь, легко на ноги становиться?
— Ничего я не думаю. Только других с ног не сбивай.
— Я свое требую.
Шурка заморгал глазами.
— Ты требуешь? Нам показалось, что ты просишь. Чего ты требуешь?
— Того и требую!
— Ну говори, говори!
— Ладно, успеем еще, поговорим.
— Да уж говори сразу, чего тут.
— Ладно.
Похоже было, что братья начали горячиться, и бабушка встревожилась:
— Вы что, родненькие, о чем вы, родненькие! Ну-ка не сходите с ума, помолчите. Вот сейчас самоварчик спроворю, вот сейчас на стол его.
А Павел удивлялся, как это младший брат может в чем-то не соглашаться с ним.
Когда самовар закипел, бабушка хотела сама подать его, но Шурка вскочил с лавки, крупно шагнул в кухню, не грубо, но решительно отвел локтем ее руки, сдунул с крышки самовара угольную пыль и легко перенес его на стол. Пар столбом ударил в висячую лампу, стекло которой мгновенно запотело. Бабушка заметила это и испуганно передвинула самовар вместе с подносом чуть в сторону. В медных начищенных боках его, искаженно отразивших светлые прямоугольники окон, сахарницу с карамельками и стаканы на блюдцах, теперь не прекращалось движение. Вот бабушка уселась на табуретку перед краном, заварила чай из пачки, привезенной Павлом, и поставила белый с синими горошинками чайник на конфорку — руки ее мелькали в выпуклой медной глубине, то уменьшаясь, то увеличиваясь до чудовищной уродливости; вот Павел залез за стол, придвинул к себе чашку, еще пустую, и взял в рот из сахарницы пузатенькую карамельку с выдавленной липкой патокой — в отражении рот его разверзся до нелепых размеров и быстро захлопнулся; с другой стороны стола к самовару придвинулся Шурка, голова его была опущена, и в медном зеркале отразились не лицо, не руки, а темя да затылок, и длинные, как девичьи, волосы свесились до самого стола, от конфорки до поддувала.
Анисья разлила чай по стаканам, и все усердно начали дуть на горячий чай, тянуть его с блюдцев, пофыркивая. Бабушка брала поочередно то карамельку, то мятный пряник. Павел брал и то и другое, Шурка ничего не брал и пил чай без сладкого, вприглядку.
— Вот какие у меня мужики выросли! — хвастливо, как бы про себя, говорила старушка, подливая чай то одному, то другому внуку.
Особенно внимательно следила она за стаканом Павла, ей хотелось ухаживать за гостем, но угощать его тем, что сам привез, было как-то неловко, и оставалось одно — разливать чай, пока есть кипяток в самоваре.
Братья теперь могли сойти за одногодков, только у Павлуши лицо было длинное, вытянутое, а у Шурки круглое, словно происходили они от разных родителей.
По середине улицы мимо дома дважды, туда и обратно, прошли девушки. Они громко разговаривали, неестественно громко смеялись и искоса поглядывали на окна, стараясь обратить на себя внимание. В толпе девушек пряталась Нюрка Молчунья, бледная, с возбужденно горящими глазами. На что она надеялась, чего хотела, — просто увидеть Павла и ничего не сказать ему или сказать что-нибудь такое, чтобы сразу надорвать ему всю душу, подкосить его на веки вечные?
Последний раз, проходя под окнами, девушки пропели частушку:
Я березу белую В розу переделаю. У милого моего Разрыв сердца сделаю!И скрылись.
Разомлев от крепкого чая, Павел чуть отодвинул от себя самовар, труба которого опять оказалась как раз под лампой. Через какую-то минуту ламповое стекло в струе пара щелкнуло, и его опоясала светлая трещинка, будто полоска блестящей фольги.
Бабушка охнула так, словно кто ее кулаком в живот ударил: стекол больше не было ни в доме, ни в магазине, — но промолчала.
Шурка тоже промолчал, лишь двинул самовар на прежнее место.
* * *
В сенях залаяла собака, и в избу, не стучась, вошел председатель колхоза Прокофий Кузьмич. Павел поднялся из-за стола, навстречу ему. При этом он отметил про себя, что на заводе директор, входя в рабочую квартиру, обязательно постучится и спросит разрешения: в цехе он — хозяин, в квартире рабочего — гость, не больше, а Прокофий Кузьмич входит в избу колхозника, в любую, как в контору правления, по-хозяйски. Раньше такие мысли Павлу в голову не приходили.
Настроение у председателя было веселое.
— Почему не докладывают? Гость появился, а я узнаю о том в последнюю очередь, — заговорил он еще от порога и, не останавливаясь, прошел вперед, подал руку Павлу и сел к столу.
— Проходи, Прокопий, садись чай пить с гостинцами! — с запозданием, но дружелюбно пригласила его бабушка.
Председатель за столом снял кепку и отряхнул ее от сырости.
— Можно и чаю, хотя его, как говорится, много не выпьешь, — засмеялся он.
В последнее время Прокофий Кузьмич не стеснялся заходить то в один дом, то в другой, когда ему хотелось выпить, и колхозники потворствовали этой его слабости, добывали водку, рассчитывая, в свою очередь, на разные поблажки с его стороны.
Анисья оделась и молча вышла из избы.
— Ну здравствуй, Павел! — сказал Прокофий Кузьмич, подняв глаза на Павла, словно только что заметил его, и сразу поправился: — Здравствуй, Павел Иванович! С приездом, брат! Давно тебя ждем. Исчез, голоса не подаешь — в чем дело? Я уж о тебе плохо стал думать.
— Что вы, Прокофий Кузьмич, зачем плохо думать? — ответил Павел. — Вот я приехал.
— Вижу, приехал. Давай рассказывай!
Павлу польстило, что председатель колхоза назвал его по имени и отчеству, и, выпрямившись, он искоса, с некоторым торжеством взглянул на младшего брата. Брат сидел, опустив голову.
— Да что ж рассказывать?
— Как что? С чем приехал, какой багаж за спиной? Ты же меня понимать должен. Может, с ревизией уже ко мне или с руководящими указаниями прибыл?
— Рано еще, Прокофий Кузьмич.
— Не допер?
Павел промолчал.
— Говори, говори, — настаивал Прокофий Кузьмич. — Кто ты сейчас, кем служишь?
— Училище я окончил, Прокофий Кузьмич.
— Так. Дальше!
— Техникой владею.
— Дальше.
— Что ж дальше, Прокофий Кузьмич?
— Говори, говори!
— Что ж говорить-то, Прокофий Кузьмич? — Павел либо оттягивал разговор, либо и верно не понимал, о чем его спрашивает председатель.
— А ты не тяни. Ишь, как отмалчиваться научился! — засмеялся Прокофий Кузьмич. Смех был веселый, добродушный, и настороженность Павла постепенно исчезала. — Ты же меня понимать должен! — повторил Прокофий Кузьмич.
— Да я понимаю вас.
— Ну, дальше что?
— Времена меняются, Прокофий Кузьмин.
— Так, значит, времена меняются? Вишь ты, черт! — опять засмеялся председатель. — Ну, тогда наливай хоть чайку, что ли.
Павел поспешно пересел к самовару на бабушкино место, налил стакан крепкого чаю, подвинул его председателю, подвинул и мятные пряники, и карамельки.
— В партию вступил? Или в комсомол? — снова начал спрашивать его Прокофий Кузьмич. — Это надо, брат! Да говори ты хоть что-нибудь.
Павел не успел ответить, вернулась Анисья. Она принесла от соседей поллитровку водки. Прокофий Кузьмич, сделав удивленное лицо, встретил ее прибаутками:
— Ох, и догадлива старуха! Дружку — стакан, от дружка — карман. А я-то думаю, куда она скрылась-удалилась? Ох, и научилась бабка с начальством ладить. Далеко пойдешь! А то чай да чай!..
Павел освободил бабушке стул, она села к самоварному крану, выбила картонную пробку из бутылки, слегка ударив в ее дно своей костлявой ладошкой, разлила водку по трем стаканам, а остаток выплеснула себе в чай.
— Ловко ты пробки выколачиваешь! — засмеялся председатель.
— Ладно уж, выпейте лучше, будет вам зубы-то скалить! — сказала Анисья, довольная, что вернулась не с пустыми руками.
— А что — зубы скалить? С начальством, говорю, умеешь жить в мире. Вот сейчас у тебя свой начальник в доме, теперь Павлу Ивановичу угождай, держись Павла Ивановича, с ним далеко пойдешь.
Всерьез говорил председатель или шутил, только Анисья ответила ему всерьез:
— Дальше могилы мне идти некуда, а уж Павла Ивановича я никогда не обижала и не обижу. Это уж верное слово! Выпейте на здоровье!
Выпили все. Выпил и Шурка. Павел пил свободно, не морщась, даже с заметным удовольствием, — видно, водка стала для него привычной. Прокофий Кузьмич посмотрел на стакан к свету, сказал: «Опохмелимся!» — мелкими глотками вытянул его до половины и закусил мятным пряником. Анисья вылила свой пуншик на блюдце и, подняв на растопыренных пальцах, пила, как чай.
— Вот так-то оно лучше, а то чай да чай, — снова похвалил ее Прокофий Кузьмич. — Правильно, Анисья, внука своего встречаешь. Так и надо, чтоб не обижался. Он теперь знаешь кем у тебя будет? Не знаешь? Так я тебе скажу. Сказать ей, Павел Иванович? — обратился он к Павлу и опять весело и хитровато засмеялся.
Шурка поднял голову, Павел насторожился.
— Я же его к себе в заместители прочил, смену себе в нем видел. Сам стар, песочек уже, — ха-ха! — на покой пора. А он — вот он, своя кадра, и техникой владеет… Как, Павел Иванович? Поживешь, поосмотришься, попривыкнешь к делу — и с богом! Ха-ха! Как, Павел Иванович?
— Спаси Христос, неужто правда это, Пашута? — охнула Анисья, не зная, чему верить, чему нет.
— Это еще как народ пожелает, Прокофий Кузьмич, — сказал Шурка. — Как мы пожелаем…
— Ты помолчи, зелен еще и неучен! — прикрикнул на него председатель. Это как мы с Павлом Ивановичем пожелаем. Верно, Павел Иванович?
Павел смотрел на председателя во все глаза и ничего не говорил.
— Неужто обманул, сукин сын? — вдруг спросил его председатель и засмеялся. — Я так и знал, что обманешь. Обманул, Павел Иванович, да?
— В стаканах-то у вас еще водка есть, — встрепенулась Анисья. — Выпейте остаточки, оно веселее будет.
— Да нам и так весело! — Прокофий Кузьмич засмеялся еще громче. А потом начал журить бабку: — Ох, Анисья, Анисья, совсем ты меня не боишься! Споить, наверно, хочешь? Да разве трех мужиков одной поллитровкой споишь? По ведру на человека надо!
Анисья понимала, что председатель шутит, и сам Прокофий Кузьмич хотел, чтобы эти слова его понимали как шутку, но, кажется, не стал бы возражать, если бы на столе появилась и еще бутылочка. По тому, как быстро он пьянел, Анисья догадывалась, что председатель пришел к ним уже навеселе.
Выпили остаточки, и Прокофий Кузьмич сказал:
— Не пить я к вам пришел. Пришел я, чтобы на Павла взглянуть, каким он теперь стал. Ведь когда-то я тебя в ученье отвез, помнишь, Павел Иванович? И вот не ошибся! А разве я о себе хлопотал? Нет, не о себе. О колхозе я хлопотал. Неужели ж обманул? — еще раз спросил он Павла. И сам же ответил снова: — Конечно, обманул! Тогда давайте выпьем еще. Э, да у вас уже ничего нет. Обижаешь ты, Анисья, Павла своего, плохо тебе будет.
— Когда это я его обижала? — возразила старушка, просто чтобы поддержать разговор.
— А помнишь, как ты его чуть до смерти не запарила в пивоваренном чане? В душегубке этой?
Павел обрадовался перемене разговора, с удовольствием поддержал новую шутку председателя:
— Верно, бабушка, ты же меня, как белье, бучила. Если бы не санаторий, мне бы тогда нипочем не выжить. Щелок ты подо мной кипятила или воду?
— Водку надо было кипятить! — смеялся председатель.
— В чане градусов было побольше, Прокофий Кузьмич! Я тогда, можно сказать, на том свете побывал! — засмеялся и Павел.
Анисья почувствовала в этом веселье что-то обидное для себя. Она поставила недопитое блюдце на стол, вытерла губы и с упреком промолвила:
— Я тебе, Паша, худа не желала. А если бы умирать пришло время, так и санаторий бы не помог.
Но Павел и Прокофий Кузьмич продолжали смеяться.
— А все-таки щелок был или вода? Чем ты меня пользовала? — допытывался Павел.
Они смеялись, пока не довели старуху до слез. Анисья подняла фартук к лицу и захлюпала. Шурка тяжело засопел. Казалось, он вот-вот взорвется. Тогда Прокофий Кузьмич вернулся к старому разговору с Павлом.
— Кто же ты сейчас, Павел, рабочий или уже мастер? Рабочий тоже, конечно, дело великое. Но ты мне вот что скажи, как на духу: вернешься в свой колхоз или не вернешься? Прямо скажи! Я, конечно, не верю, что вернешься. У нас такого случая еще не было, а все-таки вдруг вернешься? Ученых людей у нас, понимаешь, мало.
— Я пока не думал об этом, Прокофий Кузьмич!
— Не думал. И думать не будешь. Я уж знаю. Везде возвращаются, только у нас не возвращаются, все в индустриализацию идут. А мы давай так дело поведем: пускай не возвращаются! Для колхоза это не хуже. Понимаешь, что нам надо? Нам надо, чтобы в каждом городе у нас были свои люди, земляки. Вот наша установка на сегодняшний день!
Анисья, довольная, что ее больше не затрагивают, снова начала разливать чай в стаканы.
— Только земляки колхозу помочь могут, — продолжал Прокофий Кузьмич. Они обеспечат нас всем, и мы выйдем из прорыва. Мы отстающие, пусть! Но отстающим помогать должны, нас вызволять из беды надо. Недоимки есть? Списать. Ссуду? Выдать! С уборкой не справляемся — горожан на недельку в колхоз. Вот где главное звено на сегодняшний день. Теперь, Павел Иванович, к тебе дело: мы тебя выдвинули, так смотри, не забывай своих при случае. Будь на посту! — Захмелевший председатель поощряюще хлопнул его по плечу. — А может, вернешься? Ты вот что запомни: если захотим, силой вернем. Думаешь, я в деревню добровольно приехал?
— Не вернется он! — вставила свое слово Анисья. Кипятку в самоваре больше не осталось, и она, повернув стакан кверху дном, отодвинула его от себя. — Как же он вернется, коли женился?
Самовар уже не парил, только иногда в трубе еще попискивало. Прокофий Кузьмич тоже отставил свой стакан.
— Кого взял?
— Валерию! — ответила бабушка.
— Чья это?
— Спроси его.
— Чужая, значит? — притворно обиделся председатель. — Разве у нас своих невест мало? Нам своих невест девать некуда, а ты — Валерию. Измена это, братец ты мой, предательство.
— Я, Прокофий Кузьмич, своему колхозу никогда не изменю, — запальчиво стал уверять его тоже опьяневший Павел. — Я принимаю все ваши указания и буду на посту. Я сейчас на складе инструменты выдаю. Я свое еще возьму. Я далеко пойду! Вот только и вы меня поддержите на первых порах. Трудно мне сейчас, женился я, дом надо подновить, а лесу нет. Дали бы вы мне десятка два бревен, за мной не пропадет, отблагодарю.
Председатель не то задумался, не то задремал.
— Помните, как я достал для вас запчасти, — продолжал Павел. — Сейчас я больше могу. За мной не пропадет. Выручите, Прокофий Кузьмин!
— Да разве я когда-нибудь своих людей оставлял в беде? — оживился председатель, видимо приняв какое-то решение. — Я своих людей никогда в беде не бросал. Только ведь осень, как же ты по таким дорогам увезешь строевой лес? Перевозка дороже будет стоить.
— Об этом вы не затрудняйтесь, Прокофий Кузьмин. Своя ноша не тянет. Мне тесть обещал достать машину на несколько рейсов, ему по службе устроят. Деньги тоже нужны, но в этом я надеюсь вот на бабушку да на брата, на Шурика. Они меня выручат.
Прокофий Кузьмин опять задумался. Порожний самовар пискнул в последний раз и затих. Тогда заговорил Шурка.
— Нет у нас денег! — сказал он, словно кулаком по столу ударил. — Не выручим!
Павел опешил, но за него заступилась бабушка. Она почувствовала, что назревает ссора, и заранее решилась не допускать ее, чего бы это ни стоило.
— Что ты, Шурик, говоришь? Как же мы его не выручим, мыслимое ли это дело? — накинулась она на Шурку. А старшего внука стала успокаивать: — И не сомневайся, Пашута, все сделаем, и поросенка продадим, и Прокопий, председатель, вот поможет нам.
«Только б не это, только бы не наперекос, — думала она между тем. — Упаси господи их от несогласья. Всю жизнь им отдала, отца с матерью заменила, вынянчила, вырастила, а теперь, того гляди… мыслимо ли это!»
— Не выручим! — крикнул еще решительнее Шурка.
Руки у старушки задрожали, и губы, бледные и тонкие, задрожали, и не знала она, что говорить ей и что делать — встать ли из-за стола и начать убирать посуду, или остаться на месте, или кинуться к обоим на шею, гладить их по головам да целовать поочередно.
— Не продадим поросенка! — упрямо заявил Шурка. — У него свой поросенок есть. И председатель ему не поможет!
— Ну уж за себя-то я сам все вопросы решаю, — весело сказал Прокофий Кузьмин. — Ты, братец, это брось, молод еще!
Шурка впервые прямо и строго посмотрел в его глаза и ответил спокойно, без крика:
— Не брошу! Работать нужно — так я не молод, а дела решать — молод.
А Павел, почувствовав, что на его стороне и бабушка и председатель, а стало быть, и правда на его стороне, решил отстаивать свои законные права твердо. К тому же по голосу, по повадке Шурки он сейчас понял, что брат уже стал взрослым, значит, и разговаривать с ним можно как со взрослым. Да и водка горячила Павла.
— До моего поросенка тебе дела нет. А долю мою отдай! — привстал он за столом.
— Какую долю? — удивился Шурка и уставился на Павла наивно и добродушно. Он снова перестал понимать своего брата. — Какую долю? Чего ты орешь?
— Такую долю! Ты не один в доме, нас двое. Отцовское добро для обоих одинаково. Я от своей доли не отказывался, я не пасынок у своих родителей.
Шурка все еще не понимал брата, но то, что Павел в который раз исключает из разговора, из каких-то своих расчетов, бабушку, словно ее нет в живых, это он понял сразу и возмутился.
— Нас двое, нас двое! А про бабушку забыл? Забыл, кто тебя выходил?
— Бабушка бабушкой, а ты мою долю отдай!
— Какую долю? — опять удивился Шурка.
— Господи, он же делиться хочет! — вдруг догадалась и ужаснулась бабушка. — Он же дом разорить хочет! Кто это тебя надоумил, Пашка? Мыслимое ли дело — отцовское гнездо разорять? Выродок ты эдакой!
Семейные дележи в колхозе ныне явление редкое. Шурке ни разу не приходилось наблюдать их, потому он так долго и не понимал, куда клонит брат, но когда понял, возмутился еще больше. Ему показалось странным, даже кощунственным, что дом, в котором он родился и вырос, в котором жили его отец и мать, а ныне живет его бабушка, нужно как-то делить, что он не вечен. Разве родину делят?
А старый председатель ничему не удивился, он все принял как должное. Веселое настроение снова захватило его.
— Делиться — это законное дело, — сказал он. — Конечно, и бабушку надо делить пополам. Делиться придется, раз Павел не хочет жить дома. С колхозом ему делить нечего, он в колхозе ничего не забыл. А с братом — законно. И бабушку разделить. Как ты, Анисья, полагаешь?
— О, господи! Думала ли я, что доживу до этакого! — вопила бабушка.
— Я делиться не собираюсь! — заявил Шурка.
— Придется! — торжествовал Павел. — Делиться — законное дело!
— Тогда делись сам, делись один, я тебе не помеха. Бери что хочешь. Все бери! Мы с бабушкой проживем без тебя, как жили и до этого. Новый дом выстроим.
Бабушка уже не плакала, а рыдала и больше не закрывалась фартуком.
Прокофий Кузьмин заметил, что разговор становится нешуточным, и решил сразу успокоить всех.
— Делиться вам, братцы мои, нельзя. Незаконное это дело: Шурке еще нет совершенных лет. А бабка престарелая сверх нормы — стало быть, тоже несовершенные года. Суд не возьмется делить. Ждать придется.
— О, господи! — рыдала Анисья.
А Шурка стал утешать ее, уже не слушая ни Павла, ни Прокофия Кузьмича:
— Ничего не бойся, бабушка, и ждать ничего не придется. Пускай делится, никакого суда не будет, не бойся. Буржуи мы, что ли, какие, чтобы по судам ходить. Ты на меня положись, я тебе новую избу выстрою. Пускай все берет скорей подавится.
* * *
Может быть, на этом бы ссора и закончилась, если бы старуха после того, как председатель ушел домой, не начала снова упрекать братьев и уговаривать их помириться. Ребята долго отмалчивались, а она распалялась все больше и больше. Что бы ей остановиться вовремя! Что бы ей, уставшей вконец, трясущейся, забраться на горячую печку, да прикрыться овчинным полушубком, да пожелать внукам, как раньше бывало: «Спите спокойно, ребятки!»
Нет, не могла вовремя угомониться старая.
Обоих внуков она любила, обоих будто под сердцем своим выносила; и казалось, бог не простит ей, если не придут они сейчас же, немедля же, к миру, к послушанию.
И довела она ребят до драки.
Только подрались они не из-за имущества, а из-за Нюрки Молчуньи.
Случилось это так. Долго возилась бабушка с посудой на кухне, мыла стаканы, да ложки, да плошки, оставшиеся немытыми еще от обеда, долго, постанывая, бродила из угла в угол и все думала, как бы ей пронять неслухов, пристыдить их, усовестить, и так и этак пробовала заговорить с ними: и разжалобить-то пыталась, и обещаниями всякими задабривала — все молчали внуки.
Обращалась к младшему:
— Помоложе ведь ты, Шуренька, тебе бы и смиренья побольше надо. Не возносись перед старшим, уваженье к нему имей, не каждое лыко в строку ставь, не на каждое слово ответ держи, в твоем возрасте и промолчать иногда не грех. Это и мать перед смертью тебе наказывала.
Но Шурка не поднимал глаз.
Тогда обращалась бабушка к старшему внуку:
— Ты — большак, ты — главный в доме, и учился, разуму тебе добавили, как же можешь ты поступать не по справедливости, обижать слабых?
Но и Павел молчал не по-доброму, не отступал, не смирялся.
Тогда бабка решила разжалобить его:
— На кого же ты меня, Пашута, покидаешь? Хоть бы умереть дал спокойно. Нюрку покинул и меня покидаешь, старую.
Павел ответил угрюмо, устало:
— Я Нюрке ничего не сулил и голову ей не морочил.
— Знал бы ты, как она тебя ждала, полагалась на тебя…
— Я ей хомут на шею не надевал! — еще мрачнее сказал Павел.
— Прибежит, бывало, то сделает, другое сделает, сама молчит, а в руках у нее так и горит все — на любую работу спорая. Ради тебя все старалась, не раз из беды нас вытягивала. Душа у нее, у девочки, добрая, жалко мне ее…
— С доброй душой всю жизнь носом землю рыть будет! — как приговор, произнес Павел.
Но бабушка, словно не слышала его возражений, продолжала расхваливать Нюрку:
— Такую девушку поискать нынче, хороший она человек. Справедливый человек, правильный!. А уж как брату твоему услужить старалась — все ради тебя. Вон рубашка на нем — это она сшила, и вышивка — ее рук дело.
Павел пристально и нелюдимо посмотрел на Шурку.
— Скоро замену нашла!..
Тогда-то и вскочил Шурка с лавки, вскочил, как выпрямился, — резкий, злой, глаза горят, кулаки круглые.
Павел отступил, испугался.
И опять, может быть, на этом бы все и кончилось и Шурка не ударил бы Павла, если бы не увидел вдруг, как тот противно побелел, струсил, но Шурка увидел это и уже не мог не ударить его, просто от одного отвращения. И он ударил его по лицу — раз, и два, и три… Бил его и приговаривал:
— У, гнида! Сирота казанская!.. Иждивенец!
Бил, пока Павел Иванович не заревел в голос.
* * *
Утром бабушка не смогла слезть с печки.
Мамыкинский дом — это две некрупные избы под одной двухскатной крышей, с общими сенями. Снаружи он походил на пятистенок. Жилой была только одна изба, вторая служила вместо кладовой. В ней семья не обитала и до войны, потому что покойный Мамыкин, отец, не успел закончить отделку стен и потолка.
Эту вторую избу и разобрали по бревнам для Павла, когда недели через две из города от потребкооперации пришел грузовик с прицепом. А чтобы крыша, потерявшая с одной стороны опору, не рухнула, подвели под нее столбы, вроде костылей. Подперли столбами и половину мезонина, которая теперь оказалась на весу. Обкорнанный, обезображенный мамыкинский дом стал напоминать инвалида на костылях; его так и прозвали: «увечный».
— Всю деревню испохабил, — говорили про мамыкинский дом, — никакой красоты из-за него не стало.
Больная бабушка Анисья тяжело переживала раздел хозяйства, и когда разламывали избу и за стеной с грохотом катились бревна по слегам и устрашающе выл грузовик, она вздрагивала и каждый раз пыталась перекреститься, но рука у нее не поднималась. Не могла она и заговорить, не могла ни на что пожаловаться — язык у нее отнялся еще в тот день, когда младший внучек колотил старшего. Лежала она на печи тихая, безропотная, смотрела на всех сверху вниз и, кто знает, может быть, даже ничего не видела, из глаз ее текли мутные печальные слезы. К ней частенько заходили соседки, приносили еду, разные сладости, приезжала фельдшерица из сельсовета, прописала лекарства, заглядывал председатель. По целым дням сидела у бабушки Нюрка Молчунья, топила печь, доила корову, ставила самовар, кормила Анисью кашей с ложечки, поила горячим чаем, пробуя предварительно то и другое, чтобы не обжечь больную. Шурка стеснялся, когда Молчунья в избе была одна, и уходил из дому.
Павел заглядывал в избу не часто, но свободно, как хозяин, выказывал бабушке всяческие знаки внимания и следил, все ли для нее делается. С Шуркой он не разговаривал, только иногда шипел в его присутствии:
— Такую бабушку загубил, каналья, такого человека с ног сбил! — И, обращаясь к ней, спрашивал: — Не хочешь ли, бабушка, покушать чего-нибудь?
Бабушка смотрела на него без всякого выражения на лице, и только мутные струйки слез текли по ее пепельно-серым морщинистым щекам.
Однажды навестил старуху и дед Нюрки, колхозный пасечник Михайло Лексеич. Он принес для нее горшочек меду — тот самый горшочек, который Анисья не раз успешно ставила на пуп самому Михайло Лексеичу. Нюрка очень смутилась, увидев деда, вскочила со стула, намереваясь убежать из избы, но дед сказал ей резко: «Сиди!» — и она осталась.
— Возьми-ка вот и угощай по чайной ложке через час-два, лучше с водой, авось еще и выживет, — приказал он. — А дармоеда, хапугу этого, не подпускай к старухе!
— Что ты, дедушка! — вспыхнула Нюрка.
— Молчи! Делай, что говорят. На то ты и Молчунья.
Бабушка умерла, когда Павел увез на машине последние бревна от избы. Михайло Лексеич взялся стругать доски, чтобы сколотить гроб, но Шурка захотел все сделать сам.
Хоронили Анисью по-хорошему, был народ, были слезы. Больше всех плакала Нюрка, она словно с молодостью своей прощалась. Простился со старухой и Прокофий Кузьмич. Не было только Павла. Он, должно быть, сразу начал перестраивать городской дом, потому и не успел приехать на похороны.
1961 Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



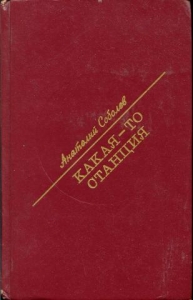
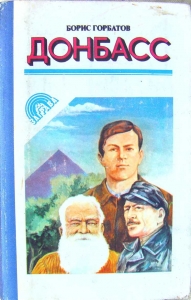


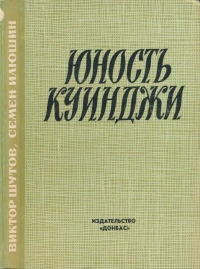


Комментарии к книге «Сирота», Александр Яковлевич Яшин
Всего 0 комментариев