Олег Слободчиков НЕЧИСТЬ
Кто говорит, что на болотах тишь да гладь, кто брешет про терпкий дух прелой травы, про сонное кваканье лягушек, тот гнилых болот не видел, обходя их дальней стороной. Кто увязал в трясине, тот знает, как хлюпает и чавкает грязь. Тому известно, что там нет тишины и покоя, но всякий день или страстный разгул, или жуткое похмелье. Кишит средь топей нечисть, лютует в ненависти ко всему пристойному, сама себя жрет ни за понюх дури, а так, по врожденной своей зависти, да по распаленной ярости.
Пока дует с запада душной гнилью городов — той нечисти отрада: забьет косяк мухомором, пожует белены, вылупит бельма и морочит друг друга кривотолками, скачет по кочкам, вопит: «Мы — вольные, для счастья рожденные, чего „захочем“ то отмочим… Как захотим так приколемся!»
Но, задует с севера, со священного, говорят, Баюкалы-моря и мается та нечисть похмельем тяжким, непоправимым. Своим иссохшим умишком понимает, что за все когда-нибудь спросится, и, чтобы не думать о расплате, ищет новых, неслыханных удовольствий. А если кто в тоске-кручине так запечалится, что начнет думать о смысле жизни, то непременно удавится или утопится, захлебнувшись болотной жижей.
Вот и мне пришел черед усомниться в общепринятых болотных ценностях. Увидел я, как клонятся вершины деревьев от северного ветра, и пакостно стало в груди: подумалось вдруг, что где-то там, внизу, за таежными увалами, накатывается на скальный берег светлая волна. «Баю-баюшки-баю» — поет, радуя все живое и светлое. В чистом небе блестит солнце, не воет гнус. А в прибранных домах милые старушки рассказывают детям сказки про добрых волшебников.
«Круто зацепило?» — потряс я дурной башкой и огляделся. После разгула маялась нечисть. Сморщенная, беззубая ведьма, родившая меня на этот поганый свет, сидела на кочке и баламутила ногами тину с таким видом, будто была занята важным делом. Моя кикимора мотала над головой длинными грудями, как заморскими нунчаками, лупоглазо косилась на меня, сексапильно вопила: «И-Я!». Кто плевал в лягушек, кто дразнил ворон — все были при деле и думали, как бы эдак раскумариться, чтобы тоску-печаль снять и войти в новое веселье, которое не прекратится никогда.
Новый порыв северного ветра зашелестел листвой поникших кустарников и чахлых берез, пахнул в лицо нездешней свежестью. Я вдохнул всей грудью иного воздуха и понял, что никакая это не свобода — плевать в небо и всем напоказ мочиться с кочки. Стало мне, вдруг, так жаль свою испоганенную весельем молодость, что я завыл от тоски лютой, беспросветной:
— Чтоб вы засохли, уроды, вместе с вашим болотом!
Запрыгала, заохала нечисть. Кто-то чего-то недопоняв, закричал, что ублюдка кондрашка хватил! Кикимора, всем напоказ, задрала ноги и натужно захохотала, думая, что у меня новый прикол. Но ведьма, знавшая меня от зачатия, уж она-то поняла все как есть и злобно завопила:
— Гляньте на этого придурка. Святости ему захотелось… Где она в наше срамное время? Внизу давно уж сточная яма вместо моря. С болот все ручьи начинаются, в них мы, с перепоя чистимся, а людишки внизу наше дерьмо пьют и чистотой похваляются…
— Чтоб тебя комары задрали! — сплюнул я, и в потеплевших ведьмачьих бельмах мелькнула надежда на мое скорое одурение. А зря. Своими воплями она напомнила мне о том, что я есть не чистопородная нечисть, но подлинный ублюдок, и если очень захочу, смогу стать человеком.
И как заметила она мою понятливую ухмылку, так завизжала пуще прежнего, недорезанной свиньей забилась в грязях, запричитала, как зачинала меня в муках с пьяным бичом, увязшим в трясине, как мучилась, людскую вонь претерпевая. И все косилась на общество. Наплевать ей было на меня с самой высокой кочки — орала, чтобы свободная от предрассудков нечисть не подумала, будто она со мной в сговоре.
Моя кикимора, шаловливо поглядывая из подмышки, закидывала грудь за спину, с вожделением хихикала, кровососы визжали, сам водяной, давясь гнилью, кашлял так, что болото булькало и чавкало. В другой раз глянул бы я на все на это, хватил бы ковш бурды, занюхал мухомором и гонял бы гусей, пока тыква не отрубится. Но северный ветер опять пахнул в лицо, да так свежо, что я еще пуще взъярился на свою поганую жизнь и стал собирать туес.
Ведьма вмиг все поняла, стала швырять в меня грязью и кричать, пуская слюни по ветру:
— Ты на морду-то на свою в лужу глянь: среди людей таких длиннющих носов отродясь не водилось!
Кикимора, вереща и размахивая грудями, подступала сбоку, целя мне в висок или по носу. У нечисти искони так: родные да близкие — самые ярые враги. Своей поганой половиной крови я понимал их: не меня осуждали — себя спасали от свободного мнения и болотных пересудов. Человечьей половиной крови мне было даже жаль их.
Новый порыв ветра пригнул травы на кочках, рябью пробежал по тухлой воде. Я прочистил на них, на орущих, свой длинный нос, распухший от чрезмерного занюхиванья и, почти как человек, не отвечая на поносные слова, зашагал к морю. Притом, отчего-то все чертыхался, спотыкаясь о коренья, пенья да о кочки.
Я знал, что родившая меня ведьма смолоду слюбилась с охотником, промышлявшим на болотах. Ни утопить его, ни удавить, как водится у нечисти, не смогла и всю дальнейшую свою жизнь сохла от неразделенной любви и лечилась болотными грязями.
Злословили на болоте, что едва я встал на ноги, она в отместку случайному муженьку продала меня залетному растлителю. И чтобы побольней досадить отцу — всюду хвастала грязной сделкой. Но мой папаша удивил все болото: вместо того чтобы запить с размахом, и даже возвышенно: со слезами, с упреками судьбе и болотной женушке, он отстрелил заморскому развратнику самый чувственный орган, забрал меня, ублюдка, без возмещения нанесенного ущерба, и подкинул своей матери. Растить младенца ему было недосуг и лень.
Старушка не в силах была воевать одна против всего болота. Ведьма отняла у нее внука, но поздно: у меня уже прорезались зубы. И сколько потом ни наговаривал гнилой сброд, что я одержим предрассудками, что в цивилизованных сторонах нынешней тьмы беспорочные твари самые презренные и бесправные, запали мне в голову отцовские матюги, будто нет на свете выродков поганей дырявых и их покровителей.
Ведьма же, глядя на мое упрямство, печалилась тоской неизбывной, и так прикидывала в уме и эдак: будет ли ей с того возврата отдача и польза — на воде мочой писано, а неудобства от зубастого ублюдка были налицо. И потому родился я, хотя и от уважаемой среди нечисти порочной связи, но при том, как водится, ни болоту, ни людям не нужен. И только мать отца — светлая старушка, жалостливо привечала меня, стараясь сделать человеком.
Я выполз из трясины на сухой, заросший деревьями берег и всем своим испоганенным нутром почувствовал, как живой и чистый лес входит в прокуренную грудь, усмиряя страсти. Давно ли меня выворачивало от ненависти к оставленному болоту и ко всем его обитателям, но вот шум ветра в высоких кронах отвлек, а пряный дух хвои успокоил. «И чего я так осерчал? — думалось беззлобно. — Пусть живут, как хотят, лишь бы мне не мешали».
Весело щебетали опрятные пташки. Зеленая трава пахла летней свежестью. Я сбросил со смердящего тела все, что мог, стал мыться и стирать одежду в ледяном роднике. Холод воды обжигал, от стужи сводило пальцы. Зато потом, отогревшись на солнце, я безмятежно лежал, глядя в далекое синее небо. Нечисти, живущей одним днем и ради удовольствий, не понять тех чувств, которые без всякой платы можно получить, глядя в небо или прислушиваясь к звукам леса. Вершины сосен вдумчиво качались в вышине. Сквозь них золотыми прядями струился небесный свет.
В траве, прямо возле моего носа, виднелись черные угольки заросшего кострища. Может быть, здесь же когда-то сидел мой отец-охотник и думал: стоит ли ему идти в болото? Как бы он ни был равнодушен к моему появлению на свет, но в отличие от прочей нечисти отец у меня был. И у него тоже был отец. Понимание связи между всеми нами и шум листвы над головой придавали какой-то странный и высокий смысл прожитому мгновению, позволял спокойно думать о прошлом и будущем — чего больше всего боится нечисть.
Здесь было хорошо, так хорошо, что и хотеться было нечему: на болоте дорого стоит такой прикол — лежи и тащись. Но все это было как-то не по-людски. У них уж если куда пошел, то надо идти до конца или возвращаться. Я с досадой подумал о том, что, не успев стать человеком, уже связан правилами, неслыханными среди нечисти. Но было надо…
Я потянулся к одежде — просохла ли? На елке кто-то защелкал клювом, запищал и заухал; посыпалась на землю старая хвоя. Затем затрещали сучья в кустарнике, ветви заходили ходуном, среди них раздались утробное рычание и зубовный скрежет. Я запустил в ту сторону камень и на полянку с воплем выскочил горбатый старик с зеленой бородой до пупка, с носом как кедровая шишка. Размахивая кривыми руками, он полез в драку, а на лбу у него набухала ссадина.
— Сквозил бы, старый, пока ветер без сучков! — цыкнул я ему под ноги. И старик поостыл, с любопытством разглядывая мой нос. Потом щелкнул языком, присвистнул, ухнул, каркнул, подмигнул и по-свойски просипел:
— С болота?
Я задрал нос и заявил, что болотом попахиваю лишь потому, что тонул в трясине, а с тех пор как спасся — жизнь веду вполне человечью. Тут старичок захихикал, дергая зеленой бороденкой, шмыгнул носом, дроздом прощелкал и предложил биться на спор, что мне нипочем не стать человеком.
— На что спорим? — взъярился я на его пакостные намеки.
— До холодов, до Ерофеева дня будешь работать у меня по лесному хозяйству за один прокорм. Я здешний лесоинспектор, — сощурился плутовато.
— Знаю-знаю, какой ты инспектор, — ухмыльнулся я, надевая просохшую одежду.
— Мы тоже с понятием, — прошамкал старичок и узловатыми пальцами стал тасовать замызганную колоду. Зазывающе кивнул на нее: — В дурака?
— В дурака так в дурака, во что другое у тебя ума не хватит! — согласился я, наблюдая за его пальцами.
— Зелен ты, конечно, так со мной говорить, ну да ладно. Уж я-то знаю, какие, они, люди — и нынешние, и давешние! Помню времена, когда возле деревни церковь стояла. Ваши-то доски да кирпичи растащили, а колокол в земле зарыт… Опять же, кто знает где? Деда Леша знает! Так-то вот… А повесить тот колокол на елку, — подмигнул старик, весело разглядывая мой нос, — да ударить… Ой чего будет на болоте-то… Козыри — пики, — бросил на траву черного валета, сверху пристроил колоду.
— А если ты проиграешь? — спросил я, поглядывая на зеленую бороду.
— До другого лета не замечу, как браконьеришь! — Он опять подмигнул, и осторожно погладил красную шишку на лбу. — А где, глядишь, и помогу мясца добыть, ягодки насобирать: ваше дело человечье, хи-хи, без того не прожить… Ты хоть знаешь, что человек должен, чего не должен? — хмыкнул в замшелую бороду, выпучил глаз и помахал крючковатым пальцем возле моего носа. Затем, перейдя на вороний голос, прокаркал: — Целый месяц — день в день.
— Ягодки я и сам насобираю… Проиграешь — укажешь, где колокол! Лады?
— Ладушки, ладушки, — проворковал старик. — Колокол так колокол. В нашем лесниковском деле это еще как посмотреть, кто зловредней: нечисть ли болотная или людишки с побережья. Нечисть, она что? — ворчал, хихикая и перебирал карты в руке. — Последний умишко пропьет и станет безвредней живности лесной. Какой вред от дурака? Прежде чем бутылку в реку бросить, ее сделать надо. А? Чтоб вы передохли с вашими бутылками да пакетами… Шестерка крестей!
— А мы ее десяткой!
— А по червям — слабо?
— Козырная!
— Ладно! Бито, — старик взял две карты из колоды и пока рассматривал их, я тайком вытянул свою сброшенную козырную и сунул ее в рукав. Но едва скосил глаза на колоду — козырь под ней из валета превратился в шестерку. Я хвать стариковскую взятку:
— Что дуришь, пень замшелый?
— Старик, подпрыгнув, заверещал потревоженной птицей, выхватил у меня из рукава краденый козырь, хлестнул им по носу, да так больно, что у меня из глаз брызнули слезы. Тут бы я и выдрал ему бороденку, но он радостно завопил:
— Ага! Люди старших почитают и болотной злобы не выказывают…
Скрежеща зубами, я смирил гордыню, сел и оскалился, изображая на лице улыбку.
— Условие есть, — сказал старику вежливо. — Без него продолжать игру не согласный. Одной рукой играем, другой за ухо держимся: так-то надежней!
— Ладушки! — согласился старик, посмотрел на карты и взялся за ухо.
Мы начали новую игру. Он обдул меня, да так, как ни разу не обыгрывали на болоте. И долго потом катался по траве, дрыгая ногами и щелкая языком, как клювом. А я терпел по-человечьи: сопел и лупал глазами, не смея даже выругаться.
Мы ударили по рукам, и я пошел в деревню. Невидимый, он следовал за мной, подставлял под ноги корни и сучки, то и дело вешал на нос паутину. Я запинался, сбрасывал с лица пауков, оборачивался, не имея сил улыбаться, совал за губы пальцы и растягивал их до ушей, чтоб видел леший, нет во мне ни злобы болотной, ни ненависти. Вот под ногами стала угадываться давно нехоженая тропа.
И завиднелись тесовые крыши среди деревьев, ярче засияло солнце, указывая на близость воды, стал резче и свежей воздух. А если прислушаться, то можно было уловить среди шума листвы песнь набегающей на берег волны: полузабытую музыку детских снов, увиденных мной в этой самой деревушке.
Я вышел из леса и от изумления повис на ветвях последней березы с ободранной корой, с черным, потрескавшимся и задубевшим стволом. Деревня больше чем наполовину опустела и обветшала. Там, где были узкие ухоженные улочки — привольно разрослась крапива, где когда-то стояли крепкие дома — зеленели поросли кустарника.
Всего семь рубленых домов осталось возле устья таежной речки, впадающей в море. Один из них был брошен хозяевами и догнивал на лиственных колодах, обиженно раскрыв раскосые дыры ставень, другой, знакомый мне с малолетства, но какой-то жалкий и осунувшийся, подслеповато щурился запыленными стеклами. Дверь была подперта ржавой лопатой. Сквозь щели омытого дождями крыльца буйно лезла неистребимая крапива. К стенам подбирался зеленый молодой кустарник.
Я вышел из леса, и лес, цепляясь ветвями, травой и запахами, неохотно отпустил меня. Отбросив лопату, вытаптывая крапиву болотными сапогами, я открыл дверь и переступил порог. В лицо пахнуло сыростью и нежитью. Сквозь окна сочился унылый свет. Как много лет назад в углу висел почерневший образок. У стены стояла застеленная одеялом кровать, а на печи — чугунки. При всей скромности жилья, в доме было все, что нужно для человеческой жизни. Не было только людей.
За печкой зашуршала береста. Отряхиваясь и зевая, оттуда вылез исхудавший мордастый кот, уставился на меня круглыми, немигающими глазами и замер как причудливый пенек в лесу. Затем кончик его хвоста дрогнул, косолапя и мотая головой как конь, он подошел к моим ногам, задрал хвост, стал тереться о сношенный сапог в зеленом соке лесной травы.
Я раскрыл дверцу печки. Запах давно выстывшей золы защипал глаза. Кот, не ко времени и не к месту запел, было, песню о кошачьей жизни, но быстро осекся, зевнул и муркнул в усы: «Давно один!»
Я бросил на слежавшуюся золу бересту и щепки, почиркал отсыревшими спичками и поджег растопку. Сладкий дымок потянулся к почерневшему потолку. Печь долго чадила, прежде чем пламя заплясало в топке. Дом стал наполняться дымом и теплом. И тут я заметил, что кота рядом нет, а его серый хвост торчит из моего туеска.
Я лег на койку, наслаждаясь покоем и одиночеством людской жизни, лениво размышляя о том, где гостюет моя бабка. Кот, убедившись, что в туеске ничего стоящего нет, вылез из него, клацая когтями по выщербленным плахам пола, подошел к кровати, запрыгнул мне на грудь, свернулся клубком и запел песенку о привольной кошачьей жизни на самом берегу Баюкалы-моря, где вдоволь рыбы, мышей и птичьих гнезд.
Под его тихую песню я задремал, а когда открыл глаза — возле печки стояла сухонькая старушка и с любопытством разглядывала меня.
— Думала, туристы балуют, дрова жгут, — сказала, настороженно улыбнувшись одними глазами. Шмыгнула в угол, забралась на высокий сундук, окованный жестью, и, болтая ногами в сползавших чулках, спросила:
— А ты, чей будешь, не Марфин ли пропащий внук?
— Марфин! — сдержанно просипел я отвыкшим от человечьей речи голосом. На болоте все кричали друг на друга по поводу, и просто так, для куража и поддержки надлежащей злости. Я сбросил с груди кота и тоже сел. — Где она?
— А за речкой! — старушка мотнула головой в сторону и заколотила пятками по ржавой жести сундука.
— Давно? — спросил я, зевая.
— Скоро год!
Я подошел к печке, распахнул прогоревшую топку и стал ворошить угли кочергой, раздумывая, что так долго можно делать за речкой и как бы спросить об этом: чинно, несуетно, достойно.
— У нее там зимовье?
— Могила! — сказала старушка, опасливо метнув взгляд на почерневший образок в углу: — Устала жить и померла… По-людски: непостыдно и безболезненно, на этой самой кровати, — добавила смущенно.
— А где папаша? — спросил я, еще не успев опечалиться и понять, что бабку уже не увижу.
— После поминок запил и пропал. Если в тайгу ушел, то выйдет — и дольше, бывало, шлялся.
От досады я чуть не плюнул в топку. Старушка по-своему истолковала мое расстройство и чаще застучала пятками по сундуку.
— Ничо, перезимуешь! Изба теплая. Если надо что поправить — Домовой поможет.
— Кто такой? — спросил я, услышав странное имя.
— А пришлый… Тут теперь все пришлые, только Хромой здешний, да я молодухой приехала. А Домовой — работящий мужик: все в дом тащит, все строит. Хозяйство заводит. С бабами ему не везет: на днях опять разводился. Крику было — на всю падь… Ой-ой! — старушка спрыгнула с сундука и заметалась возле двери: — Накликали!
Дверь распахнулась, в проеме объявился молодой мужик с тонким, красным и влажным, как у кикимор, носом. Не переступив порог, он хмуро зыркнул по углам, Старушка, не решаясь протиснуться в заслоненную им дверь, накинулась на него с беспомощным отчаянием наседки, защищающей своих цыплят.
— Это наш, местный, пропавший Марфин внук!
Мужик поднял чуть подобревшие глаза, поводил по сторонам длинноватым, хоть и не таким как у меня, носом, пробормотал:
— Вижу, не турист! — наконец перешагнул порог.
Старушка на одной ноге скакнула через половицу, обрадовалась, что не наступила на щель, прыгнула через другую и шмыгнула в дверь, на крыльцо, с крыльца — в крапиву там и пропала с глаз. Кот азартно нацелился на зашевелившуюся траву. Прижимаясь к полу, просеменил следом и скакнул за порог.
Мужик присел на корточки у стены. Стал сворачивать самокрутку желтыми от табака пальцами:
— Третьего дня туристов едва отогнал, — проворчал, разминая окурок в обрывок газеты. — На дрова хотели Марфин дом растащить. — Он чиркнул спичкой, глубоко затянулся, выпустил из ноздрей кабаньи клыки дымных струй: — Уж лучше я сам его разберу да баньку из венцов поставлю…
Он еще больше подобрел и просипел, давясь никотинной горечью:
— Живи! Хозяйничай, туристов гоняй… Пакостят, хуже мышей… Глядишь, и оживет еще деревенька. Нам бы путевых баб найти, настрогать по десятку помощников и — плевать на хитромудрую власть плюс капитализацию всей страны… Лишь бы телевизор работал. — Он взглянул в оконце, вытянув шею, привстал с корточек, поморщился: — Ведмениха идет на твой дымок. Святой человек: корову держит, всей деревне молоко в долг дает.
— Отчего ее так зовут? — насторожился я, будто получил привет с болота.
— Прозвище, — пожал плечами Домовой. — Муж ее здешний, Ведменев, а имя ее — не выговоришь: то ли Каринтисса, то ли Мамбеттиса. Меня тоже, по документам-то, Домном зовут. С чего и зачем так назвали — разберись теперь. Путние-то люди редко из городов в деревни возвращаются: приносит хрен всяких, — он по-свойски подмигнул, чем нимало меня озадачил.
В дом степенно вошла полнеющая женщина на исходе среднего возраста. Ее пышный, упругий зад обтягивали тонкие штаны, тяжелые и круглые груди катались по выпуклому животу под яркой майкой с заморскими знаками, за впалыми губами беззубого рта виднелся желтый прокуренный клык.
За женщиной по пятам следовал пес. Уродливей твари я не видел. Казалось, он собрал в себе все собачьи и лесные крови: короткие кривые лапы, длинное, змеиное туловище, большую обезьянью голову и огромный пушистый хвост, который торчал как поставленная на черенок метла. «Чтоб мне сивухой подавиться, — подумал я, — если все болотные шишиги не походят на эту бабенку, как родные сестры».
Но стоило Ведменихе улыбнуться, и я засомневался, стоило ей заговорить — я стал протирать глаза: не иначе как мороком залепило их. Передо мной была улыбчивая и ласковая женщина, с приятным голосом и с манерами, каких я на своем веку не видывал.
— Как славно, что вы к нам приехали! Еще один дом теперь не будет пустовать! — заворковала она, излучая глазами свет. — Старушки милей и добрей вашей бабушки я не встречала и до сих пор в печали об утрате, — смахнула слезинку с глаз, всхлипнула и снова просияла. — Принесу баночку молока на новоселье…
Ее пес порога не переступал. Он враждебно поглядывал на меня и тайком от хозяйки показывал гнилые зубы. Очарованный гостьей, я не знал, как себя вести: грозно ли сопеть, поглядывая хмуро и надменно, громко ли ругаться, показывая какой я удалец? То и другое было в обычае на болотах, но никак не подходило для деревни. От этого своего незнания я обильно потел и вытирал длиннющий нос сухим кулаком. Вместо ответа на приятные слова схватил кочергу, стал шуровать в выстывшей печи. Увидев ее в моих руках, уродливый пес с визгом отскочил от крыльца. Ласковая женщина, опасливо косясь, неспешно ушла. Затушив плевком окурок, шагнул следом за ней и Домовой.
Я вышел на крыльцо с радостью в груди и с желанием начать новую жизнь. Первым делом порубил лопатой всю крапиву возле дома. Когда она полегла, как нечисть после шабаша, — решил идти к морю. Оно давно призывало меня своим тихим рокотом. Я чувствовал его зов, его запахи, вдыхал его свежесть, подкатывавшуюся к самому лесу, слышал плеск волн. По-людски надо было сходить за речку, но дольше уклоняться от встречи с морем не было сил. Я решил, что бабка уже никуда не уйдет, и направился через всю деревушку к большой и чистой воде.
На левом берегу таежной речки, впадавшей в море, к скальному склону заросшей лесом горы прилепились дома, изгороди и сараи. Я помнил иные времена и совсем другую деревню — тесную и многолюдную, помнил простых, добрых и улыбчивых жителей, коров в каждом дворе, важных гусей, выщипывающих зелень у заборов, игривых коз, поющих петухов, лохматых собак. Все они жили дружно, разумно и слаженно. Люди по праздникам накрывали столы, собирались вместе и до ночи пели песни.
На правом берегу речки никто никогда не селился: здесь, на краю леса, было только кладбище. Между деревенькой и морем, по самому берегу, тянулась высокая насыпь с рельсами железной дороги, проложенной сто лет назад предками моей бабы Марфы. Вдоль полотна стояли черные покосившиеся кресты столбов с обвисшими проводами.
Я поднялся на насыпь — прохладный ветер пахнул в лицо родниковой свежестью. Синяя морская даль сливалась с голубизной неба и где-то там, на краю видимого, исчезала призрачной дымкой. Чуть шумела волна, накатываясь на берег, шелестел листвой лес. Мне показалось вдруг, что вода, воздух, море и небо — все едино. Что каплей влаги или дуновением ветерка я скатился с болот, выскользнул из таежной пади и взлетел над скальными глубинами морского дна.
Море было еще прекрасней, чем представлялось мне туманными утрами на болотах. Но долго любоваться им мне не дали. Возле самой воды, где на камнях догнивал остов большой лодки, суетливо бегал лысый старик с облупившимся носом, похожим на прокисший помидор, и кричал потревоженной птицей:
— … Стукач! Предатель! — он грозно блестел молодыми, в цвет моря, глазами и хлестал себя по лысине узловатыми пальцами.
Недалеко от берега волна покачивала легкую лодчонку. В ней сидел рыбак, к которому обращались крики, и невозмутимо выбирал сеть. Выпутав из ячеек рыбину, он сладострастно бил ее головой о борт и швырял под ноги. При каждом таком ударе бегавшего по берегу старика встряхивало и корчило, он хватался за голову, снова кричал пронзительным голосом:
— Душегуб…
Я спустился с насыпи, склонился над волной, плеснул чистой водой в изъеденное болотным гнусом лицо и сел на камни. Вопли старика злили меня. Я терпел их, сколько было сил, а когда стало невмочь, плюнул под ноги и, растянув губы в улыбке, спросил:
— Чего орешь-то?
Старик обернулся, радостно подбежал ко мне:
— Глянь чо делат кровосос болотный? Кажну рыбину истязат! Будь свидетель — Бог, он все видит!
Спохватившись, старик взглянул на меня пристальней:
— А ты откуль взялся? Турист, чо ли? Может, у тебя и выпить чего есть? Заходи, гостем будешь. Я — Джон. Меня-то весь берег знат. А тот, — кивнул на рыбака, — перекати-поле с чужой стороны. Нанялся лесником и браконьерит.
Я взглянул на старика, выпучив сперва один глаз, потом другой. Тот покосился на мой нос. Я задрал его и сказал степенно:
— Я — Марфин внук!
— Покойной? — глаза старика лукаво блеснули. — Тогда и вовсе никак нельзя не выпить: помянуть и побрызгать… Я тебе рыбы дам, ты снеси к старухе и на водку поменяй. У ней в погребе цельный яшшик.
Встреча с морем была испорчена. Волна как волна плескалась у ног, синь как синь застилала горизонт. Отгоняя льнущий соблазн пьянства, по случаю возвращения и вочеловечивания, я еще раз взглянул на волну и пошел на другой берег речки. Старик подозрительно смотрел мне вслед и все чего-то ждал.
От кладбища первостроителей остались едва приметные холмики, заросшие березами и обложенные тесаным камнем. Когда-то, в другом веке, мои прадеды, вдохновленные высокими мечтами и научными идеями, строили железную дорогу, мосты и тоннели к самому живописному из заливов святого моря, чтобы возвести город в таком месте, где святости искать не надо — где она вокруг и во всем. Они жили для счастья других поколений, отказывали себе в житейских радостях и удовольствиях, терпели нужду во имя высокой цели: удобных домов себе не строили, погибших и умерших хоронили наспех, как после боя, надеясь вернуться в лучшие времена и поставить памятник каждому павшему на подступах к городу счастья. Но не вернулись.
Нынешнее кладбище было заведено по обряду новому, то есть совсем без обряда: с хвастливым намеком на свободу выбора. Всякий покойник лежал головой туда, куда надумали положить его хоронившие. А лежали здесь по большей части удавленники и утопленники: должно быть, подельники нечисти, которым чинная кончина не положена по душепродажному уговору. В одни могилы был вбит кол с бесовской звездой, из других торчал тесаный камень с личиной покойного, таращившей на прохожих скучающие глаза. И только за кустом черемухи виднелся высокий, еще не почерневший от времени, кедровый крест, распахнувший крылья навстречу восходящему солнцу. Я шел к нему и вспоминал старушку, жалевшую меня, больше, чем собственного сына.
Чьи-то добрые, заботливые руки поставили на ее могиле шестикрылый крест, так ненавидимый нечистью, что у меня вздыбились волосы, едва я приблизился к нему. Чьи-то зловредные руки уже криво подпилили одно из крыл. Но в самой сердцевине креста, в вырезанном углублении, еще не украдена была иконка, смотревшая на меня кроткими и волевыми глазами праведницы.
Я примял носком сапога траву, нашел ржавую ножовку. «Ведьмачит кто-то!»- подумал и зашвырнул ее в кусты; обернулся к могиле, лихорадочно соображая, пристойно ли покойной старушке сказать «здравствуй»?
— Ну вот, баба Марфа, я к тебе пришел, — пробормотал, прикоснувшись ко кресту пальцами и тут же отдернул руку — электрический разряд десятком кабаньих щетинок впился в мою нечистую кровь.
Порыв ветра прокатился по вершинам деревьев, зашелестел листвой. Любопытная пичужка села на крест и уставилась на меня бусинками глаз — качнулась ветвь черемухи. Наверное, душа доброй старушки кружила рядом, пытаясь что-то объяснить и наставить. Я не мог слышать ее, но чувствовал, что в далеком малолетстве она успела сказать мне все, что нужно для людской жизни. Оставалось только напрячь отупевшие от дури мозги и вспомнить. Пташка дернула хвостиком, чирикнула. Перед глазами встала побеленная печь в уютном когда-то доме, сильное плечо бабушки, сидящей у топки с кочергой в руке. Я вспомнил, как она, обернувшись раскрасневшимся от жара лицом, сказала: «Дух сильнее крови: кто очень хочет, тот всегда станет и победит!»
По-людски поклонившись кресту, я перебрел речку и вернулся к дому. На крыльце стояла кринка, покрытая чистым блюдцем. Рядом по-хозяйски сидел кот и не зря: из-за угла нежилого дома выглядывал волк. Я уважал этого зверя, сторонящегося и людей, и нечисти, гордо живущего на свой манер. Тихонько укнул, приветствуя таежного гостя. Кот сорвался с места и сиганул на крышу дома. Тот, кого я принял за волка, упал на брюхо, обмочился и бросился к морю. Из-под моего крыльца выскочил облезлый пес с настороженными глазами, и, поджимая хвост так, что спина его выгибалась колесом, помчался в лес.
Довольный устроенным переполохом, я взял кринку и вошел в дом. Кот, боязливо озираясь и цепляясь когтями за дверной косяк, спустился на крыльцо, шмыгнул за печь. Но едва молочный дух растекся по комнате, усы его затрепетали, задергались и он, потеряв всякое достоинство, заорал. Возмущенный таким напором, я пришел было в ярость, как это принято на болотах. Но, вспомнив уговор с лешим, без ненависти схватил кота за шкирку и ловко пнул под зад. Он вылетел точно в дверь, приземлившись в крапиве, все понял: смиренно вернулся в дом, пристойно сел возле печки и, не мигая, стал буравить меня взглядом, взывая к чувствам сострадания и раскаяния. Я поворчал для оправдания своей вспыльчивости и налил ему молока в консервную банку.
Топорща упругие усы, кот неторопливо вылакал молоко, потянулся, зевнул, желая вздремнуть. Я стал выметать мусор к порогу. Пыль поднялась до потолка. Кот лежал на кровати, щурился, чихал и всем своим видом показывал, что достойно претерпевает жизненные невзгоды.
Обмахивая паутину с потолка, я протер засиженную мухами электрическую лампочку, которая когда-то, освещала дом темными вечерами. Наконец, добрался до иконы, почерневшей от многолетнего служения, от дыма и копоти жилья. Потянулся к ней с мокрой тряпкой, но едва коснулся — меня так тряхнуло, будто пальцы сунулись в розетку в те времена, когда в деревне еще было электричество.
Я пришел в себя, сидя на старом, стертом, тесовом полу. Струились солнечные лучи, вливаясь в дом сквозь промытые окна. В них неспешно кружились пылинки. Печаль оседала под сердцем: не так-то просто быть человеком, даже если им родился. Стать и того трудней. Я должен быть терпелив, спокоен и добродушен, я должен платить добром за добро, не мстить близким, не водиться со злом и плохо о людях не думать. Я должен первым приветствовать старших и вовремя отдавать долги, о чем часто забывал мой папаша — прямой и чистокровный потомок первостроителей.
Я чихнул. Стало легче. Из окна виднелась железнодорожная насыпь. Возле нее знакомая старушка колола толстые чурки преогромным топором. При каждом ударе она отрывалась от земли на пару вершков и забавно болтала в воздухе ногами. Лысый старик со скучающим видом сидел на лавке и наблюдал, как ее мотает на топорище. Его брови были опущены до самых щек, прикрывая печальные глаза. Возле него лежал пес, издали походивший на волка.
Я закончил приборку. Кот повеселел, вальяжно вытянулся, шаловливо запустил в одеяло когти и запел о том, как хорошо быть котом и жить на берегу моря. Пел он одно и то же, все время повторяясь, но сопровождая каждый куплет новым мурканьем, мяканьем или хрюканьем: и песне его не предвиделось конца. Я встал и отправился для первого достойного поступка.
Старик, не поворачивая ко мне головы, задрал одну из обвисших бровей едва ли не на середину лысины и приглушенно пробормотал:
— Ты старой дрова-то не коли… Ну ее.
Я удивленно взглянул на него. Пес, возле ног старика, услужливо вильнул куцым обрубком хвоста.
— Если делать нече — у меня вон их сколь! — старик указал красным носом за забор, где кучей лежали сухостой и хворост.
— Путние люди в первую очередь помогают старушкам! — сказал я важно и прошел мимо.
— Ну-ка, бабуля!.. — подхватил чурку с застрявшим в ней топором, которую она силилась бросить через плечо.
Старушка смущенно постояла рядом с обвисшими руками, мучаясь бездельем, убежала в дом. Едва я расколол последнюю чурку и сложил поленницу, она выскочила из двери с миской белых яиц. Старик печально взглянул на миску, повел глазами на старушку, и заканючил, безнадежно закатывая глаза:
— Дай, а? Дай, а? Дай, а?…
Старушка схватила березовую метлу, яростно заелозила по сухой земле, делая вид, что не слышит соседа.
— Ну, дай? — громче и злей крикнул старик. — Знаю, у тебя в подполе цельный яшшик!
Старушка юлой провернулась на месте, замахнулась на старика метлой и разразилась такой бранью, что куцый пес смущенно поджал уши. Старик в задумчивости почесал нос, посчитал ворон на покосившихся столбах с обвисшими проводами и, удержавшись от скандального ответа, заканючил прежнее:
— Дай, а?..
Из-за горы показалась толпа туристов. Мелкими шажками они семенили по шпалам. За плечами у них висели преогромные мешки. Свежий ветер раздувал паруса просторных заморских трусов, загибал длинные, как утиные клювы, козырьки кепок. Швыряя по сторонам окурки и пустые бутылки, пересыпая городскую речь болотной бранью и заморским поросячьим визгом, горожане остановились на каменном мосту по-над речкой.
Старик высморкался в кулак, сорвался с лавки и помчался к насыпи, издали кланяясь гостям в пояс. Пес печальными глазами посмотрел ему вслед, поднялся и, поджав хвост, засеменил к лесу.
На путейских шпалах старик уже пел песни, декламировал стихи и сыпал зазубренными смолоду шутками. Туристы сдержанно посмеивались, наливали ему в кружку. Старый совал в зелье пальцы рук и ног, экономно брызгал по сторонам, бормотал несусветную тарабарщину, выпивал, крякал и приговаривал:
— Одну пьем, другой запивам, промеж стаканов не закусывам!
С каждой новой добавкой он оживал и вдохновлялся, шел по шпалам вприсядь с притопом, задорно выкрикивал: «Не в складушки, не в ладушки… Полна гузка огурцов…»
Мужик, проверявший сети, с рыбьим хвостом в зубах крадучись высматривал этот концерт из двери своего дома. Ведмениха на крыльце громко всхлипывала, по пылавшим от стыда щекам катились крупные слезы.
— Позор полустанку!
Вдруг глаза ее лукаво блеснули. Она по-свойски кивнула мне и язвительно прошипела: — Он с водяным водится, от того и пьет без меры. И не Джон вовсе, а Петька!.. Разве ж это деревня? — опять слезно заголосила, заламывая руки. Затем, выразительно взглянув на мой нос, прошептала: — А старушка-то… Праведница… И не старуха она вовсе — девка! Прикидывается старой… С водяным балует, с молодым туристом жила, говорила, что квартирант. Ей только попадись — завлечет, защекочет: муж утонул, племянник — следом, и все концы в воду… Ох, зря вы ей помогаете.
Я молчал бы и дольше, твердя про себя людские правила, растягивая в улыбке рот до ушей. Всяких бредней о море, искони приводившим в бешенство нечисть, я наслушался на болотах. Защищая старушку, мне пришлось возразить:
— Какая нечисть в море, если оно святое!
Бабенка вытаращила на меня вполне человечьи глаза, осмотрела с ног до головы и вдруг затряслась от беззвучного смеха:
— Да вы присмотритесь, из моря воды никто не пьет! Лесник пойманную рыбу и ту в речке моет. — Она перестала хихикать, рот ее опять покривился, на глазах выступили слезы: — Только один человек и есть в этом проклятущем месте!
По насыпи вдоль берега шел хромой мужичок с костылем. Правая половина его тела висла пустым рукавом. При каждом шаге он низко сгибался и вполголоса пел какую-то старинную песню. Невидящим равнодушным взглядом скользнул по толпе, по лысому старику и прошел мимо, щурясь солнцу, вдыхая грудью свежий ветерок. За ним по пятам важно следовал урод с пышным хвостом.
Глядя на него, Ведмениха так искренне вытирала слезы, что я устыдился нехороших домыслов, вздохнул и отвел глаза от ее груди, колыхавшейся под майкой с заморскими знаками.
— Не наколоть ли вам дров? — предложил, слегка куражась собственным благородством.
На закат катилось солнце, там устало пламенело тихое, гладкое море. А у таежной деревушки прозрачная волна набегала на берег, нашептывая простую и древнюю песню: «Баю-баюшки-баю!»
Казалось, даже птички на ветвях деревьев стали позевывать, чирикая о предстоящей ночи. Нерастраченное тепло дня скатывалось с горных вершин. Шелестели листвой деревья. Туристы развели костры среди черных берез с ободранной корой. Сидя на заостренной верхушке черного столба, устало каркала ворона. Старик, отвалившись от недопитой фляги, как клещ от шкуры, лежал возле насыпи, вполне довольный прожитым днем. Он храпел и подергивал бледнеющим носом.
Вскоре стемнело. Я вышел на берег, лег на теплый песок. Всей нечисти на радость всходила полная луна. Светлая дорожка бежала к ней по воде. На черной, блестящей глади плескалась и фыркала нерпа, то удаляясь, то приближаясь к берегу. Я затаился, не сводя с нее глаз, и вскоре стал различать почти человечью голову. Возле скал, отшлифованных прибоем, нерпа выбралась на берег и, встав в полный рост, оказалось девкой, ростом и фигурой похожей на знакомую старушку. Она осторожно шлепала босыми ногами по камням и отжимая длинные волосы. От нее пахнуло свежестью воды, едким духом табака и водки.
«Туристка!» — подумал я, удобней вытягиваясь на песке, глядя на мерцавшие звезды. Пловчиха поднялась на насыпь. Из-за куста высунулся пес с хвостом, торчавшим из-под челюсти козлиной бородой, опасливо заскулил и убежал в деревню.
Поплелся и я к своему дому. На крыльце сидел куцый кобель, которого я принял, было, за волка. Он смотрел на меня преданными собачьими глазами и предлагал послужить. Известное дело, у собаки нет своей души — только хозяйская. Я обвел пальцем вокруг шеи — от такого жеста всякая нечисть впадает в неистовство. Пес вильнул куцым хвостом и ничего не понял. «Дуррак!» — подумал я о старике. Пошарил за печкой, где приметил днем замшелый сухарь. Отломил половину и бросил за дверь. Пес мигом сгрыз его и по-свойски разлегся на крыльце.
Кот все так же валялся на кровати, будто проспал весь вечер. Я зажег керосиновую лампу. На столе осела пыль, а на ней видны были следы его лап. Кот потянулся, зевнул, спрыгнул с кровати и промурлыкал: «Не осталось ли молочка в кринке!?»
Я метнул на него рассерженный взгляд и понял, что даже в удавке он будет клясться, будто на стол не лазил и кринку не нюхал. Я взял себя в руки, вздохнул, налил ему молока в жестяную банку, себе — в стакан. Кот резво вылизал свой пай, опять потянулся, раздумывая, не сходить ли на прогулку? Но прислушался к шуму ветра и решил остаться дома. Меня тоже разморило и клонило ко сну. Я поставил недопитый стакан повыше, где кот не мог его достать, лег на койку, на которой когда-то, под тем же одеялом, слушал бабушкины сказки. Кот устроился у меня в ногах, разгладил шерстку на брюхе, почесал за ухом и запел песенку о том, как хороша кошачья жизнь, если в доме есть молоко.
Был прожит день. Я ничего не понял в деревенской жизни. Ну и ладно! Еще двадцать девять дней такого же усердного терпения и мой проигрыш лешему обернется выигрышем.
Ветер потренькивал досками прогнившей кровли, шелестел ветками рябины под окном. За печкой скреблись мыши, разыскивая пропавший сухарь. Они отвлекали меня от светлых мыслей. Я лягнул развалившегося кота, спроваживая его на работу. Он умолк, поднял голову, повел ушами, но вместо того, чтобы заняться главным кошачьим делом, сладко зевнул и опять запел.
Эдакого нахальства моя болотная кровь не стерпела. Пришлось взять кота за шкирку и посадить у печки. Прикинуться ничего не понимающим он не смог: в дровах опять зашебаршила неосторожная мышь. Кот вытянул хвост, подобрался, долго вихлял задом, переступал с лапы на лапу, — прыгнул… Неудачно. Это его ничуть не огорчило. Он потянулся, муркнул, поучая меня: мол, так вот и действуй, почесал за ухом и вернулся на койку.
Кот был бесполезный как крапива возле дома. Но зачем-то баба Марфа кормила его? «И мне так надо!» — подумал я, с тем и уснул. И снились мне светлая вода, волки с собачьими глазами. Все по-людски! На болотах приснится сухой кол или замшелый пень — и те в радость. Всякую ночь — не кошмар так шугалово.
Рассвет был тих и ясен. На рябине за окном скакала пичужка, подергивала хвостиком и весело чирикала. Кот сидел на подоконнике и смотрел на нее с таким видом, будто хотел удавиться от кручины. Стучал топор и визжала пила. Домовой был занят делом. Я потянулся, встал под иконой, желая, как бабуля, наложить на себя крест с утра, но едва коснулся щепотью лба, по нему будто дубиной огрели.
Не принимал дом ублюдка. Растирая пухнущую шишку, я поплелся к речке умываться. Пес вскочил с крыльца, вильнул куцым хвостом и ткнул носом в дырявую миску, намекая, что пора бы заплатить за службу.
— Мы так не договаривались! — огрызнулся я и увидел старушку. Без рукавиц, голыми руками она дергала жгучую крапиву и набивала ее во вздувшийся куль. Глаза соседки светились ясностью приморского утра.
Ночным мороком вспомнилась вчерашняя девка, вышедшая из воды.
— Бабуля, закурить не будет? — спросил я вместо приветствия и по ее глазам понял, что та отродясь дурью да зельем не баловалась, а на болотах не бывала. Радостней стало на душе. Я поводил носом, разглядывая синь неба над лесом и над морем, пробормотал, оправдываясь: — В смысле, спички… Печку разжечь нечем.
Предвкушая, как выпью на завтрак почти полный стакан молока с желтым слоем всплывших за ночь сливок, я поплескал водой в лицо. Речка пахла прогорклой прошлогодней листвой, сырой землей и рыбой. Я вернулся в дом. Дух ночлега выстывал в жилой комнате. Стакан с молоком на высокой полке был ополовинен. От такой неожиданности мне захотелось самого себя треснуть по лбу, чтобы вспомнить, когда это я успел приложился к нему. Но в памяти был только черный провал ночи.
Смутное подозрение заставило меня присмотреться к коту. Я поднял на свет стакан и увидел прилипшие к стеклу шерстинки. Вот оно что! — поставил молоко на пол, жестом приглашая кота дозавтракать. Он повел глазами в сторону, вздохнул, и снова увлекся птичкой за окном.
— Тебе вдруг есть расхотелось? — съехидничал я и схватил его за шкирку. — А все-таки попробуй, — сунул стакан ему под нос, стараясь при этом говорить спокойно. — Что, толстая морда глубже не влезла?
Кот прижал уши, смиренно ожидая пинка. Тронутый раскаяньем и покорностью, я просто вышвырнул его за порог. Он вылез из крапивы, отряхнулся и неторопливо засеменил к лесу. Бросив псу обещанную половинку сухаря, выпив остатки молока, я стал думать, как дальше жить: копать огород, ловить рыбу и промышлять зверя, собирать ли грибы да ягоды… Желаешь жить по-людски — корми себя сам, — таков закон, нечистью неприемлемый.
Для начала я обшарил весь дом, судя по всему, не раз до меня обысканный. Но я помнил кое-какие тайники и нашел старенькое отцовское ружье с запасом позеленевших патронов, удочку и топор. Лопата валялась рядом с крыльцом. Все, что нужно для жизни, было. Но огородничают загодя, в расчете на будущий урожай, а на охоту голодными не ходят.
Я поправил мушки на леске и отправился на рыбалку, к морю. Кот сообразил, как прекрасно может начаться день, если он пойдет за мной, простив обиды. Скачками спустился с горы, на которую начал было взбираться, присматривая птичьи гнезда и мышиные свадьбы.
Из-за высокого забора усадьбы Домового слышались надсадный рык хозяина и его брань. Помочь ему я не мог, поскольку крепкие тесовые ворота были заперты. Лысый старик сидел на крыльце своего дома и икал, содрогаясь всем телом. У ног его стояло ведро, больше чем на половину наполненное спиртом. Кот брезгливо пошевелил усами, попятился и обошел пьяного стороной. Старик поднял болтавшуюся голову, посмотрел на меня мутным взглядом и спросил:
— Выпить хочешь?
— Нет! — ответил я, сглотнув подступающий к горлу ком.
— Хорошо тебе, — опять икнул старик, мотнувшись всем телом. — А мне вон сколько дали… Пью, пью, а оно не кончается, — всхлипнул с тоской.
— Вылей, — посоветовал я и сладострастно втянул в себя запах спирта.
— Не могу! — старик уронил голову на грудь и заплакал.
— Тогда пригласи гостей — помогут!
— Ага! — он взглянул на меня с опаской и ухмыльнулся: — Еще чего…
Я пошел было мимо.
— Рыбы мне принеси. Исть охота! — попросил он, содрогаясь от икоты.
Из-за забора, буйно обросшего крапивой, высунулась шустрая старушка:
— Все одно пропьет! — вскрикнула, размахивая узким, сточенным, как нарождающийся месяц, серпом: — Снесет туристам и обменяет на водку.
Старик дернул головой, хотел что-то ответить, но сил не хватило, и он закашлял, захлебываясь и пуская пузыри из красного распухшего носа.
На крыльце другой избы стояла Ведмениха и делала мне какие-то знаки. Я пожал плечами, подошел к ее калитке, прислонил к забору удилище. Она настороженно оглянулась. Я тоже осмотрелся по сторонам. Рыбачивший вчера лесник, согнувшись вдвое и оттопырив зад, наблюдал за нами через щель. Старушка затаилась в крапиве и постреливала любопытными глазами. Пьяный старик приподнял голову, кожа на лысине собралась гофрами. Стих стук в усадьбе Домового. И только Хромой, прислонившись обвисшим, безжизненным плечом к забору, одной рукой колол дрова. Пот тек по загорелому до черноты телу, и не было ему дела ни до кого и ни до чего, кроме чурок, брошенных в кучу.
Ведмениха, заметив мое восхищение жизненной силой больного человека, всхлипнула:
— Случился удар, врачи сказали — полгода не проживет… А вот ведь, пятый годик пошел.
И непонятно было: осуждает она врачей за ошибку или радуется живучести мужа. Из-за ее спины выскочил разъяренный урод-пес. Бросился на меня с неистовым лаем, норовя прокусить сапог. Я даже растерялся от его лютой ненависти — ведь хозяйка была со мной так добра. Но сапог было жаль. Улыбаясь Ведьменихе, я ловко пнул каблуком в полусвиное рыло. Он с визгом отлетел в сторону, а хозяйка с выстывающими глазами покачала головой:
— Это не метод в обращении с животными! — в ее взгляде блеснула такая ненависть, что я невольно опустил глаза к полным бабьим ногам, высматривая в полах домашнего халата ведьмачий хвост.
Разговор не получился. Я пошел своим путем. Пес, захлебываясь от лая, носился вокруг меня, боязливо пытаясь прокусить сапоги. Кот его не опасался, шел рядом, прижимал уши, отстранялся от пса, нервно подергивал кончиком хвоста, но не снисходил до ссоры.
Мое же терпение лопнуло. Всякая нечисть, предпочитавшая природной жизни только одну, радостную, ее сторону, знает, что рано или поздно заплатит за выбор самой гнусной и подлой кончиной через удавление, утопление или спалит сама себя. Проживая в удовольствиях, больше всего боится она думать о предстоящей расплате и приходит в неистовство от одного только намека на нее. Я взглянул на осатаневшего пса, обвел пальцем вокруг своей шеи и ткнул в небо. В собачьих глазах мелькнул ужас. Урод упал на спину, стал биться и корчиться. Ведмениха, не понимая, что случилось с собакой, грозно сверкнула глазами, запустила башмаком в кота, склонилась над хрипевшим уродом и стала делать ему искусственное дыхание рот в рот, прикладываясь губами к слюнявой морде.
Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из нечисти проявлял такую трогательную заботу о ближнем и снова устыдился своих плохих мыслей. Может быть, она даже не догадывалась, кто живет в ее доме и кормится из ее рук. Предупредить же, не выдав своих связей с болотом, я не мог… Пока.
Я пошел к морю, удивляясь странностям деревни. Пьяные туристы мирно спали в палатках на мысу. Куцый пес лежал возле их кострища. Он успевал подрабатывать не только у меня. Увидев нас с котом, пес вильнул обрубком хвоста, и незлобно гавкнул: простите, мол, при исполнении — жизнь такая!
Дул юго-западный ветер, доносивший запахи городского смрада. Небо в той стороне было серым. Раздраженно бились в скалы волны, поднимая со дна муть и рачков, которыми лакомилась рыба, жируя на морских кормах. Воронье с покачивающихся верхушек деревьев зорко поглядывало, чего бы украсть у туристов и хрипло возмущалось скудности закуски при достатке выпивки.
Я забросил удочку в набегающую волну и вскоре вытащил серебристого хариуса. Кот издал такой вопль, что я из сострадания чуть, было, не отдал ему первый улов, испортив себе всю рыбалку. Вторая рыба была увесистей и жирней. Пока кот с урчанием расправлялся с ней, я наловил еще полдесятка хариусов.
Море щедро кормило нас. Все круче становилась волна, распаляя азарт рыбалки, все чаще цеплялась рыба за крючок. Я уже не ждал очередной поклевки: забрасывал леску и тянул. Подрагивало, сгибалось, удилище, из волны блестящей пружиной выскакивала очередная рыбешка. Кот, основательно подкрепившись, уже не ел, но покусывал рыб за голову, прижимал трепетавшую к земле, из сытого озорства пробовал бросить через себя. Рассерженная волна ревела, налетая на камни, рассыпалась тысячами брызг и клокотала: «Дай-дай-дай!»
Вдруг клев прекратился, будто к берегу подплыла нерпа. И правда, раз и другой что-то булькнуло, и плеснуло в набегавшей волне. Леску грузно потянуло. Я напрягся, удилище изогнулось дугой. Кот, задрав хвост, вскочил на камень и задергал усами. На поверхности волны мелькнули босые пятки и круглая розовая попка, нисколько не похожая на нерпичью; удочка распрямилась и со свистом выдернула из воды какую-то странную водоросль или тряпку.
Я снял с крючка непонятный улов. Судя по всему — плавки. Мне малы, коту — велики, да и ни к чему. Странная одежка была так узка, что состояла из двух скрепленных шнурков. Повертев ее в руках, я повесил чудную добычу на сучок. Мы с котом спрятали рыбу в траве, прикрыли ее ветками от ворон и туристов, пошли в другое место, где она была не пугана.
Через полчаса можно было возвращаться готовить обед. Я смотал леску, вернулся по камням к припрятанному улову и увидел, как шустрая деревенская старушка украдкой сняла с сучка выловленный мной шнурок и пустилась наутек.
С запада хмарью и туманом смердил город, пуская по ветру свои нечистоты. Волна злей и злей ударила в скалы, распаляя в душе подозрительность и нелепые домыслы. От этой хмари на горизонте, от волны с запахом болота, от своего непонимания, я задрал голову и тихонько завыл. Кот мигом вскочил на дерево и вздыбил шерсть на загривке. Завизжал и метнулся в деревню куцый пес. Зашебаршили и закашляли в палатках туристы.
— Слазь! — поманил я кота.
Он покосился вниз круглым глазом, мол, верить-то тебе верю, но от хождения по земле пока воздержусь: мне и здесь хорошо. Я пожал плечами, подхватил удочку, взвалил на плечо мешок с уловом и отправился домой. Вскоре меня догнал кот, желавший полакомиться сочными жаберками и печеными рыбьими плавниками.
Мы сложили рыбу в ржавое ведро, придавили сверху плоским камнем, чтобы не вводить в искушение собак и ворон, вошли в дом и растопили печку. Когда вернулись к речке — ведро было наполовину опорожнено. Вокруг него на песке виднелись следы чуней. Я пошел по ним и вскоре догнал старика, ползущего по тропе. Из его карманов торчали серебристые хвосты.
— Дед? Зачем ты взял мою рыбу? — спросил его грустно и беззлобно.
Старик икнул, ухватившись за кол забора, стал подниматься на ноги.
— С детства ничего чужого не брал! Честное баюкальское и рыбацкое слово.
— А это что? — вытащил я из его кармана рыбину.
— Где? — озадаченно насупился он. — Это? Сама припрыгала, когда ходил к речке проверить…
Я вывернул его карманы, оставив пару хвостов для добрососедства, которому учила в малолетстве баба Марфа.
— У тебя выпить есть чего? — икнув, спросил старик.
— Нет!
— Тогда приходи, налью!.. Испеки мне рыбки. Исть охота.
Кот уже лежал на крыльце, внимательно разглядывая подпушек на своем брюхе, и готовился к обеду.
К вечеру ветер переменился на противоположный, как это бывает на море. С гор задула хвойная прохлада. Визжала пила и стучал топор за высоким забором. Протрезвел старик. Звенел о рельсы костыль Хромого, Ведмениха выметала сор из дома и утешала уродливого пса, у которого от переживаний началась линька. Старушка кормила кур, монотонно подзывая их, браня и лаская голосом.
«Баю-баюшки-баю!» — снова пела волна за насыпью. И казалось, недавняя ее озлобленность была наваждением. Синело небо. Покачивали зелеными ветвями березы. Светло, спокойно и радостно было на душе, как никогда не бывает на болотах. Кот влез мне за пазуху и запел. Он, то засыпал, умолкая, то просыпался, снова начинал напевать. При этом так увлекался, что от удовольствий запускал острые когти мне под кожу. Я влепил звучный шалбан по мохнатому лбу. Кот прижал уши, перестал петь и царапаться, но из-за пазухи не вылез.
А на железной дороге показалась чудная процессия. По шпалам гуськом шагали странники с лицами разных цветов, что сыроежки. Были они с посохами и в балахонах, облепленных репейником. Процессия остановилась напротив деревни. Похмельный старик побежал встречать гостей. Но, вместо кружки зелья ему вручили блестящий журнал. Старик запечалился, что задаром плясал и пел, сунул журнал в карман, не раскрывая. Затихли пила да топор Домового.
Странники вытащили из-под балахонов флейты и колокольчики, подняли шум на всю деревню. Старший, подрыгивая то одной, то другой ногой, хлопал в ладоши и корчил рожи, призывая слушателей. Другой, синюшный как утопленник, задирал балахон и показывал голый зад коричневого цвета.
Ко мне подсел похмельный старик с журналом, зашептал, обдавая перегаром:
— Заморские праведники! Жить нас учат! Говорят, ружжо в руках держать и в солдатах служить — грех, а блудить — полна воля. Умные — куды девать! Ругали, что пью и не каюсь. А имя мое им шибко нравится.
— Кто тебя Джоном прозвал? — сплюнул я под ноги.
— А сам! Родня-то темна была, ничо не понимала. Путние люди Жорами да Карлами детей зовут, а меня Петром окрестили…
На железнодорожной линии перестали петь, бренчать и звонить.
Лесник, стыдясь, что жители чураются заморских гостей, подбежал к ним и стал извиняться за невежество, живущих без света и телевизора. При том, подобострастно кланялся и угощал всех копченой рыбой.
— Этот без мыла в зад влезет, — завистливо проворчал старик, — на бутылку точно дадут…
Странники ушли, семеня мелкими шажками по стертым шпалам. Опять зазвенели топор да пила за высоким забором, хотя уже и день-то кончался. Старушка загоняла своих курочек. Я спустился к воде. Из сумрака вышли два горбатых туриста с тяжелыми мешками на опавших плечах, с тлевшими сигаретами во рту. Они выпучили на меня глаза, как на болотах нечисть, стали ждать, когда с ними заговорят, или поздороваются. Я сплюнул. Они тоже дружно поплевали под ноги и пропали в сумерках.
На болотах злословили, что первостроители все свои силы вложили в дорогу. Сам же город, будто, достраивался вкривь и вкось, потому что ко времени, когда подвели к нему путь, стали пропадать в людях вера, надежда, и любовь. И теперь сикось-накось построенный город мстил потомкам строителей, застрявшим на брошенной за ненадобностью дороге.
Лгала, конечно, кичливая нечисть, утешая свое уязвленное самолюбие. Будь город большим болотом — давно бы утекла туда вся гниль: за что другое, а за удовольствия, удобства и льготы мои сородичи грызлись до смерти.
Раздумывая о встреченных горожанах, я вернулся в дом, зажег керосиновую лампу, но заметил свет на кладбище и вышел на крыльцо. Отблески огня плясали на кустарнике. «Не родственнички ли пришли с болот?» — схватил кочергу и перебрел речку.
Те самые, горбатые туристы, сидели возле костра, разложенного между старых могил, пили ацетон, закусывали консервированной тухлятиной и стряхивали в нее как приправу пепел тлевших сигарет. Костер слабел, лихорадочно вскидывая последние языки пламени. Туристы посматривали на кедровый крест.
Шумела река, ветер шелестел листьями в кронах деревьев. Грудь мою стало распирать от гордости, что я, при моем-то носе, в отличие от всяких проходимцев, знаю, что костры на кладбище не жгут. По-людски все это надо было вежливо объяснить залетным шалопаям. При необходимости подкрепить наставления вескими, но беззлобными ударами кочергой, ни в коем случае не переходя на крик и угрозы.
Знать-то я все это знал. Но вместо всего того влез на камень, разинул рот и распустил по ветру поганый язык, смердевший болотом. Туристы сразу все поняли, похватали мешки, затоптали угли и скрылись так быстро, что я еще некоторое время не мог остановиться, давясь слюной на очередном обороте. В темном кустарнике защелкало, заухало, захихикало, заверещало. Но вместо лешего из-за кола со звездой вышел лесник. В одной руке он держал записную книжку, в другой — автоматическое перо. Пристальные глаза его излучали фосфорический свет.
— За-за-замечательно! — стал хлопать пером по книжке, громко высморкался в руку, чихнул, сунул нос между страниц: — Можно повторить: «.. в ухо, в глаз, ноздрю и роги — перепендея болотного…»?
— В дых… — выплюнул я недосказанное, как застрявшую в зубах кость и пробормотал, смутившись: — В детдоме научили!
И сразу стало тоскливо. Темнел ночной лес без всяких звуков. Тлели, но не мерцали звезды. Даже весело веявший ветерок стих. В задумчивости я вернулся к монотонно рокотавшей речке, где в черных омутах молчаливо и устало дремали рыбы, поднимающиеся на нерест. Недосказанная брань шершавила язык. В кустах на деревенской стороне опять что-то засветилось. Я взмахнул кочергой, как саблей, и стал пробираться на свет, желая на этот раз досказать туристам все, что о них думаю.
Возле речки, в зарослях березняка и ольховника, спряталась приземистая банька. Тускло светилось оконце, принятое мной за костер. Я заглянул в него и обомлел, увидев молодую обнаженную женщину. Капли воды блестели на розовой распаренной спине. Мокрые волосы липли к округлым плечам. Чуть склонившись, она вдевала ноги в тот самый шнурок, что я вытянул из воды удочкой.
Я отпрянул, смутившись увиденного. За спиной послышался осторожный шелест сухой прошлогодней травы. Боясь быть застигнутым за срамным делом, я бесшумно отступил за глухую стену бани под густо разросшийся куст черемухи.
Хрустнула сухая ветка, к баньке крадучись подошел лесник. Заглянул в оконце, швыркая носом. Дверь распахнулась, обдав темные заросли сырым и жарким духом пара. Вместо девицы из бани выскочила мокрая старуха в долгополой рубахе. Завопила, размахивая кривым коромыслом:
— Чтоб ты окривел, стукач хренов… Ни житья, ни покоя. В уборную без догляда сходить нельзя…
— Я должен знать все! — ничуть не смутился лесник, отстраняясь от нее. — Я не какой-нибудь… Созерцатель, но — соглядай! — он с гордым видом помахал записной книжкой возле носа старушки. Та, несвязно ругаясь, едва не огрела его коромыслом, но лесник ловко увернулся от него и пропал в кустах. Не дожидаясь, когда сам буду замечен, я крадучись выполз из-за стены и стал выбираться к дому.
Возле печки нещадно коптила соляркой оставленная лампа. Дурные от потемок мухи срывались с насиженных мест, бились головами в тускло мерцавшее стекло и падали в изнеможении. Порыв ночного ветра шевельнул ставни. Строгий лик с почерневшей иконы зорко следил за всяким движением в доме. Скреблись за печкой мыши. Посапывал сытый кот, судорожно подергивая во сне усами. Я смотрел на него с завистью и старался так же ни о чем не думать. Мне было жаль ведьмачившую старушку, а до конца месяца еще так далеко.
Среди ночи коту приспичило выйти. Он стыдливо мякнул возле моего изголовья. «Потерпишь» — подумал я сквозь сон. Зачирикали пташки под окном, рассвело. Я порылся в обрывках ускользающих снов и, не найдя ничего путнего, открыл глаза. Темный лик глядел на меня пристально и насмешливо. Откуда-то дурно попахивало. Я скосил глаза на пол и увидел против изголовья зловонную кучу. Кот, как не в чем ни бывало, лежал на одеяле и мирно посапывал. Я лягнул его:
— Ты зачем это сделал?
Кот муркнул, невинно раскрыв глаза и позевывая: «Я же предупреждал!»
— Орать надо было!
Стараясь не сердиться, я схватил его за шкирку, распахнул дверь и пинком выпроводил на прогулку. Кот вылетел как мяч и сшиб с ног проходившую мимо старушку.
Ночь, сырой кустарник, банька со светящимся окошечком, распаренная девица и старуха с коромыслом — все разом промелькнуло в голове. Я взглянул на пожилую соседку, засомневался во всем виденном ночью и помог ей подняться на ноги. Ладонь ее была мозолиста, рука морщиниста и дрябла. Лучистые, но немолодые глаза смотрели со страхом и с удивлением. В них была ясность утра и застарелая усталость от жизни, чего никогда не бывает у нечисти, жадной до удовольствий бытия.
— Ты так кота покалечишь и меня убьешь! — охнула она.
— Надо же воспитывать! — стал оправдываться я.
— Разве сразу отучишь от дурного? Марфа его баловала, — старушка опустила голову, попинала ногой камушек, не решаясь что-то сказать. Я распахнул дверь, приглашая в неприбранный после ночи дом. Она вошла, увидела папашино ружье, всплеснула руками, взглянув на меня пристально:
— Знать, не в лес ушел, коли без ружья… Утопился, поди. Перед тем как пропасть — захожу, а он здесь вот сидит и слезами заливается. А сам пьянющий… Думала мать ему жалко. До седых волос ведь с ней прожил. А он и говорит: «Бог меня так любит. За мою душу страдания принял. А я ее и водкой, и табачищем, и грехом… Нет мне прощения!» — Да как завоет. Совсем сдурел от пьянства, — вздохнула старушка.
Может, и утопился. Жаль было папашу. Но я мало его знал, чтобы долго печалиться.
— А еще у Марфы старинная книга была. Издалека туристы приезжали и рядились купить за хорошие деньги. Ее-то ты нашел?
— Нет!
— Значит, украли! — опять вздохнула старушка, перебирая подрагивавшими пальцами узелок платка под подбородком. Обвела неприязненным взглядом потолок и стены: — Убрать бы надо! Скоро Марфе год. Поминки справить положено. Какой ни есть народишко, а знал ее! Купика вина, пряников, пшена. Буду жива — помогу кутьи наварить.
— Чего торопишься, туда не опоздаешь? — усмехнулся я, пристально заглядывая ей в глаза.
— Устала! — всхлипнула она. — Внучку не на кого бросить, а то бы давно померла! — бесстрашно взглянула на образ.
— Где ж у меня деньги на такие покупки? — смущенно спросил я и развел руками. — Разве у кого заработать? Так я согласный.
— А Марфа на этот случай оставила! — старушка сунула сухонькую ладонь в щель между стеной и полом, и достала скрученные трубкой, обернутые клеенкой деньги.
Утро было тихим. Не дул по пади ветер, не баюкала волна, как-то странно присмирели мухи в доме. Робко перекликались пташки, монотонно шумела речка под окнами. Не слышно было пилы и топора во дворе Домового. На его двери висел огромный замок, а сам он, как сказала старушка, уехал ночью в город искать жену на место прежней.
Заскрипели ржавые навесы. Распахнулась тяжелая дверь уборной, срубленной крепко и просторно лет сто назад. Вчерашние туристы, выпровоженные с кладбища, провели там ночь. Они хмуро оглядывались, грозно горбатились и раскуривались, напуская на себя устрашающий вид. Взвалив на плечи мешки, становясь похожими на колючих морских пауков, побрели своим бессмысленным путем.
— Выпить есть? — крикнул вслед лысый старик.
Они только сильней задымили сигаретами и прибавили шагу.
Едва я успел отчистить папашино ружье, ко мне пришел трезвый старик и, спросив вместо приветствия, есть ли выпить, уважительно покосился на двустволку.
— У меня тоже хороше ружжо было! — пожаловался, почесывая лысину. — Туристы украли за ведро водки. Теперя за туннелей заяц прохода не дает, потешатся…
Известное дело, нет в лесу зверя нахальней зайца: среди всех таежных обитателей только он рискует не по надобности, а из озорства. И все же я не поверил рассказам старика про чудного зайца. Подумал, или мозги у старика повредились белой горячкой, или леший в заячьем обличье потешается над пьяным.
— Ты зайца-то стрели, неча изгаляться… Попей-ка с мое, ее, родимую, опосля дражнись, — старик приосанился и взглянул на образ в углу с достоинством человека, сознательно несущего по жизни тяжкий крест.
Я зарядил ружье одним из позеленевших патронов, завернул в лист лопуха пару печеных рыб и отправился на охоту. Старик шагал рядом и все строил в уме козни против хитрого зайца:
— Ты сперва спрячься. Я за туннелю выйду, будто бы с ним поперепираться. А ты из-за спины подкрадись и пальни. Пусть знат…
Пересмешник. Я и с краденным ружжом… Ого-го!
— Так он тебя и ждет? — недоверчиво поглядывал я на старика. Нос его посинел, зато в глазах появился живой блеск.
— Как ружжо украли, он всегда там сидит! К чему бы?
Мы прошлись по шпалам вдоль берега. Из-за поворота открылся портал тоннеля, обросший зеленью берез. Был он выложен из серого камня умелыми человеческими руками с таким искусством, что казался нерукотворным и ничуть не портил берег с лесом и скалами.
Из тоннеля веяло сыростью, мазутом и гарью. Тьма сгущалась, пока изза поворота не показался свет. Старик вышел, щурясь от солнца, взглянул на гору, ухмыльнулся и подмигнул, обернувшись ко мне. Все еще не веря ему, я все же взвел курок и, крадучись, вышел. На камне под обгорелым комлем березы сидел здоровенный заяц и прядал ушами. Увидев меня с ружьем, он скакнул в сторону. Я выстрелил, и вокруг зайца поднялось облачко пыли. Зверек обернулся, выпучив знакомые глаза, с верещанием подпрыгнул на месте и бросился в кусты.
Старик завопил, выдергивая клок волос с затылка:
— Промазал, козий глаз! Теперя ишши пташку в небе! — Он стал ощупывать ружье, вынул у меня из кармана патрон, потряс его: — Дроб-то где, крючок тебе в ноздрю? — Вынул пыж, вытряхнул на ладонь крупные кристаллы соли и расхохотался: — Чо, думаю, у зайца морда знакома… Сейчас проверим, — торопливо развернулся и зашагал в обратную сторону.
Неподалеку от деревушки, там, где песчаный залив врезался в сушу, по пояс в воде стоял лесник с выставленным в море удилищем и сосредоточенно смотрел на неподвижный поплавок. Старик сел на берег, стал весело кричать и потешаться:
— Чо ядра-то мочишь, пень трухлявый? Сам знашь… Здеся рыбы не быват.
Лесник оборачивался к нему хмурым, страдальчески сосредоточенным лицом, почесывал зад в воде и молча продолжал удить рыбу.
Несколько патронов были заряжены дробью и пулей. Я перетряс их и стал подниматься на гору. Побродив по лесу и не встретив ни раненого зайца, ни зверя, ни птицы, стал спускаться к деревушке по причудливым скалам, заросшим мхом и кустарником. Пылающая синь моря сверкала подо мной. В небе приветливо светило полуденное солнце. Вдали, за горизонтом, чуть виднелись дымящие трубы. И если напрячь слух, можно было услышать утробное урчание города. Но он был далек, а ветер дул с северо-востока, не поднимая волны: лишь ради забавы поплескивал морской рябью по утесистым берегам: «Баю-баюшки-баю!»
Под эту песню я любил всех живущих внизу. А там с ведром воды ковылял от речки лесник в сырых штанах. Он тяжело передвигал ноги, то и дело останавливался, отдыхая и почесываясь. Я закинул ружье на плечо, сбежал к нему.
— Давай помогу по-соседски!? — подхватил ведро.
Лесник метнул на меня колючий взгляд, но ведро отдал. Неуклюже переставляя ноги, зашагал к дому, указывая путь.
— Что с ногами? — спросил я на ходу.
— Полиартрит! — настороженно ответил он.
— Зачем в воду лезешь? Хуже застудишься.
— А чтобы вылечить. Цивилизованный мир давно лечатся стрессами…
Я ничего не понял, пожал плечами, оглянулся. Лесник ведро из моих рук не выхватывал и был не против, чтобы я вошел в его дом, увешанный сучками, пеньками и рогами. В углу, в дорогом блистающем окладе, висела большая икона. Побаиваясь поднять на нее глаза, и, желая быть принятым за человека, я зажмурился и приложил щепоть ко лбу… Ничего. К животу — пронесло… И в плечи не ударило.
Я так обрадовался, что готов был натаскать леснику воды ведрами хоть бочку. Откуда силы взялись — помог переколоть дрова Ведменихе, развешал березовые веники на чердаке у старушки. Помог бы и старику, но он куда-то скрылся. Я вошел в свой дом, радостно встал под бабушкиной иконой, вскинул щепоть ко лбу и… пришел в себя сидящим на полу с вздувающейся шишкой на том самом месте, где недавно была предыдущая.
Моя нечаянная радость прошла. Я приложил ко лбу мокрую тряпку, косо взглянул на черный, старый, немытый образ. «Может быть, он неправильный?» — подумал и лег на койку, обиженно поглядывая в угол. Пытливые глаза пристально и строго наблюдали за мной: без ненависти, без любви, без страсти, будто желали знать, как поведу себя на этот раз. Я же просто лежал без всяких мыслей в голове. Кот свернулся у меня на животе, заурчал, позевывая: «Не дело шляться по лесу с ружьем и не приносить добычу…»
И снова заболоченными своими мозгами я пытался понять хоть что-нибудь из того, что происходило вокруг. Вечерело. Пташки за окном пели ночные песни, шелестела листва. Кот, поворочавшись и подергавшись, понял, что кормить не будут, сменил песню, потом умолк и вскоре вынужден был отправиться на ловлю мышей. А я опять пошел к людям.
Вся деревня по вечерам собиралась на насыпи и ждала поезд из города. Несколько раз в неделю, сюда, к заброшенному полустанку, приползал тепловоз с двумя обшарпанными вагонами, с лавкой на колесах. Город милостиво слал в глухие места хлеб, водку, пряники и другую снедь, надменно подкармливал жителей ненужной ему дороги, мстительно припоминая им былые обиды.
По морю уже шла волна с юго-запада. Срывая пену с ее гребней, с гор дул противостоящий волне ветер. И билась она о берег с резким гулом, откатывалась с сердитым шипением. Лица жителей деревни тоже были злы. Ведмениха, помахивая прутиком, щурила глаза в морскую даль, туда, где за хмарью дымили трубы города. Упрямые морщинки резче обозначились на ее лице, холодели глаза. Был сердит старик: кряхтел, скрежетал зубами от вынужденной трезвости, придвинулся ко мне, зашептал, кивая на Ведмениху:
— Отчего, думашь, с прутом ходит? Не знашь!? — язвительно ухмыльнулся. — Я отраву пью, а она — кровь… Убогий-то еле ходит… Смекай!
Лесник в стороне от всех внимательно поглядывал на собравшихся, прислушивался, время от времени что-то строчил в записную книжку. К его ногам жался тощий пес, боязливо рычал и поскуливал. Едва я шагнул к ним, он тявкнул, бросился в подворотню, а Лесник уставился на меня немигающими глазами и приглушенно пробормотал:
— Ты этого… — повел носом на старика, — не сильно-то слушай. Главный вредитель: вокруг деревни все верхушки деревьев пообломал. Лес из-за него сохнет.
Хмарь на горизонте, сердитые удары волн, злые крики чаек раздражали, я уже не верил никому, а меньше всех — самому себе. Только старушка с Хромым со светлой грустью смотрели вдаль, не принимая к сердцу общий раздор.
Вдали послышались скрежет и лязг железа. Обдавая дымом лес и скалы, из-за поворота выполз посланец города. Клацая колесами по стыкам рельс, за ним послушно волочились три облупившихся вагона. Тепловоз загудел луженой глоткой ворона, и остановился. Из пассажирского вагона весело выпрыгнул Домовой, подхватил на руки бабенку с двумя, торчавшими из рта, сигаретами. Смеясь и радуясь, стал выгружать узлы с мешками.
Привезенная бабенка: не брюхатая, не кривобокая, была почти красавица с черными корешками зубов. Она делово тащила за собой шевелящийся мешок с приданым. Домовой развязал его и выпустил на насыпь возмущенно гогочущих, помятых гусей.
Лязгнула бронированная дверь лавки, из нее высунулась бородатая мужская морда с бабьей косичкой на затылке, зычно и картаво возвестила:
— Хлеба нет — только спирт!.. Есть вино, пиво, сигареты, закусь из опилок — бьет по мозгам шибче дурмалина! — стал оправдываться на возмущенную ругань местных жителей.
Лесник принял на живот, заказанный загодя, мешок с сухарями. Ведмениха натолкала в сумку заморской снеди. Старушка тайком взяла пачку сигарет. Я постоял, сминая бабкины деньги в кармане, посмотрел на пустые полки, и решил подождать с покупками до следующего раза. Старик, глядя на продавца страдальчески, проскулил:
— Сердце останавливатся! — и протянул лавочнику руки с растопыренными пальцами, трепещущими как листья на ветру.
— Оно у тебя каждый день останавливается! — проворчал тот. — Опохмелка за наличные! — добавил бесстрастно и захлопнул бронированную дверь.
Поезд пополз к тоннелю. Пьяные туристы высовывались из окон, радуясь близости моря, швыряли в него пустые бутылки, окурки, консервные банки. Состав как дождевой червь в нору втянулся в портал и скрылся, оставив на склоне горы отслоившиеся клубы дыма и смрада. Лесник на больных ногах поволок, было, мешок. Я перехватил его, забросил на плечо, понес к дому. Мы снова вошли в его жилье.
Розовеющий свет заходящего солнца блистал в искусной резьбе оклада иконы. Но на этот раз я смотрел ни на него, а на сам образ и чуть не присел от удивления. Из богатой блестящей рамы на меня пялил похмельные бельма косорылый лик с вывороченными губами и вывернутой челюстью. Я растерянно обернулся к леснику:
— Это кто?
— Икона! — невозмутимо ответил тот.
— Ты где ее взял?
— Сам сделал!.. Круто?
Глаза лесника оживились. Он принял мое недоумение за восторг и заговорил страстно:
— Форма — жалкая условность… Во всяком творчестве важно схватить суть. В подлинном искусстве молодое дерево может означать будущий старый пень, а пень — дерево. — Лесник стал так распаляться, обличая кого-то в пристрастии к форме, в подражании пошлой действительности, что гневно затопал ногами.
— У моей бабушки другая! — сказал я, начиная позевывать.
— Видел! — усмехнулся он. — Примитив, никуда не годный хлам: доска сгнила, краски выцвели.
Я не стал ни слушать, ни спорить, вышел с кривящимся лицом, перебрел речку и сел на камнях возле креста.
— Поговорить бы, бабуля! — взглянул на скромную иконку в перекрестии. Но не было ответа моим мыслям. Ветер шевелил траву и ветви. Шумел водопад, чирикала птичка, провожая меркнущий день. Из сухой травы вышел кот, задрал хвост трубой, влез на могилку и стал преспокойно тереться о крест, к которому мне не дозволено было прикасаться.
Из леса вышла старушка с лукошком в одной руке и с посошком в другой — и как только успевала бывать сразу в нескольких местах? Остановилась, опустила на землю корзину, присела рядом с холмиком.
— Как Марфа померла, — сказала задумчиво, — сын-то, отец твой, вроде как засовестился: могилу выкопал, крест вытесал. А после похорон запил — грозил уйти к черту на кулички. Потом пропал! — Она помолчала в раздумье и невольно вздохнула: — К Марфе хоть ты наведаешься, а меня и похоронить некому: внучка того и гляди подастся в город, — всхлипнула горестно.
«Тебе-то что за нужда заводить такой разговор?» — подумал я. Она будто догадалась о моих подозрениях, улыбнулась одними глазами:
— Была в городе, врач сказал: сердце у меня неправильное. Если, говорит, через месяц не остановится, то через два. Я, сперва, посмеялась — жизнь прожила с неправильным сердцем, а теперь чую — и правда стучит с перебоями… Иной раз остановится, я кулаком по груди тресну — снова затрепыхается. Эх-эх! Человеку вся жизнь — тяготы да муки. Отчего? Зачем так? Марфа, тайком, старинную книгу читала, говорила, будто все это надо для испытания. А что пытать? — разоткровенничалась старуха.
— Отчего у Лесника образа косорылые? — спросил я доверчивей.
Но она, вдруг, обеспокоено оглянулась по сторонам, вскочила, чем-то растревоженная:
— Куры раскудахтались… Кажись, хорек в сарай влез, — подхватила лукошко и посошок, побежала к речке, а я вдруг почувствовал, что устал жить по-людски, хотя впереди еще двадцать семь дней — или рабство до зимы.
Потянул к себе дремучий лес. Темной шелестящей волной подступал он к самому кладбищу, и там, за этой надежной, доброй и ласковой зеленой стеной, чудился мне справедливый покой. Я поднялся и шагнул в его сумрак. Хрустнул сучок, упал лист на плечо: как вода над ныряльщиком над головой сомкнулись вершины деревьев. Все непонятное и тягостное осталось за спиной. Я лег на сырую траву и посмотрел в высь. В невидимой листве светлячками плутали звезды, черные кроны, покачиваясь, шлифовали и без того сверкающее небо.
Над морем небо было ярче и величественней. Но там ты — один на один с его капризами. В море можно окунуться, можно уплыть далеко, но рано или поздно надо вернуться… Или утонуть. В море ты — соринка на волне. А лес укрывал и защищал. Лес звал и принимал, как равного. Но чем дальше в лес, тем ближе болото. А больше и выбирать-то нечего.
Нечаянная догадка вдруг потрясла меня: не от того ли папаша всю жизнь метался и бродяжничал? Выходя из леса, трезвым не бывал, а пьяный, не то чтобы мертвецки, но при вдохновении поговорить о своей, не до конца еще пропитой душе, что-то лепетал о тропе, с которой не возвращаются, называл этот путь царским и уверял, что всю жизнь готовится к нему…
Как ни думай, между морем, городом и болотом был только лес. Я представил, как завтра войду в него, не ради добычи, а ради самого леса, на душе стало легче и радостней. Надо было возвращаться домой Лес, ласково коснувшись плеча, беспрепятственно отпустил.
Кота не было. Я зажег лампу, осмотрел ружье и стал чистить его: не поганил бы леса, не стрелял бы ничего живого, но как человеку без греха? Чтобы жить — надо есть.
Едва погасли звезды, я подпер дверь лопатой и вошел в предрассветный лес, где просыпались пташки, готовились ко сну насытившиеся за ночь козы, маралы, рыси и волки. Ночной лес только начинал впадать в дрему и просыпался лес дневной. Тропа не круто поднималась в гору вдоль русла речки. Когда-то деревья здесь были вырублены. Заросшие мхом, травой и березняком, вокруг виднелись очертания каменоломен. На рябине сидели рябчики и лениво думали своими маленькими головками, стоит ли улетать с насиженной ветки? Ни стрелять, нарушая тишину лесного утра, ни тратить патрон на такую мелочь не хотелось. Отказаться от первой встретившейся добычи — плохая примета.
Я вытащил из туеска сухарь, положил на пенек. Не для того, чтобы задобрить лешего, а так, на удачу. Сделав это, пошел дальше, неспешно срывая спелую ягоду.
Заросший травой и кустарником, возле тропы стоял фундамент из дикого тесаного гранита. Может быть, когда-то на нем были стены жилья. Плотно прилегавшие друг к другу камни покрылись серым загаром времени и зелеными пятнами лишайника. На одном не так давно кто-то что-то нацарапал. Я взглянул и прошел мимо. Но рисунок не забылся, и все стоял перед глазами. Шаги мои становились медленнее.
Сойдя с тропы, я повернул назад напрямик, по склону, приминая сапогами пышный мох и траву. Скрытые от глаз скалами и деревьями, здесь стояли невостребованные штабеля рубленого камня. Виднелись контуры карьера, заросшего травой и деревьями.
Я вернулся к фундаменту у тропы, присмотрелся к рисунку, потрогал выбитые линии пальцами. Что-то в них напоминало папашины таежные засечки: броские и заковыристые. Другой охотник стукнет топором по коре — и готово. Папаша, бывало, целую картину вырежет, чтобы леший от домыслов кривел. Я отступил на шаг, взглянул на царапины издали и подумал, что автор этого рисунка хотел изобразить либо царскую корону с крестиком, либо причудливой формы гору с крестом.
Послышались шаги, кто-то осторожно поднимается по склону. Я пригнулся, не делая резких движений. По тропе шел лесник, сосредоточенно глядел под ноги и с громким хрустом грыз сухарь. Он прошел мимо и озадаченно остановился в том самом месте, где я свернул с тропы. Я свистнул. Лесник вздрогнул, обернулся, сверкнув настороженными глазами, шагнул за черный, не раз горевший пень и пропал.
Я долго ждал, не сводя глаз с пня, чтобы не потерять его среди других, похожих. Устав стоять на месте, швырнул в него камень. Раздался гулкий звук окаменевшей древесины и трухлявой пустоты в ней. Камень отскочил от пня и покатился по склону, шевеля траву. В тот же миг из-за пня выскочил пес. Поджав хвост, так, что козлиной бородкой он торчал из-под собачьей морды, побежал в гору.
— Эй! — крикнул я, размахивая ружьем. Подошел к пню, за которым укрылся лесник. Там никого не было.
Над головой шумели верхушки деревьев. Первые лучи солнца золотились на вершинах гор. Легкие облака неслись по небу. Как паутину с лица я смахнул навязчивые мысли и пошел своим путем, теряя тропу, угадывая направление только по солнцу.
С высоты хребта открылся морской простор и призрачные очертания белых горных вершин среди облаков. Над головой покачивал ветвями могучий кедр. Его толстые, как гнутые деревья, корни подрыли дикие свиньи. А выше, на почерневшем комле затягивалась черной сушинкой знакомая зарубка, причудливо выдолбленная в виде короны. Глядя на нее, я опять почувствовал папашину руку, его пьяный кураж, и подумал: «Вот ведь! И он сидел на этом самом месте. И я, вроде бы, иду куда глаза глядят, но то и дело оказываюсь на тропе отца».
На хребте отыскалась еще пара отцовских зарубок. Наверное, и дальше я шел бы верхами, но увидел в пади дикую козу, стал спускаться и подкрался на выстрел. И тут в чащобе, из-за которой я высматривал добычу, затрещали сучья, кто-то защебетал и защелкал, хрипло захохотал. Коза подскочила от испуга, бросилась за деревья.
Я плюнул в сторону озорника и огляделся. Трещали кедровки, стучали дятлы, но даже рябчиков не было слышно. Лес уже попахивал сыростью болот. С ветвей больных лиственниц зелеными бородами свисал лишайник. Изувеченные ветрами и пожарами, усохшие до металлического звона, стояли черные кедры без хвои. Пора было поворачивать.
И тут я увидел зайца, прицелился, подержал его на мушке и опустил ружье: «Заяц или причудливый пенек?» — засомневался, не желая попусту тратить дробовой патрон. Крадучись приблизился шагов на десять — пятнадцать, снова прицелился, отчетливо различая заячьи уши и даже пушистую нашлепку хвоста. Тот почему-то был неподвижен. «Вдруг больной или дохлый?» — опять опустил ружье, подошел, не таясь, наклонился разглядеть: дышит ли? Ткнул стволом в спину.
И тут заяц с верещанием подпрыгнул, выпучил глаза и кинулся мне под ноги. Из кустов раздался лешачий хохот. Я почувствовал за спиной движение. Хотел схватить за бороду зловредного «старикашку», но влажные ладони шлепнули по моим щекам.
— Укараулила? — усмехнулся я, не оборачиваясь, не вырываясь, чтобы у нечисти не прибыло сил от моих страхов, ужаса и домыслов. Послышались всхлипывания.
Я стряхнул мокрые ладони со щек, обернулся. Бывшая моя кикимора висела вниз головой, зацепившись ногами за толстый сук. Густые волосы иссохшей травой стелились по сырой земле. Зеленые глаза были по-человечески печальны. На лбу висели слезы чище спирта. Жалость шевельнулась в моем сердце. Молчание кикиморе было к лицу. При том, шельма, так шаловливо подергивалась, что я стал отводить нос в сторону.
Как знать, не раскрой она своего поганого рта, вдруг и поплелся бы я следом в болото с фигой в кармане для обманутого лешего. Выкурил бы косячок, хлебнул отравы и хохотал бы с такими же уродами, вспоминая прикол — как хотел выйти в люди. Но долгого молчания кикимора не вынесла, соскочила на землю, выпучила бельма, замахала ногтями, норовя оцарапать мой, такой уязвимый, нос:
— На все болото осрамил! — заголосила. — Ставь литру за позор!
Посмотрел я на нее не замороченными глазами и плюнул без злости:
— Шла бы ты в болото, пока не высохла! Глянь, потрескалась уже!
Кикимора завыла, завертелась, перебирая на груди лягушачьи складки прокуренной кожи. Я закинул ружье на плечо и зашагал в гору. Охота не удалась. С высоты хребта обернулся к сырой пади и увидел свою бывшую, скачущую к болоту. Следом увивался трусоватый деревенский пес.
Небо подернулось облаками, отяжелело тучами. Пропало солнце. Я понял, что слегка заплутал. Не беда: любой ручей выведет к морю. Пусть, не так просто и не так скоро, как хотелось бы, но из леса можно выйти. Ко всему, стал накрапывать дождь: встречи с нечистью удачи не приносят.
Я спустился к ближайшему ручью. Не теряя его из вида, пошел по склону, продираясь сквозь мокрый кустарник и бурелом. Не успев насквозь промокнуть, спустился еще ниже. С другой стороны ручья пахнуло дымком. Где-то рядом были люди. Что им до меня? Да и я мог обойтись без встреч и без чужого костра. Но была странность: на противоположной стороне ручья отчетливо виднелась тропа, которая не пересекала русло, а упиралась в него и обрывалась. Так бывает, если рядом зимовье. И забылись бы вскоре та тропа и сам ручей, если бы не знакомая засечка на комле старого дерева. Я огляделся, примечая места, и еще быстрей зашагал вниз, укрывая старенькое ружье одеждой.
На спуске к тропе, по которой вышел из деревни, подстрелил пару рябчиков, прятавшихся от дождя, сунул их в туесок и добежал бы до дома одним духом, но из-под камня донесся знакомый оклик: «Мяу!» Мой кот сидел на сухих листьях в уютной пещерке и пережидал непогоду. Расположился он с удобством, предпочитая отлеживаться и неделю, но попусту не мочить свой хвост.
Я вытащил его, брезгливо цеплявшегося за мою мокрую одежду. Лезть за пазуху он не пожелал и все косился на туесок, напрашиваясь в компанию к рябчикам.
— Морда треснет! — проворчал я, рассовал птиц по карманам, а кота посадил на их место.
Дом был тих и уютен. Я сбросил одежду, завернулся в одеяло и принялся разводить огонь в печи. В дверь постучали. Вошла Ведмениха в мужском плаще. Улыбаясь, поставила на стол миску со сметаной. Обошла стороной кочергу, села на краешек сундука. Кот перестал разглядывать рябчиков и забегал вокруг стола. Получив пинок под зад, залез под койку и стал напоминать о себе оттуда заунывным мяканьем.
— В такую погоду корову нельзя гнать на выпас — простынет, бедная. А сена нет! — всхлипнула гостья и слезы ручьями потекли по ее щекам.
— Накосим! — с готовностью отозвался я, понимая, за какое дело принесена сметана.
— Уже накошено, — шепнула она. Слезы на глазах мгновенно высохли. — Нужно перетаскать… Тайно!
— Для чего же тайно? — не понял я.
— Косил Домовой мне, а отдать не может, потому что в долгу перед лесником. Тому сено ни к чему — разве что сгноить. А просить я у него не могу, потому что в ссоре. В прошлом году про меня, честнейшую, сказал туристам, будто сливки с молока снимаю. Теперь отказывается от своих слов: свидетелей-то нет… А я точно знаю — говорил…
— Не понял! — замотал я мокрой головой, хлюпнул носом: — Косить не надо! Надо перетаскать?
— Да! — прошептала Ведмениха, делая бровями какие-то знаки на дверь. Я выглянул — никого. — Показалось, что подслушивают, — еще тише проговорила она и заговорщицки подмигнула, не сводя глаз с моего носа: — Ведь мы друг друга понимаем… Я баньку натоплю, Лесника с Домовым завлеку, дури на каменку брошу, старика напою, ты старуху в доме тайком запри и… Сено перетаскай… Потом никто ничего не докажет!
Я выпучил глаза и задергал носом, стараясь не сердиться: на берегу святого моря замышлялась болотная распря, и в нее, как в топь, завлекали меня, пришедшего в деревню, чтобы жить с ними по-людски.
— Нет! — сказал резко. — Против людей ничего делать не буду! Днем, у всех на виду, перетаскаю… С радостью.
— А мы что, не люди? — вскрикнула она, закатывая глаза. И слезы, крупные как горошины опять покатились по ее щекам. Увидев, что я смутился, Ведьмениха захохотала, вынула из-за обшлага окурок сигары с золотыми ободками, щелкнула зажигалкой, выпустила дым из ноздрей. — Ты им плохо делать боишься, а они у тебя доски с завалинки таскают, — сказала, сверкнув глазами.
Едва захлопнулась за ней дверь, кот выскочил из-под койки и стал делать круги возле стола.
— Кот, а кот? — завыл я, с тоской глядя на сметану. — В деревне люди есть?
Но кота, кроме сметаны, интересовали только мокрые рябчики, бессильно уронившие головки с красными гребешками. Даже на то, что сметана дана за работу, делать которую я отказался, коту было начхать, впрочем, как и на заботы о завтрашнем дне.
Вспомнив, что Ведмениха что-то говорила про доски, я вышел под дождь. Со стороны речки от завалинки были оторваны две плахи. К дому Домового по земле тянулась глубокая борозда. Не хотелось идти к нему по непогоде с одеялом на плечах. Я вернулся. Кот пулей сиганул со стола и спрятался за печкой, облизывая усы. До сметаны, прикрытой тяжелой сковородой, он не добрался, но головы рябчикам пооткусывал.
Дождь моросил и моросил. Жарко горела печь, сварилась дичь и просохла одежда. Я вымел пол и накормил кота. Без стука вошел Домовой. В горле у него клокотало. Капли дождя висели на кончике длинного носа и беззвучно слетали на пол в такт его неровному дыханию. Он поводил глазами по углам, метнул испепеляющий взгляд на кота и прорычал:
— Он сожрал моего лучшего гуся! Всем гусям был гусь. Нынче за такого рядятся до миллиона!
— Куда ж он в него влез? — стал я ощупывать кота, примеряя к его животу вес ощипанной птицы. — Рябчика осилит, а гуся — никак.
— Он ему горло перегрыз, — поправился Домовой. — Гусь издох. Все равно убыток.
— Тащи гуся! Будем договариваться, — сдержанно предложил я, хотя мой голос уже подрагивать.
— Мы его сварили и съели — не пропадать же добру! — Домовой повел носом к потолку. На щеках его заалели пятна.
— А кто видел, что гуся задрал кот? — уверенней спросил я.
— Больше некому! — раздраженно рыкнул Домовой, еще больше наливаясь краской. — Другие кошки и собаки смотрели на моих гусей так просто, а твой кот — хвостом подергивал.
— Зачем доски оторвал? — кивнул я в сторону завалинки.
— Мои доски. Я прошлый год бабе Марфе дом утеплял.
Я поскрежетал зубами, не добром поминая про себя зеленобородого старика, которому продулся ни за грош и вынужден теперь не противиться злому, не поддаваться ярости.
— Подумаю! — сказал холодно, растягивая губы в улыбку.
Домовой потоптался на месте, переминаясь с ноги на ногу: то бледнея, то заливаясь румянцем. Я молчал, и он не зная, что сказать, вышел, ругаясь под нос.
Я пощупал гладкий ухоженный живот кота, спросил:
— Что же ты гусятинкой не поделился?
«Мышью буду — не я!» — муркнул он и запел о том, как прекрасно урчат его прелестные кишочки, когда по ним путешествует рябчик. Мне и поесть не удалось — постучала Ведмениха. Одной рукой она держалась за вздымавшуюся грудь, другую прикладывала ко лбу.
— Мои куры! Четыре курочки и бедный петушок… Пропали!
— Поискать? — поднялся я из-за стола, отодвигая стынущего рябчика.
— Это все — разбойник! — она ткнула пальцем в кота.
— Какой разговор, кота воспитывать надо и меня тоже, — мирно согласился я. — Но за один присест разве только волк съест гуся да пять кур.
— Может быть, не съел, — всхлипнула Ведмениха. — Нет тому свидетелей.
Вдруг даже не давил, а просто напугал. Они с испуга попрыгали в речку и утонули.
Пока я скоблил затылок, пытаясь понять свою вину и вину кота, соседка ушла. Не успел я доесть рябчика, приполз старик. Он был изрядно пьян, сел на порог и тупо уставился на кота.
— Ну, скажи, что он твоего пса задрал! — подсказал я.
Старик долго и пристально смотрел на меня. Потом опустил голову на колени и заплакал.
— Я их всех жалею. Быват, кормлю, когда есть чем! У тебя выпить нет?
Займи бутылку! — он икнул, содрогнувшись всем телом: — Говорят, Марфа тебе наследство оставила!
— Куда тебе? И так хорош!
— В меня сколь не лей — все мало! — старик прислонился к косяку, закрыл глаза и всхрапнул.
«Сговорились они, что ли? — думал я с тоской. — Что делаю не по-людски, если все идут против меня? Ведь может же кот жить, радоваться удаче, терпеливо переносить невзгоды, не впадая ни в ярость, ни в ненависть. У меня же, отчего-то все через пень колоду». Голова шла кругом от страшной догадки: либо бабушка учила меня чему-то не тому, а леший что-то напутал или единственный встреченный мной в жизни правильный человек — это мой кот…
Вывести из состояния полного оглупения, подсказать, что делать и как жить, мог только лес. Я поймал себя на мысли, что не верю, будто папаша утопился, хотя поверить в то, что охотник ушел в лес без ружья, было еще трудней.
К вечеру дождь кончился. Теплый ветер сдувал его тяжелые капли с листвы деревьев. Волна неспешно набегала на почерневшие от непогоды берега. Запах перезревшей травы и прелых листьев струился над старыми шпалами, над черными плахами перрона. Ветер дул с северо-востока и волна пела душевные песни. Но народ, собравшийся к поезду, все равно был зол.
Домовой приглушенно спорил со своей непрерывно курившей бабенкой. Стоя в стороне, воротил от меня нос. Старик почти протрезвел, хмуро посматривал на море и переругивался со старушкой. Лесник поглядывал на всех с презрением. Ведмениха носилась взад-вперед по железнодорожному полотну. Ее долгополый плащ то и дело цеплялся за стыки рельс. И только Хромец, отстраненный от их суеты, с таким видом всматривался в скальный склон, из-за которого должен был показаться поезд, будто видел, что за ним.
Под насыпью, на заборе, в короткой удавке болтался уродливый пес с высунутым набок языком. Он облез в течение дня, потеряв пышный хвост. Боясь поветрия и лишаев, хозяин прекратил его муки решительными действиями. Хозяйка же ворчала и охала, намекала, что пса кто-то сглазил. При этом бросала на меня подозрительные взгляды.
Защелкали, затрещали рельсы, послышался гул. Обдавая склоны перегаром, из-за береговых скал показался поезд. Кроме обычных стареньких вагонов к нему был прицеплен другой, чистый и блестящий с белоснежными занавесками на окнах. Пышущая жаром металла громада остановилась, не дотянув до перрона. Пьяный турист попытался прыгнуть из вагона.
Вцепившись в поручни, поболтал в воздухе ногами. Деревня с затаенным дыханием ждала: вдруг выпадет! Старик напрягся, поглядывая на него, как щука на карася, прошлепал, было, иссохшими губами: «Мой!» Но тот раздумал высаживаться, удержавшись от случайного падения, вполз в тамбур, скрючился, устрашающе сгорбатился, закашлял и стал пускать дым из всех полостей, похваляясь, каков он, молодец-удалец.
Лязгнули бронированные двери. Открылась вагон-лавка. Косатый лавочник вождистски вытянул руку:
— Есть все!
Деревенские жители подтолкнули вперед меня. Старушка зашептала:
— Конфет бери, пряников, пшена и риса… Водки и винца — по три бутылки, не боле… Старику не наливай до срока, не то замучит.
Я взял все, что она сказала. Сверх того мешок муки. А деньги все равно остались. Увидев такое богатство и расточительство, старик, еще минуту назад вполне бодрый, стал закатывать глаза и трястись всем телом, показывая, что желает подлечиться.
Поминая добрым словом бабушку, я взвалил на себя покупки. Краем глаза увидел, как старушка купила бутылку водки и спрятала под подол. Старик попытался сунуть туда же поблекший нос. Она огрела его по лысине черствой булкой и, подгоняемая бранью, засеменила к дому.
Тепловоз взревел как раненый зверь, пустил по ветру черное облако извержений, продвинулся вперед, поставив блестящий вагон к перрону. Из тамбура выскочила чистенькая девица в униформе, протерла поручни, приветливо улыбаясь, вытянулась, освобождая проход.
Из вагона, сияя нездешними, ослепительными улыбками, вышли два неброско одетых мужика — один был тощ, другой брюхат. За ними выпорхнула крашеная, стриженая, плоская бабенка в очках. Как и мужчины выставила напоказ ослепительной белизны вставные зубы.
Следом за гостями из тамбура высунул голову мужик с соседней станции. Старик впился в него взглядом и проблеял, вытягивая трепещущие руки: «М-е-е-р?» Тот приветливо кивнул, властным жестом подозвал его к себе. Старик кинулся к нему со всех ног. Ведмениха с лесником сложили свои покупки на землю и стали выгружать коробки, мешки, ящики.
Тепловоз пустил по ветру новое облако и потащился к тоннелю, оставив на перроне озиравшихся гостей, местного мэра и кладь. Черная дыра в скале, искусно отделанная тесаным камнем, всосала состав. С омытых летними дождями гор с новой силой задули ветра, выметая городской дух. Волны брезгливо вышвыривали на сушу плевки, окурки и бутылки.
Озабоченный старик догнал меня у дома. От него уже попахивало хорошей водкой, глаза его блестели и смотрели вкось. Он был в том самом расположении духа, когда уже хорошо, но мучительно хочется большего.
— Стол ставят, — кивнул на прибывших. — Меня лечить будут. Ты тоже приходи, скажи, что алкаш. После мэр флакон даст. А пока, налей сто грамм?
— Не налью, — ответил я без смущения и добавил, задрав нос: — А лечиться мне нет нужды.
Гостей усадили за стол на морском берегу. На него выставили бутыль со святой водой, ароматизированной и профильтрованной в городе. Напротив них усадили старика. Лесник подсел, принарядившись в просторные трусы из парусины и накрасив брови. Ведмениха завила волосы по-африкански, натерлась сажей и стала черней нового сапога.
— О-е! — хохотали гости и одобрительно хлопали ее по полным плечам. Мэр затянул на шее удавку потрепанного галстука, выплюнул под ноги окурок и поднялся для приветственной речи:
— К нам приехали известные на весь мир борцы с алкоголизмом и наркоманией, бывшие наркоманы и алкоголики, которые исправились и ездят, значит, по всем странам, рассказывают, что пить вредно…
— О-е! — поднялся тощий, показывая зубы. — Я есть… — он выразительно ткнул оттопыренным пальцем в локтевой сустав, — морфий, опий, ЛДС, — сладострастно сощурился от воспоминаний, вздохнул, сжал губы блином. — Теперь — о! — Показал тощие бицепсы. — Споот! Путешествий!
Старик виновато уронил голову, вздохнул и из-под руки подмигнул мэру, раскуривавшему новую сигарету.
— О, как я пиль! — поднялся толстый, похлопывая себя по животу: — пиво пиль, вино пиль, виски пиль…
— Мешать вредно! — сочувственно обронил старик.
— Мешать — пиль, вредна — пиль! — подхватил толстяк…
— Ну, вот, поговорили, — поднялся мэр. — Все поняли, что пить вредно. А это, — кивнул на оскалившуюся заморскую бабенку, — и проститутка, и наркоманка, и алкоголичка. Короче, пить бросила, сейчас в президенты болот…тируется, но, тока, по-нашему ни бум-бум!.. Ладно! Поговорили, теперь накрывай стол…
Старик сорвался с места, притащил привезенную коробку, позвякивавшую стеклом, и стал выставлять фигурные бутылки. Ведьмениха расставляла на столе посуду. Лесник побежал за рыбой, которая заморским гостям была в диковинку.
Кандидатка в президенты что-то испуганно проворковала толстяку. Тот делово спросил, за чей счет накрывается стол. Узнав, что все закуплено местной властью по закону гостеприимства, гости повеселели, похотливо поглядывая на этикетки.
Вскоре послышались знакомые присказки и песни старика. Он азартно учил заморских гостей полоскать в водке нос, прежде чем глотать. Те восхищались гостеприимством и оригинальностью национальной культуры, пили безмерно, распаляя в старике страсть к соперничеству. К ночи добропорядочней всех выглядели тренированный представитель местной власти и деревенские жители, включая самозванца Джона.
Едва стемнело, я спустился на берег. Накатывалась на скалы северо-восточная волна. Над морем раскинулось чистое, блистающее небо, звезды отражались в черной воде и мерцали из глубин донного провала так же ярко как в выси. Море смотрело на меня тысячами глаз, пронизывало тысячами струй, то ли изучало, то ли перекраивало и перестраивало на свой лад. И я начинал чувствовать себя его частицей как скалы, лес, вода, косяки рыб, нерпы и птицы, а значит, как-то должен был служить ему. Знать бы как?
Глядя в небо, слушая плеск волн, я стал впадать в сладостное бездумье. Глаза закрывались в дреме. С трудом открыв их еще раз, чтобы взглянуть на звезды, я различил склоненное надо мной лицо с крапом веснушек. Капля влаги скатилась мне на щеку. Затем вторая и третья капли упали на меня с мокрых волос «нерпы». Казалось, она заглянула мне в лицо. Вроде, даже пошарила по груди и вдруг плюхнулась прямо на мой живот. Я привлек к себе мокрое, пахнущее морем тело. Нерпа резко дернулась, захрипела, разинув рот, охнула, рванулась из моих рук, оставляя на ладонях влагу и влекущий дух молодой женщины. В следующий миг она так дико завопила, что в деревне, пожалуй, задребезжали в домах стекла.
Пока она набирала в грудь воздух для следующего крика, опять переломилась вдвое, и едва не ткнулась носом в мое лицо:
— Мужик ли, чо ли?.. А-а-а! — завизжала другой раз и бросилась к насыпи. На меня полетели камни. Из темных, вислых ветвей старой березы раздались хохот, треск и пощелкивание.
Я стряхнул с себя капли воды и остатки блаженной дремоты. Сел, удивленно размышляя: «Какая, к лешему, русалка, если нет хвоста? Едва она села на меня — во сне или в яви — я успел облапить ее от плеч до пяток. Если старуха ведьмачила, чего бы ей, шаля со мной, от меня же шарахаться?»
Я поднялся и поплелся к дому. У старушки в окне горела лампа. В приоткрытую щель между занавесок видна была она, в очках, как ни в чем ни бывало, почитывающая перед сном.
В соседнем дворе Ведмениха, на ночь глядя, топила баню, заботливо поглядывала на заморских гостей, храпевших на лавках. В оконце плясала ее тень в платке, с узлом на лбу в виде рожек. Инвалид, упираясь вислым плечом в забор, вытащил из удавки пса и, налегая на костыль, поволок за речку на корм воронам.
На моем крыльце сидел пьяный старик и гладил кота. Кот воротил морду от сивушного духа, но подставлял под шершавую ладонь то брюхо, то шею. Увидев меня, старик пролепетал:
— Налей двадцать капель? — подняв руки, потряс пальцами, как погремушками. А, разглядев мою усмешку, привычно оправдался: — В меня сколь не лей…
— Нельзя! — сурово ответил я. — Поминки послезавтра! Всей деревней сядем за стол… Как положено.
— А ты мою долю сейчас налей, я потом приходить не буду!
Я подумал, какая у него может быть доля в бабкиной водке, и захлопнул дверь прямо перед красным носом. Сутулясь и оправдываясь, старик потащился ни с чем, перебирая руками хворостины забора, стыдливо понес свою унизительную страсть.
С пакостным настроением, как при отходняках, я сел под иконой, стараясь думать только о бабушке. Она ушла без малого год назад по исполнении какого-то долга, о котором знала, который помогал ей жить среди нынешнего деревенского сброда и даже как-то ладить с ним. Но долго думать об этом я не смог. Мокрая нерпа, пьяный старик, суета и обиды дня мельтешили в голове.
Я поворочался и забылся в тяжком, как на болоте, сне. Среди ночи много раз просыпался, прислушивался к ветру, снова впадал в тот же тягостный бред. И все же тьма была пережита. К утру из мыслей, снов и кошмаров вызрело решение. Поднялся я поздно, зная, что делать: запер дверь, закинул на плечо ружье и ушел в лес, не думая о завтраке. Шел я напрямик и, слегка поплутав, к полудню отыскал то самое место, где к ручью подходила торная тропа, спустился в падь, поплескал в лицо студеной водой и почти почувствовал, что произойдет дальше…
Так оно и было. Под карнизом скалы, прикрывавшей вход в сухую неглубокую пещеру, стоял человек в лохмотьях. Он сгибался до земли и выпрямлялся, иногда опускался на четвереньки. Перед ним на пеньке лежала древняя книга в кожаном переплете. Бессмысленные движения таежного жителя сопровождались вдохновенным шепотом и бормотанием. Я взглянул в сторону, куда то и дело направлялся его взор — там стоял крест, такой же, как и на могиле бабушки.
Под ногой хрустнул сучок. Человек оглянулся без страха, глаза блеснули синевой морской волны. Я узнал и не узнал папашу.
— А, это ты? — сказал он, будто мы расстались полчаса назад. И досада мелькнула в его взгляде.
Он был худ, волосы отросли до плеч, тощая борода косо свисала с просветленного лица. Странно и непривычно поблескивали почти незнакомые глаза. Сколько помню, они были налиты кровью. И сам он переменился: глядел на меня умиротворенным взглядом, спокойным тем внутренним равновесием, какого я не видел в лицах жителей дороги и заезжих горожан.
— Мать прислала? — спросил с грустным укором.
Я замотал головой:
— Нет! Сам!
Он присел, указывая на ближайший пенек.
— А меня тут нечисть мучит: то бабьей лаской прельщает по нашей мужицкой слабости, то питьем. Бывает, и бьют… Грешным делом подумал: мать отправила, чтобы побольней досадить старым грехом. Ты уж не обижайся, что так встречаю: угощать нечем. И дел много.
— Помочь? — с готовностью спросил я.
— Мне никто не поможет, только сам. Все равно спаси Бог! — он почти выговорил «сынок», но, спохватившись, проглотил полслова и нечленораздельно прошипел оставшееся звуки. Но меня и это тронуло.
— С болот ушел, — всхлипнул я, вытирая длинный мокрый нос рукавом, — живу в деревне. Думал, средь людей человеком стану. А там… Та же нечисть, только глупей.
— Дурные они! — вздохнул отец. — И несчастные. Их веками и травят, и давят, режут, стреляют, как волков, оскотинить хотят, а они, что псы шелудивые, этого не понимают. На живодерню волокут — все хвостами виляют. Теперь вот, нечисть хвалят, дескать, жить надо как она, ради жизни и счастья! Ага! Чтобы последним перетопиться да перевешаться. А совесть-то еще есть: много ее намолено предками. Вот и мечутся: по-людски жить не хотят, и по-скотски не могут.
Я, конечно, не понял о ком он так: о себе, обо мне, или о деревенских жителях. Все равно, приятно было, что говорил со мной по-людски, может быть, первый раз за всю поганую жизнь.
— Мне-то как быть? — почесал нос. — На болоте чужак, в деревне того хуже… Тех и других, — оглянулся по сторонам, прислушался и прошептал: — не-на-ви-жу!
Отец смущенно опустил глаза.
— Один, с одной только ненавистью, долго не протянешь, все одно в болоте увязнешь! А смысл-то прост, ради людей жить надо, хоть иной раз кажется, что поганей их, особенно своих, близких, и нет никого… Я ведь не от них ушел — от соблазнов. Разобраться надо. А то ведь в старых, верных книгах — и то путаюсь… Укреплю дух, пойму что к чему и вернусь. Даже если один стану жить в деревне по правде — людям польза, нечисти — вред.
— Тебе что, — шмыгнул я носом. — У тебя хоть кровь человечья. Мне-то как с болотной рожей?
— Мой грех! — опустил потускневшие глаза отец. — Не может дерево худое приносить плоды добрые… Тебе хуже. Но если выдюжишь — заслуга будет больше: я только очищусь, а ты себя сделаешь…
— Сколько терпеть-то? — с надеждой вскинул я глаза.
— А всю жизнь! — пожал плечами отец. — После, еще и помереть надо полюдски. Да так, чтобы люди восхитились и в пример взяли.
Я замотал головой: было бы за кого! Стал вспоминать соседей и, скривив рот, едва не плюнул на землю.
— Поживи один! — отец развел руками, не зная, чем утешить. — Подумай. Вдали от моря и болот, сперва-то легче. Где святость — там и спрос жестче, — вздохнул, поглядывая на крест и думая уже о своем.
— Можно с тобой побыть? — вскинул я глаза с надеждой.
Отец поморщился, покачал лохматой головой.
— Полдня хода отсюда — зимовье. Занимай. Изба теплая. Захочешь что спросить, сто раз подумаешь, прежде чем прийти. В самый раз соседство, чтобы попусту не беспокоить.
Я встал. Он тоже поднялся на ноги.
— Отдохнешь душой, наберешься терпения… Вдруг вернемся оба — это уже сила. Люди нынче сытно живут, оттого все врозь. А нечисть от страха и ненависти скопом держится…
— Не гневись, — добавил с виноватым видом. — Не могу я сейчас жить по-другому, — перекрестил меня, поглядывая лучистыми глазами. И от того всего лишь зачесался лоб, будто в него с маху врезался овод.
Я кивнул, претерпевая и прощая обиду. Смахнул зуд со лба, шагнул к ручью. Но обернулся:
— Отчего мне креститься не велят? Будто дрыном по башке бьют?
— Испытывают, наверное… Муха гадит на лики без наказания: что с нее взять?
Я снова потер лоб, покачал головой и направился к деревне.
Прошел еще один день. И был он прожит почти беззлобно, потому, что никого из соседей я не видел. Но по дурацкому своему проигрышу до конца месяца было еще далеко. Впрочем, еще неизвестно, как бы все было, не продуйся я лешему в карты.
В потемках стал колотить в дверь трезвый старик:
— Прости, конечно, ты сказал «послезавтра», а скоро — полночь!.. Двадцать капель всего…
Под конец даже такого спокойного дня я так устал быть человеком, что чуть не разорался. Сдержавшись, прохрипел: «Завтра, в полдень!» И захлопнул дверь перед соседом.
Утром пришлось топить печь и варить кашу. Кот, почуяв праздник, задрал хвост трубой, важно похаживал из угла в угол, настраиваясь на предстоящее обжорство.
Первой пришла старушка с квасом и с неостывшим еще киселем. Распорядилась, куда ставить стол, накрыла его скатертью. Я расставил снедь и бутылки, беззвучным пинком отправив кота за дверь. Пошел за речку. У могилы уже сидел подвыпивший с утра старик и горько плакал, поливая холмик водкой. Затем, с оценивающим прищуром рассмотрев на свет наполненный стакан, благостно приложился к нему. Последние капли вылил себе на лысину, растер ладонью и заголосил, сверкая повеселевшими глазами:
— Ну а смерть придет — умирать будем!Накоротке он тут же поругался со старушкой, взглянул на меня без обиды за вчерашнее, спросил покладисто:
— Когда поминать будем?
— Через час!
— И то ладно! — зашагал к речке, покачиваясь и размахивая руками.
Возле дома уже собирался народ. Празднично наряженная Ведмениха, пришла с миской творога и с тарелкой сметаны. На морде кота, встречавшего гостей у крыльца, отразились особые чувства приязни и уважения к ней. Лесник пришел с пакетом соленой рыбы. Домовой — с новой женой, старик — со своим стаканом. Хромой мужик с утра пилил дрова, оттого был присыпан опилками и толком еще не отдышался. Клацнув костылем, он неуклюже переступил порог, постоял под иконой, болтая безжизненной рукой, что-то мыча непослушным языком, смахнул слезу о свое плечо и сел в уголок.
— Все? — вопросительно взглянула Ведмениха на старушку. Та раздраженно отмахнулась.
— Тогда наливай! — скомандовал старик и поставил свой стакан на середину стола: — Мне — полный!
Я хотел разлить всем поровну, но не удержался и наполнил подставленный стакан до краев. Как нежного трепетного птенчика обхватил он его пригоршней узловатых пальцев, желая общего внимания, забормотал несуразицу, заохал, стал макать пальцы и брызгать вокруг себя, увлекаясь и входя в раж, как актер на сцене. Едва сбросил сапог, чтобы проделать то же самое ногами — я громко кашлянул. От кашля звякнула пустая посуда.
— На болотах всегда так! — оправдался старик.
— На болотах и пей… С сучком в дупле, с лягушкой за щекой… — прохрипел я, сдерживая брань, и скрежеща зубами. — А здесь по-людски надо!
Как птица на взлете выстрелом старик был сбит с праздничного вдохновения. Без удовольствия поглядывая на стакан, стал тыкать вилкой в соленый рыбий хвост и ждать команды пить. Лесник хмурился. Ведмениха ерзала на стуле. Домовой недовольно водил влажным носом. Хромой пытался что-то сказать.
— Помянем нашу Марфу, что ли? — вздохнула старушка и, брезгливо коснувшись своего стакана губами, запила его запах квасом.
Старик влил в себя водку, закрыл глаза, благостно ощущая, как она катится по пищеводу. Лесник хмуро высосал налитое, подобрев, стал закусывать. Молодая чета, опорожнив стаканы, молча и с намеком отставила их: дескать, между первой и второй — перерывчик небольшой! Домничиха огорченно оглядев собравшихся, пошуршала сигаретной пачкой, побряцала спичками, сорвалась с места, выскочила на крыльцо и жадно задымила. Молчание становилось неловким и тягостным.
Ведмениха, обращаясь к Леснику, попыталась завести культурную беседу. Тот понимающе покивав, вытащил из кармана причудливый сучок, похожий на детородный орган, отшлифованный и усовершенствованный до удивительного сходства. Женщина густо покраснела, но, боясь прослыть рутинисткой, восхищенно всплеснула руками. Ездившие в город рассказывали, что там стены домов обклеены картинами голых баб и мужиков, а на работу и в общественный транспорт пускают, будто, только в презервативах.
У старика клокотало в горле. Душа просила веселья, а жесткие правила трапезы вызывали громкое урчание живота. Он ерзал на скамейке и таращил глаза в облупившийся потолок. Вошла жена Домового, обдав застолье табачным смрадом. Села и покосилась на пустой стакан. Домовой стал еще угрюмей.
Я посмотрел на старушку, сидящую против меня. Голова ее подрагивала, кожа на шее висела складками, руки были грубы. Как ни ведьмач, а возраст не скроешь. Ничего похожего на конопатую нерпу в ней не было.
Домничиха еще пару раз сбегала покурить. Это ей надоело, а дымить за столом я не позволял. Домовому наше застолье и вовсе стало в тягость.
— Ты вот что, — сказал, вставая. — Займи бутылку — мы со стариком сами Марфу помянем. Гулять, так гулять, — добавил с возмущением: — Что время тратить попусту — по хозяйству дел много…
Я взглянул на старушку. Она тоже не знала, как поступить. Пожав плечами, протянул через стол нераспечатанную бутылку. Прокуренная бабенка ухмыльнулась, показав черные корешки зубов. Лицо старика просияло. Он сорвался с лавки, на ходу засовывая в карман стакан и пряник.
Трое жителей хлопнули дверью и прошли под окном в обнимку, распевая:
— А мы жить будем, а мы гулять будем, Ну а смерть придет — умирать будем!Хромой посидел с грозным видом, не притрагиваясь к водке, попил кваску, поковырял ложкой в закуси, поднялся с красным лицом. Невысказанные слова клокотали в горле. Помучавшись с непослушным языком, он глубоко вздохнул и выпалил без запинки:
— Так-то вот!
В голосах увлеченно беседующих о современной мировой культуре появились спорные нотки. Мы со старушкой взглянули друг на друга. Я с ходу выпил три стакана квасу, икнул и запил их киселем.
Ведмениха с Лесником сдержанно скандалили, выясняя, кто кому и что когда-то сказал и как был понят.
— Пойду я, однако! — поднялась старушка. — Земля пухом и Царствие Небесное моей подружке. — Ее хоть сын похоронил, а мне и надеяться не на кого: разве ты не бросишь, — взглянула на меня с намеком. — Недавно один запойный удавился, рядом с Петькой жил. Так наши мужики, из петли его не вынув, поминать стали. Ладно, я картошку продала, туристов наняла, закопали бедного — уж засмердил, было, на веревке.
Лесник, уверенной рукой налив в стакан, выпил, вытер губы рукавом, пристально и хмуро взглянул на Ведмениху, в чем-то ее уличив. Она, не зная как ответить, желчно насупилась, злорадно усмехнулась:
— Портянки два месяца не стираны… Философ. А я сижу, терплю!
Теперь налился краской лесник, бросил на соседку испепеляющий взгляд. Та вскочила, торжествуя, метнулась к двери. Лесник грозно поднялся и пошел следом.
Я сгреб со стола недоеденную рыбу и бросил коту, неторопливо и чинно пирующему за печкой.
— Пойду! — снова сказала старушка. — Помогла бы со стола убрать, да тут и убирать-то нечего.
«Без надобности!» — проурчал кот, косясь на почти не тронутую сметану.
Я оставил ему все, что было. Не стал брать и ружья: как был, в болотниках, в рубахе, так зашел за куст черемухи и углубился в лес. Унялась дрожь в груди, невысказанная обида как-то сама собой прошла.
Папаша был занят все тем же. Обернулся удивленно, будто соображал, уходил ли нежданный гость.
— Один вопрос, — взмолился я. — Один-единственный… Ты, говорил, что против людей воюет вся нечистая рать, а те этого в толк не возьмут. Растолкуй мне, ублюдку, с засушенными и пропитыми мозгами, как на войне без ненависти и ярости? Не преступно ли внушать солдату любить его врагов, всех ненавидящих и убивающих его?
Видно вопрос мой был для отца и неожиданным, и долгожданным, как пуля для воина. Он вздрогнул всем телом, упал на колени перед старой, раскрытой книгой, мучительно сжал голову потрескавшимися пальцами.
— Все оболгано и вывернуто! — застонал, скрежеща зубами. — Но, в этой книге каждое слово осталось на своем месте… «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас…» Так и написано!
Предки наши читали эти самые слова и убивали врагов без жалости. Мы же знаем, что они пролили реки крови не только своей, но и вражьей. При том, молились, множились, дороги и города строили! — завыл отец, в отчаянии взывая то к чистому небу, то ударяясь лбом в старинную книгу. — Что-то они знали, что само собой разумелось вдобавок к писаному… Я простой охотник. Я знаю, как добычу превратить в приманку. Понимаю, что приманка нужна для капкана, а капкан для истребления… Старый, подлый пьяница. Нет мне прощения, — забился лбом о землю. — Так много говорил и так мало слушал мать, деда и прадеда.
Теперь одна надежда на Отца Небесного, последнего, кто любит нас. Молитвой хочу выпросить откровение и получить забытое от Него самого…
— Не могу я тебе ответить, сынок, и помочь не могу, — поднялся отец с колен и вытер слезы. — Прости!
И тут я заметил, что он уже стар.
Я еще не вышел из лесу, как услышал, что по морю идет волна с запада и бьет в берег, будто хлещет по щекам: «Вот тебе! Вот тебе!»
Из деревни доносились крики и вопли. Домовой опять разводился. В ярости он перебил гусей, удавил кошку и грозил застрелить свинью. Домничиха бегала по шпалам, прикладывая к губам то одну, то другую руку с пучками сигарет меж пальцев. Дым над ней клубился будто над поездом. При том, она еще топала ногами и кричала, что дохлый гусь вдвое дешевле живого, требовала возмещения за нанесенное бесчестье.
Домовой выскочил из свинарника с истошно визжащим поросенком, которого волок за задние ноги. Размахнулся им в слепой ярости, швырнул в недавнюю жену. Та, в обнимку с истошно визжавшей свиньей полетела под откос. И тут он увидел меня, выходящего из леса, кинулся навстречу, глядя ласково и дружески:
— Водка есть? Нельзя терпеть, надо выпить!
Я стряхнул мокрую траву с болотников, вошел в дом, не прибранный после застолья.
Кот почистил посуду и теперь отдыхал, лежа кверху брюхом. Водки он не пил. Она так и стояла, разлитая по стаканам. Домовой слил ее в кружку. Выпил, задумался, подобрел.
— Чуть дом не спалила, стерва! — сказал без злости. — Уронила на матрац окурок. Просыпаюсь — горим! А ей что? Дымом дышит — не чихнет даже… Где бы некурящую найти? Да чтобы водки не пила и детей бы рожала? — вскинул посмирневшие глаза. — С другой стороны — баба работящая и с гусями.
Он помолчал, поглядывая через окно на насыпь, где на рельсе сидела изгнанная жена. У ее ног шевелился мешок с подсвинком.
— Может, помириться? — спросил виновато. — Гуся-то не твой кот загрыз, а лесниковский пес. Бабкина внучка видела. Это ведь он… Не то, чтобы на твоего кота наговорил, но намекнул.
Виниться за учиненную мне и моему коту обиду Домовой не собирался. Здесь, как на болоте, это было не принято. Своим видом он показывал, что больше не сердится, об остальном, по его соображению, я должен был догадаться сам. Но я молчал, не желая заводить разговор и от того Домовому было неловко.
— Лесник с Ведменихой написали донос, что ты — бомж, живешь без прописки в чужом доме: пьешь, дерешься, торгуешь водкой, грозишь туристам противоестественными актами через ноздри и уши… Старику налили полстакана — и он ту бумагу подписал. Меня уговаривали, но я никаких бумаг не подписываю… И гуся не твой кот задрал… Теперь Лесник с меня долги получит: накось выкуси, — ткнул дулей в сторону его дома.
Он посидел еще, поглядывая в окно, встал и, смущенно улыбаясь, пошел мириться с женой. Дул устойчивый ветер с запада. В воздухе висела гарь далекого города. Вся деревня была зла и скандальна. Но больше всех был зол я, и каждый удар волны о берег распалял во мне ярость. Глядя вокруг помутневшими глазами, скрежеща зубами, я прохрипел:
— До Ерофеина дня буду батрачить, но вы узнаете, чем болота воняют! Вызнаю, где старый колокол, повешу посреди деревни… И устрою перезвон…
Опечалив кота, я выволок стол с объедками на улицу, стал прибирать в доме и вычистил его, как никогда прежде. Затем сложил остатки продуктов в туес и спрятал в лесу вместе с ружьем и удочкой. После этого вернулся и повесил на дверь огромный ржавый замок, чтобы видели — в доме есть хозяин.
Кот все понял, стал ходить за мной по пятам и громко мяукать, призывая отказаться от неразумных поступков и смиренно терпеть невзгоды дня. Ему в голову не приходило идти со мной в лес, хотя он знал, что впереди не лучшие времена. У него был дом. В нем, даже в пустом и холодном, он будет ждать и надеяться на лучшее. Хорошо быть котом!
Я же снова вошел в лес, срубил сухой, звенящий как железо кедр, выволок его на середину деревни и стал тесать брус. Ведмениха бросала в мою сторону любопытные взгляды. Лесник то и дело высовывался из-за заборов и крапивных кустов. Помирившийся с женой Домовой, оставил дела и вышел из своих ворот. Домниха сзывала кур. Один уголок ее рта был занят сигаретой и плотно сжат. Другим, перекошенным, она шепеляво выкрикивала: «Пыпа-пыпа-пыпа!»
Звенел мой топор, отзываясь от дальних скал, и все другие деревенские звуки стихли. Старушка пасла курочек и украдкой поглядывала, что выйдет из затеянного мной. Выполз старик. Он опять был в обычном недопитии и от желания добавить скрежетал зубами. Хромой остановился на железнодорожной линии, пристально наблюдая всех. На стук топора приползли даже туристы с берега. Все возбужденно переглядывались и посмеивались, ожидая развязки.
Но я знал, что делаю. Не знал только смогу ли довести все до конца. Может быть, кто-то уже начал догадываться о затее, потому что Хромой вдруг расхохотался и крикнул без запинки:
— «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные!»
Едва я стал соединять крестовину, защипало руки, стало сводить пальцы. И вот уже тупая боль выворачивала суставы. Пересиливая ее, я все же сложил воедино концы кедровых брусьев. И меня затрясло. Но то, что накипело внутри, было сильней. И вот, отшвырнув топор в сторону, я поднял над головой самый древний из всех и самый ненавидимый нечистью крест. Волосы мои встали дыбом, душно пахло паленым. Нос тлел и обугливался, рук я уже не чувствовал. И когда стало совсем невмоготу, закричал: «Ненавижу!»
И полегчало.
— Фашист! — тонко и надрывно запищала Ведмениха. Ее полные груди гулко зашлепали по животу.
Лесник выпучил глаза, выворотил челюсть, завыл по песьи, упал на четвереньки и стал рыть ногтями землю. Старик зарыдал, шлепая себя скрюченными ладонями по ляжкам и по лысине, закричал слезно:
— Соседа кондрашка хватил! А прикидывался малопьющим!
Домниха, как на угольях заскакала в похабной заморской тряске. Лицо Домна с вытаращенными глазами становилось то белым, как рыбье брюхо, то красным как пламя. Сожалея о том, что вышел со двора, он на четвереньках пытался ползти к своим воротам.
Туристы молча и сосредоточенно выплясывали джигу.
Лесник, изогнувшись колесом, высунул голову из-под ягодиц и проверещал:
— Нет уже людей в чистом виде, одна помесь!
— А я кто? — заливаясь слезами, выскочила из какой-то подворотни конопатая девка. В ней я узнал ночную пловчиху.
Это была поддержка. И тогда я поставил непосильный для меня груз на землю, прямо посередине деревни.
Изможденные пляской туристы попадали, тяжело дыша и отдуваясь, стали оправдываться:
— Мы тоже люди! Только нынче об этом не принято говорить.
Хромец захохотал еще громче, изо всех сил захлестал костылем по рельсе и тот разлетелся в щепки, а он сам беспомощно упал на шпалы. Рыдая и вздрагивая всем телом, борясь с судорогами, к нему подползла Ведмениха, помогла встать, и они заковыляли к дому.
На подгибавшихся ногах и я поплелся к лесу. В чащобе уже хихикал и потирал корявые руки зеленобородый старикашка. Что спорить — он выиграл вчистую и мне пора было заплатить за проигрыш. От устроенного переполоха легче не стало, может быть, даже хуже — вид двух несчастных супругов, удалявшихся к дому, будто присолил свежие раны ожогов.
Пловчиха, выгребая из карманов окурки, шла следом за мной, кот жалобно мяукал у крыльца, да светлая старушка, не знавшаяся ни с Богом, ни с нечистью, вздыхала вслед:
— Взвалил ты на себя крест! По силам ли?
Мне мстительно хотелось сказать всем им про колокол, но я понимал уже, что нечисти в деревне нет — одни уроды, ублюдки да замороченные городом холуи.
Дуло с запада. Не мне заказывать ветра на море. День придет, и он переменится: рано или поздно опять задует с севера. И я вернусь. Вернусь, хотя бы потому, что кроме как сюда, мне возвращаться некуда! А может быть, я вернусь не один, и станет нас почти полдеревни. И жить будем по-людски, и умирать по-человечьи, как встарь.
— Тебя как зовут? — обернулся я к конопатой, старухиной внучке: заспанной, опухшей, ленивой, прокуренной, и все же не такой поганой, как я сам. И тут же испугался встречного вопроса. Ведь у меня еще не было имени.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg





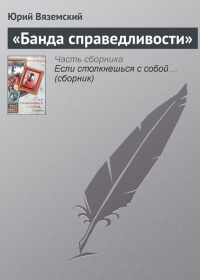

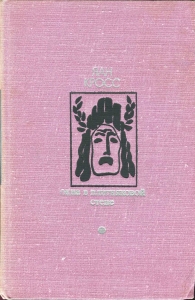
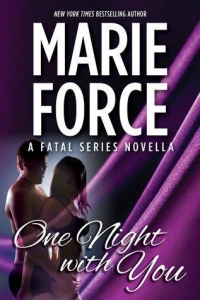
Комментарии к книге «Нечисть», Олег Васильевич Слободчиков
Всего 0 комментариев