Наталья Елизарова ЖМЫХ (роман)
Издательский дом «Выбор Сенчина»
© Наталья Елизарова, 2018
ISBN 978-5-4490-4129-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
* * *
Жмых
Память, как болото: увидишь нежную кувшинку, залюбуешься, потянешь к ней руку — и соскользнёшь в такие топи, из которых живым не выбраться…
«Солнце родится из глубины сельвы[1]. В самой чаще, среди непролазных папоротниковых зарослей, стоит заброшенный город из чистого золота. Вход в него сторожат два ягуара. Они готовы растерзать любого, кто приблизится к стенам. Когда-то за ними нашли укрытие инки[2], бежавшие от испанцев во времена конкисты[3]. Они-то и припрятали в городе свои сокровища… О, это несметные богатства! Их так много, что хватит на тысячу лет, и они не убавятся. От блеска этого золота и появляется солнце. Оно сияет так ярко, что видно далеко за пределами Пайтити[4]…».
Я часто слышала эту легенду из уст матери, но то, что она заговаривается, поняла не сразу.
«Дорогу не всякий отыщет. Хитрые инки позаботились, чтобы никто не посягнул на их золото. Сколько уже смельчаков сгинуло от укусов москитов и яда кайсаки[5], сколько увязло в трясине и попало в пасть к аллигатору. Заветный путь откроется только избранному…».
Моя мать всегда была настолько приземлённой женщиной, что в ней трудно было предположить хоть какую-то склонность к сочинительству, но в один абсолютно будничный и ничем не примечательный день она вдруг ни с того ни с сего завела разговор о таинственном золотом городе, скрытом в недрах тропического леса.
«Тропу мне показала старуха из племени гуарани[6]. Она сказала, в путь можно отправиться только один раз в год, когда цветёт чёрная кинабалу[7]».
Её глаза горели нездоровым лихорадочным блеском. Смуглые натруженные пальцы нервно подёргивались: она как-то странно перебирала ими и ловила что-то невидимое в воздухе.
Однажды я спросила: «А где это — Пайтити?». Мать, пожав плечами, махнула рукой куда-то вдаль: «В Перу… в Андах[8]… где-то там…». Неясность ответа смутила меня, и я засыпала её вопросами: «Это далеко? Как мы туда доберёмся из Мисьонеса[9]?». Но мать лишь улыбнулась: «Как только мы найдём сокровища инков, мы заживём так, как тебе и не снилось! Перестанем работать. Купим шёлковые платья: тебе алое, а мне — голубое, и коралловые серёжки, оденемся, как две госпожи, и пойдём по улице — пусть все завидуют. Вон, скажет сплетница Луиса хромой Исидоре, идут Тереза и Джованна Антонелли — две такие степенные и важные дамы — ну чисто жена и дочь губернатора!.. Вот, дочка, что скажет эта сплетница Луиса, накажи её Мадонна за длинный язык, когда мы с тобой найдём клад!».
Я невольно оторвалась от лохани, где полоскала бельё, и посмотрела на мать: глаза полузакрыты, на пересохших подрагивающих губах жалкая, рассеянная улыбка. Она слегка покачивалась, будто во хмелю.
…Когда-то она была красавицей, но от былой красоты не осталось и следа. Тяжёлый адский труд наравне с мужчинами и домашние хлопоты выжали из неё все соки. В свои двадцать с небольшим она превратилась в настоящую мумию: впалая грудь, узкие бёдра, худые жилистые руки. Всем своим обликом она напоминала чахлое деревце с блёклой зеленью. Такие нередко можно увидеть вдоль дороги. Стоят они, опустив реденькие, жидкие ветви, на безжизненной, иссушенной почве и медленно умирают.
Она родила меня в четырнадцать. Про отца не знаю ничего. Слышала только, как однажды на его счёт злословили соседки: мол, приезжали на уборку тростника парни из Асунсьона[10], поработали и уехали, а мать моя осталась с брюхом — парагвайский гостинчик.
Это обидное прозвище я слышала всякий раз, как выходила на улицу, и всякий раз на глаза у меня наворачивались слёзы. «Болтают, сами не знают, что… — смутилась мать, когда я ей об этом рассказала. — Не слушай их, дочка».
У меня было полдюжины братьев и сестёр мал мала меньше. Мать рожала их почти каждый год: тощих, болезненных, с большими вздутыми животами — кожа да кости. Чтобы заглушить голод, они жевали всё, что попадалось под руку: листья стевии[11], сухие корешки, красную глину… Почти каждый год кто-нибудь из них умирал, и тогда моя мать, перекрестившись, возводила глаза к небу: «Да будет благословенно чрево твоё, давшее миру Спасителя, Пресвятая Мадонна, прибрала ангелочка!».
Мужья моей матери менялись так часто, что я почти не успевала запоминать их имена. Когда кто-нибудь из них, громко стуча грязными башмаками, в очередной раз по-хозяйски заходил в нашу хижину и бросал на лавку мачете и шляпу, мы, дети, прятались по углам: новые «отцы» имели обыкновение при любом удобном случае — за небольшие провинности, а иногда и скуки ради — награждать нас пинками и затрещинами.
Я искренне не понимала, зачем к нам дом приходили все эти люди. Денег и еды они не приносили, по хозяйству не помогали, а, напротив, доставляли всяческие неудобства: напивались, скандалили, били и без того скудную утварь и выгоняли нас из дома.
Во время сезона дождей крыша в нашей хижине, покрытая камышом и пальмовыми ветвями, протекала. Мы мёрзли и болели. Мать говорила, что попросит кого-нибудь её отремонтировать… Всякий раз, когда в доме появлялся очередной Рамиро или Аурелио, мать, опуская глаза, говорила: «Я позвала его, чтобы он починил нам крышу… Он починит и уйдёт». И этот Рамиро или Аурелио оседал в нашем доме на несколько месяцев. Ел и пил на всём готовом, а потом бесследно исчезал.
Мать как-то ухитрялась потчевать своих сожителей настоящими блюдами из тыквы и бобов, пекла лепёшки из маниоки[12], хотя мы сами кроме маисовой похлёбки ничего не видели. Один раз я спросила мать, где она берёт деньги, чтобы покупать продукты. Она улыбнулась уголками губ и поцеловала висевший на шее деревянный крестик: «Мадонна милостива». Позже я узнала, что она попросту закладывала вещи у ростовщика.
В нашем доме через всю комнату была протянута выцветшая застиранная занавеска. Мы, дети, спали по одну сторону, мать — по другую. Каждую ночь до нас доносились звуки, которые заставляли краснеть и одновременно будоражили воображение, распаляли любопытство. Ворочаясь на полу, на общем матрасе, мы подолгу не могли уснуть, слыша сдавленные стоны матери и сиплое урчание мужчины…
Её мужьями, как правило, были сезонные рабочие, приехавшие в наш городок на заработки. Они чем-то походили друг на друга: прокопченные загаром, нелюдимые, злые. Их хмурые лица освещались неким подобием улыбки лишь тогда, когда в руках у них оказывался мате[13]. Сила этого чудодейственного напитка была велика. Несколько глотков, и жизнь уже не казалась такой беспросветной. Глаза начинали глядеть веселей. С губ срывались пошловатые шуточки. А руки сами собой тянулись к женскому телу.
Я то и дело уворачивалась от потных похотливых ладоней, которые настигали меня всюду, иногда даже в присутствии матери, которая не обращала никакого внимания на все эти вольности. Её равнодушие, в котором сквозил оттенок лёгкой снисходительности, возмущало меня до глубины души. Однажды я не выдержала и выпалила ей, глядя в глаза: «Эти скоты меня лапают, а ты стоишь и смотришь, как ни в чём не бывало! Что ты за мать!». Она нахмурилась: «Что за вздор ты городишь, Джованна! Чтобы я этих глупостей больше не слышала!». Когда мать злилась, у неё начинали вздрагивать уголки губ, карие глаза темнели до черноты и подёргивались влажной дымкой. Я, опасаясь истерики, тотчас прекращала с ней любые препирательства.
Приступы у неё проходили бурно и начинались всякий раз неожиданно. Она могла часами кататься по полу, рыдать и биться головой о стены. В другой раз — униженно ползала на коленях, выпрашивая прощения непонятно за какие грехи. А однажды, разобидевшись на меня из-за какого-то пустяка, прокляла и пожелала смерти… Любые аргументы, любые уговоры были бессильны против её слёз. Поэтому как только на нашем небосклоне чудились грозовые раскаты, я замолкала, понимая, что моё утлое судёнышко не выдержит шторма.
Моя мать была непостижимым для меня существом. Милая, приветливая, услужливая — такой она была со всеми кроме нас, собственных детей. Мы редко слышали от неё доброе слово. Между нами существовала незримая дистанция, устранить которую мы и не помышляли. Для нас она была такой же незыблемой и устоявшейся, как затерянные в недрах Анд горные вершины с нахлобученными на мощные твердокаменные лбы величественными снежными шапками.
Вряд ли мать была такой бесчувственной от рождения. В уголках её большого, некогда пухлого рта залегли глубокие, чётко очерченные складки, свидетельствующие о склонности посмеяться. Но в её жизни было так мало причин для радости и так мало повода для шуток… А ведь когда-то она была молодой, полной сил. И её имя было чьей-то ночной грёзой.
Она родилась на побережье Рио-де-ла-Плата[14]. Мутной жёлтой реки, скользившей вдоль непроходимых дебрей тропического леса, где к кронам деревьев, опустившихся под тяжестью сплетенных причудливой сетью ветвей, приникли гибкие стволы лиан. Тихие, заболоченные заводи средь вечнозелёного полумрака. Приторный запах гнили и орхидей. Влажная одуряющая духота.
Чтобы выжить в таком месте, нужно уподобиться глине — мягкой и податливой, готовой в любой момент распасться на мириады частиц и безвозвратно кануть в илистых водах Рио-де-ла-Плата вместе с трухой пальм, отживших свой век, и гниющими трупами диких животных. Твёрдость духа и сила воли в таком краю как этот — непозволительная роскошь. Здесь вода не просто точит камень. Она его растворяет, подобно ненасытному гигантскому языку, лижущему кусок сахара.
Таким куском сахара и была моя мать: издали — твердыня, на деле — застывшая сладкая водичка. Его продают в любой бакалейной лавке на развес и едят с чаем вприкуску. Вместо конфет…
Чай и сахар. Главные богатства этой местности. Зелёное и белое золото Южной Америки. Как непринуждённо и беззаботно прихлёбывают чаёк кумушки всего мира, сидя в воскресный день на террасе. Сплетничают. Болтают о разных пустяках: выкройках, приступах мигрени, подгоревшей шарлотке… Скатерть с кистями, расписные чашки, вазочка с печеньем и варенье в розетке. Тихо, буднично, по-мещански скучно…
Когда передо мной оказывается чашка чая, я невольно представляю грязную речную пристань, пароход, до отказа нагруженный людьми и узлами с их пожитками, и мою мать — маленькую девочку в коротком платьице, перешитом из старой юбки, чьи крошечные ножки едва поспевают за идущими по трапу родителями. Никто не держит её за руку — отец и мать несут тюки с вещами, поэтому она, боясь потеряться в толпе, бежит вприпрыжку.
…Я слежу за тающим ароматным облаком, скользящим по запотевшим стенкам чашки, и мои мысли ползут вслед за ним в далёкое прошлое.
…Тогда все искали лучшей жизни. Уезжали из голодных аргентинских провинций на заработки в Альто-Парану[15]. «Благодатная земля, — говорили вербовщики рабочей силы, не скупясь на словесную патоку. — Можно подзаработать, скопить деньжат. А там: хочешь — дом строй, хочешь — лавку открывай, закупай товар, торгуй».
Лавка, дом… О такой роскоши будущие пеоны[16] и не мечтали. Хоть бы поесть досыта… Но рассказы о безбедной жизни кружили головы, и люди ехали в Альто-Парану целыми семьями. Среди них были и мои дед с бабкой — Джакомо и Донателла Антонелли — юные, полные надежд…
В своё время в поисках лучшей доли они вот также покинули родную Италию… Безродные, безвестные бедняки из маленькой захудалой деревушки Романьяно-аль-Монте[17], трудившиеся на своей родине за одну лиру в день, которой едва хватало на миску жидкой поленты[18], они искренне надеялись, что за океаном им повезёт… Но Серебряная земля[19] не захотела поделиться с ними своим добром… В награду за трудолюбие мои предки не получили ничего, кроме враждебного отношения со стороны местных, считавших, что «проклятые макаронники отнимают у них кусок хлеба»… И тогда они решили попытать счастья в Парагвае…
Что знали мои дед с бабкой про дикие заросли йербы[20] в верховьях реки Параны[21], когда вместе с другими нанялись в работники? «Чудное райское место… Работы на всех хватит. Через год — полные карманы денег»… В местечке на побережье реки Рио-де-ла-Плата, где они попытались осесть по приезде из Италии, кроме жизни впроголодь, перспектив не предвиделось, а рассказы о баснословных заработках на заготовках парагвайского чая были так заманчивы…
Осознали ли они, в какую западню попали, оказавшись на пароходе, где боцман и его подручные усмиряли строптивых менсу[22], внезапно передумавших ехать и требовавших расторгнуть контракт, палками? Или подумали, что именно так и следует поступать с нарушителями спокойствия? Ёкнуло ли у них от недобрых предчувствий сердце, когда зачинщики беспорядков на следующее утро после отплытия вдруг внезапно исчезли? Или решили, что тех отправили на берег шлюпкой? Не охватила ли их паника, когда они впервые увидели за бортом распухший, изъеденный рыбами труп, подбрасываемый волнами Параны, словно обычную корягу? Или не встревожились, рассудив — мало ли в этих водах утопленников… Река могучая, свирепая. Её рык, извергаемый гигантскими водопадами, разносится на десятки километров. Непросто преодолеть эти огромные расстояния, эти кипящие пеной пороги… Но если они и осознали, если и поняли, что могли поделать? Что-либо предпринимать было уже поздно. Причал превратился в тёмную полоску горизонта.
…Они плыли больше недели, будто один большой цыганский табор: вместе с домашней живностью ели и спали, затевали ссоры, играли в карты, шлёпали ревущих детей, давили вшей, рассказывали страшные истории про индейские жертвоприношения, совокуплялись в укромных углах, латали рваную одежду.
Их кормили тухлой рыбой. На протяжении всего путешествия на палубе стоял отвратительный смрад. Многих мутило.
Как потом выяснилось, за тухлятину с каждого из пассажиров вычли по семьдесят пять песо[23]. Сто песо нужно было заплатить за проезд, девяносто — за выпивку (во время холодных ночей на палубе под открытым небом это была единственная возможность согреться), восемьдесят песо составляли комиссионные вербовщику, тридцать пять отчекрыжили за провоз багажа… Многие менсу возмущались: «Какой багаж? Старое одеяло? Пара рваных пончо?». Но разве поспоришь с теми, у кого в руках карабин?.. Поскольку денег почти ни у кого не было, на каждого лёг долг в несколько сотен песо. А по прибытию на место путников ждало ещё более неприятное открытие. Управляющий, приехавший на пристань встречать новую партию работников, объявил, что своему теперешнему работодателю бедолаги должны ещё по две тысячи — именно столько он заплатил вербовщику за каждого менсу. Две тысячи песо помимо основного долга. Люди, поняв, что их самым бесстыдным образом надули, пришли в отчаяние. Всех, кто стал возмущаться, жестоко избили. В их числе был и мой дед. Ему тогда разбили в кровь лицо и сломали два ребра… Так, ещё ничего не заработав, он уже попал в кабалу…
В те годы заманивать людей обманом на плантации было самым обычным делом. К чему щепетильность, когда речь идёт о больших деньгах, а на сотни миль лесных угодьев — ни властей, ни закона? Хочешь бежать — беги: винчестер пожелает попутного ветра. Хочешь жаловаться — жалуйся: кайманы внимательно выслушают твою исповедь.
Чтобы валить огромные двадцатиметровые деревья падуба, нужны были сильные, крепкие, здоровые молодые мужчины. Всеми правдами и неправдами их завлекали в Альто-Парану, а через несколько лет это уже был отработанный материал: сломленные, измученные, измождённые люди. Не люди даже — рабочий скот.
«Раз… два… три… четыре…» — с трудом переводя дыхание и облизывая солёные растрескавшиеся губы, шептали батраки, продиравшиеся к роще дикой йербы сквозь густые заросли осоки и расчищавшие себе путь ударами мачете. Дорогу им преграждали зловонные болота, частокол колючих кустарников, хищные ядовитые твари. Чуть зазевался — и белые зубы аллигатора намертво вонзались в тело и рывком волокли его под плавучую вязкую тину, сделал неверный шаг — и тебя, шурша в траве жёлто-бурой чешуёй, подстерегала смертоносная жарарака[24], ослаб от истощения — и вот уже по твоей плоти копошились полчища красных муравьёв.
«Раз… два… три… четыре…» — стиснув зубы, мычали лесорубы, размахивая топорами и не думая о том, что для заготовки йербы совсем не нужно под корень вырубать целые рощи падуба, достаточно лишь аккуратно срезать ветви и собрать с них самое ценное — душистые зелёные листья. Но разве будут помнить о таких мелочах люди, подстёгиваемые нуждой, точно плетью? Полуголодные, оборванные, ожесточённые, они выплёскивали всю накопившуюся в душе ненависть на белоствольные деревья, как будто именно те виноваты были в их бедах… Дюжина крепких ударов — и могучий вековой исполин покорно падал под победоносный клич истощённых, обезумевших пеонов. А через нескольку секунд в его истекающие соком раны уже безжалостно вгрызались лезвия мачете и кромсали поверженные ветви, оставляя на их месте изрубленные почерневшие культи.
«Раз… два… три… четыре…» — стуча костяшками на счётах и бросая на весы мешки со свежесобранными листьями, покрикивали в приёмном пункте сборщики и между делом обвешивали работяг. У вымотавшихся за день мужчин и женщин сил на протест уже не хватало. А если кто-то из них, заметив жульничество, всё же пытался его пресечь, его тут же грубо обрывали: «Да тут и листьев нет, только ветки!.. С травой набрал — брак!.. Скверный товар — одна труха!»… Спорь не спорь, а всё равно будет так, как захочет хозяин. А хозяину хотелось платить своим батракам как можно меньше. Набрал четыре арробы[25] — получишь за две. На тех, кто решался возражать — быстро находилась управа.
«Раз… два… три… четыре…» — с остервенением вопили надсмотрщики, лупцуя хлыстом вздрагивающие окровавленные спины бунтовщиков — так называли всякого, кто осмеливался перечить плантатору.
«Раз… два… три… четыре…» — во всю глотку орали пьяные пеоны, швыряя на стол кости и проигрывая потом и кровью заработанные гроши. Оскаливая жёлтые зубы, бранясь и отплёвываясь, они с оголтелым азартом отдавались игре, и в такие минуты чувствовали себя по-настоящему счастливыми. Они испытывали Фортуну, рисковали, ловчили, изобличали шулеров и хитрили сами. Долгие месяцы лишений забывались, как по волшебству. Следы бича на смуглых спинах сглаживались сами собой. Они больше не были забитыми и униженными менсу. Они дышали полной грудью. К ним льнули женщины. Рекой лилась канья[26]. Пока в их карманах звенело хотя бы несколько монет, они ощущали себя хозяевами жизни, задавались, хорохорились, важничали. Но наступало утро, рассеивался пьяный угар, и они снова превращались в жалких подёнщиков в прохудившихся альпаргатах[27] и засаленных сомбреро, которые, взяв в мозолистые руки мачете, шли гнуть спину в лесные чащобы.
«Раз… два… три… четыре…» — приговаривали могильщики, подбрасывая лопатой влажные комья красной земли.
И так продолжалось изо дня в день, из года в год…
Моя бабка, Донателла Антонелли, скончалась в первый же месяц после прибытия в Альто-Парану. Скоротечная чахотка скрутила её в считанные дни, и она истаяла буквально на глазах. Её замотали в кусок старой холстины и бросили в реку — так во время наводнения поступали в этой местности со всеми усопшими. Могил не рыли. Затопленная почва была для этих целей непригодной. «Бросили, будто бревно, в воду и оттолкнули палками… А у другого берега копошились кайманы… Один из них, разинул пасть и нырнул… Она погружалась в воду, а он плыл прямо к ней…» — когда мать рассказывала эту историю, у неё были остекленевшие глаза. Похоже, это было её самым ярким детским воспоминанием.
Дедушка Джакомо запомнился мне глубоким стариком — сухоньким, сгорбленным, жалким. Когда он заболел жёлтой лихорадкой, его вынесли из хижины и уложили в гамаке под пальмами. Мы с матерью, по очереди сменяя друг друга, поили больного отваром из коры хинного дерева. Я, брезгливо держа кончиками двумя пальцев половину кокосовой скорлупы с отваром, со страхом смотрела, как бьётся в конвульсиях иссохшее, немощное тело. Старик, с трудом ворочая пересохшим языком, жаловался, что у него раскалывается голова и выворачивает суставы. Его поминутно рвало. Нестерпимые страдания умирающему причиняли мухи, которые набивались в седые всклоченные космы, облепляли глаза, лезли на вспотевший лоб. Я изо всех сил махала пальмовым листом, стараясь отогнать их, и тогда они набрасывались на меня… Через пару дней всё было кончено. «Износился, как старое платье…» — задумчиво обронила мать, не отрывая взгляда от разведённого перед хижиной костра, в котором мы, опасаясь эпидемии, сожгли все дедушкины вещи.
Когда он умер, ему было сорок лет.
После смерти он не оставил нам ничего, кроме грехов и долгов. А при таком раскладе у нас, его детей и внуков, всю жизнь было только две заботы — молись да расплачивайся.
Моя мать ходила под руку с Мадонной, а за другую руку её водил сам Дьявол. Грешила и каялась. Каялась и грешила.
Я молитв не знала. Но по счетам расплатилась сполна за всех Антонелли.
Моим братьям и сёстрам повезло больше — почти все они умерли в детском возрасте, а самые счастливые — во время родов.
Я тоже могла бы умереть в младенчестве от голода и болезней, и даже во чреве матери: она не хотела моего появления на свет и с помощью разных знахарских травок отчаянно пыталась вытравить плод — безуспешно. Хотя со стороны Господа призвать меня было бы милосердием. Но он обрёк меня на жизнь. И я вцепилась в неё руками и зубами. И начала изо всех сил карабкаться и ползти, а карабкаясь — не оглядывалась назад. Озираться не было нужды, ибо мне и без того было известно: позади — пропасть, а впереди — только то, что я смогу вырвать у Судьбы из глотки.
Всю свою жизнь я дико завидовала тем, кому такие мысли были чужды, кто мог существовать просто и мудро, в согласии с собой и с этим миром… В детстве я играла с индейскими ребятишкам. В нашем селении жили несколько семей краснокожих, обращённых миссионерами в христианство. Дети Большой реки[28] — так они себя называли. Я часами могла наблюдать, как они ловят рыбу: став недалеко от берега по колено в воду, они зорко высматривали, когда в прозрачном речном мелководье промелькнёт белёсый плавник — и одним метким движением пронзали добычу тонким заточенным прутиком. А потом их матери, завернув рыбу в листья, запекали её на огне вместе с кореньями. Мужчины охотились на оленей, приходивших на водопой, а за рыбой уплывали вниз по течению. Когда сыновья подрастали — они брали их с собой и учили всему, что умели сами. Но главное, чему они учили своих детей — не брать от природы больше, чем она могла им дать: деревья рубили только, если нужно было построить жилище или выдолбить пирогу[29], охотились на животных — для пропитания. По этому неписанному закону индейцы жили столетиями… А в это время наши матери рассказывали нам сказки про несметные сокровища инков. И в лице их главного персонажа мы обретали на всю оставшуюся жизнь бессмертного идола — блестящий жёлтый металл, — перед которым вставали на колени и изо всех сил тянули к нему свои руки. Кто не дотянулся — проиграл. А при пустых карманах твой хлеб всегда будет чёрствым.
Я не дотянулась. Точнее, дотянулась, да не вовремя… Если бы только мне удалось сделать это чуть раньше, я бы не была обузой для своей матери. Если бы у меня было красивое шёлковое платье, а не жалкое рубище, ей бы не стыдно было идти со мной рядом по улице. Соседки завистливо смотрели бы нам вслед и шептали:
«Просыпайся, Джованна! Твоя потаскуха-мать тебя бросила!»…
Прошло уже много лет… Столько голосов безвозвратно стёрлись из памяти, столько слов сгинуло бесследно, а шёпот хромой Исидоры до сих пор стоит у меня в ушах:
«Просыпайся, Джованна! Твоя потаскуха-мать тебя бросила!»…
Она сбежала с контрабандистом. Хотя, наверное, слово «сбежала» здесь неуместно. Просто ушла. Какой-то парень предложил ей пойти вместе с ним, и она пошла. А, может, не предлагал, и она сама увязалась вслед за ним… Ей хотелось жить и любить. А дома её ждало столько голодных ртов, прокормить которых она была не в состоянии.
Когда я пытаюсь представить себе, о чём думала она, бросая троих детей — меня и двух моих младших братьев — на произвол судьбы, я вспоминаю её улыбку. Так, уголками губ, могла улыбаться только она: потаённо, вкрадчиво… Вероятнее всего, она улыбнулась, поцеловала крестик и попросила Мадонну позаботиться о нас. А затем ушла из дома, убеждённая, что вверила наши жизни в руки более могущественные, нежели её собственные.
После того, как она оставила нас, я мечтала только об одном — отыскать золотой город. Я часами представляла, что сделаю, когда разбогатею: в первую очередь, куплю в лавке нарядную юбку с оборкой, блузку, расшитую бисером, новые туфли с подковками на каблуках, и отнесу всё это великолепие матери. Она обрадуется. И вернётся домой. Я искренне верила в это и истово молила Мадонну показать мне дорогу к Пайтити. Мне было восемь лет, и я тогда ещё не понимала, что этот город инков — всего лишь миф. И не знала значения слова «потаскуха».
…Меня и братьев отправили в миссионерский приют в Посадасе[30]. Я пробыла там совсем недолго — около полугода. Нас воспитывали монахини-католички: равнодушные немногословные существа с пустыми рыбьими глазами. Они учили нас молитвам и обрядам, которыми мы машинально и бездумно задалбливали головы, и жестоко карали за малейшую оплошность — всю жизнь мне придётся усердно прятать за высокими воротниками и шейными платками шрам от розги, которой меня попотчевала одна из Божьих невест.
За время пребывания в приюте мы едва не позабыли свои имена. Сёстры называли нас не иначе, как «маленькие грешники», «скверные дети», «грязные испорченные существа». И без конца твердили, что порок у нас в крови. Эта расхожая фраза всякий раз была сцеплена с упоминанием о вавилонских блудницах, коими, по словам настоятельницы, являлись наши матери. В те годы я не вполне понимала, что они имели в виду, но мне сразу же вспоминалось моё детское прозвище, изобретённое чьими-то злыми языками…
А потом в общине случился мор — холера унесла больше половины воспитанников приюта. Заразились и ухаживающие за ними монахини. Эпидемия распространялась настолько быстро, что очень скоро дом, в котором мы жили, превратился в одну большую покойницкую. Умерших было так много, что их не успевали хоронить, а сваливали на пол в классной комнате. Те, кому посчастливилось избежать проклятой заразы, прятались на задворках дома, в сарае и с ужасом ожидали нового дня. Никто не знал, что он готовит нам: милость Господню или новое испытание.
Бог призвал двух моих братьев. Я помню, как в течение двух-трёх дней они из мальчиков превратились в маленьких старичков. Я была в ужасе, видя, как их руки и ноги буквально на глазах покрылись глубокими морщинами, а тонкая кожа натянулась на скулы и глазницы так, что стали видны очертания черепа… Они беспрестанно просили пить. И мне казалось, что если им дать вволю напиться, то они выживут. Всеми правдами и неправдами я ухищрялась раздобыть для них воду и несла её им, как драгоценность, боясь расплескать. А доктор, увидев в моих руках кружку, отбирал её и принимался орать: «Бестолочь! Ты где начерпала её? В луже?!». «Нет, — испуганно лепетала я, — в колодце». Он воздевал руки к небу и громогласно восклицал: «Святой Себастьян! Я же тысячу раз просил его засыпать! О чём только думает мать-настоятельница?!». Я принималась реветь, а он тряс меня за плечи: «Эту воду нельзя пить, детка! Ты умрёшь, если будешь её пить!»… Я хныкала и боязливо косилась на доктора, считая, что он свихнулся — ну разве можно умереть от простой воды? Всё это вздор, придумки старого чудака. Вот если вода порченная, тогда другое дело, тогда действительно нельзя пить. Но испортить воду могла только колдунья. А присутствие нечистой силы в месте, где на каждой стене распятие — маловероятно.
…После смерти братьев я почувствовала растерянность — теперь я осталась совсем одна! Тому, кто родился в большой семье, где на полу не хватало места, чтобы разложить тюфяк для ночлега, осознать это непросто. Я молила Бога, чтобы мать вспомнила обо мне. А иногда в молитвах подменяла имя Господа её именем и, обращаясь к ней, как к божеству, просила защиты и помощи. Но она не слышала меня.
…Потом меня, как котёнка, «отдали в добрые руки»: я стала воспитанницей дона Амаро Меццоджорно — владельца каучуковых плантаций в Баие[31].
Он подобрал меня, возвращаясь с одного из аукционов, где скупил по бросовой цене сразу несколько разорившихся фабрик и торговых складов. Его путь из Бразилии в Аргентину и обратно был долгим и утомительным, и занял более месяца. Не каждый сеньор решился бы на такую поездку. Большинство из них доверили бы свои дела агентам и управляющим. Но дон Амаро предпочитал вести их сам. Он вообще никогда и нечего не выпускал из собственных рук… Провернув несколько удачных и выгодных сделок, он возвращался домой в самом благостном расположении духа. Ему было с чем себя поздравить: теперь его предприятия будут работать не только в Бразилии, но и в Аргентине.
А в это самое время настоятельница приюта, где я воспитывалась, ревностно искала богатых и благожелательных господ, желающих сделать пожертвование на строительство новой школы в здоровой и более пригодной для проживания местности. Ей удалось привлечь в число меценатов и дона Амаро Меццоджорно.
Помню, как меня и ещё каких-то детей вывели на улицу перед доном Амаро и заставили поцеловать руку нашему благодетелю.
Руки этого сеньора были поистине удивительными: ленивыми, холёными и будто бы существующими сами по себе отдельно от огромного, громоздкого тела. До знакомства с ним мне никогда в жизни не доводилось видеть такой белой и гладкой кожи, не знавшей ни мозолей, ни заноз… Я, как завороженная, следила за его пальцами, держащими дымящуюся сигару, и пыталась уловить еле ощутимый сладковатый аромат.
— Сколько лет этой девочке?
Властный, металлический голос гостя заставил меня вздрогнуть от неожиданности — неужели говорят обо мне?
— Девять, сеньор.
— Она сирота?
— Да, сеньор.
Я подняла глаза. Красное, распаренное на солнце лицо дона Амаро, полуприкрытое широкими полями шляпы, утопало в клубящемся белом облаке. Два прищуренных чёрных глаза пристально разглядывали меня с головы до ног. С нескрываемым любопытством я смотрела на него — никогда раньше не доводилось мне видеть важных господ так близко. «Ну же, глупая, поклонись!» — прошипела над ухом мать-настоятельница и слегка толкнула в спину. Я неуклюже присела.
Моя судьба решалась ровно столько, сколько дотлевала в руке дона Амаро пахучая кубинская сигара. Как только она была брошена на пыльную избитую дорогу, мне было велено сесть в экипаж рядом с извозчиком.
Из событий того дня, когда моя жизнь так круто переменилась, я мало что помню. Длительное, изнуряющее путешествие сделало из меня вялую тряпичную куклу. Мне было всё равно, куда везут моё безвольное тело, иссушенное зноем до костей. Все эмоции, кроме чувства смертельной усталости, были притуплены.
Очнулась я от ощущения, будто куда-то лечу. Меня несла на руках какая-то женщина. «Когда проснётся, дай ей поесть, — услышала я знакомые повелительные интонации. — Только не много, она сильно истощена, это может ей повредить». Не дождавшись ответа женщины, я снова, как в подземелье, провалилась в сон.
На следующее утро я проснулась уже другим человеком — тем, кто впервые в жизни поел досыта. До этого дня я не пробовала мяса, и его вкус показался мне божественным. Также меня вымыли в деревянной лохани, переодели в чистое платье и наголо остригли волосы. Последнее вызвало у меня бурный протест. «Не надо стричь! — жалобно всхлипывала я, прикрывая ладошками голову. — Пожалуйста, тётенька! Я не вшивая!». Но старая креолка, которой приказали «привести меня в порядок», была неумолима, как палач… Когда меня привели к дону Амаро, он, казалось, был доволен. «Потрясающая кожа, — оглядывая меня, проговорил он. — Должно быть, твои родители были белыми. Ты помнишь их, дитя?». Я уже хотела было ответить, но откуда-то из закоулков памяти донёсся прерывистый язвительный шёпот: «Просыпайся, Джованна! Твоя потаскуха-мать тебя бросила!..», — и я отрицательно покачала головой. «Так я и думал, — откликнулся дон Амаро. — Чистый лист». Меня взяли за подбородок двумя пальцами и задрали голову кверху. «И что же мы будем рисовать на этом листе, дитя?» — два чёрных немигающих глаза смотрели на меня с испытывающей пронзительностью. Я почувствовала себя человеком, стоящим у подножия горы, уходящей макушкою в небо. Высокая тучная фигура подавляла меня. «Что вам угодно, сеньор», — растерянно пробормотала я. Его губы тронула улыбка: «Хороший ответ, Джованна».
Через несколько лет я превратилась в то, что ему угодно было нарисовать. Созданный им образ гадок мне до тошноты — я ненавижу каждую черту его и всей душою проклинаю творца.
И вместе с тем я ему благодарна. Если б не он, я бы осталась никем. Никогда бы не научилась читать и писать. И уж подавно не знала бы французского. Учить меня иностранному языку было одной из причуд дона Амаро, как, впрочем, причудой был и весь процесс обучения: скучающему, пресытившемуся сеньору непременно хотелось воспитать меня, как настоящую барышню. Я же чувствовала себя беспородной собачонкой, на которую из прихоти нацепили дорогой ошейник.
Танцы, пение, рисование, фортепиано, шахматы, верховая езда, стрельба из пистолета, игра в бридж… Меня научили всему, что могло бы пригодиться для выполнения одной нехитрой задачи — развлечь господина в минуты хандры. С этой задачей я справлялась блестяще, а потому меня таскали за собой из поездки в поездку. Как саквояж. Как несессер.
Было ещё одно существо, которое всюду сопровождало дона Амаро. Но в отличие от меня, следовавшей за ним с безразличием и покорностью, оно то и дело бунтовало и восставало против него. Её звали Маргарет.
Я долго не могла взять в толк, кем она приходится сеньору. Сначала я думала, что она его жена. Но никто из прислуги никогда не обращался к ней, как к госпоже Меццоджорно, напротив, все именовали её леди Рочфорд. Когда я спросила у дона Амаро, что означает слово «леди», он как-то неопределённо хмыкнул: «Ничего особенного… что-то вроде фигового листа». Я так и не смогла расшифровать этот туманный ответ. Существовала ещё одна трудность. Я долго ломала язык о сложно произносимую иностранную фамилию, постоянно путалась, сбивалась, переставляла и коверкала в ней буквы, поэтому, когда всем стало окончательно ясно, что я вряд ли смогу правильно её выговорить, мне было разрешено обращаться к леди Рочфорд просто «сеньора».
Когда я впервые увидела эту женщину, она произвела на меня жуткое впечатление. Её красивое бескровное лицо не имело ничего общего с живой плотью и казалось остывающим. Голубые глаза смотрели с безнадёжной грустью: в них был тупик, дно, край бездны. Такие глаза могли принадлежать виллисе[32], покинувшей свою домовину в полночь и поджидающей запоздалого путника возле кладбищенской ограды. По моему телу побежал холодок. Я панически боялась пересечься с ней взглядом, чувствуя какую-то необъяснимую опасность.
Маргарет заметила мой страх. Он развеселил её.
— Нашему Ваалу понадобилась свежая кровь? — проговорила она, улыбаясь.
— Замолчи, — нахмурился дон Амаро.
— Что ты намерен с ней делать? Будет подавать тебе по утрам какао или служить ночью в качестве грелки?
— Не твоё дело! Лучше налей себе выпить.
Женщина несколько раз неторопливо обошла меня по кругу, рассматривая, как музейную статуэтку.
— Недурной выбор, Амаро. Лет через пять она будет красавицей.
— Я решил оформить над ней опекунство.
— Благородно.
— Твоя ирония неуместна. Я, действительно, хочу принять участие в её судьбе.
— Бедняжке крупно повезло…
Этот разговор состоялся как раз накануне подписания доном Амаро одного юридического документа, после чего я стала его официальной воспитанницей. А вечером того же дня опекун велел явиться мне в его спальню. Я пришла. Он, зажав в зубах сигару, стоял посреди комнаты в атласном персидском халате пурпурного цвета. «Подойди ближе, Джованна, — негромко произнёс он; по голосу я почувствовала, что он пьян, — не бойся». Я сделала несколько нерешительных шагов. «Ещё ближе… — сказал опекун, распахивая халат. — Ты ведь послушная девочка, да, Джованна?..» Мне было приказано встать на колени…
Спустя сутки ко мне в комнату заглянула сеньора. Она отыскала меня в шкафу среди вороха платьев. «Тебе надо поесть, — сказала она, ставя на кровать поднос с едой. — Выходи, не упрямься». Её голос звучал на удивление мягко.
Забившись в угол и зарывшись в тряпки, я следила оттуда за движением её рук. Она неторопливо намазывала маслом гренки, мешала ложкой сахар в чашке.
«Пообещай мне одну вещь, Джованна, — пальцы Маргарет, державшие нож, на секунду застыли. — Пообещай, что никогда не забудешь об этом… — но уже в следующее мгновение острое лезвие ловко вонзилось в ананас и молниеносным движением отсекло верхушку. — Тебе нужно быть очень умной и послушной девочкой. И ждать своего часа. А когда он придёт, ты отомстишь. И за себя, и за меня».
От фразы «послушная девочка» меня начало трясти.
После этого случая мы не виделись с доном Амаро несколько недель. Я даже начала думать, что он куда-то уехал. Но, услышав в коридоре его голос, я догадалась, что он попросту избегает меня.
То, что обо мне не забыли, я поняла, когда мою комнату с методичным постоянством стали заваливать подарками: игрушками, сладостями и новыми нарядами. Сначала я отказывалась на них даже смотреть. Потом любопытство пересилило, и я развязала ленту на одной из коробок.
Помимо этого мои покои обставили с такой роскошью, словно они предназначалась для маленькой принцессы: на фазенде дона Амаро они занимали целое крыло. Ко мне в услужение приставили горничную-француженку, которая являлась по первому зову днём и ночью. Были наняты лучшие учителя. В конюшне дона Амаро у меня был собственный вольер, где содержался мой личный пони.
Так началась моя странная жизнь в этом странном доме.
…Поместье сеньора Меццоджорно было одним из самых крупнейших в стране — около двух тысяч акров земли, на которой произрастала лучшая бразильская гевея. Однажды мне пришлось объехать его целиком вместе с доном Амаро — такой обширной территории, принадлежащей одному хозяину, мне впоследствии никогда больше видеть не доводилось.
— Завтра, Джованна, нужно будет проснуться пораньше: ты поедешь со мной на плантацию. Хочу показать тебе мои плачущие деревья, — как-то раз во время ужина скомандовал он.
Моему удивлению не было границ:
— А они, что, правда, плачут?..
Губы Маргарет скривила усмешка:
— Все, кто общается с ним, плачет.
— Ты можешь остаться дома, — холодно ответил ей дон Амаро.
— С превеликим удовольствием.
— А ты, Джованна, надень дорожный костюм. Мы поедем верхом.
…Утром, ни свет ни заря, едва я успела торопливо одеться и наскоро проглотить завтрак, опекун, схватив меня в охапку и посадив впереди себя на лошадь, повёз показывать свои земли. Когда мы отъехали от фазенды, дон Амаро спросил, знаю ли я, почему его называют каучуковым королём. Я пожала плечами. Он указал рукояткой хлыста куда-то вдаль, где опалово-зелёная лента бархатной струйкой воспаряла в небесную высь: «Видишь эти леса? Все они принадлежат мне».
Мы спустились со склона к ближайшей роще. И тут я заметила между белесых стволов снующие туда-сюда смуглые обнажённые спины. Жара стояла убийственная, поэтому многие работали нагишом, обмотав бёдра тряпкой. Одни мужчины делали на коре зарубку, другие прикрепляли к дереву сосуд, похожий на небольшой горшочек, в который начинало стекать вязкое матовое молочко.
— Знаешь, что это такое? — дон Амаро кивком головы указал на белые слёзы.
— Смола, — неуверенно ответила я.
— Это не просто смола, Джованна, это латекс.
Я наморщила лоб, услышав незнакомое слово.
— Ты знаешь, из чего сделана подошва на твоих сапожках?
Я, вытянув ногу, придирчиво оглядела мысок сапога, а потом перевела ошарашенный взгляд на дерево.
— Но ведь это же резина!
— Резиной он станет после специальной обработки. Я возьму тебя на завод, там ты всё сама увидишь. А теперь посмотри, как правильно делать насечки. Это целое искусство, Джованна. Если относиться к деревьям бережно, они послужат тебе ни один год. К сожалению, не каждый это понимает. Потому-то в округе уже давно повырубили все леса. Я единственный на всём побережье плантатор, кто думает не только о сегодняшнем дне. Остальные — варвары.
Дон Амаро пояснил, что надрезы на дереве нужно делать в полночь. А рано утром, до восхода солнца, собирать набежавший за ночь млечный сок. Однако чтобы производство каучука не останавливалось ни на минуту, работники на его фазенде трудились круглосуточно. Я, внимательно слушая его, разглядывала изборождённые шрамами деревья.
— Если сутками работать, то когда спать? — спросила я.
Дон Амаро нахмурился.
— Не о том думаешь, Джованна. Сегодня мы заедем в банк. Я покажу тебе, о чём надо думать.
Он пришпорил лошадь. Мы поскакали дальше. Со всех сторон до нас доносился треск древесной коры, на которой делались надрезы. Он сопровождался глухим оханьем коричневых от загара людей: когда топор вонзался в дерево, из их груди вырывались сдавленные, похожие на хрипы, стоны. Некоторые из них падали на колени, точно переломленная надвое спичка. Но их тут же поднимали надсмотрщики ударами плети.
Я была в ужасе:
— За что они их бьют?!
— А как иначе заставить этих бездельников работать? — отозвался дон Амаро. — Если хочешь, чтобы тебе повиновались, нужно быть жёстким.
Подскакав к длинному навесу, мы увидели стоящие под ним ёмкости, плотно прижатые друг к другу. В каждую доверху был налит латекс. Дон Амаро сказал, что в одной такой ванночке содержится суточная норма сока, собранная с двадцати-тридцати деревьев. Тут же рабочие на небольших столах раскатывали деревянными валиками мягкие эластичные лепёшки; исторгнутая из белёсой массы вода стекала по металлическому скату на землю. Неподалеку тлели разведённые костры, на которых работники просушивали собранные на палку полоски сырого каучука. Они сидели на корточках, держа в руках и поворачивая на дыму небольшую деревянную лопатку, вырезанную в виде весла, которую обмакивали в сосуд с соком гевеи. Когда вода испарялась и вокруг лопатки образовывалась тонкая плёнка, они снова макали её в горшок и коптили. И так до тех пор, пока вокруг палки не возникал большой ком. Здесь же на расстеленной парусиновой материи лежали целые ленты прокопчённого готового сырья.
Мы обогнули вереницы повозок, нагруженных огромными брезентовыми тюками, которые лениво тащили неповоротливые мулы. Землю размыли недавние ливни, и она чавкала под копытами животных. Колёса то и дело застревали в колдобинах, вязли в буром месиве.
Всюду, точно муравьи, копошились люди. Они едва стояли на ногах и шатались, как пьяные. Их лица выражали полную апатию и уныние. Едва кто-то останавливался, чтобы перевести дыхание и собраться с силами, как его руки инстинктивно начинали расчёсывать тело, на котором повсюду вспухли мокрые волдыри. Меня едва не стошнило, когда я увидела, как один мулат выдавил пальцами из покрасневшего, зудящего места на груди маленького липкого червячка.
Потом я услышала монотонную, унылую, похожую на плач, песню. Здесь работали индейцы. Когда-то мать рассказывала мне, что это был гордый, свободолюбивый народ. Сейчас от них остались только понурые, угрюмые тени с продетой в нижнюю губу серьгой и горсткой перьев на всклоченных космах.
Вскоре перед нами замаячили грубые строения бараков. Вспыхивали желтизной соломенные крыши. Пестрело развешенное на верёвках тряпьё. У дороги возились дети. Они смотрели на нас большими выпученными глазами, в которых навечно застыла пустота. У каждого из них на шее красовался крупный мясистый нарост. Я невольно прижала руку к горлу: зобом страдал один из моих младших братьев, и потому одна только мысль об этой болезни ужасала. Помню, как мать старалась успокоить: «Не бойся, глупенькая, у меня же его нет, и у тебя не будет…». Но я всё равно не могла победить смешанный с отвращением страх…
Неподалёку располагалось здание администрации — просторный деревянный дом с жестяной кровлей. У крыльца стояли две конуры, возле которых рвались на цепи свирепые лохматые псы. Рядом храпели привязанные лошади. В небольшом, огороженном стволами бамбука, загоне вырывали друг у друга обглоданные кукурузные початки свиньи. Сверху, сидя на колышках, хлопали крыльями куры.
Навстречу нам выбежал управляющий — низкорослый щуплый человек с хищным выражением лица: «Моё почтение, сеньор!». Увидев во дворе привязанного к столбу мужчину с кровавыми рубцами на спине, которого густо облепили мухи, я зажмурилась. Дон Амаро заметил мою реакцию.
— Не нужно жалеть его, Джованна. Это вор. Он собирал сок в кисет, сгущал его на дыму, припрятывал в тайнике под листьями, а потом продавал чистейший каучук. За это преступление любой другой плантатор отрубил бы ему руки и прибил их гвоздями к дереву. Я же ограничиваюсь поркой.
— У сеньора Меццоджорно очень доброе сердце, — услужливо выгнул спину управляющий; его маленькие пытливые глазки забегали, как два юрких зверька.
— Что верно, то верно, Перейра, — согласился дон Амаро. — Ты нашёл тех, кому он сбывал каучук?
— Пока ещё нет, сеньор, но я ищу, и очень скоро, уверен, они понесут суровое наказание.
— Если завтра к вечеру не найдёшь сообщников, окажешься на его месте.
— Слушаюсь, сеньор.
И тут случилось неожиданное. Из барака выбежала растрёпанная, оборванная женщина и кинулась под копыта нашей лошади. Дон Амаро, натянув поводья, выругался.
— Пощадите моего мужа, сеньор! Мой Мигель не преступник! Он ничего не крал!
— Убери её Перейра!
Управляющий стегнул несчастную кнутом по плечам, но она извернулась и снова бросилась к нам.
— Нам нечем кормить детей! Не оставляйте их без отца! — растопыренные грязные пальцы женщины пытались поймать сапог хозяина.
Дон Амаро рассерженно отпихнул её ногой:
— Чёртова ведьма! Пошла прочь!..
Женщина упала на землю и в бессильной злобе, сбивая руки в кровь, замолотила по ней кулаками:
— Будь ты проклят, Амаро! Будь ты проклят, мерзкий упырь!..
На её худющей, изжёванной шее прыгал маленький крестик из чёрного дерева — точно такой же носила моя мать.
Перед тем, как мы скрылись за поворотом, я видела, как управляющий замахнулся на неё плеткой.
Эта сцена произвела на меня ошеломляющее впечатление. Я почувствовала, что задыхаюсь. Дону Амаро пришлось останавливаться, чтобы я пришла в себя. «Мерзкий упырь, — сжимая кулаки, повторяла я про себя, — мерзкий упырь!».
…По вытоптанной просеке мы снова отправились на плантацию. Под одним из деревьев, на ворохе листьев бился в предсмертных судорогах покрытый гнойными язвами человек. Из последних сил умирающий пытался отогнать мошкару. Дон Амаро, скользнув по нему беглым равнодушным взглядом, продолжал делать наставления:
— Запомни, Джованна, в делах друзей нет и быть не может. Никому не доверяй. Полагайся только на себя. И тебе не придётся сожалеть о том, что кто-то тебя предал.
…Слушая его слова, я и не представляла тогда, что они навсегда врежутся в память, загустеют в ней, как скорпион в янтаре, и станут частью моей судьбы. Но случилось именно так. Помню, как однажды Маргарет, наблюдавшая за мной, мрачно изрекла: «Ты внимаешь каждому его слову. Он сделает из тебя чудовище». Так и вышло.
Впрочем, она была ещё одним человеком, оказавшим на мою жизнь своё роковое влияние. Именно она посеяла в мою душу семена распада и тлена. Занесла их туда, как бациллы заразной болезни.
Мы часто беседовали. Точнее, она говорила, а я — слушала. Её длительные монологи походили на бред сумасшедшего. Как правило, она рассказывала мне свои необычные сны. Поразительно, что она помнила их до мельчайших подробностей. А может, они и не являлись сновидениями, а то была какая-то замаскированная под ореол Морфея, причудливая философия, в которой она не желала напрямую признаться.
Эти излияния сопровождались обильным потреблением алкоголя. В такие моменты я смотрела на неё во все глаза. Стоило Маргарет выпить, и она менялась до неузнаваемости. В ней словно просыпался и выходил наружу совершенно другой человек.
В один из вечеров, когда ей заблагорассудилось быть словоохотливой, она напугала меня до полусмерти.
Сначала она была спокойна. Её привычная отстранённая замкнутость сменилась умиротворенной расслабленностью.
«Сегодня ночью мне приснилось, будто я снова в Европе. В одном маленьком ресторанчике в центре Лондона, — говоря это, женщина чувственно поглаживала стенки бокала. — На мне длинное платье из лёгкой полупрозрачной материи. Я танцую одна в полумраке. Мне хорошо… — её лёгкие невесомые пальцы перекочевали с хрусталя на обтянутую шёлком грудь. — В это время в зал входит пара: он во фраке, она — в белоснежном бальном платье. Оба чопорные, строгие. Звучит Шопен. Он и она танцуют, — закрыв глаза, она запрокинула голову: с её плеч на спину заструились льняные локоны. Я любовалась игрой теней, скользивших по пепельному каскаду — в нашей знойной местности нечасто можно было встретить блондинку, и Маргарет производила впечатление экзотической диковинки. — В зал ворвались ещё двое — шумные, необузданные. Они хохотали во всё горло… — прищёлкивая пальцами, Маргарет начала кривляться, дёргаться и напевать что-то джазовое; при этом она совершала множество хаотичных, непроизвольных жестов, отчего вскоре её причёска пришла в беспорядок, а содержимое бокала пролилось на одежду. — А потом между танцующими завязалась потасовка… Они вопили, свистели, улюлюкали… Я металась между ними. В моих ушах стоял гвалт… Затем все разом куда-то исчезли…» — зябко поведя плечами, будто ей было холодно, она стиснула пальцами виски, как при мигрени; из её стиснутых зубов вырвался хлюпающий свист.
Меня напугала эта нервическая пантомима, и я начала оглядываться в поисках дона Амаро или хотя бы кого-нибудь из слуг. Но мы были в комнате одни.
Женщина, плеснув в бокал новую порцию вина, прикончила его несколькими жадными глотками и налила снова. Спиртное придало ей сил. Её голос снова сделался внятным.
«И тут помещение окутал туман — плотный, непроницаемый. Если в такую мглу судно выйдет в море — его ждёт смерть… Но я не боюсь — я родилась в стране туманов… Господи, неужели я с самого начала была обречена?.. Нет, не верю!.. Я была такой молоденькой и наивной… Я никому не причинила зла… Мне просто хотелось жить… Я тогда ничего не боялась… Постой, что же дальше? Ах, да!.. Кругом ни души… В это время слышу голос: „Помни о чести семьи! Не забывай о правилах приличия! Положение в обществе обязывает тебя соблюдать благоразумие!“… „Честь семьи“, „положение в обществе“! Ха-ха-ха!.. Какая замшелость, какой нафталин… Ханжи! Лицемеры!.. Меня тянет к другому голосу: „Ну же, Маргарет, брось ломаться! Жить надо весело!.. Выпей с нами, вино превосходно!“… Он называл меня малышкой Мэгги… Мы танцевали аргентинское танго… всю ночь… Господи, как я была счастлива! Эта была лучшая ночь во всей моей никчёмной жизни… Будь она проклята!.. Больше не хочу любить… Это иллюзия: жестокая и горькая… Ты отдаёшь без остатка всё, что у тебя есть, а взамен получаешь плевок в лицо… Мне нужно забыть его!.. Мне нужно выпить… — из груди Маргарет вырывалось тяжёлое, прерывистое дыхание. Её зажмуренные веки подрагивали. На лбу выступили крупные капли пота. Видно было, что её морозит. Прошло несколько долгих минут, прежде чем она снова начала говорить. — И тут ко мне со всех сторон начинают тянуться руки… Такие костлявые скрюченные пальцы… точно коряги на болоте… старые, трухлявые… Подожди, о чём это я?.. Ах, да, коряги… Я как в трясине… пытаюсь вырваться, но не могу… А они зажимают меня в кольцо, обхватывают и душат!..» — пронзительный крик женщины смешался со звоном треснувшего и разлетевшегося вдребезги бокала, который продавили её пальцы. По её ладони потекли красные струйки, в которых соединились кровь и вино, но она даже не заметила этого.
Я дрожащими руками вытирала забрызганное лицо и с ужасом думала о том, что осколки могли попасть в глаза.
«И тут — среди хаоса и мрака — появляется фигура в белом, подаёт мне руку и уводит прочь. Я иду за ней, как слепой за поводырём, как странник за звездой путеводной…».
В тут же секунду на стол, за которым я сидела, с дребезжащим звоном упала серебряная табакерка. Мы с Маргарет, вздрогнув, наткнулись взглядом на дона Амаро, появившегося в комнате незамеченным.
— Про эту путеводную звезду ты говоришь? — насмешливо произнёс он.
Маргарет подхватила табакерку и прижала её к груди:
— Я всё утро искала её… — в голосе женщины одновременно слышится упрёк и облегчение. — О! Как же это я так неаккуратно… — её губы скривила болезненная гримаса. — Джованна, крошка, я, верно, перепугала тебя своими бреднями, на тебе лица нет, — осмотрев израненную руку, она обмотала её платком.
— Мне не нравится, когда ты так напиваешься, — сквозь зубы проговорил дон Амаро; я начала коситься на дверь.
— Я знаю, прости, — машинально сказала женщина.
— Ты отвратительна в таком состоянии!..
— Конечно, милый, прости, пожалуйста… — женщина, раскрыв табакерку, высыпала на ладонь белый порошок.
Дон Амаро ударил её по руке:
— Перестань, прошу тебя!
Маргарет вскочила. Её глаза налились кровью. Тело трясло.
— Что тебе от меня нужно?! Кто ты такой, что постоянно лезешь в мою жизнь?! Я говорила, что у нас ничего не выйдет! Я предупреждала тебя — ты не слушал! Я не лгала, я была честной с тобой!.. Зачем ты меня сюда притащил? Я ненавижу эту жару! Я здесь задыхаюсь! Я ненавижу эту проклятую страну!..
— Всё сказала? — дон Амаро щедро плеснул в свою рюмку бурбон.
— И тебя ненавижу!
— Ну, конечно, ты меня ненавидишь… А теперь хочешь, я скажу тебе, где бы ты сейчас была!.. Ты кичишься своей голубой кровью, а я взял тебя, словно девку с панели! Ты готова была отдаться любому за понюшку морфия!.. Если б не я, ты давно бы сгнила в сточной канаве!
— А тебе не приходило в голову, что мне могла нравиться такая жизнь? Что я могла сознательно опуститься на самое дно? У меня были на это свои причины. По какому праву ты возомнил себя моим спасителем? От тебя кто-нибудь требовал такой жертвы? Никто! Я никогда не нуждалась в твоей заботе! Ты навязал её мне!
— Ну, да, ты нуждалась только в моих деньгах…
— Если я захочу уйти от тебя, меня и деньги не удержат!
— Ещё бы, ты всегда их сможешь заработать… У тебя отличная выучка. Дорогого стоит.
Маргарет ударила его по лицу. На мгновение мне показалось, что он сейчас убьёт её, но дон Амаро лишь отвёл взгляд в сторону и процедил:
— Ты не меня… ты себя ненавидишь…
Маргарет внезапно сникла.
— Прости… — из её глаз потекли слёзы. — Бога ради, прости…
Силы оставили её. Она покачнулась. Если бы он не подхватил её, она упала бы на пол.
— Мне нехорошо… — с трудом ворочая языком, прошептала женщина. — Помоги, Амаро… Дай порошок…
Он оттер с её лба крупные капли пота.
— Позволь отвезти тебя в клинику… Я слышал, немецкие врачи делают настоящие чудеса…
— Иди к чёрту со своей клиникой! Я никуда не поеду!
— Это может плохо кончиться.
— Мне наплевать!
Повиснув на руках дона Амаро, Маргарет обвела невидящими полубезумными глазами комнату. Её взгляд споткнулся о мою съёжившуюся фигуру, забившуюся в угол между стеной и роялем. На губах женщины вспыхнуло тусклое подобие улыбки.
— Маленькая глупышка… испуганная и робкая… С ней ведь проще, чем со мной, да?.. Не надо оправдываться или что-то объяснять… Разве домашнему животному что-то объясняют?
— Джованна, ступай в свою комнату, — приказал дон Амаро.
— Да, детка, иди к себе… не забудь только оставить открытыми двери спальни… Папочка скоро тебя навестит…
— Что ты несёшь!
— Никаких требований, никаких претензий… Сама покорность… Мечта, а не женщина, верно?.. Что ты только будешь делать, когда она подрастёт и захочет перерезать тебе глотку?
— Джованна, выйди вон! — заорал опекун. — Ты что, оглохла?!
Я бросилась за дверь.
Такие сцены повторялись в нашем доме почти каждый день. Сначала они казались мне дикими, но потом я привыкла к ним и перестала обращать на них внимания. Иногда, правда, доходило до чудовищных эксцессов: Маргарет хваталась за нож и даже несколько раз пыталась перерезать себе вены, а дон Амаро снимал со стены ружьё и грозился её застрелить, но в целом ничего страшного не происходило: выпустив пары, осыпав друг друга градом упрёков и оскорблений, они мирились. Лишь однажды, после очередной ссоры, когда Маргарет кинулась в свою комнату собирать чемоданы, а мы с опекуном остались наедине, он угрюмо изрёк: «Видишь, как бывает, Джованна… Ты встречаешь человека, преисполнен самых радужных надежд. И самонадеян настолько, что рассчитываешь прогнать всех его демонов. А потом с тобой происходит то, что и должно произойти с глупцом — эти демоны начинают сжирать тебя. Это порочный заколдованный круг. Из него есть только один выход — передать эстафету страданий другому… найти новую жертву и сделать её ещё более несчастной, нежели ты сам… Ты понимаешь, о чём я говорю, дитя? Понимаешь. Из-за тебя я буду гореть в аду»… В тот вечер Маргарет от нас никуда не ушла — дон Амаро остановил её. Но однажды это всё-таки случилось.
Мы втроём отправились в круиз на большом морском лайнере. Этот вояж был спровоцирован ультиматумом Маргарет, заявившей, что местный климат её убивает. Дон Амаро, обычно игнорировавший её жалобы, на этот раз поразительно быстро согласился на путешествие. Я же была только рада перемене места.
Днём я, как правило, отсиживалась в каюте: раздражала царившая на палубе сутолока и назойливая болтовня праздно шатающихся пассажиров. Зато вечером можно было остаться наедине с собой и помечтать. Дон Амаро ненадолго отпускал меня побродить по пустынной палубе. Я была в восторге от невиданного доселе пейзажа: холодное, как сталь, небо излучало струившийся серебристый блеск, на фоне которого резко, будто вырезанные острым ножом, выделялись чёрные очертания мачты, труб и канатов. Звёздный свет, рассекая мрак, сливался с тусклым сиянием фонарей. Слышался глухой стук машины и плеск воды.
В один из таких поздних вечеров ко мне подошёл мужчина. Я видела его на палубе и раньше, когда он, сидя в шезлонге, со скучающим видом листал журналы и курил.
— Вам не скучно всё время смотреть на воду? — обратился он ко мне по-французски.
К тому времени мои познания в языке были уже настолько прочными, что я могла ему вполне сносно ответить:
— Что вы, месье, море такое красивое.
— Вы путешествуете с родителями?
Этот вопрос застал меня врасплох. Мои отношения с опекуном и его любовницей были настолько странными, что я даже не пыталась их анализировать.
— Да, месье, — замявшись, ответила я.
— Не стоит задерживаться на палубе, мадмуазель. Становится прохладно. Простудитесь.
Поклонившись, он удалился.
На следующий день мы снова встретились в ресторане. Он кивнул мне, как старой знакомой. Маргарет, перехватив мой взгляд, взглянула за соседний столик. Из её рук выпала вилка.
Дон Амаро заметил её внезапную бледность:
— Тебе нездоровится?
— Да… мне нездоровится… — пробормотала Маргарет и выскочила из-за стола.
Опустив голову, я лениво поковыряла в тарелке. Дон Амаро сделал мне замечание:
— Нет-нет, дорогая, для этого блюда есть специальный нож…
В эту минуту за соседним столом кто-то громко воскликнул: «Господа, последние новости! В Сараево застрелен эрцгерцог Франц Фердинанд![33]». Все глаза обратились к пожилому джентльмену с газетой. Кто-то даже подошёл к нему, заглянул через плечо и тут же отшатнулся: «Боже правый, какое зверство!.. Убита и супруга эрцгерцога…». Известие на первой полосе вызвало всеобщий переполох, со всех сторон послышался сдержанный шёпот: «Какой ужас!».
Я прислушалась к словам пожилого мужчины, читавшего вслух передовицу.
— А кто это такие — террористы? — спросила я у дона Амаро.
— Бездельники, — отрезал он. Его задумчивый взгляд был устремлён куда-то вдаль. — Я вижу начало большой игры… Нам нужно увеличить производство каучука…
В тот же день он объявил нам с Маргарет, что мы возвращаемся в Баию. Ни одна из нас не показала виду, но мы обе были расстроены.
Маргарет вообще вела себя странно: то впадала в какую-то прострацию и по несколько часов не произносила ни слова, то принималась смеяться без всякого повода. Она много курила. Подолгу крутилась перед зеркалом, примеряя то одно, то другое платье. На её губах появилась ярко-красная помада. Как только дон Амаро отправился на палубу подышать свежим воздухом, она кинулась ко мне.
— Ну же, говори, он расспрашивал обо мне? Что он тебе сказал? Ты не наболтала глупостей?
— Кто? — я не могла взять в толк, о ком она говорит.
— Джованна, не мучь меня! Говори как есть!
— Я вас не понимаю, сеньора.
— Прекрати надо мной издеваться!.. — я, опасаясь пощёчины, попятилась в угол: мне часто доставалось от Маргарет, когда они с опекуном ругались, всё своё раздражение женщина вымещала на мне. — О, боже мой!.. Извини… Скажи мне правду, крошка… Вы говорили обо мне с тем господином?.. Ты поздоровалась с ним за завтраком…
— Нет, сеньора, мы о вас не говорили.
— Не лги мне, Джованна!
— Я не лгу. Мы познакомились с ним вчера. Он спросил, нравится ли мне море, и я сказала — да. Больше ничего.
— И всё? — в широко распахнутых глазах Маргарет было столько напряжения, что я испугалась.
— Он спросил, с кем я путешествую, я сказала — с родителями.
— С какими родителями?! Что за чушь! Ты нарочно это выдумала?
— А что я должна была сказать? — ощутив неожиданный приступ злости, бросила с вызовом я. — Что мне вообще следует отвечать в таких случаях?
— Ну да… конечно… всё правильно… — растерянно согласилась Маргарет и без всякого перехода — с кокетливой улыбкой. — Как я выгляжу? Не слишком бледная? Может, добавить румян?
— Нет, не нужно, вы выглядите чудесно, сеньора.
Этот ответ её устроил. Подхватив белый газовый шарф, она выскользнула из каюты.
…После ужина я вышла на палубу, чтобы в последний раз взглянуть на море. Дон Амаро уже сообщил нам, что рано утром мы сойдём с корабля в ближайшем порту и отправимся домой.
Ночь была тёмная, облачная. Шёл холодный косой дождь. Я прижалась к стене рубки, чтобы не замочило. В это время до меня донёсся тихий, похожий на всхлипывание, вздох. Повернув голову, я увидела Маргарет. Она стояла у борта, слегка поддавшись вперёд и подставив лицо мелким солёным брызгам. Её шёлковое платье было влажным. В волосах крошечным бисером блестели капли. Ветер терзал на плечах газовый шарф, трепетавший в сумрачном свете, точно призывный белый стяг.
— Джованна… — не оглядываясь, негромко позвала она.
Мне не хотелось к ней подходить — я боялась, что меня тут же зальёт водой.
— Он не узнал меня… — она рассмеялась страшным полубезумным смехом. — Господи, Джованна, он даже не смог меня вспомнить!..
— Я хочу вернуться в каюту, здесь прохладно.
Она не отвечала. По её вздрагивающим плечам я не могла понять — ей холодно, или она плачет.
— Я принесу вам плащ, сеньора.
…Когда я вернулась, её на прежнем месте уже не было. Лишь белый шарф, зацепившийся за поручень, рвался в море. Сердце сжалось от недоброго предчувствия. Я бросилась к дону Амаро и начала сбивчиво объяснять ему, что произошло. Его глаза потемнели. Он, схватив меня за плечи, затряс, закричал что-то невнятное… Они с боцманом обшарили весь корабль, заглянули в каждый закуток. Даже спускали на воду спасательную шлюпку. Маргарет найти не удалось… На следующий день мы с доном Амаро отправились в Баию. Вдвоём. Ни о Маргарет, ни о том, что произошло, мы по негласному сговору больше разговор не заводили, точно она и не существовала вовсе.
…Жизнь снова потекла своим чередом. Дон Амаро целыми днями пропадал на плантациях. У него заметно прибавилось хозяйственных забот. Война, в которую ввязалось полмира, заставила и моего опекуна, и всех его работников вращаться в каком-то бешеном ритме. Но он не жаловался на усталость, напротив, говорил, что чувствует необычайный подъём: никогда ещё каучук не стоил так дорого, а рабочая сила, благодаря эмигрантам, не была такой дешёвой.
Беженцы потоком ехали со всей Европы. Очень скоро их стало негде размешать, но они собственноручно возводили посёлки по окраинам наших земель и селились там, а к нам нанимались работать за сущие гроши.
…Он приехал вместе с другими переселенцами. Управляющий определил его на конюшню — чистить навоз. Но не прошло и пары дней, как случилось одно происшествие, которое мгновенно подняло его не только в глазах Перейры, но и самого дона Амаро.
Дело было так. Опекун, намереваясь осмотреть купленных недавно лошадей, взял и меня с собой для компании. Мы стояли у загона, ожидая, когда конюх отопрёт нам ворота. И тут раздалось дикое ржание, и на нас понеслась густая туча пыли. Приоткрытый было вольер тут же заложили толстыми жердями, чтобы жеребец не вырвался на волю. Он промчался мимо нас, сотрясая копытами землю. И начал выписывать по загону бешеные круги. К нему с арканом устремился конюх. Но петля лишь просвистела мимо его шеи. Другие попытки были такими же неудачными.
В эту минуту из-под навеса выбежал новый работник. Перехватив у конюха аркан, он ловко, в первого же раза накинул его на взмыленную шею коня. Тот с гневным хрипением взмыл на дыбы и начал рваться изо всех сил. Но мужчина крепко держал натянутую верёвку. Непокорное животное, задыхаясь, делало отчаянные попытки высвободиться. И, наконец, в изнеможении рухнуло наземь. Новый работник поднял его ударами хлыста, а потом невозмутимо надел на него шоры и седло. Покорённый жеребец дрожал мелкой дрожью.
Дон Амаро зааплодировал.
— Хорошая работа, парень! — он жестом велел ему подойти. — Как тебя зовут?
Оттирая со лба пот, к нам приблизился высокий темноволосый мужчина. На нём были стоптанные сапоги, рваные штаны и пожульканная фетровая шляпа, но держался он с завидным достоинством, а зелёный шейный платок, вздыбившийся из-под ворота белой холщовой рубахи с широкими рукавами, завязанной узлом на поясе, и вовсе придавал ему щеголеватый вид. Прищурив глаз от слепящего солнца, он с сильным нездешним акцентом проговорил:
— Рамон Касарес, сеньор. Я из Каталонии[34].
Опекун одобрительно кивнул.
— С этого дня назначаю тебя главным конюхом. Справишься?
Рамон Касарес снисходительно ухмыльнулся:
— До войны я был матадором.
В это мгновение он посмотрел на меня…
«…Любовь — это то, что станет твоей бессонницей», — сказал однажды дон Амаро. Он оказался прав. Увидев Рамона Касареса, я потеряла сон…
…Необратимое, парализующее и ускользающее чувство. Оно накидывается на тебя, как ночной кошмар на спящего ребёнка, захватывает и подчиняет своей воле, а потом вдруг в один миг пропадает; поутру ты оглядываешься по сторонам, видишь в углах комнаты лишь обычные предметы, утратившие с первыми лучами солнца свою колдовскую пугающую силу, и сбрасываешь сковавшее тебя оцепенение. Но где-то в глубине подсознания навечно поселяется крошечный призрак, оставленный на память ночными страхами, который может преследовать годами, а может и не тревожить вовсе: тут уж как ему заблагорассудится, он живёт своей жизнью, он неуправляем… Это как скарлатина, которой переболел в детстве — ты и думать забываешь о ней за давностью лет, но она навсегда срывает твой голос, а дальше, как бы ты не силился запеть, можешь только хрипеть и завидовать тем, с кем болезнь обошлась менее жестоко…
Это наваждение длилось долгие пять лет. Он не обращал на меня никакого внимания. Если нам случалось столкнуться у ворот кораля[35], к которому меня неудержимо влекло, Рамон, приподняв шляпу и буркнув краткое приветствие, тут же стремительно проходил мимо. А иногда недовольно добавлял: «Не крутились бы вы тут, сеньорита, а то чего доброго платьице испачкаете». В его обращении не было и тени почтительности, что меня крайне изумляло, поскольку я уже привыкла к раболепию остальных слуг. Напротив, в интонациях сквозила подчёркнутая небрежность, граничащая с грубостью…
До встречи с ним мне никогда никто не нравился настолько сильно. Да, впрочем, мне и не в кого было влюбляться: все, кто меня окружали, были либо неказистыми оборванцами с плантации, забитыми и затюканными, не вызывавшими ничего, кроме жалости и сострадания, либо напыщенными господами из числа знакомых моего опекуна, которых я побаивалась и избегала. Рамон Касарес выгодно отличался от всех, кого я знала.
Бывший матадор, он привык к вниманию публики, приходившей на корриду поглазеть на него, главного героя кровавого зрелища. В каждом его жесте была уверенность человека, осознающего силу своей привлекательности и умевшего ею пользоваться. За Рамоном прочно закрепилась слава сердцееда.
Но я для него будто не существовала… Когда дон Амаро подарил мне на семнадцатый день рождения превосходного вороного скакуна, и я в первый раз отправилась на нём на прогулку, Рамон, помогая мне сесть в седло, негромко проронил стоявшему рядом кучеру: «Такого жеребца отдать на забаву девчонке!..». В его голосе было столько возмущения, что я опешила. Мне ничего не осталось, как сделать вид, будто я ничего не слышала.
…Разглядывая в зеркало своё отражение, я задавала себе вопрос — неужели я настолько безобразна, что могу вызывать в нём только отвращение? В семнадцать лет мне хотелось верить в то, что я могу нравиться. Тем более, что ему, похоже, нравились все женщины в округе. За исключением, разумеется, меня.
…Однажды мне случилось быть свидетельницей одной безобразной сцены, связанной с Рамоном…
Каждая уборка урожая на плантации традиционно завершалась танцами и гуляниями. Это обычай в наших краях завели беженцы. Как только заканчивались очередные хозяйственные работы, они надевали свои национальные костюмы, брали в руки гитары и выходили на улицу. К ним присоединялись индейцы с мараками[36], выделанными из высушенной тыквы, и фатуто[37] — небольшими деревянными рожками.
Дон Амаро эти празднества не посещал, но и не препятствовал им. Меня он отпускал в посёлок исключительно в сопровождении своего верного пса, управляющего Перейры, который не отходил ни на шаг. В последнее время дон Амаро изводил меня слепой, беспочвенной ревностью. Его подозрительность не знала границ: в каждом поселковом парне ему мерещился очередной мой любовник. Стоило нам остаться с ним наедине, как он начинал изрыгать оскорбления, при этом не забывая подчёркнуть, что я ему всем по гроб жизни обязана. Зная, что он всё равно не поверит ни единому моему слову, я, как правило, молчала в ответ на эти несправедливые и незаслуженные упрёки. Откровенно говоря, его брань для меня была более терпимой, чем ласки, от которых мутило… Даже теперь, когда минуло столько лет, одно воспоминание о них вызывает во мне тошноту… Праздник урожая, устраиваемый испанскими переселенцами, был единственной отдушиной, светлым лучиком, пробивавшимся на закопчённую стену сквозь толстенные тюремные решётки.
…От смуглых черноглазых испанок невозможно было оторвать глаз. Облачившись в длинные разноцветные платья, украшенные воланами, они изящно поигрывали шалью с длинными кистями: то лихо закручивали её вокруг стройного стана, то грациозно набрасывали на плечи. Я как завороженная следила за дробным перестуком каблуков, страстным и выразительным движением рук, распахивающим веер, подобно крыльям большой птицы, взлетевшей в вихре кружев. Мужчины награждали танцовщиц громом аплодисментов. Как только им удавалось увидеть чёрную подвязку на чулке, обнажившуюся при взмахе ноги, они начинали дико хохотать и свистеть. Многие уже были пьяны.
Какой-то менсу попытался угостить меня пивом и тут же получил зуботрещину от Перейры: «Разуй глаза, скотина! Не видишь, кто перед тобой!»… Я, воспользовавшись тем, что мой конвоир отвлёкся, шмыгнула между танцующими и затерялась в толпе.
…Рамона я нашла рядом с подмостками, где расположились музыканты. Он самозабвенно целовался с какой-то красоткой. Красноватые отблески фонарей играли на их лицах.
Я не успела спрятаться. Меня заметили. Девушка, смеясь, что-то прошептала на ухо Рамону. «Уже не знаю, куда от неё деться! — процедил он сквозь зубы. — Ходит по пятам, как привидение!».
И тут к ним подскочила ещё одна девица и бесцеремонно оттащила подружку Рамона за локоть. «Эй, ты, шлюха, — пронзительно завопила она, — я тебе покажу, как парней отбивать!»
В ту же минуты женщины вцепились друг дружке в волосы. На их щеках и шеях багрово вспыхнули многочисленные тонкие полоски. При этом обе визжали, как резанные, и выкрикивали грязные ругательства. Изодранные оборки их платьев волочились куцыми лоскутами и втаптывались в землю.
Мужчины, хохоча во всё горло, подначивали противниц. Кто-то из музыкантов крикнул: «Бабы воюют! Вот потеха!» Рамон, увлечённый захватывающим поединком, смеялся вместе во всеми. Вдруг одна из женщин схватила другую за длинную неаполитанскую серьгу, свесившуюся из уха огромной золочёной бляхой, и что есть силы дёрнула. Её соперница взвыла и выдрала у обидчицы клок волос…
Их разнял Перейра. «А ну прекратите, сукины дочери! — рявкнул он. — Кнута захотели отведать?!». Оборванные, грязные, пышущие злобой женщины, наконец, разошлись. Заметив меня, управляющий обратился ко мне с той же интонацией: «Ах, вот вы где, сеньорита! Прогулка окончена. Мы идём домой».
На следующий день я сказала дону Амаро, что хочу научиться танцевать фламенко[38] и попросила нанять учителя.
Опекун посмотрел на меня пронизывающим взглядом.
— Я так и знал, что этот вшивый каталонец вскружил тебе голову! — недокуренная сигара была с силой раздавлена в пепельнице.
Я покраснела.
— Вот ещё! Просто этот танец такой красивый…
— Не морочь мне голову! — перебил он.
Опустив глаза, я нервно грызла ноготь.
Дон Амаро усмехнулся.
— Если хочешь, чтобы мужчина оказался у твоих ног, не трать время в надежде ему понравиться. Сегодня ему нравится одна, завтра — другая. Любовь мимолётна и вянет, как сорванный цветок. Лучше изучи его слабости. Изучишь слабости, сможешь управлять.
Я посмотрела на опекуна так, точно он спятил.
— Управлять Рамоном… гордым и независимым Рамоном?..
По губам опекуна пробежала улыбка. Он неспешно взял со стола большую амбарную книгу, полистал страницы, ткнул мне под нос чернильные записи.
— Знаешь, что это такое, Джованна? — толстый палец указал на какие-то цифры; я покачала головой. — Это долг твоего каталонца… Да, конечно, он много и хорошо работает, и я как хозяин доволен им. Но он игрок, и ему постоянно нужны деньги!.. — дон Амаро вытащил лежавшую между страниц кипу расписок, перевязанных тесьмой, и потряс ими в воздухе. — Посмотри, сколько он мне задолжал… Видишь? Ему понадобится несколько лет, чтобы расплатиться со мной… «Гордый и независимый», — мужчина расхохотался, и в этом смехе было что-то хищное и угрожающее. — Сейчас мы увидим, какой он гордый…
Дон Амаро позвонил в колокольчик. Прибежавшему на зов негритёнку было велено немедленно разыскать конюха.
— Что вы затеяли?.. — испугалась я.
— Хочу провести маленький эксперимент.
— Какой?
— Увидишь.
…Когда негритёнок доложил о прибытии Рамона, мне было приказано выйти в соседнюю комнату. Двери были оставлены приоткрытыми.
— Моё почтение, сеньор! — услышала я голос, от которого заколотилось сердце.
— Входи, у меня к тебе дело… Ты помнишь, сколько мне должен, Касарес?
— У меня пока нет таких денег, сеньор… Но, клянусь, я отдам всё до последнего сентаво… — в голосе Рамона послышались заискивающие ноты. — Я буду работать, как вол… я рассчитаюсь…
— Куда ж ты денешься… — усмехнулся дон Амаро. — Впрочем, я предлагаю заключить сделку: ты выполняешь то, о чём я попрошу, а я рву все твои расписки.
— Чего вы хотите от меня, сеньор?
— Это не потребует от тебя особых усилий, Касарес… Моей воспитаннице, которую я люблю, как родную дочь, недавно исполнилось семнадцать. Как ты знаешь, я подарил ей на день рождения лошадь.
— Прекрасный подарок, дон Амаро. Лучший жеребец во всей округе!
— Отменный жеребец: породистый, сильный, выносливый!.. Но, видишь ли, Касарес, этот подарок кажется мне недостаточно щедрым. Моя малютка заслуживает большего, не так ли?.. Поэтому я решил подарить ей ещё одну игрушку. Тебя.
— Что вы имеете в виду, сеньор?
— Только то, что сказал. Ты будешь ласков с моей Джованной… По-настоящему, не так, как со своими грязными девками. Она заслуживает царского обращения. А я прощу все твои долги.
— Господин хочет, чтобы я?..
— Именно.
— Святая Матерь Божья!.. Я не верю своим ушам!.. Вы, должно быть, шутите, сеньор? Или проверяете меня…
— Мне незачем тебя проверять. Твоё нутро не вызывает во мне никаких сомнений… Ну так, как?.. Я знаю, что ты рвёшься в Штаты выступать на родео. Тебе бы пошла ковбойская одежда… не то, что рвань, которая сейчас на тебе… Ты мог бы зарабатывать кучу денег… Богатые белые дамочки сами просились бы в руки… Ты мог бы жить припеваючи. Но тебя держат долги… Пока расплатишься, пройдут годы. За это время превратишься в выжатый лимон. Будешь гнить в какой-нибудь лачуге на берегу Амазонки. Старый, больной и никому не нужный. А твоё место займут другие — молодые и сильные…
— Но если я это сделаю, сеньор… меня повесят за растление…
— Не беспокойся, не повесят, — я почувствовала, что дон Амаро улыбается.
— Мне, право, неловко спрашивать об этом… А сеньорита… она не будет против?
— Уверяю тебя, сеньорита против не будет.
После минутного молчания, я услышала голос Рамона:
— Я согласен, дон Амаро.
Моё сердце оборвалось.
— Вот и хорошо. Ты умный человек, Касарес. Я знал, что мы поладим, а сейчас можешь идти.
— Да, сеньор.
Когда Рамон ушёл, я вышла из своего укрытия. Слёзы гнева душили меня.
— Вы самый подлый и омерзительный человек, которого я знаю!.. Вы — негодяй!..
Дон Амаро налил себе виски.
— Иди в свою комнату, — со смехом откликнулся он, — приготовься к встрече с мечтой! Этот вечер станет для тебя незабываемым.
Я, стиснув кулаки, подступила к нему:
— Гаже вас нет никого на свете!.. Если б вы знали, как я вас ненавижу!..
— Вот она, благодарность бродяжки… — уголки губ дона Амаро дёрнулись. — Впрочем, ни на что другое я и не рассчитывал.
Слово «благодарность» исторгло из моей груди истерический хохот.
— Мне благодарить вас?! За что?.. За кусок хлеба, что вы мне бросили из милости, я расплатилась сполна. И кому как не вам об этом знать.
— Не строй из себя невинного ягнёнка! Ты родилась в грязи, и тебя туда всю жизнь неудержимо тянет. Я попытался отмыть тебя, но только даром потерял время. У таких как ты в жилах не кровь течёт, а помои.
Ещё минуту назад мне хотелось ударить его, но злость и бешенство внезапно покинули меня, их сменил сарказм.
— Один вопросик, сеньор Меццоджорно… так, любопытство… Просто очень хочется знать, что же вам, благородному сеньору, надо рядом с такой как я? Неужели грязь так сладостна?..
Кажется, он впервые не нашёл, что ответить.
…Уже через несколько минут я набивала вещами свой дорожный саквояж. Когда в комнату вошёл дон Амаро, я жестом преградила ему путь:
— Только попробуйте меня остановить!
— Даже не думал. Ты вернёшься сама.
— Я больше никогда сюда не вернусь!
— Вернёшься. Очень скоро, и с поджатым хвостом. Ты будешь на коленях умолять, чтобы я принял тебя назад.
— Я скорее сдохну, чем о чём-то попрошу вас!
— Ты сдохнешь, едва шагнёшь за ворота поместья.
— Пускай! Только бы вас не видеть!
Подхватив кладь, я переступила порог комнаты. Дон Амаро отступил на шаг, пропуская меня.
— Ты даже не представляешь, на что обрекаешь себя, — услышала я за спиной его голос. — Тебе придётся торговать собой, чтобы заработать на миску похлёбки.
— А чем это отличается от моей теперешней участи?
— Трижды идиотка!.. Я мог бы закрыть тебя под замок, закон на моей стороне… Но я не сделаю этого!.. Недели не пройдёт, как ты притащишься сюда, обливаясь слезами, и будешь в ногах валяться, лишь бы я простил тебя и позволил вернуться! Запомни, Джованна, так и будет!..
Чувствуя себя, как каторжник, перед которым распахнули ворота тюрьмы, я даже не оглянулась. Моему ликованию не было границ: оковы спали, я получила свободу.
Дон Амаро, и правда, не стал меня удерживать, хотя я всё время опасалась, что он передумает и силой заставит остаться. Но он, видимо, не сомневался в том, что я в скором времени, набив шишек, присмиревшая и покорная приползу назад, и потому не чинил препятствий. Напротив, он даже отдал распоряжение Перейре, чтобы меня проводили за пределы поместья.
Перед тем, как навсегда покинуть плантацию, зашла на конюшню. Я не могла уйти, не увидев Рамона в последний раз. Кроме того, я твёрдо решила, что помогу ему выпутаться из капкана, расставленного доном Амаро.
Рамон куском кожи чистил лошадиную сбрую. Увидев меня, выпрямился в полный рост.
— Сеньорита… какая приятная неожиданность… — в голосе каталонца послышалась непривычное смущение. — На прогулку изволите? Запрячь Инфанта?
Покачав головой, я развязала тесьму висевшей у меня на руке сумочки и нащупала внутри неё маленький кошелёк, в котором были все мои сбережения: в течение многих лет я откладывала карманные деньги, что выдавал мне дон Амаро на мелкие расходы, и смогла скопить кое-какую сумму.
— Знаю, ты мечтаешь о родео… Но совершать неблаговидные поступки ради этого не придётся…
Рамон, казалось, не слышал меня. Он, между тем, окончательно оправился от растерянности, к нему вернулась привычная развязанность.
— Не хотите прогуляться?.. Что так? Погодка располагает… — он оглядел меня с головы до ног. — Да, верно, вы не такая, как прочие… Самое главное отличие барышни от простой девки — это духи. У себя в будуаре вы все благоухаете розами, но стоит вам задрать подол где-нибудь на конюшне, и от вас станет нести навозом похлеще, чем от плебейки… — он бесцеремонно схватил меня за руку. — Какие пальчики… белые, нежные, чистенькие…
— Ты что, Рамон?!
— Посмотрим, что в вас ещё такого особенного… — его руки грубо шарили по моему телу, — ну-ка, глянем, что за сокровище скрывается за этими тряпками…
— Отпусти!
— А вот это уже глупо, сеньорита! Вы сами сюда пришли, никто не тащил на аркане… А теперь вдруг непонятно с чего оробели… — я чувствовала, как трещит по швам нижняя юбка и изо всех сил пыталась вырваться. — Ну же, сеньорита, вы сами этого хотели… именно за этим сюда и пришли…
— Неправда!.. Я хотела с тобой попрощаться…
— Для начала давайте поздороваемся…
— Пусти, мне больно!..
— Простите, сеньорита, я не обучен галантным выкрутасам, к которым вы привыкли… но, может быть, моё обращение вам тоже придётся по вкусу… никто не жаловался раньше…
Я ударила его по щеке.
— Мразь! Жиголо!.. — он отпустил меня. — Решил должок отработать, да?.. Я думала, ты гордый… А ты просто ничтожество!.. — глядя на Рамона, мне казалась невероятным, что ещё совсем недавно я искренне восхищалась этим человеком; выхватив из сумочки кошелёк, я швырнула его ему под ноги. — Это тебе за старания. Скажешь дону Амаро — уговор, который вы с ним заключили, выполнен!.. А ещё скажешь ему, что первый жеребец мне понравился больше!
И всё-таки я не смогла сдержать слёз. Выбегая из конюшни, крикнула:
— Боже, неужели я могла тебя любить?..
…Сейчас это объяснение видится таким же нелепым и театральным, как сцена из немого кино. Но в тот момент, когда я произносила все эти высокопарные фразы, у меня разрывалось от боли сердце. Казалось, я исходила кровью, а это была самая, что ни на есть дешёвая и пошлая оперетка с убогим реквизитом и бездарными актёрами… Вспоминая её, единственное, о чём сожалею, это о том, что тогда с такой лёгкостью рассталась с деньгами (не сомневаюсь, что Касарес их тут же спустил в карты). Не соверши я подобной глупости, жизнь, возможно, потекла бы совсем по другому руслу…
…Как ни тяжело признаваться, но дон Амаро оказался тысячу раз прав в том, что я понятия не имела о мире, который подстерегал меня за дверями его дома. В моём представлении он был самым ужасным местом на свете, потому-то я тогда так легко и запросто сбежала. Но то, что ждало за его порогом, не снилось даже в кошмарах.
…Кампус[39], куда я приехала из Баии для того, чтобы начать всё с чистого листа, растоптал мои надежды жестоко и безжалостно. Получив довольно приличное домашнее образование, я надеялась найти работу учительницы. Но попытка устроиться в местную школу без диплома и рекомендаций потерпела фиаско. Не взяли меня и гувернанткой: хозяйки домов, в которые я приходила по объявлению, едва завидев меня на пороге, хлопали дверью. Никто из них не удосужился хоть как-то объясниться со мной. Я была в замешательстве, не понимая, чем не угодила всем этим дамам. С каждым новым отказом растерянность перерастала в панику. Наконец, мои нервы не выдержали.
— Прошу вас, сеньора!.. Одно только слово!.. — взмолилась я у двери, в который раз готовой закрыться перед моим носом. — Почему вы меня прогоняете? Ведь вы меня даже не выслушали!..
Сытое, надменное лицо моей собеседницы приняло брезгливое выражение:
— Я и так вижу, что вы нам не подходите.
— Хотя бы скажите — почему?
Но женщина всем своим видом дала понять, что разговор окончен.
— Диего, проводи барышню…
Подоспевший на зов хозяйки пожилой привратник и объяснил мне причину её неудовольствия.
— Сеньор взял бы вас… как пить дать — взял бы… Но он в отъезде… А сеньора, понятное дело, не возьмёт… Слишком уж вы хорошенькая. Она всем хорошеньким отказывает. Хлопот с ними!.. Того и гляди, как бы чего не вышло… Будь вы постарше, ещё бы полбеды, а так… Сеньоре с такой нянькой одни хлопоты…
Вероятно, по той же причине меня не хотели нанимать и горничной.
…Понемногу я распродала почти все личные вещи, но денег, которые удалось за них выручить, хватило совсем ненадолго. Когда же я прожила дотла всё, что у меня было, я оказалась на улице.
Об этом периоде жизни стараюсь не вспоминать. Внушила себе, что его никогда не было. И у меня получается быть хозяйкой своей памяти в течение целого дня. Только вот ночью она, как дикое животное, вырывается из клетки, и я посыпаюсь в холодном поту, а потом долго смотрю в темноту, пытаясь отогнать полночных призраков с их сиплыми, пропитыми голосами и тошнотворным гнилостным дыханием. Я почти не помню лиц — они слились воедино, превратившись в нечто бесформенное, заплывшее жиром, с красными воспалёнными глазами и слюнявым ртом, но воспоминания о чужих прикосновениях, грубых и циничных, оказались нетронутыми. Каждую ночь я чувствую, как кожу царапает щетина, как по ней струйками сбегает чей-то липкий пот, как кто-то рывком наматывает мои волосы на кулак, как меня с размаху швыряют на застеленный грязным тряпьём топчан… Скомканные простыни, груды одежды, брошенной на ржавую спинку кровати, захватанное, местами почерневшее зеркало, таз, наполненный мутной водой, выщербленная мраморная доска над умывальником, клок пакли, торчавшей из продавленного матраца… Был ли у меня иной выбор? Был. Я могла вернуться к дону Амаро, прибиться, как приблудная собака, к дверям его дома. И он не прогнал бы меня… Унижение в обмен на гарантированную тарелку супа. Или голод и нищета. Но в любом случае позор неизбежен. Он — моё прошлое и будущее. Им пропиталась моя кожа, им пахнут мои волосы. От него не убежать и не отмыться. Он будет со мной до самой смерти. А если так — декорации не имеют значения…
Сколько это длилось? Несколько недель?.. Или месяцев?.. А, может, год?.. Не помню.
Мысль прекратить всё разом возникла из ниоткуда и очень скоро переросла в навязчивую идею, ходившую по пятам, преследующую днём и ночью. Она казалась единственным выходом, дверью, ведущей из мрака на свет. Стоит только набраться смелости и распахнуть её… Один решительный шаг — и всё позади, страдания закончатся…
Но я не сделала этого. Не потому, что испугалась умереть. И не потому, что захотела жить. Просто моё сердце однажды превратилось в камень и, выкатившись из груди, упало в воду. Оно и сейчас лежит где-то на дне реки.
…Оказавшись на мосту на окраине города, я долго смотрела сверху на грязную речную воду: апельсиновые корки, щепки, вздувшееся белое брюхо дохлой тамбакуи[40]… В руке был нательный крест. Я сняла его с шеи, посчитав, что с такими греховными мыслями, которые теперь роились в моей голове, больше не имею права его носить. Носить его — значит, осквернять.
Встала на колени.
«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои…»[41].
Зажмурив глаза, прижалась лбом к деревянной перекладине моста.
«Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня…».
Я обращалась к Господу с последней молитвой покаяния, но вместо этого ко мне со всех сторон лезли образы, которые я всю жизнь отчаянно пыталась вытравить из сознания.
«Мы заживём так, как тебе и не снилось…».
«Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал…».
«Парагвайский гостинчик…».
«Ты праведен в приговоре Твоём и чист в суде Твоём…».
«Износился, как старое платье…».
«Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя…».
«Просыпайся, Джованна! Твоя потаскуха-мать тебя бросила!».
«Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость Твою…».
«Порок у вас в крови…».
«Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушённые…».
«Ты ведь послушная девочка, да, Джованна?..».
«Отврати лицо Твоё от грехов моих, и изгладь все беззакония мои…».
«Ты отомстишь и за себя, и за меня…».
«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня…».
«Будь ты проклят, мерзкий упырь!..».
«Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня…».
«Он не узнал меня, Джованна…».
«Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владычественным утверди меня…».
«Не знаю, куда от неё деться!..».
«Господи! Отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою…».
«Ты будешь на коленях умолять, чтобы я принял тебя назад…».
«Жертва Богу дух сокрушённый; сердца сокрушённого и смиренного Ты не презришь, Боже…».
Ещё пара фраз и «аминь» под занавес — а потом моя жизнь оборвётся. Как только я произнесу это слово, между тем и этим миром останется последняя преграда — деревянная перекладина: мне нужно будет лишь подлезть под неё, а затем спрыгнуть с моста.
Я подползла к самому краю, теперь надо лишь зажмурить глаза и… Но решимость, с которой я пришла сюда, иссякла. Хотелось во что бы то ни стало докричаться до Бога. Хотелось, что бы он мне помешал… Должен же хоть кто-то окликнуть меня в момент отчаяния, остановить — неважно кто, какой-нибудь случайный прохожий!.. В этом и есть милость Божья… Неужели он не дарует её мне?
«Почему ты так поступаешь со мной? Какое преступление я совершила, что ты наказываешь меня? Почему одних ты благословляешь, а других с рождения втаптываешь в грязь?! Где твоя справедливость? Где твоё милосердие?»…
Но слова, не долетевшие до Бога, растаяли в воздухе. Меня никто не услышал. Вцепившись в почерневшие доски, я вглядывалась до боли в глазах в мутную воду… И, наконец, решилась… Но память снова швырнула к другим берегам.
«Если судьба сдала тебе на руки одну шваль, это не повод, чтобы выйти из игры, это значит, что тебе пора осваивать шулерские штучки. И пусть потом плачет тот, кто окажется с тобой за одним игорным столом…».
Я сглотнула слюну… Где я услышала эти слова? Кто нашептал мне их: Бог или Дьявол?..
Услужливая память освежила эпизод из недалёкого прошлого: гостиничный номер, один из моих клиентов — прожжённый картёжник по прозвищу Париж. Помнится, я спросила у него: «Почему Париж?». А он похвалился, что как-то раз по полной начистил французских толстосумов, сорвал такой крупный куш, что все только ахнули, когда ему случилось назвать сумму. Ну, с тех пор и пристала кличка… Как же его настоящее имя?.. Кажется, Рокко… Весёлый, смазливый парень с родинкой на щеке… Он дурачился, поливая меня шампанским и осыпая ворохом только что выигранных денег, рассказывал неприличные анекдоты и показывал карточные фокусы… Спустя пару дней до меня дошёл слух, что Рокко кто-то зарезал в таверне…
«Если судьба сдала тебе на руки одну шваль…».
Ладонь разжалась сама собой… Едва слышный всплеск и маленький кружок над водой.
Я поднялась с колен и вытерла слёзы.
«Ну что, Джованна, — сказала я самой себе, — настало время осваивать шулерские штучки…».
…Не знаю, откуда у меня тогда взялось смелости, чтобы отправиться к Аттиле — главарю местных бандитов, и предложить ему совместный бизнес.
Аттила расхохотался, когда я изложила ему суть дела и назвала свои условия: ему — тридцать процентов прибыли, мне — семьдесят. Он не поверил в успех моего предприятия и выругал последними словами. Впрочем, ни на что другое я и не рассчитывала. Но отступать было уже поздно, и я повторила ему свои требования. «Твоя наглость поражает! — сказал он, разглядывая меня с неподдельным изумлением. — Как такой тупой корове, как ты, это вообще могло взбрести в голову?». Когда я добавила некоторые детали к своему рассказу, в которых раскрылись кое-какие подробности задуманного проекта, по выражению его лица поняла, что он больше не считает меня тупой. Сбавив до сорока мой процент от выручки, Аттила пообещал своё покровительство.
Итак, с его помощью мне удалось открыть заведение. Можно называть его, как угодно — публичным домом, борделем, домом терпимости, притоном, я же предпочитаю именовать его салоном. Название для него было выбрано изящное и экзотическое — «Золото Пайтити».
Подобно древнему городу инков, затерянному в недрах дикой сельвы, дом хоть и располагался в самом центре Кампуса, но от посторонних глаз его надёжно скрывали густые заросли деревьев. Желая придать салону особый шик и таинственность, мы с Аттилой распустили слух, что его владельцем является один престарелый миллионер из Европы, ведущий затворнический образ жизни. На самом же деле этот старинный трёхэтажный особняк, брошенный прежними владельцами после пожара, Атилла прибрал к рукам совсем даром. Мне же он сдавал дом за какую-то совершенно грабительскую сумму: ежегодно несколько сотен рейсов просто исчезали из карманов, как дым, и оседали в его алчных лапах. Также я была вынуждена сделать полностью за свой счёт ремонт в помещении. И если подсчитать, сколько я денег ухлопала на оплату счетов краснодеревщика, обивщика и стекольщика, то выйдет целое состояние.
До тех пор, пока мои дела не пошли в гору, салон не отличался особым великолепием: на первом этаже находился большой зал, где происходили так называемые смотрины, на втором этаже располагались апартаменты, где клиент встречался с заказанной девочкой (таких спален в доме было четыре), на третьем — столовая, комнаты девушек с зарешёченными окнами и прислуги. Всё очень просто, без изысков, но чисто и ухоженно. Потом, когда понемногу смогла развернуться, я придала особняку истинную респектабельность: заботясь о звукоизоляции, все стены обила пробкой, наняла художника, выполнившего интерьер каждой из спален в определённом стиле — японском, мавританском, индийском, китайском, украсила салон настоящими полотнами, соорудила бассейн внутри дома и фонтан, открыла на первом этаже ресторан… Но это было потом, спустя много лет. А на первых порах мне пришлось очень туго. Экономить приходилось буквально на всём. Конечно, в первую очередь, на девочках — они работали за кормёжку.
Себе в помощь я наняла двух работников: грека Тимасеоса и парагвайца Сантьяго. Их репутации не отличались кристальной чистотой, но это были сильные и крепкие парни; они занимались подбором «кадров», обеспечивали охрану заведения, и, пока в салоне не появился швейцар, сменяя друг друга, стояли на дверях, встречая и провожая посетителей. Постепенно штат прислуги разросся до десяти человек: экономки, кухарки, повара, прачки, дворника, привратника, горничной и пианиста. Но это, опять же, было потом. А на первых порах мне приходилось работать один на один с двумя отъявленными головорезами: пару раз я была вынуждена пустить в ход нож, чтобы эти скоты раз и навсегда уяснили, что перед ними хозяйка, а не непотребная девка. Позже, правда, мне никогда не приходилось жалеть о своём выборе — молчаливость и преданность моих помощников выдержали все испытания.
…На открытие я пригласила священника. Не знаю и знать не хочу, что за личность пряталась под сутаной, и где располагался приход, в котором этот падре якобы служил. Всем своим видом он не вызывал никакого доверия. Это было низенькое щуплое существо с бегающими глазками, которые он отводил всякий раз, как сталкивался с тобою взглядом. Теребя жиденькую бородёнку трясущимися пальцами, где вместо ногтей топорщились длинными белыми полосками уродливые шрамы, он поминутно озирался, точно за ним кто-то гнался. Облизнув красным языком влажные губы, он подкинул на ладони протянутую мною монету, молниеносным движением схватил её и, куснув длинным жёлтым резцом, спрятал в недрах своего просторного одеяния. Я не намеревалась афишировать свою будущую деятельность — весёлый дом маскировался под вывеской фотосалона, но этот святоша был настолько мелок и гадок, что даже как-то неловко было его таиться.
— Не стану скрывать, отец Гуга, место, которое я прошу вас освятить — бордель.
Два цепких глаза на секунду впились в меня.
— Тогда плата будет удвоена.
Я протянула ему ещё одну монету:
— Это справедливо.
Подлинность другой монеты была также проверена на зуб, после чего поступило неожиданное предложение — падре изъявлял желание исповедовать грешниц. «Чёртов извращенец!» — мелькнуло в голове.
Отец Гуга ответил на презрительную усмешку, появившуюся на моих губах, заключительными стихами Псалма, которые я когда-то так и не решилась произнести — «Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима: тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов, аминь». Услышав это, я расхохоталась — наконец-то ты мне ответил, Господь!
…В первые месяцы работы пришлось несладко. Во все дела совал нос Аттила. Он устроил настоящую истерику, когда увидел моих венерочек.
— Ты спятила! — помнится, разорался он. — Это же дети!
— Они вполне годятся для этой работы, — спокойно отвечала я.
— Да кто пожелает иметь с ними дело? — не унимался Аттила. — Они же ещё совсем зелёные! Ты бы ещё грудных сюда приволокла!
— А ты предпочитаешь восьмидесятилетних?
— Когда ты сказала, что будут молоденькие, я подумал — лет двенадцати, тринадцати.
— Семь лет — прекрасный возраст.
— Но они же плоские, как рыба-нож! — возмущался Аттила. — Кто с такими захочет лечь?! Я думал, мы с моими парнями будем заходить сюда развлечься, а что нам тут делать? Охотников на такой товар днём с огнём не сыщешь!
— Для тебя и твоих дружков есть клячи из киломбо[42]. А мои девочки — исключительно для высоких господ.
Он не придумал ничего более умного, как оскорбить меня:
— Поговори у меня, тупорылая шлюха!.. Имей в виду, всё, что я вложил в эту дерьмовую забегаловку, ты вернёшь мне до последнего сентаво[43]. Мне плевать, где ты возьмёшь деньги, когда прогоришь! Сама на панель выйдешь, но отдашь!
— Не заводись, Аттила! Клянусь тебе, я полностью рассчитаюсь. Дай только время…
Сейчас могу сказать определённо точно — выбор был сделан правильно: товар пришёлся по вкусу здешней публике. Среди постоянных клиентов, которыми я понемногу обзавелась, были преимущественно сливки общества: плантаторы, банкиры, судьи, адвокаты, владельцы крупных мануфактур — солидные семейные люди, ценящие превыше всего покой и дорожащие своей репутацией. Я старалась сделать их времяпрепровождение максимально комфортным. Поскольку я имела дело с людьми уважаемыми и почтенными как по возрасту, так по статусу, я предпринимала всё для того, чтобы мой салон даже отдалённо не напоминал гнездилище разврата. Поэтому ни о каких пьяных оргиях с драками, скандалами и поножовщиной, которыми так славились бордели беднейших городских кварталов, не могло быть и речи. Люди, приходившие ко мне, скрывались в комнатах, оборудованных всеми необходимыми удобствами и приспособлениями для утех, также благопристойно, как если бы приходили на приём к доктору, а всё, что происходило за закрытыми дверями — меня не касалось.
Чтобы моё заведение в глазах гостей выглядело как можно более приличным, на первом этаже дома я разместила маленький магазинчик, где продавались цветы, драгоценности, изысканный швейцарский шоколад, книги в дорогих кожаных переплётах, приятные безделицы, привезённые контрабандой из Парижа. Для семейных клиентов было очень удобно, выйдя от нас, отправиться домой не с пустыми руками, а захватив домочадцам какой-нибудь очаровательный подарок — духи для жены или фарфоровую куклу дочери. Некоторые были так растроганы моей заботой и предусмотрительностью, что показывали фотографии детей, запрятанные в недрах бумажника, хвалились их талантами. Подпевая в унисон чадолюбивым папашам, я старалась запомнить лица их отпрысков, а потом, целенаправленно объезжая улицы Кампуса, высматривала среди юных попрошаек тех, кто был похож на ангелочков из бумажника. Если мне удавалось откопать среди бульварного мусора что-то подходящее, оно немедленно похищалось, отмывалось, откармливалось, одевалось в шёлковые панталончики и кисейное платьице и преподносилось клиенту в качестве подарка по любому удобному поводу — к Рождеству или в ознаменование удачно выигранного судебного процесса. Многие были так шокированы моим сюрпризом, что в первые минуты даже теряли дар речи, до того точным было сходство, но когда приходили в себя, со слезами на глазах рассыпались в благодарностях. В такие моменты их щедрость не знала границ. Во всяком случае, от предложенного презента не отказался никто.
Ещё одним необходимым условием моего бизнеса была полная конфиденциальность. Именно поэтому у дверей салона «Золото Пайтити», в отличие от второсортных заведений, никогда не крутились извозчики: мои люди заранее договаривались, когда каждый из них должен подъехать. В назначенное время подкатывала пролётка, клиент садился в неё и был таков. Мы сотрудничали с тремя извозчиками, готовыми по первому свисту сорваться и поехать куда угодно. Услуги эти стоили недёшево, но без них мы не могли обойтись, особенно когда дело касалось щепетильных случаев: приходилось тайно вывезти бездыханное тело. Такие досадные недоразумения, к сожалению, иногда происходили. Что поделаешь — специфика товара. В отличие от домов, где работали взрослые женщины, мой салон населяли хрупкие создания: чуть увлёкся клиент — и сломалась живая игрушка.
Первые две жертвы Сантьяго закопал в саду — и уже через год на этом месте вовсю цвёл розовый куст. Но потом я воспротивилась такому нелепому и примитивному решению проблемы. И меня поддержал Тимасеос: «Нельзя их оставлять здесь. Если накроют — будем бледно выглядеть». Он предложил вывозить труппы за город и сбрасывать в реку. Я уже готова была согласиться с ним, как запротестовал Сантьяго: «Ты их не хоронил, ты не знаешь, сколько с ними возни. А я знаю! Кровищи иногда бывает столько, что пролётку не домоешься! А нам на ней ещё гостей доставлять. Была б попроще публика — полбеды, а наши франты — натуры нежные, к ним деликатный подход нужен, а то ещё чего доброго рыло воротить начнут». «Ты прав, — согласилась я. — Надо придумать что-то другое». Неожиданно нам на помощь пришёл Отец Гуга: этот человек появлялся всегда незаметно и бесшумно, точно кошка, и также внезапно исчезал. Чем больше я общалась с ним, тем больше приходила к выводу, что он такой же священник, как я — царица Савская. Держу пари, что где-то далеко отсюда по нему давным-давно плакала верёвка. «Что за средневековая дикость в то время, когда в городе есть морг, — невозмутимо отозвался он. — Достаточно за небольшое вознаграждение договориться с одним из работников и всё — разве мало в Кампусе неопознанных трупов… Кто ими когда интересовался?». Я и мои подручные переглянулись — похоже, мысль о виселице пришла не только в мою голову.
Было у Отца Гуги одно маленькое хобби, которое нам очень пригодилось, — страсть к фотографированию. Мы оборудовали мастерскую, где в качестве натурщиц побывали все мои пташки. Потом эти снимки пересекли океан вместе другими с контрабандными товарами Латинской Америки и тысячами разлетелись по всему миру. По слухам, их сбывали даже в Китае. Также Отец Гуга уговорил меня нанять двух мулатов для позирования вместе с девочками. Эти снимки были настоящей мерзостью — после их просмотра я долго оттирала с мылом руки, но наш «святоша» убеждённо заявил, что именно такие фотографии пользуются наибольшим спросом.
Помимо этого мы собрали компромат на каждого посетителя — когда клиент пьян или чрезмерно поглощён процессом, выполнить это незаметно особого труда не составляет. Поскольку мой бизнес был предприятием довольно рискованным, это было сделано на случай, если бы кто-то из достопочтенных горожан вдруг вспомнил о том, что является блюстителем общественной морали и захотел бы закрыть «Золото Пайтити».
У Отца Гуги были и другие таланты. Не знаю, насколько хорошо он знал медицину, чтобы проводить врачебные осмотры, чего он очень ревностно добивался, но он понимал толк в таких вещах, где и я, и мои помощники были полными профанами. Всё дело в том, что некоторые из клиентов имели особенные предпочтения — покупали исключительно нетронутых дев. Для нашего заведения выполнить любой каприз заказчика — вопрос чести. Но вся беда в том, что товар необходимого качества встречался крайне редко: маленькие нищенки, которыми наводнены улицы Кампуса, испорчены с колыбели, а те, что отвечают необходимому требованию или страшны до безобразия, или больны какой-нибудь заразой. Впрочем, на уродливых тоже имелся спрос: среди наших постоянных клиентов была парочка таких, для которых мы специально держали карлицу и горбунью. Приведи им Теду Бару[44] или Грету Гарбо — они и ухом не поведут, а увидят этих страшилищ — готовы буквально осыпать деньгами.
Чтобы выполнять заказы наших гурманов, Тимасеосу и Сантьяго приходилось объезжать провинциальные деревушки и скупать у бедноты их дочерей, и также засылать вербовщиков в Аргентину, Боливию и Парагвай. Но отыскать райский цветок в жалких лачугах удавалось нечасто. Иногда же корыстолюбивые мамаши попросту лгали нам, подсовывая подпорченных девиц. А если всё же подворачивалось что-то стоящее, то это ещё было полдела — малютку предстояло привести в божеский вид и научить, как вести себя с господами. Попадались дикарки, которые царапались и кусались так, что моим подручным приходилось прибегать к порке, чтобы их обуздать: но при этом они не слишком усердствовали, чтобы не повредить кожу. Иногда на то, чтобы обтесать какую-нибудь уличную штучку и научить её мало-мальски держать себя в приличном обществе уходили месяцы. Абсолютно неразвитые умственно, девочки зачастую не могли связать двух слов, а если и открывали рот, то сыпали такими ругательствами, что волосы вставали дыбом. Я по мере сил старалась отучить их от брани и привить им хотя бы элементарные представления о гигиене — все без исключения девицы были крайне невежественны в этом вопросе. Образовывать их в мои задачи не входило: я лишь объясняла им необходимые правила этикета и заставляла зазубрить несколько нехитрых иностранных выражений: по собственному опыту знаю — когда интеллигентный мужчина слышал на французском какую-нибудь непристойность, он приходил в экстаз.
Мы очень намучились в поисках невинных юных красавиц, пока Отец Гуга не подсказал гениальную мысль: чтобы создать видимость кровотечения, достаточно вставить в причинное место клочок губки, смоченный кровью, которая выдавливалась в процессе соития. Мне понравилась идея: очень убедительно и никаких финансовых затрат. Впрочем, если клиент желал развлечься с девочкой на стороне, к примеру, взять её к себе на фазенду, мы предпочитали не рисковать, чтобы нас не обвинили в мошенничестве, и подготавливали девственниц более сложными способами. Чаще всего Отец Гуга использовал сильное вяжущее средство: пары уксуса, мирровую воду и настои из желудей и терновых ягод. Это давало настолько эффективный результат, что некоторых профессиональных девственниц мы подправляли по нескольку раз в неделю. Особо щепетильным клиентам, чтобы у них не возникало никаких сомнений в качестве приобретаемого товара, Отец Гуга выписывал медицинские справки, в которых документально удостоверял наличие целомудрия.
Также Отец Гуга знал толк во всём, что касалось чудодейственных аравийских ароматов и эссенций, исцеляющих импотенцию. И хотя шпионивший за ним Сантьяго считал его великим прохвостом и уверял, что это не более чем вода, смешанная с лавандовым маслом, наши клиенты были довольны и скупали «волшебный бальзам» по три рейса за склянку.
Своим положением не могли быть недовольны и работницы салона. Хотя некоторые ханжи неоднократно называли меня «пожирательницей детей» и обвиняли в том, что я украла детство у тысячи юных бразильянок, все эти слова — ложь: многих девушек я просто спасла от голодной смерти, подарив им несколько лет сытой и относительно беззаботной жизни. Меня можно упрекать в чём угодно, но истина в том, что если б не я, большинство из них не было бы сейчас в живых. Да и что особенного в промысле, который я предложила этим несчастным? Не я первая додумалась до того, чтобы сделать ребёнка забавой для взрослых. Люди гораздо более образованные и утончённые, чем я, не гнушались превратить маленького человека в предмет развлечения. Испокон веков сильные мира сего нуждались в живом инвентаре: рабах, шутах, юродивых, одалисках, евнухах… А если есть спрос, то всегда будет и предложение. Так что отбросим притворство и ложную чувствительность, дамы и господа: покупайте — продаётся!
…Когда мой бизнес полностью наладился, «покровительство» Аттилы начало сильно тяготить. Видя, как он и его люди по-хозяйски заходят в салон, каждый раз требуя всё большие и большие суммы, я думала о том, как раз и навсегда освободиться от влияния бандитов. Отношения двух равных партнёров — ещё куда ни шло, но Аттила упорно не желал становиться моим компаньоном и предпочитал вести себя как собственник. Кроме того, он не проявлял никакого уважения ко мне, по-прежнему видя перед собой лишь бывшую проститутку.
Я избегала общаться с ним прилюдно, зная, что ему ничего не стоит оскорбить меня в присутствии свидетелей, но однажды это всё-таки произошло: когда я отказалась платить дань за один и тот же месяц дважды, Аттила ударил меня по лицу на глазах у экономки. Стерпеть подобное я уже не могла: я прошла длинный путь, выкарабкалась с самого дна не для того, чтобы какой-то подонок безнаказанно унижал меня. Этот человек сам себе подписал смертный приговор: одной душной безлунной ночью Сантьяго и Тимасеос без лишнего шума порешили зарвавшегося мерзавца, а за одним и его верного дружка, служившего у Аттилы правой рукой. Тем, что шайка, оставшись без предводителя, была практически обезглавлена, воспользовались другие преступные кланы и быстро разделались с оставшимися в живых громилами. Так свирепая банда Кампуса, долгое время терроризировавшая меня, канула в Лету. А я лишь попеняла себя за то, что не избавилась от Аттилы раньше — сколько ненужных трат можно было бы избежать!
Обретя самостоятельность, мой бизнес окончательно встал на ноги. Имея хорошие связи с видными членами престижного Жокейского клуба Рио, я изготовила акции салона «Золото Пайтити» и продала их богатым анонимным инвесторам. Общая сумма средств, вложенных в развитие дела, составила порядка двух миллионов рейсов[45]. Это было началом моего золотого века.
Деньги дали мне то, к чему я всю жизнь изо всех сил стремилась — положение в обществе: маленькая бродяжка выбралась из грязи и стала сеньорой. У меня сохранилось несколько фотографий тех лет. Вот я сижу на ступенях своего особняка в элегантной шёлковой пижаме, богато отделанной вышивкой. В руке — длинный мундштук, в ногах — любимый дог. Вот с улыбкой машу фотографу из окна собственного «Кадиллака». Помнится, все иллюстрированные газеты отдали этому снимку по целой странице, сопроводив нелепым заголовком следующего содержания: «Госпожа Антонелли уже оценила новую модель Type 61, оснащённую „дворниками“ и зеркалом заднего вида». Вот я на антикварном аукционе с сосредоточенным видом разглядываю туалетный столик эпохи барокко… К моим услугам были лучшие ювелиры и портные, самые дорогие рестораны дрались за право назвать меня своей постоянной клиенткой, я была желанным гостем на всех светских приёмах… Но была ли я счастлива? Когда я вглядываюсь в пожелтевшие снимки, вижу за всеми этими модными шляпками, коротко стриженными, обесцвеченными перекисью волосами, густо накрашенными губами, бриллиантовыми диадемами и нитями жемчуга только одно — страх: боязнь будущего, желание спрятаться от прошлого и жуткое одиночество. Как ни тяжело мне в этом признаваться, но, собственноручно создав целую империю страсти, я не знала ничего ни о любви, ни о чувственности. Я могла выйти замуж за русского князя, если бы захотела — после революции 1917 года их по всему миру было пруд пруди, но у меня не было даже любовника. Многие мужчины пытались ухаживать за мной, но я с маниакальным упорством избегала любого физического контакта. По сути, несмотря на свой более чем внушительный опыт, я оставалась всё той же маленькой испуганной девочкой, однажды ночью переступившей порог спальни дона Амаро Меццоджорно. И подобно той маленькой девочке, жила с зажмуренными и прикрытыми ладошками глазами.
Так прошло несколько лет безбедной и относительно спокойной жизни, которая, казалось, будет длиться вечно, до тех пор, пока в один будничный и ничем не примечательный день в мою спину не упёрлось револьверное дуло, и хриплый голос не прошипел в ухо: «Будешь дёргаться — тебе конец!».
Услышав угрозу в свой адрес, я не испытала ничего, кроме раздражения. Привыкнув к эксцентричности некоторых посетителей салона, я восприняла происходящее, как глупую шутку. Однако тот, кто держал меня на мушке, не шутил. Скрутив за спиной руки, мне заткнули кляпом рот, нацепили мешок на голову и куда-то поволокли.
Почувствовав, что меня пытаются втащить в какую-то повозку, я рванулась, но тут же получила удар кулаком под дых. Взвыв от боли, я упала на чьи-то руки и больше не пыталась сопротивляться.
…Меня швырнули наземь.
— А теперь, сука, говори, где моя дочь! — услышала я голос одного из похитителей.
Спотыкаясь и падая, я пыталась подняться.
— Да сними ты с неё мешок, она уже всё равно никому ничего не расскажет…
Переведя дыхание, я бегло огляделась по сторонам: солома, лошадиные сбруи, плетённые корзины, кувшины с прокисшим молоком, над которыми роем кружили мухи. По всей видимости, я на какой-то ферме.
Если судить по одежде, мужчины, стоявшие передо мной, смахивали на крестьян, если по револьверам в руках — на гангстеров. Один из них был долговязый, сгорбленный. Его глаза скрывали поля соломенной шляпы, а над безвольным, будто скошенным подбородком нависли длинные седеющие усы. Другой — маленький, коренастый, с выступающим брюхом. Лицо у него было полным, выразительным, энергичным и точно скроенным из грубой дубленой кожи. Я растерялась:
— Кто вы такие?
— Отвечай, паскуда, где моя дочь! — вопрос сопроводила увесистая оплеуха.
Я с трудом удержалась на ногах:
— Какая дочь?
— Которую ты и твои дружки похитили.
— Я не понимаю, о чём вы…
Ещё одна затрещина — и я рухнула, как подкошенная.
— Теперь поняла?
— Да… да… да… Не надо больше, пожалуйста…
Кажется, я, действительно, поняла, что происходит. Передо мной был отец одной из моих подопечных. Его гнев справедлив и понятен. По всей видимости, кто-то из моих ублюдков выкрал его ребёнка. Чёрт! Я же предупреждала этих болванов, Сантьяго и Тимасеоса, — не трогать девушек, у которых есть семьи. К чему рисковать и идти на преступление, когда по улицам страны бродят тысячи беспризорников? Зачем нарываться на вендетту озверелых родственников, когда на свете столько сирот, до которых никому нет дела?
Пару недель назад у меня по этому поводу была ссора с Сантьяго, притащившего в заведение дочь какого-то торговца. Девчонка от страха потеряла голос и лишь затравленно озиралась по сторонам. Мы сутки не могли добиться от неё ни слова. Я была вне себя от бешенства: «Какого дьявола здесь делает эта деревенщина?! Неужели непонятно, что её начнут искать! Ты хочешь неприятностей?». Логика Сантьяго была железной: «Мы не можем подсовывать клиентам одно только отребье. Они так сильно привыкли к невзгодам, что стали непрошибаемы. Директор гимназии давеча жаловался на одну, мол, охаживаю её плёткой, а у ней — ни слезинки, такая грубая, бесчувственная натура. Я уж и так и эдак пытался вразумить этих дур. Говорю, что вам трудно лишний раз заплакать? Куда там! Тупицы! Бестолочи! Не понимают ни хрена, и упрямые, как черти!».
Тут я не могла не согласиться с Сантьяго. Уличные воровки и побирушки, конечно, ни в какое сравнение не шли с домашними детьми: тихими, робкими, послушными. В отличие от дочерей городского дна, слово взрослого человека имело для них авторитет, их было легко уговорить или запугать. И клиентов умиляла их неискушённость. Но, несмотря на все преимущества домашних куколок, я предпочитала с ними не связываться — слишком большой риск. И вот теперь после всех предпринятых мер предосторожности я вляпалась в по-настоящему скверную историю. Кого мне благодарить за это — Тимасеоса или Сантьяго?..
— Ну, что, вспомнила?
— Не трать время на разговоры с этой гнидой. Повесить её, вот и вся недолга!
— Сначала я вытрясу душу из этой поганой твари! Куда вы дели мою Вирхинию, отвечай?
Боль в вывернутой за спину руке заставила меня вскрикнуть.
— Нравится? Погоди, это ещё цветочки!
— Надо кончать с ней, у нас мало времени…
— Тащи верёвку.
Кожа покрылась испариной.
— Постойте! Чего вы добьётесь, если убьёте меня? Вы никогда не узнаете, где Вирхиния!
Разрази меня гром, если я знала, о какой из девушек идёт речь! Когда они попадали к нам, их имена переставали существовать и заменялись изящными благозвучными прозвищами: Душка, Шалунья, Тростинка, Шоколадка, Стрекоза…
— Ты что, вздумала угрожать нам?
— Упаси бог! Я лишь предупредила, что без моей помощи отыскать Вирхинию будет очень затруднительно. Только я знаю, где она.
— Она дурачит нас, Пабло.
— Нет, клянусь Мадонной!
— Пытаешься спасти свою шкуру? Я не верю ни одному твоему слову!
— Хорош лясы точить! Возьми лучше верёвку и закрепи её под навесом, вон на той перекладине, а я поищу какой-нибудь топчан…
— Стойте! — вне себя заорала я. — Я расскажу всё, что знаю… Клянусь спасением души, я расскажу вам всё!
— Отлично, и где она?
— На фазенде у одного из клиентов.
— Его имя?
— Сначала развяжите меня.
— Пабло, она врёт! Эту сволочь пора прикончить.
— Сам вижу… Молись Мадонне, если у тебя хватает совести взывать к ней. Очень скоро ты умрёшь.
Умоляя не трогать меня, я бросилась на колени перед моими похитителями, но это лишь развлекло их.
— Будь довольна, что мы тебя просто повесим. За твои злодеяния тебя надо в куски изрубить, как последнюю падаль, и скормить койотам!
— Отдай её мне, Пабло. Уж я с ней потолкую!
— Нет времени. Мы давно уже должны быть в лагере. Нас, наверное, и так уже ищут.
— Чёрт, забыл совсем!
Я принялась изо всех сил кричать и звать на помощь. Меня ударили кулаком по голове. Теряя сознание, я почувствовала, как на шею набросили петлю…
Меня привели в чувство чьи-то хлёсткие пощёчины. Открыв глаза, я увидела незнакомого человека в военной форме: яркий солнечный луч, прорвавшийся сквозь дощатую щель, наискось бил в угрюмое, энергичное лицо с крупно очерченным носом, углубляя чернеющие впадины глазниц и высвечивая худые острые скулы.
— Вам лучше, мадам?
Приподнявшись, я увидела, что нахожусь всё в том же амбаре.
— Вижу, вы пришли в себя…
— Кто вы такой?
— Вы говорите с полковником Престесом[46].
В памяти всплыла недавно прочитанная газетная строчка: «Отряд вооружённых бандитов во главе с Луисом Карлосом Престесом оказал ожесточённое сопротивление правительственным войскам в Имбураре (штат Пернамбуку)[47]. От имени президента Бразилии Артура Бернардеса[48] за поимку и выдачу властям мятежника Престеса назначено крупное денежное вознаграждение».
Имя этого человека было овеяно легендами. Одни называли его опасным анархистом, сеявшим смуту и разрушения, для других он стал живым символом свободы. Что из этого являлось правдой, что вымыслом — один Бог знает. Конечно, я и до встречи с Престесом слышала про его «непобедимую колонну»[49]. В те годы об этом неуловимом партизанском отряде писали все газеты. Никогда не интересовавшись политикой, я, тем не менее, знала и о военном движении тенентистов[50] — молодых офицеров бразильской армии, восставших против кофейных баронов, и о его лидере и идейном вдохновителе Престесе. С отрядом в несколько тысяч человек полковник Престес совершал набеги на небольшие города, нанося нешуточные поражения правительственным частям. Это был грандиозный многолетний поход по всей стране. Недели не проходило, чтобы Бразилию не сотрясали революционные бунты. Копакабана, Сан-Паулу, Минас-Жераис, Баия, Риу-Гранди-ду-Норте… — они вспыхивали то в одной, то в другой местности, как ослепительные кровавые факелы[51].
Я смотрела на Престеса с нескрываемым интересом:
— Как же, знаю… знаменитый бунтовщик…
— Не бунтовщик, а повстанец. Именно поэтому вы будете не повешены, как собака, в сарае, а казнены публично после справедливого суда.
— Какого ещё суда? Что за бред! У вас нет ни морального, ни юридического права судить меня… Вы сами преступник!
— Я — вне закона, мадам, но я не преступник.
— Я видела плакаты с вашей физиономией. Они расклеены по всем полицейским участкам страны! А ещё газеты… О вас пишут чаще, чем о голливудских кинозвёздах.
— Что есть, то есть: благодаря мне репортёры не сидят без работы.
— И вы осмелитесь меня судить?
— Через четверть часа за вами придут. Если верите в Бога, можете помолиться.
Он ушёл, заперев меня на замок. Как раненая лиса, я заметалась в поисках лазейки, через которую можно сбежать. Как назло сарай был сколочен из крепких брёвен. Я обшарила каждый закуток в поисках мотыги или мачете — тщетно. Меня охватила паника. В эту минуту я услышала лязг отворяемого замка.
Я перебила все глиняные плошки, до которых только смогла дотянуться, но это не помогло: два мужлана связали мне руки, вытащили из сарая и через злобно клокочущую толпу поволокли к высокому дереву. На одном из крепких сучьев уже качалась длинная пеньковая верёвка, а под ней — пустая ржавая бочка. Здесь же стояли Престес и два похитителя. Увидев меня, один из них кинулся с кулаками. Пока его оттащили, он успел разбить мне подбородок. Потом чьи-то сильные руки рывком поставили меня на бочку. Я и охнуть не успела, как шею сдавила верёвка. Оказавшись на плахе, я осмотрелась: несколько сотен мужчин, все вооружены. Таких разжалобить — дохлый номер.
Полковник Престес сделал шаг вперёд.
— Братья по оружию! Посмотрите на эту женщину. Пусть вас не обманут её молодость и хрупкость. Перед вами настоящее исчадие ада. Она похищала и продавала детей на потеху богатым выродкам. Она не просто эксплуататор трудового народа, она — работорговец. С помощью силы и обмана она растлила и принудила к занятию проституцией сотни маленьких беспомощных девочек, наших дочерей и сестёр. Ей нет и не может быть прощения! Я требую для этой женщины законного возмездия — смерти!
«Смерти! Смерти!» — раздался единый гневный рёв.
Палачи бросились ко мне с намерением выбить бочку из-под ног.
— И это ваш «справедливый суд»?! — истошно завопила я. — Даже законченным злодеям дают возможность сказать последнее слово! А вы вешаете меня без суда и следствия, как трусливые шакалы!
— Если у вас есть, что сказать в своё оправдание, можете защищаться, — холодно отозвался Престес. — Но предупреждаю заранее — ваша участь предрешена. Так что можете не взывать к милосердию. Ваша ничтожная жизнь не стоит и слезинки загубленного вами ребёнка.
— От ваших громких слов тошнит! Да что вам известно про детские слёзы, чтобы рассуждать об этом?.. Эй, вы! У кого из вас есть дети? Все ли вы знаете об их существовании? Или предпочли слинять, едва узнали, что подружка забрюхатела?.. Хорошо кочевать из города в город и витийствовать на митингах с красивыми лозунгами. А через несколько лет брошенные вами женщины приведут и продадут в публичные дома брошенных вами детей. И они будут ублажать какого-нибудь жирного борова не потому, что я похитила и развратила их, а потому, что вы их бросили! Это вы убийцы и растлители, не я! Я подбираю только то, что вы не захотели заметить. Ваши дети плачут не из-за меня, а из-за того, что вы через них перешагнули… Когда кто-нибудь из вас окажется в борделе и захочет снять девочку, подумайте — не собственную ли дочь вы покупаете!.. — я чувствовала, что всё моё тело сотрясает нервная дрожь, но остановиться не могла, напротив, из груди вырвался грубый издевательский смех. — Вы назвали меня эксплуататором… О да, я эксплуататор! Должно быть, я переняла это у своего деда, надорвавшегося на заготовках чая в Альто-Паране, или у бабки, загнувшейся от чахотки двадцати лет от роду… А, может, этому меня научила моя мать, милая безотказная прачка?.. Она быстрее всех женщин в нашей деревне плюхалась на спину, такое уж у неё было призвание… Или отец, рубщик тростника из Парагвая. К сожалению, я никогда его не видела: он сверкнул пятками ещё до моего рождения, но, видимо, от него я набралась эксплуататорских замашек… А среди вас нет парагвайцев? Нет? Какая жалость! Вот бы вздёрнул кто-нибудь из земляков! Принять смерть из рук соотечественника — слаще мёда… Хотя, постойте, господа революционеры, я вспомнила! Угнетать народ меня научил опекун… Если кто-нибудь из вас окажет любезность и спустит штаны, я покажу всем, как он учил меня это делать…
Я услышала голос Престеса:
— Снимите её оттуда…
И чей-то громкий протест:
— Но команданте!..
— Разве не видите, она помешалась!.. Мы не можем казнить умалишённую.
…Когда меня стаскивали с помоста, я хохотала во всё горло.
В тот же день я была отправлена домой. «Мадам, — сказал Престес, прощаясь со мной, — вне всякого сомнения, вы много настрадались в этой жизни, но это не оправдывает вас. Ремесло, которым вы занимаетесь — постыдно. Если вы честная женщина — бросьте его и посвятите свою жизнь чему-то благородному, возвышенному». «Например, революции? — усмехнулась я. — А что я при этом буду жрать, уважаемый полковник? Прокламации?». «Боюсь, мы не понимаем друг друга».
Слова Престеса потом ещё долго стояли в моих ушах. Впервые в жизни мне сказали о том, что я способна на что-то честное, достойное. Впервые в жизни на меня посмотрели как на человека.
…Таким было моё знакомство с Луисом Карлосом Престесом. Знала ли я тогда, что оно перевернёт всю мою жизнь?
Как я уже сказала, политика никогда не занимала меня. Она казалась мне грязным, бесчестным занятием, идеально созданным для людишек с низкими, мелочными страстями, стремящихся выбиться из грязи в князи и не гнушавшихся ради достижения цели использовать оболваненный ими народ.
В салоне я вдоволь насмотрелась на так называемых радетелей за права трудящихся. Я не видела среди них ни одного, кто держал бы в руках мотыгу или ходил за плугом. Все они, будучи сынками состоятельных родителей, получили хорошее образование в Европе и понятия не имели о том, как добывается кусок хлеба. Тем не менее, они вбили себе в голову, что знают про то, что нужно простым людям, и часами могли разглагольствовать, как их всех осчастливят, доходя в своих праздных спорах чуть не до рукопашной. Я с трудом выносила эту публику — мне претили лицемеры и бездельники. И хоть Престес никогда не появлялся в моём заведении, я считала его одним их них.
После знакомства с полковником мне захотелось узнать, что же на самом деле представляет из себя этот человек, коего голытьба величала красивым и романтическим прозвищем — Рыцарь Надежды. Без особого труда удалось раздобыть с десяток манифестов и воззваний, выпускаемых тенентистами, а также несколько номеров газеты «Освободитель», которую бойцы «непобедимой колонны» регулярно разбрасывали в местности, где им случалось остановиться… «Кровавый деспотизм, пожирающий наши свободы, продаёт Бразилию иностранным банкирам. Долг каждого бразильца — защита родины от этой орды вандалов, единственный идеал которых — обогащение ценой нищеты народа…», — с недоумением прочитала я в издании с высокопарным названием «Свобода или смерть!»… Я не понимала, что означают все эти фразы. За что боролись эти странные люди, что вынуждало их, бросив дома и семьи, следовать по шаткому, полному лишений и опасности, пути навстречу собственной гибели? Сочетания слов «диктатура олигархов», «произвол империализма», «демократические свободы», «конституционный режим», «революционные идеалы» были для меня пустым звуком. Да и сложно понять, зачем сражаться с теми, у кого есть капитал, если не имеешь желания заполучить его в собственные руки. От всей этой крикливой заботы о благе трудящихся отдавало какой-то неискренностью… И всё же во всей этой мешанине из громких лозунгов было что-то, близкое мне. «Свобода или смерть!» — так думала и я, когда покидала несколько лет назад дом моего опекуна. И поэтому наши пути с Престесом скрестились ещё раз.
Это случилось в конце 1926 года, когда президентом страны был избран Вашингтон Луис[52]. Несколько постоянных клиентов, откупив на трое суток ресторан в моём заведении, пировали во славу нового президента и, будучи его приятелями, открыто делили между собой должности в правительстве. Из случайно подслушанного разговора я узнала, что отряды революционеров вторглись на территорию штата Рио-Гранди-ду-Сул, но после непродолжительных боев были разбиты, и в настоящее время правительственные войска готовятся к окончательному разгрому «непобедимой колонны». «Мятежники переправились на западный берег реки Токантинс и укрылись в сельве штата Гояс, — слизывая соус с пальцев, проговорил дон Хосе Меркадо, начальник полиции Кампуса. — Но это им не поможет — очень скоро мы разделаемся с ними. Сейчас в Гояс стягиваются все крупные кавалерийские части».
Престес спас мне жизнь, и я считала себя обязанной ему. Но не только это вынудило меня искать с ним встречи — я осознавала, что он занимает первое место в моей жизни, что интерес к нему растёт, становится неотступнее, глубже, настойчивее. Хотелось ещё раз увидеть этого необыкновенного человека, не похожего на всех тех, кого я знала раньше. Он весь точно пылал священным огнём. Я боялась подойти слишком близко, чтобы не сгореть заживо, и вместе с тем держаться на расстоянии не было никакой возможности.
…В лагерь повстанцев я пришла не с пустыми руками: помимо того, что я предупредила их о готовящемся окружении, у меня был подарок — я возвращала отцу похищенную девочку по имени Вирхиния, чем вызвала недовольство Тимасеоса и Сантьяго. «А если нас припрут к стенке за похищение? Её родителям достаточно только стукнуть в полицию. Ты вообще соображаешь, что делаешь?» — накинулись они на меня. Но я меньше всего опасалась, что папаша Вирхинии, являвшийся одним из самых разыскиваемых политических преступников Бразилии, станет заявлять на меня властям.
Короткая встреча с полковником произошла в страшной спешке: по пятам шёл противник, и нужно было срочно отступать. Бойцы поредевшей «колонны» были по-прежнему крепки духом, не собирались сдаваться и готовы были выдержать натиск хоть стотысячной армии, но недавняя изнурительная и опасная переправа через реку под проливным дождём вкупе с отсутствием съестных запасов сделали своё дело: люди еле держались на ногах от голода и усталости. Кроме того, в отряде было много раненых.
Находясь в лагере, я с удивлением увидела, как сюда со всех сторон стекались жители окрестных селений: кто-то тащил медикаменты, кто-то — провизию, одни вызывались поухаживать за раненными, другие — предлагали свои услуги проводника. Было немало тех, кто желал присоединиться к «колонне». В основном, это были батраки, бежавшие от своих хозяев. В Престесе они видели защитника всех обездоленных. И им было, за что восхвалять полковника: в местах, где проходила «колонна», ликвидировались бухгалтерские книги и кабальные долговые расписки, сносились дома плантаторов, сжигались склады. Многие из крестьян получили из рук Престеса землю. Если бы не катастрофическая нехватка оружия и боеприпасов, полковник, увеличив свою армию за счёт многочисленных добровольцев, смог бы без труда одержать победу в этой войне…
…Поблагодарив за помощь, Престес на прощание пожал мне руку: «Всё-таки вы порядочный человек, донна Джованна… Жаль только, что идёте по дурному пути»… Зная, что через минуту мы расстанемся, и, возможно, навсегда, я решилась на откровенный разговор. Не поднимая глаз, призналась ему в своих чувствах. Втайне я надеялась, что он сделает шаг навстречу.
Меня до сих пор удивляет собственное ребячество. После грязи, через которую довелось пройти, мне ли было не знать, насколько глупо и опасно доверять людям… Долгие годы, тщательно и усердно, я выстраивала вокруг себя баррикаду. Пряталась от внешнего мира, как в раковину, за ширму отстранённости и безразличия. И вот мне разом захотелось сломать все сооружённые с таким трудом заграждения, выйти наружу из склепа, в который я сама себя заточила. Это было главной, роковой ошибкой. Как только я отреклась от всего, что помогало выжить, я потерпела крах…
«Вы мне очень нравитесь, Джованна, но я не имею права думать ни о чём, кроме дела, которому себя посвятил, — глядя в сторону, остудил мой пыл полковник Престес. — Пока борьба не окончена, я себе не принадлежу». «Простите», — чувство жгучего стыда охватило меня и прожгло дотла: захотелось сбежать от Престеса на другой конец света. Что я и сделала…
Впоследствии я никогда больше не прокручивала в памяти этот разговор, — один из наиболее неприятных и болезненных штрихов моей личной жизни — и постаралась запрятать его в как можно более укромные и глубокие тайники сознания: словно неистовый служитель Святейшей Инквизиции, замуровала, как еретика, заживо в стену. Так, в бесконечном потоке воспоминаний у меня появился ещё один скелет…
Я вернулась в салон, но работать, как раньше уже не могла. Против воли начала задумываться о том, насколько правильным было всё то, чем я занималась прежде. До недавнего времени мне не приходило в голову задавать себе подобные вопросы. Всё моё естество было поглощено борьбой за выживание. Новый день начинался с экономии и заканчивался подсчётами. На счету была каждая булавка, каждая спичка, каждое кофейное зёрнышко. Многие, вероятно, назвали бы меня богатой женщиной, но это не давало мне право ни на передышку, ни на расточительность. Я должна была крутиться, как проклятая, чтобы удержаться на плаву. Моими единственными собеседниками были амбарные книги. Изо дня в день, из года в год я исписывала цифрами целые тонны бумаги: дебет — кредит, дебет — кредит. Как только столбик слева суммировался, итог переносился направо и счёт продолжался, едва заполнялась последняя страница, бухгалтерская книга пряталась в несгораемый шкаф и начиналась новая. В моём рабочем кабинете с течением времени плетёный стул менялся на кресло из красного дерева, карандаш — на паркер, латунный портсигар — на золотой. Я понимала, что прочно встала на ноги, но у меня даже мысли не возникало, что теперь есть возможность ослабить вожжи и глядеть за салоном вполглаза. Тем более я не обременяла себя думами, насколько чистым с точки зрения морали является моё дело: бизнес как бизнес, не лучше и не хуже прочих. К тому же, если сравнить мой промысел с политикой, то не так уж они и разнятся, за исключением одного: проститутка продаёт только своё тело, но не разум и не душу, а политик торгует собой целиком… И вот теперь на моём пути появился человек, который двумя-тремя лозунгами перечёркивал всё, к чему я стремилась. Я чувствовала себя, как разбуженный громким свистом лунатик, который ещё минуту назад бесстрашно прогуливался по крышам. Это внезапное пробуждение пугало: что принесёт оно — прозрение или падение в пропасть?
Оказалось, что пропасть. Но забавнее всего, что на тот момент я воспринимала его, как прозрение.
Всё началось с одного небольшого инцидента. Одна из работниц по прозвищу Милашка выдала свою товарку — маленькую мулатку, которую мы с Сантьяго подобрали на улице, умирающую от голода. Девица быстро освоилась со своими новыми обязанностями и показывала настоящие чудеса выносливости, пропуская через себя по пятнадцать клиентов за сутки. Бедняжке, наверное, много пришлось натерпеться, если жизнь в моём салоне казалась ей манной небесной. Так вот, в один прекрасный день Милашка наябедничала на мулатку, что, дескать, та беременна. Мы с Отцом Гугой не поверили своим ушам — кто слышал, чтобы беременели восьмилетние дети? С такой проблемой моё заведение никогда ещё не сталкивалось. Любые попытки расспросить мулатку натолкнулись на целый океан слёз: девица клялась и божилась, что её оклеветали. Выяснить правду можно было только одним способом — позвав врача, причём, настоящего, а не этого мошенника Гугу.
Увы, диагноз подтвердился. Я отчихвостила Отца Гугу за то, что он, осматривая девушек каждую неделю, проворонил подобное безобразие, и задала ему вполне резонный вопрос: как такое могло случиться, если девочке, действительно, восемь лет?
Мулатка была допрошена ещё раз. И тут уже, после долгих рыданий, она покаялась, что ей не восемь лет, а двенадцать: невысокий рост и хрупкая фигурка без труда позволяли ей всех нас водить за нос.
Раньше, когда труженица из моего салона подрастала и утрачивала аромат девичьей свежести, я, чтобы не нарушать специфику заведения, перепродавала её в киломбо, где работали взрослые женщины: по всей стране у меня налажена целая сеть сбыта некондиционного товара. Но теперь поступить таким же образом с уязвимой, обездоленной, беспомощной девушкой показалось мне верхом несправедливости. Я решила оставить мулатку в заведении горничной, вызвав тем самым недоумение у своих компаньонов: «Что за блажь, Джованна? Мы не нуждаемся в ещё одной горничной, тем более — с пузом. К чему эта благотворительность? Ты стала коммунисткой?».
Нет, я не стала коммунисткой, но постоянные мысли о Престесе, попытки понять этого непростого человека, вынудили меня интересоваться вещами, которые всегда были чужды. Закрывшись в своём кабинете, я целыми днями напролёт читала политические брошюры, которые только удавалось достать. Мне казалось тогда, что если я пойму суть этих странных идей, я стану ближе к нему… и тогда, возможно… Господи, как я ненавидела себя за эту слабость! Как отчаянно пыталась задушить в себе надежду!.. Но она упорно не желала умирать, прорастала, словно травинка на проезжей дороге: упираясь корнями в жёсткую земляную твердь, цепляясь за камни, пробиваясь к свету…
…Следующий шаг, который я сделала, был ещё более экстравагантным: мне вздумалось нанять для девочек учителей. У Тимасеоса и Сантьяго поотваливались челюсти, а я, с трудом подбирая слова, потому что и сама не была уверена в разумности своих намерений, бормотала что-то несуразное, вроде: «Но ведь это ужасно, что девушки в их возрасте не умеют читать и писать!.. Мы должны как-то помочь им… хотя бы попытаться…».
Мои компаньоны лишь угрюмо переглянулись.
— А сказки им на ночь почитать не надо? — со злой иронией отозвался Тимасеос.
— Может, ещё прикажешь им жалованье положить? — процедил Сантьяго.
— Такое правило существует во многих домах, — я попробовала придать голосу твёрдость, — и их владельцам оно не кажется странным.
— А в нашем доме заведено другое правило, — с нажимом проговорил Сантьяго. — И владельцам нашего дома не кажется странным просто кормить девушек.
— Это не совсем справедливо, — неуверенно ответила я, хотя должна была сказать совсем другое. «Владелец дома — я и мне решать, какие правила здесь устанавливать», — вот что я должна была ответить — чётко, жёстко, безапелляционно. Но я стушевалась. И виной тому были не страх или слабость. Я вдруг словно лишилась привычной точки опоры, а падая, не пыталась удержаться. Какой смысл спасать от волны песчаный домик? Разве только тогда, когда не осознаёшь, что он возведён из песка… Ещё совсем недавно я этого не осознавала. Но теперь его шаткость и зыбкость предстали передо мной со всей своей отрезвляющей прямотой. Я будто бы неожиданно упёрлась лбом в стену и поняла, что дальше идти уже некуда… А волна, между тем, накатывала стремительно и неумолимо.
— Я не в первый раз слышу от тебя это словечко. Интересно, а дальше что будет — потребуешь раздать имущество бедным и пойти по миру? — помимо озлобленности, в интонациях Тимасеоса послышалась угроза.
— Я не призываю к этому… вас.
— Да что с тобой, Джованна?! — закричал Сантьяго. — Ты всегда была сильной. Мы тебя уважали. Что с тобой стряслось? Шла, шла, и вдруг будто спотыкаться начала.
Я усмехнулась про себя:
— Как верно сказано…
— Да ты послушай себя со стороны! Что ты несёшь?.. Какое, к чёрту, «учить»?! Это же мясо! Тупые, безмозглые животные! На что им грамота? Считать, кто сколько всадит?
— Заткнись, Сантьяго, — устало проговорила я: у меня не было ни сил, ни аргументов для спора.
— Сантьяго прав! — орал Тимасеос. — Ты раскисла!.. Тебе, видите ли, вдруг всех стало жалко… В сестру милосердия захотелось поиграть, утереть бедным сироткам носик… Только ты забыла, детка, что это бизнес, а не богадельня! Так что оставь свои бабьи сопли при себе!
— Я тебе не детка, — выдавила из себя я. Волна с шипением уползла в море: домика на берегу больше не было.
…Вечером того же дня ко мне явился Отец Гуга и предупредил, что Тимасеос и Сантьяго недовольны моим поведением, считают, что я сдала и утратила хватку, а это может негативно отразиться на деле, поэтому, пока я окончательно не наломала дров, им нужно что-то срочно предпринять. Я съёжилась: такие разговоры не предвещали ничего хорошего. Очевидно, настало время продать бизнес… пока его ещё можно продать, хотя бы за бесценок, а не потерять даром вместе с жизнью. Лучше уйти из дела по собственной инициативе, чем дождаться, пока тебя вышибут другие. Кроме того, я прекрасно знала, на что способны мои друзья-товарищи — печальная участь Атиллы не прельщала.
Отец Гуга, казалась, прочитал мои мысли. «Да, мадам, вам лучше уйти… — задумчиво проговорил он. — В своё время по отношению к вам кто-то совершил чудовищную подлость… и вот вы теперь пытаетесь её повторить. Дать образование этим девочкам — значит, обречь их на страдания гораздо более жестокие, нежели они испытывают сейчас. Их спокойствие — в их невежестве. Дайте им знания — и они сойдут с ума от боли. Так проявим же милосердие, мадам, и не будем вторгаться в их слепое неведение: когда человек не осознаёт, что он несчастен, — он не несчастен»…
Я почувствовала непреодолимое желание побыть одной. Как только за Отцом Гугой затворилась дверь, я в изнеможении рухнула на стул, потом позвала горничную и велела принести мне выпить. Она, по обыкновению, подала «Дом Периньон», а я едва не взорвалась от бешенства. «Какого чёрта! Мы что-то празднуем?!» — заорала я, швыряя шампанское в стену. Девушка испуганно выбежала прочь.
…Я отказалась от дела. Компаньоны с радостью его выкупили. Конечно, ещё совсем недавно я стала бы сражаться за «Золото Пайтити» всеми доступными способами, и в случае необходимости, чтобы вычистить крамолу в близком окружении, не погнушалась бы прибегнуть к услугам наёмных убийц. Но теперь я всякий раз себя спрашивала: «А как бы посмотрел на это Престес? А чтобы он сказал?». Я пыталась увидеть мир его глазами. Мне изо всех сих хотелось до него дотянуться… Зная, какого мнения Престес о моём ремесле, хотелось как можно быстрее освободиться от позорного прошлого, свернуть с «дурного пути»… И ещё — попытаться быть молодой. Узнать, наконец, что это такое. Усталость глубоко вошла в кровь, мысли и плоть точно окоченели под гнётом каждодневных забот. Хотелось отогреться.
Я очень рано изжила юность. Подобно висящему на стене отрывному календарю, я срывала дни, месяцы, годы собственной жизни и без сожаления бросала их, скомкав, а ещё — позволяла это другим: кто-то делал небрежные почеркушки, освобождая стило от чернильных излишков, кто-то — забавляясь, скручивал самолётики, а кто-то — тащил с собою в сортир… Итог подобного существования предсказуем: когда будет сорван последний лист, выпотрошенную, захватанную картонку снимут со стены и швырнут в урну… Совсем недавно мне казалась закономерной эта участь, но теперь я устыдилась собственного равнодушия — его может испытывать только скотина, запертая в стойле. Я же, ощутив себя человеком, захотела выпрямиться в полный рост. Но голова тут же упёрлась в грубо сколоченные доски хлева. Жизнь моя, не имевшая раньше никакой ценности, внезапно стала очень дорогой, а выкупить её оказалось не на что — она была мне не по карману.
…Лишившись салона, я ощутила тревожное, с каждым днём всё более угнетающее чувство безысходности, бессилия и собственной никчёмности. У меня не было ни малейшего представления о том, чем заниматься дальше. Будучи при деле, каким бы безнравственным оно ни являлось, я крепко и уверенно держалась на волнах, и вот теперь словно ко дну пошла. Конечно, на вырученные после продажи салона деньги, я могла бы жить безбедно до конца своих дней, но мне хотелось посвятить себя чему-то достойному, по-настоящему полезному. Только вот чему? То, что я знала и умела, не было ни достойным, ни полезным.
Я отчаянно нуждалась в добром совете. Но к кому я могла обратиться? Друзей у меня не было. Я добровольно и абсолютно сознательно изолировала себя от остальных людей, подобно средневековому замку, опоясанному со всех сторон глубоким, заполненным водою, рвом, сооружённым в оборонительных целях. Теперь же моя душа настойчиво жаждала не просто товарища, у которого можно обрести ободрение и поддержку, а поводыря, указующего путь. Единственным, кто в полной мере соответствовал этому слову, был Луис Карлос Престес. Исходившая от него магнетическая аура самоотверженности, мужества и благородства притягивала к себе, как магнит. Но у нас с ним не было никаких точек соприкосновения. Он был из другого мира. Говорил на непонятном языке. Требовал пожертвовать собой во имя революции — а мне, уже столько натерпевшейся в этой жизни, хотелось покоя и комфорта, призывал к лишениям — а мне было что терять, воспевал какое-то мифическое всеобщее благо трудящихся — а какое мне было дело до всех этих посторонних, а им — до меня?..
Неожиданно в мыслях мелькнул образ дона Амаро Меццоджорно — вот кто, действительно, смог бы разрешить все мои сомнения. В отличие от Престеса, этот человек не имел ни чести, ни совести, но в здравомыслии ему отказать было нельзя: его неизменная железная логика и объективный взгляд на вещи всегда поражали меня и невольно заставляли принимать его сторону. И в отличие от Престеса, он изъяснялся на понятном мне языке.
…Я постаралась организовать всё так, чтобы наша встреча выглядела как можно более случайной, и потому не поехала сразу в Баию, а попробовала разыскать его на одном из аукционов, где он был завсегдатаем. Расчёт оказался неверным — дон Амаро давно уже не принимал участие в торгах. Как мне удалось выяснить, он ещё несколько назад свернул производство каучука и распродал все свои земли. Эта новость озадачила: дон Амаро отошёл от дел — так непохоже на него… Что бы это значило?.. И всё же, изучив с десяток газетных объявлений, я наткнулась на информацию о продаже кофейной плантации в Эспириту-Санту[53]: её владельцем был сеньор Меццоджорно. Ухватившись за эту ниточку, я немедленно выехала туда.
Накануне предстоящей встречи я провела бессонную ночь. Мне было стыдно за собственную робость. Я изо всех сил пыталась убедить себя, что нет никаких причин так волноваться: я сходу дам понять дону Амаро, что в нашем «нечаянном» свидании нет ничего личного, что мы всего лишь участники торговых переговоров.
…Мы встретились в таверне, расположенной неподалёку от продаваемой усадьбы. Я увидела, что дон Амаро узнал меня в первую же секунду, словно я ни капли не изменилась за все эти годы. Он, казалось, ничуть не удивился, словно для такой как я не было ничего более естественного, чем разъезжать по всей стране и скупать за бесценок имения.
— Я знал, что когда-нибудь мы встретимся снова… — негромко сказал он и после паузы прибавил, — вернее, надеялся.
— Признаться, я надеялась на обратное.
— Не сомневаюсь.
Годы не состарили его, он лишь немного располнел, и не внесли никаких корректив в его облик: те же повелительные интонации, те же уверенные жесты, и неизменная кубинская сигара в зубах.
— Если ты жива, а не тлеешь в какой-нибудь выгребной яме, и более того, покупаешь недвижимость, значит, не так уж плохо я тебя воспитал.
— Скорее, это случилось вопреки вашему, так называемому, воспитанию.
— Может быть и так… Но если ты покупаешь кофейную плантацию в самый разгар кофейного кризиса, значит, я всё-таки что-то упустил.
— Это вас не касается. Меня устраивает цена, которую вы просите за фазенду, — я готова подписать купчую. Вместо того, чтобы тратить время на излишние сантименты, давайте поскорее оформим бумаги.
Дон Амаро снисходительно улыбнулся:
— Ты так торопишься продемонстрировать себя деловой и обеспеченной женщиной, что даже не просишь показать поместье и забываешь поторговаться… Это и смешно, и глупо, и совсем не по-деловому…
— Мне безразлично, что вы обо мне думаете.
— Это не так, иначе бы ты сюда не приехала… Но не будем об этом, не смотря ни на что, я рад тебя видеть, Джованна… После долгой разлуки люди обычно обнимают друг друга, ты позволишь?
Не дожидаясь ответа, он меня обнял. Я почувствовала себя не в своей тарелке: на такую встречу я рассчитывала меньше всего.
— Выпьем по стаканчику? — предложил он. — Что предпочитаешь?
— Абсент.
Дон Амаро засмеялся:
— Я знал, что ты меня ненавидишь, но ведь не до такой же степени.
Он заказал херес.
— Итак, ты хочешь купить мою фазенду…
— Я приехала сюда только ради этого.
— Дорогая, нет нужды всякий раз подчёркивать, как я тебе противен. В конце концов, это не я тебя нашёл, а ты меня. Какими бы ни были истинные мотивы твоего визита: уязвить меня или, благодаря моему одобрению, обрести значимость в собственных глазах — отбросим их в сторону и обсудим исключительно коммерческую часть вопроса… Ты, действительно, намереваешься заняться производством кофе? Если это так, то ты или сумасшедшая, или не читаешь последних газет. Все, кто так или иначе был связан с кофейным бизнесом — производители, поставщики, посредники и даже наше бестолковое правительство — разорены. Цены упали до семи центов за фунт! Его излишки сжигают и топят в океане, а он всё равно продолжает дешеветь!
— Я слышала про это.
— Ах, вот оно что! Значит, ты хочешь купить заранее обречённое предприятие, зачем?
— Но ведь кризис когда-нибудь кончится…
Дон Амаро рассмеялся.
— Когда страна, как гулящая девка, окунается в разгул политических страстей, рассчитывать, что это произойдёт очень скоро, не приходится. А у кого из нас в запасе есть вторая жизнь, чтобы дожидаться, когда всей этой вакханалии придёт конец?.. Президент Бернардис сменяет Песоа, Луис — Бернардиса, Престис — Луиса, Мена Баррету — Престиса, Варгас — Мена Баррету[54]… Но что в итоге получаем мы? Обанкротившиеся предприятия, инфляцию, толпы одичавших голодранцев, которые взялись за оружие… — почувствовав, что на меня кто-то смотрит, я повернула голову и напоролась на недобрый взгляд нетрезвого молодого человека, стоявшего у стойки; его глаза были прикованы к моим пальцам, теребившим ручку сумочки: блеск алмаза, завальцованного в массивный золотой перстень, сверкал на солнце слишком ярко; я невольно спрятала руки под стол; в последнее время газеты пестрили уголовной хроникой: кражи, грабёжи, убийства… — человек, потерявший работу, превращался в зверя. — Подобно дешёвой шлюхе, наше правительство пристраивается то к одному, то к другому: сначала заигрывает с кофейными и сахарными магнатами, а потом сворачивает все противозасуховые программы, льнёт к крестьянам, но отказывается проводить земельную реформу, вешается на шею промышленникам, но увеличивает налоги… Если бы все эти манёвры проводились в интересах хотя бы какой-то социальной группы, я бы назвал такую политику искусной и гибкой, но нет — наши досточтимые отцы народа вертятся, как флюгер, лишь затем, чтобы любой ценой удержать власть в своих руках, и плевать им на то, кто из нас пойдёт в расход ради достижения этой цели. И потому мне с ними не по пути.
— Что вы намерены делать?
— Все свои сбережения я вложил в военный завод, строительство которого сейчас полным ходом идёт в Калифорнии, и куда со временем собираюсь перебраться — если меня не подводит чутьё, очень скоро это будет самый прибыльный в мире бизнес.
— А как же плачущие деревья?
— Каучуковые плантации я давным-давно продал Форду, он налаживал в Бразилии производство шин для автомобилей своей кампании и не скупился в цене, — дон Амаро расхохотался. — Это была сделка века! Ведь буквально через полгода после нашего с ним договора в Советах началось массовое производство синтетического каучука, и гевея сразу обесценилась.
— Действительно, сделка века. Поздравляю.
— И это только начало. Если наши политики будут продолжать играть в свои любимые игрушки, а они, как правило, своим амбициям не изменяют, мы окажемся на пороге очередной мировой войны, и тогда продукция моего нового предприятия станет на вес золота.
— Не сомневаюсь, что мир взорвёт себя, лишь бы ваш счёт в банке пополнился.
— Не иронизируй, Джованна, так и будет. Поэтому, если тебе нужна эта чёртова фазенда — я отдам её даром. Она мне только руки вяжет, не будь её, я бы давно уехал в Штаты.
— С чего это вдруг такое великодушие?
— Хочется сделать тебе приятное, я так давно ничего тебе не дарил, — он попытался взять мою руку, но я высвободилась. — А мой последний подарок, признаю, был не очень удачным.
— Вот за это я благодарна. Не будь этой гадкой выходки с вашей стороны, я бы, возможно, до сих пор оставалась вашей подстилкой.
— Тебе непременно хочется меня уколоть? Не трать порох. Я не намерен отвечать на твои выпады. Давай поговорим, как разумные люди. Предлагаю заключить соглашение.
— О, узнаю дона Амаро Меццоджорно! — улыбнулась я. — Сейчас мне предложат очередную низость.
— Всего лишь взаимовыгодную сделку. Я предлагаю тебе отправиться со мной в Америку в качестве равноправного делового партнёра, который после моей смерти унаследует всё моё состояние. Ты ведь знаешь, у меня нет детей, и мне некому оставить дело. Мы могли бы стать добрыми друзьями, а иногда — немного больше. Ни на твою любовь, ни на верность я не претендую.
— Щедро, я, право, тронута. Вероятно, леди Рочфорд, упокой Господь её душу, — наконец-то я научилась выговаривать эту фамилию! — была в своё время растрогана не меньше моего?
Он побледнел.
— Тебе что, доставит удовольствие, если я буду страдать?
— Не доставит.
— Тогда заткнись и послушай меня. Я не думаю, что ты прикатила сюда только ради того, чтобы заставить меня чувствовать себя подлецом. Я догадываюсь, что тебя гложет: ты запуталась, стоишь на распутье. Узнаю маленькую девочку, которая хваталась за мою руку всякий раз, когда ей становилось страшно или она теряла уверенность в себе.
— Если бы вы не были гнусным развратником, вы могли бы стать для меня хорошим отцом, — опустив голову, прошептала я.
— Если бы я был хорошим отцом, а не гнусным развратником, я никогда бы не подцепил тебя в Посадасе, и ты бы заживо сгнила в стенах какой-нибудь монастырской богадельни, — парировал дон Амаро. — К чему сейчас эти препирательства, Джованна? Разве ты за этим приехала?
— Нет, мне нужен ваш совет.
— Так спрашивай!
Сбиваясь и путаясь, я рассказала дону Амару обо всём, что терзало мою душу. Выслушав исповедь до конца, он мрачно усмехнулся:
— Огради тебя Бог от социалистов и им подобных!
— Но миллионы людей по всему миру поверили им…
— Покорное и безвольное быдло — вот кто такие твои миллионы! Не позволяй втягивать себя в эти игры!.. Ты заблуждаешься, если думаешь, что политикам есть до тебя дело. Ты всего лишь инструмент в руках ловких демагогов. Не дай им себя одурачить!
— Но среди них есть честные и порядочные люди… Полковник Престес, например…
— Ещё один Дон Кихот! — презрительно усмехнулся сеньор Меццоджорно. — Благодаря таким, как он, старушка Европа повержена в хаос.
— Но цели, которые он преследует — благородны.
— Это ещё почему, интересно? Потому что он сам в это уверовал? Потому что ему вздумалось отождествить свои бредовые идеи с истиной и объявить себя мессией?.. По какому праву он навязывает мне свои идеалы?!. Вот что я тебе скажу, Джованна, — держись подальше от фанатиков! В какие бы одежды они ни рядились, что бы ни проповедовали, там, где они появляются — проливается кровь.
— Но разве жертвы не оправдываются великой целью?
— А разве великая цель не может быть заблуждением или эффектной ширмой для прикрытия чьих-то частных корыстных интересов?
Я не нашла, что ему ответить. Раздирали противоречивые чувства: с одной стороны я видела в его словах рациональное зерно, с другой — не была готова призвать правоту человека, который сломал мне жизнь.
— Послушай, Джованна, — он взял мои руки в свои, — не знаю, будет ли у нас ещё возможность поговорить, но пока ты рядом… Хочу попросить — береги себя! Никому не позволяй себя использовать. Кто бы ни возникал на твоём пути — Престес или какой-то другой неистовый безумец, всегда помни: твоя жизнь — принадлежит только тебе, и никто не вправе распоряжаться ею, какими бы благими намерениями он ни руководствовался… Знаешь, иногда не так страшны отъявленные злодеи, как те, кто искренне мечтает причинить добро…
Я вдруг почувствовала, что мы никогда больше не увидимся, и в этом ощущении было что-то щемящее, будто умирала какая-то часть меня. Я сказала об этом вслух.
— Как знать, — закуривая, задумчиво проговорил дон Амаро. — Иногда прощание — это самый короткий путь навстречу…
Эти слова неприятно врезались в память. Тогда я просто проигнорировала их, они показались мне всего лишь цветистой фразой, изящным риторическим ребусом, расшифровывать который не было никакого желания, но впоследствии неоднократно их вспоминала — они оказались пророческими: чем дальше я пыталась уйти от дона Амаро Меццоджорно, тем ближе к нему приближалась, пока однажды не поняла, что я — всего лишь слепок, снятый его руками с самого себя.
Фазенда Сантос, получившая название по одному из сортов кофе, перешла в мои руки, хотя я до последнего сомневалась, что дон Амаро сдержит слово и оформит дарственную — он никогда ничего не делал бескорыстно. Но, наверное, это имение и правда не представляло для него никакой ценности, раз он с такой лёгкостью отдал его мне. Кроме того, он отписал мне особняк в Копакабане[55], на что я уже совершенно не рассчитывала. По его словам, это был «прощальный подарок». Я же сочла этот широкий жест неуклюжей попыткой откупиться от прошлого.
Впоследствии особняк сыграл роковую роль в жизни очень многих людей. Будто что-то предчувствуя, я долго не могла найти ему применение. Если, став хозяйкой плантации, я тут же облюбовала тамошнюю усадьбу и переехала туда, то дом в Копакабане длительное время пустовал: переселяться в Рио-де-Жанейро я не собиралась, и у меня не было там никаких дел, чтобы возникала необходимость останавливаться в этом доме проездом.
Это было огромное двухэтажное здание, не лишённое красоты и вкуса: белое, украшенное в старинном португальском стиле орнаментом из голубой эмали. В своё время оно досталось дону Амаро Меццоджорно в счёт уплаты долга от одного разорившегося землевладельца, который, судя по слухам, там и покончил с собой после банкротства. Располагалось оно в некотором удалении от основных городских строений, на омываемой Атлантическим океаном песчаной отмели, заросшей кокосовыми деревьями, чуть поодаль — высились горы, в которые понемногу вгрызались застраивающиеся с каждым годом всё новые и новые улицы. Со всех сторон дом был обнесён высоким массивным забором из обожжённого кирпича. Середину площадки перед центральным входом занимал сквер: давно не стриженый газон, над которым возвышались две одинокие пальмы, заросли буйно цветущего кустарника, запущенный бассейн, где вдоль обезображенных тлёй водяных лилий неторопливо и совершенно безбоязненно скользили серебристые спинки хараки[56].
Я ума не могла приложить, что делать с этим мрачным и громоздким презентом дона Амаро, пока на моём горизонте не появился Отец Гуга. Не поладив с Темасеосом и Сантьяго, он поспешил разыскать меня и предложил свои услуги. Признаться, я не слишком доверяла этому пронырливому пройдохе, но, поскольку я всё равно подыскивала управляющего, а в его деловых качествах сомневаться не приходилось, взяла на работу.
Когда Отец Гуга предложил использовать дом в Копакабане в качестве гостиницы, я с энтузиазмом поддержала его: спрос на услуги такого рода со стороны иностранцев был небывалый, кроме того, наше правительство, чрезвычайно заинтересованное в так называемом «отбеливании» цветного населения Бразилии за счёт эмигрантов из Европы, всячески поощряло развитие гостиничного бизнеса… Спустя много лет я не переставала поражаться прозорливости Гуги, этого бродяги со смутным прошлым, — Копакабана стала одним из самых дорогих и элитных районов Рио, а стоимость ненужного «прощального подарка» возросла в разы.
…Полностью доверив устройство гостиницы Отцу Гуге, я с головой погрузилась в новую деятельность. Зная, что выращивание кофе не принесёт ничего, кроме убытков, я, тем не менее, не стала сворачивать его производство на моей плантации в Эспириту-Санту. Как и при прежнем владельце, с апреля по август крестьяне вместе со своими детьми приходили в Сантос, чтобы вручную собирать кофейные зёрна. Но, в отличие от многих фазендейро[57], не знавших, куда деть собранный урожай, я нашла выход из, казалось, критического положения. С помощью некоторых клиентов салона «Золото Пайтити», с которыми у меня когда-то завязались приятельские отношения, я наладила деловые контакты с импортёрами из Европы и Африки. По крайне низкой цене я закупала кофе у местных плантаторов и, включая запасы, хранящиеся на собственной фазенде, обменивала его на европейские товары: немецкие краски и медикаменты, египетское волокно, болгарские удобрения, а потом втридорога перепродавала всё это на бразильском рынке. Впоследствии моим главным торговым партнёром стала Германия, постоянно сокращавшая производство собственных товаров в пользу вооружения, — эта страна в те годы готовилась к большой войне. Со временем я стала поставлять немцам не только традиционный кофе, но и сахар, зерно, сою, мясо, масло, апельсины, хлопок. Они же, в свою очередь, ввозили в Бразилию станки, оборудование, запчасти к транспортным средствам… Без ложной скромности, я имела все основания поздравить себя: Великая депрессия[58], захлестнувшая мир, не только не поглотила меня, но и вынесла на небывалую доселе высоту успеха. Но это было только началом.
Постепенно придя к выводу, что мне крайне невыгодно оставаться простым экспортёром товаров, я приступила к созданию монополии. Не имея возможности осуществить свой замысел в одиночку, я разыскала в Калифорнии дона Амаро Меццоджорно и связалась и ним по телефону. Он выслушал меня с заметным интересом.
— Ты сказала — «Банк Антонелли»? — с нескрываемым изумлением переспросил он. — Я не ослышался, Джованна?
— Создание этого банка совершенно необходимо. Тогда для нашей будущей компании вообще не нужно будет иметь своих земель — это и хлопотно, и затратно. Мы сможем закупать прекрасное бразильское сырьё по самым низким ценам, поскольку заранее предоставим производителям кредиты на условиях, выгодных, в первую очередь, для нас. Таким образом, именно мы, а не производители, будем назначать цены на всю продукцию. К денежному авансу мы сможем приплюсовать стоимость удобрений, семян и пестицидов, которые обяжем покупать фермеров, опять же, по ценам, установленным нами… И это ещё не всё, дон Амаро. Монополия сохранит за собой право оценивать качество работ по удобрению почвы, посеву и уборке урожая. Она сама станет определять уровень оплаты за сбор и очистку сырья… Ну, как вам эта идея, дон Амаро?.. Алло! Почему вы молчите?!..
— Ты лишила меня дара речи…
— Так вы поддержите проект или нет?
— Не знаю, право… Возможно… наверное… Мне необходимо подумать… Ты накинулась так неожиданно…
— Пока вы будете думать, нас обойдут!
— Ну, хорошо, Джованна, хорошо… Я согласен.
— Тогда семьдесят процентов всех доходов — мне!
— О!.. — выдохнула в ухо трубка.
— Стало быть, договорились.
…С созданием банка и торгово-сельскохозяйственного концерна, в основе которых лежал капитал американских инвесторов, я поставила под контроль весь процесс производства и сбыта бразильского кофе, а в дальнейшем и другой агропродукции. Дело быстро набрало обороты, и отныне я не успевала затачивать карандаши для подсчёта прибыли — и это в самые тяжёлые и голодные для Бразилии годы. Но как только я обрела подлинное финансовое могущество, Небеса подложили мне очередную свинью. И все достигнутые ранее свершения стали казаться изощрённой и унизительной насмешкой.
…Он был одним из многих, и вошёл в мою жизнь, как и прочие — через постель. Знойным августовским вечером я встретила его в одном из местных питейных заведений, куда зашла с одной лишь целью — купить любовь на одну ночь. Меня устраивали краткосрочные необременительные отношения без привязанности и будущего: увидел, заплатил, использовал, а затем вышвырнул вон. Ни на что серьёзное не было ни времени, ни сил, ни желания. В последнее время я всё чаще обращала внимание на молодых парней, днём безуспешно отиравшихся возле всевозможных контор в поисках работы, а вечером — идущих в кабак забыться от гнетущей безысходности. Именно они становились объектом моего интереса. К услугам профессиональных альфонсов я не прибегала: их наигранные слащавые ужимки вызывали презрение.
Он сидел за соседним столиком с приятелями и буквально в упор расстреливал меня взглядом. Потёртая замшевая куртка, засаленная на рукавах, языки выбившегося из-под неё ворота красной холщовой рубахи, кожаная кепка, лежавшая рядом с бутылкой дешёвого сидра… Студент? Мастеровой? Механик?..
Взгляд напротив становился всё упорнее, в нём появилась какая-то безотчётная страстность. Едва уловимым кивком я сделала юноше знак в сторону дверей, затем нарочито громко потребовала счёт, и ещё раз посмотрела на него, давая понять, что буду ждать его на улице. Он вышел через минуту. Не говоря ни слова, положил свою руку мне на затылок и притянул к себе, ткнулся шершавыми, обветренными губами в мои губы. До машины, стоявшей через дорогу, мы доплелись вслепую, спотыкаясь, вцепившись друг в друга жадными, нетерпеливыми пальцами.
…Я проснулась от какого-то шуршания. Повернув голову, увидела, как он, сидя на краю кровати, чиркает что-то в блокноте.
— Что ты делаешь?
— Рисую.
На листке резкими энергичными штрихами была запечатлена спящая нагая женщина.
— Если когда-нибудь этот этюд превратится в картину, я назову её «Одиночество приходит в сумерках», — сказал он.
— Ты художник?
— В свободное время.
Мне хотелось спросить: «В свободное от чего?», но я сдержалась, да это и неважно — времени на разговоры всё равно больше не было: рано утром я планировала ехать в банк, и с ночным гостем пора было закругляться.
Закалывая растрепавшиеся волосы, я указала жестом в сторону тумбочки:
— Деньги возьми там.
Бросив на меня недоумённый взгляд, он машинально открыл ящик тумбочки. Недавнюю растерянность сменила гримаса отвращения. Он сгрёб банкноты и швырнул мне в лицо. Я и опомниться не успела, как на меня со всех сторон посыпался град тумаков.
— Сука! Какая же ты сука! — вопил он, лупцуя меня, как иступлённый.
— Прекрати! Что ты делаешь? — орала я, уворачиваясь и заслоняясь руками от затрещин.
Наконец мне удалось оттолкнуть его и вырваться.
— Ты чокнутый, да? — отбежав от него на безопасное расстояние, я набросила на плечи пеньюар. — Ты меня чуть не убил!
— Я, по-твоему, кто — проститутка? Как ты смеешь так меня унижать!
— Прости… я не думала… — ситуация была настолько нелепой, что я чертыхнулась.
— Сволочь! — процедил он, запуская в меня блокнотом.
Я присела, и он просвистел над головой.
— Извини, я не хотела тебя обидеть… — теперь на свету я смогла его, как следует рассмотреть: голый, встрёпанный, взбешённый — он был чертовски хорош собой.
— Думаешь, я пошёл за тобой, потому что мне нужны были твои вонючие деньги? Ты просто понравилась мне!
— Ладно, хорошо… я просто понравилась тебе… Конечно, кто же спорит… Только не дури, ладно!
Вслед за блокнотом полетела подушка.
— Гадина!
— Эй, эй, угомонись!.. Признаю, я была не права… Прости, пожалуйста!..
Подняв с пола блокнот, я с удивлением перелистала страницы, изборождённые карандашными зарисовками. Ничего не понимая в искусстве, я на всякий случай сказала, что это здорово.
— Ты ни хрена в этом не понимаешь! — натягивая штаны, прорычал он.
— Но мне правда нравится!.. — это уже походило на заискивание. — Как тебя зовут?
— Не твоё собачье дело!..
Выругав последними словами, он ушёл.
…Через несколько дней в мой кабинет заявился Отец Гуга и, не говоря ни слова, протянул сложенный вчетверо лист бумаги. Развернув его, я увидела свой карикатурный портрет: эдакая дьяволица, на которой кроме чулок и колье ничего не было, в неприличной позе возлежала на тугих мешках с надписью «кофе» и прикуривала от банкноты в полмиллиона рейсов.
— Какая гадость! — пробормотала я. — Где вы это взяли?
— Этими картинками обклеен весь город.
— Пошлите людей — пусть снимут… И перестаньте ухмыляться — это не смешно!..
Как только за управляющим затворилась дверь, я достала из ящика письменного стола забытый ночным гостем рисунок. Положила рядом с тем, что притащил ехидный Гуга.
…Два обнажённых тела. Внешнее сходство между ними — очевидно. И вместе с тем — это две разные женщины.
Одна из них словно и не была раздета: цинизм, нелюдимость, холодность, скепсис надёжно укутали её от посторонних глаз, но, странное дело, — не сделали сильнее: на свете не было более ранимого и уязвимого существа, чем эта порочная и агрессивная леди.
Другая, погружённая в безмятежный, не омрачённый ни беспокойством, ни переживаниями, сон, казалось, не нуждается ни в каких покровах: в её беззащитности и обезоруживающей доверчивости крылась непостижимая сила.
Одной из этих женщин я стала, другой — могла бы стать…
Меня захлестнуло дикое желание изорвать рисунки на мелкие кусочки, чтобы от них не осталось и следа. Но я не осмелилась к ним даже прикоснуться…
Кто ты, таинственный пришелец, разрезавший меня надвое бумажным листом?.. Кто дал тебе право влезть в мою душу?!
…Вечером я отправилась в кафе, где произошла наша встреча. Не найдя его среди посетителей, я, тем не менее, узнала молодых людей, с которыми он был в тот вечер, и подошла к ним.
— Пару дней назад с вами здесь был парень в коричневой куртке… Он художник. Как мне его найти?
— Антонио? Он, наверное, в мастерской.
Мне дали адрес.
С трудом отыскав трущобу в одном из беднейших кварталов на окраине города, я вскарабкалась по узкой скрипящей лестнице на чердак. Отодвинув грязную ситцевую занавеску, служившую дверью, шагнула в комнату… Стремянка, мольберты, бутылки, деревянная лохань с замоченным бельём, миска с обглоданной отварной кукурузой, колченогий стул со сваленной на него одеждой, бельевая верёвка через всю комнату, разбросанные кисти, пестревшие разноцветными красками скомканные тряпки, пустые рамы, консервная банка, над которой кружили мухи… И резкий окрик за спиной:
— Зачем пришла?
Он был босиком, в рваных штанах со спущенными подтяжками. За его спиной встревожено выглядывала молодая женщина и, с любопытством, девочка двух лет.
— Здравствуйте, — сказала я им.
Женщина, устало кивнув, прошла в комнату и принялась собирать на столе тарелки. Девочка взгромоздилась на какое-то лежащее у стены тряпьё и принялась без смущения разглядывать меня. Я остановилась перед одной из картин: не скажу, что она мне понравилась, просто созерцание позволяло не говорить ни слова.
— Хочешь купить? — запальчиво выкрикнул он. — Предупреждаю, это будет стоить очень дорого!
— Сколько?
— Тысячу!
Усмехнувшись, я вытащила чековую книжку и, пройдя к столу, неторопливо выписала чек.
Враждебность хлестала из его глаз буквально через край.
— Ты думаешь, что всё можешь купить, да? По-твоему, раз мошна набита, так и весь мир — один большой прилавок?! Пришла, ткнула пальцем — и всё — упаковывайте!
— В данном случае меня интересует только картина.
Женщина растерянно переводила взгляд то на одного, то на другого из нас, а на чек смотрела так, будто это была ядовитая змея. Её глаза впивались в меня и с портрета, висящего на стене… Они были повсюду, почти на каждой из картин: застенчивые и распутные одновременно. Тут же вспомнились прелестные маленькие кошечки из моего бывшего салона: падшие ангелы, невинные грешницы…
— Убирайся… — не отрывая от меня полных ненависти глаз, выдохнул он сквозь стиснутые зубы.
— Но, Антонио… — умоляюще пролепетала женщина. — Если сеньора хочет купить…
— Заткнись, Урсула! — рявкнул он, а меня, схватив за плечо, толкнул. — А ты убирайся, я сказал!
В спину полетели изодранные клочки чека.
…На следующий день горничная доложила, что меня хочет видеть какая-то особа. Этой особой оказалась вчерашняя знакомая; в её руках был завёрнутый в чёрную тряпку планшет. Озираясь, Урсула жалась к дверям и наотрез отказалась проходить дальше холла. Пришлось принять её там.
— Чем могу быть полезна? — холодно осведомилась я.
— Просите, сеньора… не сочтите за назойливость… Вчера мне показалось, что вас заинтересовала эта картина… — она откинула с полотна тряпку, и перед глазами предстал знакомый морской пейзаж. — Если вы всё ещё хотите купить её…
Я с нескрываемым интересом пристально оглядела посетительницу: хорошенькая, хрупкая, испуганная, на вид ей было не больше восемнадцати. Её наряд вообще не поддавался никакому описанию: на манер античной гречанки, она обернулась в убогую, местами — заштопанную, местами — продранную, хламиду, которая, судя по сохранившемуся после многократных стирок оттенку, некогда была синей. Насколько великолепным обнажённое тело Урсулы выглядело на полотнах, настолько же неуклюжим и нескладным в тряпках.
— Вы его жена?
— Нет, просто живём вместе… Для меня это не имеет значения… Антонио говорит, что если двум людям хорошо вместе, то всё остальное предрассудки… Ведь так, сеньора? — она заглядывала в глаза, как бездомная собака. Было неловко смотреть, как она пресмыкается.
— Как вы меня нашли?
— Он сказал, кто вы такая и где находится ваш дом — он обещал его поджечь.
— Мило.
— Сеньора, не слушайте его! Он просто вспыльчивый. Иногда, сам не понимает, что говорит… А потом отойдёт — и раскаивается. Он очень добрый.
По губам Урсулы скользнула улыбка — нежная и лукавая; меня всё больше и больше ошеломляла эта завораживающая двойственность.
— Ну, хорошо, я выпишу чек на прежнюю сумму. Устроит?
— Нет-нет, что вы, зачем так много? Хватит и нескольких сотен… Но только наличными, пожалуйста… А то как я пойду с этим чеком в банк, ещё подумают — украла…
Я поискала в секретере какую-то мелочь и принесла ей.
— Этого хватит?
— О, да, благодарю! — её глаза просияли. — Теперь мы сможем заплатить за жильё и отложить на питание… Антонио четвёртый месяц без работы… Но теперь… Храни вас Мадонна!
— Перестаньте! — я вырвала руку, которую она попыталась поцеловать. — Это уже совсем ни к чему!
— Простите, сеньора!.. Я пойду… Спасибо за всё…
— Надеюсь, вы не станете говорить вашему дикарю, что эти деньги от меня. А то он ещё чего доброго ворвётся сюда и устроит погром.
— Да, он может… Но не беспокойтесь, сеньора, я не скажу.
Когда она ушла, я взяла в руки картину и внимательно рассмотрела её. Исступлённый шабаш красок, содрогание сильных, будто их вдавливали пальцем, масляных мазков… Но это было море: закрученное демоническими вихрями, полное неразгаданной тайны. Оно жило, трепетало, дышало… В правом нижнем углу картины — неровные нервные буквы: «Антонио Фалькао».
…В памяти, будто нарочно, всплыли полузабытые слова: «Если хочешь, чтобы мужчина оказался у твоих ног, изучи его слабости…».
Позже я заглянула в трактир. Он сидел за своим излюбленным столиком. Увидев меня, скривился. Я невозмутимо уселась напротив, молча положила перед ним иллюстрированную газету с огромным, бьющим по глазам заголовком «Конгресс художников Латинской Америки».
— Я слышала, там будут и Ривера[59], и Сикейрос[60], и Портинари[61], и Фрида Кало[62]… — проговорила я, неторопливо закуривая.
— Да, все… — опустив голову, глухо проронил он.
— Сразу столько мэтров под одной крышей. Такое событие бывает в нашей стране раз в десять дет.
Его пальцы схватили полупустой стакан, но, не донеся до рта, поставили на место, а потом сжались в кулак.
— У меня нет денег на поездку в Рио.
Я пожала плечами:
— Ну, я могла бы одолжить… но ты ведь не возьмёшь… Эй, официант! Принесите пива.
На его вспотевшем лбу трепетала голубая жилка.
— Но только в долг, ладно?.. — кусая губы, прошептал он.
— Готова открыть кредит, — пряча улыбку, отозвалась я.
…И вот, наконец, дом в Копакабане пригодился. Увидев его, Антонио пришёл в полный восторг. Помнится, он, как мальчишка, сбросив ботинки, бегал по побережью с криками: «Океан! Мой океан!». Его лицо светилось таким искренним и неподдельным счастьем, что я и сама чувствовала себя абсолютно счастливой. Помнится, как стоявшего рядом и наблюдавшего за нами Отца Гугу так и передёрнуло. «Если это безумие продлится больше месяца, обещаю до конца года работать бесплатно», — язвительно усмехнулся он. «Это вас не касается! — отрезала я. — Займитесь лучше хозяйственными делами». В эту минуту ко мне подбежал Антонио и, схватив за руку, потащил за собой. Как я не вырывалась, он затянул меня в воду. Его солёные смеющиеся губы без конца повторяли: «Спасибо, Джованнна!.. Спасибо, любимая!..» — и целовали меня с такой неистовой пылкостью, что иногда я начинала чувствовать боль; позже я обнаружила, что моё тело покрыто многочисленными синяками.
Мы поселились на верхнем этаже, оставив нижний для других постояльцев. Самая большая комната была выделена Антонио под мастерскую. Он готов был проводить там время сутками, а ещё — на берегу, среди воды, песка и неба. Целые дни напролёт он рисовал с какой-то горячей, фанатичной страстью, а потом, выдыхаясь, падал замертво у своего мольберта и мгновенно засыпал…
В Рио он быстро сошёлся со многими известными художниками того времени. Люди искусства приняли его в свой круг с распростёртыми объятиями: Антонио с его неукротимым, необузданным темпераментом и сумасбродными, взбалмошными выходками гармонично вписывался в богемную среду.
Поначалу я следовала за ним из музея в музей, погружаясь в неведомые, странные и далёкие для меня миры: то торжественные и уравновешенные, полные аскетических ликов святых, то, напротив, изощрённо-варварские, с изобилием грубой, осязаемой плоти, то немыслимые и абстрактные, казавшиеся хаотичным нагромождением цветных пятнышек и отвлечённых, причудливо изогнутых линий. Когда Антонио замирал перед той или иной картиной и мог, вытаращившись на неё, часами простоять в благоговейном трансе, я изо всех сил пыталась понять, что привлекло его в этом жутком крошеве радужных точек. «Слышишь идущий от земли гул?» — шёпотом спрашивал он, не отрываясь глазами от картины. Я неуверенно кивала, хотя никакого гула, разумеется, не слышала: ценитель искусства из меня был никудышный. Зато я имела безошибочное коммерческое чутьё: оно заставляло прислушиваться к разговорам, запоминать фамилии, делать краткие записи в блокноте, а потом перезванивать на другой конец света: «Какой нынче в Штатах спрос на бразильских модернистов?»… Потом я начала уставать от бесконечных походов по галереям и мастерским, пьяного угара бессонных ночей, гвалта вечно спорящих и ссорившихся людей — бесцеремонных, шумных, неопрятных, которые любое пространство, где бы они ни появлялись, превращали в свалку. Да и работа требовала моего присутствия. В итоге Антонио был предоставлен самому себе.
Сначала всё шло более или менее сносно. Он каждый день демонстрировал свои новые творения, советовался, какую выбрать раму, просил найти состоятельного покупателя. Но постепенно богемная жизнь поглотила его без остатка. Его неудержимо тянуло к праздным, неприкаянным типам, не имеющим ни дома, ни постоянного источника дохода, ни цели в жизни. Подобно стае обезьян, с пронзительными криками прыгающих по веткам, они перескакивали из одного кафе в другое, часами просиживая за столиками и ведя пустопорожние разговоры. День сменял вечер, вечер — ночь, а они, накачанные алкоголем, окутанные плотными клубами сизого дыма, словно и не замечали этого. Их не страшили перспективы остаться без гроша — деньги в их кармане и так были редким гостем. Их не пугала возможность лишиться крова — они беззаботно кочевали с квартиры на квартиру, а если ничего подходящего рядом не оказывалось — ночевали, где придётся: на пляже, прикрывшись пальмовыми ветками, на скамейке в сквере, в приёмном отделении госпиталя. Что ни день, устраивали публичные скандалы и дебоши, а потом похвалялись своими «подвигами». Они считали себя бунтарями и мятежниками, а на деле были всего лишь распущенными и тщеславными юнцами, мнившими себя гениями. Отныне это сборище нетрезвых и беспутных психопатов стало постоянными спутниками Антонио. Он мотался с ними по всем выставкам и вечеринкам, которые никогда не проходили друг без друга, и отчаянно пытался подражать. Иногда, в надежде перещеголять кого-то из своих новых друзей, он откалывал такие фортеля, что мне потом приходилось откупаться от полиции. Его частенько можно было видеть расхаживающим по улицам пьяным, в обнимку то с одним, то с другим «источником вдохновения». Потом он приводил свою пассию домой, и она позировала ему обнажённой. Судя по доносящимся из стен мастерской звукам, в течение сеанса художник и натурщица несколько раз прерывались на занятия любовью.
Какое-то время я пыталась делать вид, что я ничего не вижу и не слышу, а потом собрала свои вещи. Отец Гуга постарался меня урезонить: «Почему вы должны уходить из собственного дома? Прогоните его! Пусть катится ко всем чертям, скот неблагодарный!» — но безуспешно: я уехала, напоследок оставив пачку денег. «Постарайтесь, чтобы он ни в чём не нуждался: кисти, краски, еда, одежда…». «Девки…», — в тон мне ответил управляющий. «Замолчите!». «Знаете, что я вам скажу, мадам, — пряча банкноты за пазуху, проговорил он. — Дура вы, мадам, вот что!.. Жаль, что мы тогда не заключили пари!».
…Через неделю Антонио ворвался в мой дом в Эспириту-Санту. «Посмотри, — кричал он, тыча мне в нос смятыми купюрами, — я продал сам, без твоей помощи! Видишь… видишь, сколько денег!.. И будет ещё больше!..». «Надеюсь, ты догадался часть из них выслать семье?» — ледяным тоном проговорила я и сразу же охладила его ликование. «Кому? — поперхнулся он. — А… ну да… Нет, пока нет… Этого слишком мало… Пошлю, как заработаю больше…».
Я приняла твёрдое решение оборвать эту неудобную и обременительную для меня связь, и поэтому сразу же, едва он приблизился, отстранилась от него.
— Эй? — в его глазах было неподдельное изумление. — Я соскучился…
— Меня ждут в банке.
— А, вон оно что… А я уж подумал, что ты всё ещё дуешься из-за той рыжей… ну, которая тогда ночевала у нас, помнишь?… — этот неожиданный поворот застал врасплох, а он, тем временем, воспользовавшись замешательством, заключил меня в объятия. — Ты ведь не будешь злиться из-за такой ерунды?.. Для меня это не имеет значения… Ты ведь и сама это знаешь…
— Ты — сукин сын… — мой шёпот звучал беззлобно и безвольно.
Его улыбка была обезоруживающе обаятельной:
— Может быть…
Могла ли я тогда знать, что женщины — одна из самых безобидных проблем, с которой мне предстоит столкнуться…
Мы вернулись в Рио, и всё возвратилось на круги своя, с единственной разницей — неверность Антонио меня больше не трогала. Ревновать можно к конкретному человеку, но не к толпе. А он, похоже, не пропускал ни одной юбки. Официантки, прачки, продавщицы, горничные, уличные проститутки… Они появлялись и исчезали, как вспышки молнии в небе. На какой-то краткий миг, рисуя, он, наверное, любил каждую из них, но когда картина была закончена, впаяв в себя душу натурщицы, забывал…
Примечательно, что за написание моего портрета он так никогда и не взялся. Кроме одного единственного карандашного наброска да издевательской пародии он не оставил обо мне ничего. Как ни горько это признавать, его Музой я так и не стала, в отличие от тех, кто, по его словам, не имел для него никакого значения… Однажды я спросила, почему он не хочет меня рисовать, и он ответил: «Я не смогу написать твои глаза. Я не хочу их писать… Когда угасает надежда, глаза погибают первыми… А твои давно уже мертвы. Как виноград, из которого выжали сок до капли. От них осталась одна оболочка. Жмых… Запечатлеть такое под силу только Модильяни[63]. Он не боялся пустоты, а я — боюсь. Говорю с тобой сейчас и знаю, что тебя — нет, хотя ты и сама этого не знаешь…». Помню, мне стало жутковато от таких слов, но я оборвала все мысли в этом направлении, приписал всё сказанное Антонио воздействию марихуаны. И насмешливо поинтересовалась: «А шлюхи живые?». «Они — живые», — серьёзно ответил он.
…Спустя полгода мы отправились в Европу, куда Антонио, наслушавшись о картинных галереях Парижа, Дрездена, Венеции, давно уже рвался. Это было странное путешествие. Мы засыпали и просыпались в одной постели, завтракали за одним столом, гуляли, держась за руки, по одним и тем же улицам, а как будто жили на разных планетах.
«Такую святую в ночном колпаке не нарисуешь…», — иронично замечал он, вспоминая увиденный в музее шедевр Рафаэля, а в это время со всех сторон тысячи глоток в едином одержимом порыве скандировали: «Дуче! Да здравствует наш дуче!», и из окон на улицу летели букеты цветов, красные розы и гвоздики, и миллионы растопыренных пальцев пытались дотянуться до человека в офицерском мундире, величественно стоявшего, выпрямившись в полный рост, у заднего сиденья алого «альфа-ромео», медленно ехавшего по мостовой…
«Оливковый — удивительный цвет, импрессионисты умели им пользоваться…», — глубокомысленно рассуждал он, подцепив вилкой нежный овальный плод, а тем временем за окнами ресторана, где мы обедали, маршировали бравые молодчики в коричневых рубашках и залихватски горланили:
Эй, расступись! Шагают батальоны — Штурмовиков идёт девятый вал. Глядят на свастику с надеждой миллионы, Надежды час — и хлеба час настал[64].«На Монмарте можно купить отличные подрамники, не то, что щепки, которые делают у нас — мгновенно коробятся на солнце…», — говорил он, шагая по коридору в номер вслед за портье, нагруженным после нашего похода по магазинам бесчисленными коробками и свёртками. А, между тем, за стенами гостиницы какой-то уличный оратор изо всех сил надрывал горло: «Мы, коммунисты, создадим антифашистский народный фронт всех трудящихся для свержения фашистской диктатуры!», и толпа демонстрантов в унисон ревела: «Нет фашизму! Фашизм не пройдёт!»…
Но Антонио, погружённый в затейливый мир художественных образов, штрихов и оттенков, будто бы и не видел всего этого. Всё его естество было направлено только на одно — созерцать, усваивать технику, жадно впитывать саму атмосферу творчества, а через всё, не связанное с этим, он попросту перешагивал. «Я не рассчитываю подняться так же высоко, как эти титаны из Уффици или Лувра, но надеюсь, что со временем смогу зарабатывать живописью: оформлять журналы или книги, и не быть тебе обузой…», — говорил он. «Ты не обуза, дорогой, — мягко ответила я, накрывая его руку своей ладонью. — Не хочу тебя огорчать, нам нужно возвращаться… Европа обезумела. Но нам это может быть только на руку». Его бровь взмыла кверху стремительной ласточкой: «На руку?». «Это бизнес, милый, не забивай себе голову».
Вернувшись в Бразилию, я окунулась в работу, Антонио — в творчество. Его былые легкомысленные увлечения остались позади. Он повзрослел. Если раньше он подходил к мольберту от случая к случаю, в перерывах между попойками, то теперь работал много и напряжённо, был крайне требователен к себе: иногда недели тратил на написание какой-нибудь незначительной детали. Его теперешние творения разительно отличались от тех, что он создавал раньше: кисть точно окрепла и обрела уверенность — теперь ею водила рука мастера. Первая персональная выставка, которую мы устроили в Рио, имела оглушительный успех: сам Кандиду Портинари — этот гуру современных бразильских живописцев, пожал ему руку. Я без особого труда находила на его картины всё новых и новых покупателей. Некоторые, с помощью моих партнёров по бизнесу, удалось продать за границу… Его звезда загоралась быстро, ярко, и вскоре обещала стать ослепительной, но погасла в один миг.
Всё началось со злополучной листовки. Я обнаружила её случайно, перебирая в папках старые этюды. На первый взгляд, это был один из остроумных и забавных шаржей, на которые Антонио был мастер. Помнится, когда-то он и меня «осчастливил» подобной шпилькой. Только теперь всё было гораздо серьёзней: он глумился над сильными мира сего. Но самое страшное заключалось даже не в этом рисунке, делавшим нашего президента посмешищем, а в надписи под ним: точно вооружённые до зубов солдаты, стройными рядами стояли чёрные зловещие буквы, и этот рубленный типографский шрифт таил большую угрозу, чем даже само содержание текста: «Жетулио Варгас — зло, которое необходимо выдрать с корнем. Благодаря ему, бразильские труженики, работая с утра до ночи, не покладая рук, голодают, а доходы, приносимые полями, тратятся в городах богатыми тунеядцами или уплывают за границу»… Когда Антонио вошёл в комнату, я потребовала у него ответа.
— Просто глупые каракули, — забирая бумажку, спокойно ответил он.
Непривычно сдержанные интонации, в которых сквозила какая-то несвойственная ему суровая отрешённость, не на шутку встревожили меня.
— Нет, не просто каракули… Это отпечатано в типографии! Сколько ещё таких копий существует?.. Во что ты ввязался, Антонио?
— Не во что я не ввязывался, — не поднимая глаз, отозвался он. — Этот рисунок — в единственном экземпляре. Где-то увидел что-то подобное и скопировал.
— Ложь! Я знаю твою руку — этот рисунок сделал ты.
— Ну, допустим… — в его голосе я уловила оттенки зарождавшегося раздражения. — Не понимаю, чего ты так завелась из-за пустяка?
Я указала ему на лежавшую на тумбочке кипу газет, превратившихся в последнее время в один сплошной репортаж из зала суда над оппозиционерами Варгаса:
— То, что ты называешь пустяком, может стоить тебе свободы.
— Ты преувеличиваешь.
— Не лезь в политику, Антонио! Это не кончится добром.
Последнюю фразу я прокричала уже ему вслед — не захотев меня слушать, Антонио попросту ушёл из дома, хлопнув дверью. Вызвав к себе в кабинет Отца Гугу, я сразу взяла быка за рога: скрытничать не имело смысла — обычно этот прощелыга обо всех моих делах был осведомлён лучше меня самой.
— Я хочу знать всё, что вам удалось разнюхать об Антонио…
Искоса посмотрев на меня, он усмехнулся — взгляд этой продувной бестии красноречиво вещал, что меня считают идиоткой. Невольно вспомнились бывшие компаньоны — Тимасеос и Сантьяго: почувствовав во мне слабину, они смотрели точно также: покровительственно, с оттенком лёгкого презрения. Я подумала о том, насколько верным в своё время оказалось моё решение не подпускать Гугу к финансам, поручив ему лишь ведение хозяйственных дел.
— Ну, что вы, мадам, как можно… вы ведь запретили следить за ним. Сказали, что он якобы ваш муж и вы ему доверяете… — ядовито ужалил он.
— Перестаньте скоморошничать, Гуга! Мне прекрасно известно, что вы собираете на него компромат, потому что хотите нас поссорить. Спите и видите, как мы разругаемся!
— Поссорить вас — такую нежную и любящую пару? — он изобразил прекрасно сыгранное удивление, а следом за ним — возмущение и обиду. — Как можно! Вы несправедливы ко мне, мадам.
…Что же мне напоминает эта гаденькая, змеящаяся ухмылочка и блестящие глазки-бусинки?.. Что-то очень знакомое и вместе с тем далёкое, полузабытое…
— Не стройте из себя шута горохового! Я говорю с вами вполне серьёзно.
…На фазенде дона Амаро у меня был сокровенный уголок, куда я убегала при первой возможности и пряталась от цепких глаз опекуна — небольшая расщелина в одном из огромных белых валунов, длинной цепью выстроившихся вдоль берега мутной жёлтой реки. На подножиях замшелых камней, прикрытых узорчатыми листьями папоротника, любили восседать уродливые, похожие на древних ящеров, игуаны[65]. Острые когти на коротких лапах, массивный колючий гребень и чешуйчатый длинный хвост заставляли вспоминать о сказочных драконах, изрыгающих пламя…
— Что вы хотите узнать об этом кобеле такого, чего ещё не знаете? — не удержавшись, съязвил он.
— Его потаскухи меня не интересуют. Мне нужно знать, с кем он встречается кроме них.
…Слегка наклонив приплюснутую бугристую голову, моргая подвижными и вместе с тем усталыми и мудрыми глазами, игуаны, казалось, размышляют о чём-то вечном, недоступном человеческому пониманию. На какой-то миг из их пасти вырывается тонкая красная лента, хватает зазевавшуюся стрекозу, и тут же прячется в недрах массивного, набрякшего тяжёлыми складками, подбородка…
— Со своими нищими мазилами, разумеется! Транжирит ваши деньги — у него занимает вся Копакабана.
— А ещё? — нетерпеливо перебила я; Отец Гуга не преувеличивал: щедрость и расточительность Антонио Фалькао, действительно, стала притчей во языцех, а богема буквально кормилась с его руки.
— Ей-богу, мадам, это всё, что я знаю!.. Что-то случилось?
Похоже, он говорил правду. Единственная ниточка, за которую я судорожно зацепилась, оборвалась. Посвящать Отца Гугу в дело столь деликатного свойства я не собиралась: это было бы крайне неосмотрительно и рискованно.
— Да нет… ничего… — я дала понять, что разговор окончен.
Он сощурил маленькие крысиные глазки.
— Распорядитесь, чтобы я проследил за ним, мадам?
…Игуаны только на вид были страшными, но стоило топнуть на них ногой, как они молниеносно и бесшумно ныряли в зелёную изгородь…
— Нет, не нужно… И не называйте меня больше мадам! Сколько раз говорила! Мы не в салоне… Забудьте это дурацкое прозвище раз и навсегда! Теперь у нас легальный бизнес.
…Одно резкое движение — и камень опустел…
— Как прикажете, ма… сеньора Антонелли.
В тот раз мне ничего не удалось разузнать о происхождении этой злосчастной листовки, но, как говорят, сколько веревочке не виться, а кончику быть.
Очень скоро Антонио обратился ко мне с необычной просьбой: он заявил, что постояльцы гостиницы мешают ему работать над новой картиной и предложил по истечении месяца отказать им в дальнейшем проживании. «Пусть ищут себе другое прибежище, — сказал он. — Меня бесит постоянное мельтешение незнакомых личностей туда-сюда. Я не могу сосредоточиться». Интуитивно чувствуя какой-то подвох, я в упор смотрела на него, пытаясь поймать беглый ускользающий взгляд — здесь явно было что-то не так: я слишком хорошо знала сумасшедшую, неуёмную натуру Антонио, привыкшую жить в сумбуре и хаосе, чтобы поверить, что его может раздражать присутствие чужих людей. Когда я сказала ему об этом, он сделал заход с другого бока: «Давай пошлём всех к чёрту — только ты и я! Так хочется побыть вдвоём». Разумеется, я снова не приняла его всерьёз, более того, его второй демарш был ещё более неискренним и подозрительным, чем первый. Увидев, что ничего не вышло, Антонио начал канючить, как ребёнок, рассказывая какие-то небылицы с водевильным привкусом про двух милых голубков, страстно жаждущих соединиться, про несчастную женщину, сбежавшую от мужа-тирана с молодым любовником, про ревнивого и мстительного рогоносца, преследующего влюблённую пару по всему свету. Под занавес этой слезливой, душещипательной истории последовала горячая мольба — очистить нижний этаж гостиницы от посторонних, а комнаты сдать молодым. Едва я попыталась воспротивиться, как меня срезали ловкой подножкой — чтобы мне как хозяйке гостиницы не пришлось нести убытки, герой-любовник, умыкнувший барышню из семейного гнёздышка, готов компенсировать упущенную прибыль и оплатить стоимость всех пустующих комнат. «Артур — мой лучший друг, ему я всем по гроб жизни обязан, — клялся и божился Антонио. — Помочь ему — мой долг»… У меня не было ни малейших сомнений, что он врёт. Игра в кошки-мышки, в которой мне отводилась роль недалёкой и легковерной мыши, понемногу начинала выводить из себя. «Перестань юлить, Антонио! Что ты затеваешь? — напрямую спросила я. — Я не настолько глупа, как ты думаешь… Если ты рассчитываешь, что сможешь поселить в моём доме одну из своих потаскушек…». Судя по усмешке, которая промелькнула по его губам, я поняла, что ошиблась — дело не в женщине. Но единственная возможность, которой я располагала, чтобы выяснить правду, — это увидеть врага в лицо. И потому я сделала вид, что меня тронула красивая легенда о неземной любви.
Итак, в моём доме поселилась чета Эвертов — так их представил Антонио. На Ромео и Джульетту эти мужчина и женщина походили слабо, хотя по их взаимоотношениям было видно, что они близки. Она — угрюмая, угловатая, жалась по углам в своём нескладно скроенном старомодном платье; когда я увидела эту простушку, у меня отлегло от сердца — вряд ли Антонио позарится на такое убожество. Он — поминутно вытирая со лба крупные капли пота, постоянно и не к месту острил и сам же смеялся над своими шутками. «Вы из Германии?» — поинтересовалась я, услышав грубоватый выговор: в последнее время моими деловыми партнёрами по большей части являлись немцы, и речь их была мне очень хорошо знакома. «Из Европы», — уклончиво ответил Эверт и тут же переменил тему разговора…
Целыми днями «молодожёны» где-то пропадали, иногда — брали с собой Антонио, возвращались далеко за полночь: порой — все вместе, порой — поодиночке. Со мной они, похоже, избегали всяческого общения. Бывало, правда, мужчина ронял несколько шуточек, но делал это как-то машинально, неэффектно, без желания блеснуть чувством юмора и произвести впечатление. Она же со мной только здоровалась. Иногда к ним приходили какие-то гости, что было весьма странно для людей, опасающихся привлечь излишнее внимание к своей персоне. Подобно другим приятелям Антонио, Эверты не устраивали шумных посиделок: когда в их комнату торопливо шмыгал кто-нибудь из их знакомых, двери тут же запирались на задвижку, а оттуда уже не вырывалось ни звука. Чем они там занимались, один бог знает. Даже вездесущий Гуга не мог сообщить ничего вразумительного: вроде бы читают какую-то книгу, но что это за книга… Чудная парочка, что тут скажешь.
С присутствием в доме таинственных постояльцев Антонио изменился до неузнаваемости. Раньше он пугал своим безрассудством, но теперь вся его бесшабашная удаль выветрилась. Он стал уравновешенным, осторожным, собранным. Если ещё совсем недавно болтал без умолку, то теперь говорил, будто экономя слова: мало, кратко, точно рассчитанными, продуманными фразами. «Гадёныш точно во что-то вляпался», — глядя на него, процедил как-то раз Отец Гуга. В душе я разделила эти опасения… Однако, если в поведении Антонио появилась несвойственная ему сдержанность, то картины, напротив, поражали своей категоричностью и бескомпромиссностью: он словно не кистью писал, а острым мачете, а вместо красок использовал кровь и порох. Я подолгу вглядывалась в созданные им образы: резкие, будто оставленные плетью разящей, штрихи, мазки — как рваные раны. С каждого холста исходил душераздирающий крик. Становилось не по себе от увиденного.
«Антонио, кто эти люди? Что ты скрываешь от меня?» — то и дело спрашивала я, но вызвать его на откровенный разговор не получалось. Он мне не доверял, замкнулся в себе. Лишь однажды обронил несколько фраз, при одном воспоминании о которых начинает щемить сердце. «Какую бестолковую жизнь я вёл, так стыдно за неё…», — задумчиво произнёс он. Пытаясь его разубедить, я заговорила о его таланте, но он тут же перебил: «Как художник я — дрянь, пустое место. Если из меня и выйдет что-то путное, то только теперь, после того, как мне, наконец, открылись глаза». «Я тебя не понимаю». Улыбнувшись, он крепко меня обнял: «Ты ещё будешь гордиться мной, Джованна»… Эта лёгкая, светлая улыбка и мальчишеский задор в глазах будут преследовать меня до конца дней. Когда я их вспоминаю, в сердце прокрадывается крошечная робкая надежда, что он хотя бы немного меня любил…
Однажды Эверт, внося плату за жильё, мимоходом сообщил, что его собираются навестить родственники — молодая супружеская пара, совершающая кругосветное свадебное путешествие. Я не придала этому особого значения — слишком уж часто им наносили визит разные сомнительные личности, но когда я увидела этого так называемого «двоюродного дядю» воочию, меня точно обухом по голове стукнуло — это был Луис Карлос Престес. Так вот зачем Антонио понадобилось обезлюдеть мою гостиницу.
Последний раз мы виделись в начале 1927 года, накануне разгрома «непобедимой колонны». Стало быть, восемь лет назад. Мне было двадцать два — столько же, сколь сейчас Антонио, но тогда я ещё не ощущала возраста: уже крепко и безжалостно битая жизнью, продолжала надеяться: на то, что смогу отыскать маму и ещё раз обнять её, что появится дом, из которого никто не выгонит, что встретится хороший человек, который полюбит меня… Самая наивная и смешная из моих надежд — что этим человеком мог бы быть Престес… Теперь я не верю ни во что. За эти годы я перехоронила все свои мечты.
Он изменился: виски покрыла изморозь, из-под глаз выкатились синеватые мешки морщин, на сухощавом, бледном лице, которого давно не касалось свирепое здешнее солнце, появилась торчащая чёрными острыми иглами бородка, которая придавала ему сходство с большевистскими лидерами.
Под руку с полковником Престесом вошла женщина — рослая, статная брюнетка в светлом костюме и широкополой соломенной шляпе, с первой же секунды пригвоздившая меня к стене решительным, властным взглядом холодных голубых глаз; это было одно из тех безвозрастных созданий, которым на вид одновременно можно дать и лет двадцать пять, а можно и сорок. «Мария Бергнер Вилар, — войдя в мой дом твёрдым, уверенным шагом, представилась она. — А это мой муж, Антонио Вилар». Так, это уже интересно: значит, он здесь по поддельным документам.
Он узнал меня, не было никаких сомнений, но виду не показал. В течение минуты изучающее буравил взором, видимо, колебался, стоит ли обнаруживать знакомство со мной или нет. Наконец, решился «вспомнить». «Не ожидал снова встретить вас», — я ощутила в своей руке горячую влажную ладонь. Глаза брюнетки сверкнули, как стальные клинки. Вскинув голову, она резко выпрямилась, напряглась, как струна. Я видела, как её пальца, прижимавшие к груди сумочку, молниеносно щёлкнули застёжкой и нырнули в недра крокодиловой кожи. «Всё в порядке, Ольга, это друг, — поспешно сказал Престес. — Я рассказывал тебе о ней. Это она спасла меня от тюрьмы восемь лет назад». Сумка тотчас защёлкнулась: готова спорить, что в ней лежали отнюдь не пудреница с черепаховыми гребнями. «Ольга Бенарио[66]», — брюнетка, по-мужски протянув мне руку, скупо улыбнулась. Стоявший рядом Антонио глядел на меня с нескрываемым изумлением: «Так вы знакомы?.. С ума сойти! А я, дурак, не доверял тебе»… К нам приблизились Эверты. Впервые за всё время нашего общения их лица озарили искренние доброжелательные улыбки, а Элиза Эверт даже обняла меня, как подругу. «Ну, теперь, когда у нас есть надёжный тыл, можно приступить к работе», — сказала она.
Создание и распространение прокламаций, начинённых, точно динамитом, гневными, обличительными тирадами о страданиях бедняков от эксплуатации и произвола плантаторов, и призывающих к коллективному бунту; кавалькада приходящих неизвестно откуда и уходящих неизвестно куда личностей, чьи портреты красовались на углах кафе, аптек, булочных вкупе с щедрыми посулами шефа полиции наградить любого, кто укажет на местонахождение этих субъектов; нескончаемый круговорот фальшивых паспортов, оружия, запрещённой литературы… — они называли это работой. А я невольно превратилась в одно из звеньев этой цепи. Моя гостиница стала идеальной конспиративной квартирой, куда сходились все революционные нити. Очень скоро я узнала в лицо и по именам всех «товарищей». Костяк подполья составляли иностранцы: квартировавшие у меня немцы Артур[67] и Элиза Эверт[68], аргентинцы Кармен[69] и Родольфо Гиольди[70], русские Павел и Софья Стучевские[71], американец Виктор Аллен Баррон[72]. Видеть их всех вместе под одной крышей мне пришлось только раз. Странное сборище: суетливое, нервозное, одержимое. О чём бы ни заходила речь, участники разговора направляли его в неизменное русло — к исступлённым призывам самоистребления во имя революции. Если отбросить этот последний пунктик, то можно было подумать, что у меня дома собрался клуб самоубийц. Ощущать себя священным агнцем на заклании, видимо, являлось для этих людей особой доблестью. А ведь, в сущности, что такого заманчивого и красочного в перспективе «умереть во имя идеалов революции»? Это означало всего-навсего, что тебя, чужестранца, зароют в рыхлую красную землю какие-нибудь кладбищенские пропойцы, что бразильские власти переправят твои документы с уведомлением о смерти немецкому или русскому консулу, а тот, в свою очередь, отошлёт их на родину, а там… Интересно, всплакнёт ли кто-то на другой части земного шара, получив скорбные бумаги?.. Эти бесприютные, бездомные люди вели жизнь отщепенцев и городились своей неустроенностью, а неприкаянное своё существование характеризовали пышной фразой, напоминавшей строчку одной из революционных песен — «отдать всего себя ради счастья народа».
Ольга Бенарио была связной между полковником Престесом и подпольщиками. Чем больше я узнавала эту женщину, тем больше она ужасала меня. Иногда мне казалось, что она даже не живое существо, а какой-то сгусток энергии, рвавшейся в мир со своей страшной, кровавой миссией. По крупицам — обрывкам вскользь обронённых, недоговорённых фраз, клочьям подсмотренных книжных строчек, по которым пробегали её глаза, скупым, лаконичным надписям на почтовых конвертах — я, как мозаику, собирала и склеивала образ этой женщины. И очень скоро он предстал передо мной во всей своей подавляющей силе.
Она родилась в Европе, сытом и благополучном Мюнхене. Её «биологическими родителями», как она их называла, были преуспевающий адвокат и блестящая светская львица. Особенно нелестно Ольга отзывалась о матери: «Жила с шиком, по-барски. В душе — типичная мещанка. Тряпки и безделушки — больше её ничто не волновало. Мужчины в ногах у неё валялись, потакали малейшей прихоти… А отец буквально пылинки с неё сдувал… Избаловал он её»… Семейная жизнь быстро приелась красавице, и она, бросив маленькую дочь на попечение мужа, упорхнула с любовником, чтобы больше никогда о них не вспоминать. Как и я, оставшись сиротой при живых родителях, и проведя детство, как сорняк в поле, Ольга, между тем, предъявляла им совсем другие претензии. «Матери у меня нет, это какое-то недоразумение природы, что я могла родиться у такой примитивной и ограниченной женщины, — говорила она, — отец — ловкий и оборотистый стряпчий, живущий на гонорары богачей, социал-демократ, всю свою жизнь идущий на компромисс с теми, с кем необходимо бороться с оружием в руках; я не виновата, что у меня такие родственники». Когда я, почувствовав сопричастность наших судеб, попыталась ей выразить сочувствие, она смерила меня высокомерным взглядом: «Я не вижу никакой трагедии в том, что росла брошенной и одинокой. Напротив, уединение позволило мне плодотворнее использовать свободное время. Я много читала и размышляла… А самым страшным событием моего детства был не уход матери, а известие о гибели Карла Либкнехта и Розы Люксембург». Услышав это, я остолбенела — ничего подобного слышать раньше не доводилось.
В четырнадцать лет она порвала с отцом и ушла из дома. «Мне не удалось переубедить его встать на путь революционной борьбы. Он так и остался недалёким конформистом и соглашателем», — жёстко чеканя каждое слово, пояснила Ольга. Решив жить своим трудом, она бросила школу и устроилась работать в книжный магазин. А параллельно с этим — сходки под пение «Интернационала», чтение взахлёб «Манифеста Коммунистической партии», вступление в Комсомол. «В те годы организация подергалась гонениям со стороны властей, и открыто носить значок с серпом и молотом отваживались очень немногие — это было поступком», — полковник Престес не скрывал своего восхищения женой. А я с горечью подумала: «Так вот, оказывается, какой нужно было быть, чтобы тебе понравиться…».
…Перебравшись из Мюнхена в Берлин, Ольга встретила первую любовь — немецкого коммуниста Отто Брауна[73]. И началась «счастливая семейная идиллия»: жизнь по чужим документам, частая смена квартир, тюрьмы, допросы, угрозы следователей… Об этом времени, сопряжённом с риском и смертельной опасностью, Ольга вспоминала так, как если бы это было увеселительной прогулкой. Как-то раз, за обедом, она поведала историю, от которой я потом целый день ходила сама не своя. Точнее, меня взволновала не столько история, сколько впечатление, которое она произвела на Антонио.
— Однажды полиции всё же удалось сцапать Отто. Ему грозило двадцать лет тюрьмы! — изящно расправляясь серебряным ножом с бифштексом, проговорила Ольга.
Антонио восхищённо присвистнул: он глядел на неё во все глаза.
— Так много? — изумилась я. — Неужели, в Европе могут осудить человека на двадцать лет только за то, что он состоит в оппозиционной партии?
— Ну… Отто предъявили обвинение в шпионаже… — уклончиво отвечала Ольга.
Переглянувшись с ней, Престес поспешно добавил:
— Ложное, разумеется…
— Да, конечно, дело было сфабриковано… — немедленно подтвердила Ольга. — Процесс готовился в Моабитском суде. Подсудимых доставляли туда из тюрьмы по подземному ходу…
— Это, кажется, в Берлине?.. — торопливо вставил Антонио.
«Дурачок, старается показать свою осведомлённость… — мелькнуло у меня в голове. — Престеса это, похоже, забавляет».
— Да, мрачное местечко. Славится тем, что оттуда никто никогда не бежал… — женщина обвела присутствующих за столом лукавым взглядом и заговорчески подмигнула. — Но не построен ещё такой застенок, из которого при желании нельзя было бы удрать!
Полковник, улыбнувшись, поднёс к губам её руку.
— Я и семеро моих товарищей явились на заседание под видом студентов-юристов. Мы даже папочки с собой захватили для отвода глаз! А я очки нацепила на кончик носа — такой важною дамочкой сразу стала! — покосившись на меня, Ольга прыснула от смеха.
Вслед за ней расхохотался Антонио. Я видела, как Престес, сделав строгие глаза, толкнул его локтем в бок. Но и сам он не сумел сдержать улыбки.
Я почувствовала, как в кожу до боли впивается оправа перстня.
— За день до этого мы заранее изучили все коридоры, лестницы и неохраняемые выходы из здания, — нервные тонкие пальцы молниеносно сооружали на скатерти баррикады из посуды, салфеток и столовых приборов. — Перед началом процесса я попросила судью дать возможность поговорить с Отто, которого во всеуслышание объявила своим женихом. Меня без всяких проволочек пропустили к переговорной камере… — блестящие розовые ноготки под Ольгино цоканье прошагали по рукояти вилки мимо пузатой перечницы и ткнули солонку. — Видимо, ищейкам хотелось подслушать разговор и добыть дополнительные улики, — оторвав от виноградной грозди брызжущую соком ягоду, рассказчица ловким движением отправила её в рот. — Я, попросив у судьи разрешения угостить жениха вкусненьким, достала из сумочки апельсин…
Антонио тут же разыскал на блюде с фруктами апельсин и с готовностью протянул Ольге.
— Мерси, — кивнула она. — Это было условленным знаком!.. В ту же секунду мои товарищи выхватили пистолеты… — взяв фарфоровый соусник, женщина шутливо прицелилась.
— Осторожно, прольёшь на платье, — предупредил Престес, но поздно: длинная пурпурная капля уже ползла по её груди.
Антонио услужливо передал ей салфетку, но она, увлечённая своим повествованием, не обратила никакого внимания ни на него, ни на испорченное платье. Он, как завороженный, следил за сползающей каплей. С каждой секундой его щёки краснели и вскоре стали совсем пунцовыми…
— Нападение было настолько внезапным, что охрана даже не попыталась задержать нас: мы беспрепятственно покинули здание суда и увели с собой Отто…
— Браво, донна Ольга! — захлопал Антонио. — Я восхищён вашей находчивостью и бесстрашием!
За этим преувеличенным восторгом мне увиделась не слишком искусная попытка оправиться от смущения.
— После нашего побега целая свора полицейских несколько месяцев прочёсывала столицу и её окрестности. Но мы оставили их с носом!
— В это трудно поверить, но фотографии моей жены и её товарищей показывали перед началом сеанса в кинотеатрах, — сказал Престес. — А зрители, видя их на экране, вставали и аплодировали…
— Вот это да! — воскликнул потрясённый Антонио.
— Это, в самом деле, здорово!.. — подхватила Ольга. — Особенно, если учитывать, что многие знали нас в лицо, многим было известно, где мы скрываемся.
— И вы не боялись, что на вас могут донести? — спросила я.
Глаза Ольги обдали меня холодом.
— Порядочных людей на свете гораздо больше, чем иуд, — отчеканила она.
— Ах, так мы сейчас говорим о богах и апостолах? — усмехнулась я, вытирая губы салфеткой. — Простите, что не поняла сразу… К сожалению, господа, я ничего в этом не смыслю. Не мой профиль… А теперь прошу меня извинить — я должна ехать в банк.
…Уже через несколько минут мимо меня аквамариновой стрелой проносился океан и растущие вдоль дороги финики, а навстречу летела, сияющая платиновым блеском, трепещущая синяя бездна… Когда на дороге появился какой-то работяга с тележкой, я еле успела затормозить… Всю свою злость я обрушила на него: «Какого чёрта тебя несёт под колёса! Жить надоело?!». Вытирая со лба пот полями скомканной шляпы, он машинально кланялся и тихо бормотал: «Виноват… виноват, сеньора…». Его загорелые жилистые руки были исцарапаны, ладони — стёрты до крови. Из-под кустистых выгоревших бровей смотрели подслеповатые, слезящиеся глаза… Мне стало стыдно. Поспешно захлопнув дверцу машины, я умчалась прочь.
А потом банк сожрал все мысли и чувства, включая и досадное воспоминание о рабочем с тачкой.
…Перед глазами мелькали полчища цифр, мне приносили и уносили какие-то бумаги: одни я комкала и кидала в корзину, на других — ставила подпись, рылась, что-то высматривала и перебирала в кипе бумажных папок, пожимала чьи-то руки, кому-то улыбалась, кого-то хлопала по плечу, давилась то кофе, то сигаретным дымом, прислушивалась к звукам радиоприёмника, листала страницы газет, слюнявила палец и пересчитывала купюры, открывала и закрывала сейф, на кого-то орала и с кем-то любезничала… пока, наконец, не вздрогнула от прикосновения волны к ногам. Святая Мадонна! Я и не заметила, что с наступлением сумерек оказалась на пляже. Теперь только нужно вспомнить, где я бросила машину… и туфли.
Волны, волоча за собой водоросли, лениво накатывали на берег. Над ними с пронзительными криками носились чайки. Я попыталась забраться на поросший мхом камень, но он был слишком скользким: в попытке сохранить равновесие я едва не вывихнула лодыжку. Мне хотелось ощутить дыхание океана, почувствовать ветер в волосах. Но ночь была жаркой, удушающей. Пошатываясь, увязая в песке, натыкаясь в темноте на перевёрнутые лодки, источавшие запах смолы и пакли, я побрела вдоль дюны, над которой высились рыбацкие домики…
…Интересно, который час? И заметил ли Антонио моё отсутствие?..
Оказалось, что не заметил. Когда я вошла в гостиную, он слушал Ольгу, рассказывающую о рабочем движении в Европе. В мою сторону он даже не повернул головы. Я села на софу рядом с Престесом. «Добрый вечер, — шёпотом проговорил полковник и, бросив на меня беглый взгляд, поинтересовался. — Идёт дождь?». Я, молча отведя руку, протягивающую мне платок, вышла из комнаты… Поднимаясь по лестнице в спальню, слышала голос Ольги: сильный, отточенный, как лезвие ножа, призывающий к бунту…
…Она производила впечатление технически совершенной, безупречно отлаженной машины. Без помощи будильника вставала спозаранку, делала гимнастику, завтракала, а дальше весь её день был расписан по часам: дважды в день внимательно читала какие-то книги, делала в них пометки карандашом и что-то переписывала в блокнот. Однажды мне незаметно удалось похитить один из её черновиков. Схватив его с жадным нетерпением ревнивой жены, обнаружившей в кармане мужа любовную записку, я пробежала глазами по прыгающим, торопливым, местами неясным от клякс и помарок строчкам: «Положение пролетариата… политическое бесправие… отсутствие трудового законодательства… двенадцатичасовой рабочий день… труд женщин и детей в промышленности… увеличение расходов на жилье… налоги… скудный рацион питания… Базедова болезнь, туберкулез, трахома и тиф на почве недоедания… улучшение условий жизни и труда… неизбежное столкновение рабочего класса с буржуазией… стачечная борьба… забастовочное движение…». «Слова, слова, слова…», — качая головой, подумала я.
Несколько раз в неделю Ольга объезжала фавелы[74] Рио, где выступала перед крестьянами, призывая их добиваться от своих хозяев доброкачественной пищи и честно заслуженной оплаты труда, ухитрялась даже вырываться в провинцию и организовывать там рабочие кружки… Мне ни разу не довелось присутствовать на митингах, где она ораторствовала, но побывавший на них Антонио находился под сильным впечатлением. «Смотришь на неё — и видишь другой мир: справедливый, свободный, совершенный!.. За такой и умереть не страшно!».
Ольга каждый день принимала в своей комнате каких-то людей; мне они казались крайне несимпатичными: немногословными, неприветливыми. Мужчины не вызывали интереса — за годы, проведённые на фазенде дона Амаро, я вдоволь насмотрелась на работяг, а вот женщины так и приковывали к себе внимание: жёсткие, заскорузлые руки с обломанными ногтями, недорогая, обвисшая или торчавшая колом одежда, потерявшие форму шляпки, служившие одновременно и головным убором, и подушкой, и сумкой, и носовым платком, стоптанные, с оббитыми мысками, пыльные туфли… Я не переставала задавать себе вопрос — неужели эти огрубевшие, бесполые создания могут в ком-то разбудить желание? По всей видимости, и я им была не менее чуждой: в их взглядах читалось неприятие; даже не удосужившись узнать меня поближе, они, не ведавшие снисхождения и жалости, обвиняли, выносили приговор и отторгали. Стараясь хоть немного расположить их к себе, я угощала их чаем, предлагала сладости. Они подолгу заставляли уговаривать себя, а если и усаживались за стол, то с таким видом, точно делали мне величайшее одолжение.
Однажды я, не выдержав, пожаловалась Престесу: «Не могу так больше… Они меня просто за человека не считают!». «Ну, что вы… никто не хотел вас обидеть…» — начал было полковник, но Ольга, стоявшая рядом и слышавшая наш разговор, перебила. «Просто вы из другой среды, Джованна — из среды паразитов: хищных, властолюбивых, алчных, лишённых всякого понятия о чести и совести, — её хлёсткие несправедливые слова вонзались в меня, как удары бича. — Ваш класс, как смердящая гнойная язва на теле человечества, — прогнил до мозга костей. Любой порядочный человек с отвращением отвернётся от представителя вашей проклятой, ненавистной породы». «Да что вы знаете обо мне! — сорвалась я, чувствуя как меня начала колотить нервная дрожь. — Кто вы такая, что берётесь меня судить?! Не приведи бог никому пережить то, через что пришлось пройти мне!.. Что такое нищета — я знаю лучше, чем кто бы то ни был. И не из книжек, которые вы на досуге почитываете. Не вам, доченьке богатых родителей, меня поучать!.. Как вас всех тут корчит и распирает от чванства и гордыни, когда вы вспоминаете, как „порвали со своим классом и посвятили себя освобождению народа“… Когда у тебя куча денег, можно, конечно, позволить себе и такое приключение. Хотелось бы только на вас посмотреть, если б вам действительно пришлось голодать…». «Замолчи, Джованна! — Антонио с силой встряхнул меня за плечо. — Как ты смеешь разговаривать в таком тоне с донной Ольгой?!». «О! Ещё один борец за свободу народа! — рассмеялась я. — Только знаешь что, мой милый, прежде, чем рассуждать о спасении тружеников в мировом масштабе, не мешало бы для начала вспомнить о собственном ребёнке, подыхающем от голода…» — отшвырнув салфетку, я выскочила из-за стола…
Единственным моим прибежищем стал банк. Но и там я не чувствовала покоя. Весь день я безуспешно старалась сосредоточиться на работе, а мысли свербил вопрос — за что мне всё это? Разве я мало страдала? Разве невзгод, которые выпали на мою долю, было недостаточно? Мне с таким трудом удалось встать на ноги — и ради чего? Чтобы в один прекрасный день у ворот дома появились некто и всё, о чём я мечтала, что так долго и напряжённо создавала, поливая кровью, потом и слезами, разрушили?.. Какие непредсказуемые игры устраивает судьба! Ты вкалываешь, как проклятая, во всём себе отказывая, строишь по кирпичику своё маленькое государство, а в это самое время, на другом конце света, какие-то неведомые личности точат секиру для твоей шеи, да ещё и пытаются выдать сие злодеяние за всеобщее благо…
Вместе с угасающим днём я ощутила сиротливую зябкость сумерек. Возвращаться туда, где тебя никто не ждал, не было никакого желания. Я поехала вдоль Авениды Атлантики[75], сонно потягивающейся под синим бархатным покровом, расшитым золотыми мерцающими созвездиями. Хотелось добраться до крутого, заросшего густым зелёным лесом склона горы Корковаду[76], с вершины которого над Рио простирались благословляющие руки Христа-Искупителя[77]. Но чем настойчивей я приближалась к нему, тем бледнее и неуловимее становился его силуэт, уткнувшийся в сползающую с неба непроницаемую молочную пену, — Бог уклонялся от встречи со мной…
…Подъезжая к дому, я не увидела света ни в одном окне. Поднявшись в спальню, я несколько минут постояла в темноте, прижавшись спиной к двери. Когда зажгла свет, невольно вскрикнула — напротив меня, положив ногу на ногу, вальяжно откинув голову, горделиво восседал в кресле Отец Гуга.
— Что вы здесь делаете? — замешательство превратило мой голос в лепет.
— Жду вас, — улыбнулся он.
За всё время нашего знакомства мне так и не удалось расщёлкать этот орешек: я нимало не сомневалась, что на его душе не один тяжкий грех, также у меня было подозрение, что передо мной — беглый каторжник, скрывающийся в Новом Свете если не от правосудия, то от мести своих дружков-бандитов. Но это были одни лишь предположения. Он, между тем, своим поведением всё время пытался убедить окружающих, что он эдакий хрестоматийный плут из комедий Бомарше: хитроватый, но не всегда предприимчивый прохиндей. Но я-то знала ему цену! Матёрый волчище рядился в шкуру шакала.
В сегодняшнем его облике было что-то, вызывающее безотчётную тревогу. Кажется, я скоро увижу долго скрываемый оскал.
— Что вам нужно? — я постаралась, чтобы мой голос звучал как можно более спокойно.
Угодливо распахнутая коробка:
— Сигарету?
— Вы явились сюда лишь затем, чтобы оказать мне эту маленькую любезность?
— Почему бы мне не быть любезным с красивой женщиной?
— О! Это что-то новенькое… Но я слишком хорошо вас знаю, мой дорогой, чтобы поверить, что вы пришли за мной поволочиться…
— Почему бы нет? Во всяком случае, я никогда от этого не зарекался.
— Ближе к делу, — перебила я.
— Как вы нетерпеливы, сударыня… Есть вещи, где спешка ни к чему…
— Скоро придёт Антонио, я не хочу, чтобы он вас здесь увидел.
— В самом деле? А мне казалось, в последнее время он ночует в мастерской… Впрочем, меня это не касается.
— Вот именно.
Он протянул мне свёрнутую в трубочку газету.
— Что это? — растерянно развернув её, я тут же спотыкнулась взглядом о незнакомые мне иностранные буквы. — На каком это языке? — со всех сторон грозно надвигались неизвестные малоприятные личности: один, в костюме и шляпе, замахивался на меня кулаком с трибуны, другой — сверлил маленькими узкими буравчиками из-под круглых стёкол пенсне, третий, призывно вскинув руку, зазывал на стройку… — Что такое вы мне подсунули? Где вы взяли эту газету?
Отец Гуга постучал указательным пальцем по одной из фотографий.
— Не узнаёте?
Я вгляделась в изображение: у трапа самолёта столпилась группа смеющихся мужчин и женщин в шлемах и кожаных тужурках, все они обнимали полковника Престеса, который, казалось, только что откуда-то прилетел.
— Ничего не понимаю… Что всё это значит?
— Это русская газета… Обратите внимание — вышла в начале нынешней недели. Свеженькая!
— Да… вижу… И что там написано? Вы можете прочитать?
— Написано, что советские лётчики приветствуют известного бразильского революционера Луиса Карлоса Престеса… А теперь перевернём страницу, и вот вам, пожалуйста, ещё один снимочек — вождь трудового бразильского народа на встрече с рабочими завода… Опять же заостряю ваше внимание на дате: если ей верить — фотография недельной давности…
— Откуда вы знаете русский?
Широкая улыбка и нотки ностальгии в голосе:
— Сеньора Антонелли, быть может, вам покажется странной и даже немного неправдоподобной любовь простого гостиничного вышибалы к старинным русским романсам, но, поверьте, именно она заставила меня выучить этот… замечу, очень непростой язык!
— Хватит ёрничать!
— Уважаемая сеньора, и что вам дались мои скромные лингвистические способности… Спросите лучше, как такое возможно, что ваш разлюбезный постоялец может одновременно находиться и здесь, под крышей вашего дома, и в Советском Союзе?
— Не знаю… всё это очень странно… Очевидно, кому-то понадобилось создать видимость, будто Престес в настоящее время пребывает за границей…
— А теперь, дорогая сеньора, подумайте, если такую видимость, как вы изволили выразиться, создаёт главное печатное издание одной из крупнейших мировых держав, то какие же силы стоят за этим Престесом…
Судорожно закусив костяшки пальцев, я поискала глазами сигареты. Отец Гуга был сама предупредительность:
— Прошу вас…
Жадно затянувшись, я плюхнулась в кресло:
— Благодарю.
Соскочив со своего места, он перешагнул через мои ноги и, примостившись рядом на валике, зашептал приглушённо и вкрадчиво:
— Теперь, надеюсь, вы понимаете, что жильцы ваши отнюдь не горстка восторженных идеалистов, кем вы их себе вообразили… Поэтому я бы на вашем месте вёл себя более сдержанно. То, что вы устроили сегодня за обедом не очень умно…
— Знаю… — я стряхнула пепел в виртуозно подставленную им пепельницу.
— И эту дамочку я бы вам посоветовал поменьше задирать. Она, кстати, не расстаётся с пистолетом… — его крепкие зубы на секунду обнажились. — Престеса, должно быть, это заводит; их в постели всегда трое: он, она и милейший герр маузер…
— Свои гнусности оставьте при себе… — поморщилась я. — Вам известно, что я не люблю такие разговоры… Тем более, что этот брак, похоже, фиктивный. Удобная вывеска для отвода глаз.
— О, нет-нет! В этом можете не сомневаться! Самый настоящий.
— Подслушивали под дверью?
— Я — управляющий этой гостиницы, сеньора. Знать о постояльцах всё — моя работа.
— И что же вам ещё такого интересного удалась узнать?
— А что вас интересует?.. — он стряхнул с рукава моего платья невидимую пылинку. — Не выходит ли по ночам из мастерской Антонио?.. И не мучается ли бессонницей донна Ольга?
Я столкнула его с валика:
— Я не это имела в виду…
Он уселся напротив меня на кровати и, подперев голову кулаком, проворковал:
— Коньячку?
— Не откажусь… — я кивнула в сторону шкафа. — Найдёте всё там…
…Мы осушили по рюмке. Я почувствовала прилив какого-то бесовского азартного подъёма.
— Вот смотрю я на вас, Гуга, и диву даюсь… Что вы за человек такой? Откуда вы? Мы столько лет работаем вместе, а я ведь ничего про вас не знаю! Я даже имени вашего настоящего не знаю.
Тягучий обволакивающий взгляд, приторная бархатная улыбка:
— Так ведь и я про вас, сеньора, ничего не знаю.
— Моё прошлое не касается никого, кроме меня…
— Согласен, сеньора. И я уважаю ваше право на личные тайны, — он поставил на столик пустую рюмку. — И хотел бы сохранить такое же право за собой.
— Хорошо, не будем больше об этом… Скажите лучше, что мне теперь со всем этим бедламом делать?
— Вы хотели выяснить, во что вляпался ваш щенок, — я выяснил. А что делать дальше — решать вам… А теперь, с вашего позволения, я вас оставлю. У вас был тяжёлый день, вам надо отдохнуть. Спокойной ночи, сударыня!
Поцеловав мою руку, он удалился. Я придвинула к себе бутылку, но пить больше не стала: недавние новости требовали бодрости и ясности мысли.
…После скандала мы с Антонио не разговаривали несколько дней. Если бы в нашем доме не было посторонних людей, он бы, скорее всего, устроил мне выволочку в своём обычном стиле: с бранью и рукоприкладством, но присутствие Престеса, Ольги и Эвертов сдерживало его пыл. Я видела, что всё в нём так и кипит. Однажды, ища на туалетном столике трубку, он уронил мой жемчуг и тут же, небрежно схватив ожерелье с пола и нечаянно порвав нитку, в ярости запустил им в стену: бусины с грохотом отскочили, горохом посыпались по паркету…
Я пошла на мировую первой: молча подошла и обняла его за плечи. Он не оттолкнул меня.
— Давай уедем в Штаты… в Европу, на Ямайку — куда хочешь… — прижимаясь к нему, шептала я. — Я всё распродам… Мне осточертели и банк, и плантация… Я устала от этой бесконечной гонки, я хочу остановиться… Давай уедем, прошу тебя…
— Да ты что! — сбросив мои руки со своих плеч, он грубо отпихнул меня. — Ты понимаешь, о чём просишь? Как я могу бросить своих товарищей сейчас, накануне восстания, и куда-то поехать с тобой?!
— Накануне чего? — переспросила я: до последнего хотелось верить, что ослышалась.
— Господи, я не должен был говорить тебе это… — покосившись на дверь, Антонио перешёл на шёпот. — Пожалуйста, Джованна, не навреди! В случае провала пострадает много людей.
— О чём ты говоришь? — невольно я тоже снизила голос до шёпота.
Возбуждённый блеск его глаз смущал и настораживал.
— Мы планируем вооружённый переворот, — взволнованно сообщил он.
— О, Мадонна!
— Престес с Ольгой считают, что созрела идеальная ситуация для захвата власти в стране. Все члены Национально-освободительного альянса[78] поддержали идею о немедленном свержении диктатуры Варгаса.
— Антонио, опомнись! Ты хочешь оказаться за решёткой?
— Да нет же, у нас достаточно сил для победы. Нас поддерживают рабочие, крестьянство, военные… Мы поднимем все штаты. Национализируем банки, почту и телеграф, сформируем отряды народной милиции, освободим политических заключенных… — смеясь, он обнял меня и игриво чмокнул пониже уха. — Смотри, банкирша, скоро ты будешь нищей!
— Не сходи с ума, Антонио! Неужели ты думаешь, что Варгас так просто выпустит из рук власть?
— Мы возьмём её силой. Нас много и у нас есть оружие!
— Видит Бог, я не дам тебе втравить себя в эту авантюру!
— «Авантюру?!» — его глаза сузились до узких щёлочек. — Что ты называешь авантюрой? Освободительную борьбу бразильского народа от рабства?..
Боже, каким бесновато-восторженным блеском сверкали его глаза! Он дрожал, точно гончая, почуявшая след… Похоже, эта пара безумных фанатиков окончательно свернула ему мозги!.. В эту минуту я возненавидела и Престеса, и Ольгу так сильно, что если бы они сейчас оказались рядом со мной, я бы, не задумываясь, убила обоих.
Вечером того же дня я подловила в коридоре полковника Престеса — на мою удачу он был один, без своей всегдашней телохранительницы — и вцепилась в него, как падающий со скалы хватается за торчащую из окаменевшей твердыни ветку.
— Я не разделяю ваши взгляды, полковник, но уважаю вас, как личность, посвятившую жизнь служению другим… Я знаю, какое влияние вы можете оказывать на людей. Я и сама долгое время под ним находилась, была опьянена ни сколько вашими идеями, сколько силой вашего убеждения. Теперь вы околдовали Антонио. Он готов жизнь за вас отдать… Но заклинаю вас — не отнимайте её! Этот мальчик очень талантлив. Его ждёт большое будущее. Я могу дать ему возможность реализовать себя. Вы же толкаете его к гибели! Это бессмысленная и никому не нужная жертва! Не позволяйте ему угробить себя ради вас! Прогоните его от себя! Он уважает вас, он вас послушает. Скажите ему, что он принесёт больше пользы для общества, если будет просто рисовать. А я увезу его подальше от всего этого кошмара…
Скрестив руки на груди, полковник смерил меня долгим немигающим взглядом: острым и безжалостным, как бритва. Я поняла — в этом человеке мне не найти ни понимания, ни сочувствия: моим союзником он не станет никогда. Взывать к его милосердию всё равно, что искать сострадания у гильотины.
— Антонио не вещь, которой можно распоряжаться по своему усмотрению. Он сам выберет свою судьбу, — холодно ответил Престес.
— Он её выбрал! — горячо воскликнула я. — Всю свою жизнь он мечтал быть художником.
— В трудный для Родины час долг каждого гражданина оставить всё, что ему дорого, и взяться за винтовку.
Я не помню, чтобы раньше испытывала столь сильное желание ударить человека: и дело не в том, что хотелось причинить ему боль — вместо штампованного книжного благозвучия я жаждала хоть какого-то проявления человеческих эмоций, и потому в ту минуту исторгнутый из груди полковника вопль стал бы для меня музыкой.
— Избавьте меня от громких фраз! Мы не на митинге!.. Я прошу вас, я вас умоляю — отпустите его, полковник! Не становитесь его убийцей!
— Вы слишком возбуждены, госпожа Антонелли. Вам нужно успокоиться, — по лицу Престеса было видно, что его одолевает усталость: он потянулся так, что хрустнули сухожилия рук, закинутых за шею. Этот небрежный, нарочито неучтивый жест окончательно вывел меня из себя.
— Я не позволю вам отнять у меня Антонио! Он — всё, что у меня есть в этой жизни!
Но он уже потерял к нашему разговору интерес.
— Вы не слышите меня, госпожа Антонелли, вы говорите на языке эмоций. В таком состоянии вы не способны рассуждать здраво. Поэтому не вижу никакого смысла продолжать дальнейший спор. Попросите вашу служанку заварить вам ромашкового чаю — он хорошо успокаивает нервы.
Сказав это, он демонстративно удалился.
Глядя ему вслед, неожиданно для себя вспомнила события восьмилетней давности: промозглый дождливый вечер, военный лагерь мятежников, куда я, промокшая до нитки, измотанная после напряженной утомительной дороги, явилась, чтобы предупредить Престеса о готовящемся окружении и сказать о своей любви…
…Кроны деревьев, переплетённые в тесном объятии, две наши тени, похожие на огромных чёрных птиц, пряди влажных волос, прилипшие к лицу, холод рук, комкавших перчатки… — картина, возникшая перед глазами, была настолько живой и яркой, что перехватило дыхание. Я порывисто схватилась за сигарету. Одно неловкое движение — и хрустальная пепельница разлетелась по полу прозрачными, сияющими, как лёд, осколками… Уже через минуту я стремительно сбегала вниз по лестнице, готовая отправиться куда угодно, лишь бы не оставаться наедине с собой… Но плывущий из прошлого тяжёлый ковчег, в трюме которого, как невольники на цепях, томились, запертые под замок, в темноте и духоте, воспоминания, упорно тащился следом…
«„Ящик Пандоры“[79] — новый захватывающий фильм немецкого режиссёра Георга Вильгельма Пабста[80]» — прочитала я на развешанной у синематографа афише. С плаката интригующе улыбалась чувственными, капризно изогнутыми губами круглоликая, похожая на озорного подростка, Луиза Брукс[81]… «По крайней мере, отвлекусь на какое-то время», — подумала я, покупая билет.
…Я прилагала огромные усилия, чтобы сосредоточиться на фильме. Перед глазами мелькала порочно-невинная улыбка главной героини, завораживающе поблёскивали под густой мальчишеской чёлкой её лукавые глаза. Но сюжет ускользал от меня, и в голову лезли совсем другие мысли…
«Пока борьба не окончена, я себе не принадлежу», — с философствующим видом произнося эту велеречивую фразу, Престес, должно быть, гордился своей принципиальностью… А ещё, вне всякого сомнения, любовался собственной сдержанностью, видя перед собой влюблённую женщину, которую мог взять в любой момент, но удержался от соблазна.
…На экране царила атмосфера вакхического безумия: на чьей-то запрокинутой голове колыхался убор из страусиных перьев, с оголённых плеч сползали, извиваясь, как змеи, тоненькие бретельки, волосатые пальцы какого-то толстяка в смокинге ныряли в шуршащий, искрившийся стразами, омут…
Хотя слова Престеса, ставшие пропастью между нами, в своё время изрядно меня расстроили, даже в голову не пришло затаить на него обиду. Более того, я считала себя недостойной его любви: разве я, бывшая проститутка, имела права на что-то надеяться?.. Теперь же, вспоминая тот давний разговор, я была уже не столь великодушна.
…Иногда Луизе Брукс всё же удавалось пробиться ко мне и завладеть вниманием, подобно темпераментной плясунье на тесной танцплощадке, которая, растолкав других танцоров плечами, локтями и бёдрами, продравшись сквозь живую преграду из разгорячённых тел, вломилась в самый центр; и тогда я видела жестокого, испорченного ребёнка, кочующего из одних мужских рук в другие, и несущего смерть всякому, кто к нему прикасался… Фатальная, разрушающая красота.
Я вдруг неожиданно для себя ощутила острое, болезненное, как ожог, унижение. Попранное, задавленное в глубинах сердца уязвлённое самолюбие восстало с небывалой силой и жаждало возмездия. Сама мысль, что полковник являлся свидетелем моего позора, а именно так я теперь воспринимала то далёкое объяснение, была невыносима… И вместе с тем я понимала, что лишь благодаря Престесу смогла осознать себя личностью, научиться самоуважению, и это позволило мне раз и навсегда изменить свою жизнь.
…На экране творилось что-то невыразимое… Интриги, предательство, шантаж, убийство, тюрьма… — зловещий ящик Пандоры, казалось, выпустил наружу всех своих демонов…
Противоречия захлестнули меня, стали раздирать на части. Два разных существа — независимый человек, освобождённый от сковывающих пут постыдного прошлого, и оскорблённая, отвергнутая женщина боролись во мне не на жизнь, а на смерть.
…Киноплёнка отстреливала последние кадры: унылая обречённость лондонских трущоб, шевелящиеся по углам мрачной мансарды тени, лезвие кухонного ножа в рефлекторе лампы, разжатая, безвольно упавшая женская рука…
История с Престесом, длившаяся так долго и мучительно, требовала завершения, хотелось поставить в ней жирную точку, — но какую: простив все обиды или выставив счёт полковнику?.. Иногда, видит Бог, не так уж трудно возлюбить врагов, проклинающих тебя. И здесь не требуется особого величия души: достаточно лишь жить в рамках строго очерченных лекал — по христианским заповедям. Но где взять столько благородства, чтобы благословить того, кто тебя не любит?..
…Легкомысленный мотылёк по имени Лулу[82], порхающий под хрипы агонии влюблённых и обманутых мужчин, завершил свой смертоносный танец. Кто лишил жизни роковую соблазнительницу, я так и не поняла… Случайная жертва случайного убийцы. Или не случайного, но всё равно — безымянного, не пойманного.
…После кино я отправилась пешком бродить по улицам. Я чувствовала, что должна принять важное решение, но колебалась, не в силах ни на что решиться. Меня давил груз ответственности: подспудно я понимала, что какой бы выбор ни сделала — он будет судьбоносным. Несколько минут назад, в темноте зрительного зала, перед тем, как всадить нож в беспечную красотку, также метался и сходил с ума киношный злодей…
Уже было далеко за полночь, но шумный, неугомонный Рио даже не думал укладываться спать — город готовился к завтрашнему карнавалу. И веселье, как водится, началось загодя. Мимо меня то и дело проносились повозки с водружёнными на них многоярусными платформами, стилизованными под огнедышащих драконов, большекрылых птиц, гигантские корабли: очень скоро, под вихрь фейерверков и оглушительный грохот барабанов, жаркие полуобнажённые красавицы будут отплясывать на них искромётную, зажигательную самбу[83]; пробегали разрумянившиеся, запыхавшиеся, спешащие к клиенткам модистки с ворохом разноцветной, напоминавшей тончайшее облако из бисера, блёсток и перьев, одежды в руках: такие костюмы стоили уйму денег и, чтобы облачиться в них всего на несколько часов, девушкам приходилось работать, не покладая рук, в течение целого года; за каждым поворотом пританцовывала, смеялась и дурачилась молодёжь, приехавшая сюда, на этот карнавальный Содом, со всех уголков страны, чтобы, окунувшись в атмосферу праздничного сумасшествия, хотя бы на краткий миг забыть о собственном убогом прозябании, сбежать от житейских забот. Кто-то мечтал встретить вторую половинку, кто-то — надеялся подцепить богатого любовника…
Завернув за угол дома, я пошла на звуки банджо[84]. «У меня есть мул, у меня есть мул, далеко на Юге где-то у меня есть мул…» — надрывал глотку негр с лицом, разрисованным белыми леопардовыми пятнами. Рядом с ним, верхом на выдолбленных из дерева барабанах, сидели ещё два чернокожих музыканта и били по натянутой коже кулаками: один — медленно, другой — быстро. В этом квартале меня едва не закидали ошмётками пищи поварята, готовившие в огромных чанах национальные блюда: гуасадо де тартаругу — тушёную черепаху, фригидейру — жареных в яйце и кокосовом молоке рыбу и моллюсков, жакаре — блюдо из аллигаторов. Забавляясь, они швыряли друг в друга всем, что под руку попадёт: сырыми яйцами, банановыми шкурками, пригоршнями муки…
Ко мне приблизился какой-то юноша в наряде из заплат: «Ты такая грустная, Коломбина[85]… Кто тебя обидел?..». Из-под прорезей маски на меня смотрели смеющиеся чёрные глаза. Я кинулась ему на шею: «Антонио!». Взяв мою руку, он поднёс её к губам: «Нет-нет, малышка, сегодня я — Арлекин, а ты — моя очаровательная возлюбленная». Выхватив розу из цветочной корзины и воткнув её в мои волосы, он затянул меня в водоворот оживлённой толпы.
Остановившись возле одного из столов, Антонио запустил руку в глиняный горшочек, выудил оттуда маленькие, вкусно пахнущие ломтики мяса, апельсинов и фасоли, перемешанные в остром перцовом соусе: «Попробуй! Это моё самое любимое — фейжоаду. Нравится?». Облизнув губы, я кивнула. «Это блюдо придумали рабы. Они смешивали кусочки свинины, оставшиеся после хозяйского обеда, и корм для животных — чёрные бобы. Вроде проще некуда, но такое объеденье!»
Оборвав со скульптурной колонны гирлянду и намотав себе на шею, Антонио потащил меня танцевать. Поначалу я упиралась, но задорный, раскрепощённый ритм румбы[86] захватил и полностью подчинил себе. А, может, это сказывался стаканчик выпитой кайпириньи[87].
…«Мы танцевали аргентинское танго… всю ночь… Господи, как я была счастлива! Эта была лучшая ночь во всей моей никчёмной жизни…».
…Маргарет… Как некстати сейчас, посреди одуряющего, беспробудного веселья, это давнишнее, запылённое двумя десятилетиями дыхание смерти! Почему моя память так жестока ко мне?.. Почему я не могу раз и навсегда изгнать из своей души эти ненавистные видения, которые, как летучий голландец — предвестник беды, появляются нежданно-негаданно в самый неподходящий момент и пугают грядущими несчастьями?
…Но эта ночь, действительно, оказалась лучшей в моей жизни. Интуитивно я чувствовала, что так, как сейчас, мне не будет хорошо уже никогда, и потому изо всех сил льнула к Антонио и, как заклинание, повторяла: «Только не делай глупостей, прошу тебя!..». Антонио с лёгкостью давал любые клятвы. И с такой же лёгкостью забыл о них с первыми лучами солнца.
Утром, не найдя его рядом с собой в постели, я спустилась на нижний этаж, на цыпочках прокралась по коридору к комнате Луиса Карлоса и Ольги. «Более подробные инструкции вы получите уже в Москве…», — донёсся до меня из-за двери негромкий голос Престеса… «Когда я должен выехать?» — спросил Антонио: голос твёрдый, непоколебимый — речь шла о давно решённом деле… Я не стала дослушивать до конца. «Ну, что ж, полковник, — мелькнуло в мыслях, — вы не оставили мне иного выбора…».
Прошла в кабинет, сняла трубку телефона, набрала номер, попросила звонкоголосую тараторку на другом конце провода соединить меня с доном Хосе Меркадо, одним из постоянных клиентов моего бывшего салона, сделавшим за время нашего знакомства головокружительную карьеру: от начальника полиции Кампуса до министра юстиции Бразилии. Пришлось ждать целую вечность, пока, наконец, я не услышала его голос: «Донна Джованна, какой сюрприз! А я о вас только что вспоминал — на днях собирался заехать в „Банк Антонелли“, пополнить свой счёт…».
…Помнится, специально для него мы наполняли пеной огромную позолоченную ванну на ножках в виде толстощёких карапузов-амурчиков. Он забирал с собой сразу трёх девочек и готов был плескаться с ними целыми сутками… «У меня важное сообщение, — с ходу заявила ему я. — Дело — государственной важности».
…Через час я сидела в кабинете сеньора Меркадо и рассказывала ему всё, что знала о подполье. Он слушал внимательно, не перебивая, а когда я закончила свою исповедь, попросил изложить сказанное на бумаге. Я отказалась:
— То, что вы сейчас услышали, я поведала в частном разговоре моему старинному доброму другу, а не министру юстиции. Если он хочет предпринять какие-то меры — это его право. И служебный долг. Я же мараться об эту грязь не стану. Поэтому попрошу вас, дон Хосе, — моё имя никогда, не при каких обстоятельствах не должно всплывать в этом деле. Мы с вами понимаем друг друга?
— Разумеется, донна Джованна. Имя осведомителя будет сохранено в секрете.
Слово «осведомитель» резануло слух: в нём было что-то низкое, нечистоплотное.
— И ещё одна маленькая просьба, опять же, как к давнему приятелю, с которым меня связывают долгие годы приватной и приятной во всех отношениях дружбы, — я увидела, как его покоробило это многозначительное упоминание о дружбе. — Что бы ни случилось, мой муж Антонио Фалькао не должен пострадать.
— Это я могу вам обещать. Ваш… э… как вы изволили выразиться, муж, слишком незначительная сошка, чтобы он был нам интересен.
Я видела, что ему хочется унизить меня, но придавила в себе неприязнь, и к тому же он солировал под мой аккомпанемент.
— Вы правы, он — мелочь. В последнее время он увлёкся мексиканскими абстракционистами, а там, как вы знаете, одни левые… Антонио — натура впечатлительная, на то он и художник, но поверхностная. Политика не интересует его, он весь в искусстве.
— Даже если бы это было не так, — вкрадчиво, с бесовской елейностью проговорил дон Хосе, — мне было бы приятно оказать вам любезность. В память о нашей доброй дружбе.
«С ним надо держать ухо востро», — проведя платком по руке, к которой он на прощанье приложился губами, подумала я.
Мы условились, что я постараюсь разведать и сообщить точную дату начала восстания. Сделать это оказалось труднее, чем думалось: то ли оттого, что заговорщики не доверяли мне полностью, то ли оттого, что они и сами не могли определиться с днём, когда надлежало выступить. Я, как ни старалась, не смогла узнать ничего конкретного. Поэтому, когда мятеж всё же вспыхнул в столице штата Рио-Гранди-ду-Норти[88], а затем, со скоростью пламени, пробежавшего по сухому хворосту, перекинулся на Ресифи[89] и Рио-де-Жанейро, это было неожиданностью. Но правительственные войска, встретившие бунт в полной боевой готовности, спустя всего четыре дня жестоко подавили его. Попытки призвать народ к всеобщей забастовке в штатах Сан-Пауло[90], Рио-Гранди-до-Сул[91], Мараньян[92] и Параиба[93] потерпели крах — бунтовщиков не поддержали. Жетулио Варгас объявил Бразилию на осадном положении. Вслед за этим последовали репрессии: по всей стране активистов Бразильской Компартии и Национально-освободительного альянса хватали без разбора пачками и без суда и следствия швыряли в тюрьмы.
…Как только стало известно о разгроме восстания, Ольга, Престес и Эверты немедленно покинули мой дом. Антонио бросился за ними, и я, как не пыталась удержать его, не смогла ему помешать.
Их искали около месяца. Я сходила с ума от неизвестности и беспокойства за Антонио, и требовала у Отца Гуги, чтобы тот немедленно разыскал его и привёл ко мне. Ни о какой осторожности и предусмотрительности в отношениях с этим человеком речь уже не шла: я посвятила его во всё, что было источником моих тревог и забот, связанных с Антонио.
— Где же он может прятаться, Господи!.. — дрожащими руками прикуривая сигарету, вопрошала я. — Ему лучше всего было остаться здесь… иначе я не смогу его защитить!
— Вы четыре дня не были в банке, сеньора, — напомнил Гуга.
— Идите к дьяволу со своим банком! — огрызнулась я.
— «Банк Антонелли» принадлежит вам, не мне.
— Вы были в морге?
— Был.
— Вы там хорошо всё проверили?
— Среди трупов его нет, я уже тысячу раз говорил вам об этом.
— Может, в тюрьме?
— Сеньор Меркадо сообщил бы вам.
— Эта хитрая лисица? Чёрта с два бы он мне что-то сообщил! Он ведёт свою игру.
— Послушайте-ка, мадам…
— Опять! — я, задохнувшись от возмущения, стукнула кулаком по столу.
— Простите, сеньора, запамятовал… Я хотел сказать, если этот хитрец вздумает шутить с нами, у нас есть на него противоядие. Помните фотографии, которые мы нашлепали в салоне?
— Да-да, конечно!.. я и забыла совсем… Спрячьте их понадёжней, Гуга… Возможно, скоро это станет нашим основным козырем…
— Погубите вы себя из-за этого оболтуса, сеньора.
— Перестаньте…
— Помилуйте, вас жалко — этот мальчишка вас не стоит.
…Артура и Элизу выследили и схватили первыми. Как-то раз, возвращаясь из банка, я проезжала на машине по одной из улиц Рио и видела, как Эверта и его жену полицейские выталкивали из какого-то дома и гнали к стоявшему на обочине грузовику прикладами ружей. У Эверта упали на землю очки, и офицер с силой наступил на них и раздавил каблуком. «Что же вы делаете, изверги?! Он же ничего не видит!» — пронзительно закричала женщина и кинулась на полицейского. Её, оглушив ударами кулаков, оттащили, повалили наземь. Я видела, как сразу несколько мужчин начали избивать её ногами. Когда она потеряла сознание, схватили за лодыжки и поволокли: платье, задравшись, сползло к подмышкам, обнажив тщедушное костлявое тельце, две тяжёлые растрепавшиеся косы тащились следом, зацепляясь за камни, по мостовой… Почувствовав подступивший к горлу ком, я невольно отвела глаза… От дона Хосе Меркадо мне впоследствии стало известно, что Эвертов жестоко истязали в тюрьме, требуя выдать местонахождение Престеса. Больше месяца они молчали под пытками, выводя из терпения ведущих допрос следователей. Но когда Элизу изнасиловали на глазах у мужа, он сошёл с ума… Вслед за Эвертами были арестованы и другие участники заговора. Всем им пришлось выдержать поистине изуверские муки: дознаватели, озверевшие и озлобленные несгибаемой стойкостью Эвертов, науськанные приказами сверху — вырвать как можно скорее признательные показания, решили усилить «меры воздействия». Результат не заставил себя ждать: Виктор Аллен Барон погиб в застенке. Перед смертью, как мимоходом обмолвился дон Хосе, «он успел расколоться». Теперь полиция знала — Престес не успел покинуть страну, он всё ещё в Рио.
Похоже, полковник был важной птицей не только для бразильских спецслужб и полиции, на его поиски слетелись ищейки со всего мира: гестапо и абвер, английская Интеллидженс сервис и спецотдел госдепартамента США. Такой поворот событий не на шутку встревожил: я начала всерьёз опасаться за судьбу Антонио — когда я заключала договорённость с доном Хосе Меркадо, я и предположить не могла, что масштабы этого дела могут разрастись до международных. Теперь же в пору было переживать и за собственную безопасность.
…Полиция обыскивала квартал за кварталом, обшаривала дом за домом. Побывали они и у меня, перерыли всё вверх дном. Мы с Отцом Гугой за день до этого, сожгли все личные вещи беглецов, оставив лишь то, что принадлежало Антонио. Я хотела ограничиться только бумагами, но мой управляющий философски изрёк: «Бережённого бог бережёт», и спалил одежду, кошельки, сумочки, шляпки, и даже книги, которые не имели никакого отношения к политике. «Вдруг кому-то из конкурентов по бизнесу придёт в голову сводить с вами счёты, а тут такая благодатная ситуация: целый рассадник коммунистов под крышей вашего дома — грех не воспользоваться… Не говоря уже о том, что вас могут обвинить причастной к заговору…». Это мне раньше не приходило в голову — я всё больше запутывалась в паутине, которую сама же сплела и развесила. А управляющий, словно прочитав мои мысли, прибавил: «Зря вы обратились к Меркадо. Если вам хотелось отделаться от этой парочки, попросили бы меня, я бы так всё ловко устроил: чик — и нет человека. Комар носа бы не подточил! А теперь попробуй, покрутись, когда сразу столько шпиков на хвост упало…».
Он был прав: я оказалась заложницей ситуации. Мне казалось, что как только я сообщу о готовящемся перевороте, Престеса и Ольгу сразу же схватят, а вместе с ними и других подпольщиков — и делу конец. А тут дошло до вооружённого столкновения, погибли люди, и, самое главное, я оказалась под колпаком у полиции и спецслужб. Дон Хосе звонил мне каждый час и требовал выдать беглецов тотчас же, как они у меня появятся. «Кроме как у вас им негде спрятаться…, — сказал он. — Мы захлопнули мышеловку и отрезали им все пути к отступлению».
Сеньор Меркадо не преувеличивал. Очень скоро они, измождённые, загнанные в угол, появились на пороге моего дома. У Престеса от усталости подкашивались ноги: он осунулся, почернел и как-то высох весь. В волосах появилось ещё больше серебряных нитей, некогда щеголеватая и аккуратно подстриженная бородка, свалялась, вздыбилась и напоминала паклю. Измученным и вымотанным выглядел Антонио: за время скитания он изрядно отощал, и одежда висела на нём мешком. Только Ольга, должно быть, самая выносливая и стойкая из этой троицы, ничуть не изменилась. Невозмутимая, уверенная, она превосходно держалась: трудные, экстремальные условия не только не подкосили её, а скорее, наоборот, закалили: такой же несгибаемой и твёрдой становится сталь, нагретая до предельно высоких температур и резко охлаждённая. «Хотела бы я иметь такие железные нервы», — подумалось мне. Вспомнились слова дона Хосе, получившего от немецких коллег-полицейских досье на Ольгу: «Эта еврейка — та ещё штучка: теракты, шпионаж, побеги из тюрем… Чувствую, мы с ней намучаемся», — и процитировал характеристику из её личного дела: «Обладает большой выдержкой и хладнокровием. Не поддаётся запугиванию, не приходит в замешательство, отвечает продуманно. Производит впечатление человека, привыкшего к полицейским допросам». «Чёрт, а не баба!» — в заключении добавил он.
В ней, правда, было что-то дьявольское. Она единственная, кто подозревал меня в измене. «Мы здесь не потому, что доверяем вам, — в её взгляде сверху вниз сквозило презрение, — а потому, что у нас нет выбора». С каждым часом эта женщина становилась мне всё более и более ненавистной. Вспоминая арест Элизы Эверт, я мечтала, чтобы на её месте оказалась Ольга: изувеченная, растерзанная, жалкая. Дорого бы дала, чтобы увидеть страх в её глазах. И слёзы… Но есть ли на свете вещи более несовместимые, чем эта тёплая солёная водичка и Ольга Бенарио? Представить её плачущей всё равно, что обнаружить гейзер у кромки арктических льдов.
Она, похоже, ненавидела меня не меньше. Если раньше, погружённая в кипучую деятельность по подготовке революции, как-то сдерживала свои эмоции, то теперь они вырвались из-под контроля изнывающей от безделья хозяйки и разбрелись, как беспризорники, при столкновении с которыми случайный прохожий рисковал нарваться на оскорбление или кулак. Этим прохожим всё чаще оказывалась я: оно и понятно — идейный и классовый враг.
Помнится, однажды мы все вместе пили кофе в гостиной. За столом было непривычно тихо. Недавние драматические события, связанные с разгромом восстания и последовавшими за ним репрессиями, изгнали былую раскрепощённую атмосферу метафизических споров и непринуждённых рассуждений о будущем Бразилии.
Наконец, Ольга, наливая в кофейную чашку сливки, задумчиво проговорила:
— А ведь никто никогда не задумывается, сколько сил вложено в эту маленькую чашечку. Богачи наслаждаются чудесным вкусом и ароматом кофе, но приходило ли им в голову, что это кровь и пот бесправных и угнетённых бразильских тружеников?
— А приходило ли в голову этим богачам, что, наслаждаясь, без преувеличения, чудесным вкусом и ароматом кофе, грех Бога гневить и расшатывать сук, на котором сидишь. Глядишь, не ровен час, и окажется в руках вместо фарфоровой чашки черепок с тюремной баландой, — сказала я.
Три пары глаз уставились на меня со скоростью вскинутых в полной боевой готовности ружей, ещё мгновение — и грянет залп. Интересно, кто выстрелит первым. В глазах Антонио трепетала тревога: ему, вероятно, было стыдно за меня перед товарищами, и он опасался новой каверзы с моей стороны. Престес смотрел просто выжидающе: он напоминал тяжёлобольного, у которого пришедшие его навестить посетители отнимают слишком много сил. При взгляде на Ольгу возникал образ закусившей удила лошади, в бока которой впились шпоры наездника: ещё чуть-чуть и она пустится галопом. Глядя на них обоих, мне пришло в голову, что в этой паре скрипка, конечно же, Престес: превосходный инструмент, отличающийся восхитительным певучим тоном и несравненной красотой, но вот только без смычка от этого замечательного инструмента не много толку, а смычком, вне всякого сомнения, была Ольга.
Я, между тем, вальяжно развалившись в кресле, лениво стряхивая с сигареты пепел, поигрывая на носке полуснятой туфелькой, неторопливо продолжала свою речь:
— Кофе — удивительный напиток, божественный. А коли так, то человек, выращивающий его, — почти бог. Если вам доведётся побывать в Эспириту-Санту, я покажу вам мою плантацию. Сейчас там произрастает один сорт — Сантос. Раньше мы ещё выращивали Робусту, но в этом году я её извела: она менее вкусна и не так ароматна. Хотя, правда, более урожайна и деревья лучше переносят болезни. Но мы работаем на спрос. А покупатели любят Сантос. Вот это, действительно, бесподобный кофе! Но мы его ещё немного улучшаем в процессе прожаривания, добавляя к зёрнам немного пряностей — гвоздику и корицу. Сейчас нам конкуренцию составляет только колумбийская Арабика и йеменский Мокко. Но, как говорится, о вкусах не спорят. И лучший кофе — это тот, что нам нравится.
Как я и ожидала, храпящая, напрягшаяся от копыт до холки лошадь рванула в карьер.
— Вы гордитесь тем, что принадлежите к стану дармоедов?
— Кого вы называете дармоедами, донна Ольга? Без ложной скромности могу сказать, что знаю весь процесс производства кофе: от посадки кофейного деревца до поставки экспортёрам готовой продукции. Я могу на глаз различить сорта кофейных зёрен. Знаю, как спасти урожай от паразитов и ржавчины. Смогу защитить деревья от ветра и засухи. А ещё — выкрутиться в кризис, когда все в панике вскинули лапки кверху, и не только сохранить своё дело, но и приумножить капитал. А что можете вы? Раскатывать по всему миру в каютах класса люкс, есть и пить на всём готовом, на средства, не вами заработанные, и плевать в тех, кто создаёт то, что вы с таким со смаком и удовольствием потребляете?
Глаза Ольги сузились.
— Да будет вам известно, госпожа Антонелли, большая часть моей жизни прошла в нужде и лишениях, поэтому все ваши упрёки совершенно беспочвенны.
— Только не надо прибедняться! — перебила я. — Вы сами, собственными руками натянули на себя арестантскую робу!.. В отличие от меня, вам посчастливилось родиться в обеспеченной семье. Вам не приходилось с пелёнок думать о том, где раздобыть кусок хлеба. Вы могли выбирать — быть чистенькой или замараться. А мне выбирать было не из чего: или грязь, или смерть. Другого не дано.
— Никакие обстоятельства не могут нас вынудить поступать не по совести, — многозначительно произнёс Престес, намекая, очевидно, на тёмные пятна в моей биографии.
— Верно, — согласилась я. — только вот у каждого из нас своё понятие о совести.
Он опустил глаза.
…По окончанию трапезы, оставшись наедине с Престесом, я подошла к нему и настоятельно попросила, чтобы он и Ольга немедленно покинули мой дом. Понимая, что они не имеют возможности свободного передвижения, я предложила им помощь: деньги и провожатого. У меня не было ни малейшего желания благоприятствовать этим людям. Просто хотелось поскорее очистить свою жизнь от их присутствия.
— Мой помощник сегодня же вывезет вас за территорию штата, а там — и за пределы Бразилии. Можете выбирать любую страну, куда вас доставить — я оплачу все расходы. Насчёт безопасности — не беспокойтесь. Ваши фотографии на каждом пограничном пункте, но доверенное лицо, которое будет сопровождать вас, человек надёжный, опытный: ему и не из таких переделок доводилось выкручиваться.
— Благодарю за помощь, сеньора Антонелли, — в тусклом голосе Престеса не ощущалось ни малейшей благодарности. — Но мы не можем покинуть Бразилию.
— Да почему, чёрт возьми?!
— Мы потерпели неудачу в некоторых штатах, но революционное движение не заглохло. Мы с Ольгой должны оставаться здесь, чтобы поднять провинцию на всеобщую забастовку. Теперь наша позиция укрепляется ещё и общей борьбой с фашизмом.
— Это безрассудство!
— Нам приходилось работать и в более тяжёлых условиях.
— Если вы в ближайшие сутки не уберётесь из Рио, за вашу голову никто гроша ломаного не даст.
— Мы не так уязвимы, как вам кажется. Сейчас на какое-то время нам, конечно, необходимо затаиться, а потом мы продолжим борьбу… А вот, Антонио, действительно, придётся уехать. Теперь, когда у нас с Ольгой связаны руки, он единственный, кто сможет связаться с товарищами из других штатов.
— Опомнитесь! Какие товарищи! Армия не поддержала вас, фермеры за вами не пошли… На что вы рассчитываете?
— Эти слухи распространяет кабинет Варгаса. Они не имеют под собой почвы. У меня другие сведения: народ кипит возмущением, обстановка накалена до предела. Достаточно одной маленькой искры, и грянет взрыв такой мощности, который раз и навсегда изменит ход истории.
Несгораемый ящик памяти вытряхнул из своего лона полузабытые слова опекуна — «не так страшны отъявленные злодеи, как те, кто искренне мечтает причинить добро…».
— Вы сумасшедший!
— Так было и в России в 17-м году, такие вот как вы называли программу великого Ленина — бредом. Но русские товарищи доказали, что невозможное — возможно.
— Я не знаю, что там вам доказали ваши русские товарищи и знать не хочу! Мне плевать на вашу сраную политику! Но не приплетайте ко всему этому Антонио!
— Антонио — наш связной, нам не обойтись без него. Лишившись радиста, мы потеряли все нити… — он задумался, тщательно подбирая слова, — с руководством. Поэтому, возможно, в самое ближайшее время вашему мужу придётся отправиться… в небольшую командировку.
— Не впутывайте его в ваши дела, полковник, — я не узнавала свой голос: глухой, внезапно охрипший.
— Антонио — не мальчик. Он вправе сам принимать решения. А дело у нас одно.
Я не ответила. Мне хотелось рассмотреть его повнимательней и отыскать то, что привлекало раньше: сила воли? — в жизни не видела более упёртого и твердолобого человека; выдающийся ум? — его нелогичность и поверхностность с каждым днём поражали всё больше и больше; решимость и отвага? — скольких же людей он без колебаний отправил в самое пекло, на верную смерть… или же твёрдость духа, которую я, в действительности, перепутала с чёрствостью и бессердечием? Я чувствовала, что моя антипатия к Престесу непрерывно растёт. Его холодное, отстранённое выражение лица, пристальный, царапающий взгляд словно проводили черту между ним и окружающими, оставляя его на другом берегу, до которого ни доплыть, ни докричаться. Я поняла, что в моей жизни он один из наиболее случайных и чужих людей.
В эту минуту в комнату вошла горничная и сообщила, что меня спрашивают по телефону. Не сомневаюсь — это был Меркадо. «Я очень устала, Моника, скажите, что меня нет дома». Кивком головы простившись с Престесом, я отправилась к себе. По пути зашла в мастерскую к Антонио. В последние дни он, находясь на каком-то необычайном подъёме, работал особенно плодотворно. Энтузиазм в такой совершенно неподходящий для творчества момент поражал меня: он напоминал человека, садившего цветы у кратера вулкана.
— Что ты рисуешь, покажи? — попросила я, но он заслонил от меня картину.
— Подожди, не смотри, дай доделаю! — в вырвавшемся из его груди восклицании были неподдельные испуг и волнение. Торопливо накинув на подрамник кусок холщовой материи, он искоса взглянул на меня быстрым виноватым взглядам, начал протирать кисть. Здесь явно что-то нечисто.
— Когда весь этот ужас кончится, мы поедем в Вашингтон, — проговорила я. — Один мой давний американский друг обещал устроить твою выставку.
Отложив кисть, он привлёк меня к себе. Его пальцы, измазанные краской, нежно скользнули по моей щеке.
— Джованна, скажи мне правду — это ведь не ты?
Я вздрогнула.
— Что?
— Это ведь не ты нас выдала? — его пятерня впивалась в мою кожу властно и требовательно, с силой мяла щёки и подбородок; пьянящие бездонные глаза превратились в сухие колючие угли. — Ольга подозревает тебя. Когда арестовали Эвертов, она хотела тебя застрелить, но Престес не позволил.
— Прекрати… мне больно…
— Полковник сказал, что такой человек как ты способен на всё. Но, кажется, он не верит в твоё предательство.
— А ты веришь?
— Разве ты смогла бы совершить такую низость? — руки Антонио легли на шею: я чувствовала себя так, будто попала в клетку к спящему хищнику — неосторожный шорох, зверь проснётся и тогда…
Я молчала.
— Скажи, что не смогла бы… — его руки одновременно и ласкали, и мучили меня.
— У меня кроме тебя никого нет… — прошептала я, чувствуя, что задыхаюсь. — Если ты меня бросишь… я этого не вынесу…
— Поклянись, что это не ты! — исступлённо заорал он, встряхивая меня за плечи. — Джованна, поклянись, что это не ты!
— Клянусь… — выдавила из себя я.
Его пальцы ослабли, отпустили меня, но в глазах, вцепившихся в лицо мёртвой хваткой, бесновалось, рвалось наружу подозрение.
— Я очень люблю тебя, Джованна… — его губы на мгновение сомкнулись с моими. — Но если нас предала ты — клянусь Богом, я убью тебя!
В дверь постучали. «Антонио, можно тебя на минуту», — услышала я голос Престеса. Антонио тотчас вышел в коридор.
Я подошла к мольберту, сорвала с подрамника тряпку.
…И в ту же секунду оказалась на вершине холма, свидетельницей кровавого языческого жертвоприношения. На первом плане — Престес в чёрных одеждах жреца: его руки, обагрённые кровью, сжимали остро заточенный, украшенный причудливой резьбой обсидиановый нож. Обрамлённое смоляными кудрями бледное лицо — бесстрастная маска унылого и меланхоличного человека — озаряли светившиеся беспощадным, безжалостным блеском глаза. В центре — привязанный к столбу Антонио в набедренной повязке из увядающих зелёных листьев: его грудная клетка вспорота, ещё немного — и кровожадные руки жреца, довершая варварский ритуальный обряд, вырвут из неё дымящееся сердце. Во взгляде умирающего, устремлённом к парившему в небе солнцу, — умиротворение и покой: мученик благодарил за оказанную ему милость быть принесённым в жертву. Расходившиеся веером от огненного диска лучи, походили на волосы женщины, разметавшиеся по подушке после любовных утех, в тёмных пылающих пятнах угадывался орлиный профиль Ольги — божество равнодушно принимало священный дар…
А революция, оказывается, здесь не при чём… Осознавал ли сам Антонио свою любовь к этой женщине?..
Я пошарила рукой по полкам шкафа, наощупь отыскала портсигар и спички.
…В день, когда мать бросила меня, я всё утро проторчала на берегу реки. Набрала три пригоршни ракушек. Очистив их от ила, песка и водорослей, промыла в воде, притащила домой в подоле платья. А потом полдня провозилась, нанизывая на нить изящные мраморные раковины… Денег на коралловые бусы у меня не было…
Сигарета, зажатая между трясущихся пальцев, неспешно дотлевала, осыпая на юбку сизоватые ломкие цилиндрики, а я ещё не сделала ни одной затяжки.
…Стараясь сделать украшение как можно более красивым, я перемежала ракушки с косточками асаи[94]. Я представляла, как мать наденет его на шею и улыбнётся… Но утром меня разбудил злой шёпот хромой Исидоры…
На пороге появилась горничная… Какое наглое выражение лицо у этой девицы… Гадкая издевательская усмешка… И голос — глухой и далёкий — он словно доносится из подземелья: «…Просыпайся, Джованна! Твоя потаскуха-мать тебя бросила!»…
Пол под ногами качнулся.
— Сеньора, с вами всё в порядке?! — взвизгнула Моника, кидаясь ко мне; я повисла на её руках.
Она помогла мне доплестись до стула.
— Я позову сеньора Фалькао.
— Не надо… сейчас пройдёт… Принесите воды.
Она помчалась выполнять мою просьбу. На пороге обернулась:
— А что сказать тому господину?
— Какому господину?
— Он звонил весь день и вот сейчас снова… Сказать, что вас нет?
— Нет, я отвечу.
Собравшись с силами, я прошла в кабинет. На столе, угрожающе поблёскивая, лежала лакированная деревянная трубка с позолоченными насечками по краям. Едва я взяла её, в моё ухо с рокотом стремительно несущейся горной реки ворвались нетерпеливые, рассерженные интонации министра юстиции. Этот яростный скулёж гончей, упустившей дичь, болезненно вгрызался в виски, закладывал уши, чугунным молотом ударял по затылку. Я перебила его:
— Они здесь, дон Хосе…
Трубка на секунду затихла.
— Чем занимаются? — поинтересовался сеньор Меркадо.
— Ложатся спать, — я чувствовала, как стучит сердце: казалось, ещё немного — и оно выпрыгнет из груди.
— Они не заподозрили вас?
— Не думаю, иначе бы не вернулись… — с трудом переводя дыхание, я нащупала ногой ножку стула, стоявшего за моей спиной, подтащила к себе и, обессилившая, рухнула на сиденье.
— Прекрасно! Ваша спальня на каком этаже?
— На втором…
На полировку бюро упали две багряные капли; я поспешно прижала к лицу носовой платок.
— А их?
— На первом.
— В таком случае, донна Джованна, я попрошу вас не выходить из своей комнаты пока операция не завершится… Я отдал приказ стрелять на поражение при малейшей попытке к бегству.
— Только не в моём доме… Где угодно: за оградой, в полицейском участке, но не у меня…
— Мы учтём ваши пожелания, но гарантировать наверняка не можем.
— И мой муж… Мы договаривались, сеньор Меркадо.
— Я помню. Пусть он будет с вами. Не отпускайте его от себя ни на шаг — такие парни любят геройствовать.
— Поняла… И… когда?..
— Скоро. Ждите.
Мне сразу стало легче дышать.
Ну, вот и всё. Теперь только осталось дождаться, когда всё закончится… «Такие парни любят геройствовать…». Верно. От такого как Антонио можно всего ожидать…
Заглянув в спальню и не обнаружив там Антонио, я спустилась в гостиную. С сосредоточенным видом он стоял перед огромным напольным глобусом и задумчиво крутил его пальцем: сфера, похожая на большой апельсин, разрезанный тонкими линиями-меридианами на аккуратные равные дольки, пестрела пятнистым многоцветьем. Перед глазами мелькнуло название далёкой страны, утопающей в вечных снегах и насквозь пронизываемой свирепыми метелями, по очертаниям напоминавшей распахнутые крылья птицы… Видимо, ему не терпится выполнить задание Престеса, торопится в путь.
— Знаешь, чего мне не хватает, дорогой? — я постаралась, чтобы мой голос звучал как можно более непринуждённо; наверное, у меня хорошо получилось, потому что он улыбнулся. — Твоих полоумных приятелей художников.
— Помнится, ты говорила, что не переносишь их, — с удивлением проговорил он: его недоумённый взгляд, перекочевав с глобуса, вонзился в моё лицо.
— Да, не переношу… но сейчас соскучилась… Это было такое весёлое времечко! — налив вина из графина, я пыталась поймать в плескавшемся малиновом омуте своё отражение.
— Да уж… — хмыкнул он.
— А, может, навестим их?.. — внешне демонстрируя саму непосредственность, осторожно, на ощупь, вытянув вперёд ладошки, пошла по тёмному коридору я.
— Ты этого, действительно, хочешь? — недоверчиво спросил он.
— А почему нет? — вино придало мне сил, недавнее головокружение как рукой сняло.
— Можно как-нибудь… — в ответ на мою сияющую беззаботную улыбку пожал плечами он.
Бросив молниеносный взгляд на массивные бронзовые часы, стоявшие на журнальном столике из оникса, я отметила про себя, что после разговора с Меркадо прошло пятнадцать минут.
— Зачем откладывать? Давай поедем к ним прямо сейчас!..
— Ну, нет… нельзя вот так вдруг, с бухты-барахты… Да и поздно уже.
— Святая Мадонна! И это говорит Антонио!..
Я начинала нервничать: если не поторопиться, минут через десять нагрянут стервятники Меркадо.
— Послушай, Джованна, сейчас не совсем подходящее время для таких рандеву.
— Наоборот — в этот час открыты все рестораны.
— Я не про это.
Если он продолжит разглагольствовать, мы не успеем убраться из дома.
— Да брось ты! Что плохого, если мы немного развлечёмся, только и всего? — мне с трудом удавалось сохранять самообладание.
Видя, что он колеблется, я подбросила дровишек в костёр.
— Не хотела говорить. Я собираюсь купить новую картину Тарсилы ду Амарал[95]. Хочу сейчас поехать забрать её.
Антонио точно споткнулся на ровном месте.
— Тарсила продаёт тебе картину?.. За сколько?
Тарсила ду Амарал когда-то была близкой подругой Антонио, но его мнение о её творчестве было крайне невысоким: он считал её работы невзыскательными и лишёнными глубины. Узнав о персональной выставке Тарсилы в парижской галерее Персье, он от возмущения целую неделю сотрясал кулаками воздух…
— Пустяки. Полмиллиона, — сделав неопределённый жест рукой, отозвалась я.
Его физиономию перекосило.
— Сколько?
— Ты не видел мою горжетку?..
— Полмиллиона за какую-то мазню?! — выпучив глаза, он смотрел на меня так, точно я была умалишённой.
— «Мазню»? Это в тебе говорит профессиональная ревность. Тарсила — гениальная художница. Картина, которую я хочу приобрести, — подлинное произведение искусства. И идеальное капиталовложение.
— Ты ни черта не понимаешь в живописи! То, что она малюет — детские картинки. Такое нарисует любой школьник.
— Завидуешь?
Кажется, теперь я попала в самое яблочко. Он аж позеленел.
— Я?.. Едем, чёрт возьми! Я хочу собственными глазами увидеть этот шедевр!
— Я только поднимусь наверх за сумочкой…
Только сейчас я вспомнила, что Тарсилы и в Бразилии-то нет — они вместе с супругом путешествовали по Европе и, кажется, не торопились возвращаться; Антонио, войдя в раж, об этом тоже, похоже, забыл… Ну, да ладно, как-нибудь выкручусь.
…Мы уже отъезжали от дома, когда к особняку со всех сторон начали стягиваться полицейские автомобили. Без сирены, неслышно, они медленно двигались вдоль ограды. Несколько мужчин, на ходу выскочив из машин, крадучись, как кошки, расходились по сторонам, сливались с тенями заметно удлинившихся, фантасмагорически вычурных пальм.
Надеясь, что Антонио не обратит на них внимания, я поспешно нажала на газ. Но он заметил непрошенных гостей: «Какого чёрта им здесь надо?.. Останови…». Поскольку я продолжала ехать дальше, он, ухватившись за мои руки, начал отдирать от их руля. «Это полиция! — орал он. — Надо предупредить Престеса и Ольгу!». Я изо всех сил пыталась удержать его в машине, но он вырвался и стремглав бросился через улицу к дому. Я побежала вслед за ним: «Стой, Антонио! Они убьют тебя!»… С угла улицы сквозь густую листву светил фонарь. Под деревом стоял человек в шляпе с плоской тульей и короткими прямыми полями, в его руках был пистолет. Я замерла, попятилась. Стараясь держаться в тени, прижимаясь к стене и оглядываясь, отыскала скрытую за ветками кустарника железную дверцу; бесшумно отворив затвор, незаметно юркнула во двор и тут же, с трудом подавив крик, закусила костяшки пальцев: неподалёку у беседки притаился Антонио. Я негромко позвала его, но он даже не обернулся; пригнувшись, стал пробираться к фасаду.
Как только особняк был полностью оцеплен, раздался зычный голос Хосе Меркадо, призывающий всех, находящихся в доме, немедленно сдаться. В одном из окон на первом этаже тут же мелькнул тревожный свет. Через минуту с десяток полицейских, держа наготове оружие, вышибли дверь и вломились в дом. Задребезжали стёкла распахнувшегося окна, из него тут же выскочила большая чёрная точка; перевернувшись в пыли, человек побежал к центральному входу — увитой плющом узорчатой ограде. Прожектор с полицейской машины сразу поймал его в сноп света — это был Престес. Разглядев на пути западню, он рванул в другую сторону, со всех ног помчался к потаённой калитке — а за ним, рассекая темноту, следовал ослепляющий белый глаз. Антонио, выскочив из укрытия, одним прыжком перемахнул через скамейку и кинулся наперерез полицейским: «Не трогайте его, сволочи!..». Ответом ему был звук передёрнутых затворов и резкий окрик: «Стоять! Не двигаться!». Со ступеней парадного входа торопливо сбегала Ольга: «Не надо стрелять! Мы без оружия!». Схватив за ствол направленное на неё ружьё, она сцепилась с одним из солдат, отвлекла внимание на себя: «Мы вместе! Арестуйте вместе с ним и меня!». Её схватили, скрутили руки за спину, но она, ожесточённо сопротивляясь, продолжала будоражить громкими возгласами соседей и случайных прохожих: «Не стреляйте! Мы сдаёмся!»… Антонио схлестнулся сразу с тремя полицейскими: оттолкнув одного, ударил под дых второго и попытался вырвать винтовку у третьего. «Бегите, команданте!» — вскрикнул он, расчищая дорогу Престесу. Град пуль, сразу выпущенных из десятка ружей, прошили его. Он рухнул наземь. Я захлебнулась истерическим воплем.
…Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я, опустошенная, обессилевшая, оглохшая от собственного крика, почувствовала, что сижу, скорчившись, подогнув под себя ноги, на траве, а тяжёлая, безжизненная голова Антонио лежит на моих коленях: он тускло смотрел в небо полузакрытыми глазами. «Помогите ему… сделайте что-нибудь…» — жалобно просила я суетившихся вокруг меня полицейских. На все мои мольбы — равнодушное молчание.
Когда меня попытались оттащить от Антонио, я вцепилась в него обеими руками:
— Ему нужен врач… позовите врача… — маленькие чёрные дырочки на груди Антонио расплывались под моими ладонями багровыми липкими пятнами.
Пламя игривым щенком на мгновение лизнуло чьи-то толстые губы и подбородок, заросший щетиной: в темноте огненной точкой вспыхнула зажжённая сигарета.
— Сеньора, он мёртв, — услышала я негромкий голос.
— Да нет же, он жив!.. Потрогайте его руки — они тёплые! Видите! Тёплые! Вы должны спасти его! — мягкая, податливая ладонь, как только я отпустила её, покорно скользнула на землю.
— Сожалеем, сеньора, ничего сделать нельзя.
— Я не верю! Он живой!.. Антонио!.. Скажи мне что-нибудь…
Отец Гуга похлопал меня по спине:
— Всё, Джованна, всё, ему больше ничем не поможешь…
— Этого не может быть!.. Ну, пожалуйста, Антонио!.. Ответь мне…
— Почему вы здесь оказались, чёрт вас дери?!.. — донёсся до меня злобный шёпот Меркадо. — Я же велел вам обоим оставаться в доме!
— Что вы наделали… что вы наделали… — тихонько раскачиваясь, беззвучно повторяла я.
Мимо нас провели закованного в наручники полковника. Вскочив на ноги, я метнулась к нему: «Убийца!». Но полицейские повисли на моих плечах, удержали на месте. Престеса затолкали в машину, где его уже дожидалась арестованная Ольга. Я видела, как зашевелились её губы, как вытолкнули страшные слова: «Это вы его убили…»… Голубые глаза смотрели гневно, обличающе: в них не было ни малейшего сомнения. Она знает. Не подозревает, а именно знает… Автомобиль тут же тронулся с места. Истошно вопя, я сыпала проклятиями им вслед, пока Отец Гуга вместе с горничной не увели меня в дом. Там меня, накачав снотворным, уложили в постель.
Я растворилась в отупляющем дурмане забвения. Но едва смежила веки, как кровожадная Геката спустила на меня всех собак: в бредовой горячке виделось мёртвое лицо Антонио: тоненькие струйки крови, сочившиеся с уголков губ, придавали ему плаксивое, жалобное выражение — Арлекин превратился в Пьеро… В кровавые губы впивался перекошенный беззубый рот, заунывно сыпавший латынью под мерный колокольный звон и пение хора: он то возникал в сияющем золотом пламени, то исчезал под сводами стрельчатых окон с цветными стёклами. Я, пытаясь отыскать Антонио, припадала в полупустом храме от одной стены к другой, а он сам усердно от меня прятался в отполированном до зеркального блеска большом ящике с серебряными ручками. Этот ящик, точно живое существо, жеманно набросив на себя белую накидку с чёрным крестом, гарцевал на чьих-то широких сутулых плечах, скрывался за спинами маленьких мальчиков, шедших парами и держащих в руках по огромной зажжённой свече, снова выныривал меж скорбно склонённых под чёрными вуалями голов, кружил, хохоча и отплёвываясь горстями земли, в дымном облаке, и, наконец, бесследно канул в зияющую чёрную дыру…
…Прошло несколько недель, прежде чем я пришла в себя и очнулась после тягостного забытья. Антонио за это время успели похоронить. Все хлопоты, связанные с погребением, взял на себя Кандиду Портинари, считавший Антонио при жизни своим приемником в живописи и искренне скорбевший по поводу его безвременной кончины. И хоть я и присутствовала на прощальной церемонии — меня, ослепшую от слёз, водили под руки слуги — в памяти она навсегда так и осталась тяжёлым кошмарным сновидением.
Пробуждение походило на новое рождение. Не знаю, откуда взялись на это силы. Должно быть, пока тело в беспамятстве металось по подушкам, а душа припадала к Стигийским болотам, в мою плоть вселился какой-то другой дух.
…Приняв ванну, я уложила волосы, отшвырнув прочь безотрадное траурное платье, которое мне приготовила горничная, оделась в новую клетчатую тройку цвета бордо, стиснула запястье увесистым рубиновым браслетом, накрасила губы красной помадой. И вызвала Монику.
— Что это такое, моя милая? — проведя пальцем по столу, я стряхнула на пол густой слой пыли. — Вы позабыли о своих обязанностях?
— Вы спали, сеньора… я боялась вас тревожить… — в глазах горничной удивление перемежалось с испугом: похоже, на моё возвращение к жизни никто не рассчитывал.
— Я не потерплю бездельников в своём доме.
— Простите, сеньора, — пискнула девушка, нервно комкая уголок кружевного передника. — Этого больше не повторится.
— Имейте в виду, милочка, ещё одно замечание — и вы уволены.
— Да, сеньора, — глаза Моники смотрели с такой ангельской кротостью, что я невольно смягчилась.
— А теперь разыщите управляющего и скажите, что я приказываю ему немедленно явиться в мой кабинет.
Моника сделала почтительный книксен:
— Слушаюсь, сеньора.
Я прошлась по комнате: интересно, сколько моего добра, оставшегося без присмотра, успел за эти несколько дней расхитить ловкач Гуга? Похоже, он заочно уже отправил меня в утиль… Держу пари, ему вспомнилась история, как своё время от меня на сторону ушёл салон, захотелось снова воспользоваться ситуацией и погреть руки. Поторопился, чёртов шельма! На это раз с моей стороны не будет никакого малодушия.
…Едва увидев его, я потребовала отчёт о хозяйственных делах гостиницы. Слова ликования по поводу моего выздоровления замерли на его устах.
— Вы в состоянии сейчас этим заниматься? — изумился он.
— А почему нет? Разве я больна?
— Но вы ещё так слабы… — пристально оглядев меня, сказал он.
— Вздор! Я чувствую себя превосходно.
— Восхищаюсь вашим мужеством, сеньора, но могу представить, какую муку невозвратимой утраты вы испытываете…
Театральная жестикуляция управляющего вызвала приступ раздражения, но мне не хотелось поддаваться эмоциям.
— К делу, Гуга! — перебила я. — У меня нет времени на лирические отступления: через полчаса я должна быть в банке. А теперь внимательно выслушайте то, что я скажу… Дела гостиницы в запустении, нам необходимо срочно поправить их. Во-первых, нужно снова наполнить отель постояльцами — позаботьтесь об этом. Во-вторых, мы должны создать себе репутацию лучшей гостиницы Рио. Для этого я собираюсь купить все расположенные по соседству дома и создать гостиничный комплекс.
— Это потребует больших финансовых затрат — дома нуждаются в ремонте, — обретя дар речи, вымолвил управляющий.
— Согласна. Но я не хочу ограничиваться банальной отделкой помещений. Нужно заказать кому-нибудь из художников расписать стены, сделать что-то вроде византийских фресок. Я думаю, лучше всего нанять для этой работы Портинари.
— Это будет стоить очень дорого.
— Мы можем себе это позволить. Но интерьер — не самое главное. У нас есть другой конёк, на котором мы сыграем. На этом самом месте — вершилась история. Здесь жили, любили и умирали великие люди нашего века: Луис Карлос Престес и Ольга Бенарио — самоотверженные революционеры, посвятившие свои жизни борьбе с неравенством, и Антонио Фалькао — выдающийся бразильский живописец, — заложив руки за спину, я мерила шагами комнату. — В его мастерской мы не будем делать ремонт, мы превратим её в музей и сохраним атмосферу присутствия художника: все вещи, которые сейчас там находятся, должны располагаться так, чтобы возникло ощущение, будто Антонио Фалькао только что-то вышел из комнаты и вот-вот вернётся. В самом центре ателье должен стоять мольберт с незаконченной картиной… ну, той, на языческую тематику…
— Той, которую вы, впав в буйство после смерти Антонио, искромсали перочинным ножом? — вежливо осведомился управляющий.
Вот это номер! Я про это ничего не помнила.
— Неужели? Она сильно пострадала?
— В одном месте, сверху. Вы пытались выколоть глаза у солнца. Они почему-то казались вам лживыми…
— Должно быть, горе помутило мой рассудок… — пожав плечами, уклончиво отвечала я. — Картину надо восстановить, сегодня же пригласите реставратора… Теперь, что касается комнаты Престесов: её тоже не будем трогать… Как я жалею, что мы тогда поддались панике и сожгли их одежду и книги! Как бы нам это сейчас пригодилось!.. Кстати, а вы не знаете, случайно, что стало с нашими постояльцами после их ареста?
— Насколько мне известно, Престес готовится предстать перед судом, но это чистейшая формальность — заочно он уже осуждён, а Ольгу как иностранную подданную депортировали на родину.
— Печально. Будь я на её месте, не хотелось бы мне сейчас оказаться в Германии… Ну, да ладно, вернёмся к нашему разговору о модернизации гостиницы… Постарайтесь собрать все оставшиеся после Престеса и его жены вещи. Ольгу, помнится, при аресте выволокли босую, в одной сорочке. Значит, в спальне должны быть её платье и туфли…
Отец Гуга почесал в затылке, поскрёб куцую бороду, и внимательно заглянул мне в глаза.
— Я пытаюсь понять, сеньора Антонелли, кто из нас двоих сошёл с ума?
— Хороший бизнесмен, мой дорогой, должен уметь извлечь прибыль из всего, включая своё разбитое сердце, — усмехнулась я. — А мы с вами — деловые люди, поэтому сумасшествие нам не грозит… Помяните моё слово, Гуга, пройдёт совсем немного времени, и номер в нашей гостинице будет стоить порядка тысячи долларов в сутки.
— «Тысячи»? — всплеснув руками и запрокинув голову, управляющий зашёлся в хохоте. — Ну, вы загнули! Ещё бы рейсов, куда ни шло, а то — долларов. Да ещё и в сутки! О таких деньгах здесь сроду не слыхивали. Бразилия — нищая страна.
— А мы сделаем ставку на иностранцев. Карнавал — хороший крючок для привлечения туристов: он ведь уникальный, единственный в мире!
— Да, это зрелище хоть раз в жизни стоит увидеть.
— Хорошая фраза, Гуга, — запишите, чтобы не забыть! Когда мы откроем гостиничный комплекс, я размещу под таким заголовком рекламное объявление в газетах… Но до этого ещё далеко, а пока — займитесь поиском новых постояльцев…
— Один вопрос, сеньора… Не кажется ли вам, что в наше неспокойное, нестабильное время бравировать личным знакомством с опальным полковником по меньшей мере опрометчиво?
— А кто вам сказал, что я собираюсь афишировать свою связь с этим человеком? Мы всего лишь произведём небольшой задел на будущее и до поры до времени подержим в тайнике, а как наступит подходящее время — извлечём на свет божий… Как вы верно заметили — мы живём в нестабильное время. Но Бразилия — страна, где кумиры создаются и низвергаются в мгновение ока. И то, что обращается в прах сегодня, завтра может быть обласкано и омыто слезами. Дождёмся, дорогой Гуга, когда маятник снова качнётся и наш Рыцарь Надежды окажется в фаворе… Не думаю, чтобы нам пришлось ждать слишком долго.
— Снимаю шляпу перед вашей прозорливостью, донна Джованна, и заверяю вас в полнейшей своей преданности и готовности, в случае необходимости, оказать любую поддержку… Но как быть с Меркадо? Он прислал вам повестку.
— Ах, вот как… Терпеть не могу людей, которые не держат слово… Что ж, я сегодня же встречусь с ним и постараюсь договориться.
— А если нет?
— А если нет — у меня будет к вам деликатное поручение… Теперь я убегаю. Скажите Монике, чтоб не подавала завтрак, перекушу где-нибудь по пути в банк…
…Какой бы абсурдной ни казалось моя идея на первый взгляд, я попала в десятку. Имена и Престеса, и Ольги, и Антонио прочно вошли в историю Бразилии: уже через пару десятилетий, после того, как режим Варгаса рухнул, они стали красоваться во всех энциклопедиях и школьных учебниках. Об этих людях писали книги, им ставили памятники, их портреты изображали на почтовых марках. Я прожила достаточно долгую жизнь, чтобы увидеть, как личность каждого из них превратилась в легенду.
Наибольшее количество посмертных лавров собрал Антонио. Как только благодарные соотечественники не пытались увековечить его память: в его честь называли музеи и школы, футбольные клубы и рестораны, пляжи и корабли, и даже выведенные новые сорта кофе и орхидей. Не знаю, был бы сам Антонио рад такой славе или рычал бы от злости, но его восторженные поклонники раздербанили его персону буквально на клочки: издатели растащили репродукции картин на открытки, кондитеры — на обёртки для конфет, текстильщики — припечатали на майках его профиль. Не будучи безгрешным при жизни, после смерти он превратился в бога.
Я тоже не осталась в накладе — из этой грязной истории с несостоявшимся восстанием и крушением революционного подполья мне удалось выскользнуть абсолютно сухой и чистой. За исключением Отца Гуги, который хранил молчание из соображений коммерческой выгоды: его пасть я заткнула солидным куском в виде одного процента акций моего банка, ни одна живая душа так никогда и не узнала о моей роли в этом деле.
Что касается дона Хосе Меркадо, то с ним мы не смогли договориться. Дав обещание никогда не ввязывать меня в какие-либо официальные разбирательства, он самым беззастенчивым и бессовестным образом нарушил его и, вызвав на допрос, начал задавать щекотливые и неудобные вопросы. Более того, меня поставили перед фактом, что я буду приглашена на предстоящий судебный процесс в качестве свидетеля. Когда я напомнила дону Хосе о нашем уговоре, он заявил, что расследование дела о попытке государственного переворота находится под личным контролем у президента Варгаса, а он со своей стороны обязуется вести это расследование как можно более объективно и беспристрастно. И хотя у меня был против него весомый козырь, я предпочла не рисковать и похоронить все его воспоминания о моей причастности к делу Престеса в прямом смысле. Тем более что, когда я намекнула о существовании некого «фотоархива», обнародование которого было бы не интересах Меркадо, он так странно посмотрел на меня, что я сочла за благо сработать на опережение. Спустя час после нашего с ним разговора я попросила своего управляющего о небольшом личном одолжении — как можно скорее и тщательнее замести все следы. За эту услугу мне пришлось дорого раскошелиться, но она того стоила: уже утром следующего дня все газеты страны пестрели заголовками: «Взрыв в центре Рио: сообщники полковника Престеса жестоко расправились с министром юстиции», «Пожар в здании секретной полиции унёс жизни двенадцати служащих и полностью уничтожил архив»… Впервые за долгие месяцы чудовищного напряжения я смогла спокойно позавтракать.
Когда не осталось никого, кто бы натыкал меня носом в эту скверную историю с заговором (с Престесом, осуждённым на длительное тюремное заключение[96], пути наши никогда больше не пересекались, Ольга — бесследно исчезла[97]), я по собственному усмотрению изваяла себе ипостась. И впоследствии, когда ветер политических перемен сменился с урагана на лёгкий бриз, довольствовалась скромным амплуа верного и преданного соратника четы пламенных революционеров и бескорыстной меценатки, поддерживающей талантливого художника на взлёте и пропагандирующей его творчество после ранней трагической гибели. Удобная маска, которую я надевала для посторонних. А если учитывать, что я ни с кем никогда так больше и не сблизилась, то — для всех. Но она не тяготила меня, напротив, я к ней привыкла, вросла в неё. Она стала моим вторым лицом. Однажды, ослепив солнце на картине Антонио, я словно украла часть его могущественной силы и присвоила себе. Было лишь одно существо на свете, напоминавшее о той Джованне, беззащитной и слабой, которую я всю жизнь пыталась уничтожить и забыть — моя дочь.
Её мне подкинула Урсула, бывшая сожительница Антонио. После его смерти она приехала ко мне в Рио и приволокла с собой эту несчастную девочку. Я ожидала слезливых стенаний, но она даже не всплакнула об отце своего ребёнка; её обуревали другие страсти.
— Сеньора, я должна продолжить дело моего мужа… — с остервенелой, безудержной порывистостью заговорила женщина; меня невольно покоробил этот резковатый, оголтелый напор — с таким же диким блеском в глазах когда-то говорил со мной и Антонио. — Незадолго до всех этих ужасных событий они вместе с донной Ольгой побывали в нашем селении. Слушая её, я рыдала!.. Кто я такая? — тёмная, невежественная дурочка… Что я видела? Вся жизнь — вприглядку, точно объедки с чужого стола подбирала… Даже в голову не приходило, что можно существовать по-другому. А донна Ольга раскрыла глаза, показала иной мир: свободный, справедливый, где все люди — братья: живут — по совести, работают — честно. За такой мир и умереть не страшно!..
Погружаясь во весь этот эмоциональный сумбур, у меня возникло ощущение дежа вю; когда-то я в него уже окуналась: поменялись лишь действующие лица, а слова и интонации остались прежними.
У двери, засунув в рот грязный палец, таращилось по сторонам маленькое, встрёпанное создание в каких-то обносках.
— Вам нужно думать не о смерти, а о своём ребёнке, — сказала я.
Но Урсула, похоже, утратила способность не только соображать и рассуждать здраво, но и слышать: она неслась, как плот с вершины водопада.
— Почти двадцать лет я прожила во мраке, но донна Ольга показала мне дорогу к свету. Это борьба, революция!
— Трудный вы себе выбрали путь. И плохих попутчиков.
— О, Мадонна! Да как вы такое можете говорить про донну Ольгу?! — возмутилась Урсула. — Она ведь — святая! Я готова следовать за ней, как слепой за поводырём…
— «Как странник за звездой путеводной…», — добавила я.
— Вы понимаете меня? — обрадовалась женщина.
— Д… да… вероятно…
Она умоляюще заглянула в глаза:
— Вы поможете мне?..
— Чего вы хотите?
Женщина поманила девочку:
— Поди сюда, родная… — обхватив дочь за плечи, она привлекла её к себе, а затем резко толкнула навстречу ко мне. — Ну же, глупая, поклонись! Поцелуй у сеньоры ручку…
Она ткнулась в мою руку, как собака, прибежавшая на зов хозяина. Я вздрогнула.
— Сколько лет этой девочке?
— Три с половиной, сеньора.
— Она — от Антонио?
— Конечно, сеньора, от кого же ещё?
Я невольно потрепала ребёнка по голове.
— Как её зовут?
— Тереза.
На мгновение я почувствовала, как сдавило сердце: так звали мою мать. В душу вкрался суеверный ужас — не она ли сейчас восстала предо мной в другом обличье?
— Я не знаю, какая участь мне уготована… — сказала женщина, а я, предчувствуя пышную риторическую выспренность о неизбежности принести себя в жертву во имя благоденствия бразильского народа, мысленно дала слово, что если Урсула хотя бы заикнётся о своей великой миссии, я выставлю её вон; по счастью, скудный словарный запас моей собеседницы не позволил ей воспарить в ораторские выси. — Не хочу подвергать малышку опасности… Если вы не против, сеньора, я бы хотела оставить Терезу вам — на воспитание.
И снова, откуда ни возьмись, перед глазами замаячила давно забытая картина: жалкие строения монастырского приюта в Посадасе, уцелевшие после холеры воспитанники, раболепно выстроившиеся перед важным сеньором, которому вздумалось примерить на себя костюм филантропа, пыльная дорога, увозившая меня от одних горестей — к другим… Рука машинально потянулась за сигаретой.
— Хорошо, Урсула, я заберу девочку, — чиркая спичкой и не спеша закуривая, проговорила я. — Только ответьте на один вопрос. Что вы сейчас чувствуете?.. Нет-нет, я не осуждаю вас… Мне просто интересно, что испытывает женщина, бросая своего ребёнка?
Урсула опустила глаза.
— Я делаю это ради её блага. Вы позаботитесь о ней лучше, чем я.
«Если „позаботиться“ означает — прокормить, то, несомненно, у меня это получится лучше, чем у неё, а если — полюбить, то даже не знаю, есть ли у меня в этом потребность», — подумала я. Но в неожиданном предложении Урсулы виделся некий скрытый знак, я только не могла постичь волю Создателя: через мои руки прошло столько обездоленных детей, которым я исковеркала судьбы, так почему же Он доверил мне ещё одну жизнь? Дал последний шанс?
— Ладно, Урсула, возможно, вы и правы. А теперь послушайте мои условия: я воспитаю Терезу, как родную дочь, у неё будет всё, о чём только можно мечтать. Это я вам могу гарантировать. Но вы мне должны пообещать, что навсегда забудете о её существовании. Отныне её матерью буду я.
Женщина опешила.
— Но если мне захочется увидеть её… — растерянно пролепетала она.
Я была неумолима:
— Сейчас вы видите её в последний раз.
Урсула заметно колебалась. Почувствовав, что она вот-вот с негодованием отвергнет мой ультиматум, я начинала проникаться к ней симпатией, и дала себе слово: если она сделает это — я возьму на содержание их обеих… возможно, устрою Урсулу у себя экономкой… Но сумасбродные идеи победили в женщине хорошую мать.
— Я согласна, сеньора Антонелли… — кусая губы, шмыгнула носом она, — я согласна…
Услышав это, я точно одеревенела.
— Тогда прощайтесь и уходите.
Урсула крепко прижала к себе девочку — та, видя слёзы матери, тоже начала плакать, — а затем выскочила вон из дома. Тереза уже заревела в полный голос. Присев на корточки, я вытерла её щёки платком.
— Не плачь, детка, скоро ты забудешь свою непутёвую мать. Ты слишком мала, чтобы запомнить её надолго. В твоём возрасте память — чистый лист… Что мы будем рисовать на этом листе, дитя моё? — поскольку малышка, всхлипывая, молчала, я ответила за неё. — Нужно сказать — «что вам угодно, сеньора»… — и легонько тронула её нос указательным пальцем. — Дзынь! — она улыбнулась. — Ты такая миленькая, Тереза… настоящая маленькая принцесса!.. Я куплю тебе коралловые бусы… и красивое голубое платье… Мы оденемся, как две госпожи, и пойдём по улице — пусть все завидуют…
Я позвонила в колокольчик. На зов прибежала горничная.
— Сначала накормите её, как следует. Малютка голодна. Только не переусердствуйте — она сильно истощена, это может ей повредить. Потом выкупайте хорошенько и оденьте во всё чистое. Если в волосах вши — остригите налысо… Как справитесь с этим, вызовите мою портниху — пусть снимет мерки и сошьёт ей несколько платьев.
— Да, сеньора.
— Это всё, Моника.
…Наблюдая, с какой жадностью Тереза уплетает пищу, я размышляла над тем, какую роль в моей жизни играет эта маленькая девочка и как сложится её судьба. Я мучилась сомнениями, есть ли хоть какая-то справедливость в нашем хаотичном, неустроенном мире. Почему одни рождаются в золотой колыбели и перед ними с малолетства открыты все дороги, а другие — в помойной яме, и им приходится долго и упорно выползать из неё, тратя на это лучшие годы, озлобляясь, ожесточаясь, черствея душой. И вот, когда, наконец, в руках у тебя оказываются сплошные козыри, достигнутая цель не приносит ни радости, ни облегчения, а ты сам ощущаешь себя трупом: бесчувственной и бездушной оболочкой…
Мужчина, которого я попыталась любить, назвал меня пустотой, жмыхом. И был неправ. Жмых — это что-то безвредное. Пустота — то, чего нет. А если так — это не про меня. Если на свете что-то и существует, так это я и мне подобные. Достаточно лишь оглянуться по сторонам и увидеть, как тысячи людей по моей указке приводят в движение огромный механизм: на плантациях собирается и нагружается в огромные мешки кофе, а потом сотни машин мчат эти неподъёмные тюки в порт, где их уже ждут пришвартованные к причалу корабли, а дальше — Европа, Америка, Япония… Люди привыкли, просыпаясь, видеть перед собой маленькую кофейную чашечку. И разве получили бы они её, не будь меня?.. А что касается безвредности… Не отравлю ли я жизнь этой маленькой девочке? Не лучше ли для неё было бы не иметь никакой матери вовсе, чем иметь такую, как я?..
Доев цыплячью ножку, Тереза облизнула пальцы и тут же схватила ещё один кусок мяса.
— Бедняжка! — растрогалась я. — С Урсулой тебе жилось не слишком сытно… Ну, ничего, теперь всё будет по-другому… Мы заживём так, как тебе и не снилось!.. Завтра я отвезу тебя в Сантос, покажу мои кофейные деревья. Сейчас самое время для сбора урожая. В этот году я закупила у немцев специальные грабельки: они срезают только плоды, а листья и цветки остаются нетронутыми. Самое главное — относиться к деревьям бережно, они тогда они послужат ни один год…
Я видела, что ей неинтересно, понимала, что завела разговор не по возрасту, но, испытывая сильнейшую потребность в общении с живым существом, мне было безразлично, слушают меня или нет.
— Как соберём кофе, примемся за обработку. Лучше всего использовать воду. Это делается так: спелые плоды пропускаем через мельницу и удаляем всю мякоть, а после того, как зёрна останутся в тоненькой оболочке, промываем их. Хорошие, здоровые зёрна оседают на дно, а больные всплывают на поверхность… Это очень хороший способ, Тереза, но для нас — дорогой. Где взять столько воды? И опять же, нужно несколько огромных бассейнов. На нашей фазенде обрабатывают по-другому: плоды тонким слоем рассыпают на солнцепёке недели на две. За это время мякоть усыхает. Но на ночь, Тереза, запомни, их надо обязательно убрать, чтоб не попортились от сырости и плесени… Как узнать, готов кофе или нет? Подносим плод к уху и трясём. Если услышишь сухой звук ударяющихся зёрен, значит, готов… Поняла? — девочка, доверчиво прижавшись щекой к моей руке, зевнула. — Прости, милая, я тебя утомила… Доскажу как-нибудь в другой раз. Выращивание кофе — это целое искусство. Тебе предстоит очень многому научиться…
Тереза ответила тихим посапыванием. Осторожно приподняв девочку, я перенесла её на кушетку.
— Спи, детка… спи, маленькая…
Мне хотелось, чтобы поскорее настал следующий день, и я смогла бы разбудить ребёнка ласковым поцелуем в лоб.
«Просыпайся, Тереза!.. Твоя мама пришла пожелать тебе доброго утра…» — сказала бы я, и тогда, возможно, голос хромой Исидоры замолчал бы навеки.
Но утром меня ожидали совсем другие заботы. Отец Гуга принёс дурные вести: на моей кофейной плантации вспыхнула забастовка. Пришлось спешно выезжать в Эспириту-Санту. Я уже было приказала горничной собирать Терезу, но поскольку у девочки, кроме жалких лохмотьев, не было никаких вещей, велела прислуге срочно отправляться в магазин готового платья и купить одежду. Узнав о наших сборах, Отец Гуга так и взвился от возмущения, заклокотал, как индюк:
— Да что вам ребёнок, игрушка что ли? Это же надо только додуматься — взять в дорогу такую кроху! Что она там будет делать — москитов кормить? Да и небезопасна нынче такая поездка: от этой восставшей черни всего можно ожидать…
— Вы правы, Гуга… Не подумала, что для девочки это может быть слишком утомительно…
— И опасно, сеньора! — возвысил голос управляющий. — Я бы на вашем месте тоже не ездил. Вызвать полицию — и пусть она сама с ними разбирается!
…Эх, прислушаться бы тогда к его словам! Но я легкомысленно посчитала, что он преувеличивает опасность и нагоняет панику…
— Как владелец плантации я обязана поехать в Сантос и сделать всё, чтобы устранить неурядицу, — ответила я.
— «Неурядицу»? — ошарашено переспросил он. — Вы это так называете? Всё гораздо серьёзнее, чем вы думаете. На плантации самый настоящий бунт, сеньора!
— Я не собираюсь ни с кем воевать. Я еду для того, чтобы договориться с недовольными работниками: выслушать их и, если их требования разумны и необременительны для меня, по возможности удовлетворить их.
— Те, с кем вы хотите договориться, поймали вашего соседа Аугусто Ламберти, связали его и засунули в мешок из-под кофе, а потом бросили на дорогу и пустили по нему стадо мулов.
— Святая Мадонна!.. Я ничего об этом не знала…
— Пока вы предавались скорби, много чего произошло.
— Тем более я должна поехать, чтобы не допустить ещё более тяжёлых последствий.
— Угу… — хмыкнув, скривил губы он, — только перед тем, как уехать, будьте любезны оставить распоряжение для казначея вашего банка — это на тот случай, если мятежники вас возьмут в заложницы и будут требовать выкуп… Ну, и в случае похорон, если уж совсем не повезёт…
— Заткнитесь, Гуга! — раздражённо отмахнулась я. — Ещё, не приведи бог, накаркаете!
— Беспечность, сударыня, — достоинство кретинов! — Отец Гуга отвесил церемонный поклон.
Его откровенно хамский выпад, против обыкновения, не вызвал в моей душе никакого отклика.
— Вы, как всегда, очень любезны, — сдержанно отозвалась я.
— А вы, как всегда, мудры и предусмотрительны, — ехидно проговорил он.
Его рука нырнула за пазуху. На мгновение меня ослепила алебастровая гладь шёлка и прижавшаяся к ней длинная чёрная стрела с золотой булавкой. Но уже через секунду мне в лицо уставилось круглое металлическое дуло. С ловкостью фокусника повертев пистолет на пальце, управляющий протянул его мне.
— Держите, донна Джованна. Мне будет спокойнее, если с вами будет папаша браунинг.
— У меня есть оружие.
— Тем, что у вас есть, разве что гиен пугать… Такой уважаемой сеньоре давно пора иметь что-то посолиднее… А вещь, которую я предлагаю, действительно, стоящая. Захватите её с собой на переговоры, и я даю гарантию, сеньора: в любом споре — ваш аргумент будет самым весомым.
Помедлив, я взяла пистолет — его непривычная лёгкость приятно удивила.
— Спасибо.
— И всё-таки я бы не стал рисковать на вашем месте. Бог с ней с плантацией, всё равно все деньги здесь, в банке. А там что — дом да земля… Земли в Бразилии много.
— Я уже приняла решение, и не будем больше об этом.
На лице Отца Гуги появилась сардоническая гримаса:
— Кажется, я понял, сеньора, — вам не терпится отправиться вслед за своим дружком. Грустно без него, да? Только незачем тащиться в такую даль — пистолет я вам подарил.
— Вы ошибаетесь, Гуга: я не горю желанием составить компанию Антонио, по меньшей мере, в ближайшие лет сорок. Даже не надейтесь на это!.. Я еду, чтобы защитить свою собственность. Я знаю, как это сделать.
— Бог в помощь, сударыня, — скептически усмехнулся он.
— Я вернусь, — с нажимом проговорила я.
Не переставая улыбаться, он вскинул руку, как во времена, когда изображал из себя священника, и перекрестил меня. А затем ушёл прочь.
…Откуда мне было знать, что вернуться домой я смогу только через полгода… Когда уезжала, казалось, на неделю — на две, не больше…
Несмотря на все ужасы, которых я понаслушалась от Гуги, не было никаких дурных предчувствий. Дорога умиротворяла будничным покоем: припекало жёлтое лоснящееся солнце, напоминавшее огромный кусок масла, растёкшийся по бледно-голубому подносу; перелетали с ветки на ветку безмятежно щебечущие дрозды; важно вышагивали на тонких ногах по тростниковой заводи цапли, высматривающие в мутной зеленоватой воде мелкую рыбёшку; покачивались на стройных стеблях нежно розовые, усеянные крошечными шоколадными крапинками, горделивые головки орхидей… — разве на этой благословенной земле может быть иначе? Единственной неприятностью была мошкара, плотным облаком облеплявшая меня всякий раз, как только я останавливала машину и делала небольшой привал… «Как только доберусь до фазенды, первым делом велю горничной приготовить ванну», — позёвывая от усталости, думала я и утешала себя тем, что ехать осталось совсем недолго… Вот и маленькая речушка, разделявшая наши с соседом владения. На берегу, шлёпая босыми ногами по гладким чёрным камням, крутились трое сорванцов лет пяти: заметив меня, они с криками бросились в апельсиновую рощу. Странно, обычно они, раскрыв рот, рассматривают мою машину, а самые смелые из них — бегут за ней до самой фазенды…
Увидев знакомые очертания холмов, я облегчённо вздохнула: всё, теперь до поместья — рукой подать. Обогнув их, я уверенно выехала на усыпанную гравием дорожку… и, опешив от представшей передо мной картины, едва не врезалась в сломанную, висящую на одной петле ограду.
От того, что некогда было моей фазендой, остался лишь фасад — высокая закопчённая стена, зияющая пустыми впадинами. Ни крыши, ни перегородок не было — всё обрушилось. Над развалинами царило угнетающее безмолвие.
…Пару минут провозившись с застёжкой ридикюля, которая упорно не желала подчиниться моим трясущимся пальцам, я извлекла прощальный подарочек Гуги и, озираясь, вышла из машины… Внутренний голос кричал, что нужно поскорее уезжать отсюда, но какая-то непостижимая сила неудержимо влекла к руинам.
…Обугленный ствол пальмы с поникшими, пожухлыми листьями… истоптанные лошадиными копытами газоны… истерзанные, вывороченные из земли кусты роз… разбитая мраморная статуя… И, наконец, пепелище — громадная адская воронка, превратившая прекрасный дом в груды золы и мусора… На грязных, покрытых сажевым налётом, ступенях чернело обгоревшее человеческое тело… Я заставила себя подойти ближе: среди вороха истлевших тряпок и запёкшейся плоти валялась горстка дешёвых медных побрякушек. «Чалис!» — невольно вскрикнула я, узнав браслеты своей служанки… Тошнотворно-сладковатый запах и назойливое жужжание мух заставили меня сделать ещё несколько шагов: за полуразрушенной колонной, широко раскинув руки, лежал ещё один мертвец — чернокожий садовник Дантре: какой-то мерзавец выстрелил ему прямо в лоб…
Вдали послышался конский топот: со склона холма галопом мчались всадники. Сквозь густую колеблющуюся тучу пыли я разглядела четыре силуэта.
Сломя голову, я кинулась к автомобилю. Выезжая на дорогу, едва не снесла металлическую ограду во второй раз. И погнала назад, в спасительную негу райских кущ, мимо которых полчаса назад проезжала, и которые притупили мою бдительность своим коварным идиллическим затишьем… На полпути меня пронзила леденящая душу догадка: припомнив напутственную тираду Отца Гуги, я поняла что лечу прямо в ловушку — на фазенду моего соседа Аугусто Ламберти, пострадавшего от рук мятежников!.. Развернув машину, я наугад помчалась по просёлочной дороге… Вспомнились увиденные на берегу мальчишки — вот кто рассказал о моём появлении в Сантос! Маленькие ублюдки!..
…Шум за спиной усиливался. Я отчётливо услышала выстрелы и возбуждённое гиканье наездников… Дорога заметно ухудшилась. Машина прыгала, петляя, по узкой тропе. Справа меня теснили деревья, слева — груды собранных плодов какао, рассечённых мачете на несколько частей и разложенных на банановых листьях для сушки… Впереди виднелась хозяйственные постройки, над которыми высилась громадная зелёная стена — сельва. Как только уткнусь в неё, дороги дальше не будет…
Остановив машину, я спряталась за одним из деревьев. Теперь осталось проверить, насколько хорош папаша браунинг в деле. Я не знала тех, в кого целюсь, да меня и не интересовало это: мой дом — сожгли, моих слуг — убили, меня — преследуют, — о чём тут ещё думать?
Тот, кто скакал впереди всех, погиб первым. Второго я смогла лишь ранить: вскрикнув и выпустив поводья, он успел ухватиться за гриву лошади, которая, взмыв на дыбы, рванула в сторону. Два других наездника, потоптавшись на месте, повернули назад. Я несколько раз выстрелила им в спину. Увидела, как один из них зашатался в седле и рухнул наземь, другой — ускакал.
Я подбежала к своей жертве. Захлёбываясь кровью, мужчина ещё дышал… Холщовые штаны, рубашка навыпуск, сбитые босые ноги… На груди, среди поседевших курчавых волос, — чёрный деревянный крестик на грязной тесьме.
— Сколько вас?.. Где вы прячетесь?.. Говори, негодяй!..
В ответ на мой вопрос, он, закатив глаза, испустил дух. Я чертыхнулась.
И снова топот лошадиных копыт!
Подняв голову, я увидела, что ко мне приближается целый отряд. Всадников было десятка два, не меньше… Сглотнув слюну, я мысленно прикинула, сколько же патронов у меня осталось… Есть ещё ружьё в машине, но до него я уже не доберусь…
— Не стрелять! — услышала я властный окрик. — Бросьте оружие, леди!
Непривычное обращение незнакомца резануло слух. Те, кто трудились на тамошних плантациях, никогда не называли женщин «леди», в том числе и своих хозяек; «нинья»[98] — вот словечко из лексикона здешних батраков. А слово «леди», скорее, могло прозвучать из уст какого-нибудь плантатора…
Всадник, приблизившийся первым, был мне незнаком. Но, судя по одежде, хотя и запылённой, но дорогой и элегантной, и манере держать себя, им мог быть какой-нибудь фазендейро. Его лицо выделялось тонкими аристократическими чертами и непривычной для здешних мест бледностью.
— С кем имею честь?.. — поинтересовался он, спрыгивая с лошади.
— Джованна Антонелли… а вы, простите?..
— Так это ваши земли?.. Рад знакомству, сеньора Антонелли, — он поцеловал мою руку. — Меня зовут Отавио Ламберти.
— Вы сын сеньора Аугусто?
— Да. Проклятые бунтовщики убили его.
— Сочувствую.
— Мерзавцы уже поплатились за своё злодеяние.
В его руке угрожающе извивался хлыст: он намотал его на кулак привычным жестом надсмотрщика. Его спутники, по всей видимости, были капатасами[99]. Они крутились вокруг нас на своих лошадях, поднимая пыль столбом: у одного из них была перебинтована голова, у другого — на грязной, пестревшей бурыми пятнами перевязи плетью висела рука. Все они были вооружены до зубов: за поясом поблёскивали рукоятки ножей и кольтов, каждый крепко сжимал винтовку. Среди этого сборища я заметила охранников со своей фазенды. Они держались от меня на расстоянии, словно их хозяином был Отавио Ламберти, а не я.
— Итак, господа, что здесь происходит?.. — потребовала ответа я.
Тут же со всех сторон на меня обрушился шквал возбуждённых, взволнованных восклицаний:
— Ворвались в контору и потребовали расчётные книжки…
— Есть там один смутьян… это он всех подбил…
— Им объяснили по-хорошему: получил задаток — будь любезен, верни или отработай…
— Они первыми начали пальбу…
— Засечь сволочей до смерти!..
Заметив среди толпы старшего капатаса Кассио Альвареса, рослого смуглого молодчика с уродливым шрамом через всё лицо, я обратилась непосредственно к нему:
— Я жду объяснений, Альварес!
Сплюнув сквозь зубы, Кассио вперил в меня угрюмые навыкате глаза:
— Эти скоты вздумали бунтовать… ну, мы их малость поприжали…
— Надеюсь, обошлось без жертв?
— Да, как сказать… — многозначительно протянул он.
— Собачьей крови не жалко, — презрительно процедил плантатор.
— Я не нуждаюсь в услугах суфлёра, господин Ламберти! — перебила я. — Продолжай, Кассио.
— А чего рассказывать?.. — отвернувшись, буркнул капатас. — Фазенду видели? То-то же!.. Чего вы ещё хотели услышать? — и вскочил на лошадь.
— Поджигателей нашли?
— А как же… вон висят…
Я невольно взглянула туда, куда он кивнул…
— Боже правый!.. — вырвалось у меня.
…Подойдя к кофейным складам, я зажмурилась: к воротам сарая за руки и за ноги был гвоздями прибит человек; судя по гримасе, застывшей на его лице, умер он в страшных мучениях… Со стороны амбара донеслось подозрительное лязганье железа. Устремившись туда, я увидела, как целая туча грифов взмыла в воздух; некоторые из них, угрожающе распластав крылья, закружили прямо над головой. Пришлось несколько раз выстрелить в воздух, чтобы разогнать стаю пернатых хищников… Обогнув амбар, я выскочила на небольшую утоптанную площадку: под навесом, сооружённом из расщеплённых пополам стволов юкки, пришедшие с плантаций на закате солнца батраки обычно принимали пищу… Там и сейчас стоял длинный стол, вот только скамьи были перевёрнуты и на земле валялись груды битых черепков… Дворик, служивший местом сбора работников, был пуст: ни играющих ребятишек, ни женщин с корзинами на головах, семенящих по хозяйственным делам, ни стремящейся проникнуть в каждую щёлку домашней живности… Зато на каждой кокосовой пальме, за которые в прежние времена пеоны привязывали лошадей, висело по мертвецу со связанными за спиной руками и кандалами на ногах: ветер, покачивающий ветви деревьев, теребил крупные стальные звенья цепей, как струны гитары, и исторгал из них гнетущий подавляющий звон.
— Кто распорядился их повесить? — обернулась я к подъехавшим всадникам.
Самодовольная ухмылка, скривившая презрительные толстые губы Кассио Альвареса, покоробила. Однако он ничего не ответил.
— Приказ казнить мятежников отдал я, — отчеканил сеньор Ламберти.
— Кто вам дал право командовать на моей земле?
Вскинув подбородок, он смерил меня высокомерным взглядом.
— Чтобы покарать виновных в смерти моего отца, мне не нужно ничьё согласие.
— С чего вы взяли, что мои работники причастны к его смерти?
Он ответил вопросом на вопрос:
— Зачем бы тогда они стали укрывать убийц?
Меня пронзила острая, как остриё булавки, мысль:
— Так, значит, это вы сожгли мой дом?
Я видела, как сеньор Ламберти и Кассио Альварес осторожно переглянулись, и ещё больше укрепилась в своих подозрениях.
— Нет, сеньора, вашу фазенду сожгли бунтовщики, — спокойно ответил Ламберти; и я почувствовала, что он лжёт.
— Пусть так… в таком случае, хочу задать пару вопросов моим охранникам: что вы предприняли для того, чтобы спасти мою собственность? — Мы нашли виновных, сеньора, — Альварес кивнул в сторону кокосовых виселиц.
— Виновные в данном случае вы, потому что не уследили! — заорала я. — Я плачу вам за то, чтобы вы охраняли мои земли и поместье, а не за то, чтобы изображали из себя карающее правосудие! Вы распяли на воротах этого черномазого — прелестно! — но кто мне теперь вернёт убытки? — я вскинула руку в сторону деревьев. — Эти, что ли?
— Во время восстаний убытки терпят все, — сказал Ламберти.
— Никаких восстаний на моей плантации быть не должно! — отрезала я, в упор глядя на него. — Любая забастовка, даже самая незначительная — это остановленное производство, и, как результат, — упущенная прибыль. Если мои работники недовольны оплатой своего труда, мы можем с ними обсудить это.
— И что же, вы поднимите им жалованье? — насмешливо произнёс сеньор Ламберти.
— Я сказала, что готова это обсудить, — уклончиво отвечала я. — Не вижу ничего предосудительного в том, чтобы дать людям возможность высказаться. Они должны почувствовать себя услышанными, и поверить в то, что мне как хозяйке плантации небезразличны их заботы — это снимет напряжение.
— Это отупевшее быдло, о котором вы, госпожа Антонелли, рассуждаете сейчас с таким пафосом, понимает только один язык — вот этот! — Отавио Ламберти потряс рукояткой хлыста. — На этом языке сначала с рабами, а потом с батраками говорили мой отец, дед и прадед! И другого в здешних краях не слышали!
— Если мы не хотим, чтобы наши дома горели, а наши близкие — гибли под копытами мулов, мы должны научиться другому языку, — я жестом подозвала старшего капатаса. — Вот что, Альварес, ты должен разыскать моих работников и привести сюда. Скажи, что я хочу говорить с ними.
— Невозможно, сеньора, — эти сволочи разбежались!.. прячутся где-то в сельве…
— Ну, так найди их!.. У всех этих работяг есть семьи, не думаю, что с женщинами и детьми они смогут долго продержаться в джунглях…
— Неподалёку отсюда мятежники разбили лагерь, — сказал Ламберти. — Пока я не могу выступить против них — у меня очень мало людей, потому мои охранники и объединились с вашими, но через пару дней сюда прибудет правительственный отряд, и тогда мы без труда покончим с ними.
— Вы знаете, где этот лагерь?
— Вниз по реке, в нескольких милях отсюда.
— Мы едем туда прямо сейчас.
— Туда без проводника не добраться! — предостерёг Кассио.
— Кажется, вы уже позабыли, что полчаса назад эти подонки едва вас не подстрелили, — напомнил Ламберти. — Таких шаек ещё много рыскает по округе…
— Хорошо, тогда найдите кого-нибудь из здешних жителей и просите передать от моего имени предводителям восстания, что я хочу поговорить с ними. Я уверена, местные знают, где прячутся мятежники. Я буду ночевать здесь, в посёлке, в одной из хижин. Скажите, что я жду их, пусть приходят.
Отавио Ламберти посмотрел на меня, как на безумную:
— Вы отдаёте отчёт своим действиям?
— Полный.
— Эта авантюра может стоить вам жизни.
— Я ничего не боюсь.
Это было неправдой — я боялась. Мне казалась невероятной встреча с глазу на глаз с озверевшей, вкусившей крови, толпой. С точки зрения личной безопасности благоразумнее было бы дождаться появления в Эспириту-Санту правительственных войск, но я не могла не осознавать при этом, что любая стычка моих работников с солдатами приведёт к смуте и беспорядкам. А, в конечном счёте, пострадает бизнес. Если же я хочу сохранить производство, нужно отважиться на переговоры с этими дикарями. А значит рискнуть… жизнью.
На мой приказ похоронить убитых, Альварес ответил грубостью: «Чтобы я марал руки об эту падаль!». Его поведение было настолько резким и вызывающим, что я даже опешила. Но вскоре замешательство сменилось сарказмом:
— Ты ничем не будешь от них отличаться, когда загнёшься от жёлтой лихорадки или малярии…
Я видела, как Кассио насмешливо оскалил зубы, но меня поддержал Ламберти:
— Она права, в такую жару их нельзя здесь оставлять.
С заметной неохотой Кассио подчинился.
…Когда мёртвых предали земле, я попросила сеньора Ламберти оставить меня одну в посёлке. Он смерил меня долгим пристальным взглядом:
— Надеюсь, вам не придётся сожалеть об этом, — проговорил он и, стегнув лошадь, умчался прочь; за ним последовали капатасы.
…Я пригнала машину к одной из хижин, которую облюбовала для ночлега. Это небольшая, сооружённая из бамбука, лачуга стояла в тени, среди деревьев, на отвесном берегу реки. Подойти к ней можно было только со стороны, ведущей на плантацию, дороги, которая полностью обозревалась из окна.
Мебель в этом незамысловатом жилище была чрезвычайно проста: обтянутые лошадиной шкурой козлы, служившие кроватью, столик, два табурета. На стене — уздечка из конского волоса и моток сыромятного ремня. Из утвари — выдолбленная из тыквы плошка, каменная зернотёрка, пустая бутыль в ивовой плетёнке… В углу валялось какое-то тряпьё: приглядевшись, я увидела женский полотняный платок, из-под него выглядывали сбитые носки деревянных башмаков… Очевидно, дом покидали в большой спешке, иначе б не забыли взять с собой одежду.
Вытащив наружу табурет и расположив его под кокосовым деревом, я достала из машины корзинку с провизией. Я была не слишком голодна, но перекусить на всякий случай не мешало — кто знает, когда снова выдастся такая возможность…
По бамбуковой изгороди чинно расхаживал амазон,[100] кося на меня блестящими чёрными глазами. Раскрошив сдобную булку, я бросила несколько кусочков на землю. Немного подумав, он подлетел ближе, осторожно попробовал предложенное ему угощенье.
…Странно ощущать себя здесь, среди всей этой беспросветной нищеты, но ещё более странным было осознание того, что когда-то и я жила в таком же убогом жилище. У меня сейчас тоже могли бы быть только две пары белья: одна — на себе, другая — на смену, латаная-перелатаная юбка, истрепавшаяся кофтёнка, да стоптанные таманки[101]. Я могла бы быть женой какого-нибудь измождённого, тщедушного работяги и матерью целого выводка голодных детишек, прижитых не только от законного мужа; работницам плантаций часто приходится уступать: управляющему, капатасам, хозяину… — в таком месте, как это, с нашей сестрой не особо церемонятся. Иногда, в надежде выпросить новый платок или серёжки, женщины провоцируют мужчин сами. Редко, правда, кому из них удаётся что-то выклянчить, но уж если такое случается, это становится настоящим событием: обновка выставляется напоказ, как боевой трофей, и становится предметом зависти и вожделения всех поселковых кумушек, а та, что «смогла развести мужика», вышагивает в ней перед своими соседками так важно, будто получила орден… Здешние края никогда не отличались особой суровостью нравов, поэтому корчить из себя недотрогу считалось очень невыигрышно. Пока есть возможность, ею надо пользоваться. На полях, под палящим солнцем молодость проходит очень быстро, красота — вянет ещё быстрее. Чуть перевалило за второй десяток, и мало кому захочется приласкать тебя… В свои тридцать с небольшим, живя здесь, я была бы уже старухой и все называли бы меня тёткой Джованной. К вечеру от усталости я еле бы волочила домой ноги, думая лишь о том, чем накормить вечно хнычущих от голода детей. И со страхом ожидала бы возвращения мужа, который, подобно многим пеонам, скорее всего, каждый вечер напивался бы кашасы[102] и поколачивал меня: измотанные надрывным каторжным трудом мужчины, обычно, грубы и жестоки…
Прельщённые лакомством, к лужайке, на которой я сидела, с трескучими криками начали слетаться и другие попугаи. Осмотрев содержимое своей корзинки, я поняла, что еды надолго не хватит. Сегодня ещё кое-как перебьюсь, но вот завтра… Отправляясь в Сантос, откуда мне было знать, что не будет ни крыши над головой, ни стряпни Чалис… Несчастная! Пострадала ни за что ни про что. В то, что с ней и с садовником расправился кто-то из моих работников, верилось с трудом: Чалис была доброй, приветливой девушкой, Дантре за всю жизнь и мухи не обидел — все в посёлке любили их… Кто же мог совершить это зверство?..
Откуда-то снизу до меня донеслось хриплое ржание. Я подошла к краю обрыва: из густых зарослей пырея к реке направлялось стадо мулов. Пастуха рядом с ними не было. «Те самые…», — вспомнив старого дона Аугусто, подумала я.
— Нинья… — раздалось за спиной.
Вздрогнув, я оглянулась. Передо мной стоял конюх Лукаш. Не помню другого случая, чтобы я так обрадовалась появлению своего работника.
— Слава богу, хоть кто-то живой!.. Куда все подевались, Лукаш?
— Прячутся, нинья… Я один здесь — надо было кому-то остаться приглядывать за вашими лошадями, своих-то мы увели…
— Спасибо, Лукаш, я ценю твою преданность.
— Капатасы убили восьмерых пеонов и сказали, что не успокоятся, пока не перевешают всех до одного.
— Из-за чего произошла распря?
— Собрали урожай… пришли за расчётом… А Кассио — мол, вам ничего не положено… Что же это, нинья Джованна, выходит работали, работали — и ничего не заработали?..
— Почему вы пошли к Кассио? Он не управляющий, а всего лишь старший охранник.
— Кассио сказал, что после смерти Фонтоуры новым управляющим будет он… Вы якобы так распорядились…
Это было правдой лишь отчасти: мой прежний управляющий умер около месяца назад. Назначить нового я не успела — недавние трагические события изрядно подкосили меня, и было не до фазенды… Признаться, я рассматривала кандидатуру Кассио: этот человек знал плантацию, как свои пять пальцев, да и работники беспрекословно его слушались. Смущало одно — жестокость Альвареса. Пеоны часто жаловались на него, да я и сама видела, что он чуть что, пускал кулаки в ход. Из-за этого мы с ним часто ругались. Я выступала противницей насилия, и дело здесь даже не в моём гуманизме: не было никакого смысла в физической расправе — на что нужен кнут надсмотрщика, когда его с лихвой заменяет штрафная книга?
— Сын мой Жозиас сказал — пока не заплатят, на работу не выходим, и кофе не отдадим… Пусть лежит себе на складе… Склад сами стали охранять… — продолжал Лукаш. — Кассио с капатасами сунулся — мы их отбили… Они к дону Ламберти за помощью побежали, объединились с ихними капатасами… Ну, и у фазенды мы с ними схлестнулись…
— Это правда, что вы прятали убийц дона Аугусто?
Лукаш опустил глаза.
— Они его не убивали… — сказал он тихо.
— Откуда ты знаешь? Почему ты защищаешь их?!
Из глаз старика покатились слёзы.
— В смерти дона Аугусто обвинили моих сыновей…
— Что за бред! Зачем им его убивать?! Они ведь на меня работали, а его и знать-то толком не знали…
— Всё так, нинья Джованна, всё так… Но Кассио сказал, что видел, как они это сделали… Клянусь Мадонной, это неправда! Не сойти мне с этого места, если совру хоть словом! Мои Жозиас и Карло не убийцы!..
— Когда твои сыновья повздорили с Альваресом из-за жалованья: до смерти дона Аугусто или после?
— Старый сеньор умер через два дня после того, как они сцепились с Кассио… Эх, и почему Жозиас не смог стерпеть, когда его ударили! Я же просил его — не связывайся с этим негодяем!.. Дрянь, а не человек! Зацепить его — себе дороже!.. Скольких он в тюрьме сгноил заживо! А если начать вспоминать, сколько людей на плантации бесследно пропало, вообще со счёта собьёшься!..
— Вы пробовали жаловаться прежнему хозяину фазенды, дону Амаро Меццоджорно?
— А что толку? Кассио был его цепным псом. Дон Амаро и слушать бы нас не стал. Да и какой сеньор станет слушать бедного менсу?.. Говорил я Жозиасу — не противоречь Кассио, боком вылезет! Но разве он послушает!.. Гордый слишком… Ему бы смолчать, поостеречься, а он на рожон полез… Кассио страшно озлобился, сказал, что заставит и его, и Карло кровью умыться… А потом умер старый сеньор и моих сыновей обвинили во всех смертных грехах, они, дескать, и бунтовщики, и убийцы…
— И поджигатели… — пристально глядя ему в глаза, добавила я.
Лукаш, побледнев, аж затрясся:
— Нет, нинья Джованна!.. Пречистой Девой клянусь, нет!..
— Кто же тогда поджёг мой дом?
— Не могу знать, нинья… не видел…
— Это сделали люди дона Отавио?
— Ничего не видел!.. Ничего не знаю!.. — махал руками конюх.
— Хорошо, Лукаш. Я тебе верю. А теперь скажи, как мне повидать моих работников? Знаю, они скрываются в сельве. Ты можешь привести их сюда? Я хочу с ними поговорить.
— Они не придут… Капатасы сказали, что убьют любого, кто сунется сюда…
— Хорошо, тогда сможешь отвести меня к ним?
— Могу, нинья Джованна… — помедлив, ответил он.
— Тогда запрягай лошадей, и поехали…
Он с сомнением оглядел мой наряд: лёгкую светлую куртку с капюшоном поверх брючного костюма, короткие сапожки из мягкой кожи, алый газовый шарфик на шее…
— Но это далеко отсюда…
— Ты напрасно считаешь меня неженкой, Лукаш. Я выросла в месте, подобном этому.
Лукаш лишь недоверчиво усмехнулся:
— Вы?..
…О том, что я переоценила свои силы, стало понятно уже через пару часов… Сначала, пока выбирались из посёлка, дорога была более или менее сносной, да и если бы что-то случилось, можно было просить помощи у местных жителей: мальчика-погонщика, ходившего с хворостиной за двумя волами, вращавшими огромный жёрнов, рыбаков, возившихся у реки с жагандой[103], женщин, набиравших у колодца воду… Но потом, когда люди перестали нам попадаться, дорога заметно ухудшилась: приходилось делать большие крюки, чтобы лошади могли пройти. Чувство лихорадочного возбуждения сменила усталость.
Когда мы вступили в лес, окружённый со всех сторон озёрами, я обмотала лицо шарфом, закрыв даже глаза: с противным монотонным жужжанием неотвязно лезла назойливая мошкара. Фламинго, балансируя на тонких ногах, встречали нас громкими криками и рукоплесканием сильных, похожих на шёлковые розовые паруса, крыльев. Яркими пёстрыми искорками в небе мелькали колибри. Из тины выныривали и с любопытством таращились на непрошеных гостей бородавчатые головы черепах. В водорослях длинными красными клювами копошились ибисы[104] — этим до нас не было никакого дела: они были заняты поиском моллюсков…
Лошади встали на водопой. Лукаш, опустошив свою фляжку, начерпал воды в озере и посоветовал мне сделать тоже самое. «Дальше пойдут болота, воды хорошей не будет», — проговорил он. Я с сомнением окинула взглядом водоём: дикие птицы, баламутившие ил, на другом берегу — столбиком замеревшая анаконда[105]… И это называется хорошей водой? «Нацедите через платок», — прочитав мои мысли, сказал Лукаш. «Мне хватит той, что есть», — ответила я. Пробормотав что-то невнятное, он покачал головой.
Внезапно зрачки его глаз резко расширились: он смотрел на меня с неподдельным ужасом и побелевшими губами лепетал: «Синяя Молния! Синяя Молния!».
Я инстинктивно дёрнулась, подумав, что мне на голову с лианы сползла ядовитая змея. Оказывается, нет — на плечо моё всего-навсего опустилась, поблёскивая перламутровыми крыльями, большая, размером с голубя, бабочка.
— Пресвятая Мадонна, Царица Небесная!.. За что ты прогневалась на раба своего?! — запричитал Лукаш.
— Да что случилось?! Можешь ты объяснить, наконец, или нет! — зашипела на него я.
Дрожащими руками он указал на бабочку: она продолжала невинно нежиться на моём плече, расправив бархатные, по краям похожие на засохшие листья, крылышки с радужными глазками.
— Ну и что?.. Это всего лишь бабочка! — пожала плечами я.
— О, нинья Джованна, это не просто бабочка… Это морфида[106]!.. Индейцы сказывают, после смерти в неё вселяется душа человека…
— Молишься Мадонне, а болтаешь такие глупости! — нахмурилась я.
— Индейцы говорят, кто увидит её до захода солнца — того постигнет страшное несчастье…
— Мало ли что болтают индейцы, — отрезала я. — Чушь это всё!
Индейские духи меня не страшили — в их могущественную силу я не особо верила. Но вот с живыми представителями ботокудо[107] встречаться не хотелось: стремительные, как ветер, коварные, как тайры[108], они нападали внезапно и поражали смертоносными стрелами. Даже вооружённые до зубов капатасы не рисковали поодиночке соваться в сельву. Чтобы справиться с индейцами, мало иметь в руках двустволку, нужны ещё глаза на затылке: по быстроте реакции и меткости эти жёлтые черти давали нам фору десять очков вперёд… Помнится, пару лет назад в Эспириту-Санту объявился один миссионер из Европы. На потеху всем окрестным плантаторам он с фанатичным жаром проповедовал, что голые дикари с огромными деревянными пробками в нижней губе и мочках ушей, такие же люди, как и мы. Их ритуальные пляски с бамбуковыми флейтами его умиляли. А когда, при виде его, «дети природы» чмокали ртами и поглаживали себя по животам, и вовсе пришёл в неописуемый восторг… Кончилось всё это очень плохо: однажды рыбаки нашли на берегу реки возле потухшего костра череп и молитвенник…
К ужасу суеверного Лукаша я смахнула с плеча злосчастную морфиду. Моего конюха, казалось, вот-вот удар хватит.
— Что вы натворили, нинья?! — завопил он.
— Отогнала эту тварь, только и всего, — невозмутимо отвечала я. — Терпеть не могу, когда по мне ползает насекомое!
— Вы накликали на себя большую беду!
— Перестань пороть вздор! Какой-то тёмный, невежественный народец выдумал ахинею, а ты, дурак, взял и поверил!
Бабочка, между тем, кружила прямо надо мной. Она порхала так близко, что было видно её толстое, покрытое редкими волосками, брюшко, короткие чёрные лапки, тонкие усики. Неожиданно она завалилась на бок и рухнула мне на голову. Я попыталась стряхнуть её, но она удержалась: уцепившись за косынку, стала карабкаться по лицу. На какое-то мгновение я почувствовала на своих губах еле ощутимое прикосновение: оно было настолько отвратительным, что хотелось плеваться и прихлопнуть на месте крылатую зануду. Но мотылёк улетел сам: я и опомниться не успела, как он взмыл ввысь и растворился в сияющей бездне.
— Синяя Молния поцеловала вас… — ошарашено вымолвил Лукаш.
— Что это значит?
— Она выпила вашу душу.
В его глазах явственно читался страх. Очевидно, этот болван воспринимал всерьёз бредни туземцев…
— Значит, по-твоему, сейчас ты видишь перед собой живого мертвеца… — усмехнулась я. — Пустоту… жмых… Так, по-твоему, да?!.
Бормоча молитвы, конюх лихорадочно крестился.
— Не думала, что мужчина может верить в такие сказки… Да, видать, ум-то у тебя бабий!..
Кажется, моё презрительное восклицание заставило его одуматься. Мы двинулись в путь дальше.
…Кривые, скособоченные, опутанные удушающими петлями лиан, деревья выставили нам навстречу целый легион мохнатых пауков и ржавых саламандр: в полной тишине эти маленькие вражеские солдаты спускались по длинным скрюченным стволам, заключённым в пожизненные объятия друг с другом, и, крадучись, пробирались к нам. Лошади наши, утопая в листьях папоротника, похожих на гигантские изумрудные веера, то и дело фыркали: видимо, чуяли затаившихся неподалёку змей… До чего же тяжело продираться сквозь этот зелёный ад! Но начнись сейчас тропический ливень, деревья погрузились бы в воду по самую крону, и тогда бы мы вовсе не смогли тут пройти. Как напоминание о сезоне дождей — пустые панцири больших, величиной с кулак, улиток, с негромким шуршанием трескающиеся под копытами наших коней.
Подпиравшие плотный малахитовый свод, сквозь который едва просачивалось резкими бликами солнце, громадные коричневые столбы расходились книзу неровными, ребристыми корнями, покрытыми зеленью. Здесь было полно всякой живности: хриплые голоса птиц, перемежаясь с беспокойным рёвом обезьян, образовывали нестройный, диссонирующий оркестр. А потом массивные кряжистые великаны сменились тонкими чёрными обрубками, облепленными влажными гирляндами грибов, и в лесу, распаренном томительным тропическим зноем, воцарилась мёртвая тишина… Вытирая вспотевший лоб, я с беспокойством покосилась на Лукаша: «Ты уверен, что мы не заблудились?». «Не беспокойтесь, нинья Джованна, — невозмутимо отозвался он, — к вечеру будем на месте»…
…Когда зелёный шатёр над головой начал темнеть, и серебряным фонарём вознеслась в небо луна, мой провожатый объявил, что теперь осталось недолго. Я мысленно воздала хвалу Мадонне. Сил на более продолжительное путешествие не было. А безмятежно дремлющие, обняв четырьмя лапами ветви, ленивцы[109] и вовсе вгоняли в сон: их косматые пепельные тельца, точно большие мягкие подушки, так и манили приклонить голову…
Убаюканная долгим походом, я едва не рухнула с лошади, когда она вдруг резко встала на дыбы. Короткое угрожающее рычание и сдавленный, плачущий вопль, раздавшиеся где-то рядом, напугали наших коней и взбудоражили лесных обитателей: заголосили проснувшиеся обезьяны, заухал филин, застонали ленивцы… «Ягуар!» — отрывисто бросил Лукаш, вскидывая наперевес двустволку. Я последовала его примеру… И тут сквозь темноту мне удалось разглядеть колеблющееся факельное сияние…
…Воспоминание о том вечере у меня осталось смутное, подслеповатое, будто обнаруженная поутру посреди грязного, неприбранного стола пустая захватанная бутылка: силишься вспомнить и повод, и компанию, а видишь лишь сальные отпечатки пальцев на зелёном стекле…
…Костёр. В котелке, подвешенном к треножнику — похлёбка из черепашатины. Уставшие люди, молча сидящие кружком у огня на жёстких, свежесрубленных ветках, и черпающие из котла большими ложками. Одни ели жадно, захлёбываясь, другие — задумчиво уставясь в одну точку, не спеша щипали чёрствые кукурузные лепёшки и нехотя забрасывали кусочки в рот: челюсти их двигались тяжело, медленно, — видно было, что поглощаемая пища не приносит едокам ни удовольствия, ни насыщения…
…Безучастные, отрешённые лица… худые, острые скулы, обтянутые восковой кожей… ладанки на морщинистых шеях… заскорузлые пальцы, исступлённо перебирающие замусоленные чётки из красного сандала[110]… огромные ручища с грязными ногтями, скребущие нечесаные бороды… блестящие кресты кинжалов за поясом… жёлтые зубы, впившиеся в чёрствые корки… негромкий разноязычный говор… надрывный кашель…
…Плантаторы и капатасы окрестили этих людей бунтовщиками. У меня же язык не повернётся так их назвать. Бунт — это стальная воля и сжатый кулак. Кипящая магма, вспарывающая брюхо земной коры раскалённым ножом. Огненная река, сжигающая всё на своём пути. Горячий пепел и обожжённые, растрескавшиеся камни. Густой погребальный мрак… Но такой взрыв требует огромного запаса ненависти. А у этих людей не осталось ничего, кроме унылого безразличия. Нищета соскоблила с них злость, точно чешую с рыбы. И вот они, выпотрошенные, судорожно хватающие воздух обескровленными губами, лежат на разделочной доске и терпеливо ждут смерти.
…Они и на жизнь-то жаловались как-то нехотя, лениво нанизывая скупые слова на вертел вялого, вымученного разговора. Оно и неудивительно: если каждый день получать оплеухи, привкус крови во рту становится привычным…
…Помню охватившее меня чувство брезгливости, когда я приняла из рук старого парагвайца Лино, кочевавший до этого по кругу, калабас[111] с мате. Долго вертела пузатый сосуд с душистым горячим отваром, не решаясь попробовать. Старик с улыбкой, обнажившей редкие гнилые зубы, пояснил, что настой пятой заварки — самый вкусный. Это я и без него знала: свежезаваренный мате — горек, его практически никогда не предлагают женщине, а вот разбавленный — в самый раз. Но прикасаться к бомбилье,[112] которую до меня обслюнявило полдюжины человек, не было никакого желания. Менсу напряжённо следили за моей реакцией: по здешним обычаям отказавшийся от напитка гость наносил хозяевам страшное оскорбление. Это было равносильно тому, что втоптать каблуком в грязь дружески протянутую трубку мира. С трудом подавив отвращение, я сделала затяжку. Услышав громкое всхлипывающее бульканье, батраки удовлетворённо закивали. Я облегчённо вздохнула: контакт установлен, самое сложное позади… Теперь нужно, чтобы мне поверили. А для этого надо показать, что я с ними заодно. Хотя бы на время. Хотя бы притвориться… И я притворилась.
«Вы думаете, я хочу, чтобы вы прозябали? Чтобы ваши жёны ходили в лохмотьях, а у детей сводило животы от голода? Нет! Мне это не нужно! Я буду рада, если у вас появится всё, что есть у меня…» — произносить эти слова было несложно: я ничем не рисковала, предлагая этим беднягам на мгновение поставить себя на моё место. Если попытаться увидеть себя их глазами, картинка, безусловно, выйдет заманчивой, но неполной. Со дна рытвины, куда их с рождения поселила жизнь, им никогда не разглядеть, чем в действительности обладала стоящая перед ними сытая, холёная и хорошо одетая сеньора. Они лицезрели тряпки, добротную обувь и золотые украшения, огромный дом с прислугой и дорогую машину — то, что можно без сожаления отшвырнуть в сторону. Но не видели подлинного богатства — власти, которой у них не будет никогда.
Ламберти заблуждался, считая её символами револьвер и кнут. Столь грубо и неотёсанно ещё можно было действовать четверть века назад. Но теперь времена изменились. На всякую силу найдётся другая сила. Когда эти измученные, затравленные люди покорно опускают глаза и втягивают головы в сутулые плечи, не нужно обольщаться, что тебя боятся — сыщется какой-нибудь Престес, который взбаламутит скопившуюся за долгие годы в их душах желчь, — и тогда они вернутся с мачете в руках, и вонзят его тебе в спину. Чтобы этого не случилось, нужно заставить их поверить в то, что ты от всего сердца желаешь им добра. Когда человек доверяет тебе — можно брать его голыми руками.
Эти бедняги слишком очерствели, чтобы верить на слово людям. Но они верили в сказки. Так уж устроен мир — безысходность всегда взывает к чуду… В своё время так же слепо и наивно грезила золотым городом моя мать.
«Мы заживём так, как тебе и не снилось…» — говорила она. Не о том ли самом мечтают и все бедняки? У каждого из них в душе — свой золотой город. Мне же оставалось убедить их, что ключи от его ворот — у меня.
«Я хочу, чтобы вы жили достойно»…
Сперва в глазах, вперившихся в меня со всех сторон, сквозило недоверие. Но постепенно в них зародился интерес…
«Каждая семья должна иметь крышу над головой»…
К костру подошли женщины — робкие, испуганные, они напоминали тощих встрёпанных кур, всю жизнь обитавших на задворках и снующих туда-сюда между колесами телеги и ногами хозяина: присев за спинами мужчин, они внимательно стали прислушиваться к моим словам.
«Давайте подумаем о будущем ваших детей вместе»…
Плачущие, голодные ребятишки крутились тут же: такие же тщедушные и хилые, как и их матери. Я пообещала накормить их досыта, как только мы вернёмся на фазенду.
Лгать легко. Особенно, когда веришь в то, что говоришь. А я искренне верила, что судьба этих забитых, загнанных в угол людей мне небезразлична. Ещё бы — ведь от них зависел мой бизнес.
Когда же эти бедолаги поверили мне, я с лёгкостью накинула на их шеи ярмо. «Кредит на неотложные нужды» — так оно называлось.
…Знакомые банкиры, узнав о ссудах, которые я выдала своим работникам, объявили меня сумасшедшей. «Дать кредит голодранцам, у которых нет ни гроша за душой, — это верный путь к разорению!» — кричали они со всех сторон. Но я не стала внимать этим воплям. И не прогадала.
Больше на моей плантации никогда не было недовольных. Люди получили всё, что хотели. Взаймы.
И потеряли свободу.
Поначалу они даже не поняли, что произошло. Они приняли меня за эдакую добрую волшебницу, превращающую воду в молоко: желаете новые бомбачи[113] — пожалуйста, мясо вместо разваренных бобов на обед — запросто, а, может, патефон с пластинками — нет ничего проще!.. Ну, а кому же не хочется вместо жалкой лачуги, больше похожей на собачью конуру, — просторный дом? Конечно, чтобы построить такое жилище, нужны немалые деньги. А где их взять? Копи хоть всю жизнь — не накопишь. А детей растить надо… Вот если ссуду получить в банке, тогда ещё как-то можно выкрутиться…
Так, постепенно я приучила своих батраков к мысли, что хорошая жизнь без долгов невозможна. Когда же они в это уверовали, то точно с цепи сорвались: каждой поселковой моднице непременно захотелось иметь кружевную мантилью вместо холщового платка, их мужьям — бриаровый чубук, хотя раньше они вполне обходились трубками, выдолбленными из кукурузных початков. Дальше — больше…
…«Купим шёлковые платья: тебе алое, а мне — голубое…»…
Удивительно, до чего же быстро люди становятся зависимыми от всех этих, в сущности, бесполезных вещиц!..
Их долги росли, как на дрожжах, а они продолжали брать на всё новые и новые кредиты на «неотложные нужды», не понимая, что когда-нибудь их придётся отдавать, да ещё и с процентами. Когда же люди поняли, что увязли в займах по самые уши, было уже поздно. Отныне их уделом стало лишь одно — работать, работать и ещё раз работать, чтобы расплатиться с долгами… Если же случалось, что горемыка-заёмщик, тянувший всю жизнь лямку, «умирал досрочно», долг переходил его детям, потом — внукам… Так я реставрировала в Сантос новую форму пожизненного рабства. Её уникальность заключалась в том, что она ревностно защищалась законом, и не было в целом свете ни одного аболициониста, кому бы пришло в голову объявить её несправедливой: напротив, в глазах общественности она выглядела неким актом взаимопомощи имущего класса неимущему.
…Впоследствии, вербуя новых потенциальных должников, я стала выступать уже исключительно от имени банка, и мои лозунги сразу же точно обвалялись в золотой пыли:
«Вы должны жить достойно. Банк „Антонелли“»…
«Каждая семья должна иметь крышу над головой. Банк „Антонелли“ сделает вашу мечту реальностью»…
«Банк „Антонелли“ подумает о будущем ваших детей»…
Всё гениальное — просто.
Но я бы слукавила, если б взялась утверждать, что кредитная акция прошла без сучка, без задоринки: если с батраками довольно быстро удалось найти общий язык, то отношения с окрестными плантаторами обострились до предела. Прежде всего, с Отавио Ламберти — главным противником моей кампании.
За глаза он называл меня не иначе, как «чёртова либералка». Этому фазендейро было невдомёк, зачем разводить церемонии с безземельными крестьянами, когда их и так можно заставить работать на фазенде даром: достаточно приставить к ним вооружённых охранников, которые предотвратят всякое недовольство и попытки к бегству…
Он настроил против меня большинство кофейных баронов, которые так же, как и он, не понимали, для чего мне понадобилось улещать голытьбу пряником, когда дешевле и надёжнее использовать кнут… Когда я слышала за своей спиной подобные разговоры, мне становилось смешно. Я никого не собиралась кормить пряниками: как владелица банка я просто достала из сейфа нужное количество купюр, за которые люди были готовы умирать… Да и зачем понапрасну ожесточать наёмных рабочих? Не проще ли создать такие условия, что им и в голову не придёт роптать.
Первое, что я сделала — это выдала каждому желающему кредит на строительство дома; и отныне он работал уже не на меня, а на осуществление своей мечты. Второе — ввела подати на землю, и все выданные мною займы вернулись тотчас же.
Не знаю, кто первый из смертных придумал налоги, скажу одно — это был гениальный человек. Присвоить себе право на то, что не принадлежит никому, или, вернее, является общим достоянием — это самая большая афера в истории человечества. И это даже не мошенничество. Это ограбление. Зачем стегать кого-то нагайкой, когда нужно лишь обложить непомерной данью буквально всё, на что падает хозяйский глаз — от рабочих инструментов до питьевой воды — и тогда не ты, а тебе будут вечно должны эти нищие, работающие на износ люди…
Если бы кому-то из батраков взбрело в голову упрекнуть меня в том, что я бессовестно наживаюсь на его брате, я бы наглухо закрыла такому наглецу рот. Кто, как не я, восстановил на фазенде мир и порядок! Только благодаря мне стычки с капатасами не превратились в кровавую бойню. А ведь всё могло закончиться иначе.
…Когда я вернулась вместе со своими работниками домой, обнаружилось, что все земли Сантос оккупированы полицейскими. Среди непрошеных гостей, в сопровождении свиты капатасов, невозмутимо разъезжал на своём скакуне и Отавио Ламберти.
Мне как хозяйке плантации было объявлено, что на территории поместья укрываются государственные преступники. И тут же поступило безапелляционное требование — немедленно выдать их властям.
Солдафону в офицерских погонах, размахивающему пистолетом перед моим носом, я сдержанно ответила, что никого не прячу. Он недоверчиво хмыкнул. Я почувствовала себя задетой за живое: ещё совсем недавно сомневаться в правдивости слов белой сеньоры было непринято. Словно прочитав мои мысли, полицейский снизошёл до ноток извинения в голосе: «В стране введён чрезвычайный режим, госпожа Антонелли… Всё из-за проклятых левых!»… Если бы Ламберти не переманил капатасов на свою сторону, что, фактически, оставило мои владения без вооружённой охраны, я бы просто попросила этого молодчика убраться, а так ничего не оставалось, как самой предложить ему обыскать фазенду. При этом, правда, я выдвинула непререкаемое условие — подёнщики, которых я привела с собой из сельвы, не должны подвергнуться аресту. «Готова засвидетельствовать под любой присягой, что лично ручаюсь за каждого из них, — заявила я. — Среди этих людей нет преступников, слово сеньоры!». «Если я правильно вас понял, госпожа Антонелли, за тех менсу, которые были не с вами, вы поручиться не можете?» — многозначительно произнёс офицер. Я задумалась: прятаться на фазенде могли лишь те, кто стрелял в меня, а если так, то этих головорезов сам бог велел пустить в расход. И потому утвердительно кивнула: «Совершенно верно»… И всё-таки я просчиталась.
Увидев, кого схватили солдаты, я поняла, что совершила непоправимую ошибку: это были совсем не те, кто пытался меня убить.
Пришлось выдержать поистине душераздирающую сцену, когда арестовывали сыновей Лукаша. На них, как на главных подозреваемых в смерти старого сеньора Ламберти и зачинщиков всех произошедших на территории Сантос беспорядков указал Кассио Альварес… До сих пор в ушах стоят вопли, которыми разразилась подружка одного из парней: «Не трогайте его, негодяи!.. Куда вы его тащите?.. Клянусь Мадонной, он ни в чём не виноват!.. Жозиас, любовь моя! Что они хотят с тобой сделать?!.».
…Братьев нашли в сарае. Старший был ранен. «Вот почему, когда все сбежали в сельву, конюх оставался в посёлке», — мелькнуло в голове.
Молодым людям скрутили руки длинными верёвками, концы которых привязали к сёдлам. Когда наездники, стегнув лошадей, тронулись в путь, несчастные были вынуждены, сбивая ноги, бежать за ними вприпрыжку.
Старик и девушка со стенаниями кинулись к начальнику полицейского отряда. Я бы очень удивилась, если бы он внял их мольбам. Но, как и следовало ожидать, офицер лишь с досадой отмахнулся от просителей… И тогда они бросились ко мне. «Что же это делается, сеньора?! Честных людей без суда и следствия уводят среди бела дня! Да что же это за порядки такие?!» — кричала женщина. «Заступитесь за моих бедных мальчиков, нинья Джованна!.. Мои Жозиас и Карло — ну какие они преступники!.. Что же теперь с ними будет?..» — всхлипывал Лукаш. Не в силах выдержать его умоляющего взгляда, я отвела глаза… Они, обнявшись, ещё долго причитали на дороге, глядя вслед уходящему конвою, — обезумевший от горя старик-отец и брошенная невеста.
Ламберти крутился тут же. От меня не укрылся торжествующий взгляд, который он бросил на плачущую женщину… Такой страсти в глазах мужчины я не видела уже очень давно! Похоже, этот взгляд заметила и она. Слёзы тотчас высохли в её глазах.
— Всё ты, мерзкий выползень! Сын ослицы и павиана, всё ты! — завопила женщина. — Чтоб на тебя напала проказа! Чтоб тебя скрутила болотная чума! Пусть вороны выклюют твои глаза, а муравьи сожрут твою печень! Пусть твои сыновья сдохнут на паперти, а дочери — на панели! Чтоб ты жил хуже шелудивой собаки! Чтоб твоим домом была куча навоза, подлый ты, бесчестный человек!.. Я с тобой ещё поквитаюсь! Я ещё выцарапаю твои бесстыжие глаза!..
На все эти оскорбления и проклятия Отавио Ламберти ответил кривой усмешкой. Не похоже, чтобы он разозлился. Зато Кассио взбешён был не на шутку. Подскочив к женщине, он замахнулся на неё рукоятью хлыста:
— Поговори у меня, тварь!.. Я тебе все зубы выбью!
— Оставь её! — коротко приказал сеньор Ламберти.
Видя, как дрожит плеть в стиснутом кулаке Альвареса, как выступают капли пота на его побелевшем лице, я с ужасом ожидала удара. Но безрассудная девица и не подумала угомониться.
— Ну, давай, давай, скотина! Ударь меня! — закричала она. — Покажи, какой ты сильный!
— Не нарывайся! Пожалеешь… — процедил Альварес.
— Я сказал, оставь её! — рявкнул сеньор Ламберти.
Альварес, скрипя зубами, подчинился. Девушка, вскинув голову, победоносно улыбнулась. А я бы на её месте, видя такую лютую ненависть в глазах капатаса, поостереглась: непобеждённый, но униженный враг — самый опасный.
Потоптавшись возле нас ещё минуты две, Ламберти с капатасами умчались прочь.
— Кто эта девушка? — спросила я у Лукаша. — Никогда не видела её раньше…
— Бьянка, — ответил конюх. — Она работала раньше на фазенде покойного дона Аугусто, а потом Жозиас забрал её оттуда и она стала жить с нами… Бедные мои Жозиас и Карло! Теперь их наверняка повесят… Я же говорил, нинья Джованна: увидеть синюю молнию — к большому несчастью!..
…Бьянка Маседо. То, что мне удалось разузнать о ней, попахивало уличным балаганом на венецианской площади…
Никто не знал, откуда она родом. Историю своей жизни эта девица рассказывала всякий раз на новый лад: одним говорила, что в Бразилию приехала вместе с родителями из Сицилии, но потом они умерли и оставили её, одинокую, несчастную, без сентаво за душой; другим — что её похитили из отчего дома бандиты и продали в наложницы важному господину, то ли какому-то торговцу, то ли судье; третьим — что она дочь вождя индейского племени… То, что легенды были одна нелепей другой, девушку не смущало: она даже не пыталась, чтобы в глазах слушателей они выглядели правдоподобными — будто сказки на ночь малым детям рассказывала.
…Она отличалась от других подёнщиц, привыкших опускать глаза, едва услышав грубый окрик. Своенравная и непокорная, точно дикая кошка, она была из тех женщин, от которых мужчины сходу теряли голову. В округе её прозвали «дьявольским наваждением». Слава о её красоте гремела по всему Эспириту-Санту.
Не устоял перед её чарами и покойный Аугусто Ламберти. Не знаю, чем привлёк строптивую красавицу сын моего конюха, после ареста которого она ходила чернее тучи — кроме рваной рубахи и залатанных штанов у парня не было ничего, но будь её воля, она без труда могла бы стать сеньорой.
Рассказывали, что старый дон Аугусто, объезжая окрестности, впервые увидел её у ручья, когда она стирала, стоя на широком плоском камне. Негромко напевая, молодая женщина полоскала бельё и не замечала, как из-за деревьев на её крепкую, налитую грудь, выпиравшую из глубокого выреза холщовой рубахи, пялится незнакомец. Уронив какую-то тряпку, женщина подобрала юбку, засунув край подола за кушак и обнажив до бёдер стройные ноги, и медленно побрела по воде босыми ногами, пока не отыскала запутавшуюся меж камешков вещицу, подняв её, неспешно и тщательно отжала. И тут её глаза встретились с глазами дона Аугусто. «Эй, ты! — крикнул сеньор Ламберти. — Получишь три рейса, если разденешься». Но Бьянка лишь презрительно расхохоталась: «Ишь, пёс старый, чего захотел!».
…С этого дня сеньор Ламберти полюбил ежедневные верховые прогулки. Он разузнал, в какие часы девушка с корзиной белья приходит к ручью, и аккуратно в это же самое время стал её там поджидать. Бьянка с привычной ей дерзостью зубоскалила с богатым кабальеро[114], а когда щедрая рука поклонника обрушила на её голову золотой дождь, без стеснения принимала подарки, не забывая оповестить об этом весь посёлок. «Купить пытается, старый хрыч… А я беру… Что я, дура, чтобы отказываться?.. У него деньжищ столько, что на дюжину таких как я хватит, и ещё останется… — разглагольствовала она, демонстрируя соседкам то новое платье, то серьги. — Только вот зря облизывается, ничего у него со мной не выгорит… На кой он мне сдался, образина?».
Насчёт «ничего не выгорит», Бьянка, скорее всего, лукавила. Когда девушке предложили на плантации сеньора Ламберти работу горничной, только ленивый не посудачил об этом. «Можно подумать, её туда взяли за красивые глаза…» — язвили местные сплетницы. Но, как говорится, свечку никто не держал, и, возможно, ходившие толки, это всего лишь наговоры злых и завистливых людей…
…А потом Бьянка с как-то оголтелой отчаянностью влюбилась в сына Лукаша и незамедлительно ушла с фазенды дона Аугусто. В этом спонтанном, скоропалительном решении была вся Бьянка Маседо: явилась — когда вздумалось, ушла — когда надоело… Рассказывали, старый Ламберти и кричал, и ногами топал, и застрелить неблагодарную пассию грозился. Но гнев отвергнутого поклонника только веселил девушку. Когда же дон Аугусто, в припадке стариковской вспыльчивости, потребовал назад все свои презенты, Бьянка сгребла в кучу подаренные ей побрякушки и швырнула хозяину в лицо. А потом ещё, порывисто стянув через голову платье, запустила им в старика… То как она в одном исподнем промаршировала через всю плантацию Ламберти, видела не только многочисленная прислуга, но и сын дона Августо, Отавио, приехавший навестить отца из Рио. Стоит ли говорить, что число воздыхателей Бьянки в почтенном семействе тут же прибавилось?.. С тем же пылом, с каким в своё время дон Аугусто полюбил ежедневные прогулки верхом, его сын вдруг всем сердцем прикипел к кофейному бизнесу. Если раньше молодой аристократ больше, чем на пару дней никогда не задерживался в имении, то после того, как увидел Бьянку, загостился на целый месяц, и, главное, с небывалым доселе рвением начал интересоваться производством: выезжать на поля, осматривать склады, наблюдать за работой подёнщиков… Ах, Бьянка, Бьянка… она определённо могла стать сеньорой… Но эта странная особа отличалась поразительной непрактичностью.
…«Жозиас, любовь моя!»…
…Поговаривали, что в моё отсутствие господа с соседней фазенды под предлогом визита вежливости специально наведывались на мою плантацию, чтобы поглазеть на своего счастливого соперника… А потом произошли все эти трагические события: бунт, пожар и смерть дона Аугусто. Один только бог знает, какая кровавая драма разыгралась в этих краях!.. У меня не было никакого желания разматывать весь этот дьявольский клубок страстей, но, когда я, приехав в Сантос, уткнулась носом прямиком в пепелище, меня точно за руку схватили и, не спросив согласия, затянули в чужую историю.
История продолжилась сразу же после ареста бунтовщиков, когда Бьянке вздумалось отправиться в Рио-де-Жанейро, куда солдаты увезли её возлюбленного, правду искать. Без ложной скромности эта девица заявилась ко мне и попросила денег на дорогу. Её наивность меня позабавила.
— Ну, допустим, я дам тебе денег и даже не буду просить вернуть их назад, но что выйдет из твоей затеи? Ты не спасёшь Жозиаса одним только своим присутствием. Ему нужен адвокат. Очень хороший адвокат, Бьянка! А нанять его ты не сможешь, тебе это не по карману.
Она нахмурилась:
— И что же мне тогда делать, сеньора?
— Забыть этого юношу.
— Ну, уж нет! — она даже покраснела от злости. — Я никогда не забуду Жозиаса!
Прячась от солнца, мы стояли напротив друг друга под тенью гигантского фикуса. В пронзительных глазах Бьянки пенилось гневное штормовое море. Она смотрела на меня так, будто именно я была виновата во всех её бедах.
Её красота была слишком броской и подавляющей. В своей короткой облегающей тунике, подчёркивающей каждый изгиб тела, с распущенными по плечам волосами она напоминала величественную античную статую.
— На плантации много других мужчин. Ты красива. Можешь выбрать любого.
— Кроме Жозиаса, мне никто не нужен!
— Это ребячество.
— Вы так говорите, сеньора, потому что никогда никого не любили.
— Ты ошибаешься, Бьянка… впрочем, я не хочу это обсуждать.
В это время ко мне подошёл один из менсу и сказал, что в Сантос прибыли рабочие, которых я наняла для строительства нового дома. Я тут же дала понять девушке, что разговор окончен. Но не так-то просто было отмахнуться от неё.
— А много берёт за свою работу хороший адвокат?
— У тебя, моя милая, таких денег точно нет! И некогда не будет. И думать об этом забудь. Адвокаты не защищают бедных… Хотя… ты хорошенькая… возможно, тебе и удастся столковаться с ним по-свойски…
Возмущению женщины не было предела:
— Я не шлюха!.. Как только вам не совестно мне такое предлагать!.. Я не из таких, сеньора, понятно вам?! Не из таких!
С каждой минутой я чувствовала себя всё более озадаченной: несмотря на молодость, она производила впечатление весьма искушённой особы, да и ходившие про неё в посёлке слухи создавали ей определённую репутацию, и вдруг — прямо-таки княжеское чувство собственного достоинства. Что это: виртуозная игра на публику или эта девушка, действительно, была «не из таких»?
— Но ведь ты готова на всё, чтобы освободить из тюрьмы своего любимого?
— Я даже жизнью своей ради этого готова пожертвовать!
«Точно сицилийка!» — подумала я.
— Жертвовать жизнью не придётся. И в Рио ехать не надо. Отправляйся прямиком к сеньору Ламберти — это он упрятал за решётку Жозиаса — и проси о милости. Если он скажет в полиции, что не имеет претензий к твоему парню, его отпустят.
Бьянка взглянула на меня, как на умалишённую.
— Мне просить этого мерзавца?! Ни за что! Я скорее умру!
— Не кричи так, я оглохну… Тогда я, правда, не знаю, чем тебе помочь. Денег у тебя нет, на компромиссы ты идти не хочешь… А известно ли тебе, что твоего мальчишку могут повесить? Вооружённый мятеж, убийство белого господина… Ты думаешь, за это его по головке погладят?
— Жозиас никого не убивал! Старикашка сам полез в загон к мулам и там окочурился… Он был в стельку пьян…
— Ты уверена, что всё так и было?
— Конечно, уверена. Я всё это видела… В этот день я была фазенде дона Аугусто. Пришла, чтобы забрать расчёт — когда я уходила от него, он не дал мне ни сентаво… Все его подачки я вернула, бросила их в его противную рожу — пусть подавится! А вот жалованье он мне обязан выдать. Я весь год на него работала, он должен был мне заплатить!
— И что же, заплатил?
— Нет, сказал, хочешь денег — возвращайся…
— А ты?
— А я отказалась.
— Глупо, Бьянка. Старик был очень богатым. Как куклу бы тебя в парчу и бриллианты вырядил. Имела бы большой, красивый дом, слуг, устраивала бы приёмы… Ну, а своего Жозиаса, если уж он так тебе нравится, взяла бы в любовники.
— Чтобы я жила с этим гадким старикашкой?! — она расхохоталась. — Придёт же вам такое в голову, сеньора!
— А разве ты с ним не?.. — я замялась, подбирая слова.
Девушка, выпучив на меня изумлённые глаза, зашлась от смеха.
— О, Мадонна! Он был слишком стар… Только и способен, что поглазеть… — она мечтательно потянулась. — А я люблю молодых парней — сильных, горячих…
— Почему же ты не сказала дону Отавио, что видела, как погиб его отец? — перебила я.
— Я сказала, но он мне не поверил. Он поверил Кассио, — а тот оболгал Жозиаса. Свёл счёты за побитую морду. Жозиас его хорошо отделал…
— Я слышала про этот инцидент. Кто был зачинщиком?
— Кассио. Он и фазенду вашу сжёг. Подчистил её, пока вас не было, а потом, чтобы замести следы, спалил.
Я рывком взяла девицу за подбородок.
— Это серьёзное обвинение, Бьянка. Ты можешь доказать, что говоришь правду?
Она не отвела взгляда.
— Доказать не могу, но я говорю правду, клянусь Святой Девой!
Оттолкнув мою руку, она вплотную подступила ко мне и вызывающе бросила:
— О том, что Кассио вас обворовал, я узнала от вашей кухарки. Мы дружили. Она поделилась со мной по секрету.
— Чалис погибла во время пожара.
— Это дело рук Кассио… Он убил её и садовника. Они собирались вам всё рассказать, но не успели.
То, о чём говорила Бьянка, было похоже на правду. После смерти Фонтоуры практически месяц усадьба оставалась без хозяйского глаза. За это время можно было прикарманить всё, что плохо лежало, что этот мерзавец Кассио, вероятно, и сделал. Вернувшись на фазенду, я бы первым делом потребовала от него расчётные книги и провела ревизию. Кассио знал об этом. Потому заранее позаботился, чтобы любое моё подозрение растворилось в куче пепла. А для пущей убедительности — спровоцировал на конфликт этих бедолаг с плантации, чем окончательно прикрыл свои грязные делишки за ширмой кровавого бунта… А тут как нельзя кстати подвернулась и история с загадочной смертью дона Аугусто… Понятно, что сыновей Лукаша сделали козлами отпущения.
— Чалис мертва… Дантре тоже… — задумчиво проговорила я. — Значит, свидетелей нет…
— Как это нет! — закричала девушка. — А я?
Я с сомнением посмотрела на неё — какой из тебя свидетель? Шлюха и лгунья… Ни один судья не примет её показаний всерьёз. И потом завяжется вся эта канитель с адвокатом, присяжными… Это и долго, и нудно, и дорого. Гораздо проще нанять каких-нибудь громил, чтобы Альваресу проломили башку и не разводить лишние церемонии. Дом я уже всё равно не верну.
Кивнув на прощанье девушке, я зашагала к строительной площадке. Я собиралась возвести дом на прежнем месте — его к этому времени уже расчистили. Мне хотелось выстроить усадьбу чуть больше прежней, в два этажа, и прямо на террасе оборудовать небольшой бассейн — думаю, это бы понравилось маленькой Терезе…
— А как же Жозиас, сеньора? — Бьянка следовала за мной по пятам и понемногу начинала действовать мне на нервы.
— Ну, чего ты от меня хочешь?.. — я с трудом пыталась подавить раздражение. — Я ничем не могу ему помочь.
— Вы — белая сеньора — и не можете спасти жизнь человеку? Да вам достаточно только слово замолвить.
— Что значит «белая сеньора»? Почитай нашу прекрасную, нашу справедливую Конституцию, милочка, — мы с тобой равны перед законом, — насмешливо бросила я.
— Я не умею читать, — опустила голову Бьянка.
Но мне уже было не до неё. Я вспоминала Рим, поразивший меня своими роскошными виллами, и думала о том, удастся ли воссоздать в новом доме эту божественную красоту: лепные колонны, строгие арки, плитку «под старину» с неровными, обожженными краями, облицованный мрамором пол… Архитектор предупредил, что транспортировка строительных материалов через джунгли будет стоить бешеных денег, но мне на это было плевать — наконец-то моё финансовое положение было настолько устойчивым, что я могла не считаться ни с какими тратами.
А в это время Бьянка кричала мне вслед:
— Вы не можете быть такой равнодушной! Спасите его! Что вам стоит!.. Ну, куда же вы, сеньора, постойте! Это ведь вопрос жизни и смерти!..
Что за несносная девица, в самом деле: ни скромности, ни понятия о вежливости!.. Я и так уже уделила ей слишком много времени… А у меня и без неё дел по горло: нужно и охрану нанять, и урожай продать, и завершить все строительные работы до начала сезона дождей, и срочно наведаться в банк… И не мешало бы также подумать об учителях для Терезы, девочка не может расти дикаркой… «Вопрос жизни и смерти»… Будто мне живётся лучше! Что у неё за проблема — «Жозиас, любовь моя», и всё. А у меня вон сколько разных забот…
…И всё-таки она была необыкновенной девушкой, эта Бьянка. Ей, простой горничной без денег и связей, удалась достичь невозможного.
Не поверив мне, что услуги адвоката — это привилегия исключительно обеспеченных людей, она отправилась в столицу и нашла человека, который защищал бедных. Точнее, защищала. Ибо это была женщина.
Впервые я увидела эту странную особу на процессе. Он состоялся спустя пять месяцев после ареста сыновей Лукаша.
…Когда она вошла в зал заседания, у всех присутствующих, включая меня, невольно вырвался возглас: «Святые угодники!.. Кто это?..».
Она была до того была мала ростом и худосочна, что казалась ребёнком. Всё в ней было каким-то нездешним: и бледная кожа, чудом избежавшая знойных солнечных объятий, и голубые глаза, пытливо глядевшие из-под жиденькой соломенной чёлки, и висевшие на серебряной цепочке очки в изящной тонкой оправе. В своей белой накрахмаленной блузке с высоким глухим воротом и синей плиссированной юбке она напоминала ученицу закрытого женского пансиона… Увидев чинно вышагивающую по коридору девчушку с папкой подмышкой, зал потонул в хохоте: «Адвокат, тоже мне!.. Да её манной кашей кормить надо!»… Признаться, я тоже была ошарашена. В своей жизни мне часто приходилось видеть разномастных служителей закона, но женщину среди них — впервые. Тем более такую — без всякого намёка на солидность и основательность.
Похоже, такие мысли промелькнули не у меня одной. Попытка юной леди выступить в суде в качестве защитника встретила бурю негодования со стороны прокурора: «Я пытаюсь понять, что здесь делает эта барышня?.. Кажется, она перепутала дворец правосудия с кухней». Отказавшись от выступления, обвинитель демонстративно покинул судебное заседание. Прокурора поддержал судья: «Потрудитесь объяснить, сеньорита, почему вы отнимаете у нас время?». Но малютка оказалась не промах и ткнула ему в нос дипломом Сорбонны. Опешивший от неожиданности судья взял документ осторожно, кончиками пальцев, точно он принадлежал больному смертельной заразой, и долго и придирчиво изучал, а потом бесстрастно изрёк:
— Ну и что?.. Можете вставить в раму и повесить в спальне, над кушеткой. Но сюда-то вы зачем пришли?
— Защищать интересы моих подзащитных — Жозиаса Косты и его брата Карло, ваша честь, — спокойно ответила девушка.
Судья, окинув её снисходительным взглядом поверх очков, лениво шевельнул указательным пальцем в сторону двери:
— Прошу вас, сеньорита, не задерживайте нас. У нас, действительно, много работы.
Улыбнувшись уголками губ, барышня спустила с цепи свирепых канцелярских бульдогов: судья только и успевал уворачиваться от статей, параграфов, пунктов. А она бойко, без запинки забрасывала его всё новыми и новыми увесистыми цитатами, точно комьями грязи. Наконец он не выдержал:
— Вы дерзнули преподать мне урок правоведения?
От его возмущённого рыка зазвенели стёкла в зале, но напугать малышку было не так просто:
— Нет, ваша честь, я лишь хочу воспользоваться правами, дарованными мне нашим бразильским законодательством.
На задних рядах кто-то даже присвистнул — это прозвучало, как сигнал боевого горна — и понеслось: мы точно окунулись в кипящий слюной и брызгами водоворот:
«Домохозяйка с учёной степенью — куда катится мир?!»
«Марш на кухню, детка!»…
«Там твоё место, там!»…
«Выведите её отсюда! Она глумится над судом!»…
«Надела башмаки вместо тапок и вообразила себя адвокатом»…
«Сеньорита, парикмахерская через дорогу… Вас проводить?»…
«Даже в способе сотворения Бог показал различия природы мужской и женской»…
«Kinder, küche, kirche[115] — гласит мудрая немецкая истина! Как это верно и как незыблемо!»…
«Ещё не хватало, чтобы баба нас поучала!»…
«Какой сумасшедший выдал ей диплом?!»…
…Возмущённый гомон нарастал со всех сторон. Вскоре ядовитые насмешки переросли в прямые оскорбления, и издевательский хохот взорвал аудиторию: он пробрался под чёрную мантию и трясся в круглом, набитом брюхе, стучал каблуками по полу, катился солёными каплями из глаз… Подсудимые не на шутку встревожились, сидевшая в первом ряду Бьянка заметно запаниковала… Я не отрываясь смотрела на горе-защитницу, осмелившуюся вторгнуться в это многовековое мужское царство: опустив голову, она невозмутимо перебирала какие-то бумаги в своей папке и делала вид, что всё происходящее не имеет к ней никакого отношения. Когда же она заговорила, её не услышал никто, кроме судьи. Но этого было достаточно — его рука незамедлительно обрушила на головы всех присутствующих яростный стук молотка. Воцарилась мёртвая тишина. И тогда она повторила свои слова… Присяжные заседатели недоумённо переглянулись: эта маленькая адвокатша рехнулась — никогда ещё никто не требовал замены состава всей коллегии! А тут — на тебе, да ещё и с неслыханными доселе формулировками: «тенденциозность», «не способность объективно оценить обстоятельства рассматриваемого дела и вынести справедливый вердикт»… «Обоснуйте, чёрт подери! — зарычал судья. — Ваше ходатайство должно быть мотивировано, адвокат Буэно!». Она улыбнулась: «Да, ваша честь»… Её дальнейшая речь напоминала удары секиры: чик — и кристально чистая репутация одного уважаемого господина оказалась сильно подмоченной, чик — и ещё на одних белоснежных одеждах расплывалось грязное пятно… Больше над ней не потешался никто. А уже спустя сутки, благодаря газетчикам, с энтузиазмом дунувшим на костерок со всех сторон, весь Рио знал её имя.
…Люди ходили на процесс, как на представление. В зал набивалось столько народу, что многим приходилось часами простаивать на ногах, некоторые же и вовсе довольствовались ролью слушателей в коридоре… В течении всего времени, пока длилось судебное слушание, в трактирах не утихали споры по поводу того, удастся ли задиристой пигалице отстоять висельников; здесь же особо рьяные спорщики азартно делали ставки. Я не верила в победу адвоката в юбке, хотя исправно посещала все заседания. Но на этот раз чутьё меня подвело — она с блеском выиграла дело: Жозиаса и Карло за недостаточностью улик признали невиновными в смерти сеньора Аугусто Ламберти.
История с бунтом и вовсе превратилась в шапито: адвокат Буэно представила присяжным заседателям всё так, будто никакого бунта не было и в помине. Существовал любовный треугольник с острыми углами, где два неистовых самца с кипящей кровью добивались взаимности красивой женщины. На стороне одного из них, Отавио Ламберти, было преимущество — деньги и власть, чем он и воспользовался, чтобы устранить Жозиаса Косту, своего удачливого соперника, и потому навешал на него всех собак: и убийство папаши, и вооружённый мятеж, и неповиновение властям… Сеньорита Буэно в своих витиеватых рассуждениях о том, кто мог убить старого плантатора, дошла и до совсем уж смелых предположений, заявив, что его смерть была выгодна, в первую очередь, самому Отавио Ламберти, который становился наследником солидного состояния… Услышав подобное обвинение, Ламберти аж затрясло от гнева. Публика же ликовала, увидев столько вываленного сразу на свет божий грязного белья… Конечно, все эти хитроумные индукции были весьма занимательны, если бы не куча вопросов, которые так и остались без ответа: кто стрелял в меня, когда я приехала на фазенду? кто ответит за пожар в моём доме? кто накажет виновных в смерти восьмерых моих работников?.. На своём веку я перевидала уйму ловкачей из числа адвокатской братии, выдававшей белое — за чёрное, а чёрное — за белое, но сеньорита Буэно превзошла их всех: она умудрилась сделать из некролога рождественскую открытку. Впрочем, эта удивительная метаморфоза устроила и присяжных, и обвиняемых, и публику, и, как ни странно, даже судью… Когда суд, наконец, закончился, оба брата в сопровождении обезумевшей от счастья Бьянки возвратились в Эспириту-Санту триумфаторами: снимок этой ликующей троицы, которую репортёры подстерегли на перроне перед самым отправлением поезда, ещё долгие недели украшал страницы всех бразильских газет.
Однако на том история не закончилась, и мои пути с госпожой адвокатом пересеклись ещё раз. С неожиданной просьбой ко мне обратился Отец Гуга, все эти недели таскавшийся вместе со мной в суд: он хотел, чтобы я от своего имени попросила для него руки сеньориты Буэно. Его просьба показалась настолько абсурдной, что я поначалу восприняла её, как шутку. Когда же управляющий со всей серьёзностью начал настаивать на своём, мне стало не до смеха.
— Ушам своим не верю — вы хотите жениться!
Зыркнув на меня исподлобья, Гуга усмехнулся:
— И что вас удивляет, сеньора? Я — мужчина, почему бы мне не жениться?
Мы сидели в маленьком кафе, на побережье. Нас разделяли две чашки кофе, пепельница и океан непонимания.
— Мне казалось, вам это не нужно. Вы — бродяга без роду без племени, сегодня — здесь, завтра — там. И вдруг — захотели связать себе руки. Отчего такие перемены?
— Влюбился, — мгновенная вспышка улыбки и колючие, цепкие глаза.
— Да бросьте! На пылкого влюблённого вы не похожи. Здесь кроется какой-то тонкий расчёт… Кто эта крошка — дочь президента, племянница Папы Римского?
— Вы будете разочарованы: у неё не слишком выдающаяся родословная и совсем нет приданого.
— Вот уж кому-кому, а ей без приданого никак нельзя… Мне хотелось бы сказать, что основное богатство женщины — это красота, но боюсь, это не тот случай.
— Я видел много красивых женщин, я покупал их и торговал ими в таком количестве, чтобы раз и навсегда перестать считать красоту их главной ценностью, — задумчиво проговорил Гуга, рассматривая в сапфировой запонке солнечные блики; в последнее время его облик кардинально изменился: одежда стала всё более дорогой и респектабельной, плечи расправились, во взгляде появилась чопорность — по всему видно было, что он перестал изображать из себя мелкую сошку, интересно только, кем ему заблагорассудилось представляться в очередной раз: бизнесменом? потомком аристократического семейства? Для меня он был, как закрытая на ключ в нежилом доме комната с зачехлённой мебелью: содрав белые покрывала, под ними можно было увидеть всё, что угодно — от сломанных, источенных короедом стульев до императорского трона.
— И это говорит бывший сутенёр?.. Вы сами-то себе верите?
Сделав глоток, он посмотрел на меня поверх чашки долгим немигающим взглядом:
— Я верю лишь в то, что отныне, чтобы решить какое-то щекотливое дельце, мне не нужно будет взводить курок.
Как тихо и вкрадчиво он это сказал. Со стороны, наверное, мы выглядим, как два воркующих голубя.
— Господи, кто бы мог подумать, что такую бесчувственную скотину, как вы, может тяготить нечистая совесть!
Он метнул в меня волчий взгляд:
— Вас она не тяготит потому, что решение всех своих проблем вы всегда перекладывали на меня.
Так, так… сколько претензий сразу! Неужели, я, наконец-то, увижу его лицо без маски…
— Не всех, а только тех, с которыми вы справлялись лучше, чем я.
— Я справлялся со всем, что дурно пахло, и потому мои руки — в крови по локоть, а ваши — чисты, как у младенца, — какой величественный поворот головы: ни дать ни взять — герой шекспировской драмы: похоже, время срывания масок не наступило. — Не воспринимайте мои слова как упрёк, сеньора, я ни в чём вас не упрекаю: каждый из нас выполнял свою работу. Выполнял, как умел… Вы думаете, Бог ждал от нас чудес? Не ждал, иначе, он бы сделал из меня рыцаря, а из вас — святую. Но он этого не сделал. А коли так — ни мне, ни вам не в чем раскаиваться. Вопрос в другом. Старые методы устарели. Там, где раньше шли в ход клинок и наган, теперь сгодятся перо и чернила. Малютка Буэно показала старине Гуге, что ему пора на покой. Старина Гуга захотел завязать и стать джентльменом… Вам, дорогая Джованна, в своё время захотелось сделать то же самое, и вы избавились своего уродливого детища… Кто теперь вспомнит мадам из салона «Золото Пайтити»? Никто. Такой больше нет. А есть — уважаемая всеми в Рио сеньора, честная, скорбящая в своём святом горе вдова, заботливая и нежная мать.
— Очень смешно, Гуга!
— Я не иронизирую, отнюдь, я лишь хочу, чтобы вы поняли — право на репутацию есть не только у вас.
«Право на репутацию» — я не ослышалась? Ну и ну! Вот уж где шкатулка с секретом: литургия, медицинские осмотры, русский, динамит… Что за фортель он выкинет в следующий раз: заиграет на кифаре? пойдёт на войну добровольцем?..
— Ну, допустим, вы меня убедили… Должно быть, это в вас заговорило что-то старческое. Желание покоя и всё такое — это возрастные вещи… Но скажите: почему именно она? Вы наворовали у меня столько денег, что могли бы посвататься к дочери плантатора.
Он улыбнулся:
— Люблю сюрпризы. А что-то подсказывает мне, дорогая Джованна, что жизнь с этой юной леди будет нескучной.
— Да уж, с ней не заскучаешь, — согласилась я. — Одно не могу понять — на что вам сдалось моё посредничество? Идите к ней сами и сватайтесь.
— Хочу соблюсти все формальности.
— И как вы себе это представляете?.. «Здравствуйте, милейшая сеньорита Буэно, мой разлюбезный управляющий решил осчастливить вас весьма лестным для вас предложением…»… Чушь собачья!.. Вы не заставите участвовать меня в этом балагане! Я даже фамилии вашей не знаю.
— Весьма странно, Джованна, что вы забыли фамилию родного брата.
— «Брата»? Вы что, пьяны?!
Не сводя с меня глаз, он достал из внутреннего кармана пиджака какую-то бумагу и протянул мне. Хватило секунды, чтобы понять всё.
— Ловко! Похоже, я недооценила вас, Гуга… Или, пардон, сеньор Гильерме Антонелли, как вам заблагорассудилось себя величать…
— Когда вы уехали на свою чёртову фазенду и подвергли жизнь смертельному риску, мне пришлось прибегнуть к этому маленькому мошенничеству: не было никакой уверенности, что вы вернётесь живой, а пускать по воле волн дело, в которое я вложил столько сил, не в моих принципах.
— Наверное, в том момент такое решение было правильным. Но сейчас обстоятельства изменились.
— Изменились не только обстоятельства, но и моё отношение к вам, Джованна, — мне понравилось быть вашим братом.
— Кому бы не понравилось быть наследником такого громадного состояния…
— Других у вас всё равно нет.
— Нет, есть, Тереза… Кстати, что бы вы сделали с моей дочерью, если б меня, действительно, убили бунтовщики? Задушили подушкой?
И тут его прорвало, точно гнилую плотину во время наводнения:
— И у вас, бросившей девочку, как котёнка, на безмозглую горничную, которой самой ещё впору сопли подтирать, хватает совести называть её своей дочерью?! Да вы понятия не имеете, что значит быть матерью!.. Я чуть с ума не сошёл, когда она заболела, неделями сидел у её кровати, пока она не поправилась, а вы о ней за полгода даже ни разу не вспомнили!..
— Браво! — хлопнула я в ладоши. — Роль заботливой няньки сыграна безупречно… Не удивлюсь, если Тереза скоро станет вас называть «папой».
— Она уже меня так называет, — спокойно ответил он.
Видя, как он изящно подцепил двумя пальцами маленькую чашечку, я мысленно пожелала ему подавиться.
— Я заберу её, как только дострою фазенду, — безжалостно раздавив сигарету в пепельнице, проговорила я. — И даю вам слово — вы никогда её больше не увидите.
— Вы вернёте её самое позднее через месяц… Не надо лгать самой себе, Джованна, — вам не нужна эта девочка… «Моя дочь»… — с издёвкой передразнил он. — Что вас вообще интересует, кроме денег?!
— Только не вам читать мне нравоучения! На вашу систему воспитания я вдоволь насмотрелась в салоне. А что касается алчности, дорогой братец, то тут я вас и вовсе никогда не переплюну: такой аппетит, как у вас, ещё поискать!
Он неторопливо извлёк из портсигара сигарету: в глаза бросились два витиеватых вензеля на крышке — теперь-то мне было понятно, что означали буквы «Г.А.». Родственничек, чёрт тебя дери!
— В чужом кармане, дорогая сестрица, монеты всегда звенят громче. Но я вам советую — считать свои, а с тем, что есть у меня, я разберусь без посторонней помощи.
— А что у вас своего-то? То, что у меня натаскали?.. Даже под венец пойдёте, прикрывшись моей фамилией… Ответь на один вопрос, Гуга, только откровенно. К чему разыгрывать весь этот маскарад, когда можно просто устранить препятствие? И все деньги будут ваши.
Усмехнувшись, он выдохнул длинную сизую струю:
— Если бы я считал вас препятствием, я бы так и сделал.
От его слов по коже пошёл холодок. Желая скрыть замешательство, я подозвала официанта. Когда нам принесли вино, произнесла краткий тост:
— За Антонелли! — а про себя подумала — «как только представится удобный случай, я от тебя избавлюсь, сукин сын!».
— За Антонелли! — ответил Гуга; не сомневаюсь, что и он подумал о том же самом.
…Ну, что ж, счёт открыт: пока — 1:0 в пользу мерзавца. Но за мной не заржавеет…
…Вскоре в семье Антонелли произошло пополнение — маленькая Клара Буэно стала моей родственницей. Втайне я надеялась, что у этой независимой и здравомыслящей девушки хватит ума отказаться от столь сомнительной партии, но я её переоценила — она согласилась сразу же, как только узнала, что нашёлся человек, который захотел взять её в жёны. Бедняжка, похоже, была не слишком избалована мужским вниманием, и потому сочла предложение Гуги единственным в жизни шансом. К тому же у неё был и свой расчёт: будучи приживалкой у дальних родственников, ей хотелось обрести свободу. А, может, ей льстило, что она входит в семью Антонелли — породниться со мной для многих было бы честью: Гуга, мошенник, не зря пошёл на свой гнусный обман.
И вместе с тем я её совершенно не понимала — имея образование, которое она получила, можно было горы свернуть. Я так ей об этом и сказала. Но она лишь печально покачала головой: «Увы, сеньора, никто не воспринимает всерьёз женщину-адвоката. Как только клиенты узнают, что их будет защищать женщина, они отказываются от услуг. Я могу довольствоваться только теми, у кого не густо в кармане. Мне так и говорят: „Будь у меня выбор, я бы нанял настоящего адвоката, мужчину, а не вас“…»
Я не стала спорить — это было правдой. Закон уравнивал нас в правах с мужчинами, но на деле всё обстояло иначе. На женщину, если она пыталась заниматься какой-то серьёзной профессиональной деятельностью, смотрели свысока. За её труд платили гроши… Я всего этого сама нахлебалась досыта. И если мне удалось разбогатеть, то только потому, что я никогда не шла по прямой дорожке.
…Бракосочетание состоялось спустя месяц. Это была самая грустная свадьба из всех, на которых мне когда-либо доводилось бывать. Из гостей на ней присутствовали только мы с Терезой да наша горничная Моника. Молодожёнов венчал католический священник. Гуга специально настоял на церковном браке, хотя ни у кого язык бы не повернулся назвать его примерным сыном церкви. Обряд прошёл сухо и чопорно. Клара, которую подвенечное платье и фата немного преобразили, с любопытством поглядывала на жениха: она видела его второй или третий раз в жизни. Гуга был сдержанно вежлив. И только Тереза, которой поручили осыпать новобрачных рисом и конфетти, находила во всём этом какое-то для себя развлечение: она с воодушевлением кидала им прямо в лицо целые пригоршни, пока я не отобрала у неё мешочек.
…А в это время в Эспириту-Санту справлялась ещё одна свадьба, но только там царило настоящее веселье: выпущенный на свободу сын Лукаша и его возлюбленная Бьянка кутили две недели кряду на радость всему посёлку. Из-за этого гуляния у меня даже затормозилось строительство фазенды — строители пировали вместе с работниками плантации… Когда я вернулась в Сантос, я долго не могла отыскать хоть кого-нибудь мало-мальски трезвого: батраки дрыхли вповалку под кофейными деревьями, а молодожёны предавались любовным утехам в гамаке… Наверное, в их жизни это был последний беззаботный день. А потом я как добрая хозяйка преподнесла им щедрый свадебный подарок — выдала ссуду на строительство дома. И счастливому существованию этой пары пришёл конец.
…Прошло лет пять, и от красоты Бьянки мало что осталось. Когда каждый месяц надо гасить долг по одним векселям, возобновлять другие и выпрашивать отсрочку по третьим, морщины появляются на лице сами собой: нет денег, чтобы заплатить по счетам вовремя — и тебе обеспечены бессонные ночи, набежали пени — и на переносицу ложится скорбная складка, возросли проценты — и в волосы незаметно вплетаются серебряные нити…
Она очень быстро потеряла свою величественную стать и даже как будто стала меньше ростом. Когда слишком часто приходится унижаться и просить, сутулятся плечи, опускается голова, и глаза перестают смотреть в упор, тело становится грубее и жёстче, а в душу закрадывается презренная робость, вызванная постоянными опасениями: удастся ли перехватить несколько рейсов? не отберут ли жильё, если не сумею внести нужную сумму? как рассчитаюсь с долгами, если потеряю работу?.. Дорого же ей пришлось заплатить за своё безрассудное желание выйти замуж по любви. Будь она поумнее, не было бы у неё сейчас других забот, кроме как швырять направо и налево денежки Ламберти. Теперь, небось, кусает локти…
Иногда я вижу её из окна, выходящего на задний двор, — она приходит на мою фазенду стирать бельё. Если бы я не знала Бьянку лично, то никогда бы не поверила, что эта уставшая, истлевшая дотла женщина была когда-то бойкой, хлёсткой на язык красоткой, кружившей головы местным плантаторам… «Жозиас, любовь моя…»… Ну, и дурёха же ты, Бьянка Маседо! Было бы ради кого идти на такие жертвы: её обожаемый Жозиас превратился в обыкновенного поселкового пьяницу.
Все дни напролёт он вкалывал на плантации, а по выходным напивался до беспамятства в местной байланте[116]… Трудно поверить, что этот человек, стоявший часами у стойки и опорожнявший стакан за стаканом, когда-то был бунтарём, восставшим против произвола капатасов… Заведение посещала и сама Бьянка, но не затем, чтобы потанцевать и развлечься, а для того, чтобы уберечь своего муженька от какой-нибудь скверной истории: Жозиас, напившись, обычно, лез в драку.
Стычки в байланте частенько завершались поножовщиной, и дебоширов уносили по домам, истекающих кровью. Там жёны лечили их травами, иногда, буквально, поднимая с того света, и всё для чего — чтобы выздоровевший благоверный смог поучаствовать в очередном скандале.
В семейной жизни Жозиаса и Бьянки скандалы были обычным делом. Вся округа слышала их препирательства, когда она пыталась растолкать его, валявшегося без признаков жизни под столом среди объедков и битых стаканов, и увести домой. «Пошли домой, гад!.. Скотина эдакая!.. Сколько можно жрать эту кашасу? Вставай, говорю!». Пуская слюни и едва шевеля одеревеневшим языком, Жозиас выталкивал изо рта тяжёлые, увязавшие в глухом мычании, ругательства… Иногда бывало и такое: потоптавшись с какой-нибудь чернявой молодкой под хрипловатые повизгивания аккордеона, Жозиас скрывался вместе с нею в ближайших зарослях, и тогда Бьянка устраивала дикие сцены ревности… Один раз она даже пырнула соперницу ножом и, если бы вовремя не послали за моим семейным доктором, всё закончилось бы плачевно… Помню, я тогда в сердцах высказала сумасбродке всё, что о ней думаю: «Глупая же ты баба, Бьянка! Как можно загубить себя ради такого дурака?! Он же мизинца твоего не стоит!». Мои упрёки, похоже, её озадачили. «Почему же он дурак? Совсем не дурак… — обиженно протянула она. — Просто заскучал парень без борьбы, закис… Он по натуре-то вояка, а тут — паши, как проклятый, спины не разгибая… Никакого просвету… Вот и пьёт человек… Один он такой что ли?»… Она была права, жизнь Жозиаса мало чем отличалась от жизни других работников плантации: в будни — каторжный труд, в выходные — унылая скука в тени под пальмовыми листьями, которую, как пустой желудок, хочется набить чем угодно, лишь бы не урчало: беспробудным пьянством, домашними склоками, ночными гулянками с какой-нибудь податливой милашкой…
Будучи заботливой хозяйкой, я старалась направить примитивные интересы моих работников в какое-нибудь более или менее благопристойное русло, и потому построила на территории Сантос церковь и открыла кинопередвижку: молись и мечтай — что ещё нужно для счастья. Подумала было ещё о строительстве школы, но воздержалась: чтобы гнуть спину с утра до ночи на плантации, грамота не нужна. В кредитных договорах с «Банком Антонелли» батраки могли расписаться просто крестиком — такая подпись имела юридическую силу. А коли так, к чему забивать их головы ненужным мусором?
Однако, несмотря на всю мою заботу, я чувствовала, что работники втайне меня ненавидят. Они никогда не выступали против меня открыто. Да и против чего им было восставать? Против самих себя? Кто виноват, что им захотелось жить лучше? Мечтали о крыше над головой — я дала им её. Но в этой жизни за всё надо платить. И с процентами.
Явного недовольства со стороны батраков не было, но когда я появлялась в посёлке или на плантации, они тут же замолкали и разбредались по своим по углам. Молчаливое напряжение стало нарастать, когда я отгрохала на месте сгоревшей фазенды новую. Особняк был построен с подлинным размахом и подавлял своим великолепием. Впервые у меня был дом, сооружённый исключительно по моему вкусу. Это была милая сердцу роскошь — спокойная, величественная, надёжная. Среди неё я ощущала себя существом утончённым и избранным. Мне хотелось, чтобы подобные чувства испытывала и моя дочь, и потому я незамедлительно перетащила её сюда из суматошной столицы[117]. Но безмятежной идиллии на лоне природы, о которой я так долго мечтала, не получилось…
— Это всё наше? — как-то раз, взбегая впереди меня по мраморной лестнице, спросила она.
— Да, милая, — ответила я, с трудом поспевая за ней.
— А те маленькие домики, которые мы видели из машины? Они чьи?
— Тоже наши, пока люди, которые в них живут, за них не заплатят.
— А мы можем их выгнать, если захотим?
— Можем, милая.
— Тогда давай выгоним!
— Если они не заплатят проценты за этот месяц, то выгоним.
— А что такое проценты?
— Деньги.
— А где они берут деньги?
— Работают. Помнишь, мы проезжали кофейные поля? Вот там они и работают.
— А они много работают?
— Много, милая.
— Если они много работают, значит, у них много денег?
— Нет, милая.
— Почему?
— Потому что это — бедняки, у них не может быть много денег.
— А если они много-много-много будут работать… всю жизнь! Тогда у них будет много денег?
— Конечно, нет.
— А как так?
— Вот так.
— А у тебя больше денег, чем у них?
— Ты задаёшь слишком много вопросов.
— Ну, скажи, скажи!
— Больше, Тереза.
— Но ты ведь не работаешь!
— Как это не работаю? Работаю… ну, не так, конечно, как они, но работаю… А они работают на меня.
— А почему они на тебя работают?
— Потому что у меня есть земля, а у них — нет. Чтобы построить дом, они вынуждены покупать у меня землю. Поскольку денег у них очень мало, я одалживаю им взаймы, а потом в течение нескольких лет они рассчитываются со мной.
— А у кого купила землю ты?
— Странный вопрос, Тереза. Я её не покупала.
— А почему же тогда они должны тебе платить?
— Потому что эта земля — моя собственность.
— Что такое собственность?
— Собственность — это значит моё и больше ничьё.
— Ты пришла сюда, сказала — «моё» и стала здесь жить?
— Примерно так.
— А почему они не могут так сделать?
— Если они так сделают, их посадят в тюрьму.
— Но ведь тебя не посадили!
— То — я, а то — они.
— А они не такие, как ты?
— Такие же точно: у них голова, рот, нос, два глаза, две руки и две ноги. Но у меня юристы лучше…
Разговор с дочерью обеспокоил — мне не верилось, чтобы устами малышки глаголела одна лишь детская непосредственность. Несомненно, кто-то внушил ей весь этот вздор. Я стала внимательно приглядываться к её педагогам, которых тоже пришлось взять с собой на фазенду.
Итак, сеньор Машадо, учитель рисования. Его нанял Отец Гуга, который первый разглядел в девочке художественные способности. Он сохранил все детские рисунки Терезы и некоторые из них, на его взгляд, наиболее удачные, даже поместил в рамочки и развесил у себя в спальне. «Как-никак её шалопай-отец был художником, — сказал он, — поэтому было бы весьма странно, если бы его дочь родилась совсем уж бесталанной…». Он оказался прав — Тереза, действительно, имела врождённые задатки. Это признали и специально приглашённые оценить её работы художники. «Для её возраста — очень сильно! — заключили они. — Если развивать способности, со временем можно добиться больших успехов»… Разумеется, тотчас же был нанят учитель рисования — выпускник художественной академии, строгий флегматичный юноша, больше напоминающий священника, чем человека искусства. Иногда мне казалось, что он чересчур придирчив и требователен к Терезе и не делает никаких скидок на её нежный возраст, но больше он не вызывал с моей стороны никаких нареканий — он безупречно выполнял свой долг и честно отрабатывал жалованье, которое я ему платила.
Мадмуазель Вердье, француженка. Она обучала Терезу языкам. Мне не очень нравилась эта особа — слишком уж она была фривольна, что могло дурно сказаться на характере дочери. Но если бы я отказалась от её услуг, мне пришлось на её место взять троих: за одно жалованье мадмуазель Вердье учила Терезу французскому, английскому и немецкому, а также литературе и правописанию.
Сеньорита Ортега, вышедшая в тираж испанская танцовщица. Её манеры я тоже находила несколько вульгарными, но под её руководством Тереза начала делать значительные успехи в танцах. К тому же сеньорита Ортега позволяла экономить на учителе испанского. Если б ещё не её тайный маленький грешок — время от времени она любила прикладываться к бутылке — я бы и вовсе была ею довольна.
Сеньор Пинто, он преподавал моей дочери математику, географию, ботанику и черчение. Его слабости были и вовсе невинными — он собирал гербарии.
Также при Терезе находилось горничная — дородная пожилая негритянка Тьяна, но это было настолько покорное и пассивное и, к тому же, набожное существо, что ей бы и в голову не пришло настраивать девочку против меня.
…Итак, кто же из них? Подержав в уме каждое имя, я пришла к выводу — крамола занесена извне. Под подозрение попали поселковые дети, с которыми иногда играла Тереза. Я строго-настрого запретила прислуге подпускать мою дочь к этим оборванцам, чтобы она, не дай бог, не подцепила от них какой-нибудь заразы. И, выполняя моё наставление, их усердно гоняли со двора. Но они, как москиты, лезли и лезли к дому.
Однажды мне довелось быть свидетельницей разговора Терезы с одним чумазым мальчуганом лет семи; они стояли у фонтана и о чём-то громко спорили.
— Отец сказал — если твоя мать вышвырнет нас из дома, он обольёт себя керосином и подожжёт прямо у неё на глазах! — свирепо вращая глазами, прорычал мальчишка на скверном португальском и, зачерпнув ладонью воду, плеснул Терезе в лицо; она зажмурилась, а он злорадно захохотал.
— Он же сгорит! — ужаснулась девочка, заслоняясь руками от брызг.
— Он сказал, лучше умереть, чем так жить. Он сказал, твоя мать — кровопийца!
— Неправда, она хорошая!
— Она — злая! Она с каждого работяги по три шкуры сдирает!
— Что ты врёшь! Моя мама ни с кого не сдирает шкуры!
— Сдирает!.. Она — хуже кайсаки, хуже индейцев, хуже жёлтой лихорадки!
Увидев меня, он бросился было бежать, но я схватила его за ухо.
— Иди в свою комнату, Тереза, — приказала я дочери; та послушно побежала в дом. — Ну-ка, змеёныш, теперь расскажи мне, с кого это я содрала шкуру?!
— Отпустите, сеньора! Я больше не буду! — завопил мальчишка.
— Кто твои родители?
— Мы беженцы, сеньора, из Кордовы[118].
На нём была выцветшая красная рубаха и старые, необъятных размеров штаны, по всей видимости, отцовские; когда я встряхнула его за плечо, ветхая рубашка затрещала по швам.
— Наглый паршивец! Как Франко[119] вас прижал, так сюда прибежали… «Будем стараться на совесть, не боимся никакой работы»… А сейчас вон как запели, неблагодарные твари!.. Так-то вы отплатили мне за то, что я дала вам кров!..
— Сеньора, миленькая… Ухо пустите, оторвёте ведь!..
— Ещё раз подойдёшь к моей дочери, я тебе, как курице, шею сверну! Понял, щенок?!
— Понял, сеньора!
Как только я отпустила его, он бросился наутёк со всех ног. А я решила, что было бы не лишним познакомиться с папашей этого маленького испанского голодранца — наверняка, социалиста.
В тот же день я пригласила к себе в кабинет некого Гомеса. На бунтовщика или подстрекателя он похож не был: типичный работяга, занимавшийся у себя на родине производством оливкового масла. А потом началась гражданская война и репрессии. Франкисты расстреляли всех друзей и соседей Гомеса за сочувствие республиканцам. Он не стал дожидаться, когда очередь дойдёт до него и, схватив в охапку жену и детей, бежал в Южную Америку. Обычная история. Нынче испанские беженцы были повсюду.
— Как вам нравится Бразилия, сеньор Гомес? Хорошо устроились? — начала я издалека.
— Спасибо, сеньора Антонелли, с Божьей помощью, — сдержанно ответил он.
— Вы — республиканец?
Он заметно занервничал:
— Нет, сеньора…
— Видите ли, я интересуюсь не из праздного любопытства. Коммунистическая зараза, которая в последние годы расползлась по всему миру со страшной силой, вынудила нашего доброго президента принять на себя диктаторские полномочия и учредить Эстадо Ново[120]. Отныне все политические партии у нас под запретом. И здесь я полностью солидарна с нашим уважаемым президентом — в такое сложное время нельзя проявлять близорукость и попустительство. Поэтому, сеньор Гомес, если вы коммунист, я обязана буду сообщить об этом властям. Я далека от политики, кроме производства и продажи кофе меня мало, что волнует, но порядок превыше всего. Он основа нашей стабильности.
Я видела, как он побледнел, как на его лбу выступили крупные капли пота, и неторопливо продолжала.
— Вы приехали в благодатный край, сеньор Гомес, здесь никто не занимается политикой, здесь занимаются делом, а не пустой болтовнёй, как в Европе. Президент Варгас хорошо заботится о своём народе. И народ ему благодарен за это… Президент Варгас провозгласил курс на доступное жильё. Разве это плохо? Любой бразилец может купить дом, если захочет. Нет денег — пожалуйста, бери кредит. Будущее в твоих руках!
— Всё так, сеньора, всё так… — покорно закивал головой он.
— Чем же вы недовольны? — перешла в наступление я. — Разве вам, иностранцу, приехавшему сюда без гроша за душой, не пошли навстречу, не предоставили выгодный займ, чтобы вы могли приобрести приличное жильё для своей семьи?
— Да, сеньора…
— И как вы отблагодарили тех, кто протянул вам руку помощи? Обвинили в том, что они якобы пытаются на вас нажиться!
— Нет, сеньора, клянусь вам!.. — заверещал Гомес, молитвенно складывая руки на груди. — Я ничего подобного не говорил… Вы не так поняли…
— Всё, что я имею, я заработала честным трудом. Я работала сама и давала работу другим. Дать работу в наше время, когда повсюду нищета и безработица — это дать надежду. Вы упрекаете меня в том, что я дала вам надежду? Вам, несчастному иммигранту, притащившемуся сюда вместе со своим голодным выводком!
— Ах, сеньора, это всё Бенито… мой сын… — его руки нервно комкали кепку. — Он слишком много болтает, пострелёнок!.. Сегодня же выломаю хороший прут и выдеру его, как следует!.. Негодный мальчишка, мелет языком, что попало!.. Но, клянусь, я ему ничего не говорил! Это он не от меня наслушался!..
— И про то, как сожжёте себя керосином на моих глазах, он тоже не от вас услышал?!. Вы меня разочаровали, Гомес… Конечно же, вы — коммунист! Откуда бы ещё взялись такие мысли?.. Думаю, мне пора известить об этом полицию.
Он аж побелел от ужаса.
— Нет, сеньора, прошу вас… Это не я говорил… Бенито перепутал… Это Матео Феррас…
— Кто такой Феррас?
— Мы познакомились на корабле, когда плыли сюда… Он сказал, что не собирается ни к кому наниматься, что в Бразилии много неосвоенной земли и не надо горбатиться на чужого дядю, а надо работать на себя.
— Так, так… продолжайте!
— Ещё сказал, что кредиты, которые вы выдаёте… — он замялся, тщательно пережёвывая слова, готовые сорваться с его языка; нетерпеливым жестом я поторопила его, — это пожизненное ярмо, от которого даже смерть не спасёт, потому что его набросят на шею нашим детям…
— Вот сукин сын!.. Дальше!
— Что ваш банк загибает сумасшедшие проценты, а сама земля столько не стоит, сколько вы накручиваете на каждый акр…
— Что ещё?
— Больше ничего, сеньора…
— Ясно, такие речи может вести только коммунист… Феррас коммунист?
— Не знаю, сеньора…
— А то ж кто! Они все бунтовщики и смутьяны!.. И ты их поддерживаешь, Гомес?
— Помилуйте, сеньора, как можно!..
— Имей в виду, Гомес, здесь с бунтовщиками не церемонятся!
— Я понял, сеньора.
— Теперь можешь идти… Да, и загляни ко мне через пару дней. Думаю, можно пересмотреть условия твоего договора и раскидать платежи лет на двадцать. Процентная ставка, правда, втрое возрастёт, но ежемесячные выплаты станут меньше.
— Вы не представляете, как я вам благодарен, сеньора! Теперь моей семье будет полегче… а то весь заработок съедали эти выплаты…
Видя, как обрадовался этот бедолага, я улыбнулась: похоже, он на полном серьёзе посчитал, что я решила ему помочь.
— Нужно было сразу обратиться ко мне и объяснить, что тебе тяжело платить такую большую сумму…
— Я думал, вы отберёте дом.
— Мне не нужен твой дом, Гомес. У меня свой есть, и не один… Мне также не нужны нищие работники, еле сводящие концы с концами. Я искренне хочу, чтобы мои люди ни в чём не нуждались.
— Правда, сеньора?
Мне кажется, или в его глазах действительно блеснули слёзы.
— Ну, конечно. Послушай Жетулио Варгаса. «Процветание страны зависит, прежде всего, от благосостояния её народа», — вот как говорит наш президент. Он — мудрый человек, он видит на сто лет вперёд… Так же и с фазендой: мы работаем вместе и друг для друга. Разве не так, Гомес?
…Жетулио Варгас — большего лжеца и фарисея свет не видывал. Он жонглировал обещаниями с мастерством опытного циркача, но толпа, затаив дыхание, внимала каждому его слову. Даже самому абсурдному. «Бразилия — большая больница… — однажды сказал Варгас. — Народ Бразилии — слабый, болезненный. Стране нужен врач — диктатура». И сотни тысяч идиотов с воодушевлением подхватили: «Да — нам нужна диктатура! Диктатура — это порядок! Мы устали от смуты, дайте нам порядок!»… Чему же тогда удивились эти простофили, когда их, заломив руки за спину, поволокли в тюрьмы?.. Хотя можно ли упрекать Варгаса, видя таких как Гомес: чуть бросили подачку, и вот он уже радостно виляет хвостом: «Так, сеньора, так… всё правильно… мы — вместе…»… И тут мне пришло в голову, что из Гомеса получится превосходный информатор: из чувства благодарности он будет расшаркиваться передо мной до конца своей жизни…
— В посёлке, кроме тебя, ещё есть недовольные? — спросила я.
— Несколько семей, — без заминки, с услужливой готовностью отвечал он.
— Им тоже задурил голову этот Феррас?
— Люди его уважают. Он живёт на другой стороне реки, в небольшой хижине… Сюда приплывает редко, чтобы продать свои ножи…
— Он делает ножи?
— Да, сеньора, по старинному андалусскому рецепту… Это очень хорошие ножи, в посёлке их с удовольствием покупают…
…Матео Феррас — андалузец, ножевых дел мастер, он и сам был похож на нож: стремительный, жестокий и непредсказуемый: в любой момент из рабочего инструмента он мог превратиться в орудие убийства. Я никогда не знала, чего ожидать от этого человека…
Наше знакомство началось с конфликта. Когда я верхом перебралась по мелководью на другой берег реки, чтобы разыскать и приструнить того, кто провоцирует работников фазенды на беспорядки, меня едва не пристрелили: как только я направила лошадь к шалашу, в котором обосновался испанский иммигрант, он без всякого предупреждения начал палить из карабина. «Какого чёрта!» — заорала я, с трудом удерживая взбесившуюся лошадь. Держа меня на прицеле, из шалаша вышел угрюмый рослый мужлан; не давая мне опомниться, он грубо велел убираться с его земли. «Твоей земли? — возмутилась я. — С какого дьявола она стала твоей?! Что ты о себе возомнил, голодранец!». Мне доподлинно было известно, что участок, на котором он решил обжиться, юридически не принадлежал никому, но по привычке я считала его своим, как и всё в округе. С восточной стороны моя плантация чётко граничила с усадьбой Отавио Ламберти, с других же сторон границы были весьма размыты: если после разлива реки во время сезона дождей почва становилась непригодной для посадки кофе, я направляла батраков к сельве вырубать деревья и расчищать новую территорию, и также, если бы мне вздумалось расширять производство, — послала бы людей на противоположный берег… «Вон отсюда, или я снесу вам башку!» — прорычал он. Скрипя зубами, я была вынуждена подчиниться…
Вернувшись домой, я отдала приказ трём своим капатасам спалить шалаш, а его хозяина — повесить за ноги на ближайшей пальме… Вечером того же дня рыбаки выловили из реки тело одного из охранников, другого — прибило к берегу утром. Третьего так и не нашли… «Если бы среди моей охраны были такие парни…» — невольно подумалось мне. Он, без преувеличения, стоил десятерых. Но заманить на работу Матео Ферраса было всё равно, что поймать ветер в поле. Слишком горд и вольнолюбив был этот андалузец…
До поры до времени я сделала вид, что забыла о его существовании, хотя могла бы прибегнуть к помощи полиции и тогда необузданного иностранца, скорее всего, успокоила бы пуля: навряд ли он сдался бы живым. Могла бы задним числом оформить собственность на землю, где он построил свою хижину, и тогда его согнали бы оттуда приставы. Я же предпочла затаиться, хотя капатасы настоятельно советовали разделаться с испанцем, чтобы батраки не расценили бездействие как проявление слабости — это бы подорвало мой авторитет в их глазах. Но мне не было никакого дела до того, уважают меня или нет эти зависимые от меня люди; так же как идущему с кнутом пастуху безразлично, что о нём думает подгоняемое им стадо… Матео Феррас был достойным противником, и потому хотелось устроить азартную охоту: ведь гораздо интереснее загнать дикого кабана, чем прирезать свинью на бойне. Пока я искала случая, чтобы затрубить в горн и начать травлю, судьба сама столкнула нас лбами.
Это случилось в сезон дождей. Обычно я не остаюсь в эту пору на фазенде, предпочитая отсидеться в Рио-де-Жанейро: делать на плантации всё равно нечего — хозяйственные работы прекращаются, к тому же тропические ливни провоцируют распространение малярии — с обилием воды для комаров начинается настоящее раздолье. Но в этот раз меня задержали неотложные дела, когда же я собралась ехать, было уже поздно — дороги размыло. Единственное, что радовало, это то, что несколькими неделями раньше удалось благополучно отправить в Рио Терезу: у Гуги родился первенец и моя дочь незамедлительно выехала его навестить. Эта глупышка почему-то вбила себе в голову, что появившийся на свет маленький ублюдок — её двоюродный брат, и, как липучка, пристала с просьбами отпустить её к «дяде Гильерме». Я проклинала себя за то, что рассказала ей про письмо Гуги, в котором он сообщал, что одним нахлебником на моём горбу стало больше. Тереза угомонилась только тогда, когда я отправила её в Рио вместе с учителями.
…Дожди шли третью неделю. Я исчерпала все имеющиеся в моём арсенале «развлечения»: подбила счета за последний месяц, перечитала письма и газеты, до которых долгое время не доходили руки, почистила пистолеты. Но неистовая стихия и не думала униматься: точно в насмешку надо мной, она надувала огромные чёрные щёки и плевала в окна шипящими пенистыми хлопьями, грозила с неба сияющим медным жезлом, угрожающе ревела глухим басом, стуча гранённой свинцовой чешуёй, перекатывалась по крыше и мешала спать по ночам. Посреди этого беспросветного бушующего хаоса я чувствовала себя заложницей… Скуки ради я прошлась по винному погребу и продегустировала ликёры, которые мне преподнёс в знак восстановления добрых соседских отношений Отавио Ламберти. После суда мы окончательно рассорились и долгое время не общались, но когда Ламберти женился, нас помирила его молодая супруга, которая стала устраивать приёмы у себя на фазенде. Отец новоявленной госпожи Ламберти был известным производителем вин на Ямайке… Иногда, когда становилось совсем тоскливо, я посылала за доктором: компания из него, правда, была некудышняя, слишком уж он был каким-то вялым и тусклым, но партию в вист[121] худо-бедно отыграть мог. А потом его вызвали к какому-то больному из посёлка, он ушёл — и после этого никто его больше не видел.
Вслед за ним из дома один за другим стали пропадать и слуги: кухарка выскочила на задний двор выплеснуть помои — и не вернулась, привратник пошёл на террасу убрать рухнувшее дерево — и как сквозь землю провалился, буквально на несколько минут, чтобы набрать воды, отлучилась горничная — и тоже исчезла. Мы остались вдвоём с Бьянкой: несмотря на ливень, она несколько раз в неделю прибегала в усадьбу стирать бельё — долги за дом, которые молодая женщина на себя взвалила, заставляли её работать за троих; от её муженька-пропойцы было мало проку.
— Я не вижу никого из прислуги, Бьянка… И от доктора вот уже трое суток — ни слуху, ни духу. Куда они все могли запропаститься?
— Хотите, я поищу их, сеньора?
— Будь добра. И, пожалуйста, сбегай во флигель к этим бездельникам капатасам. Пусть, наконец, кто-нибудь из них уберёт сломанные деревья — вся аллея завалена!
— Да, сеньора.
…Она вернулась очень скоро — промокшая до нитки, сама не своя от волнения. Бросилась ко мне, вцепившись в плечи холодными влажными пальцами и, задыхаясь от быстрой ходьбы и захлёбываясь сбивчивыми, путанными фразами, затараторила, припомнив Иисуса, Деву Марию и всех великомучеников. Её смятение передалось мне. Схватив дождевик, я выбежала на улицу.
Поминутно оглядываясь, Бьянка шла впереди. «Там!.. Там!.. — кричала она, указывая пальцем в направлении едва различимых сквозь толщу дождя хозяйственных построек. — Скорее, сеньора, скорее!».
У колодца ничком лежало тело, рядом с ним валялось перевёрнутое вёдро. Наклонившись, я узнала свою горничную. Бьянка принялась растирать ей руки, хлопать по щекам: «Мне кажется, она ещё дышит… Должно быть, поскользнулась… Смотрите, изо рта идёт кровь!.. Давайте перенесём её в дом… Одна я не могу её поднять, она тяжёлая… Помогите мне, сеньора…».
Сначала мне тоже показалось, что девушка расшиблась головой о каменное подножье колодца, но, приглядевшись к ней повнимательней, я не на шутку встревожилась: что-то в её чертах было такое, что напомнило мне умерших много лет назад братьев.
— Не трогай её, Бьянка! Она не ударилась… Это холера.
— Что? — в ужасе вскрикнула женщина.
— Немедленно идём в дом!.. Сними с себя всю одежду и обувь и брось на улице… Возьмём спирт из комнаты доктора и разотрёмся как следует… Это хорошее средство, уж я знаю… Бог даст, пронесёт… Идём скорее, нам нельзя здесь оставаться!..
— Нет, сеньора, я побегу к мужу и детям.
— Не надо ходить в посёлок, Бьянка, — я инстинктивно попыталась удержать её, но рука моя, непроизвольно дёрнувшись, благоразумно замерла на полпути. — Доктор не вернулся! Ты понимаешь, что это значит?!
— Но я должна быть со своей семьёй!
— Это бессмысленная жертва! Никому от неё не будет легче! Одумайся, прошу тебя!..
— Я нужна Жозиасу и детям! Побегу к ним!
— Вернись, ненормальная!..
Но она уже меня не слышала — бросилась со всех ног прочь из усадьбы. Как потом выяснилось, — навстречу собственной смерти.
Перед тем, как закрыться от окружающего мира в своём особняке, я добежала до сторожки, где жили охранники: дверь была заперта изнутри, на стук никто не открыл. Заглянув в окно, я ничего не смогла разглядеть. Конечно, можно было бы разбить его и пролезть внутрь, но, кто знает, какой сюрприз меня там ждёт — если скончавшийся от холеры мертвец, то безопаснее будет его не видеть. О своей умирающей у колодца служанке я тоже предпочла забыть — ей всё равно уже ничем не поможешь.
…На третьи сутки у меня закончился весь запас питьевой воды, но отправиться за ней к колодцу было бы чистейшим самоубийством.
…«Эту воду нельзя пить, детка! Ты умрёшь, если будешь её пить!»… — припомнила я грозное предостережение доктора из моего далёкого монастырского прошлого.
Умереть голодной смертью мне не грозило — погреба до отказа были забиты всякой снедью, правда, от одного её вида подкатывала тошнота: после того, как я побывала у колодца, кусок в горло не лез… Без воды до поры до времени тоже можно было обойтись — её с лихвой заменяло спиртное. В конце концов, если уж совсем невмоготу станет, можно открыть окно и набрать дождевой — небесные потоки угрозы не представляли. Единственное, что меня беспокоило — это отсутствие прислуги: одиночество не слишком угнетало, но вот то, что теперь любую работу приходилось делать самой, было весьма обременительно — за последние годы я успела привыкнуть к жизни сеньоры.
…Стук в двери посреди ночи обрадовал и встревожил одновременно: я жаждала присутствия живой души, мне хотелось узнать все последние новости, и вместе с тем незваный гость мог нести гибель… Отворив запоры, я увидела Матео Ферраса. Я и пикнуть не успела, как он шагнул в мой дом уверенной хозяйской поступью.
— Что вам здесь надо? — возмутилась я.
Он сорвал с себя и выжал, обдавая всё вокруг брызгами, шляпу, будто какую-то тряпку, а потом снова нацепил её на голову.
— Затопило посёлок… — тяжело дыша, проговорил он.
— И что же? Смыло вашу лачугу? — насмешливо поинтересовалась я.
— К чёрту мою лачугу и вас с вашим сарказмом! — заорал он. — Там, в низине, люди остались без крова… Вода поднялась почти до крыш, и она прибывает…
— Ну, разумеется, пребывает — сезон дождей только начался… У вас, в Европе, наверное, ничего подобного не происходит, а для нашего климата — это обычное дело. Месяца через два вода спадёт.
Его глаза едва не вылезли из орбит.
— Вы издеваетесь надо мной, да?
— Просто констатирую факт… А чего вы от меня хотите? Чтобы я прекратила дождь? У меня нет связи с небесной канцелярией.
— Там десятки больных… женщины, дети… Им негде укрыться, а вы одна проживаете в таком большом доме!
— Что? — я аж задохнулась от возмущения. — Вы предлагаете устроить из моего дома госпиталь?
— Людям срочно нужно дать убежище! Или мы разместим их здесь, или они погибнут!
— Да вы с ума сошли! Притащить сюда больных холерой!
— Не больных, а тех, кто ещё не успел заразиться — в первую очередь, детей и женщин. Больных мы разместим в другом месте. Я уже подумал об этом.
— И где же?
— На кофейных складах.
Я расхохоталась.
— Прекрасная мысль! А куда же мы денем мешки с кофе?
Грубо схватив за плечи, он встряхнул меня так, что потемнело в глазах.
— Речь идёт о человеческих жизнях, а вам бы только прибыль подсчитывать! Вы же женщина — есть в вашем сердце хоть капля сострадания?!
…Не знаю, была ли в моём сердце эта самая капля, но из соображений практичности я пошла ему навстречу — если все работники перемрут, кто тогда вернёт мне долги?..
Итак, мой дом превратился в ночлежку. Десятки оборванцев, полуживых от усталости, голода и холода, заполонили весь холл особняка — в комнаты я их не пустила: ещё не хватало, чтобы весь этот грязный сброд разлёгся на шёлковых простынях в моих прекрасных, отделанных дорогими гобеленами, спальнях. Кофейные склады я тоже не отдала на разграбление — больных разместили во флигеле; как я и предполагала, там уже побывала смерть: когда выбили дверь, трое охранников были мертвы. Остальные, по всей видимости, бросились наутёк. Я не винила их за бегство. Если б у меня была возможность, я и сама бы сбежала. Так все поступали. Как только становилось известно об эпидемии, люди всё бросали и уезжали из заражённой местности, а когда она угасала — возвращались. Даже воры и мародёры предпочитали не рисковать, хотя дома стояли раскрытыми настежь… В последние годы доктора хвалились изобретёнными новыми вакцинами: поставил, мол, прививку, и зараза тебя не проймёт. Но я не верила в их чудодейственную силу. «Беги быстрее как можно дальше и находись там как можно дольше» — это и есть лучшее спасение… Впрочем, увидев целого и невредимого доктора в самый разгар бушующей эпидемии, которого я уже мысленно похоронила, я изменила своё мнение.
— Вы не заразились, доктор! Как это возможно? — повторяла я, потрясённая до глубины души.
А он с упрёком бросил мне в лицо:
— Сколько раз просил вас купить сыворотку и сделать всем работникам прививки, а вы твердили, что это шарлатанство!.. Эх, госпожа Антонелли, столько людей можно было бы спасти!
Мне вдруг стало стыдно перед этим невзрачным, маленьким человеком, который в одиночку сражался с болезнью в то время, когда я пряталась в своём великолепном особняке. Считая доктора тюфяком, мелкой серенькой личностью, я даже фамилию его не удосуживалась запомнить. А он оказался героем… Чувствуя себя виноватой, на будущее я пообещала ему купить вакцину для всех своих батраков.
— Поздно… — отрывисто проговорил он. — Многие умерли, многие — умрут в ближайшее время…
— Но не все же?.. — осторожно спросила я.
— Не все, но этих смертей можно было избежать… Однако вы не захотели тратиться: пара сотен рейсов для вас оказались дороже, чем человеческие жизни… Хотя я не упрекаю вас: вы ничем не отличаетесь от других плантаторов. Люди для вас — расходный материал: уйдут одни — на их место заступят другие. Разве не так, госпожа Антонелли?
Я внимательно окинула взглядом его тощее сутулое тельце, которое не спасал от холода наброшенный на плечи плащ: видно было, как подёргиваются над верхней губой его маленькие чёрные усики, как дрожат мелкой дрожью исцарапанные осокой пальцы.
— Я ценю вашу самоотверженность, доктор, но я не нуждаюсь в ваших нотациях.
В уставших чёрных глазах вспыхнули колючие искры.
— И в моих услугах, вероятно, тоже? — криво усмехнулся он.
Мне не хотелось увольнять этого человека, тем более теперь, когда от него зависели жизни моих работников, но и дерзость спускать я была не намерена.
— Если приму решение отказать вам от места, я извещу вас, — сдержанно ответила я. — Пока вы нужны на фазенде.
Похоже, вместе с сывороткой против холеры он впрыснул себе в кровь и изрядный запас смелости:
— Вот что, госпожа Антонелли… Я остаюсь сейчас здесь не потому, что вам нужен. Если бы речь шла только о вас, я бы незамедлительно покинул Сантос. Но я должен помочь всем этим людям… которых вы сочли для себя обузой… А теперь — извините, меня ждут больные.
Закипевшую во мне злость, готовую в ту же секунду выплеснуться наружу, охладило внезапное тревожное известие, с которым прибежали батраки. «Большая вода! Большая вода!» — захлёбывались истошными криками они; в их глазах царил беспредельный ужас. Мы с доктором переглянулись. «О боже!» — с негромким коротким стоном вытолкнули его побелевшие губы. Ответом ему был невнятный угрожающий рокот, донёсшийся со стороны реки.
…Никогда ещё в этой местности природа не показывала людям такой враждебности, никогда ещё она не пыталась уничтожить их с такой свирепой и неукротимой силой. Вышедшая из берегов река была своенравна, как дикое животное, и страшна, как ревущая бездна. Ослепляя мутным свинцовым потоком, оглушая мощным протяжным гулом, в котором чудились и хохот, и рыдание, и победоносный боевой клич, она подминала под себя всё живое и алчно запихивала в пасть. В её огромной, бесформенной утробе скрывались целые посёлки, плантации и пастбища, а она всё никак не могла насытиться… Измученные, обезумевшие люди, цепляясь скрюченными, изодранными в кровь пальцами за любую щепку, пытались найти спасение на крышах своих прохудившихся от сырости хижин, залезали на верхушки деревьев, но вода, точно прожорливая исполинская гидра, находила их и там: зная, что беглецы всё равно никуда не денутся, неторопливо и неумолимо подползала, поглаживала длинными серыми щупальцами, лениво облизывала холодным языком — и отправляла в глотку…
Она загнала в угол и меня: с тяжёлым сердцем, мысленно простившись со всем своим имуществом, я отдала доктору связку ключей: мой дом как самое высокое здание в округе тут же оккупировали целые полчища оставшихся без крыши над головой менсу: они заполнили все коридоры и комнаты, битком набились в столовую и библиотеку, и даже умудрились пролезть на чердак. Очень скоро в особняке не осталось ни одного свободного уголка, ни одной ступеньки, где бы ни сидел или лежал, скрючившись в три погибели, какой-нибудь трясущийся от холода бедолага.
Я делила комнату с конюхом Лукашем, его младшим сыном Карло и беременной невесткой, и целыми днями вынуждена была выслушивать, как старик и девушка на два голоса распевают своих жалобные воззвания к Деве Марии. Иногда Карло, заметив мои нахмуренные брови и поджатые губы, сердито обрывал их: «Хорош досаждать сеньоре!.. От ваших слёз только сырости больше…». Но, замолчав на какое-то время, они заводили свою любимую волынку на новый лад — вспоминая, как погибли Жозиас и Бьянка. «Мы в ущелье прятались… Домишко-то водой залило… Сын ещё радовался: слава богу, мол, что Бьянка с ниньей осталась, хоть кто-то выживет… Кто ж знал, что она нас искала… Доплелась, бедняжечка, и, как подкошенная, рухнула… Он — к ней, она — не дышит…», — верещал Лукаш. «Никогда не видела, чтоб мужчина так убивался!.. Рыдал прям, как ребёнок!» — подхватывала женщина. «Я ему — Жозиас, сынок, уходить надо, опасно… А он упёрся — пойду хоронить — и всё тут! На руки взял её — и из дому… Так вместе и сгинули… Я сам видел, как их водой накрыло…». И тут уже приходила в бешенство я: «Да замолчите вы, наконец, или нет! Без вас тошно!»…
Но, как оказалось, все эти душещипательные разговоры были лишь прелюдией к моим злоключениям — супруге Карло вздумалось рожать… Почти целые сутки я провела без сна, находясь на подхвате у доктора, и потом ещё долго в моих ушах звенели его резкие, бранчливые окрики: «Ещё воды!.. Сухое одеяло, скорее!.. Поищите в моём саквояже бинты…», а перед глазами кружили, как на огромной багровой ладье, чадящая керосинка, окровавленные тряпки, плошки с кипячёной водой… Доктору следовало бы выбрать себе в помощницы кого-то другого: уж кто-кто, а я точно не годилась на роль повитухи, от чего, в свою очередь, долго и упорно открещивалась. Но он настоял, чтобы подле него находилась именно я. «У вас чистые руки и железные нервы», — со странной улыбкой заключил он, и смог меня убедить.
…Когда я поинтересовалась у Карло, как он назовёт свою дочь, он невозмутимо ответил — в честь святой, в день которой случилось рождение, и тут же осёкся: «Матерь Божья!.. Но какой же сегодня день?..». На вопросительный взгляд молодого человека я лишь устало пожала плечами: «Не помню, спроси у доктора…». Но доктор ориентировался во времени ничуть не лучше нашего: когда воздух, которым дышишь, наполнен смертельной опасностью, и день с ночью сливаются воедино, сутки становятся длиннее, чем обычно, и ты теряешь им счёт.
…Вода пребывала и очень скоро поднялась выше всех отметок на измерительных приспособлениях. По затопленным дорогам, как по реке, плыли обмазанные глиной пучки соломы, некогда служившие крышей, вырванные с корнем деревья, мёртвые лошади, коровы и овцы. Иногда к верхушкам деревьев, торчавшим над водой, прибивало вздувшиеся, распухшие тела людей: даже при сильном желании опознать их не представлялось возможным; как только эта вязкая тлеющая масса застревала меж ветвей, её тут же обхватывало со всех сторон целое облако копошащейся живности: пауков, скорпионов, муравьёв, многоножек. Во время наводнения, когда гибло всё живое, эти твари, вцепившись друг в друга, не только с невозмутимым спокойствием перемещались по воде, точно большой шевелящийся плот, но и умудрялись неплохо поживиться: любая гниющая плоть, выступающая над мутными бурлящими потоками, становилась их пищей.
…Вскоре подвалы дома оказались затопленными. Я с ужасом понимала, что долго нам не продержаться. Если дожди затянутся хотя бы ещё на неделю, мы все погибнем. Но даже если произойдёт чудо, и они прекратятся, нам всё равно конец — пока вода спадёт, мы перемрём с голоду. Мои работники, правда, успели вытащить из погребов все заготовленные впрок продукты и выкатить бочки с вином, но их надолго не хватит — чтобы прокормить всех моих постояльцев, запасов нужно раза в четыре больше.
— Голод нам не грозит, — услышала я за своей спиной.
Вздрогнув, я обернулась: не глядя на меня, Матео Феррас сосредоточенно раскуривал свою трубку; судя по его мокрому одеянию, с которого струями стекала вода, он только что явился с улицы… Он бросил к моим ногам связку небольших, нанизанных на прутик, рыбёшек.
— Плавает прям во дворе, подставляй шляпу и лови — красота!
Оказывается, пока я предавалась унынию, он успел обо всё позаботиться.
Подхватив добычу, я невольно улыбнулась: несколько трепещущих сизых хвостиков тут же обдали меня фонтаном мелких брызг.
— Будь благословенна, милосердная Мадонна!.. — молитвенно сложив руки, проговорила я. — Пойду, скажу мужчинам, чтоб наловили ещё — здесь на всех не хватит…
— Я бы воздержался от употребления в пищу этой рыбы… — услышала я голос доктора, задержавшего меня на полпути. — Снаружи — полно трупов. Она может быть разносчиком болезни.
— И что вы предлагаете? — вызывающе бросил Матео Феррас. — Загнуться с голодухи?
— Я знаю, что эту рыбу есть опасно.
— Сейчас для нас всё опасно! — огрызнулся Феррас. — Уйти — опасно, остаться — опасно, есть — опасно, пить — опасно, а не есть и не пить — тоже опасно!.. Может уж, недолго думая, нам всем взять и утопиться сразу, чтоб не мучиться, как думаете, доктор?
— Перестаньте паясничать! — вспылил доктор. — Я говорю серьёзно.
— Я тоже серьёзно!.. — он помрачнел. — Вода поднялась до тридцати футов… нужно что-то делать… иначе всем нам кранты…
Доктор опустил голову.
— Что вы предлагаете?
— Пока не знаю…
Видя перед собой понурые головы, безвольно опущенные плечи, из моей груди вырвался вопль:
— Ну, так думайте, думайте! Ищите выход!.. Мужчины вы или нет?!
Андалузец угрюмо посмотрел на меня.
— Есть одна мыслишка… Но вы скорее удавитесь, чем пойдёте на такое дело…
— Какая ещё мыслишка? Говорите скорей!.. Или вы считаете, у меня есть выбор?
— Выбора у вас нет… Дом стоит на самом высоком берегу реки, и в этом наше спасение, но если вода поднимется ещё футов на десять…
— Что, по-вашему, нужно сделать? — нетерпеливо перебила я.
— Построить защитные валы вокруг дома.
— Господи, из чего?.. — всплеснула руками я. — У нас нет ни брёвен, ни мешков с песком!
— Зато у нас есть прекрасный урожай нынешнего года…
У меня аж ноги подкосились:
— Только не это!
…Все, кого пощадила болезнь, и кто мало-мальски держался на ногах, работали, как одержимые, перетаскивая из амбаров мешки с кофе и сооружая стены дамбы на лужайках вокруг дома. Я трудилась наравне с другими, лишь изредка забегая в дом, чтобы согреть холодные, онемевшие пальцы, которые начинала сводить судорога, чашкой горячего кофе: минуты три, обхватив её, я блаженствовала, чувствуя разливающееся по телу тепло, а потом снова бежала на улицу… Работы не прекращались даже ночью. При свете фонарей, которые держали дети, усталые мужчины и женщины упрямо волокли с кофейных складов тугие мешки, складывали их в кучу, возводили заграждения… Время от времени, когда длинная огненная лента рассекала клубящиеся чёрные слои от зенита до горизонта и толща зловещей копоти над головой тонула в ужасающем грохоте, кто-то из них, испуганно закрыв глаза, падал на колени и начинал молиться, и тогда раздавался подстёгивающий окрик Матео Ферраса: «Шевелись, каналья!.. Мадонне нет до нас дела!.. Не успеем до утра управиться — и впору всем нам заказывать реквием![122]..»… Когда укрепление было построено, он приказал всем отправляться спать, а сам вместе с тремя добровольцами остался сторожить дамбу. С этого дня, в любое время суток, возле бастиона из кофейных мешков выставлялся дозор: как только воде удавалось пробить небольшую брешь, она тут же немедленно заделывалась; каждый понимал — малейший прорыв — и мы погибнем. Мы отчаянно боролись с рекой — и победили. Моё жилище стало островом посреди безбрежного моря — единственным местом, где людям удалось уцелеть.
…Когда дожди прекратились, и вода понемногу начала спадать, мои работники вынесли за ограду дома длинную рыбацкую лодку, и я смогла совершить первую за последние три месяца вылазку; на вёсла сел Матео Феррас. Недавние драматические события сблизили нас, и я невольно прониклась уважением к этому вечно хмурому, грубоватому испанцу. Я давно уже мысленно решила, что как только подвернётся удобный случай, сделаю ему предложение — стать управляющим на моей фазенде. Долгое время я искала толкового человека, но под руку попадался один только мусор: Гуга был аферистом, Кассио — бандитом, а мне нужен был тот, на кого можно опереться. Тянуть на себе сразу и банк, и плантацию я больше была не в состоянии.
Я подумала, что сейчас самое время обсудить с ним все детали нашего будущего делового соглашения, и вкрадчиво начала:
— Скажите, Феррас, какие у вас планы на будущее?
Зачерпнув пригоршню воды, он плеснул себе в лицо, тряхнул головой и рассмеялся:
— Господи, какая ж благодать кругом!.. Небо — чистое, синее!.. А птицы как поют!..
Я невольно осеклась на полуслове — нет, с ним решительно нельзя говорить серьёзно!
…Мы плыли около часа. Я не узнавала свои земли. Некогда обширная плоская равнина, засаженная сплошь кофейными деревьями, превратилась в гигантское озеро. Вода больше не таила в себе опасности, но тысячи акров плодоносящих растений, погребённых в её илистых, взбаламученных недрах, оказались уничтоженными. Закусив губу, я мысленно начала подсчитывать убытки. Ещё вчера меня поддерживала нехитрая философия — жива, и ладно, но сегодня настал новый день, и невидимый финансист в моём мозгу начал бесстрастно перебрасывать по длинным спицам деревянные костяшки.
…Успокоившаяся, присмиревшая река безмятежно плескалась в оливковых, истомлённых избыточной влагой, кронах: маленькие красные рачки, весь свой век живущие под затопленными корягами, поднялись до неведомых им раньше высей, и суетливо перебирали клешнями скрытую под водой листву, вдоль обвитых водорослями ветвей стайками бесновались пугливые рыбки… Солнце высунуло из-за туч своё большое, умытое утренним светом, лицо и подставило тёплые руки навстречу возвращавшемуся в родные места птичьему клину. Жизнь продолжалась!
— Эй, сударыня! — перед моим носом выразительно пощёлкали пальцами. — О чём задумались?
— О страховке.
— Нашли о чём думать… Да оглянитесь вокруг! — услышала я восторженный возглас. — Красота-то какая!.. И река — будто ручная!.. А давеча, помните, как цепная собака рвалась!..
— Да… как собака…
Я почувствовала, как колено сжали чья-то сильные пальцы. От вперившегося в меня затуманенного взгляда бросило в жар. «Нет, Феррас! Вы с ума сошли!..» — запротестовала я. Но куда там… Точно пушинку, меня стиснули в объятиях и опрокинули навзничь… Я нащупала в кармане плаща пистолет…
— Вот чёрт!.. — выпуская меня, растерянно пробормотал мужчина.
— Руки!.. — я выразительно ткнула дулом ему в рёбра.
— Не сходите с ума! Я пошутил…
— Держите так, чтобы я видела… — приподнявшись, я оправила юбку, пригладила взъерошенные волосы.
— Да ладно вам!.. Не могу же я и грести, и руки поднятыми держать…
— Вот и гребите!.. И без фокусов!
Он послушно взялся на вёсла. Некоторое время ехали молча.
Река, разомлевшая от жары, казалось, дремала. Воздух был неподвижен и душен.
Взгляд напротив давил своей тяжестью.
— Привыкла, что всё всегда делается по твоей указке, да? — процедил мужчина. — Только вот что я тебе скажу, дамочка, — я под твою дудку плясать не стану…
Я не успела ответить: резким движением он схватил меня за руку и вырвал пистолет.
— И что теперь будешь делать, дорогуша?
— Не смейте мне тыкать.
— А то что? — возвысил голос он. — Я буду говорить с тобой так, как захочу, а не нравится — выметайся!
Я угрюмо покосилась за борт: река грузно переваливалась во сне с боку на бок и была безобиднее ягнёнка, но мне бы даже в голову не пришло шагнуть в её воды, не знающие ни границ, ни берегов.
— Вам это даром не пройдёт!
— Поостерегись угрожать! А не то я преподам тебе такой урок, надолго запомнишь… С норовистыми бабёнками у меня разговор один…
В таком тоне со мной не говорили, пожалуй, со времён ублюдка Аттилы. Я улыбнулась — как приятно снова ощутить себя молодой!
— Не трясите портками, меня этим не испугаешь… Приберегите свои таланты для какой-нибудь прачки… Сейчас я с вами говорю как владелец Сантос — одной из самых крупных кофейных плантаций на восточном побережье…
— Какая честь для меня!.. — съязвил он.
— Я бы попросила выслушать, не перебивая.
— Может, ещё и стоя?.. — налегая на вёсла, насмешливо отозвался он.
Я пропустила язвительный выпад мимо ушей.
— Я собираюсь расширять производство и нуждаюсь в хороших работниках… Вы — грубая скотина и редкостный хам, но я имела возможность убедиться собственными глазами в ваших практических навыках. И потому хочу пригласить вас к себе на службу, на должность управляющего в Сантосе.
Закатив глаза, он поцокал языком:
— Святой Иоанн Авильский — не иначе, как ты похлопотал!
— Гарантирую приличное вознаграждение. Поверьте, я умею ценить честных и добросовестных тружеников.
Он рассмеялся мне в лицо:
— Красивые слова, очень красивые… И ошейник, что вы предлагаете, тоже хорош… Да только не по мне…
— Не глупите, Феррас! Вы не можете всю жизнь прожить, как отщепенец, без кола, без двора. Пора осесть, обзавестись хозяйством… Жениться, в конце концов!
Он широко улыбнулся.
— Уж не себя ли хотите сосватать?
— Вы, конечно, можете подумать, время на это ещё есть. Но не слишком долго — работы непочатый край. Если согласны, я хочу, чтобы вы как можно скорее приступили к своим обязанностям.
Усмехнувшись, он взглянул исподлобья:
— Если отбросить вашу тираду, и оставить в ней всего лишь два слова, самую соль, то в этих словах будете вся вы… «Я хочу» — вот эти слова.
— Не передёргивайте. Я предложила вам хорошую работу. Всякий мечтал бы оказаться на вашем месте.
— Всё так, сеньора, всё так… Да вот только я не всякий!.. — пододвинувшись вплотную, он схватил меня за локоть, прижал к себе и зашипел сквозь зубы. — Когда я впервые тебя увидел, я еле сдержался, чтоб не пристрелить. Помнишь, как ты вопила там, на берегу?.. «Убирайся, голодранец, это моя земля»!.. А потом подослала убийц… А теперь вдруг оказалось, что я тебе нужен и ты поёшь совсем другим голосом…
— Вы мне руку сломаете!..
— Голосок-то другой, да только песни всё одни и те же!.. — сощуренные чёрные глаза буквально прожгли ненавистью. — Когда там, под дождём, мы вместе таскали тюки с кофе, и ты не корчила из себя важную сеньору, мне на какой-то миг показалось, что в твоей груди бьётся живое сердце… Но я ошибся — там пустота!
Услышав знакомое слово, которое мне так часто бросали в лицо, я усмехнулась:
— Живя в аду, трудно быть ангелом.
— Да что тебе известно про ад?.. Твой ад — это не покрывшая убытки страховка, и всего-то!.. А я знаю другой ад! Ад — это когда всю твою семью — отца, мать, детей, братьев — расстреливают только потому, что они спрятали раненого солдата! Ад — это когда твою жену насилуют на твоих глазах и приговаривают: «Вжарь ей, республиканской сучке, как следует»! Вот что такое ад! Ты о нём понятия не имеешь!
— Не имею, — холодно ответила я. — У меня нет ни отца, ни матери, ни братьев… Мне некого оплакивать.
— За исключением паршивых банкнот… — презрительно процедил он.
— Чем богаты, тем и рады… — я почувствовала прилив неукротимой злобы. — Не хочешь работать на меня — иди к чёрту! Согласен — ударим по рукам и за дело. Только избавь меня от своих слезливых историй! Плевать мне на то, кто ты и откуда приехал! Плевать мне на твою жену и на мать! Я предлагаю тебе зарабатывать вместе со мной деньги… большие деньги! Не хочешь — проваливай! Только не пытайся разжалобить россказнями про то, как отымели твою бабу! Для моих ушей это — детский лепет!..
Он смерил меня долгим, пристальным взглядом:
— Таких как ты я ненавидел всю жизнь… Ты и тебе подобные выползают из тёмной дыры… мерзкой, отвратительной клоаки… голодные, живучие, как крысы… А потом топчут себе подобных… сжирают заживо…
— Такие как ты вызывали у меня только презрение… Что ты сейчас пытаешься передо мной изобразить: святые принципы, неподкупность, порядочность? Купить можно всех и вся. И тебя в том числе. И недорого. И ты сам об этом знаешь. Потому и приехал сюда, в Новый Свет… Раз ты такой идеалист, что ж ты не остался у себя на родине сражаться с Франко? Шкуру поберёг?
— Заткнись, женщина!.. Иначе — я за себя не ручаюсь!..
— Не маши перед носом оружием!.. Думаешь, я боюсь?.. Я хочу получить ответ на свой вопрос: когда ты сможешь начать работу?
— Я не потерплю, чтобы мной командовала баба…
— Если решишь остаться на фазенде, я незамедлительно уеду в Рио, даю слово. Никто не будет тобой командовать, ты сам будешь вести хозяйство. Меня интересуют только деньги за собранный урожай. И ничего больше!.. Так, когда ты сможешь начать работу?
Он опустил глаза.
— Сегодня…
Я усмехнулась — этого ответа и следовало ожидать… А поднял столько шуму…
…Вода спала, оставив грязный серый налёт на стволах деревьев и стенах домов. Понадобилось несколько месяцев, чтобы расчистить затопленную территорию от завалов и отстроить всё заново. Впрочем, мои работники не унывали и с энтузиазмом принялись возводить новые жилища на месте разрушенных: я щедро выдала каждой пострадавшей семье по-новому кредиту. Батраки ликовали, как дети, и называли меня благодетельницей. А «Банк Антонелли» в очередной раз увеличил прибыль.
Оставив фазенду на попечение нового управляющего, я смогла наконец-то вернуться в Рио к моим «паршивым банкнотам». Кроме них меня, действительно, давно уже ничто не волновало. Разве что золотые слитки…
Они хлынули во все филиалы банка примерно за два года до окончания войны. Я беспрепятственно заводила для своих партнёров из Германии золотые и валютные счета, а те, в свою очередь, оставляли мне четверть от всего, что переводилось на хранение. Это был равноценный обмен, учитывая, что я не интересовалась происхождением капитала. Впоследствии некоторые из вкладчиков забрали свои сбережения, и при моём посредничестве выкупили крупные земельные участки где-то в глубинах сельвы, но большинство счетов так и остались невостребованными, и мне такое положение вещей было только на руку. По совету дона Амаро, с которым я неустанно продолжала поддерживать деловые отношения, «Банк Антонелли» внёс поправку в устав: «любой счёт, операции с которым не ведутся более двадцати лет, ликвидируется, а деньги переводятся на активы банка» — маленький штришок, а какая ощутимая практическая выгода!
Всё шло замечательно, и отлаженный механизм работал без сбоев, пока не началась международная охота за уцелевшими военными преступниками. И тогда ко мне время от времени стали наведываться целые делегации агрессивных и заносчивых личностей, которые задавали не в меру щекотливые вопросы. Ответом на каждый из них было неизменное — «нет»: «нет, мы не можем предоставить сведения о клиентах банка — мы не вправе давать такую информацию третьим лицам», «к сожалению, ничего не могу пояснить по поводу интересующих вас счетов — тайна вклада, вы же понимаете», «ну что вы, откуда нам знать о теперешнем местопребывании наших вкладчиков, мы же не полиция, мы не следим за передвижениями людей»… С каждым разом их вопросы становились всё более настойчивыми, а поведение — вызывающим, но я была непреклонна — «нет» на все вопросы. Покрутившись вокруг, повынюхивав, они отстали.
…Но мой самозваный братец упорно пытался втянуть меня в авантюру…
В последнее время он стал моим единственным собеседником. Не скажу, чтобы я начала доверять этому прохвосту, просто он обладал качествами, которых у меня никогда не было: звериным чутьём и глазами на затылке, и его советы иногда здорово помогали.
Управление гостиничным бизнесом и женитьба на одной из самых известных женщин Рио привнесли в его облик солидности. Трудно представить, что этот степенный и холёный господин, преисполненный важности и чувства собственного достоинства, когда-то трусовато семенил в рваной сутане за клиентами салона с баночками своих «необычайно эффективных» снадобий и в тайне надеялся втюхать их какому-нибудь простачку за три рейса… Впрочем, со мной он был прежним Гугой, и даже не забывал прихватить к ужину, во время которого мы чаще всего встречались, чтобы обсудить насущные дела, свою обычную развязность и жаргонные словечки.
— Не лучше ли было бы сговориться с этими типами? — ответил Гуга, когда я рассказала про назревающий скандал с зарубежными банковскими вкладами. — Они жаждут мести и рыщут по всему свету в поисках висельников. Немцы малость пощипали их во время войны, теперь они хотят отыграться. На этом можно неплохо заработать. У нас есть ценная информация — её можно было бы очень дорого продать.
— Я не полезу в чужую драку. Меня это не касается… Мне что немцы, что евреи — всё одно. Банкир не имеет национальности…
— Золотые слова, дорогая Джованна!
— И потом нужно просчитать всё на годы вперёд… Политика — штука непредсказуемая… Кто знает, как ещё может всё перекрутиться… Вон Варгас — снова на коне, а ведь совсем недавно его таким с треском выперли с поста[123], что казалось — всё, конец, больше не поднимется!.. И эти ребята, которые пачками прибывают сюда по фальшивым документам, вы уж поверьте, ещё дадут о себе знать… Они не прячутся. Они легли на дно и затаились!.. Даром что ли понахватали себе столько земли в сельве?..
— Да вы, никак, прониклись идеями национал-социализма, милая сестричка? Это сейчас немодно. Даже Варгас от них открестился, а ведь он был одним из самых рьяных…
— Да к чёрту вас с вашим национал-социализмом!.. — вспылила я. — Вы поймите одно, Гуга, если мы сдадим этих парней, мы поставим под удар весь вложенный ими капитал. Нас просто заставят его отдать, а это очень большие деньги! Колоссальные!.. Ещё и репутацию деловую испортят. Кто потом захочет иметь дело с пособниками нацистов?
— «Отдать»? Что значит «отдать»?.. — воскликнул он, задетый за живое; и так всегда — лишь только речь зайдёт о деньгах, он аж подпрыгивал на месте, как ужаленный, и вся его торгашеская сущность выползала наружу… А Феррас ещё упрекал в меркантильности меня… — Ну, пусть отправляются к Перону[124], может, он им что-нибудь отдаст… Или в Швейцарию… может, там им откроют свои сейфы…
Я с сомнением покачала головой.
— Не хочу осложнений… Вы же понимаете, одно дело тягаться со мной, и совсем другое — с президентом Аргентины.
— Вот он-то как раз более уязвим, дорогая Джованна, — всё время на виду. И расходов у него не в пример больше — одни только выборы порядочно высасывают!.. Да и красотка Эвита[125] недёшево обходится…
При упоминании о жене Перона у меня испортилось настроение:
— Из-за этой дряни мне пришлось закрыть в Аргентине два филиала — такой обложила данью, что не продохнуть… Слыхали про её благотворительный фонд[126]? Та ещё лавочка…
— Народ её любит… почитает за святую…
— Если бы я обобрала всех финансистов и промышленников, а потом разъезжала по всей стране и на ворованные деньги задабривала голодранцев, меня бы тоже любили!
— Далась вам эта Эвита! Что с неё взять — выскочка, пусть тешится… К тому же, вы ведь не очень пострадали материально, верно?
— Я была бы редкой идиоткой, если бы не перенаправляла всю заработанную прибыль в Штаты. Разве можно нормально вести бизнес в странах, подобно нашей, где что ни день, то восстание, национализация или переворот!.. Разумеется, я заблаговременно вывела оттуда все финансовые потоки. Они попытались наложить арест на имущество, но просчитались — оба здания, в которых располагались конторы банка, были всего лишь арендованы. Я собиралась их выкупить, но не успела, хвала Мадонне!
— Тем более нет причин огорчаться… Ну, а насчёт этих пришлых искателей немецкого золота… всё же подумайте… Риска никакого — мы только след показали — и в сторону.
И тут я прозрела: ну, конечно, как же мне сразу в голову не пришло!
— Теперь я вижу, они заявились по вашей наводке!..
— Помилуйте, сестрица!.. — безукоризненно сыгранная кротость — хоть иконы с него пиши. — Да чтобы я за вашей спиной такие дела проворачивал!..
— Не сомневаюсь, что вы и похлеще проворачиваете!.. Ну, братец, вы своей смертью не умрёте!
— О, Небо!.. — вытащив спрятавшуюся под рубашкой ладанку и старательно облобызав её, он молитвенно сложил руки. — Я поставлю свечку святому Матфею[127], чтобы он вас вразумил!..
— Пусть он лучше вас вразумит!.. Вы, что, не понимаете, в какую трясину нас затягиваете?! Думаете, всё кончится одной невинной сделкой? Как же! Стоит только пустить волка в овчарню!..
— Джованна, дорогая… я не единым помыслом…
— Вот что, Гуга, занимайтесь-ка лучше своей гостиницей и не лезьте туда, куда не просят!.. Вам, что, денег не хватает? Или по привычке гребёте всё, что плохо лежит?.. Изображаете из себя джентльмена, а сами, как были мелким жуликом, так им и остались.
Искоса взглянув на меня, он утопил под накрахмаленным воротником цепочку с ладанкой и с ядовитой усмешечкой ужалил:
— Ну, вы-то никогда не изображали из себя леди…
…Не знаю, насколько мне удалось вправить мозги этому кретину Гуге, но рисковать я не стала и уже на следующий день аннулировала все имеющиеся в моём банке «немецкие» счета. Вместо этого я открыла на подставных лиц несколько других анонимных счетов и перевела туда все средства. Когда поступал запрос от кого-нибудь из моих германских вкладчиков, выскользнувших из расставленной в Европе ловушки и благополучно перебравшихся на территорию нашей страны, «Банк Антонелли» абсолютно легально открывал кредит на формально очень выгодных условиях (по пониженной процентной ставке и с отложенными на много лет платежами), а реальные платежи по займу списывались с анонимного счёта. Безотказная схема отмывания грязных денег.
Почти всю прибыль, вырученную от секретных банковских операций и сделок с землёй, я разделила на несколько частей и разместила в американских и швейцарских банках. И жизнь моя устремилась в новое русло — поиски нефти.
Я бы никогда не взялась за этот бизнес, если бы меня не уговорил сеньор Меццоджорно. «Заняться нефтью? — моё изумление не знало предела. — Но что я в этом смыслю, дон Амаро?». «Ты и в кофе ничего не смыслила однако же справилась…», — я чувствовала, что как собеседник лукаво улыбается по другую сторону океана… Причину этого лукавства я поняла позже… Пока же меня охватило лихорадочное возбуждение, которое охватывает всех первооткрывателей…
…Чёрное золото. Чёрная кровь земли — жирная, густая, маслянистая… Я отдала её поискам два года своей жизни… два тяжёлых и безрадостных года… Когда вспоминаю их, перед глазами, как через пелену, проступают унылые картины…
…Бесконечные дороги: узкие, заросшие кустарником… размытые дождями, с непролазной грязью по колено… петляющие, как хвост гремучей змеи, с крутыми поворотами и резкими обрывами… песчаные, усеянные острыми камнями, распарывающими самые прочные шины…
…Бесконечные леса: могучие старожилы, набросившие на суковатые плечи, сплетённые из нитей лиан, влажные шали… обувшие искривлённые, выгнутые ноги в деревянные, припорошённые мхом и ржаво-бурыми прелыми листьями, башмаки… клочки унылого серого неба над головами угрюмых неподвижных великанов… приглушённые крики птиц… прерывистое рычание крадущегося ягуара… треск падающих деревьев… блестящая испарина пуха, исторгнутая коварными растениями — слепящая, обжигающая кожу едкой золой… восковые цветки пассифлоры[128]…
…Бесконечные реки: стремительный поток, широкой лентой вившийся среди тёмной зелени джунглей… взлетавшие высоко в небо брызги… тысячи разинувших зияющие пасти воронок… грязно-белая пена, повисшая на стеблях тростника… кряжистые, точно окаменелые тела, похожие на большие брёвна, дремлющих под солнышком кайманов… увязший в иле и будто отполированный скелет буйвола, подвергшегося атаке прожорливых пираний… круглые, напоминающие огромные зелёные сковородки, кувшинки, с монаршей грацией скользившие по воде…
…Бесконечная жара: отупляющая… удушающая, словно кольцами анаконды, намертво…
…Бесконечные трудности: белый песок, фонтаном взметавший из-под буксующих колёс… мутная, непригодная для питья вода, кишевшая паразитами… ядовитая, извивающаяся смерть на каждой тропинке… зудевшее от укусов насекомых тело…
…Бесконечная нищета: одетые в лохмотья индейцы, с трудом бредущие за плугом вслед за своими тощими горбатыми волами… измождённые, полуобнажённые женщины в юбках из пальмовых листьев, отгонявшие москитов, которые стремились облепить сочившиеся сукровицей язвы на распухших ногах… морщинистые, сгорбленные старухи, похожие на древних черепах, медленно помешивающие угли в своих гнилых, скособоченных лачугах…
…Бесконечно долгие два года впустую потраченной жизни… Не только моей.
Разведывательную экспедицию организовала национальная нефтяная компания совместно с одной известной американской нефтяной фирмой, акционером которой был сеньор Меццоджорно. На выделенные американцами средства я наняла лучших бразильских геологов, геофизиков и бурильщиков… Я не особо вникала в их работу — анализы почвы, карты результатов исследования, схемы, чертежи, таблицы, — от всего этого я была крайне далека. И постоянно сама себе задавала вопрос: почему выбор американцев пал именно на меня, ведь более бесполезного человека в этом деле даже выдумать трудно… Но, чтобы хоть как-то оправдать оказанное доверие, время от времени наведывалась в постоянно менявший место расположения лагерь геологов и контролировала их. Точнее, пыталась: трудно уследить за людьми, когда не понимаешь, что они делают… Когда я, тщательно заучив сообщённые мне сведения, звонила дону Амаро и с умным видом сообщала — «целесообразнее вести бурение глубже, чем на три тысячи метров» или «мы первые проводим разведку в притоках Амазонки» — я чувствовала, как он улыбается на другом конце провода… Разгадать бы сразу загадку этой улыбки!
Всё это время мне приходилось жить на три дома, мотаясь из Рио в Эспириту Санту, а оттуда — в джунгли. Тяжело, учитывая, что никому никогда не приходило в голову проложить по всей стране железную дорогу и каждая поездка из одного штата в другой становилось настоящей пыткой… Таких спартанских условий существования я не имела с самого детства. Жилищем, где приходилось спать и укрываться от дождя, служили палатки или крытый кузов автомобиля, но чаще — настил из необтёсанных брёвен: в мягкую землю вгонялись четыре столба, соединявшиеся подпорками из длинных шестов, между ними натягивался брезент, крыша сооружалась из веток. Постелью был мешок, набитый соломой; сверху набрасывалась противомоскитная сетка, подпираемая прутьями. И всё же, ложась спать, я всегда оставляла зажжённой керосиновую лампу, чтобы хоть немного отпугивать проклятых кровососущих тварей… Я постоянно опасалась, что подхвачу от них какую-нибудь заразу, хотя и сделала по совету семейного доктора какие только возможно прививки: против сыпного и брюшного тифа, столбняка, оспы, жёлтой лихорадки…
После длительных, бесплодных поисков, когда я уже твёрдо решила послать всё к чёрту, земля открыла свои недра… До сих пор помню запах серы, которым пропитался случайно найденный пласт почвы, и незабываемую светлую радость, охватившую всю мою команду… А потом — долгое монотонное жужжание тяжёлого бурава и огромный чёрный фонтан, с чудовищным грохотом устремившийся в небо и обрушившийся на землю вязким смоляным дождём; в считанные секунды он расшвырял всё, что попалось ему на пути: деревянную вышку, доски, брёвна, инструменты, ослепил и сбил с ног людей… Я в ужасе схватилась за голову: «Мои волосы!.. Моя одежда!..», а геологи надо мной смеялись: «В этой земле скрыты миллионы долларов, госпожа Антонелли… миллионы!.. Теперь нашей стране больше не нужно покупать нефть у западных компаний!..». От слова «миллионы» я сразу же пришла в чувство.
Отныне нефтяной промысел перестал казаться таким уж скучным занятием. Очень скоро я узнала про нефть всё и мысленно прикидывала, какое оборудование стоит докупить, сколько нанять рабочих, как обеспечить транспортировку буровых вышек по бездорожью… Я не сомневалась ни на минуту в необходимости значительных собственных инвестиций в это дело: не хотелось быть в стороне от большого и сладкого пирога… А потом был тяжёлый разговор по телефону с доном Амаро. Стоит вспомнить — кровь бросается в голову.
— Нефти в Бразилии нет и быть не может, — изрёк он, когда я сообщила ему радостную весть.
— Что значит «нет», когда в Бразилии полно нефти! — возмутилась я.
— Твои люди ошиблись, Джованна…
— Да нет же, я собственными глазами видела… Целое море нефти!.. Вы даже представить себе не можете, насколько её много!..
— До вас уже проводились исследования нашими американскими специалистами, и все они подвели к единому выводу — в Бразилии запасов нефти нет!.. Ты слышишь, что я говорю? Нет, и точка! — я почувствовала, что мой собеседник теряет терпение и не понимала причин его горячности и упрямства.
— Ваши американские специалисты сделали неправильные выводы — нефть есть! Есть, чёрт возьми!.. Я знаю про эти разработки: да, американцам не повезло… Но наша экспедиция увенчалась успехом!.. И я собираюсь немедленно послать об этом отчёт нашему президенту…
Тяжёлый вздох, короткое молчание, а затем уже более сдержанный, терпеливый тон учителя, говорящего с бестолковым учеником:
— Послушай, дорогая Джованна… давай поговорим откровенно… Ты неправильно поняла возложенную на тебя миссию…
— Что это значит?
— Это значит, что тебе нужно было всего лишь искать нефть… Искать, понимаешь?
— Так я и искала… И нашла!
— А вот этого уже делать было не нужно!
— Я вас не понимаю…
— Хорошо, давай начистоту… Бразилия закупает нефть у наших нефтяных компаний. Нам нужно, чтобы она и дальше продолжала это делать…
— Ах, вот оно что… Потому-то ваши специалисты ничего и не могли найти… Что ж вы сразу не сказали?
— Кто ж знал, что ты проявишь такую прыть!.. Мы искали самого далёкого, самого несведущего в этом вопросе человека. Американцам надоело таскаться по этой дикой, необжитой стране, пригодной разве что для примитивных туземцев. Потому и решили привлечь кого-нибудь из местных… И тут я вспомнил о тебе, моя глупышка… Твою кандидатуру поддержали единогласно: во-первых, женщина, что уже само по себе смешно, во-вторых — из простонародья…
— Смешно, значит… — тихо уронила я.
— Не обижайся, дорогая… Я не хотел задеть твоё самолюбие. Просто ты идеально подходила для этой роли… Но, должен признать, я тебя недооценил.
— Вы поступили подло по отношению ко мне… Впрочем, я сама виновата: мне ли было не знать, с кем имею дело.
— Теперь я сожалению, что не рассказал тебе всё сразу… Тогда бы ты не наделала глупостей…
— Тогда бы я не ввязалась в это дерьмо!
— А разве игра не стоила свеч? Тебе щедро заплатили за услуги.
— Есть вещи, которые не стоит делать даже ради денег. Я занимаюсь бизнесом, а не шулерством, дон Амаро.
— А это и есть бизнес, Джованна… Наш бизнес!.. Как ты думаешь, кому принадлежит ваша национальная нефтяная компания — предмет гордости бразильцев? — в его сардоническом смехе чувствовалось превосходство человека, привыкшего повелевать. — Ты знаешь, кто её пайщик?.. Так я скажу тебе: она просто жалкий винтик в механизме наших корпораций! Так же, как и другие ваши предприятия… Запомни, Джованна, запомни раз и навсегда: бизнес говорит только по-английски! Ему плевать на чужие устои и порядки, он говорит по-английски в любой точке планеты!..
Я приложила неимоверные усилия, чтобы придать своему голосу решительность.
— Кончено, дон Амаро… Больше я не хочу иметь со всем этим ничего общего.
— Ты не можешь выйти из игры, Джованна. Потому что все твои капиталы — в американских банках. А это значит, что интересы у нас с тобой — одни. И в наших общих интересах, если ты будешь продолжать искать нефть… искать и не находить её. А перед своим президентом отчитаешься, что пока нефтяная разведка положительных результатов не дала… Надеюсь, ты всё поняла?.. Будь умницей, дорогая, и не доставляй осложнений ни себе, ни нам… Ты ведь послушная девочка, да, Джованна?..
…Никогда ещё не было так противно. Впервые в жизни я имела дело не с живыми людьми, а с невидимой силой из-за океана, с которой вынуждена была считаться даже против своей воли… Я не знала имён этих таинственных магнатов, но знала абсолютно точно, что всякий раз, когда мне или любому из моих соотечественников приходилось отирать пот после напряжённой работы, в другой точке земного шара поднимался хрустальный бокал и произносился торжественный тост — за чьё-то великое будущее.
Дона Амаро Меццоджорно я возненавидела больше, чем когда бы то ни было. Если бы у меня была возможность устранить этого человека физически, я бы без малейших колебаний сделала это. И вместе с тем я не могла ни на минуту забыть, какой лакомый куш находился в его руках: акции, недвижимость, миллионные банковские счета… И самое потрясающее заключалось в том, что у этого мешка с деньгами не было ни жены, ни детей… Разве таким заманчивым обстоятельством нельзя не воспользоваться?..
Обсудив с доном Амаро все детали нашего совместного взаимовыгодного соглашения, мы составили договор, в котором по пунктам расписали все возможные нюансы. Я на сто раз проконсультировалась по каждому вопросу с лучшими юристами Рио и только после того, как убедилась, что формулировки документа не содержит никакого подвоха, вызвала к себе дочь.
…Я сдержала своё слово и дала девочке лучшее образование. Она много лет провела в одной из самых дорогих частных школ Европы, потом была Венская академия изящных искусств. Когда Тереза её закончила, я вернула девушку в Бразилию и объявила ей свою волю — она должна отправиться в Штаты и стать женой дона Амаро Меццоджорно.
…Кажется, моё внезапное предложение её удивило.
— Но я не собираюсь замуж… — растерянно проговорила она.
Она, несомненно, очень красива и женственна: высокая, великолепно сложенная, гибкая и грациозная; у неё густые чёрные волосы, перехваченные широкой лентой, с «взбитой» по последней моде чёлкой, тонкие черты лица, смуглая оливковая кожа, живые выразительные глаза… Этот греховодник Амаро, конечно, ногтя её не стоит, но он не так уж молод, чтобы малютке пришлось слишком долго терпеть его домогательства.
— Напрасно, тебе давно пора подумать о замужестве… Впрочем, я подумала обо всё за тебя… Итак, решено: неделю я даю тебе на сборы, потом едешь в Америку, свадьба будет там. Сеньору Меццоджорно так удобнее: он хочет пригласить на торжество всех своих деловых партнёров.
— Но я даже не знаю, кто такой этот сеньор Меццоджорно? — всплеснув руками, воскликнула она: никакой выдержки, вся в покойного отца.
— Мой давний и очень хороший друг. У нас совместный бизнес.
Впрочем, слово «бизнес» для Терезы — пустой звук. Молодая особа, которую я с трёх лет называю дочерью, никогда не скрывала, что ей безразличны и банк, и плантация: когда человек ни в чём не знает отказа, ему нет нужды задумываться над тем, как зарабатываются деньги. Искренне завидую бизнесменам, чьи отпрыски продолжили семейное дело. Эта же юная леди никогда не станет мне помощницей. Она и сейчас, видимо, вознамерилась противоречить.
— Но какое я к этому имею отношение? Почему никто не спрашивает меня, согласна ли я на этот брак?
Никакого желания проявить хотя бы чуточку понимания, один только гонор и возмущение.
— Не беспокойся, твои интересы учтены. Мои юристы позаботились об этом.
— Мама, я говорю сейчас не о юристах!.. Решается моя судьба! Почему никто не спросит, что я обо всё этом думаю!
— Тебе ни о чём не надо думать. Просто сделай так, как я сказала.
— Но я же не вещь, чтобы меня вот так просто можно было взять и передать из рук в руки!.. Почему никто не хочет считаться со мной!..
— Уж с кем с кем, а с тобой считаются в первую очередь: ни в случае развода, ни в случае смерти супруга ты не будешь в убытке. Твой брачный договор составлен очень искусно, за это не беспокойся.
— Причём здесь брачный договор?!. Я не знаю этого человека… Я не люблю его!..
— Никто тебя не заставляет его любить. Тебе нужно просто выйти за него замуж… Мне это нужно, понимаешь?
— Да, понимаю, для тебя это очередная сделка… А меня просто используют, как кусок мяса!
Сколько враждебности в её взгляде! Не хотелось бы, чтобы она меня возненавидела, ведь я стараюсь для её же блага. Амаро Меццоджорно, конечно, редкая сволочь, но с ним она будет неплохо пристроена в жизни. В конце концов, миллионы долларов ещё никому не повредили.
— Боже мой, как с тобой сложно!.. — со стоном выдохнула я.
— Мамочка, пожалуйста, не принуждай меня!.. Разве тебе будет хорошо от того, что я буду несчастна?..
Напрасно, милая, напрасно, — я нечувствительна к слезам. Таких вещей я вдоволь насмотрелась ещё в салоне.
— Прекрати! Это уже похоже на шантаж!.. Я и так слишком долго потакала твоим прихотям… Мне было нужно, чтобы ты выучилась на юриста… Помнишь, как я убеждала, как я просила тебя об этом?! И что же — ты пошла мне навстречу? Нет, ты заявила, что мечтаешь быть художником, и теперь по твоей милости я должна выкидывать чужим людям кучу денег за услуги!.. А знаешь ли ты, во сколько мне обошлось твоё образование? Ты можешь назвать много бразильских семей, отправивших детей обучаться в Европу?.. В общем, так, Тереза, это дело решённое и точка! Ты выйдешь за сеньора Меццоджорно, хочется тебе того или нет!
— Ты не заставишь меня!
Надо же, сколько злости — даже ногой топнула… В гневе она особенно хороша; дорого бы дала, чтобы посмотреть, как Амаро обломает зубы, пытаясь выдрессировать эту самолюбивую штучку… Готова спорить, что года не пройдёт, как он сыграет в ящик. Что ж — скатертью дорога!
— И как ты собираешься мне помешать? Процитируешь Декларацию прав человека?.. Будет нужно — я тебя к нему за волосы оттащу!
Её глаза блеснули демоническим огнём: я на мгновение явственно ощутила присутствие Антонио.
— Ты ведёшь себя, как бандерша! — сжав кулаки, закричала она.
Я влепила ей пощёчину.
Широко раскрыв глаза, будто впервые меня увидела, она истерически завизжала, как делала в детстве, когда не получала того, чего хотела:
— Бандерша! Бандерша!.. Сводня!..
Дальнейшие препирательства были бесполезны. Я вышла из комнаты, закрыв двери на ключ. Тереза и опомниться не успела, как оказалась в западне. Она запоздало бросилась к двери, застучала по ней кулаками: «Ненавижу тебя!.. Никогда тебе этого не прощу!..». Чтобы не слышать её рыданий, я уехала в банк… У меня не было ни малейших сомнений в том, что я поступаю правильно, пытаясь устроить судьбу дочери именно таким образом. Если я сейчас собственноручно не позабочусь о её замужестве, со временем она себе такое убожество из богемной среды найдёт, что придётся только локти кусать. Я вдоволь насмотрелась на весь этот сброд, когда жила вместе с её отцом. Нетрудно представить, что произойдёт, если она спутается с кем-нибудь из проходимцев-художников. Всё моё состояние, если, не дай бог, со мной что-нибудь случится, пойдёт по ветру в первый же год…
Вечером, отправившись к Терезе, чтобы ещё раз попытаться её вразумить, я обнаружила лишь пустую комнату: сомнений не было, девчонка сбежала!.. Сделать это без посторонней помощи она, конечно же, не могла.
Без лишних церемоний я вломилась в спальню Гуги. Для его жены, читавшей книгу в постели, это вторжение, видимо, было настолько резким и неожиданным, что она испуганно вскрикнула и инстинктивно заслонила рукой колыбельку с шёлковыми занавесочками, стоявшую вплотную к супружеской кровати; эта парочка, что ни год, плодила по ребёнку, поэтому к настоящему времени у моих так называемых родственничков их было уже пятеро. Подлец Гуга спокойно выплыл из душевой комнаты в лиловом шёлковом халате, с влажным махровым полотенцем на шее; увидев меня, невозмутимо поприветствовал лёгким поклоном и со своей обычной иронией произнёс:
— Вы пришли пожелать нам с Кларой и малышкой Аниньей доброй ночи? Очень любезно, дорогая сестрица.
— Пожалуйста, Клара, выйди за дверь, нам нужно обсудить с твоим супругом одно важное дело! — отрывисто бросила я.
— Что случилось? — встревожено проговорила женщина; в эту минуту её лицо приняло какое-то тупое выражение: полуоткрытый рот, тусклые, сонные глаза. Кажется, она собиралась вмешаться в разговор. Этого ещё не доставало. Я с трудом сдержалась, чтобы как-нибудь её не обозвать.
— Прошу тебя, мой ангел, это разговор между братом и сестрой, — попросил «братец».
Когда она, взяв ребёнка на руки, вышла, я готова была разорвать Гугу на части.
— Где Тереза?
Меланхолично пожав плечами, он воздел руки к потолку:
— Возвращается в Европу. Думаю, как раз сейчас в это время она парит, как птица, в небе Атлантики…
— Сукин сын!.. — я кинулась на него с кулаками.
Опешив, он не сразу успел заслониться, и мне удалось пару раз черкануть ногтями по его физиономии: на ней тотчас же вспыхнули длинные багровые полоски.
— Я раздавлю тебя, как паука!.. — горланила я, стараясь дотянуться до прикрытого полотенцем горла, но он уворачивался, и тогда я, схватив полотенце за концы, стянула их на его шее.
Пытаясь вырваться, он толкнул меня на туалетный столик: тут же, дребезжа, разлетелись по сторонам безделушки Клары, со звоном грохнулась хрустальная ваза. Падая, я увлекла Гугу за собой. Мы сцепились, как две взбесившиеся маракажи[129], и нанося друг другу ожесточённые удары, принялись кататься по полу… Почувствовав, как в спину впился осколок стекла, я взвыла от боли. Воспользовавшись моим замешательством, он вскочил на ноги и отбежал в угол комнаты.
— Ей-богу, вы спятили… — тяжело дыша, пробормотал он и осторожно начал ощупывать шею. — Вы могли меня убить!..
Цепляясь за стены трясущимися пальцами, я с трудом поднялась.
— Ты пожалеешь, что пошёл против меня!..
Оттерев со щеки кровь, он криво усмехнулся.
— Возможно, я о чём-то и пожалею, но не об этом… — достав из коробки сигару, неторопливо обрезал её, медленно, со вкусом, раскурил: похоже, к нему уже вернулось привычное самообладание; меня же, напротив, колотила нервная дрожь. — Если я что-то путного и сделал в своей жизни, так это то, что не дал вам сломать жизнь этой бедной девочке…
Шатаясь, на ходу отряхивая волосы и одежду от рисовой пудры, мелких осколков, истерзанных цветочных лепестков, я приблизилась к нему.
— Ты не имел права вмешиваться! Мне лучше знать, что ей нужно!
— Единственное, что ей нужно, это быть вдали от такого чудовища, как вы… — щурясь, Гуга выпустил густую струю дыма. — И от ваших закадычных американских дружков…
Вырвав у него сигару, я смяла её в пепельнице.
— Вон из моего дома, — с ненавистью глядя ему в глаза, прошипела я. — И чтобы я никогда тебя больше не видела! Вон вместе со своим поганым отродьем!..
С сожалением посмотрев на табачную труху, он вздохнул и снова потянулся за коробкой.
— Я уйду, не беспокойтесь, — сказал он. — Только запомните одну вещь, Джованна, вы сейчас выгоняете не слугу, хоть таковым всю жизнь меня и считали… Вы выгоняете своего единственного друга.
— У меня нет друзей! — выдавила я.
— Вы правы, — мрачно процедил он. — Теперь — нет.
— Катись к чёрту! — орала я. — Все катитесь к чёрту!.. Мне никто не нужен!.. Никто, слышите?!. Пошли все вон!..
…Это был наш последний разговор. Уже на следующее утро вместе со своей семьёй Гуга навсегда покинул мой дом; он демонстративно не взял с собой никаких вещей, только рисунки, подаренные Терезой. Он поселился неподалёку — в одном из зданий нашего совместного с ним гостиничного комплекса, но если нам случайно приходилось сталкиваться нос к носу, он, холодно кивнув, отворачивался, я же и вовсе делала вид, что не знаю этого человека… Так мы прожили, бок о бок и не замечая друг друга, много лет…
На моих взаимоотношениях с его женой наш разрыв особо не отразился: мы и раньше не были близки, ограничиваясь редкими и непродолжительными разговорами о погоде; теперь же, если и говорили, то исключительно по делу — когда требовалась юридическая помощь, я прибегала к её советам. Не знаю, что наплёл Кларе этот мерзавец Гуга, но при встрече она всегда смотрела на меня с сочувствием и жалостью, как на неизлечимо больную…
С доном Амаро, не смотря на то, что его свадьба с Терезой расстроилась, также удалось сохранить прежние деловые отношения. Когда я рассказала ему про то, как девушка ослушалась меня и убежала из дома, он лишь рассмеялся: «Характером она в тебя».
Что касается моей неблагодарной дочери, то я не стала предпринимать усилий для того, чтобы разыскать и вернуть её, и ограничилась тем, что лишила её наследства. Впрочем, даже и не сделай я этого, думаю, на случай моей смерти у Гуги всё равно имелся бы какой-то свой запасной план «Б»; нетрудно догадаться, кто бы тогда стал единственным наследником Джованны Антонелли…
Хотя о смерти думать не хотелось, тем более, что чувствовала я себя здоровой и полной сил, но не думать о ней я не могла. Время от времени без всякой причины накатывала меланхолия и в голову лезли чёрные мысли; чаще всего они наносили визит по вечерам, когда, возвращаясь из банка, я оставалась совсем одна. «Если Господь призовёт меня, кому всё это достанется?» — мелькало в голове. Ответом была тишина, перемежаемая мерным движением часового маятника. Я подолгу прислушивалась к этому однообразному, монотонному стуку… С высокого потолка на меня давила массивная лепнина, по углам — обступали гигантские мраморные колонны, со всех боков подпирали упругие шпалеры с выцветшими ландшафтами — поблёкшая идиллия XVIII века: томные пастушки с виноградными гроздями в соломенных кудрях, белоснежные овечки у ручья, целующиеся под небесным сводом ангелы… В такие минуты я не выносила свой собственный дом, он казался мне огромным, пустым, мрачным склепом. Я чувствовала себя замурованной заживо…
В один из таких длинных, переходящих в ночь, вечеров я вызвала горничную. Она явилась не сразу, хотя электрический звонок, которым её побеспокоили, слышала даже я у себя в кабинете. С виноватым видом остановилась на пороге: растрёпанная, с наспех наброшенным поверх платья фартуком… Одно из двух: или крепко спала, или принимала любовника — предыдущую служанку Монику я выгнала именно за это.
— Скажите, Паула, для чего вы живёте? — сходу ударила я вопросом в лоб, как дубиной.
Молодая женщина, растерянно прижимая к груди руки, покосилась на стоящую передо мной полупустую бутылку вина.
— Я не понимаю вас, сеньора… — замялась она.
— Но вы ведь, наверное, иногда спрашиваете саму себя — зачем всё это? Бывает такое?
Губы женщины слегка дёрнулись.
— Не-е… скорее другое — «когда всё это кончится».
Её ответ взбудоражил:
— Что вы имеете в виду, Паула?.. Смерть?
— Нет, сеньора, нищету…
— А-а… — разочарованно протянула я: девица, видимо, не утруждала себя размышлениями о бренности бытия.
— Работаешь, работаешь — и всё впустую… — разоткровенничалась вдруг она. — Где уж тут скопить, когда на еду не всегда хватает…
«Философия бедности», — брезгливо морщась, подумала я и равнодушно поинтересовалась:
— И на что же вы копите, Паула?.. На швейную машинку, должно быть?
— Нет, сеньора, на приданое.
— Ах, да… я и забыла… мужчины… — зевнув, пробормотала я. — Как это всё, однако, банально… — и жестом отпустила девушку.
Не банальной была только работа. Причём, сюрпризы случались буквально каждый день. Неприятные — чаще.
В банке всё шло по накатанной колее. Заёмщики исправно тянули свою лямку. Американцы регулярно пополняли мой личный счёт в награду за то, что все эти годы я продолжала усердно и безуспешно «разыскивать» нефтяные залежи. Ни одна живая душа не проявляла интереса к немецким вкладам, что иногда мне даже хотелось начать считать их своими. Но, главное, теперь на всём континенте работали мои филиалы, и даже вновь появилась возможность открыть их в Аргентине. Благоприятным поводом для возвращения «Банка Антонелли» в Буэнос-Айрес послужила внезапная преждевременная кончина Эвиты Перон.
Какой-то уж чересчур загадочной и туманной была эта смерть. Я много о ней думала. Мы с Гугой, ещё не будучи врагами, один раз даже обсуждали её. Своими обычными недоговоренными фразами и полунамёками он дал понять, что Эвиту убили, а я горячо возразила — всем известно, что супруга президента скоропостижно умерла от рака… Разговор, который тогда между нами состоялся, я вспоминаю всякий раз, когда меня охватывает непреодолимое искушение присвоить себе немецкое золото.
«Алчность сгубила аргентинскую красотку, — помнится, сказал Гуга. — Немцы отдали ей ценности на хранение, ей же захотелось — насовсем. Дали много, вернула мало, пожадничала».
«Если бы Эва вдруг утонула или, скажем, отравилась персиками, я бы ещё поверила в эту версию, но рак… Разве его можно искусственно вызвать?» — засомневалась я.
«Не скажите…», — многозначительно протянул Гуга и рассказал мне такую историю:
«Жил в гостинице один занятный постоялец по имени Хосе. Он приехал к нам сразу после войны… Европеец, но любил нашу тропическую экзотику, путешествовал: Аргентина, Парагвай, Бразилия… Так вот мы с ним в шахматы на досуге играли… Такой славный человек был, право… редкого обаяния личность… А чувство юмора какое потрясающее!.. У меня в жизни не было более остроумного собеседника!.. Выйдет он бывало с блокнотиком на террасу, сидит в кресле-качалке, заметочки делает… Я ему: „Всем ли довольны, дон Хосе? Может, изволите чего, там мы подсуетимся, соорудим…“. А он улыбнётся такой милой улыбкой: „Спасибо, Гильерме, ничего не нужно“, или — „Кофе, если можно, нет ничего лучше бразильского кофе“. А я ему подмигну: „Если не считать бразильских женщин“… Ну, посмеёмся… Я его за писателя почитал, думал, раз он такой занимательный рассказчик, то уж книга-то какой интересной должна быть!.. Так вот я как-то ненароком, краешком глаза, заглянул к нему в блокнотик… предвкусить шедевр, так сказать… Ан-нет, не роман, не повесть, и даже не мемуары… Больше на учебник смахивало. И название чудное — „Иллюстрированная зоология“[130]… Я глазами-то текст пробежал, да только не понял ничего. Вы ведь знаете, человек я тёмный, малообразованный. Куда мне по-учёному разбирать! А там, куда ни плюнь, отовсюду термины сыпятся: „морфологические исследования строения нижней челюсти представителей четырёх рас“, „проблема стерилизации людей с ущербными генами“… Ну, я, чтоб невежество своё не показывать, не сказал ему, что блокнотик видел. А при случае стал вопросики задавать про медицину — я ж любознательный — так, ненавязчиво, на бытовые темы: чем, мол, сынишке горлышко полечить? Или — что-то не ощущаю в себе былой мужской силы, не присоветуете ли какие-то пилюльки?.. Ну, он видит, я интересуюсь, нет-нет, да и расскажет про то, да про сё… Так вот, рак, оказывается, вызвать, что плюнуть — достаточно какой-то ген заблокировать — и всё, кирдык… Может, оно, сестричка, конечно, и враньё, да только дон Хосе сказал — эксперименты проводились… Там, в Европе, во время войны… много экспериментов…».
…Странно, но мучаясь по ночам бессонницей, я почему-то всегда вспоминала именно эту историю. И меня охватывал страх. Что поразительно, я никогда не отличалась особой впечатлительностью и излишней пугливостью, а ведь в жизни чего только не случалось: были и сумасшедшие клиенты, приставлявшие нож к горлу, и озверевшая солдатня, накинувшая петлю на шею, и перестрелка с бунтовщиками… — и вот теперь, когда у меня, наконец-то, появился надёжный и хорошо охраняемый дом, а под подушкой, в ящике письменного стола и в бардачке автомобиля — по пистолету — я чувствовала себя менее всего защищённой. Временами казалось, что вот сейчас откроется дверь, и кто-то просто войдёт в комнату и убьёт меня…
Я перестала доверять слугам. Зная, как велика ненависть Гуги, и что ему ничего не стоит подкупить кого-нибудь из моих приближённых, я заставляла кухарку сначала пробовать приготовленные ею блюда, а уже потом ела сама. Охранников меняла каждые два месяца. Даже водителя не брала, хотя путешествия, в которые я пускалась по всей стране, преодолевать с каждым годом было всё сложнее и сложнее…
Не менее тяжёло приходилось и с фазендой. Год назад я задумала расширить территорию плантации и послала своих людей освобождать место под новые посевные площади: земля, которую я облюбовала, прекрасно подходила для выращивания кофейных деревьев. Но столкнулась с неожиданным препятствием — освоению земель воспротивились аборигены. Обычно, если возникали проблемы с индейцами, они легко и незамедлительно улаживались: тех просто сгоняли с насиженных мест капатасы; цветные же, подхватив свои нехитрые пожитки, с молчаливой покорностью перебирались вглубь сельвы. Впервые за долгие годы они оказали ожесточённое сопротивление, убив несколько моих охранников отравленными бамбуковыми стрелами. Это уже были не шутки. Вызвав к себе управляющего, я потребовала немедленно решить проблему. «Чего вы от меня хотите? — грубо ответил он. — Чтобы я стрелял по безоружным людям?». Пришлось обратиться за помощью к властям.
Прибывший на подмогу отряд жандармов возглавлял мой старый знакомец — Кассио Альварес. Встреча с ним была крайне неприятной. Мы обменялись несколькими скупыми фразами относительно численности и месторасположения индейцев… Предчувствуя недоброе, я попросила Кассио проявить благоразумную сдержанность. Выслушав просьбу, он смерил меня высокомерным взглядом и, вздёрнув подбородок, отчеканил: «Я не нуждаюсь в инструкциях, сеньора».
Его люди устроили в лесах Амазонии настоящую бойню. В назидание непокорным, солдаты, окружив индейскую деревню, перебили в ней всех местных жителей — от мала до велика, а лачуги их — сожгли… Когда от селения остались лишь груды пепла, Альварес невозмутимо объявил, что участок расчищен… Он, видимо, ждал благодарности. У меня же язык не поворачивался выразить признательность за подобную «услугу». Я молча сунула ему деньги. Он принял их со снисходительным видом.
— Только не надо на меня смотреть, как на животное, сеньора Антонелли! Я не сделал ничего особенного: такими методами индейцев выкуривают повсеместно… Кто ж виноват, что они не хотят уходить по-хорошему… Кстати, не думайте, что мы занимаемся каким-то самоуправством — нашему правительству про все эти вещи прекрасно известно… В прошлом месяце, например, к нам обратился сам губернатор Пернамбуку… Они наращивали участки для посева сахарного тростника на побережье… А там расположились эти тупые обезьяны — и уходить ни в какую… Ну, тоже пришлось помочь…
— Но в этот раз вы убили женщин и детей…
— Там не было ни детей, ни женщин!.. — резко оборвал Кассио. — Разве этих дикарей можно считать людьми?.. Они живут в каменном веке!..
В справедливости его слов я убедилась уже на следующее утро, когда к воротам фазенды подбросили голову одного из моих охранников…
Подняв её за волосы, Кассио долго смотрел на окоченевшие коричневые веки, напоминавшие старый пергамент, а потом сардонически усмехнулся: «Ну, что, сеньора, вам ещё жалко этих краснокожих тварей?»…
Это была не просто мёртвая голова. В наших краях её называли «цанца». Индейцы изготавливали её по особому «рецепту»: с головы убитого снималась кожа, набивалась горячим песком, и тем самым сжималась до минимальных размеров; черты лица умершего при этом полностью сохраняли прежнее подобие, и даже волосы не меняли длины… Про этот зловещий, кровавый ритуал мне с готовностью рассказали когда-то старожилы посёлка… Они и сейчас стояли рядом и наблюдали за моей реакцией.
— Они послали тебе предупреждение, хозяйка… — прошамкал беззубым ртом парагваец Лино. — Следующая голова — будет твоей.
— Замолчи, старый идиот! — почувствовав прилив тошноты, выругалась я.
— Вы пришли на землю их предков, нинья… Вы потревожили их духов… Индейцы не простят этого… — с видом пророка покачал головой Лукаш.
Неожиданно стариков поддержал и мой управляющий:
— Индейцы жили здесь веками. Вы вторглись в их исконные земли, как захватчики, — сказал он.
Я разозлилась:
— Хорошенькое дело, Феррас! Так-то ты меня поддерживаешь!
Кассио демонстративно не вмешивался в разговор и лишь самодовольно ухмылялся, стоя в стороне.
— Почему нельзя пойти в другое место, чтобы никого не тревожить? — спросил Матео Феррас.
— Потому что это — деньги! — заорала я. — Придётся нанимать транспорт, прокладывать дороги!.. А жильё?.. Батраки не смогут после работы возвращаться домой, как они теперь это делают. Нужно будет строить новые посёлки… А питьевая вода и всё прочее?.. Оно, что, с неба упадёт?..
Но, не в силах сдержать приступа рвоты, я судорожно согнулась надвое…
Когда меня отпустило, ко мне обратился Кассио:
— Сеньора, если мы прямо сейчас начнём операцию, то уже завтра ваши люди смогут начать возделывать почву.
Я кивнула:
— Сделайте всё так, как считаете нужным, Альварес… Я полностью полагаюсь на вас…
Кассио торжествующе улыбнулся — и уже к вечеру подчистую были истреблены жители ещё четырёх индейских деревень… Когда «чистка», по выражению Альвареса, была завершена, мы с ним выпили по рюмке коньяку в моём кабинете.
— Я давно говорю начальству, что необходимо создать специальные карательные подразделения… ну, своего рода эскадроны смерти[131]… — разглагольствовал он, сидя в кресле напротив меня.
— «Эскадроны смерти»? — переспросила я. — Для принудительного выселения индейцев?
— Не только, можно было бы вообще всю грязь с улиц подчистить — ворьё, беспризорников, попрошаек, бездомных… Они плодятся, как вши… От них никакой пользы, один только вред… Разве я не прав, сеньора?
Его лицо всегда казалось мне крайне неприятным, но сейчас — вдвойне: безграничная власть над людьми, которой он стал обладать, надев форму, оставила на нём свои резкие отметины.
— Наверное, — неуверенно поддержала его я. — Но не слишком ли это… жестоко?..
— А как ещё избавить общество от отбросов?!. В некоторых городах уже стали появляться такие кварталы, куда и сунуться без оружия нельзя. Средь бела дня глотку перережут.
— Да, я слышала про это.
— И что прикажете с ними делать?..
«С ними…», «с ними…»… Странно, но когда-то и я была одной из них… А теперь эти люди стоят на другом берегу, и я задаю себе вопрос — люди ли они…
— Не знаю, Альварес…
— А я знаю — отстреливать, как бешенных собак!
…Но были и те, кто думал иначе. Кто думал, что для бедных нужно строить новые города: красивые, просторные… Одному такому идеалисту я однажды поверила… «Заветный путь откроется только избранному…» — говорила моя мать. Он был избранным. Его звали Оскар Нимейер[132].
В своё время с этим архитектором меня познакомил Антонио. После его смерти мы изредка созванивались: он приглашал на презентации своих работ, которые я никогда не посещала: во-первых, — занятость, во-вторых, я не шибко понимала в искусстве. Впоследствии, когда Тереза начала делать успехи в живописи, Оскар помогал ей организовать первую персональную выставку…
…Когда он позвонил и сказал: «Дорогая, поздравляю, наша малышка Тереза произвела настоящий фурор!.. Ты ведь читала про её последнюю выставку в Париже?», я невольно съёжилась — с дочерью мы не общались вот уже несколько лет. Конечно, я знала, что она поселилась во Франции, и даже знала о её скандальной связи с одним известным киноактёром, который бросил ради неё жену, — об этом писали в газетах, но правда ли это была, или всего лишь сплетни — неизвестно. В прессе часто печатали всякую дрянь. Ясным было одно — Тереза становилась известной личностью.
Сложно понять мир, в котором она вращалась. Он напоминал аквариум: вся жизнь — через стекло, на виду — глазейте, кто хочет! Я всегда тяготела к чему-то противоположному — потаённому, скрытому от посторонних глаз. Да иначе при моём роде деятельности и быть не могло: деньги имеют обыкновение оседать в укромных уголках… А вот Тереза совсем другая — её, как бабочку, тянуло к свету… Только одно нас с ней роднило — бескомпромиссность и неумение прощать…
Однажды мне на глаза попалось одно её интервью, после которого я вообще перестала читать светскую хронику, где черпала о ней сведения… Её попросили рассказать о своей семье, и она ответила: «Родители умерли, когда я была ещё совсем ребёнком. Самый близкий и родной для меня человек — дядя Гильерме, он воспитал меня»… Жестокие, безжалостные слова… После этой статейки во мне что-то словно надломилось. Волей-неволей припомнилась наша последняя встреча. Вспыхнуло скомканное, запиханное в самый дальний угол сознания, чувство стыда и вины… Эхом прокатилась в памяти горькая мольба бедной девочки: «Мамочка, пожалуйста, не принуждай меня!..»…
Это воспоминание было таким мучительным, что я тут же поспешила найти крайнего — Гугу! Этот негодяй не только деньги, он и дочь у меня украл. Ясно, как день, что это именно он настроил её против меня. Если бы не его гадкие козни, она сейчас была бы со мной… Хотя нет, не со мной… не со мной…
…Звонок Нимейера вселил надежду… «Это будет идеальный город! Город мечты!..» — восклицал он в телефонную трубку. А я про себя думала: «Через него я смогу разузнать про неё хоть что-то»… Сделав вид, что меня заинтересовали его новости, я предложила встретиться в кафе и поболтать.
Когда мы увиделись, оказалось, что новости, действительно, удивительные — ему предложили построить новую столицу Бразилии. Уже состоялся конкурс, и градостроительный проект, который Нимейер брался воплотить в жизнь, был одобрен. В поддержку выступил сам президент Кубичек[133]…
— Эти ослы, члены комиссии, не хотели поручать строительство мне. Я ведь коммунист. А они скорее удавятся, чем доверят работу коммунисту! Но Кубичек сказал: «Не будет Нимейера, не будет Бразилиа»… Вот так-то, Джованна! И они вынуждены были проглотить!
— Скажи, Оскар, ты давно видел Терезу?
— Терезу?.. В прошлом месяце. Я ездил в Париж к Зерфюсу и Брейеру[134], они там сейчас строят здание ЮНЕСКО… Грандиозный проект! Просто шикарный!.. Все помещения в виде трилистника, восемь этажей…
— Ну, а Тереза-то как?
— Будет расписывать настенные панно. Она работает вместе с Пикассо[135]… А теперь представь, Джованна: мой город будет в форме креста! Как Божье благословение всем бразильцам… В центр, на Площадь трёх властей, мы перенесём все общественные и правительственные здания: президентский дворец — я назову его Дворец рассвета, звучит, а?.. здания Верховного Суда и Конгресса… — тыкая ложкой по салфетке, он ставил кофейной гущей жирные кляксы. — С севера и юга к ним примкнут жилые районы… А здесь будет стоять кафедральный собор… Только стекло и бетон!.. Свет и простор!..
— Ну, и где вы собираетесь всё это соорудить? — делая над собой усилие, изобразила заинтересованность я.
— В центральной части, в семистах милях от побережья.
«В самой чаще, среди непролазных папоротниковых зарослей, стоит заброшенный город из чистого золота…» — мелькнуло в голове.
— На плоскогорье? — изумилась я. — Какое безумие, Оскар! Это же абсолютно дикое, необжитое место! Пустыня!
— Вот мы его и обживём!.. Мы построим не просто новый город, Джованна, мы создадим новый мир — свободный, радостный, молодой! И откроем его для всех бразильских бедняков! Это будет светлый город будущего — город равных!
— Перетащив туда всех чиновников, вы хотите создать город равных? — скептически усмехнулась я. — Не хочу обижать тебя, дорогой Оскар, но боюсь, твой город будущего станет всего-навсего рассадником для бюрократов. А бедные, если и смогут увидеть все эти красоты, о которых ты говоришь, то только через бинокль.
— Ты стала типичной буржуа! — поморщился он. — Антонио бы тебя высмеял.
— Наши с ним политические убеждения никогда не совпадали.
— Да какие у художника ещё могут быть убеждения, Джованна?! Он просто обязан быть левым! Он должен служить простому народу и бороться, чтобы изменить этот бесчестный мир!
— Сам Бог не изменил бы этот бесчестный мир, если бы захотел… — устало выдохнула я.
…В своих предположениях относительно будущей столицы я оказалась и права, и неправа. Ошиблась, когда не поверила, что на пустом месте можно построить величественный город, от одного вида которого дух захватывало: Оскар Нимейер не только превратил мечту в реальность, но и сделал это за рекордно короткий срок — несколько десятков тысяч батраков, колесивших с места на место по всей Бразилии в поисках работы, слетелись в штат Гояс, привлечённые возможностью заработать на самой грандиозной стройке страны, и уже через три года своими руками возвели новый город[136]. Правда же заключалась в том, что монументальная утопия Нимейера так и не стала городом равных: нищие, безземельные строители, приложившие руки к этому архитектурному шедевру, не обрели крова под прекрасным синим куполом города будущего, с высоты которого взирал, восхищённый трудом простых людей, Создатель. Труженики были жестоко обмануты и изгнаны за черту мегаполиса, а на их место с триумфальной помпой въехал огромный чиновничий кортеж…
Я была в числе приглашённых на торжественное открытие новой столицы[137], но приняла решение остаться дома: к чему тащиться чёрт знает куда, лишь только для того, чтобы увидеть, как горстка правительственных бонз, захлёбываясь патетичными восторгами, перережет алую ленту? Когда весь этот парадный ажиотаж стихнет, «Банк Антонелли» и так туда переберётся: буднично, без лишнего шума и спешки. Но звонок Нимейера заставил передумать.
— Что значит — «загружена по горло»?.. — кричал он в телефонную трубку, пытаясь едва ли не клещами выдрать обещание приехать. — Это же проект века! Разве можно такое пропустить?! Антонио ни за что бы не пропустил!.. Ты очень обидишь меня, если не приедешь, Джованна!
— Оскар, прошу, не настаивай… я неважно себя чувствую… А это так далеко!
— Даже твоя дочь приедет, а она живёт ещё дальше! — подковырнул он.
У меня задрожали руки.
— Тереза приедет?.. Я буду, Оскар… обязательно буду!
…После разговора с Нимейером я воспрянула духом: наконец-то я снова увижу её!..
В какие-то считанные часы я переделала сразу столько дел, на которые в другое время у меня ушёл бы месяц: в банковских лабиринтах, сколько бы внимания им не уделял, всегда найдутся такие завалы, расчищать которые впору с киркой в руках. Да и с фазендой забот было не меньше: отчёт, который прислал Матео Феррас, требовал немедленного ответа… Единственное, где дела шли более или менее гладко — это гостиничный комплекс: Гуге никогда не требовались помощники… Интересно, а он притащится на открытие Бразилиа?.. Но самое главное, что удалось сделать, это вызвать к себе нотариуса и переписать завещание: всё своё движимое и недвижимое имущество я оставляла дочери… Покончив с нудными обязанностями, я начала собираться в путь: купила подарки для Нимейера и Терезы, почистила и зарядила пистолет, приказала горничной упаковать в чемодан с дорожной одеждой алое вечернее платье, в котором намеревалась появиться на церемонии; когда-то о таком мечтала для меня моя мать — «оденемся, как две госпожи, и пойдём по улице — пусть все завидуют…»… Интересно, что она сказала бы, увидев меня на помпезном открытии новой столицы рядом со сливками общества? рядом с президентом страны? Наверное, не поверила бы своим глазам.
…«Ма-ммм-ма, я люблю…» — держа руль одной рукой, напевала я, подражая задорному исполнению Кармен Миранды[138]… Проносившиеся мимо картины настолько разительно отличались друг от друга, что рябило в глазах: объятые пламенем бугенвиллии[139] просторные бунгало с плетёными креслами на террасах… базарные площади с выставленным для продажи мясом на чернеющих от крови, засиженных мухами, досках… полчища бездомных шавок, рыскающих среди выложенной прямо на тротуаре снеди: креветок, козьего сыра, арахисового масла… грязные канавы, забитые гнилыми фруктами и скорлупой кокосовых орехов… мрачное здание тюрьмы, окружённое высокой изгородью из ржавого железа… калеки, просящие подаяние на пыльной обочине… скрипящие повозки, запряжённые упирающимися ослами… ветхие деревянные лачуги с покосившимися крышами… манящая своим покоем церковь с окнами из цветного стекла… старинное кладбище с просевшими, заросшими бурьяном могилами…
…Я не проехала и суток, как мой спортивный «Мерседес-Бенц», который никогда раньше не подводил, начал показывать характер: на горной дороге он вдруг завилял задом, как публичная девка, и понёсся прямиком к кромке обрыва; стоило неимоверных усилий укротить железное чудовище и не слететь вместе с ним в овраг… Выйдя из автомобиля, я нервными пальцами зажгла сигарету… «Хочешь — не хочешь, а пора нанимать шофёра…», — подумала я… Ветровое стекло было полностью залеплено бабочками, будто его сверху посыпали пером из распоротой подушки. Один мотылёк был гораздо больше остальных; разглядывая распластанные, истерзанные крылышки, я вспомнила название — Синяя Молния… Протерев стекло, я отправилась дальше…
…В Бандейре-ду-Сул[140] я сделала привал, чтобы заправиться и запастись провизией. Не успела выйти из машины, как меня со всех сторон окружили местные: торговцы с дребезжащими тележками, нагруженными бананами и папайей, уличные попрошайки, развозившие на руле велосипеда молоко в грязных бидонах мальчишки… Не глядя на них, закрыв нос платком, чтобы не чувствовать запаха протухшей рыбы, которым буквально пропиталась раскалённая полуденным зноем атмосфера, я скрылась за дверями гостиницы… Ещё одну остановку с ночёвкой я совершила в Пирапоре[141]. Скверное местечко. В тамошней забегаловке подали такую гадость на ужин, что я едва не отравилась. И как венец злоключениям — уличные воришки похитили из моей машины пистолет…
…Будучи всего в нескольких милях от Бразилиа, я была вынуждена сделать огромный крюк, чтобы попасть в город: стадо ленивых, неповоротливых быков преградило путь и не было никакой возможности его разогнать. Пастухи, вылупив глупые круглые глаза, лишь ошалело таращились на машину да почесывали коротко стриженные, плюшевые головы. «Болваны!», — выругалась я и поехала в объезд.
…Высохшая, покрытая слоем пыли дорога была оцеплена отрядами правительственных войск. Меня остановили вооружённые карабинами солдаты и, отполировав «Мерседес» со всех сторон восхищённо завистливыми взглядами, попросили предъявить документы. «Извините за неудобство, сеньора, — меры предосторожности, — объяснил один из них. — Там ведь все шишки соберутся…».
К автомобилю подбежала целая ватага крестьянской ребятни. Окружили, загалдели. Я брезгливо покосилась на их грязные, тянущиеся ко мне отовсюду руки: не дай бог кто-нибудь схватит за подол и испачкает платье!.. Их родители топтались тут же с мешками фруктов на потных спинах…
— Всё в порядке, сеньора, можете ехать дальше, — с учтивым поклоном вернув документы, сказал мне солдат, и тут же без всякого перехода уже совсем другой интонацией. — А вы, сволота, пошли отсюда!.. Давайте уматывайте поскорее!.. Проезжайте, сеньора… сейчас я разгоню этих бездельников… А ну пошли, свиньи! Быстрей! Быстрей!.. Расходись, кому говорят?!.
Крестьяне загудели разом, как осы:
— Нам тоже нужно!..
— Пустите!..
— Три дня без отдыха!.. Детей хоть пожалейте!..
— Фрукты везём!.. На ярмарку!..
— Работу обещали!..
— Почему одним можно, а другим — нет?!
— Кровопийцы! Ироды!
— Поговорите у меня, поганое племя!.. — заорал тот, кто проверял мои документы. — Сказал, убирайтесь! А не то худо будет!..
…В лобовое стекло, брызжа жёлтой слюной вместе с истерическим воплем бросившей его негритянки, шмякнулась спелая мякоть какого-то плода и растеклась, как желток по сковородке. Чертыхнувшись, я выскочила из машины: но моя обидчица, закрыв руками голову, уже присела под градом тумаков, которыми её щедро наградили жандармы. Торопливо вытерев стекло, я села за руль и в этот момент отчётливо услышала: «Гори в аду, белая сука!»… Две чёрные точки, начинённые ненавистью, исторгли смертоносный залп, пронзили насквозь своим ядом… Вспыхнуло смутное дурное предчувствие — слабое, как искра… «Ничего страшного… на дороге полно идиотов… — шепнула я своему не в меру щепетильному ангелу-хранителю. — Через час буду на месте…»… Живой кордон расступился, давая проехать. «Только осторожней, сеньора! — крикнул вдогонку полицейский. — Повсюду рыщут толпы голодранцев!»…
Да, голодранцы были везде: они плелись по обочине дороги, толкая перед собой грязные, загруженные хламом, тачки, рылись в помойках, сооружали по окраинам нового города убогие бараки… Проезжая, я всей шкурой ощущала их косые взгляды.
…Нищету узнаёшь по запаху. Она пахнет духотою лачуг и грязью улиц, нестиранным бельём и немытым телом, засаленными волосами и гнилыми зубами, протухшей едой и болезненной испариной, собачьей мочой и крысиным помётом… Если ты родился в нищете, её запах будет исходить из тебя всю жизнь, как бы ты не старался его вытравить… И тянуть к себе соплеменников…
— Глянь, какая тачка!..
— Ты на цацки лучше глянь… Горят, как образа в церкви!
— Даа-а-а… гладкая бабёнка…
— Городская фря!..
…Недобрые взгляды бродячих, бешеных псов… стальные мускулы, натруженные за долгие годы каторжного труда… подвижные желваки на грубых загорелых лицах…
— Куда спешишь, красавица? Не туда ли, куда нас не пустили?..
…Машина буксовала с отчаянным свистом, а мрачные тени из преисподней окружали её со всех сторон… Сколько их?.. Пятнадцать? Двадцать?.. Я с содроганием вспомнила про украденный пистолет…
— Ну, иди сюда, цыпочка…
…Глубоко запавшие глаза… заскорузлые, крючковатые пальцы… отрывистые, хриплые, похожие на кашель, смешки…
Стиснув пальцы в кулаки, чтобы не выдать волнения, я попробовала придать своему голосу твёрдость:
— Послушайте, давайте договоримся… Я вижу, вы неплохие ребята… Я дам вам деньги, и вы купите себе всё, что захотите: выпивку, женщин… Каждому по сотне крузейро[142], идёт?..
Но как договориться с теми, кто тебя не слышит?.. Отобрав ключ зажигания, они с хохотом стали перебрасывать его друг другу… Я беспомощно озиралась по сторонам: ожидать помощи было неоткуда…
— Не трогайте меня, пожалуйста… — губы и руки предательски дрожали, выдавая страх. — Если вам нужны деньги, я отдам вам всё, что у меня есть… — я бросила им сумку, стянула с руки браслет, сорвала колье с шеи…
Они смеялись. Подкидывали вверх украшения и смеялись… Один ловкач даже попытался ими жонглировать, другой, вытряхнув из чемодана мои вещи, обнюхивал, как собака, алое шёлковое платье…
…Несмотря на то, что я изо всех сил сопротивлялась, меня выволокли из автомобиля.
— Не бойся, красотка… тебе понравится…
Вырваться не удалось: чужие руки вцепились с моё тело тисками, повалили на землю.
— Давай её сюда… клади…
— Какая кожа, Педро!.. Ты когда-нибудь щупал белую женщину?..
— Хороша пташка…
— Отпустите, сволочи!.. — в отчаянии крикнула я.
— Ноги держи!.. Кобылка с норовом…
— Ах ты, тварь!.. Драться вздумала!.. На, получай, паскуда!..
— Дай ей, как следует, Жайме!..
— Ненавижу вас, белых сук!.. Привыкли над нашим братом изголяться!..
— Нравится, чёртова шлюха?.. Ну, так получи ещё!..
— Так её, стерву!
— Живьём разорвать!..
…Господи, какая боль!.. За что ты так со мной, Господи?..
— Надо же… а кровь-то красная, как наша!..
— Стой, Педро!.. Она уже хрипит…
…Проваливаясь в темноту, я ощутила тяжесть брошенного на лицо платья…
………………………………………
…Ты появилась, когда меня уже начали покидать силы… Вырвала из грязных рук… Как ты меня нашла, мама?..
…Ты не изменилась за эти годы… Такая же, как в день нашей последней встречи… Не думала, что снова увижу тебя…
…Ты даже не представляешь, что мне пришлось пережить!.. Память, как болото: увидишь нежную кувшинку, залюбуешься… Хочу забыть всё!.. Всю свою жизнь… забыть…
…Помнишь, ты говорила, «купим шёлковые платья»?.. А Смерть, оказывается, приходит в лохмотьях и босиком…
…Давай уйдём подальше от этого проклятого места… С тобой такой покой!.. И боль отпустила…
…Куда мы идём, мамочка?.. Нет, не говори, я знаю… Туда, где родится солнце… Это в Перу, в Андах… где-то там…
2011–2013 гг.Примечания
1
Влажный тропический лес.
(обратно)2
Древнее высококультурное индейское племя, жившее в Южной Америке в бассейне реки Амазонки.
(обратно)3
Испанское завоевание Центральной и Южной Америки в конце XV–XVI вв.
(обратно)4
Мифический (по некоторым источникам — затерянный) город.
(обратно)5
Крупная ядовитая змея.
(обратно)6
Индейское племя.
(обратно)7
Орхидея.
(обратно)8
Обширная горная система, окаймляющая всю Южную Америку.
(обратно)9
Провинция в северо-восточной части Аргентины, граничит с Парагваем и Бразилией.
(обратно)10
Столица Парагвая.
(обратно)11
Травянистое многолетнее растение.
(обратно)12
Съедобное тропическое растение, корнеплоды которого богаты крахмалом; сушёную маниоку перемалывают в муку и пекут тонкие лепёшки.
(обратно)13
Парагвайский чай.
(обратно)14
Река в Южной Америке (в переводе с испанского — Серебряная река), образующая часть границы между Аргентиной и Уругваем; под описываемым местом подразумевается аргентинское побережье.
(обратно)15
Территория Парагвая.
(обратно)16
Подёнщики, батраки, зависимые крестьяне в Латинской Америке.
(обратно)17
Деревня в итальянской провинции Салерно.
(обратно)18
Каша из кукурузной муки, традиционная еда итальянских крестьян.
(обратно)19
Название Аргентины в переводе с латинского означает «серебро».
(обратно)20
Парагвайский падуб, из листьев которого изготавливают чай йерба-мате.
(обратно)21
Река в Южной Америке, протекающая в южной части континента по территории Бразилии, Парагвая и Аргентины.
(обратно)22
Сезонные рабочие.
(обратно)23
Название денежной единицы ряда государств Южной Америки.
(обратно)24
Ядовитая змея.
(обратно)25
Единица торгового веса в бывших испанских и португальских колониях, равная 11,5 килограммам.
(обратно)26
Водка из сахарного тростника.
(обратно)27
Национальная аргентинская обувь.
(обратно)28
Река Парана с языка индейцев племени гуарани переводится как «большая» или «великая река» («вода»).
(обратно)29
Длинная и плоская лодка.
(обратно)30
Город на северо-востоке Аргентины, административный центр провинции Мисьонес.
(обратно)31
Один из штатов Бразилии, расположенный на востоке страны на побережье Атлантического океана.
(обратно)32
В мифологии — призрак невесты, не дожившей до свадьбы, чья душа не может упокоиться после смерти.
(обратно)33
28 июня 1914 года наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд и его жена София погибли в Сараево от рук сербского террориста. Убийство стало поводом для начала Первой мировой войны 1914–1918 годов.
(обратно)34
Область в северо-восточной части Испании.
(обратно)35
Загон для скота.
(обратно)36
Музыкальный инструмент, напоминающий погремушку, при потряхивании издающий характерный шуршащий звук; в русском языке название инструмента обычно употребляется в мужском роде — маракас.
(обратно)37
Музыкальный инструмент.
(обратно)38
Национальный испанский танец.
(обратно)39
Город в Бразилии.
(обратно)40
Пресноводная рыба.
(обратно)41
50 Псалом Давида
(обратно)42
Публичный дом.
(обратно)43
Разменная денежная единица ряда испано- и португалоязычных стран, равная 1⁄100 базовой валюты.
(обратно)44
Американская актриса немого кино.
(обратно)45
До 1942 года национальная валюта Бразилии — реал — во множественном числе звучит как рейс.
(обратно)46
Луис Карлос Престес — революционер, деятель бразильского коммунистического движения.
(обратно)47
При Имбураре бойцы отряда Престеса в количестве 30 человек одержали победу над отрядом полиции в составе 250 человек.
(обратно)48
Артур да Силва Бернардес — президент Бразилии в 1922–1926 годах.
(обратно)49
«Непобедимая колонна» (или «колонна Престеса») — вооружённое партизанское формирование, которое в 1925–1927 годы вело борьбу против диктатуры правительства и олигархов; его численность колебалась от 1300 до 4000 человек. В состав «колонны» входили младшие офицеры и солдаты, рабочие, крестьяне, представители мелкой буржуазии.
(обратно)50
Тенентисты (от португальского tenente — «лейтенант») — военно-политическое движение демократически настроенных офицеров бразильской армии, развернувшееся в 20-х годах.
(обратно)51
«Колонна Престеса» прошла более 25 тысяч км по 14 штатам Бразилии, выдержав 53 боя с правительственными войсками.
(обратно)52
Вашингтон Луис Перейра ди Соза — президент Бразилии в 1926–1930 годах.
(обратно)53
Штат на востоке Бразилии.
(обратно)54
За десять лет (с 1919 по 1930 годы) в Бразилии сменилось пять президентов, а с 24 октября по 3 ноября 1930 года у власти находилась военная хунта: Жуан ди Деус Мена Баррету — один из её представителей.
(обратно)55
Юго-восточный район Рио-де-Жанейро.
(обратно)56
Рыба, обитающая в водах Амазонки.
(обратно)57
Владелец плантации.
(обратно)58
Мировой экономический кризис 1929–1933 годов.
(обратно)59
Диего Ривера — мексиканский живописец, художник-монументалист и график.
(обратно)60
Хосе Давид Альфаро Сикейрос — мексиканский живописец, художник-монументалист и график.
(обратно)61
Кандиду Портинари — бразильский художник.
(обратно)62
Фрида Кало — мексиканская художница.
(обратно)63
Амедео Модильяни — итальянский художник и скульптор.
(обратно)64
Песня Хорста Весселя (перевод Russkoff’a), в 1930–1945 гг. — официальный гимн Национал-социалистической немецкой рабочей партии.
(обратно)65
Крупная ящерица.
(обратно)66
Ольга Бенарио — немецко-бразильская революционерка, военная разведчица.
(обратно)67
Артур Эверт — немецкий революционер, представитель латиноамериканского бюро Коминтерна.
(обратно)68
Элиза Саборовская Эверт — немецкая революционерка.
(обратно)69
Кармен Гиольди — аргентинская коммунистка.
(обратно)70
Родольфо Гиольди — один из основателей Коммунистической партии Аргентины, член Исполкома Коминтерна.
(обратно)71
Стучевский Павел Владимирович, Стучевская (Моргулян) Софья Семёновна — военные разведчики.
(обратно)72
Виктор Аллен Барон — американский коммунист, профессиональный радист.
(обратно)73
Отто Браун — немецкий революционер, военный разведчик.
(обратно)74
Трущобы.
(обратно)75
Прибрежная улица Рио-де-Жанейро.
(обратно)76
Гора в черте Рио-де-Жанейро.
(обратно)77
Статуя Христа Искупителя — национальный символ Бразилии.
(обратно)78
Национально-освободительный альянс — созданный в марте 1935 года блок организаций, выступавших за свержение президента Ж. Варгаса и переход политической власти в стране в руки народно-революционного правительства. Почётным председателем альянса избран Л. К. Престес.
(обратно)79
Немой фильм 1928 года.
(обратно)80
Австрийский кинорежиссёр.
(обратно)81
Американская актриса немого кино.
(обратно)82
Имя главной героини фильма «Ящик Пандоры».
(обратно)83
Бразильский танец.
(обратно)84
Музыкальный инструмент, род гитары.
(обратно)85
Персонаж народного итальянского театра, возлюбленная Арлекина; здесь — ласковое обращение (от латинского columba — голубка).
(обратно)86
Кубинский танец.
(обратно)87
Национальный бразильский напиток — смесь водки из тростникового сахара и лимона.
(обратно)88
Восстание началось в ночь с 23 по 24 ноября 1935 года в городе Натал — столице штата Рио-Гранди-ду-Норти.
(обратно)89
Столица штата Пернамбуку.
(обратно)90
Штат на юго-востоке Бразилии.
(обратно)91
Южный штат Бразилии.
(обратно)92
Штат на северо-востоке Бразилии.
(обратно)93
Штат на востоке Бразилии.
(обратно)94
Асаи — плод тропической пальмы асаизейро — маленькая круглая темно-фиолетовая ягода с косточкой.
(обратно)95
Тарсила ду Амарал — бразильская художница-модернистка.
(обратно)96
Л. К. Престес находился в тюрьме с 1936 по 1945 годы.
(обратно)97
В сентябре 1936 года бразильские власти передали Ольгу Бенарио в руки гестапо. В 1942 году она погибла в немецком концлагере Равенсбрюк.
(обратно)98
Госпожа, хозяйка.
(обратно)99
Охранники.
(обратно)100
Разновидность бразильских попугаев.
(обратно)101
Сандалии на деревянной подошве.
(обратно)102
Тростниковая водка.
(обратно)103
Рыбацкий плот с парусом.
(обратно)104
Водные птицы с длинными изогнутыми клюками.
(обратно)105
Неядовитая водная змея.
(обратно)106
Крупная бабочка, населяющая тропические леса Амазонки.
(обратно)107
Племя индейцев, обитающее на территории Эспириту-Санту.
(обратно)108
Вид распространённых в Южной Америке хищных млекопитающих из семейства куньих.
(обратно)109
Млекопитающие животные из Центральной и Южной Америки.
(обратно)110
Красным сандалом в Бразилии называют местные фернамбуковые деревья.
(обратно)111
Сосуд, выделанный из тыквы-горлянки.
(обратно)112
Деревянная (металлическая) трубочка.
(обратно)113
Брюки наподобие шаровар.
(обратно)114
Человек благородного происхождения, дворянин, господин.
(обратно)115
Дети, кухня, церковь (перевод с немецкого).
(обратно)116
Танцплощадка.
(обратно)117
Рио-де-Жанейро был столицей Бразилии до 1960 года.
(обратно)118
Испанский город.
(обратно)119
Франсиско Франко — диктатор, развязавший гражданскую войну в Испании в 1936–1939 годах.
(обратно)120
Эстадо Ново (Новое государство) — авторитарный режим президента Ж. Варгаса, установленный в 1937 году после отмены им Конституции; за образец взята концепция тоталитарного режима А. Салазара в Португалии.
(обратно)121
Карточная игра.
(обратно)122
Заупокойная служба в католической церкви.
(обратно)123
В 1945 году Ж. Варгас был свергнут с поста президента в результате государственного переворота, но в 1950 году он снова пришёл к власти, победив на выборах.
(обратно)124
Хуан Доминго Перон — президент Аргентины с 1946 по 1955 годы и с 1973 по 1974 годы.
(обратно)125
Эвита — ласково уменьшительное имя супруги президента Перона Марии Эвы Дуарте де Перон.
(обратно)126
Фонд «Эва Перон» — общественная организация, существовавшая на добровольные пожертвования.
(обратно)127
Святой апостол Матфей считается покровителем банкиров (до встречи с Иисусом Христом Матфей был мытарем — сборщиком податей в казну).
(обратно)128
Древовидная лиана.
(обратно)129
Дикие бразильские кошки.
(обратно)130
Под таким названием писал свои мемуары нацистский врач Йозеф Менгеле, бежавший в Латинскую Америку после поражения Германии во Второй мировой войне.
(обратно)131
Эскадроны смерти — военизированные подразделения, без суда и следствия уничтожавшие преступников, беспризорников и бездомных, появились в Бразилии в конце 60-х годов.
(обратно)132
Оскар Нимейер — основатель современной школы бразильской архитектуры.
(обратно)133
Жуселину Кубичек ди Оливейра — президент Бразилии в 1956–1961 годах.
(обратно)134
Бернар Зерфюс, Марсель Брейер — архитекторы, авторы проекта здания ЮНЕСКО в Париже.
(обратно)135
Для штаб-квартиры ЮНЕСКО Пабло Пикассо создал композицию «Падение Икара».
(обратно)136
Город Бразилиа строился в 1958–1960 годах.
(обратно)137
Официальное открытие новой столицы Бразилии состоялось 21 апреля 1960 года.
(обратно)138
Mama Eu Quero (Мама, я люблю) — популярная бразильская песня; Кармен Миранда — знаменитая бразильская певица и актриса 30-х—50-х годов.
(обратно)139
Цветущий вечнозелёный вьющийся кустарник.
(обратно)140
Город в штате Минас-Жерайс.
(обратно)141
Небольшой городок в штате Минас-Жерайс.
(обратно)142
Валюта, введённая в Бразилии после девальвации реала.
(обратно)



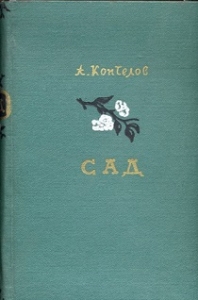
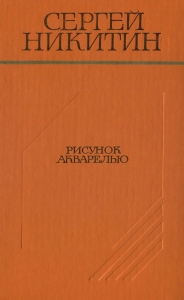




Комментарии к книге «Жмых», Наталья Елизарова
Всего 0 комментариев