Дмитрий Холендро
ЛОПУХ ИЗ НИЖНЕЙ СЛОБОДКИ (окончание) Повесть
17
Ночью Алеше приснилось, что они с Анкой жили где-то, где ни разу не бывали, и жизнь сложилась хорошо, будто прежнего вовсе не было, и настало наяву то счастье, которое возможно только во сне. За домом, где они жили, открывалось хлебное поле, и чудеса — по его краю он водил Анку и рвал ей васильки, хотя никогда в жизни не видел их. Ну, видел разве один раз, в далеком детстве, когда мальчишкой ездил с батей в деревню. Неужели с тех пор запомнил? Чтобы во сне увидеть? Вот какие нежности!.. Стыдно и смешно!
Во сне он сочинял стихи, которых не умел сочинять наяву и не сочинял никогда. Голова кружилась. «Ах, Анка! Анка! Вот закричу от счастья на весь белый свет: Ан-ка!» Ну? Совсем уж глупо. Хохочи над собой, да и только…
Хорошо было, да недолго!.. Пока не проморгался под крик «Пожарника». Петух окончательно вернул все на место. И стало при свете дня все ясно.
Ясно, что надо это кончать.
Утром, которое вечера мудренее, принимается такое решение: Анки нет. Все! Вот. И сразу стало легче. Свет широк, оглядывайся…
Институт, далекая школа… Он упрямый парень, Алеша, еще не выбросил мысли о сельской школе. Кто стучит? Это Миша с Иваном. Пока! Обнялись. Приедете, будем вместе учиться…
А мать лежит, ни звука из ее комнаты… Конец ей? Как бы еще удара не случилось!
Но вечером пришел стекольщик Василий. Очнулась мать, значит, раз стекольщика позвала. Может, для того, чтобы почувствовать свое воскрешение… Рано он ее в отставку… Нет, видно, у Сучковой просветляется в голове… Раз дом еще будет стоять, нужно заменить битые стекла, которых за последнее время набралось предостаточно.
Мать ведь и битые стекла не спешила менять, а накладывала на них латки, как на всю свою одежду. Приходил слободской стекольщик Василий, тощий, как подсохший хвощ, с тяжелым, отвислым носом. Он надевал на этот нос очки, сверлил в стеклах по бокам старых трещин дырочки и ловко вставлял железные скрепки, вынимая их, как фокусник, изо рта. Стекла со скрепками держались и держались…
Василий начал с залы, где Коклюш собирал в дорогу свой чемодан — пришла пора и ему укатить на месяц, Сложился он быстро, но Василий расфилософствовался, задержал.
— Вот, молодые люди, — спрашивал он, скребя по раме стамеской. — Откуда, например, берутся слова?
— Откуда? — озадаченно повторил Коклюш. — Из народа. В школе так учили.
— Из народа, — согласился Василий. — А что слова значат?
— То и значат, что значат.
— Ну, например, самовар, — сказал Василий гундосо. — Сам варит. Это просто.
— Конечно! — засмеялся Коклюш.
— А что значит, например, человек?
— Ну, что?
— А ты догадайся. Зачем тебе мозги дадены? Чтобы шевелить ими. Вот и шевели. Залежатся — протухнут.
— Ну что, что?
Довольный Василий мял в пальцах замазку, пахнущую скипидаром.
— Я на поезд опоздаю! — закричал Коклюш.
— Человек, — прогундосил Василий, — это чело века. Какие люди, такое у него, у века, тоись, и чело. Физиономия!
— А кто вас научил? — поразился Коклюш. — Какой мудрец?
— Сам варю, — засмеялся Василий, — как самовар. Вот скажи-ка, например… Что значит — судьба?
— Ну?
— Эх! Погадай!
— Я ж сказал — поезд!
— Суд божий.
— Чепуха, — вмешался Алеша, молчаливо слушавший разговор. — Судьба — от человека. Счастье надо все время добывать. Как каменный уголь.
— Чьи слова? — спросил Коклюш.
Алеше не хотелось говорить, что это он сам так подумал сейчас.
— Не все равно, чьи? Забыл.
Коклюш протянул руку, но Алеша взял его чемодан и пошел провожать, оставив Василия мять замазку.
Зачем пошел? Он сознался себе, что боялся оставаться один. Это пройдет… Завтра он будет чуть дальше от сегодняшнего дня, после своего бесповоротного решения, а послезавтра еще дальше… И настанет день, когда все забудется…
— Чего ты такой? — спросил Коклюш на вокзале.
— Какой?
— За всю дорогу — ни слова.
— Разве?
— Девушка?
— Ну, девушка! Подумаешь!
Сквозь улыбку, радуясь, как легко получается, Алеша вдруг рассказал об Анке. Пусть и Коклюш прибавит свою каплю к его неопровержимым выводам. Но… Уже поезд лязгнул буферами, уже покатился вагон, а Коклюш все стоял в тамбуре и кричал:
— Она хорошая! Я с ней ехал! Я знаю!
Поезд уходил, изгибаясь дугой вдоль асфальтированной платформы.
— Ты спроси этого вислоносого, — кричал Коклюш, — что такое любовь?
Колеса стучали.
А ушел поезд, и стало тихо, ни вопросов, ни надежд… Только эхо, всегда живущее на вокзале…
18
Накануне Дня Победы батя смастерил две новых скамейки у косых ворот тети Вари. Она захотела, чтобы, как в былые времена, у ее ворот сели приодетые бабоньки, а она сыграла им на баяне. Уж сколько она посулила бате, неизвестно, но он старался. Похоже, ему нравилась эта простая работа, для которой всего и требовались пила, рубанок да молоток. Они-то остались у него в сараюхе, и он настрогал реек, чтобы сделать скамейки легкие, с наклонными спинками, как в городском парке.
На траве, наблюдая за его работой, шебуршилась пацанва. Кто сидел на корточках, а кто прилег на пузо — земля потеплела. Пацаны норовили подержать рейки, поднять упавший гвоздь, подать молоток. Один малыш хотел сам забить гвоздь, который нашел в траве, но батя шутливо остудил его:
— Нельзя!
— Почему?
— А потому! Когда кузнец кует, лягушка лапку не сует.
— Так я же не лягушка!
— А кто? Пых-пых… Откуда ты такой взялся?
— В капусте нашли.
— А меня купили в универмаге, — сказал второй, глазастый.
Третий, постарше, остриженный наголо, сидел степенно. Остатки жестких волос торчали на его круглой, как мяч, голове колючками репейника. Видно, стригли домашним способом. Он презрительно поглядел на несмышленышей:
— А меня папка с мамкой сами сделали. Так дешевле.
— Пых-пых… Ты им дешево обошелся, — сказал батя. — Почти задаром.
Снова он просматривал рейки, примерял. Тянул время, не хотел оканчивать работу. И все рассказывал Алеше, как сколачивал терем над прежним слободским колодцем… Чего он только не смастерил за жизнь! А вспоминался колодец…
Пацанва между тем шепталась:
— Откуда она, эта тетка?
— Из Сибири.
— Родственница?
— Фига!
— Совсем чужая!
— Не знаешь?
— Много будете знать, — сказал батя, вынимая гвозди изо рта, — скоро состаритесь.
— Не-е… Умней станем, — возразил стриженый репей.
— Кто тебе сказал?
— Сам соображаю.
Батя покачал головой.
Кто была эта тетка, о какой они загудели, пацанве знать не полагалось. Приехала она вчера, толстая, неповоротливая, с одной клеенчатой сумкой в руке, и тащилась по слободке, трудно переставляя ноги. А через час слободка ахнула. Приехала жена пропавшего без вести музыканта Коли. Настоящая!
Была война, девушки посылали бойцам на фронт свои карточки с нежными словами. И Варя свою послала. Сначала одну, а потом еще, потому что он ей ответил. Началась любовь в самодельных конвертах. Вот, после войны, он к ней и постучался, прибыв прямо с эшелона, который остановился на городском вокзале в цветах и надписях на красных теплушках: «Мы победили!», «Здравствуй, мама!». И еще в этом роде.
А в Сибири ждали Колю жена и двое детей, один меньше другого. Коля решил к ним с войны не возвращаться, отрубил. Да от Вари скрыл. А когда она узнала об этом — проговорился как-то баянист! — проплакала всю ночь. А утром собрала в дорогу, пирогов напекла, только и попросила:
— Отдай мои фотки. — И выпроводила!
Чтобы совсем забыл, значит. И уехал Коля с пирогами в свою далекую Сибирь. Но Варю не забыл. Перед тем как помереть, велел жене передать Варе последний поклон. Вот кто эта тетка была… И вот с чем приехала.
И Алеша подумал: пусть теперь одни ругали Варю, другие хвалили, она сделала, как велело ей сердце. Никого не спрашивала, ни с кем не советовалась.
А он-то? Он-то? Почему он спрашивает и слушает других?
Нет, он сам решил: больше нет Анки. Все! Другой случай!
А если он и не чувствует себя спокойно, то ведь не сразу это дается. Ему надо увидеться с Анкой. Люди знают, как Анка поиздевалась, потешилась над ним, а он… он ей ничего не сказал. Что-то в нем выпрямилось, будто пружинистый хлыст, так, что уж больше не согнется. Да, вот чего ему не хватало, чтобы отделаться от слюнтяйства, от тяги к ней… Он увидится с Анкой. Конечно, лучше всего при людях. И скажет ей, кто она. Вслух, при всех… И, может быть, даст пощечину. Пусть увидит слободка, какой он, Алеша Сучков!
Это ему понравилось.
Батя вколотил последний гвоздь и погладил доску. Пацанва уселась на скамейки, заболтала ногами вовсю… Батя скидал нехитрый инструмент в переносный ящик с ручкой, и тогда Алеша сказал ему:
— Ты домой? А я… ненадолго… тут вот…
И пошел к древнему дубу у ворот Распоповых.
— Анка дома? — спросил он Сергеича, дремавшего на скамейке.
— А где ж ей быть?
Алеша вошел во двор и крикнул:
— Анка!
Она сразу растворила окно и выглянула, точно ждала. Какая-то бледная, с незнакомым лицом…
— Пойдем, — позвал Алеша.
— Куда?
— К реке…
В ее огромных глазах зажегся и заскользил испуг.
— Я догоню…
У реки стало еще зеленее… Вымахала и загустела трава, и листва на березах сочно налилась. Птицы примолкли, когда солнце закатилось. Мимо прошли слободские с веслами, с сачками на длинных палках. Сачки распирало от пузатой рыбы — верши выгребли после работы. Прошли, оглядели…
Анки все не было.
Он ждал и смотрел, как по реке плыли бутылки. Горлышками вверх. Стоя. Это жители счастливой Верхней слободки посылали свой вечерний привет жителям Нижней… Счастливая она, потому что жить ей осталось месяцы, может, дни… Пятиэтажки давно вторглись в нее, как корабли; половину, а то и больше слободки уже очистили могучие и аккуратные бульдозеры, а другие домишки попрятались по щелям, как лодки между кораблями, жили под их светом, слушали музыку из их окон… Не жили — доживали…
А Нижней, как сказал Куцуруп, еще цвести и пахнуть!
Когда-то, в давние времена, слободки враждовали, никто и не помнит, почему! Случалось, ходили не в гости, а мериться силушкой. В наши дни поубавилось охотников перешибать носы, но «верхнеслободские» наловчились дразнить «нижних» этими бутылками… Набирали в них немного воды — для устойчивости — и пускали плыть по течению. Дескать, мы уже выпили… Завидуйте!
Анки все не было.
И он позволил себе вспомнить главное. В этой второй жизни, из воспоминаний, самым главным был тот дорогой полдень, который не повторится… Он уже был прошлогодний…
В тот полдень Алеша остановился у ворот Распоповых, как часто останавливался, а иногда и просто приходил постоять. Это делалось будто само собой. Тихо, в пыли и дреме, лежала улица. Высокий забор с колючей проволокой, высокие ворота прятали Анку. Калитка была закрыта наглухо.
Алеша толкнул ее и забеспокоился. Анка всегда спешила замкнуть калитку, когда родители ругались. Чем старше становилась, тем стремительнее бросалась к калитке при первых искрах скандала, пока он не разгорелся, и хваталась за дубовую задвижку, будто отсекала все связи с внешним миром. А может, потому бросалась скорее, что, старея, родители грызлись беспощадней. Иногда Анка сама прижималась спиной к калитке и стояла, загораживая их раздоры от жизни, другой или казавшейся совсем другой. Чтобы не мучили вопросами, взглядами, насмешками, сочувствием…
Алеша позвал. Не ответила. Не было ее за калиткой. Постучал погромче. Не ответили.
Тогда он побежал вдоль забора к акации, будто его толкнули. Исчезло все. Вокруг не было никого и ничего. Ни других дворов и заборов. Ни улицы. Он вскарабкался на акацию, повис на ломкой колючей ветке и обезьяной перемахнул во двор, оставив на проволочной игле клочок рубахи. Еще через мгновение он был у одуряюще пахучего жасминового куста, росшего под окном, из которого летели, выбрасываясь, как горящие поленья из костра, крики Анны Матвеевны и Сергеича. Ее голос был визгливей, но Алеша все равно ни слова не разобрал. Он увидел, что дверь в сарай приоткрыта, чуть-чуть, на щель с кулак, и рванулся к ней.
В каждом слободском дворе где-нибудь косился такой сарайчик, обычно самый трухлявый из всех построек; в нем хранилась огородная утварь.
Сначала, как вода при нырянии, Алешу поглотила темнота — кромешная, точно он крепко зажмурил глаза. В сарае не было окон, а дверь он захлопнул за собой, чтобы «голуба» или сам Сергеич не заметили его и сгоряча не прогнали.
— Анка, это я, — сказал он раньше, чем услышал, как она плачет. И она заплакала громче, будто звала, будто ждала его и хотела, чтобы он быстрей сообразил, где она, и нашел ее в темноте.
Темноту рассекали тонкие нити света, словно только сейчас проникнув сквозь трухлявые стены. И хотя свет не был сильным, и, громыхнув, повалился какой-то ящик, на который он наткнулся, и загремела какая-то жесть под ногами, он добрался до последней стенки, до самого дальнего угла, где Анка лежала на мешках, пахнущих землей.
Встав на колени, он обнял ее, приподнял и стал гладить по голове и плечам, как ребенка, пока она не затихла. В тишине и темноте, изрезанной лучами, слышались невнятные, но яростные голоса из дома, однако они уже не имели смысла.
Он давно молчал, перестав повторять «ну, ну» или что-то другое… Анка, теплая, мягкая, такая дорогая, что дороже никого не было и быть не могло, жалась к нему, пряталась под его грудью, и он сжимал ее все сильней, как будто кто-то мог вырвать ее из рук.
— Алеша, — сказала Анка, — Алешенька…
Она еле прошептала это, но он услышал. Слабый шелест, адресованный ему одному, не проскользнул мимо.
Он не мог ответить. Сдавило горло. Он не отважился дышать, не то что говорить. Слова забылись, будто он никогда просто не знал ни одного. Вдруг родился и стал расти неиспытанный, незнакомый страх…
— Алешенька! — шептала Анка, прижимаясь. — Пришел?
И он стал целовать ее вместо ответа. А сердце, подгоняемое страхом, толкалось в грудь, словно хотело убежать…
Потом они еще долго лежали на мешках, надежно пахнущих землей. Не раз вспоминая эту минуту, он всегда удивлялся глупому и нелепому «потом». Почему потом? Не было ничего до этого. С этого началось настоящее. Он по-новому увидел саму жизнь. Она наполнилась чувством, не требующим слов. Он стал отвечать за Анку. И это было так понятно, что тоже не требовало объяснений…
А она вдруг уехала… Не сказав ему ничего. Через несколько дней после того, как случилось это, связавшее их неразрывно… Вот почему все показалось ему катастрофой, когда Анка уехала. Вот почему…
А недавно — еще тогда, когда она прижималась щекой к его груди и, кажется, спала, было так покойно. Рядом с ними старую стену, как шпаги, протыкали лучи солнца. А ему уже ничего не было страшно, даже если бы это были настоящие шпаги… Он смело вышел в день. В доме еще кричали, но услышал он только, как пели птицы. Для него с Анкой…
Зачем он вспоминает?
От этого болит и ноет в груди. Сердце стало ноющим зубом, которого не вырвет сам Богма. И сигареты, которыми пропах он, уже не помогают…
Не надо вспоминать! Лучше просто сидеть и смотреть на реку.
По ней еще плыли бутылки. Иногда, чуть покачиваясь, бутылки плыли целый вечер… «Нижние» швыряли в них камнями и радовались, если попадали…
Звяк! Кто это отличился таким метким броском? Бутылка утонула, радужно сверкнув на прощание воздушным пузырем.
— Степан!
Ящик, он же Гутап, он же бывший детский друг и просто Степка, оглянулся и еще один камушек просто так швырнул в реку, отряхнул руки, подошел и как-то бочком не сел, а плюхнулся на траву. Будто ноги с трудом держали его железное, похожее на сейф тело.
— Чего здесь делаешь? — спросил Алеша, пока Степан усаживался надежней, приминая под собою мешавшую ему землю, доставал сигареты из кармана и выбрасывал еще два камушка, сунутых туда про запас.
— А ты чего? Анку ждешь?
Алеша хотел усмехнуться и послать его подальше, но лишь спросил глуховато:
— Откуда знаешь?
Степан усмехнулся вместо него:
— А чего ты еще можешь делать? — И слова и усмешка были у него громкие, хозяйские. Он и ответил сам себе: — Ничего!
— Будто ты не ждешь Надю, не топчешься у библиотеки…
— Я не топчусь, а в своем автомобиле сижу, во-первых. А во-вторых, она мне подарка в животе не принесла. И не принесет.
— А если бы принесла?
— Пошла бы своей дорогой.
— Куда?
— В сберкассу. За своим миллионом. Ха-ха!.. У нас матери-одиночки получают пособие. А я при чем? Я не государство… Мне чужого не нужно.
Степан опять рассмеялся на всю лужайку.
— Какая же она чужая, Анка? — спросил Алеша.
— Чужое семя в ней! Такого не прощают.
— Пусть страдает?
— А как же!
— А я не хочу, чтоб она страдала. Я ее люблю.
— Простишь? — спросил Степан тише и заинтересованней.
— Я люблю ее, — повторил Алеша.
— Для чего?
— Не знаю… Не знаю, для чего и почему…
— А я знаю. Потому что ты лопух. Лопух! — закричал Степан, приподнявшись, как будто встал на защиту всего мужского сословия. — Он не Хочет, чтоб она страдала! Эка! А она с тобой посчиталась? И ты сможешь ее простить? Непонятно!
— А тебе все должно быть понятно?
— А как же!
— Объясни мне тогда, — спросил Алеша и улыбнулся. — Чего ты так стараешься отвести меня от Анки?
— Друг я тебе или не друг? — зло удивился Степан.
— Тебе лучше, если я… Чтобы Надя…
— Надя? — Степан хотел засмеяться, но неожиданно как-то пискнул вместо властного, хозяйского смеха. — Никуда она от меня не денется! Шашни-машни, шуры-муры-амуры, а приходит момент один раз решать на всю жизнь… И никуда она от меня не денется. Потому что, кто я и кто ты? Мне тебя жалко. Лопух!
— Смешно, — горько сказал Алеша, вспомнив, что и мать, случалось, называла его лопухом.
— Смотри, наплачешься! — предупредил Степан и встал.
Он ушел, победно вихляя задом, а бутылки еще нет-нет да проплывали в темной реке. То парами, а то по одной…
19
Утром в День Победы Сергеич сидел на своей скамейке, выбритый до синевы на щеках. В этот день, едва проснувшись, он правил почерневшую опасную бритву на таком же почерневшем ремне. Пробовал ее на волосах, пока не слетал седой пучок от одного неслышного прикосновения к макушке.
Подкрахмаленная рубаха резко белела под пиджаком, увешанным орденами и медалями, только уголок жесткого воротника вылез из-под потертого лацкана и загнулся, а пуговица вдавилась в горло.
Алеша поздравил его и протянул высокую и узкую коробку, разрисованную торжественно и затейливо, как палехская шкатулка. Сергеич разорвал ногтем бумажную склейку, извлек бутылку коньяка и, взмахнув, тут же разбил о столб под скамейкой, одно горлышко в руке осталось.
— За подарок спасибо… — Он отшвырнул бутылочный осколок подальше и глянул на пустую коробку. — Это я на полку поставлю.
— Ну и хорошо! — сказал Алеша, а Сергеич добавил:
— Вспоминать друзей можно и на трезвую голову.
— Вон как птицы поют! — проговорил Алеша.
Сергеич молчал, слушая, как перекрикивались птицы. Очнулся, вновь заулыбался — так хорошо, как давно не получалось.
— Иной раз думаешь: мать честная, за что тебе все это подарено?
И опять умолк.
— Где Анка? — спросил Алеша. — Выглянет она хоть сегодня? Нет?
Сергеич вскинулся, перевел на него глаза. И Алеша понял: не даст она слободке показывать на себя пальцем. А Сергеич сказал:
— Уж я думал — кому быть счастливыми, как не вам? Ан нет!
Сбоку потянулись звуки баяна, и он повернулся было туда, но тут же отворилась калитка. И Сергеич дернулся, и Алеша вздрогнул. На улицу выплыла расфранченная Анна Матвеевна с горстью семечек в руке. Сплюнула в траву шелуху.
— Сидишь, зеваешь, а про тебя по радио передают.
— Какому радио?
— Председатель ветеранов выступал… Городских… Второй раз о человеке говорят, а ему плевать! — Она удивленно хлопнула себя по толстому боку толстой рукой.
— А еще-то когда? — спросил Алеша. — Когда еще говорили?
— С лакаголиками борьбу вели. А моего хвалили. Коллективу слово дал…
— Ладно, — остановил ее Сергеич. — Грызи семечки.
— Человека хвалят, а он не слушает! Совсем ты зазнался, голуба!
Анна Матвеевна кинула сразу жменю семечек в рот и пошла, покачиваясь на раздутых ногах, рассказывать другим о муже.
— Голуба! — сказал Сергеич ей вслед. — Вчера Анку приперла — с ребенком держать не буду.
— Позовите Анку.
— Не велела.
— Позовите!
— Дома нет, — мрачно сказал Сергеич.
— И для меня нет?
— Говорит: одна буду всю жизнь.
— Сергеич!
А женщины у ворот тети Вари запели.
— Пойдем к бабам, — сказал Сергеич. — Там — вдовы. Посмотрим на эту Настасью, Колину.
Женщины потихоньку подходили к Варе в перелицованных платьях ниже колен. Усаживались на скамейки, тяжеленько, потому как были совсем уж немолодые. Слушали, как Варя играет… Трогали заскорузлыми пальцами ордена на груди.
Кое-кто из вдов пришел с орденами Славы. В слободке это водилось: в День Победы бабы надевали переданные им на хранение ордена мужей, не пришедших с войны или умерших после нее. А дед Амвросий каждый день носил орден жены-покойницы — матери-героини. Когда спрашивали, знает ли он, что это женская награда, дед, сияя лысиной на солнце, щурился и отвечал:
— А как бы она без меня героиней стала? Я ж не виноват, что нет такого ордена: «Отец-герой»!
И не замечал, что текла слеза по дубленой коже его лица… Мужики тоже душу имеют, как горя потянут — так сразу и видно…
Вдовы рассказывали о своей жизни приезжей Настасье. Так, мол, и проболтались без мужиков сколько лет — ни шест, ни весло.
— Ровню-то повыбили! — сказала Настасья.
— Всем солнце светит, да не всех греет.
— А в войну сами мужиками были, — засмеялась Даша Быкова. — Зина вон гильзы делала на ремзаводе. Скажи, Зина!
— И другую амуницию, — только и поддакнула та, затянув концы пятнистой косынки.
— А сама-то что работала? — спросила Настасья сухонькую Дашу.
— Я? Мешки таскала в вагоны! На станции. Они закантарены, ничего не выложишь, возьмут в четыре руки, а ложат на одну спинушку. Не знай, сколько весу в таком мешочке, навали его на нынешнюю молодуху, так и присядет до земли. В больницу отвезут! А мы и думать не смели, занеможешь, сама скрыть стараешься — война же! И так изо дня в день, изо дня в день, чтобы наши там были все обуты, одеты, сыты… Наверно, мускулы у нас особые были на ногах и руках.
— Были, да сплыли.
— А дома еще и козочку покорми… Натаскаешь сена на зиму, откуда бог даст, — и радость!
— Тоже бы ничего, да еще ребят обшить надо. Принесешь мешок со станции — вот удача! Рада-радешенька! Щелок из золы сделаешь, отстираешь, вальком на реке отколотишь суровизну, да и сошьешь рубашку мальчонке. Любо-дорого!
— Детишкам доставалось.
— Детишков жаль.
— Ой, бабы, не тревожьте душу, нет моченьки больше! Доставай, Зина, трахнем по маленькой!
Глоточками тянули вдовы красное вино. Как-то исподволь перекатились на веселое.
— Помнишь, Зина, как твоего Гаврилу щука за палец цапнула?
Зина отмахивалась, смеялась:
— Ну вас, девки!
— Пусть Настасья послушает! Нарочно не придумаешь. Ой!
И принялась Зина рассказывать, как заядлый рыболов Гаврила Селиверстов раз, погожим июльским днем, зашел с другом в речку… Все чин чином. Приладили бредень, взялись за палки, вода где по грудь, а где и по шейку, подвигаются… На берегу женушки улова ждут, зеваки. Заметно уж, как рыбка плещется — ершики, окунишки… А самое главное еще там, самое главное у бредня — это мотня. Вот тянут мотню, а она ходуном ходит! Щучища извивается всем телом, бесится от злости, выхода ищет. И вдруг — со всего маху — к Гавриле, и тут он как завопит, будто борова режут, ни дать ни взять! Обувку-то в речку надели рваную, ботинки каши просят… Ох, господи!
— Ну, щука и хвать моего Гаврилу! — смеялась Зина.
— Чудеса! — смеялась и Настасья, трясясь.
— В природе каких только чудес не бывает! — заметила бабка Миронова, обхватывая палку сучковатыми руками.
— А вокруг зеваки животы рвут, — договаривала Зина Селиверстова, прикрывая ладошкой рот. — Самый знатный в слободке рыбак щуке в пасть угодил. А он тоже хохочет: «Я щуку пальцем поймал!»
Давно лежал слободской рыбак на обширном братском кладбище в городе Бреслау, если по-немецки, а по-польски — Вроцлав, потому что это польская земля…
— А ты, Настасья? Теперь ты расскажи чего-нибудь!
— Я-то? — Настасья, если заговаривала, ко всем словам приставляла «то», видно, так полагалось в ее местности. — А что сказать-то? Полнота меня мучает, бабоньки. На плечи-то будто повесили по ведру с водой и не снимают.
— Нет — ништо твоя полнота, Настасья!
— Ты собой хороша!
— Вот была у нас Пашка — «Сиговая бочка» — не тебе чета! Центнера на два. Чудо-юдо.
— В природе каких только чудес не бывает! — повторила мудрая бабка Миронова, тоже сипло смеясь в кулак.
— А с чего «Сиговая бочка»-то?
— Пила, как прорва, и сигами заедала.
— И несло от нее вином и сигами, как из бочки. Во!
— Материлась! Некультурная была!
— А с чего сейчас пьют-то? — спросила Настасья. — Все культурные стали, а пьют.
Бабы помолчали.
— Одни думают — геройство. А какое же это геройство — опрокинуть рюмку за воротник? Каждый шкет может. Ты ворога опрокинь. А другие — мартышки. Как ты, так и я!
И тут сошлись глаза на Сергеиче, вдовы умолкли, и Настасья огляделась, повернулась к Сергеичу, спросила:
— Вот дивлюсь — живете за колючей проволокой! Зачем? — И показала на забор, по которому густо вились железные колючки.
— Как на фронте! — лихо засмеялся Сергеич.
— Еще спрошу, — сказала Настасья, обращаясь к бабам. — Молодые-то ходят по городу в обнимку, мальчишки с девчонками, совсем дети, батюшки! Кто за плечи, кто за пояс обхватятся и шагают!
Бабы загудели, мощно разделяя неодобрение.
— Я чего удивляюсь-то! — вскрикнула Настасья. — Бывало, тебя мужик заденет случайно пальцем, ты вся так и вздрогнешь! И до вечера ходишь алая, вся горишь! А эти-то, эти-то — неживые, что ль? Обхватятся, и ничего, как будто им ничего не нужно более! Ведь разучатся детей рожать, если не разучились! Как будут рожать-то? Кибернетикой?
Бабы смеялись и качали головами.
— Знают, ка-ак! — протянула бабка Миронова и, наклонившись, зашептала Настасье в самое ухо.
Вмиг, как голодные птицы на зерно, бабы сгрудились и пошли шушукаться да хихикать, подсыпая в общий котел словечки. Алеша не сомневался — про Анку… Те же самые бабы, только глаза другие… Тетя Варя быстрей взяла баян:
— Ну, девки, побаяли, запевай!
Девки, которым было уже под семьдесят, потихоньку вытерли губы платками, приосанились, начали:
Во ку… во кузенке. Во кузенке молодые кузнецы. Они, они куют. Они, они куют. Куют, дуют, приговаривают…Чего запели! Алеша удивился: зря он смаху решил, что они все забыли… Нельзя о них смаху… Помнили еще… А война? Вот посидел со вдовами, послушал и возвысился вместе с ними над огородами, над заборами… Над всей слободкой… Значит, жила в них память о всеобщем горе, всеобщей беде…
— Хорошие были песни! — сказала бабка Миронова, когда и голоса и баян стихли. — Теперь редко услышишь…
— Теперь их только хор Пятницкого поет. По те’., левизору.
— Ты не думай, Настасья, мы телевизор смотрим.
— Мне вон сын привез-подарил. Дом старенький, как у бабы-яги, а наверху антенна торчит. Баба-яга с антенной! — разевая беззубый рот, смеялась бабка Миронова. — Чудеса в решете!
А Варя уже играла вальс, и женщины танцевать пустились.
Вразнобой с вальсом тут же занялись, разгорелись частушки-припевки: забыв о возрасте, бабы пробовали голоса на пределе самых высоких нот.
Алеша встал, вернулся к дому Распоповых, ударил калитку ногой. В пустом дворе позвал:
— Анка!
Тишина гудела в ушах. Соборными колоколами вдруг забили в столовой старинные часы «Павел Буре». Тяжелые, сами тоже похожие на собор. Откуда-то приволок их дядя Сережа — неживые, разбирал, собирал, месяц возился и, наконец, повесил на стену. Маленькая Анка на ночь останавливала их, чтобы звонким боем не будили дома, не мешали спать. А утром переводила стрелки, украшенные виньетками.
— Анка!
20
Береза качалась над лужайкой… Алеша облегченно вздохнул: Анка сидела на пеньке, улыбалась, будто не было в жизни ничего — ни горестного, ни грустного… Она это умела… Алеша коснулся рукой травы и сел, тяжело дыша после бега.
— Я знала, что ты придешь… — сказала Анка, как будто только и делала, что ждала его здесь.
Пятна солнца плавали по реке.
— Ну, что ты молчишь, Алеша?
Обхватив руками колени, он покосился на нее:
— Обязательно говорить?
Вдруг Анка спросила:
— Алеша! Ты любишь меня?
Он возмутился и хотел возмутиться вслух, но сейчас же захотелось сказать, что жить без нее не может, задохнулся и пробормотал:
— А что?
Анка пересела с пенька на траву, прижалась к Алеше, повернула к себе его лицо и поцеловала. Он нашел ее губы и почувствовал на них слезы. И снял черные капли из-под ее глаз.
— Ресницы твои потекли…
— А! — только и вырвалось у нее.
Долетели звуки баяна, долетели припевки…
Анка отвернулась:
— Алеша! Как я тебя люблю!
И все сидела, отвернувшись, совсем склонила свою голову, прижала к плечу.
— И что? — усмехнулся он.
— И все.
— Нет, не все! Расскажи все! — потребовал он.
— У меня будет ребенок.
— Наконец-то… сказала… Я давно знаю…
— Не так просто было сразу сказать… — Анка заплакала.
Сейчас бы и швырнуть ей самые хлесткие слова! Оказывается, он, дурак, еще верил, что спросит, а она расхохочется в ответ: «Ты что, не знаешь, как слободка сочиняет? Какой ребенок?» Могли же это быть враки?
Не враки… Был муж, будет и ребенок…
Анка усмехнулась как-то пугливо:
— Натворила, в общем… Что ж теперь? Умирать?
И повернула к нему лицо в слезах.
— Кто он такой? — спросил Алеша. — Молчи! Мне все равно! Он приставал к тебе? Циркач! Приставал? Насильно?
Было непохоже, что Анка собиралась отвечать, потом сказала отрывисто и недобро:
— Я запиралась, а подруги называли меня дурой… А я руки себе кусала…
— Ясно.
— Что?
— Перестала кусать руки и пустила. Подруги виноваты.
Анка сидела с прикрытыми глазами, будто отсутствовала. Он тоже закрыл глаза рукой, белого света не хотелось видеть. Сидел так долго, слышал, как Анка вздохнула, и вдруг откинул руку, потому что Анка засмеялась… Неожиданно, как это часто бывало с ней, некстати.
— Алеша! Все просто… Мне казалось, ты и одного моего отъезда не простишь… Вот как я думала… А руки кусала по ночам, забыть тебя не могла! Мне тебя забыть надо было, потому я и открыла дверь… Не поймешь… И не надо. Я виновата. Вообразить не могла, что мы с тобой об этом будем разговаривать. Ну, я дура… Мне казалось, что ты… А тут узнала, пилу на мотороллер придумал… Вон ты какой! Еще глупее!
— Не имеет значения, какой… Ты меня отсекла? — спросил он, рубанув воздух ладонью. — Напрочь?
— Хватит об этом! — крикнула Анка.
— Отсекла? — спросил Алеша. — А я вот он, рядом…
Анка зажала уши, втянула голову.
Спохватился ветерок, береза затрепетала, и ветви, отяжелевшие от листвы, закачались.
— Послушай, как она шумит, — сказала Анка, поднимая голову, и посмотрела на Алешу. — Разгладься!
Это было слово из детства. Еще маленькой она не любила, когда он хмурился, как дед, и приказывала:
— Разгладься!
И встала порывисто. Алеша тоже вскочил.
— Ты меня любишь? — спросил он.
Она зажала ему рот ладонью, постояла, повернулась и побежала прочь. Он не крикнул, не погнался вслед за ней.
А ночью в самое сердце ударила тревога: сейчас Анка сложит чемодан и уедет… Она прощаться приходила! «Брось ты бредить!» — сказал он себе и повернулся на бок, стараясь уснуть.
Сон не возвращался…
Не долежав до рассвета, Алеша оделся. Небо в одной стороне еще туманилось рыхлым, темно-серым остатком ночи, а в другой таяло и зеленело. Пустынной улицей Алеша подошел к распоповской скамейке и сел.
Мимо, переставляя ноги за палкой, шаркала бабка Миронова, верившая в чудеса. Неизвестно, куда она шла… Остановилась перед Алешей. Все же человек, не так одиноко жить. Спросила:
— Что слыхать?
— Наша ракета до Марса станцию донесла, — ответил Алеша.
— Бывают чудеса! — радостно сказала бабка.
Звякнула защелка. Калитка, врезанная в ворота, отошла, и через ее порожек переступила длинная и тонкая нога в сапожке. Анка! Она затворила за собой калитку и оглянулась, увидела Алешу.
— А ты чего тут?
— Так.
В руке Анка держала чемодан.
— Куда? — спросил Алеша, вставая.
Анка нахмурилась. Рассердилась, что он ждал, порылась в кармане платья и вынула узкосложенный листок. Это была телеграмма. Алеша развернул ее. Слагаясь в строки, зачернели крупные буквы, которыми сообщают людям о радостях и несчастьях:
«МНЕ ЗНАМЕНИЕ БЫЛО ЧТО ВЕРНЕШЬСЯ НАШИ ПАЛЕСТИНЫ АХ ЭТИ ССОРЫ ВЗДОРЬ! ПРИЕЗЖАЙ НЕМЕДЛЯ ЖДУ КИСТИНТИН».
Ну что ж… Вот и тот, Константин. Словно перемолвился с ним. Если бы знал, почему пришла эта телеграмма, как Сучкова постаралась для этого, быть может, понял бы, откуда в ней такие трусоватые и жалкие слова, плохо прикрытые улыбкой… Но он ничего не знал. И вернул листок.
— Зачем… мне… это показываешь?
— У меня все хорошо, видишь… Я уезжаю.
— Я тебе уеду! Чемодан! Дай сюда! Слышишь?
Он протянул руку, но Анка отодвинулась, отшагнула.
— Давай сюда чемодан! — повторил он, шагнув за ней.
Тогда она спросила испуганно:
— Алеша! Ты что?
— Ну, так знай, — ответил он. — Меня нельзя отсечь…
И Анка отступила еще на шаг:
— Этот человек, он из дирекции… Я думала, он меня продвинет… Я дрянь!
— Это все копоть. Забудь…
— А Сучкова? А люди? Что они скажут?
— Плевать!
— Я сама тебя презирать начну!
— Все равно, — улыбнулся Алеша. — Я тебя прощаю.
— Еще я должна захотеть, чтобы меня простили! — крикнула Анка. — Уходи!
— Ты сама сказала, что любишь…
— Потому и сказала, что мне ничего от тебя не надо! Я прощаться приходила вчера…
Он опять улыбнулся ей:
— Знаю. Эта телеграмма уже вчера была? Да?
— Прощай, Алеша! Разгладься!
Анка повернулась и таким скорым шагом пошла, будто побежала, а старуха Миронова за его спиной, костлявая и полуглухая, которая до вчерашнего дня не выползала из дома и не знала ничего, плюнула вслед Анке:
— Порченая девка! Тьфу!
Сначала Алеша еще шел за Анкой, потом остановился. Она даже не оглядывалась. Он постоял и побежал к березе… Все уже ярко зеленело в лучах утреннего солнца, и птицы кричали. Алеша взбежал на бугор, чтобы еще посмотреть на Анку. Отсюда ее долго было видно.
21
Вернувшись, он выкурил сигарету на крыльце. В сумраке дома разносился голос матери:
— Что же мне с этими бурундуками делать? Двоим хоть деньги от родителей пойдут, а Коклюш?
Она с собой говорила.
Алеша вошел в затхлую комнату и, еще не разглядев лица матери в провале серой и пухлой, как облако, подушки, твердо сказал, что уезжает за Анкой. Сегодня.
— Ты-то мог предупредить, изверг, что слободке нашей… — мать подкинула сухую руку, — жить да жить!
— Не знал я.
— В своем чреве выносила… Ночные муки за него брала… А он!
Она всхлипнула, и Алеша испугался.
— Уезжаю, — повторил он. — Хоть сейчас не ругайся.
До нее дошли его слова про отъезд, и она поворочалась в постели и пригрозила:
— Только попробуй! Своими руками придушу!
— Смешно это, мать, — ответил он. — Я уже большой.
И стало жалко ее, будто он уже уехал.
— На работу напишу, что больную мать бросил! Наплачешься! — услышал он ее вопль и вышел.
Ударил дождь, но Алеша не хотел терять времени и бегал по стройке, оформлял документы… Спешил уволиться, чтобы успеть на вечерний поезд. Дождь усилился, все попрятались, только он бегал как угорелый да грохотали рядом два или три бульдозера. Сквозь ливень разносился всюду их сильный весенний гром. Прогремел раскат настоящего грома, упавшего с тучи. Оглушительно, над самой головой.
Получив расчет, Алеша выскочил из конторы и встретил Петюна. Куцурупа. Бригадира.
— Эй, — сказал тот, — мокнешь?
Алеша и не заметил, что промок до нитки: вся одежда облепила тело.
— Да вот… Мокну.
— Держи.
— Что это?
— Ребята скинулись. — Петюн сунул ему в карман толстый сверток.
— Зачем?
— По глупости… — улыбнулся Петюн, показав щелочки меж зубами — они у него были редкие.
Алеша побагровел.
— А кому прислать?
— Мне… Дальше я разберусь.
— Прости меня, Петюн.
— За что?
— За недопонимание… Вот когда смотрю на тебя — понимаю. Нелегко тебе с нами.
— Мне легче, чем тебе… Я стерплю. Ты держись, не задавай ей глупых вопросов, ненужных, как гвозди под скатами… Перед самой весной надо умнеть! А то не расцветешь!
— Какой весной? — не понял Алеша. — Почему — перед… Уже май на дворе… Скоро лето!
— На дворе — май, а у тебя… Твоя весна на подходе… Усек?
— Усек.
— Ну, вот…
Они обнялись.
— Ни пуха ни пера! — сказал Петюн. — Посылай к черту!
Но Алеша только улыбнулся.
Дома, на крыльце, сутулился батя. Силуэт его темнел, как в те давние вечера, когда пахло душистым табаком и немыслимо ярко цвел у ног львиный зев. Алеша присел на минутку рядом.
— Я уезжаю.
— А меня Сучкова за инструментом посылает. В школу.
Опять Сучкова! И звучало это мстительно, будто и родная фамилия стала ему за долгую жизнь неприятной.
— Пойдешь?
— Дело сделано, — ответил батя. — Сделано — прожито.
— Кому она деньги копит? — вдруг спросил Алеша.
— Тебе. Ты наследник!..
— Я уезжаю, — повторил Алеша.
Батя положил руку ему на плечо, пожевал губами, будто в них завязли какие-то слова, посмотрел ему в глаза:
— Когда?
— Через час…
Батя встал, упершись громадными ладонями в непослушные колени. Пойдет, матери скажет… Но тут ее голос донесся с огорода:
— Чтоб ему счастья не видать и во сне!
Оказывается, она была не в доме, а там.
— Рехнулась! — сказал батя и ушел в дом.
Алеша приподнял голову.
Мать, худая, длинная, вся в черном, спиной к нему стояла в огороде между грядками, на которых, растопырив тонкие веточки, уже поднялись сизые помидорные кусты, глядела на заходящее, раскаленное, как металлический блин, солнце и бормотала:
— Лучше б я его под камень положила, чем в пелены пеленать! — Дрожь прокатилась по его спине. — Разрази его гром небесный! Покарай, господи!
Любила она господа вспоминать…
А кого еще любила? Очень хотелось Алеше назвать кого-то. Маленькому верилось, что скотину. Была у них угольно-черная, угрюмая корова Ласточка, мать ее называла девочкой. Замычит в такую пору Ласточка у ворот, мать крикнет:
— Открой, пусти девочку!
Потом сама отвела девочку на угол рынка… Остались индюшки — тоже девочки. Мать кормила их, верещала:
— Идите ко мне, мои девочки!
Курам рассыпал зерно батя. Он наклонялся, и куры, хлопая крыльями, заскакивали ему на голову, а мать щурилась, проходя мимо: «Как его девочки любят! Вон тех слови… Ту и ту!» И рубила им головы и ощипывала — на рынок. «Девочки, заинька… голуба…» Разные женщины говорили эти слова, как ворковали, такие до сих пор непохожие… А если подумать… Одна к одной!
— Сам выдумай ему кару, господи! Не щади! А я больше не могу, зла не хватает!
Мать крестилась. Когда поднимала руку, сползал рукав платья, и у локтя на коже обнажалось множество облущенных складок.
Кто-то покачал калитку с улицы, щеколда не поддавалась.
— Сынок мой, сынушка, кровушка моя, — причитала мать. — Будь ты проклят!
Щеколда грюкнула, калитка отворилась, и во двор ввалилась, как упала, тетя Варя.
— Алеша! — сразу заголосила она. — И чего он вдруг ее позвал?! Не хотела она. Не ждала совсем, и вдруг — телеграмма! Неправильно все это, неправильно!
— Чего воззрился? — услышал Алеша близкий окрик матери и повернул к ней голову.
Мохнач, похожий на медведя, вылез из конуры и смотрел на мать, свесив набок, через клыки, шершавый язык. Мать отпихнула ногой его пустую миску.
— Ведьмак!
Загремев, миска покатилась через двор… А мать приближалась. С косынкой, еле державшейся на плечах… Простоволосая… Седая… И вдруг, повернувшись к тете Варе, крикнула:
— Все правильно!
— Что правильно, когда люди себе жизнь калечат? Где правильно?
Мать внезапно усмехнулась:
— Счастье умным дается. Они и живут в счастье…
На крыльцо вышел батя с унылой самокруткой в зубах, хлопая себя по карманам, нашаривая спички. Мать показала на него сухой рукой:
— Вот мы с мужем прожили, словно лебеди!
Батя глянул осоловело и пошел за спичками в летнюю кухоньку. А мать остановилась против Вари, затрясла кулаком у тощей своей груди:
— Кто тебя звал?
Варя попятилась. Алеша поднялся с крыльца.
— Теть Варь… У меня билет в кармане. Я понял, каким был дураком!
— Раз понял, значит, у-умный!
— Иди-и! — завизжала мать, наступая на нее.
В комнате Алеша наскоро сложил вещи. Сунул в баул книгу брата и газету с портретом Куцурупа. Напечатали невидного, несолидного! Оба Петра с ним… Полотенце, мыло… Бритва… Вот и все… Он присел на койку и закурил…
Батя дожидался у ворот. Рука у бати тряско-тряско дрожала, когда прощались. И мать была еще во дворе, но даже не обернулась, не взглянула на него, обошла глазами темнеющий огород.
— Рученьки мои тут остались? Для кого? — услышал Алеша, закрывая калитку.
И уже не видел, как мать, с трудом одолев крыльцо, забрела в его комнату и упала на кровать, измятую сыном, — только что он сидел здесь. И уткнулась лицом в пепельницу, где тлела сигарета… Сын ушел, а сигарета еще дымилась…
Она поплакала вволю, Сучкова, в голос заходилась; доведись услышать — ни один человек не поверил бы в слободке, но даже муж был у ворот, и в доме — никого. Так она, вероятно, не плакала, когда получила похоронку на первого сына, а ведь она живая — может и пореветь… Но скоро успокоилась и задумалась. Опять о нем, о сыне. «Могла бы и денег дать… Хоть сто! Хоть тысячу! Да ведь неинтересно ему. А что ему интересно? Откуда он такой?» Этот вопрос уже приходил к ней. И ответ, о котором она, по-своему умная, думала, уже пугал ее. Сын вырос таким за все ее грехи.
Сучкова вздохнула и ожесточилась. Так погоди же! Тысячу тебе? Ни крохи! И начальству напишет, что мать бросил, еще как напишет! Она поискала на этажерке программку с адресом, которую сама тогда положила назад… Хоть знать, за что уцепиться в розысках… Взял, ушел…
…Пригнув голову, Алеша шагал мимо двора Гутапа и остановился, словно споткнувшись. Над крышей гаража вспыхнул фонарь, и в свете его выросла квадратная, похожая на сейф фигура.
— Ну, иди, — велел Гутап.
Алеша стоял. Тогда Гутап сам шагнул к нему и размахнулся. Свистнул железный прут. Еще не сообразив, в чем дело, Алеша услышал, как Гутап расхохотался. А прут, сверкая концами под яркой лампочкой, полетел через забор к гаражу.
— Пьяный? — спросил Алеша и провел рукой по лбу.
— Разбогатеть хочу! — Гутап опять загулял плечами, смеясь взахлеб. — Утром Сучкова явилась передо мной, обещала не поскупиться. «Задержи Алешку, хоть голову проломи!» Иди! Убить могу.
— За что? — Было похоже, что Гутап крепко выпил.
— Ты счастливый, — сказал Гутап. — А я завидую. Испугался?
— Я с тобой справлюсь, — ответил Алеша.
И подождал, пока Гутап, нелепо улыбаясь, уступил дорогу.
Слободка кончилась, В тех пятиэтажках, у которых недавно ставили качели и вкапывали турник, уже светились окна. Уже справили новоселье…
Слободка отставала, однако мысли его еще витали в ней… Вот Степан позавидовал ему… А мать, бедная мать, которую он и сейчас жалел, была ли она счастлива по-настоящему хоть день? Хоть час?
В слободке кое-кто, кроме Степки, уже купил себе машины, даже «Жигули» последней модели, с хромированными полосками вдоль блистающих кузовов. Помидоры! Катались на помидорах! Терли полировочной пастой и красили днище и крылья снизу красным свинцовым суриком, разживаясь у Г утапа…
Но разве в этом счастье? Б «Жигулях»?..
А квадратный человечек Степка, по прозвищу Гутап, стоял у забора, привалившись к нему спиной…
Когда-то он хотел играть на мандолине. Приходил с мандолиной к «Смычку», старик стаскивал с полки свою скрипку, и вдвоем они играли «Светит месяц». А хилый месяц висел над слободкой в сырых облаках…
А потом мечтал о духовом оркестре. Нравилось ему, как трубачи вымазывали губы шоколадными конфетами, чтобы влипал мундштук…
Вдруг Степан оторвался от забора и двинулся за Алешей, вовсю размахивая руками. Он почти бежал, и слободские фонари, еще не все разбитые из рогаток мальцами-мазилами, перебрасывали его короткую тень. На крайней скамейке увидел женщину.
— Тетя Варя! Алешку видела? Он на вокзал! Где же марш? Где баян? Марш нужен! Я уплачу! Десятку.
Тетя Варя плакала. Это Степан увидел, когда она подняла голову.
— Вы чего? — спросил он, утихнув. — Обидел кто?
— От радости.
Она ни за что не сказала бы ни ему, ни другому, что сейчас Настасья, собираясь в свою Сибирь, спросила о баяне, не мужний ли? Если мужний, то забрать бы…
— Сергеич!
Тетя Варя увидела хромого под дубом и заспешила к нему, а тот еще через минуту заорал:
— Алешка? За ней?
— Держись! — Тетя Варя протягивала руки, ловила его.
— Дожил! — кричал Сергеич.
— Упадешь!
А Сергеич топал своей деревяшкой:
— Сплясать бы!
«Ну вот, — подумал Степан, — обрадовал и я кого-то не подфарником, не амортизатором». Однако он не любил, когда вокруг так много было счастливых, и ушел к себе во двор… Во дворе он выдернул из земли железный прут и ударил им по углу гаража так, что в руке заныло. Еще, еще… Чего он бил, на кого злился? Надо было остыть…
Если обдумать все, то и ему ведь неплохо… Степан остановился, сел на колоду для рубки дров, ноги еще дрожали… Алешка уехал, укатил, умчался под гудок паровоза… Убавится у Надьки спеси, никуда она не денется. Велела сломать гараж!.. Но их слободка еще поживет, и гараж постоит… Сломать гараж, а дальше что? Как жить? Как Алешка? В гробу он видал такую жизнь!..
Шумит в голове… Жарко, душно… Остыть!
Он пересек двор и опустился в погреб, зажег там желтую лампочку, у него и в погребе был электрический свет — цивилизация!
С каменного потолка, змеясь и корчась, свисали корни высохшего наверху клена… Степан дотянулся до одного отростка, ломкого, неживого… Корень был мертвей веревки… А ведь пробился сквозь камни — яростно, неудержимо — и окоченел в холодной пустоте погреба… Пустота! Сухие клены стояли на погребах, как памятники холодной пустоте…
А скорый поезд увозил Алешу. От реки, от пригорка, где росла береза с пониклыми ветвями.
Алеша вышел из купе в коридор вагона и встал у окна. В темной дали светляками проплывали бессонные огни…
Все получилось не так, как рисовалось ему прошлой весной, совсем не так… Но странно, он опять думал, что ничего не отменялось. Если он когда-нибудь будет учить детей, то, может быть, научит их чему-то поважнее, чем дважды два…
Далекий огонек за окном все не мог отстать от поезда. Чья-то жизнь тянулась и тянулась, пробиваясь сквозь ночь. Алеша опустил стекло. Тугой поток воздуха хлынул вместе с шумом колес, ветер разметал волосы. Та-та-та, стучали колеса на рельсах, та-та-та… Будет нелегко, это факт. Ну? Главное — догнать Анку.
Та-та-та, та-та-та, та-та-та…


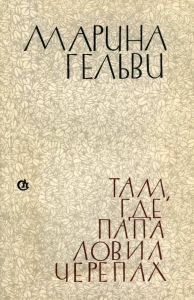
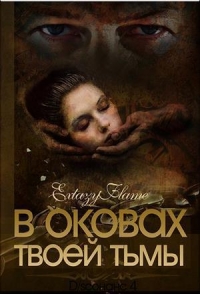

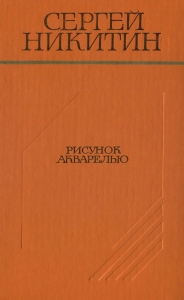
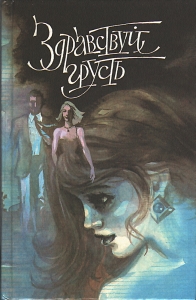
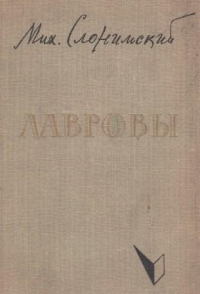
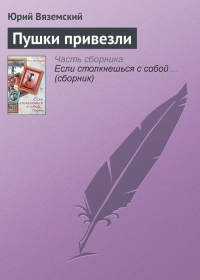
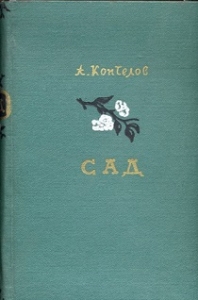

Комментарии к книге «Лопух из Нижней слободки. Часть 2», Дмитрий Михайлович Холендро
Всего 0 комментариев