Стрела времени (Повесть)
Глава 1 Весна
Николай Филиппович Нечаев так долго работал на одном месте, что помнил, как конструкторское бюро переезжало из старого здания в новое.
Собственно говоря, здание это новым можно было назвать лишь условно, лет ему эдак сто пятьдесят — когда-то здесь был манеж гвардейского полка, потом манеж простаивал без дела, по субботам и воскресеньям в нем устраивали танцы, в остальные дни он пустовал и от безделья разваливался. И когда двадцать с лишним лет назад вышло постановление об улучшении сельхозтехники, министерство, которому бюро подчиняется, отвоевало манеж — выходило, что отремонтировать его дешевле, чем строить новое здание.
И вот теперь у входа в манеж на черной табличке блестящими буквами указано: «Конструкторское бюро сельскохозяйственного машиностроения».
И если миновать проходную, око привычно скользнет по транспарантам, и откроется зрелище удивительное — огромный зал метров восемьдесят на сорок разделен деревянными перегородками. Вот лаборатория человек на сорок, вот помещения поменьше, вот и вовсе маленькие.
Перегородки ставили не до потолка, но в полтора человеческих роста, а потолок манежа — стеклянный, вот и получается, что сотрудники весь год как бы под колпаками сидят — летом он белый, блестящий, зимой же серый, мерцающий.
Во всю длину зала тянется коридор, а в нем двери, а на них таблички: отдел такой-то, отдел такой-то, такая-то лаборатория. Двери стеклянные. Идущему по коридору человеку сразу видно, кто работает старательно, а кто только номер отбывает.
А вот и последняя комната, и табличка указывает, что здесь трудится конструкторская группа Николая Филипповича Нечаева.
Девять письменных столов, отделены они кульманами, в комнате уместилось два стояка для одежды, два канцелярских шкафа да еще кожаный диван — от него когда-то отказалось начальство.
Группа эта занимает особое положение — она подчиняется только главному конструктору, Николай же Филиппович считается человеком особенно ценным, можно сказать, одним из двух-трех человек, которые и двигают все дело.
Казалось бы, такой ценный человек за четверть века мог бы занять положение и получше, его когда-то и продвигали, он пару лет руководил отделом, но не потянул. Видно, нет у Николая Филипповича начальнической жилки — не умеет ни от кого ничего требовать, может только просить, да и то лишь раз. Второй раз попросить человека сделать что-либо такое, за что он дважды в месяц зарплату получает, Николаю Филипповичу казалось уже навязчивостью. Не справившись, он попросился на прежнее место. Потому что в группе — дело другое, тут народу мало.
Николая Филипповича именно за мягкость и любят.
Не было случая, чтоб он не отпустил человека, если человеку нужно куда-либо сходить в рабочее время. А надо учесть, что в группе три женщины с малолетними детьми. Он и сам говорит: «Ты, Надя, или Валя, справку не бери, если после больничного будешь только неделю с ребенком сидеть, — мы тебя в график поставим». Так и держались люди в группе, и за десять лет никто не уволился.
Все считали, что Николай Филиппович добр и мягок, как воск, он же считал, что не добр и не мягок, а ленив, и охотно говорил про свою врожденную лень, она-де родилась прежде него и умрет с ним вместе.
— Знаете, почему я курить начал? — любил спрашивать Николай Филиппович. — Я ведь дома не курю (что неправда, курит он и дома, только не в квартире — жена его Людмила Михайловна не выносит дыма, — а на лестнице). Если человек не курит, как он каждый час будет выходить в туалет? А курильщик такое право имеет. Это и десятиминутный отдых, и всегда в курсе всех новостей. Главные новости человек узнает в туалете, уверяю вас.
Да, пожалуй, он и в самом деле был несколько ленив. Ну, когда дел невпроворот и сроки берут группу за горло — а от их группы зависит работа почти всех отделов, — тогда ничего не поделаешь, он и курить забывает, и вечерами остается; когда же неотложной работы нет, любит Николай Филиппович пройтись по бюро, заглянуть к знакомым, со стороны посмотреть, кто и чем занимается, ну и, разумеется, посплетничать, новостями то есть обменяться. И люди, зная, что Николай Филиппович не начальство, охотно рассказывают про свои дела, иной раз и польза от этого бывает — глядишь, Николай Филиппович советик даст, который может сгодиться.
Последние годы Николай Филиппович ведет жизнь не бедную. Ну, оклад двести двадцать, да премии регулярные, да частые командировки. И эта сравнительно не бедная жизнь, а также, разумеется, и возраст, начали на нем сказываться.
Прежде он был худ, как говорится, до звона. Ходил быстро, стремительно, от избытка энергии чуть даже подпрыгивая на каждом шагу, вернее, он так сильно отталкивался от земли, словно хотел ввинтиться в окружающий воздух.
За последние же пять лет тело его начало рыхлеть, добреть, причем рыхлеть начали грудь и живот, лицо же и ноги по-прежнему оставались худыми, и уже видно было, что хоть шустр Николай Филиппович, а ноги только-только справляются с новой нагрузкой, и уж он не подпрыгивает при ходьбе, но, как все люди, берет на себя, передвигаясь по земле, работу немалую.
И это печалило Николая Филипповича. По субботам и воскресеньям он бегал по парку, но уж сознавал, что это не радость от быстрого движения, но необходимость — чтоб не стареть слишком стремительно. Утешал себя, что сорок девять лет — возраст не такой и великий, до старости еще далеко, однако печаль иной раз подолгу не отпускала его.
Работа была Николаю Филипповичу в радость, семейная жизнь благополучная, ни ссоры, ни мелкое повседневное накручивание нервов не коснулись его, потому он был из тех счастливцев, кто хранит постоянное душевное равновесие. В глазах его всегда стояло удивление — вот ему все удается, жизнь — нехудо устроенная штука, и ему даже неловко, что у него все в порядке, а где-либо в отдалении кто-то страдает.
Потому-то Николай Филиппович мил окружающим, что в молодо блестящих его глазах можно прочесть веселость, доброжелательность и никогда — насмешку.
От частого пребывания на свежем воздухе (летом бег, зимой лыжи) лицо его загорело и обветрилось.
Волосы были рыжеватые, с легкой медной искрой, тоже молодо блестели, но на висках уже выступила летучая соль.
Лоб рассекался тремя крупными горизонтальными морщинами, глубокие морщины тянулись от носа к углам рта — и это тоже все крупно, что называется сработано временем на совесть.
Несколько портили лицо слабоватый подбородок и мелковатый, чуть вздернутый нос, но, с другой стороны, Николай Филиппович — не кинозвезда, а руководитель группы в провинциальном конструкторском бюро, и он был мил окружающим и особенно нравился женщинам.
На работе и на вечеринках женщины так и говорили Николаю Филипповичу, что он им нравится, но поскольку за четверть века работы за ним не замечали не только что романа, но даже интрижки, поскольку все знали работающую здесь же Людмилу Михайловну и что он дружен с ней и в нее влюблен, более того — считает жену идеалом женщины (о чем Николай Филиппович говорил неоднократно), то все эти разговоры, что вот-де какой видный мужчина, да не мне, жаль, достался, имели вид безобидной игры, той щепотки соли, которую необходимо бросить в суп повседневной однообразной работы.
Сегодня Николай Филиппович не собирался засиживаться на службе — сегодня день рождения Людмилы Михайловны, и нужно прийти домой пораньше.
Дело в том, что во все семейные и народные праздники, и особенно когда Нечаевы ждут гостей, Николай Филиппович брал на себя приготовление пищи. Он говорил, что не может доверить женщине такое важное дело, но Людмила Михайловна и сослуживцы понимали, что хоть несколько раз в году хочет избавить жену от суеты.
Перед уходом он напомнил группе, что всех ждет сегодня, и вышел пройтись, чтоб напомнить об этом еще кое-кому.
Навстречу ему по коридору шли Константинов, главный конструктор, и Соболев, начальник отдела кадров. С ними была незнакомая Николаю Филипповичу молодая женщина. Очень милая женщина, успел бегло отметить Николай Филиппович: стройна, плотно сбита, но некрупна. На лице смущенная улыбка.
— Привет! — сказал Константинов. — На ловца, как говорится. А мы к тебе.
— А я как раз к тебе.
— А что?
— Нет, это вы — что? Да в таком замечательном сопровождении, — кивнул он на женщину.
— Нет, по порядку. Ты что?
— Я насчет вечера.
— Помню, Люда только что заходила. А мы по такому делу. Понимаешь, Николай Филиппович, — вступил Соболев, — дело сложное. Но сначала познакомьтесь — Антонина Андреевна.
Женщина кивнула — значит, познакомились.
— У тебя работала Тарасенко.
— Не работала, а работает Тарасенко. Она же в декрете.
— Все знаю. Она до года будет сидеть с дочкой.
— С сыном.
— Пусть с сыном. Все равно ей еще полгода сидеть. А тут пришла Антонина Андреевна, и оказалось, что она очень нужный нам человек.
— Да ты сам все знаешь, — сказал Константинов, — сколько мы говорили, что нам нужен специалист по электронно-вычислительным машинам. Со станцией в Губине мы договоримся — у них хорошая новая машина. Вот Антонина Андреевна, несмотря на юные годы, успела поработать на «Минске», БЭСМе, освоит и новую машину. Тебе ее работа в первую очередь понадобится.
— Это я понимаю — уже нужна. А вдруг вы ей должность не исхлопочете, а выйдет Тарасенко?
— Но пойми, отпустить мы ее не можем, она живет в Фонареве, постоянный человек. Это же удача.
— Это конечно. А вдруг не получится у вас?
— Получится, — твердо сказал Константинов. — Сам этим займусь, а должность пробью. Месяц, ну два, ну полгода от силы.
— Если выйдет прокол — будете выкручиваться сами.
— Договорились. А теперь покажи Антонине Андреевне стол Тарасенко.
— За ним дипломник сидит. Он будет защищаться по моей машине.
— Значит, ты скоренько пацана вытряхни…
— Нельзя, Константинов, это неудобно. Я его руководитель, что он обо мне подумает?
— Это, и верно, неудобно, Олег Владимирович, — сказала женщина. — Не нужно, чтоб из-за меня кого-то стесняли.
Тут Николаю Филипповичу стало стыдно: вот пришла молодая женщина на работу устраиваться, она застенчива, а он, Нечаев, унижает ее из-за какого-то стола. Которого, правда, нет. Господи, о чем мы говорим, спохватился Николай Филиппович, — стол, стул, машина… Тут человек, да ладно, что я там такое.
— Вот здесь она сядет, — сказал он уже твердо, когда они вошли в комнату. — Это мой стол. Вот это мой стул, а напротив поставим ваш. Кульман я переставлю за спину. Я много езжу по командировкам — по городам и весям, как говорится. Больше по весям. На кульман хорошо смотреть, когда в голове есть какие-нибудь соображения. А у меня сейчас пустота первозданная. И начальству это известно. — (Константинов понимающе улыбнулся Соболеву, дескать, кокетничает Нечаев, каждому бы такую пустоту.) — Так что мне приятней будет смотреть на вас, чем на пустую бумагу. Пустая бумага — всегда упрек. Вы же, я надеюсь, простите меня за холодный прием, это случайность, и не будете меня упрекать.
— Вот и хорошо, — сказал Константинов. — Но ведь как складно говорит!
И начальство ушло.
Николай Филиппович представил группе новую сотрудницу да и пошел себе домой.
Стоял конец марта. Выйдя на улицу, Николай Филиппович ахнул: вот это подарок — солнце ярко-красное, в морозной короне, снег голубой, тени от домов синие, воздух разрежен и гулок, голубовато блестят стволы берез, верхушки деревьев обожжены красным огнем солнца. Да это ж весна пришла, и ведь сразу пришла, всего за один день случилось что-то в воздухе, очень ловко повернулось что-то в природе, и вот теперь все ясно — весна пришла.
Музыка зазывала на каток, движения встречных людей были чуть встревоженны. Песней, ранней весенней грустью, красным светом тугого солнца была пропитана каждая частица воздуха, и с каждым вздохом весенняя печаль все плотнее и плотнее обволакивала душу, сообщая телу особую легкость, какая бывает только ранней весной.
Николай Филиппович заспешил домой — на приготовление блюда, которым он собирался всех сразить, ему нужно было четыре часа, — только-только успеет к приходу гостей. Сбор был назначен на семь часов.
Дома была только Света, невестка Николая Филипповича. Она дохаживает последние дни перед родами.
— Готова? — спросил Николай Филиппович.
— Вы обо мне?
— Ты-то, я знаю, готова. Вид у тебя цветущий. Недаром знакомая акушерка говорила, что по виду матери может определить, желанный ребенок или нет. За внука я спокоен. Но я имею в виду готовность дичи.
И Света, и Сережа, сын Николая Филипповича, — врачи, Света — участковый педиатр, Сережа заведует хирургическим отделением. Поженились они два года назад. Света моложе Сережи на три года — ей двадцать пять лет. Хорош вкус у сына. На взгляд Николая Филипповича, невестка просто красавица, к тому ж и тиха, и главное — она так любит Сережу, что чувствует самые малые перепады его настроения; известно, что она звонит ему на отделение только узнать, не случилось ли с ним чего, а то ей вдруг во время приема стало тревожно.
— Сейчас я приготовлюсь и извлеку дичь из холодильника, — говорил Николай Филиппович, надевая женин передник.
— И что ж это будет? — с улыбкой спросила Света.
— А это будет, представь себе, знатная дичь. То есть это будет праздничная индейка. Так, посмотрим — обделана она хорошо. Сырье, можно сказать, отличное. Теперь примемся за начинку.
С удовольствием, даже сказать, вдохновенно натирал он тушку индейки солью и перцем, начинял и зашивал ее.
А потом сел у кухонного стола, смотрел, как угасает закатное солнце, и так соображал, что, может, и не следовало устраивать в доме суету, это не очень-то полезно Свете, но ведь не было случая, чтоб день рождения Людмилы Михайловны прошел без должного праздника, да и комнат в квартире две, так что Света сможет удалиться от застольного шума.
Приехала Оленька — сегодня ушла с занятий пораньше. Привезла превосходные гвоздики. Она учится на четвертом курсе медицинского института, медициной как будто довольна. «Оленька! Дочка!» — несколько размягченно думал Николай Филиппович, и дочка хорошая, опора в старости, как говорится. Может, она не очень красива, может, худа и угловата, но ведь ей выходить замуж не за пожилого мужчину, которому больше по душе полные женщины, а за паренька-сверстника, который худобу считает стройностью. А лицо у нее какое подвижное — когда семья смотрит телевизор, то на экран можно не смотреть — все понятно по лицу Оленьки.
— Девочки! — простонал Николай Филиппович. — Подойдите сюда. И закройте глаза. Медленно вдыхайте этот воздух. Неужели у вас не кружится голова, неужели вы не вспоминаете вечер в ожидании Нового года, когда вас впервые не отправили спать, но оставили до курантов среди взрослых? А теперь откройте глаза, посмотрите на пожар мартовского заката. Вы слышите звон малинового неба, вы чувствуете ток весны?
— Да вы поэт, Николай Филиппович, — засмеялась Света.
— У меня сердце замирает, Света, когда я слышу твой смех. Тебя в детстве, должно быть, звали Колокольчиком.
— Нет, мама звала меня Звоночком.
— К делу, девочки. А оно как раз не в поэзии, а в индейке. Вот сейчас она должна быть такой же густо-малиновой, как этот закат.
Он отворил дверцу духовки и потыкал в индейку вилкой и шампуром.
— Все! Удаляем фольгу. Через полчасика эта бедная птица станет золотисто-коричневой, и тогда все — прочь, огонь, томись, голубка. А дайте мы ей ноженьки покрутим. Ольга, дочь, если ты когда-нибудь жениха своего угостишь такой индейкой, он будет любить тебя всю жизнь. Но смотри, как должны ножки поворачиваться в суставах — легко, без нажима. Девочки, полчаса самого слабого огня, а потом одно только томленье. Милые, пора приниматься за салаты. И за картошку. Она уже варится в кожуре, мы ее очистим, охладим, ломтиками раздраконим и обжарим на раскаленной сковородке. Но, голубушки, — чтоб каждый ломоть обжарить со всех сторон. Каждый, заметьте. Поток здесь исключен. Да если мы это дадим с зеленым горошком, да на горячие тарелки, да с моченой брусникой, ну скажите мне, девочки, чье сердце не зальется радостью, чья печать не исчезнет прочь! Все, милые, шесть часов — сейчас наша мама придет.
А потом Николай Филиппович вместе с Людмилой Михайловной встречал гостей, и он гордился своей женой. На ней было вечернее черное платье с короткими рукавами и открытым воротом. Платье давало возможность показать гостям очень белую и очень гладкую кожу, руки Людмилы Михайловны были хоть полны, но удлинены, и они как бы струились, шея тоже хоть полна, но длинна и без заметных морщин, на шее цепочка с камешком (это два года назад Николай Филиппович с Константиновым отхватили по триста рублей премии).
От ухоженной жизни при верном, надежном муже и здоровых детях Людмила Михайловна была медлительна, улыбчива и полна, но полнота при довольно крупном росте была ее достоинством, то была равномерная и тугая полнота, что делает кожу особенно тонкой, то была та полнота, какая бывает у женщин, которые знают, что и завтра не будет больших бед.
Гости пришли в три приема: сперва группа Людмилы Михайловны — группа информации, которой Людмила Михайловна руководит. Общий подарок — канделябры где-то отыскали, изящная штуковина; и можно представить, как собирались они в условленном месте, скажем, на автобусной остановке, и никто, конечно, не опоздал, потому что опоздавший, получается, идет без подарка. Можно также представить, как скидывались они по пятерке, поскрипывая, возможно, на Николая Филипповича, что вот он снова затеял сбор.
Братцы, не в пятерке дело, ее, конечно, жалко, а жизнь свою разве не жалко — ведь покуда мы встречаемся, это значит, что все на свете в порядке, да и работать легче. Возможно, и не нужны вам эти встречи, но Николаю-то Филипповичу и Людмиле Михайловне они нужны — ей ведь вот как приятно, муж-то ее, выходит, заботливый и внимательный. Так надо, братцы. Праздники эти малые — всего два раза в году — не для того, чтобы ущемить кого-либо из гостей, дескать, не во всякой семье такое согласие, но это от души, спасибо, что пришли, так надо.
Потом пришла группа Николая Филипповича — тоже все вместе, шесть человек, тоже где-то в сговоренном месте собрались да гвоздики принесли, это уж после ухода Николая Филипповича кто-то съездил в Губино — там цыганки эти гвоздики на станции продают.
Последними пришли Константиновы. Уж Константинов не стал с подчиненными стакиваться из-за подарка.
Людмила Михайловна с Машей Константиновой так искренно прижались щеками, Маша так сердечно щебетала «Милочка! Милочка!», что Николай Филиппович понял, из-за кого Людмила Михайловна надела открытое черное платье, — она в нем еще значительнее, и рядом с ней Маша Константинова в сером кримпленовом костюме кажется серой мышкой-сироткой. Но — ближайшие подруги. И щебет. И в обнимку к столу.
А стол, понимал Николай Филиппович, хоть и не высший сорт — нет настоящей рыбы, — но на сегодняшний день вполне хорош. Уже видны удачные детали: хорошее сухое вино, пшеничная водка — у приятеля достал, на экспорт идет; рыбка — не бог весть что, треска, но не сам же Николай Филиппович рыбку из залива извлекает, что дали, на том и спасибо; но соус — с яйцом, лавровым листом, перцем, — вроде бы не плох. И салаты девочки ловко приготовили. Однако это все детали, хоть и красивые, это покуда хаос, нет организующего начала, но золотисто-коричневая индейка таким началом станет, она даст всему законченность, докажет, что жизнь ценна, а мгновение вечно, и что не пропадет ни одна радость, покуда может существовать такой золотисто-коричневый цвет.
И когда сели за стол, и когда весело принялись за дело, не забывая, разумеется, славить хозяйку дома, Николай Филиппович понял, что вечер удался. Потому что нет за столом ни одного человека, неприятного Николаю Филипповичу.
Вот Константинов. Худой, подвижный, всегда чуть взвинченный, острые глаза посажены слишком близко к переносью, волосы стрижены ежиком. Сколько лет в одной упряжке. Обоих устраивает сотрудничество — у Николая Филипповича соображения, у Константинова — тщательность в доводке, и главное — пробивные способности. А друг без друга никак.
Жены дружат, и потому мужьям спокойнее. Маша Константинова добра, тиха — учительница в начальных классах, хорошая, говорят, учительница.
А вот Сережа, любовь Николая Филипповича, его слабость. Широкоплечий, высокогрудый, круглолицый. Неопытному глазу он может показаться даже сонливым. Николай Филиппович, зная за собой способности придумать новую деталь в машине или дать этой машине иной ход, надеялся в молодости, что про его детей когда-нибудь в городе будут говорить: вот дети Нечаева, который сделал то-то и то-то. А случилось наоборот: если кто-нибудь из новых жильцов спросит у понимающего человека, а что это за дядька со второго этажа, тот ответит, что это отец Сергея Николаевича.
Надо ведь, какой вес получил паренек всего за три года! После четвертого курса начал пропадать на операциях, закончил двухгодичную ординатуру, поступил в больничку рядовым хирургом, чем уж там за год может проявить себя человек, а только года не прошло — его сделали заведующим хирургическим отделением. А отделение большое. И уже два года паренек тянет эту лямку. Домашним нет житья — частые срочные вызовы, но ходить по городу с ним приятно, все раскланиваются, он — местная знаменитость, что даже и несправедливо. Кто, например, знает Константинова, кроме работников КБ? Да его в министерстве знают больше, чем в городе. А Сережу узнают все фонаревцы. Это удивительно, это несправедливо. Зато Константинов раза в два больше зарабатывает, тем пусть и удовлетворится.
Рядом с Сережей Витя Кифаренко сидит — тянущая сила группы. Женщины то сами болеют, то сидят с малолетними детьми, в командировку их не пошлешь, а Витя — толкач первейший, везде он обжился, везде свой человек, всюду у него барышни, и в компаниях он незаменим — вот перед праздником в группе скинуться да выбросить белый флаг — занавесить дверь простыней — это он первый, и с ним всегда весело.
Сейчас веселье стояло за столом, веселье неуправляемое, уже произнесли несколько тостов, Витя под гитару на мотив «Крокодила Гены» спел песенку в честь Людмилы Михайловны, и все дружно подхватывали: «К сожаленью, день рожденья только раз в году»; спели и несколько общих песен — «Травы», «Не плачь, девчонка», «Соловьиная роща», а потом Константинов, чуть уже навеселе, спел песню своих студенческих лет «Отелло — мавр венецианский» — это он уже четверть века поет на каждом празднике, дескать, руководитель, а ничего — годы молодые, свежие и хамовитые не вполне забыл; и уже разрушена индейка, которую все нахваливали, незаметно ушла к себе Света, вскоре и Оленька к ней присоединилась, а все, уже сытые, ублаженные, дымили охотно, и разговоры незаметно скосились к служебным делам.
— Кого это вы нам привели сегодня? — спросил Кифаренко.
— Новую сотрудницу.
— А ведь хороша. Как считаете?
— По-моему, хороша. А ты как считаешь, Нечаев?
— И по-моему, хороша.
— Да, она мила, — сказал Кифаренко, и это было уже как бы общее мнение. — Замужем?
— Недавно развелась. Жила где-то на Урале. Здесь ее родители. У них она и живет. Ребята, вы ее не обижайте, — попросил Константинов.
— В классе новенькая! — школьным радостным голодом объявил Кифаренко, и все засмеялись, и Константинов, поняв, что нечего изображать заботливого отца производства, тоже засмеялся.
Но уже встав на тропу рабочих забот, сойти с нее было трудно. Константинова спрашивали, пойдут ли в отпуск согласно графику или возможны вольности, будет ли премия за первый квартал и хорошая ли, а если будет и хорошая, то когда ее выдадут — до майских дотянут или, расщедрившись, изыщут иной праздник, День космонавтики, скажем, и вообще, какие планы — близкие и дальнобойные.
Константинову не особенно-то хотелось вести в доме друзей рабочие разговоры, и он сказал только о том, что ждет группу Николая Филипповича в ближайшее, время: съездить под Куйбышев — это раз…
— А когда? — спросил Кифаренко.
— Июль — август.
— Ну! — следовало понимать, что Витю жаркое лето на Волге устраивает.
— Ну а на осень Кавказ. Если, конечно, нас не подведут. Я там побываю. А потом засядет Николай Филиппович.
— Так это ж бархатный сезон, — подсказал Николай Филиппович.
— Не думаю. Нет, что бархатный сезон, не сомневаюсь. А для тебя будет много работы — виноград.
Разошлись гости часов в одиннадцать — все славно, никто не пьян, но никто и не скучал, вечер удался, понимал Николай Филиппович, когда вместе с женой и дочерью переносил посуду из комнаты в кухню. Потом женщины посуду мыли, а Николай Филиппович сидел подле них и мешал им своим присутствием, и боясь, что радость удачного вечера погаснет оттого, что он кому-то мешает, вышел на лестничную площадку. Постояв у перил, он спустился вниз, чтобы раздышаться у входа в подъезд.
Все было тихо. Лишь взвизгнуло у поворота на площадь такси. Подмораживало. Неподвижная в безоблачном небе луна лила яркий острый свет.
Разгоряченный весельем Николай Филиппович не боялся простудиться. Да, хорошо прошел день рождения Людмилы Михайловны, и сейчас Николай Филиппович до умиления был благодарен жене, что жизнь его получилась такой удачной. Они никогда не любили друг друга безмерно, нет, всегда это была любовь ровная, как бы тщательно вымеренная. Да, безмерной любви нет, но есть, пожалуй, большее: уважение и полное понимание друг друга.
Людмила Михайловна умна и даже интеллигентна. Никогда Николай Филиппович не знал в семье ссор, не бывает ничего такого, что нельзя было б уладить, поговорив спокойно. Людмила Михайловна бывает иронична, даже высокомерна, но некоторое высокомерие объясняется особым ее положением в семье и никогда не обижает Николая Филипповича.
Так уж сложилось, что глава семьи именно она. То есть не только заботы по дому ложатся на нее — это само собой, но и заботы, что ли, умственные. Людмила Михайловна много читает, Николай же Филиппович читает только то, что советует ему жена, это удобно, он в курсе умственной жизни страны и мира, а время при этом ознакомлении экономит.
Все дело в твердости характера Людмилы Михайловны: Николай Филиппович добр и мягок, он добр и мягок просто потому, что так устроен, Людмила же Михайловна — не то, она добра, что ли, по принципиальным соображениям: к кому нужно, кто этого заслуживает, она добра, кто не заслуживает — с теми тверда.
Сразу установившееся положение, что она глава семьи и относится к мужу скорее как к старшему сыну, заботясь, опекая, но и следя ненавязчиво за его развитием, уже никогда не менялось. Да в переменах и не нуждается. Всех устраивает. Детей устраивает, потому что они знают, у кого спрашивать денег сначала на мороженое, потом на кино, потом на колготки или свадьбу. Николая Филипповича такое положение устраивает потому, что облегчает ему жизнь. Как в велосипедном тандеме, ведущему труднее ведомого — так и Николай Филиппович за спиной жены надежно укрыт от свистящего сквозняка жизни. Ничего, даже галстук, даже рубашку, Николай, Филиппович не покупал, не заручившись советом жены. И здесь не было навязчивой опеки, оскорбляющей душу рабской покорности — то были советы старшего и более умного друга.
Мелкие заботы не только старят человека, но и отвлекают от того главного, для чего человек создан, полагал Николай Филиппович, — от творческой работы. В том, что за четверть века Николай Филиппович не знает разочарования в выбранном однажды деле, — заслуга Людмилы Михайловны.
Грешно на судьбу пенять: у него было два-три соображения, даже мыслишки, которые удалось воплотить, — и такая удача случается далеко не у всякого человека. А что он навсегда теперь застрял в провинциальном КБ, так здесь нужно смотреть трезвым оком — видно, большего ему и не дано.
И вот еще удача: Николай Филиппович был человеком, у которого слабо развито честолюбие, то есть счастливым человеком, и потому он никогда не страдал от неосуществленного, дескать, дай мне то-то и то-то (должность, помощников, деньги), и я сделаю то-то и то-то (новые машины, диссертации, установки). Он полагал, что следует удовлетвориться сделанным, — и удовлетворялся. Потому и слыл всюду человеком покладистым и счастливым. Конечно, посверливала душу невозможность пробить собственную машину — морковоуборочный комбайн, но это особая статья, и не в праздник эту машину вспоминать.
Освобожден был Николай Филиппович и от ежедневных забот о детях: в школу на собрания ходила мать, следила за уроками мать, Николаю же Филипповичу Оставалось только срывать аплодисменты — вот на заключительные собрания, где детям вручали похвальные грамоты, ходил он, и после собрания вел детей в мороженицу тоже он.
Но вообще-то с детьми особых забот не было, все как-то получалось само собой: без видимых усилий хорошо учились, не было забот и с поступлением в институт, хотели в медицинский — с первого захода и без надрыва поступили. Николай Филиппович надеялся, что сын не узнает разочарований любви и разумно женится; и что он будет хорошим врачом, — так все и случилось. Надеется, что и дочь выйдет замуж вовремя и будет хорошим врачом, — пожалуй, и эта надежда сбудется.
Сейчас лишь одно неудобство — теснота жилья, приходится в большой комнате жить втроем — малая комната отдана Сергею и Свете, но это ведь временное неудобство, Сереже скоро дадут жилье, так что следует только запастись терпением.
Сейчас, вдыхая сухой морозный воздух, Николай Филиппович, чуть разгоряченный вином и недавним весельем, считал свою жизнь сложившейся необыкновенно удачно. Все идет хорошо — ничто не обрывается преждевременно, ничто не завязывается до срока; в следующем году ему и Людмиле Михайловне исполнится по пятьдесят лет — казалось бы, недалеки увядание и дни последние, но, человек рационального склада, Николай Филиппович не брал в расчет того, что неизбежно. Суета, полагал он, целесообразна, когда она хоть что-то может изменить, если же она бесцельна, то смешна. И мы, люди нового склада, не станем просить солнце, чтобы оно встало пораньше и скрылось за лесом попозже. Да к тому же и жизнь удавшаяся отличается от жизни неудавшейся, в дни горчайшие есть чем подсластить эту пилюлю — была Людмила Михайловна, и Сережа, и Оленька, и ожидание внука, и пара сносных соображений; ничем ты не отличен от живших до тебя, ничем не лучше — тихо ушли они, тихо уйди и ты.
Но покуда ты в благоденствии — не греши на день текущий, на простор за спиной: и день был хорош, и простор безмерен.
Ничего более в жизни Николая Филипповича не произойдет. Вернее, ничего такого, что нельзя было бы заранее прикинуть, то есть не будет неожиданностей. Может прийти еще одно-другое рабочее соображение, может быть два или три внука — тут неясно. Остальное все выяснено и не таит в себе неожиданностей. Это-то и есть главная удача сегодняшнего дня Николая Филипповича.
Сквозь сон Николай Филиппович слышал суету в комнате сына, тихие разговоры. Он проснулся. Проснулась и Людмила Михайловна.
— Что? Уже? — испуганно спросила она у Сергея.
В руках у Светы была заранее приготовленная сумка. — Я сейчас.
— Мы сами, — сказал Сергей. — Тебе надо спать.
Людмила Михайловна, поняв, что будет мешать сыну, покорно кивнула.
— Машину надо вызвать.
— Нет, Света не хочет. Дойдем, это близко.
— Ну, удачи! — Людмила Михайловна хотела перекрестить Свету, но, боясь фальши, отвела руку.
Николай Филиппович знал, что не заснет, пока не вернется сын, и, чтоб не томиться напрасно, пошел на кухню и, плотно закрыв дверь, закурил.
За окном все было тихо, полная луна светила ярко, тени от деревьев и фонарей были темно-синие, неверные, как в изломе. Дома казались зыбкими и скошенными. Проехала милицейская патрульная машина с вращающимся синим огнем.
Николаю Филипповичу было сейчас тревожно, так же тревожно, как двадцать восемь лет назад, когда появлялся Сережа. Все его сейчас тревожило: и вылизанный, белый с желтыми подпалинами диск луны, и неверный голубоватый лунный свет — он лился не ровно, но как бы толчками, и в такт этим толчкам билось сердце Николая Филипповича; его тревожили скользкие тротуары, которые посыплют солью — если посыплют — только утром; его тревожила тишина города, особенно явственная, когда человек напряжен, когда вздрагиваешь от дальнего неразличимого крика — то ль птица стонет, то ль человек на помощь кличет, то ль машина сигнал подает; его беспокоил повсеместный сон и равнодушие к его, Николая Филипповича, тревогам, но более всего тревожило внушенное Сергеем распространенное среди медиков поверье, что вот у них, у медиков, болезни, роды, операции протекают не так, как у прочих, внекастовых людей, но надрывней, с вывертами, осложнениями.
К нему вышла Людмила Михайловна.
— Ложись, — сказала она. — Мне будет спокойнее.
— Я все-таки посижу.
— Как знаешь.
Сергей пришел через полчаса. Он словно знал, что отец ждет его на кухне.
— Ну что? — спросил Николай Филиппович.
— Оставил.
— И что?
— Как что? Рано ведь еще.
— Ну да, — засмеялся Николай Филиппович. — Заскок у меня. Совсем все забыл. Постарайся заснуть.
— Конечно. Завтра тяжелый день. Плановые операции. И Света. Хоть бы несколько часов поспать.
Тогда лег и Николай Филиппович. Он сумел заснуть, но вскоре его разбудил длинный звонок. Боясь, что повторный звонок переполошит весь дом, Николай Филиппович вскочил с кровати и бросился отпирать дверь.
В дверях стоял шофер «скорой помощи».
— За Сергеем Николаевичем, — виновато сказал он.
— А кто дежурит?
— Козлова.
Николай Филиппович был хорошо осведомлен в делах сына. За семейным столом Сергея заставляли подробно отчитываться за прошедший день, и делал он это охотно и весело. Козлову, знал Николай Филиппович, Сергей считал хорошим хирургом, но ей не повезло, было несколько послеоперационных нагноений кряду, а городок маленький — пошло! Козлова не хирург, а коновал, больные стали ее бояться, и тогда пришлось Козлову из отделения перевести в поликлинику. От всего этого она потеряла уверенность в себе и на все неотложные дела вызывает Сергея. Сергей мог бы и не ставить Козлову на дежурства, но он боится, что тогда она вовсе деквалифицируется, а хирург она хороший. Да и дежурить некому — и так приходится пареньку прихватывать восемь — десять дежурств в месяц.
Николай Филиппович тряс сына за плечо, но тот не просыпался.
— Сережа, за тобой! Ну что делать, сын?
— Не пойду. Я не могу. Я хочу спать. Так и скажи. Человек имеет право на сон в своей постели. Так и скажи. Взяли моду дергать среди ночи. Эта кровать — моя крепость. Так и скажи.
Но уже сел.
— Постой, папа, я сам выйду. Может, со Светой что. — И он побрел к двери, как на заклание.
Они даже не поздоровались с шофером — тот понимающе развел руками: ему велено, он и приехал, а так-то не стал бы мешать человеческому сну, и Сергей согласно кивнул — сейчас…
Сергей так потерянно брел в свою комнату, что Николая Филипповича переполнила жалость к сыну — все люди как люди, тебя же гонят на мороз, не спрашивая согласия, ведь хоть бы раз спросили: а здоровы ли вы, Сергей Николаевич, согласны ли вы ехать с уничтоженной недосыпом волей на дело вовсе не приятное? Да почему ж Лидия Васильевна Козлова не смеет взять на себя ответственность и перекладывает ее на плечи Сергея да почему же Сережа, когда дежурит, никого не дергает, не прячется за чужие спины? Эти ночные выезды — самое тяжелое в работе сына. Конечно, это положено — выезжать, за это даже деньги платят, но деньги такие незвонкие за прерванный сон, как и за всю эту маету, что и говорить не о чем, а ведь завтра никто Сергея не спросит, а спали ли вы сегодня, никто не спросит: ни начальство, ни подчиненные, а больным так и вовсе это безразлично.
Думайте, прежде чем посылать детей на дело какое-либо горячее. Им платят повсеместным «Здрасьте, Сергей Николаевич», заискивающей просьбой: «Только вы уж сами меня прооперируйте», но они-то платят единственной жизнью — дорогая цена — жалейте детей. Особенно сыновей — они хрупче в этой жизни.
— Мне бы сейчас сон досмотреть. Что угодно отдам за сон в тепле.
Однако руки привычно застегивали пуговицы пальто, надевали на ноги сапоги, тянулись к шапке.
Это и есть судьба провинциального хирурга. Ведь если Сергея не позовут, когда он нужен, утром он устроит разгон, потому что его и положено беспокоить. Потому что судьбу можно клясть, лишь когда она навязана извне. Когда ж ты был волен в ее выборе, клясть можно только время, в котором много несовершенств, только людей, которые не заботятся о тебе, хотя это их прямая обязанность.
— Вот Козлова кличет тебя, неужели не может самостоятельно распорядиться чужой жизнью? — пожалел сына Николай Филиппович.
— Да оттого и кличет, папа, что примеряет чужую жизнь, а не сапоги типа «казачок». Все в порядке, папа, — сын даже улыбнулся. — До утра, если повезет. А нет — так до вечера.
— Удачи!
Машина увезла Сергея. Рассвет начинался, серый, мышиный рассвет.
В десять утра Николая Филипповича вызвал Константинов. Лицо Константинова было усталым.
— Тяжело? — осведомился Николай Филиппович.
— Да нет. Я был в форме. Не в этом дело. А только до четырех часов не мог уснуть.
— Надо ведь — и я всю ночь не спал.
— Представь — я думал о тебе. Не о тебе, конечно, а о твоей машине.
— Виноград? Виброплуг?
— Хуже. О морковоуборочном комбайне.
— Ой! — застонал Николай Филиппович. — Не говорите мне о нем. Цыганский романс, прошлый век. Прошу тебя, Константинов, я мирный конструктор, не дергай ты меня.
— А я не спал из-за того, что чувствовал себя вдребезги проигравшим. То ли от малого роста, то ли просто характер такой, но я не люблю проигрывать. А тут — восемь лет. Я уже успокоился, но вдруг этой ночью вылезло.
— А я не могу об этом слушать. Я не хочу, чтоб снова обострилась язва. Да, вот именно, здоровье мне дороже. Не могу, поверь.
— С другой-то стороны, и псом побитым тоже неловко себя чувствовать.
— А я не могу драться с бюрократами. Я тихий провинциальный человек.
— Оставь ты это. Надоело.
— Так чего же ты от меня хочешь, государственный человек?
— Все начать снова.
— Я от прежнего-то искательства сон потерял. Не могу больше.
— Ну вот скажи, что ты мнешься? Ведь это я свою башку подставляю, — и Константинов постучал по лбу костяшками пальцев, — а он мнется. Я, что ли, машину придумывал? Ты ведь. Так где твое честолюбие?
— Нет его, выходит.
— А я не верю. Людей без честолюбия нет.
— Так чего ты все-таки от меня хочешь?
— Надо снова составить бумаги, подготовить документы и отправить все наверх.
— Через голову центрального бюро?
— Да.
— Тебе шею намылят.
— Да не бойся ты за меня. Ничего не будет. Ну вот чего ты боишься? Ну вот чего?
— Я боюсь новых надежд, Константинов, — признался Николай Филиппович, — сейчас их у меня нет, и мне без них спокойно. Это пустые надежды, я уверен.
— А кто знает, может, и получится.
— Да ты и сам не веришь.
— Это неважно. А только я не могу сидеть, подняв руки кверху, — спекся, готов, проиграл.
— Хорошо. Только прошу — у меня в доме суета пойдет, месяц-два ничего ведь не решают. Когда я буду готов начать сначала, я сам тебе скажу. А ты меня не дергай, договорились?
— Договорились.
Одного упоминания о моркови было достаточно, чтобы лишить Николая Филипповича душевного равновесия и повергнуть его в уныние.
Все началось лет десять назад. Кто-то принес на работу большую фотографию из журнала «Америка», и все, охая, шалея от восторга, рассматривали морковоуборочный агрегат. Фотография, и правда, была хорошая, агрегат большой, и статья поясняла, как именно убирают морковь в Америке: рабочие вытаскивают морковь из земли, отрывают ботву, бросают морковь на конвейер, тот посылает ее в очистительное устройство, где морковь моют, и тут же сортировщики пакуют морковь в полиэтиленовые мешки и в картонную тару, все! — товар везут в магазины и рестораны. Все? Да, восторг был полный.
Николай Филиппович занимался в то время виброплугами, цикорием, свеклой, а вот морковью не занимался, может, потому и поддался общему восторгу, а не поленился (даже лупу из стола достал) и посчитал, сколько людей обслуживает агрегат. И насчитал он человек шестьдесят, и никак не меньше. То есть они, как мошки, облепили машину.
Николай Филиппович засомневался: как же так — в век техники и все такое, а вон сколько народу налетело на одну машину. Так ведь она берет рядков двадцать. А хоть бы и сколько, а все равно народу многовато. Ну, ему кто-то и бросил: а вы займитесь морковью, может, поменьше людей работать станет. При этом был и Константинов. «Хорошо, но мне нужно ознакомиться с овощем, с какого боку к нему подползать». — «Так возьми себе месяц, но сообрази, с какого бока подходить надо. Это только для знакомства, а там будет видно, может, какое предложение поступит».
Сказано — сделано. Прежде всего попросил Николай Филиппович представить ему справку о моркови. Такую справку ему представили, и он прямо ошалел, до чего загадочным этот плод оказался: несмотря на малые площади возделывания — сто тысяч гектаров по стране — на него идет до полутора процентов всех затрат на растениеводство. Казалось бы, тебя не щекочут, не покалывают — так не высовывайся. Собственно, Николай Филиппович никогда и не высовывался, полагая собственное спокойствие дороже служебного беспокойства. Но ведь молод сравнительно был — десять лет отсквозило с той поры, да и загадочность этого овоща, этого корнеплода по имени морковь лишала его покоя. Какие затраты ни поедает корнеплод, а все не отказаться от него — ценность экая в нем, людям он необходим, само собой, но даже животные, если их баловать кормовой морковью, растут куда быстрее.
Не нужно было даже на поля выезжать, чтоб убедиться — книги не врут, на уборке моркови применяется только грубый ручной труд. Нет, конечно, свеклоподъемник чуть подкапывает грядки, чтоб легче было морковку вытаскивать, но уж дальнейшее дело — только ручное. Само вытаскивание, на спецязыке «теребление», обрезание и обламывание ботвы и очистка от земли, и сортировка, и погрузка — дело только ручное. Да если учесть, что при подкапывании урожай теряется никак не меньше чем на пятую часть, да если учесть, что на уборке трудятся городские рабочие, которых всю жизнь натаскивали на более хитрые дела, чем теребление моркови, да тем самым труд удорожается еще раза в три, и никак не менее, то понятно становилось, что руководителям сельского хозяйства есть над чем задуматься.
Утешало лишь одно: морковоуборочной машины нет нигде в мире. Повсеместно применяется только ручной труд. Вот это и изумило Николая Филипповича: космос обживается (оставался год до обещанной высадки на Луну), а человек не может вот здесь, на Земле, постараться, чтоб такой же другой человек не студил руки в грязной, остывающей осенней земле.
Собственно, и американская эта машина — чисто заокеанские штучки: красиво, внушительно, но труд тоже ручной. Ее и засняли для того только, чтоб показать: вот мы за считанные минуты доставляем овощи с поля к потребителю. Ну, понятно, те парни не любят сорить деньгами — выходит, даже такая громоздкая, прямо скажем, неумная машина все равно им выгодна. Они просто поймали морковь на том, что за день созревания она увеличивает урожайность до двух центнеров с гектара, так что в самые последние дни перед заморозками запустили свои машины — и это им выгодно.
Боже мой, даже начальные подсчеты кружили голову, то был редкий случай, когда морковный сок хмелил, это же бешеные деньги дарил Николай Филиппович стране, сотни миллионов рублей, сотни тысяч освобожденных от тяжелого труда людей — вот что могло случиться, если б получилась морковоуборочная машина.
Нет, Николай Филиппович не был честолюбцем, его не заедала гордыня, однако и возможность стать первым в мире человеком, который придумает такую вот машину, тоже подогревала.
Его не останавливало то, что десятки КБ такие машины делали, и люди работали над этими машинами толковые, и несколько десятилетий во всех странах каждый год вывозят на поля новые образцы, но ни одна еще машина не оправдала надежд.
Но главное: Николай Филиппович предчувствовал, что дело у него может получиться, и этому предчувствию он доверял. Он знал, что его ожидает несколько лет напряженного, но веселого труда, и труда, возможно, небезрезультатного. Николай Филиппович так себя настраивал, что несколько лет погруженности в размышления — это тоже дело важное. Собственно, человек и пришел на белый свет, чтоб немного поразмышлять: тот размышляет, где добыть пропитание, тот — любят его или нет, а Николай Филиппович — как бы это так придумать режущий аппарат — мотор, рабочий орган, сердце машины, — чтоб он ровнехонько срезал ботву, не вырывая ее и не повреждая головку моркови.
Да, а именно из-за этого устройства и прогорали все машины, это стало ясно через три месяца после начала работ: удастся сделать толковый режущий аппарат — рабочий орган, — все остальное как-нибудь отладится.
Полгода уже группа работала над этим аппаратом, Константинову удалось добиться, чтоб группа только этим и занималась. Как он написал в оправдательном документе, «тема начата в инициативном порядке», — и все только и говорили что о моркови, кончились командировки, кончились просьбы об отгулах. Все просчитывали возможности: то давайте сделаем в виде ножниц, то так, то эдак — ничего не получалось, но уныния не было — Николай Филиппович всем передавал свои веселые надежды. Несколько дней он не ходил на работу, бродил по парку, читал детективы или спал, ночью же спать ему не хотелось, он лежал на кровати и смотрел в потолок — рядом спала Людмила Михайловна, и, чтоб не разбудить ее, Николай Филиппович лежал на спине неподвижно, руки заведя под голову, он смотрел, как по потолку скользят тени, слышал раннюю пробудившуюся жизнь городка, чувствовал себя беспредельно счастливым, юным и улыбался безоглядно. Засыпал он под утро.
Так продолжалось с неделю. Однажды он заснул с ясным сознанием, что вот сегодня с ним случится долгожданное чудо и он все поймет. Заснул под утро, спал всего полчаса, но проснулся как бы от толчка изнутри, словно командный голос был «Подъем!», и он вскочил стремительно, чем вызвал, разумеется, недовольство Людмилы Михайловны. На кухне он встал у распахнутой фортки и закурил. Приближалась весна, и воздух был влажен, тягуч и томил ожиданием удачи.
Николай Филиппович знал, что дело, собственно говоря, слажено, он ясно видел аппарат, знал главный, не известный еще никому принцип его работы, он видел его как бы уже в действии, и аппарат этот был прекрасен, потому что совершенен.
Спать Николай Филиппович больше не ложился, он сидел у окна и с нетерпением ждал начала рабочего дня, он даже не стал завтракать, потому что был сыт и полон сбывшимся счастьем.
Николай Филиппович пришел в свою рабочую комнату, когда все были на местах, неторопливо снял пальто, встал посредине комнаты, чтоб его все видели, и торжественно сказал:
— Ребята, это будет шнековый режущий аппарат, — для непонимающего человека то была голая техническая фраза, для Николая же Филипповича — формула его счастья, и он принялся растолковывать детали этого счастья, и все покинули свои места, сели на столы, а Николай Филиппович все ходил и ходил перед ними и объяснял. Защитный инстинкт от тягомотины повседневных ничтожных заданий выработал в них технический цинизм, но они были прежде всего инженеры и сознавали, что сейчас происходит чудо, что если все получится, то это не просто новинка техники, но это именно революция в сельхозмашинах, а возможно, и в технике. Он был сейчас для них пророк, потому что никто из них никогда не видел, как рождаются идеи такого порядка, да и нет сомнения, что и не увидят, вот это они понимали, а Николай Филиппович все больше и больше воодушевлялся, потому что все сейчас были с ним заодно, и не было ни одного возражения, — незабвенные времена, невозвратные времена.
А потом Константинов послал Николая Филипповича в Москву — американцы на выставку сельхозтехники привезли морковоуборочную машину. Она еще обкатывается и не запущена в производство.
Николай Филиппович раздал группе задания и покатил в столицу. Он был самоуверен, знал, что заграничная машина будет несовершенной — в ней, конечно же, старое, избитое сердце. Потому что новое только придумал, еще даже не сконструировал он сам.
Он не ошибся. То была машина «Скотт-Уршал», заурядная машина. Она могла брать только один ряд, сердце ее — рабочий орган — было придумано в тридцатых годах, а машину соорудили в конце шестидесятых. Из-за громоздкости главного аппарата машина никогда не будет брать больше одного ряда, и, следовательно, не приживется надолго. Машина же, которую соорудит группа Николая Филипповича, сможет брать любое количество рядов — три, шесть, девять, потому что решен главный принцип резания — она будет делать все, как тот старый комбайн, но только без прикрепленных к нему шестидесяти человек и много быстрее.
Николай Филиппович беседовал с директором крупного концерна, и оба они понимали, что машина провинциальна, проблем не решает, но это лучшая на сегодняшний день машина в мире. Концерн рассчитывает на продажу лицензий.
Ехал домой Николай Филиппович радостный — теперь все решается временем, упорством и терпением. Жить ему было необыкновенно интересно.
Группа рассчитала аппарат за четыре месяца. И еще два месяца доводила его в опытном цеху. Ожидания подтвердились — то был надежный и умный аппарат.
А потом пришла пора срывать аплодисменты. Николай Филиппович не ленился тщательно оформлять документы, несколько недель он только тем и был занят.
Успех был оглушительный: Николай Филиппович стал чувствовать себя человеком, который приносит своему бюро славу.
В самом деле, по стране десятки, если не сотни подобных бюро — и при Министерстве сельского хозяйства, и при Министерстве сельхозмашиностроения, и при других ведомствах, а тут на тебе. Можно было бы усмехнуться высокомерно — дескать, ребята нашутили деревянный велосипед. Но рабочий орган от насмешек надежно был защищен четырьмя авторскими свидетельствами и пятью патентами. Одно перечисление стран, где получены патенты, доставляло Николаю Филипповичу удовольствие — Англия, США, Франция, ФРГ, Бельгия — страны, где техника довольно-таки развита.
Тогда Николай Филиппович обнаружил, что и он тщеславен: приятно все-таки держать в руках эти листки, где розовая или голубая ленточка сдавлена восковой печатью, или читать написанные на чужих языках бумаги, где под орлами и щитами написано, что ни у кого нет права пользоваться устройством без разрешения Николая Филипповича Нечаева, инженера из Фонарева.
То были сладчайшие месяцы — время серьезных побед и главных надежд. Причем все делали сами — помощи сверху так и не дождались. Центральное отраслевое бюро снисходительно ждало результатов, полагая, что от всего этого шума с рабочим органом останется только пшик — машину, уверены были, парни не построят.
А они построили. За четыре года построили. Если б на них работало все бюро, управились бы и за два. Но никто не помогал, потому что никто не снимал с бюро плановых заданий. А четыре года — лучшие годы в жизни Николая Филипповича, потому что после них — обрыв, суета, горечь души.
Уж как наскребли денег на опытный экземпляр, это известно лишь Константинову, уж как старались ребята с опытного участка, этого никогда не забыть, Николай Филиппович так верил в будущее машины и в дальнейшую работу над ней, что дал машине имя «Бумалуч» — будет машина лучше, следовало понимать.
А когда машину вывезли на опытные участки, то показалось, что надежды сбываются. Да еще как: с одного ряда за минуту собирали полтонны годной для продажи моркови. Это с одного ряда, а рассчитана машина на много рядов. Более того, дело расширялось — машина брала любые корнеплоды — и столовые, и кормовые, и технические. Да если только цикорий собирать, и то она уже окупалась, цикорий — это же на экспорт, это ж валюта, получается.
Две осени вывозили машину на поля, и результаты оправдали все надежды Николая Филипповича. Было подсчитано, что если эту машину пустить по всей стране, то государство выиграет десятки миллионов рублей в год. Разумеется, подсчет вел не только Николай Филиппович, но и те организации, которые должны вести такой подсчет.
Николай Филиппович составил справку, в которой сообщил все соображения, приложил расчеты, чертежи, да и отправил все в вышестоящие инстанции, уверенный, что дело сделано и его совесть спокойна.
Вот тут и начинается горечь души, тут и начинается крушение надежд. Прошел год, а центральное бюро ни гугу. Тогда в столицу поехал Константинов.
Вернулся он со смущенной душой — за год никто не проверил расчеты и, по его мнению, не досмотрел чертежи до конца. В центральном бюро не любят, когда тема делается в инициативном порядке, к таким работам относятся как к любительству, на которое-то и внимания обращать не следует. Словно бы там все — звезды Большого театра, а группа Нечаева — квартет Фонаревского дома культуры. А ведь Константинов мало что и требовал: денег подбросить фонаревскому бюро, чтоб создать опытные машины и провести развернутые госиспытания.
Константинов с такой медлительностью мириться не хотел. Он уговаривал Николая Филипповича перепрыгнуть центральное бюро и написать в Министерство сельского хозяйства.
— Нет, пиши сам, — сказал Николай Филиппович.
— А ты почему устраняешься?
— Это все кляузами пахнет. И я вспомнил историю с великим футболистом ди Стефано. Того тренер упрекнул, что он ленится выполнять черновую работу, так ди Стефано ответил: «Вы хотите, чтоб я носил рояль. Может, достаточно, что я на нем играю?».
— Как знаешь. Что же — будем ждать.
А это все, заметить надо, — время и время, оно себе идет и идет. Послали бумаги в ВАСХНИЛ, и в ВАСХНИЛе как раз быстро машину поддержали. Вот они, выписки, в папках лежат, а папки в том шкафу, много накопилось этих папок, слишком даже много. Вот из ВАСХНИЛа написали: «Нужно организовать специальную лабораторию для завершения работ… придать плановый характер со стабильным финансированием».
Но советы советами, а только выполнять их не очень-то спешили; да, скоро решим и свяжемся; ну, люди связываются и связываются, а времечко летит да летит, да все дерганье и дерганье, писание и хождение по инстанциям; уже что-то вроде решили да забыли решение вниз спустить, или же бумагу составили так, что решение и выполнять необязательно.
Однажды Константинов поехал в очередной раз в центральное бюро и вернулся в отчаянии — он узнал, что какая-то группа в бюро занимается морковью, и, выходит, им нет резона поддерживать фонаревцев.
— Быть того не может, — сказал Николай Филиппович.
— Именно может. Хоть бы машина у них стоящая. Хоть бы нас к этому делу притянули, так нет же, все время вспоминал о рубашке, которая к телу ближе. Нас они не будут поддерживать, пока собственные парни не придумают что-нибудь внятное. Ты не поверишь — они занимаются усовершенствованием старой американской однорядки. Так что пока мы с тобой берем тайм-аут.
То были мучительные годы. Ведь когда Николай Филиппович задумывал дело, то считал, что если с этим делом он справится, то, выходит, и победитель, и на коне, а дальше пусть люди должностные берут машину и скорехонько выводят ее на поля — время-то летит, и в данном случае без пользы; он, Николай Филиппович, с делом своим справился, так можно и пыль с ладошек стряхнуть.
А как пошла эта суета, так будто бы Николая Филипповича подменили — стал раздражительным, обидчивым, случались у него и ночи бессонные, когда казалось ему, что все вокруг только и озабочены тем, как ему навредить и затормозить дело, перед всякой поездкой он не спал по нескольку ночей, на совещаниях взвинчивался, и, конечно же, это делу не помогало, так что несколько раз Константинов ездил без Николая Филипповича.
Словом, характер его портился неудержимо, стал бы Николай Филиппович склочником, потерпевшим поражение самоучкой, да вдруг начал прибаливать. Уж и от неврастении его лечили — бромом да электричеством помогали снять душевные обиды, а потом боли в желудке пошли, так что Николая Филипповича с подозрением на язву желудка упекли в больницу.
И вот в больнице — случай редчайший — человек полностью выздоровел. Как раз месяца хватило на то соображение, что вот как же это получается, что он из-за машины, существа то есть железного, должен гробить собственное здоровье — вещь довольно-таки хрупкую и невозвратную.
В самом деле — если б он изобрел вечный двигатель, так нет же, в казенном и должностном месте дело сделано, подтверждено родными и зарубежными документами, ну и толкайте новорожденного в жизнь те, кому это положено. Почему Николай Филиппович должен укорачивать жизнь из-за того, что кто-то не хочет брать на себя лишние тяготы или считает ведомственные претензии и честь мундира всего главнее. «Не хотите, — сказал тогда себе Николай Филиппович, — не надо». То, что он хотел себе доказать, он доказал. Он не настолько честолюбив, чтоб думать о всеобщем признании. Да и что это такое — признание всеобщее для изобретателя морковоуборочной машины? Николаю Филипповичу было довольно и признания своих сотрудников.
Конечно, он лишался денег, возможно и немалых денег, но уж и не таких бешеных, чтоб наживать из-за них язву. Да и вообще нет на свете таких денег, чтоб из-за них здоровье гробить.
Словом, он вышел из больницы здоровым человеком, спокойным, рассудительным — таким, каким был прежде, какой он есть и сейчас.
Время от времени Константинов сигнализировал в центральное бюро о том, что дело так и не сдвинулось, время от времени ездил в бюро и Николай Филиппович, но уже был он хладнокровен в разговорах, рассудочен, иногда даже благодушен. Знал твердо, что дело проиграно. Его о чем-то спрашивали — он коротко давал справку, сердился иногда, что его оторвали от иных дел, хоть бы и семейных; не жалел, что когда-то ввязался в это дело, нет, он был счастлив, когда искал машину, он мог гордиться собой — решил сложные технические задачи, и он собой гордился; годы суеты постарался поскорее забыть, лишь усмехался иногда — молод был, горяч и глуп. Когда его упрекали в безразличии к результатам своей работы, лишь головой покачивал — должен понимать человек, что не желает Николай Филиппович драться за дело, которое очевидно как дело выигрышное, он кое-что уже предложил, с него довольно.
Все-таки успокоился, отошел, не по его вине не сложилось главное, возможно, дело его жизни. Однако при упоминании о моркови Николай Филиппович против воли морщился, словно упоминали не морковь, а уксус. И когда Николай Филиппович попадал в опытный цех и видел, как на асфальте, под открытым небом, стоит его некогда желанная машина, среди прочих сельхозмашин, ничем из них не выделенная, — он все-таки страдал, как страдают, видя сироту-бедолажку, не в силах ей помочь. А ведь красива машина и диво как умна, под осенним небом рождена, от ненастья теперь и страдает — всякая капля дождя, всякая снежинка добавляет ржавчины, рассеивает юные надежды Николая Филипповича, напоминает о бренности, краткости всякой твари, о суете и тлене.
Однако разговор с Константиновым испортил настроение — да и у кого это улучшается настроение от упоминания об упущенных возможностях! Конечно, и вся жизнь — неиспользованные возможности, а только сознавать это всегда горько. Николай Филиппович даже и сердился на Константинова — мог бы перенести разговор на другой день, нечего было сегодня затевать счет пропущенным ударам.
Весь день Николаю Филипповичу было тревожно за Свету, несколько раз он ходил к Людмиле Михайловне, она звонила Сергею, но никаких новостей не было.
Они уже пришли домой, а Сергея все не было. Чтоб отвлечься, Николай Филиппович листал в кресле свежие газеты, Людмила Михайловна беспокойно ходила по комнате.
— Я чувствую, там что-то случилось. Иначе почему он не идет? Ты как хочешь, Николай, а я пойду туда. Или к Сергею. Не могу сидеть и ждать.
— А какая от тебя польза? Только будешь всех взвинчивать.
— Я всегда завидую этой твоей рациональности. Можно вмешиваться, если будет польза? А я не могу сидеть и ждать. Да, не могу.
— Во-первых, ты не сидишь, а ходишь по квартире, а во-вторых — отвлекись чем-нибудь. Телевизор включи. Успокойся! Сейчас Сережа придет.
И точно — около семи часов пришел Сергей. Они бросились в прихожую.
— Ну? — нетерпеливо спросила Людмила Михайловна.
Однако Сергей ничего не ответил, он был поглощен разглядыванием своего сапога.
— А сапоги между тем штука замечательная. — Сергей старался придать лицу серьезность, но глаза его смеялись.
— И он еще над мамашей издевается. — И Людмила Михайловна дала сыну легкий подзатыльник — Ну? — снова тревожно спросила она.
— А вы не понукайте меня. Тут человек в новом качестве, он, можно сказать, отец, а его, видишь ты, понукают.
— Ах ты, юный папаша, — обняла его Людмила Михайловна и всхлипнула. — Он еще издевается над старенькой матерью.
— Храним достоинство: как-никак, а паренек, а три семьсот, а пятьдесят четыре сантиметра.
Они обнимали сына и друг друга, и то была настоящая радость, да и Света молодчина, держалась хорошо, так давайте-ка, ребятки, к столу приблизимся и поклюем, что осталось от дня вчерашнего, чтоб день нынешний не был последним радостным днем.
— А Света как? — спросила Людмила Михайловна.
— Все в порядке.
— Теперь начнется суета с именем. Только вы попросту, без вывертов.
— Да какие могут быть выверты — в честь дедки и назовем Николашей.
— Ну это уж лишнее, — растрогался Николай Филиппович. — Не много ли Николаев на одну семью?
— Нет, не много — в самый раз.
Они пили вино, ели картошку с мясом и вчерашний салат.
— Ах ты, мальчуган, — потрепала сына по затылку Людмила Михайловна, — нелегко тебе дался сегодняшний день. Представляю, что ты пережил.
— Да, ночью-то вызывали по делу? — вспомнил Николай Филиппович. Он очень любил рассказы Сергея о хирургических делах, Людмила Михайловна тоже любит, и Сережа, находя благодарную аудиторию, никогда от рассказов не уклоняется.
— По делу, папа. Даже по прямому моему делу. Черепно-мозговая травма. И пришлось оперировать. А это должен делать только я.
— Нет, это формальная отговорка. А нам спешить некуда. Ты давай подробности.
— Ну что — мальчик Коля катался с горки на лыжах.
— Так ведь тает все — весна.
— А Коля в лесу катался. Он упал, слегка ударился головой, сознания не терял, сломал лыжу. Шел домой и плакал, что сломал лыжу. Часов в семь лег спать. Немного рановато, но ведь устал. В первом часу ночи его мать пришла с работы и увидела, что сын тяжело дышит. А отец мальчика в этой же комнате выпивал с другом и на сына не обращал внимания. Этакие посиделки с корешком. О жизни говорили. Мать пыталась разбудить сына, но не смогла. Словом, мальчуган в полвторого поступил к Козловой, и она заподозрила внутричерепную гематому. Вы теперь грамотные после моих рассказов.
— Да уж.
— Словом, обязательно нужно трепанировать череп и удалять кровяные сгустки. Иначе учительница придет на урок, спросит, где мальчик Коля, а Коли нигде нет более. Словом, мы загрузились на четыре часа. Ну, пока готовили, да пока после операции суетились да записывали, к девяти как раз и уложились.
— И жив мальчик?
— Пока жив. Ему должно повезти. Хотя нужен специальный уход, а у нас какой же уход? Но повезти должно.
— Бедный мальчик. — Это уже Людмила Михайловна сына жалела. — Как же ты разрывался — и за Свету душа болит, и за больного.
— А я не разрывался. Я, когда вплыл под лампу над операционным столом, про Свету позабыл. Потом даже удивлялся, как это я начисто забыл. Только вы уж ей не говорите. Вспомнил, когда удалил кровь и мозг запульсировал. Я попросил нашего невропатолога Галину Анатольевну сходить в ординаторскую и позвонить, как там наши дела. Как же они все на меня уставились, когда узнали, что Света в родильном отделении. Теперь пойдут байки о хирурге со стальными нервами. А это не нервы, а просто слабая память. Мне-то ведь следовало на день устраниться от дел, но мальчик не виноват, что, кроме меня, никто в районе не обучен обращению с битыми черепами. Как говорится, череп — не тарелка. Ну, я и отключился. Уже помылся, чувствую — готов, подобран, даже умен, честное слово. И вот я, значит, перехожу из предоперационной к столу и чувствую несколько мгновений, что ничего нет важнее на свете моих пальцев. Я сказал Коле: «Терпи, мальчуган», — словно он мог меня слышать. Я думаю, все хирурги — немного пижоны. И я отключился. И забыл про Свету.
— Да уж мы ей об этом не скажем, — сказала Людмила Михайловна. — И верно, Нечаев, поколение наших детей — поколение профессионалов. Холоднее голова, горячее сердце, а? Умелые руки, а? Всегда чуть-чуть себе на уме, а?
— Тогда я расскажу, что сделал, когда узнал, что стал отцом. Ну, что, по-твоему, папа?
— Прыгал? Плясал? Выпил?
— Нет, я пошел к главному врачу просить жилье.
— Не может быть! — сказала Людмила Михайловна.
— Правда, мама.
— А я не верю.
— Точно говорю. Ну, полчаса я посидел на улице, привыкая к новому состоянию. Хотя лгу — нового состояния я не чувствую и сейчас. Просто я был рад, что для Светы все позади. Весь день мне ее было очень жалко. И я боялся за нее, а не за младенца. Я был совершенно пуст, когда сидел у забора во дворе больницы. Ну, а когда эта, что ли, обморочная пустота прошла, я встал и пошел к главному врачу.
— А до завтрашнего дня подождать нельзя было? — спросил Николай Филиппович.
— Когда я провожал Свету, она взяла с меня слово, что как только появится младенец, я позабочусь о жилье. Ведь она права, мама, — ты устанешь от внука. А устраниться от забот не захочешь.
— Ты глупый, Сережа. Я и не хочу устраняться. Это ж мой внук. Неужели ты сомневаешься в моей будущей любви к нему?
— Я не сомневаюсь. А только тебя следует хоть немного щадить. Словом, я обещал Свете и пошел.
— И выжал?
— Выжал. Когда я устраивался на работу, он обещал мне жилье, вот я и попросил выполнить обещанное. Я даже не просил, а требовал.
— Ну уж — требовал, — сказала Людмила Михайловна.
— Правда — требовал. А он привык, что я прошу. И удивился. И через несколько месяцев жилье даст. Надо будет к Астапову, мэру города, сходить. Вы, говорит, как-то уж ловко удалили аппендикс его жене, он, говорит, хорошо к вам относится.
— Да ты, Сережа, деловым человеком становишься. Гляди, Нечаев, у сына зубы начали появляться.
— А это — сознание нового положения, — сказал Сережа. — Давайте по рюмке за внука вашего, да за его дедку и бабку. Сегодня меня не тронут — так сговорились.
— Да, за внука и за его мамашу, ну и за бабку с дедкой, — подхватил Николай Филиппович.
Глава 2 Лето
В начале августа Антонина Андреевна заболела, и Николай Филиппович, зайдя в отдел кадров, узнал ее адрес — следует кому-нибудь из группы навестить заболевшую сотрудницу.
Он очень нервничал, Николай Филиппович, идя по Пионерской улице, знал, что ему ходить не следует, нужно было послать кого-нибудь из подчиненных, однако ему очень хотелось увидеть Антонину Андреевну, он скучал по ней те пять дней, что она болела. Так и говорил себе — ходить ни в коем случае не следует, но оправдывался — только на минуту забежит и узнает, не нужна ли какая помощь.
Да, Антонина Андреевна работает уже четыре месяца. Первые две недели Николай Филиппович как бы не замечал ее. Они сидели за одним столом, однако общих служебных дел у них не было. Антонина Андреевна часто ездила в Губино на машинную станцию, иногда к ней приходили люди из других отделов, чтоб дать задание, и тогда они выходили в коридор либо в другое помещение.
Иногда она отпрашивалась уйти пораньше, и Николай Филиппович, как и всем сотрудникам, разрешал уйти.
Он только спрашивал:
— Что-нибудь случилось? — В вопросе всегда заключался тот смысл, что если случилась неприятность, то он, Николай Филиппович, готов помочь, если сможет.
— Родительское собрание.
— А какой класс?
— Первый.
— Сын?
— Да, сын.
Но однажды что-то повернулось в душе Николая Филипповича, вернее, он считал, что повернулось не в нем, а в природе, солнце ли начало припекать и в помещении становилось душновато, — словом, однажды, как и всегда, Николай Филиппович и Антонина Андреевна сидели друг против друга. Она обрабатывала перфокарты, он составлял какой-то документик, не то чтобы важный документик, но, как всякий документик, требующий внимания, а вот как раз сосредоточиться-то Николай Филиппович и не мог. Он пытался понять, что ж это его отвлекает от дела, и понять не мог, хотел собрать ускользающую волю к работе, и не сумел, он читал бумаги, но все слова и цифры проскальзывали мимо, ничем не заинтересовав Николая Филипповича. И тут он почувствовал легкий запах — осень ли ранняя такой запах дает, цветы ли неизвестные, — легкий, едва доносимый ветерком запах; тут он все понял и сказал:
— Какие у вас сегодня духи замечательные, Антонина Андреевна. Тонкие, должен сказать, духи.
Она подняла глаза от перфокарт и удивленно взглянула на него.
— У вас сегодня свидание? — И даже краской пошел от бездарности вопроса.
— Нет, еду после работы в театр.
— А что будете смотреть? — Это уж так, чтоб скрыть смущение. Ему было все равно, куда она едет.
— «История лошади».
Да, он впервые посмотрел внимательно на Антонину Андреевну и обнаружил, что она хороша, она даже красива — что-то трепещущее, незастоявшееся было в ее лице. Ах нет, не в том дело, вдруг осознал Николай Филиппович, — он еще в день первого ее прихода заметил, что новая сотрудница мила, но старался всячески не обращать на нее внимания — в самом деле, что ему до ее красоты и молодости, просто сослуживцы сидят за одним столом, друг другу не мешают, вот и хорошо.
И потом — какая-то горечь постоянно была в лице Антонины Андреевны; да и как иначе, если человек недавно развелся, она же, поди, болезнь души пережила, вполне ощутила быт переломленный, так что и сейчас не до конца переболела. Оттого-то и горечь, оттого-то и есть в Антонине Андреевне нечто, мешающее постороннему человеку подступать к ней с привычными разговорами о погоде, кино, телепередачах.
А тут они посмотрели друг другу в глаза внимательно. Видно, что-то происходило с лицом Николая Филипповича, смягчилось ли оно, стало, может, жалким.
Взаимный этот взгляд длился несколько секунд, но Николай Филиппович понял: все! Антонина Андреевна для него не просто сотрудница, каких много, но сотрудница, может быть, единственная, потому что ей нужны, возможно, его участие и помощь. То, что она мила или там красива, большого значения не имело — ее красота по-прежнему никак не относилась к Николаю Филипповичу.
Он сделал усилие и погасил взгляд, тогда погасила взгляд и она.
Нескольких секунд было достаточно, чтоб оба поняли — они имеют право разговаривать не только о делах, но и о вещах посторонних.
Остаток дня Николая Филипповича не покидало веселое воодушевление — ему, выходит, интересно жить на свете, он не вполне стар, если может в ком-нибудь принимать участие, если духи, скажем, «Нарцисс» может отличить от «Тройного» одеколона и даже от «Шипра»; он и вечером был весел, словно бы что-то должно было с ним произойти, некие радостные события — сына ли похвалят в местной газете, внук ли особенно ясно улыбнется деду, выделив его из прочих родственников, пробьется ли морковоуборочная машина — было ожидание только радостное. А оно подвести не может.
Весело шел он на работу и следующим утром, все в природе было свежо, бодро, умыто, и сам себе Николай Филиппович казался человеком еще молодым, почти юным, кого не покидает веселье и надежда на радостные перемены.
Он пришел на работу чуть раньше положенного времени — обычно себе этого баловства не позволяет и приходит точно по звонку, — он сел за стол и вдруг понял, что нетерпеливо ожидает Антонину Андреевну.
И вот звонок, и вот она, Антонина Андреевна, и общее «здравствуйте», и улыбнулась ему — как же она молода, открыта, эта улыбка.
А он оглядел всю группу — вот все на месте, и, когда взгляд скользил от дальнего угла к бумагам на столе, выхватил из общей утренней суеты Антонину Андреевну и чуть остановился на ней, затем легкая улыбка: «Я ждал вас, здравствуйте», — и улыбка, легкая же, в ответ: «Я знала, здравствуйте».
И тогда Николай Филиппович тихо спросил:
— Ну, как вы съездили, Антонина Андреевна? Весело ли вам было? — Он-то хотел, чтоб голос его был спокойным, отечески, сказать, заботливым, но не сумел скрыть волнения — каким-то встревоженным, даже чуть надсадным был его голос.
— Хорошо съездила. Было весело, — ответила она и снова улыбнулась. То вновь была мимолетная, легкокрылая улыбка, но Николай Филиппович многое успел в ней прочесть: она, Антонина Андреевна, рада, что он помнит о сотруднице, что сидит с ним за одним столом, и ей его внимание приятно — спасибо.
А у него-то от этой улыбки сердце как-то гулко ударило и затем сладковато заныло, как бывает в предчувствии вернейшей беды, и уж казалось Николаю Филипповичу, что вот так же заныло сердце, когда он впервые увидел Антонину Андреевну — а не было этого, взглядом посторонним скользнул по ней тогда — да ладно, вот тогда не было, а сейчас есть, и это ростки беды будущей, но ведь как же одинока она, Антонина Андреевна, как не защищена, если даже малое внимание ей дорого — крепко, видать, судьба ее ударила.
Когда же на следующий день место Антонины Андреевны оказалось пустым — ее срочно вызвали на станцию в Губино, — то Николай Филиппович ясно понял, что дело его плохо, и ему мучительно было признаваться, что он, похоже, того, как бы сказать, отчасти и влюблен в новую сотрудницу.
И какая же была маета в душе его — вот, выходит, существование его в этот день на работе как бы и смысла не имеет, нужно было сосредоточиться, но сосредоточиться он не мог, так как мешало раздражение — не могли, видишь ли, вчера сказать, что Антонины Андреевны не будет, он с утра бы как-то приготовился, а то майся тут в раздражении, он даже негодовал на тех сотрудников, кто загрузил Антонину Андреевну срочной работой — тоже дудари нашлись, без ЭВМ голова уже не варит, так вот вам — не сварганили ничего значительного до ЭВМ, не сварганите и с машиной — вот вам слово вконец рассерженного человека.
И уже день докатывался до конца в изнеможении, в своем ничтожестве, так бы и доскрипел до конца, как вдруг под самый уже занавес в комнату вошла Антонина Андреевна — она забежала оставить в столе тетрадку с результатами, — и то был подарок бездарно прожитого дня, и улыбка радости и торжества взорвалась на лице Николая Филипповича — ага! ждал и дождался! Он старался погасить улыбку, но не сумел, вовсе ошалев от радости.
И знал, что Антонина Андреевна догадалась, что он томился без нее; и в глазах его успела понять упрек — что ж это она его не предупредила, — и сказала в свое оправдание:
— Вот срочно вызвали.
— Да, да, конечно. Но пришли. И хорошо, — растерянно забормотал Николай Филиппович.
И кровь прилила к лицу — это уже от стыда, да что же это он, словно провинциальный повеса, словно яблоко-перестарок, трепещет и волнение не в силах скрыть.
И тогда Николай Филиппович сел на стул и ладонями подпер щеки, обозначив, что отключился для работы, а шелестела в ушах кровь, а сладковато ныло сердце, и безнадежно было сознавать непоправимость поворотов судьбы.
Потянулись мучительные для Николая Филипповича дни. Да, ему было мучительно и стыдно. Еще бы: пожилой человек, примерный семьянин, и вот на закате лет влюбился в молодую сотрудницу — какое унизительное положение. И ничего не мог поделать с собой, и утешал себя, что это не влюбленность вовсе, а просто нежность, так что стоило ему взглянуть на Антонину Андреевну либо вспомнить о ней — и томительная нежность заливала его сердце.
Да, она молода и красива, а что он-то в ее глазах? Да хоть бы и ничто — пожилой, даже стареющий конструктор, звезд с неба не хватавший, средней внешности и среднего же ума.
У него и так надежд не было, а ведь еще понимать следует, что Антонина Андреевна, после недавнего распада семьи в смуте находится, в болезни.
И потому все силы следовало употребить на то, чтоб Антонина Андреевна не заметила его влюбленности. Потому что иначе беда, кто он тогда — селадон, пожилой волокита с двусмысленными намеками, тьфу ты, даже представить себе невозможно, что она узнает про его влюбленность.
И вместе с тем каждый день следовало ходить на работу и, как известно, сидеть с Антониной Андреевной за одним столом — невозможное испытание.
Одно спасало: Николай Филиппович, как ему казалось, нашел верный тон в разговоре с Антониной Андреевной — это был, что ли, отечески-покровительственный тон, Николаю Филипповичу удавалось прятать свое отношение к Антонине Андреевне и вместе с тем был выход для его нежности.
Он видел, что ей горько живется, что она не защищена, и он постоянно жалел ее.
— Вы поработайте там до обеда и уже не приходите сюда, — говорил он мягко, стараясь, чтоб в голосе его не было напряженности. — Вот мой вам совет: погуляйте по губинскому парку, он ведь очень красив. Свежий воздух всем полезен. Вы, я надеюсь, не исключение.
И когда Антонина Андреевна, улыбнувшись, кивала головой, он понимал, что ей приятен этот отеческий тон, что она слаба и ей нравится, что пожилой начальник ненавязчиво опекает ее, да и потом он, надеяться следует, деликатен. Конечно, она замечала, что с ней он говорит мягче, чем с прочими подчиненными, конечно, замечала она, входя утром в комнату и здороваясь с Николаем Филипповичем, что он излишне рад ее приходу, что в лице его, в глазах главным образом, есть некое выражение, лишнее для просто начальника.
Но да ведь это же не вязкость, не двусмысленность, а это просто нежность, а она никого не может задеть, напротив того, она в силах отогреть любое сердце.
Однажды Антонина Андреевна спросила:
— Хирург Нечаев ваш родственник или однофамилец?
— Сын.
— Он оперировал мою мать.
— А вы его самого знаете?
— Восемь лет учились в соседних классах. Что у него нового?
— А сын у него. Мой внук, то есть. В мою честь и назван. — И Николай Филиппович принялся рассказывать про внука — и как он весело смеется во сне, и как любит хватать деда за нос, но это ему не всегда удается — нос у деда картошечкой, что и говорить, — и какие у внука нежнейшие прозрачные мозоли на губах.
Николай Филиппович ничего смешного не рассказывал, так, в своей обычной манере подтрунивал над собой, и неожиданно услышал смех Антонины Андреевны, то был нежнейший смех, легкий в беззаботности смех — а прежде она никогда не смеялась, и Николай Филиппович, счастливый оттого, что сумел развеселить Антонину Андреевну, потерял контроль над собой и посмотрел на Антонину Андреевну так, словно не было никого вокруг, словно и не нужно скрывать влюбленность, и вдруг она увидела его глаза — как он любовался ею, какая же нежность была в нем; да, она все поняла, и осекся смех, и неловкое молчание возникло, и уж до конца дня они друг с другом не разговаривали. Но напряженность была: он понимал, что Антонина Андреевна наверняка знает его тайну, она же понимала, что не может скрыть, что обожглась о его взгляд.
И весь вечер нервничал Николай Филиппович, что ждет его завтра, тайны ведь больше не существует, и как ему, да и ей, держаться дальше.
А утром нетерпеливое ожидание ее прихода, и вот стремительно идет она от двери к столу, и вот улыбка, направленная ко всем, для него же улыбка отдельная — рада вас видеть, рада, что ничего не изменилось.
И тогда он написал на листе бумаги. «Сегодня у рынка продавали хорошие цветы. Хотел купить и не осмелился», — и подал ей лист.
А сам замер — вот как она поступит?
Антонина Андреевна ответила на бумаге: «Будем считать, что вы их подарили». Николай Филиппович облегченно вздохнул.
Началось время обмена записками — введенная Николаем Филипповичем игра: разговаривать шепотом было неловко; говорить же громко, как прочие сослуживцы, не хотелось — между ними существовала некая тайна, и допускать к ней посторонних людей никак нельзя.
Он брал лист, склонялся над ним, как бы задумывался, постороннему оку могло показаться, что человек выводит сложную формулу, задачу жизни решает, а Николай Филиппович писал в это время: «Мне очень нравится ваша кофточка» или «Я иду в столовую пораньше. Занять на вас место?» — и осторожно подвигал бумагу Антонине Андреевне, та тоже задумывалась, со стороны могло показаться, что человек решает новую программу, — и лишь потом отвечала.
Эта игра им нравилась. Хотя как сказать — игра, для нее, возможно, игра, для Николая Филипповича — хоть малый шанс удержать ее внимание.
«Вы мне сегодня снились».
«Я писала ответ на вашу записку?»
«Представьте себе — да. И я проснулся счастливым».
Так и текла их жизнь, доверенная запискам.
Вот она говорит, что на полдня уезжает в Губино. Он рисует плачущего человечка и подает ей его.
— А завтра я с утра на месте.
И он подает ей человечка, который счастливо улыбается. А в углу листа светит солнце.
Николай Филиппович был так увлечен Антониной Андреевной, что она казалась ему наверняка красивой. Словно душа Антонины Андреевны постоянно зыбится, трепещет, и потому лицо ее всякое мгновение меняется, И следующее мгновение никак не повторяет прошедшее, и смена настроений неуловима. Постоянно меняются и ее глаза — они-то и придают лицу загадочность — то зеленоватые, то светло-карие; и странно они как-то посажены — они слегка раскосы, но эта раскосость неуловима — то, видно, обычный астигматизм, а настораживает, в печаль погружает, в тревогу.
Иногда Николай Филиппович задумывался, а что ж это дальше будет, во что перейти может записочная эта игра, но от соображений по дальнейшему течению отмахивался, потому что какое еще дальнейшее может быть, какое такое может существовать будущее, когда и настоящее весело и загадочно.
Николай Филиппович теперь носил только светлые рубашки — белые и голубые, отказавшись от темных и клетчатых; светлые рубашки, принято считать, молодят человека; каждый день он был тщательно выбрит: бреется Николай Филиппович английскими и польскими лезвиями, которые уж как-то добывает Людмила Михайловна, и он старается растянуть пользование одним лезвием на семь и десять раз, а тут расщедрился, стал пользоваться одним лезвием только три раза, душа плачет, зато гладок каждое утро, словно младенец. Да, он был бодр, молод, юн — так юн, каким не был даже в молодости.
Людмила Михайловна однажды заметила, что Николай Филиппович стал с вниманием относиться к своей одежде — эту рубашку он не наденет, она темна, эти брюки можно надеть, только отпарив их, — и она сказала:
— Что-то ты, Нечаев, начал по утрам перышки чистить.
— А как иначе, — сказал он. — Молодая женщина сидит со мной за одним столом. Неловко же — я ведь не вполне старик.
— Не вполне. Ты еще вовсю гусар. — И Людмила Михайловна засмеялась. Ей нравилось, что ради молодой сотрудницы муж старается казаться моложе, подобраннее — слабость вполне простительная для семейного мужчины его возраста. Да и повеселел он заметно. Да и на работу ходит охотно, без привычных стонов и отговорок.
Действительно, работа — радость, труд — удовольствие. Идет на работу и знает, что сейчас Антонина Андреевна придет и он напишет ей что-нибудь смешное или похвалит ее.
Так месяц и протек в записках, а хоть бы и вся жизнь протекла, да и то сказать — не слишком ли всерьез мы ее берем, не слишком ли круто себя заворачиваем в нее. А ну как повеселее смотреть да не видеть себя при ней слишком уж подробно, ты же бродяжка подвернувшийся; может, задержишься здесь на миг лишний, а может, и нет. Да веселье при этом не утрать, да и смотри на себя постоянно как на существо не протяжное, но случайное, да и глядишь — во многие колдобины не завалишься, излишних слез не прольешь. Не в знании, нет, но в излишней серьезности к себе и струению окружающему печаль великая — вот это да, вот это, пожалуй, действительно верно. Так месяц протек, а в прошлую как раз пятницу неловкость некая вышла, забвение окружающего, затмение зрения: сидел Николай Филиппович за столом, делом каким-то занимался, вялым делом вяло занимался, и духота уж донимала, а он, чтоб сосредоточиться, откинулся на спинку стула, чуть протянув ноги под столом, и вдруг колено его встретило преграду какую-то, то есть встретило эту преграду если и не помимо желания — желание такое, возможно, и было, — а вот воли к его осуществлению не было вовсе, и Николай Филиппович, осознав, что эта преграда — колено Антонины Андреевны, замер, окаменел даже: отдернуть колено неловко, так держать тоже неловко, и он, все же обозначив задержкой, что касание это не случайное, но намеренное, стал ждать, как поступит Антонина Андреевна, но она тоже была в растерянности и сидела неподвижно. Тогда Николай Филиппович, неожиданной отвагой полон, еще чуть отклонился на спинку стула и сжал эту преграду своими коленями, ожидая решения Антонины Андреевны, но она снова не шелохнулась, однако Николай Филиппович почувствовал, что тело ее напряглось.
Смотреть друг другу в глаза они не отваживались, смотрели перед собой — он в лист бумаги, она в открытую тетрадку; уж как-то протекала жизнь вокруг — никто, к счастью, не входил в комнату, больше всего боялись взглянуть друг на друга — тогда все! Фарс, интрижка, а так — тайна взаимного касания, сидели, окаменев, и уж размылось окружающее, лишь звон в голове, лишь истома в сердце, забыли, где они и что они, а ведь сотрудники могут заметить это касание, да и человек, бегущий по коридору из курительной комнаты, может увидеть сквозь стеклянную дверь, как колени Николая Филипповича сжимают колено сотрудницы.
Сколько продолжалось это плавание во взаимном касании, сказать трудно, час, поди, никак не меньше. Их спас звонок.
Николай Филиппович выдержал паузу, когда раздался звонок, и через некоторое время встал из-за стола — дню конец, с установленным порядком не поспоришь. Так они пережили окаменение — окаменение взаимное, и тут у Николая Филипповича сомнений не было. Это было в прошлую пятницу. А в понедельник Антонина Андреевна не вышла на работу.
Был шестой час, жара не спадала, асфальт под ногами плавился, воздух был отравлен дымом, выбрасываемым фабрикой «Восход», мимо фабрики и прошел Николай Филиппович, за низким забором виден был фабричный двор — транспортеры, автомобили, мотки проволоки. Фабричный двор кончился, потянулся пустырь, а за ним стоял деревянный двухэтажный дом, здесь вот, по номеру судя, и жила Антонина Андреевна.
Как же нервничал Николай Филиппович, как же сердце его надрывно колотилось. Прежде чем войти в дом, он напился у колонки. Напрасно отправился он разыскивать свою сотрудницу, хотя ведь это вполне ловко — он заботливый начальник, не стал передоверять дело представителям местного комитета, это он как бы оправдывался перед Антониной Андреевной и ее родителями, но перед собой-то ему было неловко. Однако ж преодолел страх и вошел в подъезд.
А поднимаясь по лестнице, все удивлялся — вот дом довольно длинный, а подъезд всего один, как же это люди устроились с размещением квартир.
Он нажал кнопку звонка, вышла пожилая женщина в драном халате, и когда Николай Филиппович назвал Антонину Андреевну, женщина удивилась, а уж глазам открылся длинный, как раз в полдома, коридор и бесчисленные двери. А, так вам, значит, Тоню, соображала женщина и все вопросительно смотрела на Николая Филипповича — зачем Тоня понадобилась незнакомому мужчине.
— С работы, — объяснил Николай Филиппович.
— До конца! — бросила женщина и пронзила пальцем уже отравленный приготовлением ужина воздух коридора.
Николай Филиппович пошел по коридору, но он не мог знать, налево ему идти или направо, и постучал в дверь направо.
Услышав разрешение, отворил дверь — молодая женщина кормила грудью младенца. Женщину не смутил приход незнакомого мужчины, она не стала спрашивать, что ему угодно, не стала и отворачиваться либо прикрываться кофточкой, нет, свободной рукой она показала на дверь напротив.
Туда Николай Филиппович и вошел.
На старом диване, сложив руки на коленях, сидела Антонина Андреевна. Она удивленно смотрела на Николая Филипповича.
— Здравствуйте, — сказал он.
Она встала с дивана, он подошел к ней и взял в руки ее пальцы — они были прохладны и сухи. Молча смотрел он в ее лицо — она утомлена болезнью, лицо бледно, под глазами легкие синячки, видны мелкие морщинки на лбу, она неприбрана — застиранный желтый халатик, волосы непричесаны, но сейчас особенно заныло сердце Николая Филипповича, сейчас, ослабленная болезнью, побледневшая, с болячкой над верхней губой, она казалась ему еще прекраснее. Сейчас в слабости, в сиротской этой комнате она была ему понятней и, следовательно, ближе.
— Скучал, — объяснил он свой приход.
— Я догадывалась, что вы придете. Даже была уверена. Но вот — неприбрана.
— А это вам цветы и яблоки. А родители ваши где?
— Мама на кухне, она, верно, вас и впустила, а отец дежурит.
Он знал, что ее отец — машинист на железной дороге.
— А сын из пионерлагеря не вернулся?
— Нет, через два дня вернется.
— Да, что с вами? — спохватился Николай Филиппович.
— Ангина.
— А я думал, только у детей бывает. А вы как ребенок.
— Мне нельзя есть мороженое, а я в субботу поела. И все — ангина. Но сегодня последний день. В понедельник на работу.
Он привык видеть ее в туфлях на высоком каблуке, сейчас же в шлепанцах она казалась маленькой; да, у нее ангина, и Николаю Филипповичу вовсе стало жалко Антонину Андреевну, ему хотелось утешить ее, что ли, по голове погладить.
— На улице жарко?
— Жарко.
— Не согласитесь ли вывести меня в парк?
— Конечно. А можно ли вам?
— Парк вот он — через дорогу.
— Да, конечно, — обрадовался Николай Филиппович.
— Тогда вы подождите меня на крыльце. Или лучше подождите меня у лестницы дворца. Там сосна повалена.
Николай Филиппович смотрел вдаль, на залив — день еще был сказочно длинен, и солнце сияло почти над головой, залив слепил глаза, парк был безлюден.
Нетерпеливо ждал, когда в парк войдет Антонина Андреевна. И когда она появилась, то снова заныло сердце Николая Филипповича. Однако как быстро женщины умеют меняться: легкое голубое платье, белые туфли, легкий порывистый шаг — это та Антонина Андреевна, которую он привык видеть ежедневно, и он бросился ей навстречу, да, несколько минут — и перемена, и не было у Николая Филипповича жалости к ней, а только восхищение — ведь как же она красива.
Нетерпеливо он сжал ее ладонь — ждал, скучал пять дней — и потянул ее руки книзу, так что их плечи касались.
Они пошли по аллее, шли торопливо, он не выпускал ее руку, она и не убирала ее.
Он шел, неестественно выпрямив спину.
— Залив, — сказал он.
Она кивнула.
Парк был отделен от шоссе старинной решеткой, за решеткой между парком и шоссе росли старые деревья.
Они вышли за калитку и стали над шоссе.
Он повернулся к Антонине Андреевне, чуть склонясь, чтоб глаза были вровень с ее глазами.
— Скучал.
— Да.
Всего больше он хотел сейчас поцеловать ее — было оглушение, забвение окружающего, однако переступить установленный барьер не было отваги. А была боязнь неловкости, даже стыда — ах, не по возрасту игру он затевает. Но ведь как скучал, как надрывно колотилось сердце, когда шел к ней. Но нет, нельзя распускаться, как потом сидеть за одним столом, в глаза смотреть друг другу — невозможно.
И снова вышли в парк и побрели по аллее вовсе отдельно друг от друга. Шли молча. Николай Филиппович брел, словно оглушенный, — нет, нельзя, потеряют они что-то, совсем утратят, он не может так рисковать — совсем потерять ее из-за того, что не в силах погасить свои желания — нет, это невозможно.
А уже пошли по тропинке между старыми дубами, Николай Филиппович даже ни разу не оглянулся — да поспевает ли Антонина Андреевна за ним, чувствовал, поспевает; она, конечно, прочла его желание и не покинет покуда, иначе выйдет неловкость непоправимая.
И вдруг словно сильный толчок был изнутри — он внезапно остановился и повернулся стремительно.
— Но ведь так скучал, и сердце рвалось, не мог дождаться, пока вы придете. Словно оглушение у меня, бред, что ли. Голова как налитая. Чужой огромный шар на плечах. Гулкий, должен сказать, шар. Как в бреду.
— Да зачем же вы оправдываетесь?
— Да, не надо оправдываться, — осекся Николай Филиппович, и сухими потрескавшимися губами коснулся он губ Антонины Андреевны и сразу отстранился. Она не отводила лицо. Тогда он снова коснулся ее губ и уже обнял ее, и они долго не разнимали объятий, забыв, что их могут видеть из парка и с шоссе.
— Скучал, — наконец сказал Николай Филиппович, бессильно опуская руки.
Он смотрел на нее, какая нежная улыбка на ее лице, — это трепет души, перед тем как обрадоваться или заплакать, исход улыбки одинаково возможен, — и какие тонкие и теплые волосы у нее, он коснулся их ладонью, да, тонкие, теплые, все сейчас было ему мило в этом лице, даже болячка над верхней губой; и как Антонина Андреевна смотрела на него, никто никогда так не смотрел, то ли жалость в глазах, то ли нежность, не уловить отдельно, да и влюбленно, пожалуй что, смотрит. Вот это неправдоподобно, это невозможно — за что же ему, существу пожилому и малозначительному, такие подарки судьбы.
— Вы знаете, Антонина Андреевна, а ведь я в вас отчаянно влюблен. И это очень печально. И боюсь, что это непоправимо.
— Ну право же, не нужно так грустно. У вас такие печальные глаза, что я сейчас заплачу.
— А с чего мне радоваться, Антонина Андреевна, если я влюблен безнадежно?
Они встречались в парке чуть не каждый вечер. Он ждал ее у каменной скамьи в Английской аллее. Она укладывала спать сына и в десять часов приходила в парк. Время веселых записок кончилось, пришла пора маскировки. Он только спрашивал на листе: «Сегодня?», и она писала в ответ либо «Да», либо «Завтра».
Он говорил жене, что в голову ему пришло несколько сносных соображений, и для этих соображений, как, впрочем, и для здоровья, полезны вечерние прогулки, потому что хорошие идеи в присутствии жен отлетают прочь.
Николай Филиппович уходил в полдесятого, приходил в полдвенадцатого. Он пропускал футбол и многосерийные фильмы о милиции. Людмила Михайловна рада была, что муж снова занялся техническим творчеством, что больше подобает мужчине, нежели домашнее с ироническим брюзжанием сидение.
Часы встреч протекали незаметно, да что часы, но даже и дни, но даже и две недели пролетели стремительно. Давно уже испарилось свечение белых ночей, к осени дело катилось, к десяти часам уже смеркалось, тени медленно растворялись в парке, дальние вскрики тревожили душу, шорохи и гуканье засыпающего парка обрывали дыхание, пугали, заставляли сердце учащенно биться.
А с погодой везло: эти две недели не было дождей. Он ждал ее в Английской аллее, и всегда она появлялась неожиданно, как бы появлялась из ничего, из сгустка воздуха, он бросался к ней, и, обнявшись, они долго привыкали друг к другу. Потом бродили по дальним аллеям — Липовой и Кленовой — и говорили, да так много, как в жизни прошедшей не говорили ни он, ни она, и останавливались у старых деревьев, а то и посредине аллеи — что им сейчас страхи, если только деревья вокруг, — незабвенное время, безвозмездное время.
Что ж случилось с ним такое, да так внезапно, да почему именно на него груз такой тяжеловесный свалился? Всю жизнь, кроме тех лет, когда он делал машину и получал за нее шишки пустого ожидания, душа его пребывала в непременном покое. Покой этот счастливо был пойман в юности и хранил душу, любые бури могли трясти мир, словно мальчишки трясут в чужом саду яблоню, душа Николая Филипповича все равно была чужда этой тряске.
Но сейчас покой кончился, и уже Николай Филиппович постоянно чувствовал, что в душе его сидит заноза, и она ноет, не дает покоя, так что Николай Филиппович не мог долго пребывать на одном месте, он должен был что-то делать, ходить, нетерпеливо коротать время. И он все время чего-то ждал, понимая, что это не ожидание беды, но лишь ожидание вечера, когда он снова увидит Антонину Андреевну, и не мог дождаться. Спешил домой, ах, поскорее бы покончить с тягомотиной ужина, да нужно ловко скрыть нетерпение — и лучше всего это удается, если возишься с внуком Николашей, — и усесться у телевизора и уставиться в этот ящик (а Антонина Андреевна, знает он, сына укладывает) — вот новости спорта, вот музыка погоды на завтра, и это сигнал: пора уходить. Неторопливо, вальяжно выйти из дому: дескать, уступаем настойчивым советам жены — вечернее неспешное хождение способствует здравым мыслям и доброму сну — продефилировать по Партизанской улице, при виде парка шаг чуть ускорить, спуститься под горку да скорость более не сбивать, так домчаться до Английской аллеи и только там успокоиться, идти прогулочно, зорко вглядываясь вдаль — вон из-за того поворота у дворца появится Антонина Андреевна, а уж сумерки сгущаются, движения расплывчатые, силуэты прорисовываются в дрожи, как в тумане, вот и Антонина Андреевна появилась, и взмах руки, и навстречу броситься, ах ты, души нетерпение.
Николай Филиппович вспоминал каждое мгновение прошедшего лета и понимал, что никогда прежде память его не была так цепка, так подробна. Но что было несомненно — все это время он страдал, потому что взведенность души — состояние для него новое, все ему казалось значительным, всякий отлетевший день оставлял по себе память навечно, всякое слово постороннего человека, всякая случайная встреча казались исполненными особого смысла и оставались в памяти.
Себя он не жалел — что ему собственная жизнь, дело прожитое, — жалел он Антонину Андреевну: да что он такое, что она встречается с ним, и что он ей дать может, лишь добавочную смуту, лишь дополнительное страдание при разлуке, что он, кто он? Ведь Николай Филиппович неотделим от семьи, и долго ли Антонина Андреевна, да и он сам, выдержать смогут сомнительное это положение — тайные встречи, двойная жизнь.
Конечно, Николай Филиппович страдал от того, что они с Антониной Андреевной люди разных поколений, что она ровесница сына, но утешался — да, он молодым человеком, пареньком легкокрылым себя не чувствовал, однако бодр, легок, постоянно скучает по Антонине Андреевне, а так скучает только душа молодая, неотжившая, а что постороннему человеку бросается в глаза разница в возрасте, так виделись они только наедине, постороннему оку, надеяться оставалось, недоступные.
Понимал, что через несколько лет разница в возрасте, возможно, начнет сказываться, но это было вовсе нелепое соображение — несколько лет! — да хоть бы месяц еще продолжались встречи, только б ничто их не оборвало, что так запархивать в будущее.
Антонина Андреевна была так доверчива, что даже удивляла Николая Филипповича, она ничего не скрывала от него ни в жизни нынешней — «Вот сегодня я думала о вас, а вчера было воскресенье, я так замоталась, что о вас ни разу не вспомнила», — ни в жизни, тем более, прошлой.
Замуж Антонина вышла рано, мужа любила, согласна была ехать за ним на край света, и поехала, когда время подошло, ну, разумеется, не на край света, а под Челябинск, где муж ее вел в Доме культуры музыкальные занятия — женский квартет, оркестр ПТУ, хор.
И какая достойная работа, ведь мало работ достойнее, но он, видно, считал себя обиженным, готовился прежде не к судьбе учителя музыки, но к деятельности концертной — да есть ли что тяжелее жизни непроявленного таланта, отвергнутого, что ли, гения. Всякий ли поступающий в консерваторию или училище полагает себя гением, сказать трудно, наверно уж не всякий, тут некий поворот болезненный в душе должен быть, чтоб человек так прямо и полагал себя гением, а муж Антонины Андреевны, по словам ее судя, именно так о себе и воображал. Уж большие в нем дарования были или малые, не Николаю Филипповичу, разумеется, судить, а только непроявленность предполагаемых дарований загубила семейную жизнь.
Он шел на занятия с малолетними детьми как на дело, его недостойное, называя малолеток не иначе как презрительно «мои вундеркинды», года не прошло, как начал играть с руководимым им оркестром ПТУ по свадьбам и домам отдыха (конечно, деньги, поди, нужны были, да при малолетнем ребенке, но Антонина Андреевна говорит, что она всячески отговаривала его от халтур, предлагая перебиваться малым). А он попивать начал — всего двадцать три года парню. Антонина Андреевна все любила его, жалела, уговаривала, что если хочет играть в большом оркестре, то непременно будет, нужно только терпеть да инструмент не забывать, да и нынешняя его работа и есть достойное дело, все надеялась, что время примирит его с собою, но то были напрасные надежды — муж ее был не из тех, кого время укрепляет, но из тех, кого оно губит.
Она терпела и то, что он попивает на халтурах, она стерпела и его интрижку с солисткой хора — студенткой педучилища. Он плакал после выпивки, упрекал Антонину Андреевну, что она в него больше не верит, а Антонина Андреевна успокаивала его и говорила, что верит сильнее прежнего.
Она вытерпела бы еще неизвестно что, так как понимала — в беде близкого человека оставлять нельзя, ты его оставь, и он погибнет.
Она не решала судьбу, судьба распорядилась самостоятельно — однажды муж ушел к другой и больше не вернулся. А прожили вместе восемь лет. Весной Антонина Андреевна вернулась домой, к родителям.
Николаю Филипповичу больше всего хотелось, чтоб Антонина Андреевна никогда более не знала разочарований. Он хотел бы навсегда защитить ее от бед, как хотят люди защитить своих детей, а могут ли они? А не могут.
— Вы знаете, я хороший отец, я люблю детей, я вообще хотел бы, чтоб мой дом был полон детьми. Я это к чему говорю — всю свою жизнь я чувствовал потребность в такой женщине, к которой бы можно было относиться как к ребенку, то есть к существу слабому. Ну, чтоб я мог ее опекать, жалеть. Чтоб мог ее, как говорится, по головке погладить. Как бы сказать точнее — чтоб на руках ее носить. Именно так — носить на руках. Но так у меня не получилось. Такую женщину я не встретил. Считается, что Людмила Михайловна человек сильный, а я, выходит, слабый, вот всю жизнь она меня и опекает. И всю жизнь жила во мне потребность жалеть женщину. И потребность эта осталась неутоленной. Однако я еще надеюсь ее утолить. Мне кажется, еще не поздно.
— Когда мы шли с Константиновым в вашу группу, он рассказывал о вас, какой вы знаменитый да талантливый…
— А я и не знал, что я знаменитый, — усмехнулся Николай Филиппович.
— Я боялась встретить человека высокомерного, уверенного в себе, что ли. А вы оказались очень добрым. Я с первых дней начала понимать, что вы ко мне хорошо относитесь, даже неравнодушны ко мне.
— Вот как! А я-то думал, что удается это скрыть.
— Вот вы всю жизнь хотели быть сильным, а пришлось быть слабым. А у меня все как раз наоборот получилось. Прежде я всегда кого-нибудь опекала. С детства — младшую сестру. Ей сейчас двадцать два года, а она по-прежнему ничего не делает, не посоветовавшись со мной. Восемь лет опекала мужа. Всегда чувствовала, что он слабый и я должна бояться не за свою судьбу, она, считается, устроится сама собой, а за его судьбу, за его работу — чтоб поменьше халтур набирал. Он умудрялся иногда работать в восьми местах. И за его здоровье, чтоб не простужался, когда выпьет, и чтоб выпивал поменьше. Я должна была прослушивать все песни, которые вопят мальчики из его ансамбля. Вы слышали когда-нибудь «Папа, подари, папа, подари, папа, подари мне куклу» — это что-то невероятное. Но эта песня должна мне нравиться, иначе не будет оправдания халтуре. Это невыносимо, когда человек, которого ты долгие годы любила и защищала, начинает распадаться, а ты ничем не можешь помочь. Потому что ему не нужна твоя защита. Ему так легче — без твоей защиты. И как я устала — это вспоминать невозможно. Мне всегда приходилось быть сильной, а так хотелось хоть иногда быть самой собой, то есть слабой. И вот с вами я такая, какая есть. Какой всегда хотела быть. С вами мне легко и просто.
Да, жизнь его изменилась. Весь день Николай Филиппович маялся оттого, что он ведет двойную жизнь и понимает, что городок маленький и слухи о его вечерних встречах непременно дойдут до жены и сына, однако он приходил домой и страдал оттого, что он находился дома и время тянется нестерпимо медленно, и только в полдесятого душа его успокаивалась, — и он два часа видел Антонину Андреевну.
И все-таки не ошибся Николай Филиппович — изучил свой городок за четверть века: слухи о его вечерних встречах с Антониной Андреевной дошли до семьи Николая Филипповича. До сына, во всяком случае.
Стояло воскресенье августа, и было послеобеденное время, когда весь город идет в парк, к аттракционам.
Сергей, спустив вниз коляску сына, предложил отцу пройтись. Николай Филиппович охотно согласился — из-за своих вечерних прогулок и занятости Сергея он редко видит сына, а разговаривает с ним и того реже.
Жара спадала, и истома конца лета пропитала воздух; люди, преимущественно навеселе, рвались к каруселям, в городе любят это время — единственная возможность показать свои наряды и свои семьи; Николай Филиппович тоже был рад толкать перед собой коляску с внуком, он опустил верх коляски, чтоб лицо внука было видно прохожим — удивительно красивый мальчуган: надутые щеки, загорелая кожа.
Солнце расплылось по небу, словно масляное пятно, оно слепило глаза и томило душу напоминанием о близких грозах.
Они шли рядом — отец и сын — и обменивались общими фразами: вот солнце глаза слепит и вскоре будет гроза; да, работать стало трудно, утром приходишь на отделение и не знаешь, на каждом ли посту будет сестра, о санитарках же что говорить — это общее место, и сестры теперь разбегаются, совсем беда, в торговлю, в лаборатории, на часовой завод, а как тут работать; да, жарко, вода в прудах стала грязная, санэпидстанция запретила купания, но разве же людей удержишь по лету такому, да, лето на удивление, это уж нам повезло; но те общие фразы не раздражали, но лишь подчеркивали близость отца и сына: нам все равно о чем говорить, лишь бы идти рядом — общность душ.
По застоявшейся воде пруда скользили лодки и «велосипеды», с горки было видно, как летят круговые качели, доносились вопли испуга и изумления.
Николай Филиппович спросил, что сын прочел в последнее время, — он знал, как бы ни был занят сын, он все равно читает больше отца, и Николай Филиппович любил, когда сын делился с ним прочитанным, всякий раз Николай Филиппович радовался — вот сын образованнее его, возможно, и умнее, и охотно смирялся с этим.
— Да вот книжку забавную прочел. Какой-то известный физик пишет про время. А в физике ничего не понимаю. Ты бы мне растолковал кое-что. Сейчас модно рассуждать о времени, и у меня хватило терпения осилить книжку. Хотя мало что в ней понял. Но вот довод Августина, что время нереально, мне понятен. В самом деле, прошлое уже не существует, будущее еще не существует, настоящее же не имеет никакой протяженности, следовательно, время не обладает реальностью. Это я понять еще могу. Но там новейшие рассуждения о направлении времени, «стреле времени». Так может ли быть, по космологической теории, имена я помню, но боюсь спутать, так может ли быть, что расширение Вселенной, ну там, увеличение объема, и задает знак направления нашему времени?
— Нет, тут я ничего внятного не скажу. Та физика, которую я учил тридцать лет назад, новейших теорий времени не трогала. Видно, это очень популярная книжка, если ты из нее хоть что-то понял, ты мне дай ее, я полистаю и тогда что-нибудь соображу.
И тут Николай Филиппович почувствовал, что Сергей как-то напряжен, и понял, что у сына есть к нему дело, ради которого он и позвал его в парк.
И Николай Филиппович не ошибся.
— Совсем забыл, — сказал Сергей. — Я и так в цейтноте, а завтра еще занятия проводить по школе самообразования. Готовясь к занятиям, я вчера прочитал «Происхождение семьи, частной собственности и государства», и мне книга понравилась. Там доказано, что хоть современная семья и несовершенна, однако ж это лучше всего, что было прежде, и, конечно, нынешние соединения лучше соединений древности, когда соединялись братья и сестры и люди разных поколений. Я подумал так: когда-нибудь станет ясно, что институт семьи в существующем ныне виде себя изжил, но это так нескоро, что и угадать нельзя.
— Но ведь всякий человек живет не так много раз и не так уж долго, что ж остается ему, современному человеку?
— А современному человеку остается одно — терпеть. — И Сережа улыбнулся, как бы прося прощения, что вот он так долго говорил повсеместно известные слова, не имеющие к ним, отцу и сыну, никакого отношения, — они-то, Нечаевы, в семейной жизни счастливы.
— Ну, эти слова о терпении нам с тобой хорошо известны — им не десять и не сто лет. Ты думаешь, есть счастливчики, понимающие, что они не просто живут, небо коптят, поглощая кислород и выталкивая из себя углекислый газ, но участвуют в эволюции, и никак не меньше? А если человек понимает, что жизнь его единична и коротка, и не желает терпеть?
— Тогда это, конечно же, смелость, и, как за всякую смелость, человека ждет расплата — тут и общество осудит, да и те люди, что входили в его прежнюю семью, не будут посторонними наблюдателями.
— Ты, однако, строг.
— Это не я строг, а институт современной семьи. Возможно, он суров, жесток, но что мы с тобой можем поделать?
И по тому, как спала напряженность сына и вновь обозначилась связывающая нить, Николай Филиппович понял, что разговор был Сереже труден и неприятен и он рад, что все позади.
Дальше они гуляли, болтая о погоде, работе, новых кинофильмах, но Николай Филиппович ясно сознавал, что если б сын отважился высказаться впрямую — это, конечно, вряд ли можно себе представить, — то все равно бы ничего не изменилось.
Потому что главным судьей поступков Николая Филипповича были теперь не жена, не сын, не дочь, но лишь он сам.
Он догадывался, что слухи могут дойти и до жены, как дошли до сына, но Людмила Михайловна пока никак не обозначала свое знание.
Николай Филиппович так объяснял ее молчание — если, разумеется, она о чем-нибудь узнала: мужа всерьез принимать нельзя, он припаян к семье навеки, если у него и появилось увлечение, то, без сомнения, увлечение вполне безвинное, тем более что объект увлечения — ровесница сына, и он должен самостоятельно все пережить, без нажима, чтоб потом не было упреков с его стороны — упреков безмолвных, разумеется, о словах упрека и подумать невозможно, — что она помешала ему, сделала страдальцем, нет, он должен сам все пережить, чтоб потом пенять лишь на судьбу.
И еще: все мужчины, по разговорам судя, переживали увлечения, должен его пережить и ее муж — при его-то безволии, робости дело далеко зайти не может, так, флирт, легкое головокружение предзакатного мужчины — да, тем все дело кончится, и Николай Филиппович еще больше станет ценить семейный покой.
Он не знал о размышлениях жены, но тридцать лет совместной жизни учили его, что если Людмила Михайловна о чем-то догадывается, то ход ее размышлений таков или примерно таков.
Иных мотивов ее молчания быть не могло. Хотя, может статься, она уже настолько считала его своей собственностью, что сама догадка, что он ее вещь не навечно, казалась ей оскорбительной и она никак не могла унизиться до подозрения, а тем более — слов упрека.
Всего две недели и продолжались встречи в парке вечернем, то было счастливое, но мучительное время. Все стоял вопрос — да сколько ж могут продлиться эти встречи? Не следует дальше встречаться, понимал, дальше ждут беды невпроворотные, жизнь свою поломаешь, это уж ладно, так хоть жизнь юную пожалей. Остановись, покуда остановиться возможно. Но кто ж это внемлет голосу рассудка? Считанные смельчаки. Но как расстаться, когда с благодарностью думаешь о своей судьбе, что она под занавес подарила тебе влюбленность и возможность заботиться о другом человеке. Как расстаться, если впервые в жизни полюбил существо слабое, которому без него, без Николая Филипповича, пусть он ничего собою не представляет, все так, пусть, — а только без Николая Филипповича существу этому будет хуже. Да и как расстанешься — даже если бы хватило сил, — это уже будет и предательство: мы-то считали с вами, что это всерьез, а выходит, это только развлечение, интрижка.
Нет, ничего не мог придумать Николай Филиппович — да и что эти страдания, как не самоистязание, души разрыв, — и когда пришла пора ехать в командировку на Кавказ, он поехал даже и охотно. Во-первых, там море рядом, а работы немного, во-вторых, ехать больше некому, в-третьих, он все-таки, себя утешая, надеялся, что в одиночестве сумеет обдумать случившееся с ним за лето, да, глядишь, покуда не все мосты еще сожжены и возможно отступление, на голову рассудительную и примет какое-либо верное решение.
Глава 3 Осень
Место, куда приехал Николай Филиппович, было ему знакомо. Здесь на берегу моря стоял небольшой поселок. Со всех сторон его сжимали горы, и это мешало людям строиться, а месту — стать модным. При поселке разместился небольшой кемпинг, в двух километрах отсюда стояла турбаза, еще километрах в семи в сторону Сочи начинались по-настоящему шумные места, где и кипела курортная жизнь. Николая Филипповича привлекали именно тишина и сравнительное безлюдье поселка.
В полутора километрах в гору находилась дирекция большого совхоза, на опытных участках которого и работали сейчас экспериментальные виноградоуборочные машины.
Николай Филиппович приехал днем и сразу пошел работать — уверенность, что работа лечит любые неурядицы, была в нем сильна и сейчас. Теперь Николай Филиппович испытывал легкое нетерпение, даже, можно сказать, веселое возбуждение — это, знал он, требуют выхода его конструкторские способности. В том, что они у него есть, эти способности, и в количестве не таком уж малом, Николай Филиппович никогда не сомневался. Сейчас Николай Филиппович очень надеялся, что новая работа потребует напряжения этих способностей и тем самым поможет скоротать смутное время.
Однако двух часов работы хватило, чтоб понять — машина скудна и бездарна. Николаю Филипповичу случалось видеть машины и поумнее. К тому же эта была чужой, бюро Николая Филипповича делало транспортер; расспросив механиков, Николай Филиппович узнал, что транспортер безотказен, нагрузку выдерживает успешно, и ему стало скучно.
Но он не дармоед, ему положено сделать определенную работу — менять режимы и прочее, что входит в понятие эксперимента, — он все сделает на совесть, но не нужно требовать, чтоб мысль его подле машины блаженствовала от сознания ее — технических совершенств.
С работой он справлялся часа за четыре. Выходил к восьми, к двенадцати дело кончал, бродил немного по участку да и спускался вниз. Там наскоро обедал в кафе «Лето», потом забегал в дом, где совхоз снимал для него веранду, переодевался и шел на пляж.
Это и было главной ошибкой Николая Филипповича. Ему бы работать безостановочно, чтоб душе не оставалось забот самоличных, а он освобождал ее для солнца и теплой покуда воды — вот она, непоправимая ошибка.
Потому что постоянное нетерпение вселилось в Николая Филипповича. Он брал лежак, бросал на него брюки и рубашку, сам же лежать не мог даже малое время, нет, вскакивал, старался долго плавать, чтоб утомиться, прогнать беспокойство, на короткое время это удавалось, но затем, словно ужаленный, он вскакивал с лежака и торопливо, ссутулившись, шел берегом моря. Должно быть, странное впечатление производил он на загорающих людей — немолодой человек, животик чуть обозначился, ноги слабоватые, а он все мечется по пляжу, не зная покоя.
И сознавал Николай Филиппович — да, он странен не только посторонним людям, но и самому себе.
Николай Филиппович собирался уже уходить с пляжа — было, это в первый же вечер, — надел брюки и рубашку, но, томимый неясным предчувствием, снова сел. Сидел неудобно, обхватив руками ноги, подбородком упираясь в колени, и, не отводя взора, смотрел вдаль на падающее в море солнце.
То был миг совершенно ясного зрения, когда кажется, что время замерло, как это огромное солнце на миг затормозило свое падение. Тугое, оно весь день впитывало влагу моря, отяжелело, но у него достало сил притормозить, чтоб напомнить всякому человеку, что, может статься, он более не увидит такого заката.
Николай Филиппович сидел под железнодорожной насыпью, над головой мчался поезд, где-то за аркой начали жарить шашлыки, и запах дыма и свежего мяса пропитывал воздух. Николай Филиппович вспомнил рассуждения Сережи о времени, но сейчас его не интересовало время ни в микромире, ни в мегамире, его интересовала только стрела времени, вошедшая в его собственную грудь.
Мгновение задержанного времени кончилось, оно и солнце за ним следом сняли тормоза и устремились далее, солнце врезалось в податливую воду, и вот остался лишь кровавый сияющий сегмент его, и небо и малые облака залиты были кровью, но вот и ободок кровавый пропадать стал, лишь пожар вдали, пожар последний — и погасло — все! — солнцу конец, дню конец, жизни конец.
На лицах людей читалась печаль, Николая же Филипповича охватила не печаль, что вот его жизнь малость еще укоротилась, но тоска. Она хоть и была такая сильная, что Николай Филиппович готов был заплакать, но и неясная, смутная, так что он не мог сказать, о чем же тоскует — о семье, об Антонине Андреевне или о не вполне задавшейся жизни.
Он побрел домой, обессиленный потрясением от вида закатного солнца.
Вечер тянулся медленно. Николай Филиппович пробовал читать, потом вышел на крыльцо. Застекленная веранда имела отдельный вход. На горе тускло блестели огни, вдали по шоссе скользили горящие фары, в саду было темно, начали позванивать цикады, в кукурузнике за садом томно клокотали индюки; Николай Филиппович так бы и просидел весь, вечер, коротая одиночество, но вдруг до него доплыла дальняя музыка — это на турбазе «Заря» люди танцуют, где-то стоит веселье, идет привычная жизнь, и Николай Филиппович встал, чтоб хоть немного приблизиться к чужому веселью и тем смягчить горечь одиночества.
На стиснутом горами шоссе застоялись дневная жара и запах бензина. Звезды висели низко над головой и светили ярко. Небо было как бы смещено и запутано.
На танцах играли мальчики — две гитары, аккордеон, ударник, — они называли себя «Ритмы века». Танцплощадка задохнулась от копошащихся тел, когда мальчики заиграли и запели «Мясоедовскую улицу». Николай Филиппович давно не наблюдал массового веселья и удивился всеобщей раскрепощенности — всякий дергался, как хотел, и главное — как мог: танцевали парами, компаниями и даже, как он понял, туристскими группами. То веселилась молодежь, но были и взрослые, даже несколько человек возраста Николая Филипповича — они приехали на юг сбросить домашние заботы и, попав под гипноз массового веселья, совсем умудрились забыть про возраст и прежние заботы. Сперва Николаю Филипповичу стало за них стыдно — нельзя так самозабвенно примазываться к молодежи, но потом ему стало завидно — вот веселятся, как умеют, а он одинок.
Потом мальчик запел песенку «Не целуйся», и это был сигнал отдохнуть от ритмов века, мальчик пел: «Не целуйся, слышишь, не целуйся, не целуйся, слышишь, без любви», — но пары его не очень-то понимали и как раз вовсю целовались.
А потом снова большое копошение началось. А Николай Филиппович ни одной песни, что игрались здесь, не слышал прежде, и оттого он почувствовал себя здесь вполне чужаком. Он не был высокомерным, дескать, распустилась молодежь, он не завидовал и чужому юному времени, он здесь был именно человеком чужим, и тогда Николай Филиппович ушел.
Женился Николай Филиппович рано, а по тем послевоенным годам так и слишком рано — на третьем курсе института. Эти танцы в городском саду, тайна чужих знакомств, музыка модных пластинок висит не только над садом, но над городом, эти «Брызги шампанского», эти «Когда простым и нежным взором ты на меня глядишь, мой друг», этот бой часов перед знаменитым вальсом: вот шестой удар, восьмой, двенадцатый — сейчас начнется, — и начиналось печальное кружение. А вальсы эти под гавайскую гитару, а козинское «Осень, прозрачное утро, небо как будто в тумане»; он хотел бы, как те моряки и солдаты, ходить на танцы, кружиться с девчонками со швейной фабрики, провожать их до общежития и перед прощанием суетливо целоваться, но понимание того, что приятели станут над ним смеяться — ему, студенту, положено ходить на институтские вечера, а не в городской сад, — останавливало его.
А те долгие, под пение, под звон гитар поцелуи во внезапно обрушившихся на провинциального зрителя трофейных фильмах…
Группы в технических вузах были мужские или почти мужские. На двадцать пять ребят было две-три девочки, и Люда из всех была не просто звездой курса, но и, без сомнения, звездой института.
Николаю Филипповичу не пришлось пострадать от неразделенной любви, не он избрал Люду, а она его. Он бы не осмелился влюбиться в нее и попытаться сблизиться — Люда была очень на виду. Она обратила на него внимание потому, что он был сильнейшим на курсе математиком, она же из-за постоянной занятости делами общественными — культсектор профкома — с математикой справлялась с трудом и с опозданием, и она избрала его, чтоб заниматься вместе. Да так уж больше и не разлучались. А прошло почти тридцать лет. И никогда Николай Филиппович не жалел, что Люда избрала именно его, нет, считал, что ему необыкновенно повезло, представить не смел, что на месте Люды могла быть другая женщина, что он мог избрать другой институт, и тогда бы они не встретились. Но так быть не могло, потому что у всякого человека есть своя судьба, и Людмила Михайловна — судьба Николая Филипповича.
Несколько лет жили они в пятнадцатиметровке вместе с матерью Николая Филипповича. Сережа появился, когда они учились на четвертом курсе, Люда умудрилась не отстать от курса. Как они уж вчетвером сумели прожить на стипендии и материнскую бухгалтерскую зарплату, этого сейчас понять невозможно, в полном смысле: хлеб да каша — пища наша. Он, конечно, натаскивал недоумков-десятиклассников, но это, что же, — обед да сто рублей (по тем деньгам, разумеется) в месяц, ходил круглый год в лыжном костюме и парусиновых туфлях, у Люды была одна юбка, танкетки и ботики. Уж как пробились, ума не приложить. Да при бешеных очередях за хлебом и молоком.
А как институт окончили, кликнули Николая Филипповича в Фонарево — там КБ открывается, комнату обещали, и они уехали от матери. Уж как звал Николай Филиппович с собой мать, но она отказалась наотрез — не хочет мешать жизни сына. Конечно, так не говорила, но за отговорками: куда это в пожилые годы менять дом, работу, стояло именно соображение — не хочу мешать. Она страдала гипертонией и выдержала только год разлуки с обожаемым сыном. А он-то звал искренно, настаивал, любил мать, как более никого на свете, вот разве что Сережу в малолетстве.
Ах, ну как же пробивались! Хоть бы жилье взять. Ну, что два года снимали комнатуху за триста рублей — это понятно, а потом дали комнату — восемнадцатиметровку. И радовались тогда — свое жилье, да какое просторное; конечно, не можешь лечь в своей комнате на пол и завопить благим матом, однако же всего три семьи в квартире, да по тем-то временам — разве ж не роскошь, не шикарная разве жизнь налаживается?
И лишь одно точило душу Николая Филипповича — что жилье ведомственное. Нет, конечно, во все времена в своем бюро Николай Филиппович был заметен, всегда оставалось в силе положение, что начальство меняется, а Николай Филиппович руководит основной группой, однако странность положения с жильем точила душу. Да что ж это такое — вот случись ему поссориться с начальством, ну вот настанет момент, когда захочется ему крикнуть: не согласен, при своем мнении остаюсь и потому желаю уйти из конторы. Это пожалуйста, голубчик, но тогда и жилье отдайте тому, кто придет на ваше место. Конечно, таких конфликтов не было, чтоб до увольнения доходило, да и подстраховано жилье было Людмилой Михайловной — она ведь тоже сотрудница бюро, — а сам принцип, что вот он всем повязан, работой, комнатой, был Николаю Филипповичу невмоготу.
И как только пришло время первого кооперативного строительства, Нечаевы вступили в это дело. А споры-то какие были! Да кто ж ведал тогда, двадцать лет назад, что можно жить не в коммуналке, а в отдельной квартире, что восемнадцать метров на четверых — это тесно, что без соседей не скучно и что ежевечернее хождение в гости к соседям вовсе не обязательно.
И все ж Николай Филиппович упирался, когда Людмила Михайловна настаивала. Да чем же мы лучше всех прочих сотрудников, они все, кроме высокого начальства, живут в ведомственных комнатах. Людмила же Михайловна доказывала, что это только обыватели живут с оглядкой на толпу, а мы не обыватели, и пришла пора жить хорошо. К тому ж, у какого-то мудреца прочитала она забавные слова. Тот на вопрос «Жить плохо?» ответил: «Не жить — плохо, а плохо жить — плохо». Но ведь это как тужиться придется, это ж несколько лет не видеть света божьего. А в одной казенной комнате толкаться — это видеть божий свет? Да вчетвером-то? А ведь дети, заметь, Нечаев, имеют тенденцию к росту.
Взнос первый был не так уж и велик, наскребли как-то денег, вернее, в долг набрали.
Полгода Николай Филиппович не выбирался из командировок, это для того только, чтоб семья могла жить на зарплату Людмилы Михайловны, деньги же Николая Филипповича шли на уплату долгов.
Не успели отдышаться от одних долгов, а погашали их три года, — пошли другие. Людмила Михайловна решила, что коли с кочевой жизнью покончено, то мебель ту, старую, пора выбросить. По правде сказать, и выбрасывать-то было нечего: старый пузатый шкаф, обеденный, типа канцелярского, стол, два драных стула да две табуретки — все однажды выбросили, потому что в дом привезли превосходный гарнитур рижского производства. И надо сказать, квартира приняла сразу вид квартиры зажиточной, эта коричневая с матовым блеском мебель показывала всем, что хозяева ее собираются жить если не вечно, то долго, все было основательно, тяжело, красиво — эта двуспальная кровать, кресла, шкаф, козеточки. И хоть снова были по уши в долгах и расхлебывать пришлось два года, Николай Филиппович, привыкнув к новому жилью и новой обстановке, снова убедился — а ведь Людмила Михайловна всегда права в своем доводе, что человек две трети жизни проводит дома, и потому все должно быть основательно, удобно.
Но ведь сил-то сколько уходит, господи, а жизнь, если всерьез разобраться, одна. И человек, если рассудить, приходит в нее не для того, чтоб удобно в ней расположиться, а может, чтоб понять в ней что-либо, придумать, глядишь, что-нибудь эдакое, отчего удобнее станет не только тебе, но и многим другим людям.
С другой стороны, не всем людям суждено что-либо новенькое придумывать, но уж о правильном устройстве жизни следует задумываться всем. А если уж тебе суждено придумывать и если тебе сносное соображение пришло в голову, когда ты лежишь на кровати и смотришь в потолок, то, может, лучше лежать в это время на удобной кровати, а не на жесткой да скрипучей.
Да и что тут высокомерничать — люди же, так и должны по-людски жить, если уж не всякий человек может новую машину придумать, то уж удобно расположиться в жизни — всякий.
С другой-то стороны если посудить, то голова человека так устроена, что она не всю жизнь может винтик к винтику ловко пригонять, но в годы не очень-то и длинные, и если ты провертелся в те годы, когда голова готова была соображать, да силы юные потратил на удобное расположение в собственном замкнутом пространстве, и когда почувствовал — вот ты уже расположился и пора голове задать настоящую работу, то она, голова твоя, работу эту принимать как раз и отказывается — прокрутился, силы ушли, поезд ушел, жизнь ушла.
И тут надо отдать должное Людмиле Михайловне — она щадила Николая Филипповича, она понимала, что у него есть кое-какие способности, и делала все, чтоб не подавить их преждевременно. То есть она считала, что с коровы достаточно и того, что она дает молоко, пахать же на ней не обязательно. И, скажем, если многие инженеры ремонт квартиры делали самостоятельно, для чего брали отпуск, то Людмила Михайловна нанимала мастеров. Да старалась отремонтировать жилье, когда Николай Филиппович в командировке.
Спору нет, по командировкам Николай Филиппович поездил предостаточно.
Но уж это он добровольно — Людмила Михайловна его не принуждала. А только он видел, как она бьется, чтоб долги раскрутить к сроку, и не мог не помочь ей. Потому что понимал — ее старания направлены на него и детей, самой же ей мало что было нужно — в одежде, иногда даже необходимой, она себе в то время отказывала.
Лишь в одном не отказывала себе Людмила Михайловна — несколько раз в году созвать гостей. И чтобы еда и питье были хорошими, никак не скудными. Тут, пожалуй, женское тщеславие присутствовало, хоть и прикрывалось словами о том, что в доме должно быть людно и необходимо разнообразить течение жизни. Хотя, может, это не тщеславие, но гордость: сотрудники не должны знать, как туго приходится Нечаевым. Нет, все должны знать — они удачливы, легки, надежны. Даже и фразу Ларошфуко приговаривать любила, дескать, друзья созданы для того, чтоб завидовать нам.
Николай Филиппович поднялся к шоссе и тут понял, что у музыкантов перерыв и начали крутить привычные пластинки. Анна Герман пела «Один раз в год сады цветут», и оттого, что это была привычная музыка и привычные слова, Николай Филиппович остановился и прислонился спиной к ели.
Вот сейчас ничто не мешало ему вполне ощутить одиночество, и Николай Филиппович тяжело вздохнул. Сейчас он был рад, что на шоссе безлюдно, что вечер темен и звезды ярки и он под ними ничтожен. Никогда прежде не чувствовал Николай Филиппович одиночества. Если в командировках он начинал скучать по семье, то утешение, что скоро он вернется домой, помогало ему.
Но сейчас, глядя в звездное небо, Николай Филиппович знал, что он не просто ничтожен в мире, но именно гибнет, да, он знал наверняка, что ходит над пропастью и всякий его шаг может стать последним. Это было новое для него чувство — чувство гибельности, и оно пришло так мгновенно, что Николай Филиппович не успел испугаться, но сразу согласно смирился.
У него было твердое убеждение, что в ближайшее время с ним случится беда, даже катастрофа.
Однако близкая беда лишь отягчала одиночество Николая Филипповича, он брел по дорожке у шоссе и думал, что вот ему даже не с кем поговорить, пожаловаться. Прежде он был веселым, легким человеком, а сейчас понимал, что перед ним пропасть, распахнутая для его гибели, — кому об этом можно рассказать? Жене? Сыну? Друзьям? Не поймут. Они знали его прежним, и им покажется, что ближе к старости Николай Филиппович становится позером. Он мог поговорить только с Антониной Андреевной. Да, она и есть тот единственный человек, которому Николай Филиппович мог бы довериться.
Он спустился по тропинке к дому, залаяла собака, «Тихо, Пират, тихо», — сказал Николай Филиппович, прошел садом, взошел на крыльцо, сел на повлажневшие ступеньки.
Он слушал звон цикад, в соседнем дворе работал насос, Николай Филиппович опять почувствовал в себе момент ясного зрения, то было как бы короткое пламя ясного видения, когда собственная прожитая жизнь выскальзывает, сияя, из окружающей тьмы вечера и, короткая, ясная, видится в один распах глаза.
Он много работал, но и во время работы, и во время безостановочного хождения по берегу моря, и во время вечерних прогулок вдоль шоссе Николай Филиппович думал о прожитой жизни. Не было больше яркого, как в пламени, виденья, но все же Николай Филиппович знал, что он в своей жизни понимает все, и была смелость смотреть на эту жизнь прямо, думать о ней без утайки.
Воспоминания налетели на Николая Филипповича, как дятлы налетают обдирать кору умирающего дерева. Воспоминания не давали Николаю Филипповичу покоя, не оставляли его даже во сне.
Было у него чувство такое, что жизнь его прежняя разлетелась на части, вдребезги, и осколки в беспорядке разлетелись в разные стороны, и он видел уже не жизнь целиком, но беспорядочные эти осколки.
Вот Николай Филиппович впервые видит своего первенца, маленький этот комочек, сердце его дрогнуло тогда от жалости и любви, и эта жалость долгие годы не покидала Николая Филипповича.
Вот ночью сидит он рядом с Людой, а она плачет от горя, не в силах накормить сына досыта. Спокойно, Люда, спокойно, когда женщина нервничает, молоко пропадает вовсе, как-нибудь уж вырастим мальчугана. Давал ей выспаться, по ночам сам вставал к Сереже, то был трудный год, вспоминать и то тяжело. А как держались друг за друга, ни одного упрека, именно неразрывны были.
А вот сильнейшее потрясение жизни — тяжелая болезнь сына. Мальчугану пять лет. Хирурги просмотрели аппендицит, отросток лопнул, а когда операцию все же сделали, у Сережи начался перитонит, мальчик лежал неподвижно и смиренно умирал. Людмила Михайловна и Николай Филиппович не отходили от сына, сидели по очереди, и вот когда однажды дежурил Николай Филиппович, Сереже стало лучше и врач уверенно сказал, что мальчик выживет. Николай Филиппович вышел покурить и в закутке перед лестницей столкнулся с Людмилой Михайловной.
— Ну? — испуганно спросила она.
— Легче, — тихо сказал Николай Филиппович.
Тогда она ткнулась лицом в его грудь и разрыдалась. В закутке было темно, рыдала она громко, надрывно, в дни болезни они виделись, только сменяя друг друга, говорили только о деле — вот кефир, вот соки, дай тогда-то и тогда-то, — и ни слова о своих опасениях, о том, что и для них больше нет жизни, если исчезнет Сережа. Сейчас она рыдала, не в силах сдержать скопившиеся в груди страх и горе, он гладил ее плечи, успокаивал, ну, будет, Люда, все уже позади, и в душе была такая нежность к жене и благодарность судьбе, что она послала вернейшего, преданного друга, что Николай Филиппович ясно и навсегда понял — что бы с ней ни случилось, он никогда ее не покинет, потому что в сердце его всегда будет эта нежность к ней и благодарность судьбе. Сережа выздоровел, но того потрясения Николай Филиппович долго не мог забыть, болезнь как бы напомнила, что сын особенно хрупок, и Николай Филиппович любил его с каким-то даже обожанием.
К Оленьке такой страсти обожания не было. Нет, конечно, Николай Филиппович ее любил и любит и ничего, разумеется, не пожалеет для ее счастья, он умилялся, как Оленька грассирует «рыба рак, Степка дурак», и гордился, как громко и страстно прокричала она на детском утреннике стишки про медведя под сосной; да он, конечно, любил ее и любит, но уж, не было в нем такого обожания, иногда сентиментального, но всегда страдательного, какое бывало в любви к первенцу.
А вот самое больное место Николая Филипповича — бесстрастие Людмилы Михайловны, ее равнодушие к мужу. Нет, разумеется, не всегда она была равнодушна, в первые годы Людмила Михайловна была и страстна и самозабвенно любила его. А в чем здесь дело, откуда потускнение? Да разве ж ответишь? Легко ли самозабвенно любить мужа в присутствии свекрови, вернее, терпеливо ждать, пока свекровь заснет, и даже когда свекровь не спит, но старательно обозначает, что спит и детям нечего тревожиться? А потом, когда жили на ведомственной площади, тоже следовало сдерживать страсть, потому что не дай бог разбудить паренька, а он уже подрастает; а в последние годы сковывает Людмилу Михайловну присутствие в комнате взрослой дочери — вот она читает допоздна, а нам рано на работу, и мы не станем пережидать, пока она заснет, потому что и нам следует выспаться, когда ж Оленька задерживается вечером в городе, то тоже есть опасение, что она с минуты на минуту придет.
Боже мой, а боязнь последствий любви, безмерная осторожность и тщетность осторожности, горе и потрясение на многие месяцы от последствий любви и их устранения — унизительные уговоры; поспешная страсть — только б избавиться от наваждения; и ладно сейчас, в последние два-три года, когда Людмила Михайловна близка к увяданию, но это ж не два года, а двадцать. Любовь бесстрастная, словно по сговору — жена понимает, что муж не вполне стар, и потому снисходительна, но и иронична — ты только не увлекайся, пылкость объяснима в молодости, в наши годы это случай задержанного развития, смешной и нелепый.
А он-то во всю жизнь только ее и желал, и память о страсти первых лет, когда выискивали всякую возможность, чтоб уединиться, длительные объятия тех лет — память та жила, вливала в душу горечь об отлетающей жизни.
То и страдал, то и униженным ощущал себя, что только Людмила Михайловна и была ему желанна, то и ждал как блага прихода времени, когда желания его начнут гаснуть, страсти утихомирятся и не станут доставлять столько унижения. И то сказать, цивилизованный человек тем и отличается от нецивилизованного, что умеет сдерживать себя. А мы люди вполне цивилизованные. Все так. Смирился. Готов заснуть. Не тревожьте человека. Дайте пройти по отпущенной дорожке. Судьба его такова.
Память Николая Филипповича не была ни подробной, ни связной — она подсовывала случайные воспоминания о семейной жизни, но отчего-то так услужливо подсовывала, что Людмила Михайловна, какой она появлялась в памяти, начала раздражать Николая Филипповича.
Вот она на рынке. Идет по рядам торжественно, с достоинством, на ней просторная черная шуба из каракулевых лапок — восемь лет назад как-то уж дешево раздобыла. Людмила Михайловна пальцем указывает на товар: «Сколько?» — и ей с готовностью отвечают, и, когда отвешивают, Людмила Михайловна презрительно окликает: «Эй, аптека!», что означает — не нужно мелочиться. И всегда пробует товар, и непременно осудит: яблоко кислое, виноград незрелый, капуста не дошла — и удивительное дело, продавцы с ней считаются, даже уважают; она ценит свои денежки, следовательно, знает в жизни толк.
То же и в казенных магазинах. Случая не было, чтобы торговые барышни нагрубили Людмиле Михайловне или на вопрос о цене ткнули пальцем в сторону витрины, дескать, очки напяльте, мадам. Вот через Николая Филипповича их взгляд пустой протекает, Людмиле же Михайловне они отвечают на первый ее зов. И тут дело не в шубе, не в кольцах на руках — нет, по презрению к этому торговому люду, которое написано на лице Людмилы Михайловны, по той брезгливости, с которой она берет товар, чтоб рассмотреть его, девушки чувствуют, что Людмила Михайловна — лицо значительное, не остановится и перед жалобой, и, следовательно, ее следует уважать.
Может Людмила Михайловна пообещать награду за сапоги, книгу, мебель и награду эту вручить без колебания, прямо на глазах у очереди, и девочки награду примут тем охотнее, чем смелее она вручается.
Может Людмила Михайловна пойти к директору магазина и попросить нужный товар. Она даже не называет себя (и это лучше всего, потому что руководитель группы КБ — слишком невелика птица) — а директор поймет, что именно этот товар следует дать.
Несколько раз случалось Николаю Филипповичу вместе с женой ужинать в ресторане — в прежние скудные годы любили изредка шикануть, — и случая не было, чтоб официант долго и плохо их обслуживал или грубо обсчитал. Тоже, видно, опытным глазом определял, что обсчет и грубость оскорбительны для достоинства Людмилы Михайловны, и с ним, с этим достоинством, лучше не связываться.
Словом, в Людмиле Михайловне был некий стержень, позволяющий окружающим людям считать ее хозяйкой жизни.
Потому-то заявку на ремонт кухонного крана или сливного бачка ходил подавать не Николай Филиппович, который ничего толком не сумеет, он может только мямлить и ломать шапку в унижении. Ходила Людмила Михайловна, и слесарь, который, к слову говоря, за эту работу от кооператива деньги получает, приходил в тот же день и делал все быстро, на совесть и без мздоимства.
Она не обещала мастерам по ремонту квартир, что будет их кормить и поить, и те, приходя работать вечерами, уже были сыты, какое-то чутье подсказывало им, что с этой хозяйкой халтура не пройдет, и работали скоро, не требуя водки по окончании дела. Людмила Михайловна была требовательна, даже придирчива, если ей казалось, что обои наклеены не так, как она просила, мастерам приходилось переклеивать, и главное — они не обижались на нее, понимая, видимо, дело так, что эта женщина умеет дорожить деньгами, следовательно, они ей достаются трудно и только законным порядком.
Добывая в жаркое время железнодорожный билет, она умела упросить девушку взять заказ на ближайшие дни — простая лесть, даже не подкрепленная подарком, тишайший просительный тон среди повседневных угроз командировочно-отпускного люда действовал на кассиров безотказнее подарков. А ведь это не то что в магазине, где под прилавком или у директора всегда что-нибудь да есть, тут если нет билетов, так уж их нет, а для Людмилы Михайловны подворачивалась горящая бронь или как раз вот сейчас человек отказался от поездки.
Словом, как говорится, жить Людмила Михайловна умела, не упускала случая утвердиться в мелочах жизни. Николай Филиппович даже гордился этим ее умением — ведь это характер, что ни говори, направленный на благо семьи, но сейчас, когда он ощущал всякий миг, как, возможно, миг последний, когда душа его трепетала, чувствуя себя перед неизбежной бездной, сейчас ему было безразлично, какие сапоги носят люди, какими плитками облицована ванная комната и бесшумно ли работает водосброс, сейчас он был унижен всеми этими мелочами, словно бы они были собраны все воедино, и он готов был застонать от всех этих хитростей, на которые пускается человек, чтоб было ему посытнее, потеплее, повеселее.
А Людмила Михайловна иногда еще и выговаривала Николаю Филипповичу, что он слова защитного сказать не может, что он излишний добряк и чуть не тот тюфячок, который всяк норовит подмять, и тогда Людмила Михайловна становилась высокомерной.
Впрочем, высокомерной становилась она и тогда, когда Николаю Филипповичу случалось высказать свое мнение о спектакле, кино либо книге. Здесь безоговорочным авторитетом был для нее только Сережа. «А Сереже понравилось», — это если книга казалась Николаю Филипповичу скучной, и какой-либо спор уже невозможен; «А Сережа считает халтурой, которую не следует смотреть», — это о новом многосерийном телефильме, и уж сама смотрела урывками, прибегая из кухни и даже не присаживаясь, так, несколько минут посмотрит, покачает головой — мы же говорили, что халтура.
Уж как-то так вышло, что Оленька всегда в тени брата — это Сергей был окружен всеобщей любовью, Оленьке оставалось брать с него пример, а всего-то лучше — подражать ему. Если Сережа что-либо рассказывал, то все умолкали — это будет интересный рассказ, а Оленька — ну что, дитя, младшая сестра, словом, да разве дождешься от нее чего-нибудь значительного, нелегкомысленного.
Так уж получалось в мнении Людмилы Михайловны (и Николай Филиппович мнение это разделял), что вот Сережа — это личность, человек, верно, будет крупный, а Оленька — ну что ж, птичка серая, порхающая. Да и то утешительно, что она весела, здорова, в институте успевает — да всем бы родителям таких детей! — и ясно видела Людмила Михайловна судьбу дочери: станет она врачом, по всему судя, заурядным, да так всю жизнь на терапевтическом участке и проторчит.
«Чем же плоха эта судьба? — спрашивал себя Николай Филиппович. — Превосходная даже судьба. Девочка, без сомнения, добра, любит медицину и проработает всю жизнь на участке — и это хорошо, это же родители спокойно могут сойти в тень, уверенные, что дочь при вернейшем деле».
Людмиле же Михайловне такая судьба казалась ничтожной — ее дети должны стать чем-то особенным, из ряда выделяющимся. Вот Сергей покуда ожидания оправдывает, а Оленька — что-то у нее не то. «Да ты постой, девочке всего двадцать один год, жизнь-то впереди». — «Нет, чувствую я, что она так и останется посредственностью, беда в том, что она мягка, нет у нее хватки, нечестолюбива она». Все доводы Николая Филипповича, что вот и он сам нечестолюбив, чужие кадыки не откусывает, однако при хорошем месте, уважаем сотрудниками и семью кормит, — все доводы его были пустым звуком. У Людмилы Михайловны были свои модели будущего детей, и неброскость положения никак в эти модели не вписывалась.
К концу первой недели Николай Филиппович был совершенно измотан своими безостановочными соображениями о семье. Стоял тихий вечер, над морем виднелись неясные вспышки, и они тревожили Николая Филипповича. Чуть запрокинув голову, он смотрел на луну, от яркого света она казалась звенящей и не плоской, но объемной. Все соображения о собственной жизни неожиданно слились в несколько слов; он человек ничтожный, возможно, ничтожнее и жалче его нет человека во всем свете.
Да, жизнь свою он, можно сказать, доживает, и жизнь эта не сложилась. Жизнь его вышла бездарной. И это совершенно ясно — случись завтра исчезнуть, и от него ничего не останется. Нет, конечно, останутся дети, но ведь он-то полагал, что и собственное его существование имеет некую цену, он и сам собою представляет некую ценность, а не только как существо, давшее жизнь другим существам.
А кроме детей, от Николая Филипповича ведь ничего не останется. Да, несколько удачных подсказок для чужих решений, несколько находок, не изменивших ход жизни и даже ход машин, для которых они предназначались. Чужие мысли, его исполнение, то, что делал он, мог сделать любой толковый конструктор, но ведь Николай Филиппович подозревал в себе большие возможности, а они не сбылись. Он лихо замахнулся, пересилил однажды инерцию текучки, сделал машину, но где ж она? А ржавеет во дворе, бессильная противиться ударам времени и атмосферных осадков.
Так, жизнь направлена была на существование — от получки до получки, от квартала до квартала, то есть от премии до премии. Он-то объяснял это тем, что нечестолюбив, и гордился этим. Но нет, желание покоя, пойманное равновесие улитки — вот что была его жизнь.
Все было б просто, если б Николай Филиппович не знал за собой конструкторских способностей, тогда, что же, — жизнь прошел спокойно, не подличал, не унижался, не в чем упрекнуть себя. Но ведь знал — он кое-что может, но все пытался в тени отсидеться, и теперь — проспал, профукал жизнь. И возврата ей нет. Она одна, и пора с этим смириться.
Но в том и дело, что смириться-то Николай Филиппович и не хотел. Ему было сейчас и стыдно, что он сдался судьбе досрочно. Говорил — плетью обуха не перешибешь. Да, возможно, и не перешибешь, но всякий человек, однако, за дело свое должен стоять до конца, чтоб в дни, когда он завис над пропастью — в дни последние, — не в чем было упрекнуть себя. Ах, как легко носить печать поражения на челе. Сейчас и догадка выклевывалась у Николая Филипповича — а ведь еще есть некоторое время, и дело твое не вполне проиграно, пока ты не смиришься с навязанной тебе сладкой ролью неудачника. Да и кроме того, это был единственный теперь шанс Николая Филипповича доказать себе, что жизнь он проиграл не до конца.
Потому что было еще одно открытие, которое делало жизнь Николая Филипповича еще ничтожнее. Он обнаружил, что не скучает по семье. Правда, он оторван от нее всего неделю, но прежде-то начинал скучать в первый же вечер.
Более того, он понимал, что любовь его к Людмиле Михайловне была какой-то странной. Ведал ли он, юнец, страдания по Людмиле Михайловне до женитьбы? А не ведал. Горд был, что из всех сокурсников она избрала именно его и, следовательно, человек он достойный. Но страдал бы, оставь она его тогда? Ну какая же это любовь без страдания, ревности, боязни, что вот эта чудом пойманная штука ускользнет и ты не в силах будешь пережить эту утрату? Да, дружба, уважение, и человек Людмила Михайловна, без сомнения, вернейший, а только это не любовь, а что-то уж другое.
Просвистела жизнь, оглянуться, поди ж ты, не успел, и все, оказывается, впустую. Без падений, но и без взлетов, без унижений измен, но и без любви. Прошла насквозь, оставив лишь горечь одиночества.
Но как, скажите, смириться с этим, когда стоит душный южный вечер и до ночной прохлады не близко, когда полная луна струит яркий свет, когда поют цикады, вспыхивают огни над морем и по доплывающим с турбазы песенкам понимаешь, что где-то идет чужая юная и неюная жизнь, полная надежд если не на долгий срок, то хоть на сегодняшний вечер, жизнь, чуждая разочарований навсегда, умеющая утешиться эрзацем надежды — сиюминутным весельем; как смириться, что жизнь твоя не сложилась, что вышел из неповторимой феерии пустой звук, шептунок, осторожный закулисный шорох, смирись, смирись.
Заснул, проснулся, глаза протереть не успел — занавес падает. Пожалуйте к вечернему чаю.
И лишь одно соображение как-то утешало Николая Филипповича: а ведь он сознательно впустил в душу смелость открытого взгляда на прожитую жизнь, смелость, на которую люди в повседневности не отваживаются, потому что дальше привычная жизнь длиться не сможет. Николай Филиппович хотел ужалить душу непоправимо, смириться с собственным поражением и ничтожностью, но это лишь для того, чтоб страдания одиночества не давали вспомнить Антонину Андреевну, помогли бы забыть ее.
Потому что если смириться и забыть ее не удастся, потому что если ты дашь обволочь себя надеждам, что не все утрачено и что тоска одиночества небескрайна и для нее возможны пределы, то ждут тебя страдания и беды неизмеримо большие, и в них скрыт будет главнейший позор, главнейшее поражение. Хоть вял, хоть управляем твердой рукой, но все ж ты в игре, хуже всего оказаться в ауте при стечении больших толп зрителей.
Он рассчитывал на принятие какого-либо верного решения, но то был самообман, то была тщетная надежда — он по-прежнему был болен Антониной Андреевной, и память его была постоянно ею полна. Он вспоминал вечерние прогулки, перебирал протекшие разговоры, но всего чаще вспоминал собственное нетерпение: вот он взведен, словно жизнь его решается в этот вечер, ждет Антонину Андреевну, вот она появляется в размытом воздухе, вот ее движения словно бы замедлились — слом прозрачной этой среды, — вот Николай Филиппович бросается к ней, вот оно, сладостное предощущение неразрывного объятия.
Да, у него еще есть некоторое время, хоть и малое, минует пора смутного одиночества, и он вновь увидит Антонину Андреевну.
Да, он ехал на юг в надежде на борьбу с собой, думал, что, может, память его потускнеет и он сумеет отстраниться от Антонины Андреевны, но выходит не борьба, а скорее игра в поддавки.
Говорил себе: да что же их ждет впереди — только двойная жизнь, тайные встречи, надрыв сердца, тусклый бунт против привычного течения собственной жизни. Борьба, конечно, была, и всякий раз вывод был один — Николай Филиппович не видел светлого выхода впереди; и каково будет Антонине Андреевне после того, что было, но — главное — после того, что будет; и каково ему-то — это ведь не шутки — отвечать не только за свою, но и за другую жизнь.
Все так — выхода не было. Но видеть Антонину Андреевну поминутно, обнимать ее, разговаривать с ней, опекать, жалеть — да разве же это не удача, не счастье жизни! Что заглядывать в столь дальние времена — времена неизбежных разлук, — если жизнь единична, если другой жизни не дано. Человек — не амеба. Пусть позор, пусть поражение, но это, ведь когда еще будет. Нет, не может один человек повредить другому своей нежностью и, сказать осмелиться, своей любовью; это когда еще в пятки вонзятся шипы, это не скоро, эти времена где еще — за дальним, поди, горизонтом; это когда еще поражение выйдет, а сейчас — да ведь возможна встреча, неразрывная неправдоподобная встреча — победа, да, конечно же, победа.
На следующий день Николай Филиппович на попутной машине добрался до переговорного пункта. Умоляюще он посмотрел на утомленную молодую женщину в окошечке.
— Нет, сегодня никак нельзя, — сказала женщина. — Это предварительный заказ. Только на послезавтра. Ну, на завтра.
— А мне нужно, — сказал Николай Филиппович.
Женщина на мгновение остановила свой взгляд на лице Николая Филипповича. На этой суетливой работе она научилась понимать, кто может подождать, а кто не может. Вот этому пожилому дядьке разговор необходим.
— Хорошо, давайте телефон, — согласилась она. А ведь он не унижался, не пел Лазаря нищенским голосом. — В течение двух часов. Успеваете?
— Успеваю.
— Ждите. Я попрошу. Там моя подруга.
Он вышел из переговорного пункта. Здесь было модное курортное место. Люди лениво тянулись с пляжа. Над горой показалось облако. От духоты и предгрозья Николай Филиппович с трудом дышал. Лицо и спина взмокли. Он дал себе слово, что не будет суетиться в ожидании разговора, и слово это держал.
Николай Филиппович сел на скамейку и закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Главное — суметь не просить, но требовать. В голове стоял гул, сердце тяжело билось. Ведь от всех этих переживаний да по такой жаре у кого угодно, пожалуй, давление запрыгает. И каждый толчок сердца отдавал в голову да еще с каким-то вялым, ржавым скрежетом. Измученный ожиданием и жарой, Николай Филиппович ощущал себя старой развалиной. Таким старым он никогда прежде себя не ощущал. Если дело не выгорит, он таким старым останется навсегда. Потому что люди не от борьбы старятся, а от поражений. Главное в разговоре не унижаться, а настаивать на своем. Он готов к борьбе.
Вдруг радио выкрикнуло:
— Фонарево! Третья кабина! Фонарево! Третья кабина!
Николай Филиппович сорвался и побежал.
— Только не перебивайте, — сказал женщине. — Разговор важный. Сколько выйдет.
— Николай, привет! — услышал он голос Константинова. — Что случилось?
— Все в порядке, Олег. Мне нужна помощь. Дошли еще одного инженера. Дней на десять.
— А что там такое? Тихая же, непыльная работа.
— Кое-что попробовать надо. Новые режимы. Одному не справиться.
— Да оставь ты самодеятельность — пустая же машина. И не торопись — бархатный ведь сезон. Да мне и некого послать.
Вот эти слова и нужны были Николаю Филипповичу — он и звонил-то потому, что знал — послать некого.
— А ты Антипьеву пошли.
Константинов от неожиданности задышал в трубку.
— Ты что — с ума сошел?
— А что такое?
— Не дури. Она же программистка. Ее дело — ЭВМ.
— Прежде всего она инженер. Вот и пошли ее, раз больше некого. Вернее всего, именно ее и пошли. Она толковая.
— Не могу, Нечаев. Ну, не могу. Выкручивайся сам. Меня не впутывай.
Но недаром Николай Филиппович полтора часа томился, ожидая разговора, — он рассчитал все.
— А я тут на жаре новый ход придумал.
— Что ты придумал?
— Новый ход. Как машину нашу пробить. Ты был прав весной — надо драться. И потому пошлем бумаги в министерство. Ведь ВАСХНИЛ нас поддерживает.
— Ты серьезно?
— А чего же? Мне терять нечего — я теперь такой.
— Ты на солнце перегрелся. Сам же говорил — пустой номер.
— А теперь чувствую — выйдет дело. Только надо бумаги составить толково.
— Это уж твое дело.
— Вот и не тяни — время уходит. Вытяни меня отсюда поскорее, чтоб я засел за документы.
— Маша и Люда голову мне открутят.
— А ты им не докладывай.
— Ты про Фонарево забыл. Вроде на другой планете живешь.
— Сделай так, Олег, я тебя прошу.
— Кисло тебе там, что ли?
— Очень кисло. Я тебя ни о чем больше не попрошу, Олег. Никогда.
— Ладно, договорились. Командировка у нее с завтрашнего дня. Если она сможет поехать.
— Не детский же сад у тебя — сможет, не сможет.
— Только без демагогии, умоляю. Мало ли — дом, здоровье.
— Тогда, выходит, не судьба.
— Мог бы машину и не приплетать.
— Я не приплетал. Это все серьезно. Дома все обговорим. Я сейчас человек пробивной. Танк — а не человек. Чувствую — все пробью.
— Отбой! Будь здоров. К двадцатому жду. Обоснования придумай там. Чтоб здесь не жевать зря варежку.
— Спасибо тебе, Олег.
Отбой. Рубашка вымокла.
— Спасибо, — сказал он женщине, — вы меня спасли.
Женщина улыбнулась — она верила Николаю Филипповичу, что спасла его, следовательно, работа ее имеет смысл.
Николай Филиппович бодро перешел улицу. Сейчас в нем уже не было ничего от развалившегося старика, который только что ждал разговора с Константиновым. Сейчас он был молод, потому что появилась надежда, что через несколько дней он увидит Антонину Андреевну.
Вечером Николай Филиппович сидел на отведенной ему веранде и при тусклом свете лампочки читал газеты и журнал «За рубежом». Вдруг над головой ударил гром. Николай Филиппович понял, что начинается гроза. Он погасил свет и распахнул дверь на крыльцо.
В свете дальнего фонаря листья в саду матово блестели. Все было тихо, и казалось, что гроза пройдет стороной. Дневная духота не спадала. Равновесие природы нарушилось сильной вспышкой над морем, так что видны стали причал и проезжающий поезд. И вдруг небо взорвалось такой молнией, что все вокруг ослепло в белом с легкой синевой раскаленном сиянии, вылетели из тьмы и вознеслись кукурузник перед крыльцом, и гора, и домики на склоне горы — все взорвалось и мгновенно погасло, но зрение было в тот миг так подробно, что Николай Филиппович разглядел и навсегда запомнил и этот кукурузник, и крупные гроздья винограда у домиков на склоне горы, и испуганно мчащуюся в конуру рыжую собаку.
Все возвратилось к тьме, с гор рванул ветер, и деревья склонились к земле, и стало слышно, как нежно, мягко падают на землю спелые виноградины, и вдруг все окружающее потряс разрыв сильного грома.
Снова небо полоснуло молнией, но уже потише, и душа Николая Филипповича маялась, и он знал, что нетерпение ее пройдет лишь с грозой.
И все слилось в ливне, и ничего уже не было видно, лишь размытое пятно фонаря, лишь пунктир промчавшегося поезда.
Николай Филиппович стоял в проеме двери, брызги замочили ноги, но он не уходил в глубь защищенного от воды пространства.
Он ждал грозы, как облегчения, и не ошибся. Сейчас в нем была лишь застоявшаяся печаль. Предчувствия катастрофы больше не было: к счастью, все кончилось этой грозой.
Печаль его, он знал, ничем не отличалась сейчас от печали всякого немолодого человека, который наблюдает грозу хоть и вблизи, но под защитой крыши. Да, жизнь его коротка, летуча, она догорает, и ничего тут не поделаешь. Что ж тревожиться из-за того, что изменить ни ты, никто не в силах. Сейчас ему безразличны были сроки жизни собственной, потому что ясно понимал, что такой вот ливень опрокидывался на эти места и год назад, и сто, и тысячу лет назад.
Это простейшее соображение — что есть человеческая жизнь среди природы в сравнении с самой природой, да слабый тлеющий фитилек — вовсе смирило Николая Филипповича с собственной жизнью. В самом деле, как просто задуть трепещущий фитилек. Да, жизнь одна, и какая горькая она ни есть, а вторая выпадает едва ли. Понять это следует и смириться.
И он смирился, и до конца, и вот ему награда: брызги отлетали от крыльца с такой силой, что лицо Николая Филипповича стало мокрым, и оттого, что он не отходил прочь, пришло ощущение, что он вовсе не стар, но вполне молод, жизнь его была столь скоротечной, что он не успел разглядеть ее, теперь же, наученный быстролетностью жизни, Николай Филиппович сумеет ценить всякий миг. Он почувствовал тогда, что еще вроде бы и не жил, но все собирался да собирался жить — несуетливо, верно, чтоб рассмотреть пристально всякое событие жизни, всякое движение души собственной. И вот сейчас гроза, и наконец он собрался. И ему повезло, он собрался вовремя, потому что еще не поздно, у него еще есть время. И это соображение радовало Николая Филипповича.
Не закрывая дверь веранды, лег он спать, и сон его был легким, летучим, и Николай Филиппович слышал всю ночь, как шуршит дождь.
А утром он увидел, что в саду лужи, земля синевата и клейка, воздух прозрачен, над горой выкатывается солнце, небо звонко и упруго, за курицей гоняется песик, и она его не боится, потому что они ведут игру, необходимую, чтоб отойти от вечернего потрясения.
И Николай Филиппович чувствовал себя легким, энергичным, давно уже у него не было надежд на радость впереди.
До приезда Антонины Андреевны, он так рассчитал, осталось два дня. И поспешил на работу, собираясь эти дни трудиться сверх всякой меры, чтоб скоротать ожидание и чтоб на дальнейшие дни совместные командировочных дел оставалось поменьше.
Николай Филиппович ждал Антонину Андреевну так, словно в приезде ее и заключалась вся его жизнь. Он был уверен, что она приедет, и боялся даже подумать, что с ним будет, если она приехать не сможет. Такой мысли он не допускал, потому что в этом случае жизнь его дальнейшая оправдания не имела и пришлось бы навсегда примириться с тем, что он стар и неудачник.
Он знал, когда на станцию приходят поезда и когда от станции отходят автобусы, — Антонина Андреевна могла сюда приехать только трех- или пятичасовым автобусом.
В ожидаемый день она не приехала, и Николай Филиппович был близок к отчаянию — не смогла, не с кем оставить сына, наконец, просто забыла Николая Филипповича. Нет, такой беды Николай Филиппович предположить не смел.
Значит, оставался следующий день. В трехчасовом автобусе ее не было, и надежд почти не оставалось. Если ее не будет и в пять часов, то, пожалуй, не будет и вовсе. И все. И жизнь кончилась. О том, что жизнь кончилась и в ней не оставалось ни малейшего смысла, Николай Филиппович думал как о деле совершенно решенном.
В пять часов он сидел на автобусной остановке. Автобус, как обычно, опаздывал. Надежда была так слаба, что Николай Филиппович к приходу автобуса остался сидеть на скамье — не стал перебегать шоссе, чтоб затем ждать, пока распахнутся двери и начнут спускаться незнакомые люди.
Автобус стоял одну минуту. Никто не входил и не выходил. Автобус медленно отплыл. С ним вместе отплыла и последняя надежда.
И вдруг Николай Филиппович увидел, что автобус оставил здесь женщину с большой клетчатой сумкой в руках. Николай Филиппович не узнал в этой женщине Антонину Андреевну. Он ждал человека из северных краев, а на этой женщине был летний брючный костюм и белая курортная кепочка.
Она растерянно смотрела вокруг, не видя встречающего человека. Николай Филиппович рванулся к ней, и вот она увидела его, и лицо вспыхнуло радостью, и Антонина Андреевна помахала Николаю Филипповичу рукой.
Он подбежал к ней, сжал руки, взял сумку, и они молча, улыбаясь, смотрели друг другу в лицо. Да, рада видеть его, спешила ехать, — а душа Николая Филипповича была как бы расплавлена, он уже ничего не замечал вокруг, все погасло, только глаза Антонины Андреевны, только ее улыбка остались.
— Здравствуйте, Антонина Андреевна.
— Здравствуйте, Николай Филиппович.
— Что ж задержались?
— День на оформление документов.
— Ну да.
— А вы что ж встречаете в стороне? Я растерялась. Думала, не случилось ли чего.
— Не случилось. Только вот больше не смог без вас.
— Вам было плохо?
— Невыносимо.
— Я так и подумала. Потому и приехала.
Кивком головы он показал ей на вид, открывающийся с моста: глаз сразу охватывал море, высоко возносился мост, внизу, под мостом, протекала мутная после недавней грозы речка. Стоял тот час перед заходом солнца, когда глаз различает все подробности, каждый куст на горе, каждый блестящий и жесткий лист. Море блестело, зыбилось, и эта зыбь бесчисленными блестками слепила глаза.
— Да, здесь хорошо. Я давно не видела моря. Шесть лет.
— А где были?
— В Крыму. В Алуште.
— Здесь мне больше нравится. Горы не такие ухоженные. Вы не рассердились, что я вас вызвал?
— Нет. Я знала, что нужна вам, раз зовете.
— А дом как же? Сын?
— Я решила, что если не поеду, то вы меня не простите. Вам плохо, а я оставила вас в беде. Я и себя бы не простила. И потом Константинов сказал, что командировка короткая — неделя или чуть больше. Сестра присмотрит за Колей. Да и мать с отцом дома. Когда меня приглашали на работу, то предупреждали, что возможны командировки. Так что десять дней побудут без меня. Вы место для меня подыскали?
— Мы будем на одной веранде.
— А что хозяева подумают?
— Хозяйка ничего не подумает. Ей лишь бы полтора рубля за койку шли. И не прописывались. Эту веранду в сентябре никто не занимает — через две недели будет холодно. И она перегорожена фанерой, так что все удобно.
Улица была безлюдна — все дожидаются на пляже захода солнца. Из глубины двора, из времянки вышла хозяйка, сорокалетняя худая Маша — она сторож при кемпинге — и поздоровалась с Антониной Андреевной.
— Вот они, — кивнула она на Николая Филипповича, имени жильца она, как ни старалась, запомнить не могла, так что старания оставила, — сказали, что ждут помощницу. Значит, это вы. Так на веранде? — на всякий случай спросила она Николая Филипповича. — Или внизу поселить, там семья живет, их три человека, а четвертая койка пустует.
— Нет, я им буду мешать, — сказала Тоня.
— Ну конечно, чужие люди, — сразу успокоилась Маша. — Тогда вы посидите здесь, а я все приготовлю. Веранду сегодня уже вымыла. Я дам вам лишнее одеяло. И белье приготовлю.
Они сидели в саду за маленьким столиком. Виноград рос густо, сквозь него с трудом пробивалось солнце, и там, где удалось пробиться, на асфальте двора впечатались солнечные пятна, от легкого дрожания листвы они размывались, плыли и даже, казалось, кружились. По двору важно плыл индюк. Все было соткано из шелеста сухих листьев, солнечных пятен, дрожания яркого света.
Они забыли окружающий мир, поддавшись кружению пятен, сухой легкости воздуха, смотрели друг на друга, глаза Антонины Андреевны влажно блестели — она ждала встречи и вот рада ей, а он грустно улыбался, не вполне даже веря, что она приехала.
Однако сознание не было погашено полностью, и Николай Филиппович почувствовал, что с крыльца спускается хозяйка Маша, вернее, он почувствовал, как что-то постороннее мешает радости и грусти погасить сознание, и тогда он повел взгляд на крыльцо и увидел спускающуюся Машу. Он сумел погасить улыбку. Вернее, постарался, чтоб улыбка направлена была не к Антонине Андреевне, но к хозяйке.
— Все готово, — сказала Маша. — Пойдемте, я все покажу.
— Да вы не тревожьтесь, я, как старожил этих мест, сам все покажу. — И Николай Филиппович, взяв сумку, начал подниматься на крыльцо.
— Здесь хорошо, — сказала Антонина Андреевна.
— Да.
— Вы спускайтесь на кухню ко мне, — крикнула Маша. — Перекусите с дороги.
— Я пообедала в вагоне.
— А у меня не обед. Стакан молока, яичница и мамалыга, — настаивала Маша. Верно, Антонина Андреевна ей понравилась, или она была рада, что люди неожиданно заняли веранду, а боялась, что место пропало.
Тогда они спустились вниз.
На коричневой клетчатой скатерти стоял стакан, до краев наполненный молоком, и блюдце с яичницей, лежала черная вилка и черный же с коричневым черенком нож. Николай Филиппович был сейчас совсем счастлив, и потому все казалось ему особенным — и доброта Маши, и ослепительно белое и густое молоко в стакане, и яркий желток, он был кругл и сиял, как спелый апельсин. Николай Филиппович был счастлив, и что-то произошло с его ощущением времени, оно стало растянутым, как-то сместилось. Вот Антонина Андреевна медленно несет стакан ко рту, и Николай Филиппович замечает, что от края стакана вот сейчас оторвется капля молока, и она медленно отрывается, вот наконец оторвалась и медленно, тяжело поплыла вниз, и Николай Филиппович уловил мгновение, когда капля прикоснулась к столу — да, она сплющилась и стала похожа на маленькую блестящую корону — круг и растущие кверху прямые отростки — и все соединилось в обыкновенную каплю.
С ним ли это происходит, такой же, как вчера, вечер, лишь один раз солнце встало и село, но еще вчера как же он маялся — ведь это же непоправимая беда случится, если Антонина Андреевна не приедет, но вот она рядом, и вечер все-таки наступил.
Вечер наступил, как всегда в этих местах, внезапно, лишь полыхала над морем малиновая тревожная полоса, лишь горела от солнца вершина горы, но солнца не было видно, оно уже утонуло в море, все стало темно, а вершина горы горела. Где-то внизу, во дворе, шла суета отдыхающих, ужин, переговоры через забор с соседями; не сходить ли на танцы или в кино, нет, хозяин разрешил телевизор посмотреть, наши сегодня играют с поляками; с этим видом спорта вопрос как будто ясен, не скажите, Никита Симонян — штучка хитрая, еще наладит игру. Волшебный фонарь, твое счастье, ты отъединен от всего мира, за стеной у детей хозяйки свои заботы, они крутят пластинки, а хозяйка дежурит в кемпинге, муж ее, бухгалтер совхоза, где работает Николай Филиппович (потому совхоз снимает комнату именно в этом доме) попивает на кухне с другом «Изабеллу», они ведут неторопливые разговоры о прошлом и настоящем, в основном их не устраивают нравы нынешней молодежи; вот скрипит насос — это отдыхающие моют посуду. Счастье твое блаженное, вот оно — страдания еще не полностью вымыты из тебя, и это лишь подымает цену счастья, нет забот о завтрашнем дне и потому нет тоски и печали. Блаженное это время счастья, когда впервые некуда торопиться и бесконечно можно рассматривать лицо Тони в малом свете электрической лампочки во дворе — да, Тоня тоже счастлива, эта улыбка найденного покоя и светящиеся счастьем глаза — неправдоподобное везение, дар судьбы, и если его не станет, погаснет волшебный фонарь, освещающий вечер и ночь. Да за что же мне, существу малому, и даже малейшему, такая удача, и она никогда больше не оставит, удача эта, да кто ж это добровольно отрекается от счастья.
— Я знала, что вы меня позовете. Даже уверена была.
— А я, когда уезжал сюда, уверен был, что до конца командировки не увижу тебя.
— Вы надеялись забыть меня.
— Но это смешная надежда.
— Не вышло, да? Вы меня не сразу забудете, я знаю. Я это чувствую. А я вот заскучала по вас через два дня. И знала, что вам здесь плохо. У меня сын, и все время занято, а вы-то один. И со дня на день ждала от вас телеграммы или письма. Я бы взяла неделю за свой счет и приехала бы. А без вызова — нет, не отважилась бы. Хотя не знаю…
— А Константинов что сказал тебе?
— Надо ехать. Больше некому. Говорил коротко, сухо. Просил прощения, что приходится прибегать к моей помощи. Отрывать, знаете, от ваших главных дел. — Она так ловко передала голос Константинова, что Николай Филиппович засмеялся.
— Он молодец. Не только воспитанный человек, но и осторожный. Но мне от него потом попадет. Но это потом. Да и положение у меня было безвыходное.
— В самом деле работы много?
— Дело не в работе. Я уверен был, что не доживу до конца командировки, если не увижу тебя. А что именно случится, я не знаю. Неотвратимая беда — и все. И как все просто — ты здесь, и ничего не случится. Я так свободен, словно знаю тебя много лет.
— Да. И мне сейчас все легко и просто.
— У меня никогда вообще не было такого состояния, что я совсем свободен. Я всегда сознавал, что мне нужно играть какую-то роль, малую, незаметную, но роль. И так у меня всегда с друзьями и в семье. Они привыкли меня видеть таким-то, скажем, простачком, или в группе — безотказным добряком; я вжился в эти роли, и уж нет надобности выходить из них — это и лишний труд, и другим неудобства. С тобой же я такой, каким был когда-то — в детстве, в молодости, каким я иногда бываю наедине с собой. Если, разумеется, удается отстранить взгляд извне, направленный на самого себя. С тобой мне не хочется надевать маски, и я такой, каким всю жизнь себя представлял.
А за стеной дети хозяйки спорили из-за какой-то книги, потом книжка нашлась, и младшая девочка принялась лупить старшую книжкой по голове, а приблатненный молодой голос пел: «Где ты, мне теперь все равно, с кем ты, мне теперь все равно».
— Что мне нужно будет делать? Смогу ли я помогать вам в работе? Я ведь сельхозмашинами никогда не занималась.
— Работы хватает. Твоя помощь действительно нужна. Завтра я все объясню. Работой обеспечу. Там нужна некоторая сноровка, за день ты поймешь, что к чему. Будешь обрабатывать результаты — их у меня целый портфель. Я понимаю, ты боишься, что казенные деньги будут потрачены впустую. Но не волнуйся, отработаешь.
За стеной дети утихомирились, все слышна была музыка, и вдруг такая нежность захлестнула Николая Филипповича, что дышать стало трудно и глаза стали влажны от благодарности судьбе, он и страдал, и счастлив был от переполнившей его нежности, и непрерывно и счастливо смотрели они друг другу в глаза.
— Когда вы уезжали, то я сказала себе, что вот все для себя решила. Я знала, что вы меня позовете и тогда я все оставлю и приеду к вам. Ведь это же беда, верно?
— Какая беда?
— Что я не способна на интрижку. Конечно, беда. Мне было бы легче и веселее жить. А не могу вполовину. Вот и скучала, и каждый день ждала, что вы позовете меня. А ведь понимала, что немного выдержки не помешает, и вы бы простили, если б я не смогла поехать на юг, а выдержать не смогла.
— Я потому и тосковал по тебе. Потому и не мог смириться, что тебя нет рядом. Вот я без тебя и погибал.
Это хорошо, что вы не погибли, а то я не пережила бы разлуки, это невозможно сказать, как хорошо я отношусь к вам, и это замечательно, что у нас хватило отваги и мы встретились, да, да, как это замечательно, девочка, так давай не разнимать объятий ни до утра, ни до иных любых времен, вот как хорошо, и еще крепче, даже и замечательно, и как светятся твои глаза во тьме почти полной, да что ж это за счастье такое, и так хорошо, что сказать невозможно, и еще крепче, сейчас я умру, вот сейчас жизнь оборвется, сознание меркнет, где и что, бред и тьма, фонарь дальний, за окном сентябрь провода качает, хорошо с вами, господи, почему ж не прежде, почему лишь сейчас, длись, счастье, хоть неделю, хоть день, ты было и уже незабвенно, либо жизнь пропадает, либо быть ей счастливой, никуда, никуда не деться от счастья такого, замечательного, пронзительного, да, пронзительного, ах, девочка, да ведь мы же теперь с тобою бессмертны.
Понадобилось всего полдня, чтобы Тоня поняла, как ей следует обращаться с виноградоуборочной машиной и чего ждут от их командировки. Николай Филиппович следил за одной машиной, она за другой, когда же становилось особенно жарко, Тоня уходила в контору весовщика и проводила там необходимые расчеты — бумаг с результатами накопилось много. Работа шла хорошо, и стало ясно, что за неделю они управятся.
— Ты, и правда, толковый инженер, — похваливал ее Николай Филиппович. — Дело хоть и простое, но требует некоторой сноровки. А ты поняла его сразу, и я тобой горжусь. Более толковых помощников у меня никогда не было.
Они работали с восьми утра до трех часов дня, это по жаре и без перерыва — нагрузка основательная.
Вечером сидели на берегу моря. При кемпинге стоял буфет, в нем продавали хорошие вина, стоили они дорого, но были вкусны — мускат, «южная ночь», «черные глаза». Буфетчик, молодой холеный человек с изысканными манерами, для привлечения посетителей все время крутил магнитофон. Этот буфет любили — здесь не только вкусные вина, но и хорошо жарят шашлыки.
От углей в небо летели искры, воздух пропитался запахом острого жареного мяса, вместе с этим запахом вокруг томилась легкая неуловимая печаль.
Торопиться было некуда, потому что иных развлечений, кроме буфета, в кемпинге нет, и люди ходили медленно, чтоб растянуть удовольствие и вечернее время.
То был настоящий южный вечер: не опустилась еще прохлада, из-за гор выкатился диск луны, горы были густо-синими, дома и сады в ущелье — темными с сиреневым каким-то подсветом, огней в домах не было видно, и веранда, где сидели Николай Филиппович и Тоня, казалась единственным освещенным местом побережья, со всех сторон сдавленным спускающейся тенью вечера. Над головой пролетали поезда, но их уже не замечали. Искры летели высоко в небе и гасли там, как укороченная жизнь. Начали появляться звезды, море било туго, к возможному завтра шторму, вдруг Николай Филиппович почувствовал, что все вокруг ново и значительно, звезды ярки по-особому, словно бы прежде он был очень близоруким человеком, и наконец удалось подобрать очки — небо в закрутах звезд, с густым Млечным Путем; тополя отбрасывали тени густые, и тени эти навсегда впечатывались в песок, все гудело море, так оно гудело всегда, но лишь сейчас Николай Филиппович почувствовал, что это именно стихия и гудит многие миллионы лет, оно резко разрезалось прожекторами, и они выхватывали яркий шатер света у буфета среди тьмы обозримого побережья. Луна была ущербна, но раскалена. За спиной в кемпинге шла чуть угадываемая жизнь — шипели у палаток примуса, кто-то кого-то окликал, зазывая в кино на турбазу.
Жизнь его в эти мгновения была так полна, что он ясно и до конца осознал, что жизнь эта единственная — не только его жизнь, с нее какой же счет начинать, но именно окружающая жизнь единственна — с вечерним шуршанием у палаток, с сиреневым подсветом ущелья, с пропитанной дымом свежего мяса каждой частицей воздуха, с сидением за столиками, с закрутами звезд, ущербностью луны и тугим гуканьем бьющих в берег волн.
Жизнь была полна и единственна, и повториться она не могла никогда — ни через год, ни через день, ни даже через час, — она существует только в это вот текущее мгновение.
— Хорош мускат? — спросил Николай Филиппович.
Она ничего не сказала в ответ, лишь покачала головой, меж ними было то состояние, когда люди все понимают и принимают одинаково, неразрывно.
Полнота жизни была так важна и нова для Николая Филипповича, что он осмелился прервать согласное молчание.
— Море шумит. Вкусное вино. Теплый, вечер. Ты рядом, — тихо, с коротким дыханием сказал Николай Филиппович. — Жизнь сейчас полна. Я бы хотел всегда смотреть на ночное море. И чтоб стоял теплый вечер, а ты сидела рядом. Но это единственный вечер. И это жаль. Я люблю тебя, Тоня.
— Да. И я вас люблю.
— А вечер, между тем, единственный. И мускат хорош. Если бы я сидел один, я пил бы мускат, он тоже был бы вкусен, и от него я остро бы чувствовал печаль. Я и сейчас печален, но не от одиночества, а оттого, что все это не повторится, и оттого, что я люблю тебя. Я думаю, у меня теперь такая судьба выйдет, всегда любить, но этот вечер все равно единственный. Я никогда прежде не чувствовал, что жизнь моя так полна. Больше наполнять ее не следует. Большего я не стою. Да и никто не стоит. Она закончена. Сегодня ее вершина. Я полон жизнью, потому что счастлив.
— Но я вижу — счастье это печальное.
— Это от предчувствия неминуемых печалей. Оно непривычно и потому всего боится. Человек, не знавший счастья или же понимающий, что то, что он принимал за счастье, было лишь эрзацем его, боится, что его блаженное состояние вскоре прервется. Но даже этого я сейчас не боюсь. Потому что могу говорить тебе все, что думаю. Потому что ты для меня все равно как я сам. И мне с тобой очень легко. Я повторяюсь, но меня не покидает чувство, что мы близнецы и воспринимаем окружающее одинаково, и между нами неразрушимое согласие.
— Да, и мне с вами очень легко. Сначала я думала, это потому, что вы ко мне неплохо относитесь. Но и мой муж в первые годы неплохо относился ко мне, а все равно мне всегда было тревожно.
— А теперь?
— Теперь мне спокойно. Я не думаю, что будет, когда мы вернемся, и даже что будет завтра. Я знаю твердо, что вы сильнее и мудрее меня и мне не о чем тревожиться. Я вот спряталась за вашу спину, и вы меня надежно защитите. Это новое для меня состояние, и оно мне очень нравится. А вы очень надежный и поэтому хороший ведущий. А я была, выходит, никудышной ведущей, если мне нравится, что вы меня ведете и защищаете.
— Наверное, ты права — каждый из нас в предыдущей жизни играл не свою роль. Я приучен был в семье, что меня следует опекать, что я подбашмачник, существо бескостное, чуть не амеба. А теперь я помаленьку привыкаю к новой роли, и она мне нравится, эта роль ведущего. За последние месяцы, сам чувствую, изменился. Волю, что ли, в себе почувствовал. Словно копил эту волю в годы безголосья. И теперь вдруг мне ничего не страшно. Орел прямо-таки парящий — ну ничего не боюсь. Как дальше будет, не знаю, но пока ты со мной, мне ничего не страшно. Моя жизнь неожиданно перевернулась, и я не только перестал быть слабым, но волен принимать самостоятельные решения. Я захотел встретиться с тобой, и остановить меня могло только твое нежелание. Я захотел, чтоб ты приехала, и Константинов уступил. И я надеюсь, так всегда и будет. Я даже чувствую, что главных дел своих не сделал, и самая интересная часть моей жизни впереди.
— И я в этом не сомневаюсь. Я в вас уверена.
— Но это состояние лишь до той поры, пока ты меня не оставишь.
— Да как же я вас оставлю, Николай Филиппович? Ведь вы же мне необходимы. Я вас никогда не оставлю. Потому что и я вам нужна. Вы говорите о близнецах, но ведь известно, что близнецы или не расстаются, или бывают несчастны друг без друга. Как же это можно расставаться?
— Я не представляю, как смогу вести прежнюю жизнь, вялую, безгласную. Вся беда в том, что все приходит к нам слишком поздно.
— О чем вы говорите, да еще так печально? Вы ведь и сами знаете, что все приходит вовремя.
— Ты очень добра. Но все-таки я опоздал тебя встретить. Даже здесь, на юге, за этими вот столиками, я ощущаю на себе осуждающие взгляды. Ты могла быть моей дочерью, с которой я выехал погреться на солнце, но я смотрю на тебя влюбленно, и люди, все понимая, усматривают в этом порок — вот молодая красивая женщина связалась со старцем.
— А я думала, вас интересует, как отношусь к вам я. А вас, значит, интересует отношение к вам окружающих? Через пять дней мы уедем, и вы никого не вспомните. Так чье вам отношение все-таки дороже?
— Да, ты добра. Меня интересует только твое ко мне отношение.
— Тогда другое дело. А отношусь я к вам ну просто замечательно. Никогда не думала, что смогу к кому-нибудь относиться так замечательно. Я вас люблю, Николай Филиппович. Я думала — все! Дно колодца. Жизнь закончена, и я всегда буду тусклой. А вы со мной очень нежны.
— А как же можно с тобой иначе?
— Для меня и это непривычно, что со мной нежны. А иначе очень даже можно, и это как раз будет для меня привычно. Можно хамить мне, называть дурой, говорить, что безнадежно холодна и вообще ничего на свете не знаю, что я истеричка и загубила чужой талант. Можно даже и поколотить иной раз. Можно и так. Но я замкнусь, буду дурой, истеричкой и губительницей чужого таланта. А вы нежны, вы заботливы, и если относите это к старости души, что же, — значит, я за такую старость.
— Ты очень добра и потому нехудо относишься ко мне.
— Вы все время говорите, что я добра. Я не так уж добра. А что хорошо отношусь к вам, так это не от моей доброты, а от вашей. Я знаю, что нужна вам, и мне этого достаточно.
— Ты мне необходима.
— И потом я вот именно полна вами. Мне трудно это объяснить, а только я забываю, где я и что со мной, и словно я лечу куда-то в пропасть и вдруг зависаю в безвоздушном пространстве, и мне трудно очнуться и ступить на твердую землю. Пожалуйста, не говорите больше о своей старости. Я вас прошу.
— Хорошо, не буду. И все же мне печально, что я встретил тебя сейчас, а не десять и не двадцать лет назад.
— Ну, тогда я напомню вам, что десять лет назад я кончила школу, а двадцать лет назад пошла в первый класс. Вы ведь согласны, что у нас был бы замечательный роман, верно? — засмеялась Тоня.
— Ну это я вообще говорю.
— А вообще не следует. Тем более когда женщина признается вам в любви. И говорит вам, что вы ей дороже всех на свете. И что с вами она стала чувствовать себя полноценной женщиной.
От стакана на столе остался розовый ободок, и Николай Филиппович все смотрел на него, потом поднял глаза на Тоню, она сидела, подбородком упершись в разомкнутые ладони, и смотрела на него, и как же нежен был ее взгляд, так нежен, словно она боится потерять Николая Филипповича в следующее же мгновение, и губы ее приоткрыты были так, словно она собирается что-то спросить, но не осмеливается, он был дорог ей, и здесь не было сомнения. Нежность и благодарность залили Николая Филипповича, он протянул руку и погладил волосы Тони, а она взяла его за руку и прижала к своей щеке, они сидели и плыли так в этом взгляде, потом Тоня чуть повернула голову и сухими губами коснулась ладони Николая Филипповича, и тогда он встал и уже в оглушении потянул за собой.
Торопливо прошли они кемпинг, сознание их было как бы помрачено, и они не могли справиться с вертушкой в воротах, наконец как-то протиснулись в узкую улочку и пошли по ней к своему пристанищу.
Двор был освещен, отдыхающие за столиком играли в домино, они прошли двор стремительно, стараясь не выходить в центр светового круга, впрочем, Николаю Филипповичу было сейчас безразлично, что о них подумают отдыхающие, сейчас преград для Николая Филипповича не существовало, остановить его не смог бы никто, все потом — работа, мир, вселенная, — как-то поднялись по лестнице, и дыхания их захлестнулись.
Суббота была рабочим днем, зато в воскресенье они до обеда лежали на пляже, солнце плыло низко, народу много — радио на весь пляж разносит передачу «С добрым утром», а потом кто-то рядом врубает магнитофон, и мальчик жалобно поет: «Верю я, что любовь не потеряна, верю я в нас, Марианна». Идет по пляжу человек с мегафоном в руках и приглашает на морскую прогулку. Рядом капризничает четырехлетний мальчик, ему вырыли в песке яму и налили воды, мальчик бросает в воду камни, чтоб посильнее обрызгать загорающий люд, и когда это ему удается, он заливисто смеется, а люди, которых мальчик обрызгал, помалкивают, боясь пляжного скандала. А солнце все припекает, и ты, накапливая его в себе для дальнейших холодных времен, так это понимаешь — да что ж это занесло тебя на жительство в северные края, это ж мучение бессрочное — жить среди зимней стужи и осенней слякоти. Там сейчас, в местах родных, люди, поди, на демисезонные пальто переходят, тебя же солнце пригвоздило к горячему песку, и что это за блаженство — под ленивыми взглядами картежников и винных людей, под пение магнитофона входить в воду — вот она, влага беспредельная, вступить в нее и пережить короткое блаженство, когда стремительно вытекает накопившийся в тебе зной, и тело находит внезапное равновесие в этих двух средах — воде и воздухе — и уже не хочет с этим равновесием расставаться. И только ты погружаешься в прозрачную и тугую эту среду, как понимаешь, что ожидания этого погружения были только предощущением счастья, а само счастье полное, безущербное — вот оно, когда ты преодолеваешь сопротивление прозрачной влаги.
Тоня позвала Николая Филипповича прыгать с деревянного причала. Доски были влажны, Николай Филиппович защищал глаза от ожога сияния моря.
Тоня покачивалась на носках, стоя на краю причала, и в этом покачивании, во взведенности перед прыжком, в отведенных, как бы даже неестественно выпрямленных руках чувствовалась выучка.
Прыгнула она хорошо, в воду вошла прямо и бесшумно, потом звала Николая Филипповича к себе, и он, преодолев страх, плюхнулся в воду и, радуясь, что не струсил, подплыл к Тоне и взял ее за руки.
Тоня внезапно оглянулась — на них плыл прогулочный катер, и тогда они изо всех сил поплыли к берегу. И чудом успели проскочить — лишь слегка подбросило волной, и внезапная опасность холодком просквозила по сердцу.
Глаза Тони смеялись, блестело мокрое лицо, она счастлива, понял Николай Филиппович, она юна и счастлива, и, забыв, что их видно с берега, он поцеловал Тоню в прохладный влажный рот. И вдруг она оборвала смех и потерянно взглянула в его глаза и вдруг, прижавшись лицом к его плечу, безнадежно разрыдалась. Так именно и плачут малые дети — они не верят, когда беззащитны и обижены, что где-то там, в тумане дальнем, возможно для них счастье. Он гладил ее мокрые волосы, а сам недоумевал — да что с ней, ведь минуту назад была счастлива? А то и плакала девочка, что минуту назад была счастлива и вдруг поняла, что счастье невечно.
— Ну что с тобой, девочка?
— Все! Это все. И никогда больше не будет. Через два дня домой.
Николай Филиппович давно собирался забраться на гору, которая повисла над поселком, и после обеда, когда жара немного спала, они вышли из дому. Свернули с шоссе, прошли мимо двух больших камней, прислоненных друг к другу, — дольмен, было написано, древнее захоронение, третье тысячелетие до нашей эры, то были гладкие обычные камни, и они сейчас не волновали Николая Филипповича. Его сейчас не тревожила смерть даже нынешняя — его собственная и людей знакомых, а не то что людей пятитысячелетней давности, незнакомых и диких, — может, в одиночестве и тоске он и встревожился бы простейшим, обычным соображением, что смерть всегда была и всегда будет, — но не сейчас же, в самом деле, когда небо тугое от густой синевы, даже сказать — влажно-синее, когда темнеет за поворотом клок моря и когда солнце, белое, в жаркой песчаной дымке, жжет спину.
Дорога кончилась, пошла узкая тропинка в гору, колючки цеплялись за брюки, шли молча, чтоб не сбить дыхание. Николай Филиппович шел впереди, иногда он оглядывался, чтоб узнать, не устала ли Тоня, но она шла легко и было в ней что-то мальчишеское — эта белая кепочка, надвинутая на глаза, в брюках бедра ее казались узкими, да и движения были легкие, тренированные.
Из-за густого кустарника моря не было видно.
Потом деревья кончились, и они пошли рядом по пологому склону среди густой травы.
Он смотрел под ноги, чтоб легче было идти, но вдруг почувствовал какое-то беспокойство или радость, это трудно отличить, тогда он посмотрел вправо и увидел, что Тоня смотрит на него, и тогда он не смог отвести свой взгляд от ее взгляда, и они шли, забыв, что идут в гору и следует смотреть под ноги, чтоб не наступить на камень или змею.
Мир был замкнут этим общим неотрывным взглядом — и как же самозабвенно Тоня смотрела на Николая Филипповича, да, сама для себя она сейчас не существовала, был только он, его глаза, его лицо, какая у нее ясная и простая душа, и ведь она любит его, окончательно понял Николай Филиппович, то и такая нежность, нежность у нее на лице и самозабвение, да ведь нет никакой преграды для нее, сейчас он был для нее всем, ничего не было позади, ничего не было впереди, только плавание по этому горному взлету. Глазами он спросил, ну что, девочка, да ничего, ответила она, вот люблю вас, беда какая, но это ж не беда; а она уже в печаль вплывать начала — нет, покачала головой, это беда, да еще какая.
Он повел глазами влево и ахнул — внезапно открылось перед ними море от края до края, то было темное, слепящее глаза плоское тело — оно было неподвижно, но Николай Филиппович ощущал его как тело живое, с медленным тугим дыханием, ожогами и бедой.
Он снова взглянул на Тоню, — она смотрела не на море, а на него, сейчас для нее существовал только Николай Филиппович, все прочее было пустотой. Тогда и его сознание померкло — они были для людей, оставшихся внизу, не то что мурашами, но существами малейшими, которых и в микроскоп-то не разглядишь, а трава была такая высокая и густая, что они полностью растворились в ней, и тогда Николай Филиппович рухнул в траву, и трава охлаждала лицо, и он окликнул Тоню, чтоб обнять ее и никогда уже объятий не разнимать.
Вечером они пошли на танцы в турбазу «Заря». Был большой воскресный сбор, и площадка кишела танцующими. Николай Филиппович и Тоня сели на скамейку.
Оркестр играл все то же — «Конфетки-бараночки», и «Мясоедовскую», и «На последнюю пятерку куплю тройку лошадей», и было весело от этих полублатных песен, и музыканты казались ему людьми остроумными, они ловко обманывают простодушных людей. Весело было и Тоне — она удивлялась всеобщему воодушевлению и изобретательности танцующих, — вон тот прыгает на месте, словно физзарядку делает, а тот вон гвозди вколачивает и трясет сцепленными руками.
— Пойдем и мы, — сказала Тоня.
— Я не умею так резво.
— Они ведь дадут передышку. И будет танго.
— Это другое дело.
— И потом, никто никого не замечает. Каждый сам по себе.
И точно — музыканты запели «Верю я, что любовь не потеряна», второй раз за день слышит Николай Филиппович эту песенку, — и они пробились в центр площадки, чтоб вовсе затеряться в едва копошащейся массе, и обнялись, и замерли в объятье, им не нужно было даже ноги передвигать, толпа сама их разворачивала и двигала, было душно, пронзительный мальчишеский голос пел «Ах, как люблю я тебя», небо было темно, мелкие яркие звезды высоки, и снова, как сегодня на горе, померкло сознание — они смотрели друг другу в глаза, их крутила толпа, кто-то наступал на ноги, но ничего они не замечали, и вот сейчас, в копошащейся этой толпе Николай Филиппович впервые осознал, что жизнь, смерть, любовь — понятия равнозначные, равновеликие. И не просто любовь, но любовь к этой вот женщине, которую никто, кроме него, не защитит, которая предана ему без всякого предела, расстаться с ней — значит расстаться с жизнью, это Николай Филиппович понимал ясно и окончательно, — а душный вечер, и отваги хватило влезть в эту кашу среди мальчиков и девочек, «Ах, как люблю я тебя», — стонали музыканты, ах ты, боже мой, да за что же, да почему же, да как это счастье задержать на долгий срок.
— Не грустите.
— Я не грущу. Это я счастлив.
— Я тоже.
— Хороший вечер.
— Да.
— И танцы.
— Это неважно. Никого нет. Только мы.
— Да. Новые времена.
— Нет, просто люди со всего света.
— В Фонареве такого нет?
— Не знаю. Просто мы бы не отважились.
Песня кончилась, заиграли «Созрели вишни в саду у дяди Вани», все запрыгали, а они все топтались на месте, и было им все равно, здесь ли они, в Фонареве, в Москве ли — место значения не имело, — только б не разнимать рук, только б глаз не отводить.
Да, но как ни крути, а отлетели положенные семь дней, не сразу билеты на самолет достали, так и восьмой день прихватили, вот и он пришел — день отлета. Все! Лету конец, в осень пора. Стояли у моста, ожидая автобуса, люди уже вовсе осенние, он в темном костюме, она в черных брюках, теплой кофте, в руках плащи — осенние вовсе люди.
По небу облачка пошли, и надежда была, что объявят этот день нелетным и удастся им еще денек провести в сутолоке предотлетной, да что там — им сейчас чужой аэродром был дороже любого дома.
И не верилось, что через пять часов прибудут они в Фонарево и каждый войдет в свой дом. Да и как поверить, если с утра успели искупаться в море, вот сейчас автобус довезет их до Сочи, там еще час до аэропорта, три часа лету, час электрички, и все — осень и дом. Ну разве можно смириться с этим?
Да, можно, и еще как. Молча ехали в автобусе, а что говорить — оглушение, праздник кончился, все сказано.
Дождик так и не собрался, и надежды на нелетную погоду лопнули, как и всякие надежды. Скорехонько взвесили вещи, зарегистрировали билеты — тут перед ними какой-то сбой вышел с отлетом, и все спешили, — скорехонько запихали их в самолет да и отправили назад, откуда прилетели — по месту жительства.
Как только самолет разбежался и завис в воздухе, что-то оборвалось в Николае Филипповиче, он словно бы впал в беспробудное оглушение — все он видит, все замечает, вот даже руку за конфеткой протянул и кивком поблагодарил стюардессу, отметил даже, что стюардесса немолода, а недавно летали только стандартные красотки, да, верно, сейчас больше ценится надежность или же юных красавиц на внутренние линии не напасешься, он все вокруг замечал, но не понимал главного, где он, зачем он в воздухе и почему летит домой. Отчетливо понимал, что работа ему сейчас ненавистна, дом не мил и, будь его воля, он отсюда бы никуда не улетел. Но волю его никто к ответу не призывал, даже если б она и была. Но ее как раз сейчас и не было.
Как куль с почтой, как транзитный ящик, шваркнули его в самолет да и потянули к однажды отведенному месту. И главная беда в том состояла, что уже через три часа он увидит свой дом, войдет в родную квартиру. И это будет не когда-нибудь, но через три часа. И от сознания этого Николай Филиппович онемел.
Несчастна была и Тоня. Она откинулась на спинку кресла, прикрыла глаза и вроде бы дремала. Но она не дремлет, понимал Николай Филиппович, она смиряется, как и он, с тем, что юг кончился и уже сегодня начнутся повседневные заботы. Она была напряжена, и всякое вмешательство извне — разговоры, толчок проходящего пассажира — могло привести к срыву. Он дотронулся до ее ладони, сжал ее, но ответа не было, и Николай Филиппович смирился — разлуку надо вытерпеть в одиночку.
А в аэропорту назначения дул ветер, спускались сумерки, сыпал мелкий дождь, деревья вдали были желты.
Они не молчали, конечно, что-то говорили, но все общие слова, к ним самим прямого отношения не имеющие, — вот и осень здесь, но хорошо, что сентябрь, а не октябрь, на золото еще полюбуемся, тут вот дождик, и плащи кстати, а долетели, однако же, я уверен был, что не долетим, нет, долетели, а как было б славно, разом бы все и разрешилось, но нет, так просто все не разрешается, человек должен перед этим основательно посуетиться, — долетели.
Ехали в электричке, сумерки вовсе сгустились, но дождик перестал, и небо на закате было холодным, малиновым, а в вагонах зажгли свет, и, когда его зажгли, Николай Филиппович окончательно понял — осень, они на родной земле, а счастье позади — свет в вагонах всегда особенно тускл, когда ты недавно был счастлив и впереди тебя ждет одиночество.
Сидели друг против друга, Тоне было зябко, лицо ее посерело, стало замкнутым, словно они отстранились друг от друга, тогда Николай Филиппович попытался улыбнуться, но то была, сразу понял, страдальческая улыбка, и от огорчения он по-птичьи покачал головой. Она кивнула в ответ — все поняла, спасибо за поддержку, мы все дотерпим, верно ведь? И стал говорить — вот завтра на работу, ах ты, и верно, на работу, как там сын, да и мои ничего не писали, правда, и я их не баловал, как-то за последние десять дней о доме ни разу не вспомнил, думал — дом родной там, где хорошо, а нет, дом родной — это где страдать следует.
А уж Губино проехали — вовсе подобрались, вовсе к осени приноровиться старались, бочком к ней прижаться, раствориться в ней, и уж совсем знакомые места пошли, переезд, долгая очередь машин, вот и лодки на берегу залива, вот свалка, вот насыпь меловая, все ветер, портянки старые, огороды убранные, скрипели, шаркали, повизгивали тормоза. Все. Все? Да, все. Это дом родной.
У своего подъезда Николай Филиппович поставил чемодан на крыльцо, выкурил папиросу, все собираясь с силами. Но сил не было. Вот надо поднять чемодан, заторопиться по лестнице, чуть сбить дыхание — ведь он счастлив после трехнедельной отлучки вернуться в семью, — но все не мог собраться с духом.
Щелчком отбросил папиросу, проследил за ее полетом, удовлетворенно кивнул, когда она упала в цветник, все, сказал себе, пора идти в быт, потому что жить следует и дальше.
И он стремительно стал подниматься по лестнице, даже насвистывая тихо «Начнем сначала», вроде человек бодр и весел, потому что ждет его семья родная.
Николай Филиппович мог бы открыть дверь своим ключом, но дал длинный звонок, чтоб выиграть еще минуту отсутствия.
Все в порядке, сказал себе, он пришел в норму и сумеет сыграть роль счастливого отца, вернувшегося в дом.
Дверь открыл Сережа — это была удача, это возможность привыкнуть в коридорчике к своей квартире.
— О! Кто приехал! Да как загорел!
— Здравствуй, сын.
И они обнялись.
— Да уж не думал, что будешь торопиться. Месяц-то следовало просидеть. Но как загорел. Мама, Света, смотрите, кто приехал.
— А ты что дома?
— Отпуск. Еще две недели. Хожу за грибами.
В коридор вышли Людмила Михайловна и Света. Николай Филиппович втиснулся между ними и разом обнял их, но мгновенно сообразил, что это слабовато выходит, и обнял каждую в отдельности да с поцелуем в щеку: здравствуй, Люся, здравствуй, Света.
И уже все вместе стали говорить, что он загорел, похудел, вообще помолодел, хотя, конечно, загар морщинит лицо, ну, ничего, вид усталый вполне объясним перелетом. И вообще:
— Человек был в командировке, а не на прогулке, вот и устал. Верно ведь, Нечаев? — Он мог бы и тайный подвох усмотреть в этих словах жены, но решил не усматривать.
— Верно, Люся, не на прогулке. Хотя сегодня утром еще купался.
— Счастливчик! — Это Света позавидовала.
— И море — двадцать один градус.
И вот когда он влез в привычные шлепанцы, то почувствовал, что в нем сидят сейчас два человека, два Нечаева, — один тот, что ехал в автобусе, курил у подъезда, ощущал себя человеком несчастнейшим, сидел где-то в груди у второго Нечаева, который привычно улыбался родным людям и был суетлив, и второму Нечаеву ясно было, что того, первого, можно отстранить только непрерывной суетой, веселостью, и как только второй Нечаев на мгновение умолкал, первый начинал напоминать о себе нытьем в груди, и тогда Николай Филиппович с пиджаком в одной руке, с чемоданом в другой прошел в большую комнату и потребовал:
— А где же паренек? А подайте сюда паренька! — Дедуля-путешественник стремится к любимому внуку.
Уже поставил чемодан на коврик, бросил пиджак на диван, вдруг вспомнил, что нужно руки помыть, и прошел в ванную, там глянул в зеркало, боже мой, какие фальшивые глаза, какая приклеенная улыбочка, и даже отвернулся в омерзении, но в этот момент в груди заныло от тоски, ведь получаса не прошло, как расстались с Тоней, а ей-то каково сейчас, нет, ей все-таки лучше — не нужно раздваиваться.
— А вот мы его сейчас увидим, мы его забодаем. Он не спит? — спросил у Светы.
— Нет, мы только с прогулки. Скоро пора кормить.
— Молоко есть?
— Почти нет. Подкармливаем.
— А мы его! А мы его!
Уже склонился над внуком, умилился было схожестью с малолетним Сережей, даже обрадовался, что второй Нечаев надежно упрятал первого за прутья грудной клетки, однако ж поймал себя на собственном постороннем взгляде — вот он вроде умиляется, видя внука, слыша, как тот гукает, как взмахивает руками и тянется к деду, а тому-то, главному, в сущности, Нечаеву, все это игра фальшивая, и нет ему ни минуты покоя.
— Хорош паренек. Агу, Коленька. Агу, тезка. Ну, на руки к деду. Стоит уже?
— Рановато еще. Пытается, но мы не даем. Вот затылочек у него плоский. Сережа боится, не рахит ли это.
— Светочка, не мне тебя учить. Только замечу, что у Сережи в этом возрасте тоже был плоский затылок. И ноги кривоватые. И заметь — сейчас у него и затылок вполне неглупый, и ноги довольно прямые. Ну, тебе его кормить пора? Тогда забирай. А ты, мать, накрывай на стол, кормилец прибыл. А мог и не вернуться, ну, роман там закрутить, но вернулся. — Это шутка такая многолетняя после командировки.
— Как работалось? — спросила Людмила Михайловна.
— Да ничего. Только один запоролся. Пришлось подмогу звать.
— Вкус у тебя недурен, однако.
— Кто ж бросит камень в стареющего мужчину, если он не протестует, когда в подмогу ему дают молодую ученицу, а не старого алкоголика…
— Константинов сказал, что больше некого послать..
— Я так и понял и смирился. Хотя с сотрудником проще, чем с сотрудницей. Легче общий язык находить.
— Она хоть толковая?
— Ты знаешь, она толковая.
— Такой ученицей можно гордиться.
— Пожалуй. Она толковая и серьезная.
— Кто это такая? — спросил Сережа.
— Ты не знаешь, — сказала Людмила Михайловна. — Одна наша сотрудница.
Николаю Филипповичу не понравилось, что Людмила Михайловна не назвала Тоню, она знает, что Сережа учился с Тоней в соседних классах, следовательно, ей неловко за мужа. Но чтоб не вышло заминки, Николай Филиппович направился к чемодану и, потирая руки, приговаривал:
— К столу, к столу! Тут винцо припасено. Оп-па. Вот и оно, «черные глаза». Торжество все-таки.
За столом было весело. Делились новостями. Вот главная: Сергею и Свете дали жилье. Еще нет сигнала въезжать, но со дня на день будет. А Николай Филиппович рассказывал, каково ему было на юге, как танцуют курортные люди и что поют музыканты.
Но когда вышла пауза — Сережа и Света ушли в свою комнату, Людмила Михайловна стелила постель, и Николай Филиппович остался один на кухне, — он подошел к окну и вдруг задохнулся от одиночества и жалости к себе. Он внезапно сбросил маску веселого добрячка, стал собой, тоскливо смотрел в темень и понимал, что это навсегда — двойное его лицо, — нет выхода.
С Тоней он расстаться не может, нет ему без нее жизни, расстанется только тогда, когда она разлюбит и покинет его, не раньше — это он понимал окончательно. Также понимал, что не сумеет поговорить с Людмилой Михайловной, сказать ей правду и, следовательно, расстаться. Этого он подавно сделать не мог, обдумывал на юге, смелости набирался — но не сумел, тоже понимал окончательно. Случись с ним любовь десять или пятнадцать лет назад, как знать, может, и отважился бы. Хотя вряд ли. Расстаются же другие люди, женятся по второму разу. Другие — да, но только не он. Легко сказать себе: «Да будь же ты мужчиной, отважься», — но отважиться невозможно. Если бы она сейчас оставила его, он перетерпел бы, смирился. Но сам — никогда.
Они прожили вместе почти тридцать лет, вырастили детей, сейчас оставить ее — значит предать. Предателем Николай Филиппович стать не мог. Это значит расстаться с сыном и внуком, потому что сын предательства не простит, это значит отречься от всей прошлой жизни, от привычных людей, быта. Невозможно.
Сейчас, когда им скоро по пятьдесят, снести такой разрыв Людмила Михайловна сумеет едва ли. Да еще при ее гордыне. Нет, это невозможно. Это уже крест до дней последних. Такие тугие времена они вынесли совместно, сквозь какой быт продирались, ведь тогда, когда она была молода, он предан был ей безгранично.
И потом, поменяйся они местами, случись роман не с ним, а с ней, да никогда бы Людмила Михайловна не оставила бы семью, потому что для нее жизнь именно вот в этой семье. Здесь нет сомнений.
И, следовательно, играть нужно по одним правилам.
Но как же невыносима осень, когда тусклый фонарь за окном лишь вырывает из тьмы сероватый, просеянный мелким дождем клок, как тягуче, резиново шелестит время, когда кажется, что вечер никогда не кончится, и коротать его у светящегося ящика, у блеклой книги, нетерпеливо ждать утра, потому что утро — это работа, потому что удастся увидеть Тоню и всякий раз с горечью удивиться — а ведь как счастлив был в прошедшей своей жизни, сейчас же счастлив лишь короткие мгновения, когда видится с Тоней.
Но в том и дело, что нынешнее счастье было хоть и коротко, но так слепяще, что он не согласился бы променять его на все долгое прежнее благоденствие. И до следующего мига короткого нынешнего счастья согласен был коротать свою раздвоенность, и осеннюю тоску, и бессмысленность платы за непредательство.
И чувствовал, что домашние понимают, что папаша не тот, не прежний, он явно не в порядке, веселость его сменилась дурашливостью, бодрость — суетливостью, и в этой суетливости случаются провалы — он иногда теряет контроль, и тогда тело его как бы раскисает в кресле, это воля к игре покидает его, он теряет контроль над собой, сознание его меркнет к окружающему быту и блуждает где-то вдали, юг ли вспоминает: вот они идут в гору, да, всего чаще — именно идут в гору, взглядов перехлест, короткое, отлетевшее счастье, — и Николай Филиппович, чувствуя на себе удивленный взгляд жены или сына — видно, улыбка блаженного воспоминания скользит по его лицу, — сразу подбирается и посылает зрителям просительную улыбку: вот вздремнул, сон видел странный — ну, ему прощение и отпущено, да, видно, папаша неудержимо стареет.
Глава 4 Зима
Так он жил. За два дня они с Константиновым составили нужное письмо, приложили результаты испытаний морковоуборочного комбайна «Бумалуч», а также копию заключения ВАСХНИЛ (рекомендуем запустить машину в серийное производство), и теперь оставалось ждать реакции на это письмо.
В октябре Сережа переехал в новую двухкомнатную квартиру. Переезд был прост: два чемодана вещей, диван-кровать, коляска, какие-то ящики и книги, все остальное — молодая надежда на дальнейшее благополучие. И когда Николай Филиппович оставил Сережу, Свету и Николашу в их новом жилище и бродил по своей опустевшей квартире, то его не покидало предчувствие: а ведь не к добру этот переезд, пусто в квартире, всюду разор, сиротство. И это новая трудность — то хоть мог отключаться, разговаривая с сыном и невесткой, возясь с внуком, теперь же остался один, и как же это доиграть роль достойно.
Покатилась жизнь. Душа Николая Филипповича разрывалась между домом и работой. Дома — заботливый муж и отец, так душу настраивал, идя с работы домой, что вот еще этот вечер следует выдержать, обозначив радость и благодушие, он полностью доволен окружающим. А утром нетерпеливо стремился на работу — он увидит Тоню, ей уже отдельный стол выделили — Витя Кифаренко на два месяца уехал в командировку, — да и нельзя же бесконечно сидеть за одним столом, испытывая терпение сослуживцев.
А на смену осени ранняя зима пришла, ударили морозы, встречаться в парке стало невозможно, а другого пространства — замкнутого, разумеется, — не было. Так и виделись — бегло, несколькими фразами обменивались на ходу, а помнишь, помню, конечно, как забыть возможно, месяц, даже полтора месяца разлуки выдержал Николай Филиппович, но дольше выдержать не смог — непременно должен ее видеть. И тогда Николай Филиппович сообразил, что хоть иногда, хоть раз в неделю, можно встречаться и на работе.
И это просто: работа начинается в половине девятого, а впускать рвущихся к работе людей начинают в семь, так если приходить за час до работы, да если не вместе, а порознь, с десятиминутным разрывом, так ведь за час можно поговорить и обняться бегло. Эрзац-свидания, конечно, но что поделаешь, если двум людям негде приткнуться в осенне-зимнее время, он мог бы комнату снять, но даже если б комнаты сдавались, сделать этого нельзя, потому что Людмиле Михайловне в тот же вечер стало бы известно, где муж проводит время, — это ж провинция, малая точечка.
Раз или два в неделю они встречались в помещении группы Николая Филипповича. Боже мой, на какие только унижения не идет человек, чтоб судьбу обмануть, чтоб только привычное течение жизни не нарушить, чтоб не стать в глазах другого человека предателем.
Разумеется, дело невиданное, чтоб кто-то так рвался на работу и приходил за полчаса до ее начала, а все ж какое это унижение, какой суетливый одышечный страх. И отказаться от встреч Николай Филиппович не мог — пусть так, пусть в страхе и суете, а все же она рядом сидит и вот ее глаза, губы, плечи, а Тоня соглашалась встречаться потому, понимал Николай Филиппович, что хоть и боится и трепещет от страха, но ведь если он настаивает на этих встречах, значит, они необходимы ему, и она согласна была терпеть страх, чтоб только Николаю Филипповичу было лучше.
Они все время были в предчувствии, что вот-вот что-то должно произойти, чему они помешать не в силах, снова Николай Филиппович чувствовал себя зависшим над пропастью, и катастрофа может стрястись со дня на день, и он не в силах предотвратить ее.
Однажды они сидели на диване, Николай Филиппович гладил Тоню по голове, утешал: ну, ты потерпи, девочка, это не может продолжаться бесконечно, глядишь, кто-нибудь из друзей уедет в командировку и попросит приглядеть за его квартирой, может, что другое подвернется, нет, это никакое не унижение, что мы здесь, разве ж можно унизить людей, если они любят друг друга; а до работы оставалось минут сорок; да, я согласен и так, только бы с тобой рядом: они сидели обнявшись, вовсе позабыв о близкой катастрофе.
И вдруг в комнате вспыхнул свет. Он был тем неожиданнее, что в коридоре не было слышно шагов, следовательно, человек к этой комнате подкрадывался.
Николай Филиппович защитил ладонью глаза от света, а когда ладонь отвел, то увидел в центре комнаты Людмилу Михайловну. Потерянно смотрела она на них. Тоня отстранилась от Николая Филипповича.
— Так! — выдохнула Людмила Михайловна. Она хоть ожидала увидеть чужое свидание, однако не могла очнуться от потрясения.
— Тоня, ты сейчас иди домой и сегодня на работу не выходи, — спокойно сказал Николай Филиппович. — Я тебя прошу. Ты в этой сцене не повинна. Сиди весь день дома. Завтра скажешь Константинову, что на весь день ездила на станцию в Губино. Он поверит. Потому что Людмила Михайловна не станет выносить сор из избы. Этого ей не позволит ее гордость.
— Я не могу вас оставить.
— Нет, вы-то как раз можете нас оставить, — сказала Людмила Михайловна. — Вам не следует присутствовать при семейной сцене.
Тоня в дверях испуганно посмотрела на Николая Филипповича, он кивнул ей — ничего, девочка, иди домой.
— Так! — сказала Людмила Михайловна. — Что все это значит?
— Ты что — слепая? Это значит — свидание. Это значит — не надо выслеживать мужа. Это унизительно. Я от тебя не ожидал.
— Ты прости меня. Я и сама не ожидала. Какое-то помрачение у меня. Но ведь и стыд какой. И какой же ты негодяй, Нечаев.
— Только, пожалуйста, без сцен. Зачем же терять голову в совершенно ясной ситуации.
Вот этот твердый тон больше всего и поразил Людмилу Михайловну. Но не лепетать же Николаю Филипповичу слова оправдания, дескать, седина в висок, бес в ребро, и ничего серьезного, так, шалости стареющего мужчины, а только лепет мог спасти семенную жизнь, однако унизиться Николай Филиппович не мог — в нем была сейчас та ясность, какая бывает у человека, которому совершенно нечего терять.
— Ты посмотри на себя — ворот рубашки расстегнут, галстук сбился. Стыд какой. — Вот до нее стало доходить понимание случившегося. — Да это же низость: она ровесница нашего Сережи. Ты селадон.
— Прекрати, Люда. Не унижайся.
Он подошел к ней, чтоб как-то успокоить, но она в беспамятстве уже оттого, что муж, ее собственность, ее вечный обоз, так обманул ее, что уже не собственность и не обоз и, следовательно, всю жизнь она обманывалась на его счет, звонко ударила Николая Филипповича по щеке. Он отшатнулся. Затем с силой сжал ее руки и сказал:
— Все! Это все!
И Людмила Михайловна сразу обессилела, ноги ее начали подкашиваться, и она упала бы на пол, но Николай Филиппович успел подставить стул. Людмила Михайловна рукой держалась за сердце и тяжело дышала.
— Что с тобой, Люда? — испугался он.
— Сердце. С утра болит. А сейчас как ножом ударило.
— Сейчас, я сейчас, — засуетился Николай Филиппович. — Выпей воды. Я вызову «скорую помощь». Ложись на диван, легче будет.
Он вызвал «скорую помощь», все беспокоился возле жены, бросился к проходной встречать врача — и встретил, быстро прикатили; врач осмотрел Людмилу Михайловну, сделал обезболивающий укол, сходил за носилками, и они с Николаем Филипповичем отнесли Людмилу Михайловну к машине.
— Надо инфаркт исключить, — сказал врач. — На то похоже.
Когда они вталкивали носилки в машину, Людмила Михайловна поманила пальцем Николая Филипповича. Он склонился над ней, и она сказала тихо:
— Только не вздумай приходить в больницу. Ненавижу!
Потерянно бродил Николай Филиппович по бюро — никого еще не было. Все кончено. Он ждал постороннего вмешательства в свою судьбу, у него не хватило отваги судьбой распорядиться самостоятельно, и вот расплата — приход ожидаемой беды и катастрофы. Только бы у Людмилы Михайловны не инфаркт. Оправдания нет, прощения нет, ах, не в оправдании, не в прощении дело, не о себе сейчас тревога, о Людмиле Михайловне — ведь ближайший, драгоценнейший человек. И все из-за него.
Появились первые сослуживцы. Они, пришедшие чуть раньше времени, шли вальяжно, распахнув пальто, в руках держа шапки, за ними деловито шли люди, пришедшие вовремя, вот они разделись, сели за столы, и сразу взрыв звонка, а вот и те, кого звонок застал в коридоре, они летят по-заячьи, глаза суетятся по сторонам — нет ли поблизости начальства.
Николая Филипповича раздражала всякая мелочь — да что ж это за суета из-за пятиминутного опоздания, когда в это время решается жизнь Людмилы Михайловны.
В девять часов он позвонил в приемный покой больницы и узнал, что Людмила Михайловна находится на лечении в терапевтическом отделении больницы и что у нее подозревают инфаркт миокарда.
Тогда Николай Филиппович оделся и вышел на улицу. Стоял густой неподвижный туман. Двухэтажное здание напротив казалось разорванным в клочья. Чуть начинало светать. Это декабрь — самое темное время. Морозило. Николай Филиппович, чуть выставив левое плечо, продирался сквозь липкий туман.
Он вошел в ординаторскую терапевтического отделения, поздоровался с заведующей Лидией Васильевной. Она много лет знает Нечаевых, Николай Филиппович лечился у нее. Ей пятьдесят лет, Лидии Васильевне, у нее годовалый внук, но глаза ее светло-голубые, не замутненные печалью, как у юной девушки.
— Ну что? — спросил Николай Филиппович.
— Да вы успокойтесь.
— Так, а что?
— Да я затрудняюсь сказать. Боли снимал дежурный врач, он подозревает инфаркт. Будем исключать.
— Но она здоровый человек.
— Ах, Николай Филиппович, все мы здоровы до поры до времени.
— Это я понимаю. Так я пойду к ней?
— Нет, посидите пока вот здесь. У Людмилы Михайловны доктор снимает электрокардиограмму, а Сережа ей помогает.
Николай Филиппович сел на диван и погрузился в терпеливое ожидание. За окном уже рассвело. Зябкий неясный свет заливал двор, разбавлял туман холодным синеватым молоком.
В ординаторскую вошли Сергей и молодая женщина с лентами кардиограммы в руке. Николай Филиппович встал, сделал к Сергею шаг, затем остановился, все не отводя от сына взгляда.
Молодая женщина разложила на столе ленты.
— Инфаркта нет, Сергей Николаевич. Давайте посмотрим вместе. Вот и вот. Я все распишу подробно.
— А это? — спросил Сергей.
— Ну, это нарушение трофики. Скорее физиология — дань возрасту. Нет, хорошее сердце, — сказала молодая женщина.
— Ну, вот и хорошо, — сказала Лидия Васильевна, — я слушала ее, по-моему, тоже инфаркта нет. Какое-то у нее потрясение. Не хочет говорить, только плачет. Значит, это не инфаркт, а функциональные дела.
— Вот и хорошо, — обрадовался Сергей.
Николай Филиппович был так измучен оцепенением ожидания, что на проявление радости сил не осталось.
— Она полежит у нас несколько дней, — сказала Лидия Васильевна, — дадим ей успокаивающих средств, укрепим маленько да и отпустим.
— Спасибо вам, Лидия Васильевна, и вам, доктор. Я не ходил покуда к Людмиле Михайловне, не хотел вам мешать, а теперь посижу у нее.
— Погоди, папа, — сказал Сергей. — Мама заснула. Пускай спит. — Он надел шапку, накинул на плечи пальто.
Вышли в закуток перед ординаторской.
— Пройдемся по двору, — предложил Сергей.
— Да, только ты надень пальто как следует. Простудишься. Ну, как мама?
— Да ты же все слышал. Плакала все время навзрыд. Вот теперь успокоилась.
Туман рассеивался. Солнце висело низко, — светило смутно, то был расплавленный дынеобразный слиток. От смутного его света снег был сер и тускл. Он скрипел под ногами. Сергей запахнул пальто и поднял воротник.
Они шли по двору вокруг хирургического отделения. Как же томился Николай Филиппович, что ему сейчас предстоит рассказать сыну о причине ссоры. Он знал, что Сергей чувствует это его томление.
— Да, мама нас очень напугала, — сказал Сергей. — Представь себе, я потрясен даже не самой болезнью, а именно сознанием, что мама так же слаба и беззащитна, как прочие люди. Когда я увидел, что в ней нет привычной уверенности и властности, я потерял голову. Все люди слабы и имеют право заболеть — и я, и ты, и все, — но только не мама.
— Пойми меня, сын, — начал Николай Филиппович, — и не осуждай сразу. Ты взрослый человек.
Николай Филиппович ждал, что Сергей поможет ему наводящими вопросами, но тот терпеливо ждал.
— Я, представь себе, полюбил другую женщину. — Все, слово сказано, мосты сожжены, в шутку обратить дело невозможно. — Ну вот, а мама об этом узнала. И сегодня убедилась в этом. Она тебе не рассказывала, как убедилась?
— Нет.
— Тогда и я не скажу. Захочет, сама расскажет. Да это и неважно. Не сегодня, так завтра убедилась бы.
— Отчего же? Многие люди долгие годы ведут двойную жизнь, и все у них получается ладно.
— Ты это серьезно?
— Конечно, серьезно. А ты, что же, — маме взял да во всем и признался?
— Нет, я не признавался. Я лгал.
— Ну, а многим людям ложь сходит десятки лет.
— Я бы так не смог. Я, видно, другой человек. Я бы долгую двойную жизнь не выдержал.
— Я знаю немало умных людей, которые неплохо чувствуют себя в таком положении.
— Ты меня удивляешь, Сережа.
— Чем же? Сухостью? Рассудочностью?
— Да, вот именно рассудочностью. Ты меня не понимаешь.
— Почему же я тебя не понимаю? Я понимаю. Тоня, без всякого сомнения, человек замечательный. Я и сам был в нее влюблен в девятом классе, тайно, правда, и она об этом не знала. И дело не в ней, а в тебе. Я ведь в августе тебя предупреждал.
— Я хорошо помню.
— Тогда это были слухи, но на всякий случай я высказал свое отношение. И я не вижу, почему должен его менять. Прости, что я говорю сухо.
— Ничего, я помаленьку привыкаю.
— Я понимаю, тебе сейчас тяжело, ты, я думаю, хотел бы, чтоб все развивалось естественным образом, плавно, и уж, во всяком случае, без вмешательства посторонних сил в виде семьи, случая, быта. Ты, я думаю, хотел бы полагаться только на время. Так ведь?
— Так.
— Но на время, выходит, полагаться нельзя. Мама безостановочно плачет и говорит, что не видит смысла жить дальше. Она так считает: вот мы с Олей уже взрослые и в ней особенно-то не нуждаемся, она свой долг исполнила, вот думала, что нужна тебе, но теперь она не защита, а помеха, и потому ты ее предал — это ее слова. Так что пойми и ты меня, у тебя есть надежды на будущее, раз ты решил поговорить со мной, а у мамы таких надежд нет. Ее защищать могу только я.
— Я рассчитывал не на жалость, а на понимание.
— Я и стараюсь понять тебя. Зная маму, ее самолюбие, ты ведь все заранее взвешивал. И для тебя так вопрос и стоял: или Тоня, или семья. А семья — это мама, Оля, я и мой сын.
— Но ведь бывают случаи, когда человеку не до расчетов.
— Я понимаю, это красиво звучит. Однако для тебя вопрос все-таки стоял — или роман, или семья. Мама несчастна, и я приму ее сторону. Ты рассчитываешь на высшее понимание, на всепонимание, но оно невозможно, поскольку речь идет не о людях вообще, но конкретно о моей матери. И я всегда буду на ее стороне, потому что больше ей рассчитывать не на кого. Если ей будет плохо всегда, значит, я никогда не буду способен на всепонимание и всепрощение.
— Ты ничего не понял, Сережа. Мне очень тяжело, сын, — не сдержал жалобы Николай Филиппович. — Если б я не дорожил вашим мнением, дело не дошло бы до скандала. У меня не хватило сил на разрыв. Ты даже не можешь представить, как тяжело мне было от раздвоенности. Я не мог поговорить с вами, потому что боялся. Хотя и полагал, что вправе распоряжаться собственной жизнью. Мне сейчас очень трудно, сын.
— Конечно, еще бы. Тебе еще предстоит что-то решать, а за маму уже все решено. Тебе тяжело от предстоящих решений, а ей тяжело, что ничего не нужно решать. Вы просто разные люди. И потом я не верю, что есть такая любовь, ради которой можно оставить детей и жену. Я уверен, что взрослый человек, и во всяком случае человек цивилизованный, обязан уметь себя сдерживать. Но вообще-то я действительно считаю любовь к детям несколькими порядками выше любви к женщине. Как, к слову говоря, и долг. Если человек не расстался с женой, когда она была молода, то оставить ее, когда она немолода, он не имеет права. А если он оставит новую любовь, чтоб не предавать жену, то это мы назовем справедливостью.
— Но что делать человеку, если он действительно любит, да так, что ты даже и представить не можешь?
— Я уже отвечал на этот вопрос: терпеть. Только терпеть.
— А, все то же, — огорчился Николай Филиппович. — Старыми песнями про долготерпение никого убаюкать нельзя.
— Но в таком случае человек должен быть готов расплачиваться за свою страсть. Вот сейчас, например, мама просит, чтоб ты в больницу не приходил. И я вынужден защищать ее. Если тебе нужно что-то узнать, то приходи ко мне в хирургию. Я боюсь повторения болей. Так что ты нас пойми, папа.
— Да, конечно, понимаю.
— Я надеюсь, что все будет в порядке, и я смогу забрать маму домой.
— Тогда до вечера?
— До вечера.
— Не осуждай меня, пожалуйста, — снова попросил Николай Филиппович.
— Да я и не осуждаю тебя. Но и ты не сердись — всепонимание во мне сейчас невозможно, оно аморально. Пойми. И не обижайся.
— Я не обижаюсь.
— Но все так неожиданно. Болезнь. Крах привычного.
— Да. Конечно.
И они расстались. Николай Филиппович побрел на работу.
Какой же это невероятный день, как медленно и нервно он тянулся. Николай Филиппович всем своим видом обозначал, что занимается делом, но душа его томилась — что ее ждет еще? Все вроде бы ясно, тайн больше нет, но, однако, все в тумане, и какие еще предстоят разговоры. Более всего Николай Филиппович изводился от неизвестности — ну, что еще его ждет в ближайшее время. И от тревоги за Тоню, ей-то сейчас каково. Он относился к ней — в своей жалости — как к ребенку, у него скручивалось так: вот ссорятся взрослые, а расплачиваются дети. Он, Николай Филиппович, все, пожалуй, вытерпит, постарается не унизиться, то есть достойно все стерпеть, но Тоне он ничем не мог сейчас помочь.
Наконец рабочий день дотянулся до звонка, но звонок Николай Филиппович встретил не с ожидаемым облегчением, но с тревогой — опять ожидание, неясность. И, конечно же, чувство вины. Тем более что тебе не дадут оправдаться.
А какой же морозно-слякотный вечер стоял. Продыху не было, и липкий мороз схлестывал дыхание. Там, над головой, небо было темно и чисто, уже начали раскаляться звезды, над парком повис серп луны, но здесь, на земле, вольному передвижению человека мешали липкий туман и мороз, и это было несправедливо — еще бы немного, и земля бы очистилась от тумана и слякоти, и тогда, возможно, тревога отпустила бы душу.
Николай Филиппович зашел в приемный покой узнать о состоянии жены — в терапию, помнил он, вход ему закрыт.
За столом сидела молоденькая медсестра. Голова ее была покрыта цветной косынкой, под косынкой угадывались бигуди.
Николай Филиппович назвал фамилию жены.
— Нету! — сухо отрезала медсестра.
— Как это нету? — заволновался он.
— Нету, и все! Увезли.
— Кто увез? Куда увез? — Он не мог справиться с испугом — ей стало хуже, и ее увезли в большую клинику.
— Сергей Николаевич и увез. Выздоровела. Домой увез. — Она разговаривала вздорно, скандально, значит, он того заслуживает. Раз не знает, где жена и что с ней, выходит, сам и виноват в ее болезни и потому внимания не заслуживает.
Николай Филиппович кивнул сестре и вышел из приемного покоя. Спиной прислонился к покрытой влажной изморосью стене — так замер, лицо обратив к небу. Ждал, пока вытечет из него страх, пережитый несколькими мгновениями раньше. Случись с Людмилой Михайловной что-либо серьезное, ему житья тоже не будет. То был странный страх и не менее странное облегчение: обрадовался Николай Филиппович не так тому, что с его женой ничего страшного не случилось, как тому, что вот ничего страшного не случилось, и, следовательно, он ничему не виновник, то есть не душегуб. Понимание, что такое соображение — недостойное, и опечалило, и успокоило Николая Филипповича.
Втайне он надеялся, хоть и не осмеливался признаться в этой надежде, что Людмила Михайловна пробудет в больнице несколько дней, там успокоится, гордость ее притихнет, а он за это время соберется с мыслями, поговорит с дочерью и с Сережей, не то чтоб ему оправдываться нужно, нет, но дайте человеку объясниться, не прощения он просит, не сочувствия, но хоть снисходительного внимания. Он ведь был терпелив к вашим неловкостям, неумению, слабостям не год и не два, но несколько десятилетий, так уделите ему хоть полчаса.
И вот домой идти следовало прямо сейчас. Никогда прежде не шел он домой с такой тревогой, неохотой, да что с неохотой, он сейчас шел домой, как на заклание.
Раздирал плечом слоистый туман, да туман этот был не сплошной, а клочкастый, шел тугими озерцами. По-прежнему раздражало Николая Филипповича то, что вот здесь, на земле, мразь липкая, а на небе ярко палилась белая луна, звезды льют свет ровно, там хоть и холодно, но чисто.
Дошел все-таки до дома, не стал даже у подъезда передых устраивать, чтоб сил набраться, а так, побрел к своей двери, с вялой волей и согласием на худшее.
А дальше — туман, бред, невозможность.
Когда он открыл дверь, то слышал поначалу голоса — Людмила Михайловна на кухне разговаривала с Сережей, — и сразу голоса смолкли. Николай Филиппович обреченно понял, что против него имеется сговор.
Он неторопливо снимал пальто, вот повернулся к вешалке, вот сразу попал петелькой пальто на штырь, вот, чувствуя за спиной присутствие Людмилы Михайловны, взгляд ее тяжелый, медленно поворачивается на этот взгляд.
Да, в дверях кухни стоит Людмила Михайловна, смотрит не то чтобы ненавидяще, конечно, есть и ненависть, но именно презрительно, даже тяжело-презрительно, так что надежд на примирение, а тем более прощение быть не может. Она стоит величественная, уверенная в своей правоте. Глаза сухи и горячи. На ней черная кофта, плечи и шея покрыты тонкой белой шалью. И разглядел Николай Филиппович — блестит пот над верхней губой — нервничает, однако, Людмила Михайловна.
Николай Филиппович ожидал встретить надрыв, истерику, взорванный быт, потоки слез и проклятий, но здесь — холодное презрение, и уже примирение невозможно.
Они молча смотрели друг на друга. Людмила Михайловна даже голову вскинула надменно — и с этим ничтожеством она жила без малого тридцать лет! — и руки замкнула на груди.
Сейчас какие-либо разговоры были невозможны, и Николай Филиппович, чтоб прервать уничтожающее его рассматривание, хотел пройти в маленькую комнату и запереться там до позднего вечера. Надеялся, что Людмила Михаиловна не в силах будет носить маску холодного презрения и ближе к ночи все кончится потоком слез, даже рыданий, и тогда возможен хоть какой-то разговор.
Он пошел было по коридору, но проход загородила Людмила Михайловна. Она все не желала снизойти до разговора с ним и, оборотив лицо в глубину кухни, сказала:
— Сережа, помоги мне, пожалуйста.
Сережа вышел в коридор. На отца он не смотрел, только на мать.
— Сережа, объясни, пожалуйста, твоему отцу, что под одной крышей мы жить не сможем.
Это было нелепо и потому неожиданно, Николай Филиппович удивленно смотрел на жену и сына, Людмила Михайловна выдержала его взгляд, тем давая понять, что решение ее твердо. Сергей же по-прежнему избегал отцовского взгляда.
— Да вы что, — сказал Николай Филиппович, он ожидал скандала, истерики, презрения, чего угодно, но не фарса. — Это ведь и мое жилье тоже.
— Согласна, — сказала Людмила Михайловна. — Сережа, подай мне, пожалуйста, пальто. Мы уходим.
И тогда Сережа сказал:
— Может, уйдет кто-нибудь другой?
— Да вы что — рехнулись? — не сдержался Николай Филиппович. — Да как же так? За что же это? И гоните? За что все-таки? За то, что один человек полюбил другого человека? То есть не за преступление наказываете, а за любовь. Почему? Опомнитесь! — бормотал Николай Филиппович, но Людмила Михайловна перебила его:
— Сережа, этот человек не расслышал, что ты сказал. Повтори, пожалуйста.
И тогда Сережа, надо ведь, повторил:
— Я говорю — может, уйдет кто-нибудь другой?
Николай Филиппович вздрогнул, даже отступил на несколько шагов и взглянул на сына — Сергей в этот раз выдержал взгляд отца, и Николай Филиппович был потрясен — какие жесткие и неуступчивые глаза были у сына. Таких глаз у Сережи прежде никогда не было.
— То есть вы хотите сказать, что мне прямо сейчас следует взять да и уйти? — растерялся Николай Филиппович.
Ответом было молчание — да, ему прямо сейчас следует уйти.
— Сережа, помоги, пожалуйста, отцу собраться, — сказала Людмила Михайловна.
Сергей вспыхнул, конечно, эта сцена для него унизительна, и если б он сейчас сказал, да что же мы делаем, так нельзя, это же твой муж, а мой отец, то Николай Филиппович простил бы сына. Даже и обнял и пожалел бы — доброта к одному человеку не должна оборачиваться жестокостью к другому.
Впрочем, Николай Филиппович еще надеялся, что это только демонстрация, его, конечно, унижают, но не может унижение быть беспредельным, человек — не пес шелудивый, нельзя его выбрасывать за порог.
Он неторопливо достал из кладовки большую сумку, бросил в нее смену белья, белую рубашку, свитер — это только затем, чтоб заполнить сумку, а также дать жене и сыну время одуматься.
Прошел в ванную, взял электробритву, зубную щетку, защелкнул сумку, вышел в коридор и, надевая пальто, все ждал, сын сейчас скажет: «Фарс затянулся, достаточно, мама».
Но сын молчал, и Николаю Филипповичу ничего не оставалось, как выйти вон. Он хотел громко хлопнуть дверью, но передумал и тихо закрыл дверь.
Медленно спускался по лестнице — у сына есть возможность догнать его. Затем стоял у подъезда — нельзя отнимать у сына возможность исправить несправедливость, но не дождался и пошел по темному двору.
Ему видна была освещенная автобусная остановка — в круг света вдруг вышла Оленька. Николай Филиппович был уверен, что дочь не даст ему уйти, но ведь каким жалким будет выглядеть он в глазах жены и сына, подумают, что он ждал возвращения дочери. И тогда Николай Филиппович пошел в тьму двора, к детской площадке, и Оленька не заметила его.
Он не знал, куда ему идти. Потому что никому не был нужен. Можно пойти к Константиновым, они дадут ночлег, но так он подведет Машу — она подруга Людмилы Михайловны. Да и не такие уж они друзья с Константиновым, выходит, если Николаю Филипповичу стыдно признаться, что его выгнали из дому.
Нельзя даже представить, что он пойдет к Тоне — дома ее родители, и он, пожилой мужчина, заявляется, поскольку изгнан из родной семьи, — невозможно. Были сослуживцы, они дадут приют, но он ни с кем не дружен настолько, чтоб пойти в минуту трудную. Ах ты, мучительно вспомнил, а Тоне сейчас каково, он-то, пожалуй, все выдержит, но ей-то каково, он согласен был выносить тяготы не только свои, но и ее тоже, но как можно ее тяготы, ее беду переложить на себя?
И он сидел на скамейке в темном дворе и не знал, что ему делать. Это невозможное положение — человеку, у которого семья и собственная квартира, который считал, что окружен если не друзьями, то надежными приятелями, вдруг становится ясно, что никому-то он не нужен и крова у него сегодня не будет.
Николай Филиппович вспомнил только что пережитую сцену и застонал. Это ж дичь какая-то. И какое точно рассчитанное издевательство. Ставка ведь была для них беспроигрышная — мягкость Николая Филипповича: знали, что он сразу уйдет. А если б он был потверже, то и затевать игру не стали бы. Ну, на Людмилу Михайловну что ж обижаться — это у нее такая истерическая реакция на потрясение, хотя могла бы и в благородство поиграть: не можешь с негодяем находиться под одной крышей, так уйди на время к сыну, дай негодяю либо объясниться, либо подыскать временное жилье. Хорошо, вы считаете, что в дальнейшем Николай Филиппович не станет оттяпывать клок законной жилплощади, но очухаться-то ему надо. Он же покуда не пес шелудивый.
Ну ладно, Людмила Михайловна, положим, в затмении, но Сергей, Сережа! Уж у него-то затмения не было — гладкие, рассудительные слова говорил. Можно только так себе представить, что Людмила Михайловна взяла с него слово, что он во всем ее будет защищать, говорила, поди, что снова начнутся боли в сердце, если увидит этого человека, и конечно же, они уверены, что папаша приползет, побитый, и будет канючить, чтоб его простили.
А ведь Сережа мог бы и уговорить мать выслушать оправдательный лепет отца — если кто и имеет влияние на Людмилу Михайловну, то только Сережа. Да уведи мать к себе или же попроси отца не приходить домой, а посидеть пока со Светой.
И в любом случае не следовало вмешиваться — пусть родители самостоятельно расхлебывают заваренную кашу. А теперь что же? Теперь вот ведь как паренька жалко: пройдет самое короткое время, да Света ему еще сегодня всыплет, вот кто не станет кривить душой и терпеть фальшь и несправедливость, словом, одумается паренек, и что тогда? Ведь маяться будет, станет искать встреч с отцом. И неизвестно, сынок, захочет ли отец с тобой встретиться, ведь у него тоже может оказаться малая гордость. Конечно, встретится, конечно, простит, но каково ж это будет пареньку завтра и в дни следующие? А каково твоему папаше, дружище, ты это представляешь? Вот то-то. А представлять следовало заранее.
Дверь подъезда распахнулась, и на улицу выбежала Оленька. Она не могла видеть отца в темноте двора. Нежность и благодарность к дочери залили Николая Филипповича — вот узнала, как брат и мать обошлись с ее отцом, и бросилась разыскивать его. Так, ход надежд ее верен, она свернула налево и добежала по Приморской улице, следовательно, к Константиновым.
Окликать ее Николай Филиппович не стал — ему унизительным было признание, что он все еще торчит во дворе и ждет, когда его позовут в домашнее тепло.
Минут через двадцать из подъезда вышел Сергей. Он постоял, поднял лицо к небу, поежился, и неторопливо, прошел мимо здания «Союзпечати», потом свернул направо — это он домой пошел, в надежде, что отец не станет чудачить и пойдет прямехонько к нему, где всегда на случай крайности можно выделить комнату. Но ведь, сыночек, надо было без демонстраций, а вернее, до демонстрации предоставить отцу такую возможность, а потом уж принимать красивую позу. Ведь раскаиваться будет парень, не иначе.
Николай Филиппович не знал, что с ним дальше будет, не знал, как протечет ночь морозная, как проскрипит холодными шестеренками ближайший час, но знал твердо — унижать себя он не позволит и домой сегодня не вернется. Вы считали, что отец ваш — бескостный человечек, которого иной раз и пнуть не грех, а вот, оказывается, у него есть кой-какой характер. И Николай Филиппович из тьмы двора выбрался к яркому свету автобусной остановки.
И когда он сел в автобус, то понял, что поступает правильно. Конечная остановка всех автобусов города одна — железнодорожный вокзал, вот там Николай Филиппович и скоротает вечер и ночь. Это единственное помещение; которое на ночь не запирается.
Николай Филиппович поставил сумку в ящик камеры хранения, записал цифры, оглядел зал ожидания — скамейки были чисты и удобны, в полночь он сядет на ту вон угловую скамейку и подремлет, сколько сможет. Пока же времени у него достаточно.
Однако сейчас находиться в зале ожидания было опасно — его будут разыскивать, если он сообразил, что, кроме вокзала, другого пристанища нет, то ведь и дети так, сообразят, и он вышел на перрон.
Он стоял в тени газетного киоска и смотрел вдаль, в глухую темь залива. Где-то сквозь туман пробивались смутные огни фонарей. Небо раскидано было холодно и вольно. Луна была вымыта и светила бесперебойно и ясно.
Николай Филиппович хоть и смотрел вдаль и на небо, но держал под прицелом и входную дверь вокзала, чувствовал, что его будут искать. И не ошибся — в вокзал вбежала Оленька. Вот она осматривает зал ожидания, вот, по всей вероятности, зашла в ресторан — умница, хорошее предположение, отец хоть несчастен, но голоден, конечно, в ресторан зашла, иначе где ж могла задержаться, вот снова вышла, идет по перрону.
А в Николае Филипповиче борьба шла: с одной стороны, дочь нужно пожалеть, ведь она ищет его по морозу, нужно радость ей доставить, но с другой-то стороны, все нужно снести до конца, это и пареньку будет поучительно — ведь ему жить дальше.
Но главное — придя на вокзал, Николай Филиппович понял, что не пропадет, не замерзнет, то есть не было суеты непосредственно за жизнь, а оттого, что был он одинок, Николай Филиппович знал, что ничего у него нет — ни дома, ни семьи, ни имущества — только он сам, его голова, сердце, и, следовательно, он волен.
Ничего, как-либо переживет эту ночь, да, было в нем сейчас даже молодое чувство отчаяния, когда ничего не известно. И утешал себя он, выходит, отчасти молодостью, потому что чувство бездомности, сиротства — чувства молодые.
Он вошел в вокзальный ресторан. Прежде бывал здесь лишь несколько раз, ожидал, что будет шумно, оркестр станет греметь, но людей было мало, тихо играл музыкальный автомат «Меломан» — песни все те же, что каждый день слышал Николай Филиппович на юге, — повсеместная музыкальная культура.
Тут было два зала — один для спешащего люда (хватил на ходу, селедочкой заклевал и потек дальше), второй, дальний, для едоков основательных. Николай Филиппович прошел во второй зал и сел за столик в углу.
Подошла тучная медлительная девушка. Николай Филиппович молча указал на грязную посуду, девушка молча же кивнула — один моментик.
Потом Николай Филиппович спросил самого лучшего мяса, какое есть.
— У нас только антрекот под яйцом остался.
Николай Филиппович кивнул.
— Его прожевать можно будет? — Это он пошутил. Девушка шутку оценила. Она вообще была доброжелательна к Николаю Филипповичу.
— Это уж зависит не от мяса — оно какое дают, а от зубов, они свои или казенные.
— Свои покуда.
— Справитесь. И сто граммчиков?
— Пожалуй.
— Тогда селедочку? Или килечку?
— Селедочку.
Пол был грязен, стоял невыветриваемый алкогольно-пищевой дух, здесь алкоголь крепок, а пища проста, да все мешалось с застоявшимся запахом табачного дыма, а девушка — ведь молодец, поняла, что Николаю Филипповичу одиноко, и резонно предложила сто граммов. Он не собирался принимать горечь, ему и без того горько, но девушка права — горечь искусственная, введенная извне, никак не помешает.
Он вдруг вспомнил времена давние, относящиеся еще к раннему детству Сережи, все Николай Филиппович видел сейчас подробно, ему тяжело было вспоминать те времена, но остановить память он не смел.
Снова вспомнил операцию, когда паренек чуть было не погиб.
Николаю Филипповичу дали короткий грязноватый халат — не стали прогонять на улицу, чувствовали свою вину, что проморгали болезнь, — он ходит по коридору отделения, смотрит в окно, а там полдень раскаленный, а мальчугана его насильно усыпили и что-то там делают в животе, Николай Филиппович словно во сне тягостном, вот уже и слова какие-то невозможные говорят — перфорация, да гангренозный, да перитонит — и головой качают, и в глаза не смотрят, а вот худенькая санитарка несет на руках спящего Сережу, она руки установила так, чтоб живот мальчика не напрягался.
Сережа лежит, запрокинув голову, и во сне всхлипывает. Суетится подле него юная постовая сестра, ей жалко погибающего мальчика, нужно поставить капельницу, а для этого необходимо ввести толстую иглу в детскую вену, и присутствие отца ребенка ей мешает, она все толкает иглу в вену, но попасть не может. Тогда Николай Филиппович выходит в коридор.
Николай Филиппович не жил в эти мгновения, он тлел, вся жизнь его прошедшая и жизнь будущая сосредоточена была на кончике иглы, время его оставшееся вытекало из него, как капля за каплей в этой стекляшке над резинками.
Когда мальчик открыл глаза, отец склонился над ним и, боясь пропустить хоть миг времени, смотрел, как моргает сын, выплывая из насильственного сна, и обиженно надувает губы — ведь он ни в чем не провинился, за что ж наказание — и видит отца, склонившегося над ним, и капельницу, и провода эти резиновые, и, оглядывая палату, вспоминает, что он в больнице, и, как-то неестественно изогнув шею, пытается посмотреть в окно — здесь толстые стены, здесь темно и сыро, а на улице жаркое солнце и тусклая зелень позднего лета, и все новые впечатления мальчика складываются в простейший вопрос:
— Папа, я умираю, да?
А возможно ль снести такой вопрос — лицо усталого маленького мальчика и глаза взрослого, даже старого человека — да, возможно снести, и все будет хорошо, ты уже поправляешься, и ты себя вел как настоящий мужчина, и я горжусь тобой. Да, я горжусь тобой.
Тут девушка принесла водку в фужере, предоставив Николаю Филипповичу самому определять величину глотков, не стесняя его рюмочками. Поставила перед ним селедку.
А вот еще память услужливо помогает — яркая, ослепительная точка радости. Николай Филиппович вернулся из командировки. Боже мой, да сколько ж ему лет, ах, да всего двадцать шесть, пацан, в сущности, если смотреть с сегодняшней высотны. Праздник, да еще какой. Они ждали его, притаившись за дверью, видели из окна, как он идет по двору, — и вот он дверь распахивает — ах-ха! — напугали папу, и ой как страшно, как же я испугался, и обнял их разом, жену и сына, ждали его, и вот он дома — вся семья разом в обхвате его рук, потом закружил жену по комнате, а сын ревниво дергает его за плащ — а я, а я как же? — и тогда к потолку его под заливистый смех, под колокольчик этот, от которого заходится сердце.
А вот уж после ужина — дом родной, комната хоть одна, хоть слишком казенная, а все ж своя, лежит Николай Филиппович на кровати — в майке, в пижамных полосатых брюках, босоногий, тело разгорячено после мытья и праздничного ужина — телевизор смотрит. А телевизор-то, смешно вспомнить, величиной с кукиш, и, чтоб кукиш этот казался побольше, линза перед экраном укреплена, бокс передают, дерутся сборные Москвы и Ленинграда. Николаю Филипповичу бокс неинтересен, но ведь это счастье какое — в мерцающем голубом свете лежать на собственной кровати, — а паренек притаился, посапывает, что-то карандашом выводит на отцовских голых подошвах. Николай Филиппович скашивает на сына взгляд — что-то Сережа затеял, рисунок хочет отцу подарить.
— Все! Готово! — торжественно объявляет сын.
Николай Филиппович, изогнувшись, видит, что корявые буквы сложились в имя «Коля».
— Сам? — недоверчиво спрашивает Николай Филиппович.
Это вот недоверие и приводит сына в восторг.
— А кто же! А кто же! — прыгает он на кровати.
— Да откуда? — удивляется Николай Филиппович.
Глаза Людмилы Михайловны светятся гордостью за себя и за сына.
— Он тут неделю кашлял. Я с ним сидела, и мы по часу в день занимались. Вот выучил.
— Ну молодец! — Радости Николая Филипповича нет предела. Обнимает, вернее сказать, тискает сына. — Да ты уж взрослый. — И огорчение: — Без меня читать и писать начал. Так главное и проездишь.
Горячая, невозвратная радость.
Жаркий летний день. Зной послеобеденный. Изнемогают на скамейке жильцы, вяло покачиваются разноцветные флаги воскресной стирки, пожухли на клумбе цветы. Проезжающая машина взбивает пыль, и пыль долго не оседает. Солнце неподвижное, расплавленное, оно занимает полнеба, тусклое — в дымке жары и пыли. Движения людей ленивы, сонны. Сережа мается перед взрослыми. Большим пальцем ноги он колупает мягкий асфальт.
— Сережа, — говорит сосед Антонов, — ты бы нам посчитал.
— А до сколька? — радостно соглашается Сережа.
— До семидесяти.
Сережа, подпрыгивая, считает. Когда доходит до семидесяти, смотрит на Антонова, ожидая похвалы, а тот говорит:
— Все хорошо. Но ты пропустил число сорок шесть.
— Разве?
— Да.
И Сережа, тощий и шустрый, снова начинает считать.
— А теперь ты пропустил шестьдесят три.
— Разве?
— Да.
И все сначала. Наконец Антонов сдается.
— Сейчас полный порядок. Молодец.
А Сережа изнемогает от жары.
— Папа, — канючит он, — пойдем на залив.
— Мы уже ходили.
— А еще!
— Попозже сходим. Перед закатом.
— Ну, а жарко.
Вдруг Николаю Филипповичу приходит в голову:
— Давай душ сделаем.
— Да! — замирая от восторга, соглашается Сережа.
— Неси все лейки.
И вот они наполняют лейки, Николай Филиппович забирается на крышу сарая, торчащего в центре двора. Сын, задрав голову, смотрит на отца. На лице ожидание близкого счастья — ой! что сейчас будет! да на глазах всего двора, да какой душ!
Сарай высок, виден с него белый клок залива с замершей яхтой — безнадежно повисли ее паруса.
Вот на мальчугана льются холодные струи, он повизгивает от счастья, тощий, вертлявый, он прыгает на одной ноге, черные трусики сползли, видны тощие, с кулачок, ягодицы, смеется и Николай Филиппович, и все соседи смеются, душ этот собрал всех дворовых мальчишек, каждый тащит лейку, и наполняет водой, поднимается на сарай, передает лейку Николаю Филипповичу и ссыпается вниз под колющие струи — и всеобщее томление, визг, суета — где-то там далеко внизу, среди замедленного струения жара, замедленных же движений взрослого люда, всеобщего оглушения мальчуган его сияет от гордости за отца, который устроил волшебный душ для мальчишек всего двора. И тогда Николай Филиппович спускается вниз.
— Ах, мальчик, — вздыхает он, — я бы с удовольствием поменялся с тобой местами.
— Так давай, — простодушно вскрикивает сын, у него даже дух захватило от такой возможности. — Давай, папа.
— Если бы это было возможно, Сереженька, — смеется отец, и улыбаются мальчишескому простодушию соседи. — Но это уже невозможно.
«Осень. Прозрачное утро. Небо как будто в тумане».
Ранние заморозки. Иней на траве. Листья с деревьев не успели облететь, все вокруг тихо, покою души не мешает даже долетающая с аттракционов песня «Может быть, он некрасивый, может быть».
Сереже девять лет, он ходит в третий класс, утро воскресное, собирают желуди — так велели в школе, — домашнее задание, будут делать жучков и машины. Сережа в свитерке, в тонкой голубой шапочке. Листья дубов скручены от первых заморозков.
Выходят к Нижнему пруду. Дубы растут на горке, но желуди скатываются вниз, к воде.
Небо синее, выцветшее, скользят белые облака, солнце светит ярко, виден дальний низкий берег с желтым строем берез, осень золотая, красные кленовые пятна, прозрачность воздуха, полетность, легкое дыхание.
Здесь, на склоне горы, растет ель, зелень ее притомленная, тягучая, блеск тусклый, с некоторой даже голубизной.
«Пусть осень у дверей, я это твердо знаю».
Дали недостижимые, красная крыша домика среди берез, синее холодное стекло пруда, чахлая юная березка у самой воды, одинокая рябина — ободраны ее гроздья, лишь на верхушке осталась одна яркая гроздь, это уже ни у кого не хватило отваги снять ее, для этого нужно дерево повалить; желтая трава холодит руки, когда ищешь желуди, время удивительное, когда взор различает всякий листик, всякую ягоду на другом берегу пруда, покой в душе невозможный.
Переговариваются тихо — вот какой желудь отыскал, — оба понимают, громко говорить нельзя, суетливых движений делать не следует — повсеместная осторожность передана душе.
Николай Филиппович долго бродит внаклонку, вдруг он распрямляется, взгляд его разом охватывает все пространство от дворца до берега противоположного, вмещает и летящие вдали над желтыми склонами круговые качели. Листья на деревьях сохранны, дали прозрачны, надежда в душе не скосилась еще тоскою; и Николай Филиппович замер от сознания совершенства осеннего парка, от залившего душу восторга и умиления, он хотел поделиться этим состоянием с сыном, но не было нужных слов, да в этой тишине они были бы лишними, тогда он протянул ладонь и поймал ладонь сына и слегка сжал ее, как бы приглашая сына сделать перерыв в поисках желудей и посмотреть вокруг, и сын понял состояние отца, нет сомнения, понял и не убрал руку прочь, и тогда Николай Филиппович обнял его за плечи и прижал к своему боку, и они долго стояли молча.
Это, может быть, человек придумывает себе — вот тебя тогда такой-то человек понял до конца — и ты ему навсегда благодарен за такое понимание, — но никогда больше не было с сыном такого взаимного понимания, слитности.
Не уходи… Тебя я умоляю…А время, между тем, летело довольно-таки ускоренно, и когда, покончив с едой и питьем, Николай Филиппович взглянул на часы, то оказалось, что он проторчал здесь полтора часа. До закрытия оставалось всего полчаса.
Николай Филиппович вышел на перрон. Ветер полностью стих, снег звонко, морозно скрипел под ногами, все было ярко освещено луной, чистой, безущербной, и не было на небе каких-либо помех для ее свечения, и она как бы звенела от накала, окруженная радужным светом.
Еще ходили электрички, но перрон был пуст. Николай Филиппович дошел до конца перрона, спустился по узким ступенькам и по тропке перешел железнодорожные пути. Перед ним до самого города лежал залив, снег у берега казался темным, дальше же, к горизонту, ярко-желтым.
По узкой тропке пошел он берегом залива, из будки, провожая электричку, вышла юная стрелочница, и она долго смотрела в спину одинокому странному пешеходу.
На берегу стояло лишь несколько перевернутых кверху днищами лодок.
Смахнув рукавом снег, Николай Филиппович присел на лодку. Мороза он пока не чувствовал, но чтоб подольше сохранить в себе тепло, съежился в комочек, охватив грудь руками, и так замер.
Сейчас в Николае Филипповиче не было горечи, что вот он враз утратил для себя семью, но была жалость, и жалость не к себе.
Он жалел Людмилу Михайловну — каково ей сейчас, один день перечеркнул тридцатилетнюю жизнь, а как уязвлена ее гордость, это даже представить невозможно, ему жалко было Тоню, только бы она не надумала увольняться после сегодняшнего скандала, это надо завтра ее уговорить; но всех больше жалел Николай Филиппович Сергея — как-то, с каким чувством проснется он завтра, ведь не может не понять, что был с отцом жесток и несправедлив. А отец-то всю жизнь любил его больше всего на свете. Да что любил, разве же сейчас не любит, и страдает сейчас за сына, от жестокости его страдает, но и от жалости к нему — да можно ль так не понимать близкого человека, можно ль так оглохнуть к чужой боли. Быть не может, чтоб Сережа уже завтра утром не застонал от непоправимости случившегося. Быть этого не может.
Сейчас Николаю Филипповичу нечего было терять, потому что все было потеряно. Сейчас он ясно видел, что жизнь его зашла в тупик, и особенного выхода из этого тупика Николай Филиппович не подозревал, В прежние годы, глядя на свою жизнь не очень-то серьезно, то есть как бы посторонним взглядом, отсутствие у себя честолюбия и, во всяком случае, искательства он объяснял привычными мотивами, библейскими почти словами — суета сует… тщета… ловля ветра. Он постоянно в своей жизни не приобретал, но терял: утрата юношеских надежд — что же, это дело повсеместное, куда-то испарилась любовь к жене, растаяла и надежда, что он добьется в жизни чего-то внятного, ощутимого, даже весомого: была большая удача жизни, он сделал свою машину, но этой машины нет и, по всему судя, никогда не будет; он надеялся, что его семья неразрывна, она вечна, но вот он отпал от семьи, и догадываться можно, что и без него мира в семье не будет; всегда верил, что сын его — человек особого склада, настоящий, значительный человек, и он всегда поддержит отца в минуту трудную — и что же — не понят сыном, изгнан, отторгнут. А это была, пожалуй, самая стойкая и верная надежда. И теперь — ничего. Тупик.
А нет, все-таки приобретено немало — не одни только потери, — а приобретено хотя бы понимание, что все потеряно и все позади. И такой ясный взгляд тоже далеко не каждому дан. Терять больше нечего, и Николай Филиппович спокойно размышлял об этом, глядя в темь залива.
И была в нем уверенность, что он живет, нет, не функционирует — дышит, ест, пьет, — но живет. Он изгнан из семьи, даже предан, но все равно не унижен и не проиграл. Пока человек сам себе не скажет, что проиграл и пора сдаваться, он не проиграл свою жизнь. Да, он живет, Николай Филиппович, и это главное приобретение, это уже не ловля ветра. И он дождется, когда сын осознает нынешнюю свою жестокость и начнет искать встреч с отцом. Вот если так не случится, и если Николай Филиппович признает, что машина его — детская бездарная игрушка, и если Тоня разлюбит его, тогда, что же, — он проиграл.
Светился плоский стол залива, ярко вспыхивали отдельные снежинки, вдали виднелись огни парома, а Николай Филиппович думал о том, что не так страшны одиночество и бездомность, как ожидание одиночества и бездомности. Когда же они приходят, то человек понимает, что ему больше нечего терять, и душа его стремится к новому кругу надежд и рассчитывает на перемены впереди. Вроде и надеяться не на что, но не покидает душу юное чувство, что все-таки что-нибудь еще да произойдет, но сам ты не сделаешь ничего, что могло бы хоть как-то не то что унизить, нет, но умалить тебя.
Он сидел на днище лодки и смотрел на желтый снежный стол, мелькало иной раз детское утешение, что не худо бы ткнуться на лицо посреди этого стола да и заснуть, и хоть страха такое соображение не вызывало — сон будет, всего вернее, сладчайший, — исполнять его невозможно, то был бы поступок низкий, так круто обойтись с женой, с сыном и Тоней Николай Филиппович не мог даже в мыслях. Нет, сейчас он силен, коли дал себе слово не позволить умалять себя, более того, сейчас он чувствовал, что сильнее, чем сейчас, он никогда прежде не был.
Он подставил циферблат радужному свету луны и увидел, что совсем близка полночь, и услышал, как гудит последняя электричка, и это означало, что можно идти в зал ожидания — человек опоздал на последнюю электричку, то есть он не бездомен — и это оправдание перед стражем порядка, — но ожидает первую электричку и потому имеет право на сон.
Электричка ушла, и Николай Филиппович побрел к вокзалу.
В зале ожидания народу было мало, и он без труда отыскал свободную скамью. Даже обрадовался удаче — конец скамьи прятался за газетный киоск, и Николаи Филиппович, забившись в угол, останется, незамеченным.
И он забился в угол, шапку сбил на лицо, защищаясь от света и узнавания, и задремал.
Несколько раз проваливался в настоящий сон и ночь скоротал без труда.
Утром Николай Филиппович проснулся рано, тело свое ощутил словно избитым, но голова его была ясна. В вокзальном буфете он выпил кофе, съел бутерброд с сыром и пошел на работу.
До прихода сослуживцев оставался час, и Николай Филиппович успел умыться.
В восемь часов пришел Константинов.
— Все знаю! — сказал он. — Погорелец. Где ночевал?
— На вокзале.
— Здорово. Я так и думал. Ты не обижайся, но я позавидовал тебе.
— Есть чему завидовать. Тело ломит, словно на булыжниках спал.
— Этому и завидую. Ладно, это все лирика. Теперь по делу. Твои были у меня.
— И Сережа?
— Нет, только Оля. А теперь слушай внимательно. Тебе нужно срочно уезжать отсюда.
— А куда же?
— Сменишь Кифаренко под Москвой.
— Спасибо тебе. Ты друг.
— Там ты будешь сидеть, пока я тебя не вызову. Ты понял?
— Чего уж тут не понять.
— Если из Москвы будет ответ и ты понадобишься, я опять-таки вызову. А ты сиди и жди, пока все уляжется. Там, к слову сказать, работы навалом. И морозы. Все равно Кифаренко нужно сменить. Так сделаем это на неделю раньше положенного. Командировка с сегодняшнего числа. Прямо сейчас иди в железнодорожную кассу и закажи билет. К одиннадцати придешь в бухгалтерию. Все! Будь здоров. Просьбы есть?
— Да. Если Тоня подаст заявление об уходе, ты ее отговоришь.
— Она толковый специалист и нам нужна. Сделаю. Все?
— Все.
— Будь здоров.
— Спасибо. Ты друг.
— Мы стареем с тобой. И начинаем повторяться.
— Тогда все.
Николай Филиппович пошел в свою комнату взять необходимые для командировки бумаги, он объявил группе, что уезжает сегодня же, сейчас же, и, взяв бумаги, распрямляясь над столом, встретился со взглядом Тони и глазами попросил ее выйти следом за ним.
Остановился в коридоре перед стенгазетой и вроде бы внимательно принялся читать ее, но не понимал ни слова, потому что боковым зрением следил за дверью. Вот вышла Тоня, вот она подошла к Николаю Филипповичу, и он сжал ее ладонь, и они стояли, прижавшись плечами, лица обратив к газете. Что-то высматривали в газете, посвященной недавним праздникам, вдруг рывком повернулись лицом к лицу, и Тоня с испугом и с жалостью смотрела на него.
— Вот уезжаю, — сказал он, словно оправдываясь, — так надо, и выхода нет другого.
— Да, конечно.
— Как ты вчерашний день пережила?
— Плохо. Как же еще! Стыдно было. Но главное — вас было очень жалко. Потому и перетерпела день — знала, что вам хуже. Вечером не смогла дома усидеть, так было тревожно за вас, и я ходила по улице перед домом.
— А меня из семьи прогнали, и я ночь провел на вокзале, — пожаловался Николай Филиппович. — Я хотел прийти к тебе, но не смог. И ты прости. Понимал, что тебе плохо и нужна моя помощь, но прийти не смог. Отец, мать, сестра — ну, не смог. Не в таком вот избитом состоянии приходить. И за что? Понять не могу. Да ладно. Мне вот ехать пора. И ты одно должна знать — что б ни случилось, я тебя люблю. Я там посижу месяц или чуть больше и вернусь. Мы все вытерпим, верно?
— Да.
— Как туда приеду, сразу напишу. И ты мне напиши. До востребования.
— Хорошо.
— Я могу быть уверен, что ты не уволишься и не уедешь? Я скоро вернусь. Съезжу и вернусь. А ты подождешь меня. Могу я на это надеяться?
— Да. Я вас подожду.
То был райцентр в Подмосковье, и городок отчаянно похож на Фонарево: типовые пятиэтажные дома, парк, каток, озеро в парке, в центре дворов, как занозы, торчат сараи, вечерами на улицах безлюдно, тусклый свет, ну Фонарево и Фонарево. И тосковал Николай Филиппович: вроде он в родном городе, а Тоню видеть не может. Однако Николай Филиппович был благодарен этому городу: в отчаянную минуту здесь для него оказались ночлег — комната в СПТУ — и интересная работа, требующая не только напряжения ума, но вновь напомнившая Николаю Филипповичу, что человек он очень способный к созданию либо улучшению новых машин. А ведь для этого он и прибыл сюда. Считается, что Николай Филиппович направлен для согласования — местное КБ, как и фонаревцы, подчиняется одному начальству, и темы их работ параллельны, на самом же деле он был направлен сюда в помощь. Константинов заботится не только о благе собственного дела, но и о благе дела общего, и он ловко сообразил, что голова работает особенно продуктивно, когда человек одинок и несчастен.
Работы было много, Николая Филипповича здесь ценили, мнение его чаще всего оказывалось решающим, день протекал интересно и резво, и только вечера Николай Филиппович ожидал с тревогой — вечером он будет одинок.
Точно рассчитал Константинов и то, что Николая Филипповича придется вызвать в Москву на совещание, и время это пришло довольно скоро — в декабре, через три месяца после отправки бумаг — срок малый. Николай Филиппович ожидал, что на знакомство с бумагами уйдет не меньше полугода. Но, видно, очень уж толковыми оказались бумаги.
Это совещание Николай Филиппович запомнил хорошо — прошлые наезды в Москву как-то слились для него в нечто целое: вот они чего-то добиваются, а их то ласково, то строго уговаривают утихомириться и предоставить дело естественному течению.
Перед совещанием к ним подошел директор центрального бюро, подал руку Константинову и Нечаеву, расспрашивал о работе, был вежлив и даже ласков.
— Вы не сердитесь, что мы нарушили субординацию? — спросил Константинов.
— Ну что вы, у нас общее дело. А форма — это мелочи.
— Мы можем выиграть? — спросил Николай Филиппович.
— Не знаю. Будем стараться. Убедитесь сами. Но ведь со всех спрашивают за основы основ — за хлеб, свеклу, картофель. А морковь — это все же не основа основ. — И он отошел.
— Это хорошо, что он ласково, — проворчал Николай Филиппович. — Но что же это он раньше не пробивал машину?
— Он же все объяснил. Вот если б мы придумали принципиально новый хлебоуборочный комбайн. А морковь? Да ладно. Низкая урожайность? Но она соответствует капиталовложениям.
К ним подошел поздороваться и главный конструктор — это противник машины, однако они были любезны друг с другом, и разговор — хоть и короткий — Николай Филиппович запомнил.
— Вы меня приятно удивили, оказавшись настырным человеком. Вы по-прежнему считаете, что каждый человек должен делать то, что ему положено?
— Нет, теперь я думаю, что на это надеяться нельзя. Я должен каждый винтик проверить собственноручно. И если машина пойдет, то лично проследить, чтоб каждый механизатор дочитал инструкцию до конца, иначе он машину сломает к концу первого же сезона.
— Вот! Мысли взрослого человека. Голос не мальчика, но мужа. У меня иногда появляется еретическая мысль: на местах с нашей техникой обращаются так вольно и ломают ее так стремительно, что механизация полей может оказаться просто невыгодной.
Народу собралось много — человек пятнадцать: люди из центрального бюро, из ВАСХНИЛ, из Министерства сельского хозяйства и из Министерства сельскохозяйственного машиностроения.
Человек, проводивший совещание, вопросы ставил так, что было ясно: в сути дела он разобрался хорошо. Говорит тихо, без суеты, у него была великолепная дикция. Совещание продолжалось сорок пять минут — школьный урок.
Константинов дал краткую справку — машина не просто нова, но нова принципиально, это новый шаг в создании корнеплодоуборочных машин — дальше шли цифры, известные всем участникам совещания. В поддержку Константинову была зачитана справка ВАСХНИЛ с выводом, что машину следует запустить в серийное производство.
Затем задавали вопросы Николаю Филипповичу, и он коротко отвечал. Экономия. Освобождение рабочей силы. Срок службы.
— Кто проводил испытания?
— Опытная станция в подмосковной области.
— Чья станция?
— Центрального бюро. Даже при негативном отношении они получили вот эти результаты. На самом деле результаты должны быть лучше.
— Неплохо.
Николай Филиппович отвечал охотно, спокойно, без лишнего порыва, дескать, достоинства машины так очевидны, что непонятно, почему ее так долго мурыжили и затирали, и уже верить начинал, что все окончится благополучно. Чувствовал Николай Филиппович, что Константинов им доволен.
— Ну что ж, — сказал руководитель совещания, — товарищи создали умную, толковую машину. — Он сделал паузу, приглашая возразить, если кто не считает машину умной и толковой. — Это всегда радует, когда сильна инициатива. Особенно сейчас, когда так остро стоит вопрос о неиспользованных резервах. Вот вам резерв — ум и талант конструкторов. Спасибо вам, товарищ Константинов и товарищ Нечаев.
Тут на несколько мгновений установилась тишина, и в этой тишине Николай Филиппович рад был угадать всеобщее удовлетворение человеческим умом, придумавшим такую штуковину, почудилось Николаю Филипповичу даже некоторое умиление этим умом.
— Значит, решим так. Провести новые испытания в различных погодных условиях, с различными нагрузками.
— Но ведь эти испытания проводились четыре года назад, — возразил с паническими даже нотками в голосе Николай Филиппович, — ведь не я же водил машину по полям, а опытная станция. Вот они, данные испытаний. Машина не станет работать лучше за четыре года безделья, — он увлекся, Николай Филиппович, так, что Константинов потянул его за полу пиджака — да утихомирься ты.
— Вот вы еще раз проверите машину, может быть, доработаете в ней что-нибудь.
— Но к рабочему органу нет никаких замечаний.
— Вот и хорошо, — поборол раздражение руководитель совещания. — Словом, предлагаю госиспытания повторить — в тяжелых условиях и в полном объеме. — Он обвел глазами всех присутствующих — мимо Николая Филипповича глаза его проскользили. — Все согласны? — Все были согласны. — Тогда все. Спасибо вам, товарищи. Будет день, будет и пища. Тогда и встретимся.
Выходили молча. Николай Филиппович чувствовал себя раздавленным — решение его не устраивало. На улице он дал волю своим жалобам.
— Все, Константинов, это ведь все. Это же провал.
— Да успокойся ты, никакой это не провал, а скорее победа. Неполная, разумеется, но победа. Ты хоть одно возражение слышал? Нет. Все машину хвалили.
— Но и раньше хвалили, а она ни с места.
— А теперь стронется.
— Да где ж стронется? Это ж нас отфутболили.
— Нет, все не так. Испытания теперь обязательны. И если они будут успешными, а они будут успешными, мы можем ссылаться на сегодняшнее совещание.
— Да не будет у нас лучших данных. Ты денег на новую машину добудешь?
— Добуду. Теперь я могу не клянчить, а требовать, — разве это не успех?
— Но это ж все время.
— Ну да.
— К осени машину сделать не успеем.
— К этой осени отремонтируем старую. А на следующий год запустим новую. Назовем ее второй моделью. Это будет выглядеть солиднее.
— Но это ж не меньше двух лет. А там вступит в дело философия Насреддина.
— А быстрее, я теперь понимаю, ничего не делается.
— Это утешает.
— Ты хотя бы вспомни Желиговского с его виброплугами.
— Утешил, нечего сказать. В сущности, все то же ожидание.
— Но только на более высоком уровне, — засмеялся Константинов. — Но ты тоже хорош, начал заводиться. И нарвался. И тебе ясно дали понять, что пока все испытания не пройдут, больше никуда не обращайся.
— Это так, — ответил Николай Филиппович.
— А вообще-то выше голову, Нечаев. Ты еще малость посиди в Подмосковье. Кстати, там рядом опытная станция. Заведи с ними приятельство. Ну, поговори по душам, чтоб знали, что ты не горлохват, а печешься об общем деле. И вообще приятный человек. Далее. Я велю машину разобрать и начать приводить в порядок. Когда вернешься, сам определишь, что сгодится, что следует менять. Рабочий орган надежно укрыт, он сгодится, остальное — решишь сам. Скучаешь? — вдруг, без всякого перехода спросил Константинов.
— Да, Олег, скучаю, — признался Николай Филиппович. — Что там нового в Фонареве?
— А ничего. Снежная зима. Мороз. Оленька тебе написала?
— Да. А ты откуда знаешь?
— А я теперь как бы твой душеприказчик. Твой адрес можно узнать только у меня. Узнавала Оленька.
— Да, написала. — И Николай Филиппович улыбнулся.
Ему было приятно вспомнить письмо дочери — это было самое радостное событие последнего времени. Еще бы: она всю жизнь была как бы для него на втором плане, все на Сережу рассчитывал в минуту трудную, и на тебе — Оленька друг надежнейший, оказывается, — ну, так спрашивается, стоит ли голову вешать преждевременно, если в жизни всегда есть резервы неожиданные. И письмо-то ничего особенного, вот сессию спихнула, и все благополучно, но на экзамене по нервным болезням поплавала малость. И очень поддержали Николая Филипповича слова дочери, вроде бы шутливые — это уж как считать, — что вот она просит, чтобы отец скорее возвращался: «Когда я с тобой, я член семьи, Земли и даже Вселенной, а без тебя просто студентка медицинского института и ноль без палочки». Потом Оля писала, что Сережа все время ходит мрачный — «это ему попало от Светы, она, ты же знаешь, папа, какая она — не терпит несправедливостей, я ее очень за это люблю, но она ведь отходчивая, не то что наш Сереженька, и с ним скоро помирится».
— Дома все здоровы? — спросил Николай Филиппович.
— Да. Люда две недели назад вышла на работу. Как я знаю от Маши, на развод она покуда не подавала. Может, ждет твоего возвращения. Не знаю.
— Сергея видел?
— Нет.
Это огорчало Николая Филипповича, он все ждал, что сын напишет ему, адрес отца мог узнать у Константинова, но вот — не узнавал. Хотя и попало ему от жены и сестры. Может, не начал покуда по отцу томиться, время не пришло. Придет, дружище, непременно придет. Быть иначе не может. Есть же в тебе некий стержень справедливости, не даст он тебе покоя. Но не тяни слишком долго — ведь жизнь твоего отца не вечна. Конечно, от любви к тебе твой отец никогда не освободится, но все же береги его. Не тяни бесконечно.
— А так у нас все в порядке, — сказал Константинов. — Никто не пришел, никто не ушел. Давай, Николай, доделывай положенное и возвращайся. Там дела еще много?
— Недели на три.
— Добивай. Ты мне, надо сказать, сейчас нравишься. Мы с тобой годки, но сейчас у тебя дух помоложе. Я не люблю людей, которые, если на них нажмут беды, расползаются, как манная каша. Ты сейчас, пожалуй, не расползешься.
— Пожалуй, не расползусь, — усмехнулся Николай Филиппович.
За три недели, что он прожил в этом городке, Николай Филиппович получил несколько писем от Тони, и эти письма помогали ему скоротать одиночество. Он каждый день ходил на почту и примелькался молодой женщине с печальным подвижным лицом, так что она протягивала ему письма, не спрашивая документа.
А это нетерпеливое стояние в очереди у окошечка, и всякий раз письма ожидаешь так, словно от него и зависит вся жизнь дальнейшая. Да и точно — зависит, вот с сочувствующей улыбкой кивок женщины — вам сегодня нет ничего, — и невозможным кажется вечер одиночества, и тревога камнем давит грудь — что ж могло случиться и почему нет письма, да, он в отдалении и потому забыт, там, в городке родном, события какие-то развиваются, а он не в силах вмешаться, а он — в забвении, несчастнейший человек то есть.
Но уж когда ожидания оказывались не напрасными и он дрожащими от напряжения руками принимал письмо, то выходило, что справедливость в мире уже восстановилась, тревоги казались такими давними, что на краткое время их можно забыть, более того, он знал в такой момент, что не бывает страданий напрасных — он тосковал — и вот награда. Он отходит от окошка, но нет сил уйти с почты и прочесть письмо в тихом месте, и еще не вполне вытек недавний страх — а вдруг снова нет письма, — и еще трепещет душа, и Николай Филиппович, не очень-то подробно еще разбирая текст, понимает смысл: «…Я очень люблю вас, и значит, я живой человек… И всегда буду с вами, пока нужна вам… пока я полна вами, я ничего не боюсь — ни себя, ни других людей».
И когда выходишь на улицу, это ль не торжество, это ль не ликование — ждал, дождался, победа!
Николай Филиппович не жаловался в письмах на свое нынешнее положение, а только он не мог смириться, что только сейчас, под занавес проходит он всю юношескую страсть. Всякий человек проходит ее в молодости, чтоб яснее понимать ценности жизни. А он — лишь сейчас. И за что ему это невозможное счастье — когда и он и она постоянно друг другу желанны. Да, сейчас они в вынужденной разлуке, но ведь разлука не вечна, и, следовательно, все на свете еще можно исправить. Так он и писал; что бы ни случилось с ним в дальнейшем, он всегда будет благодарен судьбе, что она подарила ему Тоню. И потому он тоже ничего не боится, и потому они никогда не расстанутся — ведь нельзя расставаться, когда люди счастливы. Или были счастливы. Или хранят надежду на возврат счастья.
Он заходил на почту в среду, перед совещанием — письма не было.
После совещания, в пятницу, он снова пошел на почту, твердо надеясь, что письмо ждет его, и даже протянул в окно руку, чтоб взять письмо поскорее, но женщина покачала головой — вам пишут. В растерянности вышел Николай Филиппович на улицу и острейшим приступом затосковал по Тоне. Все ждал, что с минуты на минуту эта тоска пройдет, но то были напрасные ожидания.
Когда человек один, то вечер перед выходными днями — самое трудное время. В будний день можно лечь пораньше, объясняя себе так, что завтра рабочий день и нужна ясная, отдохнувшая голова.
В пятницу вечером Николай Филиппович спустился вниз, в комнату отдыха, надеясь приткнуться к телевизору, но в комнате отдыха молодежь танцевала.
Тогда он поднялся в свою комнату, надел пальто и снова спустился, но, выйдя на улицу, почувствовал, что никуда из Фонарева не уезжал — такое же белое кирпичное здание общежития ПТУ, те же тусклые фонари, да и тот же ветер задувает. Он побрел по знакомым фонаревским улицам, надеясь, что усилия по преодолению ветра заглушат тоску, но это были тщетные надежды. Потому что Фонарево среди прочих похожих городов имело отличительную ценность — в нем жила Тоня.
И когда Николай Филиппович под летящим по касательной к земной поверхности снегом понял, что именно он сделает завтра, то сразу успокоился. Конечно, он говорил себе, что это все глупость, безрассудство и ничего предпринимать не станет, это что ж туманцу напускать, если даже вслух невозможно обозначить будущий поступок, но в душе сидело четко — завтра он увидит Тоню. Как это произойдет, неважно. Соображение это было так невыполнимо, что даже не взволновало Николая Филипповича, и когда, устав от ходьбы и ветра, он пришел в свою обшарпанную комнату, то сразу уснул.
А утром, часов, что ли, в семь, он вскочил и, даже не сделав привычной зарядки, однако ж побрившись — он ведь почти столичная штучка и следует быть малость ухоженным, — побежал на электричку, и она за два часа домчала его до Москвы.
Цель поездки он определил ясно: нечего субботу просиживать в малом городке, когда есть возможность за счет столицы пополнить свой культурный багаж. Две недели назад он ходил в Третьяковку, а теперь сходит в какой-либо иной музей.
Электричка примчала Николая Филипповича на Казанский вокзал, он вышел на площадь, морозец стоял градусов под двадцать, над мостом выкатывалось солнце, оно пробивалось сквозь легкий туманец и казалось размытым, с проводов падали снежинки.
Он понимал, что следует идти вправо и дойти до центра, но усмехнулся своей наивной хитрости — ну, с собой-то что ж лукавить, — и пошел по подземному переходу, успевая это объяснить так, что он только глянет, как функционируют кассы — взгляд в будущие времена, когда отряхнет с себя долг работы. Только узнает про билеты, их, конечно, не окажется, и он пойдет прочь.
Николай Филиппович узнал, что билеты есть, но на вечерние поезда, а на дневные нет, и он может успокоиться. Но он не отошел, а стал уговаривать кассиршу выручить его — это уж сказалась всеобщая привычка вечно что-то канючить у обслуги.
— Вот нашла, — сказала пожилая кассирша. — Один билет. На дневной поезд. Он плацкартный и боковая полка.
— А не до жиру, — засуетился Николай Филиппович, дрожащей рукой протягивая десятку. Представить даже невозможно, что было бы с ним, не окажись билета. Ему должно было повезти, и вот повезло.
До отхода поезда оставалось полтора часа, и Николай Филиппович снова вышел на площадь.
Сейчас, когда не было выбора — билет-то в кармане, — когда не нужно больше лукавить, Николай Филиппович чувствовал острую радость — что бы ни случилось, а через десять часов он увидит Тоню. Он затем и едет, чтоб увидеть ее и сразу умчаться прочь. И ничто не могло его остановить, ни доводы собственного рассудка, ни любые препятствия. Знал вчера, что помчится, и он помчался.
Свою радость он ощущал как награду за три недели одиночества и тоски, и был потому молод, сух, взведен. И погода стояла такая же: морозец, который не схватывает дыхание, но дает телу легкость, город после недавнего снегопада чист, ясен, как чиста и ясна кажется Николаю Филипповичу собственная душа и сбывающаяся надежда.
Он воткнулся в свой поезд и в свой вагон — то был, по виду судя, резервный поезд и худший вагон — для отставшего и безответного люда, нашел боковое свое место, у самого входа, так что дверь постоянно хлопала да с каким-то ржавым надсадом, и Николай Филиппович укрепил дверь в распахнутом состоянии.
А купе было полно юными девушками, они ехали на экскурсию из Целинограда — десять дней, путевка стоит тридцать рублей, можно ль отказаться от нее, хотя и повсеместно январь.
Николай Филиппович кивал головой — город, куда едут девушки, ему знаком, однако ездить в него следует все-таки летом, когда наливаются белые ночи, и никак не зимой. Тогда девушки начали хвалить чистоту города, хоть ни разу в нем не были, особо выделяя вежливость горожан.
Николай Филиппович так это туманно заметил, что все мы живем в царстве мифов, и тогда девушка-казашка посмотрела на него так, словно он отнимает у нее надежду на личное счастье, и Николаю Филипповичу пришлось уйти в тамбур курить. Потом он забрался на свою полку — не брал белье и полностью ощутил жесткость полки, — так чувствовал себя совсем бездомным, это состояние стало для него привычным, вытянулся, завел руки за голову и замер на несколько часов блаженного ожидания.
То ли закрывал глаза, то ли нет, не вспомнить, просто провалился в ожидание и пролежал всю дорогу. Останавливались раза три, включили тусклый свет, молодые парни предлагали пирожки, кефир и пиво, а Николай Филиппович лежал неподвижно.
Вдруг внизу начали суетиться, за окном мелькнули острые огни, и Николай Филиппович спрыгнул вниз.
В кассах вокзала он попросил билет до Москвы, и ему дали возможность уехать в полвторого ночи. Иной возможности нет. Он взял билет и глянул на часы — девять. А это значит, в пол-одиннадцатого он в Фонареве а в полдвенадцатого надо спешить к электричке и к московскому поезду. Один час чистого времени. И это все. Да хотя бы столько, хотя бы увидеть, руки коснуться — и до свидания.
Он не помнил лица Тони, он не помнил ее улыбки, но знал только, что лицо это прекрасно, а от улыбки заходится его сердце, такого знания ему было достаточно, чтоб спешить из метро к электричке — тут каждые полчаса равны году и никак не менее.
Электричку ждал всего пять минут — удача! — и вагоны были пусты, он сидел у окна, смотрел в тьму свистящую, различал в этой тьме смутное, в блеске сиреневого света свое лицо, летящее шагах в десяти от окна вагона. Лицо его подпрыгивало на стыках, исчезало на остановках — это посторонний свет мешает — и вновь проявлялось в свисте разрываемого воздуха.
Тони может не быть дома — ушла в гости или на десятичасовой сеанс в кино, — но предвидеть такую возможность Николай Филиппович отказывался. Тогда, что же, — все зря, поезда эти, суета? — нет, ему непременно повезет, у него и времени-то хватит, чтоб поздороваться. Довольно? Вполне довольно. И можно еще терпеть месяц разлуки.
В Губине в вагон сели моряки из училища — они ехали танцевать с фонаревскими девушками. Паренек по транзистору пел пронзительным дискантом: «Вот почему так мила мне она, Вологда, гда, гда, гда, Вологда, гда», моряки полны были юным хмелем и уверенностью в счастливых свиданиях.
Летела электричка, летел с нею вместе и Николай Филиппович — куда? зачем? — а преодолевает такие расстояния, чтоб хоть бегло, мельком увидеть необходимого человека, и Николай Филиппович ощущал сейчас себя как никогда вольным — он захотел увидеть другого человека, и он все сделает, чтоб увидеть, — преград для Николая Филипповича сейчас не было; в транзисторе слышен был спокойный голос диктора, моряк повертел ручку, донеслись дальние разрывы, и до Николая Филипповича доплыла песня, которой он никогда прежде не слышал, артист слабым ломким голосом не пел даже, а приговаривал: «Что с душой приключилось твоей?» Песня была печальной, доплывала она издалека, не пробиваясь до сознания Николая Филипповича, потому что он был в полудреме ожидания. Вдруг сознание его включилось полностью, и он разобрал последние слова этой песни: «Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому».
А электричка прилетела и шаркнула, и остановилась, Николай Филиппович выпрыгнул на перрон, и сердце его ощутимо забилось — вот он, городок привычный, нет, ничего не бывает зря, только себя самого не предавай ни при каком счете, и тогда с человеком ничего поделать невозможно, и нет сил, которые могли бы человека сломить и бросить его на колени, он же, этот человек малый, напротив того, сделает все, что задумал, да, он умел терпеть, и вот ему награда — еще пять минут быстрого хода и на отшибе города, у самого парка, возникнет Тонин дом.
Рассказы
Год жизни Павлуши Пастухова
Ах ты, боже мой, ну какой красавчик, фуражечка-то как сбита к правой брови, а кителек какой, а брюки, это ж все новенькое, как для парада, стрелка какая на брюках, руку, поверь, порежешь, если до нее дотронешься, а на ногах не кирзачи, но ботиночки тупорылые, и как блестят они на майском солнышке, как в нос шибают гуталином. То Павлуша наш, боже мой, простите великодушно, как уж теперь защитника такого Павлушей называть, ума не приложу, то есть это же Павел Алексеевич Пастухов, гвардии младший сержант, последний день при погонах в полном блеске ходит. Но да знаем тебя, когда, прости, ты еще на горшок проситься не умел, так и дозволь по-прежнему Павлушей называть.
Боже мой, а грудь-то у него вся в металле — да что ж это такое — а это, представьте, гвардейский значок, а этот вот означает, что он, сын наш, сосед, земеля, отличник боевой подготовки, ну а это что означает — самолетик с веревочками и с металлической тютюнькой на веревочках да с цифрой «30», — а то и означает, что Павлуша наш герой, он служил в войсках десантных и прыгнул на землю как раз столько, сколько указано на тоненькой тютюньке — да орел он, а не птаха мелкая, ведь вам, парашютистам, привольно на небе чистом, легки ребята на подъем, словом, короче — шутить не следует с орлом.
Да румяный какой, чистенький, и как Павлуша важничает, да ряжку слегка в армии наел, вроде даже мешочки защечные появились — нет, это не от лишнего армейского харча, но от улыбки, рад ведь нам Павлуша, друг наш юный и сосед.
А вот его принимает и по спине хлопает Алексей Игнатьевич Пастухов, батя, отец родной, красиво говоря, значочки поглаживает, красуется за молодца перед соседями. И есть чем гордиться, это ж не чужой пацан-корка-в-носу, это ж не зять-что-с-него-взять, а сын в добром здравии и в полном согласии с законом в дом пришедший.
Алексея Игнатьевича тоже еще мало кто зовет вот так сложно — все больше Лехой либо Пенсионером — шутка такая. Ему год назад пятьдесят лет стукнуло, а он на пенсию вышел, да с верхушкой в кармане — сто двадцать рублей ежемесячно гребет, — а здоров, черт, волосы целы, зубы все на должном месте, и не казенные, но свои. А почему так? А потому что на плечах Алексей Игнатьевич носит голову, да еще какую, — он десять лет назад подался в гальваники — ему под руку пыхтели, мол, нигде ничего даром не дают и Сонечку, начальницу главную, никак то есть не объехать, десятку эту прожить еще следует, но вот теперь всем его сверстникам до пенсии пыхтеть, а Лехе, то есть сейчас Алексею Игнатьевичу, — жить да наслаждаться.
Ксения, голубушка, да что ж это ты к сыну не прибьешься, или не рада, что все теперь в полном сборе.
Да рада, рада, но вот батя все его тискает, да соседи вокруг Павлуши столпились, мне и не пробиться, да по моим-то габаритам, ну-ка раздайся, люди, подь сюда, сынок, Павлуша, как ты повзрослел за два года, а мы все такие же, и ничего у нас не случилось.
Так давайте все в дом, к столу, ждали нашего паренька три дня, мать вон не спала, как приказ министра вывесили, все сына ждала, в дом, в дом, вот и за дядьями сгоняли — за Серегой и Мишаней — сегодня уж будет разворот для праздничка.
А на столе уж студенек свои последние минуты доживает, где ж это, хозяюшка, ножек раздобыла, а и салат из филе трески сияет, — а вон рыбка отварная, судачок, выходит, это уж кто-то из своих руку потренировал, а вот Павлуше спецблюдо, мечтал сынок о материнском борще, снился, говоришь, он тебе, так вот твоя глубокая тарелка, да и всем не отставать и влагу по стопкам да и за радостное такое возвращение.
— А ты что же, Павлуша? — голос удивленный.
— А не принимаю.
— Что-то новенькое. Слышал, только памятники не принимают.
— Молодой еще, — похвалил Павлушу отец. — Это успеется.
— Насквозь, гляжу, положительный.
— Так и есть. Ладно, Павлуша, пропусти стопарик.
И так это скорехонько все смолотили да вспоминать стали, кто и как служил, да как демобилизовался, да как успел в обмотках походить, а Павлуша сидел и радостно улыбался тому, что вот он снова дома и служба — будь она трижды распрекрасна — позади, он прыгнул двадцать восемь раз и уцелел.
Что было главное в Павлуше? Его никак нельзя назвать человеком видным, приметным, что ли, нет, иной человек может увидеть его пять или десять раз, а при повой встрече не узнать — росток у него средний, сто семьдесят сантиметров, Павлуша тощ и кажется тщедушным, кожа на лице его не так уж чтобы и гладка, но что замечательно у Павлуши — так это зубы и улыбка. Как только Павлуша улыбается, так человеку опытному понятно становится, что паренек этот открыт, и юн, и доверчив.
Павлуша улыбался, радуясь, что сидит он дома, и ест борщ и студенек, и что здесь все такое же, как прежде. И точно — за два года ничего не изменилось. Он-то, Павлуша, повзрослел на целую жизнь, а здесь ничего не изменилось — ни отец, ни мать, ни дядья не состарились, и те же шутки за столом, и те ж две комнаты в деревянном доме, те ж занавески кружевные на окнах, и на подоконниках те ж цветы в горшочках — то и славно, что все без изменений.
А мать — Ксения Васильевна — все суетилась, меняла тарелки со студнем и салатами, подавала жаркое, и вдруг, освободившись от улыбки приветливой, села на стул у окна и задумалась.
Задумалась Ксения Васильевна о том как раз, что вот семья ничего никому не должна и все наконец дома. Теперь только бы текла жизнь без неожиданностей, отец пенсию выработал, ей бы вот, клейщице резиновых сапог на «Восходе», доработать до пенсии, это еще семь лет, а здоровьишка, вот беда, не так и много остается, давление начало что-то прыгать, но теперь, когда не будет страха за Павлушу, все наладится. Теперь только бы жить да жить.
Хорош паренек — сын младший — застенчивый, как девушка, совесть имеет, и руки удачливые. Так это обживется и женится, и это бы лучше некуда. Он, конечно, не пойдет в старшего брата Борю. Тот пришел из армии пять лет назад, сразу женился на Людке — вон она, кваша, сидит, — а ссоры пошли, чувствует Ксения Васильевна, ничего у них путного не выйдет. Владика, четырехлетнего внука, жалко.
— Боря, — подала голос Ксения Васильевна, — на белое не очень налегай, ты больше на рыбу да на мясо.
— Все путем, мама, все путем, братан ведь как-никак вернулся. А за меня спокойствие. Ну, братка, ты бы похвастался службой.
— Да, да, как служил-то, парень? — подхватили все разом.
Все довели уже свое веселье до нужной точки, когда оно не так-то сразу начнет улетучиваться, и были сыты, а потому очень хотелось сообща поговорить о чем-нибудь таком, что к ним самим прямого отношения не имеет, — о жизни на Марсе или в Америке, о полетах в космос или о Павлушиной службе.
— Служба как служба, — увернулся Павлуша.
— Сколько раз сиганул? — настаивал брат.
— Двадцать восемь.
— А без парашюта? — Это шутка такая — все засмеялись.
— Вот вам и Павлуша Пастухов, — сказал Алексей Игнатьевич. — Вот вам и робкий. А из робких, гляжу я, самые герои и получаются. А горлохваты, — тут Алексей Игнатьевич пристально посмотрел на Бориса, — они долгохлебы, только за столом и храбрые.
— А все ж, перед первым прыжком штаны не намочил? — не унимался Борис.
— Нет, — улыбнулся Павлуша. — А страшно было. Ну, перед первым прыжком страшно оттого, что не знаешь, как это выглядит. А потом уж страшно, что знаешь, как выглядит.
Только в разговор врубились дядя Серега и Мишаня, только они собрались загалдеть, что сейчас служба — масло сплошное и это не то, что двадцать лет назад, когда эту кашу хлебали они, как в комнату заглянул незнакомый мужчина.
— Или отдай деньги, или займись делом, — мимолетом бросила Ксения Васильевна мужу.
Впрочем, мужчина был незнаком только Павлуше, Алексей же Игнатьевич очень даже хорошо его знал, и он поспешно встал, ладонями потолкал перед грудью, что следовало понимать — минутку, гости дорогие и закуски, я сейчас человечка спроважу.
Но то был не человечек, а капитан второго ранга — кап-два, привычно говоря — Мамзин, и одет он был подчеркнуто по-дачному — кроме рубашки-распашонки он был в штучных семирублевых брюках и шлепанцах на босу ногу.
Они вышли на крыльцо.
— Ну, Алексей Игнатьевич, как лодка? — строго спросил Мамзин.
— Хороша будет лодка, Федор Евгеньевич.
— Деньги между тем плачены, Алексей Игнатьевич. И деньги немалые.
— Но и не большие, Федор Евгеньевич.
— Не в деньгах счастье.
— Что совершенно верно. А пройдемте на кухню, Федор Евгеньевич, — сказал Алексей Игнатьевич, надеясь угостить Мамзина чем-нибудь горьковатым.
Гость на кухню прошел, но от горечи отказался — ему и так горько, деньги дал вперед, а товара нет.
— Поймите меня правильно, Алексей Игнатьевич, деньги на улице не валяются, это ясно каждому, но не в деньгах счастье, повторяю, мне на вас указали как на лучшего мастера, деньги я уже оторвал от себя, и теперь мне нужна хорошая лодка, а не деньги.
А Павлуша в это время спросил у матушки Ксении Васильевны, кто это пришел и почему отвлекает отца, и та объяснила, что папаша год назад раздобыл списанную с большого парохода шлюпку и взялся — дело для него привычное, сколько лет им занимался — соорудить хороший катер, часть денег, как водится, взял вперед, но что-то в папаше заколодило, и он никак не может приняться за дело.
— Деньги-то большие?
— Двести.
— Тю!
— Но из них за шлюпку плати, и за подъемный кран, и за материалы, а работы на целое лето, как не поболее.
— Хитрован! — Это дядя Мишаня сказал про заказчика.
Алексей же Игнатьевич в это время соображал, как бы ему половчее отделаться от незваного гостя. За свою жизнь, подхалтуривая помимо основной работы, Алексей Игнатьевич сделал немало лодок. Были среди них похуже и получше, но вовсе плохоньких, чтоб их стесняться, когда видишь в ходу или на приколе, — не было. Год назад он взялся сделать из шлюпки катер. Для чего Мамзину катер — для рыбной ли ловли или чтоб было чем пред гостями хвалиться, — это неясно, да и не в этом дело — ваши денежки, наши труды — счет простой.
Но случилось вовсе неожиданное: Алексей Игнатьевич так ждал, когда ж ему подвалит пенсия, что когда день этот настал, он малость ошалел. А утром первого дня, когда Алексей Игнатьевич проснулся в пенсионном состоянии, он вдруг почувствовал, что в нем нет ни малой воли, чтобы хоть что-то делать.
Ну прямо беда приключилась с человеком: был в нем завод некий трудиться, и вот теперь завод этот кончился, и Алексей Игнатьевич почувствовал себя человеком, свободным от какого-либо труда.
Каждый вечер он говорил себе, ну все, он не тунеядец, он человек рабочий и завтра с утра засядет за привычное дело, но приходило утро, и Алексей Игнатьевич понимал, что нет ничего слаще, чем без всякого дела греться на солнышке, лежать на берегу залива и подставлять солнцу то один бок, то другой, и, постанывая, плюхаться в воду, да и плавать до услады полнейшей.
Деньги с Мамзина Алексей Игнатьевич взял перед самым выходом на пенсию, он, Алексей Игнатьевич, конечно же, не какой-нибудь ханыга, чтоб зажимать чужие деньги, да Мамзин и не требовал их возврата, но вот так взять да и вернуть Алексей Игнатьевич тоже не мог: это будет означать, что всякий человек в городе поймет, — мастеру конец, — но главное — перед собой ясно стало бы, что Алексею Игнатьевичу больше не быть трудовым человеком и следует признать поражение.
Вот и тянул Алексей Игнатьевич, вот и говорил — еще один день, да еще один, я отдохну, и притекут силы для труда привычного.
— Но так тоже делать нельзя — я прихожу, а вы от меня прячетесь, — сказал Мамзин. — Взрослые люди. И неловко. И вроде бы уважаемые в городе люди.
— Лодка будет что надо, Федор Евгеньевич. Скоро ее спустим на воду. Да и шампанское разобьем для легкого хода.
А Павлуша в это время ждал, когда к столу вернется отец, и, не дождавшись, вышел на крыльцо, чтоб помочь отцу освободиться от неожиданного посетителя.
На крыльце никого не было.
День угасал, медленно наползали сумерки, плоский диск солнца неотступно врезался в ровное блеклое зеркало залива, что-то недавно отгоревшее пропитывало воздух, покруживало душу грустью и надеждами на юное счастье, белые ночи мелькали вдали, еще только бледной тенью своих крыльев прикрывая землю, в КЮТе — Клубе юных техников «Архимедик» — пионеры гоняли пластинки, и под окнами в заболоченном пруду отчаянно, навзрыд тосковали лягушки.
О! Павлушин двор огромный, чего только нет в нем: сараи, гаражи, черная труба кочегарки, длинный сарай «Архимедика», склад ящиков для бутылок, детская площадка, — а дальше пустырь необъятный. Да, а слева от детской площадки два домика как занозы торчат, и домики эти полубарачного типа, и в каждом домике по четыре семьи. Вот одна из них и есть семья Пастуховых.
Павлуша медленно привыкал к своему двору, как вдруг услышал:
— А где мой папа?
— Какой еще папа?
— Да мой. Чей же еще?
— Я тебя-то вижу впервые, а папу — подавно не знаю.
— Да он к вам в дом зашел и пропал.
— Так это ему мой отец лодку должен?
— Вот именно. А то денежки берут, а лодки нету — хитренькие какие.
— Разберемся.
— В том-то и дело. И побыстрее бы.
— Разберемся, я сказал.
Перед ним стояла девушка. То была Люба Мамзина.
Павлуша-то ее видел впервые, но те, кто видел ее еще пять лет назад, говорили себе, что из этой девчушки вырастет красивая девушка — и точно, не ошиблись — и выросла, и красивая, так что когда она идет по улице, редко какой мужчина не остановится и не посмотрит ей вслед. Слов нет, умненькой девочкой ее никто никогда не называл, в прошлом году со скрипом и со стонами окончила школу, при поступлении в институт срезалась на первом же экзамене, так что вторую попытку даже и делать не пытается.
Она, Люба Мамзина, окружающих как бы и не замечала. То ли в детстве ей внушили, что она станет красивой женщиной, то ли внутренняя уверенность жила, что вот этот народишко противоположного пола никуда от нее не денется, всегда будет обалдевать в ее присутствии, так что и замечать-то его не следует. Тут можно понять людей, глазеющих ей вслед: Люба как бы всегда дремала — на уроках, дома ли, на улице, — ей снится вроде бы один и тот же замечательный сон, что это за сон, она и сама понять не может, но что-то в голове вертится необыкновенно приятное, и она этому улыбается. Так вот все теряли покой именно от этой улыбки, направленной не к окружающим, но в себя, в свой сладкий сон. Вот смотрит она на тебя, а тебя не видит, ты и теряешься в смущении, букашкой малой кажешься себе, перестарком, недостойным попадаться на ее дремотные глаза.
Вся она казалась взбитой из сливок, белая, даже сказать, сияюще белая кожа, да вся тугонькая, а в шагу плавна и легка — это когда еще она погрузнеет и сливки разбавляться начнут лишней влагой, да об этом никто и думать не смеет, глядя ей вслед, да вот за руку ее подержать, да вот пройтись с ней по улице, глядишь, и тебе перепадет что-либо от всеобщего внимания к твоей спутнице — да то и ладно.
И вот теперь она стояла перед Павлушей Пастуховым и спрашивала, где ее отец.
— А тебя как звать? — спросил Павлуша.
— Люба.
— А я Павел.
Она едва повела плечами — ей все равно, Павел он, или Геннадий, или Роберт.
Они стояли друг перед другом. Ее-то молчание не тяготило, она-то молчать могла сутками, ей даже шло — молчать, и она об этом знала, Павлуша же начал испытывать неловкость, а потом и беспокойство от плывущих на него теплых токов, и молчание все снижало и снижало его, и уж казался он себе не орлом, вернувшимся в отчий дом, но человечком небольшого роста, тщедушным, с защечными мешочками и не вполне гладкой кожей — это было тягостное и унизительное молчание.
Неумение быть в нужный момент веселым и находчивым, даже нагловатым, и губило всегда Павлушу, оттого-то девушки и обходили его своим вниманием.
Сейчас Павлушу могло спасти только чудо, и оно, представьте себе, случилось — взгляд Любы Мамзиной пробился сквозь сладкую пелену дремоты и остановился на десантном значке Павлуши.
— Это что еще такое? — ткнула она пальцем в Павлушину грудь.
— Десантный значок.
— Обалденный значок. Так ты прыгал сверху вниз?
— Да.
Она, пожалуй, впервые поняла, что кто-то может сделать такое, чего она никогда не сможет. Вот она не сможет выпрыгнуть из самолета, а этот, прямо скажем, плюгавый паренек может, этим вот соображением Павлуша ее и заинтересовал.
— Обалденно. Я бы этого не смогла.
— Ну, если подучить. Да если смелая.
— Ну, если подучить. Да если смелая, — как эхо, повторила Люба. Вот именно этими повторениями, словно эхо, она доводила отца своего Федора Евгеньевича до ослепления злостью. Тогда он в изнеможении разводил руками, поднимал глаза к потолку и цепенел на весь вечер.
— И это с большой высоты?
— Да с разной. Вот с тысячи примерно метров.
Люба ахала. Что-то ей хоть на короткое время было интересно кроме собственных снов.
— Так это же очень страшно.
— Да, страшновато, — только и сказал Павлуша.
— Обалденно, — снова восхитилась она.
Ах, Павлуша, Павлуша, да кто другой на его месте позу бы должную принял, чтоб рассказать о прыжках, а он знай улыбается смущенно. И главное — есть ведь что рассказать — да вот хоть про последний прыжок. Да, признаться — страшновато ночью прыгать, днем ты хоть видишь небо, а ночью — темная бездна плоть твою ничтожную поглотит, но есть и счастье — вот рвануло тебя за плечи, и туго налился купол, и уж восторженность в тебе клокочет, боже мой! как красива земля, когда падаешь на нее с ночного неба при раскрытом парашюте, она темна, лишь где-то далеко тускло серебрится, охваченная дымкой, и в небе виден край восходящего солнца и подсвеченные вечным прожектором облака.
Павлуша ничего не рассказал Любе, и она, поняв, что интересного не услышит, напомнила:
— Так поторопи моего папу. А то заждалась.
Павлуша пошел в дом, заглянул на кухню — там Алексей Игнатьевич все не мог сговориться с Федором Евгеньевичем.
Павлуша вдруг предложил:
— Так, может, я помогу тебе, папа?
— А вот это правильно, — обрадовался Алексей Игнатьевич. — Это такой парень, скажу вам, Федор Евгеньевич, это даже удивительно какие ловкие у него руки
— Но мне нужен мастер, вы то есть, — не глядя на Павлушу, недовольно сказал Мамзин.
— Это вы потому так говорите, что не знаете, какой это парень. Да он через год-другой меня переплюнет.
Тогда Мамзин нехотя повернулся к Павлуше и в упор уставился на него. Павлуша, однако, этот взгляд презрительный выдержал, и тогда Мамзин криво усмехнулся — дескать, им внушили, что человек создан для счастья, и потому всякий воробей желает парить орлом, а солдат стать генералом — что ж, он не против.
— Ладно, мне все равно, — устало махнул рукой Мамзин. — Мне лишь бы катер, был не хуже чем у людей.
Когда Павлуша служил, ему ни разу не снились прыжки, а сейчас, в первую ночь дома, снился Павлуше прыжок, и счетчик уже сработал, и парашют раскрылся, но купол повис колбаской, а воздухом не наполнялся, тогда Павлуша дернул кольцо ПЗ — запасного парашюта, — но и второй купол колбасил, а падение не замедлял, и в тот момент, когда земля вовсе налетала на Павлушу, он закричал и рывком сел на кровати.
Тело покрыто было липким потом — Павлуша испытал страх, которого не было даже во время самых трудных прыжков.
Он лег снова, чтоб успокоиться и смирить сердцебиение. Было раннее утро, и Павлуша чувствовал, как солнце согревает левую щеку, и вдруг он услышал, что его кто-то окликает. Павлуша хотел откликнуться, но голос его не слушался.
Да, звала его Люба Мамзина.
У него хватило воли приоткрыть глаза — Люба медленно плыла к нему, и как прекрасна она в своих замедленных движениях — задержанный поворот головы, чуть отстающая от шага правая рука. Павлуша согласен был вовсе не оживать, чтоб продлить это ее движение.
Люба остановилась возле Павлуши, склонилась над ним, опустилась на колени. Колени ее были так округлы, что с боков коленных чашечек видны были маленькие ямочки.
Люба приблизила свое лицо к его лицу и сухими, как в жару, губами коснулась его губ — мгновенное касание — всплеск крыльев бабочки перед полетом, шелест взорвавшейся почки — это все!
Павлуша снова проснулся и вышел на крыльцо. На землю наплывал сероватый рассвет. Над заливом что-то серебряно вспыхнуло. Воздух был солен, дрожал от комаров и прохлады.
Павлуша стоял на крыльце и улыбался, он не то чтобы догадывался, нет, он твердо знал, что сегодня во сне приключилось с ним чудо немалое — он просто-напросто влюбился в Любу Мамзину. А ведь видел всего десять минут. Сейчас Павлуша задержал в себе не вчерашний разговор с ней, но ночной сон, и память об этом сне была так блаженна, что стала она дороже любой яви.
Дело, которое ожидало Павлушу, не было для него новым — с малолетства он вертелся возле отца и помогал ему ремонтировать и строить лодки — дело ему известное. Но одно помогать, а другое — самому за все отвечать и быть в деле человеком самостоятельным.
Книг, чертежей, вырезок из журналов в доме была целая этажерка, и Павлуше понадобилась всего неделя, чтоб освежить память и сообразить, что именно и когда следует делать.
И потом Павлуша рассчитывал, что папаша его недолго будет стоять в сторонке. Павлуша брал советы у отца, тот охотно их давал, но горения приблизиться к лодке у него не было.
И вот в начале июня настал день тот первый, когда Павлуша впервые подступил к лодке.
Помощников да и просто наблюдателей, как всегда в начале любого дела, собралось немало. Хотя Алексей Игнатьевич, главмастер, не пришел, — у него, как назло, какое-то более неотложное дело случилось.
А потом Павлуша один остался — подразбрелся народишко, это ведь не на воду лодку спускать, когда любопытство заедает, — а ну как сразу даст она течь, — а так что за интерес: ну удаляет Павлуша шпаклевку с красно-медных заклепок — и пусть удаляет, ну прошелся паяльной лампой по краске, чтоб слупить ее, — тоже пусть, запашок горелой краски в нос шибает, это да, — пусть Павлуша сам его и вдыхает, раз ввязался в дело такое.
А вот уже день следующий: тоже жаркий, но сухой, не душный, солнце раскалило воздух, а он дрожит от жары, неподвижный залив слепит глаза, пространства так прозрачны, что справа виден блеск Исаакия, до ближайшего форта пять километров, а видна всякая выбоина на нем — волшебное время, пространства скрадены жарой, все смещено, закручено, раскалено.
Лениво копошатся люди в неоглядном дворе — распахнуты гаражи, дети прячутся в тени, движения людей экономные, словно бы человек по этакой жаре собирается жить не день, но век, словно человек не в Фонареве живет, но в Ницце. Двор вспыхнул разноцветными флагами воскресной стирки, да вот он и скандальчик — кто-то пытается ковры выбивать, а пыль — куда ей деться — медленно оседает на влажное белье, так ведь воскресенье одно хоть для стирки, хоть для ковробоя, однако нет сил у людей на серьезную ссору, так, легкий шип — ну там ты гопник либо скобарь, да так все по мелочам, да и разойдутся себе. И трещат мотоциклы, и пионеры из «Архимедика» врубили на полную катушку «Не отрекаются, любя» — рано, рано созревают наши юные друзья.
А вот и Павлуша — он шкрябает поверхность лодки.
А теперь снова кликнуть помощников — сейчас натянем полотнища да и влепим их в лодку. И Павлуша руки смазал вазелином, очки защитные надел да резиновые перчатки и поднял руки над головой, и пальцами пошевелил для верности, и, пританцовывая у лодки, руками стал протопывать полотнища, да начинал с середины, да следил, чтоб не было пузырей, а если пузырь появлялся, то Павлуша давил его гаечным ключом, он время от времени останавливал танец, и, чтоб поправить перчатки, поднимал руки кверху, и снова пританцовывал у лодки.
Он был хорош, Павлуша, в это время — движения точные, нет ничего лишнего — знает человек свое дело.
А потом Павлуша принес из дому бидон с холодным пивом, и все, кто помогал ему в такой день, легли на землю чуть влажную в тени от кочегарки и пересохшими губами припадали поочередно к бидону — да есть ли что лучше, чем лежать в тени в жаркий день и пить холодное пиво, да чтоб рядом с тобой были друзья беззлобные.
Пошла себе гражданская жизнь Павлуши, сперва медленно, тягуче, а потом все резвее и резвее да и понеслась во весь дух. И месяц отсквозил, и другой, отсветили свое белые ночи, все раньше и раньше стало солнце клевать залив и вплывать в него на ночь — так покатилась Павлушина жизнь.
Он и отдохнул-то от армии пять дней, а потом поступил на мебельный комбинат. Но сейчас главное дело для него было в лодке. Потому, во-первых, что обещал сделать, потому еще, что стал Павлуша к лодке прикипать, и это была его первая лодка и опозориться он никак не хотел, ну и главное — лодку он мастерил для отца Любы, а Любу он вспоминал ежедневно и надеялся предстать перед нею в наилучшем виде.
Все вечера с семи и до одиннадцати Павлуша просиживал в лодке. То есть сначала, конечно, возле лодки, это когда днище до ватерлинии покрывал суриком на эпоксидке, а потом звал друзей, чтоб снова перевернуть лодку, и уж с тех пор сидел внутри. Ну, конечно, еще и потому сидел все вечера в лодке, что особенно-то ему и деваться было некуда.
Конечно, дом родной он и есть дом родной, но в нем стало тесновато. Одну комнату занимает брат Боря с Людой и Владиком, а в другой — большой, но проходной — вся остальная семья. С отцом-матерью, глядишь, сжился бы сносно и в одной комнате, а вот с братом Павлуша сумеет сжиться вряд ли.
Что попивает брат, это понятно, хотя, конечно, не каждый день, — шофер, жизнь собственная тоже дорога, — а вот в пятницу как разгонится, так до воскресного утра не просыхает. Да еще и гордость его заедает — пьет только на свои, недодавая Люде основательную часть зарплаты. Да каждый день приходит домой часов в девять, хотя работа кончается в шесть, а Люде в это время изводись — до нее слухи дошли, что муж захаживает к Вале, учетчице гаража, к тому ж она бывшая подруга Люды и при встрече задевает ее взглядами победными.
А Люду Павлуше жалко — уж как она нравилась ему пять лет назад — стройная была, веселая.
Пять лет всего отлетело, а где ж та юная Люда, расплылась, не стесняется при Павлуше ходить в драном халате, волосы нечесаные, вся она нахохлившаяся.
А Владик-то все понимает, вид у пацана испуганный, к бабкиному подолу как прибьется, да так и простоял бы до сна, а Люда, вся на взводе, шпыняет его, отгоняет от бабкиных колен, не портите ребенка, мама, уже доказали, какой вы есть воспитатель, на сына старшего, к примеру, полюбуйтесь.
И что в случае таком людей держит, разлетитесь вы, братцы, в разные стороны. Но, Павлуша, я уже старая стала, я себя чувствую так, будто мне пятьдесят лет, а куда я сбегу, да еще с ребенком, если у матери одна комната и в ней младший брат с женой, а Борьке жилья не будет в ближайшие годы. Да и его мне жалко, я его хоть чуть сдерживаю, а без меня совсем пропадет. Что он болтается, это как раз ничего, не мыло — не изотрется, но только б и жену законную не забывал.
Вот и скрывался Павлуша в своей лодке, и дело это ему нравилось, и радовало, что работа продвигается не так уж и медленно — потопчины соорудил для ходьбы вдоль бортов и три переборки поставил для усиления лодки, форпик (это для топливного бака на шестьдесят литров), заднюю стенку каюты и ахтерпик.
Тихий стоял августовский вечер, и было часов около одиннадцати. Белые ночи давненько уже обессилели и упорхнули отдыхать до следующего лета, небо стало сине-зеленым, тугим, высоким. В тишине иной раз посвистывала электричка, земля темна и дома темны, словно бы они вырезаны из фанеры, над домами узкой полосой лился слабый зеленый свет, звезды были мелки, а серп луны четок и ярок — можно работать и при лунном свете, но Павлуша для верности жег керосиновую лампу. Иногда глубоко в небе мерцали огни — то пролетал самолет. Пелена, сотканная из покоя, прохлады и вечерней неуловимой влаги, окутала землю, продлилась еще, вечер позднего лета, не покидай душу, покой предночный.
Сейчас собственная дальнейшая жизнь казалась Павлуше радостной загадкой, и разгадка не сулила, конечно, ни беды, ни тревоги.
Ему оставалось всего-то ввинтить два-три шурупа, чтоб на сегодня работу закончить, как вдруг услышал он осторожные шаги у лодки.
— Кто? — недовольно спросил Павлуша.
— Да я это.
— Люба? — удивился Павлуша и выглянул из лодки — Вот так штука. Случилось что? Отец послал посмотреть, как идут дела?
— Нет, я просто так. Я, может, давно не видела тебя. И, может, увидеть хочу.
Он скорехонько выпрыгнул из лодки и сел на ступеньку. Не во сне это — Люба перед ним. И видел-то всего раз, а скучал по ней, а сейчас обрадовался так, что сердце гулко заколотилось.
— Ты почему не появляешься? Ведь вон когда прибыл.
— Где ты живешь, не знаю. Мог бы узнать у своего отца, но как пойти к тебе домой? Вот когда лодку доделаю…
— Значит, не хотел увидеть.
— Очень хотел. Даже снилась.
— Даже снилась. Значит, не хотел увидеть.
— Очень хотел. Даже, говорю, и снилась.
— Даже и снилась. А что же на работе не нашел?
— А я не знаю, где ты работаешь.
— Ты не из детского сада, нет? Нашел бы. На рынке, в уцененных товарах.
— Значит, найду.
— И раньше мог, если б захотел.
— Да ты замерзла, поди, — сказал Павлуша.
На Любе было легкое платье. Он протянул руку и дотронулся до Любиного плеча. То есть он хотел согреть ее плечо горящей своей ладонью, и только, — погладить плечо он не осмелился бы, потому что как раз смелости да и сноровки в нем не было, но Люба-то поняла, что есть в нем и смелость и сноровка, и подалась вперед, к Павлуше, совсем приблизилась к нему, а Павлуша, вдруг растворившись в ее желании, припал к ее рту, и губы ее, во сне сухие, сейчас были влажны и горячи, и Люба как бы обмерла в напряжении, и дыхание ее участилось. Павлуши сейчас как бы и не было, сознание его померкло, слаще не было минуты в его жизни — размытое в лунном свете ее лицо, вздрагивающие ноздри, и кожа, невозможно гладкая, как бы пульсирующая кожа — все так. Но вдруг в сознание Павлуши стало проникать что-то такое уж знакомое, повседневное, что-то уж очень близкое, что вошло в жизнь, как атмосферный столб, солнечный свет либо осенний дождик, — то был винный запах, и Павлуша, ненавидящий спиртное, узнал, что это не легкий запах шампанского, но тяжелый запах водки либо заменителя типа «клопомор», и этот запах был так неожидан, что Павлуша отпрянул.
Люба потрясла головой, чтоб прийти в себя.
— Ты что? — удивилась она.
— А где это ты пила?
— В ресторане. А тебе что?
— Да ничего. А только противно.
— А может, я с подругой посидела да для храбрости и приняла. Ты же не появляешься. А может, я не одна была, а с телком вроде тебя.
— Я ж тебя не звал.
— Я домой шла и увидела свет. Но ты… ты, — нужного слова Люба сразу подобрать не могла и только уничтожающе махнула рукой.
— Я тебя ждал, очень ждал, но так — не могу.
— А ведь пожалеешь.
— Да, пожалею, — согласился Павлуша, а Люба растворилась в темноте за гаражами.
Павлуша же лег в лодку между каютой и ахтерпиком, погасил лампу, руки завел за голову и долго смотрел в сине-зеленое небо, мерцающее огнями самолетов и вспышками малых звезд, лежал он долго, понимая, что отчаянно, даже бесповоротно любит он вот эту самую Любу Мамзину, уж какая она ни есть, и под этим глубоким ночным небом догадывался Павлуша, что ничего хорошего из этой любви не может выйти, но и готов был ко всему.
Да, Люба Мамзина работала в магазине уцененных товаров. Вернее, то был не магазин, а лавка, и торговала Люба ненужным товаром: креслами без ножек, авторучками-фонариками, которые не умещаются в руке и, конечно же, не пишут, съеденными молью ковриками, битыми пластинками, дырявыми ведрами.
Хотя лавка была на рынке, люди заходили сюда редко. А лавка между тем работала, занимая довольно просторное помещение.
И Люба понимала, что без лавки никак нельзя. Потому что магазины должны делать план, на том торговля и держится. И уцененка должна делать план, а на хламе его не сделаешь. Вот и открыли лавку — спускают лежалый товар. Товар пару лет пролежит у Любы, его подчистую и спишут. Иначе никак нельзя. С другой-то стороны, а Любе что за смысл работать? Премию ведь она не получает, только восемьдесят рублей зарплаты. Но ведь она уже присохла к торговле, куда ж ей деться? А в обычном магазине надо весь день вертеться, а Любе больше нравится дремать. Ну и что — нет премии, зато ей начальство иной раз продаст то, чего нет в магазине, — кофточку, пальтецо, сапожки. Так что Любе было неплохо — она при месте, и папа не ругает.
И место удачное: лавка на рынке, и это славно, видна колокольня и слышен галдеж ворон на ней, и видны торговые ряды, забавно смотреть, как народишко топчется у прилавков. Да разве ж не забавно видеть, как люди открывают рты, а слов не слышно — будто они рыбы, заглатывающие воздух. А вот собачек продают, и песик из хозяйственной сумки помахивает хвостиком, и Люба часами могла смотреть на этот хвостик.
Тихо, дремотно текли кое-какие соображения в голове Любы: вот вчера вечером она была там-то и там-то, съела то-то и то-то, а сегодня вечером встретится с подругой Наташкой, та познакомилась с молодым портным — он художник, но бросил рисовать, потому что этим делом не прокормишься, а вот шить женские брюки и юбки — это да, этим можно прокормиться, и жене не нужно работать, брюки шьет за вечер, и брюки, скажем прямо, всем на удивление, сразу видно мастера, на улице все ахают и спрашивают адресок его, но он тоже ловкач, знает жизнь — только ателье подняли цены, он тоже не отстает от жизни — брал двадцать рублей за брюки, теперь тридцать, за юбку десятку брал, теперь — пятнадцать. Но работа — ахнешь.
Не мешали Любе и редкие посетители: она знала одну точку на оконном стекле — муха долго сидела, — и Люба при посетителе смотрела ровнехонько в эту точку, а так как товар был весь сразу виден, то посетитель, стушевавшись, уходил прочь.
А вот и первые белые мушки полетели, да крупные какие, чуть подкручены ветром, сносит их как бы по касательной к земле, да и то сказать — зима припозднилась, пора бы и на шубку переходить, шубка хоть синтетическая, но очень хороша, летом купила, да и шапка хороша — беличья с длинными ушами, так что Люба вполне похожа будет на Снегурочку.
В лавке было тепло, на душе у Любы спокойно, дремотно и уж конечно беззлобно, покруживали мушки, вскидывались с колокольни вороны и, покружившись, возвращались на насиженное место, снег оживил очередь, и люди задвигались порезвее, Люба же была далеко от повсеместных забот, ей было уютно и счастливо, потому что она уверенно знала, что не всю жизнь ей вот так стоять, будут приятные перемены, а покуда и так жизнь течет спокойно и незатруднительно.
Каковы перемены, Люба не знала, но что они непременно будут и непременно приятные, не сомневалась.
Итак, стояли бесснежные морозы, земля промерзла стала упруга и звонка, как резиновый мяч, и тут-то пошел первый снег, мушки то есть полетели, и в лавку вошел наш друг Павлуша Пастухов.
Что-то даже и ворохнулось в Любе: не то сожаление, что вот ходит человек понапрасну, не то обида, что вот он поучал ее, словно папаша родной.
А Павлуша-то готовился к этой встрече, даже с работы отпросился, вчера долго не мог заснуть и сегодня с утра нервничал, да и сейчас поджилки его тряслись, сердце же, как только Павлуша увидел Любу, поколотившись о прутья грудной клетки и поняв безнадежность их сломать, соскользнуло с законного места куда-то в подвздошье.
— Ну что, Люба, как живешь?
— Да так и живу.
— Хорошо тебе здесь, что ли?
— Хорошо здесь, что ли. Во всяком случае, никому не завидую и потому собой довольна.
— А вечерами что делаешь?
— А вечер — время нерабочее. И человек имеет право на личную жизнь.
— На танцы ходишь?
— Хожу. Но редко.
— А куда?
— В Манеж, например. Но скоро перестану. Там все девочки четырнадцати и пятнадцати лет. Я уже вроде мамочка для них.
— Так сходим в кино.
— Фильмы плохие.
— Будут и хорошие.
— Не будет хороших — я знаю.
— Так, может, не приходить больше сюда?
— А я никого между тем и не звала. И даже странно. Будто бы люди сюда ходят недобровольно.
— А вроде когда-то звала.
— Вроде когда-то звала. А больше не зову.
Ну хоть бы в глаза человеку посмотрела, улыбнулась, раз приходит, значит, чего-то ждет, а чего, чего он ждет, даже взгляда пристального он не стоит — уничтожен, совсем уничтожен.
— Значит, так, Люба?
— Значит, так..
— До свиданья тогда.
— До свиданья.
Ну, вот так-то, если разобраться, что его сюда тянет, на что рассчитывает, может, и был у нее к нему какой интерес минутный — вроде он птичка новая, залетная, а потом интерес пропал.
Но что Павлуше все эти резоны, если он каждодневно помнит Любу, и если он бежит за ней, когда видит на улице, и всякий раз оказывается, что это другая девушка, и если он считает дни на работе — вот тогда-то я зайду в лавку. Он заходил бы каждый день, да неудобно глаза мозолить лишний раз. Так что пришел уж тогда, когда больше не мог выдержать.
И то сказать: разве это не радость — увидеть Любу. Вот даже если нет ответа. Теперь Павлуша согласен был и без ответа. Потому что его не оставляла надежда, что еще не все потеряно, что нужно лишь терпением запастись, Люба еще увидит, какой он мастер. Да разве же может один человек не оценить другого человека, если этот другой человек, предположим, мастер, если он может сделать вещицу, от которой дух замирает, вот бы только весны дождаться да снова к делу подключиться, и Люба все оценит и поймет точное место Павлуши.
Между стадионом (музыка играет, мальчишки на коньках гоняются) и обществом слепых (в большом цехе люди вяжут волейбольные сетки, платная чтица роман читает) воткнулся мебельный комбинат.
Название, конечно, громкое — комбинат! — на самом деле предприятие небольшое, это филиал большого комбината, что находится в городе (два часа езды в один конец).
Выпускают здесь два вида товаров: матрасы для деревянных кроватей и кресла-кровати для подростков.
Вот тут-то и работал Павлуша. Он два года учился в ПТУ, где из него готовили классного мастера мебели, да год проходил практику в мастерской по восстановлению старинной мебели. Павлуша считался лучшим учеником, надеялись, что из паренька выйдет толк, да и сам он чувствовал в себе некоторое умение и вкус к хорошей мебели.
Всего две недели понадобилось Павлуше, чтоб освоиться с новым делом. Начальница цеха Валентина Александровна Верозубова не могла нарадоваться на Павлушу: покладист, непьющ и с делом справляется.
Да и товарищи по работе были им довольны — беззлобен, на дружеские шутки не обижается, с работой справляется, еще и напарнику Василию Семеновичу поможет, если у того очередной раз поясницу прихватит. Все знали, что Павлуша в работе хороший товарищ.
Да и сам Павлуша поначалу был доволен всем: еще бы, новые для него люди, а он среди них уже разный, никогда прежде не было самостоятельных денег, а тут сразу до ста семидесяти колотит, так что живи себе и радуйся.
Почти всякий человек так и поступил бы, но Павлуша — вот беда! — устроен был малость по-другому.
Уверен был Павлуша, что человек должен радоваться тому, что он выпускает, и тогда людям, которые станут пользоваться вещами этого человека, тоже не с чего будет горевать. Денежки, понимал Павлуша, дело хорошее, даже отличное, но ведь без радости работа уж не работа, а наказание тяжкое.
И тут Павлушу ожидало некоторое разочарование. Он еще в училище на разных выставках несколько раз брал награды за свою мебель, ему и дальше так виделось: он мастерит что-либо, столешницы ли с хитрой инкрустацией, шкафы ли с резными украшениями, а люди, кто понимает в такой работе, вещи эти покупают, а Павлуша делает вещицы одну другой лучше, да так, пожалуй, вся жизнь и проходит — в труде, близком сердцу.
Но получилось грустновато. У Павлуши способности были к товару штучному, а его подключили к потоку.
Однажды Павлуша сказал своему напарнику Василию Семеновичу:
— А что такая сиротская обивка у кресел? Повеселее, что ли, нельзя придумать? Глазу и то скучно смотреть.
— Глазу, может, и скучно, да заду весело. Потому что вполне мягко. А ты мне-то что об этом говоришь?
— А кому же говорить? Вы здесь с основания, тридцать лет.
— А ты Валентине Александровне скажи.
Сказал Павлуша и Валентине Александровне, и та, видно, поняла Павлушино состояние и не обиделась.
— Так ведь, Павлик, разве мы сами обивку делаем?
— Так добейтесь, чтоб сменили.
— И сменят, когда товар идти перестанет. А наш товар идет.
— Тоже и кресла. У них бы чуть подогнуть ножки и поставить по-другому — вид иной будет. Хорошие же кресла.
— Но ведь мы филиал. Ножки-то мы сами не делаем. Да и условий нет.
Павлуша был готов к этому и сказал:
— Но уж латекс-то, губку, мы можем сами резать. Чуть дугой сделать, так и так, — Павлуша показал, — вид сразу станет более товарный, да и спине удобно отдыхать.
— А это ты, пожалуй прав. Это мы можем делать сами. Надо подумать.
— А то ведь не вполне ловко получается, Валентина Александровна. Можем ведь так работать, чтобы товар наш был самым лучшим. Забываем иной раз, что не для себя работаем, а для других людей. Что они подумают о нас? Что мы халтурщики? А как жить? Это уж себя не уважать.
Приятно было Валентине Александровне слушать такие слова — новичок, юный еще рабочий, а сознательный. Это ж опора на будущее. Радовали ее эти слова, но и тревожили: хрупкая душа у паренька, так что несдобровать, поди, Павлику этому, скорехонько его скрутит поток.
И Валентина Александровна Верозубова, пятидесятилетняя женщина, сказала ему так:
— Павлик, ты мне очень нравишься — с делом справляешься и совесть у тебя не перевелась. Но тебе бы поскорее жениться, да чтоб детей у тебя было хотя бы двое, да чтоб ты постоянно соображал, как бы их получше прокормить. Тогда бы ты думал не только о посторонней спине, которой удобно в твоем кресле, а о собственной семье. Вот тебе мой материнский совет.
Павлуша вышел с комбината. Пять часов, — а солнце ярко-красное, снег голубой, верхушки деревьев охвачены красным огнем заката. Морозит, но после дневного бокогрея ледок похрустывает под ногами. За один день случилось что-то в природе — и вот пришла весна.
Но Павлуша не радовался приходу весны, он был печален. От мгновенного осознания прихода весны ему стало жалко себя — вот он хоть и молод, но одинок, и сейчас ему хотелось, чтоб другие люди пожалели либо — на худой конец — полюбили его.
Да отчего это Павлушу в одиночество тянет, ведь есть друзья надежные, и много раз звали повеселиться основательно — вот у Вити Степанова мать всю ночь дежурит, и комната свободна, повеселимся, горечи глотнем, а подруги само собой, это не вопрос по нынешним временам, а ведь помнить следует, что год-другой после армии человеку специально и отпущен, чтоб он поколобродил, кое-какие удовольствия посрывал, ведь Павлуша — человек какой — руки и голова у него на должном месте, а заработки — года не прошло, а уж пальто зимнее купил, и плащ польский, и костюм отличный фабрики Володарского — кто ж это его не оценит и не пойдет за ним хоть и на всю дальнейшую жизнь.
Но в том-то вся беда и была, что нужен был Павлуше не кто-нибудь, но только Люба. Дня не проходило, чтоб он не вспомнил о ней, а вспомнив, не начинал печалиться, что не видит ее. В лавку он больше не заходил, чтоб не сердить ее, несколько раз ходил на танцы, надеясь увидеть ее да и сказать пару слов в свою защиту, но на танцы в Фонарево Люба не приходила, видно, ездила в другое какое место.
И вдруг Павлуше стало радостно — он понял, что сейчас не станет сдерживать себя и пойдет к рынку, чтоб увидеть Любу. Будь что будет, пусть она не станет с ним разговаривать, достаточно и того, что он увидит ее, этого пока достаточно. А лето впереди, когда Павлуша добьет лодку и будет сдавать ее хозяину, и будут ходить друг к другу в гости, успеет тогда наговориться с Любой.
Солнце уже село, но небо на западе горело малиновым огнем, воздух был гулок, движения людей чуть встревоженны.
Павлуша спустился под гору, перебежал широкое шоссе и радостно зашагал вдоль ограды рынка, обогнул большую церковь, увидел большой щит трансагентства и свернул направо — сейчас он увидит Любу.
И он увидел ее. Она торопливо шла по тротуару, шубка ее была распахнута, Люба искала кого-то глазами, вот нашла, и лицо вспыхнуло радостью, словно б зажглось закатным солнцем, словно б осветилось бьющим изнутри прожектором — это радость, что на месте человек, которого она ищет, и помахала ему рукой.
Махала она в сторону Павлуши, но внимание ее, знал он наверняка, к нему никак не относится, и, уже понимая непоправимость случившегося, Павлуша замер у щита трансагентства, вдавился в него, ощущая себя существом малейшим.
А Люба перебежала улицу и заспешила к овощному магазину — это в нескольких шагах от Павлуши, — Люба так торопилась, словно если в несколько мгновений она не успеет преодолеть пространство до того вон мотоцикла, то и мотоцикл, и хозяин его провалятся сквозь землю.
Но мотоцикл не провалился, а хозяин его, юный мичман, махал призывно рукой, и Люба что-то сказала ему на ухо, и он запрокинул голову и радостно — от переизбытка счастья — засмеялся.
Люба привычно села на мотоцикл, поправила свою беличью шапку, обняла мичмана за шею, а он поднял очки на лоб и повернул голову к Любе, чтоб заглянуть в ее глаза.
А она-то, видимо, этого и ждала — лицо ее сияло восторгом. Сомневаться не приходилось — случись что-либо с этим мотоциклистом, и Люба тоже жить не станет, потому что он один такой вот мотоциклист, а прежняя жизнь невозможна более, Люба теперь пробудилась и иначе жить не станет. Она покрепче обняла своего мичмана за шею, прижалась щекой к шершавой шинели.
А Павлуша стоял у щита трансагентства и потерянно смотрел, как проплыл мимо мотоцикл и проплыло счастливое лицо Любы. Мотоцикл свернул влево, и для Павлуши все было кончено.
Сомнений не оставалось — мотоциклист приедет за Любой раз и другой и увезет ее куда-либо далеко от родительского дома.
Да и точно — когда через месяц Павлуша зашел в лавку, там работала другая девушка. И когда Павлуша осмелился спросить, где Люба, девушка ответила, что Люба вышла замуж и уехала куда-то под Калининград с надеждами на дальнейшее счастье.
Очень уж ждал Павлуша прихода настоящей весны, когда можно будет спрятаться в лодке, подсластить горечь удачной работой, и она пришла, настоящая весна, распорола теплым ножом морозный воздух, в несколько дней сошел снег, с тротуаров и мостовых начал подниматься голубоватый пар, набухли и приготовились взорваться почки, по дворам сгребали в кучи накопившийся за год мусор, и тягучий дым костров обволакивал город, скашивая души к печалям, а глаза к слезам.
После праздничного подъема, демонстраций и фейерверка Павлуша засел в лодке, чтобы не отрываться от дела, пока за месяц-другой не добьет его.
Так-то говоря, смысла в его работе не было. Брался он за дело ради Любы, теперь же, когда не осталось надежд когда-либо увидеть ее, можно было и не стараться, потому что как ни сделай лодку, все сойдет, но Павлуша постоянно помнил, что работает человек не для себя, а для другого человека, и тому человеку безразлично, грустно тебе или весело, болен ты или здоров, — ему нужна хорошая вещь, ты ее обещал — и делай.
Так утешал себя Павлуша.
Но самое главное — работал он не так даже для будущего хозяина лодки, как для себя самого — больше всего он боялся сейчас остаться без дела, то есть быть предоставленным самому себе.
Павлуша не обижался на Любу — что ж обижаться, если она полюбила другого человека.
И подошли протяжные майские вечера, когда уже не надо жечь лампу. И с радостью Павлуша видел, что дело продвигается хорошо. Он постарался прошлой осенью, прихватил время почти до первого снега, зато теперь осталась только внутренняя отделка — размещение коек, столиков, ящиков в каюте — работа немалая, но привычная.
В конце мая он уже поставил койки и мастерил столик между ними. Тут Павлуша убедился, что ему придется маленько посоображать, потому что место нужно экономить. И столик должен быть таким, чтоб на нем можно было развернуть большую карту, а также использовать его как добавочное спальное место, ну а тумба может одновременно служить и посудным шкафом.
Потом он сооружал столик с углублениями для газовой плитки, а под плиткой устроил кухонный шкаф.
Сделал Павлуша шкафчики и ящички для инструментов и запасных частей. Можно было бы поставить один шкаф — и работы меньше, да и при Павлушиных руках он неплохо бы смотрелся, но Павлуша подумал так, что из одного шкафа хозяева скорехонько сделают свалку, где ничего не найдешь, — работы было больше, зато ящики удобно разместились.
Боже мой, субботнее летнее утро, время томительное, блаженное, все спят, видят сны последние. Солнце только встало, залило дома ярко-розовым светом, тишина повсеместная, лишь птицы оживились в садике. Дали необъятные, солнце и рассвет размыли пространства, постепенно прогревается зябкое утро, вот уже и жара к горлу подплывает, вот и пиджачок рабочий можно снять, а вот и оживление двора началось: побежали за продуктами нетерпеливые хозяйки, сгущается тепло, вот уже можно и рубашку снять. Белое блаженное время. Всяк ищет своих удовольствий — кому лес, кому залив, а Павлуше на весь день лодка отпущена, и это выходит, главное для него удовольствие.
На душе несуетливо, и мысли протекают в такт движению рук. Павлуше не было скучно с самим собой, потому что приходилось все время что-либо прикидывать, он даже и вслух рассуждал — я его так, а он эдак, а тогда если я его так, то уж он точно вот эдак, — и относилось это, скажем, к размещению шкафчиков над койками — разве не интересная загадка? И вот когда шкафчики разместились удобно, не занимая лишнего места, но и не давая пустот — разве это не радость, разве не удовольствие? Боже мой, да если что-нибудь эдакое прикинул, а получилось лучше, чем ожидал, так ли много радостей, больших, чем эта вот радость?
Павлуша с сожалением понимал, что работа подходит к концу. Так уж все скрутилось за последний год, что работа в лодке была главным — и единственным — удовольствием. И прерывать это удовольствие ему никак не хотелось. Но ведь все на свете имеет конец — от маеты сердечной до жизни человеческой включительно.
И однажды Павлуша понял, что катер готов к спуску, что получился он удачным. Как катер поведет себя на воде, можно было только догадываться, что он красив и удобен для плавания — в этом, сомнений у Павлуши не было.
Конечно, делал он эту лодку из-за отца, чтоб его выручить, — все так. Но кроме того, начало пробуждаться в нем и достоинство мастера: вот вы, кап-два Мамзин с недоверием, с небрежением даже посмотрели на меня, когда я в дело ввязывался, а теперь — что же — любопытно будет посмотреть на выражение вашего лица, когда катер готов, когда все притерто и сияет на должном месте. Так что в следующий раз не глядите пренебрежительно на человека, которого вы знать не знаете, иначе может случиться, что вы и оконфузитесь. Ну разве не стоит трудиться ради торжества такого?
И чтоб добить Мамзина, Павлуша из двух ящиков и стекловаты сделал термос — в дождливую погоду горячая пища никому не помешает.
И еще одно утешение теплилось в Павлуше. Когда он сразит Мамзина, ведь тот напишет Любе, чтоб похвастать новой лодкой, так, может, хоть на минуту, будет у Любы сожаление, что вот так и отвернулась она от Павлуши, а ведь он, нате вам, мастер, оказывается, да еще и какой. Слабое, слабое утешение, но и оно согревало Павлушу, и оно давало работе смысл.
Катер был готов, и теперь оставалось передать его хозяину, спустить на воду, услышать восторженные ахи понимающих людей да тихонько отойти в сторону, чтоб не мешать чужому плавательному счастью.
Середина июня, белые ночи близки к накалу, к мерцающему своему свечению, время лучшее, душа твоя словно бы ватой окутана, так ей беспечально и покойно, ты сидишь на ступеньках крыльца и ожидаешь вечернюю прохладу, и знаешь, что в домах люди суетятся, пот со лба утирают, и всякое мгновение чувствуешь — жизнь течет себе да течет, она сама по себе, ты же сам по себе. И в предвечерние эти часы особенно ясно понимаешь, что жизнь твоя — штука удивительная и отчаянно все-таки повезло, что ты дышишь в ней и слышишь неназойливый звон комаров. Эта радость, однако, спеленута печалью, что вот не так и много осталось видеть этот белый свет, но все вокруг так тихо, светло и спокойно, что печаль эта негорька.
Павлуша тихо сидел на камне подле своей лодки и медленно смирялся с тем, что больше к этой посудине он отношения никогда иметь не будет. Ему надо было набраться решительности и сходить домой за папашей Алексеем Игнатьевичем, чтоб тот лодку эту оценил, но решительности встать, куда-то идти и со своим привычным делом окончательно расставаться — такой решительности как раз и не было.
Но все-таки поднялся и пошел к дому. И вот удача — отец был дома, он словно бы ждал, что вот сын именно сегодня попросит принять у него лодку.
— А как же, а как же, — засуетился Алексей Игнатьевич, — уж я издалека глядел, ну красавица, ну легка, но мы ее изнутри тоже глянем, а то ведь внешность иной раз и обмануть может.
Он, все суетясь, ходил вокруг лодки и подробно осматривал каждую деталь, каждую мелочь и не мог нахвалиться. И то была высшая для Павлуши похвала.
— Ну, а теперь пойдем за Мамзиным — надо сдать лодку и кое-какие расчеты произвести.
Алексей Игнатьевич при этих словах вздрогнул, остановился и виновато посмотрел на Павлушу.
— Так ведь, Павлуша, мы уже эти расчеты закончили.
— Но лодку все равно сдать надо.
— А ты считай, что сдал ее. Вот я и есть твой судья. И говорю тебе: работа — первейший класс. И ты молодец — какую работу кончил. Я все знаю, я наблюдал — высший класс. А ведь ты еще вполне молодой. Мне такое уж и не поднять. Да и раньше бы не поднял. Вот чтобы и от души, и удобно.
— Вот и пойдем к Мамзину — пусть он все оценит: ведь все-таки для людей стараемся.
— Так ведь их нету, этих людей, сынок.
— Куда это, интересно, они могли подеваться? За прошедшие дни наводнения как будто не было.
— А они, отбыли за новыми должностями и за новой зарплатой соответственно. Что ж поделаешь, сынок, если служба у них такая? Если новую должность предложили и за нее вскорости по звезде добавят на каждое плечо.
— Ты это о ком? Не о Мамзине ли? — Павлуша никак не хотел верить, что вот и снова он промахнулся и снова проиграл.
— Вот именно о Мамзине, сынок, — с сожалением сказал Алексей Игнатьевич.
— А давно он уехал?
— Да уж две недели как укатил. Мы тогда и расчеты подвели. Я часть денег ему вернул. Он понимал, что лодка очень хороша, ему жаль с ней расставаться, но что поделаешь, если должность предложили. Это ведь и для жизни и для пенсии хорошо.
— Ну как же так, ну как же так, — все приговаривал Павлуша.
— Да что — так?
— Ну как же так — ты знал, и мне ничего не говорил. Да это же, да это же…
— Предательство, сказать хочешь? Нет, сынок, все не так. Я знать знал, но под руку кричать не стал. И вот ты довел дело до конца, и лодочка сияет, она у всех на виду, и такая работа всем заметна будет.
— Да кому заметна, кому заметна? Я же для Мамзина старался.
— Мамзин — не Мамзин, разница какая? Люди же на ней ходить будут, а не каракатицы. Да ты постой, я уж присмотрел пару людишек, вернее, они присмотрели нашу лодку, и если сойдемся в цене, то и ударим по рукам. Вот и отставной мичман Козырев к лодке примащивается, и мужик он хороший. Ты меня послушай. Я возьму, что мне положено, а остальное твое. Худо ли? А не худо. Костюм новый купишь, с друзьями повеселишься. Только сразу в новое дело не впрягайся, отдохни как следует. А то ты себя загнал, даже почернел. Так мастера не делают. Мастера рассчитывают себя на долгую жизнь. Да у тебя отпуск скоро. Так возьми путевку в дом отдыха, да поезжай куда-либо повеселись, а если встретишь хорошего человека, так и вовсе к осени деньги пригодятся.
— Нет, папа, что-то не понимаешь ты меня, — огорченно сказал Павлуша.
— Не понимаю, — согласился Алексей Игнатьевич. — И как понять, если моя жизнь уже догорает, а твоя только разбег берет. И потому я на многое сквозь пальцы смотрю, а тебе все ложится прямо на сердце. И таким манером ни одно сердце не выдержит. Ты меня слышишь, сынок?
— Слышу, — уже безразлично ответил Павлуша.
— Не надо грустить, сынок. Можно грустить только осенью, по нашим-то дождям. А летом, в тепло такое, не понимаю я тебя, Павлик. Тебе ведь до меня тридцать лет стареть. Ты, надеюсь, не о роде людском грустишь. А если об этом, так посмотри туда. — И Павлуша покорно посмотрел вдаль на подкрашенные красным солнцем верхушки сосен. — Ты правильно смотришь, Павлик, ты смотришь на закат, и ты прав, жизнь человека как этот закат — скользнуло солнце, вспыхнули верхушки — порх! — и спряталось светило. Говоришь, несправедливая жизнь, Павлуша? Но это не так. Она справедлива. Я тебе так скажу: жизнь похожа на кино, смешная ли она будет, скучная или печальная, а сеанс все равно кончится, и за твоим сеансом будет новый сеанс, потому что кинотеатру нужно план выполнять. Давай погуляем, давай в парк сходим да что-нибудь за разговором и придумаем вполне утешительное.
Но Павлуша не захотел слушать отца дальше, потому что никто сейчас не нужен был Павлуше, его не интересовали соображения ни о его собственной жизни, ни о жизни вообще. Потому что собственная жизнь была сейчас Павлуше безразлична. Когда отец сказал ему, что Мамзин уехал, в этот момент Павлушу словно бы что-то оглушило, и теперь он понимал, что его оглушило безразличие ко всему. Он не жалел времени, убитого на лодку, потому что мир, окружающий его, вдруг стал пустым и бесцветным.
Ни час перед прозрачной пеленой белоночья, ни лодка, ни оставшийся подле лодки отец — никто и ничто сейчас Павлушу не интересовало. Все было пусто. Главное — пуста была душа Павлуши. Два месяца кряду он суетился, так ли, хорошо ли получится всякая вещица, и сейчас даже удивлялся себе прежнему, глядя на того Павлушу оком равнодушным и посторонним.
Тот, прежний Павлуша, отлетевший напрочь полчаса назад, был ему сейчас смешон — глупые волнения из-за девушки, которая не замечала его, старания на работе, заботы по лучшему устройству лодки — все это сейчас было даже странно.
Год назад Павлуша пришел из армии — как надеялся на счастье впереди, но это, выходит, смешные детские надежды. Жизнь скучна и тускла.
Он побрел от города вправо вдоль обрыва, потом сел на камень и долго сидел, приучая себя к тому, что вот в дальнейшем он всегда и ко всему будет безразличен. Внизу большими ящерицами проскальзывали электрички, залив был гладким, как стол, и виден был от края до края — с белыми стенами и крепостью и фортами. Сидел Павлуша долго, уже солнце утонуло в заливе, и на горизонте от падения солнца вода стала красной, уже различимы стали в мерцающей пелене огни маяков, и вдруг Павлуша почувствовал, что на мгновение включилось в нем понимание к прежней, теперь отлетающей жизни, — но и этого мгновения достаточно было, чтоб он заметил то, чего не замечал несколько часов, — прямо под ним, если скатиться с обрыва и перейти, железную дорогу, расположилась городская стоянка лодок — были среди них плохонькие и получше, были и вовсе хорошие, но он ясно понимал, что нет среди них ни одной, которая могла бы даже приблизиться к его лодке.
И он подумал, что если отец продаст лодку отставному мичману Козыреву, то ведь Козырев, человек в морских делах, понимающий, не нахвалится на лодку — она, пожалуй, легка в ходу, прочна и удобна. Главное — она очень красива, вот поднимитесь на гору, гляньте вниз, видите, как сияет она под закатным солнцем, так что если понимающие люди будут предлагать Козыреву перепродать лодку, то он, конечно же, откажется — вряд ли Козыреву за остаток жизни удастся увидеть вторую такую лодку.
Ничто нас не разлучит
В доме Ильинской часто собирались друзья. Вечера эти они называли «культурным чаем». Иногда бывало вино, но чаще всего именно чай. Было весело — танцевали, читали стихи, пели. Самые модные пластинки того года — «Девушка играет на мандолине», «Цыган» и «Утомленное солнце». Ильинская приехала в Ленинград из Евпатории, в доме ее собирались земляки, но приглашала она также свою подругу по институту Валентину Ивановну — и ее радостно встречали: она играет на гитаре, балалайке и много знает частушек и романсов.
Ильинская несколько раз говорила Валентине Ивановне:
— Ну, как же ты не знакома с нашим Женей-моряком? Мы его еще в детстве называли Адмиралом. Он красив, но с девушками застенчив.
И вот однажды он пришел. Женя-моряк — Евгений Борисович Ефет. Молодой, стройный, черноволосый. Ему очень шла морская форма, чувствовалось, что он это знает и гордится. То был особенно веселый вечер — и пела Валентина Ивановна лучше обычного, да и с приводом Евгения Борисовича все как бы изменилось, сделалось значительнее.
Валентине Ивановне нужно было идти на Петроградскую сторону. Белые ночи ослабевали, но воздух был еще легок, и дали распахивались для глаза. Мост был пуст, позвякивали редкие трамваи, на душе, как и в окружающем воздухе, была та особая легкость, которая бывает только в пору белых ночей и отлетает с их угасанием. Но сейчас была уверенность, что легкость не покинет душу никогда. Вот Валентина Ивановна впервые видит Евгения Борисовича, но ей с ним так легко, словно она знает его много лет. Да и он справился со своей застенчивостью и, кажется, сам удивляется этому.
Она спросила Евгения Борисовича, почему его уже в школе звали Адмиралом, и он ответил, что, когда ему было восемь лет, он увидел в море эскадру, и вот все детство ушло на чтение книг о море. Дома, в Евпатории, он мастерил кораблики. И эти детские занятия ему помогли. Вот Валентина Ивановна уже могла заметить, что он заикается. А прежде заикался так сильно, что иногда вынужден был останавливаться и помогать своей речи руками. Однажды старый грек посоветовал ему даже набирать в рот камешки, он, Евгений Борисович, не знал ведь тогда, что так лечился Демосфен, да и собирался он стать не оратором, а моряком. Его «зарубила» бы любая комиссия, но он дал комиссии почитать свои тетрадки с заметками о флоте, и случилось чудо — его примяли в Высшее военно-морское училище имени Фрунзе.
А Валентина Ивановна рассказала, что приехала в Ленинград из Ардатова — это Горьковская область. Она закончила медицинский техникум, но ей всегда хотелось быть врачом, а не фельдшером. Она частенько ходила по улице Льва Толстого мимо медицинского института и с завистью смотрела на белые халаты студентов. Теперь она счастлива, что учится и что через год станет врачом, хотя это трудно, потому что вечерами приходится работать.
Когда прощались, то знали, что расстаются на короткое время…
Счастливы они были четыре года.
Ораниенбаум (ныне Ломоносов, а для моряков и старожилов — Рамбов) — город, где они прожили эти четыре года. Тогда это была пограничная зона, городок маленький, вечерами темно, въезд по пропускам. Здесь и начала Валентина Ивановна работать врачом, да здесь же, с небольшим перерывом, и проработала сорок почти лет. Деревянная поликлиника. На вызовы ходить пешком, а если вызов дальний, то вон стоит лошадка, впряженная в сани либо в пролетку. Валентина Ивановна много лет ждала, когда станет врачом, вот дождалась, она — единственный в поликлинике терапевт, и похоже, больные ею довольны.
Виделись редко, приезжал Евгений Борисович внезапно — то ли на день, то ли на несколько часов. И радость, что приехал, и неопределенность — на сколько приехал. Ждала его каждый день, жизнь тогда и складывалась из ожиданий.
«Ожидание было приятно и встречи радостны, но как же я боялась спросить, на сколько приехал. Женой моряка может быть не всякая женщина, потому что у жены моряка должна быть особая психология — главное, она должна уметь ждать. Дома Евгений Борисович бывал редко, собственно говоря, для ссор у нас и времени не оставалось».
Если приезжал на день — срывались в театр, ведь все плаванье он думал: вот приедет, и сразу в театр или на концерт Обуховой — она сейчас в Ленинграде, и это ничего, что билетов нет, не помним случая, чтоб не попали в театр, потому что морякам всегда везет.
А вот летний вечер в старинном ораниенбаумском парке. Мраморная скамья в аллее неподалеку от Китайского дворца. Парк пуст. Воздух прозрачен — волшебное время. Птицы перекликаются, уговаривая друг друга привыкнуть к свету ночи. Скамья под дубом, которому больше двухсот лет. Опасно говорить громко в такое время. Голубая Катальная горка словно бы собирается взмыть, но так и зависла в разреженном этом воздухе. Виден неподвижный залив, пространства укорочены, виден каждый дом Кронштадта, и полыхает на закате купол кронштадтского собора.
Так Валентина Ивановна и Евгений Борисович сидят на мраморной скамье под дубом и молчат. Разговоры излишни, потому что у них общее понимание — они едины, это понимание единства так остро, как никогда прежде, и никогда они не разлучатся, потому что это значит разлучиться с собой.
А вот ожидание сына. «Да, сына, потому что должен быть именно сын, потому что сын моряка тоже должен стать моряком, женщин же, как известно, на флот не берут. Более того — у нас будет много сыновей, и уж, конечно, не меньше трех, и все они станут моряками. А первенца я возьму на свой корабль, когда ему исполнится два года, и все резоны, что некому будет утирать нос и надевать штанишки, не резоны, потому что море не суша, и на море всегда можно что-то придумать».
Забегая вперед, скажем, что, когда сыну исполнилось два года, отец вынужден был признать, что два года — недостаточно взрослый возраст для постоянной жизни на корабле, и дал сыну отсрочку до пяти лет. Однако до этого времени Евгению Борисовичу дожить не удалось, потому что двадцать первого июня сорок первого года сыну исполнилось только три года.
Но что забегать вперед. Вот сыну — его звали Женей-младшим и сейчас так называют в семье — два месяца, он улыбается в пространство, а отец думает, что сын уже узнает его, и на лице отца любовь, и жалость, и страдание от жалости, и темные глаза его как бы влажнеют. Он долго не мог отважиться взять сына на руки, говоря, что боится ему что-нибудь поломать — его руки привыкли к морю и кораблю, то есть к грубой мужской работе.
Он был хорошим моряком, Евгений Борисович, но он не успел стать хорошим воспитателем своего сына. Когда этот паренек на его глазах рвал страницы редких книг по морскому делу, то у отца не хватало отваги отнять книгу и он звал на помощь мать юного нарушителя.
То ли предчувствовал отец свою собственную судьбу и все, что еще предстоит пережить именно этому мальчугану, то ли уставал от корабельных строгостей, но с сыном был мягче воска. И когда сын садился пусть даже на редкую пластинку, радовался — мальчик сообразительный, у него вкус к бельканто, а не к, простите, песне «У меня есть тоже патефончик».
Вот «Правда» от 8 февраля 1940 года, в ней указ о награждении капитан-лейтенанта Ефета Евгения Борисовича орденом Красного Знамени.
Вот фотография: в сопровождении командира корабля на борт поднимается знаменитый гость — дружеская надпись: от заслуженного артиста республики, орденоносца Н. Черкасова.
Вот Валентина Ивановна среди команды корабля за два месяца до войны. На ней темное платье с белой кружевной накидкой. Черные гладкие волосы разделены ровным пробором. Большие черные глаза. Рядом Евгений Борисович. К пуговице кителя крепится цепочка часов — много поколений моряков до него пользовались именно такими часами, и он тоже не станет носить часы на руке. Молодой корабль, юные лица. Кто из них знает свою судьбу, кто чувствует, что их ждет через полгода, сейчас они живы и потому весело улыбаются перед объективом чьей-то шутке. Мало кто уцелеет из этой команды, но каждый исполнит то, что должен был исполнить.
Эскадренный миноносец «Гордый», которым командовал капитан третьего ранга Ефет, артиллерийским огнем поддерживал оборону Таллина, потом участвовал в знаменитом переходе из Таллина в Кронштадт.
Во время этого перехода «Гордый» налетел на мину. Повреждение было сильным, в котельном отделении вспыхнул пожар, командир корабля получил приказ снять личный состав, но сказалась выучка экипажа, корабль удалось спасти, и на буксире его доставили в кронштадтский док.
В начале октября Евгению Борисовичу удалось на несколько часов вырваться в Ораниенбаум. Дома никого не было. Валентину Ивановну он встретил случайно, когда шел к пристани. Встретились на несколько минут и что говорили в спешке друг другу, вспомнить невозможно: «Береги себя». — «Да, и ты береги себя, и сына береги, да, береги». — «Еще увидимся, может, удастся заскочить». Не удалось. Не успел. Не уберегся.
А Валентина Ивановна жила в это время на втором этаже деревянного здания поликлиники. Она и другие медики должны были неотлучно находиться здесь — на казарменном положении.
Немцы подошли близко, артобстрелы и бомбежки были очень частыми. Валентина Ивановна возглавляла хирургическую бригаду — пострадавшим при обстреле необходимо было оказывать неотложную помощь, тяжело пораженных отправлять в больницу, а поскольку никто не знал, когда случится очередной налет, то и приходилось быть при своем месте неотлучно.
Впрочем, второй этаж поликлиники разбили довольно быстро, и медиков перевели в сарай, что стоял в глубине двора, и там они жили до больших морозов…
13 ноября отряд кораблей, среди которых был и эсминец «Гордый», эвакуировал гарнизон Ханко. Было холодно. Штормило. Движение начали ночью, и в темноте едва угадывались очертания других кораблей.
Все знали, что главная опасность — это мины: впереди находилось минное поле. И поэтому основная надежда была на впередсмотрящих. Вдоль бортов стояли матросы с шестами, они должны были шестами отталкивать плавающие мины.
Сперва взорвался небольшой катер. Тральщики сняли его экипаж. Потом подорвался тральщик, расчищавший фарватер.
Теперь приходилось рассчитывать только на себя. Но много ли увидишь в темени ноябрьской ночи, да еще когда штормит.
В три часа раздался первый взрыв. Эсминец сильно тряхнуло. Корабль дал крен, в котлах сел пар, остановились дизеля. Повреждение удалось исправить, и корабль смог дать ход, но раздался второй взрыв. Корабль начал оседать, замолкли машины, и тишина отнимала надежды на спасение. Через пробоину поступала вода, затопило третье котельное и первое машинное отделения. Разошлись швы в корпусе, треснула палуба. Через три минуты корабль уже полулежал на левом борту. Опытные моряки, они знали, что теперь спасения нет.
Поняли это и на минном заградителе «Урал». И поспешили к «Гордому». Если бы кораблям удалось сблизиться, то экипаж спасся бы. Но сблизиться не удалось, потому что между кораблями плавала мина, и Ефет приказал командиру «Урала» отойти от борта. «Урал» отвернул в сторону.
Малый охотник взял кого смог, люди прыгали в шлюпки, в воду.
Под кормой «Гордого» раздался новый взрыв, и корабль, окутанный паром, погрузился в воду на глазах спасшихся товарищей.
Те, кто остался в живых, рассказывают, что корабль уходил в воду кормой, что вдруг наступила тишина и была какая-то яркая вспышка вдали. Спасшиеся услышали, что на «Гордом» люди вроде бы поют. Они прислушались — и точно: погибающие пели о том, что именно это и есть их последний и решительный бой…
Командир до конца не покидал мостика…
А Валентина Ивановна ничего этого не знала.
Напомним, что к 8 сентября Ленинград уже был блокирован с суши. Вместе с Ленинградом в блокаде оказался и Ораниенбаум.
Захватив Стрельну и Новый Петергоф и выйдя к финскому заливу, противник, однако, захватить Ораниенбаум не смог. Так образовался Приморский плацдарм, или, как его называли за малые размеры, Ораниенбаумский «пятачок». Он занимал полоску земли, протянувшуюся вдоль берега Финского залива на пятьдесят километров — от Петергофа на востоке до реки Воронки на западе. В глубину эта территория не превышала двадцати пяти километров. У самого же Ораниенбаума немцы были совсем близко. На окраине города, за Красным прудом, еще стоят деревянные домики, так с их крыш видны были позиции немцев, и ветер доносил отдельные выкрики….
«К зиме нас перевели в полуподвал дома, где теперь культмаг. Там мы и жили, и работали при коптилках. Два кабинета — терапевтический и хирургический. Нас было человек десять.
Голод мы почувствовали быстро. Сто двадцать пять граммов хлеба. Да и то бывало, что по нескольку дней кряду карточки не отоваривали. Поначалу я сама ходила за хлебом. Но несколько раз возвращалась в подвал с пустыми руками. Потому что у выхода из магазина мои больные протягивали ко мне руки и бесконечно повторяли: «Доктор, хлеба, доктор, хлеба», и я весь хлеб раскрашивала. Но чтобы я жила и могла работать, приходилось моим товарищам делиться со мной, и потому за хлебом стала ходить моя медсестра.
Меня вызывали к больным, а это были дистрофики чаще всего уже умирающие — иначе, они сами бы пришли ко мне. Тогда ведь каждый понимал — раз ты слег, то встанешь едва ли. Я иду на вызов, да что там иду — ноги еле переставляю, потому что они отечные, одутловатые, и от дистрофии такое чувство, словно идешь ты, не по земле, а по трясине — никогда больше земля не была для меня такой неверной. Бредешь и думаешь — ну что ты можешь сделать? Так бы от отчаяния и плакала все время, но ведь для слез тоже силы нужны. А не идти нельзя — ты врач, и на тебя надеются. И знают, что ты не накормишь, а все-таки надеются. Ну, перевязки сделать мы могли, вата, йод, бинты у нас еще были, а больше — что? Глюкоза, говорите вы? Может, и было несколько ампул в больнице, у нас — не было. А перед входом в квартиру всю оставшуюся волю собираешь, чтоб этот вызов выдержать. Вот паренек шестнадцати лет. Он знает, что умрет, но все-таки вызвал меня, чтоб задать один вопрос: «Доктор, умру ли я?» А у меня ничего нет, кроме стетоскопа. «Что ты, паренек, — я ему, — вот прибавили норму, и скоро еще прибавят, да ты к лету будешь здоровяком, у тебя же кость широкая, а мышцы ты наживешь, ты еще служить будешь, летчиком станешь, уж поверь мне». И ведь где силы найдет, и знает, что я не помощница ему, а улыбнется, повеселеет хоть на время. У меня ничего тогда не было — только доброе слово. И если оно хоть на короткое время помогало, так и то не зря мы мучались в те месяцы.
Вот вы представьте повседневный мой быт — полуподвал, коптилки горят круглые сутки, потому что без них даже днем полумрак, если не мрак полный. И тебе очень холодно, хотя ты в шубе, на которую надет халат.
И вот позади тебя лежит умирающий, и сбоку тоже умирающий. А глаза у них остановились, глаза стеклянные — хлеба просят. А мороз, снова напомню. Я сижу у стола и то одному скажу что-либо в утешение, то другому. А тут милиционер приводит кого-нибудь: человек шел по улице, да и решил, что нет смысла дальше идти. Так вот милиционер перестанет человека поддерживать, он и падает, милиционер его поднимает, поставит на ноги, отпустит, тот снова падает.
Но поверьте мне, как бы ни было тяжело, что там — тяжело — мы знали, что умираем, но никогда у меня не было сомнения, знала, что мы выстоим. И вот мы выстояли».
Душевное состояние Валентины Ивановны отягчалось в ту пору неизвестностью и тревогой за сына и мужа. Сын жил в Ленинграде у матери Валентины Ивановны, от мужа давно не было никаких вестей.
Март внес ясность. Несколько раз к тому времени повышали нормы, близка была весна, сына наконец через Лисий Нос и Кронштадт (сообщение было только такое) удалось перевезти в Ораниенбаум.
В марте же пришло сообщение о судьбе мужа.
В марте она привычно сидела в своем полуподвале, когда пришел обмороженный матрос из Кронштадта и принес ей конверт.
Чувствуя беду, она в испуге отдернула руку от конверта, но матрос, для которого содержание письма было понятно, сунул конверт в руки Валентины Ивановны и сразу ушел.
В конверте лежала желтая бумажка, в которой Валентине Ивановне сообщалось, что муж ее, капитан третьего ранга Ефет Евгений Борисович, геройски погиб.
Когда она очнулась, то долго не могла понять, что с ней и где она: полумрак, низкий потолок, люди суетится над нею. Врач, с которой она работала все это время, успокаивала ее, что это сейчас такая повсеместная женская доля, но Валентина Ивановна не понимала, какое отношение слова эти могут иметь к ней, потому что с мужем ее ничто и никогда не может случиться, и это, без всякого сомнения, ошибка, но само воспоминание об ошибке было так мучительно и Валентина Ивановна была так ослаблена голодом, что она снова упала. Так повторялось несколько раз.
Она не могла видеть людей, не могла слышать слов утешения, — люди словно сговорились верить в эту нелепую ошибку. Валентина Ивановна видела, как на ее глазах война губила людей снарядами и голодом, это могло случиться с ней — ее жизнь для нее особой ценности не имела, и лечить людей вместо нее будет другой врач, — но если она вместе с другими людьми поверит, что война погубила и ее мужа, значит, и верно, его больше нет, а этого быть не может, потому что «я его так любила, и он был для меня всем, жизни без него я не представляла».
А в июне сорок второго года Валентину Ивановну с матерью и сыном эвакуировали в тыл — она не хотела уезжать, считала, что самое тяжелое позади и теперь следует дотерпеть до конца, и потом, если Евгений Борисович вернется домой, как он ее найдет? Но был приказ вывезти почти все гражданское население, уцелевшее после той зимы. Баржу, на которой они плыли, бомбили, и Валентина Ивановна обняла и прикрыла собой сына и мать, чтоб погибнуть либо вместе с ними, либо прежде них, но беда пролетела стороной, и тогда Валентина Ивановна поняла, что судьба дала ей долгую жизнь, и поэтому следует все перетерпеть и все запомнить, — ее память будет еще необходима.
В ноябре сорок пятого года они вернулись в Ораниенбаум. Несколько лет Валентина Ивановна заведовала городской поликлиникой, «но вы же знаете, я никогда не была начальницей, я всегда была рядовой», и как только дали замену, она вновь стала участковым терапевтом. В те, да и в последующие, годы лечение людей было не только главным делом Валентины Ивановны, но и спасением ее.
Валентина Ивановна боялась что-либо узнавать о муже, все верила, что он жив, что случилось чудо, ведь подробностей она не знает, только похоронка, но ведь бывали случаи: вдруг спасся, вдруг ошибка, он был тяжело ранен, попал в плен — мало ли чудес случается на свете.
Почти каждую ночь слышала она звонок и торопилась отворить дверь — вот вернулся наконец, не мог не вернуться, ведь она так его ждет — но за дверью было пусто.
Однажды к ней на прием (уже в начале пятидесятые годов) пришел Владимир Владимирович Лагутин, он был на «Гордом» в день гибели, не покинул бы корабль, если б не приказ командира, спасся чудом, и теперь пришел узнать, не родственница ли Валентина Ивановна его командира.
Впервые Валентина Ивановна узнала подробности гибели корабля. Лагутин видел, как ушли на дно вместе со своим кораблем оставшиеся на нем моряки, — надежда на чудо исчезла.
— Владимир Владимирович, как же так? — сказала Валентина Ивановна. — Больше десяти лет прошло, а никто ничего не знает? Ведь это несправедливо. Пришла пора все рассказать.
С того дня устранение этой несправедливости — забвения, хоть и временного, — стало главной заботой Валентины Ивановны.
Конечно, о собственной памяти что и говорить — дня не проходит, чтобы Валентина Ивановна не вспомнила Евгения Борисовича, не посоветовалась с ним. Они прожили вместе всего четыре года. Если же собрать время, что они провели друг с другом, то, пожалуй, и с полгода не наберется, а прошло уже сколько лет после его гибели. Но Валентина Ивановна помнит каждый разговор и каждую шутку Евгения Борисовича — вот они в парке сидят, и он читает про первый бал Наташи Ростовой; вот электричка везет их поздно вечером из театра, вагон пуст, окно отворено; вот промелькнуло озерцо у Стрельны, мужчина и женщина купаются, воздух разрежен, облака у горизонта розовы от скатившегося в залив солнца; и сейчас, когда Валентина Ивановна проезжает Стрельну, то вспоминает то возвращение из театра — вот остановилось время, и остановилась электричка, и мужчина и женщина все купаются в озере, и озеро хранит вспышки вечернего солнца, но время трогается далее, тая в себе возможность исполнения надежд, ловко закручивая начала и еще более ловко обрубая концы, облака розовы, память не знает покоя, а утраты — забвения.
После бескрайней беды, после утрат тех лет, впитавшихся во всякое сердце, кто бросит камень в человека, пытающегося изменить свою сиротскую либо вдовью долю. Но вместе с тем представляются истинными библейские слова о том, что человек жив, покуда о нем помнит хоть одна живая душа. Да кто ж это, отлетая, хоть на мгновение не утешится тем, что и через тридцать пять лет тебе не выйдет забвения, и ежедневно, даже ежечасно будут вспоминать тебя. Нет, разумеется, существа, способного подтвердить общую эту мысль, но нам, со стороны, представляется, что это способно утешить в горькие мгновения прощания.
«Неужели вы думаете, что я не хотела семейного счастья или что мне не было горько одиночество? Еще как горько было. Но не только в поступках, даже в мыслях я не пыталась изменить положение. Кто ж не хочет быть счастливым? Но невозможно было даже представить, что кто-то будет находиться в этой комнате и сидеть в кресле, где сидел Евгений Борисович, и листать ту же книгу, что читал он, и касаться моей руки, как касался Евгений Борисович, — это просто невозможно».
Валентина Ивановна нашла людей, которые служили с Евгением Борисовичем, и просила написать ей все, что они знают о муже и «Гордом».
Наконец появилась заметка, в ней почему-то корабль и командира не назвали по именам, а напечатали: корабль Н., командир Е., — но моряки с «Гордого» поняли, что в заметке рассказывается об их корабле. Заметка стала толчком — их товарищи, их корабль не забыты. Кто-то начал разыскивать Валентину Ивановну, кого-то разыскала она, собирала материалы и воспоминания о муже, твердо верила — это еще пригодится, никто и ничто в мире не пропадает даром, так же как не может исчезнуть ее ежедневная память о муже — и точно: когда прошло почти четверть века с момента гибели корабля, начали появляться статьи о Евгении Борисовиче и «Гордом». Сейчас у Валентины Иванозны накопились десятки статей и книг, поставлен в Ломоносове памятник «Гордому», и в Евпатории и Ломоносове улицы названы именем Евгения Ефета.
Валентине Ивановне иногда кажется, что дверь открывается и в квартиру входит ее муж, или же она идет по городу и сталкивается с Евгением Борисовичем. Он изменился, время для него протекало так же, как для других людей, он постарел, Валентина Ивановна даже не представляет подробностей разговора, она говорит что-то малозначительное, а сама боится, что Евгений Борисович ее не узнает, но тут же успокаивает себя — как же он может не узнать ее, ведь она относится к нему, как и прежде, следовательно, и сама она прежняя, потому что не было в ее жизни ни одного поступка, даже самого малого, за который ей было бы стыдно перед Евгением Борисовичем.
Пашка с Березовой
День веселья. Аванс. Большой день… Так не куражься ты, Пашка, выпей с нами за милую душу, все свои люди здесь, заслуженный день сегодня, две недели никак трубили, ох и врежем сейчас, да нет, ты кружечку в руки, а уже потом и закусишь, вон Митрофаныч и соленый огурчик припас, но-но, Митрофаныч, вымой-ка его маленько, а то крошки табачные попадаются. Неужели же мы тебя, Пашка, в обиду дадим. Ты нас каждый день возишь, так и мы доведем тебя до дому если что.
Но нет, братцы, неможно. А хочу. Ну прямо очень даже хочу. Но никак неможно. Сами знаете. Дети. И Аня в больнице. И я верю — вы без меня справитесь.
Да знаем мы все, просто уж так душу мутим, вроде бы с пути сбиваем. А насчет справимся — это точно. И кепка наготове, и по рваному сбросимся, если что. Ну да ты не грусти. Держи паяльник по ветру. Ане привет.
Не обиделись. А когда проходил мимо вокзала, остановился, посмотрел на залив, и залив ослепил. Порядок. Еще не полили дожди. Не задул ветер. Можно жить. Еще покатается солнце по небу, полетает над землей желтый лист, засияет бабье лето — можно жить.
Свистнула электричка, прошаркала о платформу, стоп машина, идите по домам, люди добрые. Кто не вышел по пути — в Лапине, в Губине, в Фонареве. Кто тратит по два часа на дорогу в город. Чтобы работа была похлебнее. А также щи понаваристей. Так слезайте, граждане, конец пути. Не пожалеете — здесь лодки, грибки в лесу, залив. А также графский дворец. И парк — любо-дорого ходить, искусство, рай, место под солнцем.
Зашустрили студенты с огромными портфелями, понеслись в магазин женщины, неспешно, с достоинством зашагали мужчины.
У магазина — день аванса — оживление было, и на тумбе для продажи пельменей сидели знакомые парни, и они поприветствовали Пашку, как старого кореша, а во главе всех был Венька Пестерев, а рожа его налилась, как переспелый помидор, хоть прикуривай от нее, и он поманил Пашку пальчиком. К нашему шалашу рубать длинную лапшу. Но Пашка развел руками — куда-куда, а к шалашу нельзя.
Пестерев махнул рукой. Не так себе махнул, дескать, пропащий человечек, Машка-канашка за юбку держалась, а мирно так махнул — отпустил человека. Пашку еще помнят, понимают, в положение входят.
Он обогнал старую Евдокию Анисимовну и, наклонясь, узнал о ее здоровье, а также:
— Весело ли живется вам, Евдокия Анисимовна?
— Да ты издеваешься, стервец.
— Нет, я серьезно спрашиваю. И заготовлены ли на зиму дрова?
— Ну, это другое дело, Пашка. Не так чтобы и весело. А дрова заготовлены.
— А то поможем с Николашей. У него своя электропила. Подхалтуриваем помаленьку. И недорого возьмем.
— Нет, есть дрова. А не надо ли постирать тебе чего? Аня твоя, слышала, снова слегла.
— Нет, пока справляемся.
И так, пройдя центральную Пионерскую улицу, Пашка купил в булочной хлеба и, взобравшись по высокой, но некрутой лестнице, свернул на улицу Парковую, забрал из детского сада дочь Марину и пришел на свою Березовую улицу, домой.
А через час, накормив своих Серегу и Марину, не забыв также и про себя, сидел он во дворе и думал — вот день веселья, аванс, большой день, а он снова уцелел. И Пашка был доволен и горд собой.
Полгорода называет его Пашкой. И понятно — он эти полгорода знает с детства. Вся жизнь его здесь катится. А ну-ка назови его Пашкой человек малознакомый — обидится. А повторно назовет его Пашкой, так погрозит глаз натянуть на одно место. На пятку, скажем. И моргать заставит. Потому что Пашка — это только для старых знакомых.
А так, по паспорту — Павел Васильевич Снегирев. Тридцать шесть лет. Женат. Двое детей. Жена Аня в больнице. Но скоро выйдет. И тогда Пашке будет посвободнее. Не то чтобы уж совсем свободно, но, однако ж, с работы можно будет не гнать галопом. Аня дома — дети накормлены. Дыши спокойно и полной варежкой.
Серега сразу после ужина умотался. Гоняет на пустыре мяч. Пусть гоняет, пока светло. Через десять дней школа. Во дворе играла четырехлетняя Марина, и Пашка присматривал за ней. Здоровенькая растет да шустрая — пусть бегает, не надо ей мешать, только бы не выбегала на дорогу.
Пашка сидел во дворе между складом дров и сараями, широкой спиной привалясь к старому тополю, вытянув длинные ноги. Воздух был чист, и дышалось легко, стояла тишина, лишь изредка неслись всхлипы электричек, а в доме напротив грустно пиликал кто-то на баяне, и солнце только-только начинало садиться.
Так отчего же каждый вечер не сидеть во дворе? Разговаривать неохота — молчи, а если захочешь словом перекинуться, так слушатели всегда найдутся. Сиди себе — ноги в траве, дерево за спиной, воздух грудь распирает, и есть время о себе подумать, и об Ане, и о детях. А будет по телевизору картина хорошая — что ж, мы всегда готовы — айда дальше штаны просиживать.
И сразу из подъезда вышла парочка. Лизонька Столетова и ее долговязый парень. И плывут глаза у них, плывут, и держатся они за руки, и плечами приклеились друг к другу.
С рожденья Пашка ее помнит. До этой весны — шмакодявка и шмакодявка. А вот — сама коротенькая, а ноги вымахали, а глаза подведены. Верно, весной, танцуя в Доме культуры танго, случайно повернувшись, прижались они друг к другу, да так и не могут расклеиться. А в руках у долговязика магнитофон, и он курлычет не по-русски какую-то грустную песню.
Не так ли и Пашка ходил с Анютой двадцать лет назад? Ну, двадцать — это хватил, а вот восемнадцать — это точно. Как раз за полгода до армии.
Познакомились в старом матросском клубе. Пашка — свой человек на танцах. Бывал каждую субботу и воскресенье. Иногда и среду прихватывал. Да и как не пойдешь, если всегда дружков встретишь, и пошумишь, и повеселишься. А также Пашка знал, что он нравится кое-кому из прекрасной половины человечества.
И еще бы — такой парень! Только восемнадцать, года не бреется, а уж на машине работает. Сто восемьдесят сантиметров роста, плечи широченные. А волосы густые — это тебе не чубчики-челочки на лоб, а проведешь пятерней — это же искры летят.
Дело было что-то такое в начале марта. Весельчак затейник, прикрыв глаза, прокурлыкал в микрофон:
— Дамское танго! Дамы приглашают кавалеров!
И Пашка приготовился — небрежно так ногу отставил и спиной на стену налег, и на лицо такое напустил: ох, дескать, и скучно же, братцы, ну не будет отдыха, заставят все же двигать на полный ход, не дадут работать вхолостую. Знал, что его пригласят.
И его пригласили. Сразу понял — пропал танец. Так — какой-то подросточек. Завивки даже нет, косица с лентой. И росточка маленького — Пашке до плеча не достает. Но отказывать не положено — Пашка наверстает свое.
Он уверенно взял ее за плечи, притянул к себе и повел, и повел.
— Часто на танцах бываешь? — спросил. Надо же что-то спрашивать.
— Да вот была несколько раз. А вы часто?
— Часто, — ответил Пашка. Лица ее он не видел. Только макушку. Сам поверх ее головы шарил в поисках стоящих знакомых. — Второй год хожу. Что же меня не приглашала? — усмехнулся он. — Разве не замечала?
— Замечала, — она все не могла поднять голову. — Вас и так всегда приглашают.
— Тебе шестнадцать-то есть?
— Уже семнадцать.
— У-у, большая. Как звать?
— Аня я.
— Ну, а я Павел.
Тесно уже стало, и Пашка покрепче прижал к себе Аню.
— Ты в школе-то учишься?
— Нет, кончила школу.
— Семь?
— Семь.
— И я семь. А хватит. Где работаешь?
— На швейной. Швея.
— Здорово. А я на ЗИСе.
— Вы молодец. — И она улыбнулась.
И какая это была улыбка, черт побери совсем. Все стеснялась его, так и голова опущена — Пашка и не видел ее лица, — а подняла голову и улыбнулась — зубы-то у нее какие белые, а глаза темные да большие, и так они смотрят, что понятно — очень ей нравится такой вот парень, как, например, Пашка.
А через неделю снова пришел на танцы. Опоздал, подзадержался на работе. Посреди зала вдруг увидел Аню и ахнул. Тю-тю, вот тебе и подросточек. Туфли на высоком каблуке, и голова вскинута, косица обрезана, и волосы собраны в пучок, и новое платье на ней, с бантом на груди. И рядом уж вертятся два каких-то хмыря. И этого Пашка никак не мог снести.
Аня стояла у стены в окружении подруг. И Пашка слегка их протаранил, и через плечо одного из хмырей протянул руку к Ане, и вытащил ее из этого малинника. И весь вечер они танцевали, уже не отклеиваясь друг от друга.
А потом уже вместе ходили на танцы и в кино на все новые картины, и не так ли, как вот эта пара — Лизка Столетова и ее долговязик, — гуляли они по парку, и в подъездах стояли до часу ночи, и разбегались в стороны, когда видели кого-нибудь из знакомых? Так. Точно. Пора была такая. Природа это, брат. Первая весна, что называется.
А в конце октября гуляли по лесу. Зашли далеко, под самые Пяльцы. Шли по узкой тропе. Впереди Аня, Пашка за ней. Молчали. Знали — скоро расставаться. Через неделю Пашка уходил в армию. Желтели листья. На сосны навалилось грозовое небо.
Вдруг полил дождь. Бежали под большую ель. Задыхались от бега. Мокрые волосы Ани прилипли ко лбу. Платье облепило грудь и бедра. Пашка понял — это сейчас. Аня оборвала смех. Но не сразу. Несколько раз вырвалось — но это уже не смех, а вроде бы всхлипы.
Притянул Аню к себе. Как тихо. Только хлещет дождь. Как тихо. Это будет сейчас. Никто не помешает. Точно.
Задыхался. Пробовал задержать дыхание — не получилось. Руки дрожали. Лицо Ани запрокинулось. Глаза были закрыты, зубы сжаты.
— Не надо, Паша, — успела попросить.
А служил в армии — письма каждый день писал: с солдатским горячим приветом, Анна, как ты живешь и хорошо ли работаешь на швейной фабрике своей, а также помнишь ли, Анна, своего Павла. Так жди его и работай хорошо, как и Павел защищает твой мирный труд. И стихи также писал: теперь и жизнь солдатская, и вот теперь я здесь, и, как всегда, в кармашике и твой портретик есть — с чувством большим стихи. А в конце письма свой знак — сокол, пронзенный стрелой, и гордые эти слова: «Свободен, как сокол, а сокола всегда ждет смерть».
Но потом, когда сокол прилетел домой, оказалось, что он не так уж навсегда стрелой пронзен. Да, понимаем, первая весна, и ждала, и все такое, но двадцать три года — это тоже штука. И они, знаете, отлетят и не воротятся. И жизней у человека не пять и даже не две. Одна жизнь. И так прожить ее охота, чтобы небу было жарко, да чтобы вольным воздухом понадышаться, да чтобы всего было навалом — вот ведь как пожить охота.
Пашка ездил в Губино, работал экскаваторщиком в строительном управлении.
Понятно, поработать приходилось, но уж и зарплатой не обижали. Тебе только двадцать четыре, а у тебя все есть — и два дорогих костюма, и простое пальто, и пальто зимнее, и мама тобой довольна, и жилье сносное — вот эти две комнаты на Березовой, — так что же еще нужно?
И Пашка уже мог не зайти за Аней, если собирался в кино, мог пойти на танцы и без нее, и пошуметь маленько с друзьями, чтобы веселее дышалось, да чтобы застоя не было, да чтобы кровь быстрее бежала в жилах.
Время шло, и понял Пашка, что не одна Аня есть на белом свете, и промелькнула Тоня Моторина из бригады маляров, и Вера Звягина из Пяльцев — училась в вечернем техникуме связи, и другие кое-кто.
Встречались с Аней все реже и реже, раз в месяц, и в полгода раз, а дальше и совсем расстались.
А потом Пашку везли на машине. Проехали Дом культуры, и арку, и пивной ларек. Ничего не понимал. Как бревном по голове огрели. В кузове машины лежит мама. А внизу толпятся за машиной знакомые, надрываются музыканты. И кто-то потом слегка толкнул Пашку в спину — прощайся. А слякотно было. И вдруг липкий снег повалил. Пашка ткнулся в лицо матери, и его обожгло холодом. Гроб опустили, и кто-то дал Пашке ком земли, и он его бросил, и забарабанили другие, и маму зарыли. Пошатываясь, шел к машине, висела на руке незнакомая старуха в черной шали, ну-ну, Пашка, успокойся, уговаривала она, а когда он сел в машину, вдруг содрал с головы шапку, закрыл лицо, и вот тогда-то впервые завыл. Но слез не было — сухое лицо.
А прибрел домой — один. Пустые комнаты. Хоть вешайся. Была мама. Нету. И ни с кем уже не поговоришь. Не помогут. Да и не поймут.
Однажды пришел поздно вечером. Еле держался на ногах. Нельзя жить одному. Пропадешь, парень. Никак одному нельзя. Жизнь бы пожалел. Человек, если один, когда-нибудь пропадает.
Побрел в магазин и успел под закрытие, а потом брел куда-то шатаясь — а куда и зачем, сам не знал — только вытирал кулаком слезы, ну совсем один, черт побери, и жить никак неможно.
Вдруг в глаза ударил свет.
— Аня, — запинался Пашка, — Аня…
Ничего не сказала, прижалась лицом к его пальто. Стояли. Молчали. Плакали. Вдруг отстранилась. Метнулась в комнату. Выбежала — шаль на ходу надевает, пальто застегивает.
А зима, и мороз стоял, дул ветер с залива, и снег слепил глаза, а она держала его за руку и вела за собой, и они прошли пустырем у новых домов за Троицей, и вдоль высокой стены у спортшколы, и парком, парком, а Пашка спотыкался, и Аня поддерживала его и не отпускала руку — Анюта, стой, Аня, Аннушка, но метель заглушала его всхлипы, и Аня, согнувшись, боком шла навстречу снегу. Да мамочка, да что же это такое?
Так, не переводя дыхания, пришли они к Пашке домой. Вышло — навсегда пришли.
Было уже семь часов, начался закат, в доме напротив, где недавно пиликал баян, пристрелка кончилась, и хор веселых людей врезал: «Любила я, страдала я, а он, подлец, убил меня», да с подвыванием, да с захлебом, да с разрыванием тишины.
Чтобы размять ноги, Пашка прошелся по двору, да до сараев, встал на пригорок, глянул вниз и ахнул — там, внизу, лежал залив — сколько лет смотришь на него, а не можешь привыкнуть, все равно фонареешь.
Огромный раскаленный блин своим краем бороздил воду, все не мог утонуть, и залив горел, но кровь была не летняя, густая, а уже чуть разведенная, осенняя, и вдруг солнце начало тонуть, медленно, а потом все быстрее и быстрее, и туда, к дальней крепости, заспешили лодки, зачернели они, загорелись и пропали в солнце.
Ах, черт побери совсем, вот ведь как устроено-то.
Солнце тонет, и залив тут тебе, и тишина, и не плачут еще дожди, а твое тело здорово — ты прямо чувствуешь, как висит и как плывет оно в этом воздухе. Все будет отлично. Снова выкатится солнце. И засияет. Дети вырастут и станут не хуже других людей. Аня выздоровеет. Это само собой. Можно жить. Такая минута. Надольше бы прижать ее к себе. И если что — вспоминать. Можно жить.
А первые три года! Солнце не заходит. От Пяльцев до залива дойдет и обратно пошло. И белая ночь сияет круглый год. Даже надоедало. Ну вроде уж совсем все хорошо, так не бывает. А было!
Работаешь — пусть тебя дождем зальет, пусть мороз надрывается, пусть снег лицо колошматит, — а знаешь: через два часа полетишь домой. И не задержишься ни с кем, и, когда несешься с электрички, знакомым только рукой помашешь — привет-привет, дух из меня вон, но не могу остановиться — и взбежишь по лестнице, а перед домом отдышишься, достоинство поддержать-то надо, и раз — шаг, и два, и три, а на четвертом шагу дверь распахивается. В дверях Аня. Ждала.
— Как работа? — спросит в доме.
— А нормально. Ты-то как?
— А тоже нормально.
Пашка оглядит комнату — все светится, вымыто, вычищено.
— Сама убирала? — спросит строго.
— А кто же? — виновато улыбнется Аня.
— А нельзя! — прикрикнет он. — Не понимаешь? С Надей ведь договорено. Поможет. Не поможет — и так потерпим. Не горит. Нельзя и нельзя. Дело-то серьезное ожидается.
— Ну, не буду больше, — примирительно скажет Аня.
— Ладно. Но больше — никак.
И, увидев стол, Пашка отойдет окончательно.
А на столе-то, на столе-то щи его уже ждут, и щи, знает Пашка, вкусные, ни одна столовая таких не сварганит — наваристые, густые, — и мясо уже дымится с картошечкой, — и обед тебе тут, и ужин, потому как ты есть кормилец, и сила в тебе должна быть, и здоровье, и ноги прыткие.
Пашка сядет за стол, Аня же напротив него, и подопрет она ладонью щеку и смотреть станет, как он будет поедать все ее варенья. И не нужно бы волноваться за Пашкин аппетит. Еще бы: наработался человек и устал, домой пришел. И не к трали-вали пришел, не к Милый-Саша-Я-Не-Ваша, а к жене любимой.
Поел, отвалился, так можно и в кино сходить, если картина хорошая, или телевизор там посмотреть, а всего-то лучше лечь спать пораньше.
Прошел день — ну и хорошо. А лучше и не надо. Только бы так всегда. И удивляться нечему. Все как положено. И никогда не будет хуже. Ты да я. Да мы с тобой. А сын появится — так это новые заботы, но уж и радостей навалом.
И он появился.
Май кончался. Солнце наливалось. Воскресное гулянье. А Пашка был при параде — костюм черный напялил да галстук — очень уж это важное дело.
Вышла Аня, и Пашка увидел вдруг, что она изменилась. Лицо ее чуть побледнело, и смотрите вы, глаза-то сияют, и идет она осторожно, но вскинув голову, ну молодец ты, Анюта, и сама ведь знаешь, что молодец, — парень появился, как и ожидали, Аня улыбалась, и она протянула Пашке сына. И когда он взял его на руки, то пытался согнать с лица улыбку, но не сумел, и от благодарности к Ане перекосилось лицо и что-то такое намокли глаза, и заколотилось и зашлось сердце.
Прошли вдоль озера и спустились под горку, и вышли на центральную Пионерскую улицу. Все, кто пришел встречать Аню — ее мать, сестра Надя, кое-кто из соседей, — поотступили, шли шагах в пяти сзади. Пашка же шел впереди всех с сыном на руках. Он шел прямой, торжественный, и прохожие останавливались, пропускали Пашку и смотрели ему вслед.
Сын у него на руках. Минута эта такая. Не плачет и молока не просит. Но уже человек. Как Пашка или Аня. А еще недавно их было двое. А теперь и сын Серега. Трое. Серега вырастет и станет не хуже других людей. Точно.
Сереге два года. Сидит на песке, ножки вытянул, голову к плечу склонил. Тарабанит ладошкой по воде. Заливается после каждого шлепка. Тишина. Далеко слышны шлепки по воде. Залив неподвижен. И неподвижен белый пароход, идущий к старой крепости. Солнце белое, раскаленное. Тоже не движется. Легло прямо на белую панамку Сереги.
Лежат молчком, руки за голову, нехотя перекинутся словом, и снова молчок. Тишина — нельзя лишнее говорить. Небо выцвело от жары, ни тучки, и только вдали над белой крепостью легкое облачко плывет.
— Не сгорел бы, — кивает Аня на Серегу.
— Не сгорит, — нехотя отвечает Пашка. — Еще пяток минут. Солнца жалко.
И снова молчит.
— А большой парень вымахал.
— Да. В яслях всех больше. Это он в тебя.
— Хорош барабан. Спокойный. Другие вопят, как паровозная труба.
— Да, спокойный. Я его в тень отведу. Пора.
Аня возьмет парня на руки, а он будет смеяться и колотить мать ножками, и движения Ани будут медленными, как будто все во сне, и она пойдет осторожно, чтобы не уколоть ноги о мелкие камешки, черт побери, она такая легкая и загорелая, и над головой ее раскалывается солнце.
А потом снова лежать. И молчать. Так замереть. Только на бок иногда повернуться. Вдруг с места сорваться — уже потом, когда нельзя жару терпеть, — и потянуть Аню за собой, к заливу, и в воду ее поскорее. Но она со смехом вырвется и отбежит, и ее нужно будет догнать и вот тогда-то затолкать в воду.
И брызгами ее, брызгами, и захлебнуться смехом, и в лицо брызги, и песок со спины смыть, и так — пока руки у нас не отвалятся, пока лицо не устанет смеяться, пока не сведет под дыхалом.
Пошатываясь, побредут потом они на свое место и упадут на песок, и снова их будет жарить на этой сковородке.
И все медленно плывет к крепости белый пароход, и он сияет, как второе солнце, как луна, и названия его не разобрать. И песня долетает, только не расслышать ее, а надо бы. «Кто-то и мне машет рукой и улыбается».
Порядок. Это навсегда. Ничего не может измениться. Полный порядок. Только три года прожили. Еще бы раз двадцать по три. Так и будет. Никак иначе. Живи, радуйся, дуй в дуду.
Солнце сожгло лицо, слепит глаза залив, все не может скрыться пароход.
— Эх, пивка бы сейчас, — только постанывает Пашка. — А не догадались.
— Догадались. Вчера купила. Вон под тем камнем прохлаждается.
— Ну, Анюта! Ну, удивляешь!
А что ему остается, когда солнце раскалывается, когда сияет залив, когда пиво холодит глотку? Только удивляться. И также радоваться. И сиять от уха до уха.
Проснулся внезапно. Понял — еще ночь. Никогда так рано не просыпался. До семи далеко. За окном раскачивался фонарь. По потолку бродил его свет. Вдруг понял — что-то случилось.
— Паша! — услышал всхлип Ани.
Вскочил. Подбежал. Темно. Аня стонала. Задыхалась. Метнулся к выключателю.
Аня сидела, подложив под спину подушки.
— Аня! Что? — испугался Пашка.
Она громко вдыхала воздух. Выдохнуть не могла. Глаза метались. Пашка никогда не видел такого страха.
— Паша!
Он засуетился по комнате — да что же это? Ночь. Три часа. Зачем-то прошел в комнату Сереги — спит парень.
— Паша!
— Сейчас, Аня, сейчас, — успокаивал, — пройдет.
А руки дрожали. Не мог натянуть брюки, но натянул. И ботинки надел. Может, минут через десять будет рассвет, и все пройдет.
— Паша, умираю!
Вылетел из подъезда, на бегу прямо на майку натянул пиджак, понесся по Парковой и вдоль больничного забора и влетел в «Скорую помощь».
За столом дремал бритоголовый мужчина в белом халате. Врач «скорой помощи».
— Жена! — захлебнулся Пашка.
Врач сдавил ладонями лицо, согнал дремоту. Поднял на Пашку лицо. У него были черные подглазия.
— Что жена? — спросил хрипло.
— Как что?
— Ну, что с ней?
— Умирает, — выдохнул Пашка.
— Да вы успокойтесь. Где?
— Да рядом.
— Где?
— Березовая, десять.
— Едем! — И врач кивнул Пашке головой на дверь.
Взял зеленую сумку на молниях. Пашка успокоился.
Этот врач поможет. Никак иначе.
Вышли во двор. Сентябрь и ранняя осень, и льет холодный дождь. И где-то недалеко уже маячит зима.
— Простудитесь, — сказал врач. — Холодно.
— Да я ничего, — заспешил Пашка, — я что? Аня бы вот. Жена. И сразу. А никогда ничего. Всегда здоровая. Поскорее бы. Я ничего — здоровый.
— Что так срочно? Сердце?
— Нет вроде. Вроде другое. Не знаю. Мало что понимаю. Дышать не может. Ха-а — вдыхает, а выдохнуть не может.
— И часто бывает?
— Нет, первый раз.
Аня все так же сидела — подушки под спину — не могла раздышаться.
— Паша, — все-таки смогла обрадоваться его приходу, схватила его за руку, прижала к себе. Вроде бы его рука поможет.
— Сейчас, Аня, сейчас доктор все сделает, он все может, и все будет в полном порядке, и нормальный ход.
Врач «скорой помощи» осмотрел Аню, сделал укол. Через полчаса приехал снова. Еще сделал укол. Через час приступ прошел.
Все! Прошло. Это случайность. Никогда больше не повторится. Не будет ни страха, ни «скорой помощи» по ночам.
Стоял под козырьком подъезда, курил. Подзатянулась осень — ноябрь, а снега еще не было. Все время льют дожди. Первый вечер без Ани — в больницу ее положили, — а раньше-то никогда не расставались. Только когда появился Серега, но это все другое. Все бы ничего, да вот в доме пусто, и вот поговорить не с кем. Да, это невезуха. А ведь только три года прожили счастливо. Теперь вроде бы по-другому все пойдет, будут приступы то чаще, то реже — но совсем они никогда не пройдут. Так сказал участковый врач Королев. Но все равно выздоровеет Аня, быть иначе не может, обязательно выздоровеет. Есть же правда на земле. Ведь Пашка принял положенное. В блокаде ленинградской детство протрубил, с шестнадцати лет работал, в армии служил. Никак не скажешь про него, что он под солнцем юга грелся, под пальмами лежал. Ничего — все будет хорошо, и Аня выздоровеет. Это только временная невезуха.
Было холодно, но Пашка не уходил. Еще сильнее полил дождь. Чернели мокрые сараи. Вдруг за сараями дальше над заливом небо слабо вспыхнуло. И еще одна вспышка, уже сильнее, и повалил снег, и сараи сразу пропали в нем. Этот снег не растает. Он будет идти всю зиму.
День выписки. Полтора месяца — долгая отлучка. Отпросился с работы пораньше. Все поняли — дело такое, вали скорее. И повалил. Из Губина смотался в город, цветов на рынке прихватил.
Ехал на электричке. Мороз, три часа, пусто в вагоне. Задремал. А глаза откроешь — всего-то несколько минут и подремал — и вроде не узнаешь, где ты. И это вроде не ты, Пашка Снегирев, в электричке трясешься, а другой человек, и у этого другого в руках желтые цветки, и он рот раззявил на озерцо за окном. А мороз наваливается, и справа огромное красное солнце повисло и кровью залило гладкий лед под Фонаревом. На озере крутился мальчик, и выгибался он, и голову задирал.
И парни проволоклись по вагону. Один нес гитару, другой накручивал на палец завязку ушанки. Щелкнула щипцами контролер. Взглянула на Пашку, дальше пошла. Не спросила билет. Человек с цветочками — есть некоторое доверие. А у него рожа, верно, веселая и улыбка от уха до уха. А он и не собирается прятать улыбку в карман. Да и чего ради? Вышел в тамбур, распахнул дверь. В лицо полыхнуло морозом и ветром, и протяжно засвистела электричка.
Какая в нем легкость! И все тело будто бы звенит. И голова ясная. И никаких забот в ней.
Аня осторожно спустилась с крыльца. В серой пуховой шали, в темном пальто. Глаза впали. Лицо бледное. Пашке было стыдно за свою красную обветренную рожу. Сердце захлестнуло и зашлось, как тогда, когда впервые взял на руки Серегу. Подбежал к ней, выхватил из рук сетку, помог спуститься. Достал из кармана пальто цветы, протянул.
— Спасибо, Паша.
И они медленно пошли вдоль больничного забора. Аня улыбалась, но улыбка у нее была слабая, ее ослепило солнце. На Березовой уже встречались знакомые, они приветливо кивали Ане, а во дворе у колонки стояли соседки, и они поздравили Аню с выпиской.
А смотрите вы: как чисто в квартире, да занавески сменили, и скатерть новая, ай да мужчины, какие вы у меня молодцы, и Аня, не сняв пальто, устав от перехода от больницы до дома, села на стул и улыбалась, и вдруг улыбка задрожала и сморщилась — но-но, Анюта, голову-то подними и влажность не повышай, и смотри, какой обед заделали мы с Серегой. Суп сварили и мясо нажарили — тоже не лаптем щи хлебаем, тоже палец в рот не клади, по локоть отхапаем, — а ты сиди смирно и смотри, какой я есть в переднике.
Теперь знаем, как друг без друга. Здорова — и это же все в порядке. Следующий приступ когда еще будет. И думать о нем не смей, гори он синим огнем, прямо можно сказать — все отлично будет. Мы вместе, за одним столом, в одной комнате, и это же — ура!
И потекла их жизнь. Покатилась. Лишь чуть поскрипывала на ухабах. То Аня здорова, то зарядят приступы. Но можно было жить, в больнице лежала раза два в год. Ну, три. Но не чаще. Еще работала. Сносная была жизнь. Два года катилась. Когда Аня не в больнице, так и праздничек. А так — дом на Пашке. По хозяйству все сделай и передачу отнеси. Понятно, и про работу не забывай. Это само собой. Раз отпустят пораньше, два отпустят, а потом и скрипеть наминают. Тоже все понятно. Но Пашка еще управлялся, и можно было жить. Да и Аня дома бывала куда чаще, чем в больнице.
Кто-то посоветовал Ане родить во второй раз. Уговаривали ее. Случаи приводили. Клялись — пройдет болезнь. Бабки там или знакомые какие. И уговорили Аню. А Аня уговорила Пашку. И еще бы — снова будет здоровой, снова не нарадуются друг на друга.
И четыре года назад Аня родила Маринку. Еще когда донашивала, часто болела. Врачи уже говорили, что сердце начало сдавать. А когда родила, еле жива осталась. А, черт побери, сам ведь Пашка и согласился, дал уговорить себя, сам и виноват.
Четыре месяца лежала тогда в больнице. Потом на работу вышла — не может работать. Пройдет несколько шагов — задыхается. И губы синие. И лицо посерело. Перевели на инвалидность.
А ты помнишь, ты помнишь, как славно-то было, ты помнишь, как загорали мы с тобой на берегу залива, и мимо проплыл белый кораблик, и вон, смотри, тополя пыльные стоят, а здесь, смотри, место пустое, а дальше похуже, и жизнь поголее, так давай же вернемся скорее, пора, давно пора, подзадержались мы в пути, — но кораблик сносит, а мельтешат берега, и на старое место никогда уже не воротишься.
Аня все чаще стала лежать в больнице. По три, по четыре раза в год, да месяца полтора каждый раз. Дом на Пашке, и времени уже не хватает.
Долго не мог Пашка привыкнуть к новой жизни — два года привыкал. Да и как привыкнешь. Ладно — стирает Надя, старшая сестра Ани, она же два раза в неделю уберет квартиру, но ведь по магазинам самому надо шастать. Серега в детском саду, так забери его вовремя, да накорми, да книжку почитай, да спать уложи, а Марину на субботу, воскресенье забери из круглосуточных — не оставлять же ее, если отец-мать есть, что ей зря сиротствовать, да выкупай ее, и вертись с ней, и выстирай все на понедельник, и не забудь еду сварить, а забудешь, так брюхо-то все равно не чужое, все равно есть запросит, а в темя все время клепает: ну как Серега или Марина заболеют!
А когда осень или когда морозы, подопрет такое к горлу: тебе тридцать три, и ты молодой еще мужик. Здоров и легок. Живота нету. Плешь еще не начинается. И тебе бы прыгать и гудеть с друзьями и допоздна обнимать Аню. А ты в больницу ходишь, и по магазинам носишься, и возишься с детьми. Не скрипнешь, понятно, не станешь канючить. Ане скажешь — но-но, голову выше и нос по ветру, а в доме у нас порядок полный, и улыбаться будешь, и никогда при Ане не захнычешь. Всегда сделаешь все, как надо. Это само собой. Потому что свои люди. Радоваться вместе — так уж и бедовать до конца.
Но сам ведь знаешь, что жизнь-то проходит. И это сидит в тебе все время. Как будто кол в тебя вогнали. И зудит, как шкура при чесотке. А другие-то люди живут, как жили они первые три года. И зима им не зима. И осенние дожди для них — июльский луг с цветочками. А жизнь-то летит. И она пропадает. И тебя ждать те станет. Ее не переиграешь. Пролетит. Отахает. Не воротится.
Это было два года назад.
Совсем подперло. Загибаешься. Мороз вокруг. Темнота. И на душе тоже не солнце сияет — хоть глаз выколи. Хоть за ухо подвесь.
В девять часов уложил Серегу спать.
Сам поплелся в городской ресторан.
Оглушило музыкой — наяривал оркестр. Люди танцевали. Накурено — дым плывет над головами — лиц не видно.
А когда оркестр ушел отдыхать, кто-то взвизгнул, и ударил в ладоши, и пошел танцевать «барыню». С притопом, с пристуком да с подвизгиванием.
Пашка нашел местечко, огляделся. Водочки выпил, пивка. Закусил селедочкой.
И уже чуть поплыло вокруг, и на душе помягче стало, и лица подобрели вроде бы. А голубой дым сгустился, и вдруг из дыма, из тумана этого вышла Верка Бездорожная. Шла она, чуть покачиваясь, шла мимо Пашкиного стола, и Пашка потянул ее за руку. Ничего она сегодня, Верка, лицо вроде округлилось, и кофточка новая на ней, и зубы белые, непрокуренные. А как-то видел на улице недавно — худолицая, широкоплечая, с растрепанными волосами.
Так здравствуй же, Вера, давно ведь я тебя знаю, сегодня у тебя невезуха, и у меня невезуха, ну а вместе большое счастье выйдет.
Верка сморщила лицо и, улыбнувшись, орлицей посмотрела на Пашку да ладонью шарахнула по столу — загудели стаканы, мужички повыпяливали глаза — знакомый всем человек Верка, и в голос она запела: «Я плакать не плачу, мне он не велит».
Вот так и ты, Пашка, орлом будь, а не мелкой пташечкой, да плечи расправь, да нос вынь из тарелки.
Взбодрились еще, и попели, и потанцевали они под грустную музычку — да Пашка же, голову вскинь, что невесел, или со мной гулять совестно, ох и голубчик же ты — подперло, так и узнаешь, а когда жена дома, так и будку в сторону.
Но я вот не такая, и ты мне давно нравишься, еще когда парнем был, но да наш квас, видно, не про вас, и, навеселившись по горло, побрели они к ней домой.
Да что же за жизнь нам такая вышла, Верка? Ведь же загибаешься, и никому не пожалуешься, свои дела у всех, а твои-то дела всем до фени, так это выходит. А с тобой поговорить можно, ты поймешь — человек.
Да, пойму, у самой невезенье одно. Потому-то и можем друг друга понять — одним мы лыком шиты, одним шилом проткнуты.
А под утро разбудила его.
— Двигай, — сказала. — Пора. Парень небось тебя ждет.
А с утра-то среда и день впускной, и после работы надо к Ане сходить.
Уже сумерки вползали, зажгли лампы на постах, уже больные в серых сиротских халатах потянулись к телевизору. Аня была одна в палате. Сидела на кровати, Пашку ждала. Он никогда не опаздывает.
Запахнула халат. Вышла из палаты. Встали в коридоре у окна.
— Дует здесь, — сказал Пашка. — Простынешь.
— Нет, окна заклеены.
— Дует, — сказал Пашка, и они вышли из отделения, встали в узком коридорчике у железной лестницы, ведущей на чердак.
Под потолком тускло горела лампочка. В углу горка окурков. Аня куталась в серый больничный халат, поправляла шаль.
Прошла заведующая отделением Екатерина Андреевна. Улыбнулась Пашке. Она здесь много лет лечит.
— Как твои дела, Павел? — спросила.
— Нормально, — обрадовался Пашка ее вниманию.
Больные любят Екатерину Андреевну. Она неторопливая. И помнит все, что спрашивает.
— Дети здоровы?
— Здоровы. Обходимся. И по дому справляюсь.
— Аня у нас молодец, — сказала Екатерина Андреевна. — Только вот плачет часто. И домой просится. Ты скажи ей, Павел, — рано. Может быть, тебя послушает. Меня — нет. Как только можно будет — сразу отпущу, дня лишнего не продержу. Договорились, Аня?
Аня кивнула, и Екатерина Андреевна спустилась по лестнице. Аня спрятала лицо в Пашкино пальто.
— Паша. Не могу. Домой хочу. Устала я.
А Пашка уговаривал ее: да Аня, да потерпи маленько, недельку и осталось, а потом выйдешь, и все будет слава богу, и так мы все по мамке соскучались, да нельзя же раньше, долечиться надо и никогда больше не попадать в больницу, и не попадешь, вот это точняк, — говоришь и вроде себе веришь, а сам-то видел — губы ее посинели, посерело лицо.
Они стояли, и молчали, и держались за руки. А время летит. А ты не замечаешь. Вроде Аня не в больнице, а дома. Потому что рядом.
— Не опоздаешь в детский сад?
— Нет. До семи. Успею.
Вдруг виновато улыбнулся.
— Поддал я вчера, — признался.
— Да вижу, — улыбнулась Аня. — Под глазами темно. И бледный. И отворачиваешься. Это ничего. Раз уж подошло тебе. Мужчина же. — И она осторожно провела ладонью по Пашкиному лицу. — А я тебя весь день ждала, Паша.
— Так ведь на работе, — оправдывался Пашка.
— Знаю. А какой сегодня день?
— Впускной. Среда, значит.
— Нет, число?
— Третье марта.
— И какой день?
— Не помню, Аня.
— Мы как раз третьего марта познакомились.
— Верно, в марте. А числа не помню.
— Третьего. Я тебя тогда пригласила.
— Да, в матросском клубе.
— Восемнадцать лет.
— Да, прошло. Лихие мы были ребята, — засмеялся Пашка.
— Это уж ты лихой. А я — куда? Я шла через весь зал, и ноги у меня подгибались. Вроде бы все смотрят на меня. И смеются. Потому и место дают. И долго шла. И сразу никого — к тебе пришла.
— Ничего время было. Коридор здесь. Не простудишься?
— Я тебя заметила, когда в первый раз на танцы пришла. Ты тогда в зал вошел. Большой такой, самостоятельный. Нос кверху. Все тебе нипочем. Я так и знала, что это ты и есть. Сразу поняла. Меня ты и не замечал. А не подошла, так и не заметил бы. Месяц не могла смелости набраться. Но набралась.
— Простынешь. Иди в палату, — сказал Пашка.
— А ты положил мне ладони на плечи, и повел меня мой Паша. Сразу поняла — так всегда и будет. Никак по-другому. Спокойно сразу стало. Как помнишь — Девятого мая? Все блокада, война. А потом сразу салют. Весь день из крепости палили. Вот так спокойно.
Она стояла рядом, маленькая, в сером халате и серой шали, и улыбалась, а глаза ее сияли, такие же они молодые, как и восемнадцать лет назад. Никакая болезнь не изменит их.
Пашка знал, что вроде тоже улыбается, но в горле уже запершило, и уже ком встал, и никак было не прокашляться.
— Иди в палату, Аня, — снова сказал он.
— А когда мы расстались, я все равно знала, что ты вернешься. Сколько надо, столько бы и ждала. А если бы женился на другой и были дети, все равно ждала бы. Ты мне веришь?
— Да. — И Пашка больше ничего не мог сказать. Боялся. Знал: вот сейчас пройдет ком, и все, что накопилось вот здесь, в груди — да Аня, Анюта, да за что же нам такая невезуха, — все это вырвется. А никак нельзя. — Ты иди уже.
— Даже если бы совсем расстались — ты уехал, а я осталась, — все равно знала бы: повезло. Ведь был Паша. И значит, все остальное не зря было. Ведь был Паша. Как-то я плакала после приступа, тебя жалела — вот, говорила себе, пропал из-за меня мой Паша. И сейчас жалею. Мне-то что — уж если без тебя бы, и то говорила — повезло, а с тобой — так что же еще надо? И все. И у тебя такое же, да? Я бы не говорила, если бы не знала.
— Да, Аня, да.
И не выдержал, повернул ее за плечи, к двери чуть подтолкнул и дверь закрыл. И два шага по коридору. И поскорее. И по лестнице скатился. Быстрее на улицу. Только так. Иначе сил нет — завоешь, как пятилетний пацан.
День рождения Пашки. Тридцать пять лет. Впервые собрались за последние четыре года. Все не выходило. То Аня в больнице, то просто настроение не то. А сейчас собрались — и тянутся все стопки к Пашке, так будь здоров, Павел, держи грудь колесом, а нос по ветру, и не хнычь, если и случай выйдет.
Пейте, братцы, закусывайте, братцы, веселитесь да нас не забывайте. Почаще заходите. И не только в праздник, а и в день серенький.
А потом все ушли и квартира опустела. Посреди комнаты стол стоит как после побоища. Весь вечер было весело. И веселье не проходит.
— Ну и подарок ты мне отгрохала, — сказал Пашка и подошел к Ане. — Всем электробритвам электробритва. — Взял ее ладонь и провел по щеке. — Ну, как? Щека как у младенца. Сам себя не узнаю. Теперь буду ходить как огурчик и сиять как новый пятак.
Налил Ане лимонаду, а себе водочки.
— Чокнемся. За подарок. И, понятно, за тебя.
И они выпили. А потом включил приемник. Пели песню про падающий снег. И Пашка отвесил глубокий поклон и, сделав рукой вензеля в воздухе, сказал:
— Я ваш друг, и потому позвольте пригласить вас на круг танго.
Аня встала, и Пашка прижал ее к себе, и танцевали они, не отрываясь друг от друга. Так и плыть в танце, и глаза можно закрыть — не ошибешься, — теперь назад отступить, и влево пойти, и вокруг стола, а теперь и вперед. А Аня какая легкая, и как послушно танцует, и она новую прическу сделала, и какое красивое на ней платье. Нет, черт побери, не для них эти прошедшие годы, для кого угодно, только не для них.
Потом лежал неподвижно. Приходил в себя. Услышал — Аня задыхается. Знал — так будет. Знала это и она. Чудес не бывает. Ждал, пока пройдет одышка. Только бы не было приступа.
Встал с кровати. Сел за стол.
— Паша. — Аня старалась перевести дыхание. Но не получалось. Потом дыхание успокоилось. Лишь иногда легкий всхлип.
И Пашка не сдержался.
— Сама знаешь — трудно бывает, — сказал. — Мужик. И места не найти. И ты всегда рядом. Трудно — это понятно. Но на все согласен. Только бы не болела. Чтобы так было, как есть сейчас. Не хуже. И пусть. И ничего больше.
Аня сидела, положив подушки под спину, и смотрела молча на него.
— И лучше тебя женщины нету. Точно. Какая ты была Анюта, такая и осталась. И мне никак без тебя. Не говорил никогда — вроде боялся. Сейчас сказал. Так и есть. И повезло. Так и будет. Всегда. Верно же я говорю, Аня?
— Да, Паша, верно, — ответила она.
Седьмой час. Сыплет мелкий снег. Слепит глаза. Зима кончается…
Полгода назад… Успел заскочить в угловой гастроном, купил колбасы и сыру, нырнул в булочную, купил батон и свернул к лестнице.
На лестнице было черно. Лишь в конце ее качалась слабая лампочка. Стал прыгать через ступеньку — ноги пока прыткие, сердце ничего себе бьется, дыхание не сбивается.
Вдруг замер. Кто-то в черном пальто медленно поднимался по лестнице. После штурма трех ступенек останавливался. А дыхания не хватало, распрямлялся. Дышал тяжело. Шел дальше. Через три ступеньки снова — стоп машина. Больше не могу. Снова остановка.
И когда человек вышел под свет лампочки, Пашка охнул — Аня. Знал, что это она, но не верил. Быть этого не могло. Есть же у нее голова. Не может выйти на улицу. Нельзя. Неделя как из больницы. Велено дома сидеть. А такую лестницу штурмовать — это здоровый человек задохнется.
Подошел осторожно, чтобы не испугать ее. Потерпит до дома. А дома он свое скажет. Мало ей не будет. Это точно.
— Здорово, Анюта, — сказал как бы в сторону. Он потерпит до дома. — А ты зачем вышла? Вроде нельзя. Я так слышал. А ты нет — не слышала?
— Ну, Паша, ну прости меня, — виновато улыбнулась Аня. — Я только за чаем вышла. Нет заварки в доме.
— А мы что — без чая не перебились бы?
— Но ты же любишь свежий чай. Я и сходила. — И для примирения она дотронулась до Пашкиной руки.
Но он руку убрал.
— Ладно, — сказал сухо. — Дома поговорим.
А дома он разделся и снял пальто с Ани, и подождал, пока она согреется и притихнет за столом Серега, и, когда он дождался своего, вот тогда-то завопил:
— Ну зачем мне этот чай? Ну зачем? Да сдался мне этот чай. Сама знаешь. У тебя есть голова? Или у тебя нет головы?
— Нет, Пашенька, головы.
— Так хоть не перебивай. Так хоть слушай, если виновата. Понимаешь, что виновата, и то славу богу. Думал, и этого не понимаешь. Ну зачем мне этот чай? А если приступ будет? Да пропади пропадом совсем этот чай. Если нельзя сердце нагружать. И не первый раз замечаю. Но чтобы в последний. Все!
— Все, Паша, не буду больше. Правда, не буду.
— А ты чего смотрел? — напустился Пашка на Серегу. — Мать больная, а он расселся. Вон какой вымахал. Девятый год. За чаем сбегать не может. За одной пачкой.
Серега зашмыгал носом. Чувствует, что виноват. И то хорошо. Глаза уже к мокрому месту приближает.
— Хоть не сопи ты, — прикрикнул Пашка. — Месяц назад, когда мать в больнице лежала, разговаривали мы с тобой?
Серега кивнул.
— Договорились, что мать в обиду не дадим? Она у нас одна. И беречь ее надо. Все за нее делать. Сам же со мной согласился. Так чего же сейчас-то к табуретке припаялся?
— Я его не просила, Паша. Самой хотелось сходить. Он бы сбегал. Но не попросила. Сама. А он все делает по дому. Помогает.
— Знаю. Потому и держимся, когда вдвоем остаемся. И не защищай. Видишь, он сам виноватится. Понимает все. Ладно. Кончено на сегодня. А чай этот я пить не стану.
И вышел на кухню. Закурил, чтобы успокоиться. Больше он ничего не скажет. Потому что вечер-то один. И жаль его на ссоры гробить. А их немного, этих вечеров, когда они вместе.
А потом вдруг чудеса поперли, и снова солнце под ногой. Это уж штука так штука — Аня выздоровела. В апреле лечилась в городе, в большой клинике. Выписалась — сердцу легче, приступов не было. А весна была сухая, и началось жаркое лето — не было ни одного приступа. И она даже немного поправилась, округлилась, порозовело лицо, с губ сошла синева.
Разрешили из дому выходить — и в магазины, и на базар, и вечерами гуляли всей семьей по парку, приодетые, праздничные, Серега с Мариной впереди, и он, как старший брат, опекает ее, и они дружно лопают мороженое, а Аня с Пашкой чуть сзади, — сколько уже лет по парку не гуляли.
Уже Аня поговаривать стала, что и хватит ей отдыхать, пора и на работу возвращаться, не все же одному Пашке вертеться.
Ну-ну, не будем торопиться, годик еще отдохни — один раз уже нажглись, но уж во второй раз нас не проведешь, стреляные как-никак воробьи.
А в воскресенье, в начале июля, выехали к Сереге в пионерский лагерь. Ну-ну, поторапливайтесь, женщины. То-то неожиданность будет для парня.
Автобус остановился возле Уткина. Дальше шли пешком — это три километра. Перед самым лагерем горка была — и горка немалая — Пашка ход посбил, нечего рисковать, Марина уже похныкивать стала, и Пашка взял ее на плечи, а сам все посматривал на Аню. И ничего — держится. Хоть и прошли три километра. Но все же посидели в тени под деревом — дичков посрываем, хоть какие тут дички — начало июля — челюсти сводит от кислятины, и, отдохнув, двинулись дальше.
А у арки их ждал Серега. И он с подвизгом, вприпрыжку к ним бросился, стервец, и с налету к отцу на шею прыгнул, и отец покружил его по воздуху, а потом матери передал, и Серега прижался к матери и притих на мгновение, а потом и до Марины снизошел и потрепал ее по голове.
Не ждал их парень, знал, не приедут, но:
— Я стою вот тут. У беседки. Интересно — приезжают. А я спокойно — вы дома. Тут и вы пришли.
— Такого шалопая — и в покое оставить, — сказал Пашка.
А Аня все обнимала Серегу и смеялась — очень она соскучилась по сыну. Очень хотела, чтобы поехали все вместе, — и поехали. Пашка, правду сказать, один бы не поехал. Перебьется парень три недели. Отдохнет от отца. И отец от него отдохнет. А теперь она не может насмотреться на своего Серегу. И смотреть есть на что: нос у парня сгорел и облупился, как кожура у печеной картошки, волосы выгорели и стали совсем белыми, он вроде вытянулся, и кость вроде окрепла, и на белых ногах чернели цыпки, и они были жесткие, как подошва бегемота.
— Ты ноги-то хоть иногда моешь, герой? — спросил Пашка.
— А это я в футбол начал играть, — кивнул Серега на цыпки.
— Кем играешь?
— Вратарем стою.
— И как стоишь?
— Как! Подходяще, если за отряд берут. Все боятся в ноги падать. Это когда ты один и он один.
— А ты не боишься?
Серега только плечами пожал. Не боится. Герой — в ухе дырка. Тяпнут по голове ногой — не зарадуется. Нашел место — вратарь. Но Пашка ничего не сказал. Это его дело — по голове получать. Пусть привыкает. Еще нахватает ударов и по голове, и по животу, и по заднице — пусть привыкает. Девять лет.
Вышли в лесок под лагерем. Сели на полянке. Аня расстелила скатерку, начала выворачивать бездонную сумку. А это, Серенький, пирожки, сама пекла вчера вечером, и вот тоже пирожки, но это потом, с вареньем, это тетя Надя пекла, а вот сверток с яичками, потом съешь, а вот конфеты, и вот конфеты, сейчас поешь и на потом оставь — с ребятами поделиться.
Серега кивнул головой. Поделится. Это понятно. Не поделится — все равно возьмут. Но поделится — не жила. Аня смотрела, как Серега пирожки ее уплетает. И по голове его гладила, а также — мальчик мой, отвыкла от парня. Пашка бы не мог его особенно углаживать, раз погладил, и два, и парень на шею сядет, а нужен помощник, а не сидень, а Аня отвыкла от парня, и не надо бы ее поучать — сама привыкнет, как с ребятами управляться. Пора. Раз выздоровела.
А потом шли по лагерю. На пионерской линейке фанерный кораблик стоит вместо трибуны, а справа футбольное поле с черной плешью от костра, и по склонам оврага зеленеют домики, и названия отрядов все «Следопыт», да «Пираты», да «Робинзон».
— Стоп! — сказал вдруг Пашка. — Вспомнил. Все иду и удивляюсь. Знаю! Был здесь. Один-то раз и был в лагере. Здесь как раз. После войны. В сорок шестом. Тринадцать лет было. Лось уже. Матери дал передохнуть. А мало изменилось. Футбольное поле такое же. И овраг. А вот домики другие. Эх, отличное время было. Хоть и голодное.
— А ты в футбол играл?
— Играл. Но плохо. Не шло. Тяжелый я был для футбола. Неверткий. Бил сильно, это правда. Но мазал.
— А картошку пекли?
— Ну, спрашиваешь. Вот там, за домиками, вниз спуститься, к Марьину, отличные огороды были. И речушка. Наворуем картошки и печем. Такой однажды костер заделали после отбоя — чуть не выперли из лагеря.
Подумал вдруг — время-то отличное было. Первый спокойный год. Все лето — две смены — здесь. И воздух вольный, и по вечерам в «ручеек» играли, и костер на открытии и закрытии лагеря — искры летят в небо, и запевай, хор, дружней, песнь веселой дружины своей, и зябко, и ночь выцветает, и всем отрядом пели на закрытии «Наверх вы, товарищи, все по местам!», а Пашка был отрядным свистуном, и как же лихо он свистел, а когда все закричали «С богом, ура-а!», он чуть не лопнул от натуги, а Славка Третьяк вместо свиста только покрякивал и верещал на трещотке — ах, лихое было время. Это же, может, лучшего времени и не было. Вроде вот тогда, а потом сразу сейчас.
Но нет — все это звон. Есть у него Аня. И тяжко иной раз было — а лучшее это время. Последние десять лет. Потому-то Пашка и считает, что ему повезло.
А те, кому не повезло, вспоминают иной раз костер на закрытии смены и понимают вдруг, что тогда сидели они у последнего своего костра, и потому-то, чтобы взбодриться, водочку пьют, и к телевизору припаиваются, и на футбол-хоккей ездят, но только поздно. Отсвистела жизнь. Проспал ее.
Но Пашке-то повезло. Не проспал. И Аня рядом. И Серега с Мариной. А у Сереги облупился нос. И не понимает он, чего это отец расквасился. Но поймет. Когда время придет. Если повезет понять.
— Пора! — сказал Пашка уже перед обедом. — Спускаться надо.
Ну, побудем еще, Паша, просила глазами Аня, ведь все вместе, и здоровы, и день какой июльский, солнце запуталось в соснах, вдали на склонах оврага женщины косят траву, и тишина такая стоит, и вдруг тишину разорвал призыв горна — и это «Бери ложку, бери бак», и это на обед пора, и будь готов — всегда готов.
— Отчаливаем! — сказал Пашка, и они отчалили. Аня все держала Серегу за плечи, а он стеснялся, но не отходил в сторону, и Аня не могла отпустить его от себя — еще приедем, и обязательно, а на следующий год все лето здесь пробудешь, и мы ни одного воскресенья не пропустим, пора, Анюта, пора, парень к порядку приучен, и не грусти, еще не раз приедем сюда, и будь здоров, Серега, носом не хлюпай, не шуми лишнее и не сбегай раньше времени, и Пашка крепко пожал ему руку.
— До свиданья, сын.
— До свиданья, мальчик, до свиданья, Серенький.
Это три месяца здоровья. Даже три с половиной. Бывает же такое везение. Думали — навсегда. Но осечка вышла. Неделю назад Аня заболела гриппом. И гриппом каким-то тяжелым. И снова начались приступы. И одышка. И нельзя ходить. И снова положили в больницу.
Но она скоро поправится — это Пашка точно знает. Так должно быть. И снова будет здоровой. А через полгода на работу пойдет. В коллектив пора, что называется. Нельзя надолго отрываться. Грипп пройдет. Сердце наладится. Приступов не станет. Так будет. Никак иначе. Точно.
Тут, на радость, и Николаша пришел — худой, сутулый, на темени, плешь проелась.
— Семье Снегиревых привет! — сказал и пожал Пашке руку. Поманил Марину, тоже руку протянул и конфетку ей в рот сунул.
— Дядя Коля, а ты чего? — спросила Марина.
— А ничего. К папе пришел. И к тебе. Разве нельзя? Жарко!
— Видал ты! Жарко ему!
— Да, жарко, — И Николаша, подтверждая свои слова, вытер пот с темени. — В субботу будет работенка. И в воскресенье. Поможешь?
— Помогу. По трешке?
— Наверно. Пивком, что ли, побалуемся? — как бы нехотя спросил Николаша.
— Да, не худо бы, — сказал Пашка и потянулся. Руки к небу вскинул, лопатки чуть не вывернул, крякнул от удовольствия — так сладко потянулся. — Как, Марина, сходим к ларечку? Там и Наташа Афанасьева будет.
— Сходим, папа, — охотно согласилась Марина.
Пашка взял Марину на плечи, и они пошли медленно, с достоинством, и Пашка внимательно смотрел под ноги, когда переходили разрытый Песочный переулок — газ скоро будет, — и так это хорошо, что не надо торопиться, не на работу же идем, время свое, не казенное, не убежит никуда пиво, до десяти будет ждать, и, чем дольше разлука, тем встреча дороже.
Жара не спадала — надо же, как раскалилось все, — и безветрие, не шелохнутся листья запыленных тополей, лишь краснеет осколок неба, и оттуда вон, от Пяльцев, сумерки потянулись, но еще часа два все будет видно, и не скоро вспыхнут фонари.
Перед ними затормозил автобус. Высунул рожу Митька Андреев, старый кореш.
— Привет трудовому классу!
— Здорово, Митряй. Айда по пивку ударим.
Митька только развел руками и пальцем через плечо показал на пассажиров.
— Не могу!
— Ну, двигай и присоединяйся, когда кончишь.
— Что вы, парни. Сегодня до часу пахать.
И уже начинали поскрипывать пассажиры — все спешат, день аванса, дома жены ждут, а денежки жгут карман, а также на перекрестке дело, но не в большом городе живем, дайте поприветствовать хорошего парня.
А у ларька большой сбор был, и вывалили парни из бани, разгоряченные, краснорожие, дайте же скорее людям кружечку пива, а то ведь загнутся от жары.
Сидели на пустых и полных бочках, колотили воблой по ребру ларька, и кто-то протянул Пашке кусочек рыбы, а он всосал соль в себя, а потом кружку взял — тяжелую кружку, с краем ущербным — и, не переводя духа, ахнул эту кружку, а уже потом начал со смаком посасывать вторую.
Это радость так радость — вот так пиво посасывать. Ты его во рту держишь, пока рот не охладится, а потом чуть толкнешь языком и маленькими глотками погонишь в глотку, и вроде бы прохлада на землю сразу упадет и чуть стемнеет, а тут и разговоры пойдут, то да се, а наше с квасом, а также с кисточкой, да соль да перец, и все свои здесь парни, и полный сегодня сбор — нет, славно жить на белом свете.
А тут и Мишаня Афанасьев, друг, в одном полку служили, подвалил.
— Здорово, земеля.
— Здорово, Пашка. А песню какую я сегодня по радио слышал! Ну, ту, нашу. Парни и вопили. Поможешь. Эту вот. «За прочный мир», — пальцем ткнул Пашку в живот.
— «В глубокий тыл», — подхватил Пашка.
— «Летят десантники лихие». Понял? По радио, соображай. Да разве же они поймут чего? Это же салаги, хлеборезы. Вот все они. — И он рукой обвел окружающих.
— Точно, Мишаня. Точно, земеля.
И потихоньку спросил Пашка, чего это Мишаня заводится. Просто так или повод подкатил?
— Ну, ты даешь, — всплеснул руками Мишаня. — Жилье выколотил.
— Иди ты! — обрадовался Пашка. — Молодчик. Две?
— Нет, ты понимаешь, штука какая — три!
— Ну, земеля, жди на новоселье. С Аней и придем.
А тут подвалили еще парни — Чекмарев с тридцать шестого, и коротышка Филиппов в своей вечной кепочке, и прораб Володя при галстуке и белой рубашке.
И тоже охнули, тяпнув пивка, — а пиво-то — да! — свежее.
— А откуда ему быть несвежим, — подала голос продавщица Зина, — лето какое жаркое.
И кто-то уже рассказал анекдот про зайца и медведя. Старый анекдот, но все засмеялись. И как не засмеешься, если день такой. Если большой сбор и все мы вместе. Никакая жена не погрозит тебе пальцем и не бросит камень в твой огород — это наш день. Заслужили его.
— Смотри — Надя — вдруг сказал Николаша и ткнул Пашку в бок. Тебя ищет.
Верно — по улице спешила Надя. Руками размахивала. Увидев Пашку, остановилась.
— Искала! — крикнула. — Беги! Да Марину-то оставь!
— Что? — испугался Пашка, и дыхание его захлестнулось. — Аня?
— Аня. — И Надя заплакала. Лицо ее перекосилось и сразу сморщилось. — Аня.
Рванулся. Быть не может. Так не бывает. Неправда. Побежал по Парковой, потом вдоль покосившегося забора, и нырнул в Песочный переулок, и все вдоль зеленого больничного забора, и он был бесконечным.
Остановился. Дыхание перевел. Рукавом вытер пот. Душно. Тяжело бежать. Много пива выпил. Две кружки. Почти три. Третью чуть-чуть не допил. Побежал дальше. Никогда забор не кончится.
Вбежал в больничный двор, и мимо «Скорой помощи», и зеленых ворот, и красного кирпичного здания, влетел наконец во второй этаж.
А на лестнице стояли больные и посетители, и кто-то поздоровался и сразу отвернулся, и Пашка остановился перед дверью и, кажется, даже волосы поправил и толкнул дверь.
Знакомая медицинская сестра подняла голову.
— Что, Лена? — подошел к ней Пашка. — Так, да?
Она ничего не ответила. Глаза ее суетились, она их отвела и что-то долго искала в историях болезней.
Увидел Екатерину Андреевну, заведующую отделением. Глаза ее покраснели. Плакала. По каждому плачет, что ли. Смотрела в сторону. Подошла близко к Пашке. Увела его в свой кабинет.
— Как же так? — спросил он.
— Так, Павел. Ничего не смогли сделать. Острая сердечная недостаточность.
— А как же?
— Она тяжело болела, Павел.
— Да. Знаю. — И чтобы тверже стоять, налег спиной на стену.
А думал — свалится. На полу кататься станет. Но нет. И не плачет. И что-то еще спрашивает. Хоть и не очень понимает ответы. Хоть бы завыть. Но не получится.
Екатерина Андреевна что-то еще говорила и успокаивала Пашку, а он только кивал головой — спасибо вам, спасибо.
— Дать тебе нашатырю?
Покачал головой. А ноги ватные. Дрожат колени. Сесть бы на пол. Вон туда, в угол. Но нельзя. Чужие люди. Место постороннее.
— Нет, я сам. Я ничего. Вытяну. А как же теперь?
— Как что? — не поняла Екатерина Андреевна. — Жить надо. И беречь себя. У тебя дети. Для них и жить.
— Нет.
— Ты для них теперь и мать и отец. Все вместе.
— Да. И раньше.
— А теперь подавно.
— А все-таки — как же?
— Что именно, Павел?
— Устраивать все. Раз уж так. Провожать. Документы там. Все такое. Машина.
— Не знаю. Завтра утром во двор придешь. К тому зеленому домику. Все расскажут. И сделают. Это — другое. Это — само собой. Ты за детьми смотри. В обиду их не давай.
— Да, спасибо. — И Пашка вышел.
Спустился по лестнице. Побрел двором. По сторонам не смотрел. Только под ноги.
Вышел в Песочный переулок. Долго брел, а куда и зачем — сам не знает, и ни разу вроде не покурил, то ли забыл, то ли папирос не было, и уже сгустились сумерки, темнота повисла, в переулке, и над баней, и дальше по всей Парковой фонари зажглись, а Пашка все брел куда-то, а потом вдруг поднял голову и увидел, что стоит перед своим домом. И когда увидел он свое крыльцо, понял вдруг — не будет больше радости, пустая, голая жизнь… Это все. Осталось доживать, сколько отпущено.
Тишина стояла в доме. И плыли сумерки. Забившись в угол, всхлипывала Надя. К ней жалась Марина. Она испуганно взглянула на отца. Ничего не понимает.
На подоконнике сидел Серега. Он не плакал. Знает — нельзя. Или мало что понимает.
Пашка рухнул в кресло. Тяжесть в горле не давала раздышаться. Но плакать нельзя. Это — дети. Он для них все. Никого больше. Крепость. Каменная стена. И она не должна шататься.
Не сдерживаясь, громко заголосила Надя.
— Ну! — грозно сказал Пашка.
Надя осеклась. Боролась с судорожными всхлипываниями.
— Павел, как же это? — выдохнула она.
— Так. Ничего не поделаешь. Ты не плачь, пожалуйста. Не плачь. Дети.
И осекся. И, чтобы не заголосить самому, сжал виски ладонями и старался раздавить голову, а когда руки отпустил, в горле вдруг смягчилось, и понятно вдруг стало, что не придет сюда больше Аня, и не встретит Пашку у порога, и не проведет ладонью по затылку, и Пашка качал головой, чтобы не вылить слезы, а они и не лились, только сухость в глазах и только горло дерет.
Вдруг поднял голову. Выпрямился. Нужно зажечь свет.
— Значит, так, — сказал строго. — Завтра пойдем в больницу. Ты, Надя, поедешь в Пяльцы. Там есть люди. Они все сделают. Возьмешь машину, все привезешь, Серега утром сходит к Николашке. Пусть сразу идет сюда. Поможет. Понятно?
Надя и Серега кивнули.
Пашка внимательно посмотрел на Надю.
— Поможешь, если что, — сказал он. — Первое время. Потом сами поднимемся.
— Да, — согласно кивнула Надя. — Помогу, Павел.
— И нормально тогда. Вырастут. И людьми. Точно так. И ты не сомневайся.
Под звездами августа
Стоял август сорок пятого года, и солдат Василий Лукин возвращался с войны в родные края.
Война отняла у Лукина молодость, многих друзей, мать и старшего брата, отбила душу и печенки, взамен же дала специальность связиста. Он устроился на телеграфе в областном городе и сейчас ехал на неделю в родную деревню Глухово, чтоб повидать немолодого уже отца, которого не видел ровно четыре года.
Лукин стоял на верхней палубе, накинув на плечи шинель и поставив у ног мешок «сидор» и гармонику в обшарпанном футляре.
В тишине слышен был лишь чакающий звук колеса парохода. От воды отрывался слабый, чуткий пар. Вдали влажно синел лес. Медленно уплывали песчаные берега. У самого берега стояла лодка, и в ней четыре мальчика рыбачили — двое в белых рубашках и двое в красных. Те, что были в красных рубашках, одновременно повернулись к пароходу и помахали свободными от удочек руками. Лукин помахал им в ответ. Сон и легкий пар окутали все вокруг.
Река сделала крутой поворот, и, когда стала видна пристань Кужи, Лукин взял в руки мешок и гармонику.
И вот он, солдат, после многих лет отсутствия вступивший на знакомую тропу: в шагу широк, тело его легко, солдат сух, но не худ, а вернее сказать, жилист и вынослив во всякой работе; лицо загорелое, и загар скрывает, но не вовсе, множественные веснушки; нос невелик, да к тому же чуток вздернут, пилоточка сбита к левому уху, и видны светлые волосы, что называется рассыпчатые, так что ты их как ни пристраивай, они все равно разлетятся от первого ветерка, и потому всего удобнее убирать их со лба просто пятерней; глаза у солдата в молодости были, может даже, и голубыми, но от солнца и вида многих потерь выцвели, и теперь они цвета осеннего нетеплого неба — то ли голубые, то ли заваленные серыми преддождевыми облаками.
В Куже стояло два дома — большой под красной, крышей и поменьше.
Лукин взбежал на пригорок, вымыл в траве мыски сапог и пошел к дому поменьше.
В зале ожидания стояли две пустые скамейки, окошечко с надписью «Касса» было заколочено, и Василий Лукин постучал в дверь.
За столом сидел пожилой мужчина в очках — одну дужку заменял шнурок — и в английском френче, возраст которого определить было невозможно. По френчу и очкам на шнурке Лукин и узнал мужчину.
— Здравствуйте, дядя Петя.
Тот настороженно посмотрел на Лукина, для верности большим и указательным пальцами придержал стекло, к которому крепился шнурок, но узнать не сумел. Дядя Петя никогда не брился, лицо его казалось бабьим.
— Я сын Павла Лукина.
— Федор, что ли? — настороженно спросил дядя Петя.
— Нет, полег Федор.
— То-то и удивился, — облегченно сказал дядя Петя. — Так ты Вася, выходит.
— Ну да.
— Так здорово же, Васенька. — И он проворно встал из-за стола и обнял Лукина.
Потянул за руку, заспешил к выходу, приговаривая:
— А не признал сразу вот. Но и ты пойми и не сердись: война вот что выделывает с вашим братом, ушел мальчишечкой, а сейчас нате вам — мужчина в гордом соку. Да рубец над бровью.
И закричал с крыльца:
— Мотя! А Мотя!
На крик из соседнего дома вышла тучная босая женщина в красном сарафане.
— Слышь, Мотя, это Павла Лукина сынок. Да ну, друг из Глухова, я тебе говорил. Так ты и подумай, что к чему.
— Так ведь баня с утра топлена.
— И это дело. — И, махнув рукой, дядя Петя отпустил женщину к ее делам.
— Да ты же Мотю не знаешь, — объяснил он присутствие в доме незнакомой женщины. — Мария Антоновна, вечная ей память и земля пухом, перед войной, как ты знаешь, слегла и вскоре отправилась искать лучшей доли. Володьку, навроде тебя, в сорок первом припекли под знамена боевые. Анюта, дочка, замуж за проезжего солдата вышла и утекла. Вот ты посчитай, Вася, и это простенько — один остался, как этот вот палец. А тут одна женщина, вот хоть бы Мотя, пример приведем, держит путь в Уселье. Там у нее сестра живет. Но где Уселье, ты это знаешь, там и веселье. Она ждала попутку день и другой, да так вот третий год и ожидает. Но это уж с печатью и подписью, как то и положено. Да она негрозная, и сам увидишь.
— А что — плохо с машинами? Я, по правде говоря, засиживаться не собираюсь. Мне бы за три-четыре дня обернуться.
— Что ты, Вася, какие машины! И звук их я позабыл. Если только кого на телеге подвезут, так обратно прихватят счастливчика. Но полагаться приходится более всего на ноги прыткие.
— Так ведь шестьдесят до Глухова.
— Что и доказывалось неоднократно. А потому часок дела не решит. И ты вот от баньки не отказывайся, Мотя для меня топила, как сегодня как раз именно суббота, а потом выкушаешь, что Мотя подкинет.
— Про глуховских слышно ли что-нибудь? Я вот полгода писем не получал. Может, и писали мне, да на месте сидеть не приходилось.
— Сейчас ведь, Вася, добрые вести доходят редко, а вот худого я ничего не слышал. Вот теперь и первая добрая весть — всем говорить стану, что Вася Лукин вернулся с победой и целехонек.
И вот когда Лукин обдал раскаленные камни и пар пронял его и пропитал каждую клетку тела, и Лукин, обессиленный, спустился на скамейку, вот только тогда понял он до основания, что война, пожалуй, действительно кончилась. Нет, что говорить, это и прежде было известно, что кончилась, и когда полночи палили из автоматов под Братиславой, и потом три месяца, когда можно было ходить прямо, не опасаясь обстрелов. Но не распрямлялась в душе пружина, чтоб вот так окончательно понять: все! конец этой каше! Вот так, всякой клеточкой осознал Лукин впервые — все, не лежать ему в окопе, не тянуть ему провод по глубокому снегу, да быстрее же, быстрее, дух отлетает, селезенка екает, как у загнанной лошади, не будет встреч на время, а разлук навсегда.
Ах ты, мать честная, да на что ж это лучшие годы ушли, да куда же это в годы такие нестарые душа подевалась, где бы теперь найти ее, чем бы это дело такое поправить.
Одевшись, Лукин постоял на берегу. Потом подошел к дикой яблоньке и, прислонясь к ней спиной, неторопливо закурил.
Река тиха и неподвижна, и смотри ты, как высока и густа у ног трава, и каким ровным зеленым строем проступает противоположный берег, и как близка к осеннему увяданию зелень деревьев и трав.
Медленным движением Лукин убрал волосы со лба, чтоб они не мешали ему видеть этот солнечный мир.
Все было сейчас внове для него: и жаркое августовское солнце, и густая трава, и неподвижная синева воды, и дымка противоположного берега, но главное — он сам, неторопливый, ничем не озабоченный. И понимал Лукин, что вот прямо сейчас начинается новая его жизнь и есть некоторая возможность, по началу судя, что будет она удивительной и, может статься, даже и счастливой. А та жизнь, прежняя, останется за поворотом этой вот текучей зыбкой минуты, она, конечно, не исчезнет, нет, она засядет в рубцах, в памяти, в мозжечках, чтоб иной раз засвербить и выявить вполне удивительность текущей новой жизни.
На лице Лукина застыла улыбка, он даже глаза прикрыл, чтоб окружающий мир не мешал ему плыть в этой надежде на дальнейшую счастливую жизнь, — но только может ли быть надежда длиннее одной самокрутки, нет, не станет она длиться долго, вспыхнет она, посияет перед глазами время краткое и — порх! — дальше посквозила, оставив по себе, правду сказать, память утешительную.
Когда Лукин открыл глаза, увидел он перед собой, метрах в пяти, незнакомую девушку, и девушка эта улыбалась.
Роста она была небольшого, но чувствовалась в ней уверенная сила, тело ее, что называется, было ловко скроено и прочно сбито, крепкие ноги, по всему судя, привыкли по земле ходить уверенно. Широкоскулое ее лицо загорело, но даже сквозь загар проступал румянец на щеках.
Каштановые волосы, надо лбом разделенные пробором, были скрыты красной косынкой. В руках девушка держала небольшой узелок.
Они молча разглядывали друг друга. Девушка с трудом сдерживала смех. Как бы давая получше рассмотреть себя, она сняла с головы косынку и повязала ее на шею.
— Вы всегда спите стоя?
— Нет, только после бани.
— Тогда понятно, почему вы размечтались. Вам снилось, что вы продолжаете париться. — Она засмеялась, прикрыв рот концом косынки.
— Нет, мне снилось, что после бани я стою на берегу и вижу, скажем так, волшебницу.
— И какая она — добрая или злая?
— Так подойди ко мне, я сразу вспомню и скажу.
Девушка подошла к нему и смело посмотрела в глаза. Лукин чуть наклонился к ней, и ух ты, какие красивые у нее глаза, светло-карие, с белками такими голубыми, какие бывают только у малых детей.
— Посмотрели? — насмешливо спросила она.
— Посмотрел, но до конца не разобрал.
— Ничего, может, еще и разберете.
— Откуда же ты идешь, можно ли поинтересоваться?
Девушка большим пальцем показала за спину — издалека.
— А куда путь держишь?
Она указательным пальцем проткнула пространство перед собой — далеко вперед идет.
— Так хоть как звать тебя?
— Катя. А вас-то как звать?
— Васей я получился когда-то. А теперь вот выгляжу Василием Павловичем. Это уж кому как проще.
Наступило молчание, но оно не мешало, напротив того, звало посмотреть по сторонам.
И то: небо синее и глубокое, солнце поднялось высоко, и сияла золотая корона, чуть шелестели листья яблоньки.
Лукин, чтоб не расплескать в себе уверенность в будущей жизни, неспешно обернулся: перед крыльцом дома росли цветы — ярко-красные георгины, огненный Золотой шар. На крыльце в белой нательной рубашке стоял дядя Петя, и он с улыбкой смотрел на молодежь. Все в окружающем воздухе было так неподвижно и устойчиво, что Лукин чувствовал себя хозяином текущей и будущей жизни.
Шевелиться Василию Лукину не хотелось, но он преодолел томительную лень и, не отводя глаз от Кати, потянулся к ветке над головой, рука вслепую искала яблочка покрупнее, наконец нашла и отделила яблочко от ветки, большой палец обнаружил листок, и Лукин, чуть поведя пальцем, вывихнул листок из суставчика, и он, кружась, коснулся земли. Яблоко еще хранило на себе пыльцу тумана.
Все не отводя глаз, Лукин протянул Кате яблоко, она выдержала взгляд, шагнула к нему, протянула руку, и руки их встретились.
Она надкусила яблоко.
— Когда вы дарите яблоко, то прежде пробуйте сами.
— А по мне, так все яблочки райские. Хоть самый последний дичок.
— Так вот и кушайте его сами. Я же подожду чего-либо повкуснее.
И вдруг Катя улыбнулась, и улыбка эта бабочкой запорхала, к Лукину, и тогда он выставил руку вперед, и бабочка опустилась ему на ладонь.
И какая же это была бабочка — да махаон, прямо скажем, — с бархатистыми малиновыми крыльями, с золотой каймой и круглыми синими глазками на крыльях. Усики бабочки трепетали, крылья чуть вздрагивали, и Лукин подбросил ее к небу, и она полетела за дальние леса.
Дело уже близилось к полдню, солнце выплыло на положенное место, ярче загорелась красная крыша дома, вспыхнули кровью, близкой к спелости, гроздья рябины, золотая корона дрожала в тугом пламени.
Лукин сорвал пожелтевший лопух и склонился над ним: было то время жары, когда цветы, листья, травы защищаются от полуденного зноя клейкой прозрачной влагой. Была влага и на лопухе. В капле дрожала тонкая, едва заметная паутина.
— А что это интересен вам лопух?
— Да вот все время смотреть на тебя прямо-таки опасно, так и глаза можно сжечь. Приходится отвлекаться на какую-либо малость. И ты дай мне руку.
— Это еще зачем?
— А чтоб поближе подошла.
Она сделала к нему два шага и протянула руку. Ладонь ее была мягкой и теплой, Лукин осторожно гладил подушечки ее пальцев.
— Рука, я вижу, белая у тебя да нежная, не знает, поди, черной работы.
— Да, почти не знает.
— И что ж у тебя за работа?
Василий Лукин потянул ее к себе, но Катя отняла руку.
— Уж больно вы шустрый, как я погляжу.
— Так и времени мало, ты вот это прикинь себе. Час не ровен — сейчас светит солнце, река блестит, а завтра, кто же это ведает, выйдет ли еще день ясный.
— Пора бы вам уже без спешки жить. Успела наслушаться я речей вроде ваших, что война-война, а жизнь одна. Три года в госпитале как-никак.
— Так ты сестричка? — отчего-то обрадовался Василий Лукин.
— То и оно, — подтвердила Катя.
— И все-таки спешить приходится, сестричка.
— Так счастливого вам пути.
— Знакомитесь, молодежь? — услышал Лукин голос дяди Пети. Лукин и не заметил, как он подошел к ним.
— Знакомимся.
— А девочка вторые сутки изводится, попутки какой-нибудь ожидая. Ну, а ты как решил, Вася?
— Да на своих двоих, дядя Петя. А ты-то, Катя, ловка ли ходить?
— Да вроде не разучилась.
— И куда тебе?
— В Столбики ей, — ответил дядя Петя. — Мать у нее там.
— Столбики — это пятьдесят пять, я думаю?
— И никак не менее. Вам вместе до Уткова, это, выходит, тридцать, а там разойдетесь в разные стороны. Ты возьми ее с собой, Вася.
— Да возьму, пожалуй. Веселее топать вдвоем.
— Ну и договорились. А теперь и перекусите на дорожку, что Мотя подкинет.
Тетя Мотя поставила на стол сковороду с картошкой и золотистой жареной рыбой.
— Давно, поди, не едал, солдат, домашнего харча, — сказал дядя Петя, подбородком поведя на сковороду. — Чего-чего, а картошки с рыбой у нас хватает. Что и спасает. И лес под боком.
Потом Лукин и Катя поблагодарили дядю Петю за прием и собрались в путь дальний. Лукин забросил мешок за одно плечо, гармонику за другое и спустился было с крыльца, но подумал вдруг, что нужно дяде Пете и тете Моте за прием такой слово какое-либо доброе обозначить.
— А дайте, я что-нибудь эдакое изображу вам на гармонике своей. На дорожку, как водится.
Он открыл футляр, достал гармонику, ласково погладил кнопки — вот это и есть подруга верная и даже спасительница в тяжелые годы — и, бегло бросив пальцы, спросил:
— А что бы такое послушать вы хотели?
— Так ведь это, Вася, от того зависит, что умеешь ты, — заметил дядя Петя.
— А я, по правде сказать, все умею. Это если для точности. Такой это инструмент ловкий.
— Ну так дай душе веселье. Или вот что лучше — вальс сыграй какой-нибудь.
— Можно и вальс. — Лукин заиграл «Дунайские волны».
Уж сколько раз наблюдал он картину эту: малознакомые люди, добродушно улыбаясь, ждут, что вот сейчас белобрысый этот гармонист начнет мехи рвать злобно, мелодию же можно будет разобрать лишь при догадке большой. Да и то, братец, спасибо тебе, что хоть какие звуки извлекаешь ты из ящика этого, пойми, что любой звук на гармонике лучше беззвучия и тишины многолетней. И вот на тебе, услышат, как ловко поведет он мелодию, да как гладко и плавно, и ведь душу вкладывает, и уже удивление сквозное на лицах, уже и восхищение даже — ну и парень, да кто ж это подумать мог, ничего-то в нем приметного не имеется, — а видел, друзья, я Дунай голубой, занесен был туда я солдатской судьбой, ах да что там, ведь не разогнался еще Василий Лукин, позабыла на время короткое о потерях его душа, послушать бы вам игру, когда душа эта встрепенется в голосистой печали, когда память заполыхает ярким пламенем.
— Вот так, дядя Петя и тетя Мотя, спасибо вам за прием и баньку и попутчицу Катю, которая, надеюсь, не даст в пути затеряться.
Они пошли по пыльной дороге, с пригорка помахали дому, что дал им приют, и пошли дальше среди жаркой необозримой зелени.
А уже нетерпение какое-то беспокоило душу Лукина, неделю не играл на этом вот инструменте, дорога все дальняя была, да люди попадались незнакомые и суетливые, а неделя разлуки с музыкой — дело невиданное, таких прогонов времени не случалось еще, с Лукиным за всю войну.
Четыре года. Да, как раз четыре года, в августе сорок первого и познакомился Лукин с этой гармоникой.
Ветром, метлой военной повымело к тому времени молодых мужчин. И как только часы отстучали Василию Лукину восемнадцать, позвала и его труба под знамена боевые.
Провожали не так уж шумно и протяжно, как первых из призыва, притомились все в безостановочных проводах, слезы не успевали скопиться, брага не поспевала окрепнуть.
Уже без музыки маршевой, только под слезы материнские.
Матушка, да не убивайтесь вы, что же со мной может случиться, из везучих я, не тронет меня пуля, даже и не оцарапает, так и вы поберегите себя, не сохните по сыновьям преждевременно.
А что, ведь, пожалуй, и все, кто отправлялся в путь тот дальний, уверены были, что они-то сверстаны только из везения и счастья, пуля облетит грудь стороной, да и кто же это осмеливался хоть тайком, хоть ночью бессонной подумать — ох, а ведь я-то полягу, как пить дать полягу.
Здесь, в областном центре, спешно пропустили их через призывную комиссию, и здесь же формировался эшелон. Ждали, когда к нужному времени накопится нужное для отправки эшелона количество людей.
Лукину повезло, он ждал только день, иные же ждали и трое, и пятеро суток.
В вокзале, в садике перед вокзалом на лавках, мешках и чемоданах сидели, спали люди, ожидавшие отправки на фронт.
Площадь перед вокзалом занята была телегами, все время слышались торопливые окрики, ржанье лошадей, дальние посвисты паровозов.
Лукину некуда было приткнуться, он бродил по садику в поисках свободного места, но все было занято, и люди, не связанные еще братством боя, не чувствующие пока близости пролитой крови, не разрешали Лукину присоседиться.
Небо заволокло тучами, собирался накрапывать дождь. Лукин мыкался в поисках места под какой-либо телегой.
Но места не находил.
Под одной старик пил водку с отбывающим сыном, и Лукин не осмелился мешать последним напутствиям, под другой муж прощался с женой и, повернув к Лукину натужное лицо, коротко попросил: «Пошел, парень!», под третьей спала целая семья — муж, жена, двое детей, и уж он думал, что во всю ночь никуда он не прибьется, как из-под телеги его окликнули:
— Что ищешь, парень?
— Места спокойного.
— Дело напрасное, парень.
— Так хоть укрыться от дождя. — И Лукин указал лицом на небо, где торопливо собирался дождь.
— Это другое дело. Тогда иди сюда.
Лукин забрался под телегу. Там уже лежали двое — пожилой, лет сорока, окликавший его человек, и пятнадцатилетний сын этого человека.
— Сена подстели. А под голову мешок положи. Только постой, я уберу ящичек вот этот.
— А что это в ящике?
— Так ведь гармоника.
— А разве на веселье едем?
— А хоть на веселье, хоть на печаль. Гармоника нигде не подкачает.
Вот тогда, четыре года назад, и увидел впервые Лукин эту гармонику, тогда и познакохмился с Андреем Павловичем Бойковым, верным своим другом.
А утром, когда начали гаснуть луна и молочные звезды, подали эшелон и объявили первое построение. И когда оркестр заиграл марш, дали команду на последнее прощание, и вот тогда, слыша надрывные вопли жен и детей, покуда не вдов и не сирот, видя исхлестанные близкой разлукой лица и последние перед разрывом судорожные поцелуи, Лукин впервые подумал, что ведь, пожалуй, кто-либо из стоящих перед вагоном и не придет домой, это была внезапно кольнувшая холодом сердце догадка.
И когда эшелон тронулся, Лукин вздохнул облегченно, разлука рвет любое сердце, даже и самое молодое, и ну их, печали преждевременные, и что загадывать наперед дела такие.
А в вагоне люди уж знакомились друг с другом, чтоб смягчить горькую разлуку, влагу по стаканам разливали, Лукин сел на нижние нары и увидел, что сидит он подле той гармоники, что лежала у его головы под телегой, и потянулся к ней, — а не тянись, оставь в покое, может, это судьбы твоей перст голый, может, ты лишний труд задашь своей душе и сердцу, — но потянулся, раскрыл футляр и взял гармонику в руки.
Тут и хозяин гармоники подошел, Андрей Павлович Бойков.
Лукин спросил глазами, может, он зря взял чужую вещицу, и тогда просит извинить его великодушно.
— Ничего, ничего, Вася, играй, если играть умеешь.
— Так ведь не умею.
— А держишь вроде правильно.
— Ну, возился несколько раз.
— А какая гармоника была?
— Не знаю. В наших-то местах. «Черепашка», должно быть.
— Ну, этот инструмент посложнее. А ты подвинься. Давай попробуем. — Андрей Павлович набрал «Во саду ли, в огороде». — Повтори.
Дело было нехитрое, и, хоть держал такую гармонику Лукин впервые, он сразу повторил.
— Хорошо. А ну на вот это. — И Андрей Павлович набрал начало «Полянки».
Лукин сразу повторил.
— Да ты, я погляжу, молодец, Вася. Да в тебе, должно быть, есть что-нибудь. Слух, что ли. А может, и поболее того. А ну вовсе посложнее. — И Андрей Павлович набрал незнакомую песенку, но и ее Лукин сразу повторил.
— Вася, а ведь ты будешь играть хорошо, вот мое слово. Если время у нас будет, я подучу тебя.
— Это бы хорошо. Да только вам-то интерес какой?
— Так я же учитель, Вася. Вот мне и интересно.
— И чему же вы такому учите?
— А всему. У нас школа начальная, так я учу и грамоте, и счету, и музыке, выходит.
— Ты бы сыграл что-нибудь, отец, — попросил Андрея Павловича кто-то, — может, хватит пристреливаться.
— Это можно, — сразу согласился Андрей Павлович. — А что бы такое сыграть?
— А хоть бы «Катюшу».
Андрей Павлович заиграл, и Лукин ахнул — ну что это за звук у гармоники, да он такого никогда и не слышал, и сразу, безоглядно влюбился в инструмент этот, знал, если ему повезет и он подольше побудет с Андреем Павловичем, обязательно выучится играть, ну хоть плохонько, хоть только для себя одного, чтоб только было чем утешиться на случай одиночества.
И Андрей Павлович, видя такое рвение Лукина, терпеливо объяснял, как лучше играть на гармонике, тем более что это помогало ему коротать неблизкий путь и отвлекало от тоски по семье.
— Ты мягче, Вася, ты не рви, не форсируй. Ты меня переплюнешь скорехонько, в том и сомнений быть не может, но только ты помягче. Вот представь ты себе ясно, как клавиша эта соединяется с клапаном, ты нажмешь клавишу, клапан поднимется, и откроется отверстие в маленькую камеру это городушка, — и ты себе ее представь, а также сообрази, что струя воздуха будет колебать нужный язычок. Вот тут-то, Вася, и случится чудо — появится чистый звук. Тот именно, который тебе нужен. В этом вся хитрость — чтоб появился именно тот звук, который нужен. И когда все звуки, которые ты хочешь получить, выйдут чистыми и не будет ни одной оплошности, ты будешь играть всех лучше на свете на этой вот гармонике. Лучше чем я, это бесспорно. А я играю сносно. Но лучше я играть уже не буду. С тобой же — ничего пока неизвестно. А кто знает — может, из тебя выйдет что-нибудь особенное, чего я представить не могу. Но для того, Вася, ты должен понимать, каково этому язычку трепетать от неверной струи воздуха.
А ведь повезло: Лукин больше не расставался с Андреем Павловичем, и он учился играть в школе, где два месяца из них готовили связистов, и за это время, хоть поверить в это трудно, Лукин учеником быть перестал, что признавал и Андрей Павлович, он играл всюду и при первой возможности — в казарме, в землянке, в блиндаже. Он играл не потому, что его просили — это само собой, его просили всегда, и вскоре он стал своего рода знаменитостью, про взвод связи так и говорили: «Это там, где парень лихо на гармошке играет», — но главным образом играл потому, что так уж душа его была расположена к игре.
То есть он играл бы беспрерывно, и это была бы жизнь замечательная, лучше и представить себе невозможно, но приходилось отрываться на еду и сон, наряды и караул, не говоря о том уже, что ему велели сюда идти не для игры на гармонике, а чтоб обеспечивать связью штаб, дивизии.
Дело какое: месяца, что ли, через два Лукин мог наиграть любую мелодию, если хоть раз слышал ее. И наиграть сразу, без предварительной натаски и прогонки.
А через полгода почувствовал Лукин, что душа его полностью слита с гармоникой и все, что чувствует Лукин, играет и гармоника.
Спору нет, Андрея Павловича тоже солдаты любили, но больше просили поиграть, когда хотели попеть, для сопровождения, что ли. А вот когда играл Лукин, то люди не пели, потому что им больше хотелось послушать его, чем самих себя.
И когда Андрей Павлович говорил, что у его ученика есть большие способности к игре, то Лукин твердо знал, что это правда.
Потому что у каждого человека какие-нибудь способности быть должны, вот только нужно точно, словно бы в десятку, попасть в них. Вот до войны Лукин плотничал, но никто не говорил, плотник и плотник, ничем других не лучше. Так и на войне, во взводе связи, — солдат и солдат, связист и связист, что надо, все сделает, спору нет, на таких война и держалась, но ведь какие связисты были у них во взводе, Лукин им в подметки не годился, и это ясно, что у них способности к этому делу были. А у Лукина — нет.
Музыка же — это совсем другое дело.
Потому что музыка понимание давала: что есть какое-то назначение и у него, у Лукина. Не на эти, разумеется, кровопролитные годы, тут все понятно — труба позвала, земля защиты требует, ветер войны произвел великие смещения судеб, — но есть назначение у Лукина на всю жизнь собственную. Тут в нем было понимание, что так, как сыграет Лукин, ни один другой человек на этой гармонике не сыграет.
Потому-то и жило в нем убеждение, что ежели что-нибудь понимает его голова либо чувствует душа, то это понимание он всегда сумеет объяснить людям, которые слушают его.
Лукин и Катя шли и шли по пыльной дороге, шли неторопливо, потому что путь предстоял неблизкий, несколько раз отдыхали, а когда жара начала спадать, перекусили в молодом березняке.
Лукин узнал, что Катя уехала от матери за год до войны. Жила у тетки — это другой город и область неблизкая, и вот за пять лет впервые идет домой — отпусков по военному времени не давали, и это понятно каждому. Три последних года она служила в большом госпитале для тяжелораненых, и Лукин понял, что и Катя хлебнула военного лиха.
— Ну ничего, теперь и отдохнуть можно, — сказал Лукин. — Заслужили, верно ведь?
— Верно.
Вдали синела полоса низкорослого леса, и Лукин знал, что у леса, за спуском, лежит Утково.
Солнце садилось, оно то пряталось в легких облаках, пропитывая их малиновым светом, словно бы кровь пропитывает бинты, то сияло над лугом.
Утково лежало под горой. Прежде оно казалось больше, а сейчас его можно было увидеть в один охват глаза, и оно умещалось на ладони.
Все было тихо. Солнце скользило по верхушкам тополей и осин.
В ближнем доме забрехала собака, беззлобно, даже равнодушно, скорее только для того, чтоб оправдать собственное существование.
У распахнутого окна первого дома сидела старуха в белом платке. Когда Лукин и Катя поравнялись с окном, старуха что-то коротко сказала через плечо, и тотчас же в окно выглянули женщина помоложе и мальчик лет шести. Они сразу отпрянули от окна и вскоре вышли на улицу. Они смотрели Лукину в спину. Он понимал: в каждом доме ждут солдата, но вот в их дом он не зашел. Значит, к соседям. Неясно только, к кому именно.
Так молча и напряженно вглядывались в лицо Лукина из каждого дома, но поняв, что идет он не к ним, выходили на улицу и тянулись метрах в двадцати позади него.
У сельсовета лежали бревна. Лукин и Катя остановились. Он снял мешок и гармонику и сел на бревно, потому что не мог идти далее под немыми ждущими взглядами. У своих домов стояли старики. Лукина окружили женщины и дети. Молчание нарушил белобрысый мальчик из первого дома.
— Дяденька, а вы чей?
— Так ведь Матвей Трофимов мой крестный. Вот только что-то его я не вижу.
— Помер Матвей, — был ему ответ. — Год почти, как помер.
— Что и жаль, — огорченно покачал головой Лукин. — А я иду в Глухово. Я Василий Лукин, дело какое.
— Павла Лукина сын, что ли? — спросил кто-то.
— Точно, — подтвердил Лукин.
И общий вздох: вот, значит, кому повезло, и деревенька-то маленькая, десять домов всего, а повезло. И вдруг взрыв — свой же человек, что это за расстояние тридцать километров. Павла Лукина сын, и плотно окружили Лукина. Старики оторвались от калиток и подтянулись ближе к Лукину. И расспросы пошли: а что, сынок, не встречал ли ты на дальних дорогах Васю Хренова или Петю Полякова, а вспомни, напрягись, пожалуйста, Федьку Глухова не видел ли, да как же это можно было не встретиться, ведь на одной войне никак, да он рыжий такой и лохматый, и усищи у него вот такие, в палец, тогда хоть Степу Холкова вспомни, сам тощий, руки долгие, да видел ты его, вот только забыл.
Лукин хотел бы объяснить, что война большая, но его не могли слышать, потому что стоял сплошной крик.
— Нет, не помню таких, — огорчил он всех. — Я вот что, я лучше сейчас сыграю.
Он взял в руки гармонику, чуть прикрыл глаза, ухо приложил к мехам, гармоника еше молчала, но Лукин уже прислушивался к ней, как к сердцу живому.
Знал бесповоротно: сегодня будет один из вечеров его лучшей игры. А, может, и единственный вечер самой лучшей игры. Ему есть что рассказать о себе и о детях этих людей, где они были, и как свою и чужую кровушку проливали, и как прокатилось это лихолетье по душам людей.
Жгло его уже что-то под дыхалом, и это вернейший признак того, что следует играть незамедлительно, иначе с жжением этим не справиться.
И Лукин заиграл вальс, который все знали и помнили, — то был вальс «На сопках Маньчжурии».
Лукин чувствовал, что лицо его побледнело и осунулось от волнения, он даже рот приоткрыл, чтоб легче было дышать, лишь иногда встряхивал головой — убрать рассыпавшиеся по лицу волосы.
Ах, плачет, плачет мать родная, плачет молодая жена — слезы, вот худо, все пролились за войну — плачут все, как один человек — злую судьбу кляня.
Он кончил играть и поднял голову: ну как он играл, ничего себе, верно ведь, утешил ли хоть чем-либо Василий Лукин? Ответом ему было долгое молчание.
Вдруг женщины, словно по команде, начали покидать круг и спешить к своим домам, так что в короткое время рядом с Лукиным остались лишь мальчишки, несколько стариков да Катя. Она печально смотрела на него, и он спросил:
— Что, невесело тебе?
— Так ведь не с чего веселиться.
— А что плакать-то?
— Так ведь ты первый, кто сюда вернулся. А уже август.
— Все так, конечно. Вот я сейчас сыграю тебе песенку, месяц назад слышал.
Он заиграл «Цветочницу Анюту», это где и весной и зимой аромат полевой, он играл, но ни ему, ни ей песенка веселья не давала, и потому, что Лукин ясно понимал судьбу девушки Кати в этой войне, и чему же здесь веселиться, если в пятнадцать лет начинаешь голодать, а работаешь без отдыха, а ведь это, заметить нужно, годы юного девичества, годы, прямо скажем, невозвратные — ох ты же и тошнехонько — чем же это наверстывать потом годы, отсквозившие навылет, — влагой ли терпкой, любовью ли мимолетной — чем же это душу смягчить?
— Ничего, Катя, как-нибудь уж. Кому это сейчас сладко?
— Если только этим утешиться!
— Да ничего, как-нибудь пробьемся, ведь мы же молодые пока с тобой.
Лукин понял, почему разошлись женщины: в сумерках, под зажегшимся звездами небосводом, начинался пир за возвращение в родные места солдата. Несли кто что мог: вареную картошку и капусту, и грибы, и кто-то принес бидон с брагой, — а ничего не жаль в вечер такой, пир, выходит, на весь мир, из нашей ли деревни, из чужой ли, одно слово — человек с победой пришел. Бревна чуть раскатили, принесли доски и положили их на бревна так, что получился длинный стол. Неструганы доски, неровен стол, но беда ли это, если рядом солдат сидит, руки у него целы, и голова на должном месте, и он сидит под августовской яркой своей звездой, что полыхает вполнеба. Это пир — первый не с горя, но с радости, да, вот именно пир за возвращение — это, выходит, и к нам пришла победа, да она молодая, в сапогах кирзовых, с гармоникой на груди.
Так брагу по кружкам, и молча, всякий знает, за что пригубить это зелье — да вот за победу и за дальнейшее веселое возвращение.
Лукин заиграл «Вот мчится тройка почтовая», он хотел, чтобы все попели согласно, но петь отчего-то никто не стал, потому что всем было желательно слушать не себя и не соседей, но вот его, солдата, принесшего сюда победу.
Он играл, Лукин, и знал, что не только слушатели понимают все, что он думает, но и он сам понимает все, что думают люди, слушающие его музыку.
Он играл песню за песней, знал: ни ему, ни людям за столом передышка не нужна, и он не щадил свою душу, гнал ее по воспоминаниям и гибели, загонял в кровь, в мыло, ничуть не заботясь, что же это с ней будет, когда выйдет дозволенный отдых.
А когда заиграл «Бьется в тесной печурке огонь», ясно вспомнил.
…Стоит морозный день. Снег блестит на солнце и слепит глаза. Ели и сугробы отбрасывают голубые тени, и тени густы и маслянисты, они глубоко пропитывают снег, пытаясь отпечататься в нем до самой весны.
Вспомнил — как забудешь — ему и Андрею Павловичу нужно срочно восстановить связь.
— Тяни, Андрей Павлович! — кричит Лукин, забравшись на дерево. Сам все время помнит, что им отпущено самое малое время — дело нешуточное, связь со штабом армии перед наступлением.
Андрей Павлович бежит, вернее, он пытается бежать, но ему мешает глубокий снег, Андрей Павлович проваливается, потом ложится на живот, подтягивает ногу, пытается встать и вновь проваливается.
— Да быстрее же, — поторапливает Лукин, кляня и спешку, и глубокий снег, и нерасторопность друга.
А тот и так спешит, тянет катушку, пытается ползти, но проваливается и хватает снег руками.
Поворачивается к Лукину и улыбается ему — сейчас, сейчас все будет в порядке.
Уже выбрался на место потверже, встал в полный рост, чуть качнулся, как бы рассуждая, вперед ли двигаться или малость отдохнуть, и решил остаться на месте и сполз на корточки, так отдохнул немного, потом опустился на локти и скатился на бок.
— Андрей Павлович, поторопитесь, — напоминает о себе Лукин: ему предстоит сложная работа и нельзя давать рукам застынуть.
Однако Андрей Павлович не отзывается.
— Да успеем же отоспаться! — кричит Лукин, но Андрей Павлович все не отзывается.
— Да подъем же! — сердится Василий Лукин и торопливо спускается с дерева.
— Да Андрей Павлович, да будет уже шутить, — но ответа ему нет, и он спешит к Андрею Павловичу, проваливается и всякий раз, когда ноги уходят в снег, в предчувствии беды глубоко ахает.
— Да что же это такое, Андрей Павлович, — жалобно, чуть не всхлипывая, начинает Лукин, но осекается: Андрей Павлович улыбается, но улыбка эта неподвижная, застывшая, а лицо белое, как и вся окружающая земля, и когда Лукин поднимает голову Андрея Павловича, то чувствует всю внезапно налившуюся тяжесть тела, особую тяжесть, при которой человек с земли не поднимается.
И сейчас, когда Лукин играл «Землянку», чувство потери было так же остро, как в тот ясный морозный день.
Все длится тот миг: он расстегивает полушубок Андрея Павловича и гимнастерку, рука прикасается к не защищенному одеждой телу, ладонь чутко ждет хоть малого толчка, но толчка нет, и вот эта уверенность Лукина, что дальше и он, Василий Лукин, жить на свете не сможет. Сейчас даже горше было, чем тогда, — прошел страх и растерянность человека, который не знает, что ж ему делать в следующее мгновение — нести ли тело, звать ли подмогу, тянуть ли сначала провод, потому что дело спешное — сейчас была ничем не прикрытая память об утрате друга.
Сейчас душа Лукина и души слушателей были связаны одной крепкой нитью, и куда тянулась его душа — в печаль ли, в горе, — туда покорно следовала и душа каждого из слушателей.
Потому что каждый человек сейчас терял отца, мужа и сына, и потеря эта была так же невыносима, как чи при получении листа похоронного, нет, даже невыносимей, потому что горше всего подробности потери.
Горький этот пир освещался ущербной луной и яркими августовскими звездами, легли долгие тени от домов, деревьев и людей, пала на землю прохлада; согревались кисловато-горькой брагой. Люди не стеснялись слез. Стояли, скрестив руки на груди, слез не вытирая, либо в плаче сидели на бревнах, лица спрятав в ладони. А Лукин ясно сознавал, что сегодня лучшая его игра, свой инструмент он чувствует, как никогда прежде, — каждый язычок, каждую городушку — да сейчас это был уже и не инструмент, но именно душа его неотрывная.
Хоть бы кто слово какое сказал, может, и остановился бы Лукин, но все понимали, что нет слова, равнозначного чуть покачивающемуся плачущему звуку гармоники.
Горько длить непереносимую муку, но разве сиротствовать легче, разве вдовствовать слаще, да что ж это за дело такое повелось, что отцы и деды переживают сынов и внуков, да где ж, ответь хоть кто-нибудь, ребятки наши летают, кто ж это срезал нить, которую сами мы и соткали, смысл был ли какой мальчишке нос утирать и на ноги ставить — ах-ах-ах! — плач общий, повсеместный плач, от одного края моря до другого, от берега и до берега — так колышется в плаче неоглядная, безутешная земля наша.
Так плачь же, плачь, земля, когда ж это душа смирится, когда успокоится?
Да пожалуй, что никогда.
Иной раз Лукин поднимал голову, взглядывал на Катю и, встретившись с ее печальными глазами, приговаривал:
— Вот так-то, Катя.
Он заиграл «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина» — песня эта, забытая было, пронеслась над страной в последний военный год, как плач об одинокой бабьей доле.
И только Лукин подумал, что было бы не худо женщинам малость попеть, как они заголосили песню, да с надсадом, словно только и ждали весь вечер, когда же им дадут в полный голос душу вывернуть, в голос, в голос, истошно, упасть бы на лицо, да так и проплакать век оставшийся, всем, всем горько, всем мыкаться в одиночестве, а потому что нельзя рябине к дубу перебраться, знать ей, сиротине, век одной качаться.
И когда песню допели, Лукин свернул мехи и сказал:
— Все. За вечер всего не выплакать. За жизнь не выплакать — не то что за вечер. А жить, между тем, и дальше как-то следует.
И, положив гармонику в футляр, он встал, давая понять, что нуждается в ночлеге.
Ночлег им предоставили в ближайшем доме, отведя комнату.
В комнате стоял небольшой сундук, большая кровать, а также столик с табуреткой.
— Спать нам в разных местах как бы и неловко, — сказал Лукин Кате, — это же люди подумать про меня могут, да что это за мужик такой странный.
— Да, неловко. Как-нибудь поместимся.
Она села на кровать, а он подошел к ней и рукой потянулся к ее лицу, но Катя коротко попросила:
— Не надо, Вася.
Тогда он постелил на пол шинель, задул лампу, лег против окна головой к стене и вскоре заснул.
А проснулся Лукин от ясного света. Далеко за окном все было голубым, стены комнаты синели, и голубизна, разлившаяся по комнате и до дальних пределов, была такой прозрачной и плотной, что казалась глыбой льда, и его можно было колоть на части.
И в этом прозрачном голубом воздухе Катя у окна расчесывала волосы. Она наклонила голову так, что волосы покорно легли за спину, на лопатки.
Лукин молча, отходя от сна, любовался ею: изгибом ее тела, и как она забрасывает волосы за спину, а что она такая же голубая, как и окружающий ее воздух.
— Катя! — тихо позвал он.
Она обернулась — ждала зова — и улыбнулась ему.
— Катя, подойди ко мне, — попросил Лукин.
И когда она подошла к нему, он чуть потянул к себе ее руку и губами прикоснулся к теплому и чуть влажному сгибу ее локтя.
— Пора чай пить, — сказала Катя и растворилась в голубом воздухе. — Самовар уже готов, — слышен был ее голос из другой комнаты, — хозяйка — ее Маней звать — ушла на работу, а самовар дошел.
Они сидели за столом друг против друга, ели сало, которое Лукин достал из мешка, пили чай. Лукин колол сахар перочинным ножом. Они избегали смотреть друг другу в лицо.
Вдруг установилось между ними то молчание, которое ни с каким иным молчанием не спутаешь, то молчание, когда судьба перстом указывает людям друг на друга.
Лукин поднял на Катю глаза, в тот же миг и она внимательно посмотрела на него. Она ждала, что Лукин заговорит, пошутит и молчание закончится, но Лукин все молчал. Так они и смотрели друг на друга, и казалось, без конца длилось это молчание.
Наконец Катя не выдержала и спросила непослушным, чужим голосом:
— Что, Вася, так смотрите на меня?
— Так ведь и ты смотришь на меня.
— Я смотрю, потому что вы смотрите.
— А я смотрю, потому что мне нравится девушка Катя.
— День всего и знакомы…
— Это немалый срок. На войне люди встречались на несколько часов, а потом в оставшуюся жизнь не забудут друг друга. Не в сроках дело.
— Тогда в чем же?
— А хотя бы в том, что ты мне сразу на сердце упала. И теперь не знаю, как отдирать буду.
Говори он эти слова в шутку, играючи, все было бы легко и весело, но в том и дело, что Лукин уже прошутился, и оттого в горле пересохло. Тогда, чтобы справиться с волнением, он вышел на крыльцо и там долго сидел, привыкая к зною очередного летнего дня.
Ну что это за клюква такая получается, несправедливость в жизни выходит сквозная, война-то отбухала, ничего, кроме дождя и снега, сыпаться не может, и, следовательно, настали времена, за которые люди и дрались, времена, когда люди не расстаются, но лишь встречаются, и вот на тебе — встретил Катю такую, а через полдня, к вечеру, придется расстаться. Потому что у нее свои дела, а у него — свои. Иди они сейчас в одну деревню либо живи в одном городе — дело другое. Так нет же — города их будущие разделены довольно немалым пространством. Вот такая выклеивалась сейчас несправедливость.
И тогда он поднялся с крыльца, вошел в дом и сказал решительно, как говорит человек, которому нечего терять:
— Дело такое, Катя. Мы ведь вечером расстанемся. А между тем можно расстаться и утром. И чтоб скоротать вечер и ночь, можно соорудить в лесу малый костерок да и тихонько посидеть у него. Тем более что я за войну тихо, без всякого дела у костра ни разу не сиживал. Да и ты, я так думаю, не всякий вечер костерок жгла. Так вот, как ты на дело такое смотришь?
— Да, Вася, сегодня нам расставаться не следует.
И когда пространства размылись и стали смутными, когда на белесом небе из ничего, из пустоты, начали появляться блеклые звезды и небо зазеленело, когда оживилась предвечерняя лесная жизнь и поначалу скрытно, а затем откровенно задвигалось, зашуршало, загукало, в час этот предвечерний разожгли они костерок и сели подле него.
Здесь от ключа протекал ручеек, росли сосны, кусты рябины, стоял старый дуб со скрюченными, болезненными суставами.
Слух уже привык к тишине леса и среди вечернего оживления различал отдельные голоса. Хозяева же леса, убедившись, что пришельцы заняты друг другом и, следовательно, им не угроза, продолжали свою привычную жизнь.
Лукин и Катя ели то, что на прощание дала Лукину армия: банка свиной тушенки, сало с хлебом, сварили в котелке чай и пили его — Катя из кружки, Лукин прямо из котелка. Покончив с ужином, сидели молча у костра, глядя неотрывно в огонь.
— Ты подвинься ко мне, Катя, — сказал Лукин. — Что порознь-то сидеть?
Она села подле него на шинель. Пламя костра выхватывало из тьмы дуб и две юные рябины, даль же захлестывалась черной пропастью.
Влюбленно, влажно смотрела Катя в глаза Лукина, и так сидели они долго, утратив счет времени, и он гладил ее шею, щеки, волосы — ну как ты прекрасна, и спасибо случайности, что свела нас в один и тот же миг в одной малой точке земли, так и плыли они безоглядно, дрожа улыбками, взглядами влюбленными, плыли в прощанье, в разлуку, в забвенье.
Он наклонился и коснулся губами ее губ. В нем не было нетерпения, не было суеты, его вполне устраивало сейчас продление этого мига соединившихся губ, неторопливого объятия.
Потом Лукин, заведя руки за голову, слушал ночную жизнь леса. Гукало, постанывало в черных зарослях, догорал костер, посылая ржавые искры к дальним верхушкам сосен. Перекликались две маленькие незнакомые птахи, и вместе с искрами летели к небу их малиновые голоса.
Над соснами лежал бескрайний свод неба. Был тот час ночи, когда на травы падает роса. Чуть вращаясь, переливались, зыбились звезды.
Небо было далеко, а земля близко, и Лукин чувствовал, как она остывает под ним, подниматься с земли он не хотел, так как знал, что не может человек замерзнуть и заболеть, когда счастлив.
Но вот ведь какая беда — счастье когда-либо испарится, и Лукину было так жалко расставаться с сиюминутным счастьем, что он глубоко вздохнул.
Вернее, он хотел вздохнуть, но что-то случилось с горлом — так что вышел не вздох, а долгий жалобный всхлип.
— Что с тобой, Вася? — спросила Катя.
— Ничего. Даже хорошо. Ведь ты же рядом. Это я счастье боюсь спугнуть.
Однако что-то сдвинулось в его душе, словно бы незнакомая птица затронула черным крылом его пугливое текучее счастье, и оно стало испаряться, и на смену ему пришла жалость к себе, что вот уже скоро счастье окончательно покинет его.
И снова вспомнил: Андрей Павлович пытается бежать по глубокому снегу, проваливается, ложится на живот, затем встает в полный рост и, перед тем как скатиться в снег, улыбается ему, Лукину.
Сейчас Лукин больше всего жалел, что Андрей Павлович и другие не дожившие до победы солдаты не могут слышать ночную жизнь леса, гуканье сонных птиц, видеть глубокий небосвод — жалость была такова, что он заплакал бы, останься в нем слезы от войны.
Он лежал на спине, еще пытаясь удержать в равновесии свод неба и верхушки сосен, но качнулся сосуд, до краев наполненный нынешним счастьем и жалостью к себе, что больше подобного счастья он не испытает, и жалостью к отлетевшим, скошенным друзьям, которые никакого — ни большого, ни малого — счастья не узнают более, и тогда Лукин, не в силах сдерживаться, рывком повернулся, и зарыдал.
То были сухие рыдания, которые не облегчают душу. Знал: он не смог вынести тишины, любви и счастья послевоенного мира, потому что назначение его души — терять и быть битой, а вовсе не приобретать и быть счастливой. Сейчас ему было стыдно — не перед Катей — она свой, близкий человек, — но перед самим собой: никогда нельзя распускать душу, всегда следует держать ее в жесткой упряжке, а распустил, и на счастье потянула — ох-хо! — как дальше жить с отбитой, сиротской душой.
— Да что с тобой, Васенька? — испуганно спрашивала его Катя, склоняясь над ним.
— Да видишь, какое дело получилось.
— Ты только повернись ко мне, тебе и легче будет. Лицо только подними.
Но он не мог оторвать лица от рукава шинели, жесткой материей тер глаза, чтоб им стало больно, и тогда Катя с силой потянула его за плечи, оторвала его лицо от шинели, и лицо залило ее дыхание, целовала его в лоб, в щеки, в глаза, да Вася же, Василек, да успокойся, я здесь, и не оставлю тебя в беде, вот если в радости ты будешь и нужна тебе не стану — дело другое, в беде же — никогда.
Покойная матушка вот так утешала его в детстве: мальчик мой, сыночек, да ведь он ножку занозил, ну беда, а дай подую, легче станет, у кошки боли, у собачки боли — у Васятки заживи, вот оно что-то уже и легче.
— Все, Катя, все, — сказал Лукин. — Ты меня не осуждай. Думаю, не со мной одним в это лето такие вензеля выписываются. — Он рывком сел, обхватил руками колени и, чуть раскачиваясь, говорил горько:
— Да что ж такое с нами сталось. Да что ж за земля у нас теперь такая будет. Ведь каждый, кто уцелел, или сам убивал, или его убить хотели. Каждый уцелел лишь чудом, и то только потому, что должен ведь хоть кто-то уцелеть после любой войны. Вот тоже и я. Два года назад шел по полянке паренек, он малинку собирал. Пилоточка у него в руке. Он наклонялся, находил ягодку и отправлял ее в рот. А нам как раз по этой самой полянке связь нужно было тянуть. И я так это, не очень и прицеливаясь, стрельнул. Паренек постоял, к лесу для чего-то поприслушивался, еще раз наклонился за ягодкой да и клюнул землю.
— Но ведь если б не ты его, так он тебя. Так я войну понимаю.
— Это все верно. Вот только я думаю иной раз, разве же я для того родился, чтоб тянуть провод в глубоком снегу да салют давать прощальный? А ведь я, ты заметь, еще не вполне старый мужчина. Я же в восемнадцать лет ушел. Вот я о чем. И что же я такого интересного успел повидать? Я же пожить еще не успел, а душу свою уже загубил, вот дело какое. Как же я буду жить без друзей? А их нет. Ведь мне до вчерашнего дня одно только и нужно было: играть бы только на своей гармонике. Вот теперь тебя встретил. Так вот играть бы мне на гармонике да с тобой вовек не разлучаться. Но это уже все, ты понимаешь.
— Но ведь не все и сразу. Потерпеть ведь тоже надо? Думаешь, здесь легче было? Ты же видел вчера женщин и стариков. Им тоже несладко без мужей и сыновей. А я? Мне ведь тоже не так много лет — девятнадцать, а я за четыре года ни разу на танцы не сходила. Нам всем казалось — жизнь пройдет, мы состаримся не повеселившись. Да это при недоеданиях и дежурствах без всякого счета. А разве думала я вчера, что буду сидеть с тобой у костра? Но ведь вот сижу.
— Ах ты, Катя-Катюша, вот и все, я отошел. Права ты, что говорить, раз уж, дело такое перетерпели, так теперь уж что! Только вот ты от меня не отделяйся.
— Да куда ж я от тебя отделюсь?
Он обнял ее, и так, обнявшись неразрывно, согревая друг друга дыханием, заснули они до раннего утра.
Проснулся Лукин от того, что его ослепило солнце. Звезды погасли, и дотаивали последние остатки луны. Деревья, трава и каждый листок были промыты утренней росой, все влажно и чисто блестело, дым от костра растаял не вполне, и столбы его ярко светились между стволами деревьев.
Чтоб не разбудить Катю, Лукин осторожно сел. По листу папоротника ползла божья коровка, и Лукин посадил ее на ладонь, терпеливо ожидая, когда ж она улетит на небо. Но она улетать не спешила, и тогда Лукин подул на нее, и раз и другой вздрогнули чуткие крылья, и, присев на ножки, божья коровка плавно оттолкнула бугристую поверхность ладони, чуть зависла в воздухе и полетела по своим делам. Так лети, лети свободно!
Катя спала, и Василий Лукин провел травинкой по ее щеке, тогда Катя засмеялась, и слышны были слабые колокольчики ее смеха, Лукин поцеловал ее, и Катя, все не просыпаясь, обняла его, чтоб надольше задержать сон.
— Расставаться нам вроде не следует, — сказал Василий Лукин.
— Да, вроде не следует, — согласилась Катя.
— Так надо как-нибудь сговориться.
— Давай встретимся через три дня у дяди Пети на пристани.
— Значит, через три дня.
Они шли по дороге, перед ними стоял холм, а за холмом, знал Лукин, дорога раздваивается, и вот им, Лукину и Кате, предстоит расстаться.
А вот расставаться как раз не надо бы, потому что случись Кате потеряться или если не удастся двум песчинкам вновь столкнуться в безоглядных пространствах, то пережить такую потерю Лукину будет вот как тяжело — не может одному человеку так повезти, чтобы он дважды встретил такую вот Катерину.
И тогда жалобно, как перед потерей, Лукин взглянул на Катю, и в тот же миг она взглянула на него, в ее глазах также было нежелание потеряться, и Лукин одной рукой обнял ее за плечи, в другую руку взял ее теплые ладони, и они шли, вернее сказать, плыли, не отводя друг от друга глаз.
Их зрение было слепо к окружающему миру, Лукин видел лишь ее истомленный и влажный взгляд, и чуть вздрагивающие ноздри, и приоткрытый для долгого поцелуя рот.
Как-то удалось им поймать согласный ход и плыть не спотыкаясь. Все не отводя глаз, свернули они с дороги и пошли по плавному взлету холма. Сознание их померкло, в нем оставалось лишь желание продлить любовью время перед разлукой.
По дороге мог идти или ехать случайный человек, и он мог увидеть их с дороги, но сейчас все померкло, оставалась лишь одна страсть не разлучаться.
Да, не разлучаться, так обними же крепче, душа ненаглядная, и еще крепче, чтоб никто нас разорвать уже не смог, теперь вместе, хоть на жизнь, хоть и на смерть, и лицо твое всегда будет перед моими глазами, как эта белая ромашка. Нам непременно повезет и выпадет долгое плаванье, нет, нет такой силы, которая разлучила бы теперь людей против их воли, и нет ничего страшнее разлуки после плаванья такого.
…В деревню Панино Лукин вошел в девять часов утра. До дома оставалось пять километров. В Панине взрослых видно не было — все на работе. На улице возились мальчишки. Увидев Лукина, они бросились к нему.
— А вы чей, дядя? — спросил самый смелый из них, белобрысый мальчик лет восьми, в длинных, ниже колен трусах.
— А кто из вас Степа Лукин?
— Так это ж я, — ответил бойкий мальчуган.
— А отец твой где, Степа?
— Где ему быть? Так ведь на работе.
— А ты бы его кликнул. Скажи, что племянник его прибыл с фронта, брат твой двоюродный, выходит.
Степа победно посмотрел на мальчишек и тут же испарился.
А Лукин пошел к дому дяди и сел на крыльцо.
Вскоре пришел дядя Федя.
— Здорово, племяш, — радостно загудел он.
— Здоров, дядяня.
Дядя Федя постарел за войну, пустой рукав его рубашки был заправлен под поясок.
Дядя Федя обнял племянника здоровой рукой, а тот приподнял, обнимая, своего дядьку, вовсе уж близкого человека.
— И где же это тебя? — спросил Лукин.
— Да под Варшавой. За год помаленьку привыкаю.
Они прошли в дом.
— Постарели мы за войну, а, Василек? Ты вон тоже матерый мужчина стал. Да и я успел намаяться. Хорошо, хоть голова и ноги целы, а с рукой можно к жизни приспособиться, — говорил дядя Федя, ставя на стол двухлитровую бутыль с зеленоватой влагой, холодную вареную картошку и соль. — Работу взял прежнюю — бригадирствую в полеводстве, тоже надо хозяйство поднимать. Поголодали без нас бабы, жизнь как-либо порезвее налаживать надо. Мы вот сейчас отметим твое возвращение, а в обед Настя прибежит и покормит нас.
— Да у меня времени-то нет ждать. Уж лучше вы вечером к нам приходите, или же мы к вам притопаем.
Дядя Федя удивленно посмотрел на него, а Лукин насторожился — не случилось ли чего дома.
— Как отец? Здоров ли?
— Да вот весной заболел, да, — начал дядя Федя и осекся. — Ну уж я тебе скажу, плотник он, другого нет такого, пятнадцать лет назад вот этот дом отгрохал, и ведь красавец дом. Ты как считаешь?
— Да ты, дядяня, что-то крутишь, — встревожился Лукин. — И это, надо сказать, на тебя непохоже.
— Так ведь то и дело, Вася, что как заболел, так и не поправился, — тяжело выдохнул дядя.
— Как это — не поправился?
— Да так, Вася. Как все люди. Месяц назад, словом говоря, положили его рядом с твоей матушкой. Такую уж новость я тебе преподношу. А он, как ты знаешь, брат мой старший и любимый.
Лукин неподвижно сидел у стола. Он замер, словно бы окаменел.
— Так и не сумел смириться с гибелью сына. Надломилось, видно, в нем что-то. Как похоронку на Петю получил, так начал вянуть и пропадать.
— На Федора, — поправил его Лукин.
— Что — на Федора? — не понял дядя.
— На Федора похоронку, — терпеливо объяснил Лукин.
— Так то ж давно, еще в сорок первом. А это вот этой весной. Уже в Германии, выходит.
— Значит, и Петя, — покачал смиренно головой Лукин.
— А ты не знал?
— Нет, не знал.
— Значит, вот какие новости я тебе преподнес.
— Зачем же я шел сюда?
— Да вот все узнать, выходит. Знать нужно все, Вася. Ну, и отцу с матерью поклониться. И дальше, выходит, жить.
— Как это? Без друзей, без родных? Отец, мать, братья, как без них?
— Ах, Васенька, да что же делать? Ведь вся земля в гибелях. Да ведь как-то следует жить. Уж кто-кто, а я, сам видишь, своего нахлебался. А есть сын Степка. И другие детки бегают, чьи отцы, видать, не придут. Как ты это представляешь? Их кто-либо поднимать должен? То-то ж. Вот мы с тобой для этого и уцелели.
— Я, дядя, пойду, пожалуй, к себе. Да возьму-ка я у тебя эту бутыль, да картошки малость, да и посижу в одиночестве.
— Давай, коли так, — не стал удерживать его дядя Федя. — Может, это и правильно. А я тебя навещу как-нибудь.
— У меня тут, видишь, селедка, так не возьмешь ли?
— Ну, давай, раз дело такое.
Лукин поставил в свой мешок бутыль и положил несколько картофелин.
— Ну бывай, дядя.
— Бывай, Вася. Иди домой, солдат. Живи.
И Лукин пошел к своей деревне. Как-то уж дошел до своего дома. Он стоял на краю деревни, у самого леса, так что никому на глаза показываться не пришлось.
Ставни были закрыты, дверь подперта колышком. Лукин отбросил ногой колышек и вошел в дом.
В доме стоял полумрак, но Лукин не стал открывать ставни, — свет не режет глаза и, следовательно, будет легче перенести одиночество.
Он достал из мешка бутыль, хлеб, картошку, сало, принес стакан, сел у стола и выпил крепкого зеленого зелья.
Потом вынул гармонику и решил потихоньку попиликать, чтоб хоть как-то привыкнуть к тому, что вот теперь он один на белом свете.
Тихо сыграл себе Лукин «Во поле березонька стояла», хлебнул еще зеленой влаги, увидел вдруг на подоконнике белый сверток, догадался, что в нем, пожалуй, письма его и братьев с фронта, и точно — не ошибся — в свертке были письма и фотографии.
В чуть пробивающемся сквозь ставни свете он разглядывал пожелтевшие старые фотографии и новые, в последние годы присланные с фронта.
Вот в траве под кустом лежат танкисты, улыбается брат Петр, руку несет ко лбу, чтоб убрать волосы, смотрит напряженно в фотоаппарат.
Сейчас Лукин не мог снести этот устремленный на него взгляд, и глаза прикрыл, и голову уронил на мехи, и играл безостановочно, чтоб хоть как-то утешить душу. Где ты сейчас, Петя, ведаешь ли ты, что происходит с твоим братом?
А вот на крылечке сидит мама и тетя Надя, умершая еще до войны, а между ними, надув щеки, сидит он, Лукин, ему лет десять, что ли, он сделал руки калачиком, и мама и тетя тянут к себе каждый из калачиков.
Ты помнишь ли тот приезд тети Нади, она варила во дворе варенье из крыжовника и давала тебе есть пенки и приговаривала: «Ох, глаза завидущие, да не спеши, целый таз варенья, глаза твои завидущие», но ты все-таки объелся вареньем.
Он все помнил, он играл и играл, не зная, сколько времени прошло, укреплял в себе терпенье к утратам зеленой влагой, на короткое время забывался, голову положив на стол, а очнувшись, снова терзал себя музыкой.
Вот мама, отец и старший брат Федор выехали в город, зашли в хорошую фотографию — бумага плотная, внизу вензель, — отец сидит на красивых перилах, ногу на ногу положив, он в новых сапогах, косоворотке, он чему-то таинственно улыбается, у него легкие мешочки под глазами. Брат Федор, в вязаной кофточке, наголо остриженный, стоит вытянув руки по швам, словно б зная, что через пятнадцать лет позовет его труба и не успеет она стихнуть, как сложит он голову и косточки свои где-то под Тихвином. А вот мама стоит, печальная, она положила руку на плечо сына, она старается удержать его, но вряд ли ей это удастся, и она поджала губы, ожидая тревожный зов трубы.
Вот она одна, спиной прислонилась к березе, печальная, уже немолодая, за год, верно, перед войной — белый платочек, на шее бусы.
Мама, что ж это ты не дождалась своих мальчиков, не встретила их у порога? Кто порадуется за них в радости или поплачет в горе, что им радость или удача, если нет тебя? Ах, мамочка, да за что ж обида такая на душу положена?
Лукин не замечал, сменяет ли день ночь, он, конечно, знал, что за окном какие-то события происходят — то полумрак, то мрак полный, — но эта смена времен суток не имела к Лукину ни малейшего отношения.
Словно бы его бросили в темную яму, и он потерял счет времени, минуту ли он рассматривал одну фотографию, час ли, десять ли песен сыграть успел, сто ли, этого сказать Лукин не смог бы, потому что время не имело к нему сейчас ни самого малого касательства.
Зачем ему повезло, что он уцелел, — если положено было, чтоб от их семьи хоть кто-то выжил, то почему он, а не мать, не Федор и Петя, не отец. Сейчас Лукин был недоволен судьбой, потому что не в силах был снести павшее на него одиночество. В самом деле, для чего жить дальше — работать для того только, чтоб одевать и кормить себя, да какой смысл жить, если ни одна душа на свете не обрадуется твоей удаче и не опечалится твоей беде — пустое голое сиротство.
Лукин не знал, сколько времени он просидел за столом — должно быть, немало, если прикончил двухлитровую бутыль и успел несколько раз подремать, уронив голову на стол; он также не знал, сколько времени мог бы сидеть еще, если б с улицы кто-то не отворил ставни и солнечный свет не залил комнату.
Но Лукин не сдался солнечному свету и продолжал терзать гармонику, недовольный тем, что нашелся человек, позаботившийся о нем.
Тогда кто-то громко постучал в дверь, но и тут Лукин не сдался, но постороннее это внимание уже мешало ему.
А человек все стучал, давая понять, что не отстанет, пока его не впустят в дом.
Взбешенный — да неужели одинокий человек не имеет права вести себя как ему хочется, — Лукин зашагал к двери, отбросил крючок, ногой отворил дверь, заранее зная, что человеку, который осмелился помешать ему, не поздоровится.
На крыльце стоял дядя Федя.
— Что? — недовольно спросил Лукин. Его глаза ослепли от яркого солнца.
— Будет уже, Вася.
— Мешаю кому?
— Три дня изводишься.
— Где же это три дня, если только вчера пришел.
— Между тем пошел четвертый день. Ведь всего не выплачешь, и сам знаешь. А люди, между тем, по тебе исплакались.
— А где же это они?
— Под окошками три дня и просидели. А потому что, говорят, никогда такой игры не слышали. Ты бы их пожалел, что ли. Не спали вовсе три дня. Да и того, им ведь тоже несладко.
— Ладно, дядяня, дело это приканчиваю.
И вдруг вспомнил, что ему уже сегодня утром надлежало быть на пристани — Катя ждет. А ведь опоздал — вот беда. Но ведь должна бы подождать. Подождет, конечно, успокоил себя, свой она человек, поймет, следовательно, и простит.
— У тебя телега? — спросил Лукин.
— Телега.
— Не подбросит ли кто до пристани? Самому мне не дойти. А нужно срочно.
— Степушка и подвезет. Делать все равно ему нечего. А у меня работа, и ты прости.
— Вот и хорошо.
— Так, может, ты сыграешь еще? — спросил дядя Федя. — А то ведь люди очень опечалены.
— Можно, конечно. Но только устал я — не будет хорошей игры.
— Ты вот только подбодри людей. А то извелись за четыре года. Ты все же поимей в виду, что всем дальше жить следует, как я тебе уже и говорил. Такой обязанности с нас никто ведь не снимает. Что ж теперь получается? Ты постарайся это соображение учесть.
— Ладно. Сделаю. — И Лукин пошел в дом за гармоникой.
Вокруг все знакомые были лица — здравствуй, Вася, где ты был вчерася (так его дразнили в детстве). Здравствуйте, баба Маня, баба Матрена, дядя Тимофей — постаревшие за четыре года потерь и недоеданий, глубокие морщины прорезали лица, скорбь потянула книзу углы рта, печаль навсегда залегла в глазах — свои, родные лица.
Тогда Лукин заиграл давнюю песню здешних мест «Ночь темна-темнешенька», знал, вот эта песня, без предварительной подготовки, проникнет во всякий закоулок посторонней души. Такая это песня: «Я ли не примерная на селе жена, как собака верная, мужу предана». И снова, как несколько дней назад в Уткове, была у Лукина уверенность, что не только земляки понимают все, что он, Лукин, думает сейчас, но и он сам понимает все, что думают земляки, слушая его музыку.
Более того, он угадывал без лишних расспросов, судьбу земляков в прошедшей войне, а потому что за смысл спрашивать дядю Тимофея, где сейчас его сын Виктор, либо узнавать у тети Мани, как ей живется и где же это ваш сын Митя, да и сына Севы тоже что-то не видно.
«Милые родители, сваха и родня, лучше бы замучали, извели меня». Да ведь как угодно, и в труде невпроворотном, в деле безостановочном, в беде и хладе, но только чтоб были здесь мой отец, брат и муж, но что-то нет их здесь, да и нигде, пожалуй что, нет более, и только вдовы и сироты на месте, но и они уже не живут. И Лукин заиграл «Дороги», земляки, понимал он, слушают мелодию эту впервые, это, пожалуй, и к лучшему — всякий раз, когда позже станут слушать эту песню, вспомнят, что вот ее играл Вася Лукин, и слез не сдержат, как не сдерживают их сейчас. При свете утреннем, под небом теплым, вот так стоят земляки, окружив Лукина, слез не утирая и не стыдясь этих слез, да и чего стыдиться, если печаль душу запеленала, эх, дороги, пыль да туман, сколько же встреч выпадало, а сколько разлук. Лукин вел мелодию и понимал, что никогда прежде не была так послушна его гармоника, более того — вся прежняя его игра была лишь подготовкой к игре вот этой, сегодняшней, перед земляками, с которыми навсегда он повязан крепкой нитью, хотя нет, какая тут игра и при чем тут мелодия, если все внимание Лукина занято было поисками в степи брата своего Пети. Да где же он, где друг мой верный, должен быть непременно, да ты вот напряги внимание, Василин Лукин, где же ему быть, брату твоему либо дружку единственному, оглянись вокруг, это же проще простого, вон, вон, твой дружок в бурьяне неживой лежит.
И когда Лукин заиграл старинную песню «Умер бедняга в больнице военной», он понял — это все! — больше играть невозможно, душа доведена до предела, и тогда просительно посмотрел на земляков и дядю Федю — ну пожалуйста, дайте, дайте мне передышку.
Но передышки ему не дали, молча утирали слезы и все чего-то ждали от Лукина. Словно бы он как солдат, добывший победу, знает некую тайну, им, людям невоевавшим, неведомую. И тогда Лукин понял, что прекращать игру нельзя, встряхнуться надо самому и людям что-либо такое сообщить, чтоб и они встряхнулись, чтобы хоть чуть отошли от потерь, а может, даже и поверили, что где-то там вдали за деревьями мелькает кое-какая туманная надежда.
А она должна мелькать непременно, потому что не может душа оставаться пустой.
И он заиграл «Офицерский вальс», да, лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука, и сразу вспомнил Катю, и как несколько дней назад шли они на холм, оглушенные текущей в них любовью, и вспомнил глаза ее, влажные, истомленные, и уверенно надеялся, что уже сегодня вновь увидит ее. Да что ж такое получается, — а то, выходит, что не так уж до конца душа вычерпана, осталось, видно, что-то на дне, и, пожалуй, это и есть надежда, потому что силы человеческие, выходит, беспредельны, и следует только потерпеть, пока она вновь наполнится непременно, и сейчас Лукин играл песню за песней, радуясь и удивляясь вновь засквозившей надежде.
— Так, Вася, все так, — время от времени приговаривал дядя Федя.
Он играл и играл, Лукин, и, поднимая голову от мехов, видел — или это только кажется при свете ярком — нет, сейчас он ощущал в себе момент ясного зрения, когда понимаешь все, от дерева до малой травинки, душу человеческую включая, — так он видел, что вроде бы приободрились его земляки, как знать, может, и удастся Лукину возвратить им надежду, и если так, то, выходит, что не впустую приезжал в родные места их земляк Вася Лукин.
Тогда он заиграл «Барыню», конечно, знал, что никто не станет плясать, но вместе с тем вспомнил сам и землякам память прояснил, помните ли вы, как плясали мы в праздники, да до звезд колких, до раннего утреннего туманца, и ходили в деревню соседнюю, в Панино то есть, и там веселье продолжали, при другом гармонисте, понятно, но гармонист — не вопрос, была бы гармоника. А если где свадьба, так уж два, нет, три дня веселья, это все ничего, все ничего, только перетерпеть все, сил бы накопить, будут еще веселья, потому что не может человек без веселья, будут еще свадьбы, потому что и без свадеб человек не может прожить, и, следовательно, будут еще и у нас долгие гулянья.
— Ты это точно, Вася, все еще наладится. Попьем мы еще бражку не с горя, но с радости, — сказал Лукину сидевший с ним на крыльце дядя Федя, и все, слышавшие эти слова, согласно кивали.
Когда ехал на телеге от дома родного до пристани, то об одном думал — не опоздать бы. Потому что надежда его единственная была связана именно с Катей. И дальнейшей жизни без Кати Лукин не видел. Ведь два дня были вместе, а вот как на сердце легла. Вот он утешал себя и других людей, а сам загадал: должно ведь и ему хоть как-то повезти, и только с Катей такой возможны были хоть какие-то виды на счастье.
Лукин спрыгнул с телеги, попрощался со Степой, заспешил к дому дяди Пети. Однако Кати нигде не было видно.
— Съездил уже? — спросил дядя Петя. — А что ж опоздал?
— Да так уж случилось.
— А подруга твоя все ждала тебя. Не знаю, чего уж ты успел ей за день наговорить, но так уж она по тебе убивалась.
— И где она? — безнадежно уже спросил Лукин.
— Ну как это? Куда денется — поплыла себе на пароходе.
— Ну вот и так. Ну вот и все, — потерянно приговаривал Лукин.
— Да найдешь ее, поди. Не иголка — человек же.
— Да как найду? Адреса-то не знаю. Фамилии — тоже не знаю.
— Ну ты даешь — кто ж так делает!
— Да что говорить. Опоздал! И все.
Слов утешения Лукин слышать не мог, потому что утешения сейчас для него не существовало.
Выходит, никаких видов на счастье быть не может. Потому что другой Кати на свете нет. Она только одна. Вот это Лукин понимал окончательно.
И тогда побрел он на берег реки.
Солнце садилось за лес. Но ни красное солнце, ни синяя с красными отблесками вода, ни голубое небо не могли утешить Лукина.
Ему ничего не оставалось, как только обратиться за помощью к верной подруге и уже тогда поплакать вдосталь. А потому что куда ему было спешить — да что спешить, — ему особенно-то и идти было теперь некуда.
И Лукин заиграл «Зачем тебя я, милый мой, узнала», всласть решил поиграть мелодию, да и то сказать, ну вот зачем узнавать человека и не дай бог полюбить его, и суетиться, и страдать, если все равно одни разлуки выходят. Ну смысл-то какой в суете, да в слезе прощальной, да в плаче одиноком?
Играл он долго, даже с упорством каким-то, все казалось Лукину — останови он гармонику, и уж навсегда исчезнет Катя, а так хоть малая надежда оставалась. И Лукин не сдавался судьбе, он доверял сейчас только своей музыке. А уже сумерки опустились, повлажнел воздух, дрожали и ныли мошки, над водой полз густой туман, он отрывался от реки и цеплялся за прибрежные кусты, но вон, да что ж это такое, — а глядите, глядите — от дальнего леса отделилось белое облачко. Оно то медленно плыло, то останавливалось, сливаясь с прибрежным туманом, и вновь плыло дальше. Вот уже проструилось между деревьями и к берегу спустилось, и вот уже поплыло оно к Лукину — эй, да ведь быть этого не может, ведь уплыла радость, унеслось облачко к иным, дальним берегам, и тогда — «Катя» — тихо позвал Лукин, не веря своей радости, и уже уверенно крикнул — «Катя!» — и бросился навстречу облачку, и уже встретились — нет большей радости — найти человека после безвозвратной потери, однажды найти, чтоб уже никогда не расставаться.
Змея и чаша
Сперва Антонина Ивановна попала в поликлинику в особенно неудачный день, то есть у регистратуры и на лестницах делалось что-то невозможное: такой давки Антонина Ивановна не помнила даже по очередям послевоенных лет. А дело, заметить надо, было летом, и спрессованные перед столом регистратуры люди полыхали таким жаром, и запах пота был так густ, что попытку пробиться к окошку Антонина Ивановна оставила как вполне безнадежную.
Она всегда тушевалась, когда случалось оказаться при большом стечении народа, и тут, узнав, что сегодня день особенный — профилактический, народ юный берет справки для институтов да ПТУ, Антонина Ивановна решила никому собой глаза не засорять. Но ей повезло — на нее обратила внимание легкокрылая девочка, что порхала от барабана к барабану.
— Вам чего, тетя? — спросила девочка.
— К врачу.
— А где вы живете?
— На Пионерской.
— Это пятый участок. Сейчас поищем.
Но карточки не оказалось.
Тогда девочка начала заполнять новую карточку, и Антонина Ивановна так это складно рассказала ей про себя.
Да, она Антонина Ивановна Пересветова, ей сорок восемь полных лет, а неполных так без двух месяцев сорок девять, работает на фабрике «Восток», что галоши да сапоги резиновые делает, вот запашок жженой резины стоит над городом, так это мы свои газы и выхлопываем, — ну, а кем вы там, тетенька, — а директором, начальником, заведующей, — нет, серьезно, — да рабочей, кем же еще, — ну, другое дело, — да, главное не забыть — до пенсии осталось год и два месяца.
— Так у вас, значит, пятый участок. Ага, сегодня с четырех.
— Это никак нельзя, милая. Я в это время на работе.
— Так, может, вам больничный дадут.
— А он мне не нужен. Я только провериться. Вот тут, — и Антонина Ивановна ткнула себя пальцем в живот, — что-то печет.
— Тогда завтра пятый участок с утра. А послезавтра — с двенадцати.
Так бы Антонина Ивановна и отсквозила, но, во-первых, ей очень хотелось дотянуть до пенсии без длительных осечек, а во-вторых, девочка ей легкокрылая понравилась, верно, справку для института нарабатывает — не подкатывала глаза к потолку, не вертела пальцем у виска, не намекала, мол, вас много, а я одна, и потому отвалите, старая карга, умоляю. И это поразило Антонину Ивановну. Она рещила на следующий день снова прийти. И пришла. И снова девочка была добра и отвела Антонину Ивановну к кабинету пятого участка.
Сидела Антонина Ивановна недолго, успела поговорить с другими больными и узнала, что примет ее врач Вересова. А у этого врача есть одна особенность — она внимательна не всегда, но только когда не поссорится с мужем. Сейчас муж ее в командировке, и можно быть уверенным, что все будет законным порядком.
Кабинет, где сидела доктор Вересова, был закутком некогда большого кабинета, потом тот, большой, кабинет перегородили фанерой, и стало сразу четыре кабинета. Так что слышно было, как разговаривают с больными врачи и как просят их дышать поглубже.
Доктор Вересова оказалась пожилой молодящейся женщиной в светлом парике.
— А где старая карточка? — недовольно спросила она.
— Так я не ходила много лет, — ответила Антонина Ивановна, привыкая к кабинету.
— Ну, рассказывайте, — поощрила доктор Вересова.
— Да вот здесь жжет.
— Это бывает. После еды или натощак?
— По-разному.
— И давно?
— А месяца два. И раньше бывало. Года три назад. Только попасть не смогла.
— Раздевайтесь и ложитесь.
Тут Антонина Ивановна малость растерялась — то есть она хотела попасть к врачу, уверена была, что сорвется дело, и не изготовилась специально — в баню не сбегала и рубашечку нужную не надела. Думала, сразу и на работу побегу, а на работе, известное дело, хорошая рубашка не нужна — старая четырехрублевка, на мешковину скорее похожая. А есть ведь и хорошая рубашка — восьмирублевка, тонкая такая, словно бы для невесты — и вот неудача. Сейчас, сняв кофту и сарафан, Антонина Ивановна в этой четырехрублевке свои руки и ноги ощутила как бы обрубками.
Но, посмотрев на свалявшуюся сероватую простынку на кушетке, с облегчением подумала — а ничего, и так сойдет.
Доктор Вересова потрогала там, потрогала сям, а ну язык покажите, и даже пальчиком дотронулась до него, и, успокоив Антонину Ивановну, отпустила ее — это погрешности в пище, гастритик, да вы работаете с вредностями, так вот молоко пейте на работе, а не экономьте для дома, вот вам порошки и микстура, пейте их, а если не поможет, то через пару месяцев зайдите снова.
Ну, там лето кончилось, грибы да клюква пошли, ну, там капусту засолили, к зиме изготовились, уж и дожди без продыху пошли, и тут Антонина Ивановна стала понимать, что ведь ей совсем не лучше. То есть ей и не хуже. Но и не лучше. А остался год до пенсии. Год — вроде немного. Но это — как смотреть. Если этот год вырвать посредине жизни, то, пожалуй, ничего. А если перед пенсией год, то его еще прожить следует. Что не так и просто.
Словом, Антонина Ивановна снова пошла в поликлинику.
А там произошли перемены: легкокрылая девочка куда-то вовсе упорхнула, доктор Вересова перешла на другой участок, и на пятом участке новый доктор по фамилии Доброселова.
Ожидая приема, Антонина Ивановна узнала, что доктор этот хороший, хоть и работает первый год. Доктор оказалась совсем девочкой. Она была худощава и строга.
И она стала расспрашивать Антонину Ивановну про житье-бытье, да так подробно, что Антонине Ивановне стало неловко — ведь там народишко сидит.
А доктор перешла к болезням — где да что, да когда, да сколько болит. И все такое. А потом попросила прилечь, и Антонина Ивановна с удовольствием раздевалась — заранее к приему изготовилась и про себя соображала — а ты не думай, что я серая какая кость, вот какие рубашечки носить могу.
А доктор слушала легкие и сердце и долго мяла живот, и снова Антонине Ивановне неловко стало: там ведь очередь, и доктор слишком задержится на работе, она такая молодая и симпатичная, да замужем, поди, недавно, муж ждет не дождется, а жену его, выходит, Антонина Ивановна от него отрывает.
А потом доктор Доброселова вышла из кабинета и вскоре пришла с пожилым мужчиной. Тот в особые расспросы не втягивался, а пощупал живот Антонины Ивановны.
— А Вересова? Не смотрела, что ли? Что ж, давайте. — И вышел из кабинета.
Доброселова разрешила Антонине Ивановне одеться.
— Мы посоветовались с заведующим отделением и решили, что вам нужно немного отдохнуть.
— Вот это никак нельзя. Я не одна на работе. Там люди.
— Вам нужно обследоваться и лечиться. Вам просто повезло: люди неделями ждут место в больнице. А для вас отыскали сегодня. Нужно лечь сейчас, иначе место займут, и когда оно снова будет, неизвестно.
— Но мне работать надо. Без меня никак.
— Это только так кажется. А вот недельку полежите и увидите, что и без вас фабрика работает.
— Нет, вы мне лучше таблетки какие назначьте. Год остался. А сейчас нельзя.
— Да представьте себе, что вы не директор фабрики и что работ вокруг много, а здоровье у вас одно.
Антонина Ивановна была прямо-таки поражена, как эта юная женщина ловко все ухватила. А ведь верно: работ у человека много, а здоровьишко-то одно. И тут Антонина Ивановна малость задумалась.
Надо прямо сказать, что работу свою она недолюбливала. Но терпела ее, потому что работа эта временная и на пенсию с нее выходят в пятьдесят лет. Вот девять лет и оттерпела. Год всего и остался.
Однако всякое утро, как Антонина Ивановна влезает в брезентовую робу, да надевает белые от пыли и талька кирзачи, да тальком покрывает руки, шею и лицо, так вот всякое утро, видя себя как бы со стороны — бесформенная роба, белые руки, белое, как в муке, лицо, — Антонина Ивановна клянет себя, что взялась за такое дело. Но теперь уже дотянет.
— Хорошо, доктор, я лягу. За неделю меня обкрутят? Да хоть что у меня? Гастрит, что ли?
— А может, и язва, Антонина Ивановна. И нужно обследоваться. Вы прямо сейчас зайдите в приемный покой, а то кто-нибудь место займет.
И доктор протянула направление.
Антонина Ивановна забежала в приемный покой, а потом заскочила домой взять необходимые вещи, сказала Симоновой, соседке, что ее на недельку кладут в больницу, и просила сказать об этом Григорию Васильевичу.
А когда в сером сиротском халате шла больничным двором, то маленько загрустила. Вернее, основательно загрустила, так что даже носом несколько раз шмыгнула. Уже стало казаться ей, что надолго залегла она в больницу и вряд ли удастся ей выйти отсюда.
Но потом так сообразила — ведь она сможет за недельку отоспаться, отбездельничать на оставшийся год. Так-то говоря, за последние двадцать лет отдыхать ей не приходилось — хоть и отпуск, а все равно надо на семью готовить, да стирать, да по магазинам тыркаться, может, колбасу либо мясо надыбаешь для семьи родной. Тем Антонина Ивановна малость и успокоилась.
Если это так себе представить, что с высоты невозможной око всесильное глядит, да если окуляр подкрутить, так виден станет двор немалый, и три красных трехэтажных дома стоят да деревянный барак, да у самого забора мусорная свалка, а там-то, в глубине двора, домик коричневый, его так и зовут — Шоколадный Домик, — туда если человека вносят, то не было случая, чтоб он вышел самостоятельно, нет, его непременно вынесут, в тишине ли, под музычку ли грустнодуховную-а-а! — так это фонаревская больница. Ну, а если вовсе микроскоп сверхмощный подкрутить да прояснить зрение, то можно увидеть человека, что стоит у окна терапевтического отделения и смотрит, как во дворе накрапывает мелкий дождь. Да это же Антонина Ивановна Пересветова.
И тело ее сляпано так, как малые дети лепят человечков из пластилина: вот кусок поболее, малость его оквадратить, да четыре кусочка поменьше к нему приставить — это как получится, остальное доскажет воображение младенческое. Да и лицо было телу под стать: глаза небольшие, подвыцветшие, нос уточкой да на нем лепешечка — то ли бородавка, то ли иная нашлепка — волосы поредевшие да свалявшиеся на манер пакли, ну-ка запомни человека такого.
Вот никто и не мог запомнить ее надолго, глаз на ней задержать, а так — взгляд один и дальше, без внимания малейшего. Мышка серая в халате казенном, земляное существо — и поскользило око дальше, внимания не удостоив — ждут лица позначительнее, дела поважнее, судьбы поярче.
Побездельничать ей не удалось — только настроилась подумать о жизни собственной, как подошла женщина в нечистом белом халате.
— А ты чего стоишь? — спросила женщина. Лицо ее полыхало, волосы давненько были нечесаны, на левом глазу оловянно светилось бельмо.
— Да вот в окно смотрю, — ответила Антонина Ивановна.
— Ну, вот и здравствуй — ухо — новый — год, дожди зарядили. А ты чего к нам?
— Да живот.
— Это хорошо. А я сестра-хозяйка. Валентина Михайловна. Для тебя — Валюта. За буфетную отвечаю. Будешь помогать. Женщина ты, я гляжу, чистая. Будешь разносить лежачим. Ну, и помоешь. А ведра с едой принесут мужчины.
— А вы? — осмелилась спросить Антонина Ивановна.
— А что я? Свою работу знаю. Не боись — каждый точит, как он хочет. Ты, сразу видно, новенькая.
Тут двое мужчин внесли в отделение ведра, от которых шел пар. Обед, обед, общее оживление началось, какой ни есть, а все харч, да своего добавим, так и прокантуем, сегодня щи кислые, — да и вспотеешь ты от жирной пищи, — а также нос не вороти, — то-то ты, мамзелечка, накутала такую будочку, — да это не от обжорства, поверьте, а от диабета, — ну, так и ешь свою тихую кашку, а людям не мешай наслаждаться, чем дарено, — ах ты, боже мой, это что ж в гречке за слизь такая белесая, — ах, да не может быть, это наш больничный жюльен, — но-но — не сквернословьте, папаша, все бы вам надсмехаться.
Антонина Ивановна поела, а потом стала разносить еду тяжелобольным, с удовольствием выслушивая бормотание насчет спасибо и насчет не хочу.
А после обеда она малость полежала в палате да вышла в коридор, чтоб постоять у окна. А на улице поливал дождь, у окна было сыро и зябко, кто-то в коридоре стонал, сытый мужской голос пел по радио «Мы — дети Галактики, но самое главное», и вот впервые за долгие годы ничем не озабоченная, предоставленная самой себе Антонина Ивановна подумала, а ведь не худо, что она отключилась на недельку, и что-то в ней зашелестело, закопошилось, и понимать следовало, что потянуло Антонину Ивановну о жизни своей добольничной подумать. И так у нее сейчас получалось, что самое интересное и главное ожидает Антонину Ивановну впереди.
Что вспоминать войну и годы младенческие. Одно слово — война, мать в блокаде умерла, да братец младший в один месяц с матерью отлетел, да отец с войны не пришел, да голод бесконечный — что вспоминать. Да какие трудности с жильем. Его прямо сказать, не было — дом, где жила Антонина Ивановна, разбомбили в сорок третьем году, и она жила три года с такими же одинокими бедолагами во времянке на Карповке за медицинским институтом. Но ведь долго таким манером жить не станешь: молодость, как ни крути, надежды на жизнь наилучшую накрапывает, словом, однажды услышала Антонина Ивановна, что фонаревская фабрика «Первомайка» объявила набор девушек и общежитие им предоставляет. И Антонина Ивановна перебралась тогда в Фонарево.
И двадцать лет на «Первомайке» она отхомяковала — прошивала кушачки для платьев и халатов, четыреста кушачков за смену.
Но это ничего. Вот в общежитии было трудновато. Девочки, приехавшие из деревни, годик-другой повертятся, и то у них хахали, то кавалеры, а то и замуж выходят. У Антонины же Ивановны не то что кавалера, но и хахаля не было. Тут некого винить: голод ли военный по коже прошелся, картошка ли послевоенная руки и ноги раздула, про живот не забыв, — сказать трудно. А только жила Антонина Ивановна одиноко.
Тут даже неловко было — для семнадцатилетних соседок она была вроде бабуси в свои двадцать восемь. И за десять лет, что провела Антонина Ивановна в общежитии, эта общага так ей обрыдла, что в последние годы только и думала — ну вот взял бы ее кто-нибудь замуж, да пусть самый разледащий человечек, пусть с кучей детей, но только чтоб было у него жилье. Да без оглядки убежала бы куда глаза глядят. Но чтоб была хоть какая камора.
И тут ей повезло — появился Григорий Васильевич. Нет, что и говорить, двадцать один год вместе живут, про любовь что там лепетать — ее никогда не было, да и не надо, милости просим, не хлебать же ее из миски, а вот уважение — это точно, Антонина Ивановна сильно не уважала Григория Васильевича. То есть поначалу боялась, а уж когда он к ней привык и понял, что без Антонины Ивановны ему никак не обойтись, то вот и стала Антонина Ивановна сильно его не уважать.
А тогда-то приходил Григорий Васильевич в общежитие, сразу садился на стул — это чтоб рост его был не так вроде мал — а рост на самом деле был мал — и что главное было в Григории Васильевиче, так это длинные хваткие руки, и он вполне похож был на краба, а девочки ускальзывали из комнаты, чтоб Григорий Васильевич поскорее сладил дело с Антониной Ивановной.
А Григорий Васильевич прокашляется, да — поднимется из-за стола, да плечами поведет, — де, размять тело следует, — и так это издалека речи начинает вести про людское коварство, де, кое-какая особа оставила его и детишек забрала, но, слава богу, не все люди беспорядочны, и это вдыхает надежды на новую жизнь.
Да он чубчик свой осторожно приглаживает, а то был замечательный чубчик — он вился и был как бы приклеен ко лбу, так что никакой ветер не мог его распушить.
Месяца три слушала Антонина Ивановна, да однажды и спросила, есть ли жилье у Григория Васильевича. Оказалось, что он живет в двадцатиметровой комнате в коммунальной квартире. С другой стороны, что за коммуналка такая, если в ней всего две семьи живут, помимо Григория Васильевича, понятно. Да это по тем, по пятидесятым годам.
Да, был Григорий Васильевич на двенадцать лет старше Антонины Ивановны, мал ростом, но имелась у него двадцатиметровка, и однажды они зашли в отдел записи актов гражданского состояния для официального разрешения на совместную жизнь.
Поначалу Антонина Ивановна очень боялась своего мужа, хотя не могла бы внятно объяснить причину своего страха. Но вскоре все поняла.
Однажды к соседям пришли гости. Григорий Васильевич неспешно, тягуче принял чуток, глаза его стали посверкивать, лицо налилось томатным соком, и он встал, привычно встряхнул плечами для разгона застоявшихся сил и по-кошачьи мягко вышел на кухню. Там встал у окна, терпеливо ожидая, когда к нему выйдет кто-либо из гостей. И вот когда какой-то молодой человек вышел, Григорий Васильевич начал приставать к нему с расспросами, так, ничего особенного, вежливо это о погоде и семье, а потом и просит человека — ты ударь меня, а тот, мол, вы обалдели, дядя, за что же вас бить, а дядя пристает и пристает, ну, молодой человек дал уговорить себя и замахнулся на Григория Васильевича. А Григорий Васильевич вдруг напружинился, крякнул, поймал и дернул на себя и завел руку молодому человеку за спину да сильно замахнулся, норовя ребром ладони дать по шее и приговаривая:
— Макароны! А это наши макароны! — Ударить-то он не ударил, но было ясно, если б ударил, то пареньку долго пришлось бы лечиться.
— Ну, дядя, ну даешь, — сказал тот, когда Григорий Васильевич отпустил его.
— А ты думал.
— Где же это ты так натыркался?
— Да было дело, — все с туманцем ответил Григорий Васильевич.
Тут и поняла Антонина Ивановна, почему муж не очень-то любил распространяться о прошлой жизни. То есть сейчас он в НИИ в охране — но выходит, и раньше Григорий Васильевич ничего другого не умел.
Да ладно, было и было, зато Григорий Васильевич трудностей не боится, работает на двух работах — двое суток дома, двое дежурит, потому что надо за детишек платить да и дом обставлять следует.
В первое-то время Григорий Васильевич любил встряхнуться — выпить да на кухню выйти, чтоб попугать маленько людишек, и в такие дни Антонина Ивановна готова была со стыда вовсе испариться с земли. Но она научилась вскоре смирять приступы этой его гордости — подходила к мужу, смотрела ему прямо в глаза и строго говорила: «Иди домой, Григорий Васильевич!» (Она всегда называла его Григорием и никогда Гришей, при соседях же всегда Григорием Васильевичем), и он подчинялся жене и покорно уходил в комнату. Да постепенно и позабыл о прошлом. Почти не пил, денег на распыл не пускал, и все, что оставалось от уплаты алиментов, приносил в дом. Так что они довольно скоро обжились — мебель новую и вещи кое-какие купили, а через год у них сын Алеша появился.
Вот он-то, сын Алеша, и был единственной любовью Антонины Ивановны за всю жизнь. Даже работа станет сносной, как подумает Антонина Ивановна о нем. Но в последние годы берет тревога за сына. Да такая иной раз тревога, что дышать становится трудно.
Можно прямо сказать — все на него положила, на сверхурочные оставалась, субботы прихватывала для двойной оплаты, и так-то здоровым мальчиком рос и учился неплохо, даже и на собраниях похваливали, и ПТУ окончил хорошо, и специальность в руках надежная по нынешним временам — слесарь-сантехник, — а вот тревога не покидает Антонину Ивановну.
Все дело в том, что он человек слабовольный. Вот куда его подуло, туда он и бредет. В компаниях каких-то стал бывать и домой приходит пьяненьким. И воля у него при этом совсем уничтожается, он становится словно бы каша, уж лучше бы шумел, кому-либо грозил, тут дело житейское, привычное любому глазу и уху, а то ведь сядет на стул, руки свесит, и весь размочаленный, смотрит перед собой, словно бы в голове жизнь какую замечательную прокручивает.
Вот и рада была Антонина Ивановна, когда прошлой осенью Алешу в армию забрали, уж там, считала она, не повеселишься, там люди должностные скорехонько его к рукам приберут.
Ну, а дальше-то что? Ведь следующей осенью паренек вернется.
Вот и спешит Антонина Ивановна на пенсию выйти, чтобы присматривать за парнем. Дать ему, то есть, избыточную заботу. Пусть так: ему двадцать один год, а она нянька при нем. Да хоть как, только бы он за несколько лет на ноги встал. Повзрослеет, на работе укрепится, а там, глядишь, женится да дети пойдут, ведь вовсе Антонина Ивановна станет человеком незаменимым — и это всего лучше жизнь свою таким манером и дожить.
Она долго стояла у окна, а там и шесть часов подошло, и кликнули на ужин.
А после ужина никому расходиться и не хотелось. Включили телевизор, и так это дремотно посматривали передачу — вот кто-то попел, а кто-то трудовой подвиг совершил и теперь расхваливал себя на всю страну. Вяло, сонно время коротали, и никто не расходился — а может, что хорошенькое покажут.
Антонина Ивановна притомилась за сегодняшний день — слишком много о себе заботилась, видать, — ей стало скучно, и, чтобы не мешать другим своей зевотой, она вышла на крыльцо раздышаться перед сном.
Шел мелкий дождь. Все было темно. Лишь на втором этаже в здании напротив горел свет, и было видно, как за окнами суетятся люди. Это, наверное, идет операция.
Утром Антонину Ивановну кликнули на обход. Ее ждала доктор Людмила Андреевна. То была круглолицая улыбчивая женщина с густыми седыми волосами и ямочками на щеках. Она сразу понравилась Антонине Ивановне вот именно улыбкой.
Людмила Андреевна никуда не спешила, и когда Антонина Ивановна рассказала о себе, то не перебивала, а дослушала до конца. Это удивляло Антонину Ивановну — для Людмилы Андреевны, получалось, жизнь Антонины Ивановны была событием довольно значительным.
А уж как она потом обкручивала Антонину Ивановну: лягте вот так да вот так, а ну-ка встаньте да присядьте да снова ложитесь.
— Мы вас, Антонина Ивановна, пообследуем и подлечим. Я ничего определенного пока сказать не могу. Вот посмотрят вас другие врачи. Вот сделаем снимки легких, желудка, да и подлечим.
И после этого словно что-то приключилось с временем, словно бы рука всесильная его изо всех сил толкнула, дав должную раскрутку, и помчалось это время, засвистело, так что ты только руками упираться не забывай, чтоб оно вовсе не снесло тебя в посвисте своем.
То на один анализ зовут, то на другой, — а ну вот эдак кровь свою подай, а теперь вот таким макаром, — да не забудь баночки наполнить, — а вот на рентген сходи, да еще на один, — а натощак кишку резиновую изволь проглотить, да пойди кашку мерзейшую покушай для рентгена. Так что только успела дыхание перевести, уже обед тебе в клюв забрасывают, и тут еще врачи шустрить начали — то такой тебя смотрит, то эдакий, да Антонина Ивановна, да будьте любезны.
Вот это были новости. Уж так расхлопотались возле Антонины Ивановны, словно бы она птичка какая залетная, попугайчик какой красноперый.
Антонина Ивановна и рада была, когда после обеда все стихало, и можно было полежать на кровати — поспать или же посоображать о чем-либо не вполне плохом.
Конечно, работа, как и всюду, ее находила. Еду разносила, услуживала тяжелым больным, ну перестелить, покормить, да и просто человека малознакомого послушать, как он по хворобам мыкался, разве же дело такое заботы не требует?
Вот так. Однако, пролежавши недельку, Антонина Ивановна начала по дому скучать. Нет, по работе она не скучала, это что лишнее-то на человека грешить, а по дому начала скучать — это точно.
Она впервые за двадцать лет оторвалась от привычного быта, и вот здесь, в больничке, начала так это соображать, что ведь дом ее, семья то есть, ничем других не хуже.
Она двадцать лет прокрутилась в заботах, о себе не успев подумать, но ведь так-то если разобраться, а где отыщется женщина, которая не крутится, которая думает о себе. А что мужа своего не особенно-то любила, так а кто ж это любит, а если что и было, так давно отлетело, и никто-то вспомнить этого не в силах. Да еще если дух от мужа много лет исключительно винный, и если у него в каком стоящем деле рука дрожит, а зато по фотографии жене он попадает исключительно без промаху.
Соседки ее по палате много рассказывали про свою семейную жизнь, и Антонина Ивановна, знакомая также с жизнью подруг по работе, пришла к выводу, что ее семья не то что не хуже других, но как раз получше.
Потому что Григорий Васильевич не то что ни разу не поколотил Антонину Ивановну или даже палец не поднял на нее, но и дурой не назвал ни разу.
Да к тому же он за эту неделю человеком оказался вернейшим: дня не проходит, чтоб он жену не навестил. Если нет впуска, то торчит он под окнами и жене машет рукой. А Антонина Ивановна вид принимает, что не замечает его. Ну, это чтоб соседки обратили внимание на такой факт и про себя позавидовали бы чужому согласию и трезвости.
А то был день впускной, вторник, что ли, по двору гуляли больные. Солнцу удалось пробиться сквозь осенние облака, и оно слепило глаза. Антонина Ивановна и Григорий Васильевич сидели на скамейке и так это неспешно разговаривали.
— Видно, отпустят меня завтра. Только что доктор какой-то особый посмотрел. Сразу же и отпустят.
— И что сказал?
— А ничего не сказал. Посоветуемся, дескать.
— И хорошо. А то скучно без тебя. Впервые же ушла. Привык.
— Тоже домой тянет. Десять дней — шутка ли.
— Симоновым вроде жилье обещают.
— Да уж сколько обещают.
— Вроде на этот раз точно.
— И когда?
— Вроде через год.
— Алеша вернется.
— Ну. Пока они потянут, где год, там и другой, может. Алеша посмотрит по сторонам да и женится.
— Молодой, что ты.
— А чего? Зато при семье. И на симоновскую комнату можно будет посматривать. Сейчас так делают, идут навстречу.
— Ну это еще когда.
— И все ж хорошо бы.
— Да уж неплохо.
— А я вчера квартиру мыл. Наша очередь подошла.
— А я забыла. Попросил бы подождать до меня.
— А зачем? Справился.
— Да уж представляю.
— А между тем все довольны. Я, значит, сноровистый и постарался не хуже других.
— Теперь я скоро.
— Но не торопись. Если из-за меня.
— Одному-то плоховато.
— Это так. Однако здоровье важнее.
Он как-то так сидел, Григорий Васильевич, голову к плечу приклонив, что Антонине Ивановне так уж его стало жалко, ну хоть плачь, так жалко, вот он один, без нее, то есть, и она сейчас ясно понимала — случись с ней неприятность крайняя, ему одному будет не прожить, потому что друзей у него нет, он всегда накрепко припаян к дому, и сейчас, в минуту этой жалости, жизнь собственная вновь показалась Антонине Ивановне как бы и удавшейся, потому что она очень нужна сыну и Григорию Васильевичу, и это не так мало, если разобраться внимательно.
— Ну, ты того, Григорий, ты того, — сказала она тихо.
Но, верно, слишком тихо, так что Григорий Васильевич от неожиданности чуть даже вздрогнул и что-то такое засуетился, заспешил.
— Да я-то того, но ты тоже… Как сказать… Давай… Все путем, выходит. Как-нибудь уж, этого.
А в это время в ординаторской сидели Людмила Андреевна и вернувшийся из отпуска онколог Иван Павлович. Был Иван Павлович молод и, по общему мнению, красив. Он всегда носил модные рубашки и яркие галстуки. Иван Павлович начал полнеть и казался гладким, вальяжным, но не толстым.
— Не понимаю, куда люди смотрели, — сказал он. — И главное — не жалуется. То ли человек терпеливый, то ли локализация такая.
— Вы рентгенограмму смотрели?
— Еще бы — такая дуля. Собственно, диагноз сомнений не вызывает. Желудок — первичный очаг. В легких — рост. Где-нибудь еще гуляет. Куда смотрели — непонятно. Ну, Вересова, ладно, с нее какой спрос. Но ведь каждые полгода профосмотр. И все. Ведь, поди, ходила по врачам.
— Что — в институт?
— А проку? Не возьмутся. Я, конечно, пошлю, но они не возьмутся.
— Что ей скажем?
— Что-нибудь скажем.
— Будут трогать. Боли пойдут. Начнется истощение.
— Удивляюсь, что не началось. Что-нибудь скажем. Вот так. И ни в чем не виновата. Ей пятидесяти нет.
— Надо ей сказать.
— Ну сейчас. Дайте с духом собраться. Да вон же она на скамейке сидит. А дядька этот — муж?
— Муж.
— Инвалид? Маленький вроде. Небось, выписки ждут. Да вы поглядите, как он смотрит на нее. Он же любуется ею. Да она же для него, поди, первая красавица. Уж когда в распаде, я, поверьте, смиряюсь. Но вот так — из-за чужой глупости и спешки. Нет, не могу. А он-то маленький, но почтенный — сединка так это, голову с достоинством держит. Вы посмотрите, какое у нее на лице воодушевление. Да она же этого маленького человека любит. А он, глядите, плакать сейчас начнет. Что ж это она ему такое сказала, что он плакать собирается?
— Так позвать ее?
— Да. Чтоб потом у нас не было разногласий. А то на этом и попадемся. Все. Сейчас соберемся с духом, посмотрим в глаза и что-нибудь скажем.
Три — два в нашу пользу
Кричали, топали ногами, жгли факелы из газет. Вставай Алик, кричали сбитому центру противника, а то кишки простудишь, а не встанешь, так мы тебя за руки, за ноги, кверху…
А, Слава, давай, дави их, Слава, надежда ты наша, и взревела от счастья стотысячная глотка, когда свой, новый какой-то — его уже Пингвином прозвали — умудрился затолкнуть мяч в левый нижний уголочек.
Счастье взорвалось, кругами пошло над стадионом, взвилось в низкое небо. Раскаленная сковорода шипела от дождя, и дождь не выдержал жары, сморщился, стороной прошел. Хрипели глотки, разрывалась душа от счастья — ну и врежем же мы сегодня.
И вдруг кто-то протянул сквозь гром этот — а ведь еще не вечер, братцы, нам еще покажут, и «Гена!» — завопил во всю луженую глотку. Это он противнику, у нас Ген давно не водится.
Так наказать его, шляпу на уши, но у этого горлопана шляпы не было — слюнтяй, молокосос, что с него возьмешь! — и потому бросили вниз шляпу его соседа.
Трибуны радостно выдохнули — а вот и шляпа летит.
Хозяином ее был тридцативосьмилетний Виктор Алексеевич Карпухин, плотник из Лисьего Носа. Он вышел в проход и побрел вниз за шляпой. Да ладно, сделал знак трибунам, чего уж там, все свои люди. Карпухин был высок и худ. Острился его нос. По лицу бродила грустная улыбка. Холодный дождичек прибил ко лбу его картофельные волосы.
А взяв шляпу, Карпухин выпрямился и сразу посмотрел вверх на женщину, которая его ждала. Она была невысокого роста, голубоглазая, с незагорелым лицом. Он называл ее Милой.
А сидели себе под голубой прозрачной накидкой и никому-то из этих ста тысяч не мешали, и накидка защищала их от дождя и от соседей по трибуне. И так это хорошо было. Никогда бы не уходить отсюда. Прямо тебе дом родной. И стены — бока соседей, и голубая крыша над головой. Так и поспешить бы надо — его ждет Мила, вон ведь как растерянно улыбается, вдруг одна осталась. И когда Карпухин сел, Мила прижалась к его боку.
А сквозь тучи пробилось солнце, и сквозь голубую крышу оно заскользило по лицу Милы, а она старалась уклониться от него, но ничего не получалось.
А Карпухин все смотрел на нее — ну черт побери все, так бы всегда и сидеть, только бы подольше был матч, а трибуны, ну что же, пусть себе кричат. Да и сам он еще полгода назад редко когда пропускал матч. Уж за своих-то всегда сердце положишь. А также глотку прокричишь. Это же все понятно.
Перед самым перерывом центр противника, этот подлый Алик, резанул ногой, и мяч вонзился в сетку, и-а-ах! — пошло по стадиону, это он не в угол резанул, а в сердце кинжалом, и оно замерло, заныло, и тишина повисла в воздухе.
Тишину пронзил свисток.
Перерыв. Захрипело радио. «И даже солнце не вставало б, когда бы не было меня».
И уже толпа распалась, утихла одна луженая глотка, распалось одно железное сердце, каждый стал Колей-Мишей-Владиком-Да-Иди-Же-Сюда-Скорее, и каждый заметил вдруг, что идет холодный дождь, и это середина октября, и это последние предснежные дни. Время, время прийти в себя.
День стоял серенький, небо завалено тяжелыми тучами, за спиной лежал свинцовый залив, и ветер рвал из рук голубую накидку. Летели по воздуху обрывки газет и листки лотереи. «Река бы току не давала, когда бы не было меня». За противоположной трибуной сгибались верхушки деревьев.
— А это перерыв, — сказал Карпухин. — Это чтобы отдохнуть. Песня хорошая. — И он повел подбородком на громкоговоритель. — Пойдем. Пирожков возьмем. Постоим.
…Карпухин приехал сюда девятнадцать лет назад из Курска. Служил под Ленинградом. Ходили в поселковый клуб на танцы. Здесь он и познакомился со своей женой Раюшкой, девятнадцатилетней, рослой и полной. С длинной светлой косой, глазами чуть навыкате, с крепкими широкими ладонями. Не скажешь, что совсем уж красавица, но и нам ли куражиться, если служба у нас боевая. Сегодня пустили в увольнение, а потом месяц не пустят. Так и возьми, что в руки плывет. Уж чужого-то не прихватывай, а от своего отказываться грех.
Однажды Раюшка позвала Карпухина в конец улицы Холмистой, к себе домой. Там его ждали. На крыльце встретила мать Раюшки, баба Ася, тучная и медлительная. Вежливо так они поговорили. Она очень уважает защитников Родины, а он очень уважает ее дочь Раюшку.
А потом баба Ася выставила на стол бутылку водки, и уже дымилось мясо, и блестело сало в четыре пальца, а потом баба Ася внесла сковороду с яичницей, и яичница горела своими шестью солнцами.
В жизни Карпухин не видел такой еды. Ну и, понятно, никогда не ел.
Он стал все чаще и чаще приходить в дом на улице Холмистой.
Карпухин дослужил, потом стал работать плотником в домоуправлении, заканчивал вечернюю школу, через год родился сын Федя, жизнь пошла ровная, как ухоженное футбольное поле.
И не бедная пошла жизнь — даже когда все жили скудненько, Карпухины жили слава богу. И еды всегда по горло, и огород свой, и заработки неплохие. И мебель новая.
Вот их первая покупка — приемник «Балтика». Новую партию завезли. Соседи высовываются, с завистью смотрят вслед. Ну и штучка, кричат, так а сколько ламп? Будьте спокойны, отдыхайте в тени — много ламп. Сколько есть, все наши.
А когда приемник заиграл, Карпухин вышел в сад. Начиналось лето. Яблони цвели. Воздух прозрачен. Карпухин качнулся на носках, а потом врос в землю и почувствовал гулкость и твердость земли. Очень это хорошо, когда ты на земле хозяин. За огородом бы приглядывать как следует. И не худо бы сарай новый поставить. Ну, понятно, сначала старый починить.
Так а что еще человеку надо? Над головой не капает. Еда всегда будьте любезны. Мир в семье. Работа хорошая. Много ли человеку надо? Так бы и всегда было, и только бы ничуть не хуже.
Но на пятом году семейной жизни Карпухин стал чувствовать, что он уже наелся. Накушался. Сыт. Все есть. Скучно вдруг стало. И он начал искать друзей. И они всегда находятся, когда их ищешь.
Пришли отличные времена! Какие друзья были у Карпухина — будьте здоровы парни!
Грузчик Леся Квашнин, по прозвищу Коротышка, пятьдесят шестой размер костюма, шея круглая, как телеграфный столб. И повар Владя Кайдалов, тощий, сутулый, круглый год в лыжных шароварах и черной широкополой шляпе.
Один за одного — горой. Как пальцы одной руки — железный кулак. Ну и покуролесили, ну и побродяжничали. Их знали и на Выборгской стороне, и в Лахте, и всюду до самого Сестрорецка.
Вот стоит весна. Пар валит от земли. Солнце раскалывается. А они, уже разгоряченные, гоняют на пятачке перед магазином пустую консервную банку. Смех. Вот тебе финточек. Прямо из Бразилии. Гол тебе, Коротышка. А знакомые обходят их стороной. Хорошо знают — мальчикам нельзя мешать, у них новый футбольный сезон начинается.
А потом, усталые, радостные, успев еще чуть подгорячиться, бредут по улице Центральной.
— Вот это жизнь, братцы, — говорит Леся Квашнин, опустив на плечи друзей большие, как лопата, ладони. — Так и должен жить мужчина, джентльмены (любил Леся хитрые слова). Так бы вот всегда и гудеть. А потом глаза вот этой ладонью вытер, прощайте, джентльмены, сказал, счастливо оставаться.
А то вдруг срываются: скачем на футбол, за наших сегодня живот положим, и горло, и сердце. Да ты обалдел — семья! С семьей все устроится. Только без компромиссов, джентльмены. Земля на нас держится. Кто таблицу Менделеева открыл? А другие законы? А если труба позовет, кто кости сложит? Вот то-то. А кто футбол изобрел? Значит, все ясно и обойдемся без дискуссий.
Три года шла эта жизнь. Но однажды Леся Квашнин ехал в автобусе. И его кто-то обидел. Обидчиков было не один и не два, а пятеро. Чем-то им тихий Леся не понравился, и они потрошили его на весь автобус. На остановке Леся свистнул мальчиков, мальчики выволакивали обидчиков, а Леся их бил. Все бы ничего, но одного Леся ударил неосторожно. Тот упал на асфальт и что-то такое не встал. Лесе припаяли два года строгого режима, и больше он не появлялся.
А вскоре пропал и Владя Кайдалов. Он всегда был несамостоятельным человеком, а попав в плохую компанию, вскоре спился.
Стоп, сказал себе Карпухин, дальше ни с места, так недолго и с верного пути сбиться. И вот тогда-то снова пошла привычная гладкая жизнь. Баба Ася помалкивала про эти три года, знала — мужчина должен отпрыгать положенное, но уж Раюшка пилила его за двоих. И эти три года, и год еще потом.
Но успокоилась все-таки — очень уж ровная жизнь пошла.
Через год родился сын Тишка.
Карпухин всегда неплохо зарабатывал, а тут и вовсе — ничего для себя, все в дом. И дачники. И Раюшка работает в школьном буфете, и теща ничего себе — здоровая. Жизнь пошла — это же лопнешь от счастья, до чего ровная жизнь пошла.
Вот прошлое лето. Жара. Воскресенье. Все в сборе, три часа, семейный обед. Не ютятся, как другие хозяева, живут широко — дачникам сдали только верх да времянку.
Взрослые выпили под мясо.
— Ты уж, Витя, того, забор новый поставь, — в какой уже раз просит теща. — Дом принимают по забору.
— А у нас сапожник, и без сапог, — улыбается жена. Она раскраснелась от полстопки водки, улыбается широко, по-воскресному, радуется миру в семье.
— Будет забор, — обещает Карпухин. — Будет и забор, и два забора, и белка, и свисток. Только спокойствие, джентльмены. Не подгоняйте.
— Тебя не подгоняй, так ты с места не стронешься.
— Вот ты какая. Села на шею, да еще ногами подгоняешь.
— Ну, на тебе не покатаешься, — говорит теща. — Где сядешь, там и слезешь.
— Ладно, все будет. Хороший ты человек, старуха. Горло не дерешь. Вовремя меня прихватила. А то бы так и прыгал по свету.
— Да ты уж и попрыгал свое. Все никак не отдышишься.
А потом, разморенные, сидят на крыльце. Отец с сыном Тишкой начинают играть. Война. Казаки-разбойники.
Прячутся в огороде.
Бах-бах — из пистолета.
Та-та-та — пулеметная очередь.
Отец падает навзничь. Тишка тычет его в грудь палкой — убит отец. Вдруг — ах! — палка в сторону — попался!
Сын захлебывается от счастья. Жена, теща — все смеются.
А потом бросаются на одеяло за домом, спят до пяти часов вечера, потом лениво бредут к заливу, и вдруг — сына на плечи и бегом, бегом до того черного камня. Какие еще заботы? Одного балбеса на ноги поставили, вот и второго поставим. И пусть себе катится жизнь, как колобок, как румяное яблочко.
А если кто заноет, мол, стареем, мол, жизнь проходит, а на счастье мы так и не поглазели, и в руках-то его не подержали, а уж мы ли не искали его, мы ли не посбивали свои подметки, так а где же оно, когда же оно и к нам приплывет, — а помнишь картофельную лушпайку, как ждали мы наших отцов из дальних мест, а потом носили армейские сапоги и ходили в караул, а потом сразу растили детей и работали, чтобы этих детей кормить. Ты, так понимаем, помнишь все это.
Так утри себе нос, губошлеп. И поскорее утри. Она на то и жизнь, чтобы проходить. Крыша над головой, сыт всегда, и все есть в доме, так что еще надо? Прожили вместе восемнадцать лет, проживем и еще двадцать восемь, а время придет — что же, конец матчу, два — ноль, и все не в нашу пользу, собирай вещички, воду сливай.
Так и не зуди под рукой, дай человеку идти по привычной дороге, отвори ворота, дай спокойно дойти до крайности.
А внизу лежал тяжелый залив, и над ним сгущались сумерки. Они мешались с туманом и мелким дождиком, гнал их ветер, и они медленно, тягуче вползли на стадион.
Снова повисли шум, свистки и топот.
Музыка оборвалась. Сразу в сердцах тревога поделилась, сразу стало тихо — и вдруг наши и не наши выбежали на поле — держись, мальчики, гвоздили вопли, под орех разделаем гостей этих. Быть, быть нам в первой десятке!
— Я загадала, — тихо сказала Мила. — Если наши выиграют, все будет в порядке.
— У нас, что ли?
— У нас с тобой.
— Да ты что? — возмутился Карпухин.
— Я так загадала, — пожала плечами Мила.
А на поле-то был бой в Крыму и все в дыму, и наши зажали этих бедолаг в штрафную площадку и обстреливали со всех сторон.
Вдруг — и-а-а-а, землетрясение, вулкан взорвался, свету конец. Прыгали, целовались, мяли бока друг другу. Ай да Слава! Ну и плюху дал? Бросали кверху шапки, прыгали к небу, все за тучку старались ухватиться ловкачи, и двум гаврикам это удалось. Они крикнули сверху: «Ура нашим!» И рвалось над стадионом: «Мо-лод-цы!» И кто-то гудел трубой, и улюлюкали, крутили сальто, пускали в небо ракеты.
— Вот видишь, — сказала Мила, — так мы и выиграем.
— Да, выиграем, — сказал Карпухин. — Понятно, выиграем. Как иначе. Только бы продержаться. Два — один в нашу пользу.
Да, только бы продержаться. И тогда все будет в порядке. Немного-то и осталось.
Познакомились они почти полгода назад.
На майские праздники компания собралась у Пашковых. Свой дом. Мебель снесли в одну комнату. Застекленная веранда для стола. Большая комната для танцев. А компания — ха-ха, с большим приветом — пять пар, десять человек.
Солнце слепит глаза, пусть оно раннее, пусть нетеплое, но вот ведь как навалилось.
И-их, закуски-то нам какие подвалили, братцы, какие хлеба — дымится жаркое, белеет рыба, и грибки маринованные, а селедочка-то с зеленым лучком, и огурчики домашнего посола, да маленькие, тугие с колючими пупырышками, и сыр, и колбаса — ох, навалимся, братцы, ох и погудим, это же на то и праздники, чтобы веселая собралась компания, это же награда за ежедневную нашу жизнь, за работу нашу доблестную.
Чернеет земля в саду, поднимается осторожный пар, птицы уже поют, вот-вот взорвутся почки — есть за что выпить. Это же весна, и это наш краснознаменный праздник. Суетливо, с разлету, закусили, все сразу повеселели, и беспорядочные пошли разговоры.
Вот рядом Раюшка сидит — щеки разрумянились, глаза посверкивают — орлица прямо тебе — и плечом поведет, и бровь сломает, и с соседом похихикает. А казалось, однажды в детстве заснула и не может проснуться. Дома ходит сонная, медлительная, и ничего-то ей не надо — только бы мир в семье, да достаток, да дети здоровы. Но может же в праздники просыпаться.
А вот медленно наливается добряк Пашков, хозяин дома, короткопалый, с тугим животом, с мышцами крепкими типа «не тронь меня, хулиган».
А напротив жены сидит Мила, кассир гастронома у Парка Победы. Тоже развеселилась. Над ее головой висит солнце, и волосы ее от солнца светятся. Глаза защищает ладошкой. Ладошка горит, и сквозь розовость ее просвечивают голубые глаза. Солнцем залито плечо Милы.
Совсем хорошие праздники получаются, но вот только какая-то нервность сегодня в Карпухине. Вроде что-то должно произойти, а вот что — и сам не знаешь.
Нет, видно, пришло его время — пора петь песни. Но он еще немного потерпит.
А рядом с Милой сидит ее муж Володя, он одного года с Карпухиным, мастер на «Электросиле». Тихий такой, молчаливый. Волосы уже начали редеть, на висках намылилась седина. Глаза грустные, задумчивые — птичьи глаза. Ничего, может, повеселеет. Смотришь, и песню подпоет. Он, понятно, не из тех, кто сам затянет песню, но да это и не нужно — затянет Карпухин.
Вот и сейчас все попросят Карпухина. И все просят. Еще бы — он всегда в центре внимания. Ему дали гитару, да что вы, братцы, я еще не в форме, но сам зиял: давно уже в форме, и посмотрел на Милу, ну как — играть ему или нет. Понял — играть.
Сначала песни для всех. Вот вам «Последняя электричка». А вот «Любовь — кольцо». Понимаем, любовь — кольцо, а у кольца начала нет и нет конца. Когда играл, смотрел на Милу. Она подпевала. И подпевали все — и Пашков, и Володя, муж Милы, и другие мужчины, а также и все женщины.
А потом все поотстали, и Карпухин понял — ну, он сейчас даст, он споет свою песню. И петь он будет для этой вот женщины. У нее горит под солнцем голова.
И Карпухин запел «Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят», — а ты с какого года, парень, да с двадцать пятого, ну, ты еще салага, а я-то с двадцать четвертого, и полегли они все, а ты мог стоять вместе с ними и тоже полег бы, родись на пять лет раньше, но тебе повезло, а парни так и не поднимутся, так и сложили они свои головы, а лучше их не было во всем свете. И никогда не будет.
Потом все молчали. Смотрели в пол.
А Карпухин встал и подошел к окну, долго смотрел в сад, вышел в другую комнату, прошел из угла в угол. Ах, да что там. Вышел на крыльцо. Там успокоится.
На крыльце стояла Мила. Карпухин подошел к ней и положил руку на плечо. Она не обернулась — знала, что это рука Карпухина.
Стояла тишина. Коротко пропела птица. Солнце залило полнеба желтизной.
Слышал, как колотится сердце. Знал, и она это слышит. Знал, сейчас жареный петух клюнет его в темя, и тогда будь что будет. Так входят в холодную воду. Закрыл глаза, крикнул — ах! — и пошел.
Рывком повернул Милу, прижал к себе. Было очень тихо. Карпухин боролся с одышкой и взрывами сердца.
В сарае стоял полумрак. Свет проникал только в щели. Стояли лопаты, лом, верстак, неостругаиные доски.
А наверху начались танцы. Кто-то взвизгнул. Это, верно, Раюшка. И дробь каблуков послышалась. И кто-то грузно присел. Это, верно, Пашков, хозяин дома.
Праздник прошел, и Карпухин не вспоминал его. Праздник и праздник, в следующий раз компания соберется только в ноябре, а за это время столько всего утечет, что и вспоминать не о чем.
Но однажды вечером в середине мая он подрабатывал в Московском районе.
Садясь в метро у Парка Победы, он вспомнил вдруг, что вон там за углом гастроном и Мила в нем кассир.
Он вспомнил праздник и улыбнулся. Здорово получилось. Напал, как коршун. Прямо тебе не Карпухин, а бандит какой-то. Так а почему не повторить пройденного? Очень уж здорово все получилось.
Сегодня вечер, дело позднее, можно договориться на другое время. Только бы она работала сегодня. А уж свое дело Карпухин знает. Защелкает соловьем, сделает стойку на руках, станцует лезгинку, пройдет колесом — дело известное. Да и потом по знакомой дороге идти куда как легче, чем по незнакомой.
Он встал у витрины и ждал до девяти часов, до закрытия магазина. Но Мила не вышла. Черт знает, почему она не выходит. Он торопливо ходил по тротуару у магазина, жадно курил. Черт знает, что с ним такое. Уже половина десятого, а Милы нет. Плохо будет, если она не выйдет. Ничего, понятно, не случится, но это будет плохо.
Мила вышла в десять часов.
Увидев ее, Карпухин быстро пошел навстречу, почти побежал — герой, молокосос, корка под носом.
Вот сейчас Карпухин защелкает соловьем, и то, и другое, и третье скажет, а также ух какая ты красивая.
Но вдруг он увидел, что Мила очень устала и лицо ее посерело, на лбу и под глазами въелись морщины, шла она медленно, как-то бочком, наклонясь влево, потому что в левой руке несла хозяйственную сумку, и в ней видна была бутылка молока с полосатой крышкой, и батон, и свертки.
А раньше видел ее веселой, праздничной, и от неожиданности Карпухин осекся.
Молча взял сумку. Да, понимал, у нее семья и домашние заботы, а он об этом вроде и не подумал, человек и человек, от забот никуда не уйти, это не то что цветочки срывать на лугу.
Шли они медленно, потому что никого не мог подгонять этот вечер.
Горели окна домов, горело небо вдали.
А тебе бы сидеть на лавочке у дома и курить папиросу, не обивать бы чужие пороги, и ты смотри, как все тихо и светло, а весь дом давно спит, и падучей звездой летит за забор твоя папироса, и ты боишься шелохнуться, чтобы не вспугнуть эту ночь, — ах ты мать честная, как все тихо вокруг.
— Ты устала, что ли? — тихо спросил Карпухин.
Мила молча кивнула.
— Ты всегда так устаешь?
— Всегда. Все ужасно спешат. Всем некогда. Раньше так не спешили.
— А ты давно кассиром?
— Шестнадцать лет.
— И не привыкла?
— Нет. Это двенадцать часов. Когда выходишь, все прыгает в глазах. Трамваи, и ты, и вот все. Ну и устаешь. А на следующий день спишь. Выходной день. Тебе это скучно. Ты же не для этого пришел, вот чтобы слушать про мою работу. — И она, подняв голову, вроде бы извиняясь перед ним, попыталась улыбнуться, но улыбка вышла усталой, и морщины не разгладились, а въелись еще сильнее.
А за что извиняться-то перед ним? Ведь все понятно. Устал человек и идет себе домой, а тут Карпухин прыгает, и своих-то забот навалом, а он еще про праздники напоминает, куда же деться от ежедневных забот — понимаем, все понимаем, она говорит с ним, а мысли ее вот там, дома, за тремя трамвайными остановками.
— Так это же наша работа, — тихо сказал Карпухин. — И что же тут поделаешь? Жизнь это. Как иначе? На то и работа, чтобы уставать.
— Да, — охотно согласилась с ним Мила и спросила: — А ты что здесь делал?
— Да вот подрабатывал. Книжную полку одному старичку делал.
А что же он будет врать? Петь, мол, только к тебе и приехал? Чего уж тут лихачить. Устал человек, и пожалеть его надо, и успокоить, и тут уж не до вранья, тут дело серьезное.
— Забавный такой старикан. Всю жизнь книжки собирал. Теперь, говорит, и время читать пришло. На пенсию вышел.
— И как сделал?
— Ничего себе. Как можем. Пока никто не жаловался. Давно когда-то первую полку сделал, с тех пор приглашают. Без работы не сижу. Все больше старые зовут — своя работа, не фабричная. Но иногда и молодые. Ну, понятно, устаешь. На работе свое отдай, а потом в город скачи. Так в первый раз неохота идти. Но придешь, замеришь. А потом уже и дело пойдет. Стружка тебе летит, а дерево, сосна например, звенит в руках, вроде бы оно еще живое. Когда сделаешь все, так вроде и веселее становится. Уходить уже вроде неохота. Как от себя оторвал. Так-то, если оно подумать, жить не просто, как чужому может показаться. И то да се. И заботы. А жить-то надо. Не будешь же порхать всю жизнь. Человек. Не птичка.
Сам удивлялся — вот ведь впервые разговорился с ней, а как все просто получается. Понимает тебя человек. И ведь серьезный разговор вышел. Так хорошо о жизни поговорили. С кем еще так поговоришь? Без камня за пазухой. И не надо держать хвост трубой, как с друзьями. Это же чудеса в решете.
Потом они подошли к трамвайной остановке.
— Все, — сказала Мила. — Дальше я сама. — И улыбнулась ему и кивнула головой. — До свидания, Витя.
Потом Карпухин ехал в электричке. И заметил, что все время улыбается. Вот ведь как хорошо поговорили. А говорят, нельзя понять друг друга. Да как же нельзя? Очень даже можно. И улыбку не прогонял. Вдруг эта улыбка вылетела из вагона и понесла Карпухина вперед — вон мгла и муть Новой Деревни, вон морщинка Черной речки — Карпухин пролетел над Лахтой и Ольгином и опустился на пятачке в центре поселка. Пора, пора домой. А через три дня, в субботу, он вдруг вспомнил Милу, ее невысокую фигуру, и улыбку, и глаза, и вот ведь как поговорили, и пожалели, и успокоили друг друга, — и, вспомнив ее, улыбнулся, и вдруг улыбка сорвала его с места и понесла в Ленинград.
Она сидела за кассой. Не видела Карпухина. Он подождал, пока растает очередь. Потом подошел.
— Двадцать четыре копейки, — сказал, — «Беломор». А также две коробки спичек.
Мила посмотрела на него.
— Здравствуй, — сказал Карпухин.
— Здравствуй. Я сейчас, — сказала коротко. — Подожди на улице.
Через десять минут она вышла.
— Все, — сказала, беря Карпухина под руку. — Сказала директору, что мама заболела. Вот — соврала.
— Ничего. Как иначе, если без вранья нельзя. В другой раз ты кого-нибудь заменишь.
Они доехали до Витебского вокзала и сели в поезд до Вырицы. В вагоне было пусто. Вагон домашний, дачный, его тянет паровик. По-летнему жарко. Окна открыты.
— Директор отпустил тебя к маме. А у тебя мама-то есть?
— Конечно. У меня очень хорошая мама. Мы всегда были вместе. Никуда друг без друга. Как подружки. Пока я замуж не вышла.
— А где ты жила?
— На Пятой линии.
— А отец твой где?
— А на фронте остался. Я блокадная. Нас было пятеро. Саша, там, Коля, Володя и еще самый маленький Андрюша. А потом только я и мама. Как же нас было разлучить? Она не хотела, чтобы я замуж выходила. Понятно, не говорила об этом. Но я-то знала. Чего хорошего одной оставаться? А девчонки все рано повыскакивали. А я все думала, что всегда буду с мамой вдвоем. У нее сердце больное. После блокады. А потом она сама стала просить — хочу внуков нянчить. Куда тебе, мама, у тебя вторая группа? Ничего, родные внуки не тяжесть. Мне было двадцать пять, а я все не выходила. Не хотела. А потом тетя Тося — мы с ней зиму сорок второго вместе прожили — уговорила маму. У нее племянник — золото парень. И не пьет, и деньги хорошие получает. И не дерется, понятно, раз не пьет. Редкость парень. Тетя Тося уговорила маму, а мама уговорила меня. Я подумала — а верно, что одной-то оставаться? Других я, что ли, хуже? Ничуть не хуже. И семья все-таки. Наташке вон уже восемь лет. Я и вышла. И удачно. Верно?
— Верно. Хороший он парень.
— Хороший. Как тетя Тося говорила, так и оказалось. Живем не хуже других. Вот и все. А потом вот тебя встретила.
Они сидели в пустом вагоне и смотрели друг другу в глаза.
— А сегодня утром я знала, что ты придешь.
— А я и сам не знал.
— А я знала.
— Просто вдруг вспомнил тебя и погнал на вокзал. Сразу.
— А я как раз подумала о тебе. Полчаса до перерыва. Устала я. Очередь собралась. Вот, думаю, хоть бы Витя пришел. Ты поэтому и пришел.
— Да, поэтому.
Они сошли на станции, где было только два дома. Вернулись поздно вечером. Это была их первая поездка за город. А потом пришло лето, жаркое и сухое. Никогда не было такого хорошего лета. Везет же людям. В июне не было ни одного дождя. Заскользили по земле белые ночи, одна за другой, все длиннее и длиннее. А в начале июля четыре дня лили дожди, но они так и не охладили землю.
Через три дня после дождей Карпухин и Мила сидели у костра в лесу под Вырицей.
Черт побери, какой вечер стоит. Это же обалдеть можно, какой вечер стоит. И тишина какая! И сосны под самое небо. А за лесом догорает солнце и все не может завалиться. Белые ночи отступают, но еще держатся. А костерок постреливает. И искры вьются в небо. А Мила сидит у костра и, щурясь, смотрит в огонь.
— Это хорошо, что выехали, — сказал Карпухин. — Это вся ночь. Везет нам. Жена думает, что я на рыбалку поехал. Я люблю у костра — искры летят. А ты, что ли, к маме поехала?
— К маме. Мне поверили.
— Нам все верят. Так заведено. Когда надо соврать, люди так скажут, что им все поверят. Это когда очень надо. А нам очень надо. Вот и везет. А как иначе?
— Иначе никак, — согласилась Мила.
Неотрывно смотрела она в огонь, обхватив колени ладонями. Маленькая. Притихшая.
А верно — иначе никак. Потому что уже полтора месяца в свободные дни Милы гонит Карпухин на Финляндский вокзал. То футбол, говорит жене, то другу помочь, а то и просто заработки, а на работе тоже врет, завтра доделаю, говорит, завтра спешить некуда, весь вечер проторчу, лопну, а доделаю. А сегодня ну никак, прямо зарез, такая работа горит, да сами-то свои люди, такие же вы, братцы, а за мной никогда не пропадет. Так что иначе никак.
Но зато и вечер же какой. Так бы вот всегда сидеть. И ничего больше. Это же мир на белом свете. И как спокойно. Прямо так спокойно, что еще немного — и захнычешь, как пятилетний пацан.
А Мила почувствовала, что он на нее смотрит, и оторвалась от костра, и улыбнулась — прямо не Карпухин перед ней, а дите малое.
— А я вчера весь вечер думала — только бы не было дождя. Вышла с работы, на небо посмотрела — только бы и завтра чистое было. А Наташка радуется: «Мама, мама пришла». А Володя говорит, ты усталая такая, я тебе чай подогрею. Нет, я сама. И думаю, только бы дождя не было. А он такой добрый. Ничего, говорит, мама поправится. А я говорю, пораньше спать лягу. Думаю, вот закрою глаза — и уже завтра. Утром проснулась в шесть. Не могу спать, и все. К окну подошла — солнце. И не знаю, что это со мной. Пришла на вокзал раньше на полчаса. Стою на нашем месте под большими часами. Вот, думаю, полчаса осталось. И я дождусь. А он не придет. Тогда, думаю, все. Тогда я пропала. Как же это так? — И теперь уже у нее лицо было грустное и виноватое, как у маленькой девочки.
— А я гоню на электричку, вот, думаю, тебя через полчаса увижу. Ну-ка, пусть меня кто остановит! Скажет — Карпухин, земля сейчас рухнет, остановись. Ну уж шиш. Никто не остановит. Пригнал на вокзал, а ты под большими часами стоишь. Ну, все нормально.
— А я часто думаю — вот был бы ты сейчас, так и поговорили бы. Поговорить же не с кем. С мамой если. Но ей же всего не расскажешь. Что-то мешает. Все-таки мама… А с тобой — нет. С тобой ничто не мешает. Я вот говорю — и все.
— А я, что ли, не так? С кем я могу поговорить? Да ни с кем. На работе, что ли? Или дома? Вот сейчас говорим — и так бы всегда.
— Я всю жизнь молчала. Ни с кем и не могла говорить. А в последние годы и вовсе. И на работе, и дома. Но уж за эти полтора месяца я наговорилась с тобой. За все прошлые годы. Да и наперед тоже.
Потом они молчали. Карпухин курил и, запрокинув голову, пускал в небо дым.
А солнце уже запуталось в лесу, все слабело и все не могло пропасть. Потом оно заскользило и на мгновение остановилось над головой Милы, и голова ее вспыхнула, как тогда, в их первый день, а потом солнце упало за лес, вон проскользнула одна тень, и вторая, и третья, и ночь стала синей, и вдруг вспыхнули в этой синеве яркие новые звезды, вспыхнули и сразу растаяли, а издалека, от того оврага, слоями поползли молочные туманы, и это же удивительно, какой зеленой стала ночь.
Утром Карпухин проснулся, когда выкатилось солнце.
Осторожно, чтобы не разбудить Милу, встал. Разжег костер. Согрелся. Вдохнул дым. Поднял голову — перекликались птицы. Налег спиной на сосну — ах, черт побери, как все-таки тихо. Провел ботинком по траве — ботинок сразу вымок. Роса блестит. А воздух синь. И розовый пар поднимается от земли. И как легко дышится — в легких колотье, и это же голова кружится.
Костер погас, и Карпухин стал раздувать огонь. Сломал ветку, выпрямился и вдруг почувствовал легкость во всем теле. Никогда не было такой легкости. Разжег костер. Поставил чай. Легкость все не покидала его. Тихо подошел к Миле.
Она спала, свернувшись в комочек. Маленькая какая. Дышит легко, как ребенок. А на лице улыбка. Светится лицо. И она такая теплая, что кажется — пар от нее идет.
Вдруг Мила открыла глаза и улыбнулась.
— Здравствуй, Витя, — сказала она.
Но чаще Карпухин вечерами сидел дома.
Вот он сидит у сарая, молчаливый, много курит, лениво переговаривается с женой и тещей. Сын Тишка вертится у ног, рад, что отец дома. Вот поздно вечером приходит старший сын Федя — ты опять где-то болтался весь вечер, и чтобы я тебя больше не видел с этими шалопаями, да не шумите вы, папаша, скоро уже надену звезду на шапку, в армию отчаливаю.
А вот теща, медлительная, грузная, хранитель мира в семье, а вот и жена Раюшка. Все бы ничего, но жена есть жена, и ты муж, и, как иногда говорит Раюшка за праздничным столом, мне чужого не нужно, но положенное-то отдай, и положенное отдать придется, и каждый вечер Карпухин боится, что ночью, во сне, он назовет жену Милой.
Каждый раз, когда Карпухин отворяет калитку родного дома, ему кажется, что кто-то в грудь ему всунул бомбу замедленного действия. Такую маленькую бомбочку. И она может взорваться с минуты на минуту. Вот Тишка лишний раз потянет за руку, вот жена что-то не так скажет, вот теща посмотрит косо — все! Карпухин начнет вопить на весь дом, мебель ломать, топтать огород. И так все лето. Вот сейчас он не сдержит себя и начнется свистопляска. Пока сдерживается. Но желание крушить есть каждую минуту. Домашние это чувствуют, боятся Карпухина и осторожничают с ним.
И всякий раз, вздыхая, думает — вот была бы здесь Мила, хоть бы поговорили. А то ведь и поговорить не с кем. Ну-ка расскажи кому-нибудь из друзей. Посмеются, по плечу похлопают — ну, ты молодец, Витя, жена у тебя будьте здоровы, за день не объедешь, а ты еще какую дамочку себе оторвал, это же праздничный пирог, а не дамочка, это же съешь и пальцы оближешь, ну, лихой-ты, однако, парень.
Да он просто болен, Карпухин. Ему лечиться надо. Только вот не помогут никакие доктора. Сам себе поможет.
Сегодня ляжет спать пораньше, а завтра проснется здоровым. И покатится себе гладкая привычная жизнь. Работа, дом, футбол, заботы. Все! Как раньше. Не может человек ходить с постоянной злостью в груди. Не может все время в груди торчать бомба. Она когда-нибудь взорвется. И все полетит вверх тормашками. Семья, дом, хозяйство. А все своими руками делалось. По камешку. По досточке. Вся жизнь. Но вот уж завтра он выздоровеет. Никуда не поедет.
Но все равно Карпухин знает — сегодня четверг, а завтра пятница, а потом будет суббота и он погонит на вокзал.
— На футбол поехал, — твердо скажет жене и отвернется, чтобы она не видела его нетерпения.
— Какой еще футбол, уехал же «Зенит», — услышит злой голос жены, а в дверях увидит тещу, она осуждающе покачает головой, баба умная, она не полезет не в свои дела, но уж осудить зятя — ее право.
— Так есть и другие команды, — отрежет Карпухин и зло добавит: — Умная какая нашлась! Есть «Динамо» и «Нева», — и сразу погонит на вокзал — а-а-а, гори все огнем, только болезнь в груди, жизнь отгорает, пролетает она, пропадает пропадом.
А назавтра Карпухин снова будет сидеть у сараев, будет много курить, жизнь свою клясть, знать, что вот сейчас, в следующую минуту, взорвется его злость. А потом в назначенный день Карпухин все бросит и помчится на вокзал.
Так было с ним каждый день, все лето пять месяцев.
А сентябрь был долгим, сухим, ездили за город часто, знали — скоро осень, и наконец в начале октября загвоздили холодные дожди. И тогда потерянно брели по лесу пары, это было под самым городом, темнеет рано, брели пары, а вдали свистела электричка, дожди грызли землю и лес, упали осенние сумерки, тихий гул стоял над лесом, пора, пора по домам, и тебе, и мне, электричка зовет нас, прошло безоглядное лето, это когда еще весна придет, прощай, прощай, пора нам.
А как они навалились на нас. И удар за ударом. И штрафной. И удар в штангу. И угловой. И еще удар.
И гвоздят. И гвоздят. И гвоздят.
И вдруг короткая подача — навес не на дальнюю штангу, а на ближнюю, и какой-то долговязый взмыл надо всеми и лбом уложил мяч под штангу. Стадион ахнул. И сразу молчание. Полная тишина.
— Да что же так, — протянул Карпухин и успокоил Милу: — Бывает.
Да, бывает. Все бывает. То ты, а то и тебя. Не все сразу.
Время еще есть. Мало, но есть. Когда тебе везет, ты говоришь: не так уж худо жить на свете, братцы, а потом везение вдруг кончается, и тебе забивают гол. А, да что там, время еще есть. Снова будет сиять солнце. Снова ты будешь срывать цветочки на лугу.
Держись, мальчики, неслись вопли, уж мы-то с вами, и нас здесь сто тысяч, и все мы вместе — горло к горлу, сердце к сердцу, с вами мы, братцы, так и вы не подкачайте.
И они задвигались — прощание до весны, матч последний, бегать, ребята, бегать, есть еще порох, и пошли, голубчики, и Слава, и Юша, и Пингвин, повалили, братцы.
Сумерки все сгущались и сгущались, и уже таяли фигурки на поле, а Карпухин курил папиросу за папиросой и бросал окурки под ноги, все нервничал — дело это такое, выиграть бы надо. Не то чтобы зарез без двух очков, но должно бы повезти. Раз уж так положили.
Ветер рвал голубую накидку, и Карпухин еще сильнее обнял плечи Милы, и сердце ее стучало у него на груди и сливалось со стуком его сердца, и было трудно дышать, и это было одно сердце.
Ну, давайте же, братцы, пас точнее, и друг другу помоги, и выйди вперед, надо же ведь выиграть, раз такое дело. Немного-то и осталось. Должно же нам повезти.
И они навалились. Атака за атакой. Волна за волной. Сейчас раздавим их. Выиграем. Обязательно выиграем. Быть иначе не может. Да повезет нам, братцы.
И вдруг кто-то из чужих украл в центре поля мяч и поволок его, а наши-то рты пораскрывали и замерли, а тот доволок его до штрафной и выстрелил в угол. А-ах — протяжный вопль пошел. Сердце оборвалось. Упало. Растоптали его ногами. И молчание. Только молчание. Тишина после взрыва.
Но тут свистки начали рвать тишину: балерины, пижоны с Невского, тюлени.
Но поздно. Делу не поможешь. Проиграли.
А ведь так все было близко. Вот только руку протяни. Так близко. Вот она, победа. Только бы немного везения.
И вдруг — все! Финальный свисток. А те-то, победители, запрыгали. А свои-то понуро побрели в раздевалку. Их распинали свистки.
И уже сорванцы не выдержали и по рядам, по рядам бросились вверх. И сразу большое копошение началось, и стадион стал пустеть.
Только постоянные болельщики замерли на местах, застыли в молчании. Минута траура. Прощание до весны.
Карпухин свернул накидку. Еще раз посмотрел на поле, махнул рукой.
Так все было близко. Но поздно. Сезону конец, его не переиграешь. Счетчик Карпухина отстучал уже тридцать восемь раз. Через два стука — сорок.
Стадион опустел. Упала тишина. Ветер мел по проходам бумажные стаканы и подсолнечную шелуху. Поле утонуло в сумерках. Празднику конец. Уходи. Прощай. Сердцу сиротство.
Медленно поднялись наверх. Встали над заливом. Долго смотрели вниз. Ветер стих. Залив был тяжел и неподвижен — мертвый залив.
Прошли мимо табло. Обогнули северную трибуну. Вышли к центральной лестнице.
Внизу плыла черная река. Бесконечный поток людей. Сто тысяч. Все давятся в проходах, всех несет водоворот.
Пора согреться, друг, это же осень пришла, и это конец сезона, и что же нам остается, хоккей, что ли, но это уже не тот пирог, так и пора, пора согреться.
А река уже стала мелеть. Поток все уплывал и уплывал вдаль. Пора домой. А там, у горизонта, стоял густой туман, и река медленно уплывала в него. Вдруг стало пусто. Пробежали одиночки. Потом пробрели пары. Все пропало в тумане.
Карпухин ехал в электричке, курил в тамбуре, плевал в угол. Рядом стояли все знакомые ребята — Карасев с улицы Центральной, а также и другие, тоже все свои парни. Все ехали с футбола.
Да ты постой, Витя, ты успокойся. Это ничего, что проиграли. Тем дороже будет весенний выигрыш. Считай, что три — два в нашу пользу. Да чего там — ты помнишь, как уходили мы с последнего матча в шестьдесят пятом, а в пятьдесят восьмом, ты помнишь, а в сорок девятом? Вот то-то и оно. Вот та-то и штука, братцы. Так и не вешай нос. Эх, придумать бы что-нибудь сейчас, согреться бы.
Карпухин молчал. Все свои лица. Поговорить бы с кем-нибудь. Но только не с кем. Да и не поможешь разговорами. Поздно. Делу не помочь.
Кто-то открыл дверь. Хлестнуло дождем. Засвистела электричка. Дверь поспешно закрыли. Как темно стало. Как рано темнеет.
А электричка свистела и уносила Карпухина от Ленинграда, домой. Пора. Пора. Осень пришла. Сезону конец. Свистит электричка. Дожди льют. Прощай. Прощай.
Оля и Коля
Ольга Васильевна жила хорошо: ела сытно, спала до полной услады, денежки у нее водились.
Да и как денежкам не водиться, если работала Ольга Васильевна в столовой туберкулезного санатория. И пенсия идет, это само собой.
Для своих шестидесяти одного года выглядела она очень даже неплохо — покуда была женщиной в теле, не забывала про косметику, и потому лицо было сравнительно гладким, носила глухие платья, мол, женщина она строгая, на голове всегда аккуратно покоилась блестевшая лаком башенка, словом, ей и шестидесяти никто не давал.
А почему так? А потому что человек живет один раз, и следует жить сытно и гладко, заботясь более о себе, чем о людях посторонних: они, посторонние люди, и не вспомнят о тебе, когда улетишь ты подальше от этой земли.
Детей у Ольги Васильевны не было. Соседям и знакомым она, разумеется, жаловалась, мол, не дает господь детишков малых, а он и правда не давал, однако Ольга Васильевна не особенно и огорчалась — оно ведь и для себя пожить следует нехудо. Конечно, мужа своего Петра Павловича — его все звали Петропалычем — она шпыняла, дескать, не выполняет он свой мужской и человеческий долг на нужном уровне, но это скорее для виду, чтоб Петропалыч знал свою вину и свое место.
А Петропалыч оправдывался, дескать, у него есть дочь от первой жены, но ему резонно указывалось, что нужно доказывать и доказывать, чья это дочь, потому что Анька (подруга Ольги Васильевны и первая жена Петропалыча, соответственно) не такая уж была недотрога.
Знаю, потому к тебе и ушел. Но я-то — другое дело. Да, ты-то — другое дело. Тут они были едины: она — другое дело, глупостями помимо мужа заниматься не станет.
Да, прожили они с Петропалычем чуть не четверть века, прожили более-менее сносно. Ну, Петропалыч был портным в военном ателье, если и закладывал, то исключительно с халтур, зарплату донося до супруги целехонькой.
Понятно, заначивал: то в щель дивана красненькую засунет, то в беломорину, но тут Ольга Васильевна была прямо-таки ищейкой.
Ну вот. Удобный, значит, был муж Петропалыч, зарплату приносил, еду варганил себе сам — оно и понятно, раз Ольга Васильевна ест из казенного котла — ну, и мужчина в доме, это и для здоровья, и для жизни полезно — все в квартире переделает, и не нужно нанимать постороннего человека на предмет ремонта. И, конечно, супруг законный — укор безмужним женщинам.
Но семь лет назад Петропалыч помер — старше был на шесть лет, да женщины, говорят, и живут подольше, — а только Петропалыч выпил, его привели домой, бросили на диван, Ольга Васильевна пришла с работы — спит человек. Да так во сне и отлетел.
А тут Тонька Ярцева — сорок лет в одной квартире маются — слух пустила, что Ольга Васильевна отравила супруга с целью овладеть его тайной сберкнижкой. И чтоб пресечь такие слухи, Ольга Васильевна настояла: а вы его вскройте. Ну, и доказали, что помер Петропалыч исключительно законной смертью — большой инфаркт случился у человека во сне. Разом отлетел.
Сберкнижка тайная нашлась, но на ней слезки одни — только на памятник и хватило. Но уж памятник — это да! — из лучших. Там и рисунок выбит — молодая вдова плачет, а слезы так и капают, ну безутешная же.
Это чтоб Тонька Ярцева утерлась — у нее там неподалеку дочь лежит, так крест обычный и фотография на жестянке.
А на пасху ли, на троицу Ольга Васильевна всегда наденет платок черный с кружавчиками да на могилку Петропалыча сходит, цветов принесет, и не самодельных, но исключительно живых. Потому что память об ушедших — это дело святое.
А потом вдруг — вот и здрасьте — Ольга Васильевна как бы по новой замуж вышла. Без регистрации, конечно, а все одно почти муж. Правда, приходящий. Коля Никифоров такой. Он на пятнадцать лет моложе.
А вышло дело так. Ольга Васильевна наняла Колю наколоть дров — она хоть и в двухэтажном каменном доме живет, но отопление-то печное. Наколол Коля дров, сложил их, все чин-чинарем. А Коля грязненький, иссохший, выпивку ждет. Он когда-то хорошим слесарем был, а потом начал потихоньку сходить с круга, да и вовсе сошел — пробивался случайными халтурами — дрова колол, бутылки сдавал, прочее. Ну, чтобы выпить да заклевать дело такое. Жена, понятно, развелась с ним, выписывать не стала — некуда выписывать. Да Коля и ночевал где придется — дом там, где выпивка.
Ну, исполнил Коля дело, расплатилась она с ним, как договаривались, а сверх договоренного Ольга Васильевна бутылочку выставила. Ну и еду какая была — нормальная еда.
И вот ей понравилось, как Коля Никифоров с бутылочкой управляется — не суетится, не глотает жидкость судорожно, еду руками не хватает, нет, все степенно. Воспитанный человек — когда-то слесарем был на авторемонтном заводе.
И вот что характерно: Коля прямо на глазах меняться начал, жизнь его с каждой принятой рюмкой текла как бы в обратном направлении: вот уж пропала зачуханность, вот распрямился человек, вот и нотки требовательные появляться начали. А когда бутылочку прикончил, то и вовсе почувствовал себя полноправным хозяином. Ну поджарь, хозяюшка, еще мяса да сходи еще за бутылочкой — и слегка по столу постукивает.
Ну прямо на глазах человек из ханыги превратился в начальника.
И вот это Ольге Васильевне как раз понравилось — Петропалыч всегда лебезил перед ней, заискивал, — а этот тебе налился и требует, отдай и не греши. Ну хозяин полноправный.
А после второй бутылочки лег Коля — на диванчик Петропалыча и всхрапнул. Ночью же, очнувшись, не очень-то, видать, соображая, где находится, увидел утопающую в перине женщину, ну и присоседился к ней.
И что характерно, Коля так ловко присоседился, что Ольга Васильевна даже изумилась.
А Коля, слова не сказав, лег на диванчик и сразу заснул.
И утром, перед тем как отправить Колю, Ольга Васильевна так это заметила, что если он захочет снова прийти в гости, то будет его ждать бутылочка и сытная еда.
И стал Коля разок-другой в неделю заходить к Ольге Васильевне. А чего не зайти, если твердо знаешь, что будет питье, еда и чистая постель. От него же требуется малость — внимание небольшое к одинокой женщине. Это же вроде два раза в неделю у него праздник — не надо заботиться о корме и питье.
Ну вот. Он приходит и дает два коротких звонка. Однако Ольга Васильевна к двери не идет, ждет, пока откроет Тонька Ярцева — пусть удавится от зависти, на нее-то никто не польстится, а Ольга Васильевна еще, выходит, хоть куда, если у нее постоянный друг, который на пятнадцать лет моложе.
И слышит она, как Коля робко спрашивает:
— А Оля дома?
А Тонька идет по коридору, зло повторяя «Оля! Оля!», ну вроде всякую пенсионерку зовут как пионерку.
А Ольга Васильевна выпархивает в коридор:
— Входи, Коленька, — со щебетом.
А он и рад — ведь никому на свете не был нужен — грязное пятно на бальном платье жизни, а тут хлопочут перед ним, угодить стараются.
И Ольга Васильевна со щебетом усаживает его, мол, отдохни малость, мясо сейчас дойдет, уж и не знаю, как вышло, — да вышло, конечно, никто лучше тебя не стряпает.
А на столе парадная скатерть, да салфеточки Ольга Васильевна положит, и рюмку ему хрустальную синюю, и лишь когда оборудует стол целиком, достанет из морозилки бутылочку — ну вид дать, что он же не ради бутылочки пришел, но ради хозяйки, а еда и питье — чтоб принять гостя дорогого.
А Коля хоть всегда строг с хозяйкой, однако, размякнув после еды, непременно скажет:
— Хорошо у тебя. Останусь сегодня, а?
— Конечно. Куда же ты пойдешь в такую темень.
И постепенно Коля привык к Ольге Васильевне.
Года два так это и продолжалось. Коля даже и на работу пристроился — грузчиком в гастроном, и полгода там продержался. Ольга Васильевна не только его подкармливала, но и приодела малость — ботиночки, пальто, костюмчик — оно приятнее, когда человек одет чисто.
Ну вот так и длились бы эти встречи, но ведь ничто на белом свете не длится долго, так ведь, а? Ну.
Однажды Коля, уже выпив и закусив, сидел на диванчике, потянулся он малость, зевнул, хотел уж было сказать привычное, пора, Оля, и баиньки. Потянуться-то он потянулся, но лицо его вдруг искривилось, Коля замычал да и сполз на пол. Лежит на полу и мычит. Ольга Васильевна бросилась к нему, да Коля же, Коля, а он только мычит и не может двинуть правой рукой и ногой.
Словом, парализовало человека. Вызвала она «скорую помощь», и Колю увезли. А Ольга Васильевна села у окна и весь вечер проревела. И уговаривала себя, чужой же он ей человек, Коля этот, и мало ли кто на свете болеет, однако ничего с собой поделать не могла так и ревет, так и ревет. Да.
Утром пошла Ольга Васильевна в больницу, а Коля, бедолажка, лежит, шевельнуться не может и мычит.
И было понятно, что если Ольга Васильевна не выходит Колю, то никто его выхаживать не будет — это точно. И Коля отлетит — другого пути для него нет.
Она взяла отпуск и три недели просидела у Коли — кормила с ложечки да перестилала. А какую еду приносила, да ведь все за свои любезные. Что-то в ней переворохнулось, и ей почти не было жалко своих сбережений. И уговаривала себя: ну вот зачем ей большие сбережения в дальнейшем, если жить осталось не так уж и много.
В больнице к ней относились как к матери Коли, а кто знал, что Ольга Васильевна вовсе не мать, тоже не бросал в нее камень.
Ольга Васильевна и сама себе удивлялась: никогда прежде ни за кем не ухаживала, а сейчас получалось, что это даже и приятно — покормить неподвижного человека. Конечно, будь возле Коли хоть кто-нибудь, говорила себе, она охотно бы отскочила в сторону. А так — ну не пропадать же человеку. Без нее Коле не выкрутиться. А она потом всю жизнь будет виноватой?
Хотя нет, не в будущей вине дело — мало ли кто отлетает без ухода и помощи, и ничего, смиряется с этим Ольга Васильевна.
Нет, дело не в боязни будущей вины, а в том, что Ольге Васильевне нравилось выхаживать Колю. В этом дело, и оставьте, прошу, глупости, вроде в беде бросать нельзя, не по-людски это, прочее. Заболей она, кто-нибудь выхаживал бы ее?
Но и радость какая была, когда понятно стало, что труды не пропали даром. Вот Коля, спотыкаясь на каждом слове, начал говорить, вот движения появились в руке-ноге, а когда его поставили на ноги и он сделал несколько шагов, Ольга Васильевна вовсе зашлась от гордости — это же все ее труды.
Коля был своей болезнью не только что ошарашен, но раздавлен, и Ольга Васильевна утешала его как могла, да ничего, Коля, видишь, как быстро выздоровление пошло, через пару месяцев, глянь, и бегать начнешь, а ты еще и по-другому посмотри, оно ведь в болезни и польза есть, теперь ты пить бросишь. Да уж какое тут питье, горько соглашался Коля.
Однажды вывела она его в коридор. Коля пошкандыбал в темный закуток и там пробормотал, мол, спасла ты меня, Оля, и вдруг, как малый ребенок, бессильно заплакал, и от этого плача сердце Ольги Васильевны поплыло, словно облитое горячим маслом.
И тогда ей понятно стало, что не сумеет бросить Колю и в дальнейшем. Куда ты его бросишь? Жилья-то у него нет никакого. Выходит, в дом инвалидов? Но жалко. Вот ведь как жалко. Хоть и чужой почти человек. Но жалко, мать честная.
И когда Колю выписали, Ольга Васильевна взяла его к себе.
Хоть он и ходил, но уж очень ногу тянул, хоть говорил, но понять было трудно, и отскочить от забот Ольги Васильевны Коля никак не мог — еду ему сготовь, да покорми, да помой, да выведи погулять. Конечно, дали ему кое-какую пенсийку, но малую — оно и понятно — тунеядствовал же человек. Жили главным образом на пенсию и зарплату Ольги Васильевны, а также на ее сбережения.
Свободного времени у нее теперь не было вовсе, она все время крутилась: утром покорми Колю да беги на работу, а в обед прибеги домой да снова его покорми, а вечером выведи гулять, да обед на завтра сготовь, да постирай.
Но ведь и радости ведь какие были. А! Вот Коля самостоятельно зажег газ, вот сказал несколько новых слов. А сегодня, мать честная, дошел не до Парковой, а до Пионерской. А это на пятьдесят шагов больше.
Праздник
Костя Евсеев уже пятнадцать лет чинит в лаборатории аппараты, и ему отладить любой аппарат что стакан семечек сощелкать.
В лаборатории-то Костя совместитель, а постоянно работает на заводе — тоже с аппаратурой дело имеет, и это очень удобно — запчасть прихватить с завода может, ну раз для пользы дела.
Ну, когда нужно, ему звонят из лаборатории. Если срочно, Костя идет после работы в тот же день, а не срочно — так на следующий день. И денежку — пятьдесят пять любезных — ему отваливают недаром — вечерок-другой в неделю поколупаться приходится.
Костя приходит в четыре и возится часов до восьми. Да, а лучшего мастера для этих аппаратов в Фонареве нет. Костя и сам в этом уверен, и сумел такую уверенность внушить Алексею Григорьевичу — заведующему лабораторией. Он всегда при Костиной работе присутствует, ну принять работу, кабинеты закрыть, прочее.
Да, Алексей Григорьевич — хороший мужчина, незловредный такой мужчина, не кобенится, мол, я кандидат каких-либо наук, а ты, мол, темноватая кость, так делай побыстрее и испаряйся порезвее. Этого нет.
Ну вот, Алексей Григорьевич уважает Костю, а Костя, в свою очередь, уважает Алексея Григорьевича. Да разве же Костя один? Вроде и представительным человеком Алексея Григорьевича не назовешь — и росточком мал, и тощ, как подросток, и голова голая с седеньким венчиком на затылке, а его уважают, потому что считается он человеком безотказным. И, мол, в своем деле знает ну прямо все. Вот такое общее мнение имеется об Алексее Григорьевиче.
Ну вот. День был как день. Косте сказали, что нужно сделать — ну лентопротяжку заедает, ну чернилка брызгает, девочки упорхнули домой, и Костя остался с Алексеем Григорьевичем.
Ага. А был зимний вечер, за окном покручивала метель, что-то отдаленно посвистывало, в кабинете же было тепло, и всяк занимался своим делом: Костя колупался в аппарате, Алексей Григорьевич смотрел ленты, он держал ленту в правой руке, пристально всматривался в нее, затем тянул левой рукой и снова всматривался и записывал результаты этих всматриваний на бумаге.
Работали они, как всегда, молча, и лишь иногда Костя прерывал молчание.
— Лентопротяжку заедало, — говорил он.
Алексей Григорьевич, не отрываясь от лент, кивал.
— Я все исправил. Теперь гладко, — говорил Костя.
Алексей Григорьевич поднимал голову, некоторое время смотрел на Костю, словно не сразу узнавая его, затем говорил торопливо:
— Вот и хорошо. И спасибо вам, Костя, — а в голосе и верно благодарность, ну ведь помогли человеку, выручили, можно сказать.
И снова молчание.
А через некоторое время Костя снова включается:
— Чернилка брызгала. Так я перо сменил. Новенькое с работы принес.
— Вот и хорошо. И спасибо, Костя. А то девочки совсем замучались.
Да, день был хоть и обычный, но не совсем. Малость особенный день, и Костя чуток нервничал. Сегодня праздник — 23 февраля. В стареньком портфеле покоилась бутылочка — ее подарили на халтуре неделю назад. Красивая бутылочка такая. Из нее клюнули малость с хозяином, но тот оказался непьющим, а Косте принимать влагу одному — да никогда. А пробочка завинчивается. Красиво, и не прольется.
Это ладно. Не такой уж Костя питок, если разобраться, чтоб из-за близкой влаги нервничать. Ну с получки, ну с аванса, а чтоб здоровье надрывать просто так — да почти никогда.
А нервничал Костя оттого как раз, что хотел употребить эту бутылочку вместе с Алексеем Григорьевичем. А это была бы штука — никогда прежде не употребляли совместно. А давно хотелось, и не потому, что потребить, а потому что с Алексеем Григорьевичем. Как только эта бутылочка появилась, так Костя и начал думать, как бы ее верно использовать. А тут и удача подкатила — праздник, так что есть из чего мостик соорудить к Алексею Григорьевичу.
Да, поговорить очень хотелось. И не о разных там аппаратах, а вообще. Ну о жизни. Пятнадцать лет знаешь человека как лицо значительное, представляешь, какая у него семья, ну пацан и пацанка, и какое жилье, ну нормальное жилье, но это все так, внешние точечки, контур туманный, а так-то что человек думает, ну про погоду эту, или праздник нынешний, или же вообще, так это туманное в жизни, что и словами не обозначить, но лишь вздохами да намеками.
Послушать бы, как человек рассуждает, а рассуждать не захочет, пусть послушает, как ты рассуждаешь. Не о лентопротяжках или заземлениях, но о жизни. Да-а! Вообще о жизни. Может, он, Алексей Григорьевич, особенное о жизни понимает, что Косте и в голову не приходило. Или же понимает не особенно и много — такое тоже случается. Не больше Кости понимает, может.
Потому что когда долгими часами возишься с аппаратурой, то кое-какие соображения приходят в голову довольно охотно, и жизнь свою собираешь воедино как бы из осколочков, и всякий раз, как в детской игрушке, картинка никогда не повторяется.
А поговорить как раз и не с кем. С друзьями — но это же больше работу ругаешь, да заработки, да жену, что деньги пускает в распыл не так, как пустил бы их ты. С женой — но уж все говорено. Да заведи Костя что-нибудь такое с туманцем, издалека, с верхом, не-е, скажет, Костик, не мылься — не поброишься, не будет тебе на маленькую. Вот Алексей Григорьевич, пожалуй, другое дело. Так Костя и хотел: вот я вас послушаю, а вы меня, да и поймем друг друга, так ведь? Есть ли что интересней и важнее дела такого? А то каждый в скорлупке своей живет и никого к себе не пускает. Дело ли это? Нет, не дело.
— Алексей Григорьевич, вот случись война, кем бы вы были? — спросил Костя для завязки разговора.
— Что вы спросили, Костя? — оторвался от лент Алексей Григорьевич и даже глаза сдавил, чтоб скорее прояснить зрение.
— Ну кем бы вы, например, были, случись война?
— А не знаю, — улыбнулся Алексей Григорьевич. — В артиллерии, поди. Учили когда-то. А вы это к чему, Костя?
Вот это подставка: не нужно потягивать да накручивать — все готово.
— Так ведь праздник сегодня. День Советской Армии, — радостно сказал Костя.
— Ах, ну да. — И Алексей Григорьевич оглядел комнату, так обозначая, какой же это праздник, если мы с вами здесь кукуем в восемь часов.
— А у меня все готово. Все работает. Девочкам скажите, чтоб ленту не тянули. И так пойдет.
— Вот и хорошо. Спасибо вам, Костя, — сказал Алексей Григорьевич и поднялся — день закончен.
— У меня просьба к вам, — собрался с духом Костя. — Никогда ведь прежде. А хотелось. Вот и праздник вроде. За окном вон метет. Так давайте, это самое, чтоб войны не было, то-се, малость-малость, так, по-бодрому, и не задержу.
— Так что случилось?
— Бутылочка у меня, и если по чуть-чуть, — переполненный волнением сказал Костя.
— Ну что же, давайте. Раз метель. И праздник. Оно и хорошо.
Понял, понял волнение человека.
— Только у меня рюмок нет. Чашки есть.
— Да разница-то какая! — взмолился Костя.
Алексей Григорьевич ушел в закуток, что был устроен на манер кухни, и оттуда доносился его голос:
— Только печенье и конфеты. Еды нет.
— Так у меня бутерброды, — крикнул Костя, доставая из портфеля бутылку и сверток с едой. — Готовился ведь.
И когда чашки стояли на столе, взяв бутылку так, чтоб видно не было, что она не полная, плеснул влагу.
— Ну, чтоб небо над головой было мирным, — сказал Костя и показал Алексею Григорьевичу — начинайте первым.
— Это да, без войны бы, — сказал Алексей Григорьевич и, обозначив страдание на лице, жахнул влагу.
Да без запинки, да, опыт у человека имеется. Тем лучше — разговор будет вольнее.
Алексей Григорьевич, отчего-то посмотрев на Костю удивленно, поставил чашку.
А Костя опрокинул жидкость в рот и подавился и закашлялся.
А потому что в бутылке была чистейшая вода. Ну из-под крана.
И Костя медленно опустился на стул и потерянно смотрел на бутылку — поднять глаз не смел.
Нет, насмехаться человек не будет, это понятно, но ведь как стыдно. И уже не поговорить — вот беда главнейшая.
— Ну, Надька, ну, зараза, — сдавленно, чуть не плача, сказал он. — Подменила. Когда завтрак складывала. И все. Все, — потерянно повторял Костя, ясно понимая, что дальнейшая его жизнь никакого смысла не имеет. — Нет, жить я с ней не стану. И что дети! А я? Разве можно так?
— Да что вы. Костя. Это ведь шутка.
— Нет, это не шутка. Так и хотела. Знала все. Говорил ей. Так и хотела. И получилось.
— Ну, не огорчайтесь. Время-то терпит — за винцом еще не поздно сходить.
— Да разве же в этом дело? — уже огорчаясь, что Алексей Григорьевич не понимает его, горестно выдохнул Костя. — Дело-то не в этом. Нет, не в этом.
Он оделся и потерянно побрел домой.
Мало дали
У Сережи Воробьева был праздник — жена его Римма вернулась из дома отдыха.
Ну, не праздник, а скорее затяжные посиделки. Вот, мол, все наконец дома, и это славненько. Это скорее для Веры Алексеевны, матери Сережи.
Две недели назад Римме на фабрике предложили бесплатную горящую путевку. И это ничего, что октябрь и дожди льют, а все ж бесплатно, а все ж за последние шесть лет от дома ни на шаг не отрывалась. Вот и оторвись. Да как же ты с Лесей управишься, ну пять лет, это ж рано в садик отведи, да вовремя забери, да покорми, да постирай на нее. А сумеешь ли? Это вряд ли.
И тут помочь вызвалась матушка. Да поживу покуда с сыном и внучкой, а ты, Риммочка, отдохни от них. И так вроде охотно предложила, что и отказаться-то было нельзя. Так-то Римма со свекровью не ладят. Но зато всегда подмога — ну в кино сходить, прочие милости, — приходится смиряться. А делить им так-то нечего — живут раздельно.
Да, а Сережа прожил эти две недели как раз хорошо. Так-то при Римме не очень разгонишься. А тут он и к друзьям раза три сгонял, и придержался у них малость. Но без глупостей, понятно.
Да, а тяжело было как раз матушке, ну она же на два дома жила, получается. В своей квартире порядок держи (ну где Сережа и вырос), думай о Зое, младшей дочери (ей восемнадцать, в техникуме учится), и дом сына веди. Да и про работу помни (хотя это только в субботу и воскресенье — она за аттракционы отвечает — пенсионный приработок).
Значит, прожили они с матушкой хорошо. Как в прежние времена, до Риммы.
Ну а вчера Римма вернулась. Ну радуется, ох, как соскучилась, ребята, и спасибо вам, Вера Алексеевна, выручили так выручили, да я никуда там и не ходила, дожди ведь, спала по двенадцать часов — на пять лет вперед. Завтра просим вас в гости, посидим маленько, я кое-что раздобыла.
— А чего ты? — спросил Сережа, когда матушка ушла.
— Ну надо же внимание дать. Выручила ведь. Так-то ведь не особенно в гости зовем.
— Это ты хорошо придумала — праздник устроить.
И устроили. Так-то обычно ужинают на кухне, ну и матушка с ними, когда в гости приходит — хотя в последнее время все реже и реже, не особенно и зовут, — а зачем в доме две хозяйки.
А тут развернули стол в большой комнате, перед телевизором. Ну жареная кура была, и колбасу полукопченую Римма в отпуске раздобыла, и винца бутылочка, и для Леси пепси-кола.
Вместе телик посмотрели, картину хорошую показывали, как инспектор рыбнадзора засадил директора большого комбината за то, что тот рыбку потравил.
А Римма время от времени похваливала Веру Алексеевну, ну выручила и порадовала. Видно, Римма хорошо отдохнула. А Леся на бабке так и виснет — привыкла же — ни тебе шлепков, ни окрика.
Хорошо посидели, законно.
А матушка довольная, — рада, принимают в семье старшего сына как родную. Ублажили. Дали полное внимание. То есть вечер в ее честь. Чего прежде никогда не было. И будет ли еще когда — кто ведает.
Оценили-то, да покуда не совсем.
Главное-то ждало ее впереди.
Вчера Сережа с Риммой малость заспорили. Нужно, конечно, матушку отблагодарить, а только как это сделать?
— Ну, коробка конфет у меня есть, — сказала Римма. — И денег надо дать.
— А удобно ли? — засомневался Сережа.
— Неудобно не дать. А дать как раз удобно. Предложить, во всяком случае, следует. Старалась же. Вот сколько дать?
— Ну, десятку уж всяко.
— Конечно, пятерку и давать-то неудобно. Пятерка — не деньги. Не возьмет. Значит, десятку.
— Только ты уж сама.
— Само собой.
Ну вот, посидели. И пришло время прощаться. Как раз перед программой «Время». Ну, матушке спать пораньше ложиться. Она надевала пальто, а Римма ей помогала. Помогала и скорехонько так приговаривала, мол, выручили, Вера Алексеевна, и не знаю, как благодарить, где же ваш шарфик, да вот он, воротник-то поднимите, дождь идет.
А Сережа, уже одетый, ушел на кухню, ну вроде неловко же.
— Да вот конфеты хорошие достала. Красивая вроде коробка, — сказала Римма.
— Спасибо, — сказала матушка. Довольная будто.
— И вот еще возьмите. Только не обижайтесь. От сердца.
— А вот это не надо, — строго сказала матушка.
— Да от сердца же.
— Это не надо, — отрезала матушка и торопливо вышла.
Сережа бросился за ней.
— Провожу, — сказал он.
— Дождь. Промокнешь.
Но пошли вместе.
Дождь лил холодный, хлесткий.
Они шли и молчали. И чувствовал Сережа, что матушка обижена. Потому и молчит.
— Хорошо посидели, — сказал он для поддержки разговора.
Но мать молчала.
Они поднялись в гору. Предстояло пересечь грязный пустырь, и Сережа прошел вперед, чтоб выбирать и указывать матери тропинку во тьме.
— Вот сюда, мама. — И на безлюдном пустыре это выходило излишне громко.
Когда вышли на Партизанскую, матушка остановилась посреди лужи и вымыла резиновые сапоги.
— Ну и погода, — сказала она. — И что с нами происходит, не пойму. Куда все подевалось?
До ее дома они дошли молча. Так и не проходила, чувствовал Сережа, обида матери. Но знал он также, что матушка отходчивая. Куда денется без него и внучки? Заскучает и придет. А они с Риммой будут ей очень рады, постараются угодить, и обида пройдет. Так уж бывало. Стареет матушка, слишком обидчивой становится, это возраст — шестьдесят два.
— Ну чего ты, мама? — спросил Сережа.
— Да вот не пойму, что с нами происходит. Не так все стало.
— Все так, мама, все так. В субботу к нам приходи.
— В кино, что ли, собрались?
— Нет. Просто посидим.
— Спасибо.
И они расстались.
— Довел? — спросила Римма, когда Сережа вернулся домой.
— Довел. Обиделась она что-то.
— Да. И денег не взяла. Мало дали. Конечно, две недели вертелась. Сейчас няня пятьдесят рублей стоит. А тут с уборкой и готовкой. Двадцатку надо было дать. Не обеднели бы. Я же бесплатно ездила.
— Да, — согласился Сережа. — Мало дали.
Когда мы были молодые
За мясом стоять было некогда, и Валя купила в гастрономе пельменей, масла, рису и сахара, потом забежала в ясли за Алешкой. Она тянула его, но он не хотел идти домой, вырывался, прятался от нее за каждое дерево, показывал на проезжающие машины, смеялся повозке и медлительной тяжелой лошади, и тогда Валя взяла его на руки.
Уже совсем потемнело. Крупными мокрыми хлопьями шел снег, он мешался с дождем, тускло, маслено блестели голые деревья, фары машин разрывали пелену из снега и дождя, под ногами хлюпало, вода заползала за шиворот, в спину дул ветер, и Валя ссутулилась, чтобы ослабить тяжесть Алешки и уменьшить свое тело для дождя и сырости, и так понимала все время, что не для худых людей эта поздняя осень, не для худых, а для крепких и хорошо одетых людей. Она не завидовала таким людям, чтобы не заплакать, а думала, что вот же какой неудачный был день, вот же как подпортила дело Таисия Андреевна, старшая сестра поликлиники. Она пожаловалась на Валю Виктору Васильевичу, главному врачу, и Виктор Васильевич вызвал ее к себе. Он стоял у окна и смотрел, как падает снег.
— Таисия Андреевна жалуется на тебя, она недовольна тобой, Степанова, — сказал он, и Валя вздрогнула: она не может привыкнуть, что у такого крупного человека пронзительный, тонкий голос.
— Это несправедливо, — сказала Валя, — я хорошо работаю. Кого угодно спросите. За три года нет ни одной жалобы. Весь процедурный кабинет на мне. Это несправедливо.
— Она тоже говорит, что с работой ты справляешься. Только вот все время торопишься.
— Я кому-нибудь укол не сделала, да? Я кого-нибудь обидела, да? А что тороплюсь, так и все торопятся — мне надо сына из яслей забирать…
В горле стоял ком, и она все не могла его сглотнуть.
— Я просила Таисию Андреевну дать мне еще полставки, а у нее нет, она и рассердилась.
— В том-то и дело, — согласился главный врач. — Ладно, ты иди, и не торопись, пожалуйста. Что-нибудь придумаем.
Ком в горле не проходил до конца работы. Вале очень хотелось плакать, но для этого нужна была свободная минута, чтобы пожалеть себя, свободной же минуты не было.
Так некстати повредила ей Таисия Андреевна. Валя и сама собиралась зайти к главному врачу — он обещал ей комнату, — а теперь не так-то и скоро можно будет зайти к нему и напомнить про обещание. А так что же получается — за комнату, что они снимают, отдай, за ясли отдай, да вычеты, а они еще молодые, когда же жить-то они будут?
И ей вдруг так стало жалко себя, что, коротко оглянувшись и увидев, что поблизости никого нет, она прислонилась спиной к деревянному забору у нового дома и громко всхлипнула.
Она бы и заплакала, но увидела испуганное лицо Алешки, постаралась улыбнуться ему и заспешила домой.
Комнату они могли бы и не снимать, могли бы жить у родителей Андрея. Но родители к ней оказались людьми недобрыми. Они были против женитьбы сына. И это понятно — молод еще, только из армии пришел, учиться ему надо, а не детей нянчить. А уж если и жениться, то их сын может и получше жену найти. Потому что Валю никак не назовешь красивой — она худа и даже чуть сутула, и старше Андрея на четыре года. Он мог найти жену покрасивее и помоложе. И Валя была согласна с ними. Но она знала также, что Андрей любит ее, и уверена была, что не будет ему без нее счастья и что без нее он даже пропадет. Она и объяснить не могла, откуда в ней эта уверенность, но так всегда было, а сейчас и подавно. Она могла бы терпеть придирки и поучения его родителей, — ради Андрея она все согласна терпеть, — но Андрей не дал ее в обиду, и они ушли в чужую комнату.
Вдруг Валя почувствовала, как по шее, а потом ниже, между лопатками, ползет холодная струйка. Валя вздрогнула, телу стало колко, она повела плечами, чтобы платьем вытереть струйку, но это не удалось, тогда она распрямила спину, чтобы струйка сползла ниже, и телу стало так сиротливо и неуютно, что она снова всхлипнула. Но уже, заботясь о сыне, старалась, чтобы всхлип этот был похож на глубокий вздох.
Хлопья снега совсем пропали, шел холодный косой дождь, Валя свернула в свой двор.
Спотыкаясь, шла она по неровным булыжникам. Свет во дворе еще не зажигали, и, когда она остановилась и поддала правой рукой, чтобы удобнее посадить сына, почувствовала, что стоит в луже.
Да что же это такое, уже с отчаяньем подумала она, да это же никогда дожди не кончатся, Алешка простудится, и она тоже простудится и заболеет…
Все последние годы она никогда не думала о себе, но сейчас было так неуютно, что она подумала о себе и удивилась — да она ли это идет сырым темным двором, руки ноют от тяжести, ногам сыро, вдоль позвоночника ползет холодная струйка, — да она ли это. Она, она. Не все же быть дождю, скорее хотя бы и снег пошел, мороз ударил, у нее еще хорошее зимнее пальто, да и сапоги еще хоть куда.
Наконец они пришли домой. В кухне было пусто — хозяйка уехала на месяц к сыну в Калугу. Алешка не хотел раздеваться и долго возился в коридоре.
— Да разденешься ты наконец? — крикнула Валя.
Она редко кричит на сына, и от неожиданности тот широко раскрыл глаза, потом захлопал ресницами, губы его надулись от обиды, и он зашмыгал носом.
— Ну, будет, будет, — примирительно сказала Валя.
Ей стало жалко сына, хотелось приласкать его, и она поняла, что это все — она дома, и все обиды нужно позабыть, потому что в семье, кроме как на нее, не на кого больше рассчитывать.
Она знала, что Андрей приедет десятичасовой электричкой — у него два часа занятий в техникуме.
Ровно в десять часов электричка засвистела, шумно сбила ход, и слышно было, как она трется о платформу. Валя встала у окна на кухне…
Видны были длинные сараи и двухэтажный деревянный дом — между ними и должны пройти люди, спешащие с электрички.
Снова вялыми крупными хлопьями падал снег. Земля была уже бела. Дул ветер, качался скворечник на длинном шесте у сарая.
Как всегда, люди появились неожиданно. Шли они гуськом, как-то боком, забрав шею в плечи, продавливая черные мокрые следы.
Андрей заглянул в кухонное окно и, убедившись, что Валя ждет его, помахал ей рукой и вошел в дом.
Стряхнул воду с кепки, снял пальто и только тогда обнял Валю.
— Устал? — спросила она.
— Не в этом дело, — ответил он.
Губы его слегка дрожали, и видно было, что Андрей чем-то расстроен.
Когда он потер руки в ожидании ужина, Валя подумала, что он еще совсем мальчик. Только двадцать три года. Черты лица еще мягкие, плавные, еще не затвердели, как у взрослого человека.
— Баллон сменил? — спросила она.
— Сменил, — ответил Андрей, и по лицу его проскользнула дрожащая улыбка, чуть раскосые глаза его были печальны. — Еду, ты понимаешь, с этим баллоном, в электричку еле сел. В тамбуре битком народу, все после работы, злые друг на друга, голодные, толкаются. Я тоже голодный, спать хочу… — Снова губы его задрожали, и видно было, что Андрей переполняется жалостью к себе. А Валя забеспокоилась, не натворил ли чего ее Андрей.
Жалость к себе захлестнула его окончательно, и он говорил торопливо, глотая слова:
— Да что же это, думаю, за жизнь такая. И злость во мне на всех. Вот сейчас, думаю, возьму и взорву газовым баллоном, и все тут. — И он, видя испуг Вали, улыбнулся жалкой, усталой улыбкой.
— Ничего, ничего, — приговаривала Валя, и, как всегда, она ясно почувствовала, что для Андрея или же для Алешки она не только руку там или ногу отдаст, но легко и просто жизнь отдаст, и успокоилась — пока есть в ней такая уверенность, все будет в порядке.
— Ты голодный, ты сейчас поужинаешь, я сварила пельмени, а потом обжарила их в масле, да сейчас вот сметаной полью, и уксус у нас крепкий, и вот как вкусно будет, — говорила она тихо, не торопясь, но, однако, и не останавливаясь, таким образом убаюкивая Андрея, обволакивая его своим спокойствием.
А после ужина Андрей сел на кровать против кровати Алешки и, глядя поверх его головы на пожелтевшие обои, говорил, чуть покачивая головой:
— Я все решил. Хватит. Уже выучился. Брошу техникум. Рядом с моей работой есть воинская часть. Там монтер нужен по совместительству. Посменно. Времени хватит. Будем жить нормально. Комнату получше снимем. Будем жить, как все. Нормально. Пока очередь не подойдет. А может, тебе дадут и раньше.
— Нет. Нет, — перебила его Валя. — Ты так не сделаешь. Ты обязательно кончишь техникум. Мы так решили, ты выучишься и будешь хорошим строителем. Не захочешь в институте учиться — твое дело, а техникум ты кончишь.
— Да это же не один день, не месяц, это же еще два года.
— И что? Да, много. Но я придумаю что-нибудь. Полставки мне дадут. Возьму воскресные дежурства в процедурном кабинете. Это все временно. Мы со всем справимся.
— А жить-то когда же, Валюта? — вдруг не выдержал Андрей, охваченный отчаянием.
— А мы что — не живем? — удивилась Валя. — Да это и есть жизнь, — торопливо, боясь, что он перебьет ее, заговорила она. — Только это и есть жизнь. У меня есть ты и Алешка, и мне больше ничего не надо. Я счастлива. Все же остальное приходит и уходит. Я вот так. Думала, и ты так. Эх ты! — горько сказала она.
— И я так, я тоже так, — сказал он порывом, отчаянно, и ткнулся в ее плечо. Она погладила его шею, и он повалился боком и лицом ткнулся в ее колени… Она гладила его шею, жесткие волосы, сердце ее толкнулось в груди, начало расти, расплываться до горла и до живота, заливая все тело горячим, расплавленным теплом, оглушая, кружа голову, и сейчас снова знала Валя, что не только легко, но даже и радостно расстанется она со своей жизнью, чтобы только они, Андрей и Алешка, были счастливы.
Она знала, что говорить ничего не нужно, сейчас все понятно без слов, но счастье и даже восторг так захлестнули ее, что она не могла сдерживать себя.
— Да у нас, может, никогда и не будет времени счастливее. А если все пройдет? У тебя или же у меня. Не пройдет, конечно, жить я тогда не буду, но бывает же у людей. Повзрослеем. Сам еще будешь говорить, что вот когда мы были молодые, хорошо нам все-таки было. Так что еще? Это и есть жизнь. Несогласен разве?
Снова вдали за домами просвистела электричка, метался фонарь за окном, постанывали стекла от порывов ветра, она гладила его, убаюкивала, наклоняясь целовала и, сглатывая слезы, понять не могла, его эти слезы или же ее, они были едины и солены, эти слезы, и время летело, как в темную ночь летит пустая электричка, только глаза закрыл — и не разберешь, мгновенье ли прошло, час, день, и знала, что не было в ее жизни минуты счастливее вот этой минуты, вспыхивало что-то в голове на мгновение — яркий свет, молния — и, качнувшись, как фонарь от ветра, гасло, чтобы отдохнуть человеку от счастья, и снова вспыхивало, и снова гасло, темнота и в ней молния, и пожар, и снова темнота, и полный покой, и знала, что у Андрея такое же, что и у нее, мгновенное, жаркое, горящее счастье, и здесь она не могла ошибиться.
— Мальчик мой, мальчик мой, — говорила она, — так хорошо сейчас, так вот всегда и будет, и ничего-то нам не страшно.
— Да, да, — радостно, восторженно соглашался он. — Так всегда. Конечно. Да. Да.
Сорок белых
У старого мостика понятно стало, что хоть лес вдали наливается медленным желтым пожаром, что хоть солнце окутано легкой дымкой, слабым туманцем, но это еще не осень. Это только конец лета.
Тени от деревьев короткие, полдневные, жаркие, солнцем залиты кусты у мостика, светится зелень, осторожно осела на листья белая раскаленная пыль. Сквозь кусты видна мелководная речка, и вода в ней голубая, теплая, а не осенняя, не стеклянная.
И как всегда, когда она ходит в лес, Вера Андреевна подумала, что вот всегда в этом месте будет светить солнце, и весь воздух вокруг него и каждая отдельная частица его будут сиять, и тускло будет блестеть пыль на придорожных кустах, мостик когда-нибудь прогниет, а речка высохнет, а вот деревце будет расти. Ее не станет, и тогда шмель будет приставать к другой женщине в белом платочке, и женщина эта не сможет сдержать смеха от минутного легкого счастья, в руке у нее будет корзина, и эта женщина пойдет за грибами со своим десятилетним сыном. И может, эту женщину будут звать Верой Андреевной. Но необязательно. Может, и по-другому. А вот ее сына, который все время убегает вперед, прыгает на одной ноге, наклоняется перед каждым кустиком, срывает всякий поздний цветок, сына ее будут звать Колей. Вот это, пожалуй что, точно.
— Коленька, не беги. Ты отдохни.
— А я и не бегу. Я на ходу отдыхаю.
— Да весь же день впереди. Еще до наших мест и не добрались. Грибов еще и не было.
— А скорее бы. А то так и вернемся пустыми. И во дворе нечего будет показать.
А когда подошли к Гоненскому озеру, то туманец, дымка вокруг солнца растаяли, и солнце уже светило прямо, жарко, до дна прогревая голубое озеро. Желтизной занесло низкие кусты на другом берегу, полоска берега была красной, тонкой, яркой зеленью сияла однобокая сосна над самой водой, и по гроздьям рябины видно было, что и здесь, у озера, осень не поздняя, прощальная, но только начинающаяся, сентябрьская, легкая. Тишина всюду, без ряби стоит ровное стекло озера, ровным строем падают в него верхушки сосен, желтых кленов и рябин.
Они прошли по красной глине, взошли на бугор и вниз скатились, и справа от развилины дороги увидели холмик — свое давнее надежное место.
— Ты помнишь, в прошлом году здесь пять красных нашли? — спросила Вера Андреевна. — Посмотри на том же месте.
Коля посмотрел.
— Пусто. Ничего нет. А вот рядом, смотри, — и он радостно засмеялся. — Во какой гриб! Да большой какой. И три черных.
— Да это же грузди, — улыбнулась Вера Андреевна.
И пошла работа. Кружили, петляли, хозяевами шли по привычным местам, азартом зажглись глаза Коли — будет чем похвастать во дворе. Вот и белый гриб нашел.
— Ты рядом, рядом смотри, по прямой они стоят, так всегда!
И точно — был еще один гриб.
Вскоре сгустилась духота и напекся зной, но отдыхать пока некогда.
Вышли на брусничное поле. Ягода была красной, но кровь ее еще молодая, быстрая, а не сгустившаяся, не медлительная. Вера Андреевна попробовала несколько ягод — свело рот, нет еще нужной кислоты, есть только горечь.
— Коля, где ты?
Мелькают ветки, падает лист, летит по воздуху легкая паутина, кружатся верхушки деревьев, солнце скатывается с зенита, чуть дрожит вдали за старыми соснами.
— Где ты, Коля?
— А вот я. Здесь.
— Где ты был, сыночек?
— А там много-много опят. Все пни усеяны. Не оторваться.
Время растаяло, исчезло, его уже не замечаешь. Еще бы: пьянит, кружит голову предосенняя затхлость, ветки царапают лицо и руки, и каждую ветку ты отодвигаешь осторожно, чтобы не повредить ее; бьет сквозь ветки густое солнце; яростно нападают голодные комары, силы их еще не пошли на убыль, и руки, шея, лицо долго не могут привыкнуть к их укусам, но потом комаров уже будто не замечаешь, только чуть саднит лицо — от комаров ли, от веток, от яркого солнца; вдали, чуть наискосок, слепит глаза белизна молодого березняка с уже пожелтевшими листьями; если поднять голову к едва кружащимся верхушкам деревьев, то видно, как от комаров и испаряющейся сырости дрожит воздух, и хоть уже за полдень, но не исчезла роса, и влажные травы сквозь резиновые сапоги холодят ноги; ты лицом смываешь тонкую паутину между кустами, и мягко, податливо паутина обволакивает лицо, и потом она летит, кружит в воздухе, обожженная солнечным светом, сияет все — и солнце, и листья, повернутые к солнцу, и тонкая малая эта паутина, и всякая частица воздуха отделена одна от другой, раскалена до белого сияния, закручена до последнего предела.
Ей было легко и беззаботно, и она понимала, что так всегда и должно быть — легко и беззаботно, — это потому, что все вокруг счастливо и правильно устроено, и если выпадают печали, то никак нельзя печалиться слишком долго. Да, все вокруг беспечально, и если человек жалуется, что все люди к нему недобры, то это потому лишь, что сам человек недобр, все же вокруг так правильно и счастливо, что хочется слабо и беззвучно плакать.
И, чтобы продлить свои тихие мысли, она отдаленно, как бы со стороны, начала вспоминать свою жизнь и не находила в ней ничего, чтобы ее опечалило или озлобило, как не находила, чего бы она могла стыдиться.
И то сказать — а что человеку стыдиться, если и нет у нее ничего, кроме сына. А достаточно, вполне достаточно. Не пропадают ее заботы — ничего сын от нее не скрывает. Она знает всех его друзей, и какие он книжки читает, и знает каждую его заботу. Все она в нем знает. Потому что для этого и живет. Потому что этим и счастлива.
Уже уставшие от солнечного звона, от духоты и зноя и от тяжести корзин, они вышли к ручью, понимая, что на сегодня достаточно.
Вера Андреевна достала сверток, и они ели хлеб с колбасой и плавленые сырки.
— Ты, наелся ли?
— Наелся.
Пили воду из ручья. Вода была такая холодная, что заломило, зубы. Коля черпал воду ладонями.
Солнце уже клонилась к большому бугру. Они взошли на этот бугор, что был к солнцу поближе, сели на траву, и, чтобы отдохнуть перед новой дорогой, Вера Андреевна начала перебирать грибы.
— Двадцать три белых! — радостно сказала она. — А красных вон сколько. Восемь… двенадцать… Семнадцать красных. А у тебя? Много белых. Маслята. Ты и моховики брал. Ничего, все в соленье пойдет. А вот какой гриб. Ну, красавец. Совсем как башенка. А вот стрела, а не гриб. Возьми, Коленька.
Она протянула Коле гриб, и Коля взял его в руки, отошел чуть в сторону, и задумчиво, молча смотрел он на эту стрелу, крепко держа ее перед собой, глаза его, и так всегда удивленные, и вовсе стали в пол-лица, и Вера Андреевна поняла вдруг, что смотрит Коля не на гриб, но протекает глазами сквозь него, смотрит же он куда-то вдаль, а куда, — ей уже и не видно, сыночек ты мой, мальчик, как вытянулся за год, как вырос из прошлогоднего пиджачка, мужичок с ноготок, вовсе просвечивать стала синяя жилка на лбу, дрожит его верхняя губа, и сердце ее сжалось в груди, и сразу подступило к горлу, и тепло вдруг стало, тесно, как перед неожиданным плачем.
Уже предчувствуя внезапную утрату, уже тяжело дыша от нее, она посмотрела далеко вперед.
Тишина, промытый начальной осенью воздух и внезапная печаль прояснили ее зрение, и Вера Андреевна увидела в звонком прозрачном воздухе маленькую деревню — а ведь только что ничего не видела, — и увидела ржавую крышу ближнего дома, и отчетливым своим зрением увидела Вера Андреевна яблоньку у дома, и, удивительное дело, яблонька цвела большими белыми цветами, словно бы весна стояла в природе, а на ветке сидела и пела малая птичка, и увидела Вера Андреевна рябиновый куст и каждую гроздь на нем, и больше того, различила она каждую ягоду, все они теснились друг к другу, но и круглились в независимости одна от другой; чуть слева подковой лежал голубой ручей; зеленел, желтел, краснел за домами деревни лес, и схлестывалось, закрывалось над ним небо, над ним, и над желтым полем, и над сиреневой землей на горизонте; однажды упав, осеннее небо уже не могло подняться с дальнего пространства.
Вера Андреевна снова посмотрела на Колю, и сердце ее снова сдавило жалостью, и оно сморщилось в сухую горошину, в булавочную головку. Коля стоял все на том же месте, руки сцепив перед грудью, держа в них гриб, — красный ворот рубашки, красные губы, красный лесок вдали, — задумчиво и печально смотрел он вдаль, словно прислушиваясь к какому-то голосу вдали, к песенке, к зову далекого пространства, и окончательно поняла Вера Андреевна, что он уже думает что-то свое, уже отдельное от матери, ей уже непонятное, и никак ей не войти в его мысли, в зов дальнего леса, в его печаль; и снова вздрогнуло, поднялось и упало сердце: мальчик мой, грусть, печаль, уже подросток, от матери чужой. Уже отдельный человек. Потеряно. Печаль моя, печаль.
И чтобы отойти — со смутными глазами и опечаленным сердцем — она стала считать Колины грибы.
А когда подняла голову, то увидела, что он уже вернулся к ней.
— У тебя семнадцать белых!
— Много как, — сказал радостно. — А у тебя?
— У меня двадцать три белых. И семнадцать красных.
— Вот так мы! Сорок белых.
— Да, — согласно кивнула она, — сорок белых.


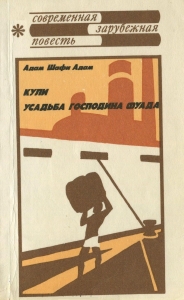

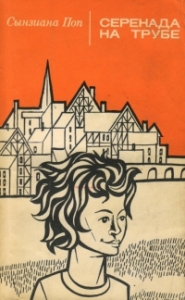





Комментарии к книге «Стрела времени», Дмитрий Натанович Притула
Всего 0 комментариев