Сухбат Афлатуни
Тёплое лето в Бултыхах
Повесть
Во второй вечер сразу проблемы с брюхом.
Всю косметичку вытрясла. Потом целую ночь таблетки из-под себя выгребала. А папа спал на раскладушке, как тогда.
Проснулись с мамой одновременно, ночь, сосны.
— Лен… Как твой живот? Что молчишь? А?
— Нормально, мам. Спи.
Проснулась, все еще дрыхнут. Умылась, губки нарисовала.
Вышла. Тишина…
Бултыхи!
Солнце только встало, ходит кошка, кис-кис. Кис-кис, дура! Убежала.
Хорошо как, Господи. Подошла к сосне, поковыряла.
Главное, все из головы выкинуть, что вертится. А то всю ночь снились строительные дела, сметы, техобоснования, объясняла каким-то отморозкам, что колонны должны здесь быть дорического ордера. Дорического, придурки! А они такие лыбятся, духи дарят.
Тихо, аж в ушах звенит. Спуститься к озеру. Какая красотень, а?
Ничего здесь не изменилось. Деревья, цветочки. Кошка опять, сучка, прибежала. И запахи — травы, хвои. Посидела на скамейке.
На завтрак рисовая кашечка такая, йогурт. Девушка котлеты еще несет. Нет, мне не надо. Не надо, по-русски говорю же. А папа записался на фитобочку.
— Ты сам, — мама ему, — как фитобочка.
И хлоп его по животу.
Папочка напряженно улыбается. Сказать маме, что не надо.
После завтрака ходили на белок.
В тот раз тоже куча белок была. Это уже их внуки.
— Правнуки… — Леник достает орешки. — Или пра-пра-правнуки.
— Пра-пра-пра-пра… — дразню и трусь щекой об его куртку.
Заходим, папа телек смотрит. На экране мое лицо.
Мама на него набросилась, выключили.
Хотела ведь, чтобы номер без телека, как тогда. Специально тот же самый номер договорилась. Ну как же! Мамочка чуть голодовку не объявила. Телек у нее свет в окошке.
Вечером ходили по Тропе Здоровья. Какой-то пипл в красных трусах делает шашлык. И на меня то так, то сяк. Шашлык ему, что ли, скучно? Опять смотрит, цирк бесплатный нашел. Лет на десять меня младше, наверное. Или на двенадцать, карма моя. Ну вот что за глупость в голову лезет, а?
После обеда с Леником далеко в рощу, река узкая, быстрая, и ни одной рожи. Только пасечника по пути. А вот и наше место. Скидываю шмотки.
— Лень, надо было его, это, про мед спросить. Дураки.
— Я кончился, а ты жива… И ветер, жалуясь и плача…
Читает.
— Раскачивает лес и дачу…
В воду! Визжим, брызгаемся. Я без лифчика. Как тогда, в детстве.
Ленька отплыл, вылез. Отряхивается, изображая мокрого пса. А мне не холодно совсем. Только левую грудь течением чуть относит, как поплавок. Волосы заколола, чтоб не лезли, а все равно лезут.
— Ленька! Лепсер-Попсер!
— А!
— Почитай еще!
— А?!
— Еще!
А облака такие, что дождь. И как будто ничего не было. Никаких двадцати шести лет.
На ужин салат из свеклы. У всех красные губы.
— Семейка вампиров, — говорю.
— Вампиры чеснок не едят, — вставляет Леник.
А у самого, между прочим, самые красные.
После ужина гуляли к озеру.
Закат, краски, плакать хочется! А мамочка все время в своем репертуаре дергалась. То ей ветер, то сережку потеряла.
А папа с Ленькой вели отлично. Попытались о политике, но я на них посмотрела. Зато мамочка все со своей сережкой.
— Мамочка, расслабься и посмотри, какой закат!
Обняла ее даже:
— Я тебе сто таких сережек куплю!
— Да уж, купишь! Особенно теперь…
— Ты чего-то сказала?
— Ой, да нет, ничего. Холодно чего-то! Замерзла я. Нога замерзла.
Ведь договаривались же! Весь закат своей сережкой обосрала. В номере, конечно, ее нашла, целовала ее полчаса: «Ах ты моя сволочь!».
Гена работает на лодочной станции. Гена. Тот, красные шорты. Мистер Красные шорты. Катамаранами заведует, лодками. Там же и спасатель.
— Спас кого-нибудь?
Улыбается. И не на пятнадцать лет младше, а всего на десять. Шашлыки на заказ делает. Сидим возле воды, пиво пьем. Налей мне еще. Бульк-бульк. Так
себе пиво.
— Со знакомством, — говорит.
Ну, со знакомством, ладно. Хорошо вокруг, и вид ничего, сосны такие, только вот мошки. Еще одна! Кусаются, как собаки.
— А я привык.
Ну да, ну да. Местный, кожа — не прокусишь. Смотрю на его кожу.
Нет, не из местных. Назвал город, откуда. Но я как раз комара хлопнула. Вот такого жирного!
Положил пустую баклажку, капнул пеной на штаны. Сегодня мы в синих трениках.
Итак, значит, Гена. Гена-Гена-Гена. Ген у нас еще не было.
И не будет.
Мама с утра сбегала уже в церковь. Вернулась довольная такая, светлая.
Вытащила целый пакет крыжовника.
Тысячу лет его не ела!
Вот так живешь, а столько всего вокруг не ешь.
Пошла в ванную, мыть.
А тогда здесь церкви не было. И мама ни во что не верила. И папочка. Верил в науку, до сих пор «Наука и жизнь» на даче стопками валяется, в мышиных какашках.
А я верила в вампиру. Ленька из лагеря привез целый сюжет. Укрывалась с головой. А вдруг вампира сможет сбросить с меня одеяло? А? Что тогда, а?
— Лен! Ты что там, уснула с крыжовником? Или мылом его моешь?
— Ага, шампунем!
Выключаю воду. Смотрю в зеркало. Два седых волоса. И вот еще один.
Генка очень смешной. При ходьбе щеки трясутся. Как хомяк, говорю ему.
Это плохо. Серьезно. Если какой-то мужик начинает мне казаться смешным — то это все, картина Репина, не успеваешь даже тормознуть. Машина вбок, в кювет и вверх колесами.
Сидим под старыми соснами. Он из Владикавказа.
Задираю голову. Как в кино, стволы вверх, как пальмы, перспективное сокращение.
— Да, красиво, — говорит. — По тебе муравей.
Еще говорит, что многие тут обратили на нас внимание. Что мы одеваемся странно.
Звонил Коваленок. Я же просила, что ж такое!
Не выдержала, сунула мобильный папе. Сама на балкончик. Сижу на плетенке, руки ледяные, папа мычит Коваленку фигню какую-то, бе-ме.
Врываюсь, выхватываю трубку. Говорю спокойным тоном:
— Я же просила, по всем вопросом — с Казимировым!
Через десять минут — Казимиров. «Елена, все в порядке, я все объяснил».
Объяснил! Сказала, буду искать другого адвоката.
Не прямо, а дала понять.
Ну вот и башка. А-а. Куда опять анальгин? В косметичке целая аптека, а как нужно, так одни презервативы и уголь активированный.
Влезла под одеяло, задернула шторы. Голова! А!
Приперся Леник, навонял кремом от загара.
Ходит по комнате… туда, сюда…
Наклонился:
— Отдыхаешь?
— Подыхаю.
— Помочь что-то?
— Чтоб скорее подохла?.. Ну, воды принеси.
Уходит в ванную.
Рожает он там эту воду, что ли?
— Голову приподними.
Приподнимаю. Не разлепляя век. Губы касаются теплого и мягкого. Мокрого.
Пью. Осторожно. Стараясь не касаться губами его кожи.
Принес мне воду в ладонях, как тогда.
Снился Коттедж. Запретила думать о нем, теперь назло будет сниться.
Даже обставить не успела. И в спальне еще был ремонт, краску закупила, обои.
И хорошо, что продала. Все у меня еще будет. И коттедж еще лучше. И машина — не эта развалюха, одно название «джип». И мужик нормальный, а не «живая мебель».
Вороны что-то раскаркались.
— Что это у тебя?
Леник показывает на мое запястье.
— Укус.
— Какой?
— Комариный!
Розовый полумесяц. Впилась зубами, вчера. Когда сон вспомнила. Про коттеджик.
— Комар, случайно, не в красных шортах был?
— Нет, — говорю, — не в красных!
Отелло, на фиг.
Выплыли почти на середину озера. Генка на веслах.
— Вот здесь. Вода спокойная. Может, повезет.
Вода. Облака в воде. Ничего не вижу.
Нет, что-то темное. Это?
Гена смешно качает головой: не там, а во-он там.
— В позапрошлом меньше воды было. Каланча почти из воды торчала.
Я смотрю. Кажется, вижу.
— А если нырнуть, то хорошо видно.
— Я и так вижу.
Ничего не вижу. Только небо. Опускаюсь затылком на доску, солнце сквозь веки.
— А я нырну, — сообщает.
— Стой!
Быстро встаю и бросаюсь в воду.
Лед! Не брызги, а льдинки взлетают.
Ка-а-айф.
Но не ныряю. Зачем мне эта каланча?
Зачем мне затопленный город?
Зачем этот со смешными щеками? Зачем?
— Гена!
Подгребает на лодке, помогает залезть.
Мокрые волосы ползут по мне как змеи.
Зубы тык-тык-тык. Гена мне бренди, «на», запасливый… Как белка…
Б-б-белка… Чуть не откусываю горлышко, так стучат вот.
Отогреваюсь под его курткой.
— Возвращаемся. Может, сейчас там у тебя тонет, а мы тут…
Генка послушно гребет назад.
Кладет весла, поворачивается и целует.
Я не отталкиваю.
Скоро это все кончится.
Скоро у меня ничего не будет. Ничего, одна черная дверь.
«Папа, смотри, по мне мурашик ползет!»
Папа из-за газеты: «Убей».
Убивать не хотелось. Хотелось, чтобы на него посмотрели. То есть, на меня. Он же по мне ползет. Мамочка вылезла из воды: «Холодно сегодня». Вся в каплях и мурашках, и водой пахнет. Подошла к папе, легла рядом. Папа отложил газеты, подпер голову ладонью. Какой он красивый, когда газеты не читает.
«А где котлетки?» — спрашивает мамочка.
Папа мотнул головой в сторону кустов облепихи.
«Окунешься еще, Станиславыч?»
«Потом», — папа погладил маму по мокрым волосам.
Когда мама их намочит, они вьются, как вьюнок.
Мама пошла в кусты доставать котлеты. Главное, чтобы не укололась!
На песке рядом след от ее купальника.
Я хотела рассказать ей про муравья, но он уполз. Всю себя обсмотрела, даже пятку проверила.
«Мам, котлету дай!» — спускается с валунов Леник.
Ему одиннадцать лет, и он все время голодный. Вчера после зарядки он показывал бицепсы и заставлял трогать.
— Дожидаются вас!
Кто, где?
— В Храме Воздуха. Приезжая.
Стою, в висках стучит. Что делать, поперлась в Храм.
Здр-р-авствуйте, я ваша тетя! Сидит!
Сумку обхватила, волосы в пучок, очочки эти ее.
— Ты, Леночка, прости! Не выдержала я!
Ну, все. Раз «Леночка», значит, сейчас гадость какая-нибудь.
— Верни его мне!
Молчу. На пол смотрю.
— Ничего у меня кроме него, нет! И если…
Срач в беседке. Вчера был пикник, бабы полночи песни орали, колбаса под скамейкой и огурец.
А наш монолог все длится.
Верни, верни. Его, его.
Слушаю, огурец пинаю.
Когда-то я это выдерживала. Почти полгода у нее жила, когда из дома ушла.
Нет, мы уже не плачем. И не рыдаем. Слезки вытерли, перешли к оплате за электричество.
— Ада Сергеевна!
Она не слышит, у нее еще трубы текут. Что? Да, о болезнях-то мы не поговорили! Теперь о болезнях. Болезни. Там, тут и поясничка на погодку.
— Ада Сергеевна! — дубль два. — Вы сюда на поезде, прямо двое суток ехали?
— А на чем же еще, дорогой ты мой человек? Машин-то у меня нет… Где он?
— В город на экскурсию уехали.
Сочиняю по ходу пьесы. Что делать! Так я папу на тарелочке ей и принесла.
— А когда приедет? Я готова ждать.
— Не надо, Ада Сергеевна. Вы и так нарушили условие.
Солнце выглядывает. Пинаю огурец.
Достаю из сумки пачку. Хорошо, догадалась захватить. Зная целевую группу.
Ада Сергеевна смотрит красными глазами на пачку.
— Мне на него бы только издали… У меня такие предчувствия были. Даже не представляешь!
— Он вас постоянно вспоминает, — отсчитываю купюры. — Пятнадцать, шестнадцать…
— Мне еще билетик пришлось брать с переплатой, и лекарство ему привезла. И вот, подожди, шарфик. Потрогай, какой приятный. Нежный, правда?
Да, очень, очень приятный, повеситься на таком хорошо. Девятнадцать, двадцать.
— Прости меня, не усидела дома, — прячет деньги. — Представила себе, как он тут, без меня. Предчувствия. Две ночи не спала, такие сны были.
Обнимает меня. Целую желтую, невкусную щеку. Жалко ее. И папе тоже ее жалко. На жалости у них все и держится. На соплях вот этих, хоть бы высморкалась.
— А знаешь, Леночка, тебе бы хорошо заняться йогой. Она все снимает.
Отвела ее до автостанции. Лучше бы до вокзала, а то еще слезет и опять со своими предчувствиями припрется. Но до вокзала не могла, в четыре с Леником идем в лес за грибами. А Гену пока отправила в отпуск. Отдохните, товарищ мачо.
После обеда мама с папой пошли на рынок. Мы с Леником в карты, нам без взрослых карты не разрешали, но мы просто играли, если просто, то можно же. Потом Леник сказал, что они ему надоели и предложил играть в новое:
«Давай, ты будешь мама, я — папа».
«Как в дочки-матери?»
«Нет, по-настоящему играть, как в жизни. Я — папа, муж, а ты — жена».
Я спросила, почему не наоборот, я ведь похожа на папу, и вообще папина дочка. А он на маму, и волосы мамины, вьются, когда водой намочит.
Леник сказал, что важно не кто похож, а кто будущий мужчина:
«Ты не можешь стать папой, даже когда совсем вырастешь. Даже если очень захочешь».
Странно, мне казалось, когда вырасту, я стану старой и скоро умру, как баба Лида. И все будут плакать, кушать рис с изюмом и песни вокруг меня петь. А про детей еще не думала, еще дети какие-то.
«Когда я вырасту, детей уже не будет, а будет… коммунизм… Ну давай
еще в карты!»
Леник придвинулся и поцеловал меня в губы.
Его губы были мокрыми и кислыми.
«Мне посуду надо идти мыть», — сказала я, облизывая.
«Какую посуду?»
«Ну, посуду… Мы же играем, я — жена… Посуду!»
«Хорошо. Помой и приходи быстрей.»
«А ты газетку почитай. На».
Леник послушно развернул «газетку».
Я подошла к раковине.
«Ой, сколько посуды грязной!»
Взяла мыльницу и стала мыть ее, будто это тарелка. Губы немного болели. Неужели так папа с мамой целуются? Нет, конечно, по-другому! Они же не играют, у них все по-правдашнему, по-настоящему, как в кино.
«Помыла? Идем, доиграем».
Леник смотрит, как я мыльницу мою. Набираю в нее водичку и выливаю. Набираю и выливаю. Уже почти чистая.
«Ленка! Ленька!» — кричат с улицы папа с мамой.
Вернулись!
«Только ничего им не рассказывай! Клянись страшной клятвой!» — говорит Леник шепотом.
Я быстро клянусь страшной клятвой и бегу во двор.
Писали, что я была любовницей мэра. Что спала с директором бассейна. Еще с кем-то. А в те полгода у меня вообще никого не было. Ноль. Одна работа.
Один раз Антон пришел, к Лешке. Он тогда еще приходил. Отец типа. Общаться. Брал его гулять, мороженое, пирожное, «плюеженое». Или футбол сидели, по телеку. И тот раз пришел. Открыла, смотрю на него, а он куртку снимает. И запах такой знакомый, сигарет его, рубашки. На руки его смотрю, и чувствую, что… А зачем мне это нужно? Ни ему, ни мне. Смотрю на его руки. Зачем? Зачем в одну и ту же разбитую чашку?
Ладно, мне пора идти, говорю. Лешка выбежал, еще пять лет было: «Мам, ты куда?» Надо, сынуля. По делам. Дай поцелую. Не скучайте без меня, мальчики. Чао-чао. Сумку на плечо и по ступенькам быстренько. Стою такая у подъезда, и думаю куда. Поперлась в парк, мороженое взяла, сижу такая. Подполз один бандерлог в дубленочке, скрасить мое одиночество, спасибо, мое одиночество и так разноцветно дальше некуда, гуляй дальше. А дубленочка у тебя ничего, с мордой не повезло тебе только, урод.
Леник научился нырять и очень гордится. Теперь учит меня.
«А там, — показывает на середину озера, — затопленный город».
«Атлантида?»
«Да, наверное, она».
Мама сидит в новом зеленом купальнике и соломенной шляпке. Подбегаю к ней, лезу в полотенце.
«Мамочка, расскажи, как я родилась!»
«Жарко тогда было…» Это она всегда говорит, а других секретов не рассказывает.
На обед — борщ.
Леник выпил одну воду, капусту и мясо в горку сдвинул. Папа его поругал: «Аристократ!» Аристократ — плохое слово. Приличное, но плохое. Были раньше такие люди, пили только кровь, потом революция их всех арестовала. Поэтому и назвали — аристократы. А я все съела. Мама, я не аристократ, да, мам?
Везу ее обратно из театра. Дождь, а она там, конечно, забыла свой зонт, пришлось бегать. Потом какой-то кретин припарковал свой «мерс». Ни туда, ни сюда, еле выползли.
Едем молча. Кирова молча, Алексеевский. НаАлексеевском пробка, ползем, как черепахи, все молча, молча.
«Ну?» — не выдерживаю.
«Не похож».
Ну вот кто бы сомневался!
«Мам… Ты его последний раз когда видела, сколько ему было?»
Молчит.
«Двадцать три», — отвечаю за нее. «А сейчас бы ему уже…»
Поджимает губы. Для нее он все еще в пеленках. На горшочке, а-а.
«Лен».
«А?»
«Зачем тебе это?»
«Что — это?»
«Взяла бы Лешку и поехала с ним по-нормальному в Бултыхи эти».
«С Лешкой я никуда не поеду».
Торможу. Стоим на краю дороги. Дождь по крыше.
«Так и будем стоять?» — спрашивает.
«Так и будем», — говорю и откидываюсь назад.
А папа согласился быстро.
Насчет Леника, конечно, не сразу привык. Это, говорит, что-то в духе олигархов, такие фантазии. Но согласился. Только просил, чтобы сама с Адой Сергеевной это, того… А то у нее давление и кораблики перед глазами плывут. Ладно. Для Ады Сергеевны у меня всегда золотой ключик есть.
Ада Сергеевна долго плачет. Слушает меня и плачет.
Некоторым бабам, я замечала, старость идет. Из них классные старухи получаются. Внуков к отложениям своим прижмут, и давай Маршака им, настольные игры, третье-десятое. Моя бывшая свекровь, чтоб далеко не ходить.
Аде Сергеевне старость не идет. Болтается на ней, как вот это идиотское платье.
Ада Сергеевна говорит, как ей сейчас тяжело. Говорит, что кругом растут цены. Загибает пальцы со своими ногтями. Просветить ее, что ли? Что вещь такая есть. «Маникюр» называется, не слыхали?
А когда-то рассказывала мне о Ван Гоге. Об архитектуре. Французскому пыталась. Же мапель Элен.
За ее спиной варится суп. Она берет деньги. «Только чтобы Коленька не знал!»
Достает с холодильника газету с кроссвордом. Спрашивает у меня строительные термины. Они вчера отгадывали, «с Коленькой».
Начинает наводить порядок на столе.
В коридоре сталкиваюсь с рыжим мальчиком, пришел к ней изучать французский.
Ах вы, вишенки, черешенки,
Ах вы, выжиги и грешники,
Ах вы, ягодки-смеягодки…
Леник играет на гитаре мамину любимую. Под Розенбаума. Мама осторожно подпевает, у нее нет слуха. У папы есть, но слушает молча. В молодости играл
на баяне.
— Ах вы, ягодки-смеягодки, — подпевает мама.
У мамы красивый, теплый голос. Она только после ванной, в косынке. Кладу голову ей на плечо. Плечо сладко пахнет шампунем.
— А теперь, — объявляет Леник, — «Бричмула!».
Комната у нее на Кожедуба.
Мама на диване, все пахнет корвалолом, собираюсь уходить. Еще один идиот-ский разговор, провожу пальцем по книжной полке, палец обрастает серым пушком. Сколько раз предлагала ей женщину недорого — убираться. И пыль, и ковры. Как же, «сама»! Сама!
«Лен, а что тебе с Лешкой не поехать в эти… если так уж туда хочешь?»
«Чтобы он мне весь отдых там обосрал?»
«Странные у вас отношения, сердце кровью обливается.»
«А сама ты сколько с Лешкой выдерживаешь? На три дня его тогда взяла, а утром уже: забирай! не могу, неуправляемый!»
«Тише… Мне и так с сердцем…»
Отворачивается к стене. Просит еще пару дней подумать.
Спускаюсь.
Лешка сидит в машине. С английского его забирала, по вторникам. Боюсь, чтобы один ездил. Сидит, эсэмэсится, урод.
«Че так долго?»
«Бабушке с сердцем…»
И опять в свой мобильный.
Приехали, ставлю машину. Поднимаемся с пакетами, в «супер» заехали. Их величество милостиво согласились один у меня взять.
«Чувствуешь… запах?» — останавливаюсь.
Дверь была вымазана дегтем, вся.
Какая? Такая. Наша. Наша дверь.
За пролет еще эту вонь. Села на ступеньку, достала мобильный, тык-пык
Коваленку.
Лешка стоит белый, молчит.
Тут же пакеты из «супера», апельсины, сосиски, чеки. Бананы.
Ночью был гром, и я проснулась. Лил дождь. Мама спала. Леника не было. Осторожно поднялась. Сквозь стекло увидела Леника на балкончике.
Стоял в одних трусиках, задрав голову.
Выбежала к нему. Заходи, ты че, дурак, заболеешь!
Заглянула к нему в лицо.
«Леник… это ты?»
Он плакал. Просто плакал.
Он дожидался, пока пойдет дождь. И чтобы сильный, с молнией. Подставлял под ливень лицо и только тогда плакал. Чтобы никто не мог понять. А в другое, обычное время не разрешал себе. Терпел, накапливал. Запоминал, о чем ему нужно будет плакать. И плакал об этом, когда дождь.
Я тоже захотела так. Встала рядом. Не получилось. По лицу только капли дождя, слизывала их. Надо будет попробовать, когда накоплю. Так плакать гораздо интересней. Дождь перестал. Мы спрятались в ванной и вытирались полотенцем с красными рыбками.
Ходили все в лес. Я фотографировала ягоды. Траву. Маму. Отдельно, и с папой. Леника с сыроежкой.
Папа галантно поддерживал маму, а мы с Леником бесились, как придурки.
Потом сели у ручья. Мама мочила ноги, а папа о грибах все.
Леник ковырял мох.
Низкое солнце светило нам в спины. У мамы осветились волосы, золотистое облако. Другое, маленькое, зажглось вокруг папиной головы. Нимбы!
Стала снимать. На снимках это не получилось.
А вот Леник с сыроежкой вышел. И где папа маму через ручей переводит.
Вернусь, размещу у себя. Если успею только.
Молния. Я, задрав голову, на балкончике.
Льет. Ледяная слизь. Мне все равно. Меня нет.
«Че тут стоишь?» — Лешка открывает дверь.
Гремит близко, над крышей.
«На, Ба звонит».
Сует мобильный. Смотрит. Вылитый Антон.
Прижимаю к уху.
«Лен… ты слышишь меня? Я согласна».
Что-то мычу.
«Ради тебя, поняла? Ты слышишь? Согласна в эти Бултыхи. Выключи там у себя воду, не слышно. В Бултыхи, говорю, слышишь, поняла? Купаешься, что ли?»
Да, я слышу, мама.
Просто меня нет, мама.
Есть черное небо, мама. Черная дверь, уже приезжали, составили протокол. Черная идиотская майка на Лешке, с черепом.
«Мам, а то платье у тебя осталось?..»
«Какое еще платье?»
Я проснулась утром и засмеялась. Тихо, чтобы не разбудить. Мамочка еще спит. И Леник спит с открытым ртом.
Через два дня у меня день рождения. Папочка приготовит мой любимый шашлык. Он уже договорился в столовой про оборудование. Мама наденет мое любимое платье. Она обещала, что отдаст его мне, когда вырасту.
Про подарок даже не думаю. Все время стараюсь о нем не думать.
Мы все летние по дню рождения. Леник в июне, я в июле, папочка в августе.
Одна мама, бедная, в феврале.
Мне становится жалко ее, я подползаю и целую ее. Мама приоткрыла глаза, зевнула, прижала меня. Так и лежим, в гнездышке. Леник тоже проснулся. Но мы его в наше с мамой гнездышко не впустили. Я не впустила. Кыш! Кыш! Пусть сам себе вьет.
«Лен…»
Темнота, запах корвалола, нафталина, вещей.
Поворачиваюсь к ней. На полу старые чемоданы.
«Зачем тебе театр этот?»
Она смотрит на меня.
«Мам, а зачем тебе был этот театр?»
Я поднимаюсь и хожу между чемоданами.
«У папы уже была тогда женщина». Останавливаюсь. «И ты это знала. А Леник…»
«Вот ты о чем…»
Знаю, что она скажет. Что пыталась сохранить семью. Всеми силами. Руками и ногами.
«Я пыталась сохранить семью… Что улыбаешься-то?»
«Тебе показалось», — уничтожаю улыбку. «Ну и как, сохранила?»
«А ты все эти годы ждала, да? Для мести? Ну, мсти теперь родной матери, давай… Антона своего замстила, теперь меня давай».
«Кого я замстила? Я, что ли, от него налево ходила?.. Я вообще никому не хочу мстить. Я — хочу вырваться — из этого — ада».
«Не кричи…»
Продолжаем перебирать старые вещи.
Уже нашли клетчатую папину рубашку, в которой он был в то лето. Хотя мамочка уверяла, что когда он ушел, выбросила все его вещи. Мамин шелковый платок. Даже полотенце с рыбками.
«С рыбками! С рыбками!» — кружусь с ним по комнате.
«Сумасшедшая…»
Солнечное утро. Завтракаем.
Налили чай. Всем столам — в пакетиках, а нам заварка. Предупредила их, чтобы не пакетики, тогда, в то лето, пакетиков этих долбаных еще не придумали. И стаканы, обязательно стаканы. Чтобы любоваться, как тает рафинад.
— Хорошая сегодня погода, — говорит мама. — Теплая.
Папа задумчиво мажет масло.
На нем клетчатая рубашка.
Сижу, смотрю, как тает сахар. Болтаю ногами под столом.
«Не болтай!» — говорит мамочка.
Я продолжаю болтать.
«Не слышала, что ли?» — спрашивает Леник.
Вот предатель. Ему-то что мои ноги? До тебя не достают, и радуйся.
И продолжаю болтать. Но не так сильно. Трудно их сразу остановить, они же живые.
Леник под столом сжимает мою коленку.
И улыбается.
Я со всей силой пинаю его.
Но попадаю почему-то в мамочку…
Меня не берут на озеро. Меня оставляют в номере.
Подумаешь, озеро!
Мне туда и не хотелось. Надоела уже эта вода. Каждый день озеро, озеро, уже плавать тошнит. Сижу в номере, как аристократ. Болтаю ногами. Вспоминаю, как играли с Леником в мужа и жену. Теперь точно все расскажу. И мамочке, и папочке, и Клавдии еще Сергеевне, и бабушке в Ростов на открытке напишу, теперь держись!
Все утро Лешка снова конкретно пил кровь. Даже не хочу рассказывать. Тролля родила на свою голову. Проглотила кофе, покидала в раковину. Хотела душ, ладно, вечером. Только чтобы его рожу сейчас не видеть.
Начинаешь с кем-то про детей, у всех одно и то же. Живут со своими, как с инопланетянами. Языка не понимают, только «дай» и все.
Сунцовой нашей дочь так вообще выдала! Вичка начала ей то-се, а дочь такая: «Мам, ну че ты понимаешь? Ты вообще не жила в наше время!»
Вичка прискакала припухшая: «Лен, представь, а!» Посидели, коньяк допили, с днюхи оставался. У Вички какой-то вариант на горизонте нарисовался, с мужем она уже давно только общая жилплощадь.
«Мам!»
Мы готовимся спать. Мама мажется кремом. Папа с Леником играют внизу в шахматы. Шахматы огромные и очень тяжелые, из-за этого я проиграла, когда мы в них с папой, и с Леником.
«Мамочка!»
«Что? Зубы чистила?»
«Мам, Леник меня…»
Сказать? Не сказать?
«…заставлял посуду мыть!»
«Какую посуду? Иди, зубы чисть!»
«Мам, ну мы играли так!»
«Ну и как, — мама завинчивает крышечку крема, — вымыла?»
«Да… всю мыльницу…»
Мама целует меня. Потом смазывает меня от комаров, руки, спинку. Я иду чистить зубы и разглядываю в зеркало язык.
Про то, что Леник целовал, так и не сказала.
Но если он меня еще раз поцелует, то уж держись! Я про тебя такое расскажу, что даже сам не знаешь.
«Думаете, они вас там не достанут, в Бултыхах?»
Сижу у Коваленка, перед отъездом.
«Ладно, поезжайте. Может, повезет».
Закурил.
«Что — повезет?»
«Случай из практики: у меня знакомый один был, общались по рыбалке. Ну, а значит врачи ему — диагноз. Какой? Вот такой».
«И что?»
«Плюнул. С таким диагнозом не от болезни умирают. А от лечения».
Подвигает пепельницу. Я смотрю на его ногти.
«Уехал к матери в деревню. Все бросил. Семью, любовницу, даже работу. И в деревню. И все прошло. Диагноз — как рукой».
Молчит.
«Потом все равно спился. Судьба. Так что езжайте. Если что подозрительное, сами знаете».
«Мам, а если вдруг мне в нос заползет паук?»
Мы идем на завтрак, папа с Леником, как всегда, убежали вперед.
Мама не слышит меня, о чем-то думает.
Она стала часто о чем-то думать. Идет и молчит.
После завтрака кидали с Леником камни в озеро, кто дальше.
Потом на песке Леник рассказывал Шерлока Холмса.
Можно спросить про паука у Леника, но он станет издеваться. Он всегда издевается, когда его спрашиваешь. Можно маму, но надо дождаться, когда она ни о чем не думает.
«Не хочешь слушать, так и скажи!» — Леник поднимается, с него сыплется мокрый песок.
«Хочу! Рассказывай! Ну, рассказывай. Я хочу!»
Но Леник уже бежит к воде. Быстро не может, там скользкие камни.
Леник кому-то машет рукой. К нему подплывает парень на катамаране. Это Александр Данилов, его новый друг.
Тоже подружусь с кем-нибудь взрослым, назло Ленику. Еще обзавидуется.
Пришли мама с папой. Я ухожу играть на валуны и нахожу там десять копеек!
Сильный ветер. Сосны скрипят. Натягиваю куртку, кеды, выхожу.
Мама отрывается от газеты.
— Слышишь, Лен. Китайцы что опять… Средство изобрели бессмертия, вот, почитай потом… Далеко собралась?
В коридоре Леник набирает из кулера. Делаю ему ручкой. Чао.
Хочу побыть одна, одна с ветром, с озером.
Купающихся ноль. Вообще никого. Ветер, сосны шумят. Господи, какой кайф!
Бегом к пляжу. Волны. Подпрыгиваю. Еще. Еще.
Меня никто не видит. Никто!
Останавливаюсь, резко поворачиваюсь.
Исчезает…
Гена возится с ключами. Я стою позади, уставившись, как дура, в его спину.
Заходим. Сразу лезет.
— Подожди, — притормаживаю.
Да, та самая радиорубка. Та самая.
Сажусь на топчан. Солнце, пыль. Солнечный круг.
Нас с Леником один раз пустили сюда в то лето.
Музыкой тогда заведовал дядечка по фамилии Ленин. «Левин», поправляла мама. «Нет, Ленин!» Даже ругались. Лепсер, как всегда, лез нас мирить. Папочке, как всегда, было до лампочки. На танцплощадку пришел один раз, потанцевал с мамой и дезертировал.
Магнитофон с бобинами. Выцветший плакат «Бони Эм», зеленоватые лица.
Генка застыл, майку наполовину стянул. Ну и долго ты так стоять будешь, чудо мое?
«Купание в крови».
«У бассейна снесло крышу».
«Поплавали!»
«Кровавое воскресенье».
«Бассейн-на-крови».
«Кто ответит за наших детей?!»
— А вчера… показалось… что за мной следят…
Генка открывает глаза и снова закрывает:
— У тебя красивые волосы.
— Наушники сними, тетеря! Следили за мной вчера. У озера.
Вытаскивает наушники, кладет рядом на подушку.
Сажусь на топчане. Смотрю на свои руки.
А если в колонию, будет возможность, хотя бы ногти? (Не думать… Не думать…)
Хотя бы ногти в порядке держать, Господи!
Танцплощадка все еще жива.
Тетки в кофтах пляшут под Леонтьева. «Куда уехал цирк, он был еще вчера».
Одна подпрыгивает, и все на меня. Узнала, наверное. Ну да, сколько всего про меня.
Музыка кончилась. Тетки расходятся.
Выходит баба культорганизатор в берете. Королевский жест рукой:
— Ва-анечка, прошу вас.
Хромой Ванечка тащит стенд. На нем портрет. Лицо с глазами и ртом, но без носа.
— Приглашаются мужчины!
С завязанными глазами прилепить нос в нужное место. Нос на магните.
Что-то месячные задерживаются. В последнее время часто опаздывать стали, из-за стресса.
— А где наши мужчины? Не вижу активности!
В то воскресенье я проснулась до будильника.
Размяла пальчики, для улучшения утренней мозговой деятельности. Раз, два. Встала, отключила мобилу. Ванная. Лицо, зубы, душ. Опять Лешкины носки на стиралке! Говорила ж придурку, суй в машину. Присела, полистала журнальчик, смыла. Причесалась, сняла со щетки волосы. Два седых. Позвонить Мане в салон. Еще одни носки! Устала уже с его носками воевать.
Надо еще одну женщину взять, на постоянно. Жалко Раиса не может. У меня не двадцать рук.
Спустилась в тренажерку. Раз-два, раз-два. Как Лешку загнать сюда? Соплей растет.
А я — каждое утро. Чтоб к сорока в тумбочку не превратиться, как мама, давно, кстати, ей не звонила.
Ходьба на месте. Бег на месте. Снова ходьба на месте. Уф! Попа устала.
Снова душ. Контрастный. У! А!
Ха-ла-тик. Вот так.
И наверх.
Когда уже этот ремонт кончится? Сапожник без сапог. Для других дворцы, а себе два месяца одну спальню не могу.
Кофе! Кофе!
Какой будем сегодня? Нет, капучино у нас был вчера.
Лешка выползает на кухню. Лохматый, опухший.
Доброго утра от их величества не услышишь.
«Ты еще долго тут? Мне плита нужна!»
«Иди пока умойся, плита».
«А можно отвечать на вопросы нормально?»
Уходит. Плита ему, блин. Сейчас еще бум-бум врубит.
Нет, тихо. Умывается? Как же! В зомби свои засел.
Сегодня мы будем варить в турке.
Когда это происходит? Наверное, когда ставлю турку на самый маленький красный кружок. Плита новая, чистенькая, поцеловать хочется.
В бассейне полно народу. «Группа здоровья». Утренний абонемент со скидкой. Плюс жара. Купальные шапочки. Розовые, синенькие, белые. Без шапочек не пускают. «Мама, посмотри, как я ныряю!»
Звук взрыва.
Кто-то говорил, что слышал взрыв. Следаки вначале будут это копать.
Звук. Сильный. Глыба потолка отделяется и... как в замедленной съемке.
Кофе закипает.
Бросаем гвоздику. Вот так. Немного соли. Немного сахарку. Слышали еще рецепт — обмазать перед варкой турку зубцом чеснока. Надо попробовать. Правда, пальцы будут вонять. Ай-ай-ай! Чуть не выбежало. Ставлю рядом, пусть слегка осядет. Потом снова на плиту. Так вкуснее.
Мобильник был отключен.
Узнала днем, когда примчался зеленый Саныч: «Сидишь? Телек включай!»
Фрагмент купола. Моего купола. Купола, который я строила.
Стояли перед телевизором.
На экране бегают люди. Камера лезла к самому бассейну. Красная вода, ошметки конструкций. «Идут спасательные работы».
Сюжет кончился, пошли другие новости. Мы все еще стоим.
Отыскала на кресле пульт. Нажала.
Все исчезло.
«Шестьсот восемьдесят девять», — сказала женщина.
«Не квакай», — сказал мужчина.
«Я не квакаю. Я говорю. Шестьсот восемьдесят девять».
«Нет, ты — квакаешь».
Они прошли.
Мы с Лешкой снова стоим у нашего прежнего подъезда.
Коттедж продала, надо же на что-то жить. «Аркадию» тоже пришлось. И заказов полгода никаких. Одна мелочь. Хоть фирму закрывай. Не дождутся.
«Как ты стоишь? Не сутулься!» — говорю Лешке.
С мамой на скамейке-качелях. Туда-сюда. Туда. Сюда.
Вечер, солнце за озером. Мамочка какую-то очередную хрень вяжет.
Из главного корпуса доносится свадьба. Бум-бум. Где зимний сад. Бум-бум. Бум.
Днем приехала черная кишка, выполз жених. Куча теток с ногами из фильма ужасов, все в мини.
Качели. Туда-сюда. Солнце почти село.
Из зала голос ведущей:
— А вот и наша невеста! Плечики творожные — ручки пирожные!
Туда-сюда.
— Что смеешься? — мама достает пакет.
— Паука вспомнила.
— Какого?
— В то лето. Что в нос паук заползет во сне.
Мама не слушает. Думает о чем-то.
Складывает свое барахло в пакет:
— Ну что, наигрались там в шахматы?
Идем за папой с Леником. Шахматы те же, что и тогда. Кажутся сейчас меньше. И пешки одной нет, вместо нее баклажка от шампуня.
— А вот и наш жених! Семье — добытчик, жене — не обидчик! Похлопаем жениху!
Бум-бум. Бум.
Саныча нашли в ванной.
Жена с дачи, а дверь взломана. Через неделю после моей двери. Пролежал в ванне дня два. Коваленок сказал, сперва тяжелым, потом утопили. Недавно ванну новую поставил фильдеперсовую, гордый ходил.
«У вас с ним ничего не было?»
Коваленок подвозит меня с кладбища. Я тогда неделю не могла за руль сесть.
«А почему у нас должно было что-то быть? У него своя Света, моложе меня».
Поглядываю в зеркальце. Ну и рожа у тебя, Шарапов. Все, надо выходить из штопора, подкраситься.
«У меня принцип, — говорю. — Женатых не трогать».
Коваленок щурится на солнце. Надевает черные очки.
Мамочка о чем-то разговаривает на берегу с папой.
«Мама, я ныряю, смотри!»
И ныряю. Я под водой! Рядом опускается Леник.
Ловит мою ладонь. Всплываем вместе.
Недалеко на надувном матрасе тетка плавает, с соседнего столика.
«Леня, Лена, вылезайте на берег», — кричит мама. «Вон губы уже синие!»
Как она оттуда видит наши губы? Смотрю на губы Леника. Начинаю его брызгать. Брызгать!.. А!.. Вот тебе! А! Нет! Нет…
То, что он мне не совсем родной, я узнаю только через пять лет.
Свидетельство об усыновлении.
Старые метрики Леника.
Отцом там значится другой.
Не наш папа.
Долго стою перед тумбой и читаю.
Мама заходит в комнату — и все понимает.
Прижимается щекой к двери.
Я отвожу от нее глаза, смотрю на стену.
На стене фотография, где мы вчетвером. На пляже, в Бултыхах.
«Фотографируемся, товарищи! Фотографируемся на память».
Фотограф Альберт ступает по песку. Майка в виде газеты. Недавно была автолавка, папа хотел такую Ленику, но мама сказала, один раз постираешь — и в мусорку.
Альберт ставит стул, прикрепляет стенд с фотографиями. На фотографиях — люди на пляже, девушки.
«Цветная фотография на финской бумаге. Высылается заказным письмом».
Альберт скидывает сандалии и ковыряет большим пальцем песок.
Его маленькое королевство — на втором этаже главного корпуса. В королевстве стоит чучело оленя, с которым можно сфоткаться на фоне леса. Лес состоит из стенда с фотографией деревьев и одного настоящего срубленного дерева с чучелом совы. Срубленное дерево иногда падает, и чучело скачет вниз по ступенькам. Все это Альберт берет каждое лето на прокат из местного музея, где работает его тетя.
Взрослые сажают на оленя детей, сами становятся рядом. Глаза у оленя стеклянные.
«Сейчас будет птичка», — говорит Альберт.
Иногда на танцплощадке он фотографирует танцы и викторины.
Сегодня он пришел на пляж, снял сандалии и стал ковырять песок.
«А знаете, что?» — папа весело оглядывает нас.
Он только что вылез из воды, капли стекают по его смуглой коже и горят в волосах.
Через пять минут мы выстраиваемся у озера и щуримся от солнца.
«Сейчас будет птичка!»
Мокрый голубь садится на подоконник.
Серый, серый, серый дождь.
«Мам!»
«А?»
«Ты его любила?»
«Отца?»
«Нет — того».
«Любила когда-то. Из армии дождалась, как дура. А когда стало ясно, что я с Ленькой…»
У нас с Леником разные отцы.
Мы не родные.
У нас с Леником разные отцы.
Разные.
Разные.
Господи, неужели я когда-нибудь привыкну?
Подношу к лицу ладонь и кусаю ее. Еще сильнее.
«Птица там, что ли?» — говорит мама.
«Птица».
«А давай-ка сегодня пирог с капустой испечем, у меня еще тесто осталось».
Красный след на коже.
Снова радиорубка.
Я сижу у Генки на коленях. У него мягкие ноги, как подушки. Рядом его друг Арс, музорганизатор, в обтягивающем трико, было бы что там обтягивать.
— Оскар Строк. Ансамбль «Ялла». Трио «Меридиан».
Арс выкладывает пыльные диски.
Я чихаю и чуть не скатываюсь с Генкиных колен. Удерживает. Сам посадил.
Отбираем музыку для моего дня рождения. То, что гоняли тогда, двадцать шесть лет назад.
— Был еще Ян Френкель, — говорю.
— Откуда ты все помнишь? — смотрит Арс.
Когда мы с ним перешли на «ты»?
Ты помнишь, плыли в вышине. И вдруг ла-ла-ла две звезды. Генка сопит в мое ухо. В то лето, мы с ним подсчитали, он был как раз зачат.
«Господи, ну какая же я дура… Какая же я дура…»
«Мам, — подползаю к ней, — мам, ты чего?»
«А ты что не спишь?!»
«Не сплю».
«Спи, давай. Глазки… и на бочок».
«Мам, а что ты сейчас говорила?»
«Ничего».
«А я слышала. А почему ты себя так называла?»
«Слышала — и слышала. Ложись на бочок и это. Вон, Леник уже без задних».
На подоконнике, в Лениковской общаге, вспоминаем эту ночь.
Через пятнадцать лет. Глотаем ледяной кефир.
Леник тоже тогда не спал. Тоже слышал, как мама плакала.
Слышал и сильнее сжимал веки.
Такая у него привычка. Когда что-то не нравилось ему, или пугало. Закрывал глаза и с силой сжимал веки.
Как я сейчас.
Сижу на горячих Генкиных коленях и с силой сжимаю.
Я послушно ложусь на бочок. Мама гладит мои волосы:
«Хоть ты такой дурой не будь…»
Не буду, мамочка. Честное ленинское, не буду…
Через год после Бултыхов они разошлись. Папа иногда приходил. Посидит, помолчит. Мама ему чай, конфеты. И тоже молчит. Я зайду. Здрасте — здрасте. Леника уже не было, уже учился в Москве, в «Щуке».
«Выросла», — каждый раз говорит папа. «Большая уже».
Мама вытирает руки о фартук.
Виляя бедрами, с гордым видом прохожу через кухню. На столе мои любимые пирожные буше, которые принес папа. Пусть сам ест. Мне совсем не нравится его новая стрижка.
…обрушилась крыша бассейна старт сколько людей находилось в тот момент в здании установить очень сложно спасатели представители городской администрации пресса все называют разные цифры на место прибыли более ста спасателей спасатели используют гидравлические кусачки бензорезы отбойные молотки и другие средства малой механизации…
Боялась, они мне будут сниться.
Эти пятнадцать.
Я знала, что я не виновата. Перепроверили с Санычем все чертежи, расчеты. Плюс экспертиза. Первая, конечно. Вторая уже была понятно какая.
Боровиков Михаил. Устюжан Виолетта. Хачиев Максим. Баскаков Андрей Валентинович…
Не снились.
В первые ночи мне вообще ничего не снилось.
Бессонница, торчала в сети, глотала кофе и отрубалась в одежде. Крепко закрыть глаза. Еще крепче.
Утром не могла подняться. Сквозь вату слышала, как Лешка уходит в школу. Дверь распахнет: «Мам, деньги!».
Накрывалась от него подушкой.
«Если вы в своей квартире — лягте на пол, три-четыре…»
В семь тридцать во всем дом-отдыхе включается хриплый голос.
Физручка Лира Михална с красным лицом и огромной попой ходит по площадке. «Веселей, товарищи отдыхающие!» Спускаются по ступенькам, выстраиваются рядами, приседают, машут руками и бегают вокруг маленького серебристого Орджоникидзе.
Я смотрела из окна, как они бегают. Впереди Михална, за ней остальные. Вставали возле Храма Воздуха, от которого всегда воняло мочой, и делали приседания.
После ужина Лира Михална приглашала всех в актовый зал. Рассказывала о прежних хозяевах усадьбы, пускала по рядам портреты с размытыми лицами, «оленьки», «коленьки»… Потом надевала шаль и устраивала вечер поэзии. Под конец вечера исполняла по просьбам романс про ветер в терновнике. А утром снова бегала, как заведенная, вокруг клумбы с памятником. «Раз-два. Раз-два. Веселей, веселей!»
А еще она была дом-отдыховской гадалкой.
Это было тайной, которую сообщали всем новеньким.
И мама пригласила ее. Нас с папой услала дышать воздухом. Папа с Леником стали играть в свои шахматы, я постояла, испачкала платье об стену, пошла на танцплощадку. Танцы еще не начались, и я вернулась.
Мама сидела со странным лицом. Лира Михална складывала карты.
«Да не волнуйтесь вы! Карты только прогнозируют, остальное в ваших руках. И приходите утречком на зарядку».
Вернулись папа с Леником, о чем-то стали рассказывать.
Мама обняла Леника и прижала к себе.
«Мам, а меня!» — ходила я вокруг. «Меня обними! Ты меня уже два дня не обнимала!»
Вначале в бассейне искали кавказский след. Народ обрадовался, сразу «кавказцы» на заборах, то-се.
Кавказцев у нас почти нет. В начале девяностых были, как везде. Погалдели, поторговали, исчезли. Теперь? Таджики, узбеки. Как везде.
Кого-то уже избили. Из них, этих. Засняли на камеру, выложили в сети.
И в бассейне искали кавказский след. Почти уже нашли.
И вот тут под нашим Кащеем Бессменным качнулось кресло.
Кавказский след сразу потеряли.
В день, когда Кащеев слетел, мне позвонили из прокуратуры.
«С вами говорит Алексей Коваленок…»
«А детей у них не было…»
Темно. Я хочу включить свет, но страшно вставать.
«Лень, включи. По-жа-алуйста.»
Мы лежим в темноте. Мама с папой ушли на взрослый фильм. По потолку ползают голубоватые пятна.
«Это нельзя рассказывать при свете», — говорит Леник могильным шепотом.
Я хочу прижаться к нему. Вдруг Леник — это не мой Леник, а кто-то другой?
Но кто? Инопланетян?
Да, Инопланетян. Который прилетел на Землю убивать из лазера советских людей, особенно девочек.
Отворачиваюсь к стенке, чтобы не видеть его светящееся лицо.
«Так вот, детей у этих короля с королевой не было…»
Я хочу спросить, почему у них не было детей. Может, они никогда не целовались? Или просто не знали, что нужно целоваться по-специальному? Я сама только недавно узнала. А они жили так давно — еще не было ни газет, ни радио, ни самолетов.
Но я не спрашиваю. Я даже боюсь посмотреть на Леника. Только чуть-чуть повернусь… Вот так… Нет, нет, это не Леник! Точно. У Леника другой нос, а у этого… к которому я сейчас прижалась, носа совсем нет — какой-то обрубок! Как у самого настоящего мертвеца!
«И тогда они встретили в темном переулке старуху. Она была старой и очень страшной, потому что у нее вот отсюда торчал зуб. Но они так хотели детей, что спросили, что им нужно делать, чтобы получились дети. И она захохотала им в лицо и сказала своим голосом: "Разденьтесь до трусов, поцелуйтесь и съешьте это яблоко!" И достала из кармана своего черного плаща красное-красное яблоко! И от этого у них родилась принцесса».
На обед куриные отбивные. Между столами бродит тетка в трико: «Все отдыхающие каждое утро на оздоровительную разминку и поклонение солнцу».
Видела я это их поклонение. Бегают вокруг клумбы с георгинами, потом приседают. Тетка скучным голосом кричит: «Солнце. Воздух. Земля. Космическая энергия». Все повторяют и машут руками. Надо будет спросить ее о Лире Михалне, умерла уже, наверное.
А после обеда папу прорвало. Доказывал Ленику, что столицу нужно перенести из Москвы. Стоят возле шахмат и спорят.
— Умные люди все уже рассчитали, — говорит папа. — Столицу нужно перене-сти в Новгород.
— Какой, Нижний?
— Великий.
— Почему в Новгород?
— А куда еще? Древний город, с историей. Это — раз. Нельзя переносить туда, где ничего не связано… Все там есть. Кремль есть, потрясающий. Софийский собор, красота. И положение географическое — как раз между Москвой и Питером.
— Граница слишком близко.
— А у Москвы — не близко? Ночь на поезде и уже Украина, другое государство. Главное, Москва перенаселена. Не город, а антропогенная катастрофа. Потом в номере тебе цифры покажу.
— Но зачем переносить на север?
— Так глобальное потепление! Ну что, подпишешься?
— Надо подумать.
— Ну, думай. Сейчас не думать надо. Спасать, пока есть что. А ты, Елена Прекрасная, что молчишь?
Я подхожу к ним, притягиваю к себе и обнимаю обоих.
У танцплощадки заметила Гену. Стоял с какими-то мужиками. Хотела помахать. Мужики подозрительные. И он с ними.
Стою такая, соображаю. С одной стороны, голову помыла, а с другой — эти мужики.
Пока соображала, увидел. Оставил этих, подбежал, привет — привет. Стоим.
— У тебя день рождения послезавтра?
— После послезавтра. А что? Какие идеи?
— Идеи… Разные. Ну, я пойду.
— Кто это с тобой?
— Да так. Я пойду.
И лыбится, как козел. Ну, иди, иди. Чего стоишь-то? Иди, топай давай.
— Я тебе позвоню, — говорит.
— Куда «позвоню»? Мобильный отключен!
Полночи потом не спала.
Мужики эти перед глазами, и суд предстоящий, и Саныч, и все…
— Ле-ен! Чего не спишь?
— Сплю, мам!
Встала, нашарила мобильник. Отключенный все эти дни, после того звонка. И со своих клятву взяла, что звонилки вырубят.
Вышла на балкончик, села на холодный стул. Врубила, стала смотреть принятые. Одно от Адочки. «Как там Коленька? Видела сон, волнуюсь. Приходили устанавливать счетчик». Сны она, блин, видит. Всех еще переживет.
От Лешки ничего. Ну да, кайфует там сейчас, со своими ролевиками, что ему мать? Плюнуть и растереть.
И от Генки ничего. Все просмотрела. Ничего.
Еще от Коваленка, свежая. «Лена, когда назад? Обо всем подозрительном сообщай».
Верчу в руках мобильный. Генка. Мужики.
Чушь, просто нервы.
Последний раз я видела Леника в девяносто шестом.
Из общаги его выгнали, в театре не работал. Просился осветителем, не взяли. «У осветителя не должны трястись руки.»
Шли с ним по Мясницкой.
«Посмотри, разве они трясутся? Трясутся? Что молчишь?»
Жил в подсобке, черные стены, проволока. Было поздно, осталась там ночевать.
«Кефир будешь?» — Леник искал что-то под столом, гремел банками. «Есть кефир».
Я помотала головой. Представила себе этот кефир. Потом курили, он — свое,
я — свое.
«Жизнь еще не кончилась», — я достала зажигалку.
Чай крепкий, сна не было. Лежала не раздеваясь, и рассказывала ему, как он восстановится в театр, зашьется, станет известным, приедет к нам на лето. И мы все поедем отдыхать. Слышишь? Ну, а почему не в Бултыхи? Они еще, наверное, существуют.
«Существуют», — Леник сел на своем топчане. Посидел немного, снова лег и накрылся с головой.
Потом мы не виделись года два. Потом… Суп с котом. Он уже жил непонятно где. Подвал, запах сырости, и еще запах чего-то. «Чем пахнет, Лепс?» Проснулась ночью, побродила в темноте, голова гудит, нашла Леника возле газовой плиты, глядел на пламя и курил. На огне шипела кастрюля, шел запах. Мне стало не по себе, я спросила, что он готовит. Он молчал. Я повторила вопрос.
«Суп с котом».
Поднял крышку.
Потом я час мерзла возле метро, ждала открытия. Рядом курила путанка, поглядывала на меня.
Когда я убегала, он сказал, что пошутил. В кастрюле плавала кошачья голова. Может, показалось. Может, надо было остаться? Ну, осталась бы, и что?
Сидела в пустом вагоне, путанка спала рядышком. Тупо глядела в схему московского метро. «Жизнь только начинается».
Через год у меня уже был английский. Потом два года у турков, потом уже была своя фирма. Своя строительная фирма. Свое кафе, «Аркадия». Два года в десятке самых состоятельных женщин города. Пока не рухнул бассейн.
Воскресенье, утро. Мы идем в церковь.
— Не беги, мам!
То еле шевелится, то третью космическую врубила.
Церковь недалеко. Ноги вялые. Нет уж, раз решили. Потом на рынок. Крыжовник. Мама яйца еще хочет, вот такие они тут, говорит, а цены — не поверишь.
— Служба уже началась, — опять понеслась галопом.
— Ну не по билетам же!
Церковь новая; мама сует мне платочек из сумки.
После обеда играли на берегу с Леником в родинки. Считали их друг на друге. Я победила, я вообще чемпион по родинкам. Лепс обиделся и ушел купаться. Специально далеко уплыл, чтобы я думала, что он утонул, и бегала по берегу, как в прошлый раз. А я и не думала бегать. Еще раз пересчитала родинки и пошла в корпус. Если он утонет, мне больше будет жалко маму, потому что она его очень любит, а я его еще сильней люблю. Пока шла и слезы вытирала, он меня догнал и пошел рядом мокрый, будто ничего и не было. И сланцы хлюпают.
«Лень… А ты веришь в вампиру?»
«В чего?»
«Ну, ввампиру эту, которую рассказывал?»
Он смотрит на меня.
Резко дергает меня за руку:
«Бежим!»
Несемся мимо шахмат, кино, клумбы, Орджоникидзе, чуть не сбиваем Альберта, через Храм Воздуха.
«Ты чего… Ты куда?» — пытаюсь вырвать руку.
Забегаем за забор, останавливается. Сердце стучит, темно и воняет чем-то.
«Ленька, ты че?»
Его лицо начинает меняться. Глаза делаются огромными.
«Я не Леня. Я…»
Я визжу.
Кусты раздвигаются, появляется физиономия Альберта.
«Дети, вы тут что делаете?»
Я машу на него, шепотом:
«Уходите, пожалуйста! Мы тут в инопланетяна играем!»
«А… Это который с другой планеты пришел?»
«Из другой вселенной! Ну, пожалуйста!»
«Скажи папе, Альберт сделал фотографию, пальчики оближешь, пусть заберет».
Уходит.
Стоим с Леником, смотрим друг на друга.
Мама взяла меня за локоть и подвела к нужному столику.
Я стала зажигать и ставить. От платочка чесалась голова.
Одна… Вторая…
Пятнадцать свечек. За тех самых.
Я не виновата. Не виновата. Господи, Ты же знаешь, две ночи сидели с Санычем, перепроверяли, две бутылки коньяка выдули, документы — не подкопаешься.
Двенадцать… Тринадцать.
Если меня посадят… Или что-то со мной сделают. Вас это уже не спасет, а у меня жизнь только начинается. Хорошо горят. Остаются еще две. Может, за Саныча? Он крещеный был, на похоронах молодой батюшка приходил, приятный такой.
Пока соображаю, окно распахивается.
Нет!
Я проснулась счастливой и взрослой.
Сегодня мне девять лет. Это целое событие в жизни.
Мама уже встала и куда-то сходила.
Я слышала, когда еще не совсем проснулась. Лежала с закрытыми глазами, а сама слушала, как они будут готовиться, хотя в туалет хотелось, а мама говорит, терпеть нельзя, прыщики будут.
Ну ладно, так и быть, открываю глаза. Солнце! Мама стоит в моем любимом платье и ставит в воду цветы. Это мне? Какое счастье!
«С днем рождения!»
И все меня целуют. И Леник. Я прижимаюсь к нему. Он краснеет, какой глупый.
«Подождите», — говорю строго. «Сейчас я должна обязательно умыться!»
«Умывайся! Только быстрее, завтрак прозеваем».
Нет, нет! Только не опоздать на завтрак! Только не опоздать!
В ванной никаких букетов и украшений нет, но все равно все какое-то праздни-чное, приподнятое: и мыло, и полотенце. Сажусь на унитаз, болтаю ногами. Потом смотрю на грудь. Кажется, немножко выросла. Или нет? Мама говорит, что…
«Ле-на!»
Ой, господи, еще зубы! Еще эти дурацкие зубы! А они там шепчутся, я же слышу! Быстро глотаю пасту и выбегаю из ванной:
«А вот и я!»
— Представляешь, все сразу погасли. Все свечки, которые ставила.
Лодка мягко отталкивается от берега.
Гена на веслах, рядом букет. Красиво, только обертка скрипит. Вода солнечная, зеленая. А меня все озноб. Не могу.
— Выбрось из головы.
— Понимаешь — все. Если бы хоть одна осталась. Ну хоть бы одна.
— Глотнешь?
— Давай… Гадость какая. Где ты его берешь?
— Вернемся, я у себя пиво приготовил, рыбку.
— Ген, я серьезно. Это не шиза, понимаешь. Всю колотит. Меня будут судить, понимаешь, как преступницу. Или грохнут до суда просто, как моего зама. Что ты молчишь? И еще…
— Что?
— Нет, ничего. Так… Что ты так странно смотришь?
Отворачиваюсь, чтобы не видеть его. Наверное, нервы, бессонная ночь. Утром рвало, вообще никуда не хотела плыть.
— Дай еще хлебнуть…
Проплываем островок Тайвань. Здесь всегда кто-то рыбачит, удочки торчат. А сегодня пусто.
Недостроенная вилла местного олигарха. Начал строить, и посадили. Башня торчит, собака лает. Дохлая рыба вверх животом плывет. Солнце греет, бренди в ушах шумит, глаза закрываются. Темнота. Распахивается окно, гаснут свечи.
Счастье продолжается!
Вначале мы всей семьей завтракали. Завтрак был вкуснее, наверное, это папа договорился. Компот — настоящий деликатес, даже пить жалко. И нельзя добавки попросить, или можно, пап?
Папа пошел добывать добавку. Я же именинница. А Леник сказал, что я обнаглела от своего дня рождения. Завидует. Вот уже папа гордо возвращается с компотом, и показываю Ленику язык, чтобы не воображал.
Леник смотрит на меня, потом вдруг берет нож.
Не обычный, столовский, которым ничего не разрежешь, а такой…
И смотрит, и лицо у него сразу другое. А мама с папой ничего не замечают, папа про футбол свой, мама сахар мешает. Мама! Мамочка! Не слышит. Шепчу: «Леник, миленький, не надо… Леник, ты же мой родной братик, не надо!..»
…Труп был найден в озере на вторые сутки вначале жертве были нанесены множественные ножевые раны женщина оказала сопротивление затем была утоплена ведется следствие.
— Ген…
Не знаю, сколько спала. Холодно, зубы стучат. И запах крови, не могу. Откуда?
Солнце ушло, все серое. Уже на середине озера.
Краем глаза замечаю, блеснуло что-то на дне лодки.
Нож!
Нож. Нож. Тот самый. Быстро смотрю на Генку. Чтобы он не заметил.
Молчит, смотрит.
Понятно. Господи, какая я дура! Поверила… Кому поверила?
До берега далеко, нет... Схватить нож, броситься на него? Пока не ждет.
Или ждет? Ждет. Главное, не смотреть на него. Не смотреть.
— Гена… Ген!
Молчит. Не смотреть. Только не смотреть.
— Гена, я все поняла. Слышишь, я все поняла.
Молчит.
— Сколько они тебе за меня… А? Говори. Гена, я не виновата. Ну не молчи… Ни в чем! Ни в чем, все пере… проверили. А у меня сын…
Молчит. Или в воду? Не доплыву. Время потянуть! Может лодка… хоть какая-нибудь, Господи!
Нет. Никого.
Чувствую спиной, как он наклоняется.
Все.
— Лен, гляди, какая чайка прикольная!
И наушники из ушей достает.
Улыбается. Один мне протягивает:
— Хочешь? Арс переписал, что ты отобрала. Классные такие… «Ты помнишь, плыли в вышине-е…» Ты, че с тобой? Лена! Лена, ты че?
— Бренди еще хочешь?
Накрыл меня курткой.
Помотала головой. Погладила его щеку:
— Хомяк…
Еще трясет.
Пристроился рядом. Небо в лицо.
— Спинку вот здесь погладь… Да. Нет, выше. Хорошо. Отпускает. Так там еще… в бутылке?
— Ну. Дать?
— Нет, не надо. Не злишься, что их выбросила?
— Наушники?.. Ладно. Старые уже были.
— Ген… Это уже не спинка…
Вода не холодная. Солнце. Пожарная вышка под водой. Все прозрачно, как мягкое стекло. Церковь, луковка в тине, крест, все шевелится. Мелкие рыбы.
Кажется, что внизу идут люди. Гена говорит, только раз в год здесь такая вода.
— Вода, — Генка вытирает меня, волосы, руки, — я читал, она как человек. Чувствует, соображает… Живое существо, короче.
Подгребаем к недостроенной вилле. Крыша в черепице. Окна пустые. По берегу носится овчарка.
— Это Герда, — говорит Гена. — Наши ее иногда подкармливают, а то сдохла бы.
— «Наши»?
— Ну. Серега, Саныч. Спасатели. Ты их тогда видела… Герда! Герда!
Швыряет на берег сверток. Вот откуда кровью воняло, из свертка. Собака бросается к нему, тощая, с отвисшими сосками.
— Подплывем к берегу?
Генка мотает головой:
— Не подпускает. Охраняет. Этот ее олигарх уже два года сидит. Жена, топ-модель местная, уже к другому, а эта сучка все ждет его.
Герда возится со свертком, мотает его по траве.
— А кувшинки при нем тут посадили. Нож дай.
Плеск воды. Плывет рядом, срезает.
— На, держи…
Мокрые желтые цветы. Мокрая рыжая шерсть на Генкиной груди.
— Ген, не надо желтые.
— Почему?
Кладет мне на колени еще порцию, с них капает.
— Потому что.
Притягиваю его мокрую голову к себе.
Леник стоит на берегу, губы сжаты.
«Ты где была?»
«На катамаране… Потом на речке.»
«Почему не предупредила?!»
«Потому что я сказала, что на озеро.»
«На озеро! Мы весь пляж уже…»
«Я не одна была, я со взрослыми, меня твой друг покатал, мы тебя тоже хотели взять, а тебя не было!»
«Пошли! Отцу это расскажешь.»
«Так нечестно! Тебя Данилов катал, а меня нельзя?»
«Пока ты там каталась, человек утонул! На моторке.»
«Не каталась я ни на какой моторке! Отпусти.»
«А нам сказали, что тебя там видели, там ребенок был!»
Мы идем по пляжу. На нас все смотрят. Вылезает из воды музорганизатор: «Нашли?».
«Видишь? Перед всеми нас опозорила.»
«Леник… Пожалуйста, скажи, что я сама нашлась! Что сама!»
В соснах белеет «скорая помощь». Вокруг нее люди. В машину затаскивают носилки. Мы останавливаемся.
Возле машины стоит Лира Михална и объясняет, как все случилось. Он закрутил руль и заснул посреди озера. Проснулся, забыл что закрутил, и включил мотор. Лодка начала крутиться, его выбросило, а потом еще и лодка по нему проехалась.
«Идиот», — заканчивает Лира Михална.
Задняя дверца захлопывается.
Машина трогается с места.
Старый дедушка Коль был веселый король.
Громко крикнул он свите своей:
— Эй, налейте нам кубки,
Да набейте нам трубки,
Да зовите моих скрипачей, трубачей,
Да зовите моих скрипачей!
Королевский замок весь в огнях.
Играют музыканты, на подносах разносят кушанья, соки, компоты. Придворные, рыцари, дамы. Все танцуют.
Но лица у них очень грустные.
С тех пор как принцессе исполнилось шестнадцать лет, каждое утро кого-то в замке находили зарезанным, и без крови.
Вначале не знали, кто такими вещами занимается. Не думали, что это принцесса, которую все любили и постоянно делали ей разные сюрпризы. Поэтому все только друг друга спрашивали: «А вы, случайно, не знаете, кто по ночам кровь пьет?» «Нет, не знаем…»
Тогда поставили дежурных, а те смотрят, принцесса ночью выходит из своей принцессиной комнаты и идет такая деловая. А утром, пожалуйста, — еще один труп. Тогда дежурные пошли и сказали королю и королеве. Но король с королевой их даже не слушали. Еще и наорали на дежурных. «Наша дочка — кисонька, золотко и пятерочница, а будете еще ябедничать, сразу вас казним, потом не обижайтесь».
А сами каждое утро стригли принцессе ногти, потому что ногти у нее росли со скоростью света, и вот они сами видят под ногтем каплю крови. А принцесса такая говорит: «А это я в носу нечаянно ковыряла!». Но король с королевой уже все поняли, откуда капля, и стали на ночь принцессу закрывать. Днем она же нормальная, гуляет, танцует, как человек, а ночью — вампира, и объяснять ей бесполезно, совести ни капельки нет. Стали ее закрывать на вот такой замок. А она на него только смеется, она и через закрытую дверь проходит, она же нечистая сила.
Тогда одна добрая фея королю с королевой говорит: «Вы ключ снаружи в замочной скважине оставляйте. А если что, ударьте ее по левому плечу, и она умрет». Королева говорит: «Нет, не могу, это я сама виновата, я так ее избаловала, все ей разрешала, а она не виновата!» Фея говорит: «Ну смотрите, я вас, как родителей, предупредила». И улетела. А вампира уже всех и в замке, и в королевстве убила, даже короля. Осталась только королева. И еще один слуга с дочкой, они вампире прислуживали, причесывали ее золотистые кудри и за продуктами ходили. Тогда вампира взяла и королеву тоже зарезала: плевать, говорит, что это родная мамочка, и захохотала. А королева при смерти позвала слугу и сказала ему и про ключ, чтобы из двери не вынимал, и про плечо. И умерла. Слуга быстро похоронил королеву, крестик поставил и пошел по своим делам. А тут уже ночь наступила, темнота, ни одного огонька, людей же кругом нет. Слуга вампиру закрыл, дочку тоже спать уложил, прочел ей сказку и сел картошку чистить. И смотрит на дверь, как принцесса выкручиваться будет. И еще чеснок, весь, какой в королевстве был, притащил на кухню. И вот часы бьют полночь, и ключ начинает медленно, медленно…
И мальчик, что играет на волынке,
И девочка, что свой плетет венок…
Леник задирает голову и смотрит в небо.
Небо белесое. Погода будет меняться. Завтра мы уезжаем.
На голове у него венок. Сплела ему, пока шли. Дай, надену. А лицо у него какое-то желтое.
— Лень… Куда это мы пришли?
— Тебе здесь не нравится?
Тропа Здоровья давно кончилась.
Сосна поваленная. Сажусь, со шнурками разбираюсь.
— В кроссовку что-то попало.
Вытряхиваю, смотрю на Леника. Он уже не читает стихи.
— Лень, что у тебя лицо такое?
— Лицо? Какое? Нормальное.
— Что там про девочку закончилось?
— Какую?
— «Какую?» Которая венок.
— Да… не знаю.
— Сплела и ушла, да?.. Ну, что с тобой?
— Голова болит.
— А если на нас сейчас нападут волки, ты меня защитишь?
— Волки? Нет тут никаких волков.
— Фу, как скучно.
Беру его ладонь. Лед!
— Ты что?
— Хочу согреть.
Звук мобильного.
Вырывает руку, я чуть не падаю.
— Лепс, ты что — не отключил?!
— Подожди…
Быстро читает эсэмэску, нажимает…
— Отключил, успокойся!
Садится рядом на ствол. На лбу капли пота.
Кладет мне ладонь на колено.
— Ладно, Лепс, загулялись. Возвращаться пора.
Пытается удержать.
— Не надо. Ты мне что-то хотел сообщить?
— Когда?
— Сейчас.
— Хотел.
— Ну так сообщай.
— Слушай, а ты не устаешь?
— От чего?
— «Пошли!» «Говори!» «Садись!» «Ложись!»
— «Ложись» я тебе не говорила.
— Мне — нет.
— А… А мы, значит, Отелло?
Молчит.
— Не дождался окончания контракта? Мог бы пару дней потерпеть.
— А я контракта не нарушаю. Я тебе это все как брат говорю.
Как брат. Ну-ну. Снимаю с него венок. Верчу в руках.
Бросаю в сторону.
— Разжаловала?
— Завял просто.
Треплю его по затылку:
— Пошли, Отеллушка, новый сплету. Если сцен ревности не будешь.
— Ревности… Лен, а вот если честно, зачем он тебе?
— Кто?
— Мистер Красные трусы.
— А тебе — что?
— Он же — во… — Постучал по лбу, чмокая губами. — Спроси его, когда книгу в последний раз держал.
— Это ты мне тоже как брат говоришь?
— Нет. Уже не как брат.
— Отпусти, мне больно… Да клешни какие-то!
— Просто я тебе подхожу больше.
Ну вот, приехали.
В театры я вообще не хожу, особенно в Молодежку. Еще в Драматический, понимаю, туда хоть элита наша сраная ходит. А Молодежный только на билетах держится, которые среди школ распространяют.
А тут им что-то перепало по федеральной программе, на реконструкцию. Им, и филармонии. Филармонии пожирнее, туда сразу и очередь типа тендер: и Минасянов, и «Веста», и вся честная компания. А на Молодежку что? Возни много, здание старое, дешевле снести и копию сляпать, как с бывшим Госбанком на Ленинской. Ладно. Мне что? Заказов почти нет, из-за бассейна. Ну и Саныч еще. Работал у него там кто-то. Давай, Елена Николавна. Ладно, договорились, поехали посмотреть. Саныч еще всю дорогу кашлял, с гриппом. В сторону, говорю, кашляй, закашлял уже меня всю.
Приехали. Сарай-сараем, но что-то кольнуло. Классом нас сюда водили, сейчас вспомню. «Спящая красавица»? Поднимаемся на второй, директор такой навстречу, ладошку потную сует. Кабинетик такой, ничего. Мебель, картинка. Ну, давайте, пойдем, посмотрим. Стал по развалюхе экскурсию проводить. Зал посмотрели, гримерки. С Санычем только переглядываемся, такая кругом задница. «Осторожно, тут у нас пол разобран!»
И тут я увидела его.
Вышел откуда-то из темноты, в сером свитере. Я чуть не крикнула.
«Аскольдов! — Директор на него, — почему вы вчера не были? Знаете, что Владимир Маркович говорил о вас? Вам уже передали?»
Для нас старался, типа начальник же.
«Кто это?» — дождалась, когда отошли, когда он остался за спиной, в сером свитере.
«А вы не знаете? Аскольдов, наша восходящая звезда. Всего год у нас, уже блистательно сыграл Чиполлино. Вы не видели? Не ходите? Зря. Поет под гитару, стихи пишет. Сейчас Владимир Маркович дал ему Трубадура, да, да, "Бременских" решили, премьера на носу. Но дисциплина наше больное, да. Я вам пригласительные пошлю».
Через неделю я сидела во втором ряду на «Бременских».
Лешке предложила, давай вместе. Сейчаз-з. Ну и сиди, раз «уже не маленький»; ужин в микроволновке, чао-какао.
Играли неплохо. Но следила только за ним. За Трубадуром. Лев Аскольдов. Аскольдов. Остальные, принцесса там… А Король точно под нашего мэра работал, Кащеева. И голос, и все. Дети, конечно, не поняли, и взрослые не все. Ну, некоторые посмеялись, похлопали. Разбойники тоже ничего, живые такие.
Но это так, боковым зрением. Я глядела на Трубадура. Иногда так становился похож, что закрывала глаза. Крепко, как ты меня учил. Все нормально. Если у разных там, Ленина, Гитлера, могут быть двойники… «Ничего на свете лучше не-е-ту, чем бродить друзьям по белу све-е-ту!»
Через три дня мы сидели с ним в «Аркадии». Пили кофе. Я излагала свой проект. Нет, не реконструкции. Проект «Бултыхи».
«Ты согласен?»
«Надо подумать».
…Ключ медленно стал поворачиваться.
И остановился.
«Эй, вы там, откройте! Я кому говорю!»
Слуга стоял, не шелохнувшись.
Потом медленно сел.
«Откройте же, я приказываю!»
«Днем приказывать будете, ваше высочество! А ночью вы уж меня слушайтесь».
«Что? Что ты говоришь? Да как ты смеешь?»
«Да уж смею, ваше высочество. Сидите себе смирно и не фулюганьте. А утречком я вас, так и быть, отопру. А может — и не отопру».
«Отопри! Отопри, мерзавец, подлец, урод!»
«Сейчас, разбежался!»
«Отопри… Я отдам тебе все сокровища!»
«А зачем мне твои сокровища, если вы меня тут же своим ноготком: чик! И пык. Сидите уж и глупостей не говорите. А сокровища я и без вас взять могу. И мантию, и шмантию, и корону. И вообще королем тут могу стать. А что? Завтра с утра пораньше и взойду на трон. Только подданных надо будет пригласить. И королеву…»
Из-за двери донеслись странные звуки.
Слуга прислушался. Погладил дверь.
«Да я бы тебя, вампирушка, взял… Собой ты не дурна и королевской крови. Но с такими привычками, сама понимаешь, какая ты невеста».
«Стоп, стоп, стоп!» — Александр Маркович поднимается, сморкается в платок. «Лева, золотой, опять отсебятинка? Опять. Ну и когда мы роль будем знать?»
Я сижу в полупустом зале.
Репетиция затягивается. Договорились, что заеду в три, и обедать. В «Аркадию»? Нет, в «Аркадию» надоело. Или в грузинский? Смотрю на время. Полчетвертого.
После той, первой встречи в «Аркадии» мы встречались еще два раза.
Первый раз пришел мокрый, в дождь, сказал, что подумал и не может. Не может. Посидели, попили кофе. Рассказывал о театре. Что рассказывал? Что «Бременских музыкантов» они называют «Беременскими», — как их ставят, артистки косяком в декрет. Прошлый раз забеременели Принцесса и Собака, еще и Атаманша, от которой такой подляны вообще не ждали…
Я слушала весь этот треп, сыпала сахар в пустую чашку. Сказала, что жаль. Может, он еще подумает? Может, не устраивает оплата? Устраивает? Так в чем дело, товарищ Трубадур? Подвезла его до Лесной, где он снимал хату, выскочил в дождь, дверцу плохо захлопнул. Глядела, как он бежит под дождем. На следующий день звонит, просит о встрече. Сидим в «Аркадии». Просит заказать ему мартини. Пьет. Говорит, что согласен. И еще мартини, пожалуйста.
Сегодня я принесла ему семейные альбомы. Один из дома, другой потихоньку у мамы. Он попросил, для вхождения в образ. Сижу, держу на коленях. Листаю. Молодая мама. Папа со мной. Мы все на пляже в Бултыхах. Наша свадьба с Антоном, это можно не показывать.
Наконец, актеров отпускают. Прячу альбом, поднимаюсь. Ну, и где мы? Был, исчез. Слышу сзади шепотом: «Привет, сестричка»… Вздрагиваю. Ленькин голос, интонации, все.
Поваленная сосна.
— Ладно, Лень, — снимаю с себя его руки. — Не надо.
— Сказать, почему я согласился на это все?
— Ну, скажи.
Знаю, что скажет. Его проблемы. Моя совесть чиста, намеков я не давала. Если что-то себе нафантазировал, сам виноват. Он — мой брат. И будет моим братом. Еще три дня. Три счастливых дня. Как договаривались. Инцест по сценарию не предусмотрен.
— А Гена у тебя по сценарию был предусмотрен, да? Он тоже кого-то
изображает?
— Послушай, Лепс… Мне вообще-то достаточно лет, чтобы…
— Ага, достаточно. Вот и потянуло на молодняк.
— А вот хамить не нужно.
— А кто тебе сказал, что…
— Не нужно, говорю, хамить. Это мое личное дело, с кем я и вообще. Тоже мог бы себе найти здесь, пожалуйста. Я бы никакой ревности тебе не устраивала.
— А у меня с этим вообще никогда проблем не было.
— Вот и рада за тебя. Что так смотришь?
— Но амеба же! Просто амеба.
— Насчет второй части спорить не буду.
— Какой второй части? А… Хм. Ну если у тебя такие скромные запросы. Ну,
о-о-чень скромные.
— Ой, а ты откуда знаешь, какие у меня?
— Да видел.
— Что-что?
— Проехали.
— Нет уж, скажи. И что ж такое ты видел?
— Проехали, говорю.
— Нет уж, раз начал…
— Проехали, следующая станция «Новые Жопки».
— Что — ты — видел?
— Отпусти… На озере… В бинокль. Как вы в лодке. Довольно примитивно.
Мне становится смешно.
Сразу представила. Мы с Генкой. И этот придурок недоделанный с биноклем.
— Что смеешься?
— Да так…
Сажусь на траву. Порыв ветра.
Садится рядом, прижимается. Господи, как похож все-таки.
Кладу голову ему на плечо.
Небо вспыхивает.
— Бежим! — вскакиваю, хватаю его за руку. — Сейчас ливанет! Тикаем… Ленька!
Удар грома.
— Солнце!
Группка в спортивных костюмах послушно поднимает руки.
— Воздух!
Все машут руками.
Солнца нет. И воздух сырой, бр-р.
— Космическая энергия! Приди к нам, космическая энергия!
— Иду, иду… Иду, мам.
Отхожу от окна.
— Давай, — мама возится с дорожной сумкой, — помоги мне с молнией.
До двенадцати ноль-ноль надо освободить номер.
На завтрак сырники со сметаной.
Котлеты с гречкой. Котлеты не надо. «На дорогу надо поесть», — мама подвигает мне тарелку.
Мама с папой пошли в номер, а мы с Леником искали на прощание белок. Спустились к озеру.
— Нынче ветрено, и волны с перехлестом… — читает Леник. — Скоро — осень, все изменится в округе.
Да, скоро все изменится.
Очень скоро. Вернемся, надо будет срочно на узи. Хотя и так ясно. Картина Репина «Не ждали». Она же — «Приплыли». Почиститься, разгрести дела в офисе, поговорить с Казимировым. И ждать суда.
— Пойду в номер. — Леник зевает. — Родителям помочь надо.
На горизонте появляется Гена. Понятно. Встреча боевых друзей на Эльбе.
Леник засовывает ладони в карманы треников и гордо удаляется.
— Привет! — Генка хватает меня за руку, мнет ладонь. — Что это он убежал?
— Не знаю. Тебе, наверное, обрадовался.
— Странный он, этот, твой. Ребята говорили, я еще тебе хотел сказать, ходит, что-то следит. За нами, за тобой. Наши хотели с ним поговорить, нет, чисто поговорить, я сказал, что не надо, это ее брат. Он тебе брат ведь?
— А что?
— Не похожи.
— У нас отцы разные.
И матери, мой милый. Но тебе это знать не обязательно.
Вспоминаю, как бежали вчера с Леником под ливнем. Вымокли как собаки. Вернулись, а горячую воду отключили, душа нет. Грелись феном.
— Сегодня уезжаете?
Киваю.
— Лена…
— Что?
На озере волны. Кусты облепихи, катамаран на цепи качается.
«Чем там кончилось, Лень? Ну, скажи, чем?»
Льет дождь. Лежим. Ленька рядом, с мокрой головой. Мама с папой в фойе, там телевизор, взрослые.
«Ленечка, ну что там было? Ты всегда расскажешь до интересного, и бросаешь!»
«Потому что ты дурацкие вопросы задаешь».
«Какие я дурацкие вопросы?»
«На балконе».
На балконе мы были недолго. Леник сказал, что должен постоять под дождем. Я попросилась с ним. Было темно, мокро и щекотно, дождь был теплым. Что я его спросила? Ничего не спросила. Один вопрос задала, и все. Специально выдумывает, чтобы не рассказывать.
«Лень, ну что там эта вампира сделала?»
«Ничего».
«Совсем? Она больше не выходила из двери? Так и сидела до пенсии, да?»
Леник хмыкает, но молчит.
«А я знаю, — подвигаясь к нему, — она исправилась. Исправилась?»
«Вампиры не могут исправиться», — говорит Леник, берет мою руку и притягивает к своей голове. «Потрогай, мокрая еще?»
«Мокрая. А почему не могут исправиться? Они что… Они как фашисты, да?»
«Они хуже!» — Леник вытирает голову. «Фашисты никогда не бывают бессмертными. Вообще! Сбросить на них бомбу, и все. И танками, и пулеметами их: та-та-та! Ложись!»
Хватает подушку, швыряет в меня.
Ах, так! Ну, держись…
«Чур, я за красных!» — бросаю подушку обратно.
«Вы — за красных обезьян! А мы за красных офицеров! Ба-бах!»
«Ай, отпусти! Ну больно!»
«А ты… не щекотайся! Глупая красная обезьяна… ты… нарушаешь правила!»
Мы барахтаемся на ковре.
Лицо Леника становится серьезным.
Поднимается, садится на кровать:
«Ладно… Ложись и слушай, только молча… Вампира, она тогда…»
Я быстро ложусь и крепко закрываю глаза, чтобы было страшнее. Натягиваю одеяло.
«Вампира… она там сидела, за дверью. Ей хотелось крови… Ей так хотелось крови! И она скрежетала своими острыми зубами. А слуга уже ложился спать. И тут…»
Нет, с закрытыми слишком страшно. И дышать под одеялом неудобно.
«И тут из спальни выбежала — маленькая, маленькая девочка!»
«Кто?!»
«Дочка слуги».
«Ой, зачем?! В туалет, да? Вот дура! Не могла потерпеть!»
«Значит, не могла.»
«А я бы дотерпела. Нужно волю в себе воспитывать.»
«А она — не могла, понятно? И вообще она была маленькая, поэтому выбежала… И нечаянно задела ключ!»
«Тот самый?»
«Да, который торчал в двери. И вот ключ выпал. Ба-бах! Дверь открылась, и из нее выходит… вампира! Схватила девочку и мгновенно выпила из нее всю кровь.»
Леник кусает подушку: «О, как вкусно! Какая теплая кровь!»
Я быстро натягиваю одеяло.
Слышу, как страшно стучит сердце и что-то булькает в животе.
«Лень, а слуга? Он что, бросил родную дочку? Он убежал?»
«Нет. Он просто не успел. Он вскочил, а вампира уже дочку раз, и в сторону! И на него с зубами бросилась! "О, мне не хватило, мне надо еще, еще…"»
«Беги, дурак! Беги, что стоишь?!»
«Ты че — беги? Она знаешь? Она же как метеор! Вжиу! Вжиу! И тогда он вспомнил, и — бабах!»
«Что?»
«Как ей по левому плечу!»
«Ай-и… Ты че, совсем?! Больно же, дурак!»
Отворачиваюсь, плачу.
Подползает сзади:
«Ну, хочешь, на, меня ударь».
«Возьму и ударю…»
«А-а!.. Я сказал ударь, а не пни! Уродина! Все, больше тебе никаких историй не буду до конца жизни.»
«Ну и не надо! Я сама вырасту и все в книжках прочитаю.»
«А в книжках про это нету!»
«А я в кино пойду и попрошу, чтобы специально такой фильм сняли!»
«Ага, они тебя прямо послушают».
«А вот и послушают!»
Молчим. Дождь перестает.
Где-то еще падают капли.
«Ленка, спишь?»
«Нет».
«Будешь печенье, у меня с ужина…»
«Да. А она умерла?»
«Кто?»
«Вампира».
«Ну да. Он же ее по левому плечу».
«Жалко», — жую печенье.
«Кого? Вампиру?»
«Не. Что все так кончилось».
«Ты что, это еще не конец».
«Она что, только притворилась?» — перестаю жевать.
«Нет. Она точно умерла. Только крикнула "О-о, майн гот!" И на пол. Слуга их на тележку, ее и дочку, и на кладбище. Могилки рядом выкопал. Дочке крест поставил, а вампире просто холмик и буквы такие: "Собаке — собачья смерть!"»
«И один в королевстве остался?»
«Ну да, а ты что думала? Ходит по королевству, а кругом только могилы, скелетики разные…»
«Лень, а ты трусики себе сейчас зачем снял?»
«А ты что, подглядываешь?.. Ничего не снял! Вот… потрогай»
«Нет-нет, я не подглядываю… Ну что там слуга сделал?»
«Слуга? Ну вот, ходил, ходил. Туда пойдет, сюда. Одна только радость — на кладбище прийти и цветочки положить».
«Розы, да? Белые?»
«А из могилы принцессы, она же рядом, все время ноготь рос. Огромный! Хотел его спилить, два дня пилил, пилил, а ноготь только сильней. И вот он как-то пришел с цветами и поскользнулся. И на ноготь напоролся. "А!..A!"»
Леник бросается на спинку кровати, дергается и скатывается на пол.
«И повис на ногте, и умер. А из-под земли такой хохот: ха, ха, ха!»
Лежим, молчим.
По стеклам течет дождь.
Снова начинаем говорить, только шепотом.
«Я же сказала, что она живая, притворилась».
«Нет, она была мертвая. Просто… у нее такая психология».
«И это конец уже?»
«Да.»
«Лень… А если я сама умру, ты меня…»
В коридоре слышны голоса родителей.
Ленька убегает на свою кровать.
Через двадцать лет Леник исчезнет. В Москве, а может, и не в Москве. Розыск ничего не даст. Последние данные из наркодиспансера. Мама подает его имя за здравие. Говорит, видела его во сне, шестилетнего, он куда-то ехал на своем велосипеде.
Взяла на втором видеозапись дня рождения. Поставила, пока собираемся.
Виды Бултыхов.
Озеро.
Храм Воздуха.
Главный корпус. «Пусть бегут неуклюже». Зимний сад. Стол, пластмассовые стулья. Просила нормальные, деревянные, деревянных нет. Крупным планом салаты. Оливье, винегрет, тертая морковь с сыром под майонезом.
Я проматываю вперед: забегает, дергаясь, мама в своем платье, за ней папа, начинают приплясывать вокруг стола. Я стою во главе стола, лыблюсь и подскакиваю. Врывается Леник с букетом белых роз, размахивает им.
— Ну сделай уж нормально, — проходит за спиной мама.
Хорошо. Нажимаю. Семейка сразу перестает дергаться и чинно рассаживается за столом. «А тебе салатика?» «Нет, мне рыбки.» «Ну, скажи, Станиславыч.» Папа поправляет галстук.
— Ой, гримасничает как… Актер!
— Мам, если не нравится… Я вообще хотела это промотать.
— Мне тогда еще говорили, — возится с сумкой, — что он вылитый Андрей Миронов.
— А что плохого? Хороший актер.
— Ну да, хороший. Только легкомысленный.
Папочка на экране уже договорил тост. Поднимает рюмку: «Ну, за нашу Леночку! За нашу Елену Прекрасную!»
Вещи собраны.
До отъезда еще пара часов. Заглядываю к Ольге Ивановне, директору. Она у себя, на первом. Благодарю ее, все было замечательно.
— Ну я рада. Приезжайте еще. Так, чтобы… отдохнуть. В сауну сходить, массажик. Ко Дню города мы тренажерный зал открываем.
— Мы и так прекрасно отдохнули.
— Да-а.
И улыбочка под Мону Лизу. Это она насчет Генки улыбается. Плевать, мы и не скрывались.
— А вообще, — поднимается из-за стола, — у нас большие планы, я даже хотела с вами немного посоветоваться… Да вы насчет выезда не волнуйтесь, можете хоть до вечера.
Черные колготки и светлые туфли. Бр-р.
— За семь часов доедете, если дорога нормальная. Хоть пообедайте на дорожку, я скажу, вам раньше накроют… Да что вы, это подарок от фирмы. Только пять минуток, дело одно...
Вернулась, наши уже на чемоданах, день рождения смотрят. Леник дымит на балкончике.
— Ну что, Ленуся, — папа поднимается, — боевая готовность номер один? Айн, цвай, полицай?
— Нам еще обед накроют в час. Мам, да ты сиди!
— А что «сиди»? Зачем за обед еще платить? Я чего бутерброды старалась как дура?
— Обед бесплатный. А бутерброды не пропадут.
— Правильно, — говорит папа. — Я бы сейчас парочку. А, мать?
— Ой, Станиславыч, тебе бы только «парочку» всегда!
Я гляжу в окно. С Генкой попрощались утром по-дурацки. Даже не попрощались. Сказал, что еще придет. Ну и где ты, счастье мое? Чудо в перьях.
— Лен, погляди, как мы с отцом выплясываем.
Я смотрю на экран. «Ты помнишь, плыли в вышине…»
— И вдруг погасли две звезды, — подпевает мама. — Куда я эти бутерброды… А, вот вы где! «Что это были — я и ты!»
Танцы заканчиваются, начинаются воспоминания. Я на экране: «Мама, а что от того лета тебе запомнилось?» Мама, глядя куда-то вверх, играя бусами: «Ой, ну так сложно сразу сказать. Время другое. Сейчас люди похолодали, только в церкви где-то теплота осталась. И ты была еще совсем… Тогда на озеро кататься убежала, к нам бегут: "Там девочка от моторной лодки погибла, наверное, ваша", у нас с отцом чуть инфаркта не было. Помнишь, папочка?» Папа что-то мычит, рот занят.
Я снова смотрю в окно, пусто. Где же он?
Спустилась к озеру. И здесь его нет. Ветер. Натянула капюшон. Прошла мимо облепихи. Здесь мы с ним. Господи, выкинуть из головы. Стереть. Все стереть. Вы хотите переместить файл «Генка.doc» в корзину? ДА. НЕТ.
Нажимаем ДА.
Ветка облепихи.
На пляже пусто. Подхожу к воде, мочу пальцы.
Беру камешек, бросаю. Позвонить ему, что ли?
— Ле-на!
Вздрагиваю.
Нет. Это Леник сверху.
Пора к машине.
Сажусь за руль.
Отвыкла уже за эти. Висюлька. Запах. Леник рядом усаживается.
— Пристегнись, а то пищать будет.
— Ничего не забыли?
— Ну, спасибо этому дому!
— Лен, — мама трогает за плечо, — Лен, подожди, на дорожку помолюсь.
Шевелит губами.
А мне о чем молиться?
Надо было позвонить все-таки этому уроду. Спасатель гребаный.
Какой-то мужик странный из ворот выглядывает. Чего ему надо? Прячется.
— Ну, с Богом!
Поехали. Ворота уменьшаются в боковом стекле.
Выезжаем на дорогу.
Леник кладет мне ладонь на колени.
Мотаю головой.
— Убери.
— Не плачь, девчонка.
Убирает.
Сворачиваю, торможу у церкви, спрыгиваю:
— Подождите минут десять.
Мама тыркается в заднюю:
— Леночка, я тоже…
— Я быстро.
— А платок есть? На голову?
Подхожу, быстро крещусь.
Главное, чтоб открыто. Открыто. И где свечи продают.
— Пятнадцать.
— Каких?
— Этих.
— У вас тут не хватает.
— Вот еще возьмите.
Нахожу тот самый столик. Который прошлый раз.
Одна. Вторая…
Чтоб это дебильное окно только не раскрылось.
Подходит женщина со шваброй:
— Ух, сколько свечей…
Нет, все нормально.
Все нормально, Господи. Просто я не совсем в форме. Не знаю, правильно поставила? Спасибо Тебе за это лето. Все было очень хорошо, просто классно, Господи. Что? Пожелания? Если тебе интересно… Тебе, правда, это интересно? Хочу жить. Просто жить, Господи, и быть счастливой. Просто жить и быть счастливой. Жить и быть счастливой. Вот и все. Целую, твоя Лена.
Сообщение отправлено.
Едем.
Эсэмэска пикнула, от Коваленка. Спрашивает: еще не вернулась?
— Ленусь, хочешь семечки?
— Не, мам.
Тошнит меня от этих ваших семечек.
— А бутербродик? Один?
— Вода есть?
— На.
— Это спрайт.
— Я думала, ты спрайт просишь.
— Я воду.
— А он, знаешь, как лимонад. Ты помнишь, как лимонад любила?
— Я компот любила. Воды обычной можно?
— И лимонад тоже. Подожди, вот твоя вода. «Священный источник», надо было еще пару бутылок. Тут в составе серебро и еще что-то, врут, как всегда. Кто еще будет пить, поднимай руки.
Что-то мама веселая. Ловлю в зеркальце ее лицо. Накрасилась. Что это с ней?
— Лен, а что ты так в церкви долго, — мама заканчивает шуршать пакетами. — Мы уже за тобой идти собирались. Десять минут, десять минут…
— Встретила там. Помнишь, Лиру Михалну, физручку?
— Какую? Подожди… Гадалку эту?
— Да. Полы там моет.
— Ой! Да ты что! Надо же, сколько лет, ей тогда уже было за очень. А что меня не позвала? Помню, конечно. Конечно, помню. Лира Михална, такая… А ты ее как узнала, ты ж маленькая была?
— По голосу. Голос у нее.
— Ой, да, прокуренный. Как запоет утром по динамику!
— Лидусь, это Высоцкий пел, — говорит папа.
— Высоцкий? А мне помнится, что сама, она ж самодеятельница такая была… А теперь вот, значит, уверовала. Ну и правильно, уже и возраст такой. А ведь мне тогда правду нагадала, и про тебя, Коль, слышишь, всю твою подноготную. А о чем вы с ней разговаривали?
— Да ни о чем. О чем они в церкви… Исповедайся, то-се.
— И я тебе то же самое. Хочешь, как приедем, сразу отцу Андрею позвоню?
— Мам, оставь меня в покое.
— А что «в покое»? Ты сама вон из церкви в слезах пришла.
— Да в каких слезах?
— Вот в таких. И отец видел, правда? Что глаза у тебя на мокром месте были.
— Мама, я повторяю, оставь меня в покое.
— Да и пожалуйста, я тебя вообще… Если б ты сама в покое была. Полгода уже током бьешь! Уже сама даже своих слез не видишь.
— Я последний раз очень прошу…
— Сердце кровью обливается! Кто у тебя еще близкие? Кто еще тебе так, как мы? Поехали сюда с тобой, все твои фантазии на задних лапках исполняли!
— Лидусь, не отвлекай ее за рулем…
— Ничего страшного, пап. Давайте все выскажемся. Кто еще хочет свои пять копеек вставить, пожалуйста!
— Лен…
— Пожалуйста! Нет желающих? Тогда, давайте, я скажу.
— Николай, дай мне сумку, там валидол!
— Лен, мать пожалей!
— А ты ее сам очень жалел тогда? Когда уходил? Когда так дверью хлопнул?
— Ну зачем так?
— Затем… В общем, дорогие мои и хорошие… Всем вам большое спасибо. Но спектакль закончился. Все. Всем спасибо.
— Лена, зачем в конце все портить?
— Почему «портить»? Сыграли все неплохо, особенно наша приглашенная звезда, Лев Аскольдов, поаплодируем! Ну, аплодируем, громче! Ну громче же!
— Лена!
— Господи…
Чуть не врезаюсь, машину заносит влево…
— На, попей еще.
Мотаю головой.
Пустое поле, лес вдали, машины проносятся.
Подходит мама:
— На, кофту накинь.
— Как сердце? — спрашиваю.
— А насчет нас с мамой, — говорит папа, — мы тут решили попробовать снова объединиться.
Я смотрю на них:
— А как…
— Мы с Адой давно уже как кошка с собакой.
Вот, значит, почему тогда приперлась. «Шарфик! Шарфик!» Бедная.
— А что раньше не сказали?
— Сами только вчера решили.
Проезжает грузовик. Автобус. Вспоминаю Гену. Он бы меня сейчас коньяком своим поганым напоил, и все было бы хорошо.
— Ну что, ты как, Леночка? Может, поедем уже? Ты в состоянии?
— В состоянии.
Сажусь за руль. Леник все сидел здесь, в мобильном копался.
Кладет мне ладонь на колено.
— Пристегнись, пикает.
Пристегивается, не убирая ладони. Ладно, пусть. Мне уже все равно.
Мама спит у папы на плече. Папа тоже посапывает. Вот нервная система, супер.
Еще одна эсэмэска. От Коваленка.
— Может, прибавишь скорость? — Леник смотрит.
— Ты тоже заметил?
— Уже минут пять сигналит.
Смотрю в боковое. «Жигуль» обшарпанный.
Снова мигает.
Прибавляю скорости, отрываемся.
«Жигуленок» исчезает.
Темнеет.
Леник шепотом:
— Лена, надо поговорить.
— А зачем?
Гладит меня по щеке, шее.
— Граждане пассажиры, не отвлекайте водителя… И тут — не надо… Хочешь, чтобы я во что-то врезалась, да? Ну не надо здесь. Родители же, ну…
Ну что с этими его руками делать? Ладно, сижу, терплю.
— Лен… Еще прибавь.
— Что?
— Догоняют.
— Может, остановимся?
— Нет, не надо. Это, наверное… которые нас в Бултыхах пасли.
— Думаешь, это…
— Я же специально, говорю, все время за тобой ходил.
— Так. Если ты хочешь, чтоб оторвались, убери руки. Вот так.
Блин!
Железнодорожный переезд, шлагбаум, торможу.
— О-х…
Родители открывают глаза. Леня смотрит в потолок.
«Жигуленок» тормозит сзади.
Дверца распахивается, выскакивают какие-то мужики.
Из «жигуленка» почти вываливается Генка. Голова в бинтах.
Бегут к нам, волоча Генку.
Генка машет букетом роз в забинтованных руках.
Долго ищу ключи.
Нащупываю, вытаскиваю. Падают. Руки трясутся.
Поднимаю. Смотрю на дверь. Нет, ничем не обмазана. Чистая.
— Ну вот и дома…
Вожусь с замком.
Нет, изнутри. Лешка, значит, уже приехал.
Звоню, шаги за дверью.
Стоит заспанный.
— Привет! На, сумку возьми…
— Привет, мам.
Что это с ним, уже года три «мама» не говорил. Берет у меня сумку.
— Что стоишь? Иди, отнеси, в комнату мне.
Сейчас выдаст что-нибудь свое фирменное.
Нет, идет, относит. Молча.
— Леш… Все нормально?
— Что?
— Хорошо съездил?
— Супер. Я тебе тоже сбросил.
Что «сбросил»? Фотки. Стягиваю куртку, кеду пытаюсь ногой снять.
— А что мне не звонил?
— А у нас мобильные, по правилам, собрали, мы же крестоносцы, я тебе
эсэмэску бросил.
— Эсэмэску? Да… — прохожу по коридору, на кухню. — Слушай, а что у нас так чисто, а? Сына, ты что, сам… убрался?
— Не, это Лена. А я ей помогал.
— Какая… Лена?
— Из 11-го «Б». Моя девушка. Я ее в лесу от дракона защитил.
— А, от дракона... Понятно.
— Ну, это по игре, короче, такие правила.
— Не, я поняла. Ты ее спас от дракона, и она пришла и вылизала нам всю хату…
— Мам, что с тобой? Она очень хорошая. И у нас серьезные отношения.
— Ты с ней… Вы с ней уже…
— Нет! Мама, я же сказал, у нас с ней серьезные отношения.
— Леш, повтори, пожалуйста.
— Что серьезные?
— Нет, как ты меня назвал.
— Как? Мама.
— Повтори вот это.
— Мама. Мама… Еще?
— Не забывай меня так называть, ладно?
Старый дедушка Коль был веселый король.
Громко крикнул он свите своей:
— Эй, налейте нам кубки,
Да набейте нам трубки,
Да зовите моих скрипачей, трубачей,
Да зовите моих скрипачей!
Принцесса хватает Короля за парик и макает в торт.
По залу ползет запах пены для бритья. Публика хлопает.
— Лев Аскольдов? — в фойе дожидается человек в форме. — Пройдемте.
Уменьшающееся здание театра в заднем стекле машины.
Были скрипки в руках у его скрипачей,
Были трубы у всех трубачей,
И пилили они, и трубили они,
До утра не смыкая очей.
Старый дедушка Коль был веселый король.
Громко крикнул он свите своей:
— Эй, налейте нам кубки,
Да набейте нам трубки,
Да гоните моих скрипачей, трубачей,
Да гоните моих скрипачей!
Вот и полтора года пролетело. Даже больше.
Вот эта, да, вот эта за левым столиком, это я. Узнали хоть? Ну вот, рукой помахала.
Говорят, поправилась, понятно отчего. Но что мне идет. Правда? Да ладно!
Да, специально пришла пораньше, от «строгого режима» отдохнуть.
Ну что рассказать?
С Геннадием Михалычем мы все-таки расписались. Да, вот колечко… Мне тоже показалось, когда выбирали. Вдвоем ходили.
Девочка у нас родилась, Катенька. Да, та самая, которую из Бултыхов «привезла». Копия Геннадий, вот такие щеки. Честно сказать, колебалась. Суд на носу, фирму закрывать надо. И на тебе бонус в виде токсикоза. Целые дни с «белым другом». Генка настоял. И Лешка. Да, Лешка. Зашла к нему такая после узи. «Сына, ты уже взрослый, в январе пятнадцать, поэтому с тобой уже напрямую советуюсь. Ты готов, что у тебя сестренка родится, и Гена к нам переедет? Я сама не знаю, готова я или нет, суд на носу и с бизнесом сам знаешь, какая жопа. Скажешь, чтоб я сделала аборт, пойду и сделаю».
Ну вот так и сказала. А у него такая истерика фонтаном, не ожидала даже. Поревела с ним за компанию, Генка приехал, сопли нам утирал. Он Генку сразу зауважал, когда узнал, что тот пацана спас, ну, в тот день, когда я из Бултыхов… Лешка, пока я ходила, боялся, «мама», «мамочка», посуду три раза за собой вымыл. Лена эта его тоже приходила, что-то помогала там, блондиночка такая. Они потом расплевались, сейчас у нас уже другая мадемуазель, еще не видела, только по телефону, когда мобильник терял: «Мо-о-жно Алексея?» Ну, мо-ожно. Тоже, говорит, серьезные отношения.
Сейчас… эсэмэска пришла. МЫ ПРОСНУЛИСЬ.
При.. Прис… Есть.
МОЛОДЦЫ! ПРИСТУПАЙТЕ К ПЛАНУ Z.
Это у нас с Геной шифр, он сейчас с Катькой, пока я здесь на встрече. Я ему записку прилепила, что делать, «План Z». Обычно мама приходит, а тут у нее церковь, Лешка на английский ускакал. Так что Геннадий Михалыч сейчас один с Катькой, папашка.
Думаю иногда, конечно. Мысли, говорю, разные. Может, не надо было за него. И разница, и образования у него толком ноль, хорошо, заставила на вождение, разъезжает сейчас на джипе. Вспоминаю иногда, что этот актер великий о нем… Что «примитивный». Ну, примитивный. Сама же просила тогда просто счастья, кушайте, что заказывали.
Сейчас, эсэмэска. Ну что у них там? А… Это не от них, это от нее.
Я В ПРОБКЕ ОПОЗДАЮ ИЗВ...
А я ее предупреждала, что пробки будут. Сейчас, отвечу ей.
На суде… Это я еще не сказала? На суде меня почти оправдали. Я уже с пузом убедительным была, даже то, что они мне накрутили, амнистия, освободили прямо из зала, Генка меня увез, я еще по дороге на него наорала на радостях.
Потом еще один суд был… Нет, девушка, я еще не выбрала. Хорошо, сок пока принесите, вот этот.
На чем я остановилась? Забыла из-за этой... Да, насчет родителей. Они съехались, как в машине сказали. Адочка ко мне приезжала в истерике биться. А потом через месяц отец к ней за вещами ездил, ну и привет. Мама по потолку бегает, я — туда, к этой мадам. И там его тоже нет, и к маме не вернулся. Снял однокомнатную на Чехова, ездили к нему туда с Генкой. Посидели, выпили, я не пила. Все, говорит, устал от всех этих женщин. Я Генке своему в бок, ты не слушай, тебе рано такие вещи. Так что теперь папочка у нас один, утром бегает, а для души у него Новгород, мы туда столицу переносим. С новгородцами своими постоянно, подписи собирают. Зимой туда ездил, его там встречали, с мэром фоткался. Короче, ушел в деятельность, а мама вся поседела, но держится, с Катькой иногда сидит.
Этот вот жил у нее полгода, актер заслуженный. Вот вообще не ожидала. «Мамой» стал ее называть, любовь такая. А потом его, прямо из театра.
Да, это вообще было самое… Генка говорил, что типа чувствовал. Ну и я чувствовала. Вон, Генку даже подозревала, тогда, на лодке. А тут все, и показания уже на него были, на этого Аскольдова. Сама, главное, своими руками. Вот почему он тогда согласился. И еще такой типа влюбленный, а сам был у них наводчик. Это между кащеевскими, прежнего мэра и нового, разборки шли. Бассейн просто карта в игре. Там других людей убирали, причем тихо. А мы, то есть нас должны были как отвлекающий маневр. Саныча и меня, и чтобы шуму много, телевидения. Меня, Коваленок сказал, в последний момент отменили, разговор пошел, что Кащея вернут. Это когда этот меня в лес завел, я так потом вспоминать стала, а еще эсэмэску получил. А должны были тяжеленьким и в озеро, один там показания дал, что план был. Это я сейчас весело рассказываю, а тогда как узнала, все молоко сгорело, я же грудью кормить старалась.
Ну, его и взяли. Прямо после спектакля, я еще не знала, как матери это преподнести. Насочиняла, что его срочно в Москву. Она не поверила, конечно, из церкви теперь не вылезает. Я с ней тоже иногда хожу, к отцу Андрею. Это ее духовник, а мы с ним просто общаемся. Катьку он крестил, фотки покажу потом, прикольные.
Ну что она там, в этой пробке? Уже пятнадцать минут здесь торчу.
Эсэмэска от нее. Нет, от Генки.
МЫ ПОКАКАЛИ!
Отвечаю: УРА!
— Привет, сестренка.
— Господи…
Стоит.
— Ё-моё, чуть заикой... Каким…
Улыбается.
Только этого не хватало. Показалось даже, что настоящий Леник.
— Ну, садись, — отодвигаю меню, — только у меня сейчас встреча.
— А я думал, ты меня ждешь.
— Ага, встречаю. Извини, оркестр не позвала.
А может, вправду Леник? Откуда… Этот.
Генке, что ли эсэмэснуть? Ладно, сама разберусь.
Садится, постарел. Курточка, зуба одного нет.
— Есть будешь?
— Да здесь все пафосное такое. Ты мне лучше на улице купи, покажу где.
— Ты где сейчас?
— А нигде. Знаешь такое место?
— Бывала.
— Ну вот. Выпустили меня.
Просто страшно на Леника стал похож, когда я его тогда последний раз в Москве видела. Кладет ладонь мне на руку.
— Руки убери.
— Лен, ты меня хотя бы выслушай.
— Хорошо, — откидываюсь, спина вся мокрая, — только по существу. Говори. Сколько они тебе заплатили? Что вы собирались со мной сделать? Просто утопить? Или расчленить вначале? Давай.
— Когда я тебя тогда еще увидел, я понял, что ты мне нужна.
— Это не по существу.
— Как раз это — по существу.
— А потом они вышли на тебя, и ты согласился.
— И я согласился. Чтобы спасти тебя.
— Спасти?
Снова эта с блокнотиком:
— Извиняюсь, будете заказывать?
Он поворачивается:
— А мартини у вас есть? — И на меня. — Тысячу лет не пил мартини. С того раза.
Я киваю, девушка рисует в блокнотике, уходит.
— Другого выхода не было, сестренка. Я все тогда обдумал. Мозги им крутил. Убедительно крутил. Я же актер.
Берет мою ладонь, смотрит на кольцо:
— Ты счастлива?
Вот прицепился. Надо убрать ладонь…
— Ладно, я пойду, — кладет. — У тебя встреча?
— Подожди, вон мартини несут. Да, встреча. Ольгу Иванну помнишь, директора Бултыхов?
— А, эта…
Изобразил.
Похоже. Не выдержала, улыбнулась:
— Ага, самая. Короче, хочет там все реконструировать. Усадьбу, все.
— Как наш театр?
— А что ваш театр? Над вашим театром «Веста» поработала, радуйтесь теперь. Я по-другому все предлагала.
— Был сегодня там. С Маркычем, потом…
Пьет мартини.
— И что потом?
— Суп с котом.
— И что собираешься делать?
— Искать. Актер ни на какие роли не требуется? Могу сыграть брата или…
— Или?..
— Не можешь немного одолжить? — поднимается. — Как устроюсь, отдам.
— Куда ты устроишься?
— Ну, пока Дедом Морозом, а там посмотрим. Есть идеи.
— Леник… Лева!
— Да?
— Только честно. Не колешься?
— Нет. Ты не волнуйся, я верну.
Застегивает куртку. Наклоняется, целует в щеку.
— Пока, сестренка. Не кашляй. Не забывай, мы с тобой еще должны в Арктику.
Смотрю, как идет между столиков.
Выходит, проходит мимо окна.
Ловлю себя на том, что глажу пальцем место поцелуя.
«Ленька! Лень! Смотри, я какой гриб нашла!»
Подбегаю к нему:
«Смотри, какой большой!»
Леник строго смотрит на гриб:
«Что радуешься? Ядовитый.»
«Сам ты ядовитый! Смотри, какая шапочка. Это сыроежка».
«Сри-бери-ежка.»
Лежим на траве, отдыхаем. Рядом сосна поваленная. Муравьи щекочутся.
«Лень!»
Тишина.
Приподнимаюсь на локте:
«Леня…»
Он лежит, болтает ногой:
«Я не Леня».
Подползаю:
«Ты инопланетян опять, да? Лень, я серьезно, три-три — вне игры!»
«Я — человек. Но меня зовут не Леня».
«Я сказала, не играю…»
«А я честно. Меня из детского дома взяли».
«Ну Ле-онька…»
«Я не придумываю. Честное пионерское.»
Поднимает руку, делает салют.
«А мои настоящие родители были полярники.»
«Честно-честно?»
«Да. Фамилия у них, фамилия была — Джонсон. И они были американцы, просто в детстве в СССР приехали. Выросли здесь и полюбили друг друга на всю жизнь. А потом… погибли. Понимаешь? Оба погибли. Корабль на льдину натолкнулся, и спасли только детей, на вертолете. И всех — в детский дом, и меня».
«Лень, а меня тоже в детском доме взяли?»
«Нет, тебя родили. А вот меня знаешь, как по-настоящему? Марсель. Запомнила? Марсель Джонсон. Красиво, правда? Только никому не говори. Клянешься? Клянись клятвой рыцарей Северной Звезды.»
«А это как?»
«Просто скажи: клянусь клятвой рыцарей Северной Звезды. Но это очень страшная. Одна девочка поклялась, а потом проболталась, и на нее самолет упал. Даже косточек от нее не нашли... Нет, я этих маму с папой тоже люблю. Но они, конечно, не полярники.»
«Да, особенно мама…»
«Поэтому, когда вырасту, стану полярником, уже решил. А ты будешь моей женой. Ты же мне не настоящая сестра. И поедем в Арктику, будем исследовать северное сияние. Согласна?»
«Но только чтобы без поцелуев и чтобы ты в маминой комнате спал!»
С пригорка спускается мама:
«Они здесь! Ну что, грибнички, богато грибов набрали?»
Мы вскакиваем и бежим к ней наперегонки.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


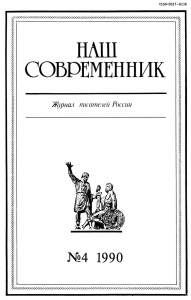
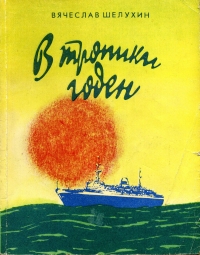



Комментарии к книге «Тёплое лето в Бултыхах», Сухбат Афлатуни
Всего 0 комментариев