Леонид Жуховицкий Ночной волк
Жизнь в эпоху перемен
Древним китайцам приписывают то ли поговорку, то ли заклятие: не дай вам Бог жить в эпоху перемен!
Но что делать россиянам, если весь двадцатый век в нашей нелегкой для жизни стране был эпохой перемен? Да каких! Все традиции, все обычаи, все уклады беспощадно рушились. У каждого поколения было свое землетрясение и свой потоп. И не было Ноя со спасительным ковчегом.
Труднее всего перемены переживают мужики в лучшем мужском возрасте. Глава семьи, хозяин, кормилец, надежный и уважаемый — и вдруг ты, как говорится, никто, ничто и зовут никак. Квалификация, опыт, стаж — никому все это не нужно. Начинай с нуля! А как начинать? Как конкурировать с мальчишками, для которых весь этот распад и хаос — милое сердцу и очень богатое возможностями житейское море?
Но чем труднее героям книги, тем интересней с ними автору. Сорокалетние мужики, наше потерянное поколение, авантюристы — как же сложно этим одиноким бойцам в чужой непонятной войне, где все зыбко, где вчерашний бандит сегодня депутат, а завтра министр (или в обратной последовательности), где из всей житейской прочности осталась разве что тяга к женщине.
Однако что бы вокруг ни происходило, мужик не имеет права быть слабаком.
Жизнь в эпоху перемен не сахарна. Но — времена не выбирают…
В близком отдалении
Тогда мне только исполнилось двадцать четыре, и мы впятером — Федька, я и еще трое — были в Крыму на халтуре. Хотя много ли это слово скажет? То была счастливая халтура молодости, когда деньги в общем не так уж и важны, а важно лето, море в полгоризонта, ухоженный пляж в ста метрах от рабочей площадки, набережная с ее пестрым поздним гуляньем, «павильон» под старой шелковицей — наш фанерный сарайчик на четыре койки, не скудеющая бутыль местного вина в ведре у колодца, базарчик, заваленный крупными помидорами, ранними дыньками, золотисто-красными персиками — и горы, горы в близком отдалении…
Да и сама наша халтура давала радость.
Мы подрядились расписать три стены — две в клубе пансионата, одну в столовой, — и эти большие поверхности, доставшиеся нам серыми и шероховатыми, теперь зависели от нас и дразнили обилием возможностей. Утвержденные когда-то эскизы давно затерялись, нам дали чьи-то наброски — ни масштаба, ни цвета, — твори не хочу! Федька выкинул лозунг: «Сделаем халтуру халтурно!» — и мы ухватились за веселую формулировку. Пусть другие обманывают заказчика, выдавая вместо искусства халтуру, — мы тоже обманем: вместо халтуры — искусство!
Главным у нас был мужичок со странной фамилией Бондарюмко — видно, еще над прадедом подшутил какой-нибудь пьяный писарь. Звали его Володя, возраста не имел: может, тридцать, может, пятьдесят. Серый мятый костюм с мятым же галстуком не снимался даже в жару. Единственный из нас он не имел отношения к живописи и единственный из нас уже был членом Союза художников. Как попал? А черт его знает! Год назад он вступил в кооператив на Бульварном кольце — думаю, это сделать было потруднее.
Бондарюмко был человек ценный. Он вел все наши дела, заключал договоры, оформлял бумаги — нам оставалось только расписывать стены. Время от времени он совал нам какие-то ведомости, раза два в месяц давал деньги: то по сорок рублей, то вдруг по сотне. Мог бы, в принципе, не давать ничего — кормили бесплатно. А в Володиных финансовых интригах никто из нас и приблизительно не разбирался.
Жил Володя не с нами, а в отдельной комнатке при клубе — иначе, говорил, местные начальники неправильно поймут…
В тот вечер мы сидели у себя в «павильоне», вернее, рядом, за вкопанным в землю тесовым столом. Попискивал транзистор. Двое играли в шахматы, я «болел». Тут же Бондарюмко что-то делил и множил в ученической тетрадке. Мой друг Федька, приземистый, лохматый, космы на глаза, просто сидел: то молчал, то посвистывал. Медленно пустела бутыль, медленно уменьшалась горка персиков. Большая голая лампа — провод свисал с шелковицы — раскатала по струганым доскам стола словно бы белый блин, ее яркое, с золотистым отливом сияние обесцвечивало звезды.
За полосой зелени, отделявшей наш сарайчик от ограды пансионата, колебался негромкий шумок: то ли дышала набережная, то ли ниже, на пляже, ровно колыхался прибой.
Федька, не умевший пить медленно, был уже хорош, он стал задирать Бондарюмку:
— Сыми галстук! Ну сыми галстук!
— Не сыму, — бормотнул Володя, не поднимая головы от тетради.
— Тогда погладь.
— Не буду. Платить станут меньше, — спокойно объяснил Бондарюмко. Он был не обидчив.
— Это еще почему?
— Так я ихний. А наглажусь, стану ваш.
— Не станешь, — возразил Федька и шлепнул ладонью по колену: его джинсы были в разномастных заплатах.
— А это одно и то же, что мода, что рванье. Ты вот, надо будет, костюм заведешь. А мятый галстук все равно не наденешь. Не ихний.
Тут из-за ограды, с набережной, послышалось пение: сильный женский голос вел старинный романс. За шумом и шелестом, за голосами, за писком нашего транзистора слова смазывались, оставалось лишь ощущение силы и артистичности. Магнитофон, что ли, врубили?
Я прикрутил колесико приемника и тронул Федьку за локоть:
— Ну-ка, стой.
В тишине сразу понялось, что голос живой.
— Концерт, что ли? — без интереса предположил Бондарюмко.
Романс кончился, на набережной пелось другое, голос поднимался и падал. Я потянул Федьку за плечо.
— Пошли?
Он лениво ругнулся.
Я пробежал между деревьями, между кустами сирени и в два движения перемахнул зубастую железную ограду — мы и на пляж так лазили, чтобы не обходить. На набережной я сразу увидел довольно плотную толпу: человек пятьдесят или больше грудилось вокруг просвета, откуда и слышался голос. Я продавился внутрь и увидел поющую.
Рослая девушка лет двадцати, а может, восемнадцати сидела прямо на асфальте с гитарой на коленях. Черная майка со странным вырезом сзади открывала загорелые плечи и полспины. Широкие желтые штаны у щиколоток были перехвачены тесьмой, ноги босы.
Даже по вольным южным меркам вид был довольно экстравагантный.
Потом я про вид забыл: уж больно здорово она пела. В то время я больше любил, когда поют как бы для себя, самовыражаясь. Она же свои песни играла: жест, взгляд, придыхание, резкая смена интонаций. Иногда она по три раза повторяла ударную строку или вообще переходила на декламацию.
Это было откровенное актерство. Но ведь и актерство — искусство. Довольно быстро я перестал следить за манерой, приемами, сделанностью жеста: захватило. И теперь все казалось уместным: и вырез в полспины, и желтые штаны с завязками у щиколоток, и театральные жесты, и резкие взлеты голоса, и резкий, по контрасту, шепот, и декорация — фонарь сбоку и море за спиной.
Ей хлопали. Она делала паузу для реакции и пела опять.
Потом песенный репертуар, видно, кончился — она перешла на стихи. Цветаева, Пастернак, кто-то из современных. Читала она хуже, чем пела, с надрывом, и жесты словно выпирали. Но и тут хлопали, я же первый — слишком неожидан был этот подарок, импровизация на асфальте с морем за спиной.
Мимо гуляли. Кто-то останавливался, примыкая к толпе, кто-то проходил, не прислушиваясь, перешагивая через мои кеды. Два парня, сидевшие почти у ее ног, курили; дымки всплывали от ее колен и тоже, как фонарь или море, казались частью декорации.
Я машинально попробовал схватить ее лицо (уже тогда сидела во мне эта привычка), но не получилось; осталось лишь ощущение щемящей, притягивающей, беззащитной вульгарности — ее было жалко, как ребенка, который кривляется под взрослого, не понимая, что кривляется. В принципе тогда я ценил в актерах благородную сдержанность, без наигрыша и суеты, без желания понравиться. В ней же не было ни сдержанности, ни благородства, она открыто подавала себя, и я не мог понять, чего в этом больше: наивности или порочности…
Гораздо позже понял — это было нормальное актерское начало.
Благородная сдержанность, если ты не гений, стены не прошибает — по крайней мере, в молодости. А наивность прет, как танк, чем меньше сомнений, тем лучше. Прет, как танк, и попутно учится, обретает опыт, даже индивидуальность проявляется быстрей — жизненные углы обдирают наносное, остается свое. Если уж человек занялся искусством и не отступается, рано или поздно хоть чему-то да выучится. Только один набирает личность в тишине и безвестности и уже потом, если хватит сил и характера, разом прыгает через три ступеньки на четвертую — а другой к тому времени, упорно карабкаясь, оказывается на той же самой четвертой ступеньке. Короче, так на так и выходит. Что лучше? А уж это кому как. Скорей всего, как вышло, так и лучше: опыт безвестности и опыт карабканья стоят друг друга…
Видно, репертуар у юной артистки был невелик, или устала, или еще что, — она замолчала и, пока хлопали, отошла шага на три и села на асфальт рядом со скуластенькой загорелой девочкой в коротких черных шортах, черной водолазке и черной же мужской шляпе с вялыми полями. Та курила. Певица в желтых штанах молча взяла ее сигарету, затянулась пару раз и вернула хозяйке. Сидевший тут же громоздкий большеротый малый достал из кармана начатую пачку, но артистка покачала головой.
Скуластенькая поднялась, сняла свою шляпу — и вдруг пошла по кругу, держа ее в руке. Окружающие сперва не поняли. Тогда она сказала с приятной улыбкой:
— Вы не хотите помочь бедным студентам?
Дочерна загорелая и в черном, она походила на ловкого лукавого чертика.
Кто-то отошел. Кто-то рассеяно зашарил по карманам.
Артистка крикнула негромко:
— Не надо!
Скуластенькая с той же улыбкой, не торопясь, шла по кругу.
— Ну, я прошу тебя! Иначе больше не буду петь!
Прозвучало резко и чуть капризно. Скуластенькая словно бы не слышала, шляпа в ее руке не дрогнула. Остановившись рядом со мной, она спросила проникновенно:
— Никто больше не хочет помочь бедным студентам?
К счастью, в заднем кармане что-то брякнуло. Я выгреб мелочь и кинул в шляпу. Скуластенькая не поблагодарила, просто повернула голову, и ее приятная улыбка как бы досталась мне.
Я спросил:
— Она артистка?
Вопрос был глуп, но умного в тот момент не оказалось.
— Студентка, — ответил чертик со шляпой, — ГИТИС. Будущая звезда.
— А кто ее мастер?
Мой школьный приятель, упорный, но бесталанный, уныло домучивал театральное училище, и это давало мне возможность при случае щегольнуть профессиональной терминологией.
Скуластенькая чуть замялась:
— Мастер? Пока секрет.
— А фамилия? — по инерции давил я, хоть и ясно было — без толку.
— Тоже секрет, — уже невозмутимо ответила скуластенькая.
— А как же ее узнать, когда станет знаменитой? На афишах портретов нет.
Моя собеседница соображала быстро:
— У нее очень редкое имя: Анжелика. Так что узнаете… Может, еще кто-нибудь хочет помочь бедным студентам?
Толстая женщина похвалила талантливую девушку и бросила в шляпу два медяка.
Сидевший с ними малый подошел и тронул скуластенькую за плечо:
— Люба…
Она сказала:
— Ага.
И все трое быстро ушли.
Я медленно поплелся к воротам пансионата — через ограду вышло бы короче, но теперь спешить мне было некуда.
Ребята так и сидели за столом, только бутыль опустела.
— С утра сгоняем, — утешил меня Федька и повернулся к Володе: — Пятерку дашь?
— Завтра раздам официально, — возразил Бондарюмко.
Мы пошли спать.
Назавтра я полдня прочесывал пляжи и болтался по набережной. Никого не было — в смысле, не было ее. Но едва стемнело, с набережной опять послышался тот же сильный голос. И как я пропустил?
Перемахнуть ограду было делом секунд.
На сей раз она была в белой юбочке, короткой, как для фигурного катания. Но так же сидела на асфальте и так же на коленях лежала гитара. И так же встала потом легким пластичным движением. И песни пела те же, и жесты были те же. Выступление.
Теперь я захватил место почти у ее ног. Раза два она вроде взглянула на меня — впрочем, может, просто проверяла реакцию публики…
Я прекрасно понимал, что это дурость, беспредельная дурость. Ну что я о ней знал? Будущая звезда, мастер не известен! Словом не перемолвился. А влюбиться в роль — все равно что целоваться с портретом, забавы для провинциальной восьмиклассницы…
Понимать-то я понимал. Но вот сидел на асфальте у ее колен, и рад был, что одна пыль на моих джинсах и ее юбчонке, и, когда, читая стихи, она приближалась на полшага, балдел от счастья, потому что то ли чувствовалось, то ли чудилось тепло ее загорелых ног.
Вчерашние стихи она отчитала, перешла к чему-то новому — и тут вдруг произошел паскудный, мало понятный инцидент.
— Я не приеду к тебе на премьеру! — начала Анжелика с обычной своей аффектацией, и вдруг из слушающей толпы громко прозвучало:
— Ну и не приезжай!
Я растерянно обернулся на голос. Баба лет тридцати пяти в толстых золотых серьгах злорадно повторила:
— Не приезжай, обойдемся! А я пошла.
Это было как непристойный звук за праздничным столом.
От неожиданности никто и слова не вставил, и злобная баба спокойно ушла, победно сверкнув в свете фонаря крупными, редкими, вперед торчащими зубами.
Анжелика сбилась с ритма и все же продолжала читать, будто ничего не случилось, только фразы теперь звучали мертво да жесты смотрелись деревянно.
Стихотворение было длинное. Анжелика дочитала до конца и почти бегом бросилась к скуластенькой подруге. Они быстро пробились сквозь толпу. Громоздкий большеротый парень шел впереди тараном, гитара на плече.
Я кинулся следом и, уцепившись взглядом за светлую голову парня, пристроился шагах в десяти сзади.
Парень был в мешковатых, каких-то будничных брюках, в нескладной рубахе с длинным рукавом и смотрелся как глава семейства на отдыхе — дачный муж, глубоко свой человек, которому стараться не перед кем и незачем. Вот только кому — свой? Я надеялся, что Любе. С ней он монтировался органичнее, но кто скажет наверняка?
За спасательной станцией начинался дикий пляж, пустой, неухоженный и без фонарей. Они свернули туда, сразу сбавив шаг. Я услышал, как скуластенькая Люба произнесла своим мягким приятным голосом:
— Просто сука.
Анжелика отвечала невнятно, захлебываясь словами.
— Не стоит разговора, — оборвал большеротый парень, и дальше они шли молча.
Я все плелся сзади. Зачем? Ведь прекрасно знал, что подойти нельзя. Кому приятен свидетель позора? Но тащился, как бычок за телегой. Под ногами скрипела галька, и я боялся, вдруг обернутся — но никто не оборачивался, наверное, потому, что и у них под ногами скрипела галька.
Потом они остановились.
Чтобы не выглядеть вовсе уж глупо, я сел на камни и уставился на море в лунных отсветах: наблюдать природу — какое-никакое, а занятие. От луны и звезд было довольно светло, но я надеялся, что не слишком уж лезу в глаза, что огни поселка за спиной растворяют и скрадывают мой силуэт.
Парень тоже сел на гальку, осторожно положил гитару и стал швырять камешки в воду. Всплески слышались один за одним, легкий шум наката не перекрывал их.
— Пошли? — сказала вдруг скуластенькая. — Пашка, давай, а?
— Кайфа нет, — возразил парень.
Я сидел неподвижно, тупо думая, что вот они уйдут, а я останусь. Останусь, чтобы стало ясно: и пришел-то вовсе не из-за них.
Но уходить никто не собирался.
— Жель! — позвала Люба. — Пошли? Пашка, достань полотенце.
Анжелика не ответила, но встала. Они не спеша разделись, бросив все свои тряпки на гальку, и пошли к воде. А парень все кидал камешки в воду, размеренно и равнодушно.
Ничего необычного в этом не было: традиционное курортное развлечение, невинный вызов условностям, бегство от цивилизации на дикий пляж. И волновало меня не голое ночное купание. А другое: кому этот медлительный малый, свой человек, подаст потом полотенце?
А еще я подумал почти машинально, что все это здорово смотрелось бы на холсте: светлая тьма, лунные пятна на воде и у самой кромки два тела, похожих на лунные пятна…
Молча поплавав, девушки вышли, и парень набросил полотенце на плечи Любе, а Анжелика полезла в сумку за своим.
Люба заметила меня и сказала негромко:
— И тут зрители.
— Лишь бы не ослеп, — безразлично отозвалась будущая звезда.
Они оделись и ушли — теперь парень с гитарой на плече замыкал строй, будто опасался, что я наброшусь сзади.
А я так и сидел на камнях, надеясь, что толком меня не разглядели. Сидел и бессмысленно твердил про себя: «Вот так — луна, блики и две фигуры. Блики по диагонали и две фигуры…»
Любопытно, что лет через пять я это все-таки написал — внезапно, по памяти, дня за два. Кажется, получилось…
Утром я пошел на рынок с холщовой общественной торбой и вдруг увидел их, всех троих, у автостанции. Анжелика была в своей белой юбочке, у ног ее стояла небольшая, туго набитая сумка, тоже белая, с алой пантерой на боку. Громоздкий парень держал два рюкзака, из одного торчал гриф гитары. Скуластенькая Люба, одетая чертиком, даже в той же вислой шляпе, с удовольствием покусывала крупную грушу. Автобус уже фырчал рядом.
С дурацкой своей торбой — хорошо хоть бутыль не взял! — я вскочил в автобус.
До вокзала было минут тридцать, время немалое, и я успел свой поступок обдумать и оправдать.
Ну что я знаю о ней, думал я. Студентка, да? А чья? Секрет! А может, и не студентка вовсе, поступала, да не прошла. И фамилия — секрет. Вот уехала бы сейчас — и с концами. Жди потом, пока появится на афишах редкое имя Анжелика!
Нет, что и говорить, поступок мой был разумен, даже расчетлив, и, главное, в момент сообразил — вот ведь молодец! Но твердя себе все это, я сидел, вжимаясь в пыльную спинку сиденья, и руки терзали торбу, и чувствовалось, как густеет на щеках свекольный жар стыда. Ну куда еду, дурак?!
Они сидели впереди, парочка рядом, Анжелика через проход, рука на спинке сиденья. Она была в той же черной майке без спины, густые русые волосы схвачены тем же обручем — видно, гардероб будущей звезды был до времени ограничен. Я для нее не существовал, и слава богу — сейчас мне вполне хватало волны волос на загорелом плече и сумки у ног, в проходе. Но скуластенькая оказалась понаблюдательней: чуть повернув голову назад, бегло улыбнулась и, тактично выждав паузу, что-то шепнула подруге через проход. Анжелика едва заметно скосила глаза — и все. Однако рука на спинке сиденья легла безвольней и элегантней. Артистка!
Поезд уже стоял. Они прошли в вагон. Я остался на перроне, в отдалении. Потом все трое вышли, уже без вещей, и, отойдя немного, выкурили по сигарете. Скуластенькая мазнула по мне хватким взглядом — и вновь беглая улыбка. Насмешка? Поощрение?
— …Остается пять минут, — нечетко прозвучало в вокзальном шуме и, через паузу, еще раз. Люба взяла парня за руку и потянула к вагону. Анжелика осталась на перроне. Мне создавали условия.
Я почти физически ощущал, как рушатся секунды. А, черт с ним! Я подошел, на ходу придумывая фразу. Не успел, только начало кое-как слепилось:
— Простите… Вот вы тогда на набережной…
Не знаю, чем бы все это кончилось, но актриса мне помогла — спросила с надеждой и тревогой:
— Вам понравилось?
Надежда была сыграна, тревога сыграна, но как же я был ей благодарен за эту гуманную игру!
— Не то слово! — пролепетал я и развел руками. — Даже не знаю, как сказать…
И снова мне помогли:
— Самое приятное, когда не знают, как сказать.
— Я прямо рядом сидел, как говорится, у ног…
— Я вас помню.
— Вот, как говорится… с тех самых пор… Словом, у ваших ног.
Фраза вышла — пошлей не придумаешь. Хорошо хоть улыбнуться сумел, дурак косноязычный.
Анжелика тут же отыграла мою улыбку своей.
Я все видел и все понимал — молодая актриса играла общение с представителем восторженной публики, — но плевать я хотел на эти детали! Она была рядом, я с ней говорил, да что там, мог в принципе и за руку взять…
Все мои тормоза летели к черту, я бормотал, уже не контролируя, что несу и как выгляжу:
— Вообще люблю песню, кого только не слушал… Но вот так никогда не действовало… Вы знаете, может, и не увидимся больше… Глупо, сам понимаю… чистый символ, просто знак благодарности…
Не решившись сделать шаг, я стал целомудренно тянуться губами к ее щеке. И вдруг девушка чуть повернула лицо — мой скромнейший поцелуй пришелся в угол рта. Тогда, наконец-то бросив проклятую торбу, я схватил ее за плечи…
— Молодые люди! — крикнули над ухом.
А, проводница! Я оглянулся — поезд уже шел. Анжелика, всплеснув руками, вскочила в тамбур. Я без колебаний прыгнул за ней.
— А как же?.. — испугалась она.
— До первой станции!
Анжелика вдруг высунулась из тамбура, крикнула что-то, замахала рукой — другой держалась за поручень, — и рослый морячок, в три прыжка догнав наш вагон, весело швырнул в тамбур мою торбу, большую и грязную. Я стоял ошалело. Будущая звезда наклонилась, подняла с затоптанного пола нашу рыночную тару и вежливо подала мне.
Проводница закрыла наружную дверь — сейчас спросит про билет. Я схватил Анжелику за руку и потащил через весь вагон в дальний тамбур — я не понял, как и почему с ней вдруг стало легко.
Вагон был плацкартный, люди жили своей жизнью, устраивались, молодая мамаша прилаживала на полу между полками пластмассовый горшок. Скуластенькая со своим парнем сидела у окна, фетровая шляпа лежала между ними на столике. Они проводили нас взглядом и, кажется, не очень удивились.
В тамбуре я стал объяснять:
— Понимаешь, нельзя так. Не могу. Не могу я без тебя. Изуверство! Ведь даже адреса не знаю!
Последний аргумент я почти выкрикнул. И ее глаза послушно округлились, будто и ее привело в ужас, что мы больше не увидимся. Тогда я прижал ее к себе и стал целовать в щеки, в висок, в макушку, бормоча в перерывах:
— Изуверство какое-то, прямо шаманство. Где ты научилась-то? Бьешь прямо наповал! Сдержанности не хватает, но черт с ней, тебе и не надо…
— А вчера одна женщина… — начала Анжелика, и голос дрогнул.
— Да пусть застрелится! — заорал я.
В тамбур вышел какой-то мужик и прочно пристроился курить. Я отвернулся к дверному стеклу. Анжелика попросила у мужика сигарету.
Когда мужик докурил и ушел, я отобрал у нее сигарету, придавил и швырнул в угольный ящик.
— Нельзя, — сказал я, — голос огрубеет. Ты же артистка.
— Уже начал опекать?
— Ага. Холить и лелеять.
Она сказала с улыбкой, но довольно твердо:
— Не надо относится ко мне лучше, чем я сама к себе отношусь.
Я со вздохом пообещал:
— Ладно. Только ты сама к себе относись хорошо.
Потом она спросила:
— Тебе правда понравилось, как я пою?
Я полоснул ладонью по горлу:
— Вот так!
Она вдруг догадалась:
— Вчера ночью на пляже не ты за нами шел?
— Я!
Теперь я произнес это с гордостью.
— Не стыдно? Девушки купаются, а ты смотришь.
— Не-а! — сказал я искренне. — С вами же был парень. Ему можно?
— Он Любин мальчик.
— Тогда, значит, я твой…
Тут же, в тамбуре, я взял у нее координаты. Ручка нашлась, бумаги не было, я записал на ладони. Адрес, телефон — все было чужое и временное. Она действительно училась в театральном и перешла на третий курс, но с двумя хвостами, почему и старалась не афишировать свою принадлежность к славной кузнице сценических кадров. Жила будущая звезда то в общаге, то у подруг — из трех данных мне телефонов главным и самым надежным был Любин.
Я проехал с ней до Джанкоя, уже в сумерках вышел на низкий перрон. Анжелика стояла на ступеньке.
Напоследок я решился:
— Анжелика! Только не ври, ладно? Я — понятно, я слышал, как ты поешь, любой бы одурел. А я-то тебе на фига?
Она, подумав, ответила:
— Я вдохновилась от партнера…
Через три дня, плюнув на все, я вернулся в Москву. Через два месяца она стала моей женой.
Федька, позванный в свидетели, рассудил вполне здраво:
— Старик, это же авантюра. На хрена тебе надо?
Я только улыбнулся дурной улыбкой.
Впрочем, некая прагматическая идея у нашего скоропалительного бракосочетания все же была: Анжелика мечтала о кино. Плела по этому поводу разные интриги, а кто-то ей сказал, что замужних студенток легче отпускают на съемки и вообще с ними больше считаются. Потом, правда, оказалось, что это не так, но это оказалось потом…
Однако и без всяких практических резонов я бы все равно женился на ней. Всеми своими костями и мышцами я понимал: с Анжеликой у меня должно быть все, в том числе и это.
Как сперва потянуло ее слышать, потом видеть, потом прикоснуться, так стремительно стало необходимостью ее ночное дыхание на плече. Но и этого было мало, нищенски мало: сжимая ее загадочное тело — и крепкое и безвольное сразу, — я так озверело тосковал по ней, будто она была не рядом, а за семью морями и тремя границами. Как морская вода, она не утоляла, а лишь обостряла жажду.
Чего же мне хотелось?
Наверное, вот чего: взять две жизни, мою и ее, и вмять их друг в друга, как два куска теста, перемешать, перемесить, чтобы и комка обособленного не осталось, чтобы все ее стало моим.
Странно, но она этому не противилась, наоборот, легко подчинялась и даже шла навстречу, так что довольно быстро в мое владение и пользование перешли ее актерские планы, женские тайны, привычки, слабости, подруги, соперницы, покровители, обидчики, успехи и провалы. Я узнал до тряпочки ее туалеты, что, впрочем, было не так уж сложно, ибо почти все они умещались в той самой белой сумке с алой пантерой на боку. В минуту спешки я даже гладил самый роскошный из ее концертных костюмов — желтые штаны с завязками у щиколоток…
Актриса, десять часов в день учившаяся притворству, Анжелика тем не менее не была лживой и, если я о чем-то спрашивал, отвечала правду, даже когда не хотелось. Впрочем, не хотелось ей редко: по женскому обыкновению, она практически всегда казалась себе правой, и все ее поступки были справедливы и хороши, и просто не было причин что-либо скрывать. О трех своих прошлых мужиках она рассказывала спокойно, анализируя и советуясь, как о прошлых ролях, неудачных, но все же сыгранных, из которых надо извлечь урок.
Почти сразу же по возвращении в Москву Анжелика переселилась ко мне. Хотя «переселилась» — слишком торжественно и неточно: просто я снимал комнату, она же кочевала, и как-то в субботу осталась у меня, в воскресенье тоже осталась, в понедельник пришла снова, а к четвергу это стало традицией и нормой.
Анжелика — вот уж не ожидал! — вкусно готовила, легко мыла полы и была экономна. Вообще наше с ней хозяйство с первого дня процветало, ибо мне заплатили за два плаката, потом пришел перевод от добросовестного Бондарюмко, да и будущая звезда хоть немного, но регулярно подрабатывала.
Дело в том, что в окраинных клубах, иногда в общежитиях Анжелика давала концерты на не ясных мне, да и ей самой основаниях: пела под гитару, читала стихи, после чего ей из лапки в лапку совали конверт, в котором было рублей десять, порой и пятнадцать. Случалось, не совали ничего, просто пожимали руку. Эта лотерея разнообразила сценическую жизнь и приятно волновала.
Я, конечно же, ездил на все эти концерты, садился где-нибудь с краю и зорко ловил реакцию зрителей, то есть делал примерно то, что скуластенькая Люба тогда на набережной, только пристрастней и суетливей, и с шапкой не ходил. Анжелика пела, читала, энергично жестикулировала, а сама время от времени косила глазом на меня, и я условным знаком командовал, петь ли еще, или уйти, чтобы выйти на «бис», или исчезнуть вовсе — пусть зал досадует, что рано кончилось, а не что слишком затянулось. И до чего же сладко было, когда она подчинялась легкому движению кисти, как кукла-марионетка ниточке кукловода. Не из гордыни — какая уж тут гордыня! — просто казалось, что самое сокровенное в Анжелике, ее профессия, неверное, коварное ремесло лицедея, тоже отходит в мою собственность.
А после, ночью, мы часами мусолили детали концерта и нюансы приема, выискивали свои — ее! — промахи и жестко анализировали поведение зала: тут всегда было о чем подумать, эта крепость без боя не сдавалась.
Мечтам о будущем, как правило, не предавались: в деле своем Анжелика, надо отдать ей должное, была трезва и знала, что между пьянящим успехом начинающей и устойчивой славой зрелого мастера лежит такая полоса пустынь и болот, что дай бог ноги донести…
Дней за пять до загса как раз и выпал такой концерт. Мы опаздывали, Анжелика металась по комнате, натыкаясь на мои подрамники и картоны, я ходил за ней, как костюмерша, с невесомыми деталями туалета, а скуластенькая Люба невозмутимо курила, сидя с ногами на низкой кушетке. Она училась на одном курсе с будущей звездой, но не на актерском, а на администраторском, в дальней перспективе директор театра — должность не бабская, говорила она, но ведь и я не баба.
Вообще в Любе что-то было, даже много чего. Ее ореховые глаза смотрели на мир с прищуром, безошибочно взвешивая и оценивая, что почем. Людей она понимала сразу, хотя, может, и не слишком глубоко, но в будущей деятельности ей глубже и не требовалось. А в приятной улыбочке ощущалась уверенность и даже некая опасная сила — ни разу не видел ее ни растерянной, ни обозленной, ни хотя бы раздосадованной. У меня порой шевелилась идея написать ее в тех летних шортиках и маечке, но с ружьем в маленьких руках: юная охотница с нежной кожей и бесстрастными, бесстрашными глазами. Дурак был, что не написал, все надо делать вовремя…
Анжелика вдруг остановилась и шлепнула себя по лбу. Люба поинтересовалась со спокойной иронией:
— Что еще?
— А телеграмма?
— Какая?
— Ну, маме же надо послать! О свадьбе.
— Не надо, — возразила Люба и не спеша затянулась.
— А обидится?
— Не обидится.
— Все равно же придется сказать.
— Когда придется, тогда и скажешь.
Я вмешался:
— Думаешь, разойдемся? Не надейся.
Люба красиво выпустила дым:
— Поживем — увидим.
Она многое делала красиво — сидела, двигалась. И это была не выучка, а естественная пластика ладного, в каждой своей мышце уверенного зверька.
Анжелика вдруг заметалась взглядом:
— Носки!
Я взял их с подоконника и подал.
— Неплохо устроилась, — похвалила Люба подругу.
Я отбрехнулся:
— Сбруя — дело хозяина, а не лошади.
— Ну, ну, — усмехнулась скуластенькая.
— Опоздаем, — бормотала Анжелика, — вот увидите, опоздаем.
— Еще ждать будем десять минут, — невозмутимо отозвалась Люба.
Анжелика вдруг схватила свою белую юбочку и, путаясь в завязках, стала снимать желтые штаны.
— Ты зачем? — не понял я.
— Там же вечер учителей!
— Ну и что?
— Так лучше. А штаны на второе отделение.
Я развел руками. Люба пригасила окурок и сказала с обычной своей улыбочкой:
— Дурак, что женишься.
— Почему?
— Такую любовницу теряешь!
Анжелика, застегивая юбочку, серьезно возразила подруге:
— Ты не права. Первый брак обязательно должен быть по любви.
Как и предвидела скуластенькая, на вечер мы приехали вовремя, еще ждали десять минут…
Телеграмму матери Анжелика так и не дала. Я, поколебавшись, тоже не стал тревожить своих: видно, не одному Федьке светила в глаза авантюрность нашего «первого брака». И все же, когда в такси, по дороге в свадебную контору, Анжелика вдруг спросила: «А как ты думаешь, у нас это надолго?», я ответил, честно прикинув варианты:
— Не хочу загадывать, но, скорей всего, на всю жизнь.
— И мне кажется! — счастливо вздохнула она у моей щеки.
Я и в самом деле так думал: слишком многое за два месяца успело нас связать, слишком плотно и прочно две наши жизни сплелись мелочами, кожей вросли в кожу. Было трудно представить долгую жизнь с ней, но и вовсе непредставима была долгая жизнь без нее. Авантюра? Конечно, авантюра. Но ведь и манная кашица раствора глядится авантюрой, пока не схватится в бетон…
В загсе было зябко, смешно и немного стыдно. Мы расписались в большой книге, похожей на амбарную, Федька внес за что-то пять с полтиной, полная женщина поздравила нас с самым счастливым днем в жизни, махнулись одолженными кольцами… Кто-то разбитной совал шампанское; Люба, ласково глядя ему в глаза, отвечала, что молодые не хотели бы омрачать алкоголем первый день совместного счастья — денег у нас даже на водку было в обрез. Свадебный фотограф сделал три торопливых щелчка. Вдруг узнал Анжелику (был на каком-то концерте), сказал комплимент, смутился и пригласил заходить еще…
А я поглядывал вокруг и рассеянно думал: мне бы этот зальчик под ритуальную роспись! Их стены, моя идея, четыре цвета, четыре возраста, четыре грани любовной тайны. Год готовиться, год писать… Да ведь не дадут. Своя контора, значит, и идеи свои, кто начальник, тот и художник…
Свадебный стол был накрыт в общежитии, в комнате у девчонок, на двадцать кувертов, как выразилась эрудированная Люба, или, как уточнил Федька, на двадцать рыл. А под медовую неделю один хороший человек уступил пятиметровой высоты мастерскую, в качестве подарка выставив три чистых холста — вдруг вспомню, что все-таки художник! Подарок был царский, но озадачивающий.
Эта мастерская серебряным гвоздиком вколотилась в башку, и когда после загса сели в такси, я вдруг кинул водителю неожиданный адрес.
— А что там? — удивилась молодая жена.
— Мастерская.
Люба, сидевшая впереди, на рискованном месте телохранителя, посмотрела на меня с любопытством.
— Пока шель да шевель, — сказал я, — заедем на полчасика. Хозяйка на свадьбе все равно ты. Вот и командуй, с нас сейчас какой толк?
У Любы в глазах дрогнула искорка азарта, она ответила безмятежно:
— А хоть и вообще не приходите.
Высадила нас и уехала.
Начинающая супруга, неслышно ступая, походила по мастерской — обживалась. Руками не трогала ничего, как в музее. Похоже, ее подивило количество холстов: хозяин, хороший человек, и работник был хороший.
— Это все он?
Я недобро пообещал:
— У меня так же будет. Наше ремесло не барское.
Она молча разглядывала развешенные холсты.
Одна модель повторялась многократно.
— Жена? — спросила Анжелика.
— Примерно.
Она чуть помедлила.
— Теперь небось позировать заставишь?
— А ты думала!
— И голой, да?
— Естественно.
— А потом выставишь на всеобщее обозрение?
— Само собой.
— А если я не хочу?
Я сказал:
— Плевал я на твое хотение!..
Мы задержались не на полчаса. А когда пришли в себя, выяснилось, что опаздываем на столько, что приличней не приезжать совсем. Я вертикально закрепил на мольберте узкий картон: почему-то казалось, что качавшая меня волна уложится именно в этом нелогичном пространстве. Работал быстро, надеясь на накат. Анжелика стояла у стены, как поставил, почти не шевелясь.
Через час я отошел к окну и засвистел. Мысли расплывались, кисть болталась в руке, как сосиска.
Анжелика поглядела и кинулась мне на шею:
— Ты гений! Вылитая я!
— Ага, — кивнул я, высвобождаясь.
На картоне было полное непотребство, кисель эмоций, сентиментальная истерика в красках.
— А ну, быстро, — сказал я, — люди ждут. Какое-никакое, а событие…
Скуластенькая девушка слов на ветер не бросала: на нашей свадьбе прекрасно обошлись без нас. Из кучи гостей — «рыл» набралось куда больше двадцати — выбрали вполне пристойную пару и назначили женихом и невестой. За них пили, им желали счастья, орали «горько» и спорили, сумеют ли дублирующие «молодые» достойно довести роли до финала. Так что мы с Анжеликой даже несколько испортили спектакль.
Впрочем, к нашему приходу ритуал уже порядком размыло спиртным: шампанское наш праздник не омрачило, но водки хватало. Общие забавы были уже позади, поток разбился на рукава, событие выродилось в обычную вечеринку. Подставные жених и невеста с некоторым недоумением поглядывали друг на друга: интрига иссякла, а вне сюжета никаких связей явно не возникало. Громоздкий Паша мучил гитару, клоня ухо к повизгивающим струнам — и зачем ему это? Маленький очкарик в розовых прыщах, сухо поздравив Анжелику с событием (с каким, не уточнил), свысока, почти презрительно втолковывал ей разницу между маской и полнокровным образом — для Анжелики, он полагал, на теперешнем ее уровне сойдет и маска. Тощая дурнушка с манерами красавицы повисла у меня на шее и, в перерывах между мокрыми поцелуями, допытывалась:
— Вы счастливы? Ну признайтесь, счастливы?
От нее несло спиртным — хоть закусывай. Я признался, что счастлив, кое-как вывернулся и подсел к Любе. Она разговаривала с крупной рыхлой девицей, прокуренной, умной и злой. Пьяна Люба не была, трезва тоже, ее ореховые глаза поблескивали решительно и жестко.
— А мне плевать на жизнь, — говорила она, — я знаю себя. Вот увидишь. В двадцать четыре буду замом, в двадцать шесть директором, к двадцати девяти сделаю театр.
— Основания? — холодновато поинтересовалась собеседница, прикуривая одну сигарету от другой. Чувствовалось, что недобрый ее мозг работает быстро и точно.
— Увидишь!
— В директорах, может, и увижу. Но театр…
— Три года, — сказала Люба, — ровно три года. Сперва пресса — это я сделаю. Второй год какая-нибудь премия, любая, тоже сделаю…
— Допустим.
— А третий год — скандал. Настоящий творческий скандал.
— Скандал тоже сделаешь? — скептически поинтересовалась толстуха.
Люба посмотрела на нее ласково и бесстыдно:
— Скандал мне сделаешь ты.
Та несколько растерялась:
— Даже так?
— А что? Тебе имя, мне театр.
Толстуха сделала затяжку:
— Для скандала нужна трибуна.
Люба только усмехнулась:
— Неужели к двадцати восьми годам у тебя — у тебя! — не будет трибуны?
Грядущая скандалистка прикинула варианты и усмехнулась в ответ:
— Ладно, скандал за мной.
Подошел Федька, почти трезвый. Мы чокнулись без тоста. Он похлопал меня по плечу и почему-то утешил:
— Ничего!
Потом довольно неприязненно заговорил о деле: есть шанс подзаработать, Бондарюйко забил халтуру где-то под Калугой и теперь сколачивает артель. Платить обещает больше, чем в Крыму, но с эскизами построже, никаких Шагалов, сугубый реализм. Излагая детали, Федька почти полностью перешел на мат: халтурил он тяжело, с отвращением и потому всегда сидел без денег, что и вынуждало его к новой халтуре.
Я слушал невнимательно, со всем соглашался и в разгар Федькиной речи вдруг полез к нему обниматься. Он вырвался, сплюнул и сказал, что в теперешнем моем состоянии (он определил его кратко и точно) реализма от меня не дождешься, мне сейчас только барокко лепить.
Тут кто-то вспомнил, что все же свадьба, нас с Анжеликой потащили на почетные места. Чуть поколебавшись — хоть и в шутку, но торжество уже отработали, — заорали «Горько!». Потом произнесли два нудных тоста. Я пожалел, что ушли из мастерской…
Нашу послесвадебную жизнь я запомнил смутно. Логики не было, последовательность рвалась, события путались и сливались, словно их выхватывал из темноты фонарь в пьяной руке: Анжеликины песни на концертах, какие-то жуткие неприятности в институте, которых, как вскоре оказалось, в общем-то не было; то ревела, билась у меня в руках, порвала единственную выходную рубашку, то хохотала и обнимала Любу, принесшую хорошую весть, требовала, чтобы я ее тоже обнимал; поиски какой-то особенной гитары, поход к знаменитому мастеру, который оказался не знаменитым и не мастером, а просто барыгой, причем гитарами не торговал. На обратном пути упал ливень, и мы, наверное, час целовались в старинном, с чугунными ступеньками, подъезде. Я одалживал деньги где попало и для убедительности записывал собственные долги синим фломастером на ладони; Бондарюмкина халтура валилась, Федька ругался, потом перестал; «медовая» неделя в мастерской, пространство, высокий потолок, в темноте как бы вообще не существующий — иногда среди ночи Анжелика вдруг включала низкий свет и, дурачась, начинала «представлять», потом увлекалась, и шла яростная пантомима с заламыванием рук, с губами, как бы замершими в крике, со страшноватым, почти трагическим стриптизом — борьба, бессилие, падение на колени, на пол… Я спросил, что это, любовная игра или гибель — она устало ответила, что не знает сама, все равно что — хоть землетрясение на Таити…
Приходила Люба, одна, хотя громоздкий Паша существовал по-прежнему, ставила чай, усмехнувшись, стелила газеты на заляпанных краской табуретках.
— Не разбежались еще? — спрашивала.
— Мы будем любить друг друга всегда! — почти клятвенно произносила Анжелика.
— Ну, ну, — говорила скуластенькая и смотрела на нас, как биолог на кроликов.
Я старался работать и писал много, в общем-то не меньше, чем всегда. Анжелика опасалась не зря, позировать ее я действительно заставлял. Сходство давалось легко, суть уходила. Я утешал себя: плевать, просто сейчас не время анализа, я пишу не ее, а свое отношение к ней. И писал — цветные пятна, блики на коже, почему-то вдруг хотелось поместить ее в световую спираль…
Она смотрела, восхищалась:
— Я! Вот до кончика носа — я!
Я хмуро отвечал цитатой:
— Если похоже нарисовать мопса, получится еще один мопс.
Анжелика довольно улыбалась, она принимала это за скрытый комплимент.
Я писал ее в желтых штанах, писал босую, растрепанную, завернутую в махровое полотенце. Писал обнаженную — эти картинки вполне можно было выставлять в актовом зале ГИТИСа: Анжелики там все равно не было, была юная актриса в роли натурщицы. Я клял ее за лицедейство, требовал естественности — она не понимала, смеялась, все кончалось постелью…
Странно: она была студентка, всего лишь студентка третьего курса, но я всегда воспринимал ее как артистку. Когда она готовилась к зачетам или беспомощно кудахтала перед семинаром по политэкономии, я воспринимал это почти как блажь: актриса играет роль испуганной студентки.
Я пробовал все, и натюрморты, и городской пейзаж, но вещи уходили так же, как уходила она. Разучился, что ли? Или — новый, еще самим не понятый период? Взрыв подспудного, мир без теней, откровенность насыщенного цвета — может, сегодня я и должен писать именно так?
Пришел Федька. Я расставил картинки. Анжелика суетилась с едой.
— Н-да, — протянул Федька неопределенно.
— Как ты велел, — сказал, я подлизываясь, — барокко.
Федька хрипловато вздохнул.
— Нет, старичок, — возразил он, — это не барокко. Это — на нервной почве.
Анжелика позвала есть.
— Жаль, — сказал я, — месяца три вылетело.
Я разом ощутил какую-то тупую пустоту. В общем-то и раньше догадывался, но надежда была. Теперь же, рядом с Федькой, я все видел сам.
Уже за столом Федька вдруг рыкнул с неожиданной агрессивностью:
— Ну чего? Чего скис? Плохо живешь, что ли?
— Да нет.
— А тогда чего?
Я кисло усмехнулся:
— Я все-таки еще и художник временами.
— Ишь ты! — сказал Федька неодобрительно. — Художник он! Много хочешь — и рыбку съесть, и птичкой закусить. Счастлив ты? Счастлив или нет?
Это популярное слово я слышал от него впервые.
— Ну допустим.
— Допустим! — передразнил он. И посмотрел почти зло. — Тогда какого рожна тебе надо?!
Анжелика засмеялась. Глядя на нее, и мне стало смешно. Мы поели, выпили бутылку «сухаря» на троих, потрепались о живописи, и Федька ушел. Картинки так и стояли у стены. Пока я их складывал, настроение снова упало.
— Ну что, моя радость? — сказала Анжелика. — На хрена мне это счастье?
Я покраснел, она словно услышала мою мысль.
— Что делать, — сказала она, — и у меня ведь такое. В отрывке почти завалилась. А Любка знаешь что сказала? Ты послушай, она ведь умная. Я дура, но она-то умная. Так вот она сказала: «В профессиональном смысле любовь себя всегда окупает». Здорово?
— Ничего, — пробурчал я. В тот момент меня мало волновали Любкины афоризмы.
— Она права, — сказала Анжелика убежденно, — полностью права. Вот мне, например, еще лет тридцать играть любовь. А как я сыграю, если сама не любила? Тут халтурить нельзя, все равно вылезет наружу, в чем-нибудь да вылезет.
Анжелика подошла сзади, обняла меня, ткнулась губами в затылок.
— Не переживай. Ну, потерял три месяца. Сделаешь потом. Ведь ты талантливый. Все равно сделаешь. А это… Это тоже что-нибудь да стоит — не каждый год у тебя будет Анжелика.
Я повернулся и посмотрел на нее. Она тут же поправилась:
— Новая Анжелика.
Я молча продолжал на нее смотреть. Она виновато улыбнулась:
— Я не то сказала? Может быть. Никогда не обращай внимания, я ведь дура.
Она вдруг хлопнула в ладоши:
— Ой, рассказать тебе? К нам приходил один кинорежиссер, была такая полуофициальная встреча… Знаешь, что он говорил? Я бы, говорит, думающих актрис выгонял еще из института за профнепригодность. Актрисе, говорит, не нужен ум, актрисе нужен умный режиссер. Здорово, а?
Я взял ее за локти:
— Уйти намыливаешься?
Она широко раскрыла глаза:
— Да ты что?!
— И думать не смей, — сказал я почти серьезно, — живой не уйдешь.
— Я не могу даже представить, как буду без тебя, — жалобно проговорила Анжелика.
Шероховатость сгладили традиционным путем…
Я уже сказал, что Анжелика мечтала о кино. Впрочем, «мечтала» — слово не для нее. Не копила в тишине сладкие грезы, не утешалась иллюзиями, а еще с прошлого года, со второго курса, развила бурную деятельность: знакомилась с разными полувлиятельными людьми вроде администраторов киногрупп или дипломников ВГИКа, проникала на студии, завела блат в Доме кино и регулярно ходила на обсуждение новых фильмов — конечно, не обсуждать, а знакомиться. В столь частую сеть не могла не попасть хоть какая-нибудь рыбешка, и вскоре после нашей свадьбы Анжелику взяли на эпизод. Эпизод был маленький и в общем-то типажный: певичка в кафе, где выясняют отношения герой и героиня, бытовой фон для лирической сцены. Коротенький крупный план, две песенных фразы (песня плохая) и ни слова кроме. Но она ухватилась за эту певичку, как за Офелию.
Я спросил:
— Думаешь, это тебе что-нибудь даст?
Она ответила рассудительно:
— Может, и не даст. Но другого же мне не предложили.
— А если провалишься?
Подумав, она твердо сказала:
— Нет, проваливаться нельзя.
Надо отдать ей должное: работать актриса умела. Уже на следующий день после этого разговора в нашей комнатке появилась Веруша, прокуренная толстуха в растянутой вязаной кофте, похожей на купальный халат — она была на нашей свадьбе. И не просто появилась, а стала главным человеком в доме. Анжелика тут же усадила ее на нашу супружескую кушетку, придвинула под спину подушку, торопливо подала теплые, с собственной ноги, тапочки и протянула зажженную спичку: сигарету Веруша, едва переступив порог, извлекла машинальным жестом усталого фокусника. Я побежал к соседям, нужна была кофемолка — Анжелика заранее предупредила, что растворимый, а тем более в пачках Веруша презирает.
Светский разговор гостьи с хозяевами (погода, здоровье, новости) был длиной в одну сигарету. Затем сразу, без раскачки, пошла работа. Пролистав сценарий, Веруша вынесла приговор: текст — барахло (она употребила другое слово), режиссер — дурак (она употребила другое слово), фильм провалится (она употребила другое слово).
Анжелика истово закивала.
— Так, — сказала Веруша задумчиво, — нужен ход. Фильм гробанется, и хрен с ним. Но ты гробануться не должна. Знаешь, почему он взял тебя?
Моя жена замотала головой.
— За вульгарность. Эта сцена в кафе — сплошная парфюмерия. Столько духов, что нужно хоть немного дерьма. Могучая задача, можешь гордиться.
Анжелика с готовностью засмеялась.
— Между прочим, задача действительно интересная, — строго оборвала Веруша, — только необходим финт. У него своя цель, у нас своя. Ему нужен фон — нам роль. Ему типаж — нам образ. Сейчас придумаем.
Анжелика смотрела на нее, как мусульманин на пророка.
После свадьбы я видел Верушу раза два и не мог толком понять, кем она собирается стать. С одной стороны, числилась на театроведческом, печатала рецензии на спектакли и что-то успешно делала на радио, с другой — ходила на занятия к знаменитому режиссеру (в частных беседах он именовался то «классик», то «наш маразматик», то почему-то «Вася», хотя звали его Евгений Николаевич). В принципе, современный театр она считала развалиной, которую необходимо взорвать, чтобы расчистить почву, но, видимо, еще не решила, с какого фланга вести под эту развалину подкоп.
Анжелика говорила, что Веруша про театр знает все, а про кино еще больше. И даже трезвая Люба как-то в разговоре бросила:
— Верка-то? Верка — светоч!
Лет ей, между прочим, было двадцать…
Веруша придавила очередной окурок и сказала:
— Так. Ясно. Текста тебе не добавят, и думать нечего. Значит, остается пластика. Образ через жест.
— Гениально! — всплеснула руками Анжелика.
За вечер Веруша придумала три варианта биографии Анжеликиной певички, довольно любопытно предложила характер и стала пробовать на будущей звезде походку и жест. Почти после каждой Верушиной реплики рефреном звучало Анжеликино: «Гениально!»
Я выманил жену на кухню и сказал:
— Не увлекайся, она девка умная.
Анжелика посмотрела на меня, как взрослый на ребенка, и снисходительно проговорила:
— Можешь поверить на слово — от лести еще никто не умирал…
Веруша завелась и ходила к нам почти каждый вечер: сидела на кушетке в своей кофте-халате, курила, пила убойной крепости кофе, болталась по комнате в Анжеликиных тапочках. О фильме могли не говорить, просто подруга пришла в гости; но посреди праздного разговора Веруша вдруг кидала новую идею, которую Анжелика тут же цепко хватала и пробовала. Так продолжалось до самой съемки.
Эпизод, кажется, получился: на студии прокрутили отснятый материал, меня смотреть не взяли, но Люба ходила и сказала, что вполне и даже весьма. Однако главное было не в этом: крохотная ролишка в плохом фильме неожиданно многое решила в судьбе будущей звезды.
Дней через десять Анжелика пришла домой бледная, пока расстегивала плащ, пальцы дрожали, и, постучав по всем нашим табуреткам, тускло сказала, что, кажется, выиграла сто тысяч по трамвайному билету. Я помог ей раздеться, она взобралась на кушетку и стала рассказывать.
Собственно, вся информация состояла из нескольких фраз.
На том рабочем просмотре случайно оказался другой режиссер, известный, только что запустившийся в производство с фильмом на современную тему. Он увидел эпизод и тут же пригласил Анжелику на настоящую большую роль. Через три дня сделали пробы — она не рассказывала мне об этом, чтобы не волновать. Сегодня пробы утвердили. Вот и все.
Наверное, надо было заорать от восторга. Но я не обрадовался, я растерялся. Я смотрел на Анжелику и тупо молчал.
Все это было слишком уж неожиданно. Конечно, я верил в ее талант, верил, что пробьется, и мечтал, чтобы это произошло быстрей. Но в такой скоропалительности и в общем-то незаслуженности успеха было что-то тревожное и даже как бы нечистое.
— Так понравился эпизод? — неуверенно спросил я.
Она отмахнулась:
— Эпизод как эпизод! Я его не переоцениваю. Просто стечение обстоятельств. Я узнала — у них там произошло ЧП.
— А что такое?
Анжелика объяснила. Дело в том, что выпускница ВГИКа, утвержденная на роль, забеременела. Само по себе это еще не было ЧП. Но она отказалась делать аборт, и вот тут-то киногруппа была повергнута в гнев и панику. Время идет, план летит, премия горит синим пламенем — а сопливая девчонка не хочет сбегать в больницу на вычистку! Пришлось в пожарном порядке искать замену…
Я кивнул — понятно, мол.
Видимо, Анжелика почувствовала мое состояние — меня всегда поражала в ней, при, в общем, весьма рядовом уме, эта мгновенная эмоциональная проницательность, способность, как она сама объясняла, «сыграть от партнера». Вот и сейчас она сказала, поморщившись:
— Неприятное ощущение. Радоваться надо, а — нет радости! Будто чужое украла.
Я не совсем искренне утешил:
— Ты-то при чем?
— Все-таки, — сказала она.
Лицо у нее было такое унылое, что я махнул рукой.
— Ладно, плюнь и забудь. Ты же не напрашивалась! Ну, вышло так. Зато есть роль. При всех оговорках сегодня счастливый день. Поздравляю!
Остановив меня жестом, она сказала озабоченно:
— Не надо. Это еще не все. Могут быть осложнения.
Анжелика как в воду глядела: осложнения начались сразу же.
Съемки с перерывами должны были длиться около четырех месяцев, вариант «между делом» тут не проходил, пришлось бы уезжать на неделю, а то и на три. Она пошла к руководителю курса просить разрешения.
Мастер, шестидесятилетний красавец, выслушал Анжелику, благосклонно кивая. Но оказалось, у него просто манера такая — благосклонно выслушивать все, что говорят. Зато потом он неторопливо и с удовольствием объяснил нестандартной студентке, что считает своим долгом художника воспитывать в стенах театрального института актеров с большой буквы, а не марионеток для белой простыни — прозвучало двусмысленно, и мастер тут же пояснил, что имеет в виду только киноэкран.
Он говорил долго, Анжелика нервничала, и на момент ей изменила обычная проницательность: она напомнила мастеру, что ведь и сам он замечательно играл в кино.
Ей казалось, что этот аргумент должен собеседнику польстить. Но мастер не любил, чтобы его ловили на противоречиях. К тому же его не приглашали на съемки уже лет пять, и у него были все основания обидеться на такой вероломный вид искусства, как кино. Уже раздраженно он объяснил, что начал сниматься в тридцать пять лет, уже зрелым профессионалом, и что вообще уважающий себя человек к камере снисходит, а не карабкается. Кончил он тем, что посоветовал юной коллеге на студенческой скамье думать о профессии, а не о славе. Если же ее тяга к кино непреодолима, он от всей души пожелает ей творческих успехов, но в других стенах и под руководством другого мастера.
Словом, или — или.
Пересказав мне все это, Анжелика взобралась с ногами на кушетку и долго сидела молча, закусив губу. Да и что было говорить? Тут не говорить, тут решать. Или — или.
— Ну и как ты думаешь? — спросила она наконец.
Вздохнув, я сказал, что, пожалуй, все-таки институт. Была бы профессия, остальное приложится.
Она взглянула задумчиво:
— Ты считаешь?
Больше мы об этом не говорили.
Но утром, за чаем, она сказала решительно, что если все-таки придется выбирать, уйдет из института.
Я пожал плечами:
— Не уверен. Фильмов может быть двадцать, а институт — на всю жизнь.
Анжелика подумала немного и убежденно проговорила:
— Ты не прав. Это институтов может быть двадцать. А вот фильм — на всю жизнь.
Спорить я не стал. Все-таки это был ее институт, ее фильм, ее жизнь. И решать надо было ей.
В конце концов, как это часто и бывает, проблема решилась обходным путем. Практичная Люба пораскинула мозгами, достали справку, хоть и сомнительную, но врачебную, поостывший мастер сделал вид, что в нее поверил, и Анжелика получила академический отпуск для поправки истощенной нервной системы.
Она тут же принялась укладывать все ту же сумку с красной пантерой на боку: надо было срочно ехать в заповедник под Ставрополем, где торопливо доснимали конец листопада.
Я заикнулся, что мог бы поехать с ней — устроюсь в группу рабочим или просто попишу натуру в том же заповеднике. Но Анжелика положила ладони мне на плечи:
— Милый! Ведь это первая моя настоящая роль…
В общем-то она была права, и мне рядом с ней не работалось. Вот уедет, подумал я…
Анжелика уехала. Но воля мне впрок не пошла: к мольберту тащил себя чуть не силой. Были начатые вещи. Были замыслы. Все было, но ничего не шло. Женщина уехала, но все равно осталась, и мир по-прежнему был плоским, ярким, аляповатым. Все вокруг, как прямой луч прожектора, заливал слепящим сиянием дурной огонь страсти.
К счастью, оставался благородный принцип свободных художников: когда не можешь работать, зарабатывай. Федька оставил мне адрес из нынешней халтуры, но бумажка с координатами исчезла куда-то, как исчезало в эти недели все: время, деньги, дела, планы.
Я узнал новый телефон и позвонил Бондарюмке. Подошла жена и сказала, что Володи нет в Москве. Какую-либо иную информацию по телефону она дать отказалась — выучка почти шпионская! Пришлось подъехать.
Дом был шикарный, светлого кирпича, с кирпичными же полукруглыми балконами. После беглого допроса на площадке я был впущен в квартиру.
Баба у Володи оказалась довольно молодой и габаритной, такой бы ядро толкать. Ее импортная юбка была напряжена во всех швах, как граната перед взрывом. Еще раз переспросив фамилию, хозяйка полезла в большой блокнот и долго его листала. Потом сказала:
— А, ну да, есть.
После чего успокоилась, заулыбалась, дала адрес и даже предложила чаю. Я решил, что предложение из вежливых, но она настояла. Может, просто скучно одной.
Мы пошли на кухню. Квартира была хорошая, три комнаты с холлом, но мебелишка старая — видно, и Володя деньги не лопатой греб.
Хозяйка заварила чай, поставила варенье трех сортов. Теперь, когда личность моя опасений не вызывала, ее щекастое лицо было доброжелательным и простодушным.
— А то, может, пообедаете?
Тут уж я отказался решительно.
После первой чашки я похвалил чай.
— Так ведь индийский, — сказала хозяйка, — из железной банки.
Я похвалил варенье.
— Так ведь свое, — было отвечено, — для себя старались.
Я похвалил квартиру.
— Площадь хорошая, — согласилась Бондарюмкина жена, — но в такие деньги встала…
Опять ответ был исчерпывающий, и опять на второй фразе тема иссякла. Я стал думать, что бы еще похвалить.
Выручила хозяйка:
— А у вас с Владимиром Андреевичем давно сотрудничество?
Последнее слово вызвало у нее некоторые затруднения.
— Да уже года три, — ответил я и стал хвалить Владимира Андреевича. Эта тема была побогаче: и какой он серьезный, и какой старательный, и как заказчики его уважают…
— Так ведь сколько лет занимается, — объяснила хозяйка. Чем занимается, она не уточнила — впрочем, и я бы не решился определить словом Володину профессию и жизненную роль.
Она положила мне еще варенья, и я сказал, что все мы за ее мужем как за каменной стеной. Она охотно поддержала тему:
— А потому, что ответственный. Другие абы как, а он — нет. Так воспитан, чтобы одно к одному. Что положено — все в архив. Если вдруг чего, другой бы забегал, а у Владимира Андреевича — будьте любезны! Полки сделали, и все в архив.
— Архив — великое дело, — согласился я с не совсем искренним подъемом, ибо не мог представить себе Володин архив — тетрадки свои с подсчетами, что ли, собирает?
Хозяйка налила еще по чашке.
— Это я слежу. Чтобы, как говорится, ни моли, ни пыли, — сказала она и вдруг засмеялась, видимо, просто от удовольствия, что все вышло так хорошо, и человека впустила в дом не абы какого, и разговор за чаем приличный и правильный, и варенье вкусное, и архив мужнин в порядке — слава богу, есть чем хозяйке похвастаться!
— Помогаете, значит, мужу?
Неудобно было спросить, работает она или нет.
— А как же, — отозвалась она, — муж-то свой.
— И много бумаг набралось?
— Каких бумаг? — удивилась хозяйка.
— Ну — архив?
Она с достоинством усмехнулась:
— У кого, может, и бумаги, а у нас с Владимиром Андреевичем все в натуральном виде. Не экономим!
Она вывела меня в коридор и открыла дверь шкафа-кладовки. Я не сразу понял, что к чему. Справа на полках стояли рядами банки с вареньями и соленьями, а слева — холсты на подрамниках. Неужели наш шеф все же балуется художеством?
— Чтоб бумажки не отклеивались, опять я, — заметила хозяйка, — а то затеряется — гадай потом, кто чего.
— Вот это архив?
— Все по годам, по порядку.
Я наудачу вытянул один холст. Это был эскиз доски почта. На обороте бумажка — фамилия и год. Что за странности!
Я поворочал картинки и вдруг увидел знакомую руку. Глянул на бумажку: точно, Федька. И уже целенаправленно достал следующий холст. Все верно — я. Ситуация прояснялась. Но — зачем? К чему эта странная коллекция?
Хотя, впрочем…
Я вспомнил: года три назад, первая наша халтура с Бондарюмкой. Как-то вечером сидели, травили байки. И кто-то вспомнил сентиментальную историю, а может, легенду: как в Париже благодушный трактирщик из жалости кормил нищих молодых художников, а они расплачивались этюдами, которые хозяин, в живописи не сведущий, сваливал на чердаке. Впоследствии некоторые из голодных клиентов оказались гениями, и добрый трактирщик неожиданно превратился в миллионера. Вот такой у нас тогда шел треп. А на следующий день Бондарюмко сходил на почту и принес известие, что для заказчика требуется эскиз нашей росписи, причем маслом по холсту, иначе бухгалтерия не переводит деньги. Мы поворчали, посмеялись, кинули жребий, и самый неудачливый из нас взялся за кисть. А потом эскизы для заказчика вошли в норму.
Так вот, значит, кто заказчик…
— Образцово! — похвалил я хозяйку.
Мы пошли допивать чай, а Бондарюмкины лотерейные билеты остались в кладовке рядом с засахарившейся малиной и маринованными помидорами. Теперь только ждать, пока кто-нибудь из нас выйдет в большие люди, и предусмотрительный трактирщик получит, наконец, свой законный миллион…
На сей раз халтура была без всяких сопутствующих прелестей: грязь, дожди, первые хлопья мокрого снега. А, главное, сама работа — по чьим-то вялым шаблонам, ремесленная, почти малярная.
Федька матерился, я малярил безропотно. Эта убогая пахота на чужом поле была мне заслуженным и потому справедливым наказанием. Как говаривал еще в училище один разумный человек, если душа ленится, пускай рука ишачит…
Я вернулся через две недели. Спеша вечером по переулку, издали вроде бы нашарил взглядом слабый свет в окне. Но, подойдя ближе, понял, что это всего лишь отблеск фонаря напротив.
На тумбочке у двери лежали два ее письма — про то, как любит меня, как интересно сниматься в кино и какое это трудное, ни на что не похожее искусство. Я посмотрел даты: второй и четвертый день по приезде на место, последнее пришло полторы недели назад. Я ей писал почти ежедневно.
Но, с другой стороны, мои вечера были пусты, а у нее там — ни на что не похожее искусство кино, черт его знает, какие у них условия…
Утром я побежал к почтовому ящику. Ничего.
Послал телеграмму, здорова ли. Ничего.
Она приехала на пятый день. И не открыла дверь своим ключом, а позвонила. Прошла коридором в комнату, бросила на пол сумку с пантерой, прикрыла за собой дверь и, прислонясь к ней спиной, сказала:
— Если хочешь, можешь меня убить.
…Все же странно, как сразу, всем своим клубком врывается в человека сложное событие. Она еще не договорила свою, видимо, заготовленную фразу, а я уже знал, что произошло, и чего хочет она, и чего захочу я. Потом так и вышло, с малыми неточностями.
Но в тот момент, словно соблюдая какой-то неизбежный ритуал, я спросил ее с чем-то даже вроде улыбки:
— За что же тебя убивать?
— Ты имеешь право, — сказала она. — Я полюбила другого.
— Режиссера, что ли?
Мне не хотелось называть фамилию.
Она спросила растерянно:
— Тебе написали?
Я пожал плечами:
— Кто мне станет писать?
— А тогда откуда знаешь?
— Не осветителя же тебе любить.
Она опустила голову:
— Я понимаю, ты вправе со мной так говорить — я тебя предала. Но это было сильнее меня.
Она говорила сдержанно, но как-то слишком уж сдержанно. И поза у двери была слишком уж повинна. Текст, думал я, текст.
— Ну раз уж так вышло, — сказал я, — что ж, любовь дело святое.
— Можешь презирать меня, ты вправе… Только не ненавидь!
Я думал — уйти? Но комната не моя, снимаю. Ей уйти? А куда? Не назад же в общежитие! Впрочем, может, теперь и есть куда…
— Тебе с ним хорошо? — спросил я довольно равнодушно.
Она ответила:
— Хорошо мне было только с тобой. Но не в этом дело, это все не имеет значения. Я даже не знаю, какой он человек. Может, плохой, может, бабник, даже наверняка бабник. Но это сильнее меня. Понимаешь, он гениальный режиссер.
Я видел парочку его фильмов: яркие краски, громкая музыка, многозначительные жесты. Он не был гениальным режиссером, даже хорошим, пожалуй, не был — просто он дал ей большую роль. И то, что с ней произошло, была не плата за место в кадре, не взятка телом, а просто внутреннее рабство начинающей актрисы, оглушенной случайной удачей. Я понимал, что все это у нее наверняка кончится, может быть, даже скоро — и, наверное, стоило хотя бы объяснить ей происходящее с ней самой. Но всем своим существом, всем порядком и сумбуром в голове я ощущал другое: что меня это больше никак не касается. Ревности не было, боли, пожалуй, тоже, лишь отчуждение и легкая брезгливость. Чужая женщина стояла, прислонясь спиной к двери, манерно опустив голову, и произносила всякие манерные слова. Я чувствовал, какой результат разговора ей нужен, и тупо искал фразу, которая помогла бы ей побыстрей этого результата достичь.
— Любовь — дело святое, — повторил я, не найдя ничего лучшего, — раз уж так вышло…
— Я даже не прошу прощения, — проговорила она своим сильным, как бы пружинящим голосом, — я обязана уйти. Рядом с тобой я бы всегда чувствовала себя грязной, а я не хочу быть грязной рядом с тобой. Ты — самое чистое, что у меня есть.
Текст, думал я, текст…
Я сказал:
— Лишь бы тебе было хорошо.
И пошевелил ладонью в воздухе, как бы на расстоянии похлопал ее по плечу.
Она вдруг быстро шагнула вперед и, упав на колени, обняла мои ноги, волосы коснулись пола. Я стоял столбом. Тогда она легко поднялась, словно скользнула вверх, положила руки мне на плечи и сказала неожиданно просто:
— Я знала, что ты поймешь. Спасибо.
И влажно посмотрела мне в глаза:
— Милый, давай попрощаемся!
Я обнял ее, провел ладонями по спине. Чужое тело прижималось ко мне, не вызывая никаких эмоций.
— Счастливо тебе, — сказал я и осторожно отстранился.
Она усмехнулась, горько скривив губу:
— Наверное, ты прав.
Схватила сумку с пантерой и выбежала.
Тем же вечером у меня пошла работа. Почему, не знаю: как прежде ушло, так теперь вернулось. Часа за три с чем-нибудь я написал «Натюрморт при электрическом свете» — написал сразу, почти безошибочно, словно кто-то, все заранее знающий, водил моей рукой. Старая четырехногая табуретка, заляпанная краской, на ней две кисти, несколько полувыдавленных, смятых тюбиков, краюха черного хлеба на куске газеты и полстакана остывшего, словно загустевшего чая. А сверху — пыльная голая лампочка в шестьдесят свечей.
Умотался я так, что уснул мгновенно.
Дня через два забежал Федька, постоял, посмотрел.
— М-да… Это у тебя просто символ веры. Страшновато…
Подумал и сам объяснил:
— А что делать — жизнь такая!
Полтора месяца я работал почти непрерывно. И не то чтобы наверстывал упущенное — просто шло. Все предметы вокруг обрели свой цвет, все тени легли на положенные им места. Подсохшие холсты ставил в угол, — что вышло, разберусь потом. Вроде колорит получался потемнее, чем прежде, но это не была какая-то вселенская скорбь: просто ноябрь, низкие облака, узкое окно в затененный переулок. Ну, отчасти и настроение: полоса анализа, трезвости, раздумья. Жизнь такая.
Была и еще причина редкого моего трудолюбия: пока работал, почти не думал о постороннем. «Натюрморты при электрическом свете» затягивались до полуночи — писал, пока в глазах не поплывет. Зато засыпал сразу, ни снотворного, ни спиртного не требовалось.
А утром — утром было нормально. Вот уж не думал, что так нетрудно терять.
Один раз я все же сорвался — неожиданно, без всякого повода, примерно через неделю после ее ухода.
В тот день у меня была студентка ветеринарного, плотная молчаливая девушка, почти не знакомая, я писал ее, усадив на ту же старую табуретку. На девушке была стереотипная джинса в самом дешевом варианте, грубая, с перебором, косметика, слишком яркий маникюр на крупных руках. Но вся эта неумелая амуниция начинающей горожанки лишь подчеркивала ее человеческую надежность, внутреннюю порядочность, способность до конца тянуть свою лямку, что я и положил на картон.
Когда стало темнеть, я вымыл кисти, вымыл руки — и вдруг почувствовал, что не могу остаться один. Ночь маячила впереди черным колодцем, бесконечной гулкой дырой. В первый раз за время без Анжелики я физически, звериным стоном под ребрами, почувствовал, что ее рядом нет.
Сбивчиво упросив студентку не уходить, я побежал в магазин. Купил водки и что-то крепленое, судя по цене, скромных достоинств — на лучшее денег не осталось.
Когда вернулся, стол был накрыт, то немногое, что имелось на подоконнике и между рамами, настругано и разложено по тарелкам. Хлеб был нарезан большими ломтями, так режут в семьях, где привычен физический труд. Вот и возникла кратковременная современная общность: пока мужчина бегал в мужской отдел «Гастронома», женщина занималась женским делом, в меру возможностей облагораживала быт…
Видимо, девушка что-то поняла. Она не противилась, когда я плеснул водки и в ее стакан, и потом тоже ничему не противилась. Каким именем я называл ее ночью, что бормотал, что орал о вечной любви, до синяков сжимая терпеливые плечи?
Утром, готовя завтрак она сказала:
— Ты так бредил во сне, даже плакал. Я думала, заболел.
Она спешила в институт, я проводил ее до метро.
Заболел? Может, и было, вполне могло быть. Но как в парной бане потом выходит простуда, так той ночью криками и слезами вышла болезнь…
Еще оставались кое-какие житейские мелочи — пяток книг и второстепенное Анжеликино барахлишко. Тряпок было мало, но месяц спустя что-то из оставленного, видимо, все же понадобилось.
Была проявлена тактичность: за вещами пришла Люба. То есть пришла она как бы не за вещами, а просто повидаться, попить кофе и так далее. Я как бы в это поверил и поставил на огонь турку, приобретенную еще в эпоху умной прокуренной Верущи. За столом положено о чем-то говорить, и мы о чем-то говорили.
Но не в характере скуластенькой девушки было ходить вокруг да около.
— А ну его к черту! — вдруг сказала она резко. — Работаешь?
Я взглядом указал на подрамники у стены. Она — взглядом же — их пересчитала.
— Ну и молодец, — сказала Люба, — и ноги унес, и голова цела.
— А что, были опасения?
— Еще какие! Наша девушка не для слабых. Кстати, сама Анжелика просто умоляла меня хоть на неделю переселиться к тебе, чтобы не покончил с собой. Не отставала, пока Пашка не взбунтовался.
— Взбунтовался?
Мне трудно было представить бунтующим этого нескладного флегматика.
— Ага, — кивнула Люба, — он у меня лапочка. Всегда скандалит, когда я попрошу.
Помолчали.
— Она сама-то как?
Это прозвучало почти безразлично, и особых усилий к тому прилагать не пришлось: в месяц, прошедший с разрыва, как в яму, ухнуло столько жизни, что теперь история ощущалась как давняя.
— А все в порядке, — странно, с каким-то даже вызовом, сказала Люба.
— Тогда слава богу. Лишь бы ей хорошо.
— А ей хорошо.
— Ну и хорошо.
— Почти как с тобой.
— Тогда действительно все в порядке.
Она сказала не сразу:
— Может, уже и заявление подали.
Вот это меня удивило.
— Даже так?
— А как же еще? Он сейчас холостяк, а у него язва. Значит, без жены нельзя. А Анжелика девушка не легкомысленная: уж если любовь, то навек.
Наверное, вид у меня был достаточно растерянный, потому что Люба резко повернулась и спросила почти зло:
— Ты что, дурак? Неужели ты так ничего в ней и не понял? Она актриса! Понимаешь, актриса, и талантливая. Только техники пока мало. Поэтому берет эмоциями, в любую реплику вгоняет себя целиком. Просто не умеет наполовину. И во всем так. Влюбилась — значит, по уши и на всю жизнь. То есть до новой роли. Потому что новая роль — это новая жизнь… — Подумала, вздохнула и заключила: — Впрочем, с ним это, может быть, надолго, ведь он режиссер.
Я не совсем понял:
— Нужный человек, что ли?
Люба отмахнулась:
— При чем тут это! Нет, наша девушка не продается. Но он режиссер! Командует ею. Орет, дергает, как марионетку. Хозяин. Думаешь, легко беспрекословно подчиняться мужику, в которого не влюблена?
Она вдруг заскучала, заторопилась и вот тут-то как раз сказала про барахлишко, объяснив, что Анжелика не пришла сама, чтобы меня не травмировать.
Я сложил вещи. Из-за книг узел получился увесистый. Я предложил донести куда надо и тут же понял, что ляпнул глупость: куда надо, мне как раз и не надо.
Люба сказала:
— Еще чего! Пашка донесет.
— А где он?
— Там гуляет.
— Так ведь холодно. Не обидится?
Она возразила несколько даже высокомерно:
— У нас это не принято.
— В строгости держишь?
Это ее почему-то задело. Ореховые глаза сузились, и она проговорила напряженно-ласковым голоском:
— Дай бог, моя радость, чтобы к тебе кто-нибудь относился так, как я к Пашке.
Я забормотал, что ничего такого не имел в виду…
— Вот и прекрасно, — оборвала она. Еще раз глянула и то ли серьезно, то ли с издевкой объяснила: — Вы люди творческие, вам нужны страсти. А мне эти возвышенные терзания абсолютно ни к чему. Я даже болею при температуре тридцать шесть и шесть.
Последнее слово осталось за Любой, поэтому ушла она, улыбаясь. Узел с Анжеликиными вещичками мотнулся в дверях. И — сдавило, сдавило грудь, словно бы именно сейчас происходила хирургическая процедура разрыва.
Так хоть что-то от нее в комнате оставалось. Теперь — все…
Впрочем, и это было не все.
Через несколько дней Анжелика позвонила, мы встретились у метро, и в углу, возле ряда автоматов, сдержанно обсудили формальности развода. Хотя «обсудили» — это слишком сильно; просто Анжелика принесла готовые бумаги, я расписался, где положено, и еще на отдельном листке написал, что прошу оформить развод в мое отсутствие, поскольку никаких претензий, в том числе имущественных, к бывшей супруге у меня нет.
Простились вежливыми улыбками, как сослуживцы из разных отделов, — за руку было бы еще нелепей. Поколебавшись, Анжелика чмокнула меня в щеку. Вполне интеллигентно расстались.
Через несколько месяцев я узнал, что она вышла замуж за того режиссера.
Вскоре выяснилось, что в важном для себя выборе Анжелика была права: фильм для нее оказался если и не на всю жизнь, то уж точно — надолго.
Правда, получился он средним, газеты отзывались кисло. Зато саму Анжелику заметили. Похвалили за молодость и темперамент, а осенью на фестивале в Средней Азии она получила премию местной газеты за удачный дебют. Федька рассказал, что видел ее по телевизору: две песни под гитару в передаче для тружеников села. А молодежный журнал даже напечатал кадр из фильма и короткую беседу с актрисой-студенткой.
Журнал этот мы просмотрели вместе с Федькой — собственно, просмотрел он, а я прочел. Анжелика говорила, что в ее возрасте главное не успех, а учеба и работа над собой, благодарила всех своих учителей, особенно строгого, но справедливого руководителя курса, а в конце признавалась, что самая заветная ее мечта — сыграть в кино роль нашей замечательной молодой современницы. К счастью, именно такая работа ей в ближайшее время и предстоит в новом фильме режиссера, открывшего робкой дебютантке путь к большому экрану, — шла фамилия мужа…
— А чего, — сказал Федька, — все нормально. Выползла на орбиту!
Я хмуро промолчал — Федькина неприязнь меня задела. Почему? Это было бы нелегко объяснить даже самому себе. С одной стороны, все кончилось, чужая женщина, в чем-то даже неприятно чужая. Но, с другой-то, все равно своя, как сестра или дочь, завертевшаяся, загулявшая, заблудившая, шлюха проклятая, но — куда от нее денешься! — всей злостью, всей болью, всей обидой своя…
Она возникла года через два, летом, в самую жару — асфальт лип к подметкам, мелкая пыль постоянно висела в воздухе и въедалась в сохнущие холсты.
Той комнаты в коммуналке у меня уже не было, приходилось платить за квартиру в новостройке — хозяева сдали ее, не въезжая, и была она совершенно пуста — мебелишку собирал по знакомым, одно резное креслице даже подобрал на помойке, отмыл, залакировал и выдавал за семейную реликвию.
Она позвонила среди дня:
— Балмашов?
— Я.
— У тебя есть холодильник?
— Допустим.
— Тогда поставь туда стакан обыкновенной воды.
Только тут я узнал ее окончательно. Собственно, голос определился сразу, сильный, наполненный, казалось, даже хрипловатый, словно энергия, наполнявшая мою бывшую жену, с трудом проталкивалась сквозь гортань. Ее голос, ее, а вот интонация новая и для меня чужая: не девочка, тревожно и жадно открывающая мир, а уверенная в себе женщина, практически сделавшая свою жизнь.
— Ладно, — сказал я не сразу, — поставлю.
Тут вышла маленькая пауза, после чего она спросила:
— Может, я не вовремя? Ты не один?
— Один.
— Так я зайду?
— Давай, если хочешь.
Она фыркнула в трубку:
— Ох, Балмашов, не слишком-то охотно приглашаешь!
— Ладно, приходи, — буркнул я и сказал адрес.
Два года прошло, дело давнее.
Уверенно постучала, уверенно вошла, уверенно повисла на шее:
— Ох, и соскучилась по тебе!
Сбросив серебристые босоножки, босиком прошла в комнату и сразу же уверенно плюхнулась в кресло-реликвию:
— Подыхаю! Я прямо со съемок. Мало того, что жара, так еще и ночь не спала.
— Издалека?
— Ялта. Видишь?
Она дрыгнула загорелой ногой.
Будущая звезда — впрочем, теперь, пожалуй, просто звезда — была и одета по-звездному: что-то дырчатое с яркой вышивкой, живот открыт…
— Есть будешь?
— Не! Тащи воду.
Напившись, потрясла в воздухе потными ладонями и возмутилась:
— Ну и жизнь тут у вас! Жара хуже Ялты, а моря нет. Замечено было совершенно справедливо, но в тот момент говорить о погоде не хотелось.
— Может, все же поешь?
— Успокойся.
Тут ее интонация мне совсем перестала нравиться. Я сел напротив и уставился ей в глаза:
— Ну?
— Что?
— Выкладывай, зачем пришла?
— Ого! — сказала она. — А просто так уже нельзя?
— Можно. Но ты-то пришла не просто так.
Разбираться в ее делах мне вовсе не улыбалось. Но еще меньше нравилось слушать ее покровительственно-барственный тон.
Видно, она хотела опять ответить на фразу фразой, даже фыркнула для начала, но передумала, вздохнула, скривилась и сказала с досадой:
— Хреново мне, Балмашов, понял?
После этой фразы разговор стал неизбежен, и я спросил:
— А что случилось?
Она отмахнулась:
— Да ничего, все нормально.
— Со съемок выперли?
Анжелика засмеялась так искренне, словно сама мысль о подобном была полной нелепостью.
— А чего приехала?
— Эпизод озвучить, ерунда. Я там почти отснялась, мелочь осталась.
— С институтом что-то?
Она удивилась:
— А что с ним может быть?
— Ты учишься?
— Конечно.
— А этот твой… — Я назвал руководителя курса.
Анжелика пренебрежительно усмехнулась:
— A-а… Нас с ним теперь водой не разольешь. Строгий наставник и любимая ученица. Зимой был его юбилей — полчаса поздравляла под гитару. Успех, овация, не отпускают… Встал, подошел и даже чмокнул в лобик. А я — ну вот наитие просто! — упала на колени и поцеловала ему руку. Что началось… В зале одно старичье, и, конечно, каждому хочется, чтобы вот так, под занавес… Слезами истекли.
Она зевнула и закончила буднично:
— Я теперь на заочном, снимаюсь, когда захочу.
— А чего во ВГИК не перейдешь?
— Тут марка солидней.
Я пожал плечами:
— Не понимаю. Выходит, у тебя все хорошо. В чем же хреново?
Она снова вздохнула, наморщила лоб и прямо на глазах стала проще, озабоченней и — тусклее, что ли? Да, молодая, но уже не девушка, уже баба, тертая и мятая жизнью.
— В общем-то во всем, — сказала моя бывшая жена.
Я молчал, приготовился слушать.
Она пошевелила пальцами и вдруг отвернулась:
— Не могу я так! Будто у начальства на приеме. Погоди, дай обживусь. У тебя-то как?
— Живу, пишу.
Ни малейшей потребности исповедоваться у меня не было.
— Выставляют?
— Умеренно.
Это действительно было так: какие-то физики во имя общего развития вывесили в коридоре НИИ по десятку моих и Федькиных работ и обсудили, почему-то назвав модернистами, после чего наградили бесплатными путевками в свой спортлагерь и передали с рук на руки в соседний институт…
— Родители как?
Надо же — вспомнила!
— Вроде нормально. Осенью съезжу. Сколько лет в Москве, а дом все-таки там.
Она сказала:
— А у меня даже не знаю где. Вот приехала, а туда неохота! Мамаша его… Четыре комнаты, а с Прасковьей Васильевной не разойтись.
— Не ладишь?
— Наоборот, любовь взасос. Просто сегодня неохота кривляться. Хотела к Любке, а она в убытии до вторника. Хоть на вокзале ночуй.
Если это и был намек, я его не понял.
Помолчали.
— Не могу! — вновь сказала Анжелика, но уже по другому поводу. — Как ты существуешь в такой духоте? Хоть бы окно открыл.
— Еще хуже будет.
— Можно, душ приму?
Я указал на дверь ванной.
Она словно бы только заметила грязные газеты на полу:
— Ремонтировать собираешься?
— Наоборот, чтобы не пришлось ремонтировать. Через месяц хозяева вернутся.
— Мне на старом месте сказали, что у тебя теперь своя.
— За шестьдесят в месяц — своя.
Анжелика оглядела комнату — мольберт, подрамники, груду тюбиков на газете в углу — и произнесла неодобрительно:
— Пора бы и мастерскую заиметь.
Поскольку это не был вопрос, то и в ответе не нуждался.
— Ладно, — сказала она, — отвернись.
Я подошел к окну и смотрел во двор, пока за спиной шуршало и взвизгивало, видно, барахлила «молния».
Двор был малолюден, жара к лишним движениям не располагала. Тем не менее четыре девчонки прыгали в классики, а наискосок от меня, возле старого двухэтажного флигеля, мужик мыл машину, выведя шланг в окно первого этажа. Это явно был не просто частник, а любитель, умелец и хозяин: шланг кончался специальной щеточкой, в двух пластмассовых ведрах роскошно пузырилась разная пена, а сам владелец, в оранжевом комбинезоне и высоких красных сапогах, походил на водолаза или космонавта.
Машина, охристый «жигуленок», мокрый, в парчовой пене, сиял и зеркалил, празднично собирая вокруг себя весь двор с его дорожками, скамейками, серой зеленью и сухими короткими тенями. Вот бы рядом два холста: машина в полдень, солнечный зайчик, елочный шар, веселый «анфан терибль» неряшливого двора — и машина в полночь, пантера во мраке, тревожная тень со слепящими фарами, грозный ночной хозяин того же малого пространства… Я как-то разом увидел обе картинки, два городских мотива в одинаковых рамках, двух ангелов, белого и черного, как бы сомкнувших плечи — то ли диалог, то ли заговор…
Могло, вполне могло получиться.
Но что-то осталось не понятым в этом пиршестве мокрых плоскостей, да и занят был иным, поэтому, поманив богатым ощущением, купающийся этот автомобиль тихо проследовал в запасники души — до востребования. Авось, когда и понадобится.
— Все! — услышал я разрешающее слово и, не спеша обернувшись, увидал, как не спеша же исчезло в двери ванной загорелое предплечье и бледная округлость бедра. Чужая женщина вела себя, как своя, а, может, я просто был для звезды вроде костюмерши или мальчишки-осветителя, которого стесняются не больше, чем его треноги, ибо они вместе как бы и составляют подставку для фонаря.
Ладно — ее дело…
Тут позвонил Федька. Ему не писалось, и он минут десять материл себя, меня, прочее человечество, а также изобразительное искусство всех времен и народов. Пока он отводил душу, я вдруг подумал, что будущее будущим, а машину в полдень надо бы набросать именно сейчас: ведь могут не повториться эта жара, свечение и сияние, эти расплавленные цвета, яркое пятно «жигуленка» и, ему в поддержку, яркие пятнышки играющих девчонок. А главное, может не повториться мое теперешнее ощущение — его-то как раз и надо схватить хоть в беглом, небрежном этюде. Вот уйдет…
Я даже придумал, как выпровожу ее, не обижая. Пока будет одеваться, я, глядя в окно, скажу как бы между прочим…
Анжелика одеваться не стала, прошла по комнате, оставив на газетах влажные следы, сцепила руки у меня на затылке и в третий раз сказала:
— Не могу!
Я растерялся и снова подумал: чужая, а ведет себя как своя. Она не отпускала, и я, чтобы успокоить, стал гладить ей плечи, но кожа узнала кожу…
…и тут мне стало страшно. Ведь так, как с ней, не было ни с кем, и не будет — точно знаю, не будет. Как же я отпустил ее тогда? Почему отпускаю теперь?
Она застонала просто от боли, так я прижал ее к себе, будто это судорожное объятие могло хоть что-то решить. Стон, крик, слезы — и два имени, как два заклинания…
— Не могу! — Это она повторила в четвертый раз, но уже потом, когда кровь словно бы ушла из тела, а кисти рук тряпично лежали на простыне — повторила негромко, почти не шевеля губами, и затылок ее не шевельнулся на моем плече. — Чего-то не то. Хреново мне, Балмашов.
Она не жаловалась, не ждала моего решения, просто советовалась, как с хорошим приятелем: чужая женщина больше не вела себя как своя. Да и я легко принял эту интонацию — близость кончилась, как только кончилась близость.
— Уж если у тебя хреново! — сказал я.
Анжелика поморщилась:
— Да, понимаю. Повезло, еще как повезло! Другие в мои годы… А тут и имя, и вообще. Недавно ставку повысили.
— А тогда чего же?
Она вдруг повернулась ко мне и приподнялась на локте:
— Ну-ка скажи: ты веришь, что я талантлива?
Я ответил, что верю.
— А по фильмам моим это видно?
Даже не спросила, смотрел ли я эти фильмы…
Тут я замялся:
— Н-ну…
— Видно или нет?
— Что способная — видно.
— Все верно, — сказала Анжелика, — способная, и больше ничего. А способных каждый год тридцать штук кончает. Каждый год!
Я не слишком понимал ее проблемы, но то, что понял, мне не понравилось.
— А ты хочешь быть единственной?
— Я хочу сниматься! — с силой и даже болью сказала она. — Неужели так трудно понять? Вот ты художник, да?
— Допустим.
— И пишешь!
— А что же мне еще делать?
— Так вот я актриса и хочу сниматься!
Я жестом погасил ее возмущение:
— Стоп, согласен. Но ведь ты и снимаешься. Сколько у тебя всего ролей?
— Не считая эпизодов, сейчас третья.
Тут уж возмутился я:
— Тогда какого черта тебе надо? Тебе же двадцать два.
Она сказала:
— Да! Двадцать два! Наташу Ростову я уже не сыграю.
— Ничего, сыграешь Анну Каренину.
Анжелика угрюмо возразила:
— Анну Каренину дают той, которая сыграла Наташу Ростову.
Разговор шел довольно бестолковый. Я потряс ладонью:
— Ну-ка, стой. Давай сначала. Ты сказала: хреново, так? Валяй объясняй, почему.
Она села на кровати спиной к стене, ноги по-турецки — поза автоматически получилась красивой, видно, за эти годы немало занималась пластикой. Подумала о чем-то, усмехнулась, вздохнула и заговорила спокойно, без пауз — видно, все это было думано-передумано:
— Понимаешь, я не бездарна. И многое умею. Двигаюсь, пою. Голос, фактура, темперамент — по крайней мере, не ниже нормы. Всё, что говорят, делаю, пока не завалилась ни разу. Но я не гений. Мировоззрения у меня нет. Когда-нибудь, может, и будет, а сейчас нет. Чтобы поднять роль по-настоящему, мне нужен режиссер.
— Так он же у тебя есть.
Я не подкалывал, просто уточнял, однако прозвучало двусмысленно. Анжелика, к ее чести, на возможные нюансы не отвлеклась.
— Он не тот режиссер. Он знает, где мне встать и как повернуть голову. А про что играть…
Мне не нравились его фильмы с их яркой показушностью, с шумными холодными страстями. Но у разговора своя логика: поскольку ругать его стала она, мне для объективности оставалось только защищать. Что я и стал делать без особой охоты.
— Но ведь тебя же хвалят.
— Кто? — возразила она с горечью. — И как? Последний раз хвалили за то, что мне двадцать. Но сейчас мне, извини, двадцать два. Через три года двадцать пять. А за это уже не хвалят.
— Ну, до того-то времени… У тебя уже сейчас имя.
Она проговорила не сразу:
— Две недели назад худсовет смотрел материал. Фильм почти снят. Знаешь, что было сказано?
— Про фильм?
— Про меня.
— Ну?
— Это не роль, а позы под музыку.
— Кем сказано?
— Редактор один.
Справедливости ради я заметил:
— Ну и что? Ведь один! А их там небось человек десять.
— Неважно. Я-то знаю, что он прав. Сегодня сказал один, завтра скажут все десять… Сигареты есть?
Не дожидаясь ответа, она потянула ящик тумбочки.
— Нету, — сказал я, — здоровее будешь.
Анжелика сбросила ноги на пол, потянулась и встала:
— Черт с ним, придется курить свои. Вставать не хотелось.
Прошла по комнате и достала из сумочки сигареты. Закурила, снова взобралась на кровать.
— Ну-ка, скажи честно: тебе эти мои роли нравились?
Я ответил честно:
— В общем, нет.
— Вот видишь…
Потом она, похоже, устала сомневаться в себе или просто разозлилась, что я согласился с ней, вместо того чтобы спорить и хвалить ее роли. Во всяком случае, глаза стали жестче, поза нахальней, она вольготно привалилась спиной к относительно прохладной стене и, с подчеркнутым удовольствием выпуская дым, стала вещать. Конечно, говорила она, ей не восемнадцать, ей двадцать два, не так уж мало. Но, с другой стороны, девочки, с которыми она училась, к этому же возрасту не добились ничего, прозябают в провинциальных театрах. Так что некоторая фора у нее все-таки есть. Разумеется, этим нельзя обольщаться, она и не обольщается, напротив, если она чем и грешит, то скорей излишней самокритичностью…
Анжелика совсем успокоилась, и с ней стало неинтересно. Кроме того, смешила и раздражала сама картина: сидит голая по-турецки, машет сигаретой и при этом рассуждает о собственной самокритичности…
Я сказал:
— А чего ты, собственно, суетишься? Не вижу трагедии. Ну прервешься года на два. Поснималась — дай другим.
Я откровенно заводил ее. Но она не завелась. Она ответила назидательно:
— Это, мой милый, кино. Тут каждый только о себе. Так что о других пусть думают другие.
Наверное, чем-то я ее все же задел: немного погодя она спросила достаточно агрессивно:
— Ну а ты? Ты как? Скоро выдашь что-нибудь эпохальное?
Я пообещал:
— Как только, так сразу. Вот уйдешь, и начну.
Видимо, молодая звезда к таким разговорам не привыкла — не столько обиделась, сколько удивилась:
— А если не захочу уходить?
— Пойду писать к Федьке.
Она все же нашла способ оставить последнее слово за собой:
— Поцелуй, тогда уйду.
Я поцеловал ее, и она ушла.
Анжелика вернулась часов в семь, вечером еще и не пахло. Как и утром, туфли полетели в угол — это у нее было вроде приветствия.
— Балмашов, говори честно: кормить гостью собираешься?
И тон, и улыбка были помягче, чем утром, — отношения определились, актриса приняла предложенную трактовку роли.
Я ответил, что придумаю что-нибудь, голодной не останется. Анжелика хмыкнула:
— Представляю себе! Ладно, давай сумку. Можешь спокойно писать свою эпохалку.
Я протянул и деньги, но она посмотрела свысока:
— Обижаешь, начальник!
Она накупила всякой всячины, и минут сорок с удовольствием возилась у плиты. Потом накрыла стол, и не просто накрыла, а изысканно, что при моих посудных возможностях было нелегко. Получился как бы прием на две персоны.
— Научилась, — похвалил я.
Она ответила без радости:
— Жизнь-то идет.
И словно мимоходом попросила:
— Переночую у тебя, ладно?
Она прожила у меня четверо суток, и я постепенно привыкал к этой новой Анжелике. Пожалуй, первое впечатление после разлуки меня подвело: чужая женщина вовсе не вела себя как своя. Ни выглядеть, ни, тем более, быть моей она не старалась. Но и еще чьей-то как будто тоже не была. Нынешняя Анжелика принадлежала самой себе. Повзрослела.
У нее были дела, целыми днями она упорно моталась по жаркому городу. Я пару раз спросил — отмахнулась: «А, интриги!» Приходя, лезла под душ, потом довольно споро возилась по хозяйству. Готовила, даже выстирала подвернувшуюся под руку рубаху — заботилась, как бывшая одноклассница. Вечером заваривала крепкий «мужской» чай. После чего ложилась ко мне в постель и принималась обсуждать накопившиеся проблемы увлеченно и откровенно, как с задушевной подругой. Случайное касание бросало нас друг к другу, разговор обрывался на полуфразе. А потом возобновлялся с той же приблизительно полуфразы.
— …Он, к сожалению, не мой режиссер, — говорила Анжелика. — Анекдот! Мой муж, но не мой режиссер. Он слишком любит себя. Ты слишком любил меня, а он слишком любит себя, поэтому вы оба не могли мне помочь. В принципе мне нужен режиссер типа… — она назвала фамилию, — вот он работает через актера.
— А ты не пробовала к нему?
— Не только пробовала — у меня полгода назад был с ним роман. Вот бы за кого мне замуж!
Я не понял, говорит она всерьез или дурачится, и на всякий случай отозвался столь же неопределенно:
— И за чем же дело стало?
Она ответила серьезно и грустно:
— Он не захотел.
— Почему?
— Он сказал: ты — как яркая люстра. А жена должна быть как тусклая лампочка в туалете…
Все дни, что она была у меня, мы говорили только о ней. Похоже, думать о ком-то другом она просто не умела. Это стало надоедать.
В конце концов я спросил резко:
— Тебе чего надо — играть или пробиться?
Анжелика, почти не думая, твердо ответила:
— Пробиться. Пробьюсь — буду играть. А не пробьюсь…
Она посмотрела на меня с досадой:
— Как ты не понимаешь разницу? Ты художник, а я актриса, у нас все по-другому. Ты можешь писать и складывать про запас, когда-нибудь выставишь. А я не могу играть про запас! Не помню, кто сказал, но очень точно: у актера есть только сегодня, поэтому высказаться он должен сегодня.
— Ну и что ты хочешь высказать?
Она немного растерялась:
— Как — что?
— Так — что?
— Это же зависит от роли!
— У плохого актера от роли, у хорошего — от личности.
Анжелика задумалась. Потом проговорила:
— Наверное, ты прав. Конечно, надо вкладывать себя, иначе нельзя. — Она вдруг посмотрела на меня. — Ты как думаешь: я личность?
Я пожал плечами.
— А раньше говорил — личность.
— Раньше я так и думал.
— А теперь?
— Теперь никак не думаю. Не знаю.
— А все же? Я не обижусь.
Я немного подумал:
— Личность обычно несет какую-нибудь идею.
— А ты несешь?
Это было сказано без подвоха, просто для уяснения истины.
— Несу.
— Какую?
— Как-нибудь в другой раз.
— А я — совсем никакой?
— За три дня уловил только одну идею — пробиться.
Анжелика вдруг почти закричала:
— Ты что думаешь, я сама не знаю?! Конечно, лучше сперва учиться, развиваться, а уж потом выдавать. Но где оно, это «потом»? Сегодня меня зовут, а потом, может, никто и не захочет. Люди по десять лет без ролей сидят, за паршивый эпизод в ножки кланяются!
Она дернула губой, словно отгоняя ругательство, и закончила с мрачной убежденностью:
— Пока идет карта, надо играть.
Я машинально удивился:
— Ты играешь в карты?
Она ответила нехотя:
— Муж играет…
Потом она прибирала постель, а я смотрел в окно. Было жаль уходящего времени, холст, начатый еще до ее приезда, отдалялся от меня и мог уйти совсем — при Анжелике не работалось, ее яростный эгоцентризм словно выжигал все вокруг. Черт с ним, подумал я, будем считать — отпуск…
Она сказала за моей спиной:
— Я буду иногда приходить, ладно? Мне ведь никто не скажет правды, кроме тебя.
Я обернулся:
— А зачем тебе эта правда?
Восходящая звезда жалковато улыбнулась:
— Все-таки…
Анжеликины дела в Москве кончились, и она быстро собрала свою сумку с пантерой. Накануне она встречалась с Любой и Верушей и теперь, укладываясь, рассказывала мне про их дела. Новости в основном были нерадостные.
— У Любки плохо, — говорила Анжелика, — по-моему, просто сломалась. Сидит в Росконцерте, место ничего, но… Инерция вышла!
Я удивился, а еще больше огорчился: образ скуластенькой девушки с бесстрастными глазами охотницы, неуклонно взбирающейся по жизненной крутизне, стойко держался в моей памяти и чем-то помогал жить — может, служил примером прочности и хладнокровия в разнообразных и довольно частых передрягах. Жаль было терять такой симпатичный идеал.
— А что у нее?
— Они же с Пашкой разбежались.
— Почему?
— Сложно… Понимаешь, у нее характер. Ну и давила мужика помаленьку. А Пашка терпел, терпел, и вдруг…
— Может, помирятся?
— Вряд ли, поезд ушел. Пока она выдерживала характер, он женился.
— Он что, так много для нее значил? — спросил я с сомнением: уж очень не походил на рокового мужчину этот громоздкий большеротый увалень.
— Дело не в нем, дело в Любке, — объяснила Анжелика, — она не умеет перестраиваться. На первом курсе подружилась со мной и с Верушей — так и дружим до сих пор. Любка только кажется такой самоуверенной, а на самом деле очень привязчивая. Вот посмотри, кто у нее всегда на дне рождения: мы с Верушей, трое одноклассников и еще подружка с детского сада. Она теперь в Перми, но надень рождения всегда приезжает.
— Ну и кто же теперь у Любки?
— Пусто, — сказала Анжелика, — можешь попробовать. Но честно скажу, шансов мало. Не исключено, что она вообще однолюбка.
— А вы с Верушей не могли их помирить?
Наверное, в голосе моем прозвучало осуждение, потому что она стала оправдываться:
— Ты Любку не знаешь. Замкнулась, грызет себя, а попробуй слово скажи…
Потом Анжелика рассказала про Верушу. У той тоже было не блестяще. Место, в общем, нашлось пристойное: отдел литературы и искусства в отраслевой газете. Но зав — старый маразматик, на мысль ему чихать, на стиль чихать, требует прописных истин и ничего более. Контора как контора, говорила Анжелика, но у Веруши талант, а там талант не нужен, слишком выпадает из общего уровня. Отсюда нервотрепка и прочие прелести. К тому же к ней лезет один жлоб, ответственный секретарь.
— К Веруше?
— А ему плевать, — сказала Анжелика, — ему важно, что ГИТИС закончила. Большой любитель культурного общества!
Я хорошо помнил Верушу, прокуренную, толстую и неряшливую, помнил резкие вспышки ее неожиданного ума, слепящие, как мигалка милицейской машины. Талант был ее единственным козырем и единственной жизненной ставкой — никакой подстраховки…
— Паршиво, — сказал я.
— Просто черт-те что! — тут же подхватила Анжелика. — Они ведь обе умней меня в десять раз, особенно Веруша. Скажи мне на втором курсе, что так повернется…
Что-то в ее интонации было мне неприятно. Слишком охотно возмущалась она несправедливостью судьбы, в голосе сквозила не боль за подруг, а покровительственная жалость к неудачницам, поотставшим на житейских виражах.
Она уложила сумку и поставила ее на табуретку у двери. Я понимал, что время прощаться, что надо обнять ее и поцеловать, но ни обнимать, ни целовать не хотелось.
— А сумка все та же, — сказал я.
— Талисман, — объяснила Анжелика.
Она села в кресло, и ноги ее автоматически приняли самую красивую из возможных позиций. Она была актрисой, и хорошей — чего уж там! — и на какой-то момент я понял ее жадный эгоцентризм: это талант, может, и не умный, и не наполненный духовно, но все равно реально существующий, требовал работы на пределе возможностей.
— Значит, перезвонимся, — сказала она, — перезвонимся, встретимся и будем говорить правду.
Но произнесено это было рассеяно — какие там звонки, какая правда! — вся она была уже в завтрашних заботах. Да и куда звонить? Эту квартиру я терял через месяц. Телефон Анжеликиного обиталища я не спросил, а она не предложила. Перезвонимся, конечно, перезвонимся!
Она поцеловала меня в губы легким приятельским поцелуем. Да мы сейчас, пожалуй, и были приятели. А кто же еще? Прошлое прошло, будущего не будет, а кровать у стены — дело житейское. Перезвонимся…
Все же я думал, что расстаемся месяца на два, ну, на три. Москва есть Москва, где-нибудь да столкнемся.
Москва есть Москва. Мы действительно столкнулись с Анжеликой, столкнулись зимой, на Тверском бульваре, засыпанном пуховым снегом, но не через три месяца, а через четыре с половиной года. Дела мои к тому времени стали налаживаться, уже была мастерская, уже прошла в ряду других на редкость шумная молодежная выставка, отбросившая на пять-шесть лиц, и мое в том числе, веселый и обнадеживающий отблеск скандала. Уже в разных полемиках позванивало и мое имя, уже довольно регулярно являлись интеллигентные ходоки из разных мудреных институтов — химики, генетики и кибернетики торопились приобщиться к искусству, прогрессу и злобе дня.
Я как раз и шел из одного такого института, помещавшегося в древнем, неудобном, но престижном особняке — относил четыре картинки на полуофициальную групповую выставку. По этому случаю был в брезентовой ветровке и старых залатанных джинсах, в руках оберточная мешковина: развешивать картины, как, впрочем, и писать, занятие сугубо пролетарское.
А тем же самым бульварчиком шла мне навстречу моя бывшая жена — в серебристой дубленочке с белой опушкой, в красных сапожках, сверкавших, как новый автомобиль, и с красной сумочкой, сверкавшей, как сапожки. Гуляющие бабуси и молодые мамаши с колясками оглядывались, и притягивало их не богатство наряда, а очевидная, несомненная известность. Они могли помнить Анжелику, могли и не видеть прежде, это значения не имело: известность стала органической чертой ее лица, как у других бледность или румянец. Звезда, без всяких оговорок звезда!
Я встал у нее на пути, раскинув руки — в правой болталась мешковина. И любовь, и боль остались в дальнем прошлом, их как бы заслонило и теперь четко помнилось лишь ближнее прошлое, наша последняя, почти дружеская встреча, четыре дня в моем временном пристанище, легкий приятельский поцелуй в дверях. Тот прощальный поцелуй стал как бы выводом из всего, что случилось между нами, и новый поцелуй, откровенно радостный, был логическим его продолжением. Друзьями расстались, друзьями встретились…
— Балмашов! — завопила популярная актриса и кинулась мне на шею. — Гад несчастный! Ты что, только из тюрьмы?
— Приблизительно, — улыбнулся я, бережно сжимая ее пушистую дубленку.
— Зек, — сказала она, — типичный уголовник. Повыпускали вас на нашу голову!
Анжелика здорово изменилась за эти годы. Не постарела, нет — тут время почти не сказалось, — но ее по-прежнему свежее лицо теперь сияло уверенной силой. От угловатости начинающей не осталось и тени — состоявшаяся, зрелая актриса, молодая женщина в полном расцвете могущества и в идеальном оформлении. Облик сложился, все было точно по ней: и сапожки, и дубленка, и улыбка, и та радостная естественность, с которой она обнимала и тормошила меня.
— Сейчас ты куда?
Вопрос был вовсе не праздный — энергичный и даже требовательный.
— Домой, — ответил я не слишком уверенно, ибо приятелю столь шикарной женщины уместнее было бы направляться на закрытый просмотр или, как минимум, в финскую баню.
— А я хочу есть!
— Желание дамы… — автоматически забормотал я, абсолютно не представляя, каким образом мог бы желание такой дамы удовлетворить.
Анжелика безапелляционно прервала:
— Кормлю я!
Снег, на бульваре пушистый, на тротуарах был размят, растоптан, тек и скользил. Мы пешком прошли до Маяковской, потом переулком и очутились перед серым кубом Дома кино.
— Сюда, что ли? — испугался я. Мешковину, младшую сестру моей давней торбы, я свернул и держал под мышкой, но, и свернутая, она куда больше гармонировала с моей брезентовой ветровкой, чем с Домом кино.
— Куда же еще? Даром, что ли, плачу деньги в этот паршивый Союз киношников?
На это возразить мне было нечего — вопрос о моем приеме в «паршивый Союз художников» еще только решался…
Тетка в дверях брезгливо глянула на мою мешковину и недоуменно спросила Анжелику:
— Это с вами?
— Я с ним, — шевельнула бровями актриса, и я прошел за нею в мраморное нутро здания, чувствуя себя мальчиком, которого ведут за руку. В раздевалке я положил было проклятую мешковину на барьер, но ястребиные глаза лысого гардеробщика азартно блеснули, и он сказал с элегантным полупоклоном:
— А это прошу с собой!
И опять за меня вступилась Анжелика:
— Хорошо. Это возьму с собой я.
Гардеробщик без тени смущения возразил:
— С вами совсем другой разговор.
В большом ресторанном зале было пустовато, но Анжелика не колебалась в выборе места, сразу же уверенно прошла к столику за колонной. Подошла худая, лет пятидесяти, официантка с большими изумрудами в ушах, поздоровалась со мной и расцеловалась с Анжеликой.
— Дашка, спасай, — сказала Анжелика, — жрать хочу — подыхаю! Мне большой набор, ему — с поправкой на мужика.
Я раскрыл было рот, но официантка одной фразой подавила мой робкий бунт.
— На нас с Анжеликой еще никто не обижался!
— Дашка! — возмутилась актриса. — Что значит — никто? А если он — единственный?
— Сделаем, как единственному, — сказала Дашка и отошла, играя тощим задом.
Я вопросительно посмотрел на Анжелику.
— А мы подруги, — объяснила она, — уйма общего, от парикмахера до гинеколога. Железная баба! У нее любовнику двадцать семь.
Анжеликин большой набор оказался достаточно скромен (героиня должна быть хрупкой, объяснила актриса), мне железная Дашка принесла полный поднос.
— Ну, — сказала Анжелика, — рад хоть? Представить не можешь, как мне тебя не хватало! Народу тьма, а поговорить ведь не с кем. Тряпки, интриги, ставки… Сколько раз вспоминала те наши с тобой дни! Мало ли что случается, плевать, правда? Главное — искусство, твое и мое. Ну, давай. Как ты, что ты?
Я развел руками:
— Нормально.
А что еще сказать, когда не виделись четыре года?
— Мастерскую дали?
— Дали.
— Женился?
— Нет.
— Выставляют?
— Про «Десятку» слыхала?
— Это что?
— Выставка наша была.
— А, — сказала Анжелика, — ну вот видишь! Я всегда знала — пробьешься. Ты талантлив, это главное. Просто время сейчас такое — надо хватать на лету… Ну а я как? Как выгляжу? В конце концов, мужик ты или нет? Где комплименты?
Я сказал комплименты, и разговор про искусство, ее и мое, на этом кончился.
Про Анжеликину жизнь я кое-что знал: доносилось, долетало… Знал, что с делами в общем нормально, снимается, выступает с концертами, что с режиссером своим разошлась. Последнюю новость я услыхал недавно и понятия не имел, что за ней стоит: поражение в житейской войне или, наоборот, продуманный шаг на иную, высшую ступень.
— Ты-то как? — спросил я.
— Сложно, — ответила она. — Больше хорошо, чем плохо. Можно даже считать хорошо.
— Рад за тебя.
Я проговорил это без иронии. Довольна, и слава богу. Когда мы познакомились, я был требовательней, но с тех пор прошло время. Теперь я знал, что кто-то для искусства живет, а кто-то при искусстве кормится, и даже в этом ничего страшного нет. Люди кормятся при любом деле, даже при тюрьме, даже при кладбище, и почему бы живописи или кино быть исключением? Если человека устраивает его положение в искусстве или при искусстве, уже хорошо. Одним довольным больше — чуть спокойнее на земле.
Я так и произнес вслух:
— Довольна, и слава богу.
Она холодно вскинула глаза:
— Балмашов, не хами. Довольной я не буду никогда. И ты это отлично знаешь. Хорошо — значит, приемлемо. Работа есть. Концерты идут. Принимают. С квартирой налаживается.
— Размениваетесь?
— Уже слыхал?
— Ты человек заметный.
— Нет, — сказала она, — решили проще. Воткнул меня в кооператив.
— А пай?
— Там видно будет. Могу и сама, мне ставку повысили.
— Кооператив далеко?
Она сказала равнодушно:
— Близко, далеко — какая разница? Дам три концерта для жилуправления — будет близко.
Лицо у Анжелики словно погасло: видно, я тронул неприятную тему. Меньше всего мне хотелось ее огорчать. Я попробовал утешить:
— Плюнь и забудь. Я еще тогда почувствовал, что это рано или поздно произойдет. Детей ведь у вас нет?
— Нет, — сказала она, — чего нет, того нет. Один раз наклевывалось, но…
— Случилось что-нибудь?
Она усмехнулась:
— Что может случиться у актрисы? Пятисерийка для телека. Или — или…
Тут к нам подсел мужик лет тридцати в красивой кожаной курточке, со значительным и глупым лицом. Анжелику он назвал Желькой и поцеловал в щеку, а знакомясь со мной, не назвался, словно его фамилию я сам должен бы знать. Руку он мне пожал, будто подарок сделал. Машинально схватил маслину из розетки и, держа ее в длинных пальцах, стал возмущаться бардаком в автосервисе: он гонял машину на техобслугу и там ему что-то сделали не так. Впрочем, этой незадачей наш собеседник был не слишком удручен, ибо получил возможность рассказать, как ему делали техобслуживание в Польше и Чехословакии, а его приятелю в Мексике. Выходило, что в далекой тропической республике дела с автосервисом поставлены лучше всего.
На куртке у него была длинная «молния», он дергал застежку вверх-вниз. У мужика был низкий баритон, рассказывая, он заглядывал в глаза то мне, то Анжелике. Я кивал, актриса была непроницаема.
Потом он сменил тему: стал рассказывать, что приглашен в политический детектив, сценарий дерьмо, группа дерьмо, все дерьмо, зато два эпизода в Голландии. Жаль, нельзя туда на собственной машине, ибо уж там-то с автосервисом…
— Слушай, милый, — вдруг ласково сказала Анжелика, — а не пошел бы ты…
Она назвала точный адрес, и я удивился, что неприличное слово не звучит в ее устах неприлично — разве что непривычно, раньше такого не замечалось. Возраст? Отпечаток среды? Издержки жесткого и нервозного искусства кино?
Мужик растерянно умолк, длинная «молния» дернулась в последний раз.
— Можешь ты понять, — глядя ему в глаза, проговорила Анжелика, — любимого человека встретила, четыре года не видались…
Наш собеседник щедро развел руками:
— Старуха, об чем речь! Сказала бы сразу…
С интересом глянул на меня и отошел.
— Извини, — поморщилась Анжелика — с ним иначе нельзя.
А мне вдруг стало легко и удобно в этом чужом доме, чужом зале. Все же приятно, когда тебя публично объявляют любимым человеком, даже если это вовсе не так…
В первый раз за обед я спокойно и обстоятельно огляделся. Две трети столиков были пусты. Официантки, завсегдатаи. Кто-то сосредоточенно пилил антрекот, кто-то решал дела за бутылкой, кто-то просто потягивал пиво, убивая незанятый день, но у всех у них на одежде и лицах лежала печать причастности общему ремеслу, как бы невидимый кастовый знак. Ни одной случайной фигуры. Только я.
Впрочем, теперь, освоившись, я понял, что заплат и старого свитера мне стыдиться нечего, ибо здесь, за привилегированным столиком профессиональной харчевни, я тоже играл некую роль и своим непотребным видом не только не компрометировал известную кинозвезду, но, напротив, подчеркивал ее демократичность, широту взглядов и свободу в общении с массами.
Поджарая Дашка принесла мороженое — в вазочке у Анжелики был один шарик, у меня четыре.
— До чего же приятно кормить мужика! — с удовольствием произнесла актриса.
— Раз в год в ресторане, — с ходу отозвалась официантка, подмигнула мне и ушла с подносом грязной посуды.
— Вот нахалка! — вслед ей восхитилась Анжелика.
А мне было совсем хорошо. Я смотрел на свою бывшую жену и думал, что теперь, пожалуй, я бы мог ее написать. Хотя бы вот так, за ресторанным столиком, за спиной колонна, на скатерти «большой набор» — осторожное пиршество актрисы. Платье обобщу, скатерть обобщу, колонну обобщу. Белая скатерть, белая колонна, пятно платья, пятно лица. А глаза, настроение, суть, все то, что прежде не давалось — это получится. То ли модель стала понятней, то ли я умней. А может, просто взгляд мой теперь свободен. От чего свободен? Да от любви, всего лишь от любви…
Я спросил:
— Часа два на той неделе найдешь?
Она вскинула глаза, не понимая:
— Два?
— Ну, четыре. Максимум, шесть. Три сеанса. В любое время. А?
— Опять голяком?
— Вот так, как сейчас.
— Если не уеду, — сказала Анжелика, — перезвонимся.
Я не обиделся, все было логично. У актрисы свои резоны и свой ритм, карта идет — надо играть. Три сеанса — это три дня, немалое время, и стоит ли терять его на холсты, которые, вполне возможно, так и останутся у стенки в углу мастерской?
— Я прикину, — уклончиво пообещала деловая женщина, — мы ведь еще не прощаемся?
— Как выйдет, — успокоил я.
Я смотрел на Анжелику и видел уже свое. Резкое пятно помады на фоне обобщенной колонны, резкие пятна ногтей на обобщенной скатерти… Обойдусь и без трех сеансов, даже без одного. Уйдут детали, уйдет имя, «Портрет актрисы» — более чем достаточно.
Когда-то в детстве я верил в страшную уличную байку, будто в зрачках убитого застывает лицо убийцы. Здесь, в ресторане, не было ни убитого, ни убийцы, просто приканчивали мороженое, но я смотрел на Анжелику, и ее лицо застывало в моих зрачках.
Я смотрел на нее, и вдруг заметил, что она подняла глаза и тоже смотрит, то ли оценивая, то ли решая. Кто же убийца и кто убитый?
— Слушай, Балмашов, — решив, сказала актриса, — выполни долг любимого человека, а?
— Что за долг?
— Ты свободен?
— Когда?
— Сегодня. Прямо сейчас.
Я не успел ответить — тощая Дашка принесла счет. Я полез в карман, но Анжелика решительно одернула:
— Ты мой гость!
Не глянув на счет, она кинула на скатерть бумажку, Дашка в ответ кинула три, мелочь в этих расчетах не участвовала. Деньги инородным пятном лежали на скатерти, еще резче и вульгарней будут они смотреться на холсте: лепешка запекшейся крови, вылезшая в прореху жесткая подкладка судьбы. Не символ, не дай бог — просто характерная деталь, одно из цветных пятен удачи…
Дашка отошла. Анжелика повернулась ко мне.
— Ну, идем?
— Куда?
— Мы сегодня встречаемся: Любка, Веруша и я. У Любки. Составишь компанию девушке?
— А кто меня звал?
— Я зову.
— Во сколько?
— Сейчас. Посмотрим в малом зале две французские короткометражки, и туда.
— Переодеться хотя бы…
— Хочешь понравиться кому-нибудь, кроме меня?
И вот мы опять на улице. Мы идем пешком, после обеда актриса всегда ходит пешком, то есть всегда старается, но, увы, не всегда удается… Сейчас вот удалось, и мы идем пешком по Садово-Триумфальной, правда, под ногами теперь вовсе слякотно, народу-то вон сколько! Мы идем рядом, я держу ее под руку, а мешковину мою тащит Анжелика.
— Для меня ведь припас? — говорит она. — Тогда мешок, сейчас мешок, не случайно, а?
— Не случайно, — отвечаю я, глупо улыбаюсь — идти с ней рядом приятно.
Анжелика задумчиво покачивает головой:
— А ты изменился. Не пойму в чем, но изменился.
— Время-то, — говорю, — идет!
Я действительно изменился. Годы не виделись. А годы эти — целый период жизни.
В общем-то ее бывший режиссер сказал дело: когда идет карта, надо играть. Вот уже четыре года я играю. Играю так, что самому страшновато, а карта все идет и идет. Трудно бывает, но провалов нет, каждая новая картинка хоть чем-то, да уходит от предыдущей. В мастерской сколотил стеллаж — вот-вот придется ставить новый. Два десятка картонов лежат у Гришки на антресолях, он настоял, страховка на случай пожара: дескать, твой дом сгорит — так у меня что-то останется. Анжелика углядела точно: теперь я художник. Хороший, средний? Не те слова. Как говорит Гришка, искусствовед без места и степени, теоретик и лидер нашего поколения, художник не бывает ни хорошим, ни плохим, он бывает незаменимым…
— Ну-ка, рассказывай! — требует Анжелика. — Что изменилось, а? — Она взмахивает моей мешковиной, как матадор плащом. — Давай, давай, признавайся!
А в чем признаваться-то? Просто — художник. Пишу много. Выставляюсь мало. Зато признан — безоговорочно признан Федькой, Гришкой, Ольгой Лукановой и еще десятком тридцатилетних мастеров, которые, по сути, и составляют наше поколение…
— В чем, — говорю, — признаваться-то? Все то же самое. Живу, пишу.
Анжелика останавливается и пристально смотрит:
— Темнишь, Балмашов! Ну-ка, погоди: тебе премию никакую не дали?
— Нет, — улыбаюсь.
— Ничего, — утешает она, — когда-нибудь дадут.
И почему-то успокаивается.
На перекрестке она вдруг обнимает меня за шею и целует в губы — мешковина болтается у меня за спиной. Я ее тоже обнимаю, и так мы стоим на мостовой, на неудобном месте, на самом проходе, мешая гуляющим и спешащим. Что за поцелуй, зачем он? Не любовный, не дружеский, не прощальный… Ладно, мы люди искусства, мы эксцентричны. Мы можем себе позволить — постоим на перекрестке.
— Я рада, что мы встретились, — в третий или пятый раз, словно пробуя интонации, повторяет Анжелика, и я — а что делать? — подаю ответную реплику:
— Тот же самый вариант.
Эпизод отыгран, и мы идем дальше. Актриса рассказывает про фестиваль в Кишиневе, я задаю вопросы. У магазина Анжелика просит подождать, заходит внутрь и решительно шагает в щель между прилавками. Я покупаю две бутылки, заворачиваю в мешковину — вот и нашлось ей применение, — и тут как раз возвращается актриса с огромной круглой коробкой, в которую, наверное, можно упрятать даже небольшую стиральную машину.
Мы идем дальше, потом сворачиваем. Переулок, двор, подъезд. Дом старый, с широкими солидными лестницами. Лифта нет.
— Любка теперь здесь? — удивляюсь я, хотя чего удивляться — годы…
— Они снимают, — говорит Анжелика.
Кто они, спросить не успеваю: актриса давит на звонок. Тяжелые быстрые шаги за дверью, щелчок замка… Веруша.
Она изменилась не слишком, взгляд стал пожестче, вот, пожалуй, и все. Даже кофта та же самая, похожая на халат, только малость обтрепалась, да замшевые нашлепки на локтях.
— Не торопишься, — говорит она Анжелике, после чего жесткий ее взгляд с недобрым недоумением упирается в меня: видимо, посиделки предполагались без посторонних.
— Да ты что, — удивляется актриса, — не узнаешь? Ну, мать… Не так уж много у меня было мужей!
— Балмашов!
В голосе Веруши искренняя радость — с чего бы это? Она хватает меня за шею, прижимает к себе, и я словно окунаю нос в пепельницу.
Мы отдаем Веруше бутылки и торт, раздеваемся в коридорчике, из кучи ветхих тапочек выбираем подходящие пары. Затем проходим в комнату.
У стола, спиной к дверям, хлопочет девушка в белесых истертых джинсах. Она оборачивается, и я с удовольствием вижу знакомое скуластенькое лицо, к сожалению заметно тронутое возрастом. Сколько же не виделись? Да лет пять, пожалуй.
А за спиной у Любы глыбится нечто большое и нескладное. На секунду я застываю и даже прищуриваюсь, хотя нужды в этом нет, потом говорю, стараясь как ни в чем не бывало:
— Здорово, братцы. Привет, Паш.
Громоздкий Паша старательно жмет и встряхивает мою ладонь.
— Сюрприз, — говорит Люба без выражения, оставляя за мной, да и за собой право эту реплику впоследствии как угодно истолковать.
— Сюрприз, — киваю я, улыбаясь растерянно и глупо, ибо кого-кого, но Пашку встретить тут никак не ожидал.
Анжелика целует Любу, целует Пашку, чуть помедлив, и Верушу — в щеку, которую та подставляет холодновато и даже высокомерно. Случилось у них что? Этого не знаю, времени-то сколько ушло…
Скуластенькая женщина сноровисто налаживает ужин, Паша ей помогает, Анжелика выходит покурить на кухню, Веруша курит прямо в комнате, а я сажусь на диван, осматриваюсь, осваиваюсь, привыкаю.
Большое окно, низкий широкий подоконник, истоптанный, выбитый дубовый паркет. Хорошая комната, с лицом и историей. Мебель разномастна, скатерть заштопана, посуда бедна, а стол хорош — стол что надо: миска картошки, миска капусты, миска соленых огурцов, банка холодного томатного сока, вареная колбаса так нарезана и так уложена, что малое количество кажется большим. В семейный дом я попал, вот куда — в семейный дом, где всегда все есть, даже если ничего нет.
Возвращается Анжелика, устраивается рядом со мной, красиво садится, иначе, наверное, уже и не смогла бы, кладет голову мне на плечо, и мы образуем как бы пару, что очень удобно, ибо оба при деле.
Веруша, докурив, садится напротив. Ветхое кресло стонет и вздрагивает, а Веруша располагается поудобней и спрашивает весело и энергично:
— Ну, знаменитость, как дела?
— Да вообще-то… — начинает Анжелика и умолкает, потому что Веруша смотрит не на нее, а на меня.
— Привык уже к славе? — продолжает Веруша. — Была на вашей выставке. Любопытно. Язык есть. А дальше?
И опять, как когда-то, меня поражает способность ее стремительного ума прыгать через двенадцать ступенек. Куча вопросов, куча ответов — все мимо: Веруша сразу попадает в узел наших сегодняшних забот. Да, язык найден, мы пробились сквозь привычное, заставили себя смотреть и узнавать. А дальше? Смотреть заставили — но что покажем?
Веруша ждет ответа. К счастью, вот уже года два я довольно регулярно слушал Гришкины проповеди.
— А дальше, — говорю я, почти цитируя, — налаживать связь времен.
Веруша настороженно вскидывает брови:
— С прошлым?
Она явно в курсе словесных баталий вокруг той нашей выставки.
Успокаиваю:
— Мы мощами не торгуем. Хорош сегодняшний мир или плох, но он реален, другого у нас нет. Человек должен знать, куда ему жить.
Гришкины формулировки в моем изложении Верушу, похоже, не задевают.
— Позвал бы в мастерскую.
— Приходи, — говорю я и диктую адрес, который Веруша записывает на клочке газеты. Но по тому, как четко выводит цифры, чувствую — придет.
— А вот меня не зовет, — подает голос Анжелика.
— Ты же не просилась.
— Считай, что прошусь. Я тоже не прочь наладить связь времен, — говорит она то ли с горечью, то ли с вызовом. Но адрес не записывает.
Люба зовет за стол.
— Вообще-то мы только из-за стола… — начинает Анжелика. Но скуластенькая женщина обрывает, не оборачиваясь:
— Это твое сугубо частное дело.
— …однако за такой стол я готова хоть каждый час, — заканчивает фразу актриса и улыбается.
Мы рассаживаемся — Анжелика рядом со мной. От картошки идет пар, водка в стопочках ледяная. Пьем за встречу, хрустим огурцами, наливаем по второй, и вдруг наступает заминка. Люба смотрит на Верушу, а та молчит.
— Вроде бы налито! — весело напоминает Анжелика — но реакции опять никакой. И я вдруг понимаю, что пауза не случайна. В самом деле, за что же пить? За успехи? Но как в этой сложной компании понимать успехи? За хозяев? Но может прозвучать двусмысленно и даже бестактно, я не знаю, как у Любы с Пашкой сегодня, не знаю, кто он в этой квартире — может, просто пришел на вечер и уйдет вместе со мной. Абстрактно за любовь? Но стоит ли даже так невинно касаться подсохших болячек?
— Может, мужчина выручит? — как бы предполагает Люба и краем глаза косится на меня.
Я выручаю:
— За женщин!
Веруша говорит в пространство:
— Прекрасный тост! Для любой компании и любой политической системы.
Мы пьем за Любино кулинарное искусство — тоже прекрасный тост, за картошку — вообще великолепный. Впрочем, неважно, за что, важно, что пьем, напряженность спадает, атмосфера теплеет. Веруша, видимо устыдившись своей резкости, задает Анжелике какой-то вопрос, и та обрадованно, торопливо отвечает. Что у них, какая кошка пробежала? Понятия не имею, ведь годы прошли…
Снова говорят про нашу выставку, про меня, Люба сама не была, но что-то слыхала, достаточно, чтобы поддержать тему. Потом обсуждаем Любины новости, а они есть, и любопытные. Какой-то театрик в подвале на Юго-Западе, сотня мест, статус любительский, уровень профессиональный, уже пошли слухи, а скоро все заговорят — так вот Люба там директор, правда, пока оформлена сантехником при ЖЭКе, но это даже хорошо, ибо идет премия за безаварийность.
— Ты довольна? — требовательно спрашивает Анжелика.
Люба задумывается и отвечает:
— Понимаешь, это — театр.
Под горячую картошку пьется легко, мне тепло и уютно. Я с удовольствием смотрю в непроницаемые глаза скуластенькой женщины и пытаюсь поддразнивать:
— Я-то думал, мы уже во МХАТе.
Она невозмутимо возражает:
— Когда-нибудь окажусь и во МХАТе. Не уверена, что там мне будет лучше.
— У вас что, компания хорошая?
И опять она отвечает:
— Это — театр.
Я понимаю не до конца, и она снисходит до объяснения:
— Служба никуда не уйдет, все там будем. А это… — она ищет слово, — это как вторая молодость.
Я киваю — теперь дошло. И вдруг до меня доходит еще одно: что мы, собственно, не так уж и молоды, мне почти тридцать, девчонкам где-нибудь по двадцать шесть, зрелый, вполне зрелый возраст. Если вдруг и случится молодость, то — вторая… А еще мне жалко, что в первую молодость, в ту нашу общность и дружбу, не написал их портреты — одну Анжелику, и ту плохо. Если бы схватить тогда, и теперь, и потом… Вот так бы всю жизнь писать пять-шесть лиц, ну десяток, эпоху в движении, рождение и подъем поколения, а в конце победу или распад.
Вот и еще одним экспонатом пополнилась моя коллекция невоплощенного.
Люба идет ставить чай, я увязываюсь за ней. Зачем? Да так. Даже не поговорить, просто приятно на нее смотреть, на скуластенькое лицо, на спорые движения, на ореховые, с неуловимым лукавством глаза.
На кухне она закуривает и через плечо ловко пускает дым в форточку, бедром опираясь о подоконник. Я смотрю на нее и улыбаюсь просто от удовольствия.
Она спрашивает:
— У вас опять медовый месяц?
— Да нет, — говорю, — просто встретились. Почти друзья детства.
— Ну, ну, — то ли верит, то ли сомневается скуластенькая женщина.
Ее вопрос дает и мне право на аналогичный:
— А вы снова с Пашкой?
— Уже третий год.
— Ну и правильно, — киваю. Что правильно, не уточняю, ибо не знаю сам.
— Жизнь одна, — замечает Люба.
И я охотно соглашаюсь:
— Это точно.
Она молчит, и я начинаю как бы оправдываться:
— Ты не думай, я не из любопытства, просто я же ничего не знаю, не ляпнуть бы какую-нибудь глупость…
— Мы полтора года жили порознь, — говорит Люба и поднимает взгляд к форточке, вслед струйке дыма. — Знаешь, можно. Но я подумала: а зачем?
— Не разлюбила?
— Это все не те слова. Пашка — это я. Часть меня, как рука или нога. Конечно, можно ходить и на протезе. Но зачем?
Гасит сигарету и спокойно формулирует:
— Для меня Пашка незаменим.
— А как помирились?
— Очень просто. Проснулась как-то — солнышко, в окно зелень лезет. Ну, думаю, все, пойду к Пашке. И так сразу стало легко…
— Пришла и что сказала?
— А ничего говорить не пришлось. Взялись за руки, и чувствую — все, дома.
Она достает новую сигарету и, поколебавшись, сует назад, в пачку.
— Надо бросать.
— Надо, — говорю. — И худеть надо. Начинаешь терять форму.
— Через полгода похудею, — с усмешкой обещает она.
Потом мы пьем чай с роскошным Анжеликиным тортом, причем Анжелика берет крохотный кусочек без крема, Веруша ни в чем себе не отказывает, а Люба аккуратно намазывает крем на тонкий ломтик черного хлеба.
— Хорошо, что я не пошла на актерский, — комментирует Веруша Анжеликины ограничения.
А я вдруг думаю, что, может, и не так уж хорошо, что из Веруши с ее стремительным умом и грубой фактурой вполне вышла бы сильная неожиданная актриса, и режиссер вышел бы, вообще в театре она могла бы быть всем — мала ей, думаю, тесная площадка театрального критика.
— Ты где, — спрашиваю, — работаешь, все там же?
— Там я служу, — надменно отвечает Веруша, — а работаю дома.
— Она написала гениальную статью, — говорит Люба, — просто гениальную. Прочла бы, а?
— Не хочу.
— А я хочу, — невозмутимо возражает Люба.
— Ты хочешь, ты и читай.
Веруша нехотя достает из хозяйственной сумки пачку машинописных листков, протягивает Любе, но тут же отбирает назад и читает сама. Через минуту я понимаю почему: такие фразы приятно произносить вслух. А через пять минут понимаю, что Люба не преувеличила: Верушина статья действительно гениальна.
Она не о спектакле и даже не о конкретном театре, а о театре вообще. Чем он был вчера, как приспосабливается к эпохе сегодня, какую роль получит — или отвоюет — завтра. Верушина мысль густа и тяжела, она пригибает и давит, как толща воды на водолаза.
Я подавленно молчу. Люба говорит примерно то же, что мог бы сказать и я:
— Старуха, все-таки это расточительство: столько мыслей на одну статью.
— Ничего, — пренебрежительно успокаивает Веруша, — на вторую тоже хватит.
— Когда это напечатают? — с жаром произносит Анжелика.
Веруша пожимает плечами.
— Но ведь это же очень талантливо! Когда напечатают, а?
Веруша смотрит на нее почти с жалостью:
— А какая разница? Когда-нибудь напечатают. Никогда не напечатают только то, что не написано.
Я вспоминаю, что за весь вечер Пашка не сказал ни слова, становится неудобно, и я спрашиваю его про дела. Он неопределенно шевелит пальцами, а отвечает Люба: в общем, в порядке, работает, диссертацию закончил, одна статья напечатана, другая выйдет вот-вот, в мае обещают защиту. Она приносит сборник с Пашкиной статьей, предмет ее мне не понятен, а вникать не хочется.
Мы допиваем чай. Люба вдруг оживляется и требует танцев. Пашка налаживает проигрыватель, довольно шаткий — к головке примотан грузик в виде согнутого гвоздя.
Анжелика взрывается:
— Ребята, имейте совесть! Обо всех говорят, а обо мне ни слова. Я что, рыжая? Почему вы не говорите обо мне?
Искренне она возмущена или шутит, понять трудно.
— О тебе все газеты говорят, — суховато, но в общем дружелюбно отмахивается Веруша.
— Плевала я на газеты! Мне важно, что скажешь ты.
Похоже, искренне…
Веруша молчит.
— Тебе совсем не нравится, что я сейчас делаю?
— Как тебе сказать, — разводит руками Веруша.
— Правду!
— Мне кажется, ты была способна на большее, — отвечает Веруша, и в голосе ее скука.
— Способна или только была?
— Ну…
— Ты в меня веришь?
Веруша вдруг бросает холодно и зло:
— А почему я должна в тебя верить? Ты что, икона?
Анжелика теряется, беспомощно смотрит на Верушу и становится чем-то похожей на ту, какой раньше была. Теряюсь и я: не могу понять, почему Веруша так агрессивна к бывшей однокурснице и подруге, и почему Люба, так здорово умеющая одной репликой снимать напряженку, сейчас молчит и не вмешивается. А больше всего не могу понять себя самого: мне жаль Анжелику, но я не возмущен Верушиной резкостью, и ее злое лицо чем-то ближе мне, чем растерянные глаза Анжелики. Это тем более странно, что жалость во мне всегда была сильнее чувства справедливости, в детских драках я автоматически принимал сторону слабого, даже если он не прав. Так почему же теперь вот так?
Может, думаю, дело в том, что Анжелика слаба только в этой комнате? Ведь вне ее она состоявшаяся актриса, состоявшаяся и количеством ролей, и уровнем известности, и просто обликом. Неужели обычная зависть объединила сейчас ее подруг, меня и безмолвного Пашу, зависть непризнанных к признанной?
Пытаюсь честно заглянуть в себя — нет, ни оттенка, ни намека. Разного хотим, к разному идем. Чему завидовать?
Мы все молчим, хотя молчание становится неловким, даже неприличным. Хоть что-нибудь надо сказать. Ищу фразу, а фразы нет.
И тут вступает Паша. Первое высказывание за вечер — и в самый момент.
— Давайте выпьем, — говорит Паша и, чуть помедлив, добавляет: — За мир и дружбу.
Мы смеемся, мы пьем за мир и дружбу, не чокаясь, но все же пьем. Становится свободней и легче.
Я с благодарностью смотрю на Пашу и вдруг замечаю, что взгляд у него умный и снисходительный, будто в комнате этой он один — взрослый. Люба всегда говорила, что Пашка умный, и Анжелика говорила. Может, и вправду я в нем чего-то не углядел?
Я смотрю на Пашку и вижу, что он спокоен, ни напряжения, ни тревоги. Я живу хорошо, а Пашка, может, еще лучше. Мне непонятна его диссертация, но и его, похоже, не слишком колышут наши радости и хлопоты. Я покрываю холсты и картоны разноцветными пятнами, Веруша пишет статьи о театре, Анжелика заполняет своим лицом и телом сотни метров прозрачной пленки, ищем, творим, рискуем, а у Пашки работа, у Пашки зарплата, у Пашки весной защита. Мы трое одиночки, обмылки, обломки распавшегося, а у Пашки жена беременна, у Пашки семейный дом, хоть подержанная, но мебель, хоть разномастная, но посуда, груда тапочек у двери. Пашка — муж, его легко представить в скверике с коляской, за тесной партой на родительском собрании. За нескладной Пашкиной спиной детенышу будет легко и безопасно. Вот мы творим и рискуем, а для кого? Да, пожалуй, как раз для Пашки, не друг для друга же. Вот и сейчас спорим, тревожимся, скандалим, а он молчит, в игры наши не вступает, свой козырь бережет. Мы гости, Пашка хозяин…
Пить больше никому не хочется, но мы все же пьем, не для радости, а за идею, чтобы в бутылках не оставалось. Страсти утихли, разговор мирный, про однокурсников, что у кого и как. Ни оценок, ни сравнений, просто обмен информацией.
Девкам, может, и интересно, а мне скучно, однокурсники-то не мои. Впрочем, скучно слушать, а не смотреть. Скромный стол, три женских лица, одно мужское. И все — лица, и все — личности….
Стоп, думаю вдруг, а зачем это Анжелике? Зачем пришла? Зачем смиренно терпит Верушины закидоны? Конечно, в полемике актриса перед Верушей ноль, но ведь то в полемике, а не в скандале….
Я тихонько трогаю Любу за локоть:
— Молодцы, что собрались. Твоя идея?
Как я и думал, она качает головой:
— Анжелика. Нашла меня, а уж я позвонила Веруше.
— Молодцы, — снова говорю я.
Значит, Анжелика. И меня вот позвала. И с Верушей в общем-то не случайно вышло, сама к ней приставала. Да и сейчас опять пристает:
— Веруша, только не злись, ладно? Я же сама понимаю — не то. А вот что — не то? Где — не так?
Веруша до банальностей не опускается.
— Что такое искусство? Ну что? — спрашивает она и смотрит на нас.
Мы молчим, не знаем — ее ответа не знаем.
— Так вот, если хотите, искусство — это страх. В том числе, если не в первую очередь. А страх придумать нельзя, его можно испытывать или не испытывать. Ты форсируешь, — говорит она Анжелике, — ты рубаху рвешь, ты кожу рвешь, но что толку, если под кожей у тебя не кровь, а сало? Где твой страх?
— Почему именно страх? — озадачена Анжелика.
— Потому что все мы люди. И все за что-нибудь боимся. За истину, за искусство, за ребенка, за друга, за человечество, за кошку хотя бы. А ты? За что боишься ты?
— Ты имеешь в виду — боль? — переспрашивает Анжелика: она честно силится понять.
— Хорошо, — кривится Веруша, — если тебе так привычней, назови — боль.
Анжелика думает.
— Да, я боюсь, — говорит она наконец, — я действительно боюсь. Я боюсь не состояться.
Веруша вздыхает, во взгляде ее сразу и жалость, и скука.
— Нет, милая, — поправляет она, — проще: ты боишься не попасть в следующий фильм.
Анжелика хочет что-то сказать, даже рот раскрывает, но не говорит, только сглатывает.
И тут что-то во мне ломается. Удобная площадка любопытствующего зрителя уходит из-под ног. Я вспоминаю, что мужик, что пришел с женщиной, и женщина не чужая, а ее бьют.
— Стоп, Веруша, — говорю я, — погоди. Ты во всем права. Но есть нюанс: Анжелика уже пробилась! Мы с тобой нет, а она пробилась.
Веруша враждебно вскидывается:
— Для тебя это так важно?
— Мне, — говорю, — плевать. Но это факт. Она свой путь прошла. Пробилась.
Я говорю это почти зло, и Анжелика смотрит на меня с робостью и тревогой. Но Веруша уже поняла.
— Так, — произносит она, — ну и чем же ты собираешься за пробивание платить?
— Ничем.
— Тогда где противоречие?
— Так это, — говорю, — я думаю, что ничем. Продерусь сквозь кусты и клочка шерсти не оставлю. А как получится — посмотрим. Тогда будет больше оснований говорить об Анжелике.
Кинозвезда глядит то на Верушу, то на меня, даже взглядом боясь выразить собственное мнение, лишь пальцы ее благодарно касаются моего мизинца.
— Лично я, — говорит Веруша, и глаза ее леденеют, — лично я ногтя ломаного не отдам…
Анжелике пора, Веруша не торопится. Одеваемся, прощаемся, целуемся. Рукопожатия чуть крепче, поцелуи чуть нежней, чем необходимо: стыдно недавней горячности и резкости. Ведь все друг с другом чем-то да связаны, близкие люди, я и то не чужой, так стоило ли бить наотмашь, когда достаточно спокойно сказать? Оно, может, и не достаточно, но теперь, когда все обговорено и понятно, кажется, что достаточно, и Веруша целует Анжелику почти виновато и еще щелкает по носу снизу вверх, как бы ободряя. Потом она поворачивается ко мне, и я еще глубже окунаю нос в пепельницу.
На улице темно и светло. Луны нет, звезд мало, зато снегу присыпало, и под фонарями он тускло зеркалит, как перекрахмаленная скатерть.
Анжелика опаздывает, мы срезаем углы дворами и переулками. Я люблю быстро ходить, всегда хожу быстро, но сейчас с радостью сбавил бы шаг. Не для того, чтобы растянуть удовольствие от прогулки с красивой знаменитостью. Просто что-то еще не понято, и с каждым шагом все короче путь вместе и все меньше шансов непонятое понять.
Анжелика поскальзывается, я ловлю ее и удерживаю на ногах:
— Чего бежишь? В крайнем случае такси поймаем.
— Тут близко, — отмахивается она, — так редко удается пешком…
И опять мы мчимся по переулку.
— Как здорово, что мы с тобой встретились, — говорит Анжелика, — без тебя меня бы там просто убили.
— Веруша тебя любит, — успокаиваю я без особой уверенности.
— Какая разница! — хладнокровно отвечает Анжелика. — Любит, ненавидит. Важно, что она права. По крайней мере, наполовину. Кончатся съемки, будет о чем подумать. Самое время взяться за себя. Пока не поздно.
Я молчу — не соглашаюсь и не возражаю. Я знаю, что съемки не кончатся никогда. Идет карта — надо играть, а она идет, и чем больше идет, тем больше играешь, а чем больше играешь, тем больше идет. Всем нам идет карта — и Анжелике, и Веруше, и Любе с Пашкой, и мне — всем идет, и все играем, вот только в разные игры…
На перекрестке, не отличающемся от других, Анжелика останавливается.
— Спасибо, — говорит она, — дальше не надо.
Она забрасывает руки мне на плечи, мы целуемся и стоим, обнявшись. Даже не обнявшись, а вцепившись и вжавшись друг в друга, и не губы слились с губами, а щека со щекой. Зачем? А это прошлое наше вопит, и стонет, и старается удержать то, чего давно уже нет.
Наконец щека Анжелики отрывается от моей, актриса легонько, быстрым касанием целует меня в губы и идет, почти бежит в глубь переулка, все дальше от меня, от моей жизни, от всего, что было, от вечерней июльской набережной, от песни, долетающей сквозь листву парка, от рослой девочки в коротенькой белой юбке. Бежит, бежит…
Если встать на мою собаку…
Я не сразу понял, что именно мне не нравится. В общем-то все было, как всегда: пятница, конец рабочего дня, скучные двери конторы, откуда нас, наверное, скоро выгонят — кому нужна третьеразрядная архитектурная мастерская, когда никто ничего не строит, а если и строит, то не по нашим проектам. Потом — пиво в «стоячке» с мужиками, часовой треп ни о чем. Потом — «Вечерка», купленная в киоске, давка в автобусе, давка в метро. Теперь вот предстояла давка в трамвае. Домой не тянуло, но и, кроме дома, деваться было вроде бы некуда. В субботу и воскресенье не предстояло ничего. Старый черно-белый телек надоел до полной обрыдлости, на новый денег не предвиделось, да и не пенсионер все же, чтобы вечер за вечером убаюкивать себя чужими странами, женщинами и сплетнями. В тридцать пять надо жить, а не глядеть по ящику, как живут другие. Надо — вот только… Съисть-то он съисть, да хто ж ему дасть?
Короче, пятница как пятница. И непросто было определить, откуда взялось и почему нарастает ощущение неудобства.
На остановке народу было много, но не толпа — видимо, трамвай недавно отошел. В стороне светилась коммерческая стекляшка. Вяло и словно бы позевывая, я направился к ней. Сигареты, водка, прозрачное бабье белье, толстая и красивая бутылка коньяка ценой как раз в мою месячную зарплату… Скользнув взглядом по убогому шику, я обернулся и постарался вправду зевнуть. А парень, интересовавшийся той же бутылкой, что и я, чуть отодвинулся к жестянкам датского пива.
Неудобство локализовалось. Он, этот парень. Именно он. Глупо, но иных резонов для беспокойства у меня не было.
Парень был помоложе меня, лет, наверное, тридцати. Первое, что замечалось, — кепочка, серая, в серую же, только потемней, клетку. Куртка под импорт, какой-нибудь подольский кооператив, такие называют спортивными, хотя носит их кто попало. Все остальное было так же безлико, как и у меня, как у любого, кто живет на зарплату. Парень как парень, таких в Москве миллион.
Я его не знал, точно не знал, но вот кепочка в клетку почему-то примелькалась. Уже видел ее, по крайней мере сегодня — и в автобусе видел, и в метро, и, похоже, в перерыв, когда ходили с Володькой в «Гастроном» за чаем. Да, кажется, видел — мы стояли в бакалею, а он у молочного прилавка.
Трамвая все не было. Я, будто отчаявшись дождаться, быстро пошел к троллейбусной остановке. И тут же, словно мы резинкой связаны, дернулся малый в кепочке — видно, и ему пригорело изменить надоевший маршрут. Я вернулся к рельсам — и серая кепочка, описав ту же дугу, двинулась к старому, но надежному виду городского транспорта. Явно и даже не слишком прячась, парень следил за мной. В общем-то это был бред. Следить за мной? Анекдот. Кстати, похожий анекдот как раз и существует, я его очень люблю. Мимо таверны в каком-то Техасе проезжает на лошади всадник — весь в черном, с ружьем за спиной. Приезжий спрашивает: «Кто это?» Хозяин равнодушно смотрит вслед всаднику: «Вон тот? Это неуловимый Джо». — «А что же его никто не ловит?» — «А кому он на хрен нужен?» Так вот неуловимый Джо — это я.
Тридцать пять лет, ни денег, ни карьеры, ни перспектив. Приятели есть, даже друзей парочка, во всяком случае, если и пью иногда, то не один. Завистников не имею, поскольку завидовать нечему. Враги? И этого не удостоился: для вражды нужен хоть какой-нибудь повод. Что есть, так это квартира, четырнадцать метров с сидячей ванной — досталась в качестве компенсации после семейного кораблекрушения, когда родители разбежались по своим новым жизням, швырнув мне, как спасательный плотик, это пристанище в соседнем дворе.
Месть? А за что мне мстить? Я человек мирный, зла никому не желаю, а если бы и пожелал… Ни для добра, ни для зла никаких особых возможностей у меня не имеется.
Однако мой преследователь в серой кепочке был тут, рядом, вот он, не сон и не миф: расположился чуть поодаль, смотрел как бы и не на меня, но краем глаза и на меня. И — ни разу не отвернулся. Как это у них называется? Вести? Пасти?
У входа в метро стоял милиционер. Подойти? Но что я скажу? Впрочем…
Я подошел к милиционеру и, кивнув в сторону остановки, спросил, ходит трамвай или, может, отменили. Постовой тоже глянул в сторону остановки, чего мне и надо было: пусть этот, в кепке, думает, что разговор о нем. Милицией нынче и детей не напугаешь, это так — но ведь и не помешает.
Парень в кепочке, однако, исчез, затаился за спинами. Ну и хрен с ним. Пусть тоже тревожится, не мне одному.
Постовой сказал, что трамвай ходит, вроде никаких ЧП. Я возразил, что вот уже минут двадцать стою, а его все нет, странновато. Представитель порядка объяснил, что всяко бывает. При этом мы всё глядели в сторону остановки, будто кого высматривали. Понт был дешевый, но я почувствовал себя уверенней. И когда трамвай все же появился, бросился к нему решительно, не озираясь. Чего бояться-то?
В трамвае было тесно. И все же минуты через полторы я опять заметил серую кепку. Малый протискивался сквозь толчею прямо ко мне. Встал у плеча, сбоку, пробормотав вполне дружественно то ли сам себе, то ли даже мне:
— Ну, толпень…
Так мы и стояли все мои четыре остановки.
А, может, просто педераст, пришло мне в голову совсем уж неожиданное объяснение. Да нет, вряд ли. Тогда чего бы стал выслеживать полдня?
Выбор у меня был маленький: сойти на своей остановке или пилить дальше. Но дальше — куда? До конечной? А там назад? И что? Да ничего, разве что станет поздней да темней.
Кстати, темновато было уже и сейчас. Не ночь, но близко к тому.
На остановке вышло человек десять. Малый словно приклеился ко мне, уже и не делал вид, что пути совпали случайно. Я шел к дому, больше было некуда.
Чего ему надо?
Людской ручеек истончился и пропал вовсе, теперь нас шло двое, я и этот позади. Я остановился, пропуская его вперед. Но и он остановился. До дома оставалось метров двести, вести его туда я вовсе не хотел: и темный двор, и темный подъезд не лучшие места для выяснения отношений.
Теперь мы стояли лицом к лицу, он меня разглядывал, я его. Ростом он был с меня, не выше, просто покрепче и половчей, и хоть мышцы его пока что не были напряжены, чувствовалось, что в своем теле он уверен. Куда больше, чем я в своем.
— Закурить нету? — спросил малый. Фраза была уж такая банальная! Но — видно, не очень и старался.
— Не курю, — сказал я дружелюбно и развел руками. Я решил так и держаться — дружелюбно, будто ничего особого не происходило, просто потолкались в одном трамвае.
Меня вдруг осенило: я понял, почему он за мной таскался. Ни почему! Просто принял за другого. Кто-то был нужен, но не я. То ли похож, то ли не того показали.
— Здоровее будешь, — похвалил малый, после чего произнес совсем бессмысленную фразу: — Ну чего, читаем потихоньку?
— Что читаем? — не понял я.
— Больно много любопытных развелось, — сказал малый.
— Ты меня с кем-то путаешь, — усмехнулся я, — я, может, и любопытный, но чужого ничего не читаю.
— Все разбогатеть хотят, — вновь обобщил мой собеседник.
— Ну я-то не разбогатею.
— Вот и я так думаю, — согласился он, причем в голосе была не резкая, но уж очень уверенная угроза.
— Послушай, — сказал я, — ну чего ты за мной следишь? Тебе другой нужен.
— Какой другой?
— Я-то откуда знаю?
— Другой, значит, да? А ты ни при чем?
— А при чем? Что я, украл, ограбил?
— Не грабил, значит, да?
Разговор шел тупой, дебильный, смысла в нем не было никакого. Может, этот малый чего и хотел, но я-то точно не хотел от него ничего. Однако он пренебрежительно бросал свои бессмысленные фразы, а я отвечал на каждую. На каждую его фразу отвечал.
Причина была простая: он чувствовал свою силу, а я — свою слабость. Я не знал, нож у него в кармане, или пистолет, или просто он боксер, каратист, самбист, или за углом дома таится еще кто-то, придающий ему уверенность, — ничего такого я не знал. Но я кожей понимал, что в драке, если начнется, мне рассчитывать не на что. Поэтому он мог хамить, а мне приходилось быть вежливым.
И еще имелась причина: у него была какая-то цель, он знал, чего хотел, а я хотел только одного — чтобы он от меня отвязался.
— А я вообще никогда не грабил, — сказал я, словно оправдываясь. Но за что? Я был как зритель, которого нахальный клоун вытащил за руку на манеж и дурачит на виду у публики.
— Никогда, значит? — с издевкой усомнился он.
— Слушай, ты меня с кем-то спутал, — опять сказал я, запоздало пытаясь сохранить хоть остатки достоинства.
— У нас не путают, — лениво возразил он. И вдруг быстрым умелым движением вскинув руку, шлепнул меня по щеке. Не сильно, нет. Просто зафиксировал разницу в положении.
Вот это он зря сделал. Очень зря. Я же его ничем не обидел.
— Ты чего?! — вскрикнул я. Фраза вышла глупая, но другой на язык не подвернулось.
— Балуюсь, — сказал он и опять намахнулся — не ударить, а так, попугать. И хоть я это понял, голова рефлекторно дернулась.
В этот момент я уже мало чего соображал. Нож у него или пистолет, — разницы не было. Мозг мой работал стремительно, но лишь в одном направлении, остальное значения не имело.
Малый снова намахнулся, ловко, умело, спортивно — и вновь голова моя дернулась.
— Т-ты ч-чего?
Он так — и я так. Хочет, чтобы боялся, — буду бояться.
Я даже заикался от страха. И в глазах был ужас. И руки тряслись.
— Читаем, значит? — опять задал он свой дурацкий вопрос, но теперь в голосе была злоба, и я почувствовал, что сейчас ударит по-настоящему. Однако я не отшатнулся — наоборот, вытянул шею вперед, уставясь ему за спину, даже рот разинул от удивления. Он тоже обернулся. Тут я ему и врезал.
Я дрался в своей жизни не так уж много, в основном в школьные времена, и большим специалистом по этой части не был. Но один раз попасть носком ботинка в коленную чашечку — на это меня хватило. Малый вскрикнул, согнулся от боли, и я со всех сил двинул ему сбоку в скулу. Его повело в сторону, он бы, может, и так упал, а я еще помог вторым ударом.
Это ему было за пощечину.
Но тут злость моя прошла, а страх вернулся, и я что было сил рванул к дому. Я не знал, быстро он поднимется или нет. А ведь мне предстояло не только добраться до квартиры, но и открыть дверь, как-никак два замка, если руки не дрожат, и то небось минута.
Мой дом, кирпичный, восьмиэтажный, был построен почти замкнутым квадратом, лишь один просвет на все про все — и для людей, и для машин. В этом просвете я чуть притормозил и оглянулся. Малый медленно приподнимался. Может, он и видел, куда я бегу, но я юркнул в подъезд прежде, чем он показался во дворе.
Лифт был внизу. Я нажал кнопку своего шестого. Дверь отворил быстро и так же быстро закрыл изнутри, на оба замка. Внизу, в подъезде, не хлопнуло и не скрипнуло, вряд ли этот подонок заметил, куда я нырнул.
Я прошел в комнату, машинально зажег свет и тут же погасил. Успел он разглядеть, какое окно мигнуло?
Из-за шторки я глянул вниз. Никого. Вроде никого. Может, прячется за машинами, за трансформаторной будкой, за мусорными баками?
Бред…
Хотелось есть. Но кухня тоже выходила во двор. Впрочем, света снаружи, из чужих окон, хватило, чтобы вскипятить чайник, нарезать хлеб и достать из холодильника вареную колбасу, самую хреновую, зато и самую дешевую из всех, что лежат в нашем магазине.
Поел. Снова глянул в окно.
Да нет, вроде пусто.
Вообще-то дурака свалял. Как первоклассник — сразу к дому. Кто мешал рвануть в следующий двор, там проходным подъездом в переулок, обежать кругом…
А, ладно. Чего я себе морочу голову. Ну пристал какой-то ублюдок. Может, просто искал приключений, есть такие артисты, для хохмы могут человека убить, развлекаются за чужой счет. В институте в соседней группе была такая мразь — с год занимался карате, а потом даже на дискотеку ходил не потанцевать, а самоутвердиться. Небось и этот из таких. В другой раз будет поосторожней.
Прежде чем ложиться, я опять глянул в окно — сторожась, из-за занавески. Да нет, пусто. Никого.
Я лег. Сна, к сожалению, не было ни в одном глазу. Зажег лампу над кроватью и читал часа полтора. О происшедшем больше не думал. Мало ли психов на свете?
Разбудил меня телефонный звонок. Я нащупал трубку:
— Алло!
Молчание.
— Говорите!
Молчание.
— Перезвоните, не слышно.
Молчание.
Я положил трубку, зажег лампу. Четверть седьмого. Рановато. Так рано мне не звонят.
Полежал минут пятнадцать — никто не перезванивал. Может, номером ошиблись? Ну и черт с ними. Высплюсь, а уж там покумекаю, что к чему.
Снова я проснулся около десяти, и опять от звонка. И опять трубка молчала. Это мне, надо сказать, уже всерьез не понравилось.
Похоже, кто-то проверял, дома я или нет.
Я поставил кофе, сделал яичницу, к сожалению, из одного яйца, больше не было. Хлеб зачерствел, но в черством хлебе есть свой кайф, как, впрочем, в любой еде.
Вымыл посуду, кинул в сушку. И, словно вспомнив что-то, подошел к окну.
Во дворе было довольно людно. Две бабуси с колясками сидели на лавочке у трансформаторной будки. Девочка лет десяти бежала через двор. Гражданин в шляпе вышел из подъезда напротив и хорошим мужским шагом двинулся к выходу на улицу, а оттуда, навстречу ему, прошла женщина с авоськой.
Все.
Я успокоился. Ну, звонят. Не думать же об этом всю оставшуюся жизнь. Бог даст, само прояснится.
Часов в двенадцать был еще звонок. Молчание.
Может, телефон барахлит?
Я звякнул Антону, попросил перезвонить. Нет, все работало — и он меня слышал, и я его. Никаких проблем. Антон спросил, что собираюсь делать. Сказал, сбегаю в магазин, а дальше планов нет. Договорились потом перезвониться. Найдется третий, сгоняем в преферанс.
Я уже накинул куртку и взял авоську, когда вновь позвонили. Поднял трубку — молчание. За окном был день, суббота, людные улицы. Страха я не ощущал, одно раздражение. Я спросил резко:
— Чего надо?
Неожиданно трубка ответила женским голосом:
— Мужичок, а мужичок…
От сердца отлегло. Всего-то и делов. А я уж напридумывал…
— Ну чего? — спросил я вполне дружелюбно.
— Трахнуться хочешь? — прозвучало из трубки. И — смех, глуховатый, как бы в сторону.
— Смотря с кем, — ответил я, не слишком удивившись.
— Да хоть со мной.
Голос мне знаком не был.
— А ты какая?
— Горбатая, — сказала женщина и вновь засмеялась.
— Тогда приходи, — позвал я весело, — как раз в моем вкусе.
А не удивился я вот почему. В нашей конторе подобные разговоры шли постоянно и не означали ничего — так, гимнастика языка, свидетельство непринужденности атмосферы и сближения полов. Тексты выдавались и покруче, матерная речь прочно вошла в обиходную. Мне этот взлет эмансипации не нравился, но кто я такой, чтобы учить других жить?
— Тебя как звать-то? — спросили оттуда.
— Вася, — это веселое имя первым пришло на ум, — а ты кто?
— Я-то? — Она помедлила и засмеялась вновь — ох, и смешливая девушка. — Дуня.
Так мы потрепались еще немного: она сказала, чтобы расстилал кровать, а я — чтобы не надевала трусиков. Откуда она узнала мой телефон, спрашивать не стал, все равно соврет. Потом она сказала то ли мне, то ли еще кому-то:
— Ты смотри, выходит, человек хороший.
Я подтвердил, что да, хороший.
И вдруг она проговорила совсем другим тоном, серьезно:
— А хороший, так сиди сегодня дома.
— В каком смысле? — не понял я.
— На улицу не выходи.
— Почему?
— Целей будешь. Не выходи на улицу.
Опять бред. Полный бред. Но в незнакомом женском голосе было вполне серьезное сочувствие.
— Слушай, — спросил я не сразу, — а в чем дело? А?
— В чем, в чем… Это тебе знать, в чем.
— Да не знаю я ничего!
— Так уж и не знаешь?
— Ну честное слово.
Мы ни слова не сказали о сути, но я чувствовал, что говорим об одном и том же.
— Чего ты натворил?
— Да ничего я не творил! Никому никакого зла не сделал.
— Так не бывает, — сказала она и вздохнула. — В общем, пока что сиди дома и не высовывайся. Понял?
— Понял, — ответил я.
— Вот и сиди.
Почему я сразу ей поверил? Не знаю. Наверное, сработали не столько слова, сколько сочувственная интонация.
— У меня даже хлеба нет, — сказал я растерянно.
— Дом большой?
— Мой, что ли?
— Ну не мой же, — с досадой бросила Дуня или как ее там.
— Нормальный. Восемь этажей.
— Вот и попроси, пусть жрачку принесут.
— Кто принесет?
— Ну не я же.
— И долго мне сидеть?
— Как получится.
На этой тюремной фразе кончать разговор не хотелось, и я вернулся к ее первым дурашливым фразам:
— А трахаться когда же будем?
— Останешься живой, успеем, — сказала она.
— Слушай, а лет тебе сколько?
— Сто, — сказала она и засмеялась. Очень веселая попалась собеседница.
— Нет, правда?
— Ну, двадцать. А тебе?
— Старый уже. Тридцать пять.
— В самом соку, — хмыкнула она.
— А ты вообще-то…
…Гудки, гудки…
Кто она? Что она?
Вновь подошел к окну, глянул. Нет, все спокойно.
Подумав, однако же залез на подоконник, как сумел, высунулся в форточку. И опять зазнобило.
Вот оно! На кирпичной приступке у соседнего подъезда сидел с газеткой крупный молодой мужик. Лицом, между прочим, к моему подъезду. Сверху мне были видны только широкие массивные плечи, объемистые ноги и кепка. Серая. Похоже, в клетку.
Я пригляделся. Ну да, в клетку.
Мужик был не тот, которому я вчера двинул в колено, покрупней, сильно покрупней.
Форма, что ли, у них такая? И у кого — у них?
Я слез с подоконника, сел на лежанку и сидел тупо минут пятнадцать. Это был полный бред, но за время со вчерашнего вечера я к нему привык и воспринимал как данность. Следят. Почему-то следят. И некогда разбираться, кто следит и почему — главное, просто уцелеть в этом абсурде.
Я снова залез на подоконник. Тот, на приступочке, даже позы не сменил. Я смотрел сверху на его кепочку. Чего ему надо? Убить меня? Но — за что?
Нет, искать логику в абсурде было бесполезно.
Я опять подумал про милицию. Телефон под рукой, ноль-два, а там скажут, к кому конкретно обратиться. Но — что я скажу? Следят? А где доказательства? Может, человек просто сидит, газетку читает. Ну подойдут, спросят, проверят документы. Не предъявит же он членский билет какой-нибудь там мафии! А за серую кепочку не посадят, это точно. Так что они уедут, а он останется. Или придет другой, уже не в кепочке. Не поставят же у подъезда троих ментов охранять мое спокойствие…
Внизу, в нашем подъезде, хлопнула дверь, кто-то вышел. Потом стало видно — мужчина, в плаще, с портфелем. Малый в кепочке прошел за ним десяток быстрых шагов и, догнав, что-то сказал. Тот остановился, достал зажигалку. Мой сторож не спеша закурил и вернулся к себе на приступочку.
Тут моя мысль опять заработала молниеносно.
Дверь! Прежде всего дверь. Вроде крепкая, дощатая, года два назад еще укрепили, ходили по дому такие умельцы, загоняли в стену железные штыри и брали за это полсотни, по нынешним временам даром. Все укрепили, и я укрепил. Слава богу!
Я, конечно, понимал, что эта броня ни от чего не предохранит, понимал, что те, кто захочет дверь выломать, сделают это без труда и ничем от них не защитишься. Но я все же положил на ящик для обуви топорик для рубки мяса и два длинных кухонных ножа. Автомат бы сюда! Да где там — автоматы у нас только для власти да для мафии…
Теперь надо было кому-то звонить насчет еды. Ксанке? Бабу втягивать не хотелось, тем более такую трусливую. Дюшки нет в Москве, да и тоже баба.
Кому?
Выбор в общем-то был небольшой: Антоха и Федулкин. Антон был умней и надежней, зато Федулкин авантюрист: чем нелепей ситуация, тем для него больший кайф. Я позвонил Федулкину, но телефон не ответил. Перезвонил — опять молчок. Тогда набрал Антона.
Я сразу же спросил:
— Можешь забежать, не откладывая?
— А что случилось?
— Потом объясню.
— Но мы же на вечер договаривались?
— Все изменилось. Так можешь?
— Если надо, могу.
— Купи по дороге хлеба и вообще побольше жратвы.
— Гости, что ли?
— Нет.
— А тогда почему…
— Потом объясню. Теперь слушай внимательно. Лифтом поднимись на восьмой этаж, оттуда тихонько спустишься. Не звони, просто поскребись, я буду ждать. Если кто спросит куда, скажи, в сто двенадцатую, к Ревуновым.
— Старик, что за тайны? — возмутился Антон.
— Потом объясню. Только запомни — это все очень серьезно. Никто не должен видеть, что ты ко мне. Если кто сунется с тобой в лифт, лучше не езжай, сделай вид, что передумал. А потом перезвони мне.
— В подполье ушел? — раздраженно поинтересовался он.
— Потом объясню.
Я ждал Антоху часа полтора. И почти все это время провел у окна, за занавеской. Мне повезло: я увидел, как здоровенный малый в серой кепочке идет со двора, к проходу между домами, помахивая газеткой.
Неужели конец наваждению?
Да нет, рано обрадовался. Из-за трансформаторной будки появился высокий парень в толстом свитере и пошел навстречу. Они не остановились, похоже, и словом не перемолвились, но я увидел, как газета перешла из ладони в ладонь, будто эстафетная палочка. Так что читателей в нашем дворе не убыло.
С Антохой вышло удачно. При двух авоськах он смотрелся типичным отцом семейства, безропотным добытчиком, тратящим полсубботы на магазины, пока жена, умотанная за неделю, стирает, варит или купает детей. Он сработал точно по инструкции: я слышал, как дверца лифта хлопнула на последнем этаже, а вот ко мне он прокрался, как босой индеец.
Я сразу запер дверь на оба замка. Антоха надел тапочки, прошел за мной на кухню и спросил:
— Ты хоть объясни, кто я — шпион или контрразведчик?
— Старик, сам бы смеялся, но…
Видно, рожа у меня была выразительная. Антон сел к окну на табуретку.
— Ну давай.
Я стал рассказывать, не пропуская подробностей, поскольку не знал, какая из них важна. По сути, рассказывал не только Антону, но и самому себе, запинаясь, останавливаясь, пытаясь осмыслить происходящее и хоть приблизительно понять, что за ним стоит. Ведь должно что-то стоять!
Увы, ничего не прояснилось.
Впрочем, на себя я не слишком надеялся, больше на Антоху.
Антона я знал со школы, да и потом наша компания долго держалась, по крайней мере на все праздники киряли коллективом. Дальше, однако, начались женитьбы, дети, у кого-то пошла карьера — школьное братство подтаивало с разных сторон, пока однажды мы с Антохой не обнаружили, что в трезвой будничной реальности у нас обоих только и есть, что мы оба, а больше никого. Приятели были, появлялись и новые, а вот друзей так и не прибыло, разве что Федулкин, но частично и с оговорками. У Антона была хорошая голова, он хвастался, что в отличие от меня мыслит логически, и охотно давал советы, почти всегда хорошие. Окончил он автодорожный, но зарабатывал репетиторством в кооперативе и утверждал, что эта работа — творческая.
— Ну? — спросил я.
Антоха задумался, но ненадолго.
— Давай логически. Сперва только факты. Итак, за тобой следят, это факт. Знают твой телефон — почти факт. Какая-то баба тебе сочувствует… впрочем, это уже не факт, это предположение.
— А зачем иначе звонила? — возразил я, мне было жаль расставаться с таинственной доброхоткой.
— Ну, допустим, тебя решили зачем-то запугать. Тогда ее звонок деталь плана. Ведь что она практически сказала? Сиди дома, а то убьют.
— Но зачем меня запугивать?
Антон пожал плечами:
— Откуда я знаю? Я ведь сразу сказал — пока только предположение. Итак, следят… Стоп! Она ведь спросила, как тебя зовут, да?
— Спросила.
— Странно. Следят, знают, где живешь, знают телефон — а имя нет? Пожалуй, она и в самом деле не с ними.
— А не могли специально, для правдоподобия? Если, как ты сказал, хотят запугать.
Он задумался буквально на секунду:
— Слишком заковыристо. К чему им эти сложности? Ну назови она по имени, и что? Меньше испугался бы? Наоборот, больше. Что, не так?
Я согласился — так.
— Того, в кепке, в первый раз увидел вчера?
Я кивнул.
— Точно?
— Абсолютно.
— Значит, в какой-то из последних дней что-то произошло… Ладно, давай-ка сперва поищем причину. Тебя преследуют, это факт. У преследования должна быть причина… Как думаешь, этот топтун еще там?
Я полез на подоконник. Новый топтун, долговязый, в свитере, обретался на той же приступочке с той же газетой, впрочем, газета могла быть и не та.
— Сидит, — проинформировал я.
Антоха кивнул рассеянно — он был здорово озадачен.
— Преследовать можно ради денег, — сказал он, — но с тобой это отпадает. Политика?
— Это уж точно нет.
— КГБ?
— На черта я им сдался?
— Вот и я так думаю, — согласился Антон. — Хотят ограбить?
Эту версию мы даже не стали обсуждать, грабить меня и нищий побрезгует.
— Остаются бабы, — заключил Антон, — тут и надо искать. Между прочим, вполне достойный повод и для слежки, и для мести. Как у тебя с бабами в последнее время?
— Как всегда.
— Новые были?
— Увы. Уже месяца четыре те же самые.
— Замужние?
— Их всего-то три, и все холостячки. Ксанку знаешь, остальные от случая к случаю.
— Версия номер один, — сказал Антоха и начертил пальцем в воздухе единицу, — ревность. Представь: у той же Ксанки возник хахаль. Скажем, мафиозо. Ну и решил на всякий случай за ней последить. А потом и за тобой. Можешь исключить?
— В принципе, конечно, не могу…
В принципе я не мог — как, впрочем, не мог и представить трусиху Ксанку роковой любовью романтического мафиозо. Хотя, с другой стороны, в мафию заносит всяких.
— Ну допустим, — принял я, — одна версия. А вторая?
— Вторая? — Он пошевелил губами. — Вторая, кстати, вполне реальная — ты кому-то сильно мешаешь. И тебя хотят нейтрализовать. Скажем, запугать. Чтобы не совался, куда не следует.
— А куда я суюсь?
— Куда-нибудь ведь суешься. Все куда-нибудь суются.
Его логическое мышление мне порядком надоело, и я возразил:
— Все суются, а я не суюсь.
— На митинги таскался?
— Был тогда, на антифашистском. Кстати, вместе с тобой.
— Вот видишь!
— Там полмиллиона было.
Обычно Антон в спорах был упрям до занудливости, но тут неожиданно легко уступил:
— Ты прав — все возможно и все не убедительно. Обе версии висят. Значит, есть третья.
В голосе его было скрытое торжество, и я спросил с надеждой:
— Какая?
Антон усмехнулся и сказал:
— Старик, это Федулкин.
— Федулкин? — изумился я.
— Именно, — подтвердил он.
— Почему ты так считаешь?
Это я не спорил, а просто спросил.
— А кто еще? — снова усмехнулся Антоха.
Я задумался. Аргумент был сильный. Чушь, бессмыслица, бред — это была типичная манера Федулкина. Не факт, что все затеял он, но вполне мог быть и он.
Мне Федулкин был скорее приятель, а Антохе почти друг. Когда-то они вместе поступили в институт. Антон его закончил, а Федулкина выгнали. Его и дальше выгоняли отовсюду, куда бы ни проникал, иногда через три дня, иногда через год, а дольше он не держался. Федулкин был романтик, авантюрист, искатель истины, борец за… Впрочем, мне трудно найти идею, за которую бы он хоть неделю, да не боролся. Он был женат раза четыре, а может, семь, а может, двенадцать — во всяком случае, не меньше дюжины дам в разное время претендовали на его надежную мужскую руку. Федулкин вовсе не был бабником, просто он с готовностью женился на всякой, которая настаивала. Благотворительная идея сделать из Федулкина человека быстро себя изживала, и если новая супруга успевала унести ноги до третьего аборта, можно было считать, что ей здорово повезло. При этом Федулкин был малый добрый и щедрый, всегда готовый отдать последнее. К сожалению, у него, как правило, не было последнего, как и предпоследнего, как и первого, — в его панельной конуре валялось по углам лишь совершенно бросовое имущество, забытое в панике удиравшими женами. Спал он на тюфяке, которым побрезговал бы породистый пес, ел в гостях, гладить штаны считал преступной тратой единственной жизни, полы в промежутках между женами не подметались. В силу всех этих причин считалось, что Федулкин человек самобытный и талантливый. Отчасти, наверное, так оно и было. Но, к сожалению, сам он полагал, что его талант имеет совершенно конкретную направленность, а именно литературную — и вот это было сущим бедствием для знакомых. Единственной собственной вещью Федулкина была пишущая машинка, на которой он сочинял и размножал то, что называл когда новеллой, когда триллером, когда сразу бестселлером. Пачки машинописи он растаскивал по знакомым, а потом в самый неподходящий момент являлся и требовал похвал. Таскался он и по журналам, но завистники-редакторы не хотели печатать. Писал он все: романы, статьи, пьесы, все, кроме стихов, — но когда я в период брака приводил в его берлогу левых девочек, то аттестовывал хозяина именно как поэта, чтобы федулкинский бардак сошел за поэтический беспорядок.
И еще была у нашего приятеля тревожная черта: он полагал себя человеком остроумным и время от времени устраивал сложные, тупые, порой опасные розыгрыши, которые важно называл хепенингами.
Словом, скучно с Федулкиным не было…
— А ведь в самом деле, — сказал я с надеждой. Имя Федулкина объясняло все.
Антон вытянул палец:
— Помнишь ту его теорию?
— Какую? — наморщил я лоб, ибо теорий у Федулкина хватало.
— Насчет искусства, что все должно быть документально? Ну точно по жизни. А если такой жизни, как надо, нет, надо ее сперва сконструировать, а уж потом изобразить с присущим ему талантом… Ну помнишь, в Мневниках, когда портвейн хлестали?
Я пожал плечами. Тогда в Мневниках была симпатичная вечеринка, мне понравилась девочка, к сожалению, ничего не вышло — но весь вечер я был слишком занят, чтобы вникать в теории Федулкина.
— Короче, он так говорил. А все, что сейчас происходит, типичная конструкция. Напугать и посмотреть, как будешь реагировать.
— И телефонная девка из конструкции?
Тут он ухмыльнулся:
— Боюсь, что да.
— Вот это жаль.
Теперь, когда что-то было ясно, ко мне вернулось ощущение жизни во всей ее полноте.
— Он давно у тебя был?
— С неделю. Роман оставил.
— Роман?
— Может, повесть, я не заглядывал. Хотя придется. Ему ведь, гаду, мало, что похвалят, ему еще надо изложить, что особо потрясло.
— У меня тоже лежит нетленное творение, — вздохнул Антоха, — в такой красивой папке… Я уж думал нетленку похвалить, а папку конфисковать.
— Похвали повыразительней, он про папку и не вспомнит.
Мы посмеялись. Я взял федулкинскую рукопись — она так и лежала, где он положил, в кухне на подоконнике — откинул оберточный лист. Заглавие было — «Хроника эксперимента». Я прочел вслух начальные строчки:
— «Они говорят, надо изучать жизнь, и тогда, мол, будешь хорошо писать. Какая пошлая дурость! Как можно жизнь изучать, разве это математика? Надо не изучать, а ЖИТЬ! Именно ЖИТЬ! Только то, что ты испытал на себе, ты сумеешь талантливо, то есть правдиво и красочно, описать. Да, да, да! И если ты пишешь роман из жизни убийц, ты обязан убивать, а если из жизни насильников, ты обязан насиловать. Разумеется, я говорю фигурально, ибо „гений и злодейство — две вещи несовместные“. Но надо создавать ситуации, близкие к твоей теме и идее, действовать по принципу хепенинга — тогда и твое творчество будет наполнено живым дыханием жизни…»
— Стилист! — сказал Антон.
Я прочел еще абзац:
— «Данная рукопись всего лишь заготовка. Но я буду писать свою хронику в полную мощь, как будто эта книга у меня последняя, я буду стараться зафиксировать не только свои действия и действия других людей, но и переживания, мысли и чувства, ибо они тоже составляют жизнь, и только то, что пережито, способно волновать миллионы людей».
— На тысячи не согласен, — сказал Антоха, — замах-то, а?
— Классик, — согласился я и отложил рукопись. Он взял у меня федулкинское творение и начал листать, хмыкая и покачивая головой.
— Полная мощь? — спросил я.
— А как же! Сюжет — не оторвешься.
— Что там?
— Выясняет имя собаки.
— Агата Кристи, — похвалил я.
Тут опять позвонили. Я взял трубку.
Молчание.
— Жертва эксперимента слушает, — сказал я. Трубка не ответила, и я успокоил молчаливого собеседника: — Подопытный кролик здоров, чего и вам желает.
Гудки.
— Шекспир чертов, — сказал я, — проверяет. Эх, жаль, надо было вида не подавать, включиться в хепенинг.
Антон придвинул аппарат к себе, набрал номер.
— Не отвечает, — сказал он, — наверное, не из дома.
Я, вспомнив, вновь взобрался на подоконник, выглянул. Малый сидел на месте. Я опять ощутил что-то вроде беспокойства. Ну, розыгрыш. Но что-то уж больно продолжительный. Ведь не платит же Федулкин этим амбалам! А задаром кто сейчас станет губить рабочий день?
Тем не менее Антоху я проинформировал весело:
— Сидит!
— Хепенинг! — отозвался Антон. Видимо, он думал о том же, о чем и я. — Помнишь, он в спортзале ночным сторожем работал?
— Так его же выгнали.
— Ну и что? Федулкина не знаешь? Отовсюду гонят, но везде любят. А уж если начнет уговаривать, с его-то напором…
Федулкинский напор мы оба знали.
Теперь нам самим было любопытно, как поведет себя тот у подъезда, если мы просто выйдем и, допустим, двинем в центр. У Федулкина свой эксперимент, у нас будет свой.
— Стоп, — сказал вдруг Антоха, — минуту. Я знаю, где он. Помнишь Нинку, светленькую, пончик такой? Он у нее уже недели две кантуется.
— Позвони.
— Номер не помню, где-то на бумажке записал… Ладно, как пойду, загляну, она же за квартал от меня… Ну чего — в центр?
Я сказал, что расхотелось. Вообще-то причина была другая: а вдруг эта девка позвонит? Уж больно голосишко был своеобразный, что-то есть. Велела сидеть дома — надо сидеть. Я подумал, что хорошо бы ее сегодня зазвать на ночь. После всех волнений — в самый бы раз. Ведь обещала — будешь живой, трахнемся. А я как раз живой.
Мы сыграли пару партий в шахматишки, попили чаю, и Антон ушел, пообещав сразу звякнуть из дому. Прежде чем его выпустить, я все же прислушался — но на лестничной площадке не было никого. В окно я видел, как Антоха вышел из подъезда и скрылся в проходе — малый в свитере лишь лениво глянул ему вслед.
Хепенинг…
Дуня или как ее там позвонила через час с чем-нибудь.
— Живой?
— Как видишь. Вот только…
— Чего? — спросила она с легкой тревогой.
— Скучаю. Пришла бы, повеселила.
— Еще духарится, — сказала она опять как бы не мне, а кому-то рядом. Может, как раз Федулкину?
— Так придешь? — спросил я.
В ответ последовало указание:
— Сиди и не высовывайся.
— А я чего делаю? Сижу, жду тебя, сама обещала… Да, кстати, Федулкин далеко?
— Кто? — удивленно прозвучало в трубке.
Удивление это не значило ничего, и я повторил, как ни в чем не бывало:
— Федулкин.
— Крыша поехала, — объяснила Дуня кому-то рядом и лишь потом посоветовала мне: — Знаешь что, Вася? Не ищи приключений, они тебя сами найдут.
— А меня обижать не за что, — возразил я, — я Федулкина всегда хвалил.
— Да пошел ты со своим Федулкиным! — взорвалась она, но вдруг быстро проговорила: — Ладно, потом.
И вновь из трубки пошли гудки.
Вскоре опять позвонили — но теперь на мое «алло» никто не ответил.
Я снова глянул с подоконника вниз. У соседнего подъезда никого не было. Оглядел сверху двор — он был абсолютно безгрешен, ни одной опасной фигуры. Похоже, игра кончилась.
Мне вдруг стало удивительно легко. Все-таки эта глупость нервы потрепала. Черт бы их всех побрал с их хепенингами, суки, юмористы за чужой счет.
Опять позвонили. Я пару раз сказал «алло» и уже хотел класть трубку, но оказалось, Антон.
— Все в норме? — спросил он. Голос был странный, словно бы пустой, никакого выражения.
— Естественно, — сказал я, — а у тебя?
И опять он ответил через паузу:
— Понимаешь… В общем, за мной тоже следили.
— Как? — не поверил я. — Я же в окно смотрел, тот в свитере так и остался у подъезда.
— А там еще один был, на улице. Может, и ошибаюсь, но вряд ли. Специально попетлял. Куда я, туда и он.
— И чем кончилось?
— Схватил частника, проехал две улицы и нырнул в метро. Оторвался.
— Хепенинг разрастается, — задумчиво проговорил я. — У тебя нет ощущения, что Федулкин малость заигрался?
— Это не Федулкин, — тем же пустым голосом ответил Антон, — Федулкина в понедельник хоронят.
— Да ты что?! — заорал я.
— Вот так вот, — сказал Антон, — я на него грешу, а он в морге. В четверг ночевал у Нинки, в пятницу не вернулся. А утром нашли на тротуаре у детского садика.
— И кто его? — спросил я отупело.
— Они не докладывали. Чем-то по голове, насмерть.
— А Нинка что говорит?
— Она же дура. Кусок мяса. Вопит, что ни при чем тут, и все.
Он замолчал. И мне говорить не хотелось. Потом я все же произнес неопределенно:
— Что-то мне все это здорово не нравится.
Тут же мне стало стыдно, потому что подумал я не о Федулкине, лежащем в морге, а о нас, живых. Но, похоже, и у Антона мысль качнулась туда же.
— Я вот колеблюсь, — сказал он, — может, сразу стоило в милицию позвонить?
— И что сказать?
— Приехали бы хоть, паспорта у этих проверили.
— Думаешь, приедут?
— Толково объяснишь, приедут. А так что — сидеть и ждать?
Тут я задал вопрос, который не шел у меня из головы:
— Как думаешь, Федулкин и что за нами следят — как-то связано?
— Сам башку ломаю, — сказал Антон. — Связи вроде и нет, но, с другой стороны, друзья, одна компания. Его убивают, за нами следят. За обоими. Многовато случайностей.
— Глянь в окно, — попросил я, — есть кто?
Антон жил на втором этаже, у него обзор был хороший. Сам я тоже пошел к окну, на подоконник даже не влез, а прокрался, закрываясь занавеской: я не знал, чего можно ждать, значит, ждать можно было всего. На сей раз я увидел двоих — один стерег подъезд, только не читал, а прогуливался, другой в проходе, у стены, стоял и курил. Новые мужики были или те же, разобрать было трудновато, на весь двор горело два фонаря. Но курившего в проходе я вроде бы узнал — тот, что следил за мной по городу, а потом пугал в переулке.
Я вернулся к трубке. Антон сказал, что у него перед домом никого нет, во всяком случае, не видно, а у них там и спрятаться негде, улица да напротив забор. Я рассказал, как у меня.
— А эта больше не звонила?
Я сразу понял, о ком речь:
— Велела не высовываться.
Он думал секунд пять, не больше:
— Надо звонить в милицию. Звони прямо сейчас.
— А что скажу?
— Как есть, так и скажи.
Я попросил:
— Звякни ты, у тебя лучше получится. Тем более ты тех двоих рядом видел, а я из окна.
Помедлив, Антон обещал позвонить.
Мне оставалось только ждать. И сразу появилось пустое время, то есть свободное — но вот для чего? Звонить? Кому? И — что сказать? Была мысль набирать чуть не все номера знакомых и, так сказать, информировать, чтобы, если что, хоть люди знали, авось кто и придумает, как помочь. Но потом остановило самое простое соображение: а если — ничего? Если те внизу просто уйдут и никогда больше не возникнут? Выяснится какая-то их ошибка, поймут, что я им ни с какой точки зрения не интересен, исчезнут, и все — что тогда? Тогда я на годы и годы стану живым анекдотом, суетливым трусом, и друзья-приятели по любому поводу станут вспоминать, что паникеров в войну расстреливали.
Я погасил свет, опять поторчал у окна, однако увидел только сумерки.
Странно, но я вдруг как-то очень отчетливо представил себе Москву за окнами, не вообще столицу, а мою Москву данной минуты, где для меня имели значение лишь три крохотные точки, ну четыре: я в своей квартирке с дверью, укрепленной штырями против неумелых воров, Антон в своей коммуналке — сейчас это был плюс, в коммуналке хоть соседи, свидетели, просто люди, способные хоть в фортку заорать от страха, еще милицейская машина, которая сейчас, может, уже въезжает на нашу улочку, и… и бедняга Федулкин в морге на цинковом столе, где-то я читал, что столы там цинковые.
Я вдруг почувствовал злость — именно за Федулкина. Ну за что его? За что? Жил человек, добрый, нелепый, безалаберный и бестолковый, никому не делал зла, ставил свои дурацкие эксперименты, чего-то сочинял, запивал плесневелую горбушку водой из-под крана — и вот эту убогую жизнь у него отобрали. За что?
Да ни за что. Уж Федулкину бы никто не позавидовал, даже я живу упорядоченней и богаче, у меня хоть зарплата есть, хоть койка, а не тюфяк. И убили его просто так, как меня вчера вечером тот подонок в кепочке шлепнул по щеке — ни за что, просто потому, что захотелось.
Мне вдруг стало стыдно за все мои и Антохины издевки над федулкинским сочинительством. Ведь мы были практически его единственными регулярными читателями, ну еще трое-четверо. Что стоило похвалить? А мы изощрялись, кто как мог, ловили кайф за его счет. Причем и не читали ведь: сунешься в начало, в середину, выхватишь две-три фразы поглупее, и для хохмы хватит. А ведь что стоило похвалить?
На волне раскаяния я взялся за федулкинскую рукопись, тем более что занятия поразумней все равно не было. Читалось, прямо скажу, трудно. Страниц десять подряд шли рассуждения о литературе, о творчестве, о собственном таланте, о бездарности и косности редакторов. Излагалось все достаточно бессвязно, угадывался лишь один смысл: Федулкин пытался убедить самого себя, что настоящий талант должен писать именно так, как получается у него.
Бог ты мой, на что же он потратил последние недели жизни…
Позвонил Антон, голос был упавший:
— Только что уехали.
— От тебя?
— Я просил к тебе. Но раз вызвал я, ко мне и приехали. Милицейская логика. Правда, говорят, в твой двор заезжали — ни живой души. Пойди проверь… Я уж им говорю — спрячутся в подъезд — вот вам и ни живой души. Вы бы, говорю, хоть часок в засаде посидели. Ты, говорят, «Алексу» пять тысяч заплати, он тебе и посидит в засаде. Скажи, говорят, спасибо, что за ложный вызов не штрафуем.
— Уехали, и все?
— Написал заявление — да толку… Кстати, спросил про Федулкина, нашли убийцу или нет. Даже фамилию такую не слыхали. В Москве, говорят, каждую ночь убивают… Вообще-то надо бы на похороны пойти.
Видно, и тут мы подумали об одном и том же. Вообще-то надо бы. Но не одни же мы там будем. Разный будет народец. Могут, конечно, и ОНИ заглянуть на всякий случай, посмотреть на публику. Если, конечно, и тут и там те же самые ОНИ…
Договорились, если что, мгновенно звонить. Чему поможет этот мгновенный звонок, я понятия не имел. Но больше договариваться было, к сожалению, не о чем.
Опять глянул в окно. Ни хрена не видно. Может, они уже здесь, на лестнице.
Теперь я почувствовал не столько страх, сколько злость. Суки! Чего они лезут? Чего им от меня надо? Сижу, как слабый зверь в ненадежной норе, а рядом затаились собаки, знают, что другого лаза у меня нет. И — ждут, вяло перелайваются, позевывают, обнажая клыки. Суки!
Я передвинул к входной двери все, что можно было передвинуть, а на верхушке этой баррикады пристроил десяток пустых бутылок и старое ведро. По крайней мере, не войдут неслышно Кухонные ножи положил на стул у изголовья. В ванной поставил кувшин и пустил горячую воду тонкой струйкой. В старину при защите крепостей осаждающих поливали со стен кипящей смолой. Смолы у меня нет, но кипяток в морду тоже неплохо.
Я лег, но сна не было ни в одном глазу. От нечего делать опять взялся за федулкинскую рукопись. Теория кончилась. Теперь хоть читать можно было. Эксперимент ставился бестолковый, как всегда у него, цель туманна; как он рассчитывал с помощью своей очередной авантюры выйти в Хемингуэи, я понятия не имел. Боюсь, и он не имел понятия. Писал, что на материале этого как бы дневника потом сочинит повесть. Увы, обычно у него из как бы дневника получалась как бы повесть.
Потом одна деталька меня заинтересовала. Надо бы звякнуть Антону, но не хотелось будить. Я вернулся к началу истории, к федулкинскому дурацкому эксперименту. Ко мне его авантюра отношения не имела. А вот к Антохе, может, и да. Во всяком случае, это была первая федулкинская рукопись, которую стоило прочесть повнимательней.
Увы, все федулкинские произведения обладали одним общим свойством: от них чертовски клонило в сон…
Разбудил меня звонок. Я поднял трубку и отозвался, почти зная ответ. Он такой и оказался — никакой.
— Чего надо? — спросил я устало.
Молчание.
Я решил не вешать трубку, ждать. И там подождали, но недолго — щелкнуло и пошли гудки.
Окончательно просыпаться не хотелось. Хорошо, конечно, что ночь почти прошла, и ничего плохого не случилось, но день нес все вчерашние беды и страхи. Выходной, но выйти нельзя. Завтра хоронят Федулкина. И хрен его знает, что это все значит. Хоть бы знать, что грозит и кто грозит. Но они разве скажут! Суки…
Хотел позвонить Антону, но не стал. Спит, наверное. Пускай выспится. Я повернулся на бок, закрыл глаза и стал тереть мочку уха. Где-то читал, помогает уснуть. И вправду помогло.
Второй раз меня разбудил Антон, уже около девяти. Спросил, все ли в порядке, а я спросил, как у него. Уже положив трубку, вспомнил, что у меня к нему был еще вопрос. Ладно, успеется.
Я поставил чайник, а сам пошел к окну. Топтун был на месте, только другой и пост переменил — не у подъезда, а на лавочке у трансформаторной будки. Я его даже разглядывать не стал, сразу видно было, что из этих. И тоже в кепочке.
Выпил чаю. Есть не хотелось. Впереди лежал длиннющий день в странной, мутной, беспричинной осаде.
Однако день оказался куда короче, чем я предполагал. Где-то в полдесятого снова позвонили.
— Вася, что ли? — спросил тот же женский голос.
— Ну, Вася, — сказал я. Эти хохмы перестали меня смешить.
— Ты вот чего, — сказала она, — смывайся-ка из дому. Чтобы в пол-одиннадцатого тебя не было. Понял?
— Почему? — поинтересовался я, стараясь, чтобы голос не дергался. Я сразу понял, что что-то изменилось, причем к худшему.
— Потому, — сказала она, — еще спрашивает. Тебе что, жить надоело?
— Слушай, — сказал я, — а правда, как тебя зовут?
— А тебе зачем?
— Так.
Мне трудно было объяснить, зачем мне понадобилось ее настоящее имя. Просто опасность оказалась реальной, Федулкина вон уже достали, а чем я лучше него? И дурацкие кликухи сейчас были неуместны, как мини-юбки на похоронах.
— Так ведь и ты не Вася, — справедливо возразила она.
— Я Игорь. А ты?
— Ну, клиент, — отозвалась трубка, — ему помочь хотят, а он кадриться лезет. Имя ему…
Она была косноязычна, похоже, не слишком умна — но, может, поэтому я ей и верил. Я уже знал по опыту, что дуры добрей.
— Вот придут в одиннадцать, тогда спросишь имя. Собирайся и мотай.
Это была уже вразумительная информация, но легче от нее не стало.
— Куда мотать?
— Куда угодно. К бабе, — сказала она и засмеялась, хоть на сей раз и невесело.
— Где я ее возьму?
— Нету, что ли? — Она опять засмеялась и сказала кому-то: — Надо же! Бабы у него нет.
Вроде ей что-то ответили.
— Может, ты баба? — спросила моя доброхотка и, сделав паузу, продолжила: — А чего? Для хохмы. Не зверь же. Вон, Игорем зовут. А хоть и зверь, все равно мужик.
Потом у них там шли какие-то переговоры без меня, наконец в трубке послышалось:
— Ладно, считай, повезло, будет тебе баба. Значит, гляди. Фили знаешь?
— Бывал.
— И чего ты там помнишь?
— Н-ну…
— Спортмагазин помнишь? На Кастанаевке? Не где парк, а напротив?
— Примерно помню. Найду.
— Ну вот давай… Во сколько? — спросила она опять не меня. И уже мне: — Вот и будь там в девять вечера. Подойдет молодая симпатичная, как раз за тобой.
— А как я ее узнаю?
— Как… Ишь ты, как… Надо будет, узнаешь, — поворчала она, потом опять засмеялась. — Спросишь ее: «Вы рабыня Изаура?», а она… — Снова смех и лишь потом новый текст: — А она тебе скажет: «Хрен тебе, а не Изаура». Запомнил?
— Запомнил, — сказал я. — Как хоть одета будет?
После новых консультаций мне объяснили, что одета моя спасительная баба будет в косынку, синенькую, итальянскую, с рисунком на тему города Венеция.
— А еще? Чего еще? Она чего, голая, что ли, будет, в одной косынке?
Тут уж хохоту не было конца.
— Тебе же лучше, раздевать не надо, — выговорила наконец Дуня — другого ее имени я так и не узнал. — Ой, — пробормотала она вдруг, — все, пока.
Я глянул на часы. Разговор был малосерьезный, как бы просто потрепался с незнакомой телефонной бабенкой, глупой и, видимо, молодой, — но часики тем временем тикали, на размышления и сборы мне осталось минут сорок, дальше начиналась зона риска. Если, конечно, она мне сказала правду. Но ведь пока все, что она говорила, походило на правду. Велела сидеть дома, и хорошо, что сидел. Теперь велит сматываться. Значит, лучше смотаться.
Я достал довольно хреновую сумку с двумя пальмами, голой девкой и дурацкой надписью «Таити», раскрыл «молнию» и покидал внутрь бритву, зубную щетку и вообще всякую мелочь, какая показалась мне нужной. Подумав, сунул и харчи — кто знает, как оно дальше повернется. Два кухонных ножа — с этим было ясно, без них ни шагу.
Потом настал момент задуматься.
Как выйти-то? Не выйдешь никак. Была бы лоджия, можно перебраться на соседнюю, но лоджии нет, дом старый, тогда не строили. Переодеться? Да ведь узнают. Остается одно: пешком вниз, до двери красться, а там рывком через двор и на улицу, авось замешкаются. Ну и нож наготове.
Почему, кстати, до пол-одиннадцатого? А хрен их знает. Утром народ идет кто куда: на работу, в школу, в институт, в булочную, в молочную — а к одиннадцати потише, все, кому надо, разошлись, драка не драка, кто увидит. А и увидит — только дверь на все замки.
Выйти и нагло, в морду, спросить — чего надо? Могут ведь и не ответить, а сразу, как Федулкина…
Самое паскудное, когда не знаешь, чего бояться. Чего они хотят? И — чего хотят со мной сделать?
Я уже и сам себя не спрашивал, за что. Хотят, и все. Им так надо. А мое дело смыться. Не смоюсь — вовек не узнаю, ни кто, ни как, ни за что. Найдут потом в подъезде, или в проходе, или на тротуаре. Как Федулкина.
Но ведь и они не боги. Антона вон выследили — и ни хрена, ушел. Значит, можно.
Я сторожко, в щель занавески, оглядел двор. Тот, что следит за подъездом, меня интересовал меньше. Он один, я один, он сидит, я бегу — шанс есть, если он, конечно, не с пистолетом. Хуже, если и в проходе дежурят. Один спереди, один сзади — это безнадега. Но в проходе вроде никого не виделось. Может, и нет никого? Может, потому и велела до одиннадцати, что к одиннадцати подвалит вся кодла?
Я осторожно разобрал свою баррикаду, прислушался. За дверью было тихо. Не снимая цепочки, приоткрыл. Никого. Тут я сообразил, что нужны не ботинки, а кроссовки. Переобулся. Так-то лучше, и красться бесшумней, и бежать легче. Совсем уж в последний момент вспомнил, сунул в сумку рукопись Федулкина — надо будет спросить Антона, да и вообще дочитать, вдруг что прояснится, какая деталь.
Дверь я затворил тихо, как мог. Замок щелкнул, но едва слышно. Лифт вызывать не стал, больно грохочет, медленно пошел вниз. Этаж, еще этаж, еще этаж…
Потом меня осенило. Первый этаж! Четыре квартиры, две из них годятся. Только бы… Кто там живет, я не знал, у нас в подъезде вообще мало кто с кем контачит. Но…
Я тихо поскребся в первую дверь. Ни отзвука. Позвонил. Не сразу послышались шаги. Дверь приоткрылась, но на цепочку. Бабуся, божий одуванчик.
— Бабушка, — сказал я шепотом, — я с седьмого этажа, откройте на минутку.
Бабуся выслушала, глянула внимательно и вдруг с неожиданной резвостью захлопнула дверь.
Осталась еще одна. Всего одна.
Я постучал. Открыла девчонка лет пятнадцати, в теплой кофте, на горле шарф.
— Болеешь? — спросил я.
— Гланды, — объяснила она и уставилась выжидательно.
Я спросил тихонько:
— Можно зайти на минуту?
Она посторонилась — видно, по молодости лет еще верила людям. Я вошел и так же тихо прикрыл дверь.
— У меня просьба. Родители дома?
— На работе.
— Видишь… Маленькая ты еще, но… Есть такое взрослое слово «любовь»…
Девчонка пренебрежительно хмыкнула.
— В общем… Если можешь выручить… Понимаешь, там во дворе кое-кто есть… Короче, я сегодня тут ночевал, а надо, чтобы об этом не знали, неприятность может выйти одному человеку…
— У любовницы, что ли, ночевали? — снизошла девчонка к моим трусливым недоговоркам.
— В жизни всяко бывает, — покаялся я.
— Подумаешь, — хмыкнула она снова, — ну и чего теперь делать? Тут хотите посидеть?
— Да нет, мне на работу. Я чего хотел попросить? Если разрешишь… Хотел вон в окно вылезти.
— У нас окна заклеены, — заколебалась она.
Я вздохнул:
— Тогда гроб. Мне-то ладно, а ей…
— Хотя там пластырь, можно и опять заклеить…
Я чуть не задохнулся от нежности к ней. Бог ты мой, сколько пятнадцатилетних готовы помочь и прохожему, и захожему, не задумываясь, зачем ненужный риск и лишняя морока. И как же потом истончается ручеек этой бескорыстной открытости… Я пожалел, что соврал ей, такой можно бы и правду. Уже стоя на подоконнике, я сказал:
— Ты сегодня, может, человека спасла.
— В другой раз заводи любовницу на первом этаже, — нахально, на «ты», порекомендовала девчонка.
— Вот подрастешь, заведу, — пообещал я.
Я спрыгнул вниз, взял сумку с подоконника, помахал девчонке ладонью, чтобы не приняли за вора, и не спеша пошел по переулку. Народу было порядочно, я пристроился рядом с каким-то толстым дядькой, как бы с ним и иду. Возле проходного двора свернул в подворотню — и уж тут рванул, как на стометровке. Выскочил другой подворотней, скользнул в подъезд рядом, взбежал на третий этаж, к окну между лестничными площадками. Минута… Еще минута… Еще минута…
Со двора вышла женщина. Потом бабка с авоськой. Потом, минут пять, никого.
Тогда я спустился вниз и спокойно пошел к троллейбусной остановке.
Вроде пронесло. Ушел. Свободен. Как там написано на могиле Мартина Лютера Кинга? Свободен, свободен, слава тебе, Господи, наконец-то свободен…
Теперь, когда я вышел из окружения, выскользнул из осажденной норы и мог не бояться ночного двора, гудения лифта, шорохов у двери и хрипло молчащего телефона, когда моей жизнью не управлял больше с помощью необъясняемых указаний загадочный женский голос, я вновь обрел способность нормально соображать. Не знаю, у всех так или один я такой дурак, но, когда решать надо мгновенно, мозги мои иногда отключаются вообще. А пройдет спешка, и все вдруг становится ясно.
Вот и сейчас главное сразу прояснилось.
За мной следят, мне угрожают, может, даже хотят убить. За что, не знаю, скорей всего, какая-то путаница, ошибка — но если убивают по ошибке, убитому не легче. ОНИ, кто бы они ни были, мой след потеряли — но и я не могу вернуться домой, пока не узнаю, что происходит вокруг моей конуры, кто ОНИ и чего ИМ надо. Сам это узнать могу? Ясно, что нет. Скитаться по чужим углам век не будешь. Так что рано или поздно все равно придется просить помощи у тех, кто за эту помощь зарплату получает. Антон вчера позвонил в милицию, там среагировали, как нормальные менты, взяли заявление и отвалили, на черта им лишняя головная боль, тем более что Антоха вызывал их не к себе, а к приятелю, то есть все шло через третьи руки. Да еще и ночь была, может, парни дрыхли или в домино резались, а он своим звонком оторвал. Сейчас другое дело, день, все начальство на местах, днем даже ленивые делают вид, что работают.
Наше отделение стояло во дворе, двухэтажный дом, желтый, плоский, без излишеств, у входа несколько машин, две с «мигалками» — милицию ни с чем не спутаешь. Я решил идти прямо к начальнику, лучше час прождать в коридоре, зато попасть сразу к шефу; если даст команду — хоть плохо, но выполнят. Ведь, по сути, чего надо? Проверить паспорта у тех во дворе. Обвинить не в чем, доказательства ни единого. Ну и пусть. Хотя бы станет ясно, кто такие. И им станет ясно, что про них ясно. По крайней мере, хуже не будет.
Мне вдруг показалось, что я оставил дома сберкнижку, а та ерунда, что рассована по карманам, — надолго ли? Я остановился, пристроился на лавке у ближайшей пятиэтажки и стал копаться в сумке. Нет, сберкнижка была на месте, что на ней лежало — по нынешним временам как бы и не деньги, но все же с ними куда лучше, чем без них. Так что зря напугался.
Но как же повезло, что напугался!
Пока я ревизовал свою сумку с пальмами и девкой, на крыльцо милиции вышли двое. Один был рослый, с хорошей выправкой капитан, настоящий милицейский орел, а другой — другой был тот малый. Тот, в кепочке. Что следил за мной в пятницу, а потом шлепнул по щеке, а потом я ему врезал, как сумел. Они вышли бок о бок, буднично беседуя, подошли к одной из машин, чистенькому серому «жигуленку», и капитан сел за руль, а малый в кепочке рядом. Он, кстати, и сейчас был в кепочке. Я отвернулся, сгорбился куль кулем, как бы и нет меня. Машина лихо выехала со двора, свернула влево. К нашему дому, что ли?
Проверять я ничего не стал. Я, не оборачиваясь, пошел прочь, будто и не в милицию хотел, просто надо было в сумке покопаться. На остановке стоял троллейбус, я вскочил в переднюю дверь за каким-то неторопливым ветераном. Три остановки проехал — и в метро. Толпа, станции, куча пересадок, вон и Антон вчера смылся, нырнув в метро. Опять мозги почти отключились, то есть работали, и даже быстро, но толку от этой работы не было никакого. Вся схема, что я с грехом пополам выстроил, разом развалилась. ОНИ что, с милицией связаны? Или ОНИ — это и есть милиция, потому и держатся так нагло? Но зачем милиции тянуть время, топтаться во дворе, ждать тихого часа, когда можно просто властно постучать в дверь — против формы с погонами замки не помогают. Но ведь не постучали. Почему?
Теперь понятно было только одно: в ближайшее время это не кончится. И, значит, надо как-то жить. Прежде всего куда-то деваться.
Вариантов у меня было очень мало, практически их не было. Так что, по сути, выбирать не приходилось.
Баба, которую щедро предложил голос в трубке? Но я и голоса-то не знал, тем более понятия не имел, что за баба, чего от нее ждать, да и баба ли вообще: велели подойти к спортмагазину, а уж кто там встретит, баба или не баба, видно будет только на месте, если успею разглядеть. Мне предлагалось приключение, а приключениями за последние два дня я наелся по горло.
К Антону не надо, это тоже было понятно, за ним уже следили. К тому же один раз я его подставил, навлек слежку (если навлек, если прицепились из-за меня, а не из-за него самого), и грешно было бы опять навязывать другу свою опасность. Это ведь не с девочкой на пару часов напроситься, не взять взаймы, это… Впрочем, что оно — это, я и сам не знал.
На работе друзей у меня не было, да хоть и были бы, к ним нельзя: раз уж милиция втянута, они первое, что прощупают, это контору, а там ничего не спрячешь, всё на виду и все на виду.
Ксанка отпадала, труслива и живет с матерью.
Выходит, одно только и оставалось — Дюшка, пожалуй, самая постоянная из частично моих нынешних женщин: с другими, даже с Ксанкой, виделись от настроения к настроению, а с ней хоть три раза в месяц, но просыпались по одному будильнику. Вообще-то она была Надька, но как стала в детстве из Надюшки Дюшкой, так и осталась. Дюшка была баба, в общем, хорошая, хотя курила и материлась куда чаще, чем мне нравилось. Однако для курения и мата была вполне уважительная причина: Дюшка летала стюардессой на внутренних линиях и никак не могла пробиться на международные, так что ее везучие приятельницы привозили туфли из Сингапура, а она из Еревана, что сильно влияло на настроение. У Дюшки были нахальные длинные ноги, груди торчали, как у первокурсницы, лицо, правда, досталось плоское и упрямое, но мне, как привык, оно тоже стало нравиться. Любви у нас не возникло, чего не было, того не было, но и без нее сложилось неплохо — как-то даже обитал у нее чуть не две недели, пока Дюшку не услали в Якутию с ее ветрами, туманами и задержками рейсов.
Про мои с ней дела не знал практически никто. Не то чтоб скрывал — просто нужды не было информировать даже узкую общественность о квартирке с широкой мягкой тахтой и о длинноногой упрямой женщине, с которой я не ссорился, пожалуй, только потому, что перерывы между ее полетами были слишком коротки для крупного скандала.
Я подумал, что Дюшка — это как раз то, что надо, у нее буду как в крепости, как в тайной безопасной норе. А там авось что-то прояснится.
Дюшка прилетала, кажется, в два, пока доберется до дома… Словом, до четырех не стоило соваться. Выйдя в центре, я все ж набрал из автомата ее номер — он, естественно, не отозвался. Тогда я сделал то, что давно надо было сделать, но в спешке и страхе утра не обозначились необходимые пять минут — позвонил Антону. И тут — безответно. Поехал к матери? Просто выскочил в булочную? Был еще вариант, но его учитывать не хотелось.
Я люблю Москву, довольно хорошо ее знаю, шататься по ней для меня удовольствие, люблю бульвары, Красную площадь, Старый Арбат, как он ни забит торгашами и зеваками, набережные, мосты… Сегодня впервые мне не хотелось ходить по Москве, хотелось красться, прячась за спины, нырять в подворотни проходных дворов. Я понимал, что реальной опасности взяться неоткуда, десять миллионов толчется на огромном пространстве огромного города, и искать человека в этой толчее никому в голову не придет — если меня все еще хотят зачем-то найти. Но спине все равно было неуютно, я ничего не мог с этим поделать, я озирался, внезапно менял направление, петлял, как заяц в зимнем лесу. Я впервые ощутил, как унизительно быть преследуемым, как жутко, когда над тобой нависает чужая жестокая сила, не имеющая ни имени, ни лица, но опасная, как здоровенный конвойный пес, специально натасканный на человека.
Опять в метро? Но было слишком рано, не болтаться же три часа в этом подполье.
Я пошел на Центральный телеграф, сел за дальний столик и попробовал читать федулкинскую рукопись — другого чтива с собой не было, а эти странички все равно когда-нибудь придется одолеть. Но тревога стеной стояла между глазами и мозгом, строчки виделись ясно, а смысл расплывался, и я сунул рукопись назад, в сумку с голой девкой.
Еще на улице я понял, что Дюшка дома: балконная дверь была открыта, всегда по прилете Дюшка, уставшая от самолетных кондиционеров, на совесть проветривала квартиру: у нее это называлось «продышаться».
У подъезда я на всякий случай огляделся. Нет, никого. Зашел в подъезд, подождал, выглянул. Никого. Слава тебе, Господи, никого.
— Ну и ну, — сказала Дюшка, — прямо минута в минуту. Во дворе ждал?
Я ответил, что, естественно, ждал, и мы немного потрепались на эту тему: она любила словесную игру перед игрой постельной. Дюшка задвинула шторы, я обнял ее сзади, руки автоматически прошлись по всем секретным местам. Она сразу ослабла и попросила торопливо:
— Погоди, дай хоть душ приму, прямо с рейса ведь.
Она прошла в ванную, я увязался следом. Я мылил ей спину и все, что попадалось под руку, мне нравилось, когда прямо в моих руках она обвисала, начинала вздрагивать и стонать. Она была по матери грузинка, может, южная кровь сказывалась? Она так завелась еще до постели, что уж там-то показала все, что умела, а умела многое. Это не был для нее только спорт, но и спорт тоже.
Надо сказать, все мои тревоги отошли к тому моменту довольно далеко. Я был в норе, тут можно сидеть и сидеть, пока снаружи не устаканится. А что будет дальше, думать не хотелось — я вообще не любил загадывать наперед. Дальних планов у меня никогда не было. Нынешний день нормален, и слава богу, а какой придет завтра — увидим завтра.
— Останусь у тебя, ладно? — сказал я.
Она отозвалась не сразу, тон был слегка виноватый:
— Сегодня нельзя, ко мне придут.
— Ну смоюсь, а часов в двенадцать вернусь.
— Не получится, — сказала она, — тут такое дело… Понимаешь, я ведь замуж выхожу.
Это было совершенно неожиданно. Сколько я ее знал, замуж она никогда не собиралась. Как-то мы с ней весьма трезво обсуждали наш с ней вариант и оба согласились, что от брака лучше не будет, а вот хуже станет наверняка. У всех становится. То, что Дюшка вдруг перерешила, не уязвило меня никак: хочет замуж, пускай выходит, дело житейское. Куда больше озаботило, где мне теперь ночевать. Про то рандеву у спортивного магазина я даже забыл, таким оно выглядело рискованным и туманным.
— Новость, — протянул я неопределенно, — ты ведь вроде не хотела на поводок?
— Я и сейчас не хочу, — сказала Дюшка.
— А чего ж тогда?
— Жизнь заставляет! — произнесла она с вызовом.
— Случилось что?
— Да ничего не случилось, — отмахнулась она с досадой и, наконец, объяснила: — Итальянец он.
— Итальянец? — изумился я. Вроде зарубежных граждан среди ее знакомых не было, языков не знала, английский пробовала учить, но дарований по этой части не обнаружила.
— Вьетнамского происхождения, — пояснила Дюшка довольно хмуро.
Происхождение Дюшкиного жениха меня волновало мало, моя недоуменная гримаса относилась к ситуации в целом. Но она поняла по-своему и спросила агрессивно:
— А вьетнамцы что, не люди?
Упрек в расизме был до такой степени неожиданным, что я забормотал нечто совсем уж невразумительное. Дюшка смягчилась.
— Мне плевать кто, — сказала она, — плевать куда. Лишь бы из совка. Обрыдло, сил моих больше нет. Эти очереди, нищета, эти кретины по ящику… Сам-то не думал?
— Да как-то в голову не приходило.
— Ну это врешь, — возразила она уверенно, — теперь всем в голову приходит.
Я попробовал защититься:
— Кому мы там нужны? Я уж точно никому не нужен.
Дюшка только усмехнулась:
— Мужик какой-никакой везде нужен. Думаешь, там одиноких баб нет? Да навалом! Кино надо смотреть. Кто ее трахнет, за тем и побежит.
Между прочим, только что я трахнул ее, но бежать за мной она не собиралась…
— Так ведь это там, — вяло сопротивлялся я, — без визы не трахнешь.
Для меня разговор был пустой. Ни в какие заграницы я не собирался, мне нравилось жить здесь. Пусть очереди, пусть нищета — но ведь и девки кругом живут той же жизнью, и с ними, чтобы друг друга понять, хватает двух фраз. А для меня это всегда было главным. Не так заботило, какой у меня холодильник и какая в нем колбаса — куда важней было, какая телка утром застелет постель и простирнет мои трусики. Хорошая окажется или нет, тоже не волновало: на эту ночь хорошая, а может, на неделю, а может, на год, тут уж как повезет, как друг к другу приладимся. Пусть неделю, но она мне будет союзник и сестра, ведь в тех же очередях толкается, ту же картошку покупает и за ту же цену. Друг для друга мы не нищие.
— А их и в Москве полно, — сказала Дюшка, — немок да шведок, лезут, будто тут медом намазано. Там трахать некому, сюда катят. Ни кожи, ни рожи, зато СКВ. Так что вполне можешь рассчитывать. Присмотри какую-нибудь не совсем уж отравную…
— Вьетнамского происхождения, — ляпнул я, но она, к счастью, не уловила бестактности.
— А чего? Свалим на пару, а там их пошлем. Нам бы только выехать да работу найти…
Она еще что-то говорила, я же понимал лишь одно: на этой мягкой лежанке мне сегодня не спать. И завтра не спать. Безопасная нора не получилась.
Глянул на часы. Время еще было. Но это у меня было, у нее, может, уже истекло.
Дюшка поймала мой взгляд:
— Вставать надо. Попьем чаю, и…
Мы попили чаю, и я освободил площадку итальянцу вьетнамского происхождения. В общем-то Дюшка правильно выбрала. Раз ей так лучше, пускай. Есть же страны, где даже дворникам зарплату выдают в СКВ.
С улицы я сразу позвонил Антону. Наконец-то!
— Живой? — обрадовался я.
— А ты чего, сомневался? — Голос у него был спокойный и нудноватый, как всегда.
— Все нормально?
— Да вроде.
— Я тут звонил тебе…
— Я же в Балашиху ездил, помнишь, говорил…
Я вспомнил, у него девчонка в Балашихе, наверное, говорил, я просто не обратил внимания.
— А ты как? — спросил он.
— Тоже живой, — ответил я. Это, пожалуй, было единственное, в чем я был уверен наверняка.
— Я ведь тебе тоже звонил, и утром сегодня, и днем.
Я рассказал про утренний звонок.
— А как выбрался?
— Повезло, — сказал я, не уточняя. Не так уж много было у меня времени, чтобы тратить его на необязательные подробности. — Не заметил, больше не следят?
— Вроде не следят. А за тобой?
Я ответил, что, кажется, оторвался.
— И куда теперь? — спросил он.
Я ответил, что пойду, как велено, к магазину «Спорт».
— А стоит?
Я знал Антона достаточно хорошо, понимал, о чем он сейчас думает, и знал, что предложит. И я бы на его месте предложил. А он бы отказался. Вот и я откажусь.
— Давай-ка ко мне, — сказал Антон, — хватит приключений.
Я ответил, что это будет чистая глупость, у него мать, втягивать ее в свои сложности вовсе уж грешно. А вдруг его выследили? Придут ночью и возьмут обоих.
— Кто придет?
— Если бы я знал кто!
Антоха сказал после паузы:
— А почему ты уверен, что возле магазина не возьмут?
Я возразил, что не уверен, но шанс все же есть. Зачем-то ведь мне та баба звонила. И пока что не обманывала.
— Может, специально из дому увела? Ты ушел, а они как раз и явятся в пустую квартиру.
— Будут сильно разочарованы, — отмахнулся я. — Ладно, старик, сам понимаю, рискованно. Зато есть возможность хоть что-нибудь узнать. Ты же видишь, вокруг происходит черт-те что. А мы как слепые. Баба, что звонит, хоть чего-то знает.
— Ты как поедешь?
Я ответил, что на метро.
— Выйди станцией раньше, — сказал Антон, — на Филевском. И — по Кастанаевской. А я пойду следом. Просто посмотрю, что и как. По крайней мере, будет хоть какая-то страховка.
Я согласился и поблагодарил.
…Какая там страховка! Люди кругом, десять миллионов, постовые, машины с мигалками — а человек открыт любой смерти, как мишень в тире. Застрахован лишь тот, кого незачем убивать. Да и тот… Вот Федулкина, ну за что было — а убили. А меня зачем убивать?
Я сошел у Филевского парка. Народу со мной вышло не так много, мужик со здоровым чемоданом, старик, два школьника, остальные были женщины. Ничего опасного не просматривалось. Я пошел по Кастанаевке в сторону Кунцева. Раза два остановился у витрин, это дало возможность оглянуться. Видно не было никого, лишь в отдалении обжималась какая-то парочка. Антона я не заметил, и это было хорошо: значит, и они, если следят, не заметят. ОНИ.
У магазина стояла девушка в синей косынке. Я пошел вперед, как бы даже и не к ней, а мимо, можно остановиться, можно и пройти.
Она смотрела в другую сторону, но на шаги обернулась. Худая, белобрысенькая, нос картошкой — простецкая мордашка из тех, что действуют успокаивающе. Ладно, бог даст…
Я произнес свой дурацкий пароль:
— Вы рабыня Изаура?
Она ответила:
— Фиг тебе, а не Изаура.
— Не фиг, а хрен, — поправил я.
Девчонка засмеялась. Ей было лет восемнадцать, вряд ли больше. Повернулась и пошла, движением головы позвав за собой. Я на всякий случай глянул назад. Улица была пуста, лишь та же парочка в обнимку.
Присмотревшись, я улыбнулся. Молодец Антоха, придумал. Девка под рукой прячет надежней, чем надвинутый козырек, капюшон или зонтик. Самая мирная картина.
Я поспешил за своей Изаурой. Шли недолго, сделали зигзаг между пятиэтажными панельными хрущобами и вошли в одну из них. Этаж второй, квартира восемь.
Квартирка была бедненькая и пустенькая. В комнате кровать, диван, стол под клеенкой и старый, с ободранным боком, телек. В передней куча старой обуви под вешалкой. В кухню пока не звали. Впрочем, девчонка почти сразу же спросила:
— Жрать хочешь?
Я мотнул головой.
— Ну, тогда сиди, вон телек гляди.
Она включила ящик, поиграла программами и остановилась на какой-то киношке. Мужик удирал в длинной импортной машине, а следом гналась милицейская «Волга». Очень актуальная тема.
— Сейчас приду, — сказала девчонка и пошла в переднюю. Щелкнула замком дверь.
Это мне не понравилось. Прийти, допустим, придет. Но — с кем?
Я пересел с дивана на стул, с жесткого ловчей вскакивать, поставил у ног сумку, а нож переложил так, чтобы рукоятка торчала наружу. Придвинул пепельницу, стеклянную, с отбитым краешком. Не защита, но все же…
Звук приглушил, чтобы слышать, как повернется ключ.
Ее, однако, не было минут двадцать, даже фильм кончился, кого-то поймали, только я не понял кого. Пошли новости — тут стреляют, там стреляют. Скоро, глядишь, и до Москвы доберутся.
Слышимость была, как и положено в панельном доме. Сколько народу поднималось по лестнице, я не разобрал, но не один, это точно. Ключ полез в замок. Скрип. Два голоса — Изаурин и мужской. Снова щелчок замка.
Руку я держал на ноже, да и физиономия, видно, была соответственная, она даже перепугалась:
— Ты чего? Во придурок! Да сосед это, сосед, на улице встретила. — Посмотрела на меня внимательно и, похоже, поняла: — Боишься, что ли?
— Не боюсь, но…
— Думаешь, заложу? Да я вообще никого никогда не закладывала.
Звучало убедительно. Хотя, если решит заложить, не станет же об этом предупреждать.
— Слушай, — сказал я, — ты можешь хотя бы объяснить, что происходит?
— Ничего не происходит, — помрачнела она, — привели, и сиди. Ему помочь хотят, а он тут еще с вопросами.
Я стал оправдываться:
— Я ведь не прошу все. Но хоть что-нибудь! Должен же я хоть что-нибудь понимать.
— Ничего тебе не надо понимать, — отрезала она, — что велят, то и делай! — Она достала из-под кровати матрасик, объяснила: — Тут нельзя, материна кровать, сразу унюхает. Вон там будешь спать.
Изаура бросила матрасик на пол в кухне, достала простыню, одеяло, подушку. Наволочки не было, она накрыла подушку простыней.
В кухне на подоконнике, за занавеской, я заметил телефон. И то слава богу.
— А на работу завтра пойти можно? — спросил я. Как ни странно, я уже привык, что моей жизнью распоряжаются какие-то непонятные девки, в данный момент вот эта, с носом картошкой.
— На работу? — Она растерялась. — На работу… Наверное, лучше не надо. Мало ли чего…
Это было резонно. Адрес знают. Телефон знают. Неужто не знают, где работаю? Тот малый в пятницу скорей всего как раз после работы меня и встречал. Ладно, черт с ним, позвоню утром, скажу чего-нибудь.
Я спросил:
— Как тебя хоть зовут?
— Зовут? — Она помедлила, видно, придумывала, что соврать. — А зачем тебе?
— Надо же тебя как-то звать.
— Изаура, — наконец придумала она.
— Сама же сказала — хрен тебе, а не Изаура.
Она засмеялась:
— Н-ну… Ну, Маша. Ты Вася, а я Маша.
— Ладно, Маша так Маша, — слегка обиделся я. Имя-то на черта скрывать?
Она уловила интонацию:
— Ну чего надулся? Какая тебе разница?
— Никакой, — согласился я.
— Не говорю, значит, не могу. Обещала. Можно будет, скажу. А сейчас не могу.
— Тогда уж лучше Изаура, — сказал я.
Она поставила чай, и мы попили его с конфетами, мирно, почти как родственники. Вот только разговаривать было не о чем. То есть было, еще как было — но любая тема, кроме погоды, сразу заглядывала в запретную зону. О погоде как раз и поговорили.
Потом посмотрели телек, поругали власть, поохали над стрельбой в южных районах — совсем там одурели. Как будто не одурели у нас. Как будто за мной не гонится неизвестно кто, и не помогает спрятаться неизвестно кто, и ни хрена мне не понятно — ни почему гонятся, ни почему прячут. Изаура зевнула, я понял это как намек и пошел на кухню. Потом вспомнил:
— Тебе во сколько вставать?
— В полвосьмого.
— Мне тут сидеть?
Она опять задумалась:
— Наверное.
Странно было все это. То ли сама мало знала, то ли плохо проинструктировали, то ли во всей этой бредятине был какой-то совсем уж недоступный нормальному человеку строй и лад.
Я пошел на кухню, разделся и улегся на тюфяк. Нормально. Если и не усну, то не из-за жесткой лежанки.
Курносая Изаура пошла в ванную, я услышал шуршание душа. Звонить тут можно или тоже запрет? Я в трусах прошел к телефону, набрал Антоху. Голос его был спокоен. Я сказал шепотом:
— Этаж второй, квартира восемь, дом не разглядел.
Он по инерции ответил тоже шепотом:
— Я разглядел. Как там у тебя?
Я ответил, что все нормально, утром позвоню.
На своем матрасике я вертелся, наверное, час — без всякого результата. Связных мыслей не было, но и от бессвязных отделаться не удавалось. Изаура тоже легла, сперва в комнате горела лампа, затем погасла. Время спустя опять зажглась ненадолго.
Чего она там? Тоже не спится? За мной присматривает? Ну уж тюремщика-то нашли бы покруче… Я почувствовал, что больше так не могу, еще свихнусь, чего доброго. Не могу быть один. Не могу не понимать ни хрена.
В комнате вновь зажглась лампа, мазнула светом по полу. Чего она там дергается? Я прошел в комнату, остановился возле дивана. Она лежала на спине, глаза открыты.
— Не спишь?
Ответа не было.
— Прости, — сказал я, — не могу один. Бред какой-то, но не могу.
— Спать надо, — произнесла она назидательно.
— Подвинься, — попросил я, — просто поговорю с тобой.
— Еще чего, — сказала девчонка, но в голосе не было жесткости.
Я сел на краешек дивана и легонечко подвинул ее, освобождая место. Она не помогла мне, но и не уперлась, как бы просто приняла как факт.
— Не могу один, — повторил я.
— Темноты боишься?
— Еще как!
Это была уже игра, а к игре я привык и легко вошел в ее правила.
— Так ведь свихнуться недолго, — сказал я и протиснулся к ней под одеяло.
— Ишь ты, шустрик, — проворчала Изаура, но не шевельнулась.
Я повернулся, словно бы устраиваясь поудобней, и рука сама собой скользнула вниз. Коротенькая рубашка задралась, пальцы коснулись кожи. Дальше полагалось быть резинке трусиков, но ее не оказалось — только кожа, теплая нежная кожа.
— Тебе на работу утром?
— А ты думал!
Она отвечала довольно грубо, но это не имело значения, потому что одна моя рука уже гуляла по едва заметным ее грудкам, а другая перебирала жестковатые волосы на лобке. Я спросил, где мать, не заявится ли ненароком. Оказалось, в отъезде. Я ласкал худое, слабо развитое тело, еще совсем не женское, оно никак не отзывалось на мои руки. Ну и бог с ним! Ей ничего не надо было, но ведь и мне ничего, после Дюшки если что и требовалось, так это неделя отдыха. Вот что мне необходимо было позарез — это раздвинуть, согнуть в коленях равнодушные чужие ноги и накрепко связать чужое тело со своим. Символ, не более того — но символ драгоценного союза, в который способны вступить только мужчина и женщина, символ надежности в постоянно предающем мире, знак любви, заботы и верности — пусть лишь на тот малый срок, пока гайка не сорвется с винта.
— Повернись ко мне, — сказал я.
Это был акт вежливости, не более того, я уже знал, что не повернется, но и не воспротивится, когда я сам ее поверну. Мне и раньше попадались такие, со своим представлением о хороших манерах: когда язык «Нет», а ножки в стороны.
Тропинка к блаженству была совсем узка, я едва не застрял в дверях. Реакции не было ни на что, если женщина и стонала, то от боли. Словом, кайфа не словил — но я и не ждал кайфа. Я ждал, что чужая баба станет моей, пусть и условно моей, что возникнет та минимальная степень родства, которую дает даже случайная постель.
Она, похоже, и возникла — минимальная.
— Прости, — повинился я, — не мог один.
Дважды говорил ей это, сказал и в третий раз — что делать, если правда была именно такой.
— Успокоился? — спросила Изаура.
— Вроде да.
— Ну и слава богу. А то думала, у тебя вообще крыша поедет.
— В такой ситуации и у тебя бы поехала. Хоть бы что понимал! То следят какие-то, то звонят — сиди дома, то — беги… Я уж и так думал, и этак — ни хрена. Никакой причины!
— Совсем никакой? — В ее голосе все же было легкое недоверие.
— Ни малейшей.
Она долго молчала, прежде чем задать вопрос:
— Ты искал чего-нибудь?
— Да ничего я не искал! — почти крикнул я.
— А люди думают, что искал.
— Какие люди?
Она не ответила, и я пожалел, что спросил, похоже, она и так сказала мне больше, чем имела право.
— Ладно, пес с ними, пусть думают. Ты только не думай. У меня вся эта история вот где сидит! Ну вот клянусь тебе — ни сном ни духом. И даже объяснить некому!
— Может, сами поймут, — сдержанно утешила она, — пока тебе надо просто не попадаться. Один человек тоже так решил, что ты тут ни при чем.
— А чего ж тогда они лезут?
— Чего лезут, — хмыкнула она, — того и лезут. Велят, и лезут, не знаешь, что ли?
Мы полежали молча, ее слабая сиська была в моей ладони почти не ощутима.
— Если днем пойду пошляюсь, — спросил я, — как потом назад попаду? Второго ключа нет?
— У матери, — ответила она и, подумав, нашла выход: — Будешь уходить, сунь под коврик.
Мы так и уснули рядом. Ситуация была нелепей не придумаешь. Но ведь и все мои ситуации в эти дни были нелепей не придумаешь. Все до единой.
Утром, уходя, она отдала мне ключ. Я так и не узнал, как ее зовут. Обнялись и поцеловались, как любовники, а имя так и не узнал.
Впрочем, выйдя через час на улицу, я без особых усилий выяснил у мальчишки во дворе, кто живет в восьмой квартире. Естественно, мне это ничего не дало. Ну Лидка, ну Полухина — и что? Какая разница?
Я купил жратвы на двоих и бутылку. Выбор был малый, шампанское или портвейн, взял портвейн — во-первых, подешевле, во-вторых, девки такого типа обычно предпочитают сладкое. Вот и пусть будет сладкое.
Я вернулся в свой временный дом, поджарил яичницу и поел как следует. Странно, но я больше не боялся. Была глубоко скрытая нора, был день за окнами, самый обычный день, была женщина, какая-никакая, а моя, с которой вечером, бог даст, раздавим бутылочку, прежде чем ее неумелое тело поступит в мое распоряжение. Как постельный партнер она Дюшке в подметки не годилась. Но она и не была постельный партнер. Она была мой союзник и телохранитель, уж не знаю почему, но была. Дюшку можно было трахать, а к этой можно было хорошо относиться. Даже сейчас, когда я знал, что она Лидка, я про себя называл ее Изаурой, как сперва пошло, так и затвердилось.
Я позвонил на работу, сказал, что не приду и завтра, наверное, не приду, так получается. Шефа, моего ровесника, это не слишком огорчило — не придется придумывать мне занятие.
Позвонил Антону. Он был в конторе, ничего подозрительного не заметил, похоже, они его совсем потеряли из виду. ОНИ. Мы оба не знали, был им нужен он или случайно прицепились, потому что вышел из моего подъезда. Впрочем, я ведь и про себя не знал, зачем нужен. Искал я что-нибудь? Да пошли вы все к такой-то матери, ни хрена я не искал!
Рядом с телефоном лежал трепаный блокнотик. Я раскрыл: так и оказалось, книжка с телефонами. Чья, Изауры или матери?
Перелистал — вроде была общая, Иван Иванычи, Вальки и Стасики располагались рядом. У меня возникла идейка, и я стал набирать женские номера, где без отчеств. Слушал ответ и клал трубку. На седьмой или восьмой раз повезло — голос оказался знакомый.
— Женька, перезвони, — сказали на том конце провода, — опять не фурычит.
Я положил трубку, снова набрал.
— Алло! Алло! — старалась моя таинственная доброхотка. — Жень, попробуй еще раз.
Я опять перезвонил.
— Не, не пробивает, — сдалась она, — ладно, слушай, выйди в три к Макдоналдсу… ну, рядом там, у «Наташи». Если слышишь, клади трубку.
Я положил трубку.
Я узнал не так много, но и немало. Имя — Алена. Телефон. В три будет у Макдоналдса, то есть рядом. «Наташа» — вроде есть там такой магазин.
Пойти? Наверное, стоит. Вдруг что угляжу.
Я не знал, понадобится ли мне эта случайная информация, и был противен способ, каким я ее добывал. За мной следили — а теперь вот и я как бы начал следить, выискивать, высматривать. Пойду на чужое свидание. А самое мерзкое, что выслеживал я не тех, от кого шла угроза, а тех, кто от этой угрозы меня уводил.
Не ходить? Забыть имя и номер? Но кто знает, не придется ли жестоко пожалеть, что не удержал мазнувшую по ладони ниточку…
Времени впереди было навалом, и я вспомнил про писанину Федулкина. Бог ты мой, его же как раз сегодня хоронят! А я вместо того, чтобы идти на кладбище, собираюсь небрежно, будто мусор в ведро, выбросить ненужные часы на рукопись, с которой он связывал столько надежд. Так всегда бывало — Федулкину доставалось только самое бросовое, самое никудышное время.
Тем не менее я достал рукопись, догадываясь, что если из этой бредятины выберусь целым, то пару часов на федулкинскую «Хронику» не найду уже никогда.
На сей раз я пропустил всю теорию, все жалкие похвальбы — аутотренинг невезучего автора — и начал сразу с действия. С авантюры. С эксперимента. Правда, там и дальше попадались общие рассуждения, пейзажи и даже цитаты, но я через всю эту изящную словесность просто перескакивал, даже длинные придаточные предложения не читал, чтобы не отвлекали от сути.
В таком сильно урезанном виде федулкинская «Хроника» выглядела приблизительно так.
«…Честно говоря, я предпочел бы любую авантюру, кроме этой. Но я обязался не спорить с судьбой. Что же делать, если три попытки не вылились ни во что, и лишь эта, самая сомнительная и в общем-то стыдная, дала хоть какой-то результат. Полторы недели назад я в один день заложил четыре эксперимента, пообещав себе пойти по той тропинке, которая первой ляжет под ноги. Увы, девочка не позвонила, бомж исчез, вполне удовольствовавшись бутылкой крепленого, знаменитая актриса не ответила на восторженное письмо, а там, где ожидал меньше всего, сработало. О’кей, именно этот путь пройду до конца, чем быстрее, тем лучше, хотя бы для того, чтобы внутренне освободиться.
Итак — подробно и с начала.
У входа в метро я наткнулся на объявление:
„Потеряна коричневая папка с документами. Нашедшему гарантирую большое вознаграждение. Звонить вечером…“ Дальше — номер. Я папку не находил и об объявлении тут же забыл бы, если бы в полуметре, на той же стене, не увидел второй экземпляр того же объявления. Еще в метро их был целый куст. Поболтавшись у метро три минуты, я насчитал двенадцать бумажек разного качества, от густо-черных до бледных — три закладки. Кто-то явно не поленился. Особенно впечатляло тринадцатое объявление, написанное крупно, от руки. Там текст был вовсе уж отчаянный:
„Гарантирую вознаграждение на ваших условиях“.
Неужели эта вшивая папка так нужна?
У меня сразу возникла идея авантюры, прямо скажем, не очень порядочной, но любопытной. Я прошелся по пятачку перед метро и наметил план. А полтора часа спустя наклеил другие объявления, почти того же содержания, но с моим телефоном. Главная разница была та, что большого, да еще подчеркнутого вознаграждения я не гарантировал. Хотя, разумеется, вознаградить тоже обещал.
Свои объявления я не стал клеить на стену станции — тот, кто идет внутрь, слишком спешит, чтобы читать написанное мелким шрифтом, тот, кто выходит из метро, эти бумажки просто не увидит, потому что на спине глаз нет. Так что свои слезницы я пристроил у всех автобусных остановок, на табачном киоске, на газетном и на двух коммерческих. Посмотрим, кто из нас лучший психолог, я или этот растеряй.
Естественно, я не исключал, что папку уже вернули. Но это был мой риск. Не такой уж большой: три закладки, двадцать минут. Нет так нет. Во всяком случае, еще один авантюрный вариант. Хотя я больше всего надеялся, что девочка, которую я снял у молочного магазина, действительно поедет со мной на месяц в Котлас. „Почему в Котлас?“ — спросила она. А я ответил, что название нравится.
Увы, девочка не позвонила. Позвонил парень, студент, сказал, что нашел папку. Через час он принес ее, отдал прямо в прихожей, получил свою тридцатку и даже сказал „спасибо“. Папка была новая, кожаная, стоила уж никак не меньше полтинника. Так что я в любом случае не прогадал. Вот такая неинтеллигентная мысль у меня мелькнула.
Парень ушел. Я сунулся было в папку, но потом бросился следом — столь неожиданное везение показалось мне подозрительным. Однако парень спокойно сел в подошедший троллейбус. На подъезд он не оглянулся ни разу. Кажется, на самом деле повезло.
Я купил сигарет, вернулся домой и уже не торопясь полез в папку.
Денег не было. Драгоценностей не было. Акций и всяких там сертификатов не было. Какие-то счета на сумму до полутора тысяч. Незначительное деловое письмо на имя исполнительного директора малого предприятия „Сретенка“ Суконникова В.В. — „Уважаемый Владислав Владимирович!..“ Приглашение из Дома ученых на то же имя. Пачка визитных карточек. Гороскоп из „Московского комсомольца“, сложенный вчетверо.
Я разложил визитки. Их было штук пятнадцать, десять из них на имя Владислава Владимировича Суконникова, кандидата экономических наук, доцента Высшей школы профсоюзного движения. На визитках было два телефона, служебный и домашний. Домашний начинался на 939, как и в объявлениях у метро. Я сверил цифры — совпало.
Я порылся в кармашках папки и нашарил прозрачную пластиковую обертку, внутри которой был конверт, заклеенный, без адреса. Может, в нем дело?
Я посмотрел конверт на свет. Какие-то бумажки. Денег нет, это точно.
Можно было подвести маленький промежуточный итог. Итак, авантюра развивается. Есть папка. Есть хозяин папки. Но нет никакой ясности, почему вознаграждение большое, да еще на моих условиях. Вскрыть конверт? Но тогда можно остаться вообще без всякого вознаграждения, хотя я и так еще не решил, буду ли его брать. Скорей, все-таки буду, поскольку и деньги нужны, и мои хлопоты хоть чего-то ведь стоят? Не слишком приятно, конечно, было выступать в роли чего-то вроде рэкетира. Но сейчас рэкет стал обычной профессией, да ведь я никому и не угрожал: меня попросили об услуге, я ее выполнил, а бесплатных услуг в наше время не бывает.
На всякий случай я набрал номер — просто проверить, существует ли такой в природе, голос послушать. Однако после первого гудка в трубке что-то щелкнуло, и я нажал на рычаг. Сейчас в моде определители номера, ты еще слова не вякнул, а тебя уже засекли. Лучше из автомата. Спокойней.
Можно было, конечно, сразу спуститься и позвонить, но я проявил разумную осторожность: пообедал, покурил, почитал и лишь после этого пошел к автомату, чтобы второй звонок не выглядел продолжением первого. По дороге я попытался сформулировать, зачем мне все эти сложности. Видимо, все дело было в вознаграждении на моих условиях. Тут пахло большими деньгами, а где замешаны большие деньги, там всегда опасность. Не исключена и мафия. Во всяком случае, это важный психологический момент.
Мне ответил мягкий женский голос, и я сказал, что хотел бы поговорить с Владиславом Владимировичем. Возникла странная пауза, и я добавил, что разговор будет по вопросу, который Владислава Владимировича интересует больше, чем меня. Снова была пауза, и лишь потом женщина спросила:
— Извините, кто его просит?
— Он меня не знает, я просто по делу.
— Видите ли, — сказала женщина и запнулась, — Владислава Владимировича больше нет.
— Как нет? — глупо спросил я.
— Он умер. Завтра будет девятый день.
Я забормотал что-то сочувственное и повесил трубку. Честно говоря, я был совсем растерян. Всего ожидал, но не этого.
Я вернулся домой, сел к столу и беспомощно уставился на папку. Что с ней делать? И вообще что делать? И — надо ли мне что-нибудь делать?
Впрочем, кое-что предпринять, пожалуй, стоило немедленно. Я пошел к метро и сорвал все мои объявления, стараясь сотворить это понезаметней. Кажется, удалось. Я понятия не имел, сыграла ли моя афера какую-нибудь роль в смерти незнакомого мне человека, скорей всего, никакой, он ведь умер спустя день или два после того, как я расклеил мои дурацкие афиши. Но все равно было неприятно, я оказался чем-то вроде мародера. А мародер — это еще хуже, чем рэкетир.
Может, стоило сказать про папку женщине? Наверное, жена.
Отнести, и все. Черт с ней, с тридцаткой, тем более что она себя уже отработала: психологических деталей с этой папкой я набрал минимум на триста рублей. Но как отнести? Что сказать?
Хотя можно ведь ничего и не объяснять. Нашел у метро, и все…
Я перезвонил. Голос был тот же.
— Извините, — заторопился я, — я вам звонил… Видите ли, я, собственно, хотел отдать Владиславу Владимировичу папку, коричневую, вы, может, знаете. Но теперь, раз так вышло…
— Да, да, — сказала женщина, — большое вам спасибо. Но видите ли, сейчас… Если бы вы могли перезвонить дня через четыре… ну, через пять…
Я торопливо ответил, что, разумеется, перезвоню, опять выразил сочувствие и повесил трубку. Она явно не знала, о чем идет речь. Владиславу Владимировичу папка была почему-то очень нужна. А его домашние запросто могут ее, не раскрывая, отправить на антресоли.
Психологический момент, который надо запомнить: то, что одному необходимо, для другого не имеет никакой цены. Скажем, набросок романа, который бесценен только для автора, а вдова может в него селедку заворачивать.
Как ни странно, я почувствовал облегчение. Некрасивый вопрос с большим, да еще на моих условиях, вознаграждением отпал сам собой. И слава богу. Я человек весьма небогатый, но рад, что не смог заработать на чужой беде. В конце концов уважение к себе тоже ценность.
Между прочим, и это немаловажный психологический момент. Вообще, что мне нравится в этой авантюре — она вся пронизана психологией.
Дома я опять раскрыл папку и все бумажки пересмотрел внимательней. Но нет, не было ни одной интересной. За такую мелочевку не обещают златые горы.
Я решил, что теперь, когда Суконников перестал быть собственником своих секретов, заклеенный конверт потерял свою неприкосновенность. Если в нем тайна, ее раскрытие Владиславу Владимировичу уже не повредит. А вдруг там что-то срочное, что покойный хотел сделать и не успел? Все равно ведь кто-то вскроет запечатанное письмо. Так почему бы и не я? Лучше, чтобы жена? А вот это не факт, бывают тайны как раз от жен.
Обычно я конверты надрывал. А тут не стал — поставил чайник, подержал над паром, как заправский шпион, и довольно легко расцепил две полоски влажного клея. Ай да я! Оказывается, и на это гожусь.
В конверте было две бумажки. Одна — витиевато написанное предписание всем подведомственным организациям оказывать всю необходимую помощь подателю документа в его работе относительно объекта. Что за организации, что за работа, что за объект, понять было невозможно. И подпись была витиевата — не подделаешь, но и не разберешь. И бумага была, какой я раньше не встречал, с двумя золотистыми и одной красной полоской сверху, однако без печати и штампа. Кто-то очень сильно темнил, но зачем — я понять не мог.
Да, еще имелась дата — 21.8.91.
Вторая бумажка была совсем уж странная. Что-то вроде личной записки, адресованной непонятно кому, полной тайн и намеков на что-то, не названное ни разу. „Это“. Внезапно получил „это“, надо было „это“ увезти, но времени уже не было, возникли сложности, „это“ нельзя было держать у себя, но и получателю нельзя было передать, но и отправителю нельзя было вернуть, так что ночью, под дождем, пришлось переместить „это“ в очень неожиданное место, а именно, как в старинных романах, зарыть… В общем, тайны мадридского двора. Обращение в записке было, но тоже странное: „Дорогой Бармалей!“
Автор записки, видимо Суконников, выражал надежду, что Бармалей поймет написанное без особого труда. Заканчивалась записка совсем уж литературной инструкцией: „По прочтении, пожалуйста, уничтожь“.
Сам текст представлял собой полную абракадабру. То есть Бармалей, вероятно, легко бы ее расшифровал, ибо то и дело шли указания личного порядка: „помнишь наш разговор возле Толиной высотки“, „сняли трех студенток“ и так далее. Но постороннему человеку, такому, например, как я, она не говорила ничего. Абсолютно ничего.
Вместе с тем я шкурой почувствовал, что это не розыгрыш, не анекдот, а нечто важное, возможно, самый важный документ, который мне когда-либо приходилось держать в руках. И просто порвать эту бумажку или сунуть в ящик стола было бы не просто глупо, а преступно глупо. Было ясно, что где-то недалеко, во всяком случае в пределах досягаемости, зарыто нечто значительное, скорей всего, ценное, что легко нашел бы Бармалей, не потеряй Суконников свою папку на входе или на выходе из метро. Но до Бармалея записка не дошла, она лежала сейчас на моем грязном столе, и у меня, как прежде у Суконникова, не было никакой возможности доставить „это“ ни отправителю, ныне покойному, ни получателю, о котором я не знал ничего. В принципе я и сам мог бы „это“ раскопать — мог бы, если бы хоть приблизительно знал, где раскапывать. Увы, у меня не было ни единого шанса это узнать.
Впрочем, как говорили у нас в школьные годы, риск не писк.
Я положил перед собой чистый лист бумаги и попытался выписать из обеих бумажек, лежавших в конверте, одни только факты.
Первый факт был тот, что бумажки лежали вместе: видимо, обе они предназначались Бармалею и между ними была связь. Хотя это был уже мой вывод, и я пока что его зачеркнул.
Второй факт — предписание, написанное от руки на очень хорошей бумаге, имело датой 21 августа девяносто первого года, очень запоминающийся день.
Третий — письмо адресовано Бармалею. Мафиозная кличка? Детское прозвище старого приятеля?
Четвертый — „это“ было получено внезапно.
Пятый — „это“ пришлось зарывать ночью, под дождем.
Шестой — „это“ опасно было держать дома.
Седьмой — „это“ нельзя было отдать получателю.
Восьмой — „это“ нельзя было вернуть отправителю.
Девятый — автор записки дважды упоминал свою собаку, хотя и в очень странном контексте: „Если встать на мою собаку и глядеть на мою собаку“… Тайное указание? Но на что?
Десятый — автор записки несколько раз ссылался на детали, понятные, видимо, только ему и Бармалею.
Одиннадцатый — „это“ он зарыл где-то недалеко от Толиной высотки.
Были и еще кое-какие фактики, но их я выписывать не стал ввиду полной непонятности.
Теперь можно было попытаться сделать первичные, хотя бы самые черновые выводы, выстроить очень приблизительную картину, дополнив факты напрашивающимися предположениями.
Скорей всего произошло (по крайней мере, могло произойти) следующее.
Некто важный, имеющий власть, 21 августа, то есть в день провала коммунистического путча, поручил Суконникову переправить „это“ какому-то получателю. „Это“ могли быть и деньги, и валюта, и золото, и секретные бумаги, и документы на право распоряжаться заграничными счетами, вообще что-то ценное. Вероятно, и бумага, на которой писалось предписание, и подпись, и почерк были так хорошо известны в „подведомственных организациях“, что ни в штампе, ни в печати не нуждались.
Дальше получилось так, что Суконников выполнить поручение не смог. „Это“ нельзя было отдать получателю (арестован?) и нельзя было вернуть отправителю (арестован?). Короче, Суконников оказался владельцем чего-то, что представляло большую ценность и было крайне рискованно держать у себя. Это было время, когда партийные и гэбэшные связи рвались в самых неожиданных местах, функционеры были в панике и не знали, чего им ждать. Решение закопать „это“ было, видимо, разумным, и сделать это пришлось быстро, ночью, невзирая на дождь. Напротив, пожалуй, дождь был очень кстати, ибо в хорошую погоду в Москве нелегко найти безлюдное место даже ночью, особенно недалеко от „Толиной высотки“, то есть не на окраине, а в достаточно центральном районе.
Бармалей, по всей видимости, был хорошим приятелем или даже другом Суконникова, они вместе „снимали студенток“, у них вообще было много общих воспоминаний, так что записка, совершенно дремучая для посторонних, скорей всего, легко прочлась бы Бармалеем. Может, между Суконниковым и Бармалеем существовала даже какая-то договоренность о совместном владении „этим“, внезапно ставшим бесхозным. Впрочем, тут мои домыслы зашли уже слишком далеко.
Еще факт, печальный, но бесспорный: Суконников умер. Абсолютно неясными оставались два важных практических вопроса. Первый: имеет ли смерть Суконникова отношение к „этому“? Второй: кто такой Бармалей, в чьих руках ключ от загадочной записки, позволяющей найти „это“? Были, конечно, и еще вопросы, но я их себе даже не ставил, понимая, что ответить все равно не смогу. „Труба“, „милиция“, „диван“ — все это было слишком неопределенно. И что означает собака, на которую надо встать?
Впрочем, тут я, кажется, несколько поторопился. Собака — это было уже нечто вещественное. Надо бы узнать, есть ли у Суконниковых собака. Если есть, стоит на нее поглядеть. Авось что-нибудь и подскажется.
Итак, не откладывая дела в долгий ящик, можно было сосредоточиться на трех вещах: выяснить обстоятельства смерти Суконникова, попробовать узнать, кто такой Бармалей, и собрать информацию насчет собаки, если этот друг человека существует в природе.
На визитке Суконникова был рабочий телефон, на одной из квитанций оказался телефон малого предприятия „Сретенка“. Более чем достаточно.
Утром я решил начать с малого предприятия: предприятие малое, значит, и народу мало, значит, каждый на виду. Дождило, но я не поленился, пошел к автомату. По дороге заглянул в газетный киоск, подлизался к бабке-киоскерше, и она наменяла мне монеток — я чувствовал, что их потребуется немало.
— Сретенка, — сказали мне скучным тоном.
Я спросил Суконникова. Получилась существенная пауза. Потом поинтересовались:
— А кто его спрашивает?
Я стал длинно и косноязычно объяснять, что он меня не знает, что меня попросили отдать ему одну вещь и т. д. Я специально придуривался — с дурака какой спрос! Собеседник дал мне высказаться и лишь потом произнес:
— А что за вещь?
— Да мелочь одна, — тянул я, — папочка небольшая.
Для меня все это было совершенно неожиданно. Я предполагал, мне тут же скажут, что Суконников умер — вот тогда я, опешив, и начну выспрашивать, как и отчего. Но со мной говорили так, будто Владислав Владимирович отъехал на полчасика перекусить.
— Куда он может вам перезвонить?
Я сказал, что живу в Мытищах и телефона нет.
— Тогда давайте мы к вам человека подошлем.
Я ответил, что рад бы, но как раз сейчас еду в Москву и готов зайти к ним сам.
— Подъезжайте, — сказали мне вполне доброжелательно, — адрес знаете?
Я сказал, что нет, и мне тут же назвали улицу, дом и даже код. Естественно, я никуда не поехал, а тут же набрал другой телефон Суконникова, тот, что был на визитке. Тут повезло больше.
— Суконникову вы уже ничего не передадите, — значительно проговорил вальяжный, знающий себе цену баритон.
Я, конечно же, удивился.
— Нет Суконникова!
— А когда будет?
— Теперь уже никогда не будет, — ответил баритон с каким-то печальным удовольствием, — Суконников, дорогой товарищ, уже неделя как на кладбище.
Я забормотал, что этого не может быть и т. д.
— Теперь все может быть, — последовал ответ со значением.
— Инфаркт, да?
— Хм, инфаркт. Дадут железкой по голове — будет инфаркт.
— Его убили? — как бы не поверил я.
— И очень капитально!
— Но кто?
— Хм, кто… Демократы! Сейчас везде демократы: и в мафии, и в милиции.
— Но хоть поймали их? — вопрошал я, пропуская политику.
— Как же! — с сарказмом возразил баритон. — Станут они ловить, свои-то своих. Одна банда! У нас, мой дорогой, за неделю два трупа: сперва Суконников, а в среду Бармалаев из райкома. В одной аудитории лекции читали — а теперь вот на одном кладбище. Одного в машине, другого в собственном доме.
— Застрелили, что ли?
— У нас не Чикаго, — с горечью сказал мой собеседник, — у нас Россия-матушка. Железкой по башке, и тю-тю, ручки крестом.
— Жуть какая-то, — вполне искренне ужаснулся я. Два убийства — это и в самом деле было чересчур, хотя, надо сказать, насчет Суконникова я чего-то подобного не исключал: где „это“, там рядом и кровь. Конечно, вторую смерть я даже отдаленно не мог предположить — но и она меня не настолько сбила с панталыку, чтобы я забыл еще одну цель своего звонка. — Может, мне тогда жене его отдать? А то неудобно как-то.
Баритон сказал, что теперь, при демократах, все удобно, но адрес покойного, порывшись где-то, все же дал. Ломоносовский проспект, дом и квартира.
Спрашивать адрес второго покойника было уже немыслимо.
Итак, авантюра разрасталась с ужасающей быстротой: закопанное „это“ и два убийства.
Прежде всего я порадовался, что все свои переговоры вел только из автоматов и вообще находился на порядочной дистанции от „этого“. Вместе с тем теперь, когда ни отправителя, ни адресата загадочной записки не было в живых, я оказался, возможно, единственным владельцем ключа к чему-то, закопанному дождливой ночью вскоре после путча в неожиданном месте. Хотя как пользоваться этим ключом, я понятия не имел. Утешало, что теперь, после гибели Бармалея-Бармалаева, специалистов по ключу на белом свете вообще не осталось. Я знал хоть что-то, другие вовсе ничего.
Затем следовало решить, как быть дальше: раскручивать эту авантюру или, как говорили в каком-то фильме, наплевать и забыть? Понятно, что после двух убийств последнее было бы гораздо благоразумней. Однако надо было учитывать и другое: я получил шанс, какой одному из миллиона выпадает один раз в жизни. Рассчитывать, что судьба еще раз поцелует в лобик, было бы не только самонадеянно, но и просто глупо, а уж кем-кем, а дураком я себя не считаю. Да если чудом и получу право на вторую попытку, кто гарантирует, что она окажется безопасней? Даже в детских сказках сокровища стерегут драконы.
Спокойно поразмыслив, я выработал разумный и осторожный план действий. Не суетиться, не торопить события, не возникать там, где могу засветиться, звонить по рискованным номерам только из автоматов и потихонечку собирать информацию об „этом“, которую можно получить, не подвергая себя опасности. Пусть на это потребуется даже год — не страшно. Чем больше пройдет времени, тем лучше для меня. Драконы не могут бесконечно бесноваться вокруг сокровища, которое запрятано неизвестно где. Устанут, смирятся, займутся другими делами — и тогда можно будет, лучше всего опять-таки безлюдной дождливой ночью, прийти и выкопать „это“. Если, разумеется, до того времени удастся определить место, где „это“ закопано.
Впрочем, тут таилось и некоторое противоречие.
Конечно, безопасней всего просто залечь на дно и возобновить поиски через полгода-год. Но, с другой стороны, к тому времени люди, способные что-то разъяснить, либо забудут важные детали, либо, не приведи господь, умрут. Двоих уж нет. Жены, домочадцы, сослуживцы пока что функционируют. Но объем полезной информации, заключенный в их головах, с каждым днем будет уменьшаться. Сегодня, допустим, хотя бы несколько человек помнят, что делал и говорил Суконников в последнюю неделю перед гибелью. А что сохранится у них в памяти через год?
Короче, напрашивался вывод: нужно узнавать все, что можно, но при этом к опасной зоне не приближаться, поскольку может выйти себе дороже.
Координаты Бармалаева я выяснил быстро и без труда, просто через справочное бюро: мужчин с такой фамилией в Москве числилось лишь трое, причем один жил в Зеленограде, а второму было семьдесят шесть лет. Только Бармалаев Константин Максудович, пятьдесят пятого года рождения, прописанный в районе Мосфильмовской, подходил вполне.
Теперь для дальнейших изысканий у меня были две точки: квартиры погибших. И предлог имелся вполне уважительный. В конце концов, в руках у меня была чужая папка, и я, как порядочный человек, просто обязан был либо вернуть ее Суконниковым, либо передать Бармалаевым, если, конечно, допустить, что старому другу Бармалею предназначался не только пакет, но и вся папка. Но это были уже детали, и я, человек посторонний и случайный, мог их просто не знать.
Вдова Суконникова, если со мной говорила она, просила позвонить через пять дней. Тем больше было оснований начать с Бармалаевых. Я пошел к автомату и набрал номер. Тут тоже подошла женщина.
Я спросил:
— Извините, квартира Бармалаевых?
Мне не сразу ответили, что да.
Я сказал, что телефон мне дали на кафедре, что я случайный человек, что просто Владислав Владимирович хотел кое-что передать Константину Максудовичу, но теперь, когда случилась эта трагедия…
Договорить мне не дали — женщина сразу перешла на крик:
— Да не знаю я ничего, отстаньте вы от меня, ничего я не знаю, никто мне ничего не говорил, все переломали, все забрали, нет у меня ничего, оставьте вы нас в покое!
Я был так ошеломлен, что даже не помню, кто первый бросил трубку. Наверное, я, ибо такой скотиной я не чувствовал себя уже давно.
Ясно стало лишь одно: эту вдову крепко достали. Кто-то уже пытался собрать информацию и располагал для этого гораздо большими возможностями, чем я. Наверняка это была не милиция, верней, не только милиция — после официальных расследований так не кричат.
Зато с собакой мне повезло. Здраво рассудив, что лучшего друга человека минимум дважды в день выгуливают, я отправился на Ломоносовский проспект. Правда, по дороге посетило сомнение: а вдруг никакой собаки нет, вдруг это просто некий знак, символ, понятный закадычному другу Бармалею и темный для всего остального человечества? Или, скажем, шутливое прозвище некоей приятельницы или даже любовницы? Но я решил, что в конечном счете рискую только свободным вечером, а свободными вечерами я в данный момент достаточно богат.
Дом оказался огромный, сталинский, с башенками, сквериком и даже фонтаном — в таких домах случайные люди не живут. Это было еще одно подтверждение моих предположений: очевидно, в недавно покинутой жизни Суконников что-то значил.
Я вошел в подъезд, лифтом поднялся на нужный этаж, но выходить не стал, а осуществил заранее придуманный план: хлопнул дверью лифта, а сам поехал выше. Сработало великолепно — вслед мне из-за той самой двери донесся короткий, но густой и уверенный лай. Любовницы так не лают.
Итак, кое-что я выяснил. Но мне, естественно, хотелось большего. Я спустился на площадку между этажами и стал ждать. Минут через сорок в районе нужной двери послышались возня, шевеление, мелкий топот и повизгивание. Я тут же вытащил сигарету и закурил: курение на лестнице самое оправданное и невинное из занятий. Дверь отворилась, и я увидел пса — он был чуть поменьше овчарки, морда потупее, цвет шоколадный… остальное я не разглядел, так как вслед за псом на площадке возник крупный мужчина в модной кожаной куртке, пожалуй, тоже шоколадной, но потемней. К сожалению, я немного растерялся, поскольку рассчитывал на женщину, ибо точно знал, что Суконникова похоронили. Пока доходило, что ничего странного тут нет, потому что мужчин в Москве много — есть и братья, и друзья дома, и даже любовники, почему бы и нет — пока я все это соображал, нынешний хозяин собаки уперся мне в лицо жестким взглядом человека, не привыкшего отвлекаться от конкретных дел: уж если смотрел, то видел. Я сразу понял свою оплошность, надо было одеться максимально прилично. Хотя и это вряд ли помогло бы — на лестницах таких домов случайные люди не курят. Увы, что сделано, то сделано.
Впрочем, ничего ужасного не произошло. Мужчина вызвал лифт, впустил пса и вошел сам. Машина, сберегающая здоровье, поехала вниз, а я бросился следом.
Во дворе было почти темно. Гражданин с собакой неторопливо шел в сторону проспекта Вернадского. Пес делал вид, что его ничуть не огорчает поводок — сразу чувствовался аристократ, гордящийся собственной породой. Гражданин свернул за угол, к новому цирку, там оказалось посветлей, и я разглядел пса получше. После чего решил не искушать судьбу и заспешил к метро. Не дай бог новый хозяин собаки обнаружит повышенное внимание к своей особе. Я не знал про него ничего, но одно было очевидно с первого взгляда: лучше не связываться.
Кстати, неплохо бы на досуге поразмышлять, почему одни люди сразу вызывают у нас симпатию, а другие тревогу и неприязнь. Так, человек в кожаной куртке не сказал мне ни слова — но от него словно бы исходили волны угрозы и вражды.
Назавтра я пошел в библиотеку и взял большую и красивую, на глянцевой бумаге, книгу „Собаководство“. Я листал ее, не торопясь, получая удовольствие от прекрасных картинок и столь же прекрасных названий: эрдельтерьер, пинчер, сеттер, мраморный дог, сенбернар, ротвейлер. Только овчарок было штук пятнадцать, одна другой интересней. Чтение затягивало, и я стал просто переворачивать страницы, пока не наткнулся на нечто подобное вчерашнему благородному зверю. По сути, похоже было все, кроме цвета. Пес был черный, он так и назывался — черный лабрадор. Суконниковский, к сожалению, был точно не черный.
Решив, что обознался, я перевернул страницу. Ура! Тут уж ошибки не было. Этот красавчик назывался тоже лабрадором, но золотистым: оказывается, бывают и такие. Золотистый лабрадор. Он, именно он.
Заложив страницу бумажкой, я долистал книгу до конца, уже совершенно бескорыстно, и лишь тогда вернулся к закладке. Да, золотистый лабрадор, других кандидатов не было. Если встать на мою собаку… Абракадабра, чистая абракадабра. Но ведь что-то значит? На что-то намекает? Зачем-то упомянут в записке наш четвероногий друг?
По дороге домой я вертел в голове название породы по-всякому, но успеха не ощущалось. Лабрадор… Камень? Еще есть, кажется, такой полуостров, если не ошибаюсь, в Канаде. Ну и как на них встать? На камень еще можно, а на полуостров? Встать на камень и глядеть на камень? Встать на полуостров и глядеть на полуостров? Или дело не в лабрадоре, а в том, что он золотистый? Допустим, „это“ имеет тот же цвет. Ну и что? Если встать на золото и глядеть на золото…
Лабрадор как будто кладбищенский камень. Но — черный. И — где кладбище рядом с высоткой? Вообще клад, зарытый на кладбище, — не слишком ли романтично? И неужели именно на кладбище покойные друзья сняли трех студенток? Что-то не вытанцовывалось.
Правда, оставалась еще возможность — кличка. Черт его знает, как этого пса зовут. Ну, например, Арбат. Если встать на Арбат и глядеть на Арбат… Тогда, может, и Толина высотка будет кстати (Арбат почти упирается в задворки МИДа). Или, скажем, Разгуляй — чем не собачья кличка? Если встать на Разгуляя и глядеть на Разгуляй… Там вроде нет высотки. Но гостиница у трех вокзалов не так уж и далеко… Короче, если по-быстрому сгонять на Ломоносовский и расспросить пацанов во дворе… Ну не могут же не знать, как зовут такую выдающуюся собаку! Вроде бы мелочь — а очень многое может проясниться.
Осторожность, напомнил я себе, осторожность. Когда все быстро получается, может повезти не только тебе, но и тому, кто, допустим, за тобой издали наблюдает. Если „это“ настоящая ценность, а по-видимому, так оно и есть, в зоне его притяжения просто не могут не пастись всякие опасные кладоискатели. И если кто-то из них обратил на тебя хищный взор — а тот супермен в модной куртке, между прочим, именно обратил, — то самое разумное на пике везения совершить непредсказуемый, невероятный с точки зрения логики поступок.
Я такой поступок совершил — лег на дно.
Я закупил харчей, запас чаю, сигарет и четыре дня не выходил из дому. Отключился от всех дел и забот. Писал, только писал. Здесь, на этих страницах, все, что пока произошло. Пожалуй, такой наполненной паузы в моей жизни больше не было.
Тем не менее, мне кажется, какую-то ошибку я все же совершил. На чем-то прокололся. За эти четыре дня мне звонили разные люди, но был и пяток, не меньше, странных звонков. Звонок — и молчание. Проверяют? Но кто?
Возможен, конечно, и более приятный вариант — глупая влюбленная баба. Однако таких на горизонте не возникало уже давно.
Что я ощущал, когда в очередной раз трубка на все мои вопросы и подначки лишь тихонько потрескивала? Беспокойство — да. Пожалуй, даже легкий страх. Но прежде всего — любопытство, причем не житейское, а творческое. Мне интересно. Интересно, кто развлекается. Интересно, что будет дальше.
Вопрос: когда к жертве приближается убийца, жертве интересно, как ее будут убивать? Психологический момент!
Есть легенда — когда актер Качалов был смертельно болен, жена спросила его: „Вася, тебе страшно?“ Он ответил: „Не страшно, но и не любопытно“. Мне бы, пожалуй, было любопытно.
Хотя, может, это я сейчас так думаю, когда в реальности нет никакой почвы для тревоги, кроме неопределенных предчувствий? Тем более что уже два дня нет и таинственных звонков. Еще один психологический момент…
Итак, сегодня или завтра я могу без риска закрыть последнее из легко доступных мне белых пятен — имя собаки (понятие „кличка“ плохо сочетается с такой изысканной псиной). Любой мальчишка во дворе охотно окажет мне помощь. Из школы ребята возвращаются между часом и двумя. Практически любой пятиклассник…»
Я так вчитался в федулкинский манускрипт, что был разочарован и раздосадован, когда страница оказалась последней. Ведь ничего не завершилось! Это было как приключенческая книжка с оторванным концом. А дальше что?
Дальше Федулкина убили.
Но это было много дальше. Между последней страничкой машинописи и смертью под забором детского садика произошло, возможно, немало всего.
Что я знаю точно?
Во-первых, эту рукопись Федулкин оставил у меня. С целью или так? Понять это было невозможно, поскольку он часто так делал. Иногда просил прочесть, иногда просто оставлял, а то и забывал, и тогда я читал без просьбы, вернее, делал вид, что читал, бегло пролистывал, чтобы было что сказать при встрече. Федулкину много не требовалось. «Знаешь, а интересно!» Он краснел и начинал удовлетворенно бормотать, что это еще не окончательный вариант. Можно было, во имя истины, обойтись без оценок. Какая-нибудь двусмысленная фраза типа «Ты, старик, авангардист» или «У нас это не напечатают» вполне сходила за похвалу.
Во-вторых, Федулкин, очень серьезно относившийся к собственному творчеству, редко печатал свои эпохалки в одном экземпляре. Он боялся всего: ареста, обыска, пожара, грабежа, хотя только полному шизофренику пришло бы в голову грабить Федулкина. Разные копии он разносил по знакомым, именуя это конспирацией. На сей раз мне достался первый экземпляр. Может, второй он притащил Антохе? Надо будет проверить. А если какая-нибудь копия попала не в те руки… Впрочем, это была всего лишь заготовка, а черновики Федулкин не размножал.
В-третьих, он собирался пойти к тому дому на Ломоносовском, где мог, например, просто случайно столкнуться с тем суперменом в куртке или еще с кем-то, кто тоже искал «это».
Я попытался убедить себя, что занимаюсь в общем-то ерундой, строю версии из ничего. Ведь могло получиться совсем иначе: пошел провожать бабенку, а ревнивый ухажер выследил и… Но в такую случайность поверить было еще трудней: может, и Суконникова с Бармалаевым убили ревнивые ухажеры?
Совсем уж холодком прошло по животу неизбежное сопоставление: Федулкину звонили, не отзываясь, потом убили, мне звонили, не отзываясь… Неужели и меня каким-то образом подвязали к «этому», о котором я не знаю ничего, кроме вычитанного сегодня из записок Федулкина? Впору было заорать: «Да отстаньте, ничего я не знаю!» Но ведь и Федулкин, по существу, не знал ничего. А вот заорать не успел. Или — не услышали. Или — не поверили.
Я глянул на часы. Время не поджимало, но в общем-то пора было собираться. Я позвонил Антону в контору — сказали, ведет занятие. Этого мне было вполне достаточно: ведет — значит, живой.
Я запер дверь, сунул ключ под коврик и пошел к метро.
На Пушкинской, как всегда, была толчея, не протолкнуться — хвост к Макдоналдсу, коробейники у раскладных столиков, торгаши победней прямо на тротуарах. Двери в «Наташу» не закрывались, женщины сновали туда-сюда, лица мелькали, всмотреться времени не было. Но меня снующие не занимали — только те, что стоят у входа.
Пока не стоял никто.
Всплыла еще задача. К ней надо было подготовиться. Оглядевшись, я пошел на угол, где в разных сочетаниях перетаптывался молодняк, и выбрал подходящую рожицу — лет восемнадцать, легка на знакомство, любопытна, явно погуляла по чужим койкам, но и не профессионалка, скорее привержена популярному принципу «почему бы и нет?».
Я спросил:
— Минут двадцать найдется?
Краткость срока девчонку озадачила, на всякий случай она глянула надменно.
— Помоги, а?
На человеческую просьбу и ответ был человеческий:
— А чего надо делать?
— Тут рядом, три шага, — сказал я и потащил ее к арке поблизости, — постой тут со мной, ладно? На той стороне баба появится, позовешь. — Я кинул взгляд через улицу.
— А чего сам не можешь?
— Надо, чтобы голос женский.
Теперь у входа в магазин стояли четыре дамы. Две сразу отпали по возрасту. Из молодых я предпочел бы крепышку с довольно симпатичным самоуверенным лицом. Впрочем, та, что меня интересовала, могла и просто не прийти.
Крепышка глянула на часы, повертела головой. Я негромко сказал своей сообщнице:
— Видишь, в красной куртке? Алена зовут. Крикни погромче.
Она постаралась. Не знаю, было ли что слышно на той стороне улицы, во всяком случае красная куртка не среагировала никак. Зато крепышка дернулась и обернулась. Я шагнул в арку. Что было надо, уже увидел. Она. Я спросил свою помощницу:
— Не постоишь со мной еще чуток?
— А надо?
— Не надо, не просил бы.
Она пожала плечами. Я приобнял ее, как свою, и она поняла это правильно, то есть по-шпионски:
— Следишь, что ли?
— Приходится.
Моя крепышка тем временем подошла к автомату, уверенной улыбкой потеснила очередь из двух мужиков и, набрав номер, коротко кинула в трубку что-то недовольное. Наверное, Женю отчитала. Так ему и надо. Или ей. Пусть не опаздывают.
Я думал, сейчас уйдет. Но нет, осталась. Остался и я.
Подумав, я спросил свою сообщницу:
— С родителями живешь?
— А что?
— Да ночевать сегодня негде.
Она ответила, не удивившись:
— У меня полна коробочка, сама бы ушла, да некуда. И мать, и брат с женой.
Я догадался отойти подальше, и хорошо, что догадался: из подворотни, где мы пару минут назад конспиративно обнимались, вышел парень в свитере, один из тех, что тогда болтался во дворе. Теперь он, правда, был не в свитере, а в модной трехцветной ветровке, но я легко узнал его гибкую спину и пританцовывающую спортивную походку. Он подошел к Алене и помахал в воздухе ладонью, как президент на трибуне.
Я думал, они куда-то пойдут, но крепышка не двинулась, так и разговаривали на проходе, почти у дверей магазина. О чем шла речь, я не слышал и догадаться не мог, но кое в чем ошибиться было нельзя: беседа не приносила радости ни тому, ни другому. Алена нападала, агрессивно глядя на малого снизу вверх, он небрежно пританцовывал, голова с издевкой покачивалась. Кончилось быстро: крепышка, что-то зло выкрикнув, шагнула к тротуару, чуть не упершись руками в капот, остановила «жигуленок» и, кинув два слова водителю, села рядом с ним. А длинный парень опять по-президентски вскинул ладонь. После чего пошел назад в арку, все так же пританцовывая, словно хвастая мышцами ног.
— Все? — сказала моя сообщница — я про нее почти забыл.
— Еще чуток, — попросил я и тоже пошел к арке, не снимая руку с ее плеча.
— А чего лапшу вешал? — спросила она. — На той стороне, на той стороне…
— Да уж больно противно, — ответил я не в лад, но ее эта бессвязность как будто устроила.
— Твоя девка?
— В чем и суть, — кивнул я, предоставив ей самой придумать убедительную историю.
— А мужик?
— Подонок, — произнес я совершенно искренне.
— И чего будешь делать?
— Вот это мне и надо решить.
— Не бери в голову, — утешила она, — весь мир бардак, все девки бляди.
Я ответил что-то в тон.
Мы прошли так три, а то и четыре квартала. Малый впереди был виден хорошо, рост способствовал. Я сторожился случайного взгляда, но он, как ни странно, ни разу не оглянулся. Ничего не опасался! Он шел по городу, будто это был его город, и переулок его, и люди вокруг ему подчинялись. Что его охраняло? Собственная сила и сноровка? Лапа наверху? Вроде бы и верха сменились, и власть не та, а он ничего не боялся. Хозяин.
А потом он вдруг исчез.
Я ускорил шаги и быстро понял, куда он делся: в стене старого трехэтажного дома была дверь, мало что низкая, но еще и утопленная в тротуар. Обычный подвал, несколько ступенек вниз и окна в решетках.
Я повернулся и так же, в обнимку с понятливой попутчицей, пошел обратно. В первый же поперечный переулок свернул, это позволило бросить взгляд назад. Кажется, пронесло.
Только тут мне стало страшно. Слишком уж далеко я забежал на минное поле. А в таких случаях войти куда легче, чем выйти. Выйти сложно, Федулкин вот не сумел.
— Ну, засек? — спросила девчонка.
— Да вроде.
— Мстить будешь?
— Там видно будет.
— А ты плюнь, и все. Было бы из-за чего! Все дырки одинаковы.
— Это верно, — согласился я.
У нее телефона не было, у меня был, но до трубки не дотянуться. Она сказала, что часто болтается на Пушке.
— А чего?
— Да ничего. Все веселей, чем дома.
На том и расстались. Может, и есть на свете бабы лучше москвичек, но мне не попадались.
Я вновь позвонил Антону на работу. На сей раз его позвали, и мы договорились встретиться. Ни за мной, ни за ним вроде бы никто не следил, но конспирация уже вошла у нас в привычку: не спеша прошлись по улице, внезапно прыгнули в отходящий автобус и вышли на остановке, где не вышел больше никто. И машина не тормознула ни спереди, ни сзади. Между домами мы прошли на параллельную улочку, нашли лавку в открытом дворе и уселись. Хорошее место, незаметно не подкрасться.
Я сразу спросил о главном:
— Федулкинскую рукопись смотрел?
— А это не рукопись, — сказал Антон, — это папка какая-то. Чужая, не знаю, при чем тут он. Вроде мужика какого-то там есть координаты, можно позвонить.
— Не звонил?
Он покачал головой, и у меня отлегло от сердца. Я рассказал про федулкинскую «Хронику» так подробно, как мог.
— Интересно, — бормотал Антоха, — очень интересно.
Оказалось, Федулкин принес папку, когда забегал последний раз. Встреча была под «лимонную», и он ее, видимо, просто забыл. На эту тему Федулкин не разговаривал и после не позвонил. Впрочем, через два дня он уже и не мог позвонить.
— Ты записку видел? — спросил я.
— Видел.
— И что?
— Ребус. Намек на намеке, сплошной подтекст. Я, правда, вникнуть не старался, цели такой не было, но фразочки там… «Если встать на мою собаку и глядеть на мою собаку…» Очевидно, жаргон для узкого круга. Вот мы с тобой говорим «классик», и понятно, что Федулкин. Наверное, и у них так. В общем-то Федулкин все верно изложил. Что можно разобрать, он разобрал, ну вот еще кличка собаки. А дальше все, темень, сплошная гимнастика ума. Так что, наверное, «это» раскопают археологи лет через триста.
Помолчали, и я заговорил о том, что меня больше всего удивляло и беспокоило:
— Понимаешь, чего я не могу просечь? Они ведут себя как хозяева. Запросто ходят в милицию. За мной следили — они же практически не прятались, дежурили во дворе, будто из КГБ. А эти убийства? Троих похоронили, и хоть бы хны, никакого шума, будто ничего не произошло. Просто по теории вероятности хоть в одном случае должны были найти убийц.
Антон вдруг встал с лавочки. В стороне по тротуару плелся какой-то парень с длинной трубкой для чертежей. Антон подошел к нему, что-то спросил. Тот, опустив голову, ответил, и Антоха вернулся ко мне.
— Ты чего это? — удивился я.
— Время спросил.
— У меня же часы.
— И у меня. Я просто проверил, так сказать, следственный эксперимент. Вот представь, у меня в рукаве железка. Он наклонился, а я ему раз по кумполу! Потом я в одну сторону, ты в другую, а у метро встретились. Как думаешь, нас поймают?
Я задумался. А верно, поймают? Кто нас видел? Кто-то, может, и видел здесь на лавочке, но хоть бы и видел — на черта нужно было нас запоминать? Пока не убили, мы никому не интересны. Значит, станут раскапывать мотивы, шуровать по родным, по знакомым, искать врагов…
Антон сказал:
— Тебе не кажется, что в этой ситуации нам все же следует что-нибудь предпринять?
— Что?
— Ну не вся же милиция у них в кармане.
Я ответил:
— Не знаю. Потому что не знаю, кто такие ОНИ. Но чего я точно не хочу — это чтобы меня, как Федулкина, нашли утром на тротуаре…
В центре магазины еще работали, кое-что я все же успел. В окне у Изауры горел свет. Я позвонил. Она сказала:
— А я уж думаю, куда делся.
Она придвинула мне тапочки, женские, но разношенные.
— Ишь ты, накупил, — ворчала Изаура, и видно было, что довольна она не столько едой, сколько самим фактом — мужик притащил харчи. Она и стол в кухне накрыла на два прибора, по-семейному, и про матрасик больше не вспоминала, обе подушки сразу же положила на диван.
Уже в койке я спросил:
— Убьют, хоть плакать будешь?
— А то! — сказала она и, подумав, добавила: — Шляйся меньше, вот и не убьют.
— Мать когда вернется?
Пошевелив губами, она сосчитала, что, наверное, в пятницу.
— Придется выметаться, — проговорил я словно бы про себя. Изаура промолчала.
— Домой мне пока нельзя?
Она произнесла неуверенно:
— Наверное, нельзя.
— А когда можно будет?
— Скажут.
Дальше спрашивать было неудобно.
— Ну, до пятницы-то вон сколько, — успокоила она, — может, чего придумается.
— Чего?
— Ну… отменят.
— Что отменят?
— Да все. Ты же не ищешь. Вот и отменят.
— А чего надо искать? — придурился я.
— Наоборот, не надо.
— Ну и слава богу, — сказал я с облегчением. В общем-то я не врал. Таинственная записка занимала меня, но не больше, чем нерешенный кроссворд. Не то чтобы не хотелось неожиданно разбогатеть, иногда я даже мечтал об этом — но вяло, как мечтает средний студентик о любовнице-кинозвезде. В отличие от Федулкина я был уверен, что таким, как я, богатство не достается — впрочем, таким, как он, тоже. Федулкин воспринял туманную возможность слишком всерьез, потому и погиб. Если бы он попытался добыть три или пять тысяч, ну десять даже, он бы, наверное, рано или поздно их нарыл. А он нацелился на «это», что было глубоко неразумно. Новичок может прыгать с трехметровки, ну с пятиметровки — но не с Крымского моста. Я с моста прыгать не собирался. Я просто забавлялся головоломкой, и то потому, что она сама попала ко мне в руки. Я бы с радостью выкинул из памяти и папку с запиской, и даже ни в чем не повинную федулкинскую рукопись, если бы меня оставили в покое. Но тем, от кого я прятался, нужен был как раз я, я сам, и интеллектуальные развлечения вокруг чужой тайны не меняли в моей судьбе ничего. Встать на собаку и глядеть на собаку… Может, все-таки Лабрадор? Может, есть в Москве, в районе загадочной Толиной высотки, переулок или тупик с таким странным названием?
Я вдруг сказал:
— Давай уедем?
Я сам не знал, откуда взялась эта фраза. Видно, что-то копилось подспудно и вдруг прорвалось. И недели не прошло, как началась вся эта мерзость, а я уже наелся ею под завязку. Обрыдло! Прежняя жизнь теперь казалась мне чуть ли не раем. Конечно, она была не бог весть какая, но моя, только теперь я ее оценил. Были дом, работа, заработок, да, маленький, зато дважды в месяц, как штык, с гарантией. Был город, мой город, где я шлялся, как хотел, где, уходя с работы, точно знал, что приду домой, а ложась спать, был уверен, что проснусь. И мог шпарить с ребятами в преферанс, а потом возвращаться ночью. И мог привести любую бабу, если соглашалась.
Все ушло. А той Москвы, что окружала меня нынче, жалко не было. Искать крышу на ночь, пересчитывать последние деньги, оглядываться, прятаться… хоть бы знать, от кого! Да на хрена мне такая жизнь и такой город!
Девчонка, лежавшая рядом, была глупа, невежественна, безвкусна, да и в постели никакая — но как бы здорово прожить с ней год где-нибудь в глухом поселке, где все всех знают и никто ни за кем не следит. Ведь не объявят же на меня всесоюзный розыск! Целый год в глуши с молчаливой бабой — ну не роскошь ли? А постель — что постель! За год всему научится: и как лечь, и как встать, и как губы сложить, и как ноги раздвинуть…
— Уедем, а?
Она спросила:
— На выходные, что ли?
— Да нет, совсем. Ну, скажем, на год.
— Ты чего это? — повернула голову Изаура, явно не принимая мои слова всерьез, видно, уже втемяшила ей действительность, что мужик в койке чего только не предложит.
— Я серьезно.
— А куда?
— Куда хочешь. Хоть на юг, хоть на восток. Сядем в поезд, и тю-тю.
— А жить где?
— Снимем.
— У тебя что, денег много?
— Заработаю.
На большие деньги я не надеялся, но уж меньше, чем здесь, получать не буду. Руки есть, а за руки нынче стали платить. Вывернусь.
Она думала довольно долго, но, видно, так ничего и не решила.
— Тебе чего, так, что ли, плохо?
— Сейчас не плохо, а завтра? Вернется твоя мать — куда мне?
Опять долгая пауза. Потом сказала:
— Ладно, спрошу.
У кого она собиралась спрашивать? У НИХ? Или над ней нависали другие ОНИ?
— Завтра спрошу.
Я согласился: завтра так завтра.
Всего вторую ночь проводил я в этом панельном убежище, но, видно, уже обжился, потому что страх отпустил, зато остро почувствовалась вся унизительность моего положения. Что чужой дом, что завишу от незнакомых доброхотов — это, в общем, была ерунда. Все мы друг от друга зависим, и ничего ущемляющего достоинство в том нет, тем более для меня, человека не гордого. Унизительно было другое: баба, которая со мной хорошо ли, плохо ли, но спала, безропотно подчинялась кому-то, мне не известному. Спала со мной, а была не моя, и все в ней было для меня закрыто, кроме дырки между ног.
Где-то уже за полночь позвонили — это был первый при мне звонок сюда, видно, знакомыми моя подружка была не очень-то богата. Она голяком прошлепала на кухню, к телефону. Разговор получился на редкость немногословный.
— Нормально, — сказала она. И потом, немного погодя: — Ага.
Вернулась, легла рядом.
— Домой пока что не ходи. До послезавтра.
— А что послезавтра?
— Там видно будет.
— О’кей, — согласился я. Что будет видно послезавтра, спрашивать не стал, все равно ведь не скажет, лишний пинок по самолюбию. Вот жизнь! Вроде и коммуняк запретили, и КГБ разогнали, а я разницу не ощущал, даже похуже стало. Опять кто-то где-то решал за меня без меня, а мое дело было слушать и выполнять. И деться некуда.
К утру раздражение не прошло, пожалуй, даже усилилось, и это стало тревожить. Я себя знал: если заведусь, сорвусь с тормозов, все может пойти вразнос, а в моем положении любая глупость может оказаться последней. Выход был, может, единственный: сейчас, пока башка еще достаточно трезвая, уступить натуре, отвести душу, то есть сделать что-нибудь, чего делать нельзя.
Едва ушла Изаура, я решил заняться тем, на чем, вероятно, как раз и прокололся бедняга Федулкин. Кличка собаки. Еще одно слово в кроссворде.
Самый простой способ подсказывала рукопись — расспросить мальчишек во дворе. Рукопись же от такого способа и остерегала — именно на этой акции она и оборвалась — увы, вместе с жизнью Федулкина. Немного подумав, я нашел метод не столь быстрый, но куда более безопасный. Я узнал по справочному телефоны пяти клубов собаководов, ближайших к Ломоносовскому проспекту, и стал их обзванивать. Я выступал в респектабельной роли хозяина золотистой лабрадорской суки, которой ищу достойного кобеля. А чтобы не возникало никаких подозрений, притворялся дураком, провинциалом, недавно перебравшимся в Москву, не вхожим в круги и боящимся, что подсунут полукровку. Я тупо требовал адреса всех, непременно всех кобелей. Ни фамилия, ни телефон владельца меня не интересовали — только кличка и родословная. Я мычал, крякал, косноязычил, как умел, и, похоже, ни у кого не вызвал опасений: по благородной отечественной традиции подозрения у нас вызывают только умники.
В четвертом клубе мне дали то, что надо: безупречная родословная, куча медалей, интеллигентный хозяин. Даже фамилию назвали, хотя я не просил — по их спискам Суконников проходил живым.
— Кобель? — переспросил я недоверчиво, словно боясь, что подсунут суку.
Меня успокоили:
— Кобель, кобель. Кличка «Бридж», четыре года.
Кличка «Бридж»…
Ну и что? Что это может значить?
Есть такая карточная игра, даже первенства проводят, говорят, вроде преферанса, но посложней. А связь какая? Встать на игру и глядеть на игру? Встать на карту и глядеть на карту?
Может, кроме официальной клички, есть какое-то домашнее имечко? Вроде как Антон и Антоха?
Бриджик? Бриджит?
Бесполезно…
Да, кажется, Федулкин погиб зря.
Я позвонил Антону. Голос у него был странный. Я спросил, чего там. Сказал, что ничего особенного, но разговор довольно долгий, лучше при встрече. И сам предложил — на Валином пятачке.
Пятачок этот на самом деле был не пятачок, а короткий бульвар с клумбой посередине, где лет пять назад я познакомился со студенточкой по имени Валя, и месяца два как раз на том бульварчике мы и встречались. Роман давно кончился, а кликуха к месту приросла. У каждого своя феня: у Суконникова с Бармалеем Толина, высотка, у нас с Антоном Валин пятачок.
Почему он выбрал именно Валин пятачок, я легко догадался, и догадка меня не успокоила: из клубика, где Антонов кооператив со средним успехом качал деньги из абитуриентов, мой друг хотел выйти не через главный вход, не через служебный, а мастерскими через склад в переулок. Переулок же, поизвивавшись, как раз и упирался в бульвар.
Встретиться мы договорились в обед, время оставалось. Оставалось на то, чего делать не стоило, но хотелось. А если нельзя, но очень хочется, то можно — вроде бы так утверждал знаменитый юморист?
День был солнечный, светлый, людная Тверская казалась мирной и даже праздничной. Хотя, по сути, она такой и была, это только мне за каждым углом чудилась засада.
Но вокруг была такая толчея, столько разного люда сновало, даже переулки были так забиты машинами и прохожими, что я успокоился: ну кому придет в голову высматривать меня в десятимиллионной Москве! Люди шли по своим делам, и я пошел по своему. Переулок за переулком, как тогда — вот только приметная спина в модной ветровке впереди не маячила.
Тот дом с низкой дверцей при солнце тоже смотрелся весело, прошел мимо, лишь чуть скосив глаза в сторону. Увидел мало, но для начала хватило.
Рядом с дверцей были два низких подвальных окна в решетках, прутья редкие, но человеку не пролезть. Внутри я разглядел брусья, штангу с тусклыми блинами и еще что-то подобное. Спортзал, что ли? Какие-то фигуры шевелились, но на шаге лиц было не разобрать, а приглядываться я не рискнул.
Дошел до перекрестка, свернул влево, прогулялся до угла и назад. Так и ходил туда-сюда в смутной надежде, что вдруг повезет.
Примерно через час действительно повезло: я увидел, что из низкой дверцы выходят. Замедлил шаг — оказалось, вышла целая компания, четыре мужика. Повернулись спиной в мою сторону и двинулись к Тверской. Я пошел следом, метрах в семидесяти, отделенный от них и скрытый толпой.
Тех было четверо. Двоих я сразу узнал — малый в кепочке, с которого все началось, и длинный — теперь он опять был в свитере. Двоих других вроде бы прежде не видел.
На Тверской парни спустились то ли в метро, то ли в подземный переход. Туда я не пошел. Я вернулся назад и еще раз прогулялся мимо забранных в решетки окон. На сей раз рискнул пройти помедленней и глянуть повнимательней. Различил, кажется, еще одну знакомую фигуру — какой-то малый лежа толкал штангу, я узнал его по широченным плечам. Хотя мог и ошибиться, широкие плечи нынче не примета.
Но в главном я, пожалуй, не ошибся. Там, за решетками, был не спортзал, ни к каким олимпиадам там не готовились. Там просто качали мышцы для разных практических дел. Голы, очки, секунды делаются в других местах. А в этом подвале набирались силы и уверенности парни, что следили за мной, а потом держали осаду во дворе, те самые парни, которые что-то ко мне имели, а может, и собирались убить. Теперь я понял, почему тот, в кепочке, был так нахален в первый же день. Все они такие — качки, герои, настоящие мужчины, мать их…
Больше баловаться с судьбой я не стал, переулками вышел на Бульварное кольцо и не спеша, поскольку время было, повернул к Валиному пятачку. В голове у меня все помаленьку складывалось, основное, пожалуй, уже понимал.
Возле клумбы Антона не было. Я сел на лавочку и огляделся. Ничего тревожного, мамки да няньки пасли малышню, два старикана трудились в шахматы, пять других подавали советы.
Антон возник у меня за спиной неожиданно, я даже испугался.
— Порядок, — успокоил он, — просто проверял. Кажется, в данный момент ни мной, ни тобой никто не интересуется.
Я спросил, чего это он не мог сказать по телефону. Антон покрутил головой, даже к старикам за шахматами пригляделся очень внимательно.
— Возможно, я тоже влип, — сказал он.
— Из чего это видно? — поинтересовался я очень серьезно, потому что сразу ему поверил. В этом бреде была своя железная логика: раз влип Федулкин, почему бы не влипнуть и мне, ну а если влип я, следующий на очереди, естественно, Антоха. Мы были как детишки в яслях, где началась корь, каждый просто обязан был ее подхватить, вопрос только — когда.
— Звонят и молчат, — негромко проговорил Антон.
— Часто?
— Не часто, но довольно регулярно.
— На работу шел, ничего не заметил?
Он помотал головой.
— Может, случайность?
— Не исключено, — согласился Антон холодновато. Мне был понятен и ответ, и интонация. Действительно, не исключено, просто мог у кого-то автомат не срабатывать. Но ведь и другое не исключено. Федулкину звонили, автомат не срабатывал — кончилось кладбищем. Мне звонили — слава богу, живой, хоть и превратился в бомжа. Теперь Антону звонят.
— Думаю, что с папкой делать, — сказал он. — Дома держать опасно, отдать кому — все равно что гадюку подбросить в дом. Я вот тут анализировал ситуацию… Чего лыбишься?
Я объяснил:
— У нас с тобой все синхронно. И я анализировал.
— И выводы?
Я сказал, что окончательных выводов в общем-то нет, но картина приблизительно выстраивается. Суконников спрятал нечто важное — кодовое название «это». Суконникова убили чем-то тяжелым по голове. «Это» мог найти Бармалаев — Бармалаева убили чем-то тяжелым по голове. Федулкин на свою беду включился в поиски «этого» — Федулкина убили чем-то тяжелым по голове. С Федулкиным ближе всего контачили я и Антон — на меня стали охотиться, теперь, возможно, вышли на Антоху. Совершить три убийства, не попасться, да еще и организовать почти открытую осаду — для этого надо быть либо очень влиятельным, либо сильно богатым. То есть или ГБ, или мафия. Больше шансов, что ГБ, потому что «это» прятали после августа, в большой спешке.
— Пока логично, — кивнул Антон.
Одну деталь я объяснить не сумел: папку с той самой запиской Федулкин оставил у Антона, а следили за мной.
— Это как раз понятно, — досадливо отмахнулся Антоха.
— Там им что, не папка нужна?
— Конечно, папка. Потому за тобой и охотились. Сперва следили за Федулкиным. Он к тебе зашел с папкой, а вышел без.
Я уставился на него с недоумением.
— Ну «Хроника», — сказал он, — эпохалка. Ведь тоже папка, так?
— Обычная картонка.
— Он ее как приволок?
— Как обычно, в авоське. В газетку была завернута.
— Ну вот видишь! Откуда им было знать, та или не та?
— Так им папка нужна или я?
Он подумал немного.
— В принципе, видимо, папка. Но видишь, какая ситуация? К папке имели отношение три человека. И всех троих нет в живых. Мы с тобой, слава богу, целы.
— Пока, — уточнил я.
— Вот именно, — сказал Антон сдержанно.
Я вдруг понял, что положение у нас с ним очень разное. Да, я нынче бомж, домой вход заказан, в контору не сунуться. Но я все же спрятан, меня опекают, хотя и неизвестно почему. А куда деться Антону? У него не просто контора, у него работа, абитуриентов на две недели не бросишь. Да и дома мать, смыться все равно не получится. А не смываться… Где гарантия, что сейчас я его вижу не в последний раз? А ведь это я его втянул в процесс с очень уж мутным финалом, я попросил тогда притащить харчи, практически подставил. Не кто-нибудь, а я.
— Папка дома? — спросил я.
— Где же ей еще быть.
— Может, мне отдашь? — Раз уж я не мог избавить его от опасности, я хотел разделить ее с ним, как тогда он разделил со мной мою опасность.
— А ты куда денешь?
— Придумаю.
— Нет необходимости, — сказал Антон, — это ничего не изменит. Когда Федулкина убили, папки у него уже не было. И у Бармалаева, кстати, не было. Тут какая-то другая закономерность. Может, просто за то, что много знали.
— Но с папкой все равно надо что-то делать.
Антон невесело улыбнулся:
— Знаешь, я вот думал… Зачем к хорошим людям беду притягивать? Лучше всего спрятать папку ни у кого.
— То есть? — не понял я.
— Ну, допустим, в дупле.
Я усмехнулся:
— А чего, идея. Если только тот сарай не сгнил и не сгорел.
— Будем надеяться, — сказал Антон.
Дуплом в блаженные школьные времена мы с Антохой называли общий тайник, полое пространство под крышей одного из самодельных гаражей. Сперва мы прятали там портфели, когда прогуливали, потом приключенческие книжки, позже журнальчики с голыми бабами, ловили кайф, мучились дурью по молодости. Последний раз дуплом воспользовались лет двенадцать назад — Антоха оставил для меня пачку презервативов, которые в тот вечер, к сожалению, не понадобились: телка была не против, но свободная хата неожиданно уплыла, а для сырого оврага девочка оказалась недостаточно романтична…
Теперь мы с Антоном поменялись ролями: он тем же переулком пошел в контору, а я издали смотрел, не следят ли за ним. Вроде было спокойно, не следили. Хотя, с другой стороны, зачем выслеживать человека, если известно, куда он придет ночевать?
Где ночую я, они пока не знали. Но надолго ли моя нынешняя нора?
Я подумал, что сейчас самое время на всякий пожарный случай обзвонить знакомых — вдруг у кого обнаружится койка недели на две? Или, может, какая комнатуха на даче, конечно, холодно, но хрен с ним, лучше мерзнуть на даче, чем на кладбище. Словом, был полный смысл прямо сейчас вернуться на Кастанаевку и, пока нет Изауры, достать блокнотик…
Тут меня прошибло ознобом. Блокнотик… Я его что, взял? Я носков взял три пары. А блокнотик как лежал возле телефона, так и… Если лежит. А если нет? Если Антохин номер как раз и взяли из того блокнотика? Если я его еще и этим подставил? Раньше-то ему не звонили, а теперь звонят. И вообще кто знает, сколько знакомых по той книжечке выловят и начнут трясти?
Мне вдруг остро захотелось проверить, на месте блокнот или нет. И вообще глянуть, что там дома. Все же дом, единственный на свете мой. Я тогда убежал, а его оставил, и кто знает, что натворила эта сволочь в пустой беззащитной квартире. А что они были там, я почти не сомневался. Не для того же двое суток торчали в засаде, чтобы тихонечко сняться и уйти…
Я еще раз пожалел, что оставил блокнот на тумбочке у лежанки. Потому что сейчас мне бы очень пригодился один номер. Давно не набирал, забыл. То ли двести девяносто, то ли девятьсот двадцать, там, кажется, подстанция менялась… Впрочем, можно ведь и без звонка. Дом помню, квартиру найду. Впрочем, это не проблема: любой пацан в округе мгновенно укажет, где живет Максим Кононов.
Мы с ним учились в одной школе, он классом старше. Не дружили, но что-то похожее было: он любил рассказывать про знаменитых боксеров, а я любил слушать. Максим и сам был сильный боксер, раза четыре выигрывал Москву, на чемпионатах страны выходил в призеры. Типичный лидер, жесткий, волевой, уверенный в каждом своем шаге, лет восемь назад Максим ушел в тренеры — я не сомневался, что и там у него все получится. А его младший брат Генка, тот вообще был звездой, два раза брал Европу, долго входил в сборную. Еще три года назад его имя мелькало в спортивных колонках газет, и странно было связывать грозную репутацию с застенчивым миролюбивым парнем, обходившим стороной все уличные потасовки.
Максим был дома, но посреди комнаты стояли два раскрытых чемодана, и Максим с женой набивали их всяким барахлом.
— Далеко? — спросил я.
— В Африку, — сказал он, — к братьям по классу. Республика Мали — слыхал? Бананы есть, а бокса нет. Надо же помочь хорошим людям.
Я спросил, как платят, он ответил, что деньги не очень большие, но цвет красивый, все сплошь зеленые. Обещают коттедж, тогда можно будет и семью вытащить.
Мы поговорили о разных разностях, и я узнал, что у Генки тоже все в порядке, работает в «Спартаке», сейчас на сборах в Сочи. Максиму улетать предстояло в ночь, ни хрена не уложено, да и черт его знает, что понадобится в тропиках. Путаться под ногами в последние часы было неудобно, я посидел для приличия минут пятнадцать и распрощался.
На выходе из подъезда меня окликнули. Я обернулся: худощавый русый парнишка улыбался и махал рукой. Когда он подошел, я вспомнил: Славик, третий Кононов, самый младший. Когда-то в парке мы играли с Масимом и Генкой в волейбол, он тоже просился, а мы не брали. Вон ведь как вырос! Хотя и времени прошло…
— У Максима был?
Я ответил, что да, у Максима.
— А чего мрачный?
— Так ведь он улетает, — ответил я правдиво, но невпопад.
— Прилетит когда-нибудь, — ответил Славик.
— Когда-нибудь прилетит, — вздохнул я.
Славик посмотрел на меня повнимательней:
— Нужен был?
— Чего теперь говорить.
— А я не гожусь? — спросил он.
Я покачал головой.
— А то гляди. Морду кому набить — всегда пожалуйста, — засмеялся Славик.
— Тут специалист нужен, — возразил я.
— А я кто? Я же Инфизкульт закончил. Два года мастер.
— По боксу?
Он растянул рот до ушей:
— Семейственность, кругом блат. Два тренера дома! А правда, чего там у тебя?
Мы отошли чуть в сторону, сели на доску детской песочницы, и я рассказал Славику про всю эту историю, но очень кратко, без деталей, ни про записку, ни про Антона даже не упомянул. Мол, следят, приходится прятаться, домой нельзя, а в чем дело — понятия не имею. Насчет Федулкина с его рукописью, правда, осторожничать не стал, поскольку Федулкину уже ничто повредить не могло.
Как ни странно, Славика больше всего заинтересовал подвал с решетками, он выспросил и про переулок, и про парней, что оттуда тогда вышли, но по моим описаниям не узнал никого.
— Сейчас есть такие фирмы, — сказал он, — на заказ работают. Ты часом не кооператор?
— Куда мне, — ответил я, — думаешь, рэкетиры?
— Все может быть, — проговорил Славик, — у них там профиль широкий. И рэкет, и охрана, и месть, и убийство. Смотря на что наймут. Ты квартиру не меняешь?
— Нет, а что?
— Так тоже бывает. Договорятся об обмене, а клиент упирается. Ну и нанимают слегка попугать, чтобы быстрей соглашался. Хотя тогда приятеля твоего зачем мочить? Как его убили-то?
Я сказал, что проломили голову.
— Может, маньяк какой? — вслух соображал Славик. — Хотя с другой стороны — подвал…
Мыслителем Славик явно не был, в настроение мое не врубался, но, как ни странно, его легкомысленная физиономия и глуповатый смешок действовали успокаивающе. Он быстро отчаялся найти логику в моей истории, махнул рукой и сказал беззаботно:
— Ладно, чего зря мозги сушить! Вот сейчас чего надо? Домой сходить, так? Ну и пошли.
— А если ждут?
— Ну и что?
— Там ведь ребята здорово накачанные.
— Скулу не накачаешь, — отозвался Славик.
Потом он все же перестраховался, позвонил куда-то, и на выходе из метро нас встретил еще один паренек, помоложе, но и покоренастей. Парня звали Вовулей. Славик сказал, что он будущий чемпион (Вовуля смутился и промычал что-то протестующее), пока еще, правда, кандидат, но понадобится, так и мастера завалит. У входа во двор мы перестроились, Славик пошел со мной, а Вовуле велел отстать и приглядывать, чтобы в случае чего ударить с тыла.
Однако никакого случая не произошло. Во дворе было пустовато и тихо, лишь в самом углу возилась малышня под присмотром двух бабок. Мы поднялись на лифте, опять этажом выше, но и на площадке было спокойно. Лишь у самой двери я понял, что с того воскресенья ее и до меня открывали: на дереве у замка была глубокая свежая царапина.
Мы вошли, и все стало ясно: крохотная прихожая была завалена коробками, старыми журналами и совсем уж безнадежным барахлом, вытряхнутым с антресолей. И комната смотрелась не лучше — книги на полу, газеты разбросаны, лежанка сдвинута, словно искали и под ней. К моему облегчению, на полу валялась и телефонная книжка — то ли обыск проводили не Шерлоки Холмсы, то ли моя частная жизнь интереса для них не представляла.
Штаны и рубашки в шкафу тоже были перерыты, но менее старательно.
— Да, порезвились, — сказал Славик.
Я поднял только блокнот.
— Пошли.
Славик обвел глазами разор в комнате:
— А это все?
— Потом как-нибудь.
Мне неохота было оставаться в этой квартире, вроде бы в моей, но уже и не моей, опозоренной и нечистой. Она была как изнасилованная женщина — ни в чем не виновата, а дотрагиваться неприятно.
Мы вышли, и я запер дверь.
— Чего-то надо делать, — протянул Славик задумчиво, — ведь не будешь век по углам скитаться.
Я согласился, что чего-то надо, хотя в голове не было ни здравой идеи, ни надежды, что она придет потом. Неизвестная мне жестокая и циничная сила вломилась в мою жизнь и шуровала по-наглому, как хотела, ничего не боясь и практически не скрываясь. Бояться и скрываться приходилось мне. Долго ли? А кто его знает. Может, все мои последующие дни. Ибо если этой силе почему-либо надоест давить и корежить именно меня, как я об этом узнаю?
Вовуля ждал нас на той самой приступочке у соседнего подъезда, где в субботу, сменяясь, дежурили мои опекуны. Мы пошли к выходу со двора, он догнал нас на улице. Ни слева, ни справа подозрительного я не увидел.
— Ну чего? — спросил Славик. — Тихо было?
— Ни писка, ни визга, — доложил Вовуля. У него были нежные ресницы и вдавленный, бандитский перебитый нос.
В одном из ближних дворов мы нашли тихую лавочку и устроили что-то вроде военного совета.
— Тут чего-то есть, — сказал Славик, — не просто так. Чего-то они к тебе имеют. Допустим, днем можно для хохмы. Но они же и ночью топтались. В дом залезли. Не просто же так?
— Просто так не полезут, — поддержал Вовуля.
Я не вмешивался — для меня период подобных умозаключений давно прошел. Они были мальчишки, симпатичные крепкие пацаны, искренне желавшие мне помочь. Я вполне мог рассчитывать на их боксерский опыт — но не на детские же головенки, которые в анализе вряд ли освоят и треть скудной информации, уже просеянной придирчиво Антохой и мной.
Но, оказалось, парни вообще не склонны к анализу.
— Суки, — сказал Вовуля.
Тут я был с ним полностью солидарен.
Славик вышел на обобщение:
— Вообще не люблю качков. Надуют мускулы и держат район, чего хотят, то и делают, цари и боги. Это же надо — чтобы человек домой не мог вернуться!
— Суки, — еще более убежденно повторил Вовуля.
Все время молчать было неудобно, и я сказал хмуро, в тон ребятам:
— И, главное, сделать ничего нельзя.
Однако, как выяснилось, тут наши убеждения в корне не совпали.
— Почему такое нельзя? — удивился Вовуля. — Так не бывает, чего-нибудь да можно.
Славик сослался на авторитет:
— Знаешь, чего наш тренер говорит? Он говорит: когда противник в стойке, всегда можно чего-нибудь сделать. Вот когда лежит, тогда уже ничего делать не надо.
— Но мы даже не знаем, чего они хотят, — проговорил я, с опозданием сообразив, что без права на то объединяю с собой этих пацанов вокруг сугубо моих проблем. Однако парни восприняли это как должное.
— А на хрена нам знать? — возмутился Славик. — Это их проблемы. Они наезжают, а не мы. Хамят внаглую, а за хамство надо учить.
— Это точно, — подтвердил Вовуля, — они нам в нос, а мы им в глаз.
Я слушал ребят, с удивлением ощущая, что напряжение, державшее меня все последние дни, начинает спадать. Парни были очень молоды и не очень умны, они знали про всю эту историю куда меньше нас с Антохой, но само их мышление было в принципе другим. Мы пытались понять происходящее, разглядеть его скрытые пружины. А эти два парня сразу же стали прикидывать, как половчее ответить ударом на удар. Мы с Антоном терялись, когда одичавшая жизнь бросалась на нас из-за угла, словно бандюга с ножом. Они же принимали это одичание как норму и всегда были готовы встретить нежданную агрессию прямым в скулу.
— Может, засаду устроить? — размечтался Славик. — Пожить у тебя дня три, вдруг зайдут проведать.
Вовуля одобрительно кивнул.
— Хотя, с другой стороны, могут и не появиться, — рассуждал Славик, — пошарили, нашли, чего искали, и ладно. Вполне возможный вариант. Вот меня лично сильно интересует подвал. Как смотришь, а, Вовуля?
Вовуля на подвал смотрел положительно.
— А то давай прямо сейчас, — предложил Славик, — чего тянуть?
Вовуля тянуть не хотел, а меня не спрашивали.
Мы двинулись к метро.
Что собираются ребята делать дальше, я понятия не имел, а любопытствовать было неловко, да и не хотелось: незаметно для самого себя из пугливой жертвы неведомого врага я превращался в солдата маленькой, но боеспособной армии, готовой и к обороне, и к атаке. А солдату вопросы не положены, солдат делает, что велят.
Сперва мы обошли вокруг квартала. Славику результаты понравились, мне тоже: сеть переулков, два прекрасных проходных двора, сквозной подъезд — отловить в этом лабиринте убегающего человека практически было невозможно.
— «Галантерею» на той стороне знаете? — спросил Славик. — Если что, там и соберемся.
Потом он дал краткое указание мне:
— Стой вон там на углу. Если что, не жди, рви когти к «Галантерее».
— А вы?
— Мы сообразим.
Мои способности соображать в расчет не принимались. Я запротестовал — мол, как это я их брошу и смоюсь? Но Славик объяснил, что я, во-первых, засвеченный, меня они знают. Что во-вторых, объяснять не стал, и так было ясно.
Теперь Славик был собран, лицо отвердело, взгляд прицельный — уже не парнишка, нет. И Вовуля словно бы подобрался.
Я остался на углу, до дома с подвалом было, наверное, метров семьдесят. Славик пошел к нему прямиком. Вовуля не спеша двинулся по другой стороне переулка, ротозейски поглядывая на верхние этажи, руки его болтались, как тряпичные — провинциал, типичный провинциал, шатающийся по столице без цели и смысла. Ничего опасного не просматривалось, и я тоже приблизился на десяток шагов.
Я думал, Славик бегло глянет в низкие окна и пойдет дальше, но он повел себя странно: остановился и чуть не бровями уткнулся в зарешеченное пространство, что было не только опасно, но и просто неприлично. Зачем он так? Неужели решил действовать по формуле Вовули — получить в нос, чтобы затем дать в глаз?
Не знаю, заметили ли его в подвале. Но снаружи явно засекли. Кривоногий малый с широченной спиной в четыре шага пересек переулочек и тронул Славика за плечо. О чем говорили, я, естественно, не слышал, но суть происходящего прояснилась быстро: кривоногий намахивался, Славик отступал. Мало того, низкая дверь, качнувшись, выпустила еще фигуру — мужчину лет сорока, я его видел впервые, в коротком молодящем пальто, с черным «дипломатом». Мне стало жутковато, потому что он оказался у Славика за спиной.
Кривоногий на новую ситуацию среагировал сразу: судя по движению плеча, на этот раз он ударил всерьез. Славик качнулся в сторону, от удара или сам — я не разглядел, заслонила парочка, мотнувшаяся с тротуара на мостовую. Когда же картина вновь открылась, я увидел, что кривоногий лежит, а мужчина в коротком пальто, поставив «дипломат» на асфальт, что-то кричит в раскрытую дверь.
Наверное, вблизи все смотрелось куда интересней. Я же разглядел лишь, как из подвала наружу рванулся какой-то парень, но внезапно возникший Вовуля, резко дернувшись вперед, вогнал его обратно, будто шар в лузу. Второй удар достался мужику в пальто.
Все это заняло, наверное, секунд двадцать. Но прохожие успели отхлынуть, на тротуаре и мостовой образовалось свободное пространство. Вдруг я увидел, как прямо на меня бежит Славик с чемоданчиком. Вовули не было видно. Над переулком висела странная тишина, потом крикнула какая-то женщина, взвизгнула тормозами легковушка…
Славик нырнул в проходной двор, за ним никто не гнался. Я увидел, что кривоногий стоит на четвереньках и вот-вот поднимется. Я повернулся и быстро пошел назад, потом за угол, где запомнил сквозной подъезд.
Вовуля уже стоял у «Галантереи». Славика не было.
— Вот видишь, — сказал Вовуля, — а ты сомневался.
— Здорово вы их! — искренне восхитился я.
Вовуля скромно отмахнулся:
— Делов-то. Это ведь проверено. Качки, они что? Они массу нагоняют. А резкости нет. Вид грозный, но в смысле спорта нули. Это раньше в боксе были ломовики, нам тренер рассказывал, станут друг против друга и молотят, кто первый свалится. А современный бокс — это умная игра. Тут чего надо? Резкость и мозги.
Он читал мне лекцию, а я слушал и вертел головой, высматривал Славика. Он появился неожиданно — высунулся из тормознувшего «москвича» и помахал рукой. Мы втиснулись в тесную старенькую машину. Ехали недолго и молча, Славик, сидевший впереди, все глядел в окно. Потом вдруг велел остановиться, сунул водителю сиреневую бумажку и вышел.
— Норма, — сказал он нам уже на тротуаре, — все путем.
Мы вошли в первую же арку и деловито направились в сторону реки. Бульварчик над обрывом был малолюден, мы легко углядели свободную лавочку, и Славик поставил «дипломат» на колени.
— Тяжелый, — сказал он, — золото, что ли?
— Или кирпичи, — предположил Вовуля и хохотнул.
Так вышло, что в жизни своей я не брал чужого. Из конторы, конечно, если надо, уносил по мелочам, от скрепок до ватмана — но то было не чужое, а казенное, чемоданчик же казенным не был.
— Ребята, — сказал я, — неприятностей не получится?
— В каком смысле? — не понял Славик.
— Ограбление не пришьют?
— Какое же ограбление? — удивился он. — Мы, что ли, напали? Мы-то никого не трогали, это они полезли. Необходимая оборона!
— Но чемодан-то…
— Военный трофей, — сформулировал Вовуля, и оба засмеялись.
Я не нашел, что возразить, уж больно непривычна была ситуация.
— Да брось ты, — успокоил Славик, — не суши мозги. Думаешь, заявят? Сейчас заявлять не в моде, если что, сами разбираются. А у них такая контора — им вообще лучше без шума. — Он постучал по крышке «дипломата». — Нам чего, это дерьмо нужно? Нам важно понять, чем они дышат.
Чемодан был закрыт на два замка. Славик потрогал блестящие железки, примерился, чуть напрягся — и оба язычка разом отскочили. Он поднял крышку.
— Надо же! — изумился Вовуля.
Чемодан был просто набит мужскими носками, нитяными и шерстяными. Все можно было предположить, но не это.
— Интересное кино, — сказал Славик. Он запустил руку в мягкий ворох, пошарил и достал пластиковый пакет с тремя флагами и успокаивающей надписью «Миру — мир». В пакете была чистая фланелька, в мягкой тряпочке аккуратный новенький револьвер. Славик оглянулся, быстро завернул револьвер в ту же фланель и отдал Вовуле:
— Спрячь пока.
Тот молча убрал сверток за пазуху.
Я не вмешивался, хотя вмешаться хотелось. Уж очень легкомысленно обращались парни с опасной игрушкой. Не посмотрели даже, заряжен ли. Не проверили предохранитель. А Вовуля сунул ствол под куртку, как какой-нибудь утюг, даже не глянув, куда направлено дуло. Нельзя так. С оружием так нельзя. Не зря говорят — раз в год незаряженное ружье стреляет.
Славик тем временем выкладывал носки, пару за парой, мне на колени — новехонькие, будто только с прилавка, для пыльной скамейки они были слишком хороши. Куда их столько? Запас на пять лет?
Впрочем, на дне чемоданчика оказалось кое-что потяжелее мягкой рухляди, да и поинтереснее: две типовые «лимонки», каждая в картонной коробочке, набитой опять же носками. И, что было совсем уж странно, длинный сапожный молоток с гвоздодером на одном конце и плотной шишечкой на другом. Откуда он и зачем? Если мужик в коротком пальто на кого и походил, то уж никак не на уличного башмачника.
— Не слабо, — сказал Вовуля, на сей раз даже не улыбнувшись.
В кармане под крышкой был еще бумажник, кожаный, тисненый, очень хороший. Славик раскрыл его, отщепив кнопочку. Денег не было ни копейки. Зато документа целых три: удостоверение на имя полковника милиции Губченко, удостоверение на имя сотрудника «Интуриста» Рябикова и удостоверение на имя старшего преподавателя Академии общественных наук Копылухина. Во всех трех корочках фотография была та же самая.
Я сидел посередке, поэтому парни переглянулись мимо меня.
— Что же это за команда? — задумчиво проговорил Славик.
— Вот так дашь в морду, и неизвестно кому, — сказал Вовуля.
— Серьезный чемоданчик, — подытожил Славик.
Страха в голосе у ребят не было, скорее озабоченность, но достаточно глубокая. Какой-нибудь час назад они могли спокойно и даже весело говорить о рэкете, мести и убийстве. Теперь же, сунув руку в еще раскаленную печь, они не обожглись, но почувствовали силу жара. А больше всего их озадачило то, что вот уже почти неделю тиранило меня: полная непонятность происходящего. Зачем следят? Зачем полезли в квартиру? Зачем посреди города этот самоуверенно и небрежно охраняемый подвал? Зачем мужику, похожему на преуспевающего дипломата, гранаты и сапожный молоток?
Мне не хотелось добираться до всех этих заминированных секретов — мне хотелось от них отвязаться. Может, и ребятам захотелось?
— Ну и чего с этим чемоданом делать? — спросил Вовуля. — Может, утопим?
— Сейчас, что ли?
— Ночью.
— Носки жалко, — сказал Славик.
— А железо?
Славик вздохнул:
— С одной стороны, надо бы. А с другой — сейчас простой «макар» дороже двухкассетника. Вещи-то, понимаешь, хорошие…
— Дай-ка глянуть, — попросил я Вовулю.
Тот повертел головой и лишь тогда отдал мне пистолет. Игрушка и в самом деле была на редкость ладненькая. Не наша, но все понятно. И все на месте: шесть штук в барабане, седьмой в стволе. Я уже держал такой в руках, один раз, но держал. Вот уж не думал, что наука пятнадцатилетней давности пригодится — а пригодилась. Как утверждал покойный Федулкин, лишнего на свете вообще не бывает.
В армию меня заслали в Южную Сибирь, служил я там удивительно бестолково. Через пару месяцев стало совершенно ясно, кто есть кто, и меня спихнули в хозроту, где капитан Белецких полтора года пытался сделать из меня человека. Его ключевой тезис был, что мужчина без оружия — все равно что половой член без презерватива — полная беззащитность. Хороший был мужик, только пил много. Он как-то сказал мне поразительную вещь. У него было старое охотничье ружье с серебром по прикладу. Так вот он сказал мне: «Ты когда-нибудь видел, чтобы серебром отделывали молоток? И не увидишь. А танк всегда будет красивее трактора. Знаешь, почему? Потому что орудия убийства люди испокон века уважают больше, чем орудия труда».
— Красивая штучка, — сказал я и вернул пистолет Вовуле. У капитана Белецких была точно такая игрушка. Название я забыл, он звал ее почему-то «хрюшкой», а почему, я не спрашивал. Он был капитан, я солдат, мое дело не спрашивать, а отвечать. «Хрюшка» так «хрюшка».
— А то себе бери, — предложил Славик, — мало ли чего. Не убьешь, так напугаешь.
Я согласился, не во имя конкретной цели, а просто потому, что приятно было держать в руках такой красивый предмет.
Тут я вспомнил. Дернул рукавом, высвобождая часы, — было без четверти шесть. Я заторопился к автомату. Сказали — ушел, звоните завтра. Я набрал домашний, и от сердца отлегло: Антоха подошел сам.
— Ну что там?
— Пока нормально, — сказал он, — сделал финт, ушел в четыре, опять закоулком. Как будто никто не провожал.
— А звонки?
— Пока не было.
— Чего-нибудь надо? — Впервые за последние дни этот вопрос что-то весил, потому что Славик с Вовулей ждали меня на лавочке.
— Пока ничего. Кстати, она уже там.
Какая «она» и где «там», он не уточнил, а я не стал спрашивать: у Суконникова с Бармалеем была своя феня, у нас с Антоном уже возникла своя.
— Молодец, быстро, — похвалил я. У меня уверенности прибыло, хотелось, чтобы прибавилось ее и у Антохи, хотя я понимал, что это мало реально: ведь у него не было ни Славика с Вовулей, ни «хрюшки» с семью патронами.
Пацаны вызвались меня малость проводить. Я заметил, что им порядком не по себе, оба отводили глаза, особенно Славик.
— Мы вот подумали, — начал он, — скорей всего, контора серьезная.
— Уж больно железа много, — вставил Вовуля.
— Понимаешь, — продолжал Славик, — гранаты для баловства не заводят. Я думал, просто качки, себя показывают, детство в заднице играет. Но тут чего-то не то. Серьезная контора.
— А для чего им гранаты, как думаешь? — спросил я. Меня обеспокоили не столько слова Славика, сколько тон. Он сильно изменился: был бесшабашный, стал трезвый. Страха не было, нет. Но и кураж пропал.
— Раз держат, значит, нужны, — сказал он. — Может, на крайний случай. Но, заметь, этот крайний случай они заранее имеют в виду. Вполне серьезная контора.
— Ну и кто они, по-твоему?
Славик пожал плечами:
— Да мало ли кто. Может, конечно, рэкетиры или фашисты. Но, скорей всего, профессионалы, работают на заказ. Сейчас за это бабки платят очень солидные. Десять тысяч за труп.
— Смотря какой труп, — рассудительно заметил Вовуля, — могут и больше кинуть.
Тут в разговоре вышла пауза, потом Славик, помявшись, задал, видимо, самый трудный для себя вопрос:
— Вот ты сейчас дома не кантуешься — а где залечь, есть?
— Относительно.
— Вот и надо залечь.
— Значит, залягу, — пообещал я и беззаботно улыбнулся. Мне стало неловко, здорово неловко. Уж очень прозрачен был смысл сказанного. Парни словно бы извещали меня, что предел риска, который они себе могут позволить, выработан. Обещанное выполнили, в глаз дали. Но игры с оружием в сферу их развлечений не входили.
В сферу моих, кстати, тоже. Но меня об этом никто не спрашивал.
Видно, и Славику было неловко.
— Если что, — сказал он, — телефон знаешь, мы с Вовулей всегда под рукой.
Я поблагодарил вполне искренне. В конце концов, они сделали, что было в их силах. Нельзя от человека, который ради тебя влез на подоконник, требовать, чтобы он еще и прошелся по карнизу. Каждый сам знает, за какой гранью начинается у него боязнь высоты. Я свою грань давно перешагнул — но у меня ведь не было иного выхода.
И — странное дело! — я опять вдруг почувствовал, что голова работает спокойно и четко. Когда никто не может помочь, начинаешь помогать себе сам.
— Парни, — спросил я, — вам фанаты нужны?
— А на хрена? — удивился Славик.
— Так, может, мне дадите?
— С нашим удовольствием, — обрадовался он и совсем уж щедро предложил: — Ты вот чего — бери чемодан. Чего не надо, выкинешь.
— А носки? — вспомнил я. — Поделим по-братски, вещь-то нужная.
Парни заколебались. Но уж это-то добро выкидывать было бы совсем дебильно. Мы зашли в первый же попавшийся подъезд и на подоконнике стали по очереди тащить из чемоданчика носки, из деликатности не выбирая. Потом пацаны рассовали свои доли по карманам, а я свою погрузил назад в чемодан.
Не знаю, в каждом ли человеке сидит уголовник, во мне он прячется точно. Вот уж не думал, что так приятно держать в руках не купленную вещь. Конечно, воровство — дело грязное. Но тут воровства не было, тут было ограбление. Причем бандюги. Причем хорошо вооруженного.
Теперь благодаря ему хорошо вооружен был я. Правда, ходить в суперменах мне оставалось недолго — много ли времени понадобится, чтобы швырнуть железки в Яузу или в канализационный люк? Хотел попросить об этом ребят, но не стал — я видел, как не терпится им избавиться от черного «дипломата». Ладно, уж с этой-то работой справлюсь сам.
Вообще что-то в нашей случайной компании изменилось. Совсем только что я был растерянным, законопослушным дурачком, а они моими снисходительными, уверенными опекунами. Теперь же отчетливо ощущалось, что эти великолепно физически оснащенные парни все-таки пацаны, а я — мужик. Очень рядовой, с ненадежными мускулами, мало перспективный в драке, но все же тридцатипятилетний мужик. И не годится переваливать на мальчишек то, что не укладывается в круг их возраста и опыта. Тут уж надо самому. Хорошо ли, плохо, но самому…
За последние годы в Москве столь резко выросло количество разнообразных помоек и свалок, что любую вещь, хоть холодильник, можно упрятать без труда. Что уж говорить о плоском чемоданчике.
Мне годился любой пустырь любой окраины. Но я все же выбрал тот, что знаком: овраг, длинный ряд гаражей над ним и всякая грязь внизу.
Гаражи были самодельные, их строили когда-то из подручных средств, но бок о бок, так выходило экономнее, одна стенка на двоих. Длина была разная, то на «Волгу», то на «запорожца», и высоту хозяин выбирал в зависимости от средств и тщеславия. Но потом гаражи подвели под общую крышу, длинную, во весь ряд, оплаченную вскладчину. Иногда прежние крыши до новой не дотягивались, щели заделывали досками или оставляли так. В одном месте доска легко отводилась в сторону — это и было наше с Антохой дупло. Когда-то мы им вволю попользовались.
Теперь, годы спустя, я вновь пришел сюда.
Все было, как прежде, — и поржавевшие гаражи, и овраг, и железная дорога дальше за пустырем, и наше с Антохой дупло. Я отодвинул доску, достал пластиковый пакет, а уж из него папку — Антон всегда был парень предусмотрительный. Папка, обтянутая нежной кожей, была хороша, не зря Федулкин подумывал оттащить ее в комиссионку. Я отстегнул кнопку замка, прошелся пальцами по бумагам, но мучить глаза не стал, потому что никакой необходимости в этом не было. В данный момент «это» меня не интересовало, в данный момент меня интересовало остаться в живых. Я опять застегнул папку, сунул в пакет, а пакет в дупло. Пускай лежит.
Теперь надо было спуститься в овраг и выбрать свалку поотвратней.
Тут я подумал, что надо сперва вынуть патроны, а то, не приведи господь, какая-нибудь малышня отыщет опасный клад, ведь они где только не роются. Я достал «хрюшку» — и как же приятна была руке ее тяжесть! Прав был мой капитан: орудие труда никогда не вызовет у мужчины такой восторг. А, может, подумал я, патроны не выбросить, а расстрелять? Кстати, и безопасней получится.
В стороне валялась кефирная бутылка. Я быстро, навскидку, выстрелил. Элегантное орудие убийства сработало мягко, а бутылка так и брызнула стеклом. Выстрел получился почти бесшумный, его накрыл гул города.
Нет, подумал я, такой машине не место на помойке. И уж точно не в канализации. Яуза, только Яуза, ночь и самый красивый в Москве горбатый мостик близ Таганки.
Я завернул «хрюшку» в ту же фланель и сунул в дупло, сколько хватило руки. Туда же пошли и «лимонки». Они не были красивы, с ними я собирался обойтись попроще. Просто разок прийти ночью и дождаться, пока через пустырь за оврагом потянется товарняк. Рванет, конечно, — но кто нынче а Москве реагирует на шум? Когда КамАЗ ревет на подъеме, шума больше.
Пока я добирался до Кастанаевки, совсем стемнело, ночь да и только. У Изауры мирно горел свет, тени по занавескам не шастали. Я пошел домой.
Она сказала:
— Наконец-то! Десять скоро.
— Ну и что?
— А то, что ждут тебя.
Видно, я здорово напрягся, потому что она торопливо уточнила:
— Да свои ждут, свои.
Я прошел в комнату. По телеку орала призерка хит-парада, на столе стояли две чашки почти черного чая. А на нашем с Изаурой диване угрюмо сидела крепкая молодая бабенка.
— Здравствуйте, — сказал я вежливо. Конечно, я узнал ее — но ей докладывать об этом было вовсе не обязательно.
— Привет, Вася, — отозвалась Алена без улыбки.
— Дуня, что ли? — постарался удивиться я.
— Узнал?
— На голоса память. — Надо было сказать еще что-нибудь, и я решил повеселить девушку: — Трахаться пришла?
— Трахаться тебе есть с кем, — ответила Алена; на улыбку ее и тут не потянуло.
Я сел на стул и молча на нее уставился. Не за тем же она пришла, чтобы почесать язык в располагающей компании.
— У тебя родные есть?
Вопрос был неожиданный и мало понятный. Я развел руками:
— Мать в Пущино, отец…
— Родители не годятся.
— Брат двоюродный есть, — вспомнил я.
— Где?
— Не знаю. Он строитель, кочует. Года три не видались.
— Ну а друзья какие? Только не тут, не в Москве.
Это сильно походило на допрос, и я спросил в лоб:
— Чего конкретно надо?
Она сказала мрачно:
— Уехать тебе надо, вот чего.
— Куда?
— Откуда же я знаю? Затем и спрашиваю.
— Таких друзей, чтобы уехать, нет.
Я произнес это твердо, даже упрямо — во мне нарастало раздражение. Не против Алены, нет. Наоборот, мне нравилась эта беспородная москвичка, по сути, такая же дворняга, как и я, только крепче характером, уверенней, целеустремленней — дай бог такую девку в друзья. Но злило, что опять мою жизнь превращают в футбольный мяч, который каждый лупит, как хочет, с любой силой и в любую сторону. Я не был тщеславен, не лез ни в генералы, ни даже в сержанты, я привык подчиняться — но надо же знать кому.
Она подумала и решила:
— Значит, надо уехать так.
— Почему надо-то?
Это я спросил уже совершенно спокойно, потому что теперь мы с моей молодой доброхоткой были хоть в чем-то на равных: у нее была какая-то своя цель, но и у меня появилась своя.
— Раз говорю, значит, знаю.
— Но я-то не знаю.
Тут уже она на меня посмотрела раздраженно:
— Ты чего, дурак, да? Не сечешь, чего творится?
— Кое-что секу.
— А чего ж тогда…
Я сказал Изауре:
— Дай чаю, а?
Изаура, так и стоявшая у двери, пошла на кухню.
— Слушай, — посмотрел я на Алену, — я в чем-нибудь виноват?
— А кто говорит, что виноват? — возмутилась она глупости вопроса.
— Никого не убил, не обидел — так или нет?
— Ну и чего?
— Тем не менее меня выкинули из дому, теперь вот выкидывают из города. Я ведь не спрашиваю — кто. Но имею я право хотя бы знать — почему?
— Мне тоже налей! — крикнула она в кухню. Потом спросила с иронией: — А тебе это важно?
Я легкий тон не принял:
— Вся моя жизнь ломается, а другой у меня нет.
— Зато живой пока что, — возразила она вполне резонно, — и останешься живой.
Изаура принесла чайник и чашку для меня. Она поддержала подругу:
— Ты же сам хотел уехать.
— Я с тобой хотел.
— Ишь ты, — удивилась Алена, — любовь-то какая!
Я терпеливо глядел на нее — ждал ответа на свой главный вопрос.
— Ну и чего тебе надо знать? — отозвалась она наконец.
— Расскажи, что можешь. Я же не прошу лишнего. Ни адресов, ни фамилий. Просто — что происходит. И при чем тут я?
Впервые я увидел на ее лице что-то вроде неуверенности.
— Трудно объяснить. Уж очень все запутано.
— Давай хоть как-нибудь.
— Понимаешь, — начала она, — есть одна… ну, как бы сказать… команда, что ли. Ну, в общем, люди. И они кое-что должны найти. А другие тоже ищут. Вроде конкуренции. Вот и возникает напряженка.
— А я при чем?
— Лес рубят, щепки летят, — сказала она.
— Ясно, — кивнул я.
В каких только ситуациях не слышал я эту пословицу! Не поспоришь — народная мудрость. Несчастный народ, у которого такая мудрость…
— Ты, может, и ни при чем, — поморщилась Алена, — но если бы я тебе тогда не позвонила, тебя бы в живых не было. Убрали бы, и все.
— Я что, кому конкурент?
Она довольно долго молчала, кривя лицо, подыскивая фразы поуклончивей. Я не помогал. Наконец она заговорила:
— Люди-то разные. Бывают нормальные, а бывают… Придурков, что ли, не видел? Власти много, ума чуть. Убрать, чтоб не отсвечивал, и весь разговор. Сам же наворотит, и сам же… Вот так и делается.
Я повернулся к Изауре:
— Ты что-нибудь поняла?
Та уставилась на Алену, словно подсказки ждала.
Алена бросила в сердцах:
— А на фига ей понимать? Надо, чтобы ты понял!
— И я не понимаю. Ну чего ты темнишь? Ты не называй имен, ты суть объясни. Я ведь глупостей могу напороть только потому, что ни хрена не понимаю.
— Ладно, — решилась она, — пес с тобой. Ну вот представь: один человек должен был что-то спрятать, кто, я сама не знаю. А потом начался бардак, и прятал другой. Ну вот и надо было найти. Есть люди, я тебе говорила… ну, в общем, люди. А приказывает — дурак. Дебил. Но самоуверенный — сил нет. Сказал — значит, все, слово — закон. Вот того, который прятал, и убрали. А где спрятал — кого теперь спросишь? Ну и пошло вразнос. Вроде бы искать надо, а с другой стороны — как бы кто еще не нашел. Сам дергается и людей дергает. То — никого не трогать, то любого, кто хоть чего-нибудь знает, — убрать, чтоб не отсвечивал.
— А я чего знаю?
Кое-что я, положим, знал, может, не так уж и мало. Но со мной темнили, и я темнил.
— А это никому не любопытно, — сказала она с досадой, — знаешь ты чего или нет. Ты кто есть-то? Министр, что ли, или академик? Что ты живой, что нет, человечеству без разницы. Отволокли в морг, и всем спокойней: если чего и знал, уже не скажешь.
Я взял чашку, отпил половину и пересел на диван к Алене: там помягче. Откинулся на спинку.
— Вот теперь понятно, — кивнул я и даже улыбнулся. В конце концов, ничего обидного она не сказала, все правда. Что человечеству я на хрен не нужен, я знал давно, и настроения это мне не портило.
— Наконец-то дошло! — улыбнулась и Алена. И уже буднично перевела взгляд на Изауру: — Газетку достала?
Та вышла в переднюю и принесла газету. По круглым дырочкам я понял — из подшивки, небось в библиотеке тяпнула. И зачем понадобилась?
— Сложи, — велела Алена, и моя молчаливая подружка сложила газету вчетверо. Мелочь, но и она подчеркнула: спала со мной, а подчинялась не мне.
— Слышь, Дуня, — сказал я, — у меня еще вопросик. Можно?
— Валяй, — благодушно согласилась она.
— Ты вот меня спасла, так? Очень благодарен. Но на хрена тебе это было надо? Ты же меня не знала.
Она аж руки к потолку вскинула, газетка полетела с колен:
— Ну, блин… Из-за кого рискую, а? Это ведь одуреть! Ему жизнь спасли, девку под него положили — а у него вопросик! Слушай, у тебя совесть есть?
Я думал, моя Изаура так и промолчит весь вечер. Но она именно тут решила вклиниться в разговор:
— Алена, он же не трепло!
Та посмотрела на подругу, как полковник на солдата:
— Прорезалась! Ты чего думаешь — тебе дырку заткнули, значит, и человека лучше нет? Ну ляпнет по дурости или по пьянке — чего тогда?
— Он не пьет, — упавшим голосом возразила Изаура.
Алена покрутила головой, кулачки сжались:
— Свалили бы вы отсюда оба, а? Месяца хоть на три. Во бы кайф!
— Свалить можно, — сказал я, — но ты все же объясни. Просто как человек человеку.
В общем-то это было не очень хорошо — я тянул и тянул из нее правду, а ей не говорил практически ничего. Но какое-то оправдание у меня было: на кону стояла моя жизнь, а не ее.
Алена колебалась недолго, чего-чего, а решительности у девушки хватало.
— Ладно, хрен с тобой. Ну, во-первых, я поняла, что ты ни при чем… ну, и другие люди поняли. Но это не главное. Главное — тебя должен был убрать один человек, а я не хотела, чтобы он это делал. И он не хотел. Сперва-то работа была другая! Тоже не очень, но все же нормальная. А людей убирать — это и он не хотел, и я не хотела.
— Парень твой?
— Это уже не имеет значения.
Тут она была права. И так сказала больше, чем могла. Я бы на ее месте, пожалуй, не решился.
— А почему сваливать надо именно сейчас?
Алена не сразу, но все же объяснила:
— Какой-то у них там получился бенц. На шефа, дебила, наехали, он с непривычки и охренел. То было — никого не трогать, а теперь — всех убрать. Чтоб не отсвечивали.
Я со вздохом покивал. Кто бы мог подумать, что именно так отыграется умелая Вовулина зуботычина…
— Думаешь, и здесь могут достать?
— Все бывает, — сказала Алена. — У него не поймешь, кто за кем следит. Может, и за мной втихаря приглядывают.
Мы посмотрели по телеку разные новости, и лишь после этого я попросил:
— Ты бы мне его все же показала. Парня своего.
Она жестко поинтересовалась:
— Это еще зачем?
Я шевельнул ладонями:
— Разное ведь бывает. Ну вот представь — меня станут убивать. Я ведь тоже убью. Вот и надо знать, чтобы не зацепить… не того.
— А сумеешь? — спросила она с сомнением.
— Если придется, куда же я денусь.
— Там видно будет, — сказала Алена.
Посмотрели телек, допили чай. Она поднялась:
— Хрен с тобой. Пошли.
Идти пришлось недолго. Малый с широченными плечами сидел на приступке у соседнего подъезда, как в ту субботу сидел у соседнего подъезда в моем дворе. Мы подошли, и я увидел, что у могучего этого громилы совсем детское, со светленькими бровками, лицо.
— Витя, — представила она, — мой брат.
Что брат, я уже догадался: те же глаза, та же простодушная курносинка. Только лет поменьше и натура помягче: у нее в лице была воля, у него готовность делать, что велят. Кроме, выходит, самого плохого. На мое счастье.
Я тоже назвал себя, и мы пожали друг другу руки, причем он сделал это с деликатной осторожностью.
— Соображай, — сказала Алена, — только быстро. Дня два у тебя, наверное, есть. А там гуляй. Чтоб и следа не осталось. Денег надо?
Чтобы не обижать хорошего человека, я ответил, что пока обойдусь, а надо будет, попрошу через Изауру. Мы попрощались, и я снова пожал руку мальчику, который должен был убить меня, но не хотел.
На кухне Изаура мыла чашки. Я стал раскладывать диван и увидел на полу ту газету с библиотечными дырочками. Я развернул ее. Газете было дня три, все ее новости устарели, лишь одна представляла для меня интерес: коротенькая заметка в «Криминальной хронике». «Опять маньяк?» — спрашивал заголовок, дальше шел мелкий шрифт. Еще одно убийство тяжелым предметом по голове, гражданин Ф. найден утром на тротуаре. Похожим образом некоторое время назад были убиты два научных сотрудника и администратор малого предприятия. Интервал между убийствами каждый раз — несколько дней. Специалисты считают, что убийца — сильный мужчина ростом 175–185 сантиметров, возможно, с психическими отклонениями. Маньяки-убийцы появляются не так часто, но обезвредить их трудно именно потому, что в криминальных действиях отсутствует корыстный и вообще разумный мотив. Как правило, маньяки охотятся на женщин. Автор заметки надеялся, что преступник будет пойман, и следствие установит, почему этот маньяк предпочитает мужчин.
Значит, между Бармалеем и Федулкиным был еще один? Кто? Хотя какая разница, мог быть и я. Чтобы не отсвечивал — другого мотива не требовалось,
Я сложил газету и снова бросил на пол. Что она мне дала? Да ничего. «Сильный мужчина ростом 175–185». Но маленьких и слабых в их компашке нет. Кого же страшиться, кто там назначен маньяком? Неужели этот мальчик, богатырь с детским лицом? Да нет, он ведь не хочет «убирать». Тогда кто? Тот первый, в кепочке? Парень в свитере? Чей тяжелый предмет пресек безобидные авантюры Федулкина и навек уложил двух научных сотрудников?
Права Алена — надо сваливать. Сваливать к такой-то матери. Плевал я на город, где могут убить человека без вины и даже без причины, просто чтобы не отсвечивал…
В ванной шуршал душ. Я подошел, толкнул дверь. Изаура, не сразу заметив, спросила:
— Ты чего?
Я не ответил, просто стоял и смотрел. Не красавица, куда там, на мисс Европу сроду не потянет. Ну и провались они все, с фирменными сиськами и ногами от ушей. Мне вполне годилась эта, с худыми бедрами и маленькой грудью, невзрачная, как почка, еще не ударившая листом. Ее тело пока что могло дать слишком мало, но мне на это было плевать — только дурак ценит книгу по переплету.
Я взял полотенце и стал ее вытирать, задерживаясь, где хотелось задержаться. Дурочка стеснялась, тянула из рук полотенце, хотела сама — хрена я ей это позволил. Когда-нибудь почка раскроется, а не раскроется, тоже не горе — родная баба всегда хороша.
Ей опять было больно на входе, вот ведь смех, ни девка, ни баба, но тело уже жалось к телу, руки боязливо учились ласке — все будет, как надо, все без изъятия…
— Так уедем? — спросил я.
Ответа не было, да, в общем, и не требовалось. Просто щека прижалась к щеке…
Далеко уезжать не хотелось, Москва держала слишком многим, и с утра я пошел по разным знакомым разузнать, не найдется ли чего подходящего на ближних подступах к столице, во Владимире, Рязани или Калуге. С дороги позвонил на курсы к Антохе — сказали, будет через час-полтора. Снова звякнул перед обедом — нет, не приходил. На всякий случай попробовал домой, но и коммуналка молчала, видно, разбежались по очередям.
Ближе к концу дня обнаружилось приличное место в Ярославле, даже в общаге обещалась не койка, а комната с умывальником. Я спросил, нельзя ли в эту комнату вдвоем — справедливо ответили, что, если договориться, можно все.
Тут выяснилась странная вещь: я понятия не имел, где Изаура служит и что может. А ведь если ее к себе вытаскивать, работа нужна. Больше не задерживаясь, я поехал на Кастанаевку.
До дома я, однако, не дошел — Изаура перехватила на асфальтовой тропинке, ведущей к кварталу. Она сразу потащила меня в сторону. Почти все было у нее на лице.
— Кто? — выдохнул я.
Она скривилась и всхлипнула:
— Алена.
— Как Алена? — заорал я.
— Витька звонил.
— А он где?
— Прячется.
Я спросил, обходя страшное слово:
— Она… совсем?
И опять ответ был на ее лице. Она тащила меня и тащила.
— Ты куда?
— Витька сказал, прийти могут. Там один знает, что Алена со мной дружила.
— Вещи хоть надо взять.
— У Лизки. Я отнесла. И твою сумку.
— У какой Лизки?
— Подружка моя. На кройку и шитье ходили.
Я остановился.
— Ну-ка давай спокойно. Кто у тебя есть из знакомых? Просто переночевать. Только на одну эту ночь. Для тебя, я где-нибудь устроюсь.
Она подумала немного:
— Ну вот Лизка.
— У нее точно можно?
— Точно. У нее муж с ребенком, но я у них уже ночевала, когда к матери приходили.
— Где это?
— Там, за булочной. Близко.
Близко было хуже, чем дальше, но выбирать было не из чего. Да и не станут эти суки ночью выпытывать по соседям, с кем девчонка из восьмой квартиры ходила на курсы кройки и шитья.
Мы дошли до Лизкиного дома, Изаура поднялась, потом вернулась с моей сумкой. Она была слишком набита и чересчур тяжела. Прямо в подъезде, на подоконнике, я перебрал ее и оставил лишь неизбежное: тренировочный костюм, предметы утренней необходимости — бритву с зубной пастой, три пары носков для смеха и мягкости, на случай, если вдруг сумка окажется сегодня подушкой. Поколебавшись, взял и нож. Конечно, я понимал, что в худом варианте он не поможет. Но мне не хотелось оскорблять судьбу отказом даже от маленького шанса: Бог бережет только береженого.
— Ну, давай, — сказал я Изауре.
— А ты?
— Мне есть куда.
Она произнесла секунд через двадцать:
— Не хочу без тебя.
— Чужой дом, слава богу, тебя пустили. Утром за тобой приду, днем уедем.
Помедлила:
— А ты точно придешь?
Я ответил убежденно:
— Уж без тебя-то точно никуда не уеду.
Она глядела недоверчиво. Я объяснил:
— Баб бросают, а солдат солдата никогда не бросит. За это же трибунал.
Вряд ли она поняла, но, похоже, все-таки поверила.
Она пошла наверх, а я стал думать, куда приткнуться на ночь. Абсолютно ясно было только одно — что к Антону нельзя… Я вдруг вспомнил, что так ему сегодня и не дозвонился.
Один автомат не соединял, в другом трубка была оторвана. В третьем, наконец, пошли гудки.
— Да?
— Елена Федоровна, это я. Антон дома?
По сути, уже эти слова можно было не произносить, я все почувствовал по единственному ее слову… Пауза.
— Ты что, не знаешь? Антона увезли.
— Как увезли?!
Знал же как, но выкрикнулось автоматически.
— На него напали. Он в реанимации.
Хоть это слава богу…
— Елена Федоровна, какая больница?
Она сказала.
Я даже не попрощался.
На все про все мне потребовалось минут пятьдесят. Еще четверть часа заняла дорога до больницы.
К Антону не пустили. Сестра лишь приоткрыла дверь — я увидел трубки, одна тянулась к ноздре, другая уходила под одеяло.
— Вытащите? — спросил я.
— Не помрет, так выживет, — ответила сестра.
Выйдя из больницы, я огляделся очень внимательно, однако не увидел того, что ожидал. Уже стемнело, я шел к трамваю, время от времени оглядываясь и прислушиваясь, но шаги звучали лишь мои собственные.
В трамвае народу было немного, я отвлекся, было о чем подумать. На первой остановке только выходили. На второй в переднюю дверь спортивно впрыгнул высокий малый в джинсе — у него и сумка была спортивная, длинная, с особой щелью для ракетки. Интересно, откуда он взялся? Из головного вагона, наверное, больше неоткуда. Я слегка удивился джинсе, поскольку раньше видел его только в свитере и трехцветной ветровке. Значит, может себе позволить. Живут же люди! В остальном все развивалось логично: где и было меня отлавливать, если не у больницы?
Я сидел у задней двери, он у передней, человек пять располагались между нами. Я смотрел в сторону, и он в сторону. На ближайшей остановке я дернулся к двери — и он тут же дернулся к своей. Я передумал — он передумал. Все шло так синхронно, будто мы эту поездку неделю репетировали.
Вылезать у метро я не стал. И у стадиона не стал. А вот следующая остановка мне понравилась сразу. Я поднялся в последний момент, когда двери уже открылись. Если бы он кинулся к моей двери, я бы снова сел: но он шагнул к своей.
Трамвай отошел. На остановке нас было двое. Справа вдоль линии шла панельная стена стадиона, серая и грязная. Слева, за улицей, за полоской деревьев стояли дома, по-современному торцами к мостовой. Разноцветно дымились окна, и за каждой занавеской гипнотизировал моих сограждан свой телевизор. Только двое нас было на остановке, и единственный фонарь светил обоим, только по-разному: мне в спину, а ему в лицо.
Он двинулся как бы даже не ко мне, просто в мою сторону, неспешной походкой, в которой не было ничего угрожающего — мало ли кому куда надо? Я крикнул навстречу:
— Закурить не найдется?!
— Это можно, — пообещал парень и сделал еще шага три.
— А теперь стой, — сказал я внятно. — Ну-ка!
Только тут он увидел «хрюшку».
— Ты это чего? — проговорил он не со страхом даже, а с изумлением, но все же остановился.
— Сумку на землю.
— Да ты чего?
Я поднял дуло повыше, и он не нагнулся, а присел, ставя сумку на ощупь, потому что глаза не отводил от моих.
— А руки подними.
Он поднял. Вот уж, наверное, чего ему не приходилось делать ни разу в жизни — на лице было глубочайшее недоумение, а пальцы растопырены и согнуты.
— Повернись спиной.
— Парень, да ты что? — Улыбка у него была растерянная, но уж такая миролюбивая…
— Спиной, — сказал я, — и не дергайся. А то ты дернешься, и я дернусь.
Он повернулся спиной.
— Вперед. И не быстро.
Нести две сумки в левой руке было тяжело и неудобно, но ничего ловчее я придумать не смог.
Его поднятые руки просительно шевельнулись:
— Слушай, парень, давай хоть поговорим.
— Конечно, поговорим, — согласился я, — раз уж встретились.
Час был спокойный, малолюдный, но я знал, что вот-вот по ящику кончатся «Новости» и начнут выгуливать собак. Времени было мало, впрочем, много мне и не требовалось. В принципе мне просто хотелось уйти с остановки, а где разговаривать — было все равно. Мы так и шли по линии трамвая, пока слева не возник широкий просвет между двумя порядками домов. Может, было поблизости место и поспокойнее, но где его искать, я не знал.
— Стой, руки за голову, — сказал я, подумав, что человек с поднятыми руками смотрится со стороны очень уж интригующе.
Теперь у меня был момент раскрыть его сумку. Он не зря выбрал длинную: в ней легко уместился полуметровый ломик с лопаточкой на конце. Не знаю, что это было, скорей всего, монтировка для крупной шины. Лопаточка лоснилась, сам же ломик был шершав, местами поржавел — видно, изначально железка не предназначалась для убийства, а орудие труда не обязано быть красивым, с него спрос небольшой.
— Значит, ты и есть маньяк? — спросил я.
— Да какой я маньяк, — чуть не взмолился малый, и лопатки его протестующе шевельнулись, — служу, да и все. У тебя своя фирма, у меня своя. Наняли, и служу. Мне что патриоты, что демократы, один хрен, бабки нужны, и все. Жить-то надо!.. Слышь, повернуться можно?
— Ну, повернись.
Он повернулся и сразу поймал взглядом дуло.
— Руки затекли, опущу, а?
— Нет.
Это я сказал твердо. Я знал, что лучше всего его обыскать, но для этого надо было приблизиться, а приближаться к нему было нельзя. Я не разбирался толком, какие мышцы у качков, массы там больше или резкости, но точно знал, что у меня самого ни массы, ни резкости нет и ничто меня не защитит, кроме «хрюшки» и пяти шагов между нами.
И еще — зря я позволил ему обернуться. Зря. Теперь он смотрел на меня, и чем дольше смотрел, тем меньше боялся. Не грозный был у меня вид, к сожалению. Совсем не грозный.
— Парень, — сказал он, — ну зря ты, ей-богу, зря. Ну чего я тебе-то сделал?
— Ты же меня убить собирался.
— Так ведь не убил. Ну раз так вышло — давай как-нибудь договоримся.
Он втягивал меня в разговор, по нашим временам вполне нормальный, а на человека, с которым нормально беседуешь, может просто не подняться рука. Нет, я не хотел с ним нормально беседовать.
— Зачем убрал парня? Это мой друг, понял?
Он даже улыбнулся от облегчения:
— Парня? Парня не я! Вот кем быть, не я. Я его не видел даже. Тебя хоть показали, а его не видел даже.
— А девку зачем?
— Да служу я, — почти крикнул он, — фирма же! Велели, и все. Не я, так меня, не знаешь, что ли?
Руки его были по-прежнему сцеплены на затылке, так что от волнения подрагивали только локти.
— А ну тихо, — остановил я. — И не ври. Ты их всех убил. Все убиты одинаково, одной железкой.
Вот тут он, кажется, испугался всерьез, потому что заговорил быстро, даже плаксиво:
— Да ерунда это, ну кем мне быть, больше ни до кого не дотронулся. Разные работали, каждому свое задание. И железки разные! А что похоже… ну так оно и делалось, специально, для понта, чтобы думали, что один. Если что — у каждого алиби. На один случай, может, и нет, а на три есть. Специально!
— Девку кто велел?
Тут он замялся.
— Ну?
— Ну… Кто приказывает.
— А кто приказывает?
— Ну, этот… Сергей Акимович.
— А фамилия?
— Вот этого не знаю. Извини, но не знаю.
— Какой из себя? Быстро!
— Ну… В куртке такой хорошей. Еще пальто носит французское, короткое такое…
— Это его у подвала положили?
— Ну. Чего и озверел-то. То говорил не трогать, а то убрать.
— Кто подвал охраняет?
— По очереди.
— Он там когда бывает?
— Вот этого не знаю. Заходит. А когда, не говорит.
— В милиции у вас кто?
— Есть кто-то… Мужик какой-то… Вроде капитан. Но я с ним не контачил.
Времени мне все же не хватило. Где-то сбоку послышался дробный легкий топоток и не близкий, метров за сто, оклик:
— Найда, ко мне!
Видно, Найда не послушалась, ее позвали опять, построже.
Практически я не отводил глаз, разве что скосил на мгновенье. Но у малого достало и силы, и резкости — он буквально нырнул мне в ноги. Я успел и отпрыгнуть, и выстрелить, но пуля либо прошла мимо, либо задела, но чуть-чуть. Хорошо, ломик так и висел в левой руке. Ударить сильно я не сумел, но, наверное, попал удачно. Малый будто икнул, лег, потом стал медленно подниматься. Перехватив железку в правую, я ударил еще раз.
Почему я не выстрелил снова? Не знаю. Как-то в голову не пришло.
Я поднял сумку и пошел, быстро, но не бегом. «Хрюшку» кинул в сумку, железку так и нес. Куда ее? Надо бы в воду, да где тут вода? Ладно, где-нибудь найдется.
Ни ужаса, ни тем более раскаяния я не ощущал. Ведь это не было случайностью, я и хотел его убить. Он убил Алену, а я хотел его. Потом, когда стали разговаривать, это стало трудно. Но он мне сам помог.
Отойдя, я обернулся. У земли было темно, даже я не видел, лежит кто-нибудь под стеной стадиона или нет. Никакой суеты не было, не бежали, не звонили, и милицейская машина не мчалась, ревя сиреной и крутя мигалкой. У домов мужичок, пригнувшись, прилаживал поводок к ошейнику. Наверное, завтра будет давать показания. А что он видел? Ничего он не видел — он стоял у подъезда, на свету, а мы возились в полутьме. Собака видела, но не расскажет. Так что, скорей всего, — еще одна жертва маньяка.
Как люди становятся убийцами? А вот так и становятся. Убил — и убийца.
Метро успокаивало. Толпы не было, но народу хватало, у всех свое, никому ни до кого нет дела, и до меня никому, и мне ни до кого. Тяжелую сумку я поставил на пол у ног. Сижу, покачивает. Самое время и отдохнуть, и подумать.
Вчера Алена, еще живая, уговаривала срочно свалить. Близкая душа, московская дворняжка, что же ты сама не свалила, почему не убереглась? А ведь как яростно убеждала, родственной шкурой чувствуя топор, нависший надо мной, — а вот над собой не ощутила…
Права была, придется свалить, и, наверное, надолго. Пока кто-нибудь не найдет «это» и ОНИ не отвяжутся. Придется свалить вместе с девкой, которую под меня так вовремя подложили, с молчаливой Изаурой, рывком вышвырнутой из незавидного, но привычного житейского гнезда, потерявшей все, а прежде всего подругу-командира, с Изаурой, органически не способной жить без приказа — теперь, видимо, судьба выпихнет в начальники меня, как выпихивает случайного майора после неожиданной гибели генерала и трех полковников. Да, придется свалить и долго не оглядываться, хотя бы до тех пор, пока не пройдут отвращение и дрожь.
Это была хорошая идея — но на завтра.
А сегодня было сегодня, и еще прилично времени оставалось до последней программы новостей, до медленной стрелки на синем циферблате, до хитреньких глаз Тани Митковой, суперженщины, прекрасной и недосягаемой, но десять минут в сутки принадлежащей всем, от министров до таких, как я. И на сегодня идея была иная.
Ну, свалю. Я свалю, а они останутся тут хозяевами и господами, ОНИ, которым надо найти «это» раньше других, останутся мускулистые парни, в очередь играющие роль маньяка, останется тот в коротком пальто, что отдает приказы и сам, а может, и не сам решает, кого оставить, а кого убрать, чтобы не отсвечивал.
Любопытно, кого еще уберут, кто там у них на очереди?
Надо бы нас с Изаурой, но нас, пожалуй, не успеют, мы свалим. А кто еще кандидаты? Может, их и немало, но я знал точно только одного — конечно же, Антоха, чтобы не отсвечивал у себя в реанимации. Хотя, пожалуй, есть и второй — Витька, богатырь с детским лицом, который долго ли сумеет прятаться. Сестры нет, но мать-то небось осталась, так что есть где отлавливать…
Еще десять дней назад я не вдумывался в дела такого сорта, я был уверен, что все они как раз для милиции. Но Славик сказал, что сейчас заявлять не модно — и как же он попал в точку! Все свои тридцать пять я прожил тихо и законопослушно, а вот сейчас понял, насколько Славик умней закона.
Каждый человек на земле имеет право на справедливый суд, на адвоката, на последнее слово, на возможную амнистию потом. Каждый! Но Антона не защищал адвокат, Алене не дали сказать последнее слово, а наивный грешник Федулкин никогда не дождется амнистии. С ними расправились подло, со спины — а для тех, не признающих закона, мне хотелось не суда, а такой же подлой, со спины, расправы.
В переулке у меня уже был свой угол. Чуть отступя от него, косо, двумя колесами на тротуар, стоял красивый кремовый микроавтобус с нерусскими надписями по бортам. Это было хорошее место: легко просматривался и дом с подвалом, и неширокое пространство перед ним.
Понять, кто там и зачем, оказалось довольно просто: минуты за три весь прохожий народ в переулочке сменился, и лишь одна фигура была стабильна — как раз перед дверью, утопленной в тротуар. Я подождал, пока мужик покурит, погуляет, постоит, снова погуляет и снова покурит. Я знал, чего хочу: ведь сменят же его когда-нибудь!
Ждать пришлось минут сорок, аж надоело. Наконец дверь отошла в сторону, вылез сменщик, а отдежуривший свое, чуть пригнув голову, шагнул вниз. Тут я пошел вперед.
Сумка была у меня на правом плече, «молния» расстегнута, рука внутри. Если бы часовой вдруг меня рассекретил, я бы просто выстрелил сквозь ткань: сумку было жалко, но лучшего не придумалось, не идти же по улице с «хрюшкой» в руке. Однако я рассчитал верно: новый страж еще не принял стойку. По скромному своему армейскому прошлому я знал, что самые ротозейские секунды в карауле — когда только что заступил и от пространства, освоенного предшественником, не ждешь подвоха. Уже минуту одинок на посту, но как бы и не одинок, как бы тот, прежний, еще не окончательно ушел, еще за что-то отвечает. А еще я надеялся вот на что: человек с сумкой вызывает меньше опасений, для дурного дела нужны свободные руки.
Нового часового я прежде не видел. Он был в неуклюжей куртке из кожзаменителя и кепке, серой и вроде бы в клеточку. Он прошел шагов пять мне навстречу, панорамным взглядом окинул даль и близь, после чего повернулся и так же неспешно пошел в другую сторону.
В подвале светились низкие окна.
Отсвечивали.
Тот в куртке еще замедлил шаг. Пожалуй, сейчас обернется. Если успеет…
Комнатушка была маленькая, зато кровать широкая. Изаура в халатике принесла с хозяйской кухни картошку, и я порадовался, что моя подружка худощава, иначе, пожалуй, не протиснулась бы между койкой и столом. Не Версаль у нас, нет — но ведь и плата, о какой в столице давно забыли.
Я сидел на кровати, больше было негде, и читал молодежную газетку, которую в здешнем киоске брал регулярно: она мне нравилась тем, как нахально корреспонденты обращались с большими людьми.
В этот раз газетка оказалась совсем уж интересная.
Какая-то В. Сарыкина пытала милицейского чина, а он отвечал осторожно, как и положено начальству.
«— Много толков о загадочном „взрыве в подвале“. Уже известно, что за этим стоит?
— Взрыв в спортзале малого предприятия „Святогор“ действительно вызвал различные предположения. Это предприятие было зарегистрировано как оздоровительное и существовало на благотворительные пожертвования различных организаций. Деятельности, выходившей за рамки утвержденного устава, не обнаружено, хотя имелся ряд погрешностей в оформлении финансовых документов. Относительно причины взрыва прорабатывается несколько версий. Я думаю, следствие даст ответ на все вопросы.
— В передаче новостей сообщалось, что наряд милиции, прибывший на место взрыва, обнаружил в подвале два автомата Калашникова и несколько гранат. Как оружие попало в спортзал?
— Действительно, в кабинете председателя правления малого предприятия, погибшего при взрыве, было обнаружено несколько образцов оружия, носящих в основном учебный характер. Оно было передано „Святогору“ одной из воинских частей в порядке шефства для ведения военно-патриотической работы среди молодежи, которую малое предприятие планировало развернуть в дальнейшем. Эта деятельность уставу не противоречила, хотя в оформлении шефского дара был также допущен ряд погрешностей.
— Один из работников прокуратуры сказал, что в организации взрыва чувствуется почерк чеченской мафии. А ваше мнение?
— Лица кавказской национальности определенным образом влияют на криминогенный фон в городе Москве. Но в данном случае я не стал бы делать преждевременные выводы. Нельзя сбрасывать со счетов среднеазиатскую, украинскую, молдавскую, казанскую, санкт-петербургскую и другие преступные группировки, которые в последнее время значительно активизировались.
— И последний вопрос: чем вы объясняете резко возросший уровень преступности?
— Недавно я вернулся из поездки по Соединенным Штатам. Так вот, к примеру, начальник райотдела полиции в Чикаго получает в пересчете по нынешнему курсу в девяносто раз больше, чем наш сотрудник соответствующего уровня. Что же касается технического оснащения…»
— Остынет, — сказала Изаура.
— Ладно, сейчас…
Мы поели картошки и попили чаю с пряниками — тут, как и в Москве, с сахаром была большая напряженка. Потом Изаура пошла мыть посуду, а я достал из-под подушки ту папку. Я ее не прятал, просто больше положить было некуда. Я вынул из папки два пакета, один аккуратный и маленький, другой большой, неряшливо надорванный, с зачеркнутым адресом и надписью рукой Федулкина: «Материалы». Материалы были однотипны: полтора десятка фотографий, частью вырванных из книги, частью вырезанных из старых газет. На всех без изъятия фотографиях был один и тот же архитектурно-патриотический сюжет: московские высотки с разных точек съемки, но всегда красивые, льстиво озаренные солнцем. Хорошо снимали в годы культа, волюнтаризма и застоя!
Я разложил эти снимки на постели, потом перечитал записку и стал в очередной раз вполне бескорыстно решать кроссворд, ответом на который пользоваться не собирался. Иногда казалось, что-то маячит. Но цельная картина не выстраивалась, и я опять углублялся в записку, в который раз думая, что зря эти суки загубили Федулкина, подстерегли бедную Аленку, отправили в реанимацию Антоху и так целеустремленно охотились за мной. Ну заполучили бы записку — а дальше? Уж они-то, с их мозгами, что бы из нее поняли? Прав был Славик, скулу не накачаешь. А мозги хоть и накачивают, но не так, как доступно им.
Я бы эту записку хоть на заборах расклеил — пожалуйста, гадайте!
— Чего ты все возишься? — спросила Изаура.
Я протянул ей записку. Она стала читать ее с растущим недоумением, почему-то вслух:
— «Дорогой Бармалей! Помнишь наш разговор возле Толиной высотки, ну, когда мы еще спорили о той газете, а потом сняли трех студенточек? Так вот, я вынужден вернуть тебя к тому разговору и к тому месту. Как ты понимаешь, обстоятельства изменились совершенно внезапно, и то, о чем мы тогда говорили, совершенно неожиданно застряло у меня. Я уже не мог передать это получателю и тем более не мог вернуть отправителю. А держать это у себя было бы даже не легкомыслием, а глупостью, если не самоубийством. К счастью, повезло с погодой, и ночью, под дождем, удалось переместить это в очень неожиданное место, а именно, как в старинных романах, зарыть. Дождь разогнал парочки, так что все, мне кажется, сошло нормально.
К сожалению, не могу исключить, что мне, возможно, придется на какое-то время исчезнуть с горизонта: есть подозрение, что моя скромная особа начала вызывать пристальный интерес (да, да, именно то, о чем ты подумал). Прежде чем что-то решать, я, конечно, еще проверю. Но на случай, если заниматься этим придется тебе, вставляю инструкции, которые ты легко поймешь.
Так вот, если встать на мою собаку и глядеть на мою собаку, то справа окажется труба, которая и даст тебе дальнейшие указания. Ты как-то сказал, что она все врет. Она врет и здесь, то есть указывает направление с точностью до наоборот. Ты не автомобилист, так что милиции не боишься, поэтому пронзай ее взглядом и иди по нему, как канатоходец по канату. Словом, когда возникнет необходимость, выбери ночь подождливей, захвати лопату, и в спинке второго дивана ты найдешь то, что я там оставил. Ну а потом, если я не дам знать, действуй по второму варианту. Эти подонки, когда угоняли за бугор то, что не тонет, о нас не думали — они думали только о себе. И я не вижу причины, по которой мы должны заботиться о них.
Ну, до встречи. Надеюсь, мы наконец-то хлебнем лазури и вообще почувствуем себя людьми.
По прочтении, пожалуйста, уничтожь — разумеется, все как следует запомни.
Надеюсь, не обидишься, что не подписываюсь».
Изаура спросила оторопело:
— Ну и чего это?
— Игрушка, — сказал я, — гимнастика ума.
Я сложил фотографии в большой конверт, записку сунул в маленький и вернул папку на прежнее место. Постель освободилась, и я привычным движением потянул с Изауры халатик. Что и говорить, деньги нужны для кайфа, но как хорошо, что есть путь к нему прямей и короче.
Эпилог
Весной, в начале мая, я все же приехал в Москву — просто сел в электричку и приехал. В той пригородной норе у меня хватало времени, особенно вечерами, когда никак не засыпалось, и я решал и решал тот опасный кроссворд с единственной невинной целью — отодвинуть все дневные мысли. Я разглядывал фотографии, вновь вчитывался в шифрованное письмишко — и так до первого глубокого зевка. Я не слишком старался, и больше, чем тайное место клада, меня интересовала такая, например, деталька: когда убиенные впоследствии кандидаты наук склеили студенток, как они поделили трех телок на двоих? Ведь делили как-то, если происшествие не забылось и кратковременный владелец «этого» не сомневался, что друг Бармалей тут же вспомнит и девочек, и место, где встретились.
Постепенно я вошел в азарт, дело пошло на принцип: решу, не решу, ведь не дурак же я в самом деле. Ключевое словцо открылось случайно, а там я словно прозрел, дальше пошло легко…
На вокзальной площади я все же раза три оглянулся, однако быстро понял, что в осторожности нет никакой нужды. Москва была иная, толпа иная, я иной, а уцелевшие из той взорванной шараги, сколько бы их ни осталось, либо давно нашли «это», либо перестали искать. И уж во всяком случае вряд ли там оказались странные фанатики, готовые месяцами отлавливать в огромной державе глубоко не нужного им человека, случайно не убитого и прочно сгинувшего с глаз. В той конторе убивали, чтобы не отсвечивал, а я не отсвечивал уже полгода.
Я спустился в метро и через всю старую Москву поехал к одной из московских высоток, которую легко вычислил по единственной точной детали.
Поднявшись эскалатором и выйдя на улицу, я свернул влево и быстро оказался в нужном месте. Понятно было многое, практически все, но я словно бы выполнил некий ритуал в честь покойного автора письма, так никогда и не дошедшего до адресата. Я встал на собаку гражданина Суконникова, посмотрел на его собаку, увидел справа музыканта и не поверил ему. «Бридж» — по-английски мост, я стоял на мосту, смотрел на другой мост, длинный, через Москву-реку, за спиной у меня была высотка университета, а справа на невысоком постаменте стоял музыкант, бедный романтик окончившейся эпохи, мальчик в буденовке с горном у губ. Его прославленная в песнях дудочка указывала на юго-запад, но я, предупрежденный покойным собаковладельцем, пошел на северо-восток. Путь был близкий, дорогу перейти, поскольку узким концом горн указывал на забор ГАИ. Я обошел квадратный двор снаружи и двинулся вниз, к реке. Склон был сперва горбат, а потом полог. Но дальше я не пошел, я остановился, меня интересовала как раз горбина, крутая спинка дивана.
Где же тут орудовал лопатой кандидат наук, землекоп по случаю?
День был сырой, ветреный, но без дождя. Бабки с колясками держались асфальтовой тропки, парочка собак вяло перебегала от куста к кусту, без особого любопытства проверяя хорошо знакомую территорию.
Той осенней ночью дождь шел, было темно, скорей всего, вовсе пустынно, у Суконникова хватало времени выбрать место посохранней. Вряд ли он спускался по мокрому склону, наверное, как раз шел вот этой асфальтовой тропинкой, шел не спеша, выглядывая нужный пятачок.
Спинку дивана, а не сиденье он выбрал правильно, место не столь популярное. Любой компанией лучше расположиться на ровном, где и коврик удобней расстелить, и стакану устойчивей, и любимая девушка в сладкий момент не поползет по склону к реке.
А я бы на его месте что выбрал?
Голый скат отпал сразу.
Под деревом? Это получше. Но тоже не идеально: вздумай кто ночью прогуляться по темному парку, издалека разглядит странную фигуру в процессе физического труда.
Остается кустарник, невысокие заросли, в которых утонет любой силуэт. Скажем, вот та миниатюрная чаша, или то пространство между двумя зелеными полосками, или…
Да, я бы выбирал из этих трех вариантов.
Оглядевшись, я постоял на дорожке и не спеша полез вверх по склону. Никто на меня не обернулся, а хоть бы и обернулся — мало ли зачем человеку надо в кусты?
Жухлую листву в основном сгребли, но тут, в зарослях, она так и лежала. Я почти сразу обратил внимание на влажное пятно просевшей земли — ложбинка была заметна, и если «это» скрывалось тут, значит, гражданин Суконников не так уж и старался. Впрочем, с чего бы ему тогда напрягаться? Ведь не на век закапывал, не на год даже. Той же осенью, через недельку-другую, когда все уляжется, очевидно, предполагалось вновь наведаться в парк с лопатой. Или для конспирации послать туда друга Бармалея.
Я ботинком шевельнул прелую листву, и наружу вылезло битое стекло. Случайность? Предусмотрительность кладовладельца?
Я заметил место и неторопливо прогулялся по соседним зарослям. Но там не было никаких следов тайны. Или были, но я не нашел.
Из автомата я позвонил Антону и сказал, что, может, заеду переночевать. Мне хотелось его повидать, но ближе к вечеру я все же передумал и поехал домой. Слишком долго квартира стояла пустая — если стояла пустая. Надо было хотя бы понять, что к чему, есть у меня жилплощадь или нет.
Окна были темны, и я, не слишком сторожась, открыл дверь своим ключом. Был тот же разор, что и полгода назад, да еще и пыли прибавилось. Я открыл окно и прибрался, как мог. Позвонил Антону, сказал, что заеду завтра, и лег спать.
Тревожно мне не было. Слишком много времени прошло, кого-то похоронили, кто-то попрятался, кто-то наверняка и теперь шакалит, только охотничьи угодья сменил. Полгода у запертой двери не дежурят. А если и дежурят…
В «хрюшке» осталось четыре патрона. Если что, хватит. Эти суки страшны, потому что всегда первыми бьют и первыми стреляют. Но я уже обучен, ими же и обучен. Если снова возникнут, первыми ударят не они…
Я почему-то был уверен, что вырою «дипломат», с жесткой крышкой и блестящими шифровыми замками. Фильмов насмотрелся. А в реальности вытащил из неглубокой ямы старую хозяйственную сумку из кожзаменителя. Она была завернута в два полиэтиленовых мешка, а внутри тоже был полиэтилен, самый примитивный, хлипкие мешочки, в которые наши полудикие торгаши насыпают сахар или гречку. Но в этих была не гречка.
Я поймал левака в сторону Внукова, специально выбрал тачку поплоше, в чистую и не взяли бы с такой сумкой. Мужичок был обтрепан, щетинист, его «москвичок» дребезжал, битое крыло ухало на выбоинах. Поговорили о ценах и сошлись, что те, наверху, совсем офонарели, но лучших нет, такая уж у нас траханая страна, как начальник — так дурак, или бандюга, или вор. Разговор, впрочем, шел вполне мирный, ругать власть все равно что ругать баб, такая же законная мужская оттяжка, как располовинить бутылку. А сумка пока что валялась на полу, на вогнутом резиновом коврике.
Вышел я далеко за Кольцевой, на остановке, насчет цены водитель застеснялся, две бумажки его вполне устроили.
Я отошел в лес метров на полтораста и там, за барьером из молоденьких елок, разглядел повнимательней, чем разжился нынешним дымчатым утром.
Денег оказалось мало, то есть много, очень много — но много для меня, двенадцать пачек, оклеенных бумажными банковскими крестами, по десять тысяч в каждой — не рублей. Дикие, бешеные деньги, но не настолько, чтобы без колебания и счета убивать всех вокруг, чтобы даже на случайного полусвидетеля спускать целую свору накачанных подонков.
Смешно, но прежде я ни разу не держал в руках зеленые. И странно было думать, что этих вот картинок, которые, постаравшись, можно рассовать по карманам куртки и брюк, мне хватило бы на всю дальнейшую жизнь, и на Изауру хватит, и Антона подстрахую, не придется ему горбатиться за кусок и койку. На троих хватит, а четвертого, так уж вышло, в этой жизни у меня нет.
А еще в двух кульках были жестяные коробки от импортных конфет. Я раскрыл первую — там оказалась стянутая аптечной резинкой пачка тоненьких книжечек, часть синих, часть серых. В верхней было листиков семь-восемь, заполнены лишь первые два, на одном написано по-английски, на другом цифра. Я четыре раза пересчитал нули. Нет, все точно: восемьдесят пять миллионов.
Вторая книжка была похожа на первую. Только цифра не совпадала. Четыреста двадцать миллионов.
Вот это было другое дело. За такие деньги можно убивать и без счета. Как водородной дурой — всех в радиусе ста километров.
Я пролистнул еще пару книжечек и вновь упрятал в коробку из-под конфет. Фантастические цифры алчности не вызвали. Такими деньгами не пользуются, они не для людей. Они для правительств, для партий, для всяких там корпораций. Для банд. А я не банда, даже вместе с Изаурой и Антоном не банда. Так что эти книжечки не для меня.
Я медленно пошел лесом вдоль шоссе, оно негромко гудело за низким ельником, посадками, наверное, брежневских времен. Между рядами уже подрос кустарник, приходилось петлять. Наконец я наткнулся на подходящую сухую канавку, раскидал прелую листву и выкопал узкую яму штыка в три глубиной. Сумка легла боком, я засыпал ее и крепко утрамбовал. Все равно, правда, получился горбик, но я прикрыл его прелью, сучьями и всякой дрянью, которую удалось найти поблизости, банками да склянками. Вышло нечто вроде стихийной помойки, куда побрезгуют сунуться даже грибники. Работа была забавная, по сути собачья: отрыл чужую кость и перепрятал. Ощущал я при этом азарт и злорадство, будто вершил справедливую месть. Впрочем, пожалуй, так оно и было. Привыкли, сволочи, что все кости им! А на сей раз не вышло, эта сахарная косточка перепала народу, не худшей его части в моем лице.
Отойдя, я оглядел свое поле чудес. Все было о’кей, еще бы пару следов собачьей жизнедеятельности — и вообще лучше не придумаешь. А, в общем, и так сойдет. Мало ли в подмосковном лесу грязи, кому придет в голову в ней рыться?
Я заметил сосну-рогатку с двумя вершинами и пошел от нее к дороге, прямиком, считая шаги, чтобы точно вычислить место. В кювете валялась классная вешка, бетонная плита, расколотая и грязная. Лет десять небось валяется, и еще тридцать пролежит, кюветы в России раньше, чем при всеобщем благоденствии, чистить не начнут. Я повернул к Москве и прошел обочиной шоссе до первого километрового столба.
Теперь все было ясно. Столько-то километров, столько-то шагов. Не потеряю.
По пачке зеленых было в карманах, две за пазухой. Пожадничал. Что я стану с ними делать? Хотя… Если, например, поменять квартиру…
Об остальном думалось отстраненно, никаких сожалений насчет зарытого не возникало. Уж это точно не мое, такой кусок не заглотишь. Вилла в Ницце, яхта, какой-нибудь «роллс-ройс» с шофером, шикарные отели… Наверное, интересная жизнь, но ведь чужая, напрочь чужая, я для нее не гожусь. Для такой жизни нужен фрак, пять языков с детства, дедушка-миллионер. А мой потолок — кооператив хоть в тех же Филях, «жигуленок» подешевле и садовый участок под Истрой. Вот такая жизнь будет моя. Такую и хочу, а о другой жалеть не стану.
Хозяйственная сумка гражданина Суконникова казалась теперь чем-то нереальным и неподъемным, вроде как Большой Кремлевский дворец.
Я дождался автобуса на Москву и поехал назад к «Юго-Западной».
Сумку гражданина Суконникова я бы с радостью отдал народу, тем более что зеленые народу нынче очень нужны. Вот только где отыскать тот народ, которому можно отдать две конфетные коробки? Выйти на площадь, и в толпу — хватай, мол, братцы? Так ведь передавят друг друга. А пробиваться к большим мужикам наверх… Не знаю, может, те большие и ничего, но единственный к ним путь — сквозь строй малых. А этих я знаю. Эти убьют. Из корысти, из зависти, просто, чтоб не отсвечивал, но убьют точно. От таких денег и нормальный человек озвереет, а среди чиновников нормальных не так уж и много. Озвереют и убьют. А это мне совершенно ни к чему, один раз меня уже пробовали убивать, и мне это очень не понравилось…
Спал я нормально, снов не видел, в кошмары не впадал, лишь, проснувшись, не сразу сообразил, что захламленная нежилая комнатушка — моя.
Жрать, само собой, было нечего, я оделся и поехал к Антону. У светофора гудел народ, иномарка врубилась в грузовик, рядом стояла «скорая».
Я дождался зеленого и в толпе пошел через улицу.
Теперь мне придется быть очень осторожным. Во всем. Я ведь сейчас, наверное, самый дорогой человек в Москве. Да нет, пожалуй, во всей России. Дороже министра финансов. Дороже президента. И умирать мне никак нельзя. Должен ведь кто-то вернуть хозяину украденное.
Ночной волк
Накануне приятелю стукнуло сорок пять, отмечали без баб, спиртного было по потребности, закуски в обрез, кто-то притащил видик — так что разошлись с первыми трамваями. Просыпаться до полудня он никак не собирался. Однако пришлось.
— Привет, Чемоданов!
Голос в трубке был женский, молодой, знакомый — но сколько их, знакомых…
— Привет, — отозвался он хрипло.
— Ты чего, спал, что ли?
— Да так, чуть-чуть, — буркнул он, еще не поняв, перед кем приходится оправдываться.
— День же на дворе!
— Мало ли что день. Кто говорит-то?
— Ну, Чемоданов, — восхитились на том конце провода, — ты даешь! Дочку родную не узнал.
— Ксюха? — обрадовался он, уже совсем проснувшись. — Сама хороша, звонишь раз в пол года. Тут не то что голос, физиономию забудешь.
— Мог бы и сам звякнуть, — вернуло упрек дитятко, но развивать тему ни Ксюшка не стала, ни он. Мог бы и сам, конечно, мог — но трубку чаще цепляла мать, а с ней без крайней нужды лучше было не разговаривать. Разошлись давно и не по-доброму, бывшая жена, по счету третья, оказалась злопамятной, и в Ксюшкиных же интересах было не афишировать беседы с отцом.
— Ну, чего у тебя? — спросил Чемоданов. С дочкой он, хоть и виделся редко, жил душа в душу, однако без дела она не звонила.
— Пап, — сказала Ксюшка, — будешь моим спонсором?
— А что такое? — поинтересовался он благодушно. Дочкины траты были ему всегда по силам и приятны, просила она редко и всегда какую-нибудь мелочь вроде фонарика или длинных полосатых носков.
— Пап, ты стоишь или сидишь?
— Лежу.
— A-а… Ну тогда нормально. Пап, я замуж выхожу.
— Что?!
— Что слышишь.
— Ты серьезно, что ли?
— Ну, пап…
— Тебе же лет-то…
— Во-первых, скоро восемнадцать, во-вторых, теперь и в семнадцать расписывают. В крайнем случае, скажем, жду ребенка, они и справку не требуют.
— Постой… — совсем растерялся он.
— Да не бойся, — хмыкнула дочка где-то в своем отдалении, — нет ничего, просто скажу, чтоб не занудствовали. Все так говорят!
— А мать чего?
— Рычит.
— Что за парень-то?
— Нормальный. На тебя похож.
Чемоданов уже освоил новость.
— Ну и сколько тебе надо?
Было ясно, что тут фонариком не обойдешься.
— Откуда же я знаю? — ответила дочка беззаботно. — Видно будет. Для начала свадьба. А там как получится.
— И долго мне быть спонсором? — проворчал Чемоданов, как бы примериваясь к непривычной роли тестя.
— Что за вопрос? — удивилась Ксюха. — Всю жизнь.
Она хмыкнула и попрощалась. Чемоданов тоже положил трубку. Еще развлекается, паршивка маленькая. И слово-то какое нашла: спонсор!
Впрочем, слово ему понравилось. Ему все Ксюшкины слова нравились. Дочка!
Чемоданов прошел на кухню, поставил на огонь турку. Смолол кофе, засыпал погуще. Огляделся. Да, видок. Чашки немытые, это ладно, не проблема. А вот пол, окно, раковина… И ведь вполне может привести женишка. Девушка с фантазией, возьмет и приведет. Знакомить, так сказать. А как же, положено — с родным отцом! А у родного отца конюшня конюшней.
Да, без бабы не обойтись.
Кого бы позвать, подумал Чемоданов.
В принципе проблема стояла не остро — охотниц прибрать всегда хватало. Но Чемоданов прибиральщиц повидал достаточно и породу эту знал. Раз приберет, другой — а там, глядишь, и вещички перетащила. Нет, хватит. Уж лучше конюшня, да своя.
Кофе закипел. Турки хватало как раз на две чашки. Чемоданов не любил, чтобы женщины оставались на ночь, в частности, и потому, что турку приходилось делить на двоих, потом ставить заново, и в этой суете ломалась неспешная утренняя радость.
Жанку позову, вспомнил он вдруг и улыбнулся. Хорошая девка, с ней и спать не обязательно. И просить не надо — увидит бардак, сама приберет. Заодно и накормлю как следует. Приберет, поест и уйдет. Хорошая девка.
Он прихлебывал кофе и прикидывал, почем теперь свадьбы. Уж, во всяком случае, не дешево, дешевого нынче ничего не осталось. Это тебе не фонарик! С другой стороны, свадьба один раз в жизни… если один раз. Ладно, по крайней мере, первая свадьба один раз, это уж точно. Кстати, и помимо денег небось чего-нибудь надо, подарки всякие…
От непривычности грозящих хлопот стало неуютно, потянуло посоветоваться с кем-нибудь посведущей. Тут выбор был невелик. Он позвонил Маргарите и договорился на вечер.
День впереди лежал свободный, до дежурства сутки с половиной. Поспать, что ли, добрать свое?
Снова позвонили. Мужик, незнакомый. Но уже по просительной интонации стало ясно, что к чему.
— Будьте любезны Геннадия Васильевича.
— Слушаю.
— Я от Юры Великанова.
— Очень приятно, — отозвался Чемоданов без интереса.
— Насчет машины. Он сказал, вы можете помочь.
Все было понятно. Но Чемоданов молчал, потому что заработок впрямую зависел от длины пауз.
Клиент не выдержал первым, и это было хорошо.
— Стартер барахлит, — принялся объяснять он, — и стук какой-то, особенно на поворотах, потом крестовина, вроде…
— Значит, так, — прервал Чемоданов, — сегодня у нас пятница… Позвоните… ну, допустим, в среду. Только не в эту, а в следующую.
— А ездить пока можно?
— Я ж машину не видел, — скучно возразил Чемоданов, — лучше бы, конечно, не надо. Вот вы говорите — стук. Стук — понятие растяжимое. Может, амортизатор потек или обод погнули. А может, и двигатель недолго запороть. Зачем вам рисковать?
И снова пауза. Потом клиент произнес вежливо, но настойчиво:
— Юра сказал, вы могли бы срочно.
Чемоданов опять помедлил.
— Срочно-то можно… Да к чему вам? Деньги, что ли, лишние?
— Такие обстоятельства, — объяснил клиент.
— Ладно, — согласился наконец Чемоданов, — подъезжайте. Надо глазами глянуть. Там решим.
Дальше шло по накатанному. Позвонил Юрке, получил информацию, легонько перекусил и пошел в гараж. Гараж был его собственный, осколок одной из прежних жизней. Развод получился тяжелый, квартира уплыла, машина уплыла, гараж вон остался. Бывшая подруга жизни, набрав инерцию, хотела и гараж откупить — но уж тут Чемоданов уперся. Просто от злости. Раз она «да», значит, он «нет». И чем настойчивей предлагала, тем приятнее было ее послать. Уже потом, годы спустя, выяснилось, что гараж может кормить до гроба, это когда, плюнув на диплом и инженерный стаж, ушел в автосервис слесарюгой. Хорошая была работа, простая, спокойная и денежная. Но — зарплата не устраивала. Как ни вертись, выходило двести пятьдесят, а то и триста. А ему надо было сто. Тогда как раз вспомнил о гараже, собрал инструменты, три железных шкафа набил запчастями, не хуже, чем на складе, приладил к железной двери замок с «ревуном»…
У клиента была «девятка» в экспортном исполнении, голубовато-перламутровая, пробежавшая тридцать пять тысяч. И когда успел так уходить… Впрочем, судя по ботинкам и плащику, мужик был не из тех, кто на машину побирается по родственникам.
Чемоданов велел завести двигатель, потом сделать круг по ближним переулкам.
— Ясно, — сказал он, — сцепление надо смотреть. Ну а прочее… Крестовина у вас есть?
— Нет…
— А стартер?
— Но Юра говорил, вы…
— Достать все можно, — равнодушно сказал Чемоданов, — но цены сейчас знаете? Мой вам совет — отложим это дело недели на две, а вы пока поищите стартер. В Тольятти у вас никого нет? Там они стольника на два дешевле. Крестовина ладно, а вот стартер…
Клиенту было лет сорок, плотен, энергичен, с холодноватым начальственным взглядом, видно было, что просительская роль давалась ему с трудом.
— Как вас зовут? — спросил он жестко, будто для протокола. Прокурор, что ли?
— Геннадий Васильевич.
— Так вот, Геннадий Васильевич, машина мне нужна к понедельнику. Давайте из этого и исходить.
Чемоданов так же равнодушно глядел мимо клиента, прикидывая, сколько запросить. Рядиться он не любил, предпочитал, чтобы цена сразу — последняя.
— Может, и я вам когда чем помогу, — посулил мужик в плащике.
— А вы по торговой части?
Ни простоватым, ни косноязычным Чемоданов не был, когда-то и в театральной студии поигрывал, и стишки заучивал. Но придуриться, если надо, умел. Так проще. Дурость — словно броня, прошиби, если сумеешь.
— В совместном предприятии, — сказал мужик, — но это не имеет значения. Я раньше в исполкоме работал. Время другое, но люди-то везде свои. Оставлю визитку, если что…
— Стартер, крестовина, — туповато перечислял Чемоданов, — колодки передние. Ну, и работа. Масло менять?
— Все, что надо, — отмахнулся мужик, — чтобы год мне о ней вообще не думать.
— Девятьсот, — сказал Чемоданов, — если неожиданностей не обнаружится.
Года два назад цена звучала бы дико. Теперь клиент даже не поморщился. А чего ему! Совместное предприятие, фирмач. Жулик исполкомовский. Разбегаются и тащат, кто чего ухватит.
— Годится, — кивнул мужик, — только тут вот какая деталька: в ведомости расписаться не затруднит?
— За что? — хмуро поинтересовался Чемоданов. К казенным бумагам у него доверия не было.
— За ремонт, — успокоил клиент, — этой же машины. Она у меня на фирму записана. Все законно.
Чемоданов молчал.
— Накину, — сказал клиент, — две сотни. Даже три.
Чемоданов нехотя кивнул. Хрен с ним, за три сотни можно и расписаться.
Он загнал машину в гараж и велел фирмачу прийти в понедельник после обеда.
— Может, с утра? — попробовал тот.
— Вам качество надо или абы как? — проявил твердость Чемоданов.
Работы вдвоем было часа на четыре, не больше. Но мало ли что! Четыре часа на дело, двое суток на понт. Деньги-то за понт платят.
Днем Юрка прислал еще клиента на «москвиче» с помятым задком. Крышку выправить и панель. Тут хозяин был понимающий, и разговор вышел другой. Шестьдесят рублей, с покраской — девяносто. Тоже деньги.
Вечером он поехал к Маргарите.
Ритуля жила в хорошем месте, в хорошем доме, одна в двухкомнатной хорошей квартирке. Работала она в НИИ, чем-то руководила, еще подрабатывала — и денег, и возможностей хватало. Квартирка была ладная, уютная, без случайных вещей, все к месту. И холодильник не пустовал, и пара бутылок в буфете всегда стояла. Современная независимая женщина.
Лет пять назад у них получился довольно плотный роман, оба завелись, даже в Ялту вместе сгоняли. Но Чемоданов к тому времени все свои семейные игры бесповоротно отыграл, да и Ритуля, пару раз налетев на углы его характера, поняла, что с таким мужиком спокойней быть в приятелях. На том и задержались. Не виделись порой месяцами. Но когда Чемоданов уставал от холостяцкого бардака, когда тянуло в нормальный дом — попить чайку с вареньем, поваляться на мягком, послушать тихую музыку, почитать детективчик — он заваливался именно к Ритуле. Дня на два. Хватало. Самый срок на семейную жизнь.
— Слово-то какое нашла, — с удовольствием пожаловался Чемоданов, — «спонсор». Вот паршивка маленькая! И в кого такая нахалка?
— В тебя, — ворчливо отозвалась Ритуля, — в кого же еще? Вылитый папаша.
Она умела сказать приятное под видом гадости. Умная баба.
Они сидели друг против друга на кухне, но за чистой яркой скатертью, и чай пили из хороших сервизных чашек. Это был Ритулин принцип: если жизнь серая, так пусть хоть посуда блестит. И одевалась она всегда, как на выход. И мыло в ванной пахло заграницей.
— Всю жизнь, говорит, — развел руками Чемоданов, — вот так. Спонсор!
— Влип ты, Геночка, — вздохнула Ритуля, — наплодил дюжину, теперь вези.
— Ксюшку повезу, — кивнул он, — остальные уж пускай сами. Пешочком. Их много, а горб один.
— Балуешь девку.
— Балую, — подтвердил Чемоданов.
— Мать-то не взбрыкнет?
— Это ее сложности.
Ритуля погрозила пальцем:
— Сядет на шею — до пенсии не слезет.
— Это точно, — весело согласился он.
— Сколько их у тебя всего-то?
Чемоданов слегка задумался. Ритуля знала про него много, первой советчице и положено знать, но на эту рискованную тему дотошный разговор не возникал, просто пошучивали время от времени. Врать Чемоданов без большой нужды не любил, да Ритуле не очень-то и соврешь, умная баба, что есть, то есть. Можно было, конечно, замять проблему — все мои, и точка. Но и уходить от прямого ответа было не в его натуре.
— Штук восемь, пожалуй, наберется. До трех считал, потом плюнул.
— Что так?
Она спрашивала, засыпая в чайничек свежую заварку, как бы между делом, для поддержания разговора. Он стал намазывать масло на хлеб и ответил тоже между делом:
— А какая разница? Я же не математик.
— Свои все-таки.
— Кто свой, а кто и не свой.
— Соседи помогали? — съязвила Ритуля, которую, похоже, начинала злить беззаботность собеседника.
Чемоданову шутка не понравилась, женщина это почувствовала и повернула разговор к делам практическим, к тому, ради чего он и приехал к ней на ночь глядя.
— Жить-то они где думают?
Чемоданов недоуменно двинул плечами.
— Парень с квартирой?
— Ничего не сказала.
— Прописка-то хоть есть? Не лимитчик?
Он и этого не знал.
— Чего ж не расспросил-то?
— Да не до того было, — усмехнулся он, — спонсор — вот и весь разговор.
— Спонсор — это хорошо, — не без досады возразила Ритуля — но должен же ты иметь хоть какую-то информацию. А если к тебе пропишутся?
Угрозу он не принял всерьез:
— Еще чего.
— Вполне реальный вариант. Надо же им где-то жить.
— Найдут. Пусть с матерью размениваются, у них двухкомнатная.
— А мать захочет? — усомнилась Ритуля.
— Это уж не моя головная боль.
— Смотри, — предостерегла она.
Чемоданов только хмыкнул да шевельнул ладонью — на этот счет его предупреждать не надо было. С трех квартир съехал, одну, озлобясь, делил — с него хватит. Больше с места не сдвинется. Какая нора есть, такая ему и годится. И половинить ни с кем не станет. Все было — и коврики у приятелей, и раскладушка в гараже. Было, но больше не будет. Есть квартира — в ней и умрет.
— Четыре норы сменил, — сказал он, — а уж эта моя. В этой и умру.
— А через год похоронят. Мумию. Взломают дверь и похоронят. Читал — старуху нашли?
— Делать мне нечего — газеты читать, — ответил Чемоданов, удивляясь не словам ее, а напряжению в голосе. Злится вроде. А с какой стати? Причины не видно, сидят, чай пьют.
— Ладно, давай о приятном, — отвернула Ритуля от опасной темы, — чего дарить собираешься?
— Кому? — не понял он.
— Молодым.
— Это еще поглядим, какие молодые.
— Ну уж невесте-то надо.
Эта обязанность ему в тягость не была.
— Если положено… Чего дарить-то, а?
— Смотря какой суммой располагаешь.
— Ты скажи, чего дарить, а уж насчет суммы разберусь.
— Это у нее серьезно?
— Кто их нынче знает!
— Отец должен знать. Тем более такой, как ты. Ты же у нас специалист по девочкам. Кто там сейчас, Жанна?
— Да ты что? — возмутился Чемоданов. — Она-то при чем? С ней и не было ничего, дежурим в очередь, и только.
С Жанной, правда, кое-что было, но всего раза два и так давно, что, можно считать, и не было.
— Полысеешь скоро, — сказала Ритуля, — а все девочки.
Фраза была нормальная, не обидная, волосами Чемоданов был пока что не беден — но вот интонация ему не понравилась. Не любил, когда давят. Было время, давили, и приходилось молчать — ох и паскудное время! Но теперь-то другое. Теперь над ним начальников нет. Хоть баба, хоть президент — на всех плевал. Вот уже лет десять на него голос не повышали, а если повышали, жалели, что повышали. Так что от грубости отвык. Люди должны быть вежливыми. По крайней мере, с ним.
— Чего это ты сегодня озверела? — полюбопытствовал он, и это был не столько вопрос, сколько предостережение.
Ритуля знала его хорошо и обычно держалась ровно. Но сегодня будто тормоз сорвала.
— А потому что слушать противно!
— Что именно? — спросил он уже с интересом.
— Да все! Ты вот зарылся в нору, а я каждый день у себя в конторе. Двенадцать мужиков в отделе — ты бы на них посмотрел! Дерьмо на дерьме. Даже заработать не хотят. Единственное, на что согласны, — больше получать за то же безделье. Сытенькие, гладенькие… мразь! Целый день точат лясы и подсчитывают, сколько инженер получает в Штатах. Ну не дерьмо?
— Чего ж таких набрала? Ты же начальник.
— А ты покажи мне других. Буду тебе очень благодарна. Вот покажи одного стоящего мужика!
До Чемоданова вроде дошло. Все просто: месяца два не виделись. Время! И все эти месяцы надо же было ей как-то жить. Одинокая баба! Квартирка, конечно, что надо, но одной и тут не сахар. Может, мужик попался пустой, может, вообще никого не попалось. Озвереешь!
— Что, не права?
Чемоданов улыбнулся:
— Вот ты на них и ори. Я-то при чем?
Она отвела взгляд, но сказала упрямо:
— А ты такой же, как все. Думаешь, лучше? Да один хрен! Баб наменял, детей наплодил, а сам сидишь в норе, как барсук, и ни хрена тебе не надо. Ты знаешь кто? Ты люмпен. Люмпен-мужик.
— То спонсор, то люмпен. Испортило вас образование.
— Конечно, люмпен, — повторила она, — ничего нет, и ничего не надо. День прошел, и слава богу. Сторож! В сорок пять лет. Ты хоть задумывался, зачем живешь?
— А как же! — ухмыльнулся он. — Пока что для удовольствия. А там видно будет.
Теперь, когда изнанка разговора была ясна, Ритулина ярость его только потешала.
— Ну вот чего ты в жизни путного сделал? — совсем уж разошлась она. — Ну хоть что-нибудь. Хоть карьеру. Или дачу бы какую-нибудь строил. А то как Мамай — одно разорение! Должен же мужик хоть чем-то заниматься?
— Чем-то должен, — согласился Чемоданов.
— Ну бабы — ладно, — скривилась она, — кобель есть кобель. А детей зачем настрогал? Они тебе чего — нужны? Настрогал и забыл. Ну вот зачем? На резинках экономил?
Чемоданов почувствовал, что еще чуть-чуть, и ее совсем занесет, придется отвечать соответственно. Обижать Ритулю не хотелось, ссориться — и вовсе глупо. Он ответил холодновато, словно бы отодвигая ее и взглядом, и тоном:
— Так сложилось. Устраивает?
Она успокоилась так же неожиданно, как и завелась. Спросила с недоумением:
— А правда, зачем? Зачем, Ген, а? Разве ты их любишь?
— Кого как.
— Ну все-таки — зачем?
Это была уже не прокурорская речь, а нормальный человеческий разговор, и он решил ответить по-человечески. Но объяснять, как оно все получилось, было слишком уж трудно, да и к чему ворошить. Еще пожалеет, чего доброго. А к жалости у Чемоданова отношение было четкое: бандитов он не любил, но уж лучше быть бандитом, чем жертвой.
К сожалению, выходило так не всегда. Особенно поначалу. Насчет первой женитьбы был уверен: она же и последняя. Васька родился — одурел от радости. И когда жизнь вдруг начала оползать, чем дальше, тем быстрее, элементарно растерялся. Растерялся, и все. Вроде вчера еще было здорово, любимый муж, любимый зять. И ничего ведь не произошло! А все изменилось. Теща командует, как слугой, жена чуть что — не нравится, уходи. А мальчишке уже пятый год, все видит, все понимает.
На работе мужики советовали: сам дурак, надо сразу поставить себя. Начал «ставить» — но какая же игра без козырей! Инженеришка, полтораста целковых, кому ты нужен, еще хвост подымает… Так и докатилось до суда.
Ну в суде все ясно, без проблем. Снял угол. Алименты грошовые, так ведь и зарплата копейки. К сыну не пускают. Пошел искать правду — везде бабы, налаживайте, говорят, отношения с женой. Наладишь, как же… В подъездах прятался, дурак, чтобы хоть увидеть парня, в детсадике к забору подманивал. Даже в суд хотел подавать. Хорошо, адвокатша в консультации попалась честная, сразу сказала: «Молодой человек, не тяните пустые номера. Все понимаю — сын. Но лучше заведите пару новых».
Завел как раз пару, одного за одним. Больше не успел. Купил Ваське подарок на день рождения, всех дел на червонец, а пошло! Свои рваные ходят, а тут мало что алименты — еще из дому тянет… Словом, ультиматум — или-или. Хоть и глуп был, но понял: в этот раз уступит, всю жизнь будут им полы вытирать.
К третьему разводу готовился загодя: дочке хоть и порадовался, но любить ее не стал. Между прочим, как раз Ксюшку.
Ну а дальше пошло совсем легко. И опыта поднабрался, и характер отвердел. Жить можно. Тут главное дело — с самого начала не любить. Не втягиваться. Не верить. Как с ним, так и он…
Ритуля смотрела на него, ждала. Поторопила:
— Так зачем тебе их столько-то? А?
Чемоданов ответил:
— Как со мной, так и я.
По глазам увидел — не поняла. А она ведь на то и существовала, чтобы понимать. Он не поленился, объяснил по сути:
— Вот ты смотри. Мне двадцать семь было. Два развода, трое детей. Ползарплаты на алименты. И живи! Прикинул — кругом затык. Одна радость, больше пятидесяти процентов не вычитают. Ну я и решил: как со мной, так и я. Раз пошла такая пьянка — пусть на свете будет больше Чемодановых!
Пока говорил, в самом поднялась злоба, в конце даже сорвался на матерок, хотя обычно нормальных слов ему вполне хватало. Прошлое все ж таки зацепило. Он даже забыл, зачем пришел. Вообще, разговор выходил такой занимательный, что самый момент был встать и уйти. Но это походило бы на скандал, а скандалить с бабами Чемоданов уже давно себе не позволял. Схватишься с бабой, и получатся как бы две бабы.
Ритуля тоже почувствовала запах паленого и мягко ушла от опасной черты: включила телек, кинула на сковородку мясо, притащила французский журнал с длинными машинами и голыми девками. Чемоданов листал его равнодушно: машины что надо, но ему на таких не ездить, и сучки хороши, ничего не скажешь, но ему их на спину не класть. Да и глаза больно уж профессиональны, души не видно. До койки дойдет, наши не хуже.
Время, однако, катилось к полуночи. Уходить, так сейчас. По ящику пошла программа на завтра.
— Ну чего, — спросил Чемоданов, — пойду, что ли?
Ритуля пожала плечами:
— Как хочешь.
— А ты?
— Знаешь, — сказала она с досадой и отвернулась, — реши сам. Я с девяти до шести за мужиков решаю, мне это вот так! Хоть тут реши.
Она встала и вырубила ящик.
Чемоданов обнял ее со спины, ладони сами собой легли на нужные места.
— Дура, — сказал он, — ох и дура!
Все пришло в норму. Умная баба все равно баба, и деться ей от того некуда.
Не то чтобы ему хотелось остаться, скорей даже нет. Но Ритуля была не только баба, но и друг, родной человек. И Чемоданов для друга постарался: умотал ее так, чтобы, по крайней мере, две недели не терзалась одиночеством. На то и люди, чтобы друг друга выручать.
Утром, за завтраком, уже деловито заговорили о Ксюшкиной дурацкой затее.
— Чего ты вообще об этом парне знаешь?
Чемоданов слегка задумался:
— Да, пожалуй, что ничего.
— Здорово зятя выбираешь!
— Я-то при чем? Ксюшка выбрала.
— А тебе все равно?
Тут он задумался поосновательней.
— Да нет, пожалуй, не все равно. Это ведь, может, и надолго.
— Хотя бы расспроси ее.
— Это не ее надо, — ляпнул Чемоданов и тут же пожалел. Но уже поздно было, проговорился.
— Ясно, — сказала Ритуля, — все ясно. А не боишься, что пупок развяжется?
Он постарался удивиться:
— Это ты о чем?
— Насколько я поняла, ближайшая ночь будет посвящена Вике. Разве не так?
Чемоданов, как мог, возмутился:
— Да ты что! Я не самоубийца. Ей же двадцать лет! — И добавил для пущей убедительности: — Я умирать не собираюсь.
Ритуля не настаивала, спокойно обсудила с ним проблему свадебных даров, предложила вместе пошастать по комиссионкам. Но когда он уже стоял в прихожей, вдруг сказала:
— Ты знаешь кто? Волк.
Сравнение было не обидное, даже лестное, но в сокровенную его суть Чемоданов сразу не врубился. Выждав паузу, поинтересовался:
— А почему именно волк?
— Типичный волк, — сказала Ритуля, — он в овчарню заберется, думаешь, овцу в зубы и домой? Как бы не так. Режет всех подряд. Надо, не надо, а режет. Натура такая. Вроде твоей.
— Ишь ты! — проговорил Чемоданов с уважением. Раньше он про серого зверя такого не знал.
Он чмокнул женщину в щеку и ушел. Сравнение с волком ему понравилось. Надо же — всех подряд! Выходит, и его довели…
Полдня Чемоданов провел в гараже. Подъехал Юрка, натянули грязные комбинезоны и взялись за тачку щедрого фирмача. Сняли стартер, почистили, сменили пружинку и поставили на место. Видно было, что под капот месяца три не залезали, значит, и еще три не залезут. А там кто разберет, новый стартер или пользованный.
Остальное сделали на совесть, даже двигатель помыли, даже диски наблистили и по никелям пастой прошлись. Пусть порадуется. Может, еще когда завернет. Самый выгодный клиент. Жулик вонючий!
С «москвичком» повозились, но та морока была приятная. Чемоданов вообще рихтовку любил, художественная работа. Берешь хрен-те что, вроде мятой простыни, а выдаешь вещь, гладкую и блестящую, будто только родилась. Хотя, если сбоку глянуть, видно, что тень на крышке багажника слегка западает. Чуть-чуть не довел. Учтем на будущее. В три часа уложились, девяносто на двоих, справедливая цена, ни мастеру не обидно, ни клиенту.
— К тебе на неделе фраер подъедет, — сказал Юрка, — «Волга» белая с противотуманными фарами, там амортизатор потек и тяги разболтаны. Насчитай ему рублей на пятьсот. А то, гад, куртку мне делал, полторы сотни сверху взял.
— Можно и пятьсот, — согласился Чемоданов, — вполне будет кстати. — И пояснил: — Дочку замуж выдаю.
— А у тебя чего, дочка есть? — удивился Юрка. Он знал, что напарник живет один, а до подробностей как-то не доходило.
— У меня все есть, — похвастался Чемоданов, — полный комплект.
— Да, сейчас свадьба дело денежное, — сказал Юрка и с ухмылкой предположил: — Разве что зятек подкинет.
— Он подкинет! — в тон отозвался Чемоданов и с некоторой растерянностью подумал, что вот и подкатился возраст, когда начинают полоскать зятьев.
— Ничего, — утешил Юрка, — для такого дела наберем. Подворачиваются варианты.
Они оттерли ладони бензином, переоделись и разошлись.
Чемоданов был доволен напарником. Легкий мужик. И дело сделали, и душой отдохнули, и Ксюхе с того мужского развлечения, глядишь, что и перепадет. Всегда бы так.
Самоубийцей Чемоданов действительно не был и умирать не собирался. Тем не менее субботний вечер он встретил в постели как раз с Викой, которой лишь недавно исполнился двадцать один и которая своим темпераментом вполне могла представлять угрозу для здоровья. В принципе Вика была ему не любовница, а приятель и союзник — старшая Ксюшкина подруга, единственный достоверный источник информации о дочке. Познакомились года два назад, Ксюшка же ее и привела, потом Вика раз-другой пришла самостоятельно, ну и… Чемоданова она звала Геной и на «ты», но разницу в возрасте, похоже, уважала, во всяком случае, если звал, бросала все и приезжала немедленно. Поводы были только деловые, но если обстановка позволяла, как правило, возникало и не обусловленное: от касания, а то и от взгляда тело бросало к телу, и они возились в койке яростно и самозабвенно, как два борца в азартной тренировочной битве, за которую ни медалей, ни денег. Вот и сейчас вышло именно так.
— Здорово с тобой, все-таки, — ворчливо признала Вика, — хоть одно в жизни, да умеешь.
Это была ее манера: поворчать, а при случае и вставить гадость.
После чего они сразу же перешли к делу, ради которого Чемоданов ее и вызвонил.
Происходило это рандеву не у него, то есть как раз у него, но не дома, а на работе.
Вот уже довольно много лет по основной своей профессии Чемоданов был сторож, по должности ночной дежурный — так когда-то придумало начальство, чтобы звучало престижней. Чемоданов, однако, за престижем не гнался, он был готов зваться хоть дворником, лишь бы условия те же. Поскольку работенка была — мечта.
Высотка НИИ торчала, как карандаш, весь первый этаж был в решетках, на дверях мощные засовы и на каждом шагу сигнализация — не из-за особой секретности, а потому, что институт как раз и занимался сигнализацией. Сторожить такой объект было одно удовольствие, тем более что тот, кто оснащал здание лет десять назад, слава богу, оказался реалистом: в просторной дежурке помещался не только стол с креслом на колесиках, не только два железных шкафа на случай непредвиденностей, но и цветной телевизор, и, главное, широкий диван, на котором можно было и спать, и не спать. Каждую неделю Чемоданов дежурил ночь или две, по скользящему графику, плюс в выходной целые сутки. Когда нанимался, его порывались сделать бригадиром, но он уклонился: там зарплата была сто сорок, а ему надо было — сто.
— Ксюшка звонила, — сказал он Вике. Это не был вопрос, она и не ответила.
— Сказала, замуж выходит. Вроде не хохмила.
Опять молчание.
Тогда он спросил прямо:
— Ты этого малого знаешь?
— А то! — сказала она.
— Ну и как он тебе?
— Парень как парень. Прохиндей вроде тебя. Ни одной не пропустит.
Чемоданов нахмурился. В принципе качество неплохое, но не для зятя же.
— Лет ему сколько?
— Двадцать три. Или двадцать четыре.
— Отслужил?
— Справку достал, что псих. Тот еще мальчик! Везде вывернется.
— А специальность какая?
— В фотоателье работает, фотографу помогает. Ну и сам иногда…
— Заработок ничего?
— Да ну… Он больше бесплатно, девочек голеньких.
— Да, повезло с зятьком, — усмешкой поощрил Вику Чемоданов. Но она опять замолчала.
Вика была хорошая девка, правдивая, спроси — ответит. Но о чем спросить?
— У них это серьезно? В смысле — женитьба?
— Во вторник заявление подали.
— И чего торопиться? — в недоумении пробормотал Чемоданов. — Пожар, что ли?
— Пожара нет, — холодно возразила Вика, — у нее таблетки французские.
Не сразу поняв, он уставился на нее:
— Таблетки?
Вика посмотрела на него с вызовом:
— А чего ты так удивляешься? Презервативы, что ли, лучше? Да их шинный завод выпускает!
— Ей же семнадцать лет.
Особых иллюзий насчет Ксюшки у Чемоданова не было, нахалка хоть куда, но степень ее осведомленности слегка ошарашила.
Вика пренебрежительно фыркнула и поднялась с дивана.
— А семнадцать что, мало? — сказала она. — Самый возраст. Как раз в семнадцать и скачут из койки в койку.
Чемоданов свел брови, ему не понравилась формулировка. Вика босиком прошла к стулу с одеждой и стала натягивать трусики.
— Ты чего надулся? — спросила она с досадой. — Или думал, она у тебя еще девушка? Та еще девушка! Рот разинет — асфальт видать.
Фраза была ничего, но Чемоданов не засмеялся. Вика застегнула лифчик спереди, потом развернула, как положено, легко насунув чашечки на крепкие груди.
— Ну чего ты? — снова сказала она, но уже сочувственно. — Делов-то! Сейчас жизнь такая.
— Дочка все-таки, — виновато объяснил он.
Вика влезла в джинсы, они плотно обтянули аккуратный задок. Чемоданов тоже стал одеваться. Вика решила его утешить:
— Вообще-то он парень нормальный. Юморной. В компании с ним не стыдно, девки даже завидуют. Прохиндей — это да. А ты сейчас других знаешь? Сам-то какой? Вот и он под каждую юбку лезет.
— И к тебе тоже? — мрачновато пошутил Чемоданов.
Пауза вышла долгая. Лишь потом Вика нехотя отозвалась:
— Я ж говорю, ни одну не пропустит.
Вот тебе раз! Чемоданов даже рот забыл захлопнуть. Ничего себе… Из всех вопросов самым тревожным показался один:
— Ксюшка знает?
Она раздраженно хмыкнула:
— Ха! А кто же их познакомил? Не я, что ли? Да это все мура. У нас с ним и было… так, от нечего делать. А они вроде спелись.
— Ничего себе спелись! Заявление подали…
Вика наконец заметила его огорченное лицо.
— Да не трепи нервы! Делов-то. Вполне нормальный вариант. Я же всех ее мужиков знаю. Другие хуже были.
Утешила…
Чемоданов поставил чайник, но Вика ждать не стала, заторопилась. Надела туфли с железными передками, кооператив под импорт, дружески ткнулась губами в его щеку и убежала. Хорошая девка, правдивая. Только на хрена ее правда? Что с ней делать-то?
В понедельник фраер в плащике заехал за машиной и остался очень доволен блестящими никелями. Он привез две ведомости, и Чемоданов расписался в обеих. Хрен с ним, не посадят же — в нашем-то бардаке! В нашем бардаке сажают, только когда хотят посадить. А этот из начальства, наверняка с начальством же и делится, все повязаны, кто же станет трогать своего…
На вечер у Чемоданова было мероприятие — преферанс. Два дня назад позвонил Степа оговорить время, и сошлись на понедельнике. Место не оговаривали, оно не менялось уже лет пятнадцать. У Левки в мастерской, где же еще.
Если точно, мастерская была не Левкина, а народного художника Картохина, большого человека. Но большой человек жил на даче, там имелась другая мастерская, в эту он почти не заглядывал, и просторным помещением под крышей украшал собственный быт продолжатель рода, что, правда, помешало ему решить разные личные задачи, в том числе и продолжить род: то ли не хотел, то ли не получалось, то ли бабы не рисковали рожать от доброго, но бездельного и пьющего мужика. Но для компании Левка был человек золотой, а для Чемоданова к тому же школьный друг, можно считать, родственник, — после одного из разводов кантовался в этой мастерской чуть не год.
Компания сложилась давненько, просто подобралась четверка тогда еще молодых мужиков, кто больше, кто меньше знакомых, но с равной потребностью отдохнуть душой, расслабиться и восстановиться, хоть на вечер замкнуться от суеты в дружественной и снисходительной мужской компании. Что только с тех пор не происходило — руководящие бедняги в окошке телека то недоуменно шевелили богатыми бровями, то жалко силились растянуть выдох на длинную фразу, дергалась политика, исчезали продукты, росли заработки, валился рубль… А здесь ничего не менялось: все тот же старинный стол с прочной красноватой крышкой, у стены другой, резной, с кофейником, бутербродами и матовыми после холодильника бутылками пива, все та же «сочинка», пятисотка, по ноль-три, и распасовка всегда на висты, и пика — обязаловка, а мизер перебивается девятирной. Традиция, ритуал, пятачок стабильности во всеобщем бедламе.
Когда-то они были Степа, Левка, Стас и Генаша. В убежище под крышей ими же и остались. Жизненный статус партнеров, конечно, претерпел изменения: Степа, хоть и в той же должности, обрел влияние, разбогател и теперь ездил на почти новой «тойоте», Левка облысел и обрюзг, Стас вышел в доктора наук, а Генаша в сторожа — но это касалось лишь внешнего мира. Компания ощущала успешность карьер, пожалуй, лишь в одной детали: в эпоху тотального дефицита концертный администратор Степа ни разу не явился без пива.
Присловья за картами тоже были стабильны. Вот и сегодня Степа плакался, уважая примету, Стас повторял, что карта слезу любит, а Левка твердил, что двух красных не бывает. Впрочем, Левка играл невнимательно, порой просто выпадал, подавшись к телевизору, где звук был вырублен, но картинка бежала, как в немом кино: показывали митинг, и Левка пытался определить, чья берет. Он служил в какой-то творческой конторе с малым жалованьем и неутомительным рабочим днем и вот уже года три увлекался политикой — ходил на Пушку, на Манежную, в Лужники, а на демонстрациях носил радикальные плакаты, такие большие и красивые, что пару раз попадал даже в телевизионные репортажи.
Чемоданов сидел как раз напротив ящика, но его политика не отвлекала. Тем более митинг кончился и теперь экран занимал бородатенький комментатор: кого-то клеймил, уличающе тыча пальчиком, что было нелегко, ибо маленькая его мордочка то и дело устремлялась вниз, к шпаргалке. Смысл речи Чемоданова не интересовал, но морда говоруна не нравилась, сразу видно, из прихлебателей. Впрочем, в последнее время все морды в ящике стали такие.
— Про кого он? — спросил Левка. Он напрягся, словно читал по губам. — Про Ельцина или Горбачева?
— Да плевать, — сказал Степа, — все равно он молодец.
— Кто молодец? — агрессивно напружинился Левка. — Ельцин или Горбачев?
— Оба, — сказал Чемоданов, — сделай снос, и ты будешь молодец.
— Ты сам-то кто, — поинтересовался Стас, — демократ или патриот?
Левка ответил матом, и миролюбивый Степа, чтобы не обострять, уточнил за него:
— Демократ, демократ.
— Ну и дурак. Патриотам хоть платят. — Стас произнес это с удовольствием, как, впрочем, и все, что произносил, потому что у него был густой красивый баритон.
— За доносы? — вскипел Левка.
— Какая разница? Все равно ведь деньги, — философски изрек Стас, разбирая карты по мастям.
Насмешки над Левкиной политикой тоже были традиционны.
— Валяйте, — сказал Левка, — смейтесь. Вот введут танки…
Степа укоризненно проговорил:
— Парни, у нас преферанс или митинг?
И опять пошла приятная, веселая, в меру будоражащая кровь мужская забава.
Чемоданов все не мог отвлечься от Ксюшкиной женитьбы, было смешно, но больше тревожно. Молоденькая ведь и дура, много ли ей надо? Много ли и чего именно надо молоденьким дурам, он знал досконально, и знание это не утешало.
Он так ушел в свои мысли, что вместо ненужной червы скинул четвертую бубну, которую следовало держать до упора, чем высек из доктора наук длинную и красивую матерную фразу. Чемоданов даже оправдываться не стал, так очевиден и позорен был его промах.
Посреди пули сделали перерыв на пивко, неспешно обменялись новостями, не конкретно и потому не зло обругали баб и вновь взялись за работу.
— Не люблю играть, да деньги нужны, — почти автоматически проговорил Стас, сдавая.
— Это разве деньги? — в тон ему возразил Степа. — Вот если бы какие-нибудь там пиастры…
— Согласен и на наши, — вставил Чемоданов.
— А на хрена они тебе, стены оклеивать? — поинтересовался Степа и объявил козыря.
— Дочку замуж выдаю.
— Дочка — это святое, — отозвался Стас и тут же, не удержавшись, укорил: — Придержал бы в тот раз бубну, вот и были бы деньги.
Больше темы не касались, да Чемоданов и не собирался ее развивать. Зачем? Он свое сделал — проинформировал. Будет что сказать, сами скажут.
Когда расходились, выяснилось, что зернышко проросло. Степа придержал его за локоть и спросил негромко:
— Деньги правда нужны?
— Да не помешали бы.
— Звякни завтра часа в четыре.
— Годится, — сказал Чемоданов.
Пока шла игра, он окончательно сориентировался в ситуации с Ксюшкой и решил заниматься только тем, что его касается. В конце концов, как там у дочки сложится с ее прохвостом, не угадает никто. А вот с кем ей сегодня приятней в койке, это ей известно доподлинно. Вот и надо, чтобы каждый занимался своим делом: Ксюшка своим дурацким, а он, как отец, обеспечивал тылы. Нынче без денег ни шагу, тем более молодым, им ведь главное, чтобы не хуже других. Так что тут выбирать не из чего. Дура не дура, а дочка. С кого же ей тянуть, как не с отца. Тянет — и правильно делает. Закон жизни…
Со Степой встретились на Страстном бульваре, и тот, сделав на своей «тойоте» три привычные петли близ Арбатской площади, вырулил прямиком к «Праге». Очереди у ресторана не было, но и пускать не пускали, однако к Степе подобные сложности не относились. Чемоданов не расслышал парольное слово, да и вслушиваться не стал, не пригодится — он был не ресторанный человек. Степа же ориентировался в длинных угластых коридорах, как в собственной квартире. И с метрдотелем в зимнем саду поздоровался за руку, и столик им выпал у стены, и официант как подвел, так и остался рядом. Степа прошил меню взглядом, но углубляться не стал.
— Володя, — сказал он, — вот это мой друг, и покорми его, как друга. Крепкого не надо, у нас дело. Все, что положено, и бутылку сухаря.
— У друга со здоровьем в порядке? — спросил Володя.
— Зубы есть, цирроза нет, — успокоил Степа, — наш человек.
— Пять минут, — пообещал официант.
Он не ходил и пяти минут — почти сразу возникла рыбка, свежие овощи и два острых салата, ради которых Володя, видимо, и интересовался здоровьем друга. Чемоданову он налил полный бокал, Степе треть и глянул вопросительно.
— За рулем, за рулем, — кивнул тот, — видишь, начальство вожу.
Официант засмеялся, спросил, устроит ли их шашлык, и отошел.
Степа снял пиджак, приладил на спинку кресла, ослабил галстук и уселся вольготно, как за домашним столом. Они выпили, и Чемоданов побаловал рот тонко нарезанной, почти прозрачной от жира, слабо подсоленной тешей.
— Так вот насчет денег, — сказал Степа. — Ты сейчас сколько выгоняешь?
— Да рублей шестьсот.
В среднем, пожалуй, так и выходило.
— Еще года два назад были деньги, — сказал Степа, — а сейчас — увы и ах.
— Одному-то хватает, — отмахнулся Чемоданов, — да вот девка, видишь, надумала…
— Она у тебя от какой? — спросил Степа, кое-что про него знавший — за картами мало ли переговорено!
— Вроде от третьей, — припомнил Чемоданов, — я в них запутался. Точно — от третьей.
— Есть вариант, — сказал Степа, — место, похоже, с перспективами, но надо еще присмотреться. Ты в культуре не работал?
Чемоданов помотал головой.
— Ну и слава богу, значит, глаз свежий.
Степа налег на салатик, Чемоданов тоже заработал вилкой. Слово «культура» не обнадеживало. Ну да ладно, не очень-то и рассчитывал.
Поодаль сели трое иностранцев, в таких хороших костюмах и галстуках, что не сразу и замечалось, что сами они, по сути, довольно мятые мужички. И почти тут же за столик рядом опустились две девки, похожие типом и манерой держаться. Открытые блузки, весь товар наружу, тонкие блестящие штаны, настолько в обтяжку, что их можно было и вообще не надевать. Тела были стройные, ухоженные, юные, зато размалеванные лица казались старыми из-за равнодушно-расчетливых глаз.
В мутной своей жизни Чемоданов со шлюхами дела не имел, не приходилось, была к ним какая-то брезгливость: и так все продается, а если еще за дырки платить… Умом, конечно, понимал, что у каждого свой промысел, и ихний, наверное, не хуже иных. Но уж больно некрасивы были подробности, и ничего, кроме брезгливой жалости, не вызывали ресторанные добытчицы, что часами болтаются от телефона-автомата до туалета или просто курят на диванчиках в коридоре, будто бродячие кошки, зорко дежурящие у помойки в ожидании очередного мусорного ведра.
— Что за место? — спросил он.
— Только не падай, — предостерег Степа, — театр.
— Театр? — изумился Чемоданов.
— Театр.
— А я при чем?
Степа успокаивающе поднял ладонь:
— Все в норме. Говорю, значит, знаю. Театр — громко сказано. Студия, наполовину самодеятельность. Но это неважно, работать могут.
Разговор получался не деловой, и Чемоданов с удовольствием вспомнил, что сам когда-то занимался этим делом, еще в институте, блистать, конечно, не блистал, но пару раз рольки давали.
— Тут не драма, — мотнул головой Степа, — тут другое.
Он не договорил, официант Володя принес шашлык. Степа спросил, кивнув на девок:
— Твои пташки?
— Не, — сказал Володя, — эти через метра действуют, его система. Мои на юга укатили.
Шлюхи поняли, что разговор о них, перекинулись парой словечек, и одна из них подмигнула незнакомым мужчинам просто и приветливо, как своим. Володя подошел к их столику, и девки заказали по чашке кофе.
— Так вот у них не драма, — повторил Степа, — у них эротический театр. Слыхал небось?
Чемоданов кивнул. Он и слыхал, и видел как-то тусклую афишку, и по ящику однажды поймал кусок представления: худенькие соплюшки мотались по сцене неумело, зато почти голяком. Ничего, кроме сочувствия, Чемоданов к ним тогда не ощутил: жизнь трудна, конкуренция здоровущая, вот и вертятся, кто как может, ищут свой шанс. Словом, представление имел. Но вот Степину идею не улавливал. Его-то как можно к веселому делу приспособить?
Ресторан постепенно наполнялся. Иностранцам Володя принес новые тарелки, они потягивали винцо медленно и не чокаясь. Европа! Шлюхи скучали, та, что подмигивала, подошла с сигаретой за огоньком. Степа дал ей прикурить и спросил:
— Не клюют?
Она, не удивившись, пожала плечами:
— Наверное, голубые. Там у них педиков туча хренова. А вы, мальчики, кто?
У Степы рот был занят шашлыком, пришлось отвечать Чемоданову.
— Бизнесмены.
— Люблю бизнесменов, — изрекла гостья.
Но колебалась она не дольше секунды — импортные бизнесмены явно устраивали ее больше своих. Затянувшись и благодарно помахав сигаретой, она отошла к напарнице.
— Тут свой эротический театр, — сказал Чемоданов, — так чего мне там делать?
Степа отпил минералки.
— Я ж говорю — присмотреться. Пока просто присмотреться. Что это такое. Серьезное дело или завтра развалится. Руководитель у них, говорят, талантливый, но пьет. Я видел одну репетицию, в общем, понравилось, в провинции вполне можно продать. Но у них сейчас дело не поставлено. Все бестолково. Ютятся в каком-то клубике, рекламы нет, девкам платить нечем. Драмкружок. А у нас идея вот какая: присмотреться и, если перспектива есть, взять на себя. Все, от и до. Транспорт, аренда, реклама, зарплата — все наше, ихняя только работа. Не сумели продать — горим. Наварили — навар наш. Как говорится, деловой риск. Но сперва нужен свой человек, который всю эту контору просечет. От и до. Потому что если решим, сразу придется солидно вкладываться. Мы затрат не боимся, но важно, чтобы ясность была.
Чемоданов спросил не сразу:
— А «мы» — это кто?
— Мы — это мы, — ответил Степа и щепотью постучал себя по груди. — Наша контора. В основном делаем гастроли, ну и все, что вокруг. Пока живем. Но сейчас время неясное, на одну лошадь ставить нельзя. Вот я знаю малого, шесть лет группу возил. И все путем, они живут, и он в порядке. А в этом году два раза вывез — и оба раза в огромном минусе. Чего-то сдвинулось, и все — треть зала. А ребята с гонором, им свое отдай. Теперь на нем долг семьдесят тысяч. Конечно, не бедный, отдаст. Но ведь обидно! Годами наваривал, а за два месяца все ушло.
— Тогда чего же вы хотите рисковать? — удивился Чемоданов.
— А это диалектика, — сказал Степа и повторил, видно, слово понравилось: — Самая настоящая диалектика. Когда время неясное, на одной ноге стоять нельзя. У нас пока что стабильный плюс. Так вот, чем в налог сдавать, мы лучше свой плюс вложим в дело. Это же подстраховка. Скажем, рок не пойдет — пожалуйста, у нас есть и юмор. Юмора наелись — вот вам вокал, классика. В хорошем бизнесе должно быть все. Так что, например, эротика вполне ложится в систему. Это, брат, менеджмент!
Степа был курнос, светлоглаз, сидел мешком, и чужеземное слово клеилось к нему плохо, как и дорогой галстук, и туфли с пряжками.
Шлюхи за своим столиком малость продвинулись вперед. Они, правда, еще не подсели к иностранцам, но уже курили чужие сигареты, вслушивались в чужой разговор и, когда иностранцы смеялись, тоже ржали в масть, громко, но бестолково, поскольку смысл уловить не могли. Та, что подходила, все усаживалась и пересаживалась половчее, в результате чего стул ее теперь находился не столько у своего, сколько у соседского столика.
Специалистка, оценил Чемоданов, и такой хлеб даром не дается.
Тут общительная шлюшка, не переставая говорить с подругой, вдруг выгнулась, улыбнулась иностранцам и ловко стряхнула свой пепел в чужую пепельницу.
Ну, класс, восхитился Чемоданов, дуры, может, и дуры, а дело свое вот как секут! Мастерство он уважал в любом ремесле. Заглядевшись на девок, он отвлекся от разговора и толком уловил лишь последние Степины слова.
— Ну система, — сказал он, — и что?
Степа глянул с удивлением:
— Как что? Если ложится в систему, так чего же упускать?
— Погоди, — Чемоданов прищурился туповато, как делал всегда, когда надо было выгадать время, — это я понимаю. Но вот система — ты какую систему имеешь в виду?
Видно, вопрос был вовсе нелеп, Степа даже вилку отложил.
— Как какую? Нашу, естественно. Наша контора и так далее.
— У вас что, мафия, что ли, своя? — улыбнулся Чемоданов.
Он уже прикинул Степин вариант и, не вдаваясь в суть, решил, что не стоит. Чужая работа, чужой интерес. Ну деньги, да. Зато в дежурке воля, а там небось от звонка до звонка. Всю жизнь менять. А на хрена? Она и так неплохая. А деньги — что деньги? Два лишних клиента в месяц, вот и деньги.
Степа шутку не принял, сказал серьезно:
— А хоть бы и мафия. Сейчас иначе не проживешь. У всех своя система, от и до.
— Это точно, — сразу согласился Чемоданов — ему не хотелось обижать приятеля. — И у тех вон за столиком тоже система.
Но, видно, Степу здорово задело, он уперся на своем:
— Вот ты говоришь — мафия. Мы какая мафия? Мы мелочь. Мафия там, — он кинул взгляд к потолку. — Вот там мафия! Все схвачено. И законы свои, и прокуроры свои, а посадят, так и тюрьмы свои. Это я понимаю — система! А у нас так, самозащита… Вот мне, например, осенью в Сочи группу везти, двенадцать концертов продано. А как я их повезу? Нет выхода на кассу — нет билетов. А гостиница? А площадки? Значит, все, кто нужен, должны быть в системе. А иначе что — как на охоту, так собак кормить? Все должно быть в системе, от и до. И те вон веселенькие, — он мотнул головой на шлюх, — тоже нужны. Вдруг понадобится мясо, мне их что, у гостиниц отлавливать?
Девки между тем уже сидели с иностранцами, та, что побойчей, записывала телефон. Дожали все-таки!
— Ты чего не пьешь? — спросил вдруг Степа.
— Не тянет сегодня.
— А я бы с удовольствием.
— Ну и давай.
— А машина?
— Доброшу, — сказал Чемоданов, — не проблема.
Степа подозвал официанта, и на столе быстро возник маленький прозрачный графинчик.
— Водки охота, а больше ничего, — сказал Степа, — бывает. Устал, наверное.
Он кинул стопку, поморщился, но закусывать не стал.
— Напряг большой, — словно извинился он, — все время в напряге. Слишком все неопределенно. Наши вот мужики дачи покупают. А я бы лучше фирму поднял. Но с нашей властью сам знаешь — сегодня обещает, а завтра грабанет.
Он снова выпил и опять не закусил.
— Значит, так, — сказал он, — вот тебе координаты, скажешь, от фирмы «Рампа», конкретно от меня. Должность выберешь сам, какую — не важно, все равно платить будем мы.
Чемоданов всунулся было сказать, что в театр не годится никем, но Степа замахал левой рукой — в правой была стопка.
— Ходи и смотри, больше ничего. Главное, понять, развалятся они через месяц или нет. Семьсот в месяц — устроит?
Условия были такие, что язык на отказ не сработал. Чемоданов попросил три дня подумать.
— Идет, — кивнул Степа и принял последнюю, на этот раз основательно заев водку остатками салата. Потом поманил официанта и показал глазами на остатки еды: — Сколько?
— Рублей в восемьдесят, думаю, уложились, — сказал Володя.
Степа достал сотню и жестом усмирил Чемоданова, полезшего было в карман.
Поднялись, Степа поправил галстук и надел пиджак. Обтянутые девки, уже совсем скооперировавшиеся с гостями столицы, заметили это, и та, что уже подходила, почти бегом бросилась к ним, сунула Чемоданову визитную карточку и заспешила назад. Иностранцы, что ли, послали, удивился он. Но, глянув на карточку, удивился еще больше: там значилось «Антонина Егоровна Клюева, менеджер». Он показал карточку Степе:
— Видал? Вот так-то.
— Не выбрасывай, — сказал тот, и лишь по замедленности речи почувствовалось, что водка дошла. — Будут в системе.
Еще на лестнице он отдал ключи от машины Чемоданову. Тот сел за руль. Сперва разговаривали, потом Степа стал клевать носом. Однако у подъезда, на воздухе, оклемался и бодро пошел к лифту.
А Чемоданов пешочком прогулялся до метро и поехал домой. День получился нормальный. Вообще жизнь нормальная. Завтра свободен, послезавтра свободен, а там суббота, сутки дежурить, чаек пить, телек смотреть, книжечку читать и спать до упора, разве что койка другая. Можно кого-нибудь позвать, если настроение будет.
Нормальная жизнь.
Какого хрена ее менять?
На этот раз дочкин голос узнавать не пришлось:
— Пап, привет. Как ты там?
— Да нормально. Ты-то как?
— А чего мне сделается! — бесшабашно прозвучало в ответ.
Перекинулись еще двумя-тремя положенными фразами, и лишь потом Ксюшка безразлично проинформировала:
— В «Весну» ходили… ну, магазин для новобрачных. Талон-то дали, не выбрасывать же.
Ясно, про себя усмехнулся Чемоданов, все ясно. Но настроение у него не упало, а даже поднялось. Выходит, нужен. Ну а зачем нужен… Так ведь родители за одним только и нужны. Нормальное дело, закон природы.
Дочка замолчала, и он помог:
— Ну и чего там?
— Да страх один! Цены…
— Хоть есть чего-нибудь?
— Чего-нибудь есть…
От следующего вопроса Чемоданов воздержался. Спросишь — ответит, а ответит, надо покупать, вроде сам навязался. Цена же и впрямь может оказаться превыше всех возможностей. Пусть уж Ксюшка сама излагает детали, тогда хоть останется свобода маневра, можно услышать, а можно и нет.
— Пап, — сказала дочка, — мы вот решили обручалки не покупать.
Произнесено это было так твердо, будто он настаивал, а она ни в какую.
— Уйма денег, зачем зря выбрасывать. Тут два варианта: или у кого одолжить на недельку, или медяшку купить. Ну, не медяшку, сплав такой есть, очень похоже, барыги даже толкают за настоящие. Тоже, конечно, не даром, тридцатник штука — но ведь не шестьсот!
Чемоданов успокоился. Шестьсот — хоть цена теперь известна. Деньги не страшные. Однако еще и свадьба. Да и мало ли что выплывет… с таким-то зятьком…
— Зятя когда-нибудь покажешь? — спросил он в лад не разговору, а собственным мыслям.
Ксюшка аж фыркнула от возмущения:
— Пап, неужели ты думаешь… Да, конечно, зайдем!
— Когда? — Чемоданов оглядел родное обиталище — бардак бардаком.
— Да в любой день. Позвоним и зайдем.
«В любой» — значит, по крайней мере, не завтра…
Тем не менее с уборкой он решил не откладывать. Позвонил в контору. Дежурил старичок, Григорий Маркович, и Чемоданов попросил записать для Жанны, чтоб объявилась, как придет.
Жанна заступила в ночь и позвонила сразу же, как делала всегда: тихая студенточка из приезжих, еще не отвыкшая слушаться старших и в институте, куда попала с трудом, и в дежурке, где даже на уборщиц глядела как на начальство. Своеволие ей явно было не по карману: мать тянула троих. Жанна, старшая, уже лет с двенадцати подрабатывала по мелочам, да и теперь не ей присылали из дому, а она посылала в дом. Напарник она была уступчивый, всегда готова подменить. Хороший человек.
Однажды выпал момент, когда тоска у них совпала. Чемоданов сразу понял, что девчонка не просто неумела, а ей это вообще ни к чему. Но для верности через месячишко повторил пробу: так и оказалось, не по той части, не для того рождена. Ну и плевать, люди разные, по-разному и живут. Если не зарываться, везения на всех хватит…
Он сходил на рынок, купил мяса, картошки, всякой зелени. Готовить Чемоданов умел, как, впрочем, и стирать, и вообще все по дому: бытовая независимость в любых ситуациях делала уверенней и сильней. В принципе и прибраться мог бы сам, но эта мелкая деятельность была ему не по натуре. И вообще предпочитал, чтобы бабскую работу делали бабы. Тем более сейчас. Дочка жениха приведет — так неужто самому полы вылизывать перед будущим зятем?
Жанна пришла сразу после дежурства, с сумкой учебников. Разулась в передней, порадовала служебными новостишками: в дежурке сменили замок, а Григорий Маркович вычистил и запаял старый чайник. Разговор шел на «ты», но в остальном Жанна дистанцию соблюдала. Когда сели за стол, девчонка чуть не расплакалась — равнодушная столица не часто баловала ее настоящим харчем. Чемоданов и сам малость расчувствовался: хорошего человека и кормить приятно.
После ужина он прилег с газеткой, а Жанна прибрала со стола, переоделась в ванной и взялась за уборку. Чемоданов еще спросил лицемерно, не устала ли — она только помотала головой. И полы мыла, и мебелишку протирала она неспешно, на совесть, без пыльных заплаток по углам.
Чемоданов поглядывал на нее с умилением. В старом коротком халатике, босая — а старается-то как! Есть же хорошие девки. Так вот им и не везет. Нет справедливости!
Ему пришло в голову, что вот Ксюшку, например, хрен заставишь отцу полы вымыть, лучше и не пробовать. Хотя, с другой стороны, на то она и дочка. Где такую дочку найти, чтобы об отце заботилась?
— Повезет кому-то! — сказал он, когда Жанна закончила.
Не ахти была похвала, но ей хватило, аж засветилась. А ведь и вправду кому-то повезет…
— Выручила, — снова похвалил он и объяснил: — У меня ведь событие, дочка замуж собралась. Вот зятька приведет показывать. Приведет — а у меня, как в Париже, все блестит.
Жанна спросила, сколько дочке. Ответил, что семнадцать, глупа еще, вот и лезет в хомут. Поинтересовался, сколько ей — оказалось, двадцать исполнилось, и Чемоданов позавидовал: королевский возраст, как раз учиться да гулять, потом на эти радости времени уже не будет.
Чай она пила в его тапочках. Потом собралась уходить, уже обулась, куртку сняла с вешалки — и замялась, словно задумалась.
— А то оставайся, — предложил Чемоданов, — поздно уже.
Она так же молча сняла туфли и аккуратно примостила их на газетке под вешалкой.
…Потом она неуверенно спросила:
— Ген, а почему я ничего не чувствую?
— Как это — ничего? — неискренне удивился Чемоданов. Он прекрасно видел — ничего, опять ничего. Под ненужными ласками тело ее только сжималось и подрагивало, как от студеного прикосновения, ни на какие зовы не откликалось. Да и особо звать было неловко, девчоночья не по возрасту стыдливость словно бы защитно выставляла робкую ладонь. И чего осталась?
Впрочем, понять было несложно: в очередной раз, уже почти без надежды, проверяла себя. Вопрос ее легко угадывался заранее, Чемоданов заранее уже решил удивиться — вот и удивился.
— Не знаю, — слабо шевельнула она плечом, — ведь другие девчонки чувствуют.
— Что чувствуют? — спросил он, словно терпеливый учитель, готовый мягко вразумить неумелого ученика.
— Не знаю, — снова сказала она, — страсть, наверное.
Чемоданов усмехнулся:
— Страсть… Надо же — страсть!
— Я холодная?
— Да нормальная ты! — отмахнулся он как бы даже с досадой. — Самая нормальная баба. И все у тебя нормально. Просто люди разные: есть такие, есть другие. И все нормальные. — Он говорил негромко, даже лениво, самой бытовой интонацией стараясь втемяшить в нее покойное ощущение обычности. — Понимаешь, ты — как все. Ни лучше, ни хуже. И все у тебя — как у всех. Вот ты пойми: есть, например, светленькие, есть брюнетки, есть рыжие. Кто из них нормальный? Да все. Ну, допустим, ты рыжая — и что?
— Но ты же чего-то чувствуешь, а я нет.
— Сравнила! — возмутился Чемоданов. — Я же мужик. А ты девчонка, молоденькая, красивая. Да с тобой и пень почувствует!
Красивой она не была, знала это и так привыкла жить некрасивой, что даже возражать не стала.
— Со мной не плохо?
— Скажешь тоже!
Он погладил Жанну по щеке — на эту ласку щека отозвалась.
— А говоришь, не чувствуешь, — как бы поймал Чемоданов, — все ты чувствуешь.
И вновь она не ответила на приятные слова.
— А рожать я смогу?
— Да хоть дюжину, — засмеялся Чемоданов.
Он знал, что перебирает, но не боялся перебора. Главное было избавить девчонку от неуверенности, а уж там разберет, где что лишнее. Уж ее-то не занесет. Такие, жестко муштрованные жизнью, знают точную цену и копейке, и слову, и протянутой руке.
— А замуж?
— Что — замуж?
— Ну… стоит или нет?
— А чего ж не стоит, если захочется?
Это он ответил сразу, но потом задумался. Тут уж вопрос был важный, что называется жизненный. И трахнуться, и даже родить дело разовое. А постоянно жить рядом… Хреновое замужество, оно ведь может и хребет сломать.
— Только мужа надо выбирать с умом, — сказал он, — тут не любой годится. Всякому человеку надо свое. А тебе надо, — он весомо потряс пальцем, — чтобы был друг. Прежде всего! Хороший человек. Понимаешь?
— А если ему со мной будет плохо?
Он понял, но сделал вид, что не понял:
— В каком смысле?
— Ну… вот так.
— Почему это ему вдруг будет плохо?
— Я холодная.
— Да ерунда это все! — отмахнулся Чемоданов.
Полежали молча. Он дождался, пока смутное шевеление в мозгу не сложилось в мысль, и лишь тогда сказал уверенно:
— Ты ведь все равно свою бухгалтерию зубришь, так? Вот и зубри, но не дома, а ходи в библиотеку. Ходи и поглядывай. И место выбирай, куда сесть. Тебе знаешь, кто нужен? Вот я тебе примерно опишу, а ты запомни. Очкарик, тощий, умный, растрепанный, и чтоб рубаха грязная. Увидишь такого и садись рядом. Вот он и есть самый твой. Будешь ему потом рубашки стирать.
— А что холодная? — снова спросила она.
Чемоданов вздохнул и поморщился:
— Опять двадцать пять… Холодная, горячая! Это же твои проблемы. Твои, а не его. Поняла? Молодому мужику что королева красоты, что дырка в заборе — один хрен. Он свой кайф получит! А очкарик зачуханный, тот и разницу не поймет. Сто лет проживете, и всем доволен будет.
Жанна долго собирала смелость на следующий вопрос:
— А что надо, чтобы был доволен?
Чемоданов успокоил:
— Это уже дело техники, выучишься. Все выучиваются. Вот хочешь, приходи раз в неделю, устроим с тобой вечерний университет. Научить всему можно. Вон, медведь в цирке на велосипеде катается, а это небось потрудней.
Кончилось еще одной попыткой. Женщину не добудились, но девушка стала поласковей. Жанна в первый раз решилась пошутить:
— Сойду для зачуханного?
Запомнила, удивился Чемоданов. Он сболтнул, а она запомнила. Подумал, вздохнул и объяснил серьезно и грустно:
— Зачуханные добрей.
Вечером в дежурку завалился Юрка и сказал, что есть халтура, легкая и быстрая, как раз под дочкину свадьбу. Старый клиент просит лобовое стекло для «девятки», а лучше два.
— Ну а мы при чем? — спросил Чемоданов. — Связь какая?
Он, конечно, понимал, что раз Юрка завел разговор, связь есть — но, скорей всего, темная и опасная. А темных дел Чемоданов всегда избегал, темнота себя не окупала. Человек рожден для свободы, а не для тюрьмы. Если подопрет, дело другое. Но пока-то не подперло!
— Надо достать, — развел руками Юрка, хотя и без того было ясно, что, раз стекла просят, а их нет, значит, надо достать.
— По дворам, что ли, мародерничать? — презрительно бросил Чемоданов, и в самой интонации уже прозвучал ответ.
Юрка возмутился и даже обиделся:
— Да ты что, мужик? Я б такое и предлагать не стал. Что мы, ворюги, что ли? Нет, тут дело законное. У нас на старом складе валяются.
— Чьи?
— То-то и оно, что ничьи. Государственные! Какой-нибудь начальничек заначил и забыл, а может, сняли его. Так и валяются.
— А чего до сих пор не сперли?
— Их ящиками задвинули. Я на той неделе крыло для «пятерки» искал, гляжу — лежат, миленькие… Тот мужик давно просил, еще с полгода, да все не было. А тут, оказывается, есть.
— И чего надо делать?
— Вынести. И все. И деньги на бочку.
Можно было кинуть еще пару вопросов — скажем, при чем тут именно Чемоданов и так далее, но он не стал колебать воздух, поскольку ответы и без того были ясны. Самому Юрке тащить не с руки, своя контора, узнают даже со спины. Да и комплекцией пожиже: одно стекло возьмет, а два не осилит. Так что без Чемоданова не обойтись.
— Клиенту-то говорил? Может, ему уже и не надо?
Это он спросил просто так, чтобы цену набить. Лобовик от «девятки» всегда нужен, в крайнем случае, в запас возьмут, сейчас хватают все, что подвернется, чем больше, тем лучше. Было бы стекло, а клиент найдется.
Юрка заверил, что покупателю надо.
— Ну и где у них чего лежит?
Подробности Чемоданову не понравились. Ночь, забор, стенка склада — это не болт в кармане вынести.
— Три куска, — возразил Юрка.
Чемоданов подумал и решил:
— Романтики слишком много, лет на семь потянет. Деньги хорошие, но свобода дороже.
Этот голос узнавать не пришлось, как, впрочем, и манеру разговора. Хоть бы «здравствуй» сказала! Куда там — с первой же фразы претензия:
— Чего не звонишь-то?
— Так ведь и ты не звонишь.
— Мог бы поинтересоваться.
— Так и ты могла бы.
— Сын все-таки, — едко напомнила она.
— Это точно, — согласился Чемоданов, сберегая последний мосток для терпимого разговора.
От Клавдии, первой жены, осталась самая тяжелая, но и самая прочная память. Вот уж кого любил! Вот уж кого боялся потерять! Ну дурак был. И угождал, и упрашивал, и подарки таскал. А всего-то и надо было — чистить дуре морду регулярно и без снисхождения. Сейчас бы вся жизнь другая была. И семья нормальная, и квартира, а не нора, и Васька каким бы мог вырасти! Ладно, проехали. Что могло быть, того, к сожалению, нет, а жизнь, она любая хороша, какая выпала, такая и ладно…
— Васька все спрашивает — чего это отец не звонит? Скучает же парень.
Чего ей надо, уже было ясно. Денег ей надо, вот чего, а то не стала бы и звонить. Год не возникала, а теперь вдруг сынок соскучился. И голос злой, потому что звонить неохота, а приходится. Раньше от такого ее настроения он бы три ночи не спал. Но те времена прошли. Прошли и не вернутся.
— Мог бы и сам объявиться, — ответил Чемоданов.
— Сам, что ли, молодым не был? Стесняется первый.
— Так мы ж вроде не ссорились, чего стесняться-то?
— А кто говорит, что ссорились? — слегка растерялась бывшая жена. — Просто не виделись-то сколько. — И сразу же упрекнула: — Ты бы хоть спросил, как он, что!
Помолчали. Упреки Чемоданов не любил никогда. Но тут уж делать было нечего, пришлось спросить.
— Ну и как он? — спросил Чемоданов.
Ответ не так уж и интересовал. Нормально он. Случись что, тон у самой давней из жен был бы иной. Она, однако, словно ждала этого вопроса:
— Повидаться надо, поговорить. Сложности у него.
— А сам не может рассказать? Где он?
— Да чай пьет.
— Вот и пусть расскажет, а уж там чаем займется.
— Сейчас, — сказала Клавдия неуверенно, — погоди минуту.
Чемоданов стал ждать. В трубке шуршало, потом пошли неясными всплесками голоса, слова не различались, но женский явно одолевал. Уговаривает. А он упирается. Еще бы, кому охота хитрить да врать. Ничего, дожмет. С мозгами дефицит, а вот это всегда умела.
И верно, дожала. В трубке появился мужской голос, низковатый, как и у Чемоданова, только пожиже.
— Привет, бать.
— Привет.
— Как ты там?
— Да вроде нормально. Живой.
— Пропал ты куда-то.
Ваське было явно неловко, но помогать ему Чемоданов не хотел.
— Куда же это я пропал? Вроде никуда не пропадал. Где жил, там и живу, ты адрес знаешь. И телефон тот же.
— Да я вот как раз хотел… — промямлил Васька.
— Раз хотел, так чего ж? Буду рад, — сказал Чемоданов без особой радости. Для радости было много времени, но раньше, только тогда сын не приходил.
Пауза вышла такой тягучей, что самого тянуло ее оборвать. Но — не стал, выдержал. И опять услышал, как зудит в трубке, понукая, женский голос.
— Тут вот мать чего-то… — наконец пробормотал Васька и с облегчением отдал трубку.
— Ген, ну чего, повидаемся, что ли? — сразу заговорила Клавдия. — Надо же решить…
— Чего решить?
— Ну вот и поговорим, чего.
Дальше пошли обычные ее штучки: сегодня занята, завтра с утра тоже, а вот часа в три могла бы вырваться, так что пусть к полчетвертому он подъедет к Кузьминкам… Как будто он ее уговаривал встретиться, да еле уломал.
— Не выйдет, — сказал он деловито, — не смогу. Значит, так. На Маяковке… ну, допустим, в четыре.
Вот так вот. Овес к лошади не ходит…
Опаздывать он не собирался, но троллейбус затерло в двух пробках, и набежало пять минут. Не ахти какое время, но у Клавдии появился повод надуться:
— В своем репертуаре.
Он не ответил — не по делу разговор. Чуть-чуть раздражало, что плотная эта бабенка в толстом пиджаке, делавшем ее еще шире, с большими серьгами и большим кольцом, все пытается навязать ему свой тон и самой манерой разговора словно бы качает права. Пустой номер — какие у нее права? Все ее права остались там, в весьма отдаленном прошлом. А тут у нее никаких прав нет — ни командовать, ни ворчать, ни даже надуть губы. Все, что может — попросить. А уж он подумает, как ответить.
— Чего там у Васьки-то? — поинтересовался Чемоданов, отсекая все антимонии. Встретились поговорить, вот и давай говорить. По делу. Если дело есть.
— Плохо у Васьки! — произнесла она с вызовом, словно бы неурядицы сына укрепляли ее позицию в разговоре.
— А говорил — нормально.
Может, именно так Васька и не говорил, ну да ладно, кто помнит.
— А у него всегда нормально! — Клавдия резко махнула левой кистью, потому что в правой была сумка, нарядная, но большая, как хозяйственная.
Она всю жизнь выбирала массивное: и сапоги толстые, и кофты толстые, и шапка сугробом, и в шубе катилась, как колобок. Отличать хорошее от плохого ей было не дано, вот и брала по весу, чтобы хоть в этом — наверняка.
Как же Чемоданов когда-то любил ее! Как жалел! Какой болью отзывались в нем ее надутые губы! И когда все посыпалось, как же страшился, дурак, не за себя, а за нее да за Ваську, что погибнут, потонут в омутах жизни…
Ладно, обошлось, никто не погиб. И она, вон, цела, и Ваське двадцать… четыре уже, пожалуй.
— Сколько Ваське сейчас, двадцать четыре?
— Мог бы, кстати, и с днем рождения поздравить родного сына.
— Да и он мог бы родного отца. — Втягиваться в перебранку Чемоданов не собирался и вновь спросил с деловитой резкостью: — Так чего у него?
— Безвольный он, — сказала Клавдия, — компания какая-то.
— Какой же парень без компании.
— Ты бы посмотрел на эту компанию! Бездельники одни. Здоровые дураки, сидят во дворе, в подкидного играют. И на Ваську влияют. Последнее время вообще… Хоть раз в неделю, да выпивши. В ту субботу весь подъезд облевал.
— Значит, не втянулся еще, привычки нет.
— Ночевать не приходит.
— Ну и что? Тебе-то чего бояться? Он же не девка.
— С того года три места сменил, нигде не держится.
— А сейчас?
— Что сейчас? — Клавдия раздраженно фыркнула. — Вот не могу его никуда приткнуть. Второй месяц болтается. Не грузчиком же его, все же техникум кончил. А деньги, между прочим, берет.
Парень как парень, подумал Чемоданов, сейчас они все такие. Лучше бы, конечно, был покрепче на задних лапах. Ну да сами хотели. Уж как он старался, а эту стену не прошиб. Объяснял, уговаривал, чуть не на брюхе ползал. Но он был проситель, а жена с тещей хозяева, вот и куражились по-хозяйски. Докуражились. Суки вонючие…
— Ну и чего думаешь делать?
Вопрос прозвучал безразлично, как он и хотел. В свое время сына от него отодрали. А теперь чего ж? Твой сын, ты и думай.
Она сказала в землю:
— Отвлечь надо. Ничем не занят, вот и пьет.
— А чем отвлечь? Надо же, чтобы он чем-то интересовался.
— Да он интересуется, — оживилась Клавдия.
Чем интересуется, она не сказала. Не сказала — он и спрашивать не стал. Это он давно усвоил, помогли: не лезь с советами, пока сильно не попросят.
Они так и стояли на приступках у метро, мешая выходящим, их толкали, а какая-то тетка тяжелой авоськой злобно въехала Клавдии по ногам. Та скривилась от боли. Чемоданову стало жалко ее: хоть и дура, и сука, а все же человек. Он мотнул головой в сторону и пошел не спеша, она заторопилась следом. Рядом, в саду «Аквариум», нашлась лавочка.
— Он машины любит, — сказала Клавдия, — машины, и больше ничего. Целый день возился бы!
— Ну и чего ты предлагаешь? В автосервис устроить?
— В какой еще автосервис? — удивилась Клавдия. — Не пойдет он туда. И не надо. Уж вот где пьянчуги!
— А чего тогда? — громко и грубо спросил Чемоданов, злясь на себя, что все же влез с рекомендацией.
Клавдия молчала, глаза ее косили в сторону — вот уж точно ляпнет что-нибудь несуразное. Этот ее косящий взгляд перед очередной дуростью Чемоданов помнил слишком хорошо.
Так и вышло.
— Свою бы ему купить, — выдавила она наконец и втянула голову, будто ждала, что за умную идею тут же схлопочет по макушке.
— Чего — свою? — переспросил Чемоданов, не уверенный, что понял верно.
— О чем говорим-то? — огрызнулась она. — Не о телеге же! Машину, конечно.
— Ого…
— А чего «ого»? Двадцать четыре парню. У других вон уже в двадцать…
— У тебя что, очередь подходит? — догадался было он.
Но Клавдия снова фыркнула:
— Кто ж меня поставит!
— А тогда где купить?
— Где все.
— На рынке, что ли? Так это сколько же нынче стоит!
Ее слова были до такой степени неразумны, что даже раздражения не вызвали. Ну дура! Втемяшилось в голову — нет, чтобы сперва разузнать, что почем…
Но оказалось, опять не угадал. Клавдия тут же согласилась:
— Жуткие цены! Вон, читала, сколько барыги за «Волгу» дерут. Да и «жигули»… Нет, про новую он даже не мечтает. Ему хоть какую. Тут вот мужчина подержанную продает, «москвича». Двенадцать тысяч всего.
Чемоданов подумал немного.
— Сегодня за двенадцать тысяч… Это, значит, здорово на ней покатались. Небось уж такая штопаная-клепаная…
— Вот и пускай возится, — сказала она, — пускай чинит. Зато на дурь времени не останется.
Чемоданов развел руками:
— Ну раз вы так решили… Если деньги есть…
Клавдия уставилась на него с возмущением:
— Есть! Это откуда же они у меня есть? Были бы — давно бы купила.
— А как же ты собираешься… — еще спросил было по инерции Чемоданов, но фраза усохла на середине. Чего спрашивать-то? Все ясно. Затем и позвала.
Клавдия поджала губы:
— Я думала, ты поможешь. Тысячи две, может, и наскребу, а больше… Больше мне взять неоткуда. Думала, раз в жизни-то… Для родного-то сына…
За последние десять лет они встречались от силы раз шесть. То вдруг поздравила с днем рождения, а через неделю выяснилось, что нужны деньги парню на велосипед. Нужны — дал. Потом Васька ездил летом на море — дал. Потом самого как-то прислала за деньгами, магнитофон захотел. Разговор с малым вышел пустой и томительный, оба тяготились, просто неудобно было сразу сунуть четыре сотни и отправить домой. Потом понадобилась импортная куртка на пуху — дал. Но машина…
— А мне где взять? — спросил Чемоданов. — Это ведь не велосипед.
— Сейчас двенадцать, — проговорила Клавдия, опять кося в сторону, — а через год будет двадцать.
— Да хоть сто! — взорвался он. — Где я их найду-то?
Бывшая жена уличающе прищурилась:
— Себе-то нашел!
— Что нашел? — не понял Чемоданов.
— Сам на иномарке ездишь, а рухлядь старую для сына…
— На какой иномарке?
— На японской!
Он глянул на нее, как на больную. Ну, занесло бабу…
— Чего смотришь? — усмехнулась она почти миролюбиво. — Думал, не знает никто? В Москве секретов нет. Ты вот по ресторанам разгуливаешь да на иномарках ездишь, а что сына того гляди посадят, это тебе все равно.
Тут он наконец понял. Во анекдот! Это когда они со Степкой в «Прагу» ходили, а потом он за руль сел. То ли сама углядела, то ли добрые люди поведали. Вот, значит, почему и позвонила. Ну что ж, выходит, он теперь миллионер.
— Сравнила тоже, — сказал он, — у меня в двадцать четыре и велика не было.
— Время было другое, — отмахнулась она.
— Да и с долгами еще не рассчитался. Иномарки сейчас знаешь почем? Платить и платить. — Он вдруг вспомнил: — Вообще, момент неподходящий. Сам ищу, где бы обломилось. Ксюшку помнишь?
Клавдия высокомерно повела плечом:
— Я в твоих бабах давно запуталась.
— Это не баба, это дочка.
— В дочках тем более.
Клавкина стервозность все же взяла свое: она уже забыла, чего собиралась добиться, и теперь старалась лишь лягнуть пообидней. К паскудной этой игре Чемоданов относился, как к беспричинной уличной сваре: сам не ввязывался, но, если лезли, рожу не подставлял. Драка так драка… Он согласился благодушно:
— Это верно, настрогал с запасом. Понимаешь, выросла девка. Замуж вот собралась. А свадьба нынче — сама знаешь. И то, и это, и рестораны всякие. Тысячи!
— А без тебя платить некому? — поинтересовалась Клавдия, и по тону он понял, что не промахнулся, достало.
— Да жених студент, — объяснил он и безнадежно махнул рукой, — чего с него взять? А с матерью у Ксюшки контры, мать тем более не даст. Да ты ее помнишь, Елена, учительница, длинноногая такая.
— А ты разве с ней расписывался?
Чемодановскими делами Клавдия никогда не трудила память. А раз забыла, значит, и нечего ей знать.
— Не в бумагах счастье, — сказал он и неопределенно повел рукой.
— А тогда твое какое дело?
— Ну, знаешь, — пристыдил Чемоданов, — дочка ведь. Должна же быть какая-то порядочность.
Клавдия с трудом, но все же рассмеялась, ее только что не трясло от злости.
— Ты смотри, а? Наконец-то порядочный нашелся. Мамаша нагуляла бог знает от кого, а он теперь свадьбу оплачивает. Для сына родного, законного, рубля не найдется, а доченька с неба свалилась — ей, пожалуйста, тысячи на ресторан! Ну, порядочный…
Чемоданов сокрушенно вздохнул — этот театр ему все больше и больше нравился. Потом проговорил проникновенно:
— Ох, Клавдия, до чего же ты недобрая. Ведь сама женщина, должна понимать. Мы с тобой свое отворковали…
— Ты отворковал, как же!
— Мы отворковали, а для девчонки свадьба — событие. Кольца одни знаешь почем? А подарки? Серьги, например, или цепочка. Мы с тобой взрослые, мы понимаем — а ей-то хочется не хуже, чем у людей.
Тут Клавдия закинулась, понесла невесть что и про нагульную дочку, и про дурака-папашу, над которым все небось смеются, дочка первая…
— Да нет, она меня любит, — миролюбиво возразил Чемоданов, — любит…
Он и дальше это повторял, отчего бывшая супруга только зверела. Потом пошел вовсе цирк. Она вопила, что он, дурак, еще наплачется, да поздно будет, а Чемоданов бубнил, что кольца надо, серьги надо, платье надо, фату надо, на юг после свадьбы надо… В общем, ловил кайф, как мог.
И вот ведь странное дело — чем больше нес околесицу, тем больше самому казалось, что так оно все и есть: и дочка любит, и жених уважает, и свадьба не свадьба без золотых колец. Сам себе мозги запудрил. Ну не анекдот, а?
Кончилось тем, что Клавдия пустила матерком, сорвалась с лавки и дунула к метро, злобно топая короткими ногами. Тогда Чемоданов кончил играться и негромко кинул вслед:
— Ну-ка стой!
Результата не ожидал, но команда неожиданно сработала, Клавдия остановилась.
— Пускай Васька сам зайдет, — сказал Чемоданов, — с утра завтра.
Хрен с ним. Сын все-таки…
Марафет в квартире наводился для зятя, а достался сыну. Впрочем, на парня отцовское жилище впечатления не произвело. Они сидели на кухне и дожимали вторую турку, хоть Чемоданову кофе не хотелось, да и Ваське вроде тоже — зато оба были при деле и имели возможность освоиться и разогреться для разговора, мало приятного для обоих.
Парень был рослый, порода сказалась, но сидел мешком, горбился, руки тонкие, словно бы вовсе без мышц. Баба растила, сука, вот и вырастила по своим мозгам. Туда не бегай, с тем не водись, с этим не дерись… А как мужику после жить, как за себя бороться, этого она в своей пустой башке не держит, ее дело сперва паскудить, а потом виноватых искать. А, ладно, хрен с ней.
— Бать, а чего ты квартиру не сменишь? — спросил малый.
— Зачем, — возразил Чемоданов, — какая разница?
— Большая-то лучше.
— Ничего она не лучше, — уверенно возразил он, — для жизни и такой хватит, а важней жизни все равно ничего на свете нет.
Для жизни Чемоданову этой конуры хватало с запасом. Плита есть, холодильник есть, за стол шестеро вполне усядутся, а больше он и не позовет. Телевизор и тот есть. Даже антресоли имеются, где уже год хранится полный комплект «жигулевской» резины, самая надежная сберкнижка, процент на нее идет такой, что ахнешь. И кресло есть, и зеркало, и, само собой, старая румынская кровать, широкая, при необходимости и для двух девок места хватит, а трех ему не осилить, годы не те. Нормальная квартира, какого еще рожна надо?
Когда-то Чемоданов, как любой всякий, радовался красивой модной тряпке, хотел на стену коврик, а на пол палас. Ну да жизнь учит. Жить надо так, чтобы никого завидки не брали. Самый счастливый человек — у кого нечего украсть.
Видно, Васька все не знал, как перейти к сути и, не умея повернуть к новой теме, продолжал мусолить старую:
— На двухкомнатную бы сменял.
Чемоданов усмехнулся:
— Это где же найти благодетеля, чтобы из большой поперся в маленькую?
— С доплатой, конечно.
— Так ведь сейчас доплаты-то!
Парень чуть заметно хмыкнул и отвел глаза.
Вот оно что, понял Чемоданов. Молодец, кумекает, все верно: кто на «тойотах» раскатывает, тот и на доплату найдет…
Все было ясно, если что и оставалось, так это выпить еще по чашечке кофе. Чашки были разномастные, в трещинах. Чемоданов вновь дал гостю ту, что поцелей, и вновь Васька глянул на нее с недоумением.
Наконец, парень решился:
— Бать, тут мать говорила…
Пауза.
— Ну? — пожалел Чемоданов.
— Насчет машины-то.
— Ну, ну?
— Так вот как мне — говорить, нет?
— С кем? — не сразу сообразил Чемоданов.
— С хозяином.
— Что за машина?
— «Жигуль» тринадцатый.
— Сколько прошел?
— Вроде восемьдесят.
— Ладно, это неважно, скрутить можно и до двадцати… Года какого?
— Точно не помню… Семьдесят девятого, что ли?
— Гнилой небось?
— Не знаю.
— На яме не смотрел? Ну крылья хотя бы.
— Бать, ну я же ее пока что не видел.
У Чемоданова сломались брови, левая полезла вверх.
— Ну ты купец! А о чем мы тогда толкуем-то?
— Бать, ну чего смотреть, если денег нет? — защищался Васька.
— Берем не глядя?
Малый замолчал, и Чемоданову стало жалко его. Жалкий парень, ни воли, ни хватки. Как жить будет?
Но тут Васька на секунду вскинул глаза, и оказалось, что не все в нем так уж прозрачно. Уж больно взгляд был деловит. Выходило, каждый играл в свою игру: отец старался понять сына, сын оценивал отца. Причем не так уж высоко оценивал. Мать велела попытаться — он и пытался. Выйдет так выйдет, нет так нет.
Если разобраться, иного и ждать не стоило. Взрослый парень, четвертак уже, какой ни есть, а мужик. Свои планы, свой характер. Если имеется характер.
С мужиком, по идее, и разговаривать полагалось как с мужиком.
— Ладно, Василий, — сказал Чемоданов, — давай по делу. Что там за рухлядь тебе всучивают, значения не имеет. Сейчас денег все равно нет, а через год-полтора или «мерседес» этот весь сгниет, или рубли будут другие. Тут ведь что важно? Ну возьмешь металлолом, допустим, так ведь надо еще до ума довести. А это, считай, вторая цена. Или сам сделай, своими двумя. Ты машины когда чинил?
— Помогал приятелю, — уклончиво отозвался Васька.
— Чего делал?
— Ну…
— Отвертку подавал?
Парень снова отвел глаза, лицо поскучнело — пережидал нотацию. Глядя на сына, поскучнел и Чемоданов.
— Вот тебе деловое предложение, — сказал он, — попробую устроить тебя на сервис. Самое перспективное дело. Во-первых, деньги, во-вторых, калым, в-третьих, специальность. Захочешь, по выходным будем вместе подрабатывать, тут варианты есть. Ну а если жестянку освоишь, тогда вообще хозяин жизни.
— А сколько там выходит? — поинтересовался Васька не слишком охотно.
— Постараешься, и семьсот выгонишь.
— Нормально, — сказал сын и зевнул.
Бог ты мой, сколько же крови стоил ему когда-то этот малый! Как ловил его Чемоданов во дворе, караулил в подворотнях, подманивал сквозь оградку детского садика, а потом, позже, ждал у школьных ворот! Дико казалось: как это вдруг он без Васьки, а Васька без него? Мальчишка капризничал, кривился, приходилось подкупать его мороженым, конфетами, мандаринами. Ладно, думалось, вырастет — поймет.
Васька вырос и понял годам к тринадцати, к тому времени Чемоданов развелся еще два раза — отчасти, кстати, потому, что по-прежнему главной своей семьей и жизненной обязанностью видел Ваську. А тут у школьных ворот длинненький подросток проговорил хмуро:
— Ты не приходи пока — мать злится. А к школе вообще не надо. Мы ведь фамилию переписали.
— Как переписали? — не понял Чемоданов.
— Ну, мою. А то все Перфильевы, я один Чемоданов.
— Стоп, — тупо поднял ладонь Чемоданов, — так ты теперь кто?
— Перфильев! — словно бы огрызнулся сын и посмотрел с вызовом.
Тут до Чемоданова дошло:
— А, понятно. Вроде бы и не родственники, да?
— Родственники, но… — Васька помедлил и выкрикнул резко, словно обрывая последнюю между ними нитку: — У тебя же есть своя семья? Ну вот и у меня своя!
Резкость Чемоданова не поразила, мало ли чего говорится в запале — поразил досадливый, а главное, нелюбящий взгляд. Чужие глаза уперлись в него и будто отталкивали.
Тут главным оказалось не сорваться, никак не сорваться, ни в какую сторону, ни в грубость, ни в жалкость, вообще не дать слабину. И Чемоданов не сорвался, не уронил достоинство мужика и отца — вот только странно было, что далось это так легко. Просто спросил иронически:
— Так ты чего, и отца поменял?
— Ничего я не менял. Просто… Ну лучше мне так. Понимаешь?
Опять слова ничего не значили. Значило другое: что говорить с ним сыну неохота. Не то чтобы об этом именно, а вообще — говорить.
Ну что ж, неохота так неохота.
Оба молчали, но не расходились. Что думал в ту минуту сын, было неясно — но это вдруг перестало Чемоданова интересовать. Он смотрел на угрюмо враждебного парня и пытался понять себя. И чего так держусь за этого пацана, вдруг задал себе вопрос Чемоданов. Ну, сын. Ребенок, да. Так ведь есть и другие. Чего именно к этому прилип? Ну не любит. И хрен с ним. Жить, что ли, без него нельзя? Сын — это когда любит, когда вырастет и получится друг, надеяться можно, ни в какой передряге не заложит. А это разве сын? Вон и фамилию сменил, покрасивее выбрал…
— Понятное дело, — сказал Чемоданов, — рыба где глубже, человек где лучше. Валяй. Я же не против. Если что, телефон знаешь…
Телефон парню понадобился года через два, потом еще через годик. Деньги Чемоданов давал. Интересно было, как дальше: проснется в малом совесть или не проснется?
Теперь, можно считать, эксперимент закончен. Не проснулась. Крепко спит.
Чужой здоровый мужик сидел перед ним на стуле, и не надо было ему ничего, кроме денег.
— Ну что, — спросил Чемоданов, — звонить насчет тебя или как?
— Куда? — оживился Васька.
— В сервис, куда же.
— А… Да пока погоди, прикину малость.
— О’кей, — согласился Чемоданов.
Погодить — это можно. Хоть и долго придется. Ничего, время есть…
Сын вдруг быстро заговорил:
— Ну вот гляди. Три месяца учиться, не меньше, так? Ну, допустим, даже потом… вычеты, то-се… чистыми полкуска. Это сколько же собирать? Года два, не меньше.
— Больше, — уверенно поправил Чемоданов, — ты еще ремонт не посчитал. Даже если руки свои, части-то все равно казенные. Все не вынесешь, что-то да придется покупать.
— Вот именно! — подхватил парень.
Чемоданов не прерывал. Чего прерывать, все ясно. Васька не слишком и крутил, идея просвечивала. Мол, три года, это еще дожить надо, мало ли что за три года… Вот если бы машину сейчас, а уж потом пойти в сервис…
Малый кончил и ожидающе уставился на отца. Но и Чемоданов глядел на него, как бы ожидая продолжения. Тот повторил:
— Сейчас бы купить, а года за три я бы эту сумму и заработал. Предлагают — сейчас бы и купить.
— А деньги? — спросил Чемоданов. — Деньги-то есть?
Васька собрался с духом и наконец-то спросил в лоб:
— Ты не можешь?
— У меня таких денег нет, — покачал головой Чемоданов.
— А достать на время?
На время — это хорошо. Уточнил бы, на какое. Уж он отработает!
Чемоданов сказал спокойно, но твердо, чтобы закрыть вопрос:
— Мне достать негде.
— На иномарку-то достал.
Васька проговорил это негромко, как бы даже не укоряя — просто напомнил. Видно, с самого начала держал в голове. Ну ясно, держал. Клавдия — дура, ей сам бог велел. Но этот-то, думалось, поумней. Да, повезло с сынулей… Взрослый ведь мужик. Молодой, но взрослый. И никакого желания хоть палец о палец. Все ему в руки подай. И на это кто хочешь годится, даже нелюбимый отец. Два года не объявлялся, а запахло деньжатами — и вот он тут.
Вырастила Клавка! Сука…
Чемоданов вздохнул, прицокнул языком. Но боль его была о давнем, о маленьком Ваське, о том, кого подманивал к забору детсадика. Хороший был пацан… А этот, сидевший напротив, почти не трогал — чужой и чужой.
— Мои возможности на иномарку все и ушли, — сказал Чемоданов, — больше взять негде.
Парень недобро фыркнул:
— Мне тем более негде. Честным трудом такие бабки не заработаешь.
— Это верно, — согласился Чемоданов, — бабки большие. Так ведь у нас крепостных нет, каждый ворует сам на себя.
Васька не возразил. Он, похоже, понял, что разговор кончился, каша не сварилась, и лишь ловил момент уйти.
Вот и пусть уходит. Вырос. Ему теперь, кроме жизни, никто ума не прибавит. Ни на что не способен: ни заработать, ни выпросить, ни украсть.
Ксюшке хоть давать приятно. Дочка…
Видно, усмешка получилась неожиданно ласковой, потому что сын глянул недоуменно:
— Ты чего?
— Да так, — ответил Чемоданов.
Все в норме. С сыном не вышло, зато дочка есть. Все в норме.
Привкус от разговора остался паскудный, хотелось его чем-то перешибить. Чемоданов позвонил Маргарите, и они, как и было договорено, отправились за подарками к свадьбе.
Сумма по текущим временам имелась скромная, но все же деньги. Тем более Ритуля по части покупок была большой специалист. С женихом разделались быстро: обтрепанный старикан в ветеранском магазине на свою инвалидную книжку за умеренную мзду приобрел импортный шарф с шикарной нашлепкой, носи не хочу. К невесте, разумеется, подход был иной, все же дочка. Кончилось ювелирной комиссионкой, где Ритуля приглядела золотое колечко с резьбой, годившееся и как обручальное, и как нарядное. В принципе можно было и уходить. Но Чемоданова приманила серебряная фигурная цепь, красивая и дорогая. Ритуля две драгоценности в один день не одобрила, но он настоял и даже занял у суровой советчицы недостающие три сотни.
Дискуссия про воспитание шла уже на улице.
— Балуешь девку, — холодно остерегла Маргарита.
Он благодушно согласился — точно, балует.
— А зачем? Думаешь, на пользу? Это ведь вариант известный: мать злая, отец добрый или наоборот. А потом оба локти кусают — вырастили дитятко.
Чемоданов подумал и объяснил серьезно:
— Нам с тобой трудно живется, так? А девкам, думаешь, легко? Тоже всякого хватает. А там еще, гляди, жахнет какой Чернобыль… Что с нами дальше будет, никому не известно. Есть возможность — надо баловать. По крайней мере, будет точно знать, что хоть один человек, отец родной, ее любит.
— А она отца родного?
— И она, — убежденно ответил Чемоданов.
— За подарки?
Он усмехнулся несерьезности ее подкола:
— А кто же нынче любит родителей за так? Лично я таких детей не знаю.
— Смотри, — сказала Маргарита.
Возраст, подумал Чемоданов. Не любит девок, и не за что ей их любить. Они — на ярмарку, прихорашиваются, наряжаются, щебечут, и будущее перед ними, как картинка. А она, хоть и цепляется, уже зависла, чуть-чуть и под откос, для нее-то подарки уже не выбирают.
А что поделаешь? Рано или поздно всем предстоит…
— Еще ведь свадьбу оплачивать, — напомнила Ритуля, — не забыл?
Свадьбу он, надо сказать, заглядевшись на драгметаллы, как-то упустил. Но большой тревоги это не вызвало. Вывернется, не в первый раз. В конце концов, не каждый день любимую дочку замуж выдаешь…
В какую цену нынешние свадьбы, Чемоданов не знал, но в одном был уверен наверняка: лишних денег в таких делах не бывает, тут чем больше, тем лучше. Он позвонил Юрке и попросил заскочить. Оказалось, все на точке замерзания, и клиент не раздумал, и стекла на месте, и цены на них уж точно не упали. Вновь прошлись по деталям, и Юрка даже нарисовал план, где там что размещается.
Чемоданов все же спросил:
— А поймают?
Юрка отмахнулся:
— Кому там ловить? Старик и две бабы. Ну возьмешь с собой сотни три…
Чемоданов подумал, что три сотни, пожалуй, будет даже много, в принципе хватит и одной. Хотя, с другой стороны, запас карман не тянет. Тем более что деньги у Юрки нашлись.
Откладывать решенное дело смысла не имело. Они сгоняли в гараж, и Юрка навинтил на крышу своего «жигуля» багажник.
Ночью все вышло почти по нарисованному. Забор Чемоданов перемахнул легко, и железный лист в нужном месте легко отвел в сторону, и внутри не заблудился, всего-то пару спичек извел, и стекла вытащил по одному прямо в картоне. Во дворе, в тени склада, в негустой городской тьме, крепко перевязал добычу бечевкой, чтобы ловчее потом спускать с забора.
Но кое-что все же получилось не по бумажке. Когда Чемоданов с неудобной ношей обходил щитовую, за спиной негромко, но твердо скомандовали:
— А ну стой!
— Это можно, — ответил Чемоданов и остановился, так и держа на весу две здоровые связанные картонки. Он не обернулся, тем более не опустил груз. Тут главное было — поменьше шевелиться. А то еще пальнут от неожиданности, хрен его знает, что там у этого командира в передних лапах.
Влип, подумал Чемоданов. Чем еще обернется? И на хрена сдались дурные деньги? Жил ведь без них…
Сзади молчали. Тогда он спросил:
— Ну и чего делать?
— Поворачивай давай и иди.
Это было уже кое-что. Чемоданов не спеша повернулся. Уже по скрипучему голосишке понятно стало, что дежурит не баба и не какой случайный подменщик. Так и оказалось — старик.
— Чего уставился? — спросил охранник.
— Вот тебе и раз, — с укором произнес Чемоданов, — напугал до смерти, а теперь — чего уставился? Ты, папаша, прямо убивец.
— А ты вор, — огрызнулся старик.
Ему было, пожалуй, под семьдесят, но возраст пока что роли не играл, поскольку ружье он держал умело. Впрочем, как раз годы могли тут что-то и значить.
— Воевал, что ли?
— Не твое дело, — отрезал старик, — иди.
— Куда?
— Вперед иди.
— А с этим чего? — спросил Чемоданов и указал на свою ношу подбородком, ибо больше было нечем.
— А это неси.
Боевой оказался дедуля. Пришлось тащить стекла до самой проходной. Что, впрочем, Чемоданова вполне устраивало: чем ближе к выходу, тем лучше. Культурные люди и должны выносить краденое через ворота, а не через забор. Вот только Юрка небось заждался— ну да ладно, потерпит, ничего с ним не сделается.
Теперь Чемоданов был спокоен. Старика он не боялся. Дедуля оказался хоть и стрелок, но явно не убивец. Седенький, умеренно лысоватый, мелкой комплекции, с добродушно-растерянным лицом. Ну тычет своей мортирой в живот — так то должность такая.
В принципе уже сейчас можно было избавиться от конвоира, руки заняты — это, конечно, плохо, но в чем-то и хорошо. Два импортных стекла не броня, но все же защита, дробовик так просто не прошибет. Опрокинуть щит на старикана, самому на землю и носком ботинка по ногам — пожалуй, номер и пройдет: либо ружье дуром выстрелит, либо дуло отклонится. А с таким стражем много не надо, только бы ухватиться за ствол.
Но никакой необходимости в резких телодвижениях Чемоданов не усматривал. Чего лишний шум подымать? Да и стекла не затем добывал, чтобы тут же гробить. Идут и идут, даже не поговорили толком, так что никакой причины суетиться.
В дежурке при проходной Чемоданов поставил товар у двери, а сам сел на стул рядом. Стул был косой, из сиденья лезла вата. И стол в комнатушке был соответственный, под драной клеенкой, с жестянкой из-под минтая вместо пепельницы, и лампочка под потолком голая и грязная, и диван у стенки — лучше не смотреть. Да, помещеньице. В такую дежурку бабу не приведешь, никакой заботы о людях.
Из опасных предметов имелся телефон, многократно битый, перевязанный клейкой лентой крест-накрест, как раненый герой. Однако мог ведь и работать, вполне мог. Старик сел за стол, ружье в руках.
— Хреновое у вас начальство, — осудил Чемоданов. — Разве ж это обстановка? Сторож ведь тоже человек.
Дед не ответил. Чемоданов достал сигареты.
— Ты насчет покурить — как?
Опять молчание.
— Да кури, не бойся, — сказал Чемоданов, — не побегу. С товаром догонишь, а без товара мне нельзя. Кури.
Он положил на стол сигарету, толчком подвинул к старику. Тот покосился на курево, но не взял. Упорный дедуля.
— Ну, — сказал Чемоданов уверенно, будто именно он был здесь хозяин, — давай-ка рассказывай, чего порядочных людей пушкой пугаешь? Хорошо на меня налетел, а другой бы со страху копыта откинул. Вот прямо во дворе. И вышел бы ты, папаша, душегуб.
— Порядочные не воруют, — наконец отозвался дед. Это было хорошо, ибо разговор тем самым начался. А Чемоданов знал по многолетнему опыту, что два разумных человека, начав беседу, рано или поздно договорятся.
— А кто ворует-то? — удивился он. — Ты про это, что ли? Так это друг просил помочь. Ты сам-то что, друзьям не помогаешь? Да кури ты! На вот.
Он кинул спички, и дед наконец закурил.
— Мои друзья на машинах не ездят, — сказал он после.
— Я вот тоже пешака хожу, — вздохнул Чемоданов, — а друг ездит. Работяга, двенадцать лет копил. А неделю назад стекло вон сперли. Ночью. Обнаглело жулье — сил никаких.
— А сам не жулье? — прищурился дед.
— Я-то? — не сильно, но возмутился Чемоданов. — Обижаешь, отец. Я что, твое взял? Если твое, скажи — без звука отдам.
— Так и не твое!
— А чье?
— Государственное, — сказал дед.
Чемоданов даже присвистнул, так удивился несерьезности аргумента:
— Ну ты и скажешь! А государство это кто? Государство в нашей стране самый первый ворюга. Ворюга и бандюга. Ты вон воевал, так?
Старик вновь промолчал.
— Молчи не молчи, а что воевал, сразу видно: ружье грамотно держишь. Солдат всегда солдат. А теперь скажи: чего тебе государство за твою службу заплатило? Тебе по годам положено сейчас рыбку удить или цветочки сажать на даче, а ты не спишь ночами, ихнее добро стережешь. Это порядок, а?
— Зато чужого не брал сроду, — упирался дед.
— Удивил! — бросил Чемоданов и ткнул окурок в консервную банку. — Чужого и я не брал. А вот свое… Я тебе так скажу: кто у простого человека взял, тот подлец, кто у государства, у бандюги, не взял, тот дурак. Они нас грабят, мы у них воруем, а в результате получается справедливость, — закончил он убежденно, поскольку и в самом деле был в этом убежден.
— Я за это государство до самого Будапешта… — начал было старик, но продолжать не стал, только махнул сухой темной ладонью.
— Вот и пускай оно тебе за твои заслуги диван приличный поставит, — ткнул Чемоданов пальцем в убогую лежанку и этим уличающим жестом как бы подвел итог дискуссии, после чего уже буднично спросил: — Позвонить от тебя можно?
— Не исправен, — сказал дед.
Чемоданов, подозревавший это и ранее, сочувственно покивал:
— Тогда извини, отец, но мне пора. С тобой интересно, но дома ждут. У меня ведь дочка замуж выходит. Событие!
— Вот придет сменщик, — неуверенно сказал дед.
— Так это когда он заявится! — возразил Чемоданов, будто сменный охранник был их общим приятелем и перспектива не дождаться его глубоко огорчала. — Он же небось утром придет. Нет, отец, давай так: вот тебе червонец на доброе здоровье, а я пойду.
Сумма была смехотворна, Чемоданов и назвал ее для смеху. Но старый боец просто вскинулся от возмущения:
— Червонец! Ах ты, ворюга…
— Да ладно, отец, — засмеялся Чемоданов, — я же шучу. Какой там червонец! Нынче и полтинник не деньги.
— Полтинник, — проворчал дед, но малость миролюбивей.
— Да и полтинник — это для бабы, — рассуждал Чемоданов, — а с мужиком надо как с мужиком. Тем более когда человек жизнь прожил такую… В общем, отец, вот тебе сотняга за умный разговор, а я пошел.
Деньги заранее были рассованы по карманам, и он одним движением вынул тоненькую пачечку. Старик уставился на нее растерянно, ни слова не говоря.
— Да бери, отец, — сказал Чемоданов.
Тот сидел неподвижно, не кивнул, не мотнул, но взгляд не отрывался от денег. Чемоданову стало жалко старика. Хрен с ним, на спичках не экономят, решил он и достал еще сотню.
— На вот, отец. Государство не платит, я приплачу. Компенсация. Да чего ты смотришь на них, как на жабу? Бери, отец. Для знакомства. Авось еще когда зайду.
Он встал и вновь облапил свою добычу.
Старик поднялся, ружье лежало на столе.
— Ты… Это… Вещь-то куда?
Чемоданов изумленно обернулся:
— Да ты что, отец? Я же за ними и приходил.
— А увидят?
— Кто? Они год валяются — кто спросил? И еще год не спросят. Нужная вещь разве вот так бы валялась? Может, их месяц назад унесли. Так что, отец, живи и радуйся.
Чемоданов, приподняв повыше, пронес ношу сквозь вертушку проходной.
— Эй! — негромко крикнул вслед сторож.
— Чего?
— Ты вот чего… — забормотал старик. — Ты не приходи больше, а? Ну их, деньги. Сроду не занимался — и не хочу…
Чемоданов приостановился и объяснил серьезно:
— Думаешь, я хочу? Не тревожься, отец, больше не возникну. Не мое это занятие. Просто так сложилось. Дочь замуж выдаю. Такое вот житейское дело.
Развести руками возможности не было, поэтому Чемоданов лишь шевельнул пальцами.
На следующую ночь он позвал Жанну. Пообещал — надо выполнять. Не давши слово — крепись, давши — держись. Народная мудрость!
На сей раз было получше. Кайфа не получилось, но Чемоданов его и не ждал. Зато приятно было, что его педагогический труд не пропадает даром, девчонка старается. Ничего, пойдет дело. Природа кинула ей подлянку, обсчитала при рождении, без вины и причины перевела в третий сорт. Тем не менее не все потеряно, бабка надвое сказала…
Это противостояние — с одной стороны природа и судьба, с другой он, Чемоданов, — его радовало и воодушевляло. У них сила, но и он тоже не теленок, кое-что понимает в колбасных обрезках, так что еще посмотрим, кто кого.
Он показывал Жанне, как лежать, как двигаться, объяснял, какие говорить слова. Ведь тут главное что? Поначалу удержаться. А там привычка появится, может, и любовь, вполне возможное дело, девка-то хорошая. Чемоданов увлекся, стал учить ее, как дышать и даже как стонать. Пригодится! Ну холодная — и что? Вешаться, что ли? Вот это хрен вам, как с нами, так и мы. Жизнь — сволочь, но если к ней приладиться, еще все может быть люксом.
Утром он сказал Жанне:
— Ты с уборкой особо не старайся, как есть, так и ладно. А то вроде я с тебя плату беру.
Она засмеялась и начала прибираться.
Хорошая девка, домовитая. Ведь и вправду кому-то повезет. Если оценит.
И опять Жаннина уборка пришлась к месту: на следующий же день Ксюшка привела зятя. О торжестве смотрин заранее не предупреждала, просто позвонила за час, будто у отца не было и быть не могло никаких иных забот, только сидеть и ждать родственничка. Однако Чемоданов в трубку ничего подобного не произнес, сказал, чтоб заходили, и отмахнул в сторону прочие вечерние дела, которых, впрочем, было не жалко: предполагавшуюся бабу не грех было отодвинуть и на месяц.
Рука у малого оказалась крепкая, это выяснилось сразу, прочие же достоинства пребывали в тумане, поскольку возможный зять в основном сидел на стуле, улыбался и молчал. Однако спину держал прямо и улыбался только по делу, что вызвало у Чемоданова определенное профессиональное уважение: он отчасти понял, почему этому крепкому пареньку так фартит с девками. Молодец, нашел методу. Вот так небось сидит, посмеивается — и ни слова, а молоденькие дуры вертятся вокруг, терзаются любопытством и мучают головенки, как бы этого молчальника растормошить. А поскольку способов у них не так много, финал известен: койка и ножки циркулем. Не дурак парень, экономно работает.
Вроде бы полагалось выпить. Чемоданов от водки не зависел, но и без бутылки в холодильнике не жил, как и без полтинника в кармане — смолоду помнил, что нищий не мужик. Вот и сейчас достал холодненькую, разлил в два стакана, помедлил перед третьим, и тут зятек успел вставить:
— Она не по этой части.
Ксюшка, дура, тут же засмеялась, будто ей сказали остроумный комплимент. Но что не пьет и что парень не поощряет, Чемоданову понравилось. Клавдия когда-то любила, он не противился, и вот вам результат.
Чемоданов все прикидывал, как называть будущего родственника, решил Валерой и на «ты». Не на «вы» же! Поинтересовался профессией — хороший, солидный, вполне отцовский вопрос. Парень ответил неясно:
— Разное могу. Семью прокормить сумею.
Похоже, Ксюшка не врала, дело оборачивалось серьезно. Но парню-то это на черта при его и так успешном житье? Однако допытываться Чемоданов не стал и вообще дальнейших вопросов не задал, наглядно показав, что себе цену он тоже знает и с достоинством помалкивать умеет.
Зятек стакан выпил легко, но от второго вежливо отказался, загадочно объяснив, что сегодня обстоятельства не позволяют. После чего молодые поднялись и стали прощаться.
Ксюшка глазами спросила: как, мол? Чемоданов неопределенно шевельнул бровями. Дочка подергала за рукав, но он опять уклонился. Впрочем, он и не знал, что ответить. На морду ничего, рука крепкая, от стакана не качается — а там поди его разбери.
Тогда Ксюшка сказала парню:
— Погуляй там минутку.
Он понимающе кивнул, снова стиснул Чемоданову руку и вышел.
Тут уж Ксюшка дала волю любопытству:
— Пап, ну как тебе?
— Чего — как?
— Ну как он?
— Да нормально, — пожал плечами Чемоданов, но похвала прозвучала не по моменту скромно, и он повторил тверже: — Вполне нормально. Крепкий парень.
— Характер тот еще! — сказала дочь.
— Мужик, — развел руками Чемоданов, как бы оправдывая зятя.
— Это точно! — засмеялась Ксюшка.
— Ты-то его любишь?
— А то стала бы! — отозвалась дочь, и неясно было, к чему относится оборванная фраза — то ли к типу отношений, то ли к будущему их узакониванию.
— И скоро предполагаете?
— В ту субботу.
Чемоданов все держал в голове узнанное от Вики, и столь стремительный разворот событий его не обрадовал.
— Слушай, а чего вы торопитесь? Присмотрелись бы друг к другу. Обязательно, что ли, расписываться? Поживите так, притритесь…
— Это у матери под боком? — Ксюшка хмыкнула и поставила точку над «и»: — Да я с чертом распишусь, лишь бы из дому.
— Ладно тебе, — остановил Чемоданов, в котором пробудилось нечто вроде родительской солидарности, — мать как мать. Не хуже других.
— А чего она мне жить не дает? — скандально возразила наследница.
— Так ведь мать, — объяснил он, — беспокоится.
— Да провались она!
Он устыдил:
— Ксюш, ты что? Нельзя так о матери.
Он и сам ее не любил: глупа, самоуверенна, напичкана дурацкими принципами, а на людей глядит так, будто весь свет у нее в подчинении. Но это его дело судить. Его, а не Ксюхино. Какая ни есть, а мать. Она мать, он отец. Родители.
— А чего ты ее все защищаешь? — поинтересовалась дочка, и в голосе был не столько протест, сколько обыкновенное любопытство.
— Из справедливости, — сказал Чемоданов, — у нее ведь и достоинства есть. Хозяйка, дом держит.
— Пап… — с досадой протянула Ксюшка.
— Тебя вон родила. Тоже кое-что…
Тут Ксюшка потянулась к нему, погладила пальцем по носу и произнесла с торжеством:
— Любишь!
— Раз уж лучше нет никого, приходится тебя, — проворчал Чемоданов.
Она села на край кровати, задумалась.
— А здорово, что ты с нами не жил. Был бы сейчас обычный старый хрен, учил бы жить.
— А я что, не учу? — удивился он.
— Раз в полгода можно и потерпеть. — Она вздохнула и покачала головой. — А жаль, что у меня не твоя фамилия. Вот только кликухи у нас с тобой… Чемоданов, Кувыркина. Пап, чего нам так не повезло, а?
Но огорчения в голосе не было, губы вновь расползлись в улыбку. Такая с любой фамилией проживет…
О родовом своем имени Чемоданов думал не раз, и теперь объяснил угрюмо:
— Предки были мужики, и у меня, и у матери. Эти, — он мотнул головой вверх, — Шуйские, да Романовы, да Шереметевы. Ну а нам что позавалящей. Тоже суки были порядочные. Удавил бы!
— А говорят, при царе было лучше, — с сомнением вставила она.
— Кто наверху, — сказал Чемоданов, — так им и сейчас неплохо.
— Пап, чего ты такой злой?
Чемоданов посмотрел ей в глаза:
— Потому что на добрых воду возят. А на мне — хрен им! Где сядут, там и скину, еще вопрос, кто на ком покатается.
Ксюшка будто невзначай прошла к окну, глянула вниз, потом вернулась к кровати и вновь села. Чемоданов спросил, стараясь поравнодушней:
— Как думаешь, у тебя с ним надолго?
— Он меня прописывает.
— Ого! — изумился Чемоданов.
— Ему кооператив делают. На двоих будет двухкомнатная.
Он молча покивал. Да, тут дело крепкое. Прописка — это надолго.
Кое-что все же корябало душу, и он решился. Выдавать Вику было нельзя. Чемоданов усомнился как бы от себя:
— Парень-то ничего, вот только вид у него… как бы это сказать… бабника, что ли.
— Вид! — хохотнула дочка.
— Не прав, да?
— У него, пап, не вид, у него вся натура кобелиная. Тот еще мальчик! Но он же мне не перетрахнуться, я с ним жить собираюсь. А для жизни он надежный, то, что надо.
Этот странноватый вывод пришлось принять на веру, что Чемоданов и сделал. Жить Ксюшке, значит, ей видней.
Потом она спросила:
— Пап, ты богатый?
Вопрос был приятен, поскольку на данный момент Чемоданов оказался не просто при деньгах, а именно богатый. Непредвиденные расходы по ночной операции Юрка справедливо возложил на клиента, и на рыло пришлось ровно по полторы, без вычетов, из лапы в лапу. Словом, денег получилось столько, что не грех и позабавиться.
Чемоданов озабоченно нахмурился:
— А много тебе?
— Н-ну… рублей триста.
— Грабишь отца родного, — сказал Чемоданов и выдал ей три сотни.
Ксюшка поцеловала его в щеку, а деньги сунула куда-то за пазуху.
— Пап, — сказала она, — я тут посчитала… В общем, надо бы еще рублей примерно двести пятьдесят. Потянешь?
— Сейчас, что ли?
— Да нет, — успокоила Ксюшка, — через неделю.
— Лучше я тебе одним заходом, чтоб два раза не переживать, — вздохнул Чемоданов и полез за деньгами.
— Самому-то останется?
— Я ведь не женюсь. — Он выдал ей еще три сотни. — А остальные когда?
— Какие остальные? — не поняла дочь. — Это и есть остальные. За все про все.
Теперь не понял он:
— Как, а свадьба? На свадьбу-то надо!
Она сморщилась:
— Пап, какая свадьба! Позовем человек пять, и хорош.
Чемоданов растерялся. Вот это номер! Стоило ночью лазить через забор, стоять под дулом, искушать боевого дедулю. Уж как старался, а теперь, выходит, ни к чему?
— Ну а кольца?
— Я ж тебе сказала, на запись ребята дадут, а так… — Она засмеялась. — Зачем нам золото, когда мы сами золото?
— Да нет, деньги пригодятся, — не столько дочку, сколько себя уговаривал Чемоданов, — может, съездите куда после свадьбы.
— Конечно, поедем, — сказала Ксюшка, — еще до свадьбы сгоняем. Ты сказал, пожить надо, вот и поживем. В Крым махнем на недельку, автостопом, давно хотели.
— А автостопом жрать, что ли, не надо?
Дочка хмыкнула:
— Пап, ну еще же муж есть. Пусть и думает.
— Верно, — улыбнулся Чемоданов. Про мужа он как-то подзабыл. — Кстати, его-то как фамилия?
Ксюшка повела плечиком:
— Тоже наша компания. Босяков.
— Не скажи, — возразил Чемоданов, — фамилия как раз аристократическая: вся страна босяцкая. Босякова Ксения Геннадиевна. А чего? Все лучше, чем Кувыркина.
Он так расчувствовался, что вопреки прежнему расчету не стал ждать торжества, а прямо тут же достал и надел ей на палец купленное с Ритулей колечко. Золото золоту не помешало, дочка завизжала от восторга и кинулась целовать отца.
Может, Чемоданов и цепку бы до свадьбы не додержал — но не дал телефонный звонок. Степа, едва поздоровавшись, велел взять ручку и стал диктовать адрес эротического театра. Пока Чемоданов вспоминал, о чем конкретно договаривались в ресторане, время ушло, какие-то фразы сами собой произнеслись, и отказываться стало неловко. Тем более речь-то шла сходить да глянуть.
— Бежишь? — спросила Ксюшка.
— Анекдот, — пожаловался он, — в начальство зовут. Чушь какая-то! Откажусь.
Дочку разобрало любопытство, и он не выдержал, расхвастался, понес и про систему, и про эротику, и про менеджмент — дурацкое слово выговорилось легко, будто это не Степа, а он сам только и думал, как бы подстраховать эстраду вокалом, вокал юмором, а юмор эротикой.
Ксюшка, не дослушав, вскинулась:
— Пап, а можно с тобой?
В этом Чемоданов уверен не был, попробовал закрутить обратно, но что-что, а клянчить у отца дочка умела.
На улице он двинулся было к метро, но жених так уверенно выбросил руку перед первым же леваком, будто иным транспортом отродясь не пользовался. Да, мальчик что надо…
Платил, естественно, Чемоданов — парень полез за деньгами, но он так цыкнул, что сразу стало ясно, кто в компании главный, зять или тесть.
Эротический театр помещался в таком дурном месте, что дурней трудно найти даже в Москве, где всего хватает. Заводской район, сплошь трубы, и все дымят. Клубик жалкий, обшарпанный, с одной стороны железная дорога, с другой — трамвай. Даже полы дощатые, неизвестно с каких времен.
Баба у входа никакого Гиви Антоновича не знала, когда же Чемоданов спросил про театр, пренебрежительно махнула в сторону лестницы.
Поднялись. В коридоре на длинной лавке томилось штук десять девок, морды напряженные, будто очередь на аборт. Из комнаты напротив вышел хмурый мужичок лет сорока в пиджачке с оторванной пуговицей, прошелся по ним взглядом, будто прилавок оглядел, и так же молча исчез, прикрыв за собой дверь.
Чемоданов спросил крайнюю девку, где Гиви Антонович. Она ответила, что не знает, но при этом посмотрела на него с уважением и страхом — видно, для нее Гиви Антонович был очень даже фигурой. Поскольку Ксюшка, а главное, жених стояли поодаль и ждали, Чемоданов уверенно толкнул дверь, за которой скорей всего что-то и происходило.
Комната была грязноватая, но просторная, с зеркалом во всю стену, почти пустая. В углу, у низкого столика, двое ели бутерброды, запивая чаем из термоса, — тот самый мужичок и женщина лет тридцати пяти с худощавой крепкой фигурой. Он сидел мешком, горбясь над столиком, она же держалась так, будто к спине доска привязана, а чашку подносила к губам легко и красиво, как фокусница. Мужик на вопрос не среагировал, она же вежливо ответила, что Гиви Антонович в зале, репетирует. Чемоданов воспитанных людей любил, ему тоже захотелось сказать что-нибудь вежливое.
— Вы бы заперлись, — посоветовал он, — а то поесть не дадут, там их целый табун.
— Просмотр с трех, — отозвалась женщина.
В коридоре Чемоданов сказал Ксюшке и парню, чтобы подождали, и пошел искать зал. Ксюшка села на лавку и оказалась как бы последней в очереди, а малый привалился к стене напротив и стал разглядывать девок. Вид у него был такой, будто все они заранее согласны и лишь от него зависит, какую поманить. Да, повезло с зятьком! А чего с ним сделаешь? Убить его, что ли?
В тесном зальчике сидело человек пять. Чемоданов прошел вперед, половицы громко заскрипели, и впереди крикнули:
— Тихо! Я же просил — тихо!
Чемоданов торопливо сел — деревянное кресло опустилось со стуком. Ну местечко выбрали…
— Фонограмма! — крикнул тот же голос, и пошла музыка, легкая, плавная, с картавым иноязычным текстом, который был непонятен и потому сам воспринимался как музыка. На сцену быстрой птичьей побежкой выскочили три девчонки в голубых балахонах, повертелись и по одной начали эти балахоны снимать. Еще повертелись и так же, по очереди, сбросили лифчики.
У двух груди торчали, третья же, по мнению Чемоданова, лифчик скинула зря.
Однако музыка все же забирала, смотреть на молодые тела было приятно, да и двигались хорошо, в лад. Приятное зрелище, подумал Чемоданов, надо бы сюда с кем-нибудь сходить. Может, с Жанной? Кстати, будет ей урок…
Потом две девки встали на колени, вытянув руки к потолку, а третья, с вялыми грудями, танцевала одна. Работала она здорово, ничего не скажешь, жаль только, сиськи трепыхались. Затем музыка перешла на дробь, как при подъеме флага в пионерлагере, а девки, на этот раз все три, стали медленно стягивать трусики.
Но тут впереди резко захлопали, крикнули «стоп!», и хлипкий седой мужчина побежал к сцене.
— Вы что танцуете? — спросил он девок. Те виновато молчали, и он ответил сам: — Вы танцуете баню. Пришли, заголились — а дальше? Мылиться? Ваш этюд называется «Освобождение»! Разница понятна? Не раздевание, а освобождение. Где игра с залом, а? Где вызов? Где эпатаж? Еще раз повторяю идею: в зале рабы, а вы свободны. Ясно?
Девки молчали.
— Сначала, — сказал он, — все сначала. И свет, — это он крикнул кому-то за сцену, — свет должен их не ждать, а ловить! Темнота, музыка, выход — и тут их ловят оба прожектора!
Девки подтянули трусики, собрали свои лифчики с балахонами и понуро побрели за кулисы.
Седой пошел назад, к своему месту, и тут заметил Чемоданова.
— Вы ко мне?
— Я от Степана Аркадьевича.
— Это по поводу?..
— Насчет работы, — сказал Чемоданов.
— А-а, — вспомнил Гиви Антонович, — да, да, был такой разговор. Если не ошибаюсь, речь шла о директоре-распорядителе или главном администраторе. Пока оба места свободны, так что можете исходить из своих планов. Ставки там семьсот и пятьсот.
— Это мне много, — сказал Чемоданов, — мне бы рублей полтораста.
Гиви Антонович посмотрел на него с недоумением и на всякий случай улыбнулся — улыбка далась ему плохо, то ли был в иных заботах, то ли Бог обошел юмором. Тут опять началась музыка, и он заторопился:
— Пройдите в танцевальный зал, там Игорь Лукич, он полностью в курсе. Решите вопрос с ним.
Он отвернулся к сцене, где красиво семенили девки. Чемоданову было любопытно, совсем ли они там скинут трусы, однако решил, что еще насмотрится, и пошел из зала.
На лавке в длинном коридоре вовсю шла пресс-конференция, девки шепотом выкладывали, кто что знал. Зятек все так же подпирал стену, Ксюшка сидела, но уже не с краю, а в середке. Чемоданов толкнул дверь и вошел.
В углу у столика сидели те же двое, женщина и мужичок, плюс третий, малый лет тридцати с красным шарфом на шее. Вместо харча на столе теперь лежали два блокнотика. Среди комнаты, поближе к зеркалу во всю стену, стоял стул с гнутой пустой спинкой, и сквозь эту спинку головой вперед лезла молоденькая девчонка в чем мать родила. Чемоданов чуть поколебался, но потом решил, что у каждого в жизни заботы свои, и прошел к столику в углу.
— Мне бы Игоря Лукича, — сказал он негромко. Мужичок в пиджаке без пуговицы обернулся.
— Гиви Антонович сказал, решать вопрос надо с вами.
— А вы от кого? — спросил мужичок безразлично.
— От Степана Аркадьевича.
Похоже, Степа тут котировался — мужичок потеплел, покивал и дружелюбно, даже льстиво попросил минутку подождать.
— Присядьте вот здесь, — сказал он, — у нас маленький спорный момент.
Девчонка выбралась из стула и стояла теперь босиком на полу, ровно, как солдат, — ждала команды.
— На коленки, — велел малый в шарфе, — и на локти. А носом в пол.
Она встала, как было приказано.
— Повыше, — сказал он.
Девчонка вопросительно повернула голову.
— Корму повыше, — пояснила женщина с заметной неприязнью.
— Это будет порно, — огрызнулась девчонка, но корму подняла.
— Ясно? — спросила женщина своих, те промолчали, и она скомандовала: — Одевайся.
Девчонка натянула трусы и стала влезать в джинсы.
— Гимнастикой занималась? — спросила женщина.
Та ответила неуверенно:
— Да в школе…
Чемоданов увидел, как малый с шарфом поставил в своем блокнотике плюс, а женщина в своем минус. Потом сказала девчонке:
— Спасибо, иди.
Та не двинулась с места:
— Гожусь, нет?
— Зайди завтра, будет известно.
— Во сколько?
— Там же все написано.
— Сказать, что ли, трудно? — проворчала девчонка и вышла.
— Ну? — спросила женщина.
Малый в шарфе ответил, что фактура подходящая и гибкость достаточная.
— Глупа и упряма, — возразила женщина и повернулась к Игорю Лукичу.
— Что-то есть, — пожал тот плечами, — вообще-то смотри, тебе с ней мучиться.
Малый в шарфе предложил завтра показать Антонычу, на том и порешили.
В комнате, помимо входной, имелась еще дверь, Игорь Лукич провел Чемоданова туда. Там помещалось нечто вроде кабинетика: метров восемь площади, письменный стол, два почти новых креслица и диванчик. Сели.
— Значит, от Степана Аркадьевича?
Чемоданов кивнул.
— На директора-администратора?
— Не знаю, уж больно дело новое, — стемнил Чемоданов.
Ни в какие директора он не собирался, но и отказываться с порога было неумно — тогда зачем шел?
— Ничего особенного, — успокоил мужичок, — работа как работа. Основной коллектив небольшой, опытный. Девчонки, конечно, часто меняются, но это уже творческая сторона, тут пусть у Гиви Антоновича с Вероникой голова болит. А наше дело экономика — транспорт, гостиница, ну и, естественно, касса. Я бы вам рекомендовал не отказываться.
— А вы тут кем? — вежливо полюбопытствовал Чемоданов.
— Главный администратор. Как раз буду ваша правая рука.
Хотелось задать еще вопрос, но было неловко. Мужичок, однако, оказался догадлив.
— Насколько я понимаю, — сказал он, — Степану Аркадьевичу предпочтительней на этом месте свой человек. Имеет право. Раз вкладывает деньги, прежде всего полное доверие. Ну а дело освоить — для человека с головой неделя. Вот я вам изложу некоторые детали…
Мужичок стал излагать детали, но Чемоданов в них не вникал. Из деталей его в первую очередь интересовала одна: кто в случае чего отправится за решетку? По всему выходило, именно директор, хозяйственный руководитель, ответственное лицо. И вот эта деталь Чемоданова никак не устраивала. Мужичок, видно, что-то почувствовал.
— Возьмите контракт месяца на три, — посоветовал он, — присмотритесь. Ставка у нас семьсот, но набегает порядочно.
— Семьсот меня не устраивает, — сказал Чемоданов, — меня устраивает сто восемьдесят.
Мужичок, оказалось, понимает жизнь с полуслова:
— Алименты?
— У кого их нынче нет!
— Это проблема решаемая, — заверил собеседник.
Они вернулись в комнату с зеркалом во всю стену. Там мало что изменилось: все так же женщина с прямой спиной и малый в красном шарфе помечали что-то в блокнотиках, все так же сквозь спинку стула протискивалась голяком новая претендентка. Пролезла, ловко перекувырнувшись, вскочила на ноги — и Чемоданова окатило ознобом, потому что девка эта была Ксюшка. Отведя глаза, он выскочил в коридор. Вот паршивка!
Зятек теперь сидел на лавке между двух дур, охмурял их своим способом: молчал и улыбался, пока они наперебой кудахтали, определенно стараясь для мужика. Тема была — через сколько коек надо пройти, чтобы взяли на гастроли в Европу. Говорили об этом буднично, как о стольнике сверху за джинсы или сапоги. Чемоданов мгновенно оценил девок и заключил, что койка им светит на двоих одна, как раз будущего зятя, вот только в Европу этот путь не ведет. Ну бардак, подумал он, нет на них водородной бомбы! Он понимал, конечно, что так живут все, и сам он жил именно так, и пусть бы так оно все и шло — если бы только не касалось Ксюшки.
Зятек привстал было ему вслед, но Чемоданов прошел мимо, к лестнице, и тот опять опустился на лавку. И пускай сидит. Хрен с ним, у них своя жизнь.
Ничего особого вроде не случилось, мир не рухнул, все как было, так и шло — но что-то изменилось, в душе словно бы образовалась сквозная дыра, сквозь которую выдувалось тепло, отчего знобило и подташнивало.
Выросла девка, вот и все, подумал он. Была дочка, а теперь сама по себе.
На первом этаже к нему сразу сунулся какой-то мужик, будто специально ждал:
— Слушай, друг, ты не здесь работаешь?
Чемоданов, не сразу врубившись, ответил уклончиво:
— Частично.
— Девки твои?
Первый ответ потащил за собой второй:
— Отчасти мои.
— Сделай парочку, а? — попросил мужик и объяснил: — Друг приехал из Азербайджана.
Лицо у него было добродушное, простоватое — Чемоданов не сразу нашел что сказать.
— Две сотни дам, — пообещал тот, — три даже.
Чемоданов спросил:
— Ты чего сюда пришел? Не знаешь, где блядей искать?
— Да скромный я, — пожаловался мужик, — не имел такого дела, не приходилось. Да и хочется, чтобы все хорошо, друг ведь, а тут все же артистки. Я там у них на Кавказе месяц гостевал, знаешь как принимали! Вино, шашлыки, дыни всякие… Мне сказали, сунешь пару сотенных, и порядок. А вот кому сунуть — хрен его знает!
Уже в трамвае Чемоданов подумал, что работенка предполагалась, пожалуй, чересчур веселая. Слава богу, пронесло.
Никогда баб не покупал, а уж продавать тем более не станет…
Ксюшка позвонила тем же вечером:
— Пап, ты чего убежал?
— А чего надо было, на тебя любоваться?
— Пап, ну это же конкурс, у них все так.
— А тебя чего на этот конкурс понесло? — помедлив, спросил Чемоданов.
Она тоже ответила не сразу:
— Ну… во-первых, интересно себя проверить. А потом — знаешь, какие там бабки? Там за спектакль — полтинник! За один вечер, понял?
Он тупо молчал. Вроде и возразить нечего. А с другой стороны…
— Ну чего ты молчишь?
— А чего тут скажешь? — вздохнул Чемоданов. — Ты теперь взрослая, свой мужик есть. Вот пускай он тебе морду и чистит.
От огорчения он даже трубку уронил. А когда поднял, шли частые гудки. Перезванивать он не стал, и Ксюшка не перезвонила.
Степу он повидал на другой день. Тот спешил, в подробности не углублялся, сразу спросил:
— Народ пойдет?
— Это с гарантией.
— Ну и ладно, значит, берем к себе. Работа устроит?
Чемоданов ответил, что нет, и стал объяснять почему.
— Сходи в бухгалтерию, — перебил Степа, — там тебе полторы штуки выписано.
— Ты не понял, я ж туда не иду.
— Ну и что? — отмахнулся Степа. — С тебя требовалась консультация, ты и дал консультацию. И все. И сумма прописью.
Он побежал на выход, а Чемоданов двинул в бухгалтерию. Хорошо все же иметь друзей. В России иначе не проживешь.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Были бы друзья, а рубли сами появятся.
Ксюшкину мать Чемоданов никогда особо не любил. Даже поначалу. Тяжелая баба, без юмора и с принципами — ей всегда было известно наперед, как надо жить, как не надо. Тем не менее тянулось с ней долго, хотя и с большими разрывами — с другими сходился и расходился, а она все была, все виделись время от времени.
Началось вообще дуриком, вот уж точно, как волк овцу: подвернулась на вечеринке, и зарезал. Потом пошло что-то вроде игры, чье упрямство переупрямит, — но все схватки кончались вничью. Однако пока шла эта баталия, сработал один ее дотоле не известный Чемоданову принцип: что замуж не надо, а ребенка надо. В правилах она была тверда и впоследствии ни разу не предлагала очертить законной рамкой их случайные отношения.
А вот с Ксюшкой у него как-то сразу задалось, для нее он всегда был гость хоть и редкий, но дорогой и желанный. Как села ему на шею года в полтора, так ни разу и не слезала.
Пока ползала да ковыляла, Чемоданов еще присматривался, в кого удалась. А подросла, и все стало ясно: такая нахалка — в кого же еще? Дочь. Тут уж не отвертишься.
Вот так сложилось, и ничего не переменить: баба чужая, а дочь своя…
Видно, своя дочь не вовремя похвасталась новыми цацками — чужая баба позвонила и ледяным тоном потребовала оставить Ксению в покое. Чемоданов, привыкший к таким закидонам, тут же указал ей необходимую дистанцию:
— Если по делу, давай, если без дела — пока.
— Ты зачем купил ей кольцо?
— Она же замуж выходит.
— Так вот мне не нравится этот жених.
— А ты что, невеста? — поинтересовался Чемоданов.
— Я мать.
— Была мать. А теперь теща. И берись за ум, пока бабкой не стала, — посоветовал он.
— Свое остроумие оставь для своих шлюх.
Вот это был ее нормальный разговор.
— Да вались ты! — сказал Чемоданов. — Дура.
И повесил трубку.
Да, повезло, что Ксюшка пошла в него.
Звонить Ксюшке Чемоданов пока что не собирался. Сама позвонит. Уж перед свадьбой-то куда денется — ссора не ссора, а положено. Отцу-то!
Однако все его планы не прожили и трех дней.
Утром после дежурства принесли телеграмму. Еще расписываясь на талончике, Чемоданов ощутил неладное и почти догадался, что внутри сложенного листка. Догадаться, впрочем, было нетрудно: никаких спешных дел с ним не вели, а хорошие новости слишком уж редко нуждаются в телеграфе.
На наклеенных полосочках было вот что: «Матерью плохо позвоню поздно Шура».
Первое, что Чемоданов почувствовал, было облегчение: слава богу, жива. Следом пришел страх и нарастающая безнадежность — видно, плохо совсем, иначе Шурка обошлась бы письмом. Мать он любил и, хоть писал ей редко, а ездил и вовсе через два года на третий, деньги слал всякий раз, как оказывались свободные. Само сознание, что мать есть, жива, делало его жизнь устойчивей и спокойней. После каждого перевода мать писала одно и то же, что ей много не надо, мол, заботься лучше о себе, а Чемоданов отвечал в веселом тоне — дескать, трать, не беспокойся, сын у тебя мужик здоровый, заработает еще. А теперь самый надежный в его жизни поплавок, заведомо не способный ни на какую измену, погружался в море, и охватывали холод и жуть: что дальше-то, чем заменить, за что уцепиться?
Просто ждать Шуркиного позднего звонка было тяжело, а помочь в таком состоянии мог далеко не каждый. К счастью, Вика оказалась у телефона, она приехала сразу и вполне удовлетворилась кратким объяснением, что настроение вдруг упало. Редкая возможность пожалеть сильного мужика разбудила в девчонке такую нежность, что ее обычные, вперемежку со стонами, судорожные слова о любви на сей раз показались Чемоданову правдой — да, может, и были правдой. Вика куда-то торопилась, она быстро оделась и убежала, но половина давившей его тоски успела раствориться в сопереживающем женском теле. Так что Викина помощь вышла двойная: и время до Шуркиного звонка ужалось, и перетерпеть оставшиеся часы стало легче.
Мать с Шуркой жили в соседней области, в райцентре, в трех часах от Москвы. Шурка, младшая сестра, была крупная, крепкая, но некрасивая и оттого робкая и несчастная. Когда-то был у нее муж, добрый веселый алкаш, даже сынок родился. Но, видно, слишком много отцовских долгов свалилось на младенца, он не сумел удержаться на земле. Чемоданов не видел его ни разу, мальчонка прошел по его жизни горькой тенью, косноязычными строчками нескольких материнских писем: родился слабый, хворает, опять хворает, сильно хворает, похоронили. Потом затерялся где-то и муж: уехал подзаработать, прислал пару писем, а там исчез, будто и не существовал никогда. Дальше Шурка жила с матерью, и смысл ее жизни стал в том, чтобы беречь мать. Так вдвоем и существовали.
Шурка позвонила около одиннадцати и не сказала ничего сверх того, что Чемоданов, по сути, уже знал: мать помирает. Еще, правда, были кое-какие детали — в больнице, зовет попрощаться, — но Чемоданов и к этому был готов, уже узнал через справочную, когда среди дня ходят нужные поезда. Он сказал Шурке, что будет завтра.
Теперь надо было сладить еще одно дело, непростое, но, как он считал, необходимое. Хоть время было и позднее, он позвонил Вике и попросил, чтобы срочно объявилась дочь.
Ксюшка говорила тихо и ни разу его не назвала, видно, сторожилась матери, и правильно делала. Чемоданов сказал ей, что надо увидеться завтра с утра.
— А что такое? — негромко забеспокоилась Ксюшка.
— Вот приходи, и скажу.
Она обещала.
Ксюшка пришла не одна.
— Пап, ничего, что мы вместе?
Чемоданов замялся всего-то на мгновенье, но оба заметили. Дочка растерянно посмотрела на парня, а он легко сказал:
— Я покурю пока.
Вышел в кухню и прикрыл дверь.
— Да он не мешает, — запоздало проговорил Чемоданов, уже поняв, что теперь дочка себе не хозяйка, и с этим придется считаться во всех случаях, кроме разве что нынешнего.
— Пап, так чего у тебя?
Чемоданов сказал:
— Тут вот какое дело — бабуля помирает.
— Какая бабуля? — наморщилась Ксюшка.
— Наша с тобой. Моя мать, твоя бабушка.
— А что с ней?
Дочка спросила это сочувственно, но отстраненно, как о чужом человеке.
— Сердце больное. Как-то держалась, а теперь вот все. Сестра ночью звонила.
— А где она?
Чемоданов назвал городок, область и сказал, что от Москвы это четыре часа.
— Поедешь? — спросила она.
— А как же. Нельзя же не попрощаться. — Он помедлил, повздыхал и выговорил наконец-то, ради чего и позвал ее прийти: — Вместе нам надо ехать. С тобой вместе.
Она была так ошарашена, что даже улыбнулась:
— Со мной?
— Ну да.
— Пап, но я не могу сейчас.
— Потом прощаться будет не с кем, — глухо сказал Чемоданов.
— Мы уже договорились, Валерка отпуск взял…
— Это ведь смерть, — тяжело напомнил он.
— Но я же ее не знаю совсем, — защищалась Ксюшка.
— Зато она тебя знает. Любимая внучка.
— Она же меня не видела никогда.
— Ну и что? — возразил Чемоданов. — Мне любимая дочь, значит, ей любимая внучка.
Он говорил спокойно, но твердо. Всю жизнь уступал ей и рад был уступать — но сейчас не было у него такой возможности. Он понимал и жалел Ксюшку с ее любовными планами, но у Ксюшки было много времени впереди, а у матери нет. И у Чемоданова не было: матери он был сильно должен, и вот теперь для уплаты оставались дни, а то и часы.
Когда-то он съездил туда с Клавдией и маленьким Васькой. Клавдия, сука, нашла повод показать характер, Васька дичился незнакомой бабки, родство не сладилось, с тем и уехали. Больше Чемоданов не рисковал, в семейные свои сумбуры мать не впутывал, и при всей плодовитости сынка осталась она как бы без внуков. Все, что имела, — могилку Шуркиного малыша на местном кладбище. И теперь не мог Чемоданов упустить такую возможность: хоть напоследок показать ей умную, красивую, любимую и любящую дочь.
— Ну если бы он хоть отпуск не взял, — жалко пробормотала Ксюшка.
В общем-то все было ясно. Девчонка полностью зависела от своего мужика, что Чемоданову было вполне понятно, ибо и от него девки не раз вот так же зависели. Дочку винить было не за что. Но и отступить он не мог.
— Ксюш, — сказал он, — поехали вместе, а? Я тебе денег дам. Тысячу рублей дам, даже больше. Ничего ведь и не надо, посмотрит на тебя напоследок, и все.
У Ксюшки скривилось лицо, она прикусила губу:
— Пап, ну ты что? Ну чего ты говоришь-то?
Она повернулась к двери и позвала беспомощно:
— Валер!
Парень не сразу вошел, остановился у двери.
— Валер, — сказала она, — чего делать, а? Бабушка умирает.
Парень нахмурился, подумал немного, раздвинул ладони, потом сложил их в замок и решил:
— Бабушка — это святое.
Присловье было дурацкое, его по разным поводам повторял за картами Стас, — но Чемоданов порадовался, что именно этот малый теперь Ксюшкин хозяин. По крайней мере, мужик. Главное понимает. А прочее — это уж как сами хотят…
В междугородной, с мягкими креслами, электричке Чемоданов рассказал дочке про бабулю, про тетку Шуру, про пропавшего ее мужа и умершего мальчонку. Ксюшка слушала сосредоточенно, а про мальчика спросила:
— А он мне был кто?
— Он-то? — Чемоданов на пару секунд задумался. — Да вроде брата. Ну да, так и выходит, двоюродный твой брат.
— Как же все запутано, — печально проговорила она.
Он согласился:
— Вся наша жизнь запутанная. А что делать? Другой ведь нет…
Мать умирала в районной больничке, в коридоре первого этажа, в тупике за занавеской. Рядом с койкой на железной подставке из шатких прутьев стояла всякая врачебная мура, болталась рыжая резиновая трубка — матери вся эта спасаловка помочь явно не могла.
Больничка была та же, что и при чемодановской молодости, только запакостили ее капитально, да и стала куда тесней: народу в городишке крепко прибавилось, и соответственно прибавилось коек в палатах, раскладушек в коридорах и людей, своим разного рода присутствием перегружавших кубатуру низких помещений и, хоть и без умысла, но половинивших и без того скудный материн паек воздуха — застоявшегося, тяжелого больничного духа.
Окно, что ли, отворить, подумал Чемоданов, но не решился — будь матери можно, небось давно открыли бы.
Шура была при матери, но сбоку, на подхвате, вместе с еще одной женщиной — Чемоданов ее не знал. Главным же за занавеской оказался небольшой старикан, при скромной комплекции и лысой голове державшийся уверенно и с достоинством — не начальником, а как бы общественным распорядителем. Халат на нем был поновей и почище, а больничные сестрички обращались к нему по имени-отчеству: Исай Исаевич.
Когда Чемоданов вошел, Шура шагнула было ему навстречу, но, вспомнив, шепотом что-то сказала старику. А уж тот, быстро глянув на Чемоданова, произнес командно:
— Так, товарищи, давайте в сторонку, сын приехал.
И уже прямо повернулся к Чемоданову:
— Проходите вот сюда. Она вас очень ждала, молодец, что успели.
Чемоданов, не ответив, прошел к матери — ему не понравилась похвала чужого старика, выходило, будто попал он сюда не сам, а как бы выполняя задание. Это к матери-то!
От нее мало что осталось, так мало, что Чемоданов с трудом вылепил губами улыбку: с детства той же матерью был приучен, что больным надо улыбаться, добавляя им бодрости, особенно когда своей нет. Но что было матери в его улыбках! Узнать ее он, конечно, узнал, но сердце сдавило.
— Мам! — позвал он.
Мать не шелохнулась, может, уже и не могла.
— Это я, мам, — сказал он, — Шурка позвонила — вот приехал. Чего ж это ты?
Хотел укорить весело, но не вышло.
Теперь он понял: мать слышит. Она даже попыталась что-то произнести, губы медленно шевельнулись, но слов не было.
Чемоданов тронул ее руку — тепла в ней осталось мало.
— А я тебе внучку привез, — вспомнил он и оглянулся. И как раз в этот момент Ксюшка подошла. — Внучка, видишь? — спросил Чемоданов мать и вдруг тревожно ощутил, как неуместна молоденькая цветущая девчонка в этом закутке с тошнотворным запахом сортира, лекарств и грязного белья, запахом нищей старости и подступившей смерти. Для него самого на койке лежала мать, но для нее-то кто? Незнакомая старуха, почти уже и не живая, не способная ни рукой двинуть, ни слова сказать, ни тем более добраться до туалета. Что могла девчонка чувствовать к умирающей, кроме брезгливости и, может, подросткового страха перед тем неизбежным, что для самой пока что в дальней дали?
— Внучка! — повторил Чемоданов уже неуверенно, придерживая Ксюшку за локоть, но легонько, чтобы, если что, могла сразу же и отойти. В конце концов, главное уже сделалось, внучку матери показал, успел, увидала, а требовать от девчонки большего…
И действительно, тонкий локоток высвободился. Ну и ладно, подумал он, не для нее зрелище. Однако Ксюшка скользнула не назад, а вперед, к нечисто пахнущей койке, наклонилась, ткнулась губами в серую щеку, залопотала ласково:
— Бабушка, здравствуй, это ведь я, Ксеня, внучка твоя. Бабушка, я — Ксеня, слышишь?
И Чемоданов понял, что теперь — все и что бы эта девчонка после ни натворила, все ей простится, теперь хоть веревки из него будет вить — одной этой минутой полностью отработала…
Тут опять появился лысый Исай Исаевич, мягко, но властно увел их из-за занавески, и Чемоданов подчинился его распоряжению, как почему-то подчинялись все вокруг.
Позже, когда отлучились поесть, Чемоданов спросил Шуру про старика. Оказалось, просто сосед, пенсионер, когда-то был на фабрике главбухом. Жена померла, один, вот и скооперировались: бабы ходили к нему постирать и прибраться, а он учил их жить и опекал в сложном советском мире, где без мозгов или связей ни достать, ни украсть, ни стребовать положенное по закону. Вот, оказывается, и здесь, в больнице, мать хотели приткнуть на раскладушку, но Исай Исаевич не позволил, взял ходатайство на фабрике, с учетом стажа и заслуг добился не только койки, но и капельницы, которая хоть и не работала, зато свидетельствовала о внимании к пациенту.
Шура нажарила картошки. Ксюшка тут же взялась накрывать и убирать, вообще, показала себя послушной, уважительной племянницей, хотя Шура держалась с ней робко, а поначалу даже звала на «вы». Причина столь удивительного дочкиного поведения обнаружилась сразу после обеда, когда она просительно глянула на Чемоданова:
— Пап…
Он спохватился:
— Ну, ясно, езжай, парень ждет, неудобно. Главное, с бабулей попрощалась. У нас ведь родственников — мы с тобой, Шура да вот бабуля…
Он тут же сообразил, что ляпнул глупость, ведь у Ксюшки есть еще и мать, и дядья, но поправляться не стал, и она не поправила — то ли момент был не тот, то ли здесь, в его детской норке, она и впрямь ощутила себя частью его семьи и рода.
Чемоданов хотел проводить дочку на станцию, но оказалось, нет необходимости: уже был сговорен какой-то малый с мотоциклом, он был рад услужить и только ждал сигнала. Как с прочими своими проблемами, так и с этой Ксюшка разобралась сама…
Мать не задержалась, все кончилось через двое суток, днем, когда Чемоданов вышел в больничный двор покурить. За занавеской началась привычная любой больнице суета, послали за каталкой, а Исай Исаевич первым выразил сочувствие и добавил, что мать была очень хороший человек, потому и умерла легко, мол, есть такая народная примета. Потом Чемоданов шел за каталкой, Шура плакала, а ему не хотелось, ему хотелось выть и материться от злости на жизнь, а больше на себя, что не сумел обеспечить матери хотя бы нормальную, благоустроенную смерть. Хотя хрен ее знает, какая она нормальная и где ее достают.
Похоронными делами опять распоряжался лысый сосед. Чемоданов хотел отдать ему деньги, но тот твердо отказался:
— Не надо, решим в рабочем порядке.
И объяснил, что обязательно дожмет фабричное начальство, ибо это дело принципа — похороны старейшей работницы дело не только семьи, но прежде всего трудового коллектива.
Ладно, подумал Чемоданов, по крайней мере, будет Шурке кому полы скрести да белье стирать, все не одна…
Переночевав после поминок, он поздней электричкой уехал домой. Похороны вышли хорошие, в ясный, светлый день, с народом и даже со священником, которого привел Исай Исаевич, а фабрику заставил оплатить. Сам Чемоданов не верил ни во что, но решил, что матери наверняка понравились бы ладные, солидные, красивые похороны. А может, и есть там что, на том свете, думал Чемоданов умиротворенно, может, и видит сейчас…
На станцию он пошел пешком, один — просто хотелось хоть краткий час побыть вне людской толчеи, дать возможность всему, что скреблось и дергалось в душе, улечься и успокоиться.
И в электричке не было никакого желания разговаривать — однако пришлось. Подсела какая-то баба, заняла сумкой полскамьи и произнесла уверенно:
— Во жизнь! Нет людей — одни сволочи!
Лет ей было тридцать с чем-нибудь, говорила громко и хамовато, видно, покрутилась в начальстве и привыкла, чтобы слушали, что ни ляпнет. Не заботясь, расположен попутчик к разговору или нет, тут же и пояснила, кто нынче сволочи. Оказалось, мужики — все или алкаши, или жулье, или ничтожества, или ни на что не годны. Хотя и бабы не лучше, все подряд сучки. Вот если бы были настоящие женщины и себя уважали, то объявили бы разом всем мужикам забастовку, и пусть тогда эти кобели крутятся, как хотят.
Чемоданов пробовал не отвечать, но баба насела и не отпускала, приводя в доказательство разные житейские истории, одну другой хвастливей. В конце концов Чемоданов озверел, затаился, стал поддакивать, а в Москве пошел ее провожать.
Оказалось, что хоть мужики и сволочи, а бутылка на случай припасена. Чемоданов миндальничать не стал, завалил ее почти сразу. Особо не старался, но оказалось, ей много и не надо, видно, долго бастовала. Он все проделал, как хотел: она еще достанывала и приходила в себя, а он уже оделся и двинул к двери. Пока ждал лифта, дама очухалась и прямо голяком сквозанула следом, на лестничную площадку, смысла в ее кудахтанье не было никакого, только полное недоумение.
— Чао! — сказал Чемоданов и пустил лифт.
Сверху неслись растерянные вопли.
На улице было пусто и почти темно, половина фонарей не горела. Тянуло сырым, явно портилась погода. Район был не окраинный, но и не ближний, ожидаются ли еще автобусы, Чемоданов не знал.
И чего потащился, подумал он. Ну отвел душу — а на хрена? Теперь вся затея казалась не нужной. Тем более что злость прошла, бабу было скорее жалко. Ну дура, ну прет, как танк. А кто нынче вежливый? И на черта ему все это понадобилось? Вчера только поминки справляли…
Он вспомнил, как Ритуля говорила тогда про волка — а ведь и вправду похоже. Попалась под клык, порвал, и шкуру в сторону. Так что забастовщица эта, пожалуй, права — мужики точно сволочи. Как, впрочем, и бабы.
Он подумал, что надо бы повидать Ксюшку, как следует похвалить за бабулю. Но тут же дошло, что Ксюшки наверняка в городе нету, уехала автостопом со своим мужиком, ей теперь ни до чего. Даже деньги на будущее, может, понадобятся, а может, и нет — малый ее не дурак, рано или поздно сориентируется, где пастись, где охотиться. Вообще, странно вышло — дней пять всего, как ехали с дочкой в электричке к матери и мать еще была живым существом. А теперь ни дочки, ни матери, обе ушли, только в разные стороны. Все, нет больше обязанностей и долгов нет, выплачены, свободный теперь человек, все можно, хоть напиться, хоть повеситься.
Автобуса не было. Не было и денег на такси, все отдал Шуре, думал, всего и понадобится, что мелочь на метро. Чемоданов подошел к краю тротуара и стал высматривать левака попроще, всего бы лучше грузовик, чтобы так, за умный разговор, подбросил в сторону центра.
Ладно, сказал он себе, зато главное сделано, и мать проводил по-людски, и дочку на ноги поставил. Так что, в общем и целом, жизнь удалась, грех жаловаться.
В конце улицы показалась машина: то ли старенький автобус, то ли фургон. Чемоданов вскинул руку.
Жить, чтобы выжить
Если бы полгода назад Чехлову сказали, что девчонка предложит ему минет за десять баксов, он бы не поверил.
Если бы полгода назад Чехлову сказали, что главной его морокой станет месть, он бы не поверил.
Если бы полгода назад Чехлову сказали, что с ним произойдет то, что произошло, он бы только засмеялся в ответ. Так не бывает. Просто по определению — не бывает…
С чего все началось?
В общем-то с ерунды — старшая дочь попросила денег. Денег не было, зарплату не давали уже третий месяц, но признаваться в этом не хотелось, и Чехлов предпочел соврать: понизив голос и виновато разведя руками, сказал, что накануне все прогулял в ресторане. Так сказать, молодой отец с молодыми грехами. Зачем ей деньги, он давно уже не спрашивал. Двадцать три года, служит в какой-то шарашкиной конторе, дома ночует через раз — по сути, взрослая баба со своей жизнью и своими проблемами. Младшая, замужняя, уже два года жившая отдельно, была понятней, ближе и, что уж там, любимей. Да и парень ей попался хороший, работящий. А Милка… Ладно, дочь, какая ни есть, все равно дочь.
— Давай в понедельник, ладно? — попросил Чехлов.
Он знал, что и в понедельник будет то же самое — но, может, до понедельника она еще где стрельнет. В крайнем случае, придется еще раз соврать. А что делать? Сам дурак: в свое время выбрал первым языком испанский, английский учил через пень-колоду. Будь тогда подальновидней, сейчас, может, читал бы лекции в каком-нибудь Гарварде.
Да, вяло подумал он в очередной раз, надо что-то делать. И с деньгами, и вообще. С жизнью…
Утром кое-что объяснилось — жена сказала, что Милка снова залетела.
— Та-ак, — протянул Чехлов. От кого залетела, спрашивать не стал, это значения не имело — порядочных мужиков вблизи Милки не наблюдалось. Ситуация его в общем-то касалась незначительно. Но интонацией все же показал Анне свою озабоченность. И в который раз почувствовал тоску и одиночество: семейная жизнь шла при нем, но как бы помимо него. И советовались с ним больше для порядка.
Надо что-то делать, подумал он опять, но гораздо решительней. Хотя бы денег в конторе попросить. Да что там попросить — потребовать! Ведь не чужие — свои, заработанные. Ходили упорные слухи, что кому-то директор платит. Кому — вычислялось легко: либо нужным, либо опасным, то есть способным на скандал. Значит, надо стать скандальным. Или хотя бы настойчивым. Словом, проявить некоторую твердость. Чего бояться-то? Хуже не будет!
Утром он решил, что говорить надо спокойно, с достоинством, и, спускаясь по лестнице, даже прорепетировал интонацию. Получилось вполне убедительно.
Однако требовать зарплату не пришлось.
Кафедра помещалась на первом этаже, в самом конце коридора. Открыв дверь, он увидел Маздаева с каким-то южным человеком, крупным, толстым, в дорогой кожаной куртке — маленький Маздаев едва доставал ему до плеча. На Чехлова оба не обратили внимания.
— Дверь надо с улицы, — объяснял южный человек, показывая пальцем, — тут стену пробить, и — ступеньки.
Там, где предлагалось пробить стену, стоял письменный стол Чехлова.
— Юрий Георгиевич… — начал было Чехлов.
Маздаев, бегло глянув, быстро проговорил:
— А, Борис Евгеньевич! У нас тут кое-какие перестановки. Загляните ко мне минут через сорок.
Южный человек никак не реагировал на Чехлова, будто тот и не входил, да и вообще не существовал. Секретарша Наташа сидела молча, растерянно тараща глаза на происходящее…
Через сорок минут Маздаев был занят, через час занят. Торчать в приемной было унизительно, и Чехлов вернулся на кафедру, сказав маздаевской секретарше, чтобы перезвонила, когда освободится. Никто не перезвонил.
Какой-нибудь год назад Маздаев был никто, ничтожество, паршивый завхоз, и с научными сотрудниками угодливо здоровался первым. Но пришли новые времена, главной ценностью в институте стали свободные площади, и Маздаев круто пошел вверх. Теперь он именовался заместителем директора по экономике, имел отдельный кабинет, с младшими научными не здоровался вообще, и даже профессорам кивал небрежно, как начальник. Он купил три новых пиджака, красный, голубой и песочного цвета, а месяц назад приехал на работу на «мерседесе».
— Скоро весь институт сдаст, — сказала Наташа, кивнув в сторону двери, — сделают тут какое-нибудь «Баварское пиво». Пробьют стену, навесят решетки, амбалов у входа…
— А чего, — пожал плечами Чехлов, — рынок так рынок. Можно сразу публичный дом.
Идея понравилась обоим, и они стали обсуждать, кто кем будет в публичном доме. Маздаев, конечно, директором, директор, наоборот, заместителем по девочкам, аспирантки — зарабатывать в койках, а зав кафедрой истории Водохлебова сама станет приплачивать клиентам…
— А вы кем будете? — спросила Наташа.
— А я буду твоим сутенером. На тебе можно такую валюту качать!
По нынешним временам это был комплимент.
Настроение, однако, от всей этой болтовни не улучшилось.
— А, кстати, почему именно нас сдают? — мрачно поинтересовался Чехлов. Он так и сказал — не лабораторию, не помещение, а — нас.
— Первый этаж, — вздохнула Наташа.
— Так ведь и математика на первом этаже. Там и пространства больше.
— Подсуетились, — сказала Наташа, — они под него Нинку подложили.
— Какую Нинку?
— С попой.
Определение было странное, но Чехлов сразу понял, о ком речь. Новенькая лаборантка, с пустым кукольным личиком, зато длинноногая, с великолепной, туго обтянутой задницей, иногда встречалась ему в коридорах, вызывая кучу эмоций, среди которых не было ни одной пристойной. Хотелось пригнуть ее к ближайшему подоконнику, задрать юбчонку, рывком стянуть колготки… Дальше Чехлов старался не думать. В институте не было принято спать с подчиненными, это могло сказаться на карьере, и Чехлов со своими девочками кокетничал, но рубеж не переходил. Теперь, выходит, традицию нарушили. И кто — Маздаев! Бог ты мой, куда мы катимся…
— Дура, — сказала Наташа, — но свою выгоду знает.
— Это Маздаев — выгода?
Наташа словно бы поблекла:
— Эх, Борис Евгеньевич…
А чего, понял он, конечно, выгода. Плюгавый, невежественный — да. Но ведь «мерседесы», даже подержанные, покупают не с институтских зарплат. У каждого времени свои герои. Нынче, выходит, такие. И первое, что делают, — всё, куда дотянутся, гребут под себя. Было нельзя, теперь можно.
Он глянул на Наташу. Приятная, в общем, девка. И хорошая. И знают друг друга, как два каторжника с одной галеры. Всегда немножко жалел, что нельзя. Но теперь-то… Позвать в субботу за город, дома сказать, что конференция…
Чехлов отвел глаза. Какой там за город! За город — это как минимум кафешка. А бабки? Бог даст, в понедельник дочка про них не вспомнит. А если вспомнит?
Позвонили. Трубку взяла Наташа — от директора передали, что в четыре собрание. Внезапное собрание ничего хорошего не сулило. Хотя, с другой стороны… Шевельнулась надежда: а вдруг их кафедру сдадут в аренду, зато деньги пустят им же на зарплату? Но надежда была лакейская, а, главное, глупая: если будут деньги, Маздаев купит себе второй «мерседес».
Собственно, дело было не столько в Маздаеве, сколько в директоре. Год назад, еще до всех маздаевских художеств, он сдал какому-то кооперативу огромный подвал. Сдал за гроши, а после каялся на ученом совете, охотно признавался в некомпетентности и обещал, что в следующий раз не промахнется. Все понимали, что лично он не промахнулся и в этот раз, но фактов не было, свидетелей не было, и даже маленькое сомнение прозвучало бы злобной клеветой. Потом директор возвысил Маздаева и этим как бы устранился от всякой хозяйственной прозы. Чехлову он был еще противней, чем даже Маздаев в своих красноголубых пиджаках.
Собрание открыл директор — уютный толстячок с ласковыми движениями и благодушной улыбкой. Тема — об экономическом положении института. Сообщение Маздаева.
На этот раз Маздаев вышел в песочном пиджаке, туфли на мощном каблуке приплюсовывали ему сантиметра четыре. Работа в институте, хоть и завхозом, Маздаева все же образовала, кое-каких терминов нахватался. Он говорил о ситуации, о конъюнктуре, которая сложна, но может улучшиться, и об изменении психологии, которое необходимо каждому. По уверенному тону было ясно, что сам он психологию уже изменил.
Это был театр абсурда. Абсурдно было уже то, что дурак говорил, а сто умных слушало. Он их учил! Но он ездил на «мерседесе», а Чехлов уже два года на трамвае — старый «москвичонок» сгнил до такой степени, что продать удалось за сущие гроши, покупатель, мужичок из автосервиса, вручая двести баксов, сказал, что платит не за машину, а за техпаспорт. Так что сейчас приходилось не только слушать, но еще и делать заинтересованный вид. Маздаев между тем решительно утверждал, что без реорганизации не обойтись, он подготовил предложения, но их еще надо проработать. Поэтому он предлагает принять решение в принципе, поручив руководству решить детали в рабочем порядке.
Чехлов хотел спросить, в чем будет заключаться реорганизация, но не решился. Решилась Портнягина, глупая громогласная баба, в былые времена незаменимая парткомовская активистка — ее обычно выпускали, когда срочно требовалось резать правду-матку. О том, что ее сектор ликвидируется, знал весь институт. В принципе польза от нее была нулевая, давно пора гнать — но сейчас все смотрели на нее сочувственно, боялись прецедента: если сегодня выгонят ее, кто знает, чья очередь следующая.
Портнягина спросила:
— А в чем конкретно заключается ваша реорганизация?
— Конкретно — в рабочем порядке, — стоял на своем Маздаев.
— А если вместо института откроют публичный дом, это тоже будет реорганизация? — пошла в атаку Портнягина. Идея явно витала в воздухе. В задних рядах кто-то осторожно захлопал, пряча ладоши за спинками стульев.
Маздаев воззвал к серьезности. Директор поспешил к нему на выручку. Широко улыбнувшись, он сказал, что идея Нины Игнатьевны с публичным домом интересна, но осуществить ее сложно, так как придется набирать контингент со стороны, ибо раньше, приглашая сотрудников, он не предвидел в будущем такой специализации института. Он же как директор предпочитает сохранить тот коллектив, какой есть. В конце концов, у каждого свои проблемы, семьи и не заботиться о людях, вместе с которыми пройден немалый путь, нельзя.
— Рынок рынком, но ведь и коллектив остается коллективом, и его надо беречь, — уже серьезней закончил директор и попросил Юрия Георгиевича продолжать.
Все понимали, что директор лицемерит, что плевать ему на коллектив, что вот уже год он раскатывает по заграницам, словно какой-нибудь президент, вместе с женой, что суточных ему выписывают по двести долларов на день, хотя за гостиницу всегда платит принимающая сторона, и что подарки туда он везет за счет института, а ответные дары нагло тащит домой. Но слова про коллектив, который надо беречь, звучали успокаивающе, и зал встретил их сочувственным шумком. Сам Чехлов вдруг обнаружил, что одобрительно кивает, запрезирал себя, но кивать не перестал. Жизнь приучила.
Маздаев полистал бумажки, лежавшие перед ним на кафедре, выбрал одну и отставил подальше от глаз — он молодился и очки не употреблял, по крайней мере, на людях.
— Я хотел бы зачитать… — начал было он, но зачитать не успел, так как Портнягина громко выпалила:
— Не надо «мерседесы» покупать, тогда и коллектив будет!
В зале с удовольствием хихикнули: портнягинский выпад был, как всегда, бестактен и бестолков — но она заговорила о том, о чем другие молчали.
— Ну, друзья, — сказал директор и поморщился, — зачем же так. Вместе работаем, друг друга уважаем. И разговор серьезный.
Зал трусовато молчал. Молчал и Чехлов. Все же здорово они изменились за последнее время. Рынок положил равнодушную руку на горло прежней жизни, и все они эту руку ощущали. Конечно, та жизнь была убогая, голодная, тюремная — но каждый был уверен, что хоть тюремная пайка ему все же достанется. Как сложится теперь, не знал никто. Деньги стремительно дешевели, да и не было их — зарплату не привозили по два-три месяца. На ученых советах директор говорил, что деньги надо зарабатывать. Как зарабатывать, никто и понятия не имел. Вот и теплилась в ослабших душах хилая надежда, что директор с Маздаевым, хоть и откровенные воры, в новой реальности сориентируются, денег добудут и сослуживцам авось что-нибудь тоже перепадет.
— У вас все, Юрий Георгиевич? — не столько спросил, сколько подытожил директор.
Но Маздаев неожиданно запротестовал.
— Николай Егорович, я готов ответить. У меня тайн нет. Если товарищи интересуются, я всегда готов ответить.
И он принялся объяснять, что, во-первых, «мерседес» купил по дешевке, во-вторых, на собственные деньги, долги еще десять лет отдавать, а в-третьих…
В-третьих оказалось самым интересным.
— Вы думаете, мне нужен этот «мерседес»? Мне он сто лет не нужен, мне бы и «Оки» хватило. Но как вы думаете — если я приеду в банк на «Оке», мне кредит дадут? Партнеры со мной разговаривать станут?
Конечно, это была полная чушь. Все знали, что «мерседес» куплен не на свои, а на ворованные, причем украденные не где-то на стороне, а здесь же, в своем институте. Но поскольку Маздаеву никто не возражал, версия о лимузине, приобретенном в ущерб себе из альтруистических соображений, обретала законченность и как бы даже легальность. В результате портнягинская эскапада пошла начальству только на пользу: болтовня вокруг «мерседеса» съела почти все время, отведенное на собрание, и директор огорченно произнес, что, раз уж так вышло, вопрос о реорганизации придется перенести на следующее собрание. А потом буднично добавил, что вопросы, требующие быстрой реакции, можно будет решить в рабочем порядке с последующим утверждением на коллективе.
Все было предельно ясно и предельно цинично. В ближайшие же месяцы процентов двадцать сотрудников в рабочем порядке вышвырнут на улицу, на следующем собрании они уже не будут членами коллектива, и те, что останутся, тут же утвердят свершившееся, тайно радуясь, что выкинули не их.
О визите на кафедру южного человека не было сказано ни слова. Еще скажут, вдруг отчетливо понял Чехлов. Вот это как раз и будет — в рабочем порядке…
Бороться, бормотал он про себя, только бороться. Еще не хватало, чтобы ничтожный Маздаев решал его судьбу…
Ловить могущественного завхоза в коридоре было бы совсем уж унизительно, и Чехлов решил идти прямо к директору. Секретарши не было, он заглянул в кабинет. Там сидел один из замов, самый бесцветный — собственно, толстячок и подбирал их по бесцветности. Чехлов хотел прикрыть дверь, но директор жестом остановил:
— Борис Евгеньевич, прошу! Присаживайтесь — у нас секретов нет.
— У меня есть, — ответил Чехлов полушуткой: считаться с бесцветным замом было не обязательно.
Через пару минут они остались одни, и директор спросил, улыбнувшись:
— Так какие секреты?
Чехлов рассказал о южном человеке с его идеей пробить стену. Директор слушал с сочувственным вниманием и даже переспросил недоуменно:
— Стену пробить?
Чехлов не сомневался, что толстячку все давно известно, наверняка сам же и велел Маздаеву подыскать денежного постояльца, умеющего ценить хорошее отношение, а теперь просто ломает комедию. Но выхода не было, приходилось ту же комедию ломать и самому — рассказывать как бы новость и реагировать на директорское как бы возмущение. Потом толстячок вызвал Маздаева и учинил ему как бы разнос, спросив строго:
— Юрий Георгиевич, это кто у нас там собирается стены крушить?
Однако Маздаев проявил мужество, отмел иронию и твердо заявил, что крушить стены не собирается никто, а вот улучшить планировку первого этажа намерена коммерческая структура, которая согласилась при будущем неизбежном ремонте обветшавшего здания выступить в роли почти бескорыстного спонсора. Из трехсот сорока метров первого этажа структура претендует лишь на восемьдесят, тогда как прочие кандидаты не соглашались меньше чем на сто двадцать. В изложении Маздаева косноязычный южный человек выглядел меценатом и благодетелем, озабоченным лишь тем, чтобы спасти институт.
— Это какие же восемьдесят метров? — наморщил лоб директор.
— Часть коридора и шестой кабинет.
Шестой кабинет как раз и занимал Чехлов.
— Но ведь там пока люди работают! — возмутился директор. И по этому «пока» Чехлов понял, что разговор бесполезен.
Надо было повернуться и молча уйти. Но сработала инерция, и Чехлов жалобно-скандальным тоном стал быстро говорить, что так не поступают, что на кафедре пять человек, у всех семьи, уже три месяца не выдают зарплату…
— А вот это безобразие! — прервал директор. — Юрий Георгиевич, извините, но это безобразие. Люди работали, зарплата начислена — а ее не платят! Так нельзя. Извините, но это уже за гранью добра и зла.
— В кассе нет денег, — твердо возразил Маздаев.
— Но людям же надо жить! Людям надо питаться! Детям не объяснишь, что в кассе нет денег.
— Николай Егорович, вы должны понять…
— Я ничего не хочу понимать, — вальяжно гремел директор, — я хочу, чтобы Борис Евгеньевич получил заработанные им деньги.
— Тогда вы не получите отпускных, — рассердился Маздаев.
— Хорошо, — принял вызов толстячок, — согласен. Я не получаю отпускных. Но чтобы в понедельник Борису Евгеньевичу полностью выплатили за три месяца. И насчет этой стены… Юрий Георгиевич, подумайте еще раз.
— Я думал уже сто раз, — раздраженно ответил Маздаев.
— Я же не прошу вас сделать невозможное, — повысил голос директор, — я просто прошу подумать.
Маздаев промолчал, но лицо у него было презрительное…
Уже в коридоре Чехлов оценил происшедшее. Суть была ясна — выгнали. Выгнали, а вслед швырнули им же заработанные деньги, на треть усохшие из-за инфляции. Суки!
Видно, они с Наташей за три года совместной работы здорово унифицировались, потому что на новости она реагировала точно как он:
— Суки!
— Хоть деньги отдадут напоследок, — попробовал утешиться Чехлов.
— На похороны…
Говорить больше было не о чем, все ясно. Чехлов молча прикинул, на сколько хватит тех денег. Месяца на два, ну на три, если ужаться. А потом?
Вот этого он не знал.
Формально еще ничего не случилось, приказ не был вывешен, наверное, не был даже сочинен. Но что-то непоправимое уже произошло. И кабинет, в котором он сидел, был уже не кабинетом, а квадратными метрами под торговую точку. И Наташа, его помощница, его помощницей уже не была. На спасательном плотике нет ни капитана, ни матросов — только потерпевшие кораблекрушение.
— Что думаешь делать? — спросил Чехлов почти автоматически — даже бессмысленный вопрос был лучше угрюмого молчания. Наташа пожала плечами, глянула в потолок и лишь потом ответила:
— А фиг его знает! За город поеду.
— Зачем? — не понял он. В голове мелькнул совсем уж дикий вариант: неужели решила менять город на пригород с доплатой?
— А так, — сказала Наташа, — душу успокоить. Я всегда в выходные за город мотаю. Место одно знаю на Волоколамке, туда автобус ходит — лес, река и ни одной рожи. Там полянка есть, от остановки метров сто, а пусто — хоть голяком загорай.
Это не прозвучало приглашением, но вполне могло им оказаться. Напроситься в компанию, мотануть вдвоем на ту полянку, прихватить бутылочку… Загар голяком как бы обещан, а все прочее вытекает само собой. Мысль была продуктивна, но нужное настроение не возникло, в башке было иное. Какая там полянка! Ну дадут эти гады в понедельник зарплату — а потом? Деньги кончатся — а дальше? Наташа, может, и могла себе позволить пару месяцев отдохнуть, осмотреться, поискать — молода еще, авось родители прокормят. У Чехлова, семейного мужика, такой возможности не было. Достань, где хочешь, заработай, укради — но в их семейной копилке, Анькиной косметичке, должно хоть что-то лежать.
Вечером жена задала тот же самый вопрос:
— А дальше?
— Надо что-то придумать, — беспомощно ответил Чехлов.
Жена усмехнулась. Она и прежде-то не видела в Чехлове хозяина жизни и опору семьи, но ценила его регулярную зарплату, в два раза превосходившую ее собственную, прочное, казалось, положение, возможную перспективу — ее устраивала жизнь интеллигентной семьи, когда хватало и на еду, и на приличную одежду, и на бутылку вина, если требовалось принять гостя, и даже на отпуск у моря. Жили, как все, не выделяясь, защищенные этой обыденностью. И лишь теперь стало ясно, как хороша, как надежна была эта скромная жизнь.
Но это Чехлову стало ясно. Анна житейскую драму явно восприняла поверхностно. Ну, сложности на службе. В первый раз, что ли? Как-нибудь, да утрясется. В конце концов, до сих пор сложности на собственной службе каждый сам и утрясал…
Время, однако, было ужинать. Они и поужинали жареной картошкой с сардельками, попили чай, посидели у телевизора. Новости в ящике были всякие, но ни одна из них Чехлова даже косвенно не касалась. Наверху дрались за власть, внизу просто дрались, уже привычно было видеть на экране пожилых штатских мужиков с оружием. Свой прогноз на будущее давал экономист, потом астролог, скорей всего оба врали. В принципе Чехлов не был пессимистом, он и сейчас считал, что в такой здоровенной стране, как Россия, когда-нибудь общая жизнь непременно наладится. Но то — общая. Но вот лично Чехлову ни экономист, ни астролог не обещали ничего.
— Суки, — сказала вдруг жена без всякой связи с экраном.
Уже в постели она снова спросила, что дальше. И опять он ответил, что надо что-то придумать. Он, к сожалению, точно знал, что сам ничего не придумает, просто потому, что раньше не приходилось, опыта такого не было. Не в ту сторону мозги вертелись. Дураком Чехлов не был, это точно. Но чтобы придумать, нужны были другие мозги. Совсем другие.
Из всех знакомых такие мозги если и были, то, пожалуй, только у одного человека…
У Чепурного отозвался автоответчик, сперва по-русски, потом по-английски, еще и музычка включилась. Чехлов решил, что дело гиблое. Но неожиданно Чепурной отзвонил тем же вечером. Чего надо бывшему сослуживцу, не спросил, и Чехлов с благодарностью подумал, что Валерка все же человек: вполне мог бы и послать, и просто не откликнуться. Конечно, в былые дни они приятельствовали — но именно приятельствовали, а не дружили, хотя и в преферанс поигрывали вечерами на кафедре, и не одну бутылку случилось споловинить или строить. Но потом вышло не очень гладко, и вина в том была, пожалуй, все же Чехлова. Чепурной домучивал кандидатскую, в науке не блистал, но парень был компанейский и услужливый, такие в любом коллективе нужны. Чехлов относился к нему с симпатией, но сверху вниз. Причина была по нынешним временам смехотворна: у Чехлова в зарубежных журналах напечатали шесть статеек, а у Чепурного ни одной. Кому сейчас нужны эти статьи? Кому были нужны тогда? Но институтское общественное мнение десятилетиями оценивало коллег по иноязычным публикациям, и согласно этой табели о рангах Чехлов относился к Чепурному, как майор к ефрейтору.
Когда пошли новые веяния, Валерка неожиданно бросил институт и ушел в какой-то кооператив по обивке дверей, что узналось случайно и было воспринято с брезгливой жалостью. Просто зарабатывать деньги тогда считалось неприличным, а за обивкой дверей никакая глобальная идея стоять не могла.
Раза три они сталкивались у общих знакомых, однажды даже по старой памяти в картишки сгоняли. Но разговаривали о незначительном, обоим было неловко. Из круга общения Валерка быстро выпал, и вина Чехлова была в том, что не попытался его удержать.
А потом, столь же неожиданно, Чепурной пошел в гору, круто разбогател и стал мелькать среди представителей крепнущего российского бизнеса. Журналисты спрашивали его, как стране выйти из кризиса, и он объяснял. В телевизионном конкурсе подмосковных красавиц он был в жюри, вручал одной из длинноногих девок специальный приз, корейский телевизор, целовал ее в щеку и говорил, что, пока в России рождаются такие красавицы, державе ничего не грозит. Девка таяла от удовольствия, и было ясно, что если она с ним до сих пор не переспала, то в ближайшую же ночь это упущение непременно наверстает.
Строго говоря, никакая черная кошка между Чехловым и Валеркой не пробегала. Но ощущение все равно было довольно паскудное, будто когда-то не по делу нахамил, а теперь приходится идти на поклон.
Впрочем, чего там — он ведь и шел на поклон.
Валерка назначил встречу в ресторане. Чехлова это не напрягло: ресторан так ресторан, платить не ему.
В рестораны Чехлов не заглядывал года три, был уверен, что при нынешних ценах они пустуют, и очень удивился, что у входа была хоть и маленькая, но толчея. Но он заранее получил инструкции, сказал швейцару петушиное слово, и был очень предупредительно препровожден к Валерию Васильевичу в малый зал. Валерка сидел в тихом закутке за колоннами с двумя молодыми мужиками — один был амбал размером с ресторанный холодильник, другой поменьше, поджарый, но с глазами цепкими и беспощадными, как у бультерьера. Пока Чехлов шел к нужному месту, Чепурной шевельнул бровями в сторону, и парни молча переместились за соседний столик.
Поздоровались, поулыбались. Чепурной спросил:
— Что пьем?
— Что прикажешь.
— Цирроз не грозит?
— Пока бог милует.
Официант оказался у столика в тот самый момент, когда понадобился. Умеют, когда хотят.
Выяснилось, что никакая еда в России не пропала, даже бывший дефицит безотказно возник на столе: и икра, и балык, и грибы в сметане, и бараний шашлык пуховой нежности. Вообще, получалось, что сладкая жизнь, считавшаяся вечной привилегией партийной номенклатуры, никуда не девалась, она просто сменила хозяев. Валерка обошелся без тостов, так что и Чехлову пришлось прихлебывать обалденный коньяк буднично, словно и для него это было не событие, а рядовой ужин. Выпив, он осмелел, решил вести себя раскованно, и спросил, кивнув на соседний столик, где двое сидели за бутылкой минералки:
— А ребята твои не обидятся?
— Они на работе, — сказал Чепурной.
— От меня охраняют?
— От тех, что придут после тебя.
— Суровая у тебя жизнь, — шутливо посочувствовал Чехлов, с отвращением к себе услышав, как сквозь легкую иронию прорвалась подобострастная интонация. Проситель, он и есть проситель, и никуда это не спрячешь.
Чепурной спокойно объяснил:
— Здесь ведь тоже свой шаблон. Бизнесмен без охраны, как доктор наук без бородки.
— От моих наук, — сказал Чехлов, — считай, только бородка и осталась.
— Чего так?
— Закрывают кафедру.
Валеркино лицо ничего не выразило, и Чехлов пояснил:
— Помещение понадобилось. Как на грех, первый этаж. Стену пробьют, и получится вход с улицы. То ли магазин откроют, то ли бардак.
Вариант с бардаком был столько раз повторен в институтских разговорах, что стал почти реальностью.
Чепурной снова не среагировал. Говорить становилось трудно, а Валерка не помогал. Чехлов не стал лезть напролом, спросил:
— Ты-то как?
— Да нормально, — ответил тот холодновато, — теперь нормально. Я свою черную работу отпахал. Двери больше не обиваю. Хотя иногда жаль, хорошая была работенка. Сколько людей интересных повидал! Да и деньги приличные получались, до полтинника в день, теми еще деньгами. А бабу в кафе можно было сводить за четвертной. Хорошее было время! Вот когда свободно дышалось.
— Теперь сложнее? — сказал Чехлов, чтобы что-нибудь сказать.
— Да нет, и теперь не сложно, — безразлично отозвался Чепурной, — главное, закрутить дело, а дальше само катится. Ничего особо сложного нет. Ребята вон дорого обходятся, — он кивнул на соседний столик, — но они того стоят. Было двое, теперь восемь. Все равно мало.
— Рэкетиры донимают? — спросил Чехлов, поскольку умнее вопроса не нашлось.
— А чего им меня донимать? — возразил Валерка. — Я порядки соблюдаю. Я, может, и сам рэкетир. А что делать, если долг вынуть надо, а клиент упирается?
— Это понятно, — произнес Чехлов таким тоном, будто самому минимум раз в месяц приходилось вынимать деньги из должников, — у нас вот тоже вроде того. Три месяца зарплату не платят. Хоть сам рэкетиром становись.
— Ну и стал бы, — равнодушно посоветовал Чепурной.
Чехлов совсем растерялся — в нем быстро нарастало ощущение провала. То ли Валерка злился, то ли за что-то мстил, то ли просто надоел ему очередной неудачник, возмечтавший заразиться везением от чужих миллионов. Вот сейчас зевнет, встанет — мол, повидались, посидели, выпили, и гуляй!
Но Чепурной вдруг заговорил:
— Первый этаж сдали правильно. Другое дело, что жирный — вор. Так он и раньше был вор. А все терпели. И сейчас терпите. С такой компашкой, как в вашей конторе, надо быть или вором, или дураком. Так уж лучше вором. А сдать нужно не первый этаж, а все четыре. Прикрыть контору к такой-то матери. Там ведь не только эти, — он вскинул глаза вверх, — воры. Вы все там воры. И я был вор, пока с вами сидел. Ни хрена путного не делал, а бабки, хоть вшивенькие, но шли.
Чехлов уже понял, что ничего ему тут не светит, Валерка выпил, завелся и, как всякий выпивший человек, будет упорно и злобно стоять на своем. Раз назвал вором, значит, ты и есть вор. Ну и хрен с ним, вор так вор. Чехлов тоже выпил, тоже начинал заводиться, и ему было все равно, чем кончится. Скандал так скандал. Авось те два бультерьера не убьют. А на прочее плевать. Поужинал, как банкир, и на том спасибо.
Но тут Валерка внезапно успокоился, вздохнул и решил объяснить:
— Чего я от вас-то ушел? Думаешь, из-за денег? Хрена! Бабки я и там мог сделать, к тому все шло. Останься — сейчас, скорей всего, не Маздаев, а я бы вашу шарагу распродавал. Мне пожить захотелось по-человечески, понимаешь? Не кланяться, не зависеть, поохотиться на воле. Вот не вышло бы ничего — минуты не пожалел. Я ведь с этими дверьми впервые жить начал. Мужиком себя почувствовал.
Чехлов понял, что скандала не будет, стало проще, он искренне похвалил:
— Ты вовремя ушел, молодец. Мне, дураку, и в голову не пришло.
Странно — Чепурному словно бы не хватало этой чуть-чуть завистливой похвалы. Напряг спал, он заговорил легко, как приятель с приятелем:
— Понимаешь, идей у меня хватало, рынок был тогда просто роскошный, везде дефицит. Бабок не было! А опять идти в крепостные — ну вот так не хотелось. Я тогда делал бабки на всем, за что платят. Двери эти. Купи-продай. А с вечера еще и бомбил. Помнишь мой «жигуленок»? «Копейка» с одиннадцатым движком, вся в пятнах. Но — на ходу. Вот и калымил. Ночами вообще здорово шло. Опасно, конечно. Но я так рассудил, что бандюги на мою колымагу не польстятся. Через пол года открыл первую мастерскую, в гараже. Через год вторую, на две ямы. А через полтора уже ездил на БМВ. Если раскрутишься, дальше само покатится.
Он вдруг резко, без перехода, спросил:
— Ну так что у тебя?
Голос звучал деловито и трезво.
От неожиданности Чехлов замялся:
— Да вот видишь… Чего-то надо придумывать. В конторе глухо, считай, уволили, другого заработка пока что нет… — Он испугался, что Валерка поймет не так, и заторопился: — Мне не деньги нужны, мне совет нужен. Надо что-то делать, а что, не знаю.
— А денег я бы и не дал, — сказал Чепурной. — Ты не обижайся, но нищим я не подаю. Не потому, что жалко, а потому, что бесполезно. Прожрет и опять придет, и тебя же ненавидеть станет… У тебя тачка бегает?
— Я же продал, — развел руками Чехлов, — тогда еще продал. Очередь подходила. Ну а потом — сам знаешь: свободный рынок, ни денег, ни тачки. Сглупил, конечно, — но кто мог знать…
— Ну да, я помню, — поморщился Валерка. Он подумал немного и сказал: — В общем, у меня к тебе вот какое предложение. Та моя старая колымага так и стоит во дворе. Движок я успел поменять, тогда ездила, по идее должна и сейчас. Так что, есть желание, — садись за руль и начинай собственный бизнес.
— Какой бизнес? — не сразу понял Чехлов.
— Это уж как потянешь. Хочешь — к торгашу наймись, коробки возить, хочешь — на себя работай. Машина, она и дурака прокормит. А ты все же не дурак, ты доктор наук. Вот только бородку сбрить придется, бородка левакам не положена.
Чехлов не мог понять, травит Валерка или всерьез. Нет, вроде не шутил, нес свою чушь с непроницаемой мордой.
— Это прикинуть надо, — чушью на чушь ответил Чехлов, — сколько дашь на размышления?
— А сколько хошь! — беззаботно отмахнулся Чепурной. — Деньги есть — думай. Кончатся — приходи.
— О’кей, — улыбнулся Чехлов, попрощался и пошел к выходу.
В дверях зала пришлось остановиться, потому что навстречу шел толстый и неопрятный парень лет тридцати в какой-то дурацкой вязаной кофте. Шел, не глядя ни по сторонам, ни вперед, будто был заранее уверен, что если дорога перед ним и занята, то наверняка освободится. Она и освободилась — Чехлов вон тоже торопливо отступил в сторону: подействовала и уверенность парня в кофте, и то, что за толстым неряхой шли двое очень аккуратных в костюмах и при галстуках, с вежливыми внимательными глазами. Видимо, в их обязанности входило строго блюсти ресторанный этикет, а хозяин мог себе позволить. Короли жизни, мать их!
Внутри было пусто и зябко. Когда звонил Валерке, почему-то думал — поможет. Хороший ведь был парень, свойский. Что делать, меняются люди. Ну и хрен с ним — одной иллюзией меньше.
Хуже всего было, что иллюзия эта — последняя.
Так вышло, что вот уже с полгода у Чехлова не было любовницы, и советоваться пришлось с женой. Она что-то вязала, в его слова не вслушивалась и лишь время от времени одобрительно кивала, чтобы не создавать напряжение в доме. Чехлов в очередной раз пожалел, что последняя его грешная подружка ныне вне досягаемости. Она не была умна, скорее, глуповата. Зато прекрасно слушала, горячо реагировала и была благодарна уже за то, что с ней серьезно разговаривают. К сожалению, на ней женился какой-то дурак-норвежец, они живут в маленьком городке под Осло, и теперь, вероятно, она слушает мужа, причем с благодарностью утроенной, ибо кто же еще станет с ней там говорить? Собственно, в иные времена и Анна была куда внимательней, когда вместе боролись за человеческую жизнь, копили на квартиру, когда детская коляска, новая рубашка и даже бутылка вина на субботу были событием и требовали детального обсуждения. Потом, однако, жизнь наладилась, особо обсуждать стало нечего, и привычка слушать друг друга отмерла сама собой. Но сейчас-то все изменилось!
Чехлов, разозлившись, сказал громко, с вредной, самому противной интонацией:
— В общем, в понедельник последняя получка.
Это жену наконец-то достало.
— Как — последняя? — сразу и удивилась, и возмутилась она.
— Так — последняя.
— Но почему? — Она уже отложила свои спицы.
— Я же тебе пять раз сказал: кафедру закрывают.
— Ну да, я слышала. Но при чем тут твоя зарплата?
— А кому я нужен без кафедры?
— Но ты же доктор наук.
— Еще не доктор. А хоть бы и доктор — ну и что?
Она вскинулась:
— Извини меня! Что же, по-твоему, человека могут взять — и на улицу?
— Да хоть на помойку. Социализм кончился: нужен — платят, не нужен — катись.
— Но должны же мы на что-то жить!
— А кого это колышет?
— Ну, знаешь…
Похоже, жена всерьез испугалась, и Чехлов малость успокоился. Слава тебе господи, не у одного болит голова.
— Надо что-то решать, — сказал он, — к завтрашнему дню у меня должно быть какое-то решение.
— Ну хорошо, давай обсудим спокойно…
Она уже включилась, и опять они стали чем-то вроде семьи.
В принципе Чехлов относился к жене хорошо, да что там, даже любил, заботился, как умел, и пару раз, когда ее терзали мигрени, он тоже, из солидарности, что ли, ощущал тяжесть в висках. Но за двадцать с лишним лет жизни вплотную многое приелось, в том числе и привычное тело рядом, которое все реже воспринималось как женское. Убогая формулировка «супружеские обязанности» то и дело приходила на ум, и выполнять их уже давно было скучно и чуть-чуть стыдно. То ли дело после азартной возбуждающей игры опрокинуть на спину новенькую девочку! Но в минуты, как эта, когда корабль давал угрожающую течь, они словно бы встряхивались и вновь становились матросами из одного кубрика.
— А ты уверен, что выгонят? — уже деловито спросила Анна.
— Процентов на девяносто.
— Тогда для начала дай им бой. Терять ведь нечего! Пойди и устрой скандал — вежливый, интеллигентный, но скандал. В конце концов, ты не мальчишка, тебя за границей знают. У тебя там шесть статей напечатано. Что твой директор — царь и бог? Соберись, пойди и напомни, кто ты. У тебя имя, тебе стыдиться нечего!
В эту ночь жена была старательна, как студентка-дипломница, самую нежную из программ она отработала так вдохновенно и бескорыстно, словно провожала его на смертный бой. Может, так оно и было?
Грозное указание директора Маздаев выполнил, Чехлов получил все деньги до копейки, и это придало ему дополнительной уверенности. При любой инфляции месяца на два хватит, а там видно будет.
Выходя из бухгалтерии, он столкнулся с секретаршей директора, и та, осторожно поманив его к окну, шепнула, что приказ о сокращении лежит на столе у директора, кадровик принес. Чехлова это не обескуражило. Во-первых, случилось то, чего и ждал, а, во-вторых, это еще не вечер: приказ еще не подписан, как на стол положили, так со стола могут и убрать. Анна права, терять все равно нечего. Значит — внутренняя свобода, если и уходить, то хлопнув дверью напоследок.
Видимо, по институту уже гулял слушок, с Чехловым здоровались участливо, но он, чтобы не смотреться жертвой, старался держаться независимо и даже победительно: он знал, что охотно помогают лишь тем, кто в помощи не нуждается.
Именно так, спокойно и независимо, он вошел в директорский кабинет. Обменялись рукопожатиями, улыбками. Директор смотрел вопросительно.
— Николай Егорович, — сказал Чехлов, — я опять по поводу кафедры.
Фраза была заготовлена заранее. Человек выглядит куда достойнее, если просит не за себя.
— Да, — вздохнул директор, — понимаю вас. Очень хорошо понимаю.
Он был лицемер, но не дурак, совсем не дурак. И своим сожалеющим вздохом как бы вернул Чехлова в его истинное положение. Но у Чехлова и следующая фраза была продумана.
— Естественно, институту нужны средства, — продолжил он неторопливо, не реагируя на коварный начальственный вздох, — рынок система жестокая. Но ведь нужна и репутация, без нее тоже никуда. Вот представьте: через полгода приезжает иностранная делегация…
Директор драматически всплеснул руками:
— Борис Евгеньевич, дорогой! Вы правы, тысячу раз правы. Конечно, приедут иностранцы… Да пусть не иностранцы, пусть кто угодно. Я же прекрасно понимаю, что вы, с вашей репутацией, с вашим иностранным, с вашим весом в науке… Но поймите меня, поймите наш ученый совет. Чтобы через полгода мы могли принять иностранную делегацию, нужно как минимум чтобы через два месяца нас не закрыли. У нас люди на голодном пайке! Нам за свет платить нечем! Не до жиру — быть бы живу…
Этот мерзавец любил поговорки.
В который раз Чехлов подумал с брезгливым уважением, что совковая воровская система умела подбирать кадры. Подлец на подлеце, пробы ставить негде — но дураки в номенклатуру попадали редко. Пока будущий функционер полз к желанному кабинету, он терял последние остатки совести, зато приобретал обтекаемость, лоск и тараканью живучесть. Вот и толстячок никогда не срывался, не повышал голос и ни на одном собрании не оставался в меньшинстве. Он и сейчас держался так доброжелательно, словно Чехлова не увольнял, а приглашал на работу.
— Я все понимаю, — кивнул Чехлов, — момент сложный, даже трудный. Но мне всегда казалось, что наша кафедра не худшая в институте, что если нас и сокращать, то уж никак не в первую очередь.
— Вы не представляете, какой мне пришлось выдержать бой, — теперь уже директор искал у Чехлова сочувствия, — думаете, я им не объяснял? К сожалению, я всего лишь директор, а не диктатор. — Он развел руками, но тут же вскинулся: — Борис Евгеньевич, а давайте сделаем знаете что? Давайте вынесем ваш вопрос на ученый совет отдельно. Решали в принципе — а теперь вынесем отдельно. Откровенно говоря, стопроцентной уверенности у меня нет — но вдруг ваши аргументы их убедят?
Он смотрел на Чехлова открытым честным взглядом. Бог ты мой, какой же подлец! Вынести на ученый совет… Да они утопят Чехлова, не поморщившись, а его зарплату перекинут себе на премии. Ведь и раньше бывали сокращения — а кто протестовал? Радовались, что сами уцелели. Чехлов, правда, тоже молчал. Но ведь почти всегда сокращали, если честно, действительно балласт, дураков и лентяев, никому не нужных ни в институте, ни вне его. Но он-то, Чехлов, не мальчишка, его знают за границей, у него там…
— В конце концов, я не мальчишка, — сказал Чехлов, — меня знают за границей, у меня там шесть работ напечатано…
Директор вновь вскинул короткие ручонки — сегодня он просто кипел идеями:
— Борис Евгеньевич, а вы знаете, что надо сделать? Извините за непатриотичный совет, но почему бы вам не поработать годик за границей? Вас там знают, вас там печатают, наверняка и предложения были. Годик поработаете, наберетесь впечатлений… А у нас тем временем утрясется — вернетесь на белом коне!
Поймал, безнадежно понял Чехлов, все-таки поймал, подлец…
Чехлов постарался наморщить лоб. Слушалось лицо или нет, он уверен не был.
— Хм… Пожалуй… В голову не приходило, но вообще-то… Из Германии писали, из Голландии…
Только в коридоре он отпустил лицо на свободу. Еще одно унижение. Не слишком ли много за последнее время? Нет, надо что-то делать. Что угодно, только не так, как сейчас. Хватит. Что угодно, только не это.
Суки…
Что делать дальше, Чехлов не знал, голова была пустая. Надо было хоть как-то собраться — а как? От полной безнадеги зашел в кино и два часа тупо глядел на экран, где пили, дрались, трахались, грабили банк, после чего снова пили и трахались — кто с кем, он не понял, потому что за действием не следил.
Жена ждала. Он коротко сказал, что ничего не получится, уже решено: первый этаж продан, и с этим ничего не поделаешь. Анна почувствовала, что он не в себе, и в детали не лезла. На сей раз засыпали буднично, каждый носом к своему ночнику. Насколько хватит этой вшивой зарплаты, думал он, если предельно ужаться? Ну на два месяца. Ну на три. А потом? Жена прикоснулась к его локтю, и Чехлов понял, что она готова его утешить, хотя бы помочь сбросить напряг. Но даже тени желания не возникло, ничто не шевельнулось ни внутри, ни снаружи. Он подавленно подумал, что мужик без денег уже наполовину импотент…
К черту! Менять, все менять. Вот только — как?
Суки…
«Жигуленок» нормально завелся и нормально поехал — больше ничего хорошего о нем сказать было нельзя. На лобовом трещина, на правом крыле вмятина, на левом ржавое пятно. Передний бампер извилист, как лекало. Зато шины почему-то были как новые.
Чепурной, поймав его взгляд, подтвердил:
— Новые, новые. И колодки новые. И тормоза проверены. И бак под завязку.
Странно, но Валерка, похоже, жил в старой своей пятиэтажке, по крайней мере «жигуленок» стоял в прежнем дворе. С рестораном, иномаркой, на которой подъехали, и другой иномаркой, с охранниками, это не сочеталось. Или переехал давно, а дряхлую тачку, где стояла, там и бросил?
— Зверь, а не машина, — ухмыльнулся Чепурной, — парни подготовили к новой жизни. Ну что — поехали в офис?
— Если надо…
— А как же! Новую жизнь полагается обмыть. Событие, мать твою. Наконец-то на старости лет трудовую жизнь начинаешь.
— Пора, — мрачновато согласился Чехлов. Он, конечно, понимал, что Валерка развлекается, отводит душу перед тем, как поговорить по сути. Но тут ничего не поделаешь, жизнь такая, мать ее и так, и эдак, и по-всякому. Пару лет назад право развлекаться было у Чехлова, а сейчас перешло к Чепурному. Такая сейчас житуха: у кого деньги, тот и развлекается. Впрочем, Валеркины фокусы Чехлова не напрягали, он и мрачность-то напускал для понта — подыгрывал. Хрен с ним, пусть порезвится. Важно, чтобы с работой помог, остальное переживаемо. Все, что угодно, лишь бы никогда больше не кланяться сладкому короткорукому толстячку, вору, мрази, суке. Самое паскудное из унижений — безрезультатное…
Валеркин офис выглядел впечатляюще: десяток комнат, кабинет с тяжелой мебелью, обеденный зал в теплых тонах и целых две спальни. Зачем они в офисе, Чехлов спрашивать не стал, — спальни лишними нигде не бывают. Начало трудовой жизни обмывали не в зале, а в особой комнатке за кабинетом. Судя по Валеркиным извинениям, харч полагалось считать скромным: рыбка, колбаска, сырок, ваза фруктов и фляжка коньяка.
— Мне еще работать, — объяснил Валерка, — да и тебе небось.
Чокнулись без тоста, закусили.
— Значит, так, — сказал Чепурной, — машину я тебе сдаю в аренду. Платить будешь… ну, допустим, тридцать зеленых в месяц.
— Да ты что, — растерялся Чехлов, — где же я их возьму? Я же сказал: меня уволили.
— За два дня сделаешь, — отмахнулся Чепурной, — на колесах это не деньги. Первый месяц бесплатный, на учебу. Второй тоже бесплатный — практика. Инструктора нанимать не стану, но советами обеспечу. Только слушай, старик, очень внимательно, теперь это твой хлеб.
Чехлов сделал ему приятное: деловито напряг лоб.
— От клиентов не отказывайся, — сказал Чепурной, — какой ни есть, все в кассу. Но очень пьяных не бери, потом машину отмывать — себе дороже. Лучший клиент иностранец, особенно если в Москве впервые: ломи четыре цены, три даст. А вот из соотечественников самое милое дело возить блядей — и не опасно, и платят по-людски. Им цену можешь не называть, сами все знают. Бляди вообще народ правильный: и сами зарабатывают, и другим дают. Черных, в смысле кавказцев, не бойся, но ночью бери только одного, и садится пусть рядом, а не сзади. Самые выгодные концы — в аэропорт. Но учти — там мафия. Туда вези спокойно, а обратного ловить лучше не рискуй: шины порежут. Встань подальше, за автобусной остановкой, там можно. Если дальний конец, в Балашиху, в Зеленоград, особенно ночью — бабки вперед, а то нырнет там в подворотню, ищи потом. Если слишком много сулят, не жадничай, откажись: завезут в глухой двор, а там уже ждут.
— Машина не застрахована? — спросил Чехлов.
— На хрена тебе страховка?
— А разобью?
— Ну и хрен с ней, умерла естественной смертью. В суд на тебя не подам и рэкетиров не пришлю. Но лучше не разбивай, хотя бы год. А через год новую купишь. Ну чего — еще по наперсточку?
Они снова чокнулись. Валерка посмотрел на Чехлова, усмехнулся:
— Ты чего думаешь, мне твои вшивые баксы нужны? Мы их с тобой за вечер пропьем, еще и добавить придется… Я тебя от благодарности избавляю. На общих, так сказать, основаниях… И вот еще: бородку убери сразу. У водилы лицо должно быть неузнаваемое, без примет. На всякий случай — мало ли что…
Он задумался на мгновенье, после вышел в кабинет, громыхнул там ящиком стола и вернулся с маленьким баллончиком аккуратной импортной работы, с удобной выемкой для пальца.
— Держи игрушку, — сказал он, — полезная вещь. Мне ни разу не понадобилась, бог даст, и тебе не пригодится — но уверенности придает.
Чехлов поблагодарил и сунул баллончик в карман. Он решил делать все, как говорит Валерка. Прикалывается — ну и хрен с ним. В любом розыгрыше главное — сохранять серьезный вид. Тебя разыгрывают, и ты разыгрываешь — все нормально. Главное, не лезть в бутылку. Хохмит, валяет дурака — и пусть. Важно, что ниточка не рвется. Ясно было, что Валерка может многое, очень многое — вон ведь офис какой отгрохал! Тут, по крайней мере, есть перспектива, а в других местах не светит ничего. В конце концов, приколы век не длятся: ну, поиграют в эту глупость месяц-другой, все равно, рано или поздно, дойдет и до серьезного разговора.
Они вернулись в кабинет. Чепурной, порывшись в столе, вынул техпаспорт, потом, чуть подумав, достал и права:
— На. Доверенность тебе сделают. А пока, чтоб время не терять… Менты в карточку не вглядываются. Тем более побреешься — будешь на меня похож. Все умные люди похожи.
— А тебе не нужны?
— У меня еще пара есть, — сказал Валерка, — права выгодней покупать оптом. Пьющему человеку лишние права никогда не помешают.
И опять Чехлов понимающе кивнул. Хотя знал, что пьющим человеком Валерка не был никогда. Раньше просто старался соответствовать компании. А сейчас, хоть рюмку поднимал, она почти не пустела. Но, видно, и у миллионеров есть свои обязанности: хочешь не хочешь, а выпадать из легенды нельзя. Офис, машина стоимостью в квартиру, бультерьеры по бокам, парочка любовниц позаметней — видно, без этого невозможно, как министру без дачи в Жуковке, а генералу без погон. Готовность раздавить бутылочку — из того же набора: в России трезвенник подозрителен…
Выйдя от Валерки, Чехлов машинально отогнал «жигуленка» за квартал и прижал к тротуару. Надо было навести порядок в мозгах. Валерка развлекался, Чехлов развлекался — а теперь вот сидит за рулем чужой колымаги и надо что-то делать. Что?
В принципе, ничего страшного, сейчас многие левачат. Тоже заработок. Но не говорить же Анне! Нет, Анне говорить не надо. И, вообще, никому не надо. А что делать? Побриться — это придется, прикол есть прикол. Недельку покалымить тоже не помешает, хоть посмотреть, что это такое. А там видно будет, может, Чепурной сам позвонит. Побриться надо, это да. Дома. В парикмахерской небось куча денег, а их кот наплакал…
Он включил поворотник и осторожно тронул машину в сторону дома. Но тут в стекло постучали. Чехлов тормознул. Кавказский человек пригнулся к стеклу:
— До вокзала. Штука.
Чехлов растеряно медлил, и тот торопливо накинул:
— Полторы.
Не дожидаясь ответа, он открыл переднюю дверь.
Ехать было близко, квартала три. Кавказский человек кинул на сиденье деньги и побежал на Курский вокзал. Чехлов пересчитал бумажки — все точно, полторы. Цена была дурная — за пять минут его трехдневная зарплата. Бывшая зарплата.
Вот и состоялось. Водила…
Он поехал к дому. Но за первым же углом вскинула руку бабенка в легком платье. Чехлов среагировал с опозданием, но бабенка соображала быстрей — догнала тормозящую машину:
— Ясенево.
Эта о плате не говорила, и он рядиться не стал, стыдно было, да и не знал, как это делается. И потом — сколько просить?
Конец был длинный, почти до Кольцевой. Дорогой лениво поговорили о ценах, как они все скачут, не уследишь.
— Раньше штука была деньги, — сказала бабенка, — а теперь — тьфу…
Тем не менее она дала ему именно штуку.
Чехлов, малость поплутав, вырулил на проспект. Он не знал толком — то ли он дурак, то ли так и надо. За три квартала полторы, за пол Москвы — тысяча. А хрен его знает, какие сейчас цены! Сам он уже года три на такси не ездил и леваков не брал.
Ладно, все больше, чем в конторе, успокоил он себя.
Дома жена уставилась на него, даже рот приоткрыв от напряжения. Чехлов пожал плечами и сказал, что пока ничего не ясно, но вроде что-то наклевывается, и даже деньги обещают платить.
— Что значит — деньги? — спросила жена.
— Понятия не имею.
— А работа какая?
— Что-то вроде консультанта. Пока велели осваиваться, — отмахнулся Чехлов и веско добавил: — Хуже, чем в нашей богадельне, точно не будет.
— А как принял?
Тут уж, слава богу, можно было сказать чистую правду:
— Даже коньяком напоил.
Успокоить себя было гораздо труднее, чем Анну. Чехлов чувствовал себя, как Адам, вышвырнутый из рая. «Богадельни» с ее привычным укладом, скромной, зато ежемесячной зарплатой и блаженной безответственностью больше не существовало — на этом кораблике плыли более везучие коллеги, довольные, что это не их смыло волной. Его судьба, увы, зависела сейчас только от Валерки, и кто знает, какое настроение будет у него завтра. Спокойнее было о Чепурном плохо не думать — он и не стал. В конце концов, нормальный мужик, не такой уж и плохой, мог просто послать — а ведь не послал. Раз начал с Чехловым возиться, значит, имеет какие-то виды. Нынче без испытательного срока и дворником не возьмут. В конторе ведь тоже бывали дурацкие периоды, например загоняли на месяц в колхоз, и надо было это время перетерпеть. Вот и теперь придется перетерпеть…
Утром он сбрил бороду. Лицо в зеркале изменилось, стало проще, и он сразу подумал, что с институтскими лучше не встречаться. Впрочем, встречаться с ними не стоило по разным причинам.
Жена удивилась:
— С чего это вдруг?
— Надоела, — сказал Чехлов, — да и зачем она? Я больше не пан профессор. — «Пан профессор» была его домашняя кличка. — А что, хуже смотрюсь?
— Да нет, смотришься ничего, даже моложе, — пожала плечами Анна, без особой, впрочем, радости — моложавость мужа могла добавить проблем.
Чехлов постарался успокоить:
— У эстрадников это называется «сменить имидж». Новая жизнь — новый имидж.
Новой жизни у него пока что не было. Но и старой не было. Промежуток, лестничный пролет. Сегодня — круто вниз. А как завтра, станет понятно завтра — если станет…
Во дворе он завел «жигуленка», отъехал подальше от дома, а там уже стал в правый ряд, сбросил газ и медленно покатил вдоль тротуара. Остановил какой-то малый с мешками.
— Штуки хватит?
Чехлов кивнул. Видимо, штука была чем-то вроде стандартной цены.
Потом он подвез еще нескольких. Заметив вскинутую руку, прежде всего внимательно вглядывался в лица: главным было не напороться на знакомого. Москву он знал так себе, приходилось спрашивать дорогу. Тормознув у газетного киоска, купил карту города, с ней стало полегче. Часам к семи вернулся домой. Перед тем как закрыть машину, пересчитал деньги. Да, лекциями он столько не зарабатывал. Что ж, месяц, даже два можно побаловаться. Валерка развлекается, вот и он развлечется. Здесь, по крайней мере, зарплату не задерживают.
Еще была проблема — отмахнуться от Анны.
— Ну как, консультируешь? — поинтересовалась она.
— Консультирую, — усмехнулся Чехлов, самим тоном подчеркивая анекдотичность ситуации.
— Но что ты там можешь консультировать? У него же какая-то фирма.
— Бумажки читаю.
— Какие бумажки?
— Всякие. Бухгалтерские…
К этому вопросу он не готовился.
— А что ты понимаешь в бухгалтерии? Тебя не подставят?
Вопрос был резонный, но Чехлов уже начал раздражаться:
— Кто подставит? И как? Я грамотен, а они нет. «Корову» пишу через «о» — вот и все мои консультации.
Это прозвучало убедительно, и жена отстала. А дальше как, думал Чехлов, так и придется врать каждый вечер? Ну в конторе врали, так на то она и контора. Но дома-то хоть можно отдохнуть!
Пожалуй, это и было тяжелей всего — необходимость врать дома. Но и правду сказать собственной жене тоже было нельзя. С молодых лет, с института они оба с Анькой существовали в среде, где очень уважалось умение работать руками, хоть обои клеить, хоть табуретки сколачивать. Но вот зарабатывать руками — это было не принято. Не принято, и все. Без оговорок. Без исключений. И нынешний его заработок, даже очень приличный, разом опускал его на несколько социальных слоев. И ее опускал. Она привыкла быть женой «пана профессора», а вот «пана калымщика»…
— А вообще чем они там занимаются? — В голосе Анны было обычное бабье любопытство.
Чехлов сказал с расстановкой:
— Откуда я знаю? Там целый холдинг, десяток направлений, сотни людей. Мне дано ровно два месяца, чтобы присмотреться. Вот я и буду присматриваться. Это малоприятный период. Ты можешь предложить что-нибудь лучшее? И я не могу. Значит, придется перетерпеть.
Неприятный разговор оборвала откуда-то вернувшаяся дочка — от нее чуть-чуть пахло вином и сильно сигаретами. А что поделаешь, взрослая баба…
Утром настроение было паршивое, и Чехлов, уже включив двигатель, минут пять успокаивал себя. Проще всего было разозлиться на Чепурного, но от этого стало бы еще хуже, и Чехлов Валерку оправдал. В конце концов, тот имеет право знать, на что способен бывший сослуживец. Имеет право проверить. Черт его знает, чем он там занимается. И черт его знает, какие у него виды на Чехлова. Втягиваться в любое дело трудно. Значит, надо терпеть.
Чехлов и терпел. Тем более что терпеть оказалось довольно интересно.
Главным открытием стало, что жизнь не остановилась. Все так же люди хватали частников, и деньги отсчитывали без проблем, и рука у них при этом не дрожала, как прежде не дрожала у Чехлова. Разница, пожалуй, была лишь в том, что раньше возили Чехлова, а теперь возил он.
До обеда Чехлов подвез семейную пару, потом чиновника, который опаздывал. Называть цену у Чехлова так и не получалось, сколько давали, столько и брал.
Давали, однако, прилично. Валерка назначил за аренду тридцать долларов, а тут (Чехлов мысленно перевел рубли в деньги) за три неполных дня вышло сорок. Правда, бензина в баке убыло, завтра, пожалуй, придется заправиться. Но ведь сорок за три дня! В институте за месяц ему платили семьдесят.
А вечером произошло событие, круто изменившее, пожалуй, даже повернувшее его жизнь.
Невысокий паренек выскочил на мостовую, замахал свежей лапкой, чуть не лег на капот:
— Батя, прямиком, до «Паласа». Полторы штуки.
Мальчишечка был совсем молод, лет семнадцати, розовенький, светлые волосенки. На легкой кожаной куртке шикарный, красный с золотом, герб.
Ехать было всего ничего. Чехлов приоткрыл дверцу. В конторе полторы штуки почасовикам шло за пять лекций.
— Рандеву, понимаешь, — объяснил клиент, усаживаясь.
— А ресторан не слишком дорогой? — поддержал разговор Чехлов.
— Не дороже денег! — ответил паренек. — Девок, батя, надо кормить дорого. Деньги потеряю — время выиграю. А время, батя, тоже деньги.
— Так ведь, чтобы тратить, надо иметь, — то ли констатировал, то ли спросил Чехлов.
Юный собеседник довольно усмехнулся:
— Так вот я как раз и имею.
— Значит, тебе повезло, — отозвался Чехлов независтливо и простовато, как и положено простому шоферюге.
— Везет, батя, — произнес мальчишечка назидательно, — тому, кто везет. Я вот в том году по пятнадцать часов в сутки ишачил. Но это даже не главное. Мозги нужны! Без мозгов, батя, нынче никуда.
— Это верно, — со вздохом кивнул Чехлов, — а ты по специальности кто?
Паренек важно ответил:
— По специальности я, батя, предприниматель. Бизнесмен. Киевский вокзал знаешь — где пригородные электрички?
— Конечно, знаю.
— Там пацаны с лотков торгуют. Сосиски с горчицей и прочее. Восемь точек, и все мои. Два года на хозяина горбатился, а теперь сам хозяин.
— Надо же! — вежливо удивился Чехлов. — А на вид школьник.
Парень засмеялся:
— А я и есть школьник. Экстерном заканчиваю, через неделю аттестат. Две четверки для приличия, остальные пятерки.
— Когда же ты успел?
Парень снова засмеялся:
— А учителя что, не люди?
У ресторана он достал обговоренные полторы штуки и, чуть помедлив, кинул сверху еще одну:
— Держи, батя! Удачи тебе.
В ближайшей стекляшке Чехлов взял бутерброд с колбасой, сладкую булку и бутылочку «фанты». Сел за столик. Задумался.
Голова была абсолютно ясная. Жизнь, еще какой-нибудь час назад хаотичная, страшноватая и несправедливая, теперь казалась гармоничной и почти полностью разумной. Да нет, просто разумной. Да, она такая. А кто сказал, что она должна быть другой? Допустим, он хорошо учился, защитил кандидатскую, практически защитил докторскую. И что? Почему он решил, что именно эта дорога ведет к храму — дорога, по которой приходилось двигаться наверх чуть ли не ползком, завися от кучи неприятных, бездарных и нечестных людей? Ему что, на роду было написано заниматься испанской лингвистикой, проводить заседания кафедры, редактировать ученые труды, издававшиеся крохотным тиражом за счет авторов, которым были нужны публикации для защиты, все равно какие и где? Чем хуже него этот смешной мальчишка, наверняка купивший аттестат, но зато смотрящий на жизнь незамыленными глазами, прекрасно понявший ее простое устройство и за каких-нибудь два года заработавший право уверенно ловить левака, водить девочек в дорогие рестораны и щедро давать на чай «пану профессору»?
Чехлов съел свой бутерброд, съел булочку, выпил «фанту». Бог ты мой, каким же слепым он был, каким трусливым, да и просто неумным. Торчал в своем институте за обшарпанными стенами и считал, что жизнь его идет правильно и достойно, вот только платят мало. А может, правильность и достойность как раз и заключаются в деньгах? Ведь зачем-то их придумали люди? Зачем-то уважают во всех нормальных странах?
В последние годы больше всего времени он проводил в институте, общался в основном с институтскими, ну еще кое с кем из старых знакомых. Все они жили примерно одинаково и на жизнь смотрели одинаково. Привычный мир небыстро, но неотвратимо разрушался, и самым важным было хоть как-то удержаться на своих спасательных плотиках. Если же кто-то не удерживался, он просто выпадал из круга, ему сочувствовали, но помочь не могли. И Чехлов, как все, держался за прежнюю работу, за институт, потому что больше держаться было не за что. Но нескольких дней за рулем хватило, чтобы уразуметь нечто неожиданное. А именно: жизнь вовсе не рухнула и не рушится, даже хуже не стала, а в чем-то намного лучше. Магазины полны товара, рынки тем более, сплошной дефицит, казавшийся неискоренимым, как-то незаметно улетучился, на леваков стабильный спрос. Говорят, народ обнищал, стон по всей стране. Да, какой-то обнищал — например, они с Анькой. А другой народ, наоборот, разбогател — тот народ, который взмахом руки тормозит его у тротуара. И весь этот народ, вплоть до сегодняшнего щедрого мальчишечки, вовсе не стонет, а вполне уверенно смотрит в будущее. Всем хорошо не бывает, да и не было никогда. Просто произошло что-то вроде революции, страну перетряхнули, и те, кто не имел чинов и званий, но умел зарабатывать, рванули наверх, а верхние, успевшие угреться и облениться на сытых местах, теперь покорно скатываются вниз, неумело пытаясь удержаться на промежуточных уступчиках.
Он вспомнил последний разговор в кабинете у толстячка и скривился от стыда: как же беспомощно, как жалко он выглядел! Ведь ясно было, что шансов никаких, полная безнадега. Удержаться в конторе все равно бы не смог — но кто мешал напоследок от души хлопнуть дверью, послав толстячка полновесным матом по самым популярным в России адресам? И сейчас не Чехлов морщился бы от неотмщенного унижения, а директор ломал бы голову, гадая, кто стоит за спиной неожиданно взорвавшегося уволенного сотрудника…
Он вернулся к машине, завел ее первым же поворотом ключа. Пересчитал деньги — в общем-то он примерно знал, сколько вышло с утра, но было приятно лишний раз пошелестеть бумажками, каждая из которых была как щелчок по носу толстому лицемеру директору и вору Маздаеву на высоких каблуках.
К вечеру бумажек еще прибавилось: он подвез мамашу с ребенком, двух самоуверенных студенток и мужчину в дорогом светлом пиджаке, потом сильно подвыпившего мужичка, который кашлял, матерился, но заплатил хорошо. Напоследок он решился на эксперимент. Кавказский человек с большим чемоданом хотел в Фили.
— Сколько дадите? — спросил Чехлов.
— Полторы, — сказал тот, чуть подумав.
— Две, — возразил Чехлов, и самому стало противно — такой жалкой вышла попытка поторговаться. Но клиент согласно покачал ладонью и открыл дверцу — чемодан он торчком поставил на колени, так и ехал с ним в обнимку.
Рынок, понял Чехлов, нормальный рынок.
Ладно, недельку поездит — авось привыкнет…
Он привык гораздо быстрее. Розовощекий учитель жизни, семнадцатилетний бизнесмен-сосисочник, словно повернул в его мозгу какой-то рычажок. Чехлов и раньше знал, что горшки обжигают не боги. Но чтобы до такой степени не боги… Неужели сорокапятилетний интеллигентный мужик, между прочим доктор наук, глупей и беспомощней этого мальчишечки? Мальчик в новую жизнь вписался. Еще множество людей вписалось. Ничтожество Маздаев вписался. Валерка Чепурной — еще как вписался! А Чехлов — не впишется?
Он не знал, чем будет заниматься. Он даже не знал, чем хочет заниматься. Но он понял главное — что плыть по течению интересно и приятно. Что каждый час ставит свою задачу, и решать ее, как минимум, любопытно. Вот сейчас он едет с Сухаревки на Алтуфьевку, и это хороший конец и хорошие деньги. А что будет за поворотом, он узнает за поворотом.
Вечером, запершись в ванной, Чехлов дважды пересчитал заработанное. В зеленых, как научил Валерка, получилось сорок два доллара. При этом машина под окном стояла с полным баком. За ужином Чехлов был невнимателен, никак не мог включиться в разговор, объяснил это головной болью и даже сделал вид, что ищет таблетку. Он, конечно, понимал, что по-людски надо бы отработать вечернюю беседу с женой, а уж потом перейти к расчетам и планам. Но уже первый, пробный, черновой результат словно бы оглушил, все, что лежало вне опыта последних дней, просто не воспринималось.
Чехлов старательно морщился, словно страдал головой, жена, посочувствовав, отвлеклась на телевизор, и он уже спокойно мог высчитывать, прикидывать и думать о жизни.
Думал он примерно вот что.
Недели не прошло, а аренда уже в кармане, и бак полон, и Аньке дал на хозяйство. Дальше работа только на себя. Если каждый день будет выходить… А, хрен с ним, лучше не считать, сколько бы ни вышло, все равно здорово. Раньше когда-нибудь такие деньги были? Ну, допустим, когда-то были, и приличные, на жизнь хватало. Но разве то была жизнь? Сплошные очереди, заказ на апельсины три раза в год, за кухонным гарнитуром три года стоять, и то по списку. Теперь-то жизнь иная, есть деньги — есть все. А тут деньги каждый день.
Все же самым главным были не деньги. Главное — исчез страх, подлый, унизительный страх. Никого не надо просить, никому кланяться. Уж тут-то не сократят.
Но важней корысти, важней спокойствия оказался азарт. Это было куда увлекательней нудной подмосковной рыбалки и походило скорей уж на грибную охоту в чистом августовском лесу, где глаза то и дело зажигаются от липких маслят, от крепких молодых красноголовцев, а огромный боровик, дар судьбы, вдруг возникает в полушаге от тропинки — и как его раньше не углядели? Свой новый промысел Чехлов про себя так и называл — охота. Тем более что грибные места определились очень быстро и навык укреплялся с каждым днем.
Сперва он пытался выработать некую систему, даже блокнотик завел, куда записывал концы, расстояния и ориентировочную цену. Он, конечно, десять лет водил, и Москву знал прилично — но то было знание автовладельца, а не левака. Он умел выбрать короткий и быстрый путь из Кунцева в Нагатино, однако понятия не имел, во сколько километров уложится такой конец, и, соответственно, сколько за него просить, и на что соглашаться. Таксисту легче, у него счетчик. А у левака что? Опыт, нахальство да умение разбираться в людях.
Блокнотик с записями Чехлов скоро забросил — освоенные маршруты прочно укладывались в памяти, да и было их, в общем, не так уж много, на всю столицу десятка три, остальное — вариации. Хотя как раз на вариациях порой и случалось наколоться: называли, например, Речной вокзал, а потом выяснялось, что от Речного ехать почти столько же. Да и не станешь ведь каждый раз лезть в блокнотик, весь разговор идет какой-нибудь десяток секунд: либо «Садись», либо «Не поеду». Но основная причина была иная: система не давала кайфа, а вольная охота — давала. Это было как шахматы и карты: мозги нужны и там, и там, но в шахматах условия равные, а карта либо идет, либо нет. Чехлов всегда уважал шахматы, но карты с их нерегулярным безалаберным везением были ближе душе. Когда он, опустив наполовину боковое стекло, ехал в правом ряду, неспешно, словно подкрадываясь, издалека хватая взглядом фигурки на краю тротуара, он чувствовал себя кем-то вроде хемингуэевского охотника на буйволов, с той приятной разницей, что клиент не мог ни забодать, ни затоптать. Впрочем, нынешний клиент мог многое, про это Чехлов и читал, и слыхал — но не днем же в людном городе. Тем более что Валеркин газовый баллончик всегда был в кармане, а под сиденьем лежал позаимствованный на кухне длинный и острый хозяйственный нож.
Неловкость в торге скоро прошла, и теперь тревожило лишь одно — вдруг ненароком наткнется на знакомого. Однако знакомые у Чехлова были, как и он, интеллигенты, безответные и бесперспективные гуманитарии третьего ряда, какие-нибудь кандидатишки на нищенских окладах, почасовики, библиотекари — такие леваков не берут, их транспорт — метро, или автобус, или трамвай, и то стонут, что билеты подорожали.
Деньги шли регулярно, когда гуще, когда жиже, но шли. Чехлов их почти не тратил, разве что на бензин да на какую-нибудь слойку с повидлом, перехватить между ездками. Каждый вечер, приходя домой, он совал в стенной шкаф, в карман старой куртки, горсть мятых, кое-как расправленных бумажек. Это была как бы копилка. Сколько там набралось, он примерно знал — но не пересчитывал, чтобы не сглазить. Это опять-таки было как в преферансе: начнешь в середине игры подсчитывать выигрыш — и все, сломалась карта, ушла удача.
Теперь Чехлов был уже безоговорочно благодарен Валерке: развлекался, скотина, ну и черт с ним, зато реально помог, вывел из тупика, избавил от ежедневной подлой дрожи в спине, от необходимости поддакивать пузатенькому вору и с тревогой наблюдать, как с палаческой деловитостью пробегает по коридору маленький озабоченный человечек, нуль на коротких ножках, бездарь, дурак, ничтожество, вершитель его, Чехлова, судьбы. Слава тебе, господи, не надо не только ходить в контору, но и думать о ней, и вспоминать, разве что вот так, с мстительной ухмылкой. Считали, держат за глотку? Да имел он их всеми способами, какие есть, русскими и французскими!
Жена теперь была тактична, раздражающих тем не касалась, лишь изредка, пробросом, словно просто из вежливости, интересовалась, как дела. Он отвечал, что вроде налаживаются, пока выполняет разовые поручения, но шансы есть и на большее. Может, придется какое-то время заниматься устным переводом — но сейчас время такое, выбирать не приходится, главное, устоять на ногах, пока не уляжется вся эта перетряска. Зато с деньгами лучше чуть не в два раза (это он говорил из осторожности — с деньгами было лучше раза в четыре). Анька, умница, в детали больше не лезла. Но однажды, тоже пробросом, как бы вслух подумала, что на осень понадобятся сапоги и разумней бы решить проблему сейчас, потому что в сезон цены наверняка подскочат.
— А сейчас почем? — неконкретно полюбопытствовал Чехлов.
Жена назвала цифру — вполне божескую. У нее в библиотеке никого не сокращали, но зарплата у работников культуры была такая, что на всю оставшуюся жизнь приучила к минимальным ценам.
— Ладно, посмотрим, может, второго кое-что будет, — неопределенно пообещал он. Дата выскочила из памяти автоматически — святой день зарплаты. И приятно было сознавать, что теперь для него что второе, что двадцать второе — один хрен, без разницы, теперь у него зарплата каждый день.
Вот так подумал Чехлов и поймал себя на том, что словарь его изрядно изменился, даже мысли укладываются в иной лексический пласт — так что, если, например, возникнет блажь выпить пива у ларька, в толпе неряшливых завсегдатаев он не будет смотреться совсем уж чужим. И это не огорчило, а обрадовало: ведь профессорская гладкость речи, по сути, тоже была навязана жизненной ролью, как обязательный галстук, как бородка, как круг общения, как умение на ученом совете обтекаемо хвалить чьи-то никому не нужные статьи и обтекаемо благодарить, когда хвалят твои, тоже никому не нужные. А теперь оковы сброшены, врать не надо, и ходи, в чем хочешь, и любой жаргон годится, лишь бы отвечал сиюминутной душевной потребности.
Новая работа была как театр, верней, как незамысловатый отечественный детектив — действие медлительно, обстановка банальна, но читать все равно любопытно. Какие только люди не садились в машину! Чехлов был коренной москвич, сколько лет тут прожил, а многого все же не знал, особенно в последние годы все дальше отходила меняющаяся реальность — институтские коридоры, галстук, бородка, гладкая речь коллег словно толстым витринным стеклом отгораживали от шумов и запахов живой жизни. Теперь ежедневно нагонял упущенное.
Понятно, что руку на обочине мог вскинуть не всякий. Левака брал народ специфический — нарождающийся средний класс, те, кто пока еще не мог наскрести на машину, но без проблем мог себе позволить такси или частника. Чаще других попадались кавказцы, а может, просто отличались от других и потому запоминались. Это Чехлова не удивляло и не раздражало: люди как люди, просто из них совок так и не сумел выбить рыночный взгляд на мир. Здоровенные усатые мужики не считали стыдным весь день торчать у ящиков с яблоками или коробок с бананами — в конце концов, они были повежливей родных слесарей или водопроводчиков, труд их был тяжел и грязен, а время дорого: лишний час у весов с лихвой перекрывал плату за проезд к рынку или уличной торговой точке. Соплеменники тоже не чуждались быстрой езды — эти в основном были молоды, аккуратно и недешево одеты, с кейсами и при галстуках. Однако профессорского в них не было ничего: если Чехлов осторожно любопытствовал о специальности, солидно отвечали: коммерсант, или — свой бизнес, или — работаю в инофирме. Собственно, этот тип молодых людей существовал и прежде, только тогда они держались скромно, их задачей было понравиться начальству или успешно жениться — в них чувствовалась словно бы врожденная готовность ко вторым ролям. Теперь же они приобрели уверенность, умело делали деньги и знали себе цену — как, кстати, цену и московскому частному извозу: наклоняясь к окну, они сразу называли цифру, делавшую ненужным торг. Попадались и совсем пацаны, легко достававшие из кармана пачку в десяток крупных купюр — эти пока что были загадкой, не все же они держали сосисочный бизнес на Киевском вокзале. Загадкой в основном были и женщины, трудно поддававшиеся классификации.
Через месяц Чехлов так притерся к новому ремеслу, что решил устроить себе целых два экзамена.
Первый был на качество. Подъехав к оптовому рынку, Чехлов из троих сделавших стойку мужичков безошибочно выделил самого перспективного, малорослого азербайджанца или вроде, тосковавшего на вытоптанном газончике с горой картонных коробок. Ехать тому оказалось аж на Каширку. Чехлов торговался вежливо, но упорно, называя клиента братом и упирая на дорогой бензин, в пути затеял разговор опять-таки о ценах, к которым не то что привыкнуть, запомнить невозможно, а потом коснулся больной темы межнациональных отношений, решительно выступив за дружбу народов, которые все по-своему хорошие, ни одного плохого нет. Доехав до места, он помог перетащить коробки к лифту, получив в результате штуку сверх оговоренной, очень хорошей цены. Но тут дело было не в деньгах, а в том, как естественно, без натуги Чехлов влез в шкуру профессионала-левака. Адаптировался. Вошел в образ. С благодарностью пряча деньги в карман и в последний раз называя усатого мужичка братом, Чехлов чувствовал себя актером, лихо отыгравшим финал и возвращенным из-за кулис шумом аплодисментов.
На следующий день он сдал второй экзамен — на количество.
Чехлов выехал рано, около восьми, уже зная, что в этот час опаздывающие на службу не торгуются. И возил, возил до ночи, дотемна, перекусывая на ходу где плюшкой, где шоколадкой, где парой бананов. Он отработал, да еще с лихвой, полную таксистскую смену, не двенадцать часов, а все пятнадцать. К концу дорога плыла перед глазами, встречные фары троились — уже организм сигналил, что пора завязывать, пока не врубился передком в чей-нибудь бампер или фонарный столб. На сей раз дома он тщательно пересчитал заработанное. Вышла двухнедельная институтская зарплата. Это за день-то! А ведь мог до сих пор там гнить, подумал он, не затей тогда жулик Маздаев свой очередной бизнес. Позвонить ему, что ли, спасибо сказать?
Когда жена уснула, он все же не выдержал, вытащил из старой куртки целый ворох бумажек. Получилось семьсот долларов с гребешком. Столько денег Чехлов отродясь в руках не держал. Отделил арендные. Отделил пачку для Анны. Осталось все равно много. Вполне можно было дать, наконец, дочке на ее бабские надобности, но она уже три недели жила у своего мужика, изредка звонила сообщить, что жива, и со своими проблемами, видимо, так или иначе разобралась.
Ботинки, что ли, хорошие купить?
Утром выяснилось, что рвать жилы не рационально. Вроде выспался, все нормально, но азарт пропал, к рулю не тянуло, вчерашняя усталость дремала где-то в костях. Выходной, что ли, устроить, подумал Чехлов. Уж выходной-то он заработал…
Повалявшись в постели и посмотрев новости по телеку, он поставил чайник. Растворимого в банке было на донышке, получилась бурда, и, заглотнув ее наскоро, Чехлов выскочил за кофе. Ближний продуктовый, месяца три простоявший на ремонте, наконец открылся. Назывался он теперь торжественно: «Торговые ряды Степана Башмакова». В частные магазины Чехлов не ходил, боялся частных цен. Но тут решил заглянуть — было любопытно, да и сколько может стоить банка посредственного кофе?
После былого совкового убожества заведение господина Башмакова смотрелось просто Парижем. Полки, может, и не ломились, но одного растворимого имелось девять сортов. По инерции Чехлов взял самый дешевый, но тут же с удовольствием подумал, что теперь для него в принципе доступен любой. Даже барского вида колбаса в серебристой упаковке была по карману — не каждый день, конечно, но грамм сто из любопытства… Такого в его жизни еще не случалось. Правда, в брежневские времена деньги на харчи тоже не были проблемой — но колоссальной проблемой было раз в месяц или два вырвать в месткоме талончик на заказ.
Однако в магазине изменилось еще что-то: возник оттенок праздничности и вместе с тем появилось ощущение неуверенности, будто праздник этот чужой. Оглядевшись, Чехлов сообразил, что к чему: просто сменились все продавщицы, теперь за прилавками стояли ладные девки с крепкими грудками фотомоделей. Они были вежливы, даже приветливы, но в холодноватых улыбках отчетливо читалось, что грудки эти предназначены уж никак не для потребителей кефира, молдавского коньяка и отечественных сигарет. И неясно было: то ли владелец торговых рядов господин Башмаков исходил из соображений коммерции, то ли был вынужден пристроить к делу чересчур разросшийся гарем. Впрочем, у купца эпохи подросткового капитализма явно было своеобразное чувство стиля: домашнего вида тетки, стоявшие тут прежде, были из эпохи продмагов, очередей, жалобных книг и подгнившей картошки, а клубничные йогурты, колбаса «Мортаделла» и шоколадки «Баунти» требовали этих кобылок с надменными грудками.
Чехлов девок оценил, но господину Башмакову не позавидовал, на его вкус в кобылках не хватало души: по интеллигентской гнилости Чехлов любил поговорить и до, и даже после. Однако что-то в организме шевельнулось, впервые за последние месяцы сквознячком прошла по груди слабая приятная тоска. Так что, идя домой, он, хоть и без конкретной цели, перебирал в памяти знакомые женские имена. Увы, немногочисленные былые приятельницы явно не годились: либо за истекшие годы изрядно потрепали женственность в суровой борьбе за жизнь, либо от рождения слишком уж очевидно были лишены статей тех кобылок из «Торговых рядов».
К счастью, дома неясные желания вдруг обрели облик, имя и номер телефона…
Наташа подошла сама.
— Привет, дорогая, — сказал Чехлов с пошловатой фамильярностью, которую по старой памяти мог себе позволить, — держишься?
Она обрадовано хохотнула, ответила, что держится, и спросила, как он, на «вы» и назвав Борисом Евгеньевичем. Собственно, так и полагалось: он уже не был начальником, она клерком, но дистанция как бы законсервировалась, когда расстались полтора месяца назад. Чехлов успокоил — мол, все нормально, дай бог и дальше не хуже. Потом поинтересовался:
— Кстати, как там твоя полянка?
— Полянка? — не поняла она. Потом вспомнила и засмеялась: — Полянка в порядке. Только я там с тех пор не была.
— Тебе не кажется, что самое время проверить?
Наташа, чуть помедлив, ответила, что проверить не мешало бы.
— И я того же мнения, — отозвался Чехлов, — а когда?
Тут она думала подольше:
— Вообще-то…
— Может, не стоит откладывать? Пока другие не застолбили? Посмотри за окно, какой день, а?
— Вообще-то я… — снова замялась она, но не отказалась, а попросила перезвонить минут через десять. А когда он перезвонил, сказала, что все в порядке, перенесла. Чехлов одобрил, заметив, что всех дел не переделаешь, и она снова засмеялась, будто услыхав остроумное. Это был хороший знак. Впрочем, она всегда к нему хорошо относилась.
Дорогой Чехлов забежал на оптовый рынок, купил разной вкусной мелочи, сладких летних яблок и бутылку вина, по этикетке испанского, а может, и вправду испанского, хотя вряд ли, радуясь и гордясь, что все его сегодняшние траты вполне укладываются во вчерашний заработок, еще и остается. Наташа уже ждала у метро. Теперь, когда она перестала быть младшей сослуживицей, стало очевидно, как она хороша, пожалуй, даже красива. И одета была с летней праздничностью, словно собиралась не загорать, а, скажем, на дискотеку. Впрочем, на дискотеки Чехлов не ходил и, как туда одеваются, не знал.
— Вы на машине? — удивилась она.
— Друг дал покататься.
— Хорошие у вас друзья!
— А мы с тобой плохих не держим, — ответил Чехлов, объединяя себя и Наташу и этим «мы», и рукой, положенной на плечо.
По дороге Наташа рассказала, что работает теперь в фирме, вообще-то не фирма, а шараш-монтаж и она там не пойми кто, то ли секретарша, то ли курьер, хотя официально зав. канцелярией, но пока что никакой канцелярии нет, поскольку шеф никак не найдет помещение под офис. Зато платят вдвое больше, чем было в институте.
Чехлову тоже надо было что-то рассказать, и он проговорил с усмешкой:
— Один к одному! Тоже фирма, только по должности консультант. И денег тоже вдвое больше. За что, пока не понял.
— По институту не скучаете?
— Только по тебе. Ведь наша контора, если честно, тоже была шараш-монтаж.
— Это уж точно! — вскинулась Наташа. — Еще какая шарашка! Не дурак, так жулик, не жулик, так дурак. Я понять не могла: ну что у вас общего с этими дебилами? На три этажа одна серьезная кафедра!
Тут она, пожалуй, преувеличила, но Чехлову был приятен этот ностальгический патриотизм.
Полянка оказалась и вправду ничего, маленькая, ровно поросшая чистой травой и, как плотной шторой, закрытая от дороги густым молодым ельником. Машины проносились в каких-нибудь ста метрах, но их шум только дразнил и возбуждал. Наташа расстелила тонкий коврик, скинула платьишко. На ней уже был купальник, по-современному минимальный. Чехлов пристроил под куст пакет с провизией и с разочарованным вздохом произнес в пространство:
— А мне кто-то обещал загар голяком.
— Да неудобно вроде, — неуверенно отозвалась Наташа.
— Почему же неудобно?
— Да так как-то…
— Слава богу, я тебе больше не начальник, — возразил Чехлов и, отвернувшись, стал расстегивать рубашку. Теперь, чтобы вопрос выглядел решенным, надо было что-то говорить. Он и стал говорить: — Я вообще считаю, в двадцать пять лет загорать в купальнике противоестественно. Даже преступно. Стесняться надо начинать лет в пятьдесят. Вот мне уже, к сожалению, время стесняться.
— Но вам же не пятьдесят.
— Много ли осталось? — как бы примирился с неизбежным Чехлов и, отойдя за куст, быстро сменил трусы на плавки. — Я, моя радость, человек пожилой.
Она не ответила, и, обернувшись, он увидел, что она лежит в прежней позе, на спине, руки за головой, глаза закрыты — только красивых маленьких тряпочек на теле больше нет. Взгляд его тут же прилип к самым сокровенным местам: грудки были не хуже, чем у тех, в башмаковских «Торговых рядах», темный треугольник на лобке аккуратен, будто нарисован. Чехлов полулег рядом и стал на нее смотреть. Было так хорошо, что плакать хотелось — от умиления тихим днем, чистой полянкой, ну и, конечно, женщиной, молодой и красивой, еще ни разу им не тронутой, но уже как бы принадлежащей ему по сладкому праву подарка. Вздохнув опять, он чуть коснулся губами теплой кожи на животе, потом нежно-нежно провел рукой от груди к коленям. Дурак, подумал он, какой же дурак! На что жизнь тратил? На ученые советы? Ведь три года рядом была…
— А ведь я дурак, — сказал он печально, — полный дурак.
Теперь вздохнула Наташа:
— Наконец-то поняли.
— Работа, — сокрушенно объяснил Чехлов, — субординация проклятая. Вот вбили в голову — с подчиненными нельзя, использование служебного положения… Дурак!.. А если бы я еще тогда… ты бы не обиделась?
Ответ легко угадывался, но хотелось услышать от нее.
— Мужчина и должен командовать, — сказала Наташа.
— Повернись ко мне, — скомандовал Чехлов.
С ней было здорово все: и прикоснуться, и прижать к себе, и — тело к телу, и — тело в тело, и — полузакрытые, теряющие осмысленность, слепнущие глаза… Но, может, больше всего грела наивная гордость собственника, пусть недолгого, но владельца этой молодой послушной красоты.
Он усмехнулся, и она спросила:
— Ты чего?
Чехлов поцеловал ее в губы, задержал руку на темном треугольнике и тогда только объяснил:
— Анекдот вспомнил. Да ты знаешь небось. Как карлик женился на великанше. Всю ночь бегал по ней и восхищался — и это все мое?
Наташа тоже засмеялась.
На обратном пути, в машине, он сказал:
— Теперь можно год жить и не спрашивать, зачем живешь.
Она то ли кивнула, то ли опустила ресницы. И больше к происшедшему Чехлов не возвращался. Оно для него было, как лесное озерцо: лишний раз тронешь — замутишь.
Тем не менее о чем-то говорить было надо, и он начал было выспрашивать о ее шарашке. Но Наташа отвечала уклончиво, и вникать он не стал. А если она спросит — тоже ведь уклонится. Что делать, сейчас жизнь такая, свободный рынок, чем владеешь, то на прилавок и несешь — кто водку, кто спички, кто время, кто связи, кто тело. И никого осуждать нельзя, выбор у людей маленький, а жить надо. Вот он, Чехлов, он чем торгует? Левак, водила, сфера услуг. Гостю с Кавказа коробки поднести? С нашим удовольствием! Зато и деньги зарабатывает нормальные, и, значит, достойный человек. А уж чем зарабатывает — это, извините, коммерческая тайна.
— Когда увидимся? — спросил он.
— Когда захочется.
— Мне — скоро.
— Ну вот и позвонишь.
На прощанье поцеловались нежно, как классические влюбленные. По сути, так ведь и было? Чехлов не сразу тронул машину, с минуту смотрел на ее подъезд. Наградил господь на сорок шестом году…
Он хотел сразу домой, но подвернулся попутный, потом, почти сразу, не попутный, но уж больно выгодный, потом дама в коже, вежливо поздоровавшись, попросилась до казино на Беговой… Домой вернулся к десяти, и, чтобы закончить счастливый день совсем уж восклицательным знаком, дал жене столько, что даже малость напугал.
— Откуда?
— Ну не украл же.
— Неужели такая зарплата?
— Не зарплата, но… Просто дают подработать.
Она не удержалась, спросила, что за приработок, и Чехлов наплел примерно то же, что и Наташе, тем более что легенда уже обкаталась и с каждым разом звучала все убедительней. Мол, не только консультант и переводчик, но, увы, при надобности еще и шофер — попросили повозить по Москве двоих фирмачей из Голландии, он и согласился. В конце концов, нет разницы, где сидеть в машине, справа или слева, а денег вдвое. В Европе вон даже министры сами водят и не считают это позорным. Можно, конечно, отказаться, но…
— Зачем отказываться? — вскинулась Анна, но тут же вспомнила долг жены и друга: — Но ты не слишком устаешь?
Чехлов в ответ только усмехнулся:
— От машины-то? Для меня это удовольствие, соскучился по рулю.
Потом они лежа смотрели по ящику американский детектив из азиатской жизни и тихо, умиротворенно беседовали. Анна уже настроилась на долгую напряженку с деньгами и теперь была рада, что хоть пару месяцев можно будет жить по-людски, не ставя заплату на заплату. А он был рад, что завтра придут другие деньги, и послезавтра, и дальше, причем деньги чистые и быстрые, без налогов, без очереди у кассы: заработал — и бери. Он был рад, что теперь есть великолепная любовница, какой не было уже лет десять, даже не любовница, а почти любимая девушка. И еще был рад, что в нем уже подрагивал, торопя завтрашний день, охотничий азарт.
А ведь выжил, подумал Чехлов.
Он не просто выжил. Борьба за существование, такая неумелая и нервная поначалу, теперь приносила немалый кайф. Черная работа совершалась автоматически, Чехлов больше не маялся, сопрягая в уме расстояния и цены, не краснел, торгуясь, и не чувствовал унижения, забрасывая в багажник коробки с фруктами или скатанный в трубку ковер. И разговаривал с нанимателем свободно, как с однокашником или коллегой. Без комплексов. У тебя своя работа, у меня своя. С чего он левачит, интересовались редко, видимо, ситуация стала будничной; если все же спрашивали, он развлекался, надевая одну из трех-четырех отработанных масок: таксист, завязавший с государством, технарь из «ящика», попавший под сокращение, спортсмен, за возрастом утративший ремесло, учитель, которому обрыдло безденежье. Московские концы не близки, в беседах люди открывались легко, не темня свыше необходимого: делать деньги давно перестало быть позорным, стыдно стало их не иметь. Жизнь в этих разговорах раскрывалась все больше и больше, и теперь для Чехлова она выглядела не как загадочный и потому страшный хаос, а как бардак — то есть дикая, но система, с дикими же, но законами, оберегавшими тоже дикий, но порядок в тех сферах реальности, куда не проникала ни законодательная власть, ни исполнительная, ни судебная. А ведь именно в этих сферах, хоть и в незначительной роли, обретался нынче и сам Чехлов.
Никогда прежде он так здорово не разбирался в людях, впрочем, тогда и надобности такой не было: все катились по своим рельсикам и были, хоть и с некоторыми оговорками, предсказуемы. Зато теперь стало необходимо за пять секунд определить, что за фигура томится у обочины, тормозить или нет, и сколько запросить, и на что согласиться. Опять же интонация — с кем на «вы», с кем на «ты», с кем деликатно, с кем по-простому. Надо было, например, видеть разницу между кавказцами: торгаши с юга цену знали и платили по норме, но не больше, зато с усатых гостей столицы, прибывших погулять, вполне можно было запросить вдвое. Студенты норовили схалявить, удрать проходным подъездом. С молодыми качками следовало быть поосторожнее, особенно если компания — они еще самоутверждались, искали приключения, и вечером, особенно на окраину, Чехлов их не брал.
Особняком стояли челноки, рисковые коробейники эпохи первоначального накопления, чьи огромные баулы с трудом вдавливались в багажник и на заднее сиденье. Их бесстрашием трудно было не восхищаться: за несколько лет беспорядочной «перестройки», без каких-либо гарантий, без опыта, а чаще и без языка они успели объездить и облетать полмира, от Варшавы до Сингапура, осмыслив и освоив все тропинки и прилавки отечественного и мирового базара. Иногда Чехлов думал: а он-то, с его эрудицией, мозгами, отличным испанским и пристойным английским, разве не мог бы? Наверное, мог бы. Но — не решился. А если вдруг и решится, скорей всего, будет поздно: в смутные времена судьбы делаются стремительно, лежащие на кону миллионы делят призеры первых забегов, аутсайдерам остается лишь подбирать крошки. Которых, слава богу, тоже хватает на жизнь…
Постепенно он сориентировался и в женщинах. Оказалось, не так уж и сложно. Были бухгалтерши магазинов, секретарши инофирм, продавщицы бутиков — эти, насосавшись приличных денег, платили с походом, но без излишеств, их заработки, хоть и немалые, все же доставались трудом. Были начинающие дамы, жены дельцов, которых они значительно именовали бизнесменами — они носили дорогие туфли и сумочки, приглядывались к Чехлову не менее внимательно, чем он к ним, и лишь потом называли высокую цену или сразу соглашались на предложенную им. Были, наконец, проститутки, профессионалки, с типовыми адресами: ресторан, гостиница, казино, ночной клуб. Им было важно быстрей добраться к рабочим местам, в деньгах они не мелочились, надеясь, что новые придут без отлагательства, а рабочий инструмент не сносится еще многие годы. Даже совсем молоденькие, лет по шестнадцать, обсуждали при нем детали ремесла, они его не то что не стеснялись — просто не замечали, он был для них оплаченной обслугой, вроде официанта в ресторане или горничной в гостинице. Чехлова это никак не задевало и даже забавило, поскольку отдавало анекдотом — пан профессор в услужении у шлюх.
Впрочем, он быстро понял, что их есть за что уважать. Они знали свое дело, терпеливо относились к его грязным сторонам, друг с другом старались не конкурировать, а сотрудничать и, по сути, не слишком отличались от каких-нибудь санитарок дурдома, с той существенной разницей, что зарабатывали на порядок больше.
Однако и в этой денежной профессии попадались свои неудачницы.
Чехлов медленно ехал через Измайлово длинной безлюдной аллеей, но эта пустынность была по-своему перспективна: уж если попадется спешащий пешеход, на муниципальный транспорт ему рассчитывать нечего — левак, только левак. Еще издали Чехлов заметил фигурку на обочине и перевел ногу на тормоз прежде, чем женщина остановила машину неуверенным движением руки. Впрочем, женщиной она была с оговоркой — лет семнадцать, от силы восемнадцать. Майка с овальным вырезом на животе, кратчайшей юбки словно не было вовсе. Тусклая сумочка на длинной лямке свисала с плеча.
— Далеко? — спросил Чехлов, хотя деньгами тут явно не пахло.
Девчонка сказала угрюмо, но вежливо:
— Предлагаю минет за пятнадцать баксов.
— Нет, спасибо, — ошарашенно пробормотал Чехлов и тронул машину.
— Ну десять, — мгновенно сбросила девчонка.
Уже отъехав, он устыдился. Сбежал, как семиклассник, дуриком сунувшийся в женскую баню. Чего испугался-то? Девчонка небось просто голодная, а он… Чехлов тормознул и рывком, на рычащем газу, подал назад.
Девчонка так же угрюмо стояла у обочины.
— Слушай, — сказал он, — тут харчевни поблизости никакой?
Она молча пожала плечами.
— За парком, правда, есть пельменная, — глядя в сторону, словно сам себе сообщил Чехлов и тогда только повернулся к девчонке, — ты как насчет пельменей?
— В каком смысле? — настороженно спросила она.
— В прямом. Есть хочешь?
— А вам-то что? — независимо пробурчала девчонка. Она была невысокая, плотненькая, крепкие руки открыты по плечи. Деревенская конструкция, подумал Чехлов. Городской была только прическа «под мальчика» — черные короткие волосы ежом.
Он произнес как можно убедительней:
— В компании-то веселее… Да садись, тут близко.
И открыл дверцу.
Девчонка глядела с прежним недоверием, и Чехлов с укором произнес:
— Я что, на маньяка похож?
Тогда только она села.
До пельменной было километра три, девчонка молчала, и Чехлов, человек опытный, психолог, со вздохом произнес в пространство, словно бы ища сочувствия:
— Вот так мотаешься весь день — поесть некогда.
Но она и тут не отозвалась. Во послал бог собеседницу!
В пельменной была самообслуга. Чехлов посадил девчонку за столик у стены и принес харч — по тарелке пельменей, по стакану сметаны. Девчонка ела деликатно, последний пельмешек оставила на тарелке и сметану со стенок не соскребла.
— Как тебя зовут-то? — поинтересовался он.
Она косо глянула на него, помедлила, снова глянула и тогда только нехотя назвалась:
— Елизавета.
— Лиза, значит? — уточнил Чехлов. — Или Вета?
— Елизавета, — внятно повторила девчонка.
— Сладкое употребляем?
Ответа не было, и он взял еще пирожные и абрикосовый сок в толстых граненых стаканах. Приятно было кормить голодную дурочку, приятно было чувствовать себя мужиком при деньгах.
Уже на улице он спросил:
— Ну что, Елизавета, куда подбросить?
Она молча смотрела на него — то ли изучала, то ли просто думала.
— Назад, что ли?
Он произнес это почти в шутку, но девчонка вдруг сказала с сумрачным вызовом:
— Ага. Назад.
— Назад так назад, — улыбнулся Чехлов.
Он лихо развернулся — «жигуленок» заскрипел всеми своими суставами — и не спеша покатил обратно к лесу. Настроение было хорошее. Ну, потерял какой-нибудь час, подумаешь — зато душу порадовал. Всех денег не заработаешь. Может себе позволить.
И опять почувствовал благодарность к своему ржавому Буцефалу. Великое это дело — мужик с руками и инструментом. Даже бабки не так важны — важна уверенность, что всегда сумеешь их добыть.
Чехлов вновь поймал себя на том, что даже думать стал другими словами. Доцент с бородкой отошел совсем уж далеко. Шоферюга, водила, левак, калымщик — вот он теперь кто. Другая жизнь. Бывшая кончилась, а теперь другая. Какая лучше? А вот это еще вопрос. Большой вопрос! Надо уж очень хорошо попросить, чтобы он согласился вернуться назад, в неверную контору, где твой завтрашний скудный хлеб полностью зависит от очередной лукавой комбинации хитрозадого толстячка с короткими, но такими загребущими лапками…
Девчонка вдруг сказала:
— Тормозни вон там.
«Вон там» от дороги отделялся короткий, метров в пятнадцать, аппендикс, дальше переходивший в грунтовку. Чехлов притормозил.
— Керосинку-то заглуши, — сказала Елизавета.
Он выключил двигатель. Поговорить хочет? Этого и ему хотелось: угрюмая девчонка была непохожа на деловитых шлюх, которых он возил вечерами и ночью, уже отлакированных профессией, точно знающих что почем — непохожа и тем интересна.
— Ну и чего? — решил он помочь Елизавете.
Но она вдруг ткнулась лицом ему в колени. Истерика, что ли, растерялся Чехлов. Но через секунду-другую растерялся еще больше, потому что никакой истерикой и не пахло: девчонка решительно и умело расстегнула крючок и молнию на брюках.
— Да ты что?! — почти крикнул он и тут же поспешил оправдать свой испуг: — Люди же ездят!
— Плевать им на тебя, — буркнула девчонка, — у них свои бабы.
То ли сработала ее угрюмая настойчивость, то ли еще что — но Чехлов вдруг почувствовал, что и ему на всех плевать, на всех и на все, и хочется только то, что хочется. Руль мешал, он откинулся к боковой дверце. Волосы у девчонки были жесткие, кожа на щеках нежная. Ох, Лизка… Лизка…
Потом она сказала:
— Тебя-то как зовут?
— Борис, — начал он и вовремя прикусил отчество. Как в двадцать три пришел в школу учителем, так и стал Борис Евгеньичем. В институте солидности, естественно, еще добавилось. Теперь, выходит, помолодел. Отвыкать надо, отвыкать…
— Спасибо тебе, — сказал он, — но это было не обязательно. Я же просто так…
— Я тоже не побирушка, — ответила девчонка, — на хрена мне благодетели. Что надо, заработаю.
— Москвичка?
— Была б москвичка, здесь бы не стояла… Из Курской области.
Потом она все же разговорилась. История была, к сожалению, рядовая. Жила в районном городишке, играла в самодеятельности, готовилась поступать в театральный. Приехала в Москву и не поступила. Возвращаться домой было стыдно…
Дальше можно было не объяснять.
— Живешь-то где? — спросил Чехлов.
Она поморщилась:
— А-а…
— Снимаешь?
— Пустил тут один алкаш.
Чехлов решил дальше не спрашивать, но глупая фраза уже выскочила:
— Просто — пустил?
Елизавета глянула на него почти с яростью:
— Сейчас чего-нибудь делают просто?
Простились по-приятельски. Поколебавшись, Чехлов продиктовал ей номер телефона:
— Жрать захочешь — звони. Только скажи из института и зови по имени-отчеству.
Она достала из сумочки нечто бумажное и вяло, подчеркнуто нехотя, записала номер. Потом вдруг ухмыльнулась и сказала:
— И ты запиши. Трахаться захочешь — звони.
— Никто не обидится? — осторожно спросил Чехлов.
— Ему лишь бы бутылка, — презрительно отозвалась Елизавета.
Она не позвонила ни разу. А вот Чехлов время от времени позванивал. С утра ее отловить было легко. Встречались в приметном месте, перекусывали в дешевых шалманах, как-то само собой сложилось спокойное, не обязывающее приятельство. Тема минета за десять баксов больше не возникала. Иногда, прощаясь, Елизавета весело щурилась:
— Если чего надо — скажи.
— Скажу, — так же, с ухмылкой, обещал Чехлов.
Надобность, впрочем, не возникала. Раза два-три в месяц встречался с Наташей, приятно выматывался, и этого вполне хватало, чтобы следующая встреча не тяготила, а радовала. А смешную провинциальную девчонку хотелось просто кормить. Он и кормил. И старался не думать, чем она зарабатывала в перерывах между тарелками пельменей или котлет.
Елизавета каталась с ним охотно, никуда не торопилась. Как-то он спросил осторожно:
— Я у тебя не слишком много времени отнимаю?
Девчонка хмыкнула:
— А на хрена оно мне?
И пояснила:
— Сегодня сыта, а на завтра — завтра заработаю.
Чехлов, словно тронули какую-то кнопку в памяти, автоматически пробормотал:
— «Живите днем сегодняшним, ибо завтрашний день сам позаботится о себе…»
— Чего? — переспросила Елизавета.
— А? — очнулся Чехлов. — Это из «Евангелия». Или из «Библии». В общем, оттуда.
— А ты чего, верующий?
— Да ну… Просто читал.
— Зачем?
Чехлов не сразу нашелся, что ответить:
— Ну как… Надо же. Самая знаменитая в мире книга.
Елизавета пристально глянула на него:
— А ты вообще-то кто?
— То есть?
— Ну не всегда ж небось баранку крутил.
Он виновато усмехнулся.
— В вузе работал. Кандидат наук. Даже кафедрой заведовал.
Чехлов и сам не мог понять, чего стыдится: то ли кем был, то ли кем стал.
— Ну и чего? — продолжила допрос Елизавета. — Запил, что ли?
— Все проще, — объяснил он, — кафедру закрыли, а жить надо. Семья все-таки.
— Ну и много сейчас выгоняешь?
— Тогда столько и близко не имел.
— Честь зато.
— Ну ее к хренам, эту честь. На одни заседания сколько жизни ушло. Сейчас сам себе хозяин.
Достойная эта фраза прозвучала не слишком уверенно. Чехлов, пожалуй, впервые всерьез задумался: а к лучшему или к худшему, что с ним все так получилось? Ему вдруг захотелось увидеть бывшую свою контору. Не зайти, а просто глянуть со стороны на здание, освежить то ощущение обшарпанности, которое когда-то угнетало, а теперь порадовало бы и успокоило. Кстати, и ехать было недалеко, километра два максимум — на колесах не крюк.
Ничего не говоря Елизавете, он свернул в переулок и покатил вдоль уродливого бетонного забора, огибая частые выбоины. Убогое расположение института когда-то занозой сидело в сознании всего ученого совета — название пристойное, а вот адрес…
Здание краше не стало. Сперва была школа, потом ПТУ, когда вселился институт, ремонт произвели косметический, краска давно облезла, причем пятнами. Прутья ограды где поржавели, где погнулись.
— Вот в этой вот развалюхе я работал, — сказал Чехлов, — как думаешь, есть о чем жалеть?
Но когда подъехали ближе, настроение потускнело. Сбоку, где прежде была глухая стена, виднелся свежекрашеный квадрат, розовый на грязно-коричневом. Посреди квадрата — дверь. Над дверью вывеска с надписью золотом: «Ты и я (интим)».
— Видишь вывеску? — показал он взглядом. — Тут моя кафедра была.
— Интим, — прочла она вслух.
— Вот именно. Можешь считать, из бардака уволился.
Странно — ни горечи, ни жалости он не испытывал. Все там было чужое. Пауки в банке, да и банка вот-вот развалится. Лицемерить, кланяться за гроши, да еще не факт, что заплатят. Чехлов быстро пересчитал в уме уже сто раз пересчитанное — и, как всегда, вышло, что теперь он имеет почти в четыре раза больше. Не прогадал. Нет, не прогадал.
Он всегда старался думать именно так — будто не его выставили, а сам прикинул и ушел. И деньги вечерами подсчитывал с удовлетворением и злорадством, словно показывал бывшему начальству неприличный жест. Теперешняя порнушно-розовая безвкусица лишний раз подчеркнула удачность его — а хоть бы и не его! — выбора. Слава богу. Дурной сон кончился…
Но хорошее настроение длилось недолго.
Из скособоченных, вечно раскрытых ворот института неторопливо вырулило импортное чудище цвета серый металлик, длиной в полквартала, со сверкающей цацкой на капоте. Сквозь затененное лобовое стекло лица только угадывались. Но вот новенький «линкольн» повернул влево, и Чехлов узнал состоятельного автолюбителя. Маздаев выруливал медленно, давая всем вокруг возможность позавидовать своей удаче, его гладкие усики излучали благополучие, запонка сверкала, как подвеска люстры. А рядом — рядом, на полбашки выше мелкорослого Маздаева, сидела та самая Нинка, что с попой. Попа видна не была, но подразумевалась.
Чехов наклонился, пытаясь спрятаться за Лизку, что было не просто — ее короткая стрижка этому никак не способствовала. Впрочем, можно было и не прятаться — с какой стати любимчик судьбы в шикарном лимузине стал бы разглядывать проржавевшую «копейку»…
Все встало на свои места. Жалкий его успех обрел настоящую цену. Карабкаешься, карабкаешься — а наверху все равно суки. Закон жизни, мать их… Его передернуло от злобы и зависти — чего уж там, зависти тоже. Ну почему суки всегда наверху?!
Елизавета что-то почувствовала.
— Случилось что?
— Нормально, — тускло отозвался Чехлов.
— Ладно — чего случилось?
— Со мной бывает, — придумал он, — просто спазм. Затылок схватило. Надо домой, полежать часочек.
Она то ли поверила, то ли решила не вникать.
— Куда подбросить?
— Без разницы. Тебе куда по пути?
— Ленинградка, Тверская, Садовая…
— Да хоть Тверская, — сказала она без особой уверенности.
Он высадил ее у Маяковской, потрепал по загривку и вздохнул вслед. Не тянет Лизка на центр, куда там. Даже у шлюх своя элита и своя лимита…
Через два дня пришло время платить за аренду. Чехлов позвонил. Мужик на трубке вежливо попросил подождать, потом назначил время и место. Опять ресторан. Что ж, роли легли так, что ему снова играть восхищенного зрителя. Придется. За все надо платить.
Впрочем, на сей раз он хотел увидеть Чепурного. Пожаловаться? А хрен его знает! Этот, по крайней мере, может понять. Во всяком случае, лучше, чем молча скрипеть зубами.
Ресторан был новый, не лучше и не хуже, просто новый. Места встречи не повторялись. Что стояло за этим разнообразием, Чехлов не знал: может, Чепурной скучал в приевшихся интерьерах, может, демонстрировал бывшему косвенному начальнику широту своих возможностей. Кое-что, впрочем, повторялось — опять столик в углу, опять два бультерьера чуть поодаль, опять на столе у охранников стояла только пепси-кола.
Чехлов деликатно положил деньги на край стола.
— Шикуем, — сказал Чепурной, — прямо-таки купаемся в капусте. Ну и чего ты суетишься? Я же сказал — два месяца льгота. По делу, я еще тебе должен стипендию платить, как студенту.
— Вроде уже выучился.
— Хочешь показать, какой ты благородный, а я жлоб? Забери, пригодятся. Какой-нибудь патрубок полетит, ремонт будет за твой счет… Все, закрыли тему! Тебе мясо, рыбу?
— Как ты, так и я, — неловко улыбнулся Чехлов, пряча деньги.
— Значит, и то, и другое, — сказал Валерка.
Опять харч был высшего класса. Ели, однако, почти молча, Чепурной был задумчив, Чехлов тем более старался не возникать. Босс, однако же, что-то уловил.
— Случилось что?
— Да нет, все нормально.
— Давай, говори, — почти приказал Чепурной.
— Ехал, понимаешь, мимо конторы. А из ворот — Маздаев. «Линкольн» на полквартала, новенький, металлик, Нинка рядом — помнишь? Хозяин жизни!
Глаза у Чепурного сузились.
— Любопытно… А пузанчик наш как?
— Его я, как ушел, не видел. Ни разу не видел.
— Тоже ведь небось не бедствует, а?
— Он себя никогда не обижал.
Чепурной слегка повел взглядом в сторону охранников:
— Дай-ка Гену.
Один из бультерьеров поиграл на кнопках плоской трубки и, вежливо пригнувшись, протянул хозяину.
— Гена, — сказал Чепурной, — запиши-ка, — он продиктовал адрес, — и проверь. В плане нашего интереса… Посмотри, что можно сделать. — И добавил с расстановкой: — Мне это — желательно!
Чехлову он велел позвонить через четыре дня.
Чехлов, как и было велено, позвонил ровно через четыре. Мужской голос на том конце провода попросил подождать, а потом передал новое указание: перезвонить в четверг после обеда.
— Хорошо, — согласился Чехлов.
Приказная система отношений его не тяготила, за жизнь привык. Сперва приказывали только ему, потом кто-то ему, но и он кому-то. Разница была лишь в том, что прежде давили должностью, а теперь еще и деньгами. Деньги, пожалуй, были получше. По крайней мере, Чепурной вызывал куда больше уважения, чем лицемер директор или Маздаев на высоких каблуках. Бандит? Может, и бандит. Но бандит лучше казнокрада.
Ждать четверга не пришлось — в тот же вечер телефонный мужик перезвонил и вежливо приказал подъехать завтра к восьми. Ресторан опять был новый — на набережной, из самых дорогих.
Чехлов приехал с запасом, кое-как приткнул свою жестянку среди шикарных иномарок — в каждой третьей дремали шофера, молодые, спортивные, готовые по команде мгновенно пружинисто распрямиться. Скромно поболтался на улице и ровно в восемь вошел.
Диспозиция была привычная: столик в углу и телохранители в ключевых точках.
— Садись, — сказал Чепурной.
Чехлов сел.
— Не сюда, — Чепурной указал на стул рядом с собой. — Тот для гостя.
Стул для гостя стоял спинкой к залу.
— А кто будет?
— Хороший человек, — усмехнулся Чепурной, — с плохими компанию не водим. Встреча друзей. Так сказать, традиционный сбор.
Ждать не пришлось. Рядом задребезжало, один из бультерьеров поднес к уху трубку и вопросительно глянул на Чепурнова. Тот кивнул:
— Давай.
— Давай, — негромко повторил охранник в трубку. И почти тут же в дверях показался директор. Крепкий малый на полшага сзади то ли почтительно его пропускал вперед, то ли конвоировал.
За те месяцы, что не виделись, толстяк практически не изменился: тот же тугой животик, тот же серый костюмчик, галстук не для красоты, а для приличия — скромный бюджетник, свой среди своих, не начальник, а коллега, живущий от зарплаты до зарплаты. Он улыбался, но улыбка была трусоватая. И шажки были мелкие, и шел он, словно съежившись, стараясь занимать как можно меньше места. И папочка в руке была похожа на салфетку официанта.
Чепурной не привстал навстречу, но гостеприимно развел руками:
— Какие люди без охраны!
Однако банальность фразы и безликость интонации точно определили каждому свою ступеньку. Интуиция у толстячка сработала безукоризненно, садиться без приглашения не стал.
— Да вы садитесь, — шевельнул ладонью Чепурной, — прошу. Мы тут без чинов, все свои. Так сказать, встреча без галстуков.
Директор сел. Место было самое неудобное, носом в угол, что за спиной, не видать — но другого стула не предложили.
— Давненько не виделись, — сказал Чепурной, — ведь сколько воды утекло.
— Море целое, — тут же согласился директор.
— Что пьем?
— Да я в принципе…
— Тут выбор вполне приличный. Я так думаю, сперва по рюмашке, а? — И, не дожидаясь ответа, глянул на ближнего охранника. А тот уже резким взмахом руки подозвал официанта.
— Мясца, рыбки?
И опять холодноватость тона погасила приветливость фразы.
Хлопнули по рюмашке, закусили. Чепурной налил по второй.
— Как там наши-то, а?
На сей раз в голосе было любопытство, больше ничего. Естественное любопытство человека, желавшего знать, как сложились дела у бывших сослуживцев.
— Живут, в общем, — осторожно сказал директор, — вас кто конкретно интересует?
— Да все. Люди-то не чужие, кусок жизни. Владимир Яковлевич как?
— Владимир Яковлевич ушел, к сожалению, — вздохнул директор. — Жаль, хороший был специалист.
Чепурной удивился:
— А чего ж отпустили? За таких обеими руками держаться надо.
Он налил по новой.
Директор отозвался совсем уж печально:
— Ситуация заставила. Финансирование практически прекратилось. Ну, в главке и намекнули — такие-то и такие-то кафедры расформировать. А мы что — мы люди подчиненные…
— Жалко, — искренне огорчился Чепурной, — уж если кто тянул, так он. Светило, без оговорок светило. Будь половчей, давно бы стал академиком.
Чехлов слушал молча. Конторские новости его волновали мало, да и природу их он прекрасно понимал. Владимир Яковлевич был ученым высшего класса, он вряд ли пропадет. В крайнем случае, годик-другой почитает лекции в Оксфорде или Сорбонне — уж его-то пригласят. А на главк толстячок грешил зря, у Владимира Яковлевича была та же беда, что и у самого Чехлова — кафедра на первом этаже. Любопытно, что там откроет Маздаев? «Интим» уже есть, видимо, будет массажный кабинет…
Принесли горячее. Чепурной еще порасспрашивал. Официант поставил новый графинчик.
Однако выпить не получилось.
— Так вот о деле, — сказал Чепурной, — контора пишет?
— Ничего другого не остается, — подыграл директор, он пытался понять, что от него хотят.
— Это хорошо, — похвалил Чепурной, — на то и контора, чтобы писать. — Он уставился на толстячка и спросил жестко: — Сколько дает аренда?
Директор вопроса явно ждал:
— Вы имеете в виду — вся аренда?
— Естественно.
— Вот у меня тут документы…
Он торопливо полез в папочку.
— Изложите устно.
— Всего по бумагам тысяча четыреста в месяц. Ну там с мелочью…
— Реально — сколько?
Толстячок быстро и густо краснел. Чепурной ждал.
— Побольше, — пробормотал директор, — побольше.
Чепурной молчал.
— Больше трех, — мучился директор. Уж как ему не хотелось называть цифру!
И опять помогать ему было некому.
— Три семьсот, — выдавил он наконец.
— Я же сказал — реально, — повторил Чепурной. Он и тут не повысил голоса.
На директора было жалко смотреть. Но Чехлов, единственный зритель недоброго спектакля, не чувствовал ничего, кроме злорадства. Клоп. Жирный клоп, раздувшийся от чужой крови. Сколько раз с благодушной улыбочкой уродовал чьи-то судьбы! И ведь кривлялся, актерствовал, кайф ловил…
— Маздаев говорит — пять. То есть ближе к шести…
Чепурной задумчиво покивал:
— Вот это уже теплее. Воровать, конечно, нехорошо — но что делать, все воруют. А вот своих обманывать — это уже некрасиво. Не интеллигентно. Мы что, не свои? Борис Евгеньевич разве не свой? Сколько чаю на ученом совете вместе с ним выпили, а? Он ведь и сам мог свою кафедру сдать. И он бы, между прочим, как честный человек, с вами поделился.
Толстяк беспомощно молчал.
— Ладно, — сказал Чепурной, — сойдемся на шести. Большие деньги! Так вот эти шесть будут все твои. И дели их, как хочешь. А остальные шесть буду делить я. Ясно?
Директор хотел что-то возразить, но звука не получилось.
— Сегодня среда, — продолжал Чепурной, — значит, в следующий вторник к тебе придут… А, собственно, чего мудрить — вот Борис Евгеньевич как раз и придет. Отдашь ему конверт. Плюс триста за доставку. Не так уж и много — ты ему больше должен.
Лицо у толстяка было такое, будто по нему сапогами прошлись. Он даже губами шевельнул — и вновь вышло бессловесно.
— Рад был повидаться, — сказал Чепурной. И кивнул охраннику: — Проводи товарища.
Лента отмоталась в обратную сторону: впереди, сгорбившись, ковылял толстячок с папкой, на шаг сзади — вежливый сопровождающий.
Чепурной повернулся к Чехлову:
— Ну что, поднялось настроение?
— Поднялось, — ответил Чехлов не слишком уверенно.
— С ними только так! — жестко сказал Чепурной. — Запомнишь, какое число, и каждый месяц будешь ходить к нему за деньгами. Триста зеленых не бог весть что, но тоже бабки. Кстати, аренду, считай, отработал. Мне эти копейки — сам понимаешь. Просто повод был повидаться. А теперь и так будем видеться… Ты на тачке или подбросить?
— На тачке.
— Ну, бывай. Покалымь еще, а там видно будет. Главное — хвост бубликом. Прорвемся!
Прощаясь с Чехловым, Чепурной встал и даже приобнял за плечи. Друг? А хрен его знает. Может, и друг. По крайней мере, никто другой не помог — а он вот помог…
Настроение действительно поднялось. Теперь Чехлов никому не завидовал — повода не было. Конечно, у толстяка директора и Маздаева с его иномаркой денег было не в пример больше, зато и проблем больше. Небось страх обоих колотит. За все в жизни приходится платить — теперь и они попали под раздачу. И конца их страхам Чехлов не видел. В милицию пойдут? Так их же, ворюг, и посадят. Да и струсят идти. Те еще мальчики…
В ближайший вторник Чехлов надел прежнюю свою преподавательскую униформу, аккуратно повязал галстук и поехал в институт. По двору и коридорам шел, улыбаясь, ностальгии не чувствовал и встретить знакомых не боялся. Как дела? Да великолепно дела! Работа хорошая, деньги хорошие, коллектив отличный. Что за контора? Да есть одна — совместное предприятие…
Но шли лекции, никто не встретился и вопросов не задал. Что было к лучшему: зачем врать, если можно не врать?
Впрочем, врать пришлось бы лишь частично. Дела действительно шли — может, и не великолепно, но уж точно не плохо. Работа интересная, деньги приличные, теперь, когда от аренды свободен, еще кое-что останется. Разве что коллектива нет… Хотя почему нет? А Наташа с Лизкой чем не коллектив? Коллектив, и отличный. По крайней мере, куда лучше, чем был в этой богадельне, в черной дыре, куда ухнуло столько сил и столько лет. За будущее Чехлов не беспокоился: раз Чепурной сказал: «Прорвемся», — значит, что-то держит в голове. А не держит, тоже не страшно. Авось года два машина еще побегает, а за это время вполне скопит на тачку поновей. А не скопит, тоже не пропадет: в огромной Москве возможностей навалом. Кто хочет работать, будет работать. Кто хочет зарабатывать, будет зарабатывать…
Секретарша у директора была прежняя, толковая и немолодая: по бабской части за толстячком грехов не числилось. К Чехлову она всегда относилась хорошо, и сейчас искренне обрадовалась:
— Борис Евгеньевич, вернулись?
— Да нет, — улыбнулся он, — просто дело небольшое.
— Устроились куда-то?
— Прекрасно устроился. Куда лучше, чем рассчитывал.
— У Николая Егоровича люди, я сейчас спрошу…
— Да подожду я, — отмахнулся Чехлов.
Секретарша, однако, позвонила, и почти сразу люди посыпались из кабинета. Директор был не то что вежлив — гостеприимен, разве что объятия не раскрыл. Бормоча: «Сейчас, сейчас», — усадил в кресло и вытащил из сейфа два конверта.
— Вот — все, как договорились. Посмотрите на всякий случай.
— Зачем, — укоризненно усмехнулся Чехлов, — мы же не первый день знакомы. Неужели я вам на слово не поверю? Да и что я — я в данном случае вроде курьера.
— Вот это для Валерия Васильевича, — директор протянул толстый конверт, — а это, как я понял, для вас.
— Правильно поняли, — благодушно улыбнулся Чехлов. Былые обиды испарились, мстить толстячку хотя бы интонацией никакого желания не было. Мстить надо, если ты унижен. А сейчас-то унижен не ты…
— А вы сейчас с Валерием Васильевичем работаете? — осторожно поинтересовался директор.
Чехлов покачал головой:
— Да нет, я сам по себе. С Валерием просто приятели. Сколько лет вместе работали!
— Одаренный человек, — сказал толстячок, — очень одаренный. Замечательный организатор! Просмотрели мы человека, я прежде всего. Но помните, какое время было? Не талант нужен, а партбилет. Это сейчас для талантливого человека простор, а тогда — все по регламенту, везде парткомы, анкеты…
Протянуть руку на прощанье директор не решился, ограничился улыбкой и поклонами, напомнив напоследок:
— Значит, жду через месяц.
Сказано это было настойчиво, будто встреча через месяц директору была куда нужнее, чем Чехлову…
Фирма Чепурного помещалась в небольшом, но аккуратном особнячке. Чехлов позвонил снизу, секретарша попросила подождать, а потом сказала, что Валерий Васильевич передавал привет, а к нему сейчас выйдут. Вышел уже знакомый бультерьер, забрал конверт и вежливо поблагодарил. Надо же — вежливое время настало! Вот уж не думал, что доживет…
Еще не было двенадцати — весь день впереди. Но работать не хотелось: ощущение реванша хмельно и сладко качалось в груди, и эту радость просто необходимо было с кем-то разделить. Но — с кем? Чехлов тут же понял, что делить ее не с кем, на веки веков секрет фирмы. Если кто и ликовал бы вместе с ним, так это Наташа. Но и Наташе нельзя ни слова. Вот увидеться с ней — это дело другое.
Дома Наташи не было, но дали ее служебный.
— Радость моя, — сказал Чехлов, — можешь смыться?
— Когда?
— Сейчас.
— Ой, даже не знаю, — неуверенно проговорила она, — а что, надо?
— Позарез! — вполне искренне ответил Чехлов.
Когда встретились, Наташа спросила:
— Что-нибудь случилось?
— Видеть тебя хочу.
— И все?
— Ага.
— Но у меня часа полтора, не больше. Ну, два.
— Все равно ж тебе обедать где-то надо…
В кафешке у дороги пиццу подали сразу. Потом Чехлов, уже не спрашивая, погнал к той их полянке. Подстелить было нечего, он швырнул на траву старую джинсовую куртку, которую возил в багажнике на случай дорожного ремонта. Одежду с Наташи содрал мгновенно…
— Что случилось-то? — спросила она потом.
— Настроение хорошее, — объяснил Чехлов, — вот и захотелось тебя — сил нет!
Она стонала, визжала, бедра задергались в конвульсиях. Чехлов уже и не помнил, когда и с кем так было — может, ни с кем и никогда. Но, едва придя в себя, она бросилась одеваться:
— Меня же с работы погонят…
— Какой я был дурак, — сказал Чехлов, — сколько упустил! Ты бы хоть раз намекнула, что я тебе не противен.
— А сам не мог? — возразила Наташа. — Знаешь, как у меня башка пухла! Когда начальник лезет, не кайф, когда не лезет, еще хуже, начинаются всякие комплексы — может, у меня чего не так? Вроде не косая, не кривая, не горбатая…
— Ты фантастическая телка, — сказал он, — я тебя, конечно, уважаю, и все прочее, но попу тебе по спецзаказу делали. Нинке о такой только мечтать.
Наташа засмеялась и прижалась к нему.
— Не надо, — попросил Чехлов, — в столб влетим.
В который раз он порадовался тому, как повернулась жизнь. Еще два месяца назад покорно мирился с тем, что жизнь медленно идет под уклон, и мечтал только об одном — чтобы хуже не было, по крайней мере намного хуже. А ведь что такое сорок пять лет? Молодость, без оговорок молодость: свобода, азарт, деньги и молодая любовница. Любовница, у которой, если хочешь сказать комплимент, надо похвалить не душу, а задницу.
— Можно тебе сказать одну вещь?
Она улыбнулась, глаза поблескивали.
— Не пугайся, — сказал он, — но, похоже, я тебя чуточку люблю.
Наташа снова засмеялась:
— Если чуточку — не страшно.
Формулировка понравилась обоим. «Чуточку люблю» — идеальный тип не обременительных отношений, лучше не бывает…
Он довез Наташу до конторы. Почти сразу же подвернулся клиент, потом еще один. Бензин оправдал, подумал Чехлов. Но работать не хотелось, утренняя радость не исчерпала себя. С кем бы еще повидаться?
Долго думать не приходилось. Он позвонил Лизке — слава богу, оказалась у телефона.
— Ты чего дома-то? — удивился Чехлов, и осекся, поняв, как бестактно прозвучал вопрос: ведь выбор у девчонки был невелик: не дом, так панель. Он поспешил исправить неловкость: — Жрать не хочешь?
— Да нет, — ответила она, — не особенно.
— А я хочу. Будь другом, составь компанию.
— Чего ты такой веселый?
— Настроение хорошее.
— Тогда лучше не видеться, — сказала она, — у меня плохое.
— Ты что, наоборот, — настаивал Чехлов, — сложим вместе, поделим пополам — выйдет как раз в меру…
Он выбрал кафешку поприличнее. Съели по шашлыку. Для порядка Чехлов предложил выпить, она, как всегда, отказалась даже от пива. Лизка была молчалива, глядела угрюмо.
— Случилось чего? — спросил он.
— Ничего не случилось.
— А чего мрачная?
Она огрызнулась:
— А ты чего веселый? Случилось чего?
— Просто так, — улыбнулся Чехлов
— Ну вот и я просто так, — ответила Лизка, только без улыбки.
Разговорить ее не удалось, и Чехлов отстал: в конце концов, любое настроение, и мрачное в том числе, надо уважать — у него ведь тоже бывали провальные дни без всякой причины.
Он отвез ее к дому. Уже стемнело, в квартале старых пятиэтажек фонари горели через четыре на пятый. Лизка показала, как быстрей проехать дворами. Возле обшарпанной подворотни велела остановиться. Чехлов дружески тронул губами ее щеку и поблагодарил за компанию.
Помедлив, она ворчливо проговорила:
— А все-таки, с чего это ты сегодня такой довольный?
— День удачный! — объяснил Чехлов. — Три месяца назад мне один подонок ножку подставил, а сегодня я ему пинка дал. Мелочь, а приятно. Не люблю, чтобы на мне долги висели.
— Понятно, — кивнула Лизка. И вдруг зло спросила: — Послушай, тебе что, никогда не хотелось меня трахнуть?
— Как — трахнуть? — растерялся он.
— Не знаешь, как трахают?
— Конечно, хотелось, — выразил он готовность почти автоматически, еще не совсем улавливая, к чему этот разговор.
— А тогда чего не мычишь, не телишься?
— Да неловко как-то, ни с того ни с сего…
— Вон видишь гаражи? — показала она глазами. — Подгони туда.
Он развернул машину, поставил капотом к крайнему гаражу. Лизка быстро стянула трусики.
— В машине прямо? — Он еще надеялся, что это прикол.
— А тебе «Метрополь» нужен? — выдавила она почти с ненавистью. Она уже стояла на коленках, прогнув спину и упершись лбом в боковое стекло.
Чехлов вдруг почувствовал, что нет необходимости ни в «Метрополе», ни в чем-либо ином. Сама ситуация возбудила мгновенно: две молоденькие девки за день, и обе сами хотят, будто он какой-нибудь Ален Делон.
— Держи резинку, — бросила Лизка и сунула ему в руку презерватив, — мне ни к чему беременность, а тебе триппер… Да не бойся, ничего у меня нет, просто поговорка такая…
Вот и у ночных бабочек появился свой фольклор, подумал Чехлов. Больше мыслей не возникло. Даже тесно в машине не показалось.
Потом Лизка открыла дверцу, не спеша натянула трусики и спросила мрачно:
— Ну — не умер?
— Вроде, живой. А что?
— Скажи честно — на хрена я тебе нужна?
Вопрос прозвучал раздраженно, и он, тоже раздражаясь, ответил в тон:
— А что, обязательна корысть какая? Просто нужна! Ты человек, и я человек. Вот и нужна, как человек.
— Думаешь, трахнуться захотелось? — буркнула Лизка. — Вот уж на что не голодная! Просто надоело мозги дрочить. Клиент не клиент, мужик не мужик… Кто ты мне?
— У меня две дочки, — сказал Чехлов, — и обе старше тебя. Могу я себе позволить просто хорошо к тебе относиться? А как это называется… Ну какая тебе разница? Друг — слыхала такое слово? Можешь считать, что я твой друг. Устраивает?
— Ладно, устраивает, — уже миролюбиво согласилась Елизавета…
Был поздний вечер, время самое калымное, но работать Чехлов не стал, сразу поехал домой. Смотрел на огни за стеклами, для порядка вздыхал и покачивал головой: Россия, мать ее — везде психология. Хотя, с другой стороны, день-то какой! Лет пять, наверное, такого дня не было. А, может, все десять. А, может, вообще, никогда…
Сорок пять лет. А что такое сорок пять лет? Если без ученых советов и без бородки — по сути, молодость. Жить и жить…
Похоже, жена начала о чем-то догадываться — она практически перестала спрашивать о работе. На всякий случай Чехлов решил подстелить соломки: рассказал со смехом, что днем вышла уникальная хохма, какая-то тетка попросила подбросить ее до Гольянова и дала четыре штуки.
— А чего, хорошие деньги, — сказала Анна без особого удивления, — в институте ты столько не зарабатывал.
— Вот и я подумал: стоило ли мучиться с диссертациями, когда такая хлебная профессия в руках? Если Валерка выгонит, пойду в таксисты.
— Я бы сама хоть в уборщицы нанялась, если бы платили, как в Штатах, — вздохнула жена.
В Америке она не была и в уборщицы, Чехлов знал, не наймется — но ведь зачем-то это сказала? И, опять-таки на всякий случай, сформулировал:
— Деньги зарабатывать не стыдно, стыдно их не иметь.
Зарабатывал он по-прежнему неплохо и уже привык, что дома не надо считать каждый рубль, и в кармане всегда шелестит достаточно, и, если проголодался, ни к чему искать глазами булочную — кафешки перестали быть проблемой. Конечно, день на день не приходился, но с пустыми руками домой никогда не возвращался.
Бывали, конечно, и не слишком удачные дни. Как-то болтливая бабенка подрядила ехать на окраину и без торга приняла его цену, но у подъезда попросила подождать три минуты и выскочила, оставив на сиденье пухлый пластиковый пакет. Чехлов прождал полчаса, прежде чем решил заглянуть в пакет — там оказалась пустая коробка, две газеты и почти беззубая щетка для волос. В доме было двадцать два этажа — не станешь же обходить все квартиры. Было не так жалко потерянного времени, как противно чувствовать себя дураком. И на обратном пути клиент попался не сахарный — толстый мужик заплатил, как договаривались, но всю дорогу вел идеологическую работу, вещал, что народ испохабился, каждый тянет в свою нору и пора наводить порядок.
— В России с порядком всегда были проблемы, — сдержанно возразил Чехлов. Обычно он с клиентами не спорил, но злость на хитрую бабенку еще не улеглась.
— При Сталине проблем не было, — сказал малый, — это сейчас все разболталось. Ты вот небось инженером был?
— Кандидат наук, — ответил Чехлов: обычно он деталями биографии не делился, но тут не было настроения врать.
— И русский ведь, так?
— Ну не китаец же.
— А возишь небось одних черножопых.
— Не обязательно, — сказал Чехлов, — ты ведь не черножопый.
— Я — особ статья, — значительно ответил малый и принялся разглагольствовать, что скоро бардаку конец, народ терпеть не станет, и всяких деляг раскулачат так, как раньше им и не снилось: они думают, их власть навек, а они уже все переписаны, все адресочки где надо. На прощанье он оставил Чехлову листовку, где говорилось, что олигархи разворовали всю Россию, что час близок, и предлагалось записываться в Партию народной революции. Внизу указывались два контактных телефона.
— Много записалось? — поинтересовался Чехлов.
— Достаточно, — кивнул малый, — много и не надо. В таких делах главное организация. Если хочешь знать, тысяча человек всю Москву на уши поставят. А еще сто тысяч в процессе набегут.
А чего, подумал Чехлов, если пограбить, так и миллион набежит.
Листовка была с ошибками, но на хорошей бумаге. Чехлов хотел ее выбросить, но потом передумал, сунул в бардачок. Надо будет Чепурному показать — хоть маленький, но, пожалуй, тоже олигарх.
Работа шла хорошо, Чехлов почти не простаивал, и уже ближе к вечеру он позвонил Анне сказать, что задерживается. Жена приняла это как должное и в свою очередь сообщила, что звонила Светка, просила при случае заехать — о чем-то ей надо посоветоваться. Чехлов спросил, о чем. Анна с удовольствием перевела стрелки на мужа:
— Я-то откуда знаю? Любовница твоя, ты и разбирайся.
Светка действительно была его любовницей, но сто лет назад, в холостой молодости, еще до Аньки. Компания тогда была общая, и когда у Чехлова начался серьезный роман с Анной, приятели ловили кайф, глядя, как две девки фырчат друг на друга, словно кошки, не поделившие кота. Потом девкам надоело веселить окружающих, они сделали вид, что подружились, а в дальнейшем и вправду подружились, тем более что Светка завела свой роман, долгий и прочный, хотя в конце концов и завершившийся ничем. Поскольку фундаментом дружбы двух любимых женщин стало убеждение, что все мужики кобели и подонки, они довольно быстро составили нечто вроде общего фронта против Чехлова, что его в основном забавило, но, бывало, и раздражало. Однако приходилось терпеть: Светка была в семье человеком полезным, абсолютно своим, любила готовить, не отказывалась посидеть с детьми, когда Анька болела, могла и постирать, а, главное, в случае чего на нее всегда можно было положиться. Жена любила говорить, что каменная стена — мечта молодых идиоток, но хоть скромный заборчик у каждого человека должен быть. Пожалуй, для Чехловых Светка как раз и была таким заборчиком. В рискованных ситуациях она вела себя достойно, дочки с ней шептались, зная, что до родителей не дойдет, а если узнавала о внештатных развлечениях Чехлова, вполне могла устроить ему сцену, но Аньке не продавала. Словом, если существует понятие «друг дома», Светка как раз таким другом и была.
В принципе заглянуть к ней по делу вовсе не означало пойти в гости. Чехлов тем не менее купил красивую бутылку сухого и большой шоколадный торт — по той приятной причине, что мог себе позволить. Светка была в японском халате с драконами, который именовался гостевым и в домашних условиях выглядел почти парадно. Квартира у нее была маленькая, но двухкомнатная, вся в самодельных, под потолок, стеллажах: переводчиком Светка была потомственным, в третьем поколении, и книги копились с бабушкиных времен, то ли на шести, то ли на семи языках. На рабочем столе светился монитор — компьютер у Светки был допотопный, удручающе медлительный, но она уверяла, что для переводов его хватает, тем более что денег на новый все равно нет. Рядом лежала ксерокопия на английском с богатыми иллюстрациями. Чехлов машинально перевернул заглавный лист — «Секреты экстремального секса».
— Круто, — сказал Чехлов и положил лист на место.
— Бывает и круче, — без улыбки отозвалась Светка.
Он поставил на стол бутылку и полез за штопором — принимать гостей на кухне Светка не любила, и штопор обычно валялся в ящичке с разными компьютерными мелочами.
— Погоди, — сказала она, — давай поговорим без бутылки.
— Это сухое, — отмахнулся Чехлов.
Он достал рюмки, разлил вино. Светка рюмку не взяла.
— Случилось что? — спросил он, уже начиная беспокоиться.
— К сожалению, — проговорила Светка и отвела глаза.
Чехлов тоже поставил свою рюмку на стол.
— Ну-ка, давай, — сказал он требовательно, — в чем дело?
— Ты Антонину помнишь?
— Какую Антонину?
— Ну Тоньку, мы с ней учились когда-то. Ну помнишь, два года назад в Икшу ездили?
— Как ездили — помню.
— Ну вот она там была.
Тон у Светки был почти похоронный, и Чехлов всерьез встревожился:
— И что с ней случилось?
— С ней — ничего, — сказала Светка.
— А с кем случилось?
— Видимо, с тобой.
— Со мной? — изумился Чехлов.
— В принципе, ты мог ее не узнать, — сказала Светка, — но вот она тебя, к сожалению, узнала.
Чехлов ничего не понимал. Какая-то едва знакомая баба его узнала — и что? Может, подсмотрела, как он тогда с Наташей? Или в машине с Лизкой? Мало вероятно, но… Что ж, придется отпираться.
— Не понимаю, — сказал он, — абсолютно ничего не понимаю.
Светка посмотрела ему прямо в глаза:
— Ты подвез ее на машине. И — назвал цену. И — взял деньги.
Так вот оно что… Чехлов почувствовал, что густо краснеет.
Он давно осознал такую возможность, принял ее как факт, был готов к ней, даже фразы какие-то приготовил. Но вот не покраснеть оказалось выше его сил.
— Все равно не понимаю, — сказал он.
В Светкином голосе появилось раздражение:
— Чего ты не понимаешь? Ты ее подвез. И взял деньги. Это было?
— Не помню.
Он действительно не помнил. Вроде дня три назад какая-то бабенка смотрела на него слишком пристально и даже чуть-чуть ехидно. Но была это некая Тонька или еще кто…
— Раз не помнишь, — наседала Светка, — значит, это могло быть?
Чехлов недоуменно пожал плечами.
— Могло быть, — уже утвердительно произнесла Светка, — значит, было. И, видимо, не раз… Ну — чего ты молчишь?
— А что я должен сказать?
— Это, видимо, ты знаешь.
Чехлов изобразил на лице большую досаду, чем чувствовал на самом деле:
— Ты помнишь анекдот про белую лошадь?
— Какой еще анекдот?
— Хороший анекдот. Английский. Владелец поместья говорит слуге: «Джон, приведи белую лошадь, подними на третий этаж и поставь в ванную». Слуга возражает: «Сэр, я никогда не задавал вам вопросы, но сейчас я хотел бы знать — зачем вам в ванной белая лошадь»? — «Видишь ли, Джон, вечером ко мне приедет в гости сэр Питер, с дороги он захочет принять душ, тут же спустится ко мне и скажет: „Сэр, у вас в ванной белая лошадь!“ А я ему отвечу: „Ну и что?..“». Вот и я тебе сейчас отвечаю: ну и что?
Светка слегка растерялась:
— Это все, что ты можешь сказать?
— А что еще надо говорить?
— Значит, это обычное явление?
— Вполне возможно.
— То есть ты регулярно этим подрабатываешь?
— Всяко бывает.
— И ты так спокойно об этом говоришь?
— А что мне, волосы на себе рвать?
Светка надолго замолчала. Потом с горечью произнесла:
— Ну что же, значит, теперь так. Такая жизнь. Такая блядская жизнь. Доктор наук калымит на машине.
— Не совсем доктор, — поправил Чехлов, — ВАК пока не утвердил…
— Какая разница! — прервала она. — Утвердил, не утвердил… Если бы пять лет назад мне сказали, что доктор наук ради выживания будет возить разных блядей…
— А Тонька разве блядь? — невинно поинтересовался Чехлов.
Видимо, он перебрал с юмором — Светка разозлилась. За долгое знакомство она изучила его хорошо и, как достать побольней, конечно, знала. Она сказала сочувственно:
— Знаешь, Чехлов, мне тебя жаль. Даже не тебя, а всех нас. Если талантливого ученого делают половиком для всякого ничтожества или, как однажды выразилась твоя старшая дочь, опускают ниже плинтуса — значит, стране надеяться не на что. Что же, будем доживать, как получится.
Чехлов постарался удержать на лице выражение искреннего любопытства:
— А почему тебе меня жаль?
Светка передернула плечами:
— А что прикажешь, радоваться? Или гордиться? Я всегда считала тебя мужиком, причем не слабым. Да и сейчас считаю. Видимо, у тебя просто выхода не было, если уж тебя поставили в позу…
Это было прямое хамство, и Чехлов тоже разозлился — какого черта он должен выслушивать гадости от бабы, которую когда-то сам не раз ставил в позу? Ответил, однако, максимально спокойно:
— Должен тебя огорчить, но никакого выхода я просто не искал. И искать не собираюсь. Если хочешь знать правду, я живу именно так, как хочу. И прекрасно себя чувствую. И что-либо менять в жизни, по крайней мере в ближайший год, не собираюсь. Мне хорошо, ты можешь это понять? Мне — хорошо.
Светка усмехнулась:
— Тебя выгнали с работы, ты вынужден левачить — и тебе хорошо? А если тебя позовут назад?
— Пошлю их в задницу.
— Это честно?
Теперь она не обличала — она и вправду пыталась понять. Чехлов попробовал объяснить:
— Зачем мне врать? Я свободный человек — понимаешь? Я хозяин своему времени, своим занятиям, своим деньгам. Ни от кого не завишу и ни перед кем не отчитываюсь. Всю жизнь зависел — а сейчас не завишу.
Светка снова помотала головой:
— Теперь я ничего не понимаю. Ты ученый, известный ученый, тебя уважали…
— Да брось ты! — отмахнулся Чехлов.
— Но тебя действительно уважали. Тебя знали в Европе! Сколько у тебя напечатано статей за границей — пять?
— Шесть. Ну и что?
— То есть как — что? Шесть статей в зарубежной печати — это уже известность. Это имя!
Чехлов поморщился:
— Да какое имя? Ты хоть знаешь, откуда все эти публикации взялись? Это же чушь собачья! Помнишь, я как-то рассказывал — к нам испанец приезжал, Рауль? Уж не знаю, как его в нашу убогую контору заслали. Вот меня и отрядили его развлекать. Денег дали, музеи, то-се. Ну и, естественно, ресторан при гостинице. А дальше все по-русски: посидели, выпили, подружились, пару девок, извини меня, трахнули. Он и напечатал мою статью у себя там в ученых трудах. Приглашение мне устроил на конференцию. После конференции опять же сборник по результатам, тираж двести экземпляров: штук десять испанцев, один румын, один поляк и я. А дальше как положено — я опубликовал румына с поляком здесь, они меня у себя. Ну и пошло! Затевают где-нибудь сборник, и начинают пасьянс раскладывать: испанец есть, китаец есть, а русского нет. Кто у нас русский? Чехлов у нас русский! Им же совершенно все равно, Иванов, Петров или Сидоров, им важно дырку заткнуть, чтобы акция получилась международной. Тот случай, когда идет совершенная липа, но всем выгодно делать вид, что это серьезная наука.
— А твоя докторская — не наука?
— Наука. Только кому эта наука нужна? Да, раскопал все, что было в библиотеках, сто штук ссылок. Но повод-то какой? Хреновый поэт, три вшивеньких сборника, главная заслуга перед человечеством, что написал письмо Лорке и получил ответ. В Испании давно забыт, а мы этим гордились — мол, дома не помнят, а у нас изучают. Вот на это тратилась моя единственная жизнь.
Она спросила:
— А на машине халтурить — лучше?
— Уж точно не хуже. Вожу людей, а они мне деньги платят.
— Много платят?
— Раза в три больше, чем в институте. Но главное даже не это — в конторе я халтурил, а здесь, извини, работаю.
Светка задумалась надолго. Потом проговорила со вздохом:
— А тебе не кажется, что ты просто себя успокаиваешь? Ты сдался и успокаиваешь себя.
Теперь, когда Чехлов выговорился, злость пропала, и он искренне огорчился:
— Все же не поняла. К сожалению, ничего не поняла. Ты выйди на улицу и посмотри вокруг: это же другая страна. Мы живем в совершенно другой стране! Можно спорить, лучше она или хуже, но она — другая. Законы в ней другие, люди другие, жизнь другая.
— И тебе эта жизнь нравится?
— Не знаю, пока не решил. Но что точно — она мне интересна. И ее существование — факт, непреложный факт. Кто-то в нее вписался, кто-то пытается по-прежнему жить в совке. Я жить в совке не хочу. Ни при каких условиях.
— Хочешь вписаться? — спросила Светка.
— Да. Хочу вписаться.
Помолчали.
— Ну что ж, — сказала она, — каждый делает свой выбор. Я свой сделала. Опустить себя я не позволю.
Лицо у нее было постное, и Чехлов опять почувствовал раздражение. Он помахал заглавной страничкой ксерокопии:
— Твой выбор — экстремальный секс?
Тут она все же сорвалась:
— Да — для денег. Только для денег! Это не моя вина: я вынуждена выживать. Но я не сдалась. И вписываться в этот бардак не собираюсь. Ты говоришь, теперь жизнь такая? Пусть — но это не моя жизнь! И я все-таки перевожу настоящую литературу. Перевожу для себя — но когда-нибудь она выйдет именно в моем переводе.
— Дай тебе бог, — пожелал Чехлов.
На том дискуссия и кончилась. Они даже чаю попили с тортом, правда, от вина оба отказались: Светка сказала, что не хочется, Чехлов — что за рулем.
Она спросила:
— Анька знает?
Чехлов пожал плечами.
— На всякий случай имей в виду: если и узнает, то не от меня.
На прощанье в знак согласия и примирения он даже поцеловал ее в щеку. Но уже в дверях она вдруг сказала:
— А знаешь, Чехлов, в чем разница между нами?
Он вопросительно посмотрел на нее.
— Разница в том, что я выживаю, чтобы жить. А ты живешь, чтобы выжить.
В принципе Чехлову было все равно, за кем останется последнее слово, пусть бы и за Светкой. Но он все же попытался напоследок объяснить ей нечто, для себя очень важное. Он сказал:
— Ты даже не представляешь, какое это увлекательное занятие: выживать.
Светка пожала плечами.
Не поняла. Жалко — хорошая баба…
В положенный день он подъехал к толстячку. Тот встретил еще приветливей, подбежал к дверям, протянул обе руки — честь-то какая! Задал все дежурные вопросы (дела, здоровье), получил все дежурные ответы и передал из рук в руки два аккуратненьких конвертика.
На сей раз Чепурной пожелал увидеться — разумеется, в ресторане. Что ж, в приятном месте и встретиться приятно. В последний момент Чехлов вспомнил про листовку «народных революционеров», для хохмы взял с собой: надо же знать олигарху, что ему грозит.
После первой рюмашки Чепурной спросил, как жизнь. Чехлов ответил, что интересно. Валерка усмехнулся:
— Не слишком интересно-то?
— Пока в самый раз, а там видно будет.
Чепурной вздохнул с некоторой даже завистью:
— Сколько же я тогда народу повидал, а? Если по сути, это был для меня настоящий университет. Все эти «Коммерсанты» и «Финансовые ведомости» — просто выжимки, а жизнь, как она есть… Будь моя воля, всех своих замов каждый год месяца на два сажал бы за баранку, да и сам садился.
— За чем дело стало? — подыграл Чехлов. Ему было не совсем ловко, хотелось выглядеть равным собеседником, да плохо получалось.
Они выпили за вольную жизнь левака, самое мужское из занятий. Хрен с ним, подумал Чехлов, на метро доеду, а завтра с утра заберу тачку.
— Я даже в отпуск больше чем на неделю вырваться не могу, — пожаловался Чепурной, — у нас ведь не Швеция. Это там фирмы по двести лет существуют, все идет накатом, хозяин вообще может на Багамах жить. А у нас тут все на паутинках — ниточку выпустил из рук, и все валится. Пока что бизнес по-русски весь экстремален. Держишь дело в руках — и все с тобой считаются, и все боятся. А попробуй уйти — тут же догонят…
Момент был подходящий, и Чехлов с ухмылкой сказал, будто только что вспомнил:
— Кстати, мне тут листовку дали — вербуют в борцы за народное счастье. Глянь для интереса.
Чепурной повертел бумажку в руках, прочел внимательно.
— Крутые ребята, — сказал он, — с грамматешкой проблемы, а так — крутые. Понять их можно — работать лень, а кушать хочется. Будь я благотворитель, обязательно что-нибудь им подкинул бы. Но я же не благотворитель.
— Как думаешь, это серьезно? — спросил Чехлов.
— Видимо, кто-то их придерживает на всякий случай.
— На какой?
— Сейчас всяких случаев много. Рынок, например, погромить, пару киосков спалить у конкурента.
— Мне тот малый сказал, их тысяча, а резерв — тысяч сто. Реально или врет?
— Насчет тысячи, конечно, врет, но рыл триста, может, и наберется.
— Они грозят, что все олигархи у них переписаны. Ты не олигарх?
— Куда мне, — отмахнулся Чепурной, — олигархи нефть качают. Но для них, конечно, олигарх. Для них и лотошник на рынке олигарх, особенно если рожа кавказская.
— Что-нибудь серьезное они могут устроить?
— Революцию, что ли? — Валерка снова повертел в руках листовку. — Адреса нет, но это не имеет значения… Ладно, давай по махонькой за народное счастье.
Они выпили по махонькой. Водка была идеальная, с тонким привкусом лимона.
— Видишь, — сказал Чепурной, — они всех переписали. Но я так полагаю, не они одни писать умеют. У меня вот в конторе есть папочка, синенькая такая, и в ней все более-менее любопытные команды по нашему округу, полный состав с адресами. Бандиты, революционеры — все там. Пока не мешают, пусть живут. Но если решат наехать, им будет печально. Можешь мне поверить: настоящему бизнесу беспорядки не нужны. Как ты думаешь, сколько в одной Москве частных армий?
— Понятия не имею, — честно ответил Чехлов.
— Сто охранников — армия?
— Пожалуй, армия.
— А двадцать?
— Не знаю.
— А десять?
Чехлов промолчал.
— Десять, — веско произнес Чепурной, — тоже армия. Ну вот попрет на меня толпа в триста рыл, на офис или на склад — я что, лапки кверху? Я выведу моих волкодавов, их теперь двенадцать штук. Так вот, если надо, они сотню революционеров по асфальту размажут, а остальные башмаки им поцелуют и на карачках уползут. Это ментам можно приказать — со щитами, но без оружия. А у меня не менты, мои церемониться не станут. И таких частных армий в Москве тысяч пять, если не десять. Я тебе вот как скажу: все эти недоноски, хоть с флагами, хоть со свастиками, — дерьмо, ни на что не способное. Их выпускают, когда надо интеллигентов попугать или журналюг позабавить. Их бояться не надо.
— А кого надо? — спросил Чехлов, после шести стопок соображавший замедленно.
— Смотря кому, — рассудил Чепурной, — тебе, например, придурка с ножом или заточкой. А мне… Мне, к сожалению, тоже надо опасаться. — Он ритмично постучал пальцами по столу и невесело пояснил: — Мне, брат, надо опасаться винтовки с оптическим прицелом.
— Есть кому стрелять? — Чехлов не то чтобы протрезвел, но посерьезнел.
— Кому стрелять всегда найдется, — ответил Валерка. Потом он спросил: — На тачке?
— Ерунда, доберусь.
Чепурной пальцем поманил одного из бультерьеров, не считая, отщипнул несколько бумажек и велел доставить друга в целости и сохранности. Бультерьер, с трудом всунувшись, сел за руль «копейки», спросил адрес, а после предложил проводить до квартиры.
— Да я трезвый, — не совсем уверенно возразил Чехлов.
Бультерьер спорить не стал, но подождал в дверях подъезда, пока наверху не хлопнула дверь.
Утром жена обрадовала и удивила. Поставив на стол кофе с его любимыми калорийными булочками, она вдруг осторожно спросила:
— У тебя есть три минуты?
— Естественно.
— Можно с тобой поговорить?
Тут уж он насторожился:
— Странный вопрос…
— Так можно?
— Давай.
Жена сказала кротко:
— Ты знаешь, что я тебя люблю?
— По крайней мере, на это надеюсь, — улыбнулся Чехлов.
— Так знаешь?
— Ну знаю.
— А что я тебе друг?
Внутри Чехлова все заметалось. Такие вопросы с кондачка не задают. Видимо, что-то узнала. Но — что? Про девок? Про его истинный нынешний заработок? Особо смущала кротость жены.
— Конечно, друг, — сказал он, — кто, если не ты?
— А что на меня всегда можно положиться? — продолжала Анна свой странный допрос.
— Естественно, знаю. Мы два матроса в одной лодке — на кого же еще полагаться? А к чему ты это?
— Ни к чему, — сказала она и улыбнулась, — просто хочу, чтобы ты все это знал. Всегда знал. Сейчас жизнь трудная, и я очень рада, что мой муж именно ты. Ты мне как-то сказал, что класс водителя проверяется не на прямой, а на повороте. Вот сейчас как раз поворот. Ты бы слышал, как все вокруг ноют! У нас на работе все ноют, и бабы, и мужики. А ты не ноешь.
Чехлов почувствовал, что краснеет. «Класс водителя»… Узнала?
— Что толку ныть, — сказал он, — это когда-нибудь чему-нибудь помогало? С жизнью ведь так — либо ты ее, либо она тебя. Так уж лучше я ее.
— Я тебя очень люблю, — сказала Анька, — пожалуйста, знай это. Я ведь тебя жутко ревновала, и не всегда зря, ты знаешь. Но потом подумала: мне же он нравится, так чего удивляюсь, что он нравится другим? А теперь я тебя просто люблю.
Тем разговор и кончился — она спешила в контору. Чехлов остановил ее в дверях и крепко, длинно поцеловал в губы, чего у них давно не водилось. Будь у нее хоть двадцать минут в запасе, потащил бы в спальню. Но двадцати минут не было, и она побежала к метро.
Чувство нежности к жене требовало выхода, и он позвонил Наташе. Времени у нее оказалось в обрез, никаких кафе, прямо на ту полянку. Едва добежав до нее, Наташа торопливо принялась раздеваться — впрочем, и сбросить-то ей нужно было платьице да трусики, бюстгальтер стащил уже он. Сам Чехлов только и успел расстегнуть ремень, Наташа жадно влипла в него всем своим голым телом, остальное раздевание происходило в процессе. И опять в нем перемешалось элементарное возбуждение, восхищение совершенной женской плотью и самодовольство мужика, в котором ценят не умника, не советчика, не покровителя, а любовника, трахальщика, самца.
Едва очнувшись она забормотала:
— Выгонят меня, ох выгонят! Вези быстрей.
Она накинула платье.
— А трусики? — спросил Чехлов уже на ходу.
— В машине надену.
Она действительно надевала их в машине, причем подол задрала так, что он взмолился:
— Разобьемся же!
Высадив Наташу за углом ее конторы, он минут пять просто медленно катил вдоль улицы, отдыхая. В душе опять плавно колыхалось чувство нежности и благодарности жене, будто это ее, а не Наташу он только что с таким кайфом оттрахал. Ведь действительно друг. Действительно, самый надежный человек. Два матроса в одной лодке — что тут еще скажешь!
Дальше мысли стали сладко путаться. А Наташа кто — не матрос? А маленькая Лизка — не матрос? Бог ты мой, насколько же лучше стала жизнь…
Он не выдержал, позвонил Наташе из какого-то автомата:
— Ты как?
— Жива, — сказала она.
— Тебе нормально было?
— По мне не видел?
— Видел.
— А тебе как?
— Тоже нормально, — ответил Чехлов, — слишком нормально.
— Что значит — слишком?
— Это значит — так не бывает. Слишком здорово. Вообще, все слишком здорово. Так здорово, что страшно.
Вскоре, и месяца не прошло, выяснилось, что боялся он не зря.
В положенный вторник он подъехал к прежней своей конторе, к гостеприимному толстячку. На сей раз директор через секретаршу попросил минут десять подождать. Чехлов подождал. Потом прошел в кабинет. Толстячок, как и в те разы, вышел из-за стола, и руку пожал, и указал на кресло — все вышло, как обычно, только рукопожатие получилось короче и дежурней. Поскольку все было давно оговорено, Чехлов просто ждал, глядя на директора. Но и толстячок ждал, глядя на Чехлова. Пауза затягивалась, и Чехлов поинтересовался:
— Проблемы?
— Арендаторы подводят, — вздохнул толстячок, — давайте отложим вопрос на недельку.
Чехлов удивился, но вида не подал, встал с кресла и произнес беззаботно:
— Мне что, я курьер. Наверное, Валерий Васильевич недельку потерпит.
А толстячок все не сводил с него странно внимательных глаз, словно не просто смотрел, а высматривал. Потом решился:
— А вы что, новости сегодня не смотрели?
— Да не успел еще.
— Вы посмотрите, — осторожно порекомендовал директор, — бог даст, ошибка…
— Посмотрю, — кивнул Чехлов.
Толстячок явно ждал вопроса. Но Чехлов не хотел его радовать, и вопроса не задал. Уже в дверях он обернулся, чтобы со сладкой вежливостью, в масть директору, кивнуть напоследок. И вдруг поймал ехидную, почти торжествующую улыбочку толстячка. Тот мгновенно спохватился и улыбку погасил. Чему он радовался?
Чехлов прошел за угол, в переулок, где обычно оставлял машину, чтобы не засвечивать перед бывшими коллегами ее пятнистые от ржавчины бока. Проехал пару кварталов, взял какую-то тетку с двумя сумками, потом дедулю с ребенком. Он вспоминал разговор с толстячком и чувствовал, как нарастает тревога. Что-то явно произошло. Но — что? Директор ушел под какую-то крутую крышу? Но тогда зачем ссылка на нерадивых арендаторов? Валерка решил сменить курьера? Но тогда, наверное, сам бы сказал. Впрочем, не виделись месяц, а за месяц мало ли что может произойти. А, главное, какие новости толстый жулик имел в виду?
В любом случае, надо было позвонить Чепурному — его клиент, ему и решать. Чехлов остановился у ближайшего автомата, но потом передумал и поехал домой. Пообедает, заодно и позвонит.
Дома он поставил котлеты на маленький огонь и набрал Валеркин номер. Трубку взяла не секретарша, а какой-то мужик.
— Валерий Васильевич у себя?
— А кто спрашивает?
Чехлов назвался. Мужик повторил вслух его фамилию — видимо, кому-то стоящему рядом, — после чего буркнул коротко:
— Завтра позвоните.
— Во сколько лучше? — спросил было Чехлов, но из трубки уже шли гудки.
Чехлов поел, посидел задумчиво. Потом вдруг вспомнил — ведь толстячок что-то брякнул про новости. Включил телевизор и стал медленно пить чай, дожидаясь, пока начнутся «Вести». Дождался, просмотрел от начала до конца. Все обычно, ничего существенного. В Думе бардак, в Африке засуха, премьер подписал какое-то постановление. Правда, Лужков дал разгон двум своим замам и особо возмущался по поводу аренды — может, на это и намекал толстячок? Когда пошла сводка погоды, Чехлов вырубил ящик и пошел на улицу, к машине. В конце концов, позвонит завтра Валерке и что-то выяснит. Не терять же из-за ерунды рабочий день!
Ему повезло — прямо на улице попался клиент в аэропорт. И обратно прихватил мужичка, хоть и задешево, но, по крайней мере, ехал не пустой. В общем, день получился лучше среднего, и все бы было путем, если бы не шевелилась под ребрами легкая тревога. Привычный азарт так и не появился, и вскоре после восьми Чехлов поехал домой.
Лампочка в подъезде перегорела, чтобы не искать ключи, позвонил. Открыла Анна. Лицо у нее было странно озабоченное.
— Ну как ты? — сразу же спросила она.
— Нормально, — пожал плечами Чехлов.
— Ну слава богу!
— А в чем дело, — почти разозлился он, — почему слава богу? У меня должно быть что-то ненормально?
— Ты что, не смотрел новости?
— Смотрел. А что?
— Про Валерия слышал?
— Ничего не слышал. А что случилось?
Впрочем, вопрос можно было и не задавать. Тревога, копившаяся в нем весь день, приобрела ясные очертания еще до того, как жена испуганно выдохнула:
— Он же погиб.
Прежде всего Чехлов бросился к ящику. Ублюдочная жизнь — даже о гибели друга сообщает хитроглазый придурок с экрана! Чехлов поискал канал с новостями, но не нашел: фильмы, игры, реклама, еще какая-то хренотень. Теперь сразу стал понятен странно пристальный взгляд толстячка, в котором было еще нечто. Ехидство — вот что: трусоватое, на самое донышко запрятанное ехидство. Видно, недешево давалось ему унижение этих месяцев…
— Жутко, — сказала Анна, — уже и таких убивают.
— Сама слышала?
— Ну да. Случайно натолкнулась. Утром ты ушел, хотела погоду поймать, а тут как раз и сообщили.
— Что сообщили?! — почти крикнул Чехлов. До него еще не дошел весь ужас происшедшего, но уже в смуте мыслей знобяще обозначилось, что оборвалась не только Валеркина жизнь, но и его, Чехлова, жизнь тоже кончилась, кончилась второй раз за последние месяцы. Прежде за него худо-бедно отвечал институт, потом худо-бедно отвечал Валерка, а теперь не отвечает никто. Один. Не на кого надеяться.
— Так чего сообщили-то? — повторил он уже спокойней.
— Убили. В собственном дворе, пока шел к машине. Я думала, ты уже знаешь. Вы же, по-моему, дружили?
— Хрен его знает, как это теперь называется, — ответил Чехлов не столько Анне, сколько самому себе, — да нет, чего там — конечно, дружили. Чуть не десять лет в одной конторе, да и потом…
Конечно, дружили, молча повторил он самому себе. Теперь, когда Валерка ушел, их отношения как бы разом стали теплее и ближе. Сколько знакомы-то! А кто помог, когда оказался на улице без связей и надежд? Ведь помог! И дальше бы помог. Ну развлекался — и что? Мало ли они и прежде друг друга подкалывали — тогда, правда, в основном, Чехлов Валерку. Чужих не разыгрывают, только своих, близких…
Про Чепурного все же сообщили — в криминальных новостях. Застрелен известный предприниматель, наверняка действовал профессионал, выстрел издалека, точно в голову, умер на месте. Показали жену — точнее, уже вдову: несчастная баба бормотала сквозь слезы, что врагов у него не было, его все любили, потому что он всем делал только добро. Потом в камеру попал исполнительный директор, и опять пошли бессмысленные слова: талантливый руководитель, чуткий человек, все уважали. Толстомордый мужик в ментовских погонах повторил то, что уже сказал ведущий: убийство явно заказное, стреляли из снайперской винтовки, видимо, со стороны детского садика, работает оперативная группа, по факту убийства возбуждено уголовное дело…. Потом начался следующий сюжет — про пожар на складе.
— Пойдешь на похороны? — спросила жена.
— Надо, — отозвался Чехлов, но неуверенно. Кому звонить, у кого спрашивать? Да и кто из Валеркиного нынешнего окружения его знает, кроме тех двух бультерьеров?
Утром он все же позвонил по Валеркиному номеру. На сей раз трубку взяла секретарша и безлико сказала, что пока никакой информации — видно, звонили многие и спрашивали одно и то же. Нет так нет, вроде печальный долг выполнил, попытался. Чехлов даже отвез на Самотеку какого-то богатого старика, там же взял двоих иностранцев до гостиницы. Но потом что-то кольнуло, и он, уже не отвлекаясь, поехал прямо к Валеркиному офису — бывшему Валеркиному. Никак не мог представить, что этого смекалистого парня, главной опоры в мутной жизни, больше нет — лежит где-то неподвижный, холодный, еще похожий на себя, но уже не существующий.
На входе стоял парень в камуфляже, позади него, в дверях, еще один, с коротким автоматом в руках — «узи», что ли? Чехлов слегка оробел — уж очень жестко смотрелась охрана. Но все же подошел, спросил вежливо:
— Не скажете, когда похороны?
Тот, что без автомата, мрачно глянул и не сразу отозвался:
— А вы кто?
— Да мы дружили, — со вздохом и почему-то виновато объяснил он, — моя фамилия Чехлов.
— Вам пропуск заказан?
— Нет.
— Тогда нельзя, — твердо сказал охранник.
— Я только спросить, когда похороны…
Парень в камуфляже немного подумал:
— Кто вас тут знает?
Чехлов пожал плечами:
— Ходили с ним два парня, телохранители.
— Зовут — как?
Как же их зовут-то, напряг память Чехлов. Раньше-то запоминать не было надобности… Потом имя всплыло:
— Паша. А другого не помню.
Парень, ничего не сказав, достал мобильник, поиграл кнопочками:
— Паша? Выйди-ка.
Минуты через полторы вышел один из телохранителей, огромный, тот, что отвозил его домой. Парень в камуфляже проговорил:
— Тут вон к тебе. Знаешь?
Паша подошел к Чехлову, молча протянул громадную лапу и лишь потом сказал:
— Вот так вот.
— Как же это? — бессмысленно спросил Чехлов.
Паша не ответил, только руками развел. Лицо его дернулось, и Чехлову вдруг показалось, что он сейчас заплачет. На грозного волкодава малый вовсе не походил — просто очень крупный молодой мужик с толстой шеей и мощными плечами. Галстук аккуратно повязан: хозяина убили, но порядок, им заведенный, еще действовал.
Чехлов отступил на пару шагов, Паша тоже отодвинулся от дверей, говорить стало посвободней.
— Это какой же сволочи понадобилось? — в пространство проговорил Чехлов. — Ведь талантливый был человек, таких поискать.
— Большой был человек, — горько согласился Паша, — все в голове держал, до последней мелочи. Я таких умных больше не видел. Решения принимал мгновенно, и всегда безошибочно… Я даже не понял, как случилось, выстрела мы не слышали — видно, издалека били. Просто раз — и упал. Я даже подумал — может, сердце схватило. Там и было-то от подъезда три шага. — Паша помолчал и сказал с угрюмой уверенностью: — Теперь все посыплется. Валерия Васильевича заменить некем.
— Ты с ним давно?
— Года два. А ты с ним учился, что ли?
Переход на «ты» произошел незаметно и естественно — беда сближает быстрей, чем водка.
— Работали вместе. Я докторскую писал, он кандидатскую, — Чехлов невесело усмехнулся, — была и такая жизнь когда-то.
— Мозги у него были удивительные, — сказал Паша, — все брал на себя.
— Насчет похорон — не знаешь?
— Нам не объявляли.
— Узнаешь — позвони, ладно?
Он продиктовал номер, и Паша забил его в мобильник.
Чехлов вдруг понял вторую причину Пашиной мрачности:
— На службе-то останешься?
Паша вздохнул:
— Это не мне решать. Скорей всего, тут и службы никакой не будет. Все решал один человек, Валерий Васильевич, остальные только исполняли… Ладно, бывай — пойду.
Он снова осторожно пожал руку Чехлова своей безразмерной лапищей.
Паша не позвонил, и Чехлов так и не узнал, когда и где похоронили Валерку. Впрочем, об этом он не слишком и жалел. Ну как бы он выглядел на кладбище или поминках? Уж чересчур чужой среди своих. Откуда, кто такой? Потрепанный интеллигент, которому усопший для хохмы подарил старую тачку, да еще по непонятной прихоти раз в месяц кормил в дорогом ресторане. Кто его узнал бы в толпе вокруг гроба? Разве что Паша, да и тот вряд ли стал бы себя компрометировать даже шапочным знакомством с нищим приживалой на богатых похоронах. К тому же Чехлов слишком горевал о Валерке, чтобы еще и изображать горе под чужими взглядами.
А горевал он сильно. И о Валерке, и о себе, и о том коротком отрезке сплошных удач, который, конечно же, не мог длиться вечно и должен был когда-то оборваться — но почему так внезапно, резко и трагично? Думать об этом было больно и страшно, не думать — трудно. Поэтому Чехлов левачил с утра до ночи, даже выходные прихватывал: конкретная работа хоть чем-то заполняла мозги, да и зарабатывать теперь надо было по максимуму. Не потому, что иначе не хватало денег — хватало. Но Чехлов понимал, что палочки-выручалочки, припасенной на худой случай, больше нет и, скорей всего, никогда в жизни она не появится. Он и прежде не собирался просить у Валерки денег, да и ни у кого не собирался. Но все же в глубине души знал: случись что внезапное, никто не поможет, а вот Валерка поможет: поразвлекается, естественно, разыграет ехидную сценку, но денег даст. Теперь рассчитывать можно было только на себя — на себя да на ржавеющую Валеркину тачку. На данный момент впереди не светилось ни одно окошко и все, что оставалось, — зарабатывать и зарабатывать.
Девкам Чехлов больше не звонил — не то было настроение, да и все в жизни стало иным: триста ежемесячных халявных долларов остались в удачливом прошлом и каждый заработанный рубль словно бы прибавил в весе и заставлял себя уважать.
Анька кожей почувствовала изменение ситуации. Не сразу и очень осторожно, но она все же задала вопрос, как дальше.
— Как ты думаешь, теперь, без Валерия, они тебя не уволят?
— Все может статься, — сказал Чехлов, — а хоть и уволят, с голоду не умрем, машина выручит. Это ведь тоже деньги, и не такие уж маленькие.
— Только бы не сломалась, — вздохнула жена. Больше она ничего не сказала, но этот ее вздох словно бы открыл и узаконил нынешнее чехловское ремесло. Знает, понимает, не комплексует — и на том спасибо.
Валеркин уход создал еще одну проблему, мерзкую до крайности. Хитрый толстячок, уже ознакомленный с новостями, просил отложить вопрос на неделю. Было совершенно ясно, что никаких денег он давать не собирался и не даст — но что теперь делать? Съездить к нему — только дерьма нахлебаешься. Плюнуть и забыть — еще унизительней: мол, сам понял свое жалкое место.
Чехлов решил позвонить и как минимум напугать толстячка. Он заранее придумал и обкатал в мозгу, что скажет. Примерно так: я, мол, просто посыльный, что велели, то и передаю. А если договоренности меняются, они, наверное, сами к вам заедут. Или вас к себе пригласят… Трусоватый толстячок, конечно, спросит, кто заедет и кто пригласит, на что Чехлов вполне доброжелательно ответит: кто меня посылал, те и заедут. Разумеется, эпопея на этом кончится, но хотя бы лицо сохранит: месяц, а то и два жирный лицемер будет вздрагивать от каждого скрипа, от каждого шага за спиной.
Он перезвонил точно через неделю. Секретарша узнала, была приветлива:
— Сейчас соединю.
Видимо, трубку она положила на стол, потому что дальнейший разговор Чехлов слышал вполне отчетливо.
— Николай Егорович, там Борис Евгеньевич.
— Чехлов, что ли?
— Чехлов.
— Меня нет.
— А когда будете?
— Для него — никогда. На совещании, обедает, уехал, в отпуске… Только — вежливо! Позвоните через месяц, а лучше через два. Все!
Секретарша сказала уже Чехлову, растерянно и виновато:
— Борис Евгеньевич, у Николая Егоровича совещание, позвоните после шести. Или завтра с утра.
— Конечно, — бодрым тоном произнес Чехлов, — лучше уж завтра.
Мразь. Какая же все-таки мразь…
Денег жалко не было, с деньгами он уже простился: сладкая халява дуриком возникла и дуриком ушла, черт с ней. Но невыносимо было думать, что эта жуликоватая мразь опять наверху, что директор небось, потирая жирные лапки, празднует победу и освобождение. Что за страна такая, где при любом раскладе вор и подонок всегда вывернется!
Настроение было такое, что хоть за руль не садись: в машине в первую очередь надо думать о дороге, иначе быстро выяснится, что на улице слишком много встречных грузовиков и попутных столбов. Но и дома оставаться было не лучше — так себя до инфаркта догрызть недолго. Колебания прервал звонок: просили Бориса Евгеньевича, но он сразу узнал ворчливую Лизкину интонацию.
— Да один я, говори нормально, — ответил Чехлов.
— Куда пропал-то? — спросила Елизавета. — Я уж думала, случилось что.
— Может, и случилось, — согласился Чехлов. Врать не было ни сил, ни желания.
Лизка долго молчала. Потом предложила:
— Увидеться не хочешь?
Слегка подумав, Чехлов понял, что хочет: девка неболтливая, ненавязчивая, с ней, по крайней мере, лучше, чем одному. Можно, например, по парку погулять.
Договорились встретиться у Тимирязевки: хорошее место, парк большой, полудикий, народу мало. Лизка пришла в обычном своем прикиде: та же юбчонка, та же маечка. Блузку бы ей какую-нибудь купить, подумал Чехлов, но тут же вспомнил, что теперь у него с деньгами будет не так свободно, как пару недель назад: Валеркина гибель разом спихнула его с горки вниз, на два-три социальных слоя.
Они вошли в парк, не спеша двинулись по длинной пустой аллее. Далеко впереди дорожку перебежала собака, следом прошла женщина с коляской.
— Что случилось-то? — спросила Лизка.
— Друга у меня убили, — ответил Чехлов, — самого, пожалуй, близкого друга. Как раз неделя прошла.
— Он кто был?
— Вроде предприниматель. Мы с ним о делах мало говорили.
— За что, не известно?
— Кто же скажет? Вышел из дому, рядом охрана. Пальнули издалека в голову — и все, на месте.
— Время такое, — проговорила Лизка, будто это могло утешить.
— Когда я работу потерял, он один помог, — сказал Чехлов, — машину вот эту отдал. Если бы не он, не знаю, как бы вывернулся.
День был жаркий. Они молча погуляли по парку, посидели в тени на скамейке.
— Ничего не могу делать, — пожаловался Чехлов, — все из рук валится. Знаешь, бывает, ногу сведет, ни лежать, ни сидеть, а повернешься — больно. Так вот у меня сейчас словно всю душу свело.
— Может, тебе просто напряг сбросить? — спросила Лизка.
— А как его сбросить?
— Ну как все мужики сбрасывают? Либо водка, либо…
Чехлов пожал плечами. Ни думать, ни тем более что-то решать никакого желания не было. Было желание закрыть глаза и проспать неделю, а за это время, бог даст, что-нибудь образуется само собой.
Лизка глянула влево, глянула вправо.
— Закрой глаза, — сказала она, — закрой глаза и отключись. Спи.
Спать он не стал, но глаза послушно закрыл, опустив затылок на гнутую спинку скамейки. Хорошо, когда есть кого послушаться, когда кто-то берет на себя бремя решения, пусть хоть в мелочи, в ерунде… Он почувствовал, как разошлась молния на брюках, почувствовал мягкое прикосновение рук, потом совсем легкое — губ. Это не была квалифицированная женская работа, это было нежное творчество, которое не так часто выпадает даже вполне востребованным мужикам. Любовь, что ли? Обязывающее слово вряд ли годилось — хотя кто знает, в каком обличии иногда ходит любовь…
Дрожь, усталость, отрезвление. И — облегчение. Он все равно не знал, что делать дальше, но напряжение, вот уже неделю прижимавшее его к земле, спало.
Благодарить было глупо, и он на прикосновение ответил прикосновением: молча погладил Лизку по волосам.
— Сколько ему было? — спросила она.
— Лет сорок, наверное. Может, сорок два.
— Хоть свое прожил, — сказала Лизка.
Чехлов с горечью усмехнулся — Чепурной был моложе его минимум года на три. Но потом подумал, что у нее-то исходная точка иная: Валерка прожил две с половиной ее жизни, а ей за этот срок еще бороться и бороться.
— Конечно, жалко, — вздохнула она, — хороших людей всегда жалко. Зато теперь у него никаких забот. — Потом она, видно, до чего-то додумалась: — У тебя с ним дела всякие были?
— Кое-какие были.
Лизка осторожно спросила:
— Чего-то обломилось?
— Чего-то обломилось, — подтвердил он.
Она ждала пояснений, и Чехлов пояснил:
— Есть два подонка на нашей бывшей работе — такая мразь! При нем они слово сказать боялись, а теперь радуются. Даже не представляешь, насколько это противно.
— А нельзя их опять урыть?
— А как? — развел руками Чехлов.
— Но ведь как-то можно, — задумчиво произнесла Лизка, — твой друг мог, значит, и другой сможет.
— Черт его знает! — неуверенно отозвался он. После чего, немного поколебавшись, рассказал ей суть дела, впрочем, кратко и без деталей.
— Таких и надо давить! — сказала Лизка, — Ладно, может, чего и придет в голову. Тебе деньги важны или принцип?
— Только принцип, — качнул головой Чехлов, — на деньги плевать. Хоть свои отдам.
— Свои сперва иметь надо, — резонно заметила девчонка.
У выхода из парка он спросил, куда ее подвезти, но Лизка отмахнулась:
— Без разницы, выброси где-нибудь по дороге.
У метро она вышла, пообещав, если что, позвонить. Надежд на ее возможности у Чехлова, конечно же, не было. Но оттого, что еще кто-то повесил на себя его заботу, стало полегче.
Вдвоем всегда легче.
Лизка позвонила через два дня.
Встретились снова у парка, только теперь Елизавета была не одна, а с парнем. Малому было лет тридцать. Кроссовки, джинсы, рубашка тоже джинсовая, редкие волосы ежиком, в руке прутик.
— Вот, познакомься, — сказала Лизка.
Парень переложил прутик из правой руки в левую и назвался Георгием. Рукопожатие было вежливое, некрепкое. Вообще, малый был глубоко обычный, никаких особых черт в облике не проступало. В Москве таких хоть пруд пруди, в любой толпе проходят фоном, даже на футболе орут, как все, не выделяясь, ни громче, ни тише. Жить как-то надо — вот как-то и живут.
— Значит, так, — начал он, — Елизавета в общих чертах обрисовала… Как я понял, у вас был друг и один человек ему платил, а теперь друга убили и тот человек не платит. Так?
— В общих чертах, так, — кивнул Чехлов.
— Может, еще что-то имеете дополнить?
— Что-то имею, — согласился Чехлов и, не повышая голоса, объяснил: — Этот человек — мразь. Деньги мне абсолютно не важны. Просто хочу, чтобы мразь знала свое место.
— Это понятно, — сказал Георгий, — если мразь, отступать нельзя. Вашего друга как звали?
— Чепурной Валерий Васильевич.
— Я имею в виду, может, погоняло какое было? В смысле, кликуха.
— Вроде не было. Но точно не знаю.
— Он бизнесом занимался?
— В основном да. Я особо не вникал.
— Ну ясно, — подытожил Георгий и достал из кармана рубашки маленький электронный блокнотик. — Значит, Чепурной Валерий Васильевич, бизнесмен. Как его фирма называлась?
Чехлов назвал Валеркину фирму.
— А тот человек… в смысле, мразь — он кто?
Чехлов и на это ответил.
Георгий потыкал в кнопки блокнотика. Он был скучен, как пожилой бухгалтер, и тем симпатичен — вежливый, аккуратный, исполнительный. Клерк в любой системе клерк, лишь бы начальство из себя не корчил.
— Значит, давайте так, — сказал Георгий, — я доложу, а там уж как решат. Свяжемся потом через Елизавету, она вам сообщит. Устраивает?
— Вполне, — ответил Чехлов.
Простились тоже вежливо, за руку. Уже уходя, Георгий решился — остановился, чуть помедлил и произнес сочувственно:
— Я вас понимаю. Подлого человека прощать нельзя, всем же хуже станет. Ваш друг погиб, ничего сделать не может — значит, кто-то должен взять это дело на себя. Я сам, конечно, не решаю, но доложить постараюсь нормально.
От неожиданности Чехлов так расчувствовался, что готов был обнять парня, но это смотрелось бы вовсе смешно. Поэтому он всего лишь растерянно и благодарно развел руками:
— Спасибо.
Он, конечно, понимал, что ничего еще не решилось, но настроение пришло в норму. Лизкина скорая помощь больше не понадобилась.
Елизавета перезвонила через неделю. Встретились там же, и опять она была с вежливым Георгием, аккуратным клерком неведомой системы. Снова поздоровались за руку, но на этот раз Георгий улыбнулся.
— В общем-то в порядке, — сказал он, — проблему решили. Этот человек пошел на соглашение, будет платить, как всегда, только другой структуре. Правда, у вас там был некоторый интерес — тут уж, извините, не получилось, я предлагал, но у нас сказали, не надо создавать путаницу. Тем не менее вам за наводку… и, так сказать, в качестве отступного… — Георгий достал из нагрудного кармашка зеленую пачечку, ровно перетянутую резинкой. — Тут тысяча, пересчитайте, пожалуйста.
— Да я вам верю, — растерянно проговорил Чехлов. Вот уж не думал, что так быстро получится! Да еще и денег дали…
— Нет, я вас прошу, — настоял Георгий, — деньги счет любят, порядок есть порядок.
Чехлов пересчитал — ровно тысяча долларов.
— Ну а вы, — забормотал он, — вы же все организовали, если бы не вы…
Георгий твердо отказался:
— Спасибо, но у нас не принято. У меня зарплата есть.
— Он сразу согласился? — полюбопытствовал Чехлов.
— Не совсем, — сказал Георгий, — ребята говорили, пришлось немножко наказать. В общем, можете считать, свой долг перед другом вы выполнили.
Он выслушал благодарственные слова и ушел удовлетворенно, как врач, сумевший вылечить трудного больного.
Чехлов сказал Лизке:
— Дикие деньги. Сроду таких в руках не держал. Ну и чего с ними теперь делать?
Девчонка ответила:
— Спрячь и никому не показывай. Мало ли что. Тачка, допустим, забарахлит — на какие шиши будешь ремонтировать? И вообще… Не мужик, что ли? А у мужика должна быть заначка на все случаи жизни. Тем более такой жизни, как сейчас. Гараж есть?
— Откуда?
— Жаль, — сказала Лизка, — а то зарыл бы в гараже. Ну в банк отнеси, будет тебе процент идти.
Чехлов посмеялся, но потом задумался: а правда, чего делать с деньгами? И как, например, объяснить Аньке, откуда они взялись? Прежде была отмазка на все случаи жизни — Валерка чудит. Теперь ни отмазки, ни Валерки. И вообще, про эту историю жене ни слова и никому ни слова: хрен их знает, в какой фирме или банде числится клерком вежливый Георгий? Может, и правда дурные баксы на книжку положить, а книжку сунуть куда-нибудь в старые рукописи? Пока что Чехлов завернул драгоценную валюту в мятую газету и запихнул сверток поглубже в бардачок, забитый ржавыми отвертками, разболтанными пассатижами и лоскутами наждачной бумаги — видно, в дни своего левачества будущий миллионер Валерка зимой здорово мучился с заезженными свечами и контактами аккумулятора.
Как именно толстячка «немножко наказали», Чехлов узнал позже и случайно, от Наташи. Она изредка перезванивалась с девочками из института, они и рассказали, что на Николая Егоровича напали в подъезде, отняли портфель с документами, выбили два зуба и сильно ушибли копчик, так что теперь он в кресло вынужден подкладывать специальную подушечку. Чехлов сгоряча даже пожалел вороватого директора. Но потом вспомнил его гаденькую улыбочку в день Валеркиной гибели и решил, что толстячка «немножко наказали» вполне за дело.
Самое же главное — Чехлов внутренне освободился, ушло омерзительное чувство унижения. Его ударили, а он ответил, и последняя зуботычина осталась за ним. И плевать, что он весь день сидит за баранкой дребезжащей машины, а толстячок в директорском кресле на специальной подушечке, еще неизвестно, у кого душа спокойней. Три сотни долларов в месяц деньги, конечно, немалые, но деньги, в конце концов, зарабатываются. Ну придется ишачить на час-другой дольше. Не в этом же дело!
В чем дело, он в принципе знал — но, к сожалению, только в принципе. Пологой длинной лестницы, по которой прежде люди плелись к скромному успеху десятилетиями, теперь не существовало. Теперь было что-то вроде лифта, и того, кто умел выбрать нужную кабинку, быстро возносило вверх, а лентяев и раззяв так же быстро опускало в сторону подвала. Чехлов уже не был раззявой. Но кабинку, несущуюся вверх, к иным горизонтам, пока не увидел. Валерка в свое время увидел и его, Чехлова, наверняка поднял бы на пару этажей, но Валерки нет, и искать надо самому, и решать самому.
Что все это надо — и искать, и решать, — Чехлов понимал прекрасно. Но уж очень захватывала ежедневная гонка. И — ежедневные деньги. Их хватало, хватало настолько, что об иных горизонтах думалось вяло, неспешно. Теперь Чехлов понимал работяг, тех же шоферюг, или ремонтников, или сантехников, которые из года в год заколачивали свои достаточные для жизни рубли и не лезли наверх, где рубли, может, и подлинней, но и напряга больше. Хуже бы не было, думал он иногда. А потом спохватывался и ругал себя за лень, за обломовское безволие. Во всех нормальных странах нормальные люди стараются жить лучше, сами тянутся к лучшему, и все вместе вытягивают страну. А в России, наоборот, ужимаются, укладываются в те обстоятельства, что есть, лишь бы ничего не решать, ничего не менять, ничем не рисковать. Хуже бы не было! Не потому ли, в конце концов, все же получается хуже?
Вот так он ругал себя. Но утром просыпался, пил крепкий чай и садился за баранку, чтобы вечером пересчитать деньги, за день умявшиеся в кармане. Да, в нормальных странах нормальные люди ведут себя иначе. Но он-то живет в стране, где нормы другие и люди другие. Хуже бы не было!
Во все времена жадность губит фраеров. Естественно, Чехлов, преферансист со стажем, помнил этот карточный закон. Но одно дело закон знать и совсем иное — ему следовать. Кто же заранее угадает расклад! Знал бы прикуп — жил бы в Сочи…
В этом мужике Чехлова сразу что-то насторожило. Но он уже свернул к тротуару. Конечно, никто не мешал плавно перестроиться влево и прибавить газу. Но — с чего вдруг? Внутренний голос? Если его всегда слушать, лучше вообще не садиться за руль.
Шел август, вечера стали свежее, теперь Чехлов брал с собой легкую куртку. И мужик этот был в свободной куртке-адидаске, то ли турецкая подделка, то ли наша, а еще в джинсах и кроссовках. Кроссовки были не из дешевых, с дутой подошвой и светящейся полосой.
— Куда? — спросил Чехлов.
— В Сокольники, — сказал парень.
— А там куда?
— А там рядом, близко.
Было еще светло, темнота только подкрадывалась, но фонари уже зажгли. Чехлов собирался домой, Сокольники были не по пути.
— Три штуки, — запросил Чехлов почти двойную цену с явным расчетом, что мужик откажется. Но тот уже открыл переднюю дверцу:
— Как скажешь, шеф.
Эта покладистость Чехлову тоже не понравилась. Если бы собирался платить, наверное, поторговался бы. Атак вылезет и уйдет — драться с ним, что ли? Вещей никаких, если до Сокольников, мог бы и на метро, быстрей и дешевле. И уж совсем не обрадовало, когда мужик, обернувшись, открыл заднюю дверцу и крикнул кому-то:
— Давай!
Малого, который подбежал и устроился сзади, Чехлов толком не успел разглядеть — успел заметить в боковом зеркальце только кроссовки тоже со светящейся полоской.
Ладно, еще не ночь, да и Сокольники место людное и светлое.
До Сокольников, однако, не доехали, мужик, сидевший рядом, сказал:
— Здесь направо.
Свернули в боковую улицу, тоже, впрочем, довольно широкую. Но здесь фонари стояли редко, и сразу стало ясно, что день кончился: освещенная дорога была отчетлива, но пространства между домами почти черны.
— А здесь налево.
— Так там вроде дороги нет, — возразил было Чехлов.
— Дворами проедем, — успокоил тот, — тут два шага.
Слева торцами стояли дома, справа светлел в темноте серый цементный забор. У одного из домов Чехлов разглядел старую иномарку, вроде «вольво», но темную и пустую. А хоть бы и был водитель — что толку?
— Вот и приехали, — сказал мужик, — здесь опять направо.
Направо была не улица и не двор, а какой-то тупик между гаражами.
Вот уже минут десять Чехлов чувствовал, что влип, что добром это не кончится, надо что-то делать. Сейчас, однако, стало ясно, что делать уже нечего. Чехлов почти не удивился, когда в шею ему уперлась прохладная железка.
— Приехали, шеф, — сказал малый, сидевший за спиной, — выходи, только не торопись. И не оборачивайся. Медленно и плавно. Мы люди мирные, но скандалистов не любим.
Чехлов вылез из машины. Что делать, он понятия не имел. На всякий случай, сказал:
— Ребята, вы чего? Это же консервная банка, ржавая вся, вот-вот развалится.
— Новую надо покупать, — посоветовали из-за спины.
— На какие шиши?
Мужик, прежде сидевший с ним рядом, подошел спереди:
— Как — на какие? У тебя же заработки — ого! До Сокольников три штуки берешь… Ну-ка, руки в стороны.
Он сноровисто обшарил карманы куртки и брюк, выгреб все бумажки, попытался разглядеть, пожаловался:
— Темно, не видно не хрена. Но в общем-то порядочно. А говоришь — на какие шиши! — Он повернулся к напарнику: — Ну что, нужна нам тачка?
Тот бормотнул что-то невнятное.
— Ладно, хрен с ней, — решил мужик, — еще и вправду развалится.
— Руки можно опустить? — спросил Чехлов.
— Стой, как стоишь, — неожиданно жестко приказал тот. Видимо, он опять залез в машину, послышалось звяканье и шуршанье. Чехлов напрягся, сердце заколотилось — но что он мог сделать? Железка у затылка была тупая и гладкая, скорей всего ствол. Потом мужик, шаривший в машине, радостно выдохнул: — Ого! Да ты, шеф, прямо олигарх. Доллары в бардачке возишь.
Надо было что-то ответить, и Чехлов брякнул первое, что пришло в голову:
— Это не мои.
— А чьи же?
Снова отвечать нужно было сразу:
— Чепурного.
— А это кто? — поинтересовался малый, стоявший за спиной.
— Это большой человек, — сказал Чехлов и добавил бестолково: — Его убили недавно.
— Странно, — донеслось из-за спины, — больших не убивают. Убивают маленьких, как мы с тобой.
Чехлов похолодел. Что делать? Дернуться? Так ведь выстрелит, причем без всякого риска — кто услышит хлопок в этом тупике, а хоть бы и услышал, кому дело до чужих разборок…
— Маленьких не за что, — произнес Чехлов как можно спокойней, — маленькие никому не мешают.
Мужик, нашедший доллары в бардачке, сказал напарнику:
— А чего, может, и верно говорит, а? Умные, пожалуй, не мешают, это дураков приходится убирать.
Теперь они оба стояли за спиной у Чехлова.
— Запаска есть? — спросил мужик.
— Лысая вся, — отозвался Чехлов. Без особой надежды он бил на жалость, иного не оставалось.
— Запаска и нужна лысая, — утешил тот. После чего жестко произнес: — Стой и не двигайся. Ровно пятнадцать минут. Обернешься — пристрелим. Ясно?
— Куда уж ясней.
За спиной что-то зашипело, потом послышались шаги, быстро затихшие.
Чехлов стоял неподвижно минуты две. В тупике было совсем темно. Он медленно, осторожно, повернул голову. Несколько окон в торце ближайшего дома слабо светились. Парни отошли метров на сто, их спины были едва видны. Из проколотой шины с шипением выходил воздух. Сменить баллон? Но эти суки велели не двигаться пятнадцать минут.
Чехлов быстро наклонился к машине, достал из-под сиденья кухонный нож. Газовый баллончик, наверное, валялся на полу среди разной дребедени, которую этот подонок, сидевший рядом, выгреб из бардачка. Да и что в нем толку — против ствола не оружие…
Страх исчез, возникла злость, почти ярость. Подонки, мразь, шакалы! Кого грабят? Среди леваков богатых нет, все что могут кое-как прокормиться.
Чехлов сделал несколько шагов вслед парням, под ногами был не асфальт, а земля, она слабо пружинила — ни стука, ни скрипа. Он обернулся: машина была видна, дальше начиналась темнота. Тогда он быстро пошел к выходу из тупика, почти побежал. В крайнем случае, попрошу пару сотен завулканизировать камеру, подумал он. Да там и дома рядом, люди могут встретиться, там, может, стрелять не решатся.
Шакалы повернули налево, в сторону улицы. Чехлов осторожно выглянул из-за угла — они шли спокойно, не оглядываясь. Шагах в пяти рос чахлый куст, Чехлов пригнулся и стал смотреть сквозь его пыльные ветки. Он не знал, на что надеется, просто стоял и смотрел. Они до улицы не дошли, остановились под светящимся окном одного из домов. Блестели полоски на кроссовках, остальное скорей угадывалось. Шакалы постояли с минуту, потом один свернул за угол дома, а второй подошел к той темной иномарке, которую перед поворотом в тупик заметил Чехлов. Машина засветилась и почти сразу отъехала, он даже цвет не разглядел, темный какой-то.
Чехлов пробежал вдоль проулка, сжимая в руке свой бессмысленный нож. Остановился у дома, заглянул за угол. Девять этажей, четыре подъезда. Минимум сто двадцать квартир. Безнадега.
Он вернулся в тупик, к машине, к своей бедной трудяге и кормилице, оскверненной, присевшей на одно колесо. Достал запаску, облезлый домкрат. Помучившись в темноте, почти на ощупь сменил колесо. Медленно вырулил на привычную трассу и поехал домой. И на хрена он взял этого подонка в светящихся кроссовках! Ведь не хотел же — и не надо было брать. Фраер, дебил, дерьмо! Польстился на три штуки — а теперь все с нуля…
Домой добрался к полуночи и застал дорогую гостью — старшая дочь решила навестить родителей, они с Анной на кухне пили чай. У Милки было все в порядке, то есть, как всегда, в меру нормально, в меру бестолково. Проблема с абортом, видимо, благополучно рассосалась, можно было и дальше искать применения своим невнятным талантам. Зовут в две фирмы, не знает, что выбрать. Чехлов криво усмехнулся — значит, кончится, как всегда, оба варианта лопнут, что, впрочем, не слишком огорчит, потому что в двадцать три года какие-то варианты подворачиваются постоянно. Угрюмая физиономия отца плохо сочеталась с дочкиным хорошим настроением, поэтому она стала требовать от него оптимизма: мол, все ерунда, все наладится, надо только никогда не вешать нос. Совет был мудрый и своевременный. Чехлов постарался улыбнуться и сказал, что проколол шину, надо завулканизировать, тогда и настроение поднимется.
— Пап, вот теперь ты мне нравишься, — одобрила дочка, — раз есть проблема, надо ее решать. Решить — и забыть!
Чехлов взял в куртке деньги и пошел на улицу — в двух кварталах был круглосуточный шиномонтаж. Сонный мужик не сразу отозвался на стук, позевал, похлопал глазами, но пробой в баллоне все же заделал.
— Это кто же так постарался? — спросил он, зажимая в тиски покрышку.
— Есть добрые люди, — отозвался Чехлов.
Знать бы этих добрых людей!
Наутро он выехал пораньше и работал до ночи, как проклятый. Заработок был хорош, но в сравнении с потерянной тысячей баксов выглядел как детский куличик рядом с горой. Что поделаешь, так вот повернулось…
Чехлов даже обедать не стал, купил на лотке два пирожка с капустой. Вчерашнее не шло из головы. Картина медленно, но все же прояснялась. Тупик между гаражами не мог быть случайностью, уж больно место удобное — шакалы знали, куда загоняют жертву. Один из них не уехал — значит, живет рядом, скорей всего, в той девятиэтажке, иначе напарник подвез бы. На крутых бандитов были не похожи — стали бы крутые потрошить левака на ржавой «копейке». Ну а кто они? Похожи на отставных спортсменов третьего сорта: ремесло не кормит, силенка осталась, вот и шкодничают по мелочевке.
Конструкция выглядела логично, но никакие практические выводы из нее не следовали. Что делать-то? В милицию идти? А кто вы, собственно, такой, гражданин Чехлов? Работы нет, машина чужая, записана на сомнительного предпринимателя, погибшего в темной разборке. Тысяча долларов? А откуда такие бабки у безработного доцента?
Забыть, думал Чехлов, забыть к чертовой матери.
Он вроде бы и забыл. Но, умотавшись за день, перед тем как ехать домой, все же завернул в тот проулок вдоль серого цементного забора, даже проехал мимо проклятого тупика. Тупик был пуст, и никакая иномарка возле девятиэтажки не стояла.
Бессмысленно все, только время потерял.
Он прекрасно понимал, что бессмысленно — но и на следующий день наведался в тот проулок. Потом приехал утром, к восьми, спрятавшись за беседкой во дворе, целый час следил за обывателями, спешащими на работу. Кроссовки ни у кого не сверкали. Безнадега.
Два дня он не отвлекался на химеру. На третий, вечером, попался клиент до Преображенки, и Чехлов все же потратил четверть часа, сделал крюк до памятного проулка. Темно-синяя «вольво» стояла почти на том же месте. Не новая, сильно не новая, лет восьми, наверное, — но ведь не «москвич», а «вольво», пятнадцать лет без ремонта ходит…
Чехлов проехал мимо тупичка, там было пусто, и, покрутившись между домами, внутренним проездом вырулил на проезжую улицу. Поставил машину. Взял нож, спрятал под курточку. Пешком прошел к уже освоенной беседке.
Значит, так, соображал он, ловят левака, загоняют в этот тупик, прокалывают колесо, после чего один идет домой, а другой уезжает на своей иномарке. И все. Никакого риска. Нынче убийства не расследуют, а уж такую ерунду…
Стало совсем темно, когда какая-то легковушка мазнула фарами по серому забору. Свернула в тупик. Ясно.
Времени было в обрез. Чехлов подбежал к иномарке и ножом шарахнул по колесу. Потом — по второму. Потом — по третьему. Уж трех-то запасок у этих подонков точно нет! Он не знал, отчего дрожит: то ли от волнения, то ли от страха, то ли просто замерз в своей засаде. Уже отойдя метров на пять, вернулся и проткнул четвертое. На щербатом тротуаре увидел кусок асфальта и запустил в лобовое стекло — оно хрустнуло и пошло трещинами. Внезапно машина заорала — включилась сигнализация. Чехлов сорвался с места и побежал между домами к проезжей улице, к оставленной машине. Завелась, слава богу, сразу.
Минут двадцать Чехлов листал улицы и переулки, успокоился только у Савеловского. Погони не было, да и быть не могло, на ободах, что ли, поедут. Да и за кем гнаться, кто его видел? Если он петлял, путал следы, то просто по инерции. Озноб остался — но теперь это был озноб азарта. Он чувствовал себя, как восьмилетний пацан, сумевший отомстить великовозрастным обидчикам. Он прикидывал, во что шакалам обойдется ремонт иномарки. Тысячи баксов, к сожалению, ни при каком раскладе не набиралось — но ничего, пусть побегают, помучаются, поломают голову, чья неведомая рука хрястнула по морде. По крайней мере, тогдашнюю радость он им точно перебил. Суки! Чехлов удовлетворенно усмехнулся. Денег не прибавилось, зато самоуважение вернулось.
Было уже поздно, практически ночь. Но домой Чехлов не торопился. Пропал, по сути, весь вечер, самое рабочее время. Однако и начало ночи было не хуже: поздние поезда, рестораны, клубы. Прямо у Савеловского он взял мужика с двумя аккуратными корзинами, довез до Арбата и почти сразу посадил двух проституток, перебиравшихся из одного клуба в другой. Девчонкам не повезло, в «Метелице» шлюх было полно, а клиентов мало, пришлось искать место поприбыльней, оправдывать рабочий день. Как и Чехлову надо было оправдать свой.
Последнего клиента он высадил у Яузских ворот, напротив Библиотеки иностранной литературы. «Иностранка» была темна, лишь два фонаря светились у входа, да блекло желтело окошко на первом этаже — охранники либо дремали, либо убивали время за картишками. Когда же я был тут последний раз, подумал Чехлов. Вспомнил — лет шесть назад, когда начинал докторскую. Просматривал никому не нужные журналы, делал никому не нужные выписки.
Сколько же изменилось с той поры! Все изменилось. И прежде всего он сам. Чехлов вспомнил, как два часа назад уродовал машину своих обидчиков, и засмеялся, представив себе, что подумал бы тогдашний «пан профессор» про себя нынешнего. Бомж, маргинал, дикарь. Дикарь — это точно. При диком рынке и должны выживать дикари, это их время. Господи, если ты есть, спасибо тебе за то, что после профессорской жизни дал мне вторую — дикарскую. Спасибо за деньги, которые, даже потеряв, можно назавтра заработать. Спасибо за возможность мести и за способность отомстить. Спасибо за независимость, за авантюрную радость дикарства…
В этот вечер Чехлову еще раз повезло: богатый пьянчужка, последний клиент, оказался почти соседом, пообещал не обидеть и обещание сдержал — за дорогу, в любом случае неизбежную, дал пятнадцать баксов.
Видимо, у дочери получился перекур между двумя бой-френдами: целую неделю она провела дома. Помимо походной сумки с бельем и косметикой, она привезла из завершившейся жизни большой пластиковый пакет с десятком глянцевых журналов и двумя книгами: романом в очень плохом переводе с испанского и, что удивило и порадовало Чехлова, небольшим, на хорошей бумаге, томиком Цветаевой. Роман Чехлов полистал и отложил — он когда-то читал его в подлиннике просто для языковой практики.
— Как он тебе? — спросила дочь.
— Скучный.
— Но о нем сейчас все газеты пишут! — возмутилась она.
— Кто-то платит за раскрутку.
— Но его и на Западе знают.
— А на Западе издателям деньги не нужны? Тебе-то он зачем?
— Надо же иметь представление.
— А Цветаева?
— А Цветаева — всегда Цветаева! — важно ответила дочь.
Это сомнению не подлежало, и Чехлов взял чистенький томик в постель, проглядеть перед сном. Но — зачитался. Десяток стихотворений он не знал, видимо, раньше не публиковали, сколько-то помнил с молодости наизусть: в те славные времена стихи укладывали девчонок на спину надежней, чем бутылка портвейна. Бог ты мой, как же она гениально писала и как страшно жила! Книжечка была издана на Дальнем Востоке, где Марина Ивановна при жизни не бывала, и слава богу: если бы ее туда привезли, то лишь затем, чтобы без лишней огласки расстрелять. А теперь вон издают с красивыми иллюстрациями. Чехлов отложил книжку, погасил свет и бормотал стихи на память, пока не уснул.
Жить стало проще, появилась конкретная цель: надо было восстановить ту дурную тысячу баксов, которую шакалы увели ночью из бардачка. Сам дебил — нашел где хранить деньги!
Вернуть их можно было только одним путем: заработать.
Чехлов уже поймал городские ритмы и умело пользовался приобретенным опытом. Утром спрос на тачки был велик, часам к одиннадцати спадал, в обед возрастал вновь, а часов с пяти до восьми был стабильно устойчив: конец трудового дня, а там театры, рестораны, гости. Потом опять наступало затишье, примерно до десяти. Дальше начиналась самая работа: люди разъезжались по домам со своих маленьких праздников. После часа ночи клиенты попадались редко, зато выгодные: метро уже не конкурент, да и усталому человеку важнее быстро попасть в постель, чем выторговать лишнюю сотню.
Пару раз за день Чехлов заглядывал домой — перекусить и часок отлежаться. Потом вновь садился за руль и бомбил, пока дорога перед глазами не начинала мерцать и расплываться.
Где-то дней через десять он почувствовал, что чего-то не хватает, и вспомнил: давно не кормил Лизку. Встретились, покатались и для хохмы сходили в ту пельменную, где вместе кормились в первый раз. Потом зашли в парк, посидели на лавочке. Торопиться было некуда: и у него, и у нее начались глухо провальные дневные часы.
Про свои беды Чехлов рассказывать не стал — зачем грузить девчонку. Вместо этого вдруг спросил, читала ли она Цветаеву. Выяснилось — не читала, но фамилию вроде слыхала, наверное, от кого-то из подруг.
— Хочешь послушать? — спросил он.
— А ты чего, помнишь?
— Да кое-что помню.
Лизка слушала молча, лицо было напряженное и мрачное. Он прочитал с десяток стихотворений.
— Ну как тебе?
— Нормально, — сказала она и попросила еще. Цветаеву он больше не помнил, стал читать все подряд, что когда-то знал: Есенина, Пастернака, Соколова. Снова спросил, как ей, и снова услышал, что нормально.
Потом Лизка встала и коротко бросила:
— Ладно, пошли.
— Куда? — не понял он.
— Пошли, — повторила она и двинулась вглубь парка, за полоску кустов. Сумочка на длинной лямке покачивалась у нее за спиной. За кустами она огляделась и достала из сумки презерватив.
— Ты чего это вдруг? — удивился Чехлов.
— Того! — огрызнулась она. — Даром, что ли, стихи читал? Я ж тебе говорила, что даром нынче ничего не делается.
Вообще-то никаких желаний у Чехлова не было, но от нелепости ситуации он завелся. Неожиданностью было, что и Лизка завелась. Уже потом, натянув трусики, она объяснила:
— Я тут недавно в компанию попала, в сауну. Там одна москвичка была, умная девка. Вот она мне сказала: «Хочешь выжить — хоть с кем-нибудь трахайся бескорыстно».
Чехлов посмеялся, но фразу запомнил. Хорошая фраза, и жизненная. Очень жизненная!
— А с кем, кроме тебя? — сказала Лизка. — Больше не с кем.
Чехлов садился за руль каждое утро, даже в выходные. С женой тему не обсуждали, он просто принял как факт, что Анна знает, а она приняла как факт новое занятие мужа. Что делать — жить-то надо!
Дни складывались по-разному, то лучше, то хуже. Но известно: кто постоянно роется в земле, рано или поздно наткнется на клад. Вот и Чехлову в самом конце августа крупно повезло.
Он еще издали заметил на краю тротуара женскую фигуру и стал перестраиваться, опасаясь, что кто-нибудь перехватит редкого дневного клиента. Но — никто не перехватил.
Дама была яркая, Чехлов сразу понял, что иностранка, уж очень не походила на наших. Крупная, с широкими бедрами и тяжелой грудью, она была одета в пестрое, с переливами, платье-балахон, а поверх него в лиловое пончо. Сумочка была тоже лиловая, из тонкой кожи, очень красивая и явно очень дорогая. Однако дело было не в одежде, нынче и наши бабцы кого хочешь поразят оперением. Но независимое, даже хозяйское выражение смуглого лица, уверенно вытянутая рука с оттопыренным большим пальцем — и жест не наш! — все это явно отдавало стабильным и богатым зарубежьем.
— Куда? — спросил Чехлов, притормозив.
Дама протянула ему лист бумаги, на котором крупно значилось: «Я хочу посмотреть Кремль, Красную площадь, музеи, Москву и Арбат». Буквы были аккуратные, фраза корявая — небось сочиняла в гостинице какая-нибудь горничная-полиглотка.
Чехлов кивнул и открыл дверцу. Женщина села.
— Откуда вы? — спросил он по-английски.
Она обрадовалась:
— О, вы знаете английский!
— Немного, — скромно отозвался Чехлов, — английский мой второй язык, да и практики почти не было.
— А первый? — поинтересовалась дама.
— Испанский.
Дама всплеснула руками:
— Испанский для меня тоже родной, моя мама из Мексики.
— А вы откуда? — повторил Чехлов свой вопрос.
— Соединенные Штаты, — сказала она, — Тампа, Флорида.
— Туристка?
— Да, туристка. Я уже месяц в Европе. Два дня была в Санкт-Петербурге, сегодня в Москве.
— По-русски не понимаете?
— Москва, — сказала она довольно чисто, — Россия, водка. Больше я ничего не знаю.
— Как же вас одну отпустили?
— У меня была переводчица, но очень глупая и упрямая, я ее прогнала. Когда я плачу деньги, я хочу иметь то, что нужно мне, а не то, что удобно ей.
Машина так и стояла у тротуара.
— Так куда вас отвезти, где вы хотите побывать?
— Я хочу побывать везде, — сказала дама, — я хочу нанять вас на весь день, чтобы вы мне все показали. Завтра я улетаю в Грецию, потом в Италию, оттуда домой. Так что сегодня мне надо посмотреть все.
Чехлов осторожно заметил:
— Весь день — это дорого.
— Что значит — дорого? — с легким пренебрежением спросила дама.
— Боюсь, долларов сто, — проговорил Чехлов, бледнея от собственного нахальства.
Дама сказала уверенно:
— Вам не надо бояться. Сто долларов — хорошая цифра. Возьмите!
Она небрежно вынула из сумочки зеленую бумажку.
Чехлов не спеша поехал в сторону центра.
— Вы тут с группой? — спросил он, пытаясь определить ее здешний статус.
Дама возразила почти надменно:
— Я одна. Я вообще одна. Я была замужем, но потом развелась. Я свободная американская женщина, — закончила она и засмеялась.
Сколько же ей лет, думал Чехлов, искоса поглядывая на полное гладкое лицо. Тридцать? Сорок? Сорок пять? Черт их поймет, этих ухоженных иностранок…
Даму звали Ронда. Чехлов повез ее в центр, прокатил вокруг Кремля, пешком они прошлись по Красной площади. Ронда сделала пяток фотографий и попросила Чехлова снять ее на фоне Мавзолея.
— Это тот самый Мавзолей, — уточнила она, — с вашим лидером?
Чехлов заверил, что тот самый. Фамилию Ленина она не помнила. Вот и все, подумал Чехлов, вся цена земной славе. У нас тут орут, в драку лезут, вождь или злодей, хоронить, не хоронить. А для заезжей бабенки просто узнаваемый экспонат, фон для фотографии, вроде римского цирка или египетской пирамиды. Хотя Хеопса, наверное, помнит.
Разговор шел по-английски, но, когда слов не хватало, Чехлов переходил на испанский. Она спросила, откуда он знает язык. Чехлов ответил, что одно время подрабатывал переводами, вдаваться в подробности не хотелось.
— А вы кто по профессии? — спросил он как бы из вежливости, хотя его и вправду интересовало, чем занимается и на что живет свободная американская женщина.
— Я журналистка, — сказала Ронда, — отчасти журналистка. Я не нуждаюсь в деньгах и могу не работать. Но мой отец издает журнал и две газеты, я иногда для них пишу. После этой поездки я напишу о России. У нас многие люди не бывали в России, им будет интересно.
Чехлов с трудом приткнул машину на бульваре, они походили по Старому Арбату, и он сфотографировал Ронду на фоне двух парней, поющих под гитару.
— О чем они поют? — спросила она.
Чехлов ответил, что о любви.
— Это хорошо, — одобрила свободная американская женщина, — молодые люди должны петь о любви.
Часам к шести она проголодалась, и они пошли в ресторан.
— Это русский ресторан? — спросила Ронда подозрительно. Чехлов ответил, что русский, самый настоящий русский. Ронда удовлетворенно кивнула и заметила, что в России нужно питаться в русских ресторанах. Блюда она потребовала тоже русские, и Чехлов заказал язык с хреном, монастырский квас, уху и пельмени по-ярославски — чем они отличались от пельменей по-вологодски, он понятия не имел, да и повар, наверное, тоже. Однако американка осталась довольна и попросила продиктовать названия съеденных блюд. Счет получился солидный, но ее это никак не тронуло, она достала из сумочки кошелек и попросила Чехлова отсчитать нужную сумму из толстой пачки рублей.
На очереди были музеи, но от них Ронда отказалась, сказав, что уже посетила два музея в Санкт-Петербурге. После обеда оба чувствовали себя гораздо свободнее, потому что разговор шел почти полностью на испанском, где, в отличие от сдержанного английского, можно обращаться на «ты».
— Куда теперь, — спросил Чехлов, — что тебя еще интересует?
— Меня интересует, — сказала Ронда, — простая русская семья. Я хочу знать, как живут простые русские люди. Мой отец очень богатый человек, но газеты, которые он издает, покупают простые люди. А простым людям всегда интересно, как живут простые люди в другой стране.
Чехлов задумался — в какую же простую русскую семью привести эту забавную попугаиху? Ронда помогла:
— У тебя есть семья?
— Жена, две дочки. Правда, уже взрослые.
— Давай посмотрим твою семью.
Вариант был не из лучших. Конечно, Анька понимала, чем теперь зарабатывает муж, но с клиентами ни разу не сталкивалась, проза плебейской профессии существовала вне их общего мира, в их общий мир проникали только деньги, а деньги не имеют родословной. В семье Чехлов по-прежнему держался «паном профессором», пусть и в износившейся мантии. А прийти домой леваком, да еще и с выгодной клиенткой, которую надо ублажать…
— Давай! — поторопила с решением свободная американская женщина.
Чехлов поискал глазами телефон-автомат, набрал номер.
— Ань, тут вот какое дело. Я показываю Москву одной американке, она хочет заехать к нам. К чаю чего-нибудь найдется?
— Прямо сегодня?
— Именно сегодня.
— А отвертеться нельзя?
— Она дала сто долларов, — веско проговорил Чехлов.
— Сто долларов? — испугалась жена.
— Сто долларов.
— Ну хорошо, ты можешь немного потянуть? Я приберусь, в магазин сбегаю…
Чехлов немного потянул: свозил Ронду на Воробьевы горы, показал сверху вечернюю Москву. У торгашей, облепивших смотровую площадку, американка купила три матрешки: с русской красавицей в кокошнике, с президентом Бушем и с Кремлем. Среагировав на ее пестрый балахон и пончо, торгаши запросили втрое, но Чехлов быстро опустил их до настоящей цены.
— Ну что, едем к твоей жене? — спросила Ронда.
Чехлов кивнул — времени прошло достаточно, наверняка Анька приготовилась и ждет.
— Теперь мы должны купить цветы, — сказала американка, — к женщине надо приходить с цветами. Где у вас продают цветы?
Чехлов напрягся. Уже стемнело — где в такой час достать хоть какой-нибудь букетик? Рынки закрыты. Магазины, наверное, тоже, да там и цены бандитские. Чехлов смутно помнил, что прежде цветочный базар был где-то у Белорусского вокзала. Туда и поехали.
Базар действительно был — в самом начале Грузинского вала. По сравнению с прошлыми временами он вырос и цивилизовался: вдоль тротуара в два ряда тянулись киоски и лотки, вид и запах был, как в райском саду. Ронда дала ему тридцать долларов.
— Много! — твердо сказал Чехлов.
— Букет должен быть хороший! — еще тверже возразила свободная американская женщина. — Какие цветы она любит?
Чехлов пожал плечами:
— Все любит…
А в самом деле, какие? Он уже не помнил, когда последний раз покупал ей цветы, да и вообще покупал цветы. Какие, к черту, цветы, когда денег порой едва хватало на дешевые пельмени…
Букет занял все заднее сиденье. Дикость! Такие бабки — и на что? Чехлов усмехнулся — лучше бы деньгами выдала.
— Почему ты улыбаешься? — подозрительно спросила она.
— От удовольствия, — сказал Чехлов, — я всегда улыбаюсь, когда хорошее настроение.
Впрочем, настроение у него и вправду было хорошее. За день он привык к американке, к ее пестрому балахону, к лиловому пончо, даже к начальственным интонациям. Она была хозяйка, Чехлов наемный работник. Но он еще и играл в наемного работника, и это делало ситуацию забавной и чуть-чуть театральной. Чего изволите, хозяйка?
Хозяйка вдруг сказала:
— Борис, ты хороший человек. Ты умный мужчина, и ты меня спас. Утром я чувствовала себя глухонемой: я никого не могла понять, и меня никто не мог понять. А теперь я чувствую себя… — она задумалась и вдруг захохотала, — …теперь я чувствую себя свободной московской женщиной. Спасибо тебе!
— Да ладно! — отмахнулся Чехлов. Он даже расчувствовался. А чего — баба как баба, не хуже других. Дура? Очень может быть. Но ведь и дурам жить хочется…
Подъехали к дому, и Чехлов вдруг остро почувствовал всю убогость своего жилья: пятиэтажная хрущеба с захламленными балконами, два ржавых мусорных бака почти напротив подъезда, щербатый асфальт, пыль, ощущение общей разрухи. Но — что делать! Такая судьба, такая страна, и другую взять негде.
Он торопливо провел американку в подъезд, извинился за отсутствие лифта, пешком поднялись на четвертый этаж. Чехлов шел сзади, тащил букет. У двери передал цветы Ронде.
Увидев огромный букет, Анька растерялась, а когда Ронда с ней расцеловалась, вообще чуть не расплакалась, стала извиняться за беспорядок, понесла всякую чушь. Чехлов перевел: жена очень рада познакомиться с гостьей столицы. Потом пили чай на кухне, и он объяснил, что это московская традиция, потому что при диктатуре правду можно было говорить только на кухне. Тут же понял, что сморозил глупость: почему, например, нельзя было говорить правду в спальне или в ванной? Но американка выручила, сказав, что она всегда сочувствовала русским людям, потому что Америка свободная страна и в ней можно говорить правду везде, где хочешь, она надеется, что теперь и в России будет так же. Она вообще вела себя на удивление корректно, хвалила чай, хвалила конфеты. Впрочем, про яблоки сказала, что в Америке они гораздо крупней, но тут же, спохватившись, заметила, что ей лично больше нравятся мелкие, потому что они вкусней.
— Это натуральный продукт, — сказала она, помахав яблоком перед носом у Анны, — я всегда предпочитаю натуральные продукты.
— Хвалит, — перевел Чехлов.
Потом Ронда сказала, что хотела бы сделать несколько снимков. Она попросила Чехлова и Анну сесть рядом и обняться, потом сняла стол с разномастными тарелками, потом спальню. Было нечто унизительное в том, как эта благополучная глупая иностранка ходила по квартире, фотографируя то вытертый коврик у кровати, то вешалку, где вперемешку висели летние курточки и зимние пальто, которые некуда было девать в тесной квартирке, то узкий коридор с открытой дверью в крохотную уборную. Унитаз давно пора сменить, да где деньги…
— Я напишу о России для газет моего отца, — объяснила она Анне, — нашим читателям будет интересно узнать, как живут простые русские люди.
— Журналистка, мать ее! — перевел Чехлов.
Пока Ронда шастала по квартире с фотоаппаратом, он быстро сменил рубашку и надел единственный приличный пиджак. Прощаясь с Анной, американка снова поцеловала ее и сделала последний комплимент:
— У вас прекрасный муж, вам можно позавидовать. Он знает два языка. Он интеллектуал.
— Муж у тебя замечательный, — перевел Чехлов, — она завидует.
— У нее, наверное, не хуже, — попыталась вернуть комплимент Анька, но он прервал:
— У нее никакого нет.
Анька посмотрела на него недоверчиво.
— Вот так вот, — сказал Чехлов, — мужей надо беречь. Ладно, поеду, отвезу.
— Только осторожней, — попросила жена, — ночь уже.
— А что делать — выставить из дома, и пусть сама добирается?
В дверях он пропустил Ронду вперед и, обернувшись, торопливо сунул в руку Анне зеленую бумажку. И снова почувствовал унижение, видя, как изумленно вскинулись брови и судорожно сжалась ладонь жены. Ведь нормально живем, подумал он, не хуже, чем миллионы других. А заглянет вот такой бабец из жирной страны, увидишь собственный быт ее глазами — нищета нищетой…
Ронда жила в новой дорогой гостинице близ Садового кольца. Чехлов проводил ее до дверей, протянул визитку, оставшуюся от более стабильных времен. Американка карточку взяла, но решительно возразила:
— Нет, нет, ты должен подняться со мной. Ты должен меня проводить.
— У нас не разрешают… — начал было Чехлов, но Ронда уверенно прервала:
— Я плачу им деньги, и я имею право жить так, как удобно мне.
Свободная женщина оказалась права: портье с сомнением глянул на Чехлова, но перевел глаза на хозяйское лицо Ронды и с легким поклоном протянул ключ. Даже подкупать не надо, подумал Чехлов: деньги обслуге дают бедные, богатым достаточно их иметь.
Ронда жила в великолепном номере: две комнаты и огромное панорамное окно. Она двумя движениями сбросила туфли и швырнула на диван свое пончо — оно сползло на пол, Ронда не стала его поднимать.
— Наконец-то, — сказала она, — слишком много одежды. Я не люблю, когда много одежды. Я люблю, когда удобно.
Чехлов воспринял это, как сигнал.
— Ну — спокойной ночи?
— Борис, — возмутилась Ронда, — как ты можешь такое говорить? Сейчас у нас будет русский ужин. Ты должен позвонить в ресторан и заказать сюда русский ужин. И чтобы там была русская икра и русская водка. Много икры и много водки. В России надо есть икру и пить водку.
Ее хозяйский тон подействовал на Чехлова, как на портье внизу: он растерялся и упустил время, когда еще можно было отказаться. Я ей что, лакей, раздраженно думал он, в конце концов, она наняла меня на день, но день-то кончился! Но пальцы уже бегали по кнопкам, набирая номер ночного ресторана. Много водки — ладно, бутылка ноль семь. А что такое — много икры? Сто граммов? Двести?
В дорогой гостинице умели угодить постояльцам — столик с водкой, икрой и прочей закусью вкатили через пять минут.
— Горячее сразу? — спросил официант, роскошный в своем смокинге.
Чехлов перевел.
— Все сразу, — приказала свободная американская женщина.
— Но я не могу пить, — как можно тверже произнес Чехлов, — я же за рулем.
Ронда поставила перед ним оба бокала:
— За рулем ты будешь утром. Я хочу ужинать с тобой.
— Мне же домой надо.
— Домой тебе надо потом.
— Мы договаривались на весь день, — уперся Чехлов, — но день кончился.
— Я знаю, — сказала Ронда, — что день кончился. Но теперь я тебя арендую на всю ночь.
Чехлов криво улыбнулся. А как еще было реагировать?
— Двести долларов, — сказала американка, и глаза ее азартно блеснули.
— Не могу, — помотал головой Чехлов.
— Ты же мужчина, — сказала она, — где водка?
Чехлов налил ей до краев, а себе чуть-чуть. В конце концов, только пригублю, решил он. Так и сделал, а она выпила до дна.
— Ты хороший человек, — сказала Ронда, — ты стоишь больше. Триста долларов! Это большие деньги, но в России надо спать с русским мужчиной.
— Ронда, — взмолился он, — меня ведь ждут!
Она посмотрела на него с веселым нахальством:
— Борис, неужели ты хочешь пятьсот? Ладно, я согласна, пусть будет пятьсот. Но это последняя цена!
Официант привез столик с горячим. Чехлов сидел как в воду опущенный. Надо было что-то сказать — но что? Дикая цифра сгибала шею, как гиря.
— Ты думаешь, это шутка? — сказала Ронда. — Нет, это не шутка. У меня есть деньги, вот в этой сумочке. Я ни разу в жизни не платила мужчине, но ведь когда-то нужно начинать, правда, Борис?
Он чувствовал себя дурак дураком. Шутка? Да нет, какая тут шутка. Ведь сто долларов она дала.
Ронда сама разлила водку, и Чехлов выпил. В конце концов, чего страшного? Ночью улицы пустые, ментов нет, да и кофейник на столе, кофе отбивает запах, по крайней мере так говорят…
Американка пила по-мужски, и Чехлов удивился, что она так быстро опьянела. Теперь она была ему даже симпатична: авантюристка, прикольщица, и с юмором в порядке. Смотрится дурой? Но ведь и он бы в ее Флориде смотрелся дураком. И, вообще, что страшного? Что он, целка-семиклассница? Прикол так прикол, не ему же отступать! Ну трахнет бабу — больше ведь ничего не грозит…
Горячее есть не стали — ни ей, ни ему не хотелось. Ронда сказала:
— В ванной два халата, один твой.
Чехлов снял пиджак, повесил на стул, прошел в ванную. Она была громадная и тоже двухкомнатная: в передней стол, бесчисленные шкафчики и зеркало от стены до стены, во второй — джакузи и душевая кабина с гидромассажем. Живут же люди! Он быстро принял душ, отрезвел под холодной струей, надел мохнатый халат с капюшоном и, поколебавшись, натянул трусы. Мало ли как сложится, в трусах спокойней. Вышел.
Ронда засмеялась, поцеловала его в губы и прошла в ванную.
Аньке, что ли, позвонить? Но — что сказать? Чехлов вздохнул и сел в кресло.
Ронда вышла из ванной без халата, завернувшись в полотенце. В спальне стояла огромная дубовая кровать. Чехлов стоял — ждал. Американка споткнулась о толстый пушистый ковер, и стало понятно, что ее прилично развезло. Она сбросила полотенце, швырнула его в кресло, но не попала.
— Борис, — сказала Ронда, — ты настоящий русский мужчина.
Чехлов ощутил легкий мандраж. Он любил худощавых, а свободная американская женщина была объемиста, даже толста — то, что прежде скрывал яркий балахон, теперь было полностью открыто, и увиденное не вдохновляло. Тяжелая грудь висела, живот почти прикрывал курчавый лобок. Ронда подошла и вдруг, повернувшись спиной, прижалась к нему всем телом. Чехлов обнял ее за плечи, но она переместила его ладони на грудь.
— Борис, Москва прекрасный город, — проговорила она и, сделав два заплетающихся шажка, почти свалилась вперед, коленями на край кровати. Чехлов хотел ее поддержать, но потом понял, что не надо: она не упала, она просто встала в классическую позу, прогнув спину, приподняв задницу и расставив колени как раз на нужную ширину.
Чехлов распахнул халат, высвободился из трусов — и с ужасом почувствовал, что до международного скандала рукой подать. Он понимал, что отступать некуда, надо действовать — но это понимание не опускалось ниже груди. Он поглаживал толстые, абсолютно чужие ягодицы, даже постанывал для приличия. Хоть бы намек на желание!
Он вдруг вспомнил где-то слышанную или читанную дурацкую поговорку — сучка не всхочет, кобель не вскочит. Сучка хотела, объемистая задница призывно подрагивала, — а вот кобель глядел на нее безразлично, как на забор. Девки, выручайте, молча взмолился Чехлов. Он закрыл глаза и стал вспоминать Наташу, стал вспоминать Лизку, даже попытался в воображении свести их вместе — вот бы обеих девок поставить рядышком на этой кровати!
Слава богу, девки помогли, винт зашел в гнездо. Ронда молчала: уж не уснула ли она? Но нет, не уснула — она вдруг взвизгнула, застонала, затряслась и обмякла. Дело было сделано, но теперь и Чехлов завелся — не от американки, а от родных своих девок, Наташки и Лизки, которые так и стояли перед его закрытыми глазами. Он входил то в одну, то в другую, ловил кайф по полной, и уже не помнил, в которую из них кончил. И только тут, отрезвев, услышал, как опять визжит и стонет чужая толстая баба, услышал ее последний, долгий, затихающий крик. Ронда упала на бок, вытянула ноги. Чехлов сымитировал ласку, проведя ладонью по ее ягодицам, и пошел в душ. В конце концов, хорошая же баба. И хочет того же, что и все. И не ее вина, что ей досталось именно такое туловище. А может, годы взяли свое. Чехлов почувствовал что-то вроде возрастной солидарности: ведь и сам не мальчик, а хочется порой, как в двадцать лет. Вот и ей хочется.
Выйдя из душа, он заглянул в спальню. Ронда спала, посвистывая и похрапывая. Чехлову хотелось домой, но не уходить же без обещанной награды — не за то, конечно, что трахнул, а за то, что потратил кучу времени, практически убил ночь. Гидам же платят! А он сегодня был и гид, и шофер, и переводчик с двух языков.
Он прошел в гостиную и, как был в халате, сел в кресло и откинулся на спинку. Кресло было большое, мягкое, удивительно удобное, оно пахло хорошей кожей. Чехлов прикрыл глаза, отдыхая. А когда открыл их, увидел, что за огромным окном совсем светло. Посмотрел на часы — четверть седьмого. Вот тебе раз — уснул! Снова заглянул в спальню. Ронда спала, с головой укрывшись одеялом. Будить? Ждать? Но кто знает, когда проснется.
Он вернулся в гостиную. Лиловая сумочка американки валялась на полу, рядом с пончо. Чехлов поднял ее. Молния была расстегнута — ну да, она же платила официанту. Поколебавшись, Чехлов достал толстую пачку долларов, отсчитал пять сотен, а остальное аккуратно сунул на место. На дорогом письменном столе лежал зеленый бювар. Чехлов достал лист бумаги с фирменным знаком гостиницы и выполнил долг джентльмена, написав по-испански: «Спасибо за удивительную ночь. Ты фантастическая женщина. Если что — звони, телефон на визитке. Искренне твой, Борис».
Он снова заглянул в ванную, холодной водой прополоскал рот, чтобы отбить запах. Потом оделся и вышел. Портье дремавший внизу, открыл глаза, хотел что-то спросить, но передумал. Чехлов сам ответил на незаданный вопрос:
— Журналистка. Хочет все посмотреть, а времени мало. Вот директор и попросил повозить. У нее первый язык испанский, а испанистов в институте я один.
Солидные слова — директор, институт, испанист — успокоили портье, и он посочувствовал:
— А что делать — гостеприимство.
Уже светлело. Москва была пуста, он добрался до дома за пятнадцать минут. Подумал, что Анька давно спит, и слава богу, утром что-нибудь придумает. Тихо повернул ключ в замке. Но жена не спала, в халатике встретила в коридоре, словно с вечера так и стояла у двери.
— Что случилось? — спросила она испуганно и почему-то шепотом. — Что-то случилось?
— Да ничего не случилось, — ответил Чехлов.
— Я же чуть с ума не сошла! Неужели нельзя было позвонить?
— Ну не получилось.
— Где ты был?
Чехлов развел руками:
— Ну где я мог быть?
— Все это время у нее? Всю ночь?
— Ну выпили немного. Я же устал за день, уснул в кресле.
— В кресле? — уличающе переспросила она. — А помадой перемазался тоже в кресле?
Помада? Чехлов напрягся. Откуда помада? Ах да, она же вроде его поцеловала…
Чехлов вдруг почувствовал усталость и пустоту. Не было сил оправдываться. Не было сил врать. Ну скажет, поцеловала на прощанье, поцелуй не грех — так ведь еще на чем-нибудь проколется, на запахе духов, на еще какой-нибудь примете чужого тела…
Он надел тапочки, прошел в комнату, сел на диван. Диван был старый, продавленный, бугристый — таких кресел, как в той гостинице, у них с Анькой не будет никогда.
— Устал, — сказал он, — поставь чайник, а?
— Поставлю, — отозвалась жена, — поставлю. Все-таки трахнул, да? Она же корова, у нее зад висит чуть не до полу.
— Ань, — попросил он, — ну не мучайся дурью.
— Ну трахнул же? Скажи правду хоть раз в жизни.
Чехлов не удержал зевок, и именно это его почему-то разозлило.
— Ну трахнул, — сказал он, — ну и что? Думаешь, хотелось? Да на хрен мне это надо!
— Все-таки трахнул, — горько произнесла жена, — суку, корову, дерьмо…
Он попытался объяснить:
— Ну прилипла… Я же мужик, мне это — как в урну плюнуть!
— Так и плюешь во все урны?
— Ань…
— А-а, — сказала она, — понимаю! Теперь понимаю. Это входило в ту сотню долларов, да? Это твоя цена, да? Ты стоишь сто долларов. Ой, что я — меньше! Сто, минус бензин, минус экскурсия… сколько же остается на твою долю — долларов десять?
Чехлов видел, что Анька закинулась, лучше промолчать, но его достал этот дурацкий подсчет. Он молча вынул деньги, пять зеленых соток, и протянул ей. Анна взяла баксы, машинально пересчитала и в ужасе уставилась на мужа:
— Это что?
— Десять долларов, — ответил Чехлов, — за то, что согласился с ней поужинать.
— Нет, правда, откуда?
— Люди по-разному живут, — сказал он, — мне в институте пятьсот баксов за полгода платили, и то не платили. А ей — раз в сумочку залезть.
И тут случилось то, чего он никак не ожидал, — Анька заплакала. Тихо, жалобно, горько.
— Ань, ты чего? — растерялся Чехлов. Она не ответила. Он притянул ее к себе, посадил на колени, стал гладить по голове. — Ань, ну бред же, ерунда.
Она все плакала, но теперь уже прижавшись к мужу. Он распахнул ее халатик и стал гладить грудь, бедра. Что и говорить, тело было не молоденькое, зато не чужое, а свое. Близкий, очень близкий, самый близкий человек, слабенький, но надежный якорек в мутной безжалостной жизни.
Кончилось так, как обычно и кончается у мужчины с женщиной. Это был не секс, вернее, не совсем секс — примирение, прощение, взаимное обещание и дальше плыть в одной лодке. Они и уснули рядом, обнявшись, — сумбурная ночь обоих измотала до края.
Чехлов проснулся часов в одиннадцать. Анька встала раньше и уже почистила картошку. Она позвонила на работу и предупредила, что заедет в книжную палату, будет к обеду. Чехлов побрился и позавтракал. Жена разложила на столе шесть зеленых бумажек.
— Что будем с ними делать?
Чехлов вспомнил вчерашнюю фотосессию Ронды:
— Может, сантехнику, наконец, сменим, пока унитаз не развалился? Кухню можно перекрасить.
— Надо бы узнать, почем это сейчас, — сказала Анна, — Светка делала ремонт, у нее молдаване работали, вроде недорого. — Она ухмыльнулась и добавила: — В крайнем случае, еще заработаешь.
Ночная сентиментальность прошла, она снова его подкалывала, но теперь уже без обиды, просто жаль было упустить случай. Потом она позвонила Светке:
— Свет, а у нас удачный день. Представляешь, Борька американку трахнул, так она ему пятьсот баксов дала… Да ты что, какие шутки, ровно пятьсот!.. Да знаю, что дорого — зато качество какое! Так что смотри: зачешется, звони… Цена стандартная — пятьсот баксов… У меня тоже таких денег нет, но, может, он нам с тобой скидку сделает по старой дружбе… Мужик, скидку сделаешь?
— Никаких скидок, — сказал Чехлов, — фирма веников не вяжет.
Он оделся и пошел на улицу, к машине. Лучшая для работы часть суток была потеряна, оставалось хоть что-то нагнать, если получится. А получиться должно, если в дорожной давке и суете упорно и весело ловить свой шанс.
Чехлов завел машину и не спеша поехал к ближайшему оптовому рынку. В пятницу с утра многие хозяйки закупаются на выходные, и порой так набивают сумки, что ни в какой автобус не влезть. Живут, конечно, поблизости, концы короткие. Но это неважно, важен сам факт — первый клиент. Дальше, бог даст, пойдет накатом.
Как ни странно, Чехлов чувствовал себя отдохнувшим, из двух коротких кусков сложилось что-то вроде нормального сна. Да и вообще все нормально, подумал он.
Ему еще предстояло выиграть свой сегодняшний бой — азартный и рискованный бой за выживание. Вчерашний день был просто случаем, подарком судьбы. А подаркам надо радоваться и тут же о них забывать, жить так, словно и не падал с небес золотой червонец. Не каждый день и не каждый год подворачивается иностранка, которой в России позарез необходимо переспать с русским мужчиной…

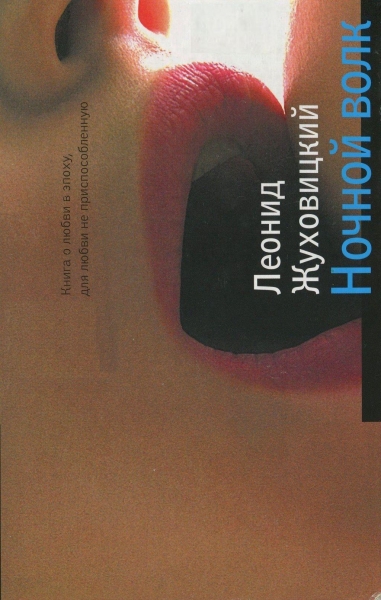





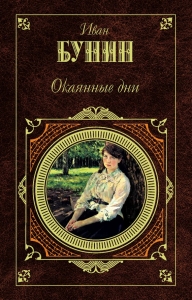

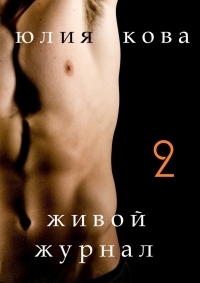


Комментарии к книге «Ночной волк», Леонид Аронович Жуховицкий
Всего 0 комментариев