История одного итальянского рабочего
Я не искал эту книгу. Она сама нашла меня. Разбирая однажды утром почту, я наткнулся на небольшой желтый пакет с итальянской почтовой маркой. В нем лежала невзрачная на вид книжечка с незнакомым мне именем — Томмазо Ди Чаула. Не слишком красноречив был и заголовок книги — «Голубая спецовка». Больше заинтересовал подзаголовок: «Гнев, воспоминания и мечты рабочего с Юга». Итак, книга итальянского рабочего о рабочем классе. Я попытался вспомнить, сколько лет не появлялось в Италии подобных книг. Правда, сравнительно недавно публиковались книги А. Роазио, К. Раверы, М. Монтаньяны, но они скорее относятся к мемуарному жанру. Художественных же произведений, таких, как «Воспоминания цирюльника» Д. Джерманетто или «Метелло» В. Пратолини, не попадалось давно. И вот передо мной рассказ о повседневной жизни молодого рабочего, о его труде на заводе, о том, что волнует. На форзаце книги посвящение: «С уважением и надеждой увидеть эту книгу в переводе на русский язык. Томмазо Ди Чаула».
Кто же такой Томмазо Ди Чаула? Напрасно было бы искать упоминаний о нем в солидном справочнике по современной итальянской литературе, изданном буржуазным издательством «Валекки». Не найдем мы названия его книги и в рекламных разделах газет и журналов, издаваемых профсоюзами или левыми партиями и группировками. Этому тоже есть свое объяснение, но о нем несколько позже.
Проще всего составить себе представление о Ди Чауле, обратившись непосредственно к его книге. Дело в том, что герой книги и ее автор — одно и то же лицо. Дневниковые заметки Томмазо — героя повести — это заметки самого Ди Чаулы, крестьянского паренька, выучившегося на токаря и вот уже пятнадцать лет «вкалывающего», по его собственному выражению, на автомобильном предприятии «Катена-Зюд» — южном отделении ФИАТа. В свои тридцать с лишним лет Томмазо не утратил по-детски свежего, поэтического восприятия мира. Мягким лиризмом окрашены воспоминания о детстве, проведенном в сельском доме. Герой способен воспринять и оценить красоту родной природы, кружевную вязь старинной архитектуры, поразительное мастерство народных умельцев. Он замечает, что никакие сверхурочные не заменят ему сверкание солнечного дня, свежего ветра, от которого так легко дышится, веселья юрких ящериц под ногами. Трагедия Томмазо — подневольный труд на капиталистическом предприятии. В нем как бы живут два человека — крестьянин и рабочий. «Я на перепутье», — говорит он, выдавая свое сокровенное желание вернуться в деревню, где в доме рядом со спальней хозяев находится хлев, а по вечерам комнату освещает тусклая керосиновая лампа. Но его не пускает завод. «Завод под боком, — сокрушается он, — а у меня к тому же нет воска, чтобы заткнуть уши и не слышать заводского гудка».
Об этом раздвоении души Томмазо хорошо написал известный итальянский писатель Паоло Вольпони, представивший книгу Ди Чаулы читателям своей страны: «Его представления о жизни, о природе насквозь поэтичны, все в нем движимо духовным озарением… до тех пор, пока в жизнь деревни с ее крестьянской культурой не врывается завод. Поэт-крестьянин становится рабочим-машиностроителем».
Но не просто рабочим-машиностроителем становится Ди Чаула. Мы знаем немало рабочих-машиностроителей, живущих в иных условиях, иной, полноценной жизнью. Томмазо же из архаически-крестьянской среды со всеми ее атрибутами — выпасом овец, лущением гороха, полуязыческими праздниками — попадает в современную потогонную систему. «Выработка, выработка… Производительность, производительность…» Недаром эти слова рефреном проходят через всю книгу Ди Чаулы, где подчас с натуралистической беспощадностью показано, до чего доводит человека изощренная эксплуатация рабочего в современном капиталистическом обществе. Это полное обезличивание, превращение человека в инструмент, орудие капиталистической прибыли. «На штанах моей спецовки, — пишет он, — штамп „Катена-Зюд“, на блузе, на куртке — повсюду „Катена-Зюд“. Моему деду-крестьянину лучше. Хотя у него на заду заплатки да и все тряпье латано-перелатано, но зато без надписей». Заводскому начальству нет дела ни до физического, ни до духовного состояния Томмазо. Автор с болью и гневом говорит о несчастных случаях, о бездушном отношении заводской администрации к болезням рабочих, о том, что место человека на предприятии и меру уважения к нему определяют не труд и даже не выработка, а угодничество перед начальством, готовность шпионить и наушничать. «Разумеется, — замечает Томмазо, узнав, что в цехе оказалась „излишняя“ рабочая сила, — в число рабочих, которые должны переменить климат, непременно попаду я, потому что я спорщик, подрывной элемент, зануда. Мне не впервой менять цех».
«Ну не глупо ли! — восклицает он в другом эпизоде. — Тебя ни во что не ставят, почти на дух не переносят, куда бы ты ни заявился — в учреждение ли, на почту, в кассу взаимопомощи, в магазин, — везде тебе фыркают в лицо, грубят, только что ноги об тебя не вытирают».
Быть может, Ди Чаула преувеличивает? Или говорит о единичных явлениях? Но вот перед нами свидетельство Анджело Бариани, хорошо знающего обстановку на заводе «Мишлен» в Турине. «Для администрации завода, — пишет он, — социальное обеспечение рабочих — это один из способов отделения „хороших“ от „плохих“: выдача ссуд, пособий неизменно связана с получением точных данных о просителе — каково его семейное положение, к каким политическим группировкам он принадлежит, как ведет себя на заводе. Только на основе этих данных решается вопрос об оказании помощи рабочему».
Книга Ди Чаулы — блестящая иллюстрация того социального процесса, который семимильными шагами развивается в капиталистическом обществе и характеризуется превращением человеческой деятельности и ее результатов в самостоятельную силу, господствующую над самим человеком и враждебную ему. Имя этому процессу — отчуждение, и выражается он в господстве овеществленного труда над живым, превращении личности в объект безудержной эксплуатации со стороны хозяев средств производства. Отчуждение Томмазо ощущает очень остро, настолько остро, что в переводе приходилось несколько смягчать резкость выражений, не принятых в нашей печати. Гнев Ди Чаулы понятен. Простой крестьянский паренек, надевший голубую спецовку, и не может иначе подходить к осознанию разрыва между теми ожиданиями, которые он связывал со своей новой работой («Какой-то плешивый в сером халате сунул мне в руки рашпиль и пригласил сесть… Так вот в чем моя работа. Не тяжелая лопата, а маленький, легонький рашпиль, и не надо больше гнуть спину под солнцем, сиди себе на удобном стуле, а локти можно упереть в верстак»), и «научными» нормами выжимания пота и сил из человека. Отсюда его злость, восприятие этих норм как чуждых и враждебных его личности («Как, говорю я, бездушная материя может меня дурачить, изнурять, высасывать из меня силы и валить с ног»), отсюда и чувство изоляции, оторванности от родных корней, одиночества, опустошенности.
Вот эти самые чувства и порождают «невиданную ранее массовую критику небрежного или корыстного отношения к запросам и нуждам людей, восстающих против извращенного, „современного“ понимания жизни, которое царит в очень многих городах и селах Юга и все более распространяется, не сопровождаясь при этом реальным развитием, не способствуя повышению качества общественной жизни, а, наоборот, вызывая одичание человеческих отношений»[1]. (Курсив мой. — Г. С.)
Примеров такого одичания и извращения человеческих отношений мы найдем немало в записках Ди Чаулы. Вот рабочий, который лежит на полу в заводском туалете. Он не в обмороке и не заболел. Просто иссякли силы и захотелось отдохнуть. «Он был так счастлив, словно попал в рай», — пишет Ди Чаула. А вот рабочие толпой выходят за ворота предприятия, видят огоньки ближайшего поселка. «Там, должно быть, развлекаются наши друзья… Развлекаются? Черта с два! — восклицает Томмазо. — Они там дуреют… поселок все равно что пустыня: бар, охотничий кружок, бильярд, игральные автоматы — все для того, чтобы еще больше обалдеть, словно и без того мы недостаточно обалдели. Но именно такими мы и нужны хозяину».
А чего стоит так называемое «общество потребления»? Ди Чаула возвращается домой из супермаркета. Он набивает холодильник и чувствует себя богачом, по крайней мере на неделю обеспечившим семью. «Но это ощущение, — пишет Ди Чаула, — очень скоро проходит: почистив гору зелени, которую притащил домой, убеждаюсь, что ее едва наберется на пару тарелок. Дети смотрят на очистки голодными глазами. Мясо вначале едва умещалось в сковороде, а теперь скукожилось до того, что его без увеличительного стекла не разглядишь. О фруктах и говорить нечего: вместо апельсинов одна кожура, а бананы и вовсе зеленые. Что за дела?! Или земля перестала родить, или всех нас кто-то водит за нос».
Антигуманность общества, основанного на эксплуатации человека человеком, не вызывает у Ди Чаулы сомнений. Подчас протест молодого рабочего выливается в наивно-анархические формы («Когда мы только начинали работать на заводе, нас всегда преследовало искушение устроить тут разгром… достаточно было вставить какой-нибудь предмет между движущейся кареткой и неподвижной частью станка») или же принимает экстремистски-левацкую окраску («Я бы с удовольствием подложил под завод бомбу»), но чаще мысль его идет верным путем («Нужна большая солидарность и сотрудничество, чем меньше будет доносчиков и фашистов, тем лучше будет рабочему человеку»).
Все вышесказанное, в общем, не ново. Подобных историй созревания классового самосознания и протеста немало в современной западной литературе. Однако Томмазо Ди Чаула — рабочий середины 70-х. Он живет и пишет в крайне сложный для профсоюзного движения, для всех левых сил Италии момент. Напомним, что после так называемой «жаркой осени» 1969 года, когда рабочим удалось добиться значительных уступок от предпринимателей, наступил довольно продолжительный период относительного спада рабочего движения, в течение которого предпринимателям, выражаясь словами Ди Чаулы, удалось «прийти в себя» и начать массированное наступление на жизненные права и интересы трудящихся. Под ударом оказались прежде всего такие важные завоевания рабочего класса, как подвижная шкала заработной платы (благодаря своему автоматизму она обеспечивает определенную защиту заработков рабочих от инфляции и роста дороговизны), занятость (безработица в 1983 году перевалила за два миллиона человек), политические права рабочих на предприятиях и т. д.
Новая волна массовых стихийных выступлений трудящихся против экономической и политической дискриминации в известной мере застигла врасплох профсоюзное движение Италии. Во многих случаях оно фактически не сумело возглавить эти выступления. Резко обострились отношения между социалистами и коммунистами внутри Объединенной федерации профсоюзов. Причина тому — ухудшение отношений между двумя левыми партиями на национальном уровне. Позиции профсоюзных деятелей по ряду важных вопросов, связанных с интересами трудящихся, — вызвали резкий протест рядовых членов профсоюза, которые сочли их соглашательскими.
«Наш молодой рабочий класс, выросший на гребне профсоюзных успехов 70-х годов, — отмечал на VIII конференции рабочих-коммунистов в Турине рабочий отделения ФИАТ в Термоли Карло Вертильоцци, — при первом же поражении раскололся, и в нашей среде появились разногласия и недовольство, которые мешают дальнейшему подъему деятельности профсоюза на заводе… Мы ощущаем также слабость нашей партийной работы и, следовательно, должны прилагать чрезвычайные усилия для того, чтобы создать у себя крепкую партийную организацию… Заводской совет, в том виде, в каком он существует, не оправдал себя: с ним не считаются ни профсоюзы, ни хозяева».
Эти слова перекликаются с высказываниями Ди Чаулы в адрес профсоюзов, левых партий, заводского совета. А порой они еще резче. Его обвинения прежде всего идут в русле критики за отсутствие ясной платформы, за сдачу уже завоеванных позиций, за перерождение и бюрократизм освобожденных профсоюзных работников. На одной из страниц романа он приводит предложения для нового коллективного договора, за который рабочим предстоит бороться. Там много высокопарных слов, много и совершенно непонятного: «капиталовложения — занятость — реформы — договор — контроль за использованием рабочей силы и децентрализацией производства». «Чем больше я читаю, — говорит Ди Чаула, — тем меньше понимаю, пусть простят мне профсоюзные руководители, пусть простят мне товарищи, но здесь я — полный профан».
И тут же он предлагает свою программу: «Как бы там ни было, договор этот — сплошной обман. Я бы составил его иначе: пусть бы лучше действовала „подвижная шкала“, это важнее, чем повышение зарплаты. Добившись справедливой оплаты труда, я бы перешел к существенному сокращению рабочего дня. Мы слишком много времени проводим на заводе, да еще дорога туда и обратно. В результате по приезде домой ты уже ни на что не годишься, спишь как убитый, чтобы наутро снова вернуться на завод. Потом я снизил бы пенсионный возраст. При таких темпах кто доживет до шестидесяти лет? Мы уже сейчас не лучше половых тряпок.
Потом я бы занялся социальными службами. Мы веками бастуем, но если бы по истечении каждого коллективного договора мы требовали — не говорю полного, хотя бы частичного — улучшения социального обеспечения, может быть, сейчас у нас бы что-нибудь и было: больницы, школы, вода, транспорт, конкретные мероприятия в области сельского хозяйства. А мы требуем только денег; нам дают одну лиру, а государство отбирает четыре. Через сто лет дети наших детей все еще будут бастовать — бороться за капиталовложения, реформы, занятость».
Что ж! Критика справедливая. Об этом, кстати, достаточно определенно заявил на XVI съезде ИКП Энрико Берлингуэр: «Кризис профсоюзов налицо. Это сознают и публично приняли к сведению сами руководители Объединенной федерации профсоюзов. Если дела обстоят таким образом, то можем ли мы, рабочая и народная партия, смотреть на такое положение сквозь пальцы? Подобное решение было бы наихудшим — как для нас, так и для рабочего и профсоюзного движения в целом». (Курсив мой. — Г. С.)
Об опасности такого решения говорит и книга Ди Чаулы. Ведь одна из тем, которая часто встречается в его записках, — это «кризис доверия» к политическим партиям вообще и к левым в частности. Эта тема звучит в книге субъективно (далеко не всегда можно согласиться по этому поводу с Ди Чаулой), но имеет она и объективную сторону. Если серьезно взглянуть на итоги парламентских выборов в 70 — 80-х годах в Италии, то вырисовывается довольно симптоматичная картина: на последних досрочных выборах в парламент сокрушительное поражение потерпела христианско-демократическая партия, потерявшая в пользу других партий 5,9 % голосов по сравнению с 1979 годом. Однако, как отмечает туринская «Стампа», эта «передвижка голосов, вызвавшая кризис итальянской партии, которая до вчерашнего дня была стержнем нашей политической системы, пошла не впрок левым партиям. ИКП, похоронив „исторический компромисс“ и выдвинув „демократическую альтернативу“, не сумела пойти в гору и даже потеряла некоторое количество голосов. В абсолютном исчислении эта потеря невелика, но произошла она в момент, когда острый кризис переживает главный противник». К тому же блок партий, традиционно считающихся левыми (Итальянская компартия, Партия пролетарского единства, Итальянская соцпартия, Партия пролетарской демократии и радикалы), хотя и удерживает в основном свои позиции, но все же топчется в последнее время на месте. Если этот блок собрал в 1976 году 46,7 % голосов, то в 1979 и 1983 годах эти результаты соответственно снизились до 45,9 % и 45,3 %. Здесь, видимо, сыграли свою роль полный отказ социалистов от научного социализма и переход на позиции соглашательства и реформизма, псевдорадикальная фразеология и левачество мелких партий и группировок и, наконец, частая смена политических установок, ликвидаторские оценки социализма, построенного в других странах, затушевывание традиционных классовых ориентиров борьбы рабочего класса, выдвижение более расплывчатых и менее понятных для простого труженика лозунгов. Недаром Ди Чаула в своей книге пишет: «Этот исторический компромисс как-то меня не убеждает. Разве можем мы, трудящиеся, договориться с теми, кто всегда толкал нас в яму и всегда будет стараться нас задавить? Не сможет примириться ягненок с волком — разве только оба превратятся в ягнят или волков! А расплачиваться за все, как всегда, нам, муравьям в голубых спецовках». Конечно, такое толкование «исторического компромисса» (то есть объединения в борьбе за социализм усилий всех трудящихся коммунистического, социалистического и католического направления) грешит упрощенчеством, но, по-видимому, не один Ди Чаула так воспринял этот лозунг, от которого, кстати говоря, отказалась и сама компартия.
Отход от левых партий молодого поколения людей, только что вступивших в трудовую жизнь, вызывает законную тревогу. Так, результаты голосования за Итальянскую компартию и Партию пролетарского единства на выборах 1983 года в палату депутатов (где возрастной ценз ниже, чем при выборах в сенат) были на 0,5 % ниже, чем на выборах в сенат. Это означает, что определенная часть молодых избирателей на сей раз отдала голоса другим партиям.
Должно быть, в этой связи стоит прислушаться и к голосу Ди Чаулы: «Каждый имеет право говорить о своих проблемах, даже тот, у кого нет ни диплома, ни аттестата, ни прочей такой бодяги. Пусть все и говорят, хоть с ошибками, хоть с ругательствами, хоть на диалекте — главное, чтобы твой голос прозвучал и был услышан, особенно когда речь идет о твоих же проблемах…
Дела рабочих все хуже и хуже. На заводах нас эксплуатируют, отравляют, убивают и, словно этого мало, выгоняют, вышвыривают на улицу, когда и как хотят. От нас непрерывно требуют жертвенных усилий, хотя мы и без того постоянно чем-нибудь жертвуем. Мы от рождения обречены на жертвы… К тому же мы сами никогда не доводим до конца свою борьбу с правительствами и голодаем, когда им заблагорассудится. Какие же мы рабочие, если не имеем права называться рабочими в полном смысле этого слова!.. Можно ли назвать рабочим человека, который, стоя у станка, производит на протяжении двадцати лет одну и ту же деталь? Мы попросту рабы, лодки без руля и без ветрил. Даже ИКП с профсоюзом не решаются открыто рассказать нам всю правду о нас самих. О том, что рабочая женщина позволяет эксплуатировать себя на производстве как лошадь, но в итоге приобретает шубу за 10 миллионов лир; что ее муж, тоже рабочий, преподносит ей в подарок брильянтовое кольцо за два миллиона (в то самое время, когда существуют миллионы безработных и совершается несчетное количество убийств и самоубийств от отчаяния и нищеты); что рабочий наизусть знает, о чем пишут в спортивной газете, но понятия не имеет о смысле партийного символа, за который голосует, да и о своем кандидате тоже. Мы здесь, на Юге, все плачем, жалуемся, но до сих пор ничего не поняли. У нас же есть море — так давайте его использовать; у нас земля — так давайте возьмемся за землю; у нас солнце — значит, и о нем следует подумать; у нас овощи, фрукты и так далее, и так далее…
Что же мы за рабочие такие, если горстка шакалов помыкает нами как хочет, заставляя нас всю жизнь гнуть спину и харкать кровью, всю нашу единственную, неповторимую жизнь!»
Да, конечно, Ди Чаула не очень образованный парень. У него нет «ни диплома, ни аттестата, ни прочей такой бодяги», ему ничего не стоит ввернуть в разговоре крепкое словечко, но своим классовым чутьем он отлично понимает, что «пришла пора говорить ясно и понятно».
Его представления о социализме как раз и отличаются такой четкостью и ясностью. «С чего начать? — спрашивает он. — Дел так много! Мне кажется, начинать надо с молодежи, надо бороться за все активные силы, которые плесневеют в провинциальных городках… Надо поднять молодежь… вовлечь ее в борьбу за спасение Юга, его морей, приходящих в упадок крестьянских хозяйств, скудеющей земли… надо вызволить молодежь, спасти ее, направить».
Книга Томмазо Ди Чаулы — индивидуальное, но далеко не единичное свидетельство трудностей, встающих перед новым поколением рабочих Италии, трудностей приобщения к революционной теории о переустройстве общества несправедливости и угнетения. Читатель найдет в ней не только поиски снизу, но и призыв освобождаться от недостатков в руководстве движением, добиваться взаимопонимания, крепить солидарность.
Выступая в 1983 году на партийной конференции в Турине, Э. Берлингуэр резко критиковал профсоюзную конфедерацию коммунистов и социалистов (ВИКТ) за отсутствие демократии, за то, что ее руководство, принимая важные решения, фактически не советуется с рядовыми членами. «Трудящиеся оживленно обсуждают эти вопросы, — отмечал товарищ Берлингуэр. — Начинается дискуссия в профсоюзах. Мы тоже примем участие в обсуждении и готовы вновь заявить, что, по мнению ИКП, незаменимой основой обновления, повышения активности и авторитета профсоюзов является, как и прежде, демократия, самостоятельность и единство».
Итак, обсуждение продолжается. Вот почему и книга Томмазо Ди Чаулы — не последнее слово в этой большой и непростой дискуссии. О ее ходе мы сможем судить и по результатам стачечной борьбы итальянских трудящихся, и по их выступлениям в защиту мира, а может быть (как знать), и по успехам в революционном преобразовании действительности.
Г. Смирнов
Томмазо Ди Чаула Голубая спецовка
Завод, где я работаю, находится в шести километрах от Бари. Этот завод был построен лет пятнадцать назад в одном из самых прекрасных сельских уголков в окрестностях Модуньо, округ Парадизо. По прямой море отсюда очень близко, его можно увидеть, если влезть на железную крышу цеха. Синее, грозное, мощное море. Когда оно волнуется, можно разглядеть пенящиеся валы, от одного вида его становится весело, но, стоит подойти поближе, сразу станет ясно, что море это мертвое: нечистоты, деготь и нефть убивают его день за днем — нет рыбы, нет крабов, нет моллюсков, которых мы ловили в детстве, тогда море было еще чистым. Я и мои сверстники приезжали сюда на велосипедах, часто приходили пешком. Помню, кое-кто даже тащил сюда козленка на выпас.
Правда, я козлят не пас, когда жил в деревне у деда с бабкой, но по хозяйству помогал много. Работали до ночи; о конце работы давал знать дед, загоняя в хлев скотину. По крику совы запирали двери на засов, закрывали окна, и в доме было не продохнуть от удушливого запаха спелых фруктов, засыпанных в мешки. Особенно терпко пахли груши. Пламя керосиновой лампы дрожало от непонятно откуда взявшегося сквозняка, ночные бабочки так и падали в лампу, поджариваясь на огне. На следующий день приходилось отмывать стекло от приставших к нему крылышек и тонких лапок. Старики храпели на своей железной кровати; дед, выпростав руки из-под одеяла, вздрагивал во сне и крушил кулаками царгу кровати, на которой были нарисованы цветочки и птички, давно уже почерневшие и засиженные мухами.
Вот уже почти четырнадцать лет, как я работаю здесь, на штанах моей спецовки — штамп «Катена-Зюд», на блузе, на куртке — повсюду — «Катена-Зюд». Моему деду-крестьянину лучше. Хотя у него на заду заплатки, да и все тряпье латано-перелатано, но зато без надписей. У стариков все было заштопанное: одежда, простыни, стеганое одеяло, занавески, парусина для сбора оливок, мешки. В воскресенье к мессе дед принаряжался; черный костюм висел на нем как на пугале, ворот на белой рубашке был потерт, галстук напоминал все что угодно, только не галстук. Уголки воротничка все время топорщились, как усики антенны.
Я впервые надел «фирменную» куртку. Холодно, уже октябрь. Вчера вечером нахлестывал дождь. Крестьяне при свете красноватых лампочек (все краснее становятся и виноградники) беснуются, глядя на ливень, — тыркают стулья, кошек, детей, кастрюли и проклинают всех святых. Дождей не было с июня.
Опять рабочий день. Так было, кажется, целую вечность. Сегодня тоже придется ломать голову, как добираться до работы: местечко, где я живу, никак не сообщается с заводом. Аньелли[2] не сумел продать мне одну из своих душегубок и наказывает меня за это. Жители поселка знают, что у меня нет прав, и смотрят на меня как на дефективного: глядите-ка, не умеет даже водить машину.
До моего «Шаблина» — это легкий и скоростной токарный станок — не дотронешься, такой он холодный. Собранное из металлических листов помещение цеха — настоящий ад, мы подыхаем и летом, когда железо накаляется, и зимой, когда оно выстывает. Пробуем немного согреться — со вчерашнего дня осталась еще тысяча штук тефлона. Тысяча — не так уж много, иногда их собирается до десятка тысяч, все, как один, красивые, чистые и такие маленькие, что, пожалуй, могли бы уместиться в кармане. Эти детали как грибы: чем больше их собираешь, тем больше их вырастает. Вот я и вкалываю как одержимый. Не знаю, что и придумать, чтобы на них не смотреть. Мне кажется, из глубины пластмассовой красной коробки они надо мной смеются. Десять тысяч штук! Пробую положить поверх коробки бумажный лист, проделываю в нем дыру и сквозь него достаю эти проклятые детали, так по крайней мере я их не вижу и они не гложут мне душу.
Может, я мало работаю и много витаю в облаках. Я представляю себе, что происходит за стенами цеха, как хорошо прогуляться по полям с хорошенькой девушкой. Конечно, послушать мастера, так я всегда работаю недостаточно: выработка, где выработка? Он приближается, добренький и благообразный, как монах, но тут же превращается в стервятника, едва речь заходит о выработке. Я говорю ему: здесь все из рук вон плохо, и вне завода — тоже. Выглянул бы он за ворота «Катена-Зюд» — вся Италия, похоже, страдает от неполадок, мешающих рабочим «вкалывать».
Чего мы ждем, почему не поставим за станки обезьян? Вот что я предложил бы Аньелли: обезьян — на заводы, рабочих — на деревья. Иногда мне кажется, что мы глупее обезьян.
Теперь, когда я согрелся, от куртки идет пар. Токарь, работающий на вертикальном станке, тот, что обтачивает детали выше своего роста, корпуса величиной со шкаф, смотрит на мои малюсенькие детальки и улыбается. Говорит: кончил свои четки? Моя продукция похожа на зернышки, на бусинки, из которых нижут четки, чтобы отмечать, сколько раз ты прочел «Отче наш».
Сегодня в уборной обнаружили рабочего, лежащего на полу. Он объяснил свое поведение тем, что хотел вытянуть ноги. Причем был так счастлив, словно попал в рай. Пусть в дерьме, зато сам себе хозяин. Порой, когда спина вот-вот переломится от боли и некуда голову приклонить — вокруг сплошь масло, стружка, все колется и режется, — лучше уж растянуться в уборной, среди вони, подложив под голову вместо подушки рулон туалетной бумаги.
Иногда мне мерещится, что вокруг деревянных помостов бегают странные существа, крошечные чудовища, кажется, их породил шум, корявый пол, грязь, накопившаяся здесь за годы. Особенно много их зимой, они вылезают погреться у работающих моторов.
Выработка, выработка, все время выработка, а я вот что скажу: если мне, несмотря на мою подготовку, сноровку и ум (а Аньелли их отрицает!), не удается выполнить работу по наряду, то я зверею и посылаю всех к чертям собачьим. Как, говорю я, бездушная материя может меня дурачить, изнурять, высасывать из меня силы и валить с ног? Ну нет, дудки: я плюю на время, предусмотренное нарядом, бочком-бочком выхожу наружу подышать свежим воздухом и, расстегнув рубашку, загораю.
Сегодня к моему станку подошел мастер, показывает на ящик для инструментов и спрашивает: что значит эта надпись? Я прикидываюсь дурачком. «Какая надпись?» — спрашиваю. «Вот эта», — говорит он и хватает меня за рукав. На ящике написано: «Да здравствует революция, перестроим общество и выгоним всех сволочей и воров!» Тут же начинается выволочка: «Ди Чаула, это дело твоих рук, пора кончать с такими надписями, а нет — придется сходить к начальнику по кадрам. Пора с ними кончать раз и навсегда, не валяй дурака, это твои проделки, я знаю, только ты этим занимаешься и уже перешел всякие границы, понял, всякие гра-ни-и-и-и-ицы, ты по-о-о-онял, границы». А я ему в ответ: «Эй ты, потише, что я, убил кого или изувечил, а? Может, сломал какую штуковину? Нечего базар тут устраивать, и голос на меня не повышай! Когда мы своим потом и кровью, настоящей красной кровью, поливаем вот эти ящики и этот пол — то все прекрасно, все в порядке, но стоит написать невинную фразу, высказать свои мысли, как вас тут же начинает корчить. Проваливай-ка отсюда, никто не заставляет тебя читать эту надпись, а для меня она много значит, она мне под стать, она поднимает настроение, придает смысл жизни, она — часть меня самого. Вам всем бы хотелось, чтобы мы, стоящие у этих машин, были болванами, роботами, но у нас пока что голова на плечах, мне эта надпись доказывает, что я все же мыслящее существо и не стану жевать чужую жвачку, так что давай, двигай отсюда».
Если ты спросишь, чей это хутор, тебе ответят — свояка, который в Америке, а вот этот — брата, он тоже в Америке, а вон тот — двоюродного брата, и он там же. Пройдись немного, и увидишь, что все лучшие земли принадлежат родственникам, живущим в Америке. Если бы эти кретины по крайней мере пользовались землей! Так нет же, в этих домах, по этим землям ползают змеи, отплясывают духи, кричат лягушки и совы, а хозяева метут улицы в Нью-Йорке, вкалывают на заводах в Торонто.
Иногда бродишь по дорогам Юга, вокруг полуразрушенных, убогих поселков, и за кактусами, растущими вдоль грязных каменных заборов, открываются неожиданные и невероятные вещи — настоящие миражи в пустыне. Какой там нищий Юг! Ты увидишь конюшни, где бьют копытом веселые и сытые кони, увидишь роскошные бассейны, экзотические растения, зеленые, ухоженные лужайки… И все это на виду у рабочих, у всего выжженного и нищего края. Вот так стоишь, уткнув нос в колючки, и, пораженный, взираешь на всю эту божью благодать. Но стоит повернуть голову в сторону, и перед тобой снова другой Юг — Юг бедняков, душный, погибающий от жажды, озлобленный Юг.
Праздники перестали быть праздниками. Раньше они были сытые и благодатные. Можно было жить одними праздниками. Если ты участвовал во всех торжествах, то тебе всегда перепадал даровой кусок. Прошел праздник — занимайся каким-нибудь ремеслом. Приходилось, конечно, и туговато, но то была достойная жизнь — бедняцкая, зато здоровая и свободная. Когда в Мола-ди-Бари устраивали праздник по случаю улова моллюсков, можно было отправиться туда и поесть их досыта. В Грумо-Аппула был обычай — не знаю, может, он сохранился и по сей день — угощать бедняков жареной чечевицей, хлебом, вином. В других селениях, например в Тури, был праздник сбора черешни, и тогда можно было смело пускаться в путь и быть уверенным, что вдосталь поешь черешен; потом еще был праздник луковичной поджарки в Аквавива-делле-Фонти, в Мариотто — праздник винограда, в Сан-Микеле — праздник свиной ножки. В одном поселке был праздник пшеничных лепешек (любопытно, там их мерили аршином). Потом начиналась массовая торговля пряниками и так далее. Можно было в любое время года прокормиться, путешествуя по Апулии в погоне за праздниками и ярмарками; разъезжаешь себе на велосипеде и ни перед кем не отчитываешься. Теперь и праздники уже не праздники, за все приходится платить. За все и сполна.
У входа в уборную и раздевалку скопилась целая гора грязи, но никто ее не замечает. Она высится там годами, пока кто-нибудь не вляпается в нее, и тогда ассенизаторам из «Люченте» приходится немало попотеть. Они готовы сожрать нас, рабочих, потому что им приходится очищать уборные от наших нечистот и потому что мы, на их взгляд, находимся в привилегированном положении. Им невдомек, что рабочих насилуют больше, чем их.
В этом году опять разразилась эпидемия — они вспыхивают как молнии там и сям на этом восхитительном Юге, о котором только и поют «О солнце, о море!». Смех разбирает, когда начинают рекламировать Юг ради привлечения туристов; Юг теперь — сплошная мерзость, пляжи — просто свалки, все захламлено, залито цементом, побережье застроено уродливыми виллами в стиле бог весть каких далеких стран. А море все никак не вздыбится, чтобы смыть эти дворцы, их обитателей и землемеров, еще более тупых, чем хозяева. Какой там прекрасный Юг, тарантелла и прочие пикантные удовольствия!.. А в сельскую местность то и дело наведываются князья да маркизы, собирают арендную плату за землю. С ума можно сойти, человек уже ступил на Луну, а до сих пор еще не вывелись всякие там князья и бароны. Всем бы им головы поотрезал!
Хочется закурить сигарету, но руки такие грязные, что не покуришь. Со всеми этими эпидемиями поневоле будешь беречься… так и кажется, будто мы вернулись в средние века.
Сегодня раздавали тряпки. Возчик, чтобы не слезать с мула, сбрасывает на землю всю кучу, и мы скопом наваливаемся на нее. Тряпки нам раздают, чтобы вытирать машины. Они все упакованы в пластиковые мешки: здесь подштанники, кофточки с засаленным воротом, куски штанов, женские трусики, бюстгальтеры, полотенца. И этим неизвестно чьим барахлом мы должны вытирать руки! Иногда попадаются почти новые вещи, и мы несем их домой. В эти тяжелые времена все сгодится.
Какой-то шутник из чернорабочих натянул трусики прямо на спецовку и вихляет бедрами. Кто знает, что за дамочка щеголяла прежде в этих кружевах.
На своем станке я должен выполнять акробатические трюки: станок маленький, а я уродился долговязым. Выбирая удобную позу, засовываю ноги под станок, одной ногой запускаю его, другой регулирую сцепление — ну чем не солист джаза! Вот только разница в том, что играть я должен по заказу, а не тогда, когда мне самому хочется.
Прошлой ночью меня одолевали кошмары. Мне снилось, что я кого-то кокнул на заводе, а потом принялся считать злосчастные детали, из которых впору сделать четки, и все считал, считал… Проснулся от страха… тут же и мой старшенький вскочил. Подавай ему среди ночи булку и воды.
Ужасное событие потрясло жителей всеми забытой Мурдже, что неподалеку от Альтамуры. Бесследно исчез пастушок Микеле Колонна. Потом отыскали еще теплое тельце, лежащее ничком на земле среди скал, рядом — ружье, к спусковому крючку привязан шпагат. Восстановить случившееся нетрудно: укрепив приклад ружья двумя камнями, Микеле навел его на себя, привязал к курку шпагат, а с другого конца — камень, потом бросил камень подальше, тот дернул шпагат, и пуля разнесла мальчику грудь. Когда карабинеры нашли его лежащим на земле, казалось, он спал. Левая рука впилась в землю — от отчаяния. Он не мог больше сносить одиночества, издевательств и всего такого. Кто навязал ему это жалкое, мучительное, нищенское существование? Таких мальчишек помещики покупают, как рабов, устраивают им настоящий медосмотр, щупают мускулы, смотрят в зубы, лезут в штаны. Оплата производится натурой. Кто протестует — ответ один: оплеухи.
Трулли[3] продолжают исчезать. Они обречены на вымирание; между тем как грибы растут огромные коробки с жуткими, похожими на склепы квартирами, от которых кровь леденеет. Наверно, мастеров, которые строили трулли, и в живых-то не осталось. Что делать, времена изменились, и никто уже не сумеет построить их по всем правилам старинного искусства.
Налоги, налоги, налоги, вычеты из зарплаты ради капиталовложений. Какие еще капиталовложения? Диоксин из Севезо — тоже капиталовложение? Мышьяк из Манфредонии — тоже капиталовложение?
Сегодня я вернулся на завод, отболев целую неделю. Температура все время прыгала, харкал я чем-то черным, как каракатица. О горле лучше и не говорить — казалось, у меня там два камня, а не гланды. Нос постоянно заложен. Я мог бы еще поболеть, но предпочел вернуться на завод. А еще говорят, будто рабочие бессовестно прогуливают. Клевета, есть у нас и совесть, и терпение. На заводе мы вкалываем в таких условиях, от которых последняя скотина пришла бы в ужас. Насколько я знаю, коров и кур часто содержат в чистоте, летом у них прохладно, зимой тепло; бывает, и музыку им включают. У нас же ни черта нет. Этим летом нам наконец-то поставили большие вентиляторы, которые отсасывают горячий воздух. Мы ждали их лет двенадцать, а толку от них почти никакого, один только шум «ру-у-у-у, ру-у-у-у, ро-о-о-о», как от самолетов.
Сегодня на завод явился заведующий отделом внешних сношений. Привел на экскурсию туристов. Он всех сюда приводит: англичан, французов, славян, турок, японцев, марокканцев. Сегодняшние показались мне немцами, уж очень дотошные. Один все стоял и стоял около моего станка.
Время от времени кто-нибудь у нас калечит себя. Если травма пустяковая, ее заматывают одной из пресловутых тряпок и продолжают работать. Если человек сильно поранился, тоже ничего особенного, чаще всего он теряет сознание, его кладут на носилки и уносят вон. Носилки все время под рукой, в углу, возле туалета. Когда мы проходим мимо, трижды плюем, чтобы отвести от себя напасть.
Как-то я услышал крик и увидел бегущую толпу. Спросил у рабочего, выбежавшего из цеха, что случилось. Вместо ответа он показал мне обрубок пальца, который сжимал в руке.
Ходят разговоры, что нефтеперегонный завод «Станич»[4] должны перевести в другое место, а там останется только хранилище. Итак, нам больше не придется глядеть на это угрожающее пламя, которое полыхало повсюду, даже если не обращать на него внимания. Я видел его, когда лежал на траве и когда спал у себя в комнате, оно мрачным светом озаряло стену и одеяло. Видел его с мокрых, замшелых террас. Теперь оно исчезнет, никого не будет пугать, будем надеяться, что его не заменят чем-нибудь пострашнее.
На территории завода есть свой трулло. Дверь его изъедена сыростью, на крыше растет все: трава, кактусы, дикая горчица, инжир. Окружающие административные здания из алюминиевых конструкций, с дверьми из дорогого стекла подавляют этот старый дом, он кажется нереальным, вырванным из родной среды, бесполезным. Здания из алюминия разваливаются на части, разрушаются, портятся, страдают от коррозии, а дряхлый трулло, сопротивляясь времени, покрывается плесенью и служит приютом для миллионов самых разнообразных насекомых. В траве на первый взгляд ничего нет, но стоит раздвинуть зеленые стебли, и обнаруживаешь целые колонии букашек.
Вокруг завода растет много прекрасных деревьев, среди них две большие смоковницы, они в зависимости от сезона родят сначала смоквы, потом фиги. Смоквы — это те же фиги, но крупнее, величиной почти с кулак; их можно съесть сколько угодно: они такие сладкие и нежные на вкус — просто конец света, куда там бананам и грейпфрутам! Так вот, когда они созревают, я посылаю к чертям собачьим сдельщину и после обеда отмечаю табель, поворачиваю оглобли и лезу на дерево, которое в своей густой листве прячет меня от посторонних взоров. Объедаюсь как сумасшедший, забыв, что фрукты только на третье. По дорожке проходят техники и рабочие следующей смены, но убежище у меня надежное, и я продолжаю работать челюстями. Плевать, если застукают, пусть даже оштрафуют, но дать этим фруктам пропасть я не могу: по мне, это самое настоящее святотатство.
Я работаю изо всех сил, тысячи железных стержней, покрытых антикоррозийной смазкой, ждут меня в контейнере — все их необходимо обработать.
Присев на гору коробов, разминаю затекшие конечности. Снова как безумный набрасываюсь на работу, потом останавливаюсь и думаю о своей злосчастной жизни. Под задницей у меня три или четыре коробки — у нас ведь нет удобных и мягких стульев, как в управлении, надо приноравливаться. Скоро одиннадцать вечера, пора уходить, мы стоим под часами со своими карточками, ждем, когда стукнет ровно 23.00. Я пробиваю свою карточку, но иду не к выходу, а возвращаюсь назад. Я в полном сознании и здравом уме. В голове у меня ясно, будто сейчас утро и вот-вот пропоет петух, я возвращаюсь к станку, захватываю пригоршню стержней, прохожу через тяжелую дверь, и вот я на улице; впереди тянутся поля. Я втыкаю один за другим стальные стержни в землю, всего их будет штук тридцать. Уже поздно, пока не спустили собак, я бросаю взгляд чуть дальше, туда, где несколько дней назад посадил немного бобов. Будем надеяться, что их не обнаружат.
Иду в уборную, бросив станок на ходу. Я пытался отладить большую стальную втулку, и вот теперь слышу, как скрежещет шлифовальный круг, как он вопит — уа-уа-уа, — и мне страшно. Страшно, потому что станок может взбеситься, поди угадай, какая беда может случиться: смазочного масла не хватит или заест что-нибудь… Внезапно шум прекращается, значит, возникла какая-то опасность, станок нельзя оставлять без присмотра! Я ракетой вылетаю из уборной, подбежав к станку, вижу, что круга нет; этот круг может делать пятьдесят тысяч оборотов в минуту, он мог бы выйти на лунную орбиту. Стараюсь найти его, но безуспешно, ищу под настилом, под станками, кто знает, куда этот треклятый круг мог залететь. Держу пари, он все еще где-то витает!
Часто мне снится родное селение. Два дерева красного тутовника и одно — белого в моих воспоминаниях выросли до гигантских размеров. Стоило влезть на эти деревья, и ты оказывался словно на другой планете. Под деревьями никогда не было ни травинки из-за козы и мула, которые часами паслись в тени ветвей. Вечером, когда мы шли спать, постепенно затихало эхо наших детских голосов, нашей беготни, и земля наконец могла отдохнуть. А днем все вокруг было в густой красной пыли. С наступлением ночной прохлады возвращался дядюшка Марко. Он то и дело ругал своего мула и осыпал проклятьями всех святых.
Мастер снова при исполнении — требует повышения производительности, а я опять посылаю его куда подальше. Когда я возвращаюсь домой, у меня нет сил даже приласкать сына, а мастер хочет, чтобы я еще больше ишачил.
На днях двух токарей хватила кондрашка. Они побледнели, стали задыхаться. В медпункте им дали кислород; кто держал их за ноги, кто за руки, потому что они дергались, как заводные. Вот вам и награда за всю ту несправедливость, что мы терпим изо дня в день. Сегодня тянешь из себя жилы, завтра тянешь — глядишь, они и оборвутся.
Хотел бы я посмотреть, случаются ли такие приступы с начальством: оно ведь то и дело шастает в отпуск! Для боссов отпуска никогда не кончаются. Наши профсоюзные деятели время от времени ездят на семинары — в Римини, в Ариччу, в Манфредонию. Черт возьми, говорю я, почему бы им не устроить семинар с нами, прямо на заводе, среди станков?
Сегодня в ящике я нашел старый калибр, который превратился в самую настоящую тяпку. Сколько деталей я им перемерил… Это мой собственный калибр: в маленьких мастерских мы сами покупали себе калибры, спецодежду и многое другое, не то что на больших заводах, где тебе дают необходимый мерительный инструмент. Этот старенький калибр свое отработал, створки его уже не сходятся, через них целый танк пролезет, а ведь мне удавалось измерять им малейшие отклонения в деталях. Теперь машины все сами делают, нажмешь кнопку — и порядок.
Я купил этот калибр лет пятнадцать назад, когда работал в мастерских «Лacopca», в старом, но очень хорошо оборудованном цехе. На станках, которые были выше человеческого роста, мы обтачивали чугунные болванки для «Шанатико», по вечерам я возвращался домой черный как негр, стоило высморкаться в платок, и он тоже становился черный-пречерный. Я работал на допотопных токарных станках с приводными ремнями, которые вечно соскакивали. Чтобы они не соскакивали, мы прямо на ходу натирали их канифолью. Натертые канифолью ремни плотно ложились на шкив и по-щенячьи визжали. В мастерских «Лacopca» не было столовой, нам приходилось таскать еду из дома. У каждого была своя алюминиевая кастрюлька, с крышкой и резиновой прокладкой, которая герметически закрывалась, чтобы можно было носить даже суп, — чем не роскошь! Однако кастрюльку с хорошо притертой крышкой найти было невозможно, и моя сумка, хлеб, фрукты, сигареты вечно были залиты бульоном. Я брал с собой еду, оставшуюся с вечера, или же если мать была в ударе, она специально для меня готовила спагетти или яичницу.
Сегодня утром в цехе между станков появился начальник, а с ним профсоюзный вожак какого-то подозрительного вида. Мы подали друг другу знак и, не прекращая работы, стали завывать, как волки, или потихоньку скандировать: «Бездельники. Американцы!» Они сделали вид, что ничего не слышат, опустили головы и быстро прошли через цех.
Вечером мы отправились в Монополи, на побережье. Долго бродили по городу, но даже следа моря не обнаружили. Одни дома и виллы — довольно странно для приморского городка, где все дома должны бы вытянуться в струнку и смотреть на море и чтобы чайки сидели на балконах, а из окон удили бы рыбу.
Все идет наперекосяк, ничего нельзя понять: хозяева нас не выносят, мы не в силах больше выносить хозяев, сами рабочие не могут выносить своих же товарищей, — слишком много накопилось ненависти и мало человечности, во всем страшная путаница, чересчур много партий, все пропитано эгоизмом. Католики своими молитвами отметают любые требования, их ханжеством, фальшивым целомудрием люди сыты по горло. Скверная порода эти ревностные католики, особенно когда делают вид, будто не видят разницы между христианской моралью и моралью христианских демократов.
Что же это за христиане, если они со спокойной душой убивают, воруют, разрушают, и притом еще разглагольствуют о любви к ближнему. Какая там любовь, какое право на жизнь, если жизнь эту они превратили в ад!
Не могу больше жить в этом доме, здесь слишком тонкие стены, из соседних комнат несутся храп, рыгание, любовные вздохи. Вечером приходится через стену вкушать теленовости — я отчетливо слышу каждое слово. Старики наши жили лучше, они знали, что делают, когда строили дома с двойными стенами: зимой им не нужен был керосин, летом — кондиционированный воздух, их не беспокоили посторонние звуки и они действительно чувствовали себя дома, жили полной жизнью.
Воскресенье. Выходной день. Утро пошло кошке под хвост. Вечер еще хуже утра. Меня обуяла смертельная тоска, я чувствую себя бесполезным, опустошенным, больным. Завтра начинается еще одна бессмысленная неделя. Должно быть, нам дают какой-то наркотик, который в столовой подсыпают нам в еду с согласия директора завода. На работе я сильный, энергичный, даже веселый, а дождешься воскресенья — хоть вешайся.
Выходные дни проходят в унынии, потому что эти сволочи добиваются, чтобы мы у станков выкладывали весь свой запас сил и жизнерадостности.
Сегодня мы с друзьями устроили пикник. Отправились в пещеру на окраине рощи в Модуньо, пожарили немного мяса, выпили хорошего местного вина. Ночью меня мучили кошмары, мне снилось, что друзья высадили меня в Бари прямо посреди улицы и я стал голосовать, чтобы кто-нибудь подбросил меня на работу. Вдруг — все это происходит во сне — останавливается машина, где полно парней и девушек; я их умоляю подвезти меня на завод, потому что мне надо поспеть к вечерней смене и я уже опаздываю. Проснулся весь в поту. Такие тревожные сны все время одолевают нас, богом забытых. То и дело какие-то наваждения — связанные с работой или сексом. Например, другой сон, который постоянно меня мучит: я с девушкой, целую ее в шею, в уши, но в самый решительный момент меня вдруг разбирает безумный страх, а вдруг она забеременеет, и я тут же в ужасе просыпаюсь.
Возвращаясь из столовой, прохожу мимо гелиографического цеха. «Привет трудящимся», — говорю я ребятам, которые собираются идти обедать. (Нас много, почти восемьсот, и мы ходим в столовую посменно.) Тут я увидел, что один старый рабочий из Гравины, что в Апулии, которого считают неотесанным, потому что еще лет пятнадцать назад он крестьянствовал и пас овец, сплетает оливковые и ольховые ветки, чтобы сделать большую корзину. Я остановился потрясенный: да он же сам бог! Я подошел к нему и с восторгом стал смотреть на искусные руки мастера, под которыми на наших глазах вырастала корзина. Я вернулся в цех только после того, как вырвал у него обещание обучить меня этому ремеслу. Так обнаруживается, что в самом последнем человеке на заводе столько ума, поэзии, таланта, что никому с ним не сравниться. Моя воля, я бы посадил его на место директора завода. Когда я вижу ручные изделия, выполненные на таком уровне, я чувствую себя ненужным, потому что не в силах их сделать, у меня такое ощущение, будто я прожил свои годы впустую и не нашел себя — ведь я уже стар, и мне теперь слишком поздно учиться.
Чтобы сделать станок, необходимо столько сложных вещей: наброски, проекты, сырье, пот, проклятья, кровь, деньги, обман; а чтобы сделать вот такую корзину, нужно немного: несколько ольховых и оливковых прутьев и пара рук. Фрукты надо хранить именно в такой корзине, а не в жутких пластиковых мешках, от которых веет смертью.
Горло болит? Антибиотик — и проваливай. Какой-нибудь там «мицин» с повышенными бактерицидными свойствами — и все проходит. Когда-то, если болело горло, насыпали в платок теплой золы и привязывали к шее. Помню одну девушку, которая всегда носила на шее такой платок, и мне казалось, что это ее очень портит. В те времена девушки вообще казались некрасивыми: они ходили в грязных, рваных платьях, из-под юбок грубого полотна торчали худые ноги, кофточки засаленные. Малоприятное зрелище, что и говорить. А теперь, похоже, девушки только и делают, что следят за своей чистотой. Когда в конце рабочего дня секретарши расходятся — а мне работать до одиннадцати, — я прихожу в канцелярию, в воздухе еще витает запах душистой лаванды.
Столовая у нас, можно сказать, прекрасная. Она расположена метрах в ста от цеха. Много круглых столиков, когда-то на них даже стояли цветы. Сначала живые, потом их заменили искусственными, а теперь и этих нет. Зато есть музыка, музыка Краля. Спагетти, жареная картошка и саксофон, все время один саксофон.
Черт возьми, ну и движение на наших улицах! Для поселка с населением всего в пять тысяч человек чересчур интенсивное. А ведь цены на автомобили взлетели до небес. Лет десять назад, если студент мог немного подработать после занятий, а рабочий — остаться на сверхурочные, этого хватало, чтобы заполучить машину, пусть подержанную, побитую, но все-таки машину. Это были относительно легкие годы, лира чего-то стоила, денег в обращении было больше, а теперь мы похожи на обезумевших ящериц: бегаем, бегаем и в конце концов кусаем себя за хвост.
Вокруг нашего цеха — почти нетронутый сельский пейзаж. Я говорю — почти, потому что здесь легко наткнуться на куски железа, металлических конструкций, на кучи стружек, сваленных в кустах среди лютиков и шафрана. А потом вдруг перед тобой открывается английский лужок, тщательно подстриженный садовником. Директор любит зелень, всякие там растения, особенно двойные, около них даже стоят таблички с латинскими надписями вроде: «Conis finis». Надо признать, атмосфера здесь приятная, не то что на заводе. Директор, к сожалению, любовно пестует лишь растения, а о рабочих так не заботится. Обожает зеленый, но плохо переносит красный цвет.
В печати появляются тревожные сообщения о вредных лекарствах. Часто они действуют на клетки, вызывая раковые опухоли. Наконец-то додумались, что лекарства вредны. То же самое говорил мой дед, который и слышать не хотел о лекарствах. Лекарствами для него были хороший стакан виноградного вина, жаркое из кролика, яичница со спаржей… Лечебные средства мы отыскиваем в природе. А всякие там медицинские препараты давно пора выкинуть на свалку. Если у меня ломит в костях, я не желаю принимать пилюли, я хочу солнца, много солнца, много песка, золотого и теплого, и солнца, солнца, солнца, даже если придется бежать за ним аж на Гавайи. Я вконец измотан! Никаких лекарств, только отдых и развлечения, много развлечений и отдыха. Партий и профсоюзов недостаточно, чтобы защитить рабочих. У нас есть могучее тело, которое в состоянии само себя защитить. Здоровое тело стоит больше, чем пушечный выстрел, чем пулеметная очередь.
Токарный станок. В нем есть подвижная и неподвижная часть. Заготовку закрепляют муфтой и обрабатывают режущим инструментом, закрепленным на каретке, которая ходит по направляющим планкам, как поезд по рельсам. Каретка с резцом движется вперед и доводит вращающуюся деталь до нужных размеров. Чем медленнее движется каретка, тем лучше, тщательнее обрабатывается деталь. Резец должен непременно быть тверже самой заготовки. В давние времена, когда мы только начинали работать на заводе, нас, ребятишек, все время преследовало искушение устроить тут разгром: мы еще не забыли себя, не забыли свои беззаботные, резвые игры на воле. От этих воспоминаний было мучительно простаивать за станками долгие часы, особенно когда снаружи доносились крики ребятишек поменьше, поднимавших на улице столбы пыли. А ведь достаточно было вставить какой-нибудь предмет между движущейся кареткой и неподвижной частью станка, и через минуту болт не выдерживал, резьба срывалась, станок останавливался. Поди потом найди, отчего он сломался, тем более что любой поломке можно найти объяснение: станки порядком поизношены, все в смазке и ржавчине. Когда станок ломался, то в ожидании, пока он снова заработает, можно было бездельничать, слоняться по территории завода, приставать к работавшим. Однако чаще всего хозяин находил тебе работу. Например, помогать сварщику поддерживать металлический брус или же лить смазочное масло, когда другой рабочий делает нарезку. Уже тогда хозяева поняли, что рабочего можно перемещать с места на место.
19.00. Ужин все в той же столовой, при тусклом свете чистилища, кухонные запахи проникают повсюду. У тех, кто здесь ужинает, усталые лица и припухшие глаза. Сегодня я решаю на ужин не идти, сижу и смотрю через большие стеклянные двери цеха. Вечер холодный и дождливый, в пятидесяти метрах — заводские ворота с автоматической решеткой, то поднимающейся, то опускающейся в зависимости от въезжающих и выезжающих машин с номером, начинающимся на «ФИ». Над воротами маячит гигантская синяя надпись «Катена-Зюд». Она постоянно передо мной, вот уже почти четырнадцать лет, с тех пор как я впервые переступил порог завода, и с тех самых пор, черт побери, не приблизилась и не отдалилась ни на один сантиметр — все на том же месте, каждый день глаза мозолит. Вот она перед тобой, неподвижная, глухая, грязно-синяя надпись: «Дюз-Анетак», если смотреть с территории завода, или «Катена-Зюд», если стоять снаружи, за воротами, где я поворачиваюсь к ней спиной и говорю: «Пошла ты в задницу. Хотя бы на сегодня — пошла в задницу!»
В одном из углов гигантского цеха, этой чудовищной конструкции из ржавчины и дыма, вони и рева, в железной колонке спрятана зеленая пластмассовая бутылочка с пульверизатором, выпускающим зеленоватую пахучую жидкость. Из колонки можно также достать тончайшие бумажные салфетки. Если у кого загрязнятся или запотеют очки (дирекция позаботилась и об этом), достаточно нажать на пробочку, и на очки брызнет зеленая вода. Очки потом можно протереть салфеткой, чтобы лучше видеть. Конечно, так мы видим лучше, особенно то дерьмо, которое нас окружает.
Сегодня, пока мы мыли руки, в уборной между двумя рабочими вспыхнула ссора. Один назвал другого капиталистом, потому что у того собственный дом. Другой ответил первому, что тот у тещи нахлебник. Еще немного — и дело дошло бы до кулаков. Окажись при этой ссоре Аньелли, Леоне или Павел VI, уж они бы не нарадовались. Им только того и надо — разобщить трудящихся, и это часто им удается. Только у кого-нибудь завелась в кармане лишняя лира, тут же рождается зависть; и никто из нас не думает о тех, кто пускает по ветру миллиарды, о тех, кто наживается за нашей спиной, а потом переправляет капиталы за границу.
Начальник цеха попросил меня поработать сверхурочно. Он сказал: «Ди Чаула, ты давно не выходил на сверхурочные, завтра можешь выйти, завтра суббота, в воскресенье отдохнешь. Поработай с семи до часу. Приходи, деньги-то небось нужны». Он в упор сверлил меня взглядом, а я и бровью не повел, уткнулся себе в деталь, которую обрабатывал, и только буркнул: «Ладно», отвяжись, мол.
Назавтра я ненароком проснулся раньше, чем обычно, вышел на балкон и глубоко вдохнул свежий воздух. На улице приятно пахло дикой горчицей, с оплетенных виноградной лозой террас свисали золотистые гроздья спелого винограда, от них шел душистый запах. Я сказал себе: стоит ли идти на завод заживо гнить там за десять тысяч лир? Кто мне еще подарит такое утро? Десять тысяч лир, что такое десять тысяч лир, стоят ли они дуновения этого ветерка? Я поднялся к себе, взял бутылку вина и отправился бесцельно бродить по полям. Зашел довольно далеко от поселка. Чем дальше я шел, тем больше земля благоухала ромашками, дикой горчицей, мхом. Бьюсь об заклад, что ни одна ищейка ни одного хозяина в мире, ни один сторож на всем белом свете не нашел бы меня среди этого благоухания.
Когда я пропускал занятия в школе, на следующий день разражался скандал. Все меня допрашивали: родители, учителя, надзиратели, они устраивали чуть ли не судебный процесс, словно я убил кого. Так свободный, веселый, беззаботный прогул их усилиями оборачивался черным днем, о котором приходилось горько жалеть. И будьте уверены, что я больше узнавал за этот день, блуждая по лесу, по старому городскому кварталу или вдоль берега моря, чем за весь учебный год.
Пристроив где-нибудь на чердаке или в сарае свои ранцы, рискуя в конце дня не найти их на месте, мы с ребятами будто с цепи срывались: летели в поля, забирались на деревья и ели столько фруктов, сколько влезет.
Сегодня утром я встретил в городе нескольких рабочих из своей смены. Утро у нас свободное, нам выходить после обеда, а мы, как идиоты, не знаем, чем заняться, и бестолково слоняемся по поселку — не люди, человеческие обломки. Работать в ночь тяжко, да к тому же эта работа, монотонная, однообразная — ни уму, ни сердцу. Завистники говорят, что нам хорошо платят. Да, черт побери, триста тысяч лир, но разве их когда-нибудь хватает?
Сегодня начальник цеха выступил с нелицеприятным заявлением. Сначала просто сыпал словами, а потом ни с того ни с сего выкладывает: производительность, мол, упала и винить в том, кроме нас, некого, потому что, дескать, мы мало работаем. Эти мерзавцы как будто и не подозревают, что, если дела не идут, виной тому плохая организация труда, непроизводительные расходы, высокооплачиваемые паразиты, которые сами ничего не производят, а загребают не в пример больше тех, кто непосредственно занят на производстве. Стоит, однако, нам заикнуться об этом, увязать положение на заводе с каким-нибудь политическим или культурным событием, как начальство тотчас поднимает крик: завод, мол, не место для политики. А я в ответ: черт побери, где же мне заниматься политикой, если не на рабочем месте? Но мы говорим с ними на разных языках; послушать их, так они всегда правы — видать, им промыли мозги, и они готовы послушно исполнять все, что велено. Из них вышли бы прекрасные надсмотрщики, коменданты концлагерей. Пусть щепетильного читателя это не шокирует, так было, есть и будет, пока живут на свете штампованные болваны, которые действуют, как приводные ремни.
Возвращаясь к речи начальника цеха по поводу упавшей производительности и ответственности рабочих, я вспоминаю известную народную присказку: виноват всегда стрелочник.
НИСБ — Национальный институт страхования от болезней. На самом деле ни от чего он не страхует, а только травит нас лекарствами. Между тем мы все чаще болеем артритами, бронхитами, фарингитами, гастритами, нервными расстройствами и так далее. Это наиболее распространенные заболевания. Пойди в профсоюзную поликлинику, в эту крысиную нору, тебя осмотрят в обойме с двумя-тремя другими больными (эта процедура длится секунды), потом сунут в руки розовый рецепт, и дело в шляпе. Надеяться больше не на что. Несколько дней принимаешь лекарство без всякой веры в него, но недуг не проходит, из года в год тебе становится все хуже и хуже. И вместе с болезнью растет тоска и злоба.
У меня жутко болит горло, и уже не первый год. Показывался я своему врачу и специалисту из НИСБ, но горло болит как болело. Скажите, что мне делать, к кому еще обратиться? Врачи это или не врачи? Почему они плохо выполняют свои обязанности? Я рабочий, когда ко мне поступают заготовки для обточки, я должен их обработать быстро и хорошо. Несдобровать мне, если я ошибусь или не успею. В древнем Китае врачам платили, только если пациент выздоравливал; при такой системе оплаты врачи из профсоюзных клиник померли бы от голода.
Вот так и жду, пока моя глотка совсем не выйдет из строя. К вечеру часто повышается температура. Остается одно: обратиться к специалисту, который принимает на дому и дерет, как господь бог, по пятьдесят — по семьдесят тысяч лир только за осмотр. У него дома длинная галерея, увешанная множеством прекрасных картин, столик, на котором разложены журналы «Оджи» и «Фамилья кристиана», и очень соблазнительная медсестра.
Мы хуже рабов, подопытные кролики. Хозяева тянут из нас жилы, здоровы мы или больны. Мне вспоминается одна кубинская песня протеста. В ней поется: работай не работай, хозяин все равно прикончит тебя.
У нас на заводе был один выдающийся врач, настоящее сокровище, такой учтивый, говорил тихо, вкрадчиво. Профессор, да и только. Но мерзавец, каких мало: придешь к нему в амбулаторию полумертвый, с огромной раной, а он восклицает: «Ничего страшного, дорогуша, это простуда, пропишем тебе изумительную мазь — задаром, разумеется». Ну и сволочь!
Аспирин, хинин, мазь были, по его мнению, средствами от всех болезней; приходишь к нему с лошадиной температурой, а он сует тебе термометр под мышку и мигом вынимает обратно (тварь, подонок!). Термометр, разумеется, ничего не показывает. И наш милый доктор гладит тебя по головке и отправляет на работу. А ты весь в лихорадке, лицо багровое — так он говорит, что это признак здоровья: ты, мол, кровь с молоком.
Этой осенью будет перезаключаться коллективный договор. Профсоюзы отпечатали листовку со своими требованиями. А мы чего ждем, почему не выдвигаем своих требований, настоящих, рабочих, которые исходили бы от нас самих? Листовка — это только так говорится, на самом деле целая газета, и написана очень даже профессионально. Я, по правде говоря, ничего в ней не понял, но нутром чую: дело здесь нечисто. Уж так заковыристо пишут эти профсоюзники — толкуют о каком-то паритете, о декларациях и тому подобных вещах. Часто они забывают, что следовало бы обращаться к рабочим, а им кажется, будто они имеют дело с Ла Мальфой или Чефисом. На черта нам эти высокопарные слова? Нам нужны ясные, четкие требования, чтобы все их поняли.
«Жаркая осень» 1969 года уже далеко. С помощью заключенного тогда договора мы многого добились. Хозяева не ожидали такого натиска со стороны рабочих и потерпели поражение.
Теперь хозяева лучше организованы. Я бы сказал, что мы сами дали им время и возможность прийти в себя. «Жаркой» должна была бы стать не только осень, но и зима, и весна, и лето, а следующей осенью нам надо было бы задать им такого жару, чтобы уж больше они отдышаться не могли, раз и навсегда.
Теперь же у нас, у рабочих, нет ясности в мыслях, слишком многие стараются нас запутать.
Вечер. Как прекрасна в сумерках старая часть Модуньо. В ней всегда что-то для себя откроешь: арку, портал, двор, колодец, балкон. Через двери видно, как сидят за ужином целые семьи, старухи суетятся у жаровен, ребятишки играют под столом, девушки вышивают. Замысловато изогнутые улицы пересекаются друг с другом. Читаю названия: чем беднее и пустыннее улицы, тем чаще мелькают на табличках имена генералов, докторов, адвокатов, священников. Черт побери, говорю я себе, какое отношение имеют всякие дармоеды к этому причудливому, словно на вышивке, узору нищенских улочек?
Если старая часть городка все еще хороша, то предместье с его новостройками внушает ужас. Улицы забиты машинами — хорошими машинами, отличных марок, попадаются даже внесерийные… эти роскошные, сверкающие лимузины плавают в дерьме, в отбросах. Может, так и должно быть, чтобы символ престижа очутился на помойке.
Сегодня, выйдя с завода, я увидел, что многие рабочие из первой смены ждут на улице автобус. До недавнего времени таким болваном был только я, поджидал вечером автобус, а навстречу из ворот выезжали сотни легковых машин, они слепили меня фарами, обдавали выхлопными газами и пылью, мне оставалось только ругаться. Ну погодите, кончится для вас эта Америка!
Помню, мальчишкой я часто шлялся по улицам, подбирая всякие старые железки. Мне тогда было от силы лет семь-восемь, стало быть, с тех пор прошло почти тридцать лет. Мы, ребята, охотились за кастрюлями, мисками, ручками. Счастливчиком считался нашедший патрон от лампочки с нарезкой и свинцовой напайкой. Не помню уж, для кого и зачем собирал я все это. Помню только, что иногда я за этим занятием прогуливал школу — рылся в помойках, ворошил кучи хлама, попадавшиеся мне на пути.
Завод все разрастается и разрастается. Все дальше отступает сельский пейзаж. В первые годы завод казался крошечным, затерянным среди бескрайних полей. Летним днем на заводской территории, там, где раздевалки, можно было запросто наткнуться на змею, вечером — на лягушку. В сумерках с деревьев кричали совы, перелетали с ветки на ветку сороки. Летом столовая буквально утопала в зелени, трава лезла на стены, а в зашторенные окна врывался терпкий запах ромашек. В раздевалки по-свойски вползали ящерицы, гуляли между грубыми резиновыми сапогами и невозмутимо выскальзывали наружу. На заводе я уже скоро пятнадцать лет. В первый день работы я радовался, что получил место, и все же в душе не переставал сожалеть о прошлом. Помнится, я даже сочинил стихи.
Не плачь, дедушка, не плачь, Может, и сегодня поспеет скоро ужин — Жаркое из фасолевых бобов, Пусть сготовленное в доменной печи, На жесткой плитке наступающего на нас цемента. У меня нет плуга, Я не объезжаю лошадей, Я не выгоняю овец и собак на пастбище, Я на перепутье в этой синей блузе Стою и думаю: а не махнуть ли к тебе. Но завод под боком, А у меня к тому же нет воска, Чтобы заткнуть уши и не слышать заводского гудка.Иногда, после обеда, кто-нибудь вытаскивает бутылку спиртного. Тут же появляется несколько пластмассовых стаканчиков и раздается клич: а ну, друзья, выпьем. Все оставляют станки и подходят к импровизированной стойке. Если кто поинтересуется, по какому поводу пьем, ему ответят: пей и не задавай вопросов. Когда же тот продолжает настаивать, выясняется, что у кого-нибудь день ангела, или жена родила, или человека перевели в другой разряд. А вот дни рождения мы празднуем дома.
Рабочий класс, похоже, совсем сбился с пути. Профсоюзы притихли. А между тем на нас то и дело валятся всякие невзгоды. Дождь несчастий. Никому и в голову не придет призвать нас к борьбе, протесту, словно все идет хорошо, все в порядке, и все же, спрашиваю я, долго ли нам еще быть вьючным скотом? По-моему, надо проводить какую-то твердую линию, протестовать, невзирая на исторический компромисс. У нас теперь, насколько я понимаю, революцию никто не собирается делать, так давайте же по крайней мере открыто заявим: то немногое, чего мы добились в борьбе, мы не отдадим ни за какие коврижки.
С какой стати столько бороться, а потом дать себя одурачить?
Двоюродный брат пригласил к себе в гости родственников, в том числе и меня. Он отмечает рождение первого сына — до этого у него народилось шесть дочерей. В доме большой праздник. Двоюродный брат один из немногих близких, который остался крестьянствовать. Дом у него старый, но чистый и добротный — такие всегда вызывают во мне зависть. У брата есть все: печь, колодец, очаг, толстые каменные стены, за которыми прохладно летом и тепло зимой, бочки, оливковое масло, отхожее место с вырытой в земле ямой, всевозможные запасы, скот, огород, любящая жена — словом, все. Случись ледниковый период, ураган, засуха, холера, война, здесь по крайней мере какое-то время можно отсидеться. Итак, теперь у двоюродного брата отличный бутуз и шесть девочек — они рядком уселись за стол. Жена брата — крупная женщина с выразительными, говорящими глазами, быть может, потому, что сама говорить не умеет: она немая.
Пиру нет конца. Ешь, ешь, и все никак не наешься, пища радует рот и желудок. Проникая внутрь, она будто расползается во все стороны — направо и налево, попадает по венам в голову, в руки, в живот, который, того и гляди, лопнет от переполняющих его калорий. Вино! Белое, прозрачное, оно так и выстреливает тебе в голову всеми своими градусами. Нас человек тридцать, мы сыты, немного пьяны, лица раскраснелись, от очага пышет приятным жаром; девчушки в разноцветных фартучках смотрят на нас почти с испугом, широко раскрыв большие глаза. Мать покачивает младенца в стоящей рядом люльке. Кто-то поет, еще один двоюродный брат рукой отбивает такт по столу, другой постукивает стаканом, стоящим на столе рядом с бутылкой, еще один катает хлебные шарики, а тот, отодвинув занавеску у стойла, где стоит мул, пытается влезть на него.
На улице тишина, ночной воздух обжигает лицо; раздается звонок велосипеда — это проезжает сторож. Возвращаюсь в дом и чувствую, что клонит ко сну. Решаем, что пора бы и по домам, но двоюродный брат настойчиво оставляет у себя: ведь уже поздно.
Нам отводят большую комнату с широкой постелью; здесь ничего не изменилось со смертью деда и бабки. В ноздри ударяет запах старины, наверно, это от пыли, изъеденного дерева и плесени, — странный запах, сродни запаху копченых колбасок или маленьких красных перчиков. Мы валимся все вместе на кровать прямо в одежде. Нас шестеро, а может, семеро, поди сосчитай, укладываемся кто поперек, кто вдоль кровати. На пол с глухим шумом падает обувь, один уже храпит, другой кашляет, этот курит, тот почесывается. А потом я больше ничего не слышу.
Товарищ, который работает на станке рядом со мной, озабочен: обтачивая деталь, он ошибся в диаметре на несколько сотых миллиметра. Беда в том, что партия состоит всего-то из пяти деталей, а он уже запорол одну из них. Я говорю ему, сойдет и так, не бери в голову, эти детали пойдут в мазут, в грязь, в дерьмо…
До чего же хитрая штука этот завод. Какая-нибудь сотня квадратных метров, и здесь умудряются выжимать пот из сотен и тысяч людей. А ведь эти люди давно бы должны научиться летать.
«Какабуццара». Так крестьяне Лечче называют вещество для защиты фруктовых деревьев от воров. Обычно это деревья с ценными плодами: черешня, абрикосы, сливы, мушмула и т. д. Вещество же получают из одного растения — не знаю, как оно называется. Это кустарник с мохнатыми листьями и плодами овальной формы, напоминающими небольшое яйцо или сливу. Сначала они зеленого цвета, потом, созревая, желтеют. Если их тронуть, они лопаются, как воздушные шарики, и плюются семечками с соком. Не знаю уж, как крестьяне обрабатывают плоды этой «какабуццарой» — может, наносят кисточкой, а может, впрыскивают шприцем. Верно одно: стоит проглотить обработанный ею плод, так без конца бегаешь до ветру, пока кишки не вылезут.
В жизни все стараются заморочить нам голову. Молодец, если кто сумеет вывести их на чистую воду. Этих хитрых лисиц, которые не прочь половить рыбку в мутной воде. То, что для нас тайна за семью печатями, для них открытая книга.
Ясный октябрьский день. Иду в отдел кадров за очередной справкой. Солидная часть нашей жизни уходит на проклятые бумаги. Для нас эти ничтожные листочки с фиолетовыми печатями — только потеря времени и нервов, а для крючкотворов им цены нет, этим бумажкам.
Здание отдела кадров сплошь из алюминия, с большими окнами, вокруг — заросли роз, олеандров, целые живые изгороди из агав и других мощнолистых растений. Есть даже одно оливковое дерево, хорошее, ухоженное.
Дерево усыпано оливками, их больше, чем листьев, они, кажется, того и гляди, обломают ветки.
Много спелых оливок попадало на землю. Идущие мимо беспечно давят их ногами. Давят и давят — так скоро по земле масло потечет.
Сегодня меня снова вызвал начальник. Он сидит за письменным столом на возвышении. Это прекрасный наблюдательный пункт, отсюда видно все и всех. Он опять заводит свою песню. Ди Чаула, мне надо с тобой поговорить, отчего ты такой озлобленный, может, у тебя в семье неладно? Семья — вещь важная, в семью надо верить. Может, тебе не хватает духовного наставника, почему ты не обратишься к своему приходскому священнику? Я вижу, ты места себе не находишь, все время раздражен, вступаешь в пререкания, какого рожна тебе надо? Ты думаешь, мало людей умирает от голода? Я отвечаю, что с удовольствием обратился бы к Че Геваре, жаль, его убили. Черт побери, его убили люди, которые рассуждают так же, как ты. Тогда начальник входит в раж: хватит языком молоть, Ди Чаула, из всего цеха ты один не даешь выработки, твой табель — это же кошмар, сплошные потери времени, а ведь другие на том же станке давали 40 процентов прибыли. А теперь, говорю, за этим станком стою я: сколько могу, столько и вырабатываю.
Возвращаюсь на рабочее место почти в приподнятом настроении: я высказал начальнику то, чего он заслуживает, но все же удовольствие небольшое: ведь он тоже заставил меня поволноваться. Голова трещит, я вновь обдумываю сказанное и не сказанное в пылу перепалки. Я возбужден и снова озлобился. Что ни день — то отрава, хуже всего, что и домой приносишь в душе отраву. Подумать только — впереди еще двадцать пять лет такой вот отвратной жизни, двадцать пять лет придется жить по горло в дерьме — с ума сойти!
Да, у нас действительно общество потребления. Знаю, что не скажу этим ничего нового. В моем поселке, в доме, где я живу, с балконов, особенно по воскресеньям, клубами валит дым — это жарят мясо на вертеле, сосиски, рыбу. Когда мы можем себе позволить, то едим столько, что давно должны бы стать великанами, силачами, сверхчеловеками, а нас одолевают апатия и болезни. С чего бы это? Я думаю, мы мало пищи даем мозгу. Мы большие эгоисты, мы безразличны ко всему происходящему. Но в конце концов, не сами же мы отказались от политики, от культуры, от истории: это нас оттолкнули, оттеснили, и кое-кто пользуется нашей темнотой, чтобы вершить свои грязные делишки, диктовать свою власть и законы. Политические деятели не желают с нами якшаться, они далеки от нас. На выборах они широко улыбаются, гладят по головкам малышей, дружески хлопают нас по плечу. Но стоит собрать голоса, как они прячутся в кусты, становятся недосягаемыми, обходят нас стороной, словно боятся чего-то или хотят что-то скрыть. А потому они начинают сыпать цифрами и говорить на тарабарском языке.
Довольно много рабочих с нашего завода учится. Те из них, кто получили дипломы много лет назад, ходят уже в белых халатах. Они очень гордятся своими халатами, а мы, рабочие, гордимся ими, своими товарищами. Но последней группе выпускников дирекция заявила: сейчас кризис, и вам придется по-прежнему носить голубую спецовку. Теперь им вроде бы уже и все равно, они не думают больше о несбывшейся карьере, а крутятся возле станков и убеждают себя, что диплом ничего бы им не дал, не даст, да и вообще людям диплом ни к чему.
А дома их жены, невесты, матери растравляют незажившую рану: спрашивают, как дела, перевели ли их наконец в служащие. В ответ они только глядят злобно, устало вздыхают и валятся на кровать.
От уборных исходит зловоние, но здесь хотя бы есть двери — расхлябанные, без задвижек, но все-таки двери. В Калабрии и таких не было…
А в мастерских «Ласорса» уборная была просто темной дырой, и приходилось быть осмотрительным, чтобы не свалиться вниз — ищи тебя потом среди всякой дряни!
Когда я был моложе, то на работу из Модуньо в Бари ездил на велосипеде. Пути километров десять. Ехать было приятно, особенно в хорошую погоду: помню прозрачные рассветы, сверкающие от изморози поля, трулли, стога соломы, пение утренних птиц, всходившее в конце дороги багрово-красное солнце. А когда возвращался, во всем теле была разлита боль, казалось, дороге нет конца, все вызывало отвращение, от усталости слипались глаза, и мы уже ничего не видели, не могли любоваться ни полями в лучах заходящего солнца, ни восходом луны, похожей на тонкий голубоватый ломоть.
Кто знает, сколько прекрасных вещей мог бы я сделать за один день, но вместо этого я стоял у станка и обтачивал болты: тысяча, две тысячи, десять тысяч болтов. Мне было бы приятней, вооружившись пращой, отправиться на ловлю ящериц или же подкатиться к одной из тех женщин, что, расставив ноги, сидят у заброшенного сеновала.
Однажды в воскресенье я и в самом деле пошел. Уже издалека, едва увидев меня, она начала зазывно размахивать руками из зарослей цветущего миндаля. Мы устроились на каком-то ящике. На ней была одна блузка, а дул холодный ветер и бледное солнце совсем не согревало. Я еле-еле потом набрал тысячу лир.
В поисках своей первой работы я вынужден был уехать из дома. Жил я тогда в Малье, в провинции Лечче, а нанялся на небольшой завод на окраине Бари. Оставил все: семью, друзей, девушку, места, где прошло детство. Оставил все — за три тысячи лир. Столько я зарабатывал в неделю: три тысячи лир. Мне было чуть больше пятнадцати.
Меня приютили мои старики в сельском домике. Дядя не был еще женат, он спал около хлева, в маленькой каморке из туфа, где дышать было нечем, такая она маленькая и вся завалена фруктами — сливами, грушами, айвой, сладкими рожками… В первый рабочий день старики дали мне булку и часы, здоровую штуковину весом в полкило. Это были первые часы в моей жизни; как я их потом возненавидел!
Я уже стоял на пороге, и ко мне подошла бабушка. Она озабоченно отряхивала крошки с передника и приговаривала: «Прошу тебя, будь послушным на работе, будь умником, уважай начальника, постарайся, чтобы тебя полюбили». Я сказал «ладно», уже поворачивая за угол, в конце тропинки, — на этом углу цвел куст диких роз. Она любила меня, потому и говорила мне так: «Прошу тебя, сынок! Постарайся, чтобы тебя полюбили!»
Она не понимала, что мне горько это слышать. Она хотела, чтобы я стал овцой — овцой в мире овец, овцой наподобие других овец.
На сварку смотреть больно. Попробуйте задержать взгляд на слепящих искрах, которые вырываются из стержней (электродов), в глазах померкнет.
Когда я в первый раз взялся за сварку, у меня не было еще нужных навыков, и мне пришлось смотреть на сноп огненных искр. А ночью был ад. Началась резь в глазах, как будто их пронизывали тысячи игл, я ворочался в кровати и не мог заснуть. Говорили, что есть чудодейственное средство — картошка. Картофелину надо нарезать ломтиками и положить на глаза. Это якобы снимает жжение. Так и прошла у нас в доме вся ночь: я проклинал завод, сварочный аппарат и проклятый сноп искр, а мать резала ломтиками картошку. Этот случай я вспоминаю как какой-то кошмар.
До чего тоскливо работать вечером, во вторую смену — с пятнадцати до двадцати трех. К обеденному перерыву совсем обалдеваешь. Мы идем по аллее, освещенной неоновыми лампами. Это какая-то призрачная, жуткая дорога. Хотя по бокам ее свежая зелень газонов, оливковые деревья, агавы, ели, но все это кажется сделанным из пластмассы. Мысленно мы в поселке, там шумно, светятся огоньки, там, должно быть, сейчас развлекаются наши друзья… Развлекаются? Черта с два! Они там дуреют, это ближе к истине, поселок все равно что пустыня: бар, охотничий кружок, бильярд, игральные автоматы — все для того, чтобы еще больше обалдеть, словно и без того мы недостаточно обалдели. Но именно такими мы и нужны хозяину.
На заводе попадаются молодые красивые ребята, в чистеньких, ладно сшитых спецовках цвета хаки они похожи на летчиков или инженеров, на самом же деле занимаются уборкой помещений. Жаль, что им приходится изнурять себя на такой работе. Вот они, жертвы прогресса, этого никчемного прогресса! Частенько это парни со средним образованием. А был даже один из университета.
В первый день на заводе я трясся, как ягненок. Мрачное помещение с тусклыми лампочками показалось мне огромным, страшным чудовищем. Хозяин тоже смахивал на чудовище: высокий, толстый, с лысым черепом, руки черные, волосатые, походка как у гориллы. Запорешь деталь — в ноги тебе летит молоток, а то получаешь пинок. Так тебя гоняют пинками по всему цеху. Когда я оставался один в этом зловещем цехе (остальные отправлялись монтировать гидравлический насос), то чувствовал себя потерянным, мне хотелось плакать. Правда, дочери у гориллы были добрые, хотя и важничали немного. Меня они любили и, если я не справлялся с какой-нибудь резьбой, всегда подходили и утешали меня. В конце работы устраивались чуть ли не рукопашные схватки перед бидоном со смесью жидкого мыла, песка, опилок и черт знает еще чего — для очистки рук от масла.
Скольким я пожертвовал для того, чтоб получить профессию, — ну не глупо ли! Тебя ни во что не ставят, почти на дух не переносят, куда бы ты ни заявился — в учреждение ли, на почту, в кассу взаимопомощи, в магазин, — везде тебе фыркают в лицо, грубят, только что ноги об тебя не вытирают! И для этого я потратил годы на обучение — куда лучше было бы собирать цикорий на склонах Мурдже.
В конце октября стоит восхитительная погода — днем по-весеннему пригревает солнце, закаты райские, но вечерами уже холодно. В поселке все выглядит по-праздничному: 10 ноября — праздник святого Трифона, самое большое торжество. Прибыл балаган со сталкивающимися автомобильчиками и песенками по крайней мере десятилетней давности. Их привозили и в прошлом году, наверняка привезут и в будущем.
Уже установили музыкальный автомат и высокие столбы, на которых позднее развесят множество электрических лампочек. Миллионы лампочек засияют и на фасаде ЭНЭЛ[5], и на фасаде нашего завода. Три вечера подряд будут пускать фейерверк, который развеет нашу тоску и одиночество, а пока мы будем есть барашка, запивать его молодым вином и чувствовать себя почти счастливыми, денежки наши будут вылетать в трубу.
Все вносят свою лепту в празднество, поступают доллары от американских братьев, которых зовут уже не Никола и Джузеппе, а Ник и Джо. Приходят деньги из Швейцарии, Германии, Франции, раскошеливаются и жители поселка. Не моргнув глазом они вносят по пять — десять тысяч лир в праздничный комитет. А вот поди-ка попроси у них денег на какое-нибудь общественное предприятие, например на больницу, детские ясли или водопровод, — только нос воротят.
Годы идут, деревня приходит в запустение, люди складывают чемоданы и уезжают с помощью все тех же мафиози, которые остаются хозяевами положения, шантажируют, тиранят, богатеют, сорят деньгами.
Покупаю газету, пробегаю ее глазами: новости хуже некуда, преступность растет. По малейшему поводу люди убивают, истязают, калечат друг друга. Поговаривают о сильном правительстве. Сильное правительство — это хорошо, но оно должно быть еще и справедливым. К тому же в Италии сильное правительство всегда означает одно и то же: будут прижимать бедняков, трудящихся и помогать капиталистам. Это единственная разновидность сильного правительства, которая нам известна. А стоит нам выступить в защиту священных человеческих прав и социальных нужд, как власти словно с цепи срываются, посылают против нас наших же братьев, таких же эксплуатируемых и еще более несчастных, чем мы. Они дают им в руки бомбы со слезоточивыми газами, автоматы, дубинки, науськивают на рабочих. Дело в том, что ключевые посты в государстве, в суде, школе, административных службах по-прежнему занимают фашисты, настоящие фашисты в джерсовых костюмах, с крестом в петлице, что ежедневно изливают на исповеди черную от преступлений душу.
У нас же внезапно прозрели глаза, слишком долго ничего не видевшие из-за рабства и религиозного дурмана. Мы привыкли повторять: «Слушаюсь, синьор. Извольте, синьор» — и покорно умирали на полях сражений за нашу проклятую родину, которая чуть не с пеленок хватает тебя за глотку и дурманит мозги. «Слушаюсь, синьор», — говорим мы даже отцу, ведь он первый сделал из нас овечек, еще более жалких и угодливых, чем он сам, — всегда одно и то же: «Слушаюсь, синьор».
Теперь мы прозрели и заметили, что до сих пор жили как болваны. Мы ждем рая небесного, а ловкачи уже построили себе рай на земле, в двух шагах от нашего дома.
Только что открыли автостраду Бари — Таранто. Смотреть на нее одно удовольствие, но вскоре понимаешь, что раз уж ее построили, то, значит, нам придется покупать больше автомобилей, воздух будет сильней загазован, наши товарищи у сборочных конвейеров совсем ошалеют. А мы еще глубже залезем в кабалу и будем делать стойку на ушах, чтобы содержать эти автомобили. Не помню, кто из философов говорил: чем больше потребностей, тем больше мы становимся их рабами.
Сегодня вечером я отправился в Андрию. Андрия, сказал мне товарищ, изучавший историю, была одно время центром жесточайшей борьбы крестьян. Теперь здесь все спокойно, по крайней мере на первый взгляд. Андрия — то ли небольшой городок, то ли большой поселок, и всем здесь все до лампочки. На площадях крестьяне в праздничных одеждах обсуждают свои невзгоды. Зрелище довольно жалкое. Над какой-то забегаловкой — вывеска: «Клуб Итальянского союза трудящихся»[6], перед входом маячат три старика, внутри — два бильярда. Ни черта не понимаю: что общего между ИСТ, стариками и бильярдами. Молодые ребята в джинсах и майках «Made in USA» поглядывают на ляжки проходящих мимо девиц, на остановившийся неподалеку роскошный лимузин.
Бензоколонка вся в огнях. Над ней, как яркая луна, — надпись «GULF»[7]. Подъезжает машина, водитель вынимает розовый талончик, и заправщик нацеживает ему в бак бензину. Игра окончена, но кто из двоих в выигрыше?
Позавчера на улицы Бари вышла большая колонна молодежи, слышались призывы: «Рабочие и солдаты, объединяйтесь на борьбу!», «Полицейские, объединяйтесь в профсоюз!» Накануне утром арестовали и отправили в тюрьму солдата за неподчинение командиру. В воздухе чувствуется накал близящихся боев. Скоро на улицы выйдут три богатыря: химики, строители и машиностроители.
В прошлое воскресенье я сделал порядочный круг на велосипеде. Кто теперь ездит на велосипеде?.. Во время энергетического кризиса по воскресеньям нельзя было ездить на машине, и тогда образовался велосипедный бум, вследствие чего резко подскочили цены на велосипеды.
Никогда не забуду наши велосипедные прогулки. Целой группой мы ехали сквозь голубой туман по тропинкам, залитым лунным светом, а вокруг квакали лягушки и кричали ночные птицы. Деревья были усыпаны плодами, и мы, до отказа набив животы, собирали их кто за пазуху, кто в карманы. Один мой приятель как-то раз напихал апельсинов в майку и, перелезая через забор, сорвался. Хозяин отдубасил его палкой. А то мы набирали с собой хлеба и вина и всю ночь пировали под открытым небом. Кто-то, не выдержав, засыпал, кто-то рассказывал всякие страшные байки, кто-то бродил вокруг, собирая сушняк для костра. Когда всходило солнце, нам казалось, что это первое утро на свете, и мы были по-настоящему счастливы. Будь проклят завод и тот, кто его придумал.
Проклятый завод! А ведь я так мечтал о нем. Придя туда впервые, я мысленно перебирал всю ту черную, неблагодарную работу, которой занимался прежде, вспоминал, как приходилось колоть дрова, дергать лук, ходить за скотом, собирать горох. Вспоминал и смеялся. Ведь цех — совсем иное дело, разве что немного шумновато. Какой-то плешивый в сером халате сунул мне в руки рашпиль и пригласил сесть. Я смотрел на него, не веря собственным глазам, еще немного, и у меня бы сорвалось: и это все? Так вот в чем моя работа. Не тяжелая лопата, а маленький, легонький рашпиль; и не надо больше гнуть спину под солнцем, сиди себе на удобном стуле, а локти можно упереть в верстак. Конечно, с того дня многое изменилось. Рашпиль в конце рабочего дня становился пудовым, и со злости хотелось его воткнуть кому-нибудь прямо в сердце.
И вот таким рашпилем ты должен обеспечить выработку. Все дело в выработке. По какому праву они требуют от нас выработку, что значит «выработка»? Мэр нашего городка дает выработку? Священник из нашей церкви дает выработку? Почему я должен производить столько, сколько они мне укажут, а не сколько я сам считаю возможным? Как они это определяют? Что я, станок? Даже стальной станок и тот портится, чего уж говорить о человеке. Кто и на каком основании может установить, сколько и как я должен работать?
Чертовски душный день. От сырости не зажигаются даже спички. Едва чиркнешь — желтая головка отлетает. Как тут прикуришь? Способ есть. Достаточно взять стальной диск и прижать его к шлифовальному кругу, как он тут же раскалится, и ты легко зажжешь сигарету.
К вечеру у меня трещит голова. Я чувствую себя опустошенным. Я как будто впал в детство, и в голове у меня вата. Пора уходить, а я все стою как вкопанный у станка. Смотрю на станок, буравлю глазами деталь. У нее весьма странная форма. Заготовку удерживают в зажимной муфте болты разного размера, шайбы, противовесы. Внезапно меня охватывает леденящее душу сомнение: хорошо ли я закрепил болты? Я бы не хотел, чтобы завтра утром, когда мой сменщик заступит на работу и пустит станок, заготовка из-за плохо закрепленного болта выскочила бы из зажимной муфты.
Открываю ящик с инструментами и вынимаю гаечный ключ на 24. Проверяю все болты один за другим. Потом для пущей надежности проверяю еще раз. Стою, одурев, возле станка и верчу в руке ключ.
Я волнуюсь: такого со мной не бывало давно. Меня мучит страх, как бы чего не случилось — и не только с моим сменщиком. Но прежде всего меня приводит в ужас мысль, что я могу подвести его. Несколько лет назад меня посещали вот такие же навязчивые идеи: я часами проверял, выключен ли рубильник, хорошо ли закреплена деталь. И отходил от станка с неизменным ощущением: что-то я упустил. Это было невыносимо. А самое страшное — что подобные сомнения одолевали меня даже ночью, во сне. Мне снилось, что я не выключил главный рубильник станка или не закрепил как следует один из болтов. По вечерам, когда я оставлял сменщику записку с уведомлением о полученном задании, я старался писать до предела ясно. Боялся пропустить какую-нибудь подробность, которая могла оказаться решающей.
Дома тоже меня преследовали наваждения: закручен ли кран в ванной, в кухне, перекрыт ли газ. Я вставал ночью и тихо-тихо, чтобы родители не услышали, все проверял. При виде блуждающего призрака они, конечно, забеспокоились бы и своей тревогой только еще больше бы меня взбудоражили. Это продолжалось несколько лет, но никто так и не узнал о моих страхах. Я их всячески подавлял. Лежа в постели, я старался задушить подушкой терзавшее меня сомнение — закрыл я кран или не закрыл? — и в темноте рядом с комнатой, где храпели мои родители, чувствовал себя ничтожной пылинкой.
«Бессонные ночи и дни на свободе…» — это слова из одной французской песни, которую я слышал несколько лет назад. Я написал эти слова на ящике, куда убираю свои инструменты; мастер хотел, чтобы я их стер, но я пригрозил набить ему морду, если он их сотрет. Пусть делает, что хочет, но оставит в покое эту надпись. К сожалению, ящик все время двигали, и в конце концов он оказался повернутым к стене той стороной, на которой были написаны эти слова, и никто больше не мог их прочитать. «Бессонные ночи и дни на свободе…» Ночи, проведенные в кутежах, за стаканом вина, в прогулках по полям, и потом — дни на свободе, когда можно делать все, что захочешь, скажем, всласть отоспаться в залитой солнцем комнате, в то время как за окном кудахчут куры, бродят овцы, а девчонки сидят по домам, наводят марафет к вечеру. Бывают ночи, когда просто грешно спать, но мы как ослы тащимся в постель, чтобы утром свеженькими предстать перед хозяином.
Когда я злюсь, один парень, очень уж ревностный католик, старается успокоить меня, приучить к терпению: Томмазо, земная жизнь скоротечна, не поддавайся злобе. А я ему: черт побери, именно потому, что она скоротечна, мы должны прожить ее самым лучшим и справедливым образом!
Здесь гроши — там сдельщина, тут производительность — там выработка, доносчики и мастера повсюду. Однако все, что нас окружает, — наше, все куплено за наши деньги, и завод тоже построен на деньги, которые государство крадет из наших карманов, оставляя нам лишь прожиточный минимум.
Сколько прирожденных наушников и проверяльщиков на этом заводе! Мастера (их трое или четверо) и помощники мастера, начальник цеха и помощник начальника цеха, главный инженер и директор да еще вахтеры. Есть тут и здоровые, ростом с теленка, собаки, но они, к счастью, привязаны. Да, совсем забыл — в нескольких метрах от нашего цеха имеется еще один цех, и там тоже полно доносчиков, лизоблюдов, начальников и прочих тварей. И все следят за нами, все нас проверяют. Даже у стен есть уши.
С балкона поля не окинешь взглядом. Здесь все засажено виноградом, длинные шпалеры столовых сортов, — вот оно, богатство нашего края. Адельфию никакие перемены не тронули — ни жилищное строительство, ни связанная с ним спекуляция, — но я думаю, это ненадолго. Южные поселки, по крайней мере в старой их части, на редкость красивы. Здесь остались только женщины, дети и старики, но именно на них и держатся старые кварталы, узкие, извилистые улочки с высокими каменными заборами, с дворами, где выставлены кастрюли, метлы, бродят кошки и где на белых каменных стенках сушатся помидоры. Только иногда, словно по волшебству, встретишь здесь блондиночку или заметишь фигуру механика, одетого в спецовку, измазанную маслом и ржавчиной. А на пороге дома и над дверью — замшелые камни.
Теперь повсюду строят: у кладбищ, у заводов, вблизи от окружных дорог. Первый этаж выходит прямо на шоссе, и когда-нибудь в гостиную или в спальню въедет автомобиль.
Я бегу, посмотрели бы вы, как я бегу, — чувствую, что комок подкатывает мне к горлу, но бегу, бегу к своему станку; рано или поздно я извергну содержимое своего желудка на станок, на учетную карточку, на часы хронометриста в новеньком белом халате — издали он «словно распустившийся цветок боярышника»…
Сегодня ночью мне приснился деревенский дом моих стариков. Я будто бы сидел в большой комнате с толстыми циновками на полу. В воздухе сильно пахло гарью, а я сижу и вроде жду кого-то или чего-то, а вроде и нет. Вдруг на меня находит страх, и я иду в соседнюю комнату: здесь когда-то стояла большая железная кровать деда с бабкой; в углу, напротив зарешеченного, как в тюрьме, окна, возвышался комод, а на комоде — фигурка мадонны и коробка, постоянно наполненная иголками, пуговицами и окурками. Дальше — комнаты девочек (девочкам теперь под пятьдесят). Здесь на полу я спал рядом с теткой на набитых кукурузными листьями матрасах. Я боялся темноты, и тетка крепко прижимала меня к себе; за окном раздавались шорохи и шелест, а порой что-то постукивало в стекло. Хорошо, что на окнах были решетки, хорошо, что была тетушка, которая прижимала меня крепко-крепко: я такой маленький, а она такая большая, теплая. На столе мигал фитиль керосиновой лампы, а вокруг него сотнями кружились ночные бабочки. Фитиль был обычно прикручен, но когда в комнату вихрем врывался дядюшка, пропахший табаком, мятой и нафталином, он прибавлял света, и в комнате начинали плясать огромные тени.
Моя любимая тетка страдала зубной болью. Однажды она готовила пиццу, и вдруг у нее ужасно заболели зубы. Она бросила все и ушла к себе в комнату. Через некоторое время я пошел проведать ее: из-под одеяла неслись стоны и сильный запах чеснока и петрушки. Она все стонала и стонала, я помню, как мне было ее жалко. Тетка меня любила, повсюду таскала за собой. Взявшись за руки, мы вместе навещали ее подруг на ближайших хуторах. Она брала меня с собой и на праздники; мы возвращались уже ночью, и она все время напевала: «Ты светишь мне, зеленая луна» или «Демон с голубыми глазами»… Подруги то и дело спрашивали ее: «Кто этот сопляк?», а она отвечала: «Мой племянник».
Сегодня на выборах в рабочую комиссию мы голосовали за нового делегата, надеемся, он будет лучше прежнего. У нас ведь так: чем чаще мы их меняем, тем хуже они становятся. Делегат хорош для рабочих, только если ему удается добиться повышений разряда или если он собаку съел в вопросах заработной платы. Неважно, что он не читает газеты, не в курсе политических и культурных событий в стране — на наш взгляд, все это мелочи. Прежде всего деньги, заработки, гроши.
Они хотят, чтобы мы раньше времени впали в детство. Сегодня на заводе был адский день, и я вернулся домой в паршивом настроении. А тут еще дети чего-то не поделили и устроили рев. Жена не выдержала и говорит: «Забери одного из этих сорванцов да и сам иди с глаз долой: сил нет смотреть на твою тупую физиономию». На улице был собачий ноябрьский холод; скоро праздник — в городке уже установили карусель, сын принялся канючить, ему хотелось покататься, но я не пустил его: все эти огни, шум еще больше действовали на нервы. Я гулял, дышал воздухом, но на душе легче не становилось. Злость, обуявшая меня утром после ссоры с начальником, сменилась печалью и безразличием. Малыш семенил рядом, а меня едва держали ноги.
Все идет из рук вон плохо, а вину за это постоянно сваливают на рабочих. Техников, что ходят в белых халатах, никто не заставляет помогать нам как следует наладить работу. Вы спросите, с какой стати я так пекусь о заводе? Отвечу: я бы с удовольствием подложил под него бомбу, но раз уж он существует, то нужно сделать так, чтобы и человек мог существовать в его стенах. Итак, повторяю, техник своей работой не занимается, его вместо этого призывают шпионить, натравливают на рабочих, чтобы легче было выжимать из них соки. А среди рабочих мало кто понимает, что главное для нас — солидарность и сотрудничество, что чем меньше будет доносчиков и фашистов, тем лучше будет рабочему человеку.
Интересно, какие средства используют хозяева, чтобы натравить на нас своих лакеев. Уколы, электрошок или клистиры?
Сегодня по аллее, ведущей к цеху, гулял пронизывающий зимний ветер, трава на лугу спуталась и полегла. Стволы оливковых деревьев, растущих поодаль, до самой кроны сплошь в глине и земле. По полям разгуливает серая кошка, иногда она забирается даже на завод, зимой часто наведывается в столовую, а летом отправляется на охоту, сидит не шелохнувшись в засаде, пока не схватит юркую ящерицу.
Сегодня мне понадобилась медицинская помощь — я довольно сильно повредил себе колено. На аллее, пока я шел, осталась моя кровь, капли казались маленькими зернами граната. В медпункте уже сидел молоденький паренек, лет восемнадцати, черноволосый и кудрявый. Ему обрабатывали поврежденный палец, и по щекам у него градом катились слезы.
Мой ушиб оказался серьезней, чем я думал, и, несмотря на жгучие свечи и притирания, боль не проходила. Иду к заводскому врачу — говорят, это гиена, не человек. Между нами вспыхивает яростная стычка: он утверждает, что все в порядке, что хожу я отлично, а я ему в ответ: «Неужели надо литрами проливать кровь и скособочиться, как полный калека, чтобы вы признали производственную травму?» Я все время твержу одно и то же: «У меня болит колено». Наконец он решает отправить меня в НИПП[8].
Там происходит еще более любопытная сцена. Врач из кабинета № 1 укладывает меня на клеенку и, закатав до колена мою штанину, начинает как одержимый орать на диалекте, что ничего с моим коленом страшного нет. Еще немного, и я бы схватил за грудки этого мерзавца. А он тем временем швыряет в лицо мне справку: сегодня же, сию минуту приступить к работе.
Иду в ближайшую консультацию — это НИСО-ИКПТ[9]. Я в ярости, колено болит, а хромать приходится под дождем. Объясняю регистратору свою историю и при этом сдерживаюсь, чтобы не завыть; через некоторое время меня уже осматривает врач. Он говорит, что травма серьезная. Все так же хромая, я опять возвращаюсь в НИПП. Попадаю на осмотр к другому врачу. Измерив меня портновским сантиметром от макушки до пят, он дает мне освобождение от работы на 15 дней. Мне говорят, надо сделать рентген, вталкивают в маленькую комнатку и делают снимок, потом назначают пятнадцать сеансов физиотерапии, первый — завтра.
На следующий день прихожу в НИПП за результатами рентгена — в приемной полно изуродованных людей, как будто началась война. Врач заявляет, что с коленом у меня все в порядке. Я требую показать письменное заключение, хочу сам проверить: они ведь на все способны. А он говорит: нельзя, я спрашиваю почему, а он: это, мол, врачебная тайна. «Какие, к черту, тайны! — ору я. — Диагноз касается меня лично, а я не могу на него посмотреть. Ишь какие важные птицы, можно подумать, только что делали рентген жене президента Республики!»
Для подстраховки я в тот же день сходил к платному специалисту. Тот нашел у меня повреждение коленного сухожилия и сказал, что если боль после физиотерапии не пройдет, то придется делать уколы прямо в колено, иначе неизбежна операция.
Не удовлетворившись его заключением, я обратился к другому платному специалисту. Он сказал: надо резать. Я пугаюсь, чуть не плачу, спрашиваю, нет ли другого выхода. Есть, говорит, хотя результаты бывают разные, но можно попробовать гипс. Итак, решаю лечь в больницу для наложения гипса.
Я уже дома. Гипс снимут через двадцать дней. Колено сильно ноет в гипсовой броне, но зато я вдыхаю свежий воздух в моем маленьком садике и чувствую, как под лучами горячего солнца у меня пышут жаром щеки, словно от высокой температуры. Я втягиваю носом аромат оливковых ветвей. Где-то я даже рад: ведь из-за несчастного случая с коленом я смог остаться здесь, вместо того чтобы, как обычно, вкалывать в дыму, вони и потемках. Носком ботинка раскапываю землю — отваливаю большие влажные комья с белыми корнями и пустыми раковинами улиток. Проходя мимо розового куста, я наколол палец о шип: он еще острее, чем стальная стружка, которую я центнерами вырабатываю на заводе.
В детстве по вечерам мы усаживались с бабушкой у огня. Особенно зимой. Она рассказывала разные истории, а мы шалили. Каждый норовил вытащить из-под другого стул или ущипнуть, а еще мы выхватывали из печи тлеющие прутики и размахивали ими в воздухе. Занятно было следить за искорками, которые вычерчивали в воздухе кружки, овалы, восьмерки и другие причудливо сверкающие фигурки. Правда, бабка ругалась, когда мы затевали эту игру: она была уверена, что если долго смотреть на огонь в темноте, то ночью не миновать мокрых постелей.
До чего же послушен этот рабочий класс! Черт побери! Только и делает, что подчиняется, соблюдает порядок, хлопает в ладоши, платит взносы, свистит в свистки, слушает разинув рот: чем шире он разинет рот, тем, стало быть, больше внимания. Да, послушен рабочий класс, ну прямо как глина — лепи что хочешь!
Сегодня суббота, выходной день; я встаю немного позже обычного, включаю радио как раз на сигналах времени: полвосьмого. Слушаю новости. Затем начинается программа, наверняка очень приятная для Аньелли: нас всячески стараются убедить, что итальянец без тряпок, мотоцикла и навесного мотора — не человек, а вошь.
Аньелли со своей автомобильной промышленностью делает из нас недоносков: заманил в ловушку мнимого комфорта и обеспеченности и играет на нашем самолюбии, на желании почувствовать себя независимыми, «важными» людьми. Да, эта ловушка для дурачков дорого нам обходится!.. Не говоря об ущербе, причиняемом природе и своему здоровью, многие тратят пятьдесят-шестьдесят тысяч лир в месяц, чтобы содержать свой дом на колесах, который в конце концов становится невыносимым бременем, одной из форм рабства.
Ставленники Аньелли отлично все рассчитали, им не впервой вола вертеть, а мы валяем дурака, потому что своими дерьмовыми машинами они заставляют нас жить впроголодь и постоянно плясать под свою дудку. Для них все средства годятся: рост цен на бензин, подорожание автомобилей, обязательная страховка и повышение дорожных сборов.
Иногда на работе мы напеваем, чтобы веселей было. Не потому что в самом деле весело, а потому, что зло берет, как говорится в знаменитой басне про птичку в клетке. Бывает, мы распеваем во всю глотку, чтобы заглушить адский шум в цехе. Поем всё: вольные куплеты, душещипательные неаполитанские песни, «Бандьера росса» (эту последнюю уже без прежней убежденности — я по крайней мере). Этот исторический компромисс как-то меня не убеждает. Разве можем мы, трудящиеся, договориться с теми, кто всегда толкал нас в яму и всегда будет стараться нас задавить? Не сможет примириться ягненок с волком — разве только оба превратятся в ягнят или волков! А расплачиваться за все, как всегда, нам, муравьям в голубых спецовках.
Рабочий день сегодня, похоже, никогда не кончится, мне уже невмоготу, а деталям конца не видать, их становится все больше и больше. Чтобы поскорей от них отделаться, я готов их обтачивать даже ногтями и зубами.
И потом вся эта вонь от нефти и перегоревшего масла — она душит, режет глаза и глотку. Это ведь не оливковое масло, которое жмут прессами в поселке, настоящее свежее масло, пахнущее на всю округу.
Мастер, как заигранная пластинка, твердит одно и то же: выработка, выработка, выработка. Мы бы дали ему выработку, да время поджимает. Не так страшен черт, как его малюют, но, когда эти проклятые наверху назначают совсем уж абсурдное время на обработку детали или урезают его то и дело, как тут ни вертись, все равно не уложишься. Тогда ты мрачнеешь и ругаешься на чем свет стоит. Казалось бы, ерунда — обработать деталь на сотую часа быстрей, но ведь их часто бывает тысяча, две тысячи, три тысячи — вот и помножьте сотую часа на три тысячи. Не так уж мало, верно? Ни минуты нет, чтобы передохнуть, выкурить сигарету да и просто поработать спокойно.
Зима еще в полном разгаре, но стоит солнышку пригреть, как в доме появляются мухи. Они еще сонные, но уже садятся повсюду, одна так и крутится возле моего уха. Потому мы раньше времени начинаем пользоваться «Флитом»[10], теперь он ароматный, его настаивают на мяте, розе, гвоздике, мимозе. А раньше он дико вонял и был вреден из-за содержащегося в нем ДДТ. Дед и бабка вместо этого пользовались полотенцем: закрывали дверь, оставляя полоску света, и потом полотенцами выгоняли мух, заставляя их лететь на свет, на солнце. В деревнях Апулии мамаши, чтобы отогнать от младенца мух, комаров и других насекомых, клали на подушку веточку мяты.
Вдоль аллеи, ведущей к столовой, подрезают олеандры, розы уже увяли, зато расцвели желтые осенние астры. Мы бежим, опаздываем и плюем прямо на газоны — не из-за желания нагадить, а так, по рассеянности.
Вот проект нового коллективного договора, однако в нем ни шиша не поймешь. Кто понял, пусть сделает шаг вперед. Нам вручают большой лист со следующим текстом:
ЕДИНСТВО И БОРЬБА.
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ — ЗАНЯТОСТЬ — РЕФОРМЫ — ДОГОВОР — КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА.
Переворачиваю страницу, ничего, говорю себе, дойдем и до главного — какую платформу предлагают профсоюзы, — и вот читаю:
ПРОЕКТ ДОГОВОРНОЙ ПЛАТФОРМЫ
1. Капиталовложения — Контроль за использованием рабочей силы — Децентрализация производства.
а) Капиталовложения
Заводской совет и отраслевой профсоюз имеют право на получение информации и на контроль за программами капиталовложений с целью всестороннего их изучения в плане:
1. местонахождения;
2. последствий для занятости;
3. квалификации и производственных целей;
4. условий работы;
5. экологических и бытовых условий.
б) Организационные и технологические изменения производственного процесса
Заводской совет и отраслевой профсоюз имеют право…
в) Децентрализация и побочные процессы
Заводской совет и отраслевой профсоюз имеют право…
г) Труд на дому
Право на совместное рассмотрение…
д) Сокращение рабочего времени
Заводской совет имеет право…
е) Подряды
Преодоление конъюнктурных подря…
ж) Текучесть
Право на закрепление договорным пут…
Я устал. Чем больше я читаю, тем меньше понимаю, пусть простят мне профсоюзные руководители, пусть простят мне товарищи, но здесь я — полный профан. После того как я прочел этот набор слов, мне трудно избавиться от впечатления, что все права — у заводского совета, а у нас — никаких. Правда, предлагается повысить зарплату на тридцать тысяч лир каждому, но хлеб и так уже вздорожал на сорок лир, скоро подскочат цены на бензин, страховые организации собираются повысить сборы на сорок процентов; потом надо сообразить, что означает предложение ввести три смены по шесть часов каждая, — ну пожалуй, и все. А в остальном — все права принадлежат заводскому совету и профсоюзу. Говорят, профсоюз — это мы сами, но руль управления всегда у одних и тех же — выгони их в окно, они влезут через дверь.
Как бы там ни было, договор этот — сплошная иллюзия. Я бы составил его иначе: пусть бы лучше действовала «подвижная шкала», это важнее, чем повышение зарплаты. Добившись справедливой оплаты труда, я бы перешел к существенному сокращению рабочего дня. Мы слишком много времени проводим на заводе, да еще дорога туда и обратно. В результате по приезде домой ты уже ни на что не годишься, спишь как убитый, чтобы наутро снова вернуться на завод. Потом я снизил бы пенсионный возраст. При таких темпах кто доживет до шестидесяти лет? Мы уже сейчас не лучше половых тряпок. Один рабочий (ему пятьдесят пять) — совершенно больной человек — жаловался мне, что больше не в силах тянуть лямку: у него сын, первоклассный механик, три года мается без работы, приходится давать ему каждый день по тысяче лир на расходы. Парень иногда от стыда не хочет за стол садиться. Почему бы не отправить домой отца и не взять на его место сына?
Потом я бы занялся социальными службами. Мы веками бастуем, но, если бы по истечении каждого коллективного договора мы требовали — не говорю полного, хотя бы частичного — улучшения социального обеспечения, может быть, сейчас у нас бы что-нибудь и было: больницы, школы, вода, транспорт, конкретные мероприятия в области сельского хозяйства. А мы требуем только денег; нам дают одну лиру, а государство отбирает четыре. Через сто лет дети наших детей все еще будут бастовать — бороться за капиталовложения, реформы, занятость.
Вот и кончился рабочий день. Мы группами покидаем завод, шлепают по лужам тяжелые ботинки, цокают деревянные подошвы. За заводскими стенами все кажется нетронутым — деревья, цветы, луга; но стоит оглянуться назад, и ты увидишь донельзя «прекрасную» фабрику. Общее спокойствие нарушают гигантские компрессоры, которые урчат среди сосен и бугенвиллей. На соснах и елях поют зимние птицы, но нам наплевать на все, мы бегом летим к раздевалкам, свесив чуть не до земли налитые свинцом головы.
Сегодня, направляясь, как обычно, в столовую, мы увидели на аллее капли свежей крови: с кем-то опять несчастье. Жуткое зрелище, но мы равнодушно проходим мимо — привыкли. Более того, кто-то шутит, говорит: никак свинью зарезали? Однажды я пошел по кровавым следам и добрался до места происшествия, затем повернул назад и увидел, что следы ведут к выходу, но дверь, куда направился пострадавший, была заперта. Наконец капли крови привели меня к другой двери, за ней была амбулатория.
Как-то один мой товарищ по работе размозжил себе палец: станок вдруг взбесился, никто не мог понять отчего. Я быстро отвел беднягу в амбулаторию. Он потерял много крови, все вокруг было красным-красно: станок, деталь, которую он обрабатывал, деревянная станина, ящик с инструментами. Когда я вернулся, мастер приказал мне намочить тряпку, вытереть кровь и встать за станок моего товарища, потому что работа была срочная и кому-то надо было ее закончить.
В следующий раз беда случилась с Николой. Мы только что вернулись с ужина, ровно в половине восьмого, и вдруг раздался дикий крик — рука у него застряла между резцом и деталью. Несмотря на прочное крепление, деталь вышла из зажимной муфты. Все было в крови, ему наложили несколько десятков швов по всей руке.
Несколько лет назад умер молодой рабочий — ему едва исполнилось восемнадцать: он был из Милана, работал по подряду на строительстве цеха для гальванического производства. Он упал с крыши, с высоты пяти-шести метров. И уж больше не встал, бедняга.
На понедельник назначена четырехчасовая забастовка в поддержку коллективного договора. Забастовка пройдет по всей области. Из разных деревень Апулии в районный центр поедут автобусы. Демонстрация пройдет по главным улицам города, надеюсь, она даст конкретные результаты, а то мы так устали от болтовни: мы хотим дела, хотим, чтобы нам все было ясно, как тогда, «жаркой» осенью 1969 года, когда рабочий класс добился больших успехов. А потому вперед, молодцы, становитесь в шеренгу и слушайте, как привести хозяев в чувство. Черт побери, с 1969 года прошло шесть лет, а они все еще «никак в чувство не придут»; давайте же, товарищи, сделаем так, чтобы они опомнились и нам же загнали кол в одно место.
Дети меня просто одолели: подавай им, видите ли, детские грампластинки. Мы в магазине «Станда»[11], поднимаемся словно на крыльях, несущих в рай, — иначе говоря, на эскалаторе. На пластинках лучшие песенки, записанные с телепередачи, в исполнении детишек из Антониано. Эти маленькие паршивцы, разряженные в бархатные костюмчики, которые стоили кучу денег их родителям, эти дети рабочих и служащих, вместо того чтобы петь «Интернационал» или по крайней мере какой-нибудь детский «Интернационал», распевают тонюсенькими голосками всякие дурацкие «Цум-цум-цум» или «Пим-пум-пам».
Нынче вечером идет снег. Впервые за многие годы здесь, в Апулии, в ноябре выпал снег. Листаю газеты: «Пирелли» увольняет 1380 трудящихся, «Инноченти» в Ламбрате вообще закрывается, другие крупные предприятия колеблются: посадить рабочих на пособия по безработице или просто выбросить их на улицу. Это похоже на эпидемию. По всему Апеннинскому полуострову хозяева играют в кошки-мышки: кто закрывает производство, кто открывает, кто прикрывает, кто приоткрывает, кто прячется, кто появляется вновь. Зима обещает быть суровой, а хозяева готовятся выставить нас за ворота. Они хотят выгнать нас с работы, потому что мы им не нравимся. На заводах мы подыхаем, нас травят, шельмуют, сосут нашу кровь и все же собираются закрывать заводы, будто это райские кущи. А политиканы между тем устраивают круглые столы. Километры и километры слов — говорят, а сами млеют. Утирают пот со лба, облизывают губы, точно сласти ели.
А на улице идет снег, да такой, какого мы давно не видывали. Месяц назад мы еще ходили в рубашках с короткими рукавами; в общественном саду на лавках под фонарями спали ночью люди. Лето было сухое и очень жаркое — ни капли дождя; полевые тропинки покрылись густым слоем пыли, приумолкли цикады. Не слышно было даже тех, которых выгоняют из поселков зловоние, нечистоты, открытые выгребные ямы — у нас их зовут помойками. Бедный Юг, превращенный в сточную канаву мерзавцами, что пользуются нашей нерешительностью, нашим замешательством, нашими неудачами, нашим скоропалительным гневом, нашей недолгой, минутной яростью.
Деталь в зажимной муфте быстро вращается и выводит рулады от своих пяти тысяч оборотов в минуту. Крутится и заливается… Этот бег не унесет ее далеко, она остается все на том же месте, вращается вокруг себя — уа-а-а-а-а… Я тоже далеко не уйду: застыл на месте, двигаются только руки, да время от времени сплевываю подальше, а под ногами растет гора стружек.
Сегодня я не пошел в столовую, а предпочел прогуляться вокруг завода — воздух такой свежий, бодрящий, вот только консервный завод неподалеку отсюда отравляет его запахами консервированного тунца и сардин.
Я усаживаюсь на траву прямо перед кучей земли среди корней и пауков. За стеной оливковых деревьев — автострада, оттуда доносятся странные звуки: сигналы автомобилей, лай собак, гудки локомотивов, грохот сгружаемого металлолома. Сорная трава жадно сосет землю, ту самую землю, что ждет семян, которых никто в нее больше не бросает.
Высокая труба завода «Станич» (он совсем близко, если идти напрямую) то и дело выбрасывает длинные языки пламени: в этих огромных факелах сгорают нефтяные отходы. Порой, когда ветер дует с моря, до нас доносится сильный запах газа. Я приближаюсь к территории завода. За высокой, почти в три метра, сеткой раскинулись поля, частично они обработаны, кое-где крестьяне собирают маслины; я машу рукой, на меня смотрят, но не отвечают.
Выбрали нового делегата в заводской совет. Время от времени делегатов меняют. Все начинают с благих намерений, но кончают тем, что перестают нас информировать о делах заводского совета. А потом и вовсе скорей схлестываются с рабочими, чем с начальством. По сути, говорят они, мы должны быть более сознательными, повышать производительность труда — одним словом, дуют в ту же дуду, что и начальство. Такого делегата мы обзываем сволочью, продажной тварью и выбираем нового. Дело в том, что когда наши делегаты входят в обитую бархатом комнату с пультом управления, то перед лицом большого начальства пугаются, делают в штаны, говорят: да-да, кивают головой как ослы.
Мы должны хорошенько усвоить: нечего посылать туда шута горохового, нам надо сообща принимать решения, учитывать все проблемы — и большие и малые… даже недомогание простого рабочего — не шутка. Импровизированные собрания гораздо важнее организованных, заранее подготовленных. Они естественнее, потому что обходятся без микрофонов, президиумов, профсоюзных боссов. Все должны высказаться, а после обсуждения сообща подготовить документ и представить его кому следует — представить со всей решительностью: вот, дескать, наше Евангелие, вот голос всех.
Другое средство, по-моему, — это сменный делегат, мы все должны пройти через этот опыт, каждый понемногу, не на длительные сроки, потому что, пока очередь дойдет до последнего, пройдут годы.
Ошибку в выборе делегата мы совершаем часто, например во время местных выборов, когда голосуем за того, кто бегает туда-сюда, выклянчивает поддержку: все-то мы ему друзья, кумовья, даже братья, всем-то он нам улыбается, но стоит пройти выборам, как победитель выпячивает грудь, напускает на себя важный вид, возносится чуть ли не до небес. Идешь в муниципалитет — ломай шапку, кланяйся. Они запираются у себя в кабинетах и обделывают свои делишки, а мы каждый раз уходим несолоно хлебавши, и на местах дела приходят в упадок. Все, повторяю, все должны участвовать в политической, культурной, общественной жизни — следить за событиями, выдвигать предложения, ходить на заседания муниципального совета, а если помещение не позволяет, пусть проводят заседания на открытом воздухе, чтобы все могли слушать, понимать, предлагать, выбирать.
Местечко, где построен наш завод, называется Парадизо — Рай. Судя по названию и по некоторым другим признакам, здесь когда-то была отменная плодородная земля с оливковыми рощами и фруктовыми садами, должно быть, здесь росли гигантские миндальные и рожковые деревья высотой с дом. Кто знает, сколько раз мой дед, который был возчиком, проезжал по этим местам, сколько навоза перетаскал, сколько камней. Дорогой мой усатый дед, ты так любил женщин и вино. Допивая стакан, ты усердно обсасывал усы, облизывал их, чтобы ни одна капля вина не пропала.
Он умер несколько лет назад. Ему было 92 года, он весь был скрюченный от работы, страдал бесчисленными недугами и носил такое тряпье — еще пострашней, чем раньше. После смерти бабушки он оставил деревню, где прожил больше 40 лет, и перебрался в поселок с дочерью Анжелиной, моей теткой. Он весь исхудал, сник и в последние годы все чаще прикладывался к рюмке, но, чтобы не попасться и избежать укоров зятя, доливал бутылку водой.
Сколько воспоминаний связано с этим старым сельским домом, в котором жили дед и бабка: просторные комнаты с циновками на полу, кухня с огромным очагом, бак для воды и большое окно, выходившее в апельсиновую рощу. В комнатах сильно пахло фруктами, сладкими рожками, свежим сыром. Бабушка, или, как ее называли, кума Мариэтта, когда терла сыр, обязательно откладывала хорошие кусочки, чтобы сунуть их в рот нам, внукам. Рядом было стойло бешеного мула, под ногами у него сновали куры да целая армия кроликов и мышей. Помню, как в удушливую полуденную пору дедушка лущил бобы на террасе, молотя их большой палкой. А уж когда кололи миндаль, это был настоящий праздник — на железные козлы клали дощатый настил, вокруг собиралась вся семья: дети, внуки, дядья, тетки, даже соседи. Дед, у которого был красивый низкий голос, пел шутливые припевки:
Лучше нет моей жены, Сундуки у ней полны, И, глядишь, за две весны Справит новые штаны.Еще было гумно с выложенными из камня столом и стульями, с навесом из винограда, садишься за стол, и под ногами крутятся ящерицы. Вечером читали молитвы, на маленькой приступочке была укреплена восковая свеча и фигурка мадонны, бабушка вытаскивала из кармана четки, вместе с ними выпадали семена цикория, горох, хлебные крошки. На столе горела керосиновая лампа, вокруг летали ночные бабочки. Бабка не могла спокойно заснуть, пока не отправит меня на улицу — «за угол». Я боялся темноты и выбегал из дому с замирающим сердцем: на улице светили звезды, квакали лягушки, кричали ночные птицы, в яслях била копытами лошадь, а в глубине гумна мерцал огонек дедовой трубки. Дед неподвижно сидел в темноте и думал — бог весть о чем.
Мой дядя тогда ходил в женихах и вечерами всегда отправлялся пить с друзьями пиво, а потом — к девчатам. Я удивлялся: как ему не страшно ехать на велосипеде сквозь темноту. Я глядел ему вслед, пока он не сворачивал за розовый куст и не скрывался на тропинке, по обеим сторонам которой росли гигантские рожковые деревья. А тетка, наоборот, оставалась дома, поджидая своего парня. К вечеру она начинала прихорашиваться — красила губы, пудрилась. Потом я слышал, как он целовал ее, а она кудахтала, как наседка. Те времена давно прошли: дядя стал железнодорожником, тетка перебралась в Палезе и сюда больше не наведывается. Она теперь настоящая синьора; другой дядя пошел в карабинеры, как и мой отец, — все карабинеры.
А я вот работаю механиком — кто знает почему? Тогда на такие профессии был настоящий бум, вокруг как грибы росли курсы для токарей, наладчиков, мотористов. Я тоже записался на какие-то курсы: отец все разузнал и сказал, что токарь — неплохая специальность, хорошо оплачивается в Италии, да и за границей большой спрос на токарей. И вот я здесь, в Парадизо, который превратили в ад, в центр промышленной зоны. Там, где когда-то можно было гоняться за сороками, цепляться за телеги, где мы с приятелями воровали фрукты по садам и охотились с рогаткой, теперь понастроили фабрик и заводов. Куда подевались тропинки, которые вели к трулло, к сараю, к красному тутовнику? Туда-сюда снуют грузовики, мотороллеры, повсюду заводы — большие, маленькие и вообще бутафорские, — решетки, подъемные краны, навесы, алюминий, пластмасса. Но внешность обманчива: многие из заводов закрываются, через некоторое время они откроются снова — может быть, в другом месте, в другом районе, но все равно откроются, чтобы потом снова закрыться.
По дороге в Палезе для родного ФИАТа пробурили несколько артезианских колодцев, а вот для нужд сельского хозяйства пробурить их оказалось невозможно. Мы теперь уже не знаем, кто мы такие: люди-машины, полулюди-полумашины… Мы — жители ко всему безразличного, мертвого поселка, звери, готовые растерзать друг друга. Растрепанные мальчишки гоняются за чудом уцелевшими коровами, пинают их, бросают в них камни. Из грузовиков, катящих вдоль поселка, сыплются гравий, цемент, трубы. Заводы закрываются, воды не хватает, лифты застревают, чиновники из налогового управления, как пираты, подступают с ножом к горлу. Цены растут. Обсуждается новый трудовой договор, столько надежд, столько энтузиазма связано с ним, но, похоже, и на этот раз дело попахивает «липой».
Сегодня вечером один парень предложил нам распить «Монастырской настойки» — нечто вроде ликера или эликсира долголетия. Он угощал, потому что его взяли наконец в рабочие. До этого он служил в баре при столовой, у него был белый пиджак и шейный платок; улыбаясь во весь рот, он подавал кофе, сухарики, сливки. Днем он появлялся в цехе, катил меж токарных и фрезерных станков тележку, полную булочек, шоколада, конфет и банок с фруктовым соком, — на тележку тут же налипала стружка. Но его мечтой было стать рабочим. Сначала он добился, чтобы его взяли чернорабочим, и вот теперь надел голубую спецовку. Вечерами учился на токаря. После долгого ожидания мечта его сбылась, но работает он пока не токарем, а за сверлильным станком. Сверлит тысячи отверстий, так же как раньше подавал тысячи чашечек кофе. Этот парень вытаскивает из чехла калибр, словно держит в руках шпагу Зорро, его счастливое лицо отражается в сверкающих деталях. Он так счастлив, глаза смеются, ему кажется, что он рукой дотронулся неба. Не будем его расхолаживать.
Возвращаюсь домой голодный, сажусь за стол; жена готовит, дети шумят, стиральная машина адски грохочет. Тогда и я беру пустую тарелку и начинаю стучать ею по столу. Мне не хочется шуметь, но я стучу все громче — я почти доволен. Для полноты счастья включаю телевизор. Теперь порядок: чем тут не завод! Привычка к шуму толкает на необъяснимые, бредовые поступки.
Сегодня воскресенье, я на седьмом небе, радость захлестывает меня: сегодняшний день — только мой. Меня тянет в город, хочется побродить, почувствовать себя наконец свободным… иду на вокзал, прибывающий поезд весь в моем распоряжении. Прибываю в Бари, выхожу на привокзальную площадь с фонтаном: передо мной трамваи, толпящийся народ — и все это мое!
Но блаженство длится недолго. Лезу в карманы за сигаретами. Первая всегда кажется горькой — может, потому, что у меня горько во рту: нынешней ночью я плохо спал. Сразу подступает апатия, тоска, город уже кажется враждебным, ненавистным, он тяготит меня. Повсюду зловоние, тротуары загажены, из подъездов несет гнилью. Меня тошнит.
Покупаю газету, типографская краска пачкает руки. Черные руки, прямо как на заводе. Завод близко, десять минут на трамвае, он зовет, тянет меня, машинально сажусь на седьмой номер, тот, что идет в промышленный район, — и вот я здесь. Колючий воздух, железные листы кровоточат ржавчиной, четыре бродячих пса роются в нечистотах.
Перехожу дорогу. За спиной остается последняя остановка трамвая — в Калабрезе. Идти надо осторожно, недавно здесь грузовик сбил рабочего. На земле тогда осталась только куча кровавых тряпок. Сокращая себе путь, иду полями; навстречу попадаются тощие деревца и грязные лужи. Короткий подземный переход под железной дорогой — и я уже на подступах к Модуньо. Брошенные картонные ящики, следы шин, желтые листья, пластиковые пакеты. Вот и бензоколонка «Аджип», уже видны эвкалипты, что растут возле завода. Да, прямо у заводских ворот большой луг, на нем растут ели, эвкалипты, бугенвиллеи, но я останавливаюсь: ноги не идут! Сил нет глядеть на железную крышу завода, на забор, на красный нос вахтера, на сверкающий чистотой особняк дирекции, на аллею, ведущую в цех, где каждый день для нас, для трехсот рабочих, оборачивается адом. Не хочу идти дальше, не хочу ничего видеть, завод что порченое яблоко: красота снаружи, гниль внутри. Выкуриваю еще одну сигарету, сую руки в карманы и поворачиваюсь спиной к ветру и к цеху.
Снова начинается рабочая неделя — опять в пекло! И выходные-то дни отвратны, чего уж говорить о рабочих. Ты заранее знаешь, что тебя ожидает, и так в течение многих дней, месяцев, лет, — в этом весь кошмар: каждый день — одни и те же движения, одни и те же надоевшие рожи. А бывает и хуже: кто-нибудь переедет тебя на машине или выкинет из дома за то, что не внес в срок возросшую квартплату.
Можно ли забыть о мелочах, которые делали нас счастливыми: о том, как осенним туманным утром выходили пораньше, чтобы собрать дикий цикорий, как после дождя искали улиток, выползавших на каменные ограды вдоль сельских дорог, как до позднего часа при огромной луне болтали на крылечке под стрекот сверчков, как не думали о том, что завтра придется пробивать заводскую карточку. Кто теперь слушает сверчков и нежное кваканье лягушек летними вечерами на болотах? А заварное вино… из него с первым снегом, который заносило к нам холодным ветром с Мурдже, готовили мороженое. Мы брали самый чистый, нежный и пушистый снег, что скапливался на балконных перилах. Как забыть эти мелочи, которые ничего не стоили, но объединяли нас, делали лучше. Они и это уничтожили, они все хотят в нас убить, даже воспоминания. Да, понемногу лишают нас памяти с помощью адских темпов, сдельной оплаты, массовой пропаганды общества потребления, всеобщей неразберихи. Не знаешь, откуда ждать удара, поскреби красное — и найдешь черное, поскреби черное — и найдешь красное, все только и думают, как бы нас запутать.
С чего начать? Дел так много! Мне кажется, начинать надо с молодежи, надо бороться за все активные силы, которые плесневеют в провинциальных городках. Не успеешь родиться, как ты уже старик и в жилах у тебя вода. Надо поднять молодежь, которая загнивает в школе от никому не нужной болтовни, загибается под гнетом латинского, риторики, извращенной истории, сомнительной литературы, — надо вовлечь ее в борьбу за спасение Юга, его морей, приходящих в упадок крестьянских хозяйств, скудеющей земли… надо вызволить молодежь, занять ее, направить.
Наше общество гниет изо дня в день, политические партии не в силах добиться реформ, создать основу для упорядоченной, свободной для всех жизни. Они боятся потерять голоса, ради которых живут, они просто в ужасе, что могут потерять голоса: ведь если они поведут себя так, то выиграют правые — это не годится; если иначе, то выиграют левые, а это тоже не подходит; если же совсем наоборот, то выиграет центр, следовательно, и это ни в какие ворота не лезет… А между тем вся система распадается, растет напряженность, насилие.
Я живу в новом многоэтажном доме, большинство обитателей из рабочих и служащих стали синьорами, по крайней мере с виду. Женщины нарочно оставляют двери открытыми, чтобы можно было позавидовать их квартирам. Холл с непременной аркой — сейчас поветрие на арки, чем больше у тебя арок, тем больше ты чувствуешь себя синьором. В холле зеркало стиля ампир на венецианской подставке; повсюду навалом безделушки, у каждого их по горло. Люди захламляют дома множеством бесполезных вещей, чтобы вознаградить себя за недавнюю бедность, и покупают, покупают изо всех сил, так что потом становится не на что жить, зато каждый считает, что перехитрил другого. А на самом деле мы обкрадываем самих себя. В квартирах ревут электрополотеры, на балконах с утра до вечера жарится на электрогрилях мясо, под балконами местечка не найдешь для машины. Люди хватают все, самое последнее барахло, и думают, что они в выигрыше. Не понимают они, что их выигрыш — это более реальные вещи долгосрочного назначения: общественные службы, транспорт, школы, вода для сельского хозяйства, больницы, ясли…
Одна моя соседка с большим трудом купила квартиру, заставила ее множеством отвратительных безделушек и рада, что повергает в зависть куму, которая живет в старом районе. В новой квартире все сверкает, все натерто до блеска. Сами хозяева живут в старом доме, а сюда приходят только ночевать, и если ночью кому-нибудь приспичит, то, чтобы не пачкать туалет, отделанный дорогой керамикой и кафелем, они могут взять газету наделать в нее и выбросить из окна на улицу.
Мы едем по привычной дороге, по которой ездили каждый день из дома на работу, с работы домой. Нас пять человек из поселка Адельфия, расположенного в 18 километрах от завода; чтобы сэкономить бензин, мы возим друг друга но очереди, по неделе каждый. Все время ездим одной и той же дорогой: вокруг Адельфии, потом через Битритто и к заводу. Машина едет быстро, мы устали, нет сил, но это не мешает нам любоваться осенними полями. До чего же я люблю осень! С каждым днем виноградники меняют цвет, сначала они зеленые, потом желтые, потом красноватые, фиолетовые, темно-коричневые, потом листья опадают; появляется трава, поля превращаются в луга, кажется, будто весна пришла: цветут желтые ромашки, крокусы, повсюду белые цветы, похожие на снежные хлопья; гигантские рожковые деревья гостеприимно принимают на своих ветвях сорок, а те кричат, размахивают крыльями; крестьяне собирают оливки, жгут костры, чтобы согреться, едят жареные оливки, хлеб, сыр. Неплохо бы остановиться, потолковать с ними, расспросить об урожае, но мы спешим и на большой скорости пролетаем мимо; мы почти рядом, стоит только руку протянуть, но асфальтированная дорога неумолимо влечет нас все дальше.
Несколько лет назад на заводе работал служащий, заполнявший специальные таблицы. Карандашом он ставил множество галочек в таблице, отмечал карточку рабочего, проставлял нормативное время, отпущенное на определенную операцию, фактически затраченное время, номера табелей, час их открытия, час закрытия и так далее. Эти таблицы после заполнения идут сначала в перфорационный, а затем в вычислительный центр для проверки, сколько мы работаем и сколько стоим. Так вот, этот тип взял себе за правило чуть ли не каждый вечер к концу рабочего дня, когда голова уже не варит, подходить к станкам и нахальным, отвратительным голосом спрашивать: к чему это, к чему то, сколько деталей обрабатываешь, почему не работаешь быстрей. Почти каждый вечер одна и та же песня. Я не знал, что придумать, как от него избавиться.
К счастью, однажды вечером, как только он подошел ко мне, его внимание привлекла блестящая, но изогнутая и со множеством заусениц деталь; он прикоснулся к ней, стал водить пальцем по сверкающей поверхности, слегка нажал — и, конечно, порезался, дурак. Видели бы вы его: припустил по аллее как заведенный, подняв кверху кровоточащий палец. С того вечера он больше не подходил ко мне, хотя издали я его зазывал: «Иди, иди же сюда, красавчик». Но он ни в какую — в самом деле испугался. Сейчас он работает старшим кассиром, а на лице у него все то же унылое, подозрительное выражение. И такой же худой, похож на ручку от метлы, несмотря на всю ту благодать, которой он заведует: чеки, зарплату, деньги во всех видах — наличные, разменные.
Вернувшись с ужина в половине восьмого, я расположился, как паша, в кресле начальника. По-американски взгромоздив на его письменный стол ноги в тяжелых, каждый по два кило, башмаках, я закурил очередную сигарету. Вдруг откуда ни возьмись является начальник. Этот мерзавец, оказывается, еще здесь: он просто притворился, что уходит, и внезапно вернулся, чтобы посмотреть, что мы делаем в его отсутствие вечером. Увидав меня в такой позе, он подходит и устраивает мне нагоняй. Я говорю ему: «Успокойся и послушай: во-первых, я так расселся не из презрения к твоему глубоко уважаемому столу, а чтобы дать отдых ногам, они болят, я чувствую, как они распухли, дело кончится тем, что у меня начнется варикозное расширение вен, подумай, ведь мне еще стоять на ногах три с половиной часа. А во-вторых, я присел немного потому, что в самом деле устал, ты каждый божий день с утра до вечера рассиживаешь в этом кресле и лишь на короткое время отрываешь от него задницу, чтобы шпионить за нами и нас донимать. А теперь убирайся, а то я душу из тебя выну».
Третьего дня тот же начальник взбеленился, потому что я превысил время на обработку деталей, ему снова кое-что пришлось от меня выслушать. Время на обработку рассчитано неправильно, сказал я, его недостаточно, поэтому, если вам нужна производительность, увеличьте нормативы, и я увеличу производительность на сколько угодно: на двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят процентов… Я прихожу сюда работать, а не надрываться так, чтобы еле до дому доползать. Я хочу приходить домой здоровым, по возможности бодрым, с зарядом энергии, чтобы и в постели быть на что-то способным. Вы из нас и без того все жилы вытянули — так оставьте хоть это.
На нашей линии работы не хватает, несколько рабочих здесь явно лишние, их должны перевести отсюда в другой цех, где работы прибавилось. Разумеется, в число рабочих, которые должны переменить климат, непременно попаду я, потому что я спорщик, подрывной элемент, зануда. Мне не впервой менять цех. А жаль — я уже стал сближаться с товарищами, привык к станку, ко всем этим трубочкам с крышечками, к сотням и тысячам мельчайших деталек — таким маленьким, что все они могли бы уместиться в кармане.
С грустью достаю из шкафчика свои личные вещи: пару давнишних газет, несколько листовок, таблетки от головной боли, лекарство в аэрозольном баллончике для моего вечно заложенного носа, две пуговицы, мое собственное изобретение для захвата трубок (что-то вроде крючка, который привязывается к пальцу, отчего я становлюсь похожим на знаменитого пирата капитана Уничино). К подобным уловкам прибегаем мы, рабочие люди, чтобы не слишком тоскливо было выполнять монотонные операции. Разумеется, никто не платит нам за всякие такие немудреные изобретения, но зато приятно сознавать, что твой котелок еще варит. Я собираю свое добро. Здесь две ручки, которые уже не пишут, но я почему-то все время таскаю их с собой; обломок карандаша, совсем крохотный, но, если его приложить к другому такому же крохотному обломку, получится вполне приличный карандаш; здесь и трехмиллиметровый ключ, с которым я не расстаюсь никогда, потому что такие ключи у нас на вес золота, днем с огнем не найти, мы их всегда держим при себе в кармане и, будь наша воля, домой бы носили, хранили бы ночью под подушкой. Тут у нас много чего не хватает из запчастей и инструментов. Начальство уверяет, мол, заказывали, но инструментов нет как нет, хоть на свои деньги покупай в Бари. Нас, рабочих, называют наглыми, безответственными лентяями, на самом же деле как раз наоборот, и это хорошо известно хозяевам, но они знают и другое: чем больше притесняешь и обвиняешь рабочих, тем проще превратить их в бессловесных рабов.
Исследователи рабочего движения, горы книг о рабочем движении, написанных до того заумно, что самим рабочим не под силу в них разобраться, конференции, дискуссии, круглые столы и все такое прочее. А что в результате? В результате рабочие сидят в дерьме еще глубже, чем раньше. Потому что всем наплевать на то, как и чем живет рабочий; каждый заботится только о себе, и мы — лишь трамплин для их прыжка. Пришла пора ясных и понятных слов, и все должны говорить так, чтобы было ясно и понятно. Хватит речей с двойным смыслом. Кто говорит сложным языком, пусть катится к чертовой матери, кем бы он там ни был: депутатом, президентом, адвокатом, ученым, профсоюзником… Долой кастовый буржуазный язык, долой болтовню, мы требуем конкретных дел. Слово должно быть предоставлено настоящим рабочим, из тех, что с утра до вечера надрываются на производстве. Только они в состоянии по-настоящему рассказать о проблемах рабочего класса. А кто не держал в руках мотыги и молота — не разберется, хоть убейся, в истинных проблемах труженика.
Каждый имеет право говорить о своих проблемах, даже тот, у кого нет ни диплома, ни аттестата, ни прочей такой бодяги. Пусть все и говорят, хоть с ошибками, хоть с ругательствами, хоть на диалекте — главное, чтобы твой голос прозвучал и был услышан, особенно когда речь идет о твоих же проблемах. Но сегодня, если человек недостаточно образован и вдобавок не пишет, то говорить о своих проблемах ему стыдно и боязно; в то же время образованный и пишущий человек присваивает себе право писать от имени других.
Дела рабочих все хуже и хуже. На заводах нас эксплуатируют, отравляют, убивают и, словно этого мало, выгоняют, вышвыривают на улицу, когда и как хотят. От нас непрерывно требуют жертвенных усилий, хотя мы и без того постоянно чем-нибудь жертвуем. Мы от рождения обречены на жертвы. О нашем существовании вспоминают, лишь когда требуется «собрать все силы» — это единственное выражение, с которым они обращаются к нам. К тому же мы сами никогда не доводим до конца свою борьбу с правительствами и голодаем, когда им заблагорассудится. Какие же мы рабочие, если не имеем права называться рабочими в полном смысле этого слова! И ремесленниками нас не назовешь, ведь мы ничего толком не умеем сделать. Мы роботы, обезьяны, машины. Можно ли назвать рабочим человека, который, стоя у станка, производит на протяжении двадцати лет одну и ту же деталь? Мы попросту рабы, лодки без руля и без ветрил. Даже ИКП с профсоюзом не решаются сказать нам всю правду о нас самих. О том, что рабочая женщина позволяет эксплуатировать себя на производстве как лошадь, но в итоге приобретает шубу за 10 миллионов лир; что ее муж, тоже рабочий, преподносит ей в подарок брильянтовое кольцо за два миллиона (в то самое время, когда существуют миллионы безработных и совершается несчетное количество убийств и самоубийств от отчаяния и нищеты); что рабочий наизусть знает, о чем пишут в спортивной газете, но понятия не имеет о смысле партийного символа, за который голосует, да и о своем кандидате тоже. Мы здесь, на Юге, все плачем, жалуемся, но до сих пор ничего не поняли. У нас же есть море — так давайте его использовать; у нас земля — так давайте возьмемся за землю; у нас солнце — значит, и о нем следует подумать; у нас овощи, фрукты и так далее, и так далее…
Что же мы за рабочие такие, если горстка шакалов помыкает нами, как хочет, заставляя всю жизнь гнуть спину и харкать кровью, всю нашу единственную, неповторимую жизнь! Всякие сделки с совестью, обещания, «совместимость» — это одна пустая болтовня.
Иду в большой магазин самообслуживания. Супермаркет. Брожу взад-вперед, обалдев от света и изобилия. Выхожу, нагруженный, как мул, зеленью, фруктами, мясом, рыбой, сырками, напитками… Чуть не падая под тяжестью поклажи, добираюсь до дома и набиваю продуктами буфет, холодильник, кладовую. Чувствую себя уверенно, словно богач, еще бы — как минимум на неделю вперед обеспечен припасами. Но это ощущение очень скоро проходит: почистив гору зелени, которую притащил домой, убеждаюсь, что ее едва наберется на пару тарелок. Дети смотрят на очистки голодными глазами. Мясо вначале едва умещалось в сковороде, а теперь скукожилось до того, что его без увеличительного стекла не разглядишь. О фруктах и говорить нечего: вместо апельсинов одна кожура, а бананы и вовсе зеленые. Что за дела?! Или земля перестала родить, или всех нас кто-то водит за нос.
Послезавтра, 12 декабря, всеобщая забастовка, а точнее, как пишут газеты, «почти» всеобщая. Не понимаю я этого «почти»: по мне, или всеобщая, или нет. И расшаркивания эти мне не нравятся, и недомолвки в переговорах между профсоюзами и правительством: гнилое все какое-то. Мол, уважаемое правительство, мы тебе сейчас надаем по загривку, и поделом, но ты не бойся: слишком больно не будет.
Демонстрация состоится в Неаполе. Сегодня мы сложились, чтобы оплатить автобусы, а всего профсоюзы наскребли свыше 200 000 лир. Отъезжаем из Бари в пятницу, в 3.50, от секретариата профсоюза машиностроительных рабочих на площади Св. Антония. Тем временем стало известно, что первая встреча между профсоюзами и Конфиндустрией будет проведена 18 декабря.
Ночь. Небо черным-черно от туч. Холодно. Поехали. Тесно прижавшись друг к другу, распеваем песни. В автобусе отогрелись; сзади сложены плакаты, флаги, пакеты с бутербродами и пивом. Кого-то уже сморил сон, особенно тех, кто вроде меня накануне вернулись домой за полночь после вечерней смены. Кто-то играет в карты, кто-то пробует умыкнуть у соседа бутыль хорошего деревенского вина. Распевает свою песню и мощный мотор автобуса, несущегося по асфальтовой ленте автострады к солнечному приморскому городу, к панораме залива, холере и сальмонеллезу, строительной спекуляции и отравленной морской воде.
Неаполь встречает нас хорошей погодой. Это приятно, потому что ветер с дождем, промозглая сырость — все это осталось в Бари, а здесь вот-вот проглянет солнышко. Везет же местным профсоюзам: их мероприятия всякий раз приходятся на погожие дни. Колонна получилась внушительная — более трехсот тысяч демонстрантов, даже страшно смотреть. Этакой силище да взорваться разок — только улицы с домами задрожат. Но она никогда не взорвется: всем раздали по свистку, и мы свистим.
Время от времени кто-нибудь выкрикивает в мегафон: ТРУ-ДО-УСТ-РОЙ-СТВО, ТРУ-ДО-УСТ-РОЙ-СТВО! По обеим сторонам улицы — блюстители порядка в черных плащах, гладкие да откормленные… Нас щелкают фотографы, а мы глядим в объектив с выражением геройской решимости на лицах и посвистываем. Каждому из нас профсоюз перед отъездом выделил пару бутербродов, бутылку пива, апельсин, яблоко. Чего еще желать? ТРУ-ДО-УСТ-РОЙ-СТВО, ТРУ-ДО-УСТ-РОЙ-СТВО! Левые ультра скандируют: ВЛАСТЬ РА-БО-ЧИМ, ВЛАСТЬ РА-БО-ЧИМ! А женщины из числа ультралевых — они всегда какие-то мелкие и бледные — лишь вид делают, что кричат, а сами только шевелят губами. Куда уж там кричать такими ротиками, голосками, да еще в таких пальтишках!
Мы проходим по улицам Неаполя, дисциплинированные, как школьники. Все нами гордятся, улыбаются нам, даже блюстители порядка. На площади Плебишито установлен высокий, как гора, помост, с которого уже выступает Лама; затем очередь Ванни, последним выходит Сторти. Они парят там, в вышине, прекрасные, словно ангелы; мы громко скандируем: ЛАМА-СТОРТИ-ВАННИ, размахиваем руками, бутербродами, колокольчиками.
Между делом подкатилось рождество и так же незаметно прошло. Все более пустыми становятся рождественские праздники, все более грустными и бедными. К ужину были какие-то скудные пирожки, потом извели пару хлопушек, отчего вся кухня наполнилась дымом, и пришлось открывать окна, чтобы продуло ледяным ветром. Многие рабочие провели рождество на фабриках — вот тоска-то! Ежедневно десятки фабрик закрываются, и десятки же переходят в руки рабочих. Вездесущий священник со своей наглой физиономией даже отслужил мессу для этих бедолаг.
Сегодня мы возвратились на работу после праздников (так называемых!). Чуть ли не с дракой отвоевываем себе места возле батарей парового отопления (они еле теплятся), поверх которых на несколько минут кладем спецовки, чтобы хоть немного согрелись: не холодные же напяливать! Достойное зрелище: мы в трусах и майках стоим босые на листе картона, так как даже обувь засунули под радиатор. От спецовок поднимается пар, ноги покрылись пупырышками, и мы похожи на ощипанных кур, точнее, на индюков. Еще три дня с сегодняшним, и прощай 1975 год. К сожалению, нам придется работать и в последний день года; хорошо еще, что на этой неделе у меня утренняя смена. А каково тем беднягам, кому в вечернюю?
Накануне Нового года мы, четверо болванов, кроем на чем свет стоит и счета, и последние гроши, и детали, и стружку. Один из нас собирает деньги на покупку кулича и шампанского, чтобы проводить старый год прямо в цехе, вот какие мы идиоты. Воображаем, что находимся в Кортина д’Ампеццо или на озерах: прием — в честь рабочего, кулич с шампанским — рабочему, да здравствует рабочий, да здравствует новое повышение цен! Никто не помнит о семи сотнях рабочих-индусов, похороненных в одной из шахт Индии, о последних кровавых событиях, которые произошли в Нью-Йорке, а могли произойти в любом другом месте. Все мы ощущаем себя сильными и богатыми, хитрыми и могущественными. Да здравствует старый год! И новый год, в котором всех нас надуют по-крупному, как всегда, тоже да здравствует!
Фабрики закрываются каждый день. Нас вышвыривают с заводов точно так же, как уже долгие годы вышвыривают с полей крестьян. Идет свертывание сельского хозяйства всеми возможными средствами. Мы больше не нужны хозяевам нигде. Вон с заводов, вон с полей! Неужто они вздумали отказаться от наших услуг и поработать сами? А может, решили предоставить нам возможность гулять себе, сидеть дома, наслаждаться жизнью и при этом получать зарплату?
Однако, думается мне, дело здесь в другом, а именно в возврате к латифундиям. Земли больше ничего не стоят; крупные капиталисты скупают их за бесценок, чтобы завтра вновь собрать здесь и крестьян, и рабочих. Вот тогда земля и войдет в цену: и семена появятся, и вода, и удобрения — все появится словно по мановению волшебной палочки.
Английская фирма «Лейланд», закрывшая в Милане завод «Инноченти», заключила контракт на строительство завода грузовых автомобилей в Нигерии, среди пальм и крокодилов. Наши рабочие обходились фирме слишком дорого, а там рабочие почти ничего не стоят, их можно эксплуатировать и калечить сколько душе угодно. Когда же тамошние рабочие прозреют, «Лейланд» нахально переместится еще куда-нибудь.
Вчера был последний праздничный день — крещение. По телевизору ведущий отплясывал с Паолой Тедеско, у которой ножки такие, что я, как пес, облизывался и чуть не обглодал телевизор. Дети, не получив подарков к празднику, хнычут; я объясняю, что у них и так каждый день праздник, а у меня сейчас нет денег. Ненасытные какие-то дети. Помню, в моем детстве добрая фея была самой настоящей нищенкой и приносила кусок сыру, мандарин, пару орехов да монетку в десять лир, которую родители тут же отбирали. Это если ты хорошо себя вел. А тогда хорошее поведение означало не то, что нынче: не капризничать, и все. В те времена хорошо себя вести означало носить воду, колоть дрова и мыть пол, даже если ты парень. Ну и прочее. А коли плохо себя вел, то в твой чулок вместо подарков насыпали уголь черный-пречерный, а то еще и горячих всыпали.
В Бари улиц не видать за автомобилями. Даже самый большой оптимист из числа автомобильных магнатов, когда начиналось серийное производство, не мог мечтать о таких доходах за счет дураков. Вдоль шоссе Валенцано — Бари расположены целые парки с особняками, принадлежащие частным лицам. У одного такого парка останавливаюсь из любопытства. Гляжу: второй этаж, третий, катакомбы коридоров и помещений наверху и в подвальной части здания. Целый дворец. И на что людям столько лишней жилплощади, когда существуют другие, ютящиеся по десять человек в комнате? А в этих особняках обитают по два-три выживших из ума старика.
Вчера, 9 января, бастовали государственные служащие. Их было около двухсот тысяч, они, как и рабочие, прошли по улицам Рима, неся в руках лозунги и барабаны. До сих пор служащие считали себя привилегированным классом и на нас, рабочих, когда мы выходили на демонстрации, смотрели с иронией, едва ли не с издевкой. Теперь, кажется, и до них дошло, что они — рабы, мелкие пешки системы.
Без четверти двенадцать. Пора в столовую. Не успеваю даже руки помыть. Нет, пожалуй, не пойду сегодня обедать, а лучше подышу свежим воздухом да позагораю на солнце. Выхожу из цеха и иду в сторону соседней деревушки. После асфальта приятно ступать по мягкой земле, правда, башмаки из черных превращаются в красно-рыжие. Добрая земля. К чертям столовую, уже четырнадцать лет я становлюсь с подносом в очередь, чтобы получить первое, второе, а бывает, еще яблоко дадут или апельсин, и нужно в спешке глотать еду, которая тяжелым, как свинец, комом оседает в желудке. Хорошо здесь, за городом, красиво, и, хотя еще январь, день смахивает на весенний: низко пролетела бабочка, напуганная моей тенью, юркнула за ствол оливкового дерева ящерка.
Надкусываю травинку. Кисло. Неподалеку копают траншеи. Рабочий разматывает большую деревянную катушку с электрокабелем, другой перекатывает широкие трубы. Немного дальше рычит экскаватор. Эта фабрика — лакомый кусок для подрядчика: здесь всегда требуется что-то копать, бурить, сносить, строить.
Через сто лет здесь не будет ничего и никого, только груды камней и ржавого металлолома на том месте, где мы, как дураки, надрываемся в поте лица, кладем свое терпение и кровь на то, что никому не нужно ни сейчас, ни потом. Тем более что в этой стране на сотню работающих болванов приходится тысяча бездельников, которые ведут сладкую жизнь, легко, словно обертки от конфет, выигрывая и проигрывая миллиарды. Они делают что хотят, ведь они все могут: и обратить реки вспять, и сделать нас всех богачами или, наоборот, разорить дотла, как оно и происходит, к сожалению.
Мне часто попадается на глаза слово «утопия». Заглядываю в словарь, желая узнать точное значение этого термина, и читаю: 1) иллюзорное представление об идеальном правительстве или идеальном обществе; 2) план, замысел, идея и т. п., несбыточные в силу своей фантастичности и неосуществимости. Закрываю словарь и думаю: видимо, происходит какая-то мистификация этого термина. Когда все хорошо и правильно, вряд ли следует считать утопией, иначе говоря — несбыточными замыслами, то, что вполне осуществимо. Тем временем на наших глазах осуществляются самые чудовищные махинации, перед лицом которых мы не можем опускать руки, оправдываясь тем, что, мол, всякая альтернатива является утопией.
Сегодня, 15 января, машиностроители провели четырехчасовую забастовку. В демонстрации собралось порядка сотни машиностроителей, остальные — студенты. Беспорядочной толпой прошли мы по улицам Бари, выкрикивая старые, привычные лозунги. По правде говоря, забастовки в том виде, в каком они происходят, мало кого волнуют, да и не пугают больше никого. Демонстранты скандируют: даешь трудовой договор! Или: Альмиранте[12] — палач! Или еще что-нибудь в том же роде…
Единственное, что мне понравилось, — это огромный транспарант с надписью: НА ПЕНСИЮ В 50 ЛЕТ — 35 РАБОЧИХ ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ — ПРИБАВКУ В 50 ТЫСЯЧ ЛИР К ЗАРПЛАТЕ.
Сегодня я вновь взялся за дневник. Вы, разумеется, спросите, чем объяснить такое длительное молчание после забастовки 15 января. Больше месяца прошло в кошмаре, в бреду, в агонии. Расскажу по порядку. Утром 25 января, в воскресенье, мы с женой выехали из Барлетты на «форде Капри»: за рулем сидел наш друг. Когда съезжали с автострады на шоссе, ведущее в Андрию, может, из-за того, что шли мы, не снижая скорости, а может, потому, что на рассвете был дождь и поверхность шоссе стала скользкой, машина вылетела с дороги на обочину и несколько раз перевернулась.
Это было ужасно. Ведь мы двигались так уверенно и беззаботно на скорости 130–140 км в час, и я, несмотря на то что было страшновато, ничего не говорил. Видимо, такой страх испытывает каждый, кто не умеет водить машину и ненавидит автомобили. Неожиданно, спустя несколько метров после поворота, машину занесло. Водитель пытался выровнять ее и затормозить, потом этот жуткий полет, я почувствовал сильнейший удар, и наступило ощущение пустоты, я задыхался. Потерять сознание мне не давала мысль о жене, которая сидела впереди рядом с водителем, но теперь ее там уже не было. «Форд» несколько раз перевернулся и вновь встал на колеса. Кое-как выбравшись наружу, я увидел в нескольких метрах от машины свою жену. Вся в земле, она пыталась подняться на ноги, со лба ее на одежду текла кровь. Мою грудь и плечо пронизывала резкая боль, я еле дышал, и кровь хлестала из правой руки. Приятель, стоявший рядом, монотонно твердил: «Что же делать, что же делать…» Мы стали кричать о помощи, и я тоже кричал, сколько хватало дыхания.
Вскоре появилась дорожная полиция. Ноги меня не держали, и я рухнул на траву. Двое полицейских втащили меня по заросшему травой откосу на шоссе, где уже остановилось довольно много машин. Кто-то приложил платок к моей правой руке, из которой по-прежнему текла кровь. Потом приехала «скорая помощь». Меня положили на носилки, я кричал от боли в боку, думая, что умираю; жена и друг смотрели на меня с состраданием. «Скорая помощь», завывая сиреной, неслась как сумасшедшая, а я лежал и не знал, что случилось с моей грудью и боком.
В больнице меня раздели и оказали помощь. Я то умоляюще глядел на врача, то проклинал все автомобили на свете, а потом стал кричать и плакать, словно ребенок, что ни за какие деньги больше не сяду в машину. Меня просветили рентгеном, накинули сверху простыню и, положив на каталку, повезли по залам и коридорам, где гулял ветер. Помню внутренний дворик возле рентгеновского кабинета. Там мы встретились с женой. Ее куда-то везли в кресле-каталке; она плакала. После рентгена меня доставили в четырехместную палату хирургического отделения, и врач велел мне обязательно помочиться: им нужно было посмотреть, все ли цело у меня внутри. Поддерживаемый двумя санитарами, я старался изо всех сил, но ничего не получалось: меня била дрожь, кроме того, в палате было слишком людно и слишком много света. Один сообразительный санитар попросил всех выйти, погасил свет и пустил воду в умывальнике. Это подействовало. В моче обнаружилась кровь.
На другой день мне сообщили, что жена получила несколько травм, из которых наиболее тяжелые — на ноге и на голове; ей наложили пять швов. С другом ничего страшного, за ним уже приезжал сын и увез его назад в Бари. У меня сломаны два ребра: пятое и седьмое, кроме того, зарегистрирована отраженная травматическая боль плевры и различные ушибы по всему телу.
Мне делают бесконечные уколы круглые сутки, днем и ночью. Сестра входит внезапно, резко зажигает свет, задирает одеяло и колет мою истерзанную плоть. Ночами спать невозможно: из коридора доносятся непрерывные стоны; я прошу санитара дать мне что-нибудь болеутоляющее и снотворное, но он отказывается, говорит, это опасно в моем состоянии. Ничего не могу сделать — ни повернуться, ни перевернуться, — так и лежу глаза в потолок, дышать трудно, стараюсь вдыхать и выдыхать медленно: боюсь закашляться.
По утрам монахиня читает молитву. Многие выходят со стульями в коридор, один я остаюсь в палате и корчусь от боли. Потом завтрак: кофе с молоком и булка. Грациозная, но решительная медсестра берет кровь из вены; толстенная игла вонзается в руку. Не пойму, что со мной происходит…
В этом больничном аду мы с женой проторчали целую неделю. Потом врачи решили отпустить жену домой, а меня — нет, сказали, еще несколько дней нужно наблюдаться. Я умолял выписать и меня, иначе свихнусь, но бесполезно. За эту неделю мне глаз не удалось сомкнуть от жутких болей. Зато спустя пять-шесть дней начал понемногу ходить, медленно-медленно, скособочившись и придерживая рукой ребра, которые, казалось, вот-вот выскочат. Так тихонько и ковылял по коридору.
Теперь я дома. Уколы продолжаются. В сырую погоду ломит ребра. Трудно говорить, и утомляюсь быстро, если дышу глубже обычного. Когда кашляю или зеваю, тоже бывает ужасно больно. Выходить из дома пока не могу. Дни тянутся бесконечно, а ночами не сплю: мучают кошмары. За окном все время дождь, сырость, туман. Долгая в этом году зима. Много читаю газет, журналов, книг. По всему дому разбросаны газеты с разными заголовками, но с одними и теми же фотографиями — Берлингуэр, Андреотти или Альдо Моро.
Сегодня вечером зашли ко мне трое моих дядьев. Зашли проведать, посмотреть, что со мной стало. У одного из них, который до сих пор не расстался с крестьянским ремеслом и живет в деревне, замечательные сыновья — крепкие, сильные, кровь с молоком, одно удовольствие глядеть на них. Прямо посреди комнаты сыновья затеяли возню, как при игре в регби. Один особенно разошелся: пихался как сумасшедший, вопил, кусался — настоящий атаман. Я смотрел и завидовал его здоровой силе крестьянского сына, который питается луком и фасолью.
Когда много-много лет назад мы собирались в доме у деда и бабки, двоюродные братья приходили пешком из деревни или с ближайшей фермы. Больше всех нам досаждали дети покойной тетки Марии, особенно белобрысый Стефануччо. Подберется к тебе, прикинувшись дурачком, и, когда ты меньше всего ожидаешь, ущипнет так, что шкура потом облезает. Тем же занималась и его сестра Мариэлла, дикарка какая-то. Днем мы вместе с дедом поливали огород, таскали воду из цистерн, лили на грядки; девочки помогали бабушке готовить в просторной кухне с пылающим очагом. После обеда все ложились спать прямо на земле. Клали большой брезент, который в другое время применялся для сбора оливок, и поверх брезента — одеяла. Простыни были все в дырах и заплатах, но на земле так хорошо спится, хотя, по правде, мы и не спали вовсе, потому что кругом заливались цикады, кудахтали куры, а собаки, те лаяли без передышки, поскольку через дедов участок пролегала тропинка, которой все пользовались, чтобы сократить дорогу, когда шли с полей в деревню. Мимо дома постоянно кто-нибудь проходил, и собаки, охрипнув от лая, едва не обрывали цепь.
Теперь там, где жили когда-то дед с бабкой, нет больше ни дома, ни тропинки. На расстоянии ружейного выстрела оттуда построены жилые кварталы с замечательными квартирами, по 22 миллиона лир каждая, — хотя черта с два они замечательные, скорее, похожи на тюрьму. Деревца не посадить, муравья не выкормить, в туалете и то спокойно не посидишь: все время кто-то стучится в дверь. И не поспишь, как бывало прежде, глубоко и безмятежно, потому что все время кто-то кричит и колотит сверху и снизу, справа и слева. Тех, кто проживает в этих квартирах, считают важными синьорами. А я все думаю о своей тетке Аделине, которая носит платок, а в сарае держит козу и нескольких кур. Соседи ее невзлюбили за то, что она не режет козу и кур; для соседей она не синьора, они с ней словом не обмолвятся.
Помню, тропинка, что тянулась возле дома, брала начало у дороги, шла мимо крыльца, потом через гумно и кончалась у школы почти в центре Модуньо. Время от времени по ней кто-нибудь проходил: старик с вязанкой хвороста за спиной, старушка с пучком травы, пара охотников, местный придурок, что и летом, и зимой разгуливал босиком. Все они задерживались около дома, садились на каменную лавку и наслаждались летней погодой, прохладой камня и навеса, увитого виноградом.
В любой мало-мальски значимый с политической или социальной точки зрения вопрос систематически вмешивается церковь. Время от времени она выдумывает новые средства для того, чтобы нас парализовать, сделать несчастными, запуганными идиотами. Павел VI издал указ по вопросу о контроле над рождаемостью. Снова папа лезет не в свои дела. В 1969 году он строжайше запретил пользование противозачаточными таблетками. По его мнению, к половой связи следует прибегать только для того, чтобы плодить детей — этаких придурков, которые должны обожать его, выглядывающего, словно филин, из палат Ватикана. Эти святоши могут втоптать в грязь самое прекрасное, и уж меньше всего они заботятся о том, чтобы люди были счастливы.
Пугают. Опять пугают. Размахивают жупелом увольнения и безработицы для трех тысяч рабочих и служащих. Разработан план реконструкции предприятия с одновременным сокращением штата сотрудников с 3400 до 2100 единиц. Предприятиям нужны деньги — или деньги, заявляют они, или мы выбросим на улицу две тысячи человек. Государство скребет свою вшивую голову в раздумье, где взять деньги, но, к сожалению, деньги на земле не валяются, тогда государство влезает в долги или же облагает дополнительными налогами все тех же болванов. Добытые таким образом деньги поступают промышленникам, вследствие чего неожиданно появляется работа, но ненадолго. Когда правительственные субсидии истрачены — либо вышла осечка с капиталовложениями, либо деньги перекочевали в Канаду, — снова начинается шантаж: деньги на стол, или мы вышвырнем три тысячи человек. А мы, рабочие, стоим как дураки и смотрим, что будет дальше. Нас берут за шиворот и ставят к станку, потом оттаскивают и выставляют вон, потом снова волокут к станку.
Мое рабочее место — двенадцать квадратных метров площади. Мой станок. Мой шкаф. Мои полки для инструментов. Моя стружка. Моя ругань. На работе я злой, как бешеная собака… Рычу, завидев приближающуюся «белую тень». Требую, чтобы меня оставили в покое. Все делаю сам и решаю за себя тоже сам. Огромное это удовольствие — самому решать, когда, сколько и как работать. Поработать, сесть, встать, определить время обработки детали (они-говорят-мы-покупаем-и-продаем-сырье-но-я-говорю-плевал-я-на-ваши-махинации), сесть, почесать в затылке, внести, если нужно, поправку в чертежи…
На мелких фабриках все было по-другому, не так монотонно, серо и уныло, как здесь, где приходится делать тысячу одинаковых деталей. Там при сборке станка все операции выполняешь сам, от начала до конца, режешь, строгаешь, обтачиваешь, отпиливаешь, собираешь, мастеришь инструменты или привариваешь к ним накладки из сверхпрочных сплавов.
РА-БО-ТАТЬ. Они хотят, чтобы я ползал на карачках. Я, может, и поползу. Но тогда пусть боссы хоть немного поинтересуются мною, моими детьми, женой, нашим здоровьем, а то они лишь швыряют мне гроши и умывают руки. Человек возвращается домой и будто попадает в паутину. Проблем тысячи.
Сегодня вечером, в самом конце телевизионного журнала, после потока новостей со всех фронтов (скандалы, убийства, ограбления, изнасилования, падение лиры, повышение цен…) наступает очередь завершающего удара: появляется всем известная тупорылая башка на спортивных плечах и демонстрирует последние газеты с заголовками на полстраницы: «РИВЕРА УСТАЛ!», «РИВЕРА УХОДИТ!», «РИВЕРА ПОКИДАЕТ СПОРТ!».
Вот она, самая настоящая национальная трагедия. Падение лиры, чудовищные скандалы, закрытие фабрик — все ничто перед Риверой, который собрался покинуть спорт. А я так думаю: чем скорей уберется куда подальше Ривера вместе с такими же, как он, бездельниками, тем лучше. Хоть бы вообще их не было, паразитов. Что мне Ривера и вся миланская команда, арбитры и эти сукины дети спортивные журналисты, которые по окончании телевизионных новостей, где говорится о подлинных человеческих трагедиях, сообщают нам: Ривера, мол, закапризничал, и делают это с такими похоронными физиономиями, будто объявляют о конце света. Уходит, ну и пускай катится. Он себе играет, делает деньги, и девицы от него сходят с ума. А мы, рабочие, вкалываем, по-настоящему отдаем концы у станков, и на нас никто смотреть не хочет. Тем более девушки. Собственные жены и те нас едва переносят, ведь мы раньше времени впадаем в детство.
Ищем в старой части Модуньо помещение, пригодное для собраний. Возле какой-то двери на верхотуре лестниц и переходов читаем объявление о сдаче в аренду. Спрашиваем у женщины, видно собравшейся делать домашнюю лапшу, чья это комната. Она говорит, что хозяин такой-то и он (как и следовало ожидать) в Америке. Ключи у нее. Женщина отпирает замок. Перед нами старая, неубранная комната, вся в пыли, источенный жучком стол, замызганный белый буфет, рваная обивка на диване. Женщина нараспев сообщает: тут проживала целая семья — муж с женой и одиннадцать детей. Одиннадцать. Какие ж они все были грязные, уж такие грязные, страх какие грязные. Маленькие спали в ящиках шкафа. Даже стульев у них не было. Я сама своими глазами видела, как детишки ловили на стенах мух и ели.
Сегодня я попросил отгул. За свой счет, понятно. У начальника сразу же недовольное лицо. Я ему говорю: чего вы дуетесь? Мне же за этот день не заплатят, стало быть, что хочу, то и делаю. Ясно? Ви — нет платить денги мне, я — посылайт вас к чертофа мать! У меня срочное дело, отложить которое я не могу. Сделайте скользящий график, придумайте еще что-нибудь, только не путайтесь под ногами.
Опять работать. Все время работать. Мой отец, бывший карабинер, сейчас на пенсии. Ушел на отдых, чтобы спокойно пожить, но не хватает денег. Каких только профессий он в жизни не перепробовал, да и по сей день работает, чтобы свести концы с концами. Родился отец в 1910 году. Торговал оптом макаронами в лавке на улице Принчипе Амедео, потом бросил, потому что убыточно. Сдачи, что ли, больше давал, чем надо! Пошел мойщиком вагонов на железную дорогу, мыл окна и сортиры, чтобы прокормиться, — он, всеми уважаемый у нас в округе сержант. Зато, возвращаясь домой, много чего приносил: газеты, журналы, еженедельники, забытые в вагонах пассажирами с Севера. Из этих-то газет я и набирался культуры. А еще он держал развлекательное заведение с бильярдом, настольным футболом и прочими штуками, среди которых были автоматы с американским названием slot-machines[13]; их потом вовсе убрали. В отверстие нужно было сунуть двадцать лир и потянуть за железную рукоятку сбоку. Если на вращающихся роликах при этом появлялась комбинация: три апельсина, три вишни и три колокольчика, — из дырки сыпались деньги; если же набирались три прямоугольника с надписью MINTS[14], высыпалась целиком вся касса, то есть около полутора тысяч лир. Тогда это были деньги.
Потом он служил «дамой-компаньонкой» при богатом, но очень больном старике; потом, когда поспевали оливки, подряжался на сбор оливок; потом работал сторожем на строительстве. Бывало, темной ночью я возил ему на велосипеде ужин куда-то на окраину Модуньо. Вокруг его костра вечно крутились десятки собак, он звал их по кличкам: Чу-чу, Блэк, Дьявол, Кеккина, Мерзавка, Мустафа и т. д. Я бы оставался у него и на ночь, потому что такая жизнь мне нравилась, но негде было спать. Там стояла хижина, где гулял сквозняк и, несмотря на лето, по ночам было холодно. Поверх затоптанной травы повсюду валялись доски, гвозди, куски застывшего раствора, цемент, обломанные ветки вишен, только одно какое-то дерево еще торчало из земли. Тогда, десять лет назад, окраины Модуньо сплошь представляли собой огромную стройплощадку — повсюду шло строительство. Мы с замиранием сердца наблюдали за этими переменами, но теперь (когда у нас открылись глаза) мы понимаем, что там ломалось и уничтожалось больше, чем возводилось. Так вот, я оставлял отцу ужин, а сам на велосипед — и домой по едва освещенным переулкам. В сумке гремели вилки с ложками, стаканы, алюминиевый котелок.
Больше месяца прошло со времени дорожной аварии. Дни летят быстро, а по мне, еле-еле тянутся. Никто не удостаивает меня своим посещением. Поначалу, правда, приходило много народу, даже чересчур, и все больше из любопытства; честно признаться, визитеры действовали на нервы. Ночью сплю мало, а если засыпаю, то все время что-нибудь снится. Доктор говорит, я выздоравливаю, только нужно опасаться сквозняков. А о море и вовсе надо забыть. Говоря это, он смотрит на меня с состраданием, так как ему известно, что я — морская душа. Помню, отец каждый год, хоть тресни, вывозил нас на побережье. Разве можно выкинуть из памяти море близ Саленто? Вода чистая и прозрачная до того, что по утрам видно все, что делается на дне: маленькие юркие рыбки, колышущиеся водоросли, крабы, ковыляющие по песку. И когда я жил у деда с бабкой в деревне, тоже ездили к морю, правда, за весь сезон всего раз десять, по воскресеньям. Отправлялись в повозке ранним утром, когда деревня еще досматривала сны, и выезжали на дорогу к Палезе. Дорога в ту пору была еще не асфальтирована. От копыт нашего мула поднималась страшная пыль, а мы сидели в телеге среди корзин и горшков. От одного исходил великолепный аромат кролика, запеченного с чесноком и розмарином. Дед и дядя Марко поочередно брали вожжи; я как безумный поедал груши. Бабушка и тетки в своих платках напоминали индийских женщин. На полдороге был спуск под названием «лама». Мул резво бежал под уклон, и дед ставил тормоз. На подъеме было хуже: мул обливался потом, подковы высекали из камней искры. По обеим сторонам дороги тянулись валы из красной земли. Поодаль бросали тени на колею гигантские рожковые деревья, похожие на соборы.
Добравшись до моря, мы ставили телегу у самой воды на «мексиканском» пляже. Распустив оглобли, хорошенько привязывали мула к колесу и, чтобы стоял смирно, вешали ему на шею мешок с зерном. Потом накрывали свободные оглобли брезентом, тем самым, что служил для сбора оливок, и получалось укрытие от солнца. Иногда по воскресеньям пляж заполняли телеги с такими же задранными оглоблями и сотни женщин, стариков, детей бегали с ведрами к морю и обратно — таскали соленую воду для варки макарон; кто собирал сушняк, кто бултыхался в море, кто, незаметно подкравшись к человеку, занятому ощипыванием курицы, опрокидывал ему на голову ведро воды, кто пытался стянуть трусы с зазевавшегося.
Мы всей толпой купались, бегали в море и обратно, визжали, кричали и походили на индейцев. Даже дед, и тот лез в воду. Помню, на нем были коричневые шерстяные трусы; ему приходилось постоянно их поддерживать, чтобы не спадали. Бабушкин купальный костюм напоминал ночную рубашку, которая в воде топорщилась, напоминая колокол. А у теток были красивые красные купальники, да и сами тетки были что надо: кровь с молоком, цветущие, веселые, смешливые.
Жили мы тогда гораздо веселее, хотя, может, и беднее. Хохот стоял по любому поводу. Работали, правда, до седьмого пота, но жизнь текла спокойно, потому что никто не приставал, не требовал отчета; ты если и вкалывал как лошадь, то ради самого же себя. В ту пору я многого еще не знал и не понимал: так, я не заметил, что кончилась война, и в доме пользовались ее атрибутами, например, отруби из мешка черпали военной каской, а инструменты — плоскогубцы, молоток, пила — хранились в ящике с английскими надписями. Мне потом объяснили, что ящик этот из-под гранат. Во время бомбежек вся семья пряталась на кухне под каменной, а точнее, высеченной из камня лестницей, которая вела на террасу. Там наверху всегда ощущалась какая-то таинственность: слышались шорохи и прочие непонятные звуки, водились мыши, змеи, стояли корзины зеленоватого цвета, наполненные бобами и горохом, по которым ползали армии тараканов, муравьев, прыгали воробьи, носились ласточки и стрижи, а надо всем этим порхали бабочки, — словом, помещение сильно смахивало на Ноев ковчег.
Чего только не было у деда с бабкой в деревне! Фруктов — завались. Возле дома росли два высоченных тутовых дерева. Я, как Тарзан, забирался на них полуголый, в домотканых трусах, объедался плодами. Слезать было труднее: внизу вечно паслась привязанная к стволу коза, которая ощипывала миндальные листья. Все водилось в хозяйстве у деда с бабкой: скотина, зелень, фрукты, — и жизнь текла, словно на острове. Само собой, случалось и поволноваться: то град, то загорится что-нибудь, то воры влезут. Однажды утащили мула и пару овец, прямо из-под носа увели. Ворам пришлось пройти перед самой спальней, но дед с бабкой, намаявшись за день, спали как убитые. А что мы имеем теперь? Рабы, да и только. Обитаем в каких-то коробках, совсем одичали, и плевать нам и на приличный язык, и на приличные манеры, зато мы всегда готовы вцепиться друг другу в глотку. Мы — рабы колбасника, зеленщика, мясника, всех и всего. Хозяева нарочно согнали рабочих жить в эти огромные дома, чтобы сподручнее было нами помыкать.
Старый бильярдный зал. Большое помещение с потолком в виде бочки. Через эту бильярдную прошел весь цвет местной молодежи. И продолжает проходить. Мы называли ее «матушкой», потому что унылыми, скучными вечерами она сердечно открывала нам свои двери. Когда мы собирались вместе и гадали, куда пойти, то решение было известно заранее: к «матушке»!
Сегодня, спустя десяток лет, мне снова довелось очутиться в этой бильярдной. Здесь ничто не изменилось. Та же атмосфера. Впрочем, настольного футбола больше нет: невыгодно. Вместо него игральные автоматы. Монета в сто лир легко проскальзывает в щелку. Мне говорят, давай, Томмазо, становись. Отнекиваюсь, отвечаю, что некогда, что уж лет десять не играл, каково будет со мной партнеру… Слово за слово — уговорили. Я, естественно, проигрываю. У моего товарища получается лучше, но и он в конце концов проигрывает — делает те же грубые ошибки. Идем платить. Сколько с меня? Чепуха! «Всего-то сто пятьдесят лир», — отвечает хозяин. Небрежно вытаскиваю деньги. Что такое по сегодняшним ценам сто пятьдесят лир? Вот проиграй я их лет десять назад, был бы другой разговор. Помню, проигрыш означал потерю репутации, а победитель задирал нос. Даже пятьдесят лир по тем временам были порядочной суммой. Проигрывать было страшно, игрока не покидала тревога: как-никак целых сто лир. Ты приходил отдохнуть и развлечься, а вместо этого портил себе вечерний отдых. Жили убого, жадничали, но не от скупости, а лишь по бедности. От нищеты.
У нас в Италии, если ты не проф., не д-р, не адв., — грош тебе цена. В школе, хочешь не хочешь, меня научили писать собственное имя. А культурой я овладел сам, по газетам. Набирался сознательности, читая всевозможные листовки с прокламациями, которые внепарламентские деятели распространяли у фабричных ворот, затем перешел на газеты политического и культурного содержания. Подумать только, лучшие мои годы прошли на ненавистной школьной скамье, в классе, где всякая бестолочь, еще бестолковее меня, допрашивала учеников так, словно те совершили убийство. Я жил в страхе перед экзаменами, в страхе перед табелем, в страхе перед отцом, который бил меня до крови, в страхе, что все лето придется зазубривать по учебнику дату рождения Нино Биксио, формулу сернокислого натрия или латинские выражения типа «разбитая армия». При мысли об этом хочется страшной мести: кто возвратит мне прекраснейшие годы, те ясные весенние дни, когда за окном чирикали воробьи, пахло ромашкой, а сосновые ветви заглядывали прямо в класс, словно приглашая вскарабкаться на самую макушку сосны. Помню, в третий раз провалившись на экзамене, я ощущал себя полным ничтожеством рядом с моим другом Себастьяно (кто знает, где он теперь, этот круглый отличник?), который ответил на все вопросы. А я вот провалился и чувствовал, как на голове вырастают ослиные уши, и сгорал со стыда. Ничего не хотелось — ни играть, ни за стол садиться. До сих пор живут во мне эти раны, хотя я сам себя уговариваю: мол, к чему тебе ученость, Томмазо, ты уже вырос, тебе под сорок, у тебя жена, дети. Себастьяно всегда учился хорошо — котелок у него варит; отец его был служащий, мать — учительница, один из братьев — монах, сестры работали в театре. Меня же отец драл нещадно, да еще приходилось помогать матери мыть полы, посуду; убирать со стола и нянчить малышей (из нас четверых я старший) — словом, доставалось как следует.
Ко мне будто прилипло прозвище «осел». ОСЕЛ! ОСЕЛ! ДУБИНА! ПОЙДЕШЬ У МЕНЯ ЗЕМЛЮ КОПАТЬ! Отец и в самом деле послал меня в сельскохозяйственную школу, где тоже не ученье было, а мученье. Потом я на токаря учился. Слышали бы вы, как мне расхваливали эту специальность, как будто я не в токари шел, а во врачи: «Золотое ремесло, деньги лопатой можно грести». Тоже мне, золотое! Дерьмо грести, а не золото. Много шума из ничего…
На часах 21.30. Мои заводские товарищи еще вкалывают в этих смрадных цехах. Порой завод похож на дракона, исторгающего пламень, дым, искры от кремниевых дисков. Там, в чреве завода, испытывается пневматическая система клапанов; стучат сердца в ожидании пробного взрыва, о котором оповещает рев сирены. Бедные товарищи мои, рабочие, томятся в этом аду, а я сижу дома — правда, с переломанными ребрами, изнывая от боли и тоски, но зато дома.
Сегодня утром, 3 марта, мне пришла повестка явиться в НИСБ на обследование. С ума они там, что ли, посходили! Хотят, чтобы я, весь битый-ломаный, садился в автобус и ехал в Бари, а там от площади Кьяйа добирался до Старого города, где расположено периферийное отделение НИСБ, — итого тридцать четыре километра. К тому же надо подняться по лестнице, пробиться сквозь толпу, получить номер и ждать своей очереди в этой конюшне на улице Палаццо. Окна там настежь, повсюду сквозняк. А они будут проверять, здоров ли я, потому что спят и видят, как бы поскорее загнать человека обратно на работу, чтобы он там производил материальные блага для своей любимой родины. Я своему врачу так прямо и сказал: гробить себя не стану. Хотят обследовать — пускай приезжают ко мне на дом.
Ничего не пойму. Никсон едет в Китай, и его принимают со всеми почестями. Того же Никсона выставляют из Белого дома за уотергейтский скандал. Маоисты встречают этого палача по-королевски. Нашему чемпиону от политики — Фанфани, — нашему сокровищу вонючему, был тоже оказан в Китае пышный прием. Представляете — Фанфани! И где — в стране с противоположной идеологией! Не иначе как Мао впал в маразм, вот и сговорились.
Завершился съезд ИСП. Послушать этих господ — будто ангелы с трибуны выступают: мы хотим радикально изменить всю страну, обновить ее, очистить и т. п. По-моему, чтобы эту страну обновить, необходимо первым делом посносить добрую половину недвижимости: незаконно построенные дома, заводы, которые нас отравляют и душат; следует взорвать к чертовой матери миллиарды кубометров бетона. Не говоря уже о чистоте и порядочности самих людей. Для них не хватит всех тюрем страны, и придется под тюрьмы реквизировать школы, учреждения, детские сады.
Сегодня 19 марта, день святого Джузеппе. Мой отец как раз Джузеппе. Всех Джузеппе здесь называют Пеппино. Сегодня во всех городах и деревнях вспыхнут костры в честь святого Джузеппе. Это древняя традиция. Так встречают весну, которая через два дня вступит в свои права. Раньше в огонь бросали обрезанные сухие ветви и сучья. В деревнях с самого утра на каждом углу складывают огромные кучи сушняка. Каждый несет что может: старые доски, виноградную лозу, длинные стволы олив, миндаля. Вечером кучи поджигают, и все окрестные жители рассаживаются вокруг костра и поедают жареные бобы и чечевицу — так велит традиция. В конце праздника, когда дрова прогорят, остаются крупные тлеющие головешки, и те, у кого в доме еще есть жаровни, спешат воспользоваться этим даровым топливом. На следующий день от огромной кучи дров остается лишь серое пятно на земле. Золу и ту прибрали к рукам, а как же — она содержит много калия, ею хорошо удобрять помидоры и прочие огородные культуры.
Когда я был помоложе, мы с друзьями ходили из деревни в деревню поглядеть, у кого костер больше. Костры, бывало, складывали высотой метров в пять, и пламя доставало до колокольни. Вокруг радостно скакали детишки; на стульях почти у самого огня сидели старухи, расставив ноги и наслаждаясь жаром; поодаль, на углу улицы, стояли девушки и любовались искрами; мужчины пили у костра вино — согревались снаружи и изнутри. Однажды, не помню, в какой деревне, местный дурачок (из тех, что на поверку оказываются самыми хитрыми) бросился в огонь, чтобы его там сфотографировала группа туристов, собравшихся со своими фотоаппаратами вокруг костра. Однако с ним ничего не сделалось, он целехонький выскочил обратно и с хохотом заплясал по площади, словно бесноватый.
Новости в газетах все мрачнее и мрачнее. Лира падает, валится, рушится, тонет в нечистотах; курс доллара дошел до тысячи лир. Разные там министры появляются на телеэкране с постными физиономиями, объясняют, что еще есть надежда снизить потребление и увеличить производство, иными словами, нам необходимо лишить себя хорошей тарелки макарон, а у них будут продолжаться приемы и обеды стоимостью в сотни миллионов; нам необходимо увеличить производство, а им придется увеличить спекуляцию и мошенничество. И это подтверждается фактами: скандалы, взятки, увеселения в высшем обществе, икра, шампанское и зеленые столы, где господин такой-то из высших финансовых кругов спускает за вечер ни много ни мало — шестьсот миллионов. Когда я был еще молодой, к нам в деревню на рождество привозили из Лечче что-то вроде рулетки. Проиграв тысячу лир, я готов был повеситься с отчаяния. И знаете почему? Потому что тысячу лир мне платили за целую неделю работы, причем в отдельные дни приходилось трубить по двенадцать часов (и это не в девятнадцатом году, а менее пятнадцати лет назад).
Мой старший сын весь извелся. Его страдания начались с рождением младшего брата. Они погодки: одному три, другому четыре, и старший дико ревнует, стоит матери приласкать младшего. По ночам мы подкладываем ему бумажные пеленки, а маленькому промокашки уже не нужны. Я давно подметил, что старший обезьянничает, во всем подражая малышу: тоже тянется к матери, как и его пухленький и впрямь более симпатичный братик. Это напоминает мне случай из детства: мой младший брат неизменно пользовался любовью родственников, а меня в расчет не принимали еще и потому, что я был замкнутый, задумчивый. Тогда я стал во всем подражать братишке: капризничал, орал, как Тарзан. Однажды дядя не выдержал и влепил мне хорошую оплеуху, после чего, обернувшись к отцу, сказал: «Этот обалдуй уже большой, а ведет себя как младенец». С тех пор я смирился: лучше сидеть в тени, чем получать оплеухи, на которые мой отец и без того был слишком щедр.
После цветения на ветках миндаля появляются первые, такие светлые и нежные листочки. Черешня пока не цвела, но на ней уже набухли розовые бутоны. Удивительное растение — черешня. Она не требует особого внимания, не нуждается ни в обрезании ветвей, ни в большом количестве воды — ей вполне достаточно той, что капает с неба. А ягодами объедаешься — кидаешь в рот одну за другой, одну за другой. Когда созревает черешня, даже воздух делается красным. Мой отец, карабинер, проводил весь свой отпуск (а отпуск у него тогда, четверть века назад, был больше месяца, не то что я, машиностроитель, еще лет шесть назад имел каких-то десять дней) вместе с семьей у деда с бабкой в деревне. Когда поезд прибывал в Бари, на площади Рома, у фонтана, стояли крестьяне с корзинами и выкрикивали: «А вот черешня! Кому черешни!» На старом вокзале в Модуньо нас уже поджидал дядя с телегой, чтобы отвезти в деревню. В те времена Модуньо был красивый, непохожий на другие поселок — хоть и грязный, но не испорченный, как теперь, железобетоном. Пока мул тащил телегу по заваленной нечистотами улице, над нами носились миллионы мух. Однако в доме царили чистота и порядок… Тетки мои забавы ради цепляли черешню себе за уши и за пуговицы.
Сегодня, 20 марта, купил газету и на первой странице читаю написанное крупными буквами: «Стоимость лиры вновь поднялась на 3,7 процента от доллара». Вчера еще лира падала, рушилась, проваливалась; сегодня ее статус магическим образом восстанавливается. Главная заслуга в этом, разумеется, принадлежит съезду христианско-демократической партии. В огромном зале съезда над многочисленными венценосными головами порхают святые с ангелами, поэтому все, несомненно, идет к лучшему. Когда наступит очередь съезда ИКП, вот увидите, та же лира скатится на самую низкую ступень, как это произошло с франком, когда левые собрали на выборах 51 процент голосов. Все рассчитано, ничто не происходит случайно; сколько голов, столько ушлых умов. Хозяева + ХДП + Ватикан заставляют нас плакать горькими слезами в отместку за «жаркую осень», за 12 мая, когда проголосовали в пользу развода, за 15 июня и так далее, за самую малую победу левых сил и рабочего класса. С этой целью они прибегают к стратегии напряжения, безработице; бензин на вес золота, цены взвинчены до безумия, и, словно этого мало, постные рожи по телевизору продолжают требовать от нас новых усилий и жертв. Ради ясности, чистоты в своем доме и ради справедливости мы действительно готовы на любые усилия, в противном случае одолевают сомнения: зачем все это нужно и кому? Неужели ради дальнейшего откорма большой свиньи?
Иногда слышу в свой адрес презрительное: вон, мол, «поэт» наш пошел. Мечтатель! А я думаю: черт вас побери, ведь все люди на свете мечтают. С той разницей, что у одних мечты злые и эгоистичные, а у других — добрые и человеколюбивые. Что ж здесь плохого?
Сегодня, 20 апреля, спустя почти три месяца после происшествия с автомобилем, я впервые выхожу на работу. Едва переступаю порог цеха, как жуткая вонь — какая-то гниль вперемешку с серой — забивает мне носоглотку, и через несколько минут весь чистый воздух, которым я дышал эти месяцы в общественном парке, выветривается из легких. Увидев меня, начальник цеха впадает в страшный ажиотаж, ему не терпится поставить меня на рабочее место. Видать, все три месяца носился с этим желанием. Пытаюсь от него улизнуть, ищу выхода на волю, но не меньше сотни рук хватают меня за спецовку и волокут к станку. Оттуда летят искры, пыль с водой, а я стою расставив ноги, в точности как три месяца назад. Заложило нос, свербит в горле, память перебирает все рекомендации по поводу затемнения плевры, которое у меня осталось и навряд ли теперь пройдет: не потеть, избегать пыльных помещений, газа, дыма…
Оказывается, завод по-прежнему борется за новые трудовые договоры. Я уходил — была борьба, вернулся — все еще борются. Профсоюзный лидер сообщает для общего сведения: сегодня забастовка с 10.00 до 11.00. Замелькали в черных от работы руках колоды карт; большие консервные банки, пластмассовые ящики, бидоны превращаются в импровизированные стулья, отполированная поверхность разметочной плиты становится великолепным столом, по которому можно звонко шлепать неаполитанскими картами. Заветный час забастовки напоминает прогулку заключенных в тюремном дворе. А я иду за территорию завода, подальше, где нет асфальта, собираю всякие пахучие травинки: дома покрошу в салат.
Наши трудовые договоры все еще висят в воздухе. Бастуем с ноября прошлого года! Эта долгая, напряженная борьба длится уже много месяцев.
Сегодня вечером, выйдя с работы, решаю прокатиться в Бари. Рейсовый автобус в мгновение ока заполняют пассажиры — рабочие и служащие предприятия, где я тружусь. Следующая остановка у консервного рыбозавода. Там почти что одни женщины. Многие из них — немолодые, грузные, с землисто-серыми, унылыми лицами. Их появление в автобусе сопровождается тяжелым запахом тунца пополам с крепкими духами, что вызывают тошноту. Бедняжки, чтобы перебить тунцовую и сардинную вонь, льют на себя флаконами дешевые духи — по две монеты за литр. Самое интересное, что вечером по телевизору показывают рекламу упомянутой консервной фирмы, где все блестит и сверкает: бесконечные пляжи с золотым песком, морские глубины с таинственным колыханием водорослей, бегущие наперегонки девушки, похожие на лилии. Нередко при сильном ветре рыбная вонь доносится до нашего завода.
Злосчастные земли Юга! Они нуждаются в человеческой щедрости, любви и преданности. Однако наши политики только осыпают нас словами, тысячами ничего не говорящих слов. Я, может, что-нибудь не то скажу, но, по-моему, многие наши правительственные деятели-южане — подлинное бедствие для Юга.
Первое предприятие, куда я устроился работать в Бари, представляло собой длинный и узкий барак. Мой ветхий токарный станок с приводными ремнями располагался в угловой части барака, в метре от стены, откуда торчали длинные ржавые гвозди, а на них чего только не висело: болты, шестерни разных размеров, покрытые плотной, словно подвенечное платье, застарелой паутиной, масленки, гайки, тиски… К стене были прибиты технические таблицы, фигуры всевозможных святых, среди которых главенствовал святой Николай. Бывало, вечерами, когда хозяин уезжал к клиенту собирать какой-нибудь механизм, я чувствовал себя потерянным среди старых чудовищных машин; тогда, опустившись на колени перед стеной с шестернями и фигурками святых, я плакал от тоски и молился.
Латук. Помню, в детстве мы поедали его в больших количествах. Выдернешь из земли, водичкой ополоснешь, да и набьешь себе брюхо на целый день. И никаких тебе болезней. Здоровье было хоть куда.
У бывших дружков-приятелей, с которыми вместе носился по дворам, появились титулы: адв., д-р, проф. Уважаемые люди! Встретившись на улице, они даже не взглянут на тебя. Было, впрочем, исключение. Один врач, увидев меня, остановил свою машину и крикнул: «Эй, Томмазо, ты куда? Поехали со мной, у меня еще пара вызовов, проводишь, поболтаем». Я, польщенный, сидел как кум королю в его просторной машине. «Пара вызовов» затянулась до полуночи. Этот подонок нашел на целый вечер бесплатного сторожа для своей машины. Теперь, когда на улице он кричит мне: «Эй!», я отвечаю: «Чего эй?» — и плюю ему вслед.
Сегодня ходил навещать Марию Трентадуэ. Ей 83 года. Родилась в Модуньо 20 сентября 1893-го, под знаком Девы, как она сразу же мне сообщила. Благодатная дева Мария! Довольно приятная старуха, глубоко верующая. Каждый год с колокольчиком в руках она обходит все дворы и перекрестки своего квартала, оповещая жителей о наступлении периода майских молитв. Домохозяйка. А раньше была художницей-вышивалыцицей, рисовала разные узоры — цветы, гирлянды и корзины с фруктами на целых километрах простынь, покрывал, подушек, одежд…
Росписью занялась случайно, лет пятнадцать назад. Изобразила что-то на старом кувшине, который хранился на чердаке и некогда предназначался для засолки оливок и бобов. Теперь из-под ее повылезшей кисти выходят дома с освещенными окнами, словно сделанные из крема и цукатов с ванилью, точь-в-точь как в сказке про Ганса и Грету, грациозные девочки-пастушки, застывшие в своем кукольном одиночестве, раскрашенные волшебные острова, плывущие между небом и морем, принцессы, объятые вечным сном, реки, ниспадающие с небес, факиры в чалмах…
Ее жизнь безмятежно течет в одном из старых домов в центре города. За день мимо дома проносятся тысячи автомобилей, грузовиков, мчащихся к соседним промышленным районам и теряющих по дороге железки и гравий. Старушка сидит, как и в былые времена, у порога своего дома и судачит с соседками, не обращая внимания на весь этот вертеп, игнорируя нашествие дымных, бетонных кварталов. Прислонив к стене расписные кувшины и холсты, женщины сушат их на солнце, которое насквозь пропахло горелой нефтью и серой, но они этого не замечают.
Мария пользуется эмалевыми красками и рисует на всем: на кувшинах и бутылях, утюгах, пластинах от рентгеновских аппаратов, кусках стекла, на картоне; если картон старый и гнутый, то она, чтобы сделать жестче, пропитывает его свечным воском. Гостя не отпустит, не попотчевав его прежде домашним печеньем «таралло», которым славятся эти места и которое, принято макать в вино; и стаканчик поднесет, и яблоко, и апельсин — чем богата, тем и рада. Муж ее, Пеппино, был крестьянином, обрабатывал свою и хозяйскую землю. Он частенько плачет, так как порядочный кусок его земельного надела оттягал ФИАТ. Плачет, потому что органы, ведающие индустриальным развитием, не разрешают ему ни продать землю, ни построить на ней что-либо, ни обрабатывать ее. Обидно — там некогда был маленький рай со всевозможными, очень редкими фруктами и даже действовала водонапорная башня, но теперь, по воле крупных шишек, пользоваться ею запрещено. Взамен Пеппино предлагают жалкие гроши, да и тех что-то пока не видать. Старик утирает платком лицо, но слезы текут снова и снова.
Экономический бум. Едва в наших карманах завелись лишние пять лир, как мы словно обезумели: холодильник, цветной телевизор, автомобиль, брильянтовое колечко невесте, шубка жене, горы векселей… Словом, потихоньку стали превращаться в вонючих мелких буржуа. Вот, оказывается, цель нашей революции — подражание буржуазии. С той разницей, что у нее имеются средства, а у нас нет. Хозяин время от времени дает их тебе понюхать и даже полизать, но ты потом дорого за это заплатишь. Нам следовало быть осторожнее, лечить застарелые раны и бороться против вечной несправедливости.
Теплым апрельским вечером я отправился к живущим неподалеку родственникам купить немного вина. Они как раз ужинали возле зажженного очага; на столе вино, вареные яйца, домашний хлеб. Пришлось и мне выпить через силу стакан вина, хотя на голодный желудок не хотелось. Я спросил, нет ли у них сырых яиц, но мне ответили, что все отдали племяннице. Мы стали говорить о хороших и плохих несушках и решили, что плохую всегда можно вылечить. Если курица разбивает и пьет собственные яйца, ее следует окунуть в холодную воду и там подержать. Если яйца получаются мягкими, то бишь с нехваткой кальция, достаточно подмешать в корм хорошую дозу известки или туфа. Если же яйцо кривое и никак не выходит, нужно порченую курицу хорошенько связать и несколько раз скатить с лестницы: яйцо выправится и легко выйдет.
Кстати о курах. Вчера к вечеру мы пошли на ближнюю ферму за сыром и свежими яйцами. Сыра не оказалось, а яйца отдавали по сотне лир за штуку. Подорожали яйца, сказала жена. Я ответил, что это, наверно, в порядке вещей, мол, все дорожает, значит, и яйца должны подниматься в цене.
Продолжается борьба вокруг закона об аборте. Это чрезвычайно болезненный вопрос. Христианская демократия и Ватикан охвачены кризисом и ни на что не способны, но сдаваться не желают и не понимают, что необходимо двигаться вперед, а не назад. Вчера наверху в очередной раз воспользовались голосами фашистов, чтобы протолкнуть закон в своей формулировке. Эти недоноски понятия не имеют о страхах, об ужасном предчувствии, что у жены в нужное время не появится обычное недомогание; не ведают мучений и бессонных ночей: ведь если не появится — значит, надо добывать кучу денег. Но это цветочки по сравнению с тем риском, которому подвергаются женщины, попадая в руки «матушек-специалисток», выскабливающих внутренности, словно стены дома во время ремонта. Ты живешь в постоянном кошмаре, то и дело с надеждой вглядываешься в лицо жены. А дни летят. По ночам тебя мучит бессонница, больше всего на свете хочется стать импотентом, и ты в бессильной злобе проклинаешь всех святых и весь этот сброд мерзавцев, консерваторов, лицемеров и мошенников.
Вот уже несколько месяцев группа молодежи ищет помещение с намерением приспособить его под культурный центр, где можно собраться, поговорить, поспорить, принять какое-то решение, дабы сдвинуть с мертвой точки эту страну, которая страдает и не умеет выразить свои страдания. Но все без толку. Одно помещение обойдется чересчур дорого, другое расположено слишком далеко, третье — какой-то сарай, и переоборудовать его надо за свой счет. А тем временем всякие дерьмовые спортивные общества получают лучшие, удобные помещения в самом центре. На дверях вешают полосатую афишу с нарисованным ослом или петухом, а под ней надпись: «Клуб „Голубой петух“», «Клуб „Зеленый апельсин“» или что-нибудь в этом роде.
Сегодня, слава богу, пообедали, говорит жена. Вчера мы с ней собирали дикий цикорий. Потом сварили его, полили настоящим оливковым маслом, и получилась вкусная и здоровая пища. Приправив салат, я тщательно облизал бутылочное горлышко — ни капли не должно пропасть. Так поступал мой дед, так же делает мой отец, вот и я выучился. Это не из скупости, а из уважения и почтения к маслу, такова традиция.
На набережной в Палезе торгуют рыбой и всякой прочей морской живностью. Есть здесь и черные ракушки из Таранто. Спрашиваю, почем кило, говорят: тысяча лир. Я так и обмер: на эту всегдашнюю пищу бедняков взвинтили цены, как и на другой бедняцкий продукт — картошку. Покупаю полтора килограмма. «Настоящие, прямо из Таранто», — твердит рыбак. Уж я-то поел улиток на своем веку, особенно в родительском доме: мать частенько готовила их с соусом. Иногда я вдруг вспоминаю нашу дымную кухню. Мать любила все жарить: перец, баклажаны, цикорий, цветную капусту, картошку, артишоки; водилось и мясо, жесткое, с душком, при случае мать швыряла его прямо в лицо скупердяю отцу. В те времена пища была простой и дешевой. Теперь мы снова бедные, но вдобавок избалованы. Деньги больше ничего не стоят, цены на мясо немыслимые, а картошка, зелень, ракушки, скромные кильки и треска стали дорогим удовольствием.
Воскресенье. Спортивный комментатор в послеобеденной передаче, весь дрожа от возбуждения, будто в него бес вселился, сообщает минута за минутой о ходе футбольных матчей. Ерзает на стуле, волнуется. Его голос становится истинно драматическим, когда он узнает, что на таком-то стадионе коренным образом изменилась ситуация. Смотреть противно. Плюнул и выключил телевизор.
Сегодня, ближе к вечеру, почти случайно оказался я на площади в Каннето. А случайно потому, что всегда готов променять любую толпу на тишину и покой. И вижу: перед помещением Итальянской компартии возводят помост или, вернее, трибуну — красные флаги, плакаты (чтобы прикрыть ветхий, расшатанный стол) с серпом и молотом желтого цвета на красном. В это время на полной скорости влетает, по-сумасшедшему сигналя, красная машина. Что случилось? Ничего особенного, объясняют мне. Просто какой-то тип купил себе новую машину и теперь желает привлечь внимание общественности к своему приобретению. Строительство трибуны не прекращается ни на минуту. Здесь вскоре состоится выступление двух новых членов муниципалитета от компартии, которые публично поблагодарят население за недавнее избрание на эту должность. Повсюду происходят изменения в административных органах, и страна понемногу облачается в красное…
Уже апрель. Пролетели первые три месяца этого года, и юная, нежная весна успела повзрослеть, распахнулась, бесстыдница. С деревьев облетели цветы, и появились упругие листья; зимние праздники с карнавалом давно позади. Карнавал я видел только с балкона: по улице прошли две-три жалкие маски да несколько ребятишек, вырядившихся, как идиоты, в костюмы Зорро и д’Артаньяна. Какое отношение имеют эти костюмы и маски к нашим южным традициям? Хорошо помню прежние маскарады, когда мы одевались животными: волками, лошадьми, поросятами, ослами… Или ведьмами и колдунами. Наряжались все от мала до велика, кто во что горазд. Появлялись даже личности с ночными горшками на голове. А кто-то держал под мышкой котелок, из которого поминутно вытаскивал большой вилкой спагетти и смачно чавкал. Ходили из дома в дом — разыгрывали сцены, пели, плясали, после чего хозяева обычно выставляли печенье, вино, сушеный инжир. А если не выставляли ничего, то получали от нас на орехи.
В Малье, что неподалеку от Лечче, в 1960 году, когда мне еще и двадцати не было, устроили сумасшедший карнавал. На улице толпился всевозможный народ. Мы швыряли конфетти в лицо прохожим, особенно девушкам, и те притворялись, будто сердятся, хотя сами радовались, что на них обращают внимание. Бывало, запихивали им конфетти под кофточку, и девчонки с визгом вырывались.
Торговцы открытками и табаком выручали в эти дни кучу денег. Цветы продавали на килограммы. Мальчишки подбирали с земли самые чистые и тоже зарабатывали. Тротуары были засыпаны разноцветными кружочками бумаги; всеобщее веселье не знало границ. Больше всех осаждали, разумеется, первую красавицу. А она, раскрасневшаяся, счастливая, отбивалась от нас, ребят, когда мы, якобы желая оградить ее от чрезмерных посягательств или стряхнуть с нее конфетти, пользовались случаем, чтобы шепнуть ей на ухо довольно смелый комплимент или на миг прижать к себе это свежее, разгоряченное тело.
Кроме конфетти, кидались пудрой. Ее запах, особенно если пудра хорошая, пьяняще разливался в вечернем воздухе, и случалось, девушка проливала слезы, если пудра попадала в глаза. Так проходили целые часы, сгущалась ночь, но веселье не утихало: по-прежнему сыпалось конфетти вперемешку с пудрой, не умолкал девичий смех и мы, мальчишки, торчали на тротуарах, готовые к новым проделкам, — мы ловили момент, когда девушка зажмурит глаза, чтобы уберечься от пудры, и целовали ее в шею, в губы… С тех пор минуло много лет. Кое-кто по-прежнему развлекается, но сегодня развлекаться — значит тратить большие деньги, а тогда хватало старой тряпки, бабушкиного или маминого платья, тетиного лифчика или дедушкиного френча — словом, самой малости. Теперь же все стоит денег, и улыбаться стало куда накладней.
Забежал в Станду. Чем больше вижу тут хороших товаров, тем тоскливей на душе. Входишь радостный, а выходишь обалдевший и злой. Все здесь есть: тысячи нужных вещей, вкусные свежие продукты. Да, человек изобрел цветное телевидение, автомобили, которые носятся со скоростью 300 км в час, и еще полно всего, что нет нужды перечислять, но не прокопал ни ручейка через иссыхающие на солнцепеке поля, тонущие в стрекоте цикад. Интересно, чем стрекочут цикады…
Празднуем пасху за городом, под островерхой крышей трулло. В этой местности, между Монополи и Кастелланой, у некоторых трулли по девять острых башенок. Мы в гостях у друзей. Взрослые расселись за столом, дети возятся на полу с крупными муравьями, похожими на броневики. Помню, в детстве меня как магнитом тянуло к муравьям. Я мог часами валяться на земле, играя с ними — брал их, пускал по руке. Они всё старались укусить меня, и я в конце концов позволял им тяпнуть меня за ноготь. Но, потеряв терпение, давил одного из них пальцами, и тогда в ноздри сразу ударял терпкий, едкий запах, будто от лекарства.
Сегодня залег спать много раньше обычного, около восьми. Голова гудит, ноги свинцовые. На улице по-прежнему жара. Скамейки приобретают все больший блеск под задницами кумушек и дядюшек, которым болтать не наболтаться. Чувствую, судачат и обо мне: мужик, говорят, хороший, только со странностями, и даже очень. Тихонько засыпаю, а там всё болтают. То хвалят, то ругают, что-то вроде вечерней серенады. А мне все равно. Я сегодня с утра как следует наломался на заводе, в этой огненной пасти.
Напоролся на гвоздь у станка, и мне сделали противостолбнячный укол. Фельдшер шприцем вытягивает жидкость из пузырька, а я вспоминаю, как в таких пузырьках таскал у бабушки наливку, которую та ревниво прятала в буфет. Потом тянул наливку глоточками и разбавлял водой, пока она не становилась вовсе бесцветной, лишь запах сохранялся: лимонный, банановый, апельсиновый. Потом сажал в пузырьки ящериц, за которыми часами гонялся босой, прыгая как заяц по красным, раскаленным комьям земли. Хрупких, милых и тонких, словно стебельки, ящерок. Они пытались выбраться, карабкались вверх по стеклу, но соскальзывали и падали обратно, в испуге показывая острый как игла язычок. Зеленую пробку мы использовали в качестве ластика, она действительно отлично годилась для этой цели. Дети богатых приносили с собой большие, длинные, как авианосцы, разноцветные стиральные резинки. Мы же, нищее отребье, пользовались резиновыми пробками от пузырьков из-под пенициллина.
Сегодня днем в цех ворвался воробей и принялся отчаянно летать от стены к стене. Он то проносился над головами, то как сумасшедший метался под потолком в поисках выхода. Несколько рабочих сжалились над ним и открыли ворота, но воробей не замечал этого, продолжая носиться по цеху вдоль и поперек, до смерти напуганный оглушительным грохотом и криками людей. Сюда легко попасть, но выбраться — целая проблема, даже нам самим ничего не стоит потерять себя в этом стальном лабиринте, среди кнопок и манометров.
Сегодня я какой-то просветленный, сам не пойму отчего. В детство впадаю, должно быть. Воздух у нас в цехе (если вообще можно говорить о воздухе) тяжелый, и я безостановочно чихаю. Шлифовальный диск передвигается туда и обратно, словно барка. Заложив очередную деталь, высвобождаю руки, успеваю вытащить из кармана календарь и сосчитать, сколько дней осталось до следующих праздников. Тем временем до конца работы остается час. Побросать бы к черту все эти одинаковые заготовки, эти рычажки, которые нужно то и дело вертеть на одни и те же 180 градусов, и тогда магнит плотно прижимает к себе деталь. Сколько этих одинаковых деталей! Кремниевый диск вгрызается в металл, и сыплются длинные красноватые искры.
Разнорабочий, в чьи обязанности входит убирать стружки и опилки, приближается с метлой к моему станку. Он глядит на меня с восхищением и даже завистью, так как считает меня привилегированным рабочим. Это оттого, что ни ИКП, ни профсоюз не втолковали ему, что мы, рабочие, все как один обманутые. Потом в его глазах появляется ирония, он произносит: «Нас роднит единая утроба, но не единые взгляды» — и показывает мне мозолистые руки, жесткие как камни. Закуривает, слегка улыбается, вновь берется за метлу и, откашливаясь, уходит.
На сегодня объявлена двухчасовая забастовка по всей области. Забастовки не прекращаются: двухчасовые, трехчасовые — самая настоящая забастовочная эпидемия, в котел которой бросают кто что может: борьбу за индустриальное преобразование, борьбу за трудоустройство, за транспорт, за сельское хозяйство и т. д. — словом, получается сборная солянка, и чем больше лозунгов, тем удачнее забастовка. Мероприятия эти довольно двусмысленны, потому что их организаторам и участникам не хватает ни последовательности, ни смелости открыто заявить о главной цели забастовки. Правительство недееспособно, его необходимо убрать, и потому бастовать следует неопределенное время — вплоть до полного и безжалостного свержения такого правительства.
На мелких забастовках мы напрасно потеряли миллионы рабочих часов. Если сложить вместе всю их ударную мощь, можно было бы силой склонить правительство к осуществлению более справедливой, человечной политики. Люди не каменные, и в один прекрасный день их терпению придет конец. Постараемся же не быть лицемерами в тот день, когда оно действительно истощится. Люди устали слушать одни обещания.
Затачиваю резец. Этот предназначенный для работы с алюминием инструмент страшно капризен, и нужно в точности выдержать все углы: угол режущей кромки, угол заточки… Обработку приходится выполнять вручную. Грань шлифовального круга стесана, и к канавке стружколома не подберешься. Нажимаю больше, чем следует, резец неожиданно вырывается, и рука попадает на шлифовальный круг. Результат: чуть не половину указательного пальца отхватило, чудом не задета кость. Честно говоря, я должен был работать в перчатках, но пользоваться ими не всегда возможно, потому что рука в перчатке, особенно когда требуется точная работа, теряет чувствительность. Раны от шлифовального круга хуже других: долго не затягиваются, ведь круг не режет, а истирает ткань.
Карабинеры еще не поняли, что поддерживают порядок, угодный богачам, не догадались, что столь усердно защищают не принадлежащее им самим достояние. Карабинерам бы присоединиться к рабочим да сообща и раздавить хозяина — этого паука с длинными черными лапами.
Десятки и сотни заводов продолжают закрываться. Общество больше не знает, как поступать с рабочими: эксплуатировать их дальше или выставлять на улицу. Заводы и фабрики прогорают; мы трудимся до седьмого пота, вкалываем на сдельщине, расходуем у станков свое здоровье, калечимся, сходим с ума, стареем, а они все равно прогорают. И это несмотря на то, что из нас выжимают все соки, что мы работаем во вредных условиях, что большую часть своего существования рабочий проводит у станка. В то же время политическое и экономическое состояние страны становится все более безнадежным, и весьма вероятно, в июне пройдут досрочные выборы, чтобы сопоставить силы. Опять дерьмо сопоставят с дерьмом, как обычно.
Сегодня праздничный день. Решаю съездить в Модуньо навестить родителей. Едем на машине в объезд Адельфии по дороге, тянущейся вдоль бесконечных виноградников. Позади остаются две деревенские колокольни — две, потому что Адельфия образована из двух маленьких слившихся деревень: Каннето и Монтроне. По обочинам дороги — маки и еще какие-то белые цветы. В этом году много травы, потому что весна выдалась дождливая. Проехали Битритто; теперь до Модуньо рукой подать — пять километров. Отца дома нет; мать готовит цикорий. В кухне пахнет керосином. Отец на работе: он теперь сторожем на фабрике, производящей люстры, торшеры. В шестьдесят пять лет нашел себе наконец подходящее место и неплохое жалованье для своего возраста: 140 тысяч лир, — пенсии-то не хватает. Оставив жену с детьми в доме, отправляюсь гулять по главной улице. Городской сквер навевает массу воспоминаний о прогулках и приключениях молодости, о том, как отчаянно гонялся здесь за одной девушкой, все раздумывал, как бы к ней подступиться, что сказать и не лучше ли написать письмо. Сегодня все гораздо легче, чем тогда: существуют дискотеки, клубы, наконец, все ходят в школу, и встречаться совсем нетрудно. В мое время девушки выходили из дому лишь по воскресеньям. На аллее встречаю старых друзей — останавливаемся поболтать. В маленьком баре, где в углу громоздятся связанные цепью стулья, вижу старый и наполовину заржавевший музыкальный автомат. Сколько песен слушано-переслушано из этого автомата — и Битлз, и Роллинг-Стоунз, — пока хозяин неотрывно следил за нами сквозь грязное окошко в глубине бара, чтобы не сломали машину.
Перехожу улицу на зеленый свет. А когда красный, нужно стоять и ждать, даже если никто не едет, иначе полицейский пожалуется мэру города, коллежским асессорам, и те обидятся. Навстречу мне проходят несколько парочек, на одной из них задерживаю взгляд: он приземистый и жирный, она — хрупкая, с ребенком на руках. При виде ее сердце так и подпрыгивает: ведь это же Лючия, та самая девочка, что жила в деревне рядом с дедушкиным домом, на соседнем участке, отделенном от нашего низкой каменной оградой и кустами диких роз. Каждый день я видел ее за поливкой редиски, капусты и цикория, она без конца носила ведра от огорода к колодцу и обратно мимо старой мушмулы. Частенько заходила к бабке купить яиц или обменять их на фасоль. Живая была девочка, но порой я замечал на ее лице огромную печаль. Очень хотелось познакомиться с ней, подружиться, но сдерживала робость. Я подглядывал за ней сквозь дверную щель, пока она ожидала бабушку в большой прохладной комнате, и убегал, едва она направлялась к выходу. И когда Лючия разговаривала на гумне с дедом, я снова забирался в дом и подглядывал из всех щелей, сгорая от желания хоть разок поцеловать ее. Ночами мне снилось, будто я мчусь за ней вдогонку по комнатам, по конюшне, где пилят на своих контрабасах шмели. А она, вся сотканная из воздуха, смеется и убегает от меня сквозь заросли петрушки и гвоздик.
Потом отец вернулся из Саленто и забрал меня от деда с бабкой. Мы переехали в центр города, стали жить в доме с высокими протекающими потолками, но зато с хорошим садом.
Сегодня понедельник, 26 апреля. Начинается новая неделя. На душе паршиво, потому что придется работать в вечернюю смену. С утра не знаю, куда себя деть; сажусь на велосипед с намерением сделать что-нибудь полезное. Решаю поехать к хозяйке дома заплатить за квартиру. С меня берут по-божески — тридцать пять тысяч лир в месяц: еще действует ограничение арендной платы, и хозяйка, хотя и дерет против закона лишние семь тысяч, больше требовать не решается. Она болтает и болтает без остановки, и все ее разговоры заканчиваются тем, что в Бари арендная плата достигла сумасшедших размеров. Наконец спрашивает, почему мы не переедем жить в Бари; я отвечаю, не хотим, мол. Она продолжает гнуть свое, и я понимаю, что надо уходить, пока не взорвался. Нахожу предлог и исчезаю. Погода на улице еще не устоялась: то дождь, то солнце, то вдруг холодно, то жара. Конец апреля, а кажется, будто середина марта.
Нынче буду вновь лицезреть три тысячи заготовок, с которыми расстался в пятницу. Эти проклятые заготовки никогда не кончатся. При мысли, что новые миллиарды деталей ждут меня на протяжении еще двадцати пяти лет, кровь ударяет в голову и хочется все кругом разнести в куски. В самом деле с ума сойдешь и от этой монотонной работы, и от безобразий, которые творятся на каждом шагу. В 1973 году перед утренней сменой один рабочий, вместо того чтобы пробить свою карточку, встал возле контрольных часов скрестив руки. Бедняга сбрендил: возомнил себя хозяином и свирепо вращал глазами, глядя на входивших рабочих. Его немедленно отвезли в сумасшедший дом, и больше ни слуху ни духу. Это случилось на заводе ФИАТ-СОБ.
Как подумаешь, что только на этом заводе я работаю уже пятнадцать лет, меня в дрожь бросает. А все остальные и не упомнить. Маленькие мастерские на серых и унылых окраинах Бари — туда вели забрызганные грязью дороги, а по их обочинам торчали нелепые скелеты деревьев. Четыре неоштукатуренные стены из туфа, да железные ворота, да грязь кругом — вот тебе и весь завод. У одной стены куча железного лома, у другой — допотопная, ржавая, похожая на гильотину лебедка и бочка с темной водой.
По молодости в перерывах выбегали на улицу, потные, все в мазуте, и гоняли в футбол. Мячи делали сами из ветоши, служившей для протирки станков. Единственной колоритной фигурой среди этого мрака была жена хозяина, «хозяйка», как мы ее называли. Она иногда появлялась в дверях цеха с бесстрастным, глуповатым выражением на лице, словно у мумии, и спустя несколько секунд с тем же выражением исчезала неслышно, как кошка.
Я учился в дурацких школах — сперва в начальной, потом с сельскохозяйственным уклоном. Так хоть бы там лук с картошкой учили сажать или деревья. Ничего подобного. Голую теорию долбили, а ведь вокруг простирались необозримые поля. Я пошел в школу с сельскохозяйственным уклоном, а не с гуманитарным: в те времена, чтобы перейти из начальной школы в среднюю, нужно было сдавать экзамены, и я трижды провалился по итальянскому.
Сразу по окончании школы отец повез меня в Бари продавать, как барашка, на работу. Мы долго таскались по грязным улицам окраины, где полно строений из профильного железа — мастерских; отец в конце концов сжалился и купил мне лепешку. Было странно, что он купил ее в магазине, я-то думал, лепешки только бабки делают, и вообще городская жизнь мне была в диковинку. Мы заходили в эти убогие мастерские, спрашивали хозяина, и, завидев его, отец начинал плакать самыми настоящими слезами, как заправский актер. Он причитал: «Умоляю, возьмите парня, он уже извелся от безделья. Прошу вас, возьмите его, хоть бесплатно. Сделайте это в память о покойных ваших близких… Мальчишка ни на что не претендует, положите ему сами сколько захотите».
Потом отец объяснял, кто он — «сержант карабинеров, уважаемый человек». Хозяин мрачнел: видно, не желал терять времени. Не преувеличиваю, мы полгорода обошли. Я повесил нос, а у отца от частых излияний и жалоб опухли глаза. В тот день мы ничего не нашли. На следующее утро, только протрещал будильник, отец позвал меня к себе и сказал, что теперь дорога мне известна и ходить в поисках работы я буду один.
В нашем районе почему-то отключили свет, и видно, как в окнах напротив загораются свечи. Мне вдруг вспомнились давние годы. Жили мы тогда близ Лечче, в местечке под названием Триказе, если не ошибаюсь, на первом этаже сырого дома, в больших комнатах с очень высокими потолками. Холодными зимними вечерами собирались вокруг жаровни у окна, выходившего на улицу. Первым делом выключали свет. Так хорошо было сидеть в темноте и говорить обо всем на свете, о прекрасном и страшном. Я даже невольно оборачивался в страхе: мне виделись какие-то тени, и казалось, чудовищный кот своими жуткими когтями сейчас вцепится сзади мне в голову. Пробирала дрожь, я бы даже сказал, сладостная дрожь, так как и пылающая жаровня, и сидящие вокруг братья с сестрами, и мама, и даже соседки по дому — все внушало уверенность. Чтобы увлажнить воздух, ставили на жаровню кастрюльку. Время от времени на улице, едва освещенной двумя-тремя скудными лампочками, появлялась какая-нибудь живая душа: собака, кошка, человек на велосипеде, старушка в шали, парень с сигаретой в зубах. А бывало, что за весь вечер никто не проходил. Совсем никто.
Сегодня утром три автобуса привезли к нам на фабрику большую группу посетителей. Это учащиеся промышленного училища из одного маленького, как наш, городка неподалеку. Они, будто масляное пятно, растеклись по всем закоулкам: по аллеям, в столовую подкрепиться, потом в цеха. Осторожно ходят вокруг станков, с изумлением глядя на все вокруг, робко задают вопросы техникам и рабочим. Небольшая группа останавливается около меня. Закрепляя очередную заготовку, успеваю их разглядеть. Несмотря на современный вид и длинные волосы, сразу видно; ребята деревенские. Их добрые, простые, наивные лица меня трогают. Они спрашивают, что за работу я выполняю, для чего нажимаю на эту кнопку, зачем пользуюсь этим рычагом. Понемногу разговор переходит на политику, социальные проблемы. Иного я не ожидал. Сразу же говорю им, чтобы не слушали инженера, который водит их по цехам. Это мошенник, и его слова — пустая болтовня. У нас на заводе все пришло в запустение, организации никакой. Самые организованные здесь — мафия, шпионы, лизоблюды. Самое организованное здесь — неорганизованность. Так что не слушайте начальников и техников в белых халатах. Здесь все отвратительно, здесь люди медленно умирают — день за днем. Бегите отсюда, пока не поздно, ребята, бегите. Меня тоже в вашем возрасте возили на экскурсии по большим заводам, и я тоже, как вы, широко раскрывал глаза перед чудом этой вонючей техники. Потом они заморозили мое удивление и восхищение. Бегите скорее, вы в дьявольской ловушке. Возвращайтесь в свои деревни, если можете, пока еще не поздно.
Первый токарный станок, с которым мне пришлось иметь дело, был ручной, то есть не электрический. Это было на маленькой фабрике, затерянной в глуши Лечче. Малюсенькая такая фабричка, размером чуть больше сортира. Я вертел ручку, а хозяин работал на станке. Время от времени из механизма выпадала какая-нибудь деталь — то гайка, то шайба, то валик. Все они были грязные, черные от смазки. А мне приходилось их очищать в консервной банке с нефтью. На банке с надписью «Tomatoes» были нарисованы три красных, как огонь, помидора. В самой же банке плескалась самая что ни на есть грязная, загаженная нефть. И хотя токарный станок разваливался на ходу, хозяину удавалось на нем работать, а я как сумасшедший вертел ручку. Временами с улицы, обычно безлюдной, доносились крики жестянщика: он починял не только корыта, но и зонты. В цехе у нас под ногами вечно путались куры (супруга хозяина держала их больше дюжины). Шло время, но ремесло я так и не освоил, потому что целыми днями только крутил ручку да еще бегал для хозяйки в магазин за хлебом, за вином, а то на площадь за зеленью и овощами; иногда хозяйка заставляла раскладывать на террасе белье для просушки или укачивать ребенка. Продержался я у них не больше месяца.
Опять поругался с мастером, который потребовал, как обычно, сведения о выработке. «Да отстанешь ты от меня наконец? — огрызнулся я. — Чего тебе надо, чего ты добиваешься? Чтобы предприятие получило прибыль, а из меня выжали на сотню лир больше? Где ты был, когда директора прикарманивали десятки миллионов? Может, спал или делал вид, что оглох? Вспомни Чефиса из ЭНИ, который обеспечил себе шикарное будущее. И отойди от моего станка. Ступай лучше сам поработай. Попроси себе станок и подавай личный пример. А то за тридцатку в месяц к зарплате из тебя сделали шпиона, шакала, тюремного надзирателя…»
Самое интересное — что, когда все понемногу улеглось, многие товарищи открыто выразили мне свое возмущение. Так, видите ли, не разговаривают с начальством. Да, действительно, так с начальством разговаривать нельзя, потому что начальник — это бог, сошедший на землю, бог в белом халате, а в бога положено верить слепо, обожать его и лизать, лизать…
Министр внутренних дел Коссига нес на своих плечах гроб с телом полицейского, погибшего в вооруженном столкновении с грабителями. Министр труда Тина Ансельми никогда не носит на себе рабочих, погибших в результате несчастных случаев на производстве, хотя они гибнут в несметном количестве. Полагаю, она не занимается этим, потому что иначе не смогла бы заниматься больше ничем другим. Много гибнет нашего брата, только говорят об этом мало, очень мало, разве что в самом крохотном уголке газеты. Зато спортивной жизни всегда посвящены две полные страницы с бесконечными подробностями.
Несчастные случаи на производстве — огромная проблема. К сожалению, ее пытаются решить с помощью круглых столов, или же направляют одних и тех же ездоков на профсоюзные курсы в приморских пансионатах, или в лучшем случае увешивают стены цехов предупреждающими табличками. По-моему, наиболее сведущ в этой области сам рабочий, который стоит непосредственно у станка. Несчастные случаи прежде всего происходят из-за невыносимого производственного ритма. Другая причина — расписание работы. Недолго попасть в переделку рабочему, который, поднявшись утром в 4.30, обязан в 6.00 быть за станком в полной готовности, хотя он уже утомлен, подавлен и не выспался. То же самое относится и к ночной смене. Еще одна причина кроется в старых станках, которые вдруг ни с того ни с сего словно с цепи срываются. Необходим регулярный общий контроль за техническим состоянием всех станков, но такой контроль осуществляется крайне редко, так как на период проверки станок оказывается непроизводительной единицей. Далее: перемещение рабочего на другой участок. То, что удобно хозяину, опасно для рабочего: он не может с легкостью менять станки. Известно, что у каждого станка свои дефекты, свои тонкости и хитрости, а этому невозможно обучить на поверхностных и поспешных подготовительных курсах.
Раздевалки, время 15.00. Выходит первая смена, мы снимаем спецовки; мимо раздевалок валит в столовую народ: там будет собрание. Приятно видеть такое скопление людей. Идут белые халаты, идут женщины из административного корпуса — у них халаты голубые. Идут синие спецовки, грязные и чистые, идут и болтают, а мы переодеваемся и глядим на эту вереницу — нарочно оставили открытыми все двери. Они распахнуты еще и потому, что стоит жара, безветрие, духота, за окнами заливаются цикады, и мы с грохотом швыряем свои тяжелые башмаки в глубь железных шкафов. Переодевшись, смешиваемся с толпой. Собрание всегда как-то возбуждает. Мы чувствуем, что здесь происходит или готовится что-то очень значительное, и мы, рабочие, ощущаем себя значительными, поскольку участвуем в этом.
Сидел несколько дней назад на террасе, дышал свежим воздухом, как вдруг из темноты послышались неистовые звуки лягушачьего хора. У меня едва слезы не брызнули, так давно я не слышал лягушек. Когда они квакают, все вокруг становится мягким и глубоким. Такое же впечатление простора, бесконечности и загадочности возникает, когда из дальних деревень доносится лай собак. Однако лягушки пели недолго. Поскольку наполненные гнилой водой пилоны раздражали жителей квартала, было решено засыпать их землей — пригнали пять-шесть самосвалов и похоронили пилоны. Кстати, пилонами у нас называют квадратные водоемы, которыми пользуются для поливки огородов. Одни люди поднимают воду из колодца и заливают в пилоны, а другие зачерпывают ее оттуда и льют на грядки.
Нынче утром, когда я работал на токарном, меня укусила оса. Непонятно, откуда она прилетела, как проникла в цех, и тем более непонятно, почему сразу не подохла. Родители посылали меня за водой к источнику; там всегда было полным-полно всевозможных ос, малюсеньких и больших, как вертолеты, желтых и синих. Фонтан кишел осами, но те не кусались: садились осторожно к самой кромке воды или даже на ее поверхность, улетали и вновь возвращались. Приходилось их побеспокоить, когда набирал воду ведерком.
В наше время существует гораздо больше, чем раньше, возможностей узнать, что происходит в мире. Было время, когда «Униту» читали как Евангелие, верили каждому слову. Сегодня же выходят десятки газет, располагающихся еще левее, на радикальных позициях. Занимающийся политикой гражданин становится от чтения этих газет еще более решительным и оголтелым. Кому все равно, тому и дальше будет все равно, что бы он ни читал. Во всяком случае, чтением газет сегодня вопрос не решишь, так как одной газеты недостаточно; чтобы как следует оценить факты, необходимо читать несколько газет. Разумеется, нам должны выделить время, необходимое для чтения и желательно — оплаченное, чтобы поощрить нас, чтобы держать в курсе дела, чтобы повысился качественный уровень жизни в стране. Необходимы удобные и уютные читальные центры, которые посещала бы наиболее активная часть населения.
Изобрели новую игру для богатых — дельтаплан, приспособление, использующее силу ветра. Господа постоянно ищут новых ощущений и мучаются, что бы еще такое изобрести. Рабочие тоже летают. Жаль только, что летают они всего лишь раз в жизни, сорвавшись с лесов или с моста, и больше уже не поднимаются.
Ходят разговоры о переводе группы рабочих в другой разряд; по этому поводу много волнений и пересудов. Профсоюзники, как всегда, молодцы: откопали новое слово для обозначения тех, кто несправедливо киснет в низших разрядах. Отныне и впредь их будут называть «эклатантами». Повышение разряда всегда сопровождается страстями. Утром сегодня один из рабочих, узнав, что ему отказано в повышении, взревел, как буйнопомешанный, и чуть не убил профсоюзника, на которого ему указали как на виновника несостоявшегося повышения; потом принялся исполнять что-то вроде похоронных завываний, потом зверски ругался, потом причитал, словно над подохшим ослом. Наконец, рыдал в полном отчаянии. Во время всего этого представления шпиндель станка вхолостую вертелся, причем с такой скоростью, что в воздухе раздавался свист.
Сегодня утром я, рабочий машиностроительной отрасли, дитя ВИКТа, ИСТа, ИКПТ, племянник ФТМ[15], взявшись за рукоятки токарного станка, почувствовал себя полным дерьмом и принялся орать как сумасшедший, что жить надоело, хочу вновь мотыжить землю, заклинать змей, готовить смеси ядовитых трав, плясать пиццика-пиццика и тарантеллу и таскать козу за хвост.
Сегодня под предлогом жары закрасили все стекла на потолке. Закрасили жутким синим цветом так, чтобы ни капли живого света не дошло до рабочих. Ни капли солнца. Рабочие обязаны пребывать в тени и не должны видеть ни одной зеленой травинки. Тем более мака. Иначе рабочие взбунтуются, и их не сдержать. Пусть даже воробей не прошмыгнет в цех. А я стою тихонько в своем углу, таращу глаза да посмеиваюсь. Где им понять: весну я чую по запаху, нюх у меня что у охотничьей собаки. Стою за стеной железных заготовок, голова болит, где-то в мозгу звучит старинная, жалобная песня крестьян, и от этого до боли хочется плакать. Бежать бы отсюда, но не могу, хотя нас у ворот никто не сторожит. Все очень просто, достаточно перелезть через ограду. Но вскоре я больше ни о чем не думаю, жду обеда; до 15.00 осталось совсем немного. Привыкаю к мысли о том, что всякий раз в конце рабочего дня я как бы ухожу в отпуск, такой маленький, фиговый отпуск.
Вот и столовая. Жую и размышляю. Почему бы всем рабочим промышленного района не кормить в этих столовых свои семьи? Здорово придумано, а? Экономились бы деньги и время. Известно ли вам, что значит обойти магазины, приготовить обед, накрыть на стол, потом убрать со стола, подмести пол, вымыть посуду?.. Женщина стала бы свободнее, у нее оставалось бы время играть с детьми, заниматься спортом, читать, видеться с людьми, путешествовать, любить. По пути из столовой захожу в административный корпус и зондирую почву на этот счет среди работающих там женщин. Одна заявляет, что лично ей эта идея не нравится. Она предпочитает чин-чином ужинать дома, с первым, вторым, сладким, фруктовым компотом и прочими вкусными вещами. И, разумеется, с любимым мужем. Я мрачнею, цежу сквозь зубы «буржуйка», поворачиваюсь на каблуках и иду прочь. Прощайте, мечты о революции!
Очень болят плечи. И левая нога тоже, особенно в стопе. Иду в туалет, сажусь на металлический ящик для бумаги, кладу руки на умывальник, на руки опускаю голову. Жарко. Открываю кран и подставляю руку под струю воды, которую регулирую так, что струя идет раздвоенная. Нужно немного тренировки, чтобы это удавалось; мы, бывает, даже состязаемся на спор. Пытаюсь уснуть. Входят и выходят мои товарищи. Никто меня не трогает, думают, что сплю. Спасибо, что хоть здесь уважают усталого человека.
Сегодня подошел к моему станку один симпатичный разнорабочий небольшого роста, с бородкой, всегда веселый. Взял со станка деталь, которую я обрабатывал, очень похожую почему-то на микрофон, и говорит: споем, мол, вместе. И вот с этим якобы микрофоном в руках мы вдохновенно поем песню «Грустно, очень грустно говорить тебе: прощай…». В отверстие детали вставили веревочку наподобие шнура.
Случается, мы с ним под настроение устраиваем пляски. Задорно пляшем тарантеллу и сами же распеваем. На меня бросают удивленные взгляды: смотрите-ка, Томмазо наш до чего докатился — с разнорабочим под ручку пляшет. А я им говорю: катитесь, мол, к чертовой матери, буржуи поганые!
Неисправен станок. Немедленно вызываю мастера, тот извещает начальника цеха, начальник цеха звонит начальнику отдела техобслуживания, начальник отдела техобслуживания наконец присылает двух рабочих. Один высокий, тощий, другой низенький и плотный. У плотного лицо вишневого цвета. Что с тобой, спрашиваю. Оказывается, он только что из медпункта, где ему вкололи компламин. Он должен каждый день колоть компламин, потому что несколько месяцев назад у него был тромбоз. Инъекции нужны для расширения капиллярных сосудов. Вот почему цветом лица он сильно смахивает на марсианина.
Они немедленно разбирают станок, снимают горизонтальный кожух, убирают болты, соединения, шкивы, затем снимают вертикальный кожух, обнажая главный механизм — сердце станка. Все это похоже на хирургическую операцию, перед тобой, словно внутренности, — трубки, шланги, прокладки, муфты, втулки, таймер…
На досках объявлений повесили списки детей на отправку в летние лагеря. Говорят, у ЭНИ хорошие лагеря. Очень может быть. Читаю списки и вижу знакомые фамилии, только с другими именами: Лоредана, Чинция, Роберто, Риккардо, Маргерита, Лючано, Сабина, Барбара, Марция, Николетта… Тут подходит один товарищ и говорит: хорошо бы нас самих посылали в такие лагеря, поскольку нам обязательно нужны и воздух с солнцем, и отдых, и разрядка. Так что дети детьми, а и нас неплохо бы туда пристроить. И добавляет, что в день отправки он при своем малом росте, пожалуй, напялит короткие штанишки или фартучек да и прибьется к толпе детишек.
По дороге из столовой несколько человек о чем-то яростно заспорили. Дело чуть до драки не дошло. Предмет конфликта давно известен: футбол! Примечательно, что начальник цеха их не остановил. Вот если бы вместо футбола речь шла о культурных или политических событиях, тогда бы он немедленно вмешался и отослал бы ссорящихся на рабочие места. Когда он замечает группу, обсуждающую «опасные» темы, то сразу же подходит и спрашивает подозрительно: «Что, собрание?»
С самого утра на фабрике тарарам по причине пересмотра разрядов. Как только речь заходит о деньгах, воздух накаляется. Кипит и булькает. Бывший крестьянин, удивленный и встревоженный таким шумом-гамом, подходит ко мне и говорит, что в деревне лучше. Здесь происходят неподвластные разуму вещи, дурные вещи, которые по сравнению с градом или засухой — сущая чепуха.
В угловой части цеха раскопали здоровенную яму. Бегают взад-вперед каменщики со своими инструментами и тачками. Похоже, дом собираются строить. Из ямы выбирают последние камни, какие-то корневища, землю. Спрашиваю, что здесь будет. Говорят — новый токарный станок огромных размеров, автоматический, с цифровым управлением. Его уже привезли, вон он на улице, под навесом. Настоящий слон: высота — пять метров, ширина — четыре и пространство занимает немалое. В деревнях на таком пространстве размещается целое предприятие со сверлильными, шлифовальными и токарными станками, сварочными аппаратами и т. д. А тут едва-едва встанет один токарный. В течение дня его устанавливают, связывают с землей сотнями килограммов бетона. На станок смотреть-то страшно — вылитая гильотина. У него имеется похожая на карусель платформа диаметром почти два метра. На вращающуюся деталь вертикально опускается очень крупный резец, напоминающий пушечный ствол. Сбоку что-то вроде эскалатора, который выносит из-под ног этого чудовища наверх толстенные стружки. Кроме того, есть шкафчик со множеством красных, желтых и зеленых огоньков, кнопок, рычажков. Еще есть лесенка, по которой можно подняться и с удобством взять замеры детали по окончании обработки. Все-таки не обойтись без человеческой руки! Наладку станка поручили худющему, малорослому и смуглому рабочему, похожему на турка. Я ему говорю: здесь тебе целая квартира, осталось принести горшок с геранью, можно и холодильник куда-нибудь пристроить. Он отвечает, что холодильник уже есть, и показывает. Действительно, холодильник, но предназначенный для химикатов, используемых при особой обработке стали. Внутри все забито банками с краской, растворителями, разной требухой. Но в дальнем углу, тщательно прикрытые, стоят холодные бутылочки с пивом, лимонадом и кока-колой.
Лью из бутылки из-под фруктового сока специальное высококачественное масло в распылитель для смазки шпинделя, который делает 50 000 оборотов в минуту. Подходит один рабочий и спрашивает: «Что, заливаешь в машину масло из-под трески?» — «Не из-под трески, — говорю, — а настоящий рыбий жир». Он кивает, мол, это и имел в виду. Я ему объясняю, что в этом жире полно витаминов и что станкам тоже витамины требуются.
Я совсем недавно заступил, а вокруг меня уже вьется контролер в ожидании готовых деталей. Ходит кругами, как акула вокруг добычи. Правда, не заговаривает, побаивается, потому что, было дело, я его поучил маленько. Является он как-то раз и орать: «Я уже неделю жду, а ты все копаешься! Что мне, к начальнику цеха идти? Шевелись давай, а то лопнет мое терпение!» — «Эй, ты, — говорю я ему, — гнида паршивая. Ежели ты сейчас не уберешься отсюда, я проткну тебе задницу. Слишком много развелось начальников, больше, чем рабочих. Я тут за станком колупаюсь, а вы по цеху разгуливаете. А ну пошел отсюда, пока я душу из тебя не вытряс!» Только его и видели, этого юношу. С тех пор он всякий раз приближается ко мне на цыпочках, говорит: «Добрый день, синьор Ди Чаула». Вот он идет, руки за спиной, смотрит опасливо, в каком я настроении. Говорю ему: «Ты похож на акулу». А он отвечает, что акулу недаром зовут санитаром морей.
Попросили сегодня сделать одну работенку в самом центре промышленной зоны. Возвращался за полночь. Еще десять лет назад тут была сплошная сельская местность, а теперь полно фабрик, складов, цистерн. Прошел мимо крупного завода «Калабрезе». Какой красивый этот завод ночью — весь залит светом, как парк культуры и отдыха. И тишина, только сверчки да лягушки заливаются в траве. Неожиданно по ту сторону ворот вырастают огромные сторожевые псы и лают с такой яростью, что сердце в пятки уходит. Псы с воем носятся вдоль ограды, сопровождая прохожих до следующих ворот. «Калабрезе» — магическое слово. Герой труда Анджело Калабрезе — и впрямь магическое… нет, скорей похоронное. В разговоре он скажет тебе, что дает хлеб множеству семей, но сам не ведает, что беспардонно вторгся в нашу жизнь вместе со зловонием своих цехов, тяжелым духом мазута, смрадом ржавчины, запахом смерти, вторгся в наши дома вместе со своими острыми стружками, вторгся в наши чувства, комнаты, сараи, огороды, хижины — и все осквернил, отравил, сделал мрачным и унылым. Теперь он гордо шагает, выпятив грудь и демонстрируя свою медаль героя труда.
Тому, кто должен работать сидя, предприятие выдает стулья — отвратительные, жесткие и с занозами. Мы сами делаем их удобными и мягкими, как папино кресло. Сами обиваем чем попало: к сиденью и спинке прилаживаем поролон, который крадем в отделе упаковки, закрепляем его клейкой лентой, и получается отличный стул, похожий на мумию, — странный стул, словно побывавший в дорожном происшествии.
Наша жизнь черна. Она тонет в тоске и унынии день ото дня, и вместо улучшений — сплошное ухудшение. Младшие начальники все больше наглеют, шпионят за нами. И чем больше сами бездельничают, тем больше выработки требуют от нас. Сил нет терпеть все это. Ни минуты покоя, даже спать ложишься в ужасе перед будильником. Есть у нас на заводе одна сволочь — мастер. Я всеми способами пытался дать ему понять, что хватит действовать на нервы, объяснял, что он тут ноль без палочки, что его еще больше надувают, чем меня. Все без толку. Продолжает подличать. Даже сам хозяин, ей-богу, не такая уж сволочь по сравнению с этими ядовитыми шпионами. Вот бы жить без начальства!
Философы и исследователи рабочего движения тут не помогут. Средство одно: устранить паразитов. Уверен, что на заводе работа пошла бы гораздо лучше. Как хорошо жилось бы без них. У меня появилась идея. Нужно, как в детективе, совершить идеальное преступление. Я бы этого мастера убрал тихо и интеллигентно. Подозвал бы его к станку и в нужную секунду толкнул бы рычажок, нажал бы простую кнопочку. На того бы сверзилась тяжелая стальная деталь килограммов на тридцать — и аминь! Только двинь рычажок, нажми кнопочку, и — ррраз! — дело сделано. А то: исследователи рабочего движения, специалисты по стоимости труда, психологи, антропологи…
Поглядываю краем глаза в телевизор, там соревнования по теннису. Комментатор подмечает и сопровождает пояснениями каждое движение теннисистки, просит дать замедленный повтор каждого сокращения ее мышц. Когда я работаю у станка, на меня никто не смотрит. А как было бы интересно! И мне опять же приятно работать перед телекамерой, чтобы комментатор объяснял: «Итак, Ди Чаула начерно обрабатывает деталь, вот он затачивает резец, а теперь отлучается по нужде, но ненадолго. Вновь рабочий появился на наших телеэкранах, сейчас при помощи сверла на 22 он делает отверстие в детали, мы видим, как стиснуты от напряжения его зубы… Смотрите, он почесался и вновь целиком углубился в трудовой процесс…»
Вдруг замечаешь, как она течет, горячая и густая. Именно тогда, когда меньше всего этого ожидал. Кровь. Она, обжигая, стекает по коже, капает на комбинезон. Странно видеть красную кровь на голубой спецовке. В самом деле странно. Я отчетливо испытал это ощущение, когда острейшей стружкой мне порезало последнюю фалангу мизинца на правой руке. Был конец рабочего дня, и я счищал со своего токарного станка накопившиеся за день стружки. Длинные и очень тонкие стружки нержавеющей стали — я точил резьбу на винтах. Вдруг заметил, как она стекает по руке, и увидел рассеченный палец. Как раз в это время один обалдуй из наших рабочих донимал меня, облокотившись на ящик для этих самых стружек. Как обычно, его волновала моя борода. Да сбрей ты ее, да на что тебе борода, она тебя старит, портит, послушай меня, сбрей… На этот раз я не ответил ему, я был занят своим пальцем. Отметил уход и помчался в медпункт, но там, как назло, все уже разбежались. Что делать? Кто отвезет меня в отдел страхования? И тут вспомнил, что внизу меня ждет моя будущая жена — мы собирались приобретать мебель. До свадьбы оставалась неделя, и нужно было что-нибудь купить. Она-то и повезла меня вместо мебельного магазина в страховое агентство.
Помню, так и отправился в свадебное путешествие с перевязанной рукой. Чувствовал себя скверно. Мучило какое-то беспокойство. День свадьбы прошел в большом напряжении. Мы обвенчались в скромной церквушке. Ненавижу роскошь. А в церкви венчался, чтобы не огорчать родителей, причем церемонию заказал очень простую. Потом поехали в небольшой ресторан на побережье. Мои родичи остались явно недовольны. Нас было всего девятнадцать человек. Как говорится, необходимый минимум. Я не стал звать всех дядьев и теток, чтобы не устраивать балаган. Вдобавок почему-то не подали торт. Моя свояченица под предлогом того, что дети капризничали, встала и демонстративно ушла. Буржуйка вонючая! Мы все — голодранцы, но избалованные. Теперь, когда минули годы, она мне говорит: мол, ты был прав, Томмазо. Но за глаза до сих пор вспоминает, как я «оскандалился».
Он — профсоюзник. Но не из хороших, а наоборот: делец и махинатор, как многие ему подобные. Смотрю на него. Снова смотрю. Ах ты, мой любимый! И это наш профсоюзный делегат, который призван заботиться о наших интересах? Допустим. Только мне с этим субъектом говорить не о чем. Мы живем на разных планетах, хотя он меня и представляет. Вот он ведет диалог с моими врагами — заслушаешься. Подумать только, он — нынешнее звено в той долгой цепи, которая, растянувшись на десятки лет, заключила в себе потоки книг, мечты, надежды, подпольную борьбу и кровь, кровь, кровь…
У нас пятеро таких рабочих. Они живут очень далеко, километров за сорок, и вставать им приходится ни свет ни заря. Но им, видно, это нипочем, потому что каждое утро они приезжают в город делать стружку, то есть работать на своих токарных станках. Еще несколько лет назад это было в моде: у деревенских считалось шиком работать на производстве. Подниматься затемно и целых два часа ехать ради какой-то кучки витых стружек. Хоть бы сыру свежего нам сюда привозили, все одно по дороге!
Входим на завод к началу второй смены. В раздевалке как в душегубке. На нас самая легкая одежда: деревянные сабо, тенниски, холщовые брюки. Вахтеры издеваются: на пляж, что ли, собрались? Но через несколько минут прохладную спортивную одежду сменяет грубая, провонявшая металлом спецовка. Часы показывают без пятнадцати три. Впереди восемь долгих часов работы. Кто-то из рабочих, швырнув в шкаф свои сабо, со вздохом восклицает: «Везет тому, кто в этот час дрыхнет с королевой!»
Работаю на сверхточном шлифовальном станке. Такие станки бывают разных типов. Мой обрабатывает наружные поверхности деталей, не имеющих центров. То есть во время работы деталь не закреплена в двух центровых точках, а свободно перемещается между двумя шлифовальными кругами: один ее обрабатывает, а другой перемещает, заставляет вращаться. Поскольку трение велико, необходимо большое количество воды, которая низвергается на деталь, словно маленький белый водопад. Когда восемь часов подряд неотрывно смотришь на деталь, этот тихо работающий станок из холодного, серого и бездушного превращается в фантастический. Вода расходится тысячей струек и фейерверком брызг, вливаясь в специальные отверстия станка и выплескиваясь из других. Рядом с собой никого больше не замечаю; мне теперь чудится пещера в углу цеха — настоящий морской грот, слышу крики чаек и смех девушек на пляже. Автоматическими движениями закладываю детали между кругами — грязные, необработанные, неровные, они выскакивают с другого конца чистые, сверкающие и точного размера.
Есть у меня недостаток, а может, и достоинство: я подчеркиваю в газетах наиболее интересные места. Вот и сейчас держу в руках газету, где на каждой странице по меньшей мере две-три статьи, сплошь подчеркнутые. Нередко убеждаю себя: чего ради прочитывать все газеты до конца, ведь безобразия от этого не прекратятся? Но случается, купишь газету, прочтешь о чем-то совершенно новом для себя и подумаешь: черт, не напрасно купил. Должны же мы знать, что там порешили над нашими головами и до каких пор горстка оглоедов будет плевать нам в морду. Задаю себе вопрос: а сколько людей прочитало эту газету? И какое право имеют те, кто не прочитали, голосовать, что-то решать и вообще жить?
Несчастные случаи на производстве в Италии больше не поддаются счету. Один специализированный еженедельник проанализировал состояние дел в Неаполе со следующими результатами: в 1974 году на производстве от несчастных случаев погибло 105 человек, в 1975-м — только 79; смертность упала, но подскочило число несчастных случаев (с 40 476 до 42210). Любопытная вещь получается: цифра 40 000 несчастных случаев в год означает, что 5 процентов трудоспособного населения имеет ранения и травмы, пусть даже легкие. Каждая травма, к сожалению, оставляет след; ты уже не прежний — сильный, здоровый человек, а покалеченный, подпорченный. Люди рождаются здоровыми, но собачья жизнь, к которой нас принуждают, ломает нас и корежит. Если так дело пойдет и дальше, то армия трудящихся превратится в армию инвалидов. Кого тогда хозяин поставит к станку?
Воспользовавшись свободным утром, навещаю мать. Пообедаю у нее и прямо оттуда — на завод, в вечернюю смену. От Модуньо до завода хоть пешком дойдешь, но от Адельфии почти 20 километров, и нужно делать самое меньшее одну пересадку. Застаю мать на кухне, такой же серой, как апрельское небо в эти дни. Мать жалуется на ревматизм, проклиная все сырые жилища, где она обреталась по воле отца-карабинера, который переезжал из деревни в деревню по всей области. Я вспомнил сначала дом неподалеку от Лечче (в Арадео) сразу после войны, когда мы уехали из Дольяни. Вернулись на Юг, выплакав все слезы: в дороге у нас украли сундук с вещами. Тот дом я хорошо помню, словно прошли не годы, а месяцы. Я страшно боялся ветра, который продувал террасу, потому что сразу же начинало хлопать белье, дребезжали деревянные жерди, на которых это белье висело, гремели какие-то жестяные банки. Ужасный был дом!
Во время бури по дому гулял ветер с дождем. Нередко, призывая всех святых и чертей, мы двигали по комнатам тяжелую мебель и громоздили друг на друга буфеты, столы, стулья, загораживая двери, чтобы не распахнуло ветром. Мать уже тогда жаловалась на ревматические боли. Но в солнечные дни бывало весело. С помощью зеркальца мы пускали зайчиков и высвечивали самые темные закоулки под лестницей. Зайчик достигал всех окрестных домов, светил в окна, на террасы. Еще я любил играть с мыльными пузырями. Мыльную воду таскал у матери, гнувшей спину над грудами затхлого белья. Она злилась, звонко хлестала меня мокрыми руками, а я ревел, закрывая лицо руками от ударов. Мой отец всегда носил при себе служебный пистолет. Отец у меня суровый, жесткий человек. Веселый на людях и грозный дома, он всегда считал меня, а может, и сейчас считает, олухом царя небесного. Чем больше он обнаруживал, что я сверх меры чувствителен и романтичен, тем больше тумаков сыпалось на мою голову, даже если я ни в чем не провинился.
Например, летом, если во время послеобеденного сна в самую жару сестра с братом ссорились и дрались подушками, а я тихонько лежал себе на боку, отвернувшись в сторону, и о чем-нибудь мечтал, отец, вместо того чтобы отлупить виновных, кидался прямиком ко мне и драл меня что есть мочи. По воскресеньям, когда мать уходила к мессе, он ловил меня, словно кролика, и давал выволочку без всякой причины. А перед возвращением матери он тащил меня к раковине и смывал кровь с моей физиономии. Кто знает, почему я до такой степени был ему ненавистен; вероятно, он не мог простить мне случая, который произошел еще в раннем детстве. Шла война, мы жили в Дольяни, отец партизанил, скрываясь в лесах. Однажды ночью у матери начались схватки (она была тогда беременна моей сестрой), и ему удалось, рискуя жизнью, пробраться в дом; и вдруг облава, наши заметались, спрятали отца в подпол. Мать, лежа в постели, дрожала как осиновый лист. Вооруженные немцы вломились в комнату. Я-то видел, как отец лез в погреб, но думал, что это игра, и потому затянул: «А папка спрятался, папка спрятался, папка спрятался…» Хорошо, что те немцы не понимали по-итальянски. Они засмеялись, указывая на живот матери: «Маленки?», — с тем и ушли.
Сегодня четырехчасовая забастовка и символический захват предприятия. Необходимо действительно взяться за руки и захватить завод по-настоящему, а эти все цепляются за какую-то символику. Ведь что получается: дела обстоят плохо. Новый коллективный трудовой договор будет очередным надувательством. Добиваясь лучших условий, мы неимоверно рисковали оказаться отброшенными назад, особенно когда хозяева намеревались обвести нас вокруг пальца так называемым «вознаграждением за присутствие». Это означало, что отсутствующие, к примеру по болезни, должны были довольствоваться урезанной оплатой. Таким образом, нас собирались лишить того, чего мы с помощью борьбы добились далекой и загадочной «жаркой осенью» 1969 года. Не нравится мне это положение об отсутствующих. Кстати, все причины возможного невыхода на работу указаны в личной карте, имеющейся у каждого рабочего: болезнь, отпуск, несчастный случай на производстве, отгулы за свой счет, различные происшествия и т. д. Вот я отсутствовал почти три месяца по причине дорожной аварии, однако в моей карточке записали «болезнь». Какая же это, к чертям, болезнь? Разве я виноват, что машину моего друга вынесло за обочину? Все эти данные о невыходах на работу — фальшивка, вранье. В действительности подобные случаи составляют лишь небольшой процент, но никто не собирается разобраться в них и как следует оценить ситуацию. Когда нужно набросить ярмо на шею рабочим, все идет в дело.
Правда заключается в том, что хозяева стремятся постоянно держать нас в узде. Они жаждут возвратить себе все то, что нами завоевано и принадлежит нам по праву, и продолжают требовать от нас усилий и жертв. Но во имя чего? Разве недостаточно они измывались над нами и над предшествующими поколениями? Пусть требуют жертв от тех, кто на дармовщину жрет в три горла, от жулья, успевшего пробраться к председательскому креслу, от богатой паразитической буржуазии, которая высасывает наши деньги, кровь, пот, всю нашу жизнь, само наше существование от начала до конца. Днем и ночью, днем и ночью они бесцеремонно вторгаются в наш быт, в наши мечты и чувства.
Иду закрывать наряды и встречаю старого сварщика. Он весь в поту, задыхается, глядит угрюмо. Ему приходится работать с вредными для здоровья электродами, под разлетающимися искрами, которые могут поранить. На нем всегда пропотевшая, прожженная во многих местах спецовка. Завязывается разговор. Пространство у окошка диспетчера во время наибольшего скопления народа превращается как бы в маленький салон, где мы обсуждаем всякую всячину. Он говорит: «Не могу больше, Томмазо, не могу, болят почки, жжет глаза». Вокруг шеи у него платок, волосы на лбу взмокли от пота. Он все повторяет: «Не могу больше, Томмазо». Я ему советую: «Иди, Рокко, на пенсию. У тебя шестеро взрослых детей, тебе уж пятьдесят четыре стукнуло, чего ты ждешь?» А он: «Нет, Томмазо, нет, дорогой, нет», да так грустно, что слезы наворачиваются.
Ну какого лешего, спрашивается, нас держат тут до седин? Что они, господи ты боже мой, хотят выжать из почти шестидесятилетнего старика? Почему нас не отправляют на пенсию раньше, когда в нас есть еще и порох и энтузиазм. Ведь столько безработной молодежи отчаянно ищет — нет, не райской жизни, а простого рабочего места. У каждого человека есть неосуществленная мечта: огород ли, ремесло какое, разведение животных, садоводство, моделирование… По нынешним временам все это может оказаться полезным и даже доходным. Представьте себе престарелых родителей, которые снабжают нас фруктами, зеленью, могут смастерить корзину или что-нибудь из мебели, которые гуляют с детьми и ухаживают за нами при болезни, делают вино, масло, заготавливают соус для риса и макарон, содержат дом в чистоте (это оценят работающие женщины), стряпают еду, при случае украсят стол букетом цветов, окно занавеской, вызовут слесаря когда нужно.
Взяли на работу новых ребят. Очень застенчивые, робкие пареньки. Едва приблизится белый халат, так они уже и в штаны наложили. Краснеют. Мой близкий товарищ, Микеле, большой шутник, разыграл одного. Стащил где-то белый халат, встал у того над душой, сложив руки, как Муссолини, и давай орать, словно эсэсовец: «А ну, внимательно смотреть, я сказал, внимательно, а то оштрафую, и не заставляй меня повторять дважды, здесь я начальник и не пожалею никого, даже собственную мать! Шевелись!» С Микеле я и раньше работал на других предприятиях. Мы хохотали до упаду, называя друг друга самыми заковыристыми именами: Дефибриллятор, Железографит, Рододендрон, Полибензимидазол… Потом начали сами изобретать новые слова: Дерьмосифилопат, Антизаднициатор. Вечерами, сидя по домам, листали словари, чтобы наутро проорать свои изобретения друг другу на ухо со зверской рожей — в подражание комиксам.
Понятно, почему крестьянин начинает ненавидеть и деревню, и землю, особенно в Апулии: засушливую, унылую, пустынную, твердую как камень. Здесь бы надо провести каналы, насадить побольше тенистых рощ, где было бы много дичи, зверей, чтобы эти места давали не только фрукты, зелень, зерно, бобы, чечевицу, пшеницу, но и мясо.
У многих крестьян — ремесленников и батраков — дети растут хилые, болезненные и в очках в отличие от своих крепких, жилистых, здоровых родителей. Вот те и вынуждены пускать их по чиновничьей линии в промышленности. Городская пища вместе с гнилым воздухом и нервной жизнью лишь способствует ослаблению будущих поколений. А я спрашиваю: кто же будет ручным трудом заниматься?
Идем закрывать наряды. Как обычно, перед окошком толпа. Заводим беседы. Кто-то, оперев голову на руку, спит стоя, как лошадь. Ждем с бумагами в руках. Кто-нибудь из проходящих нет-нет да и выхватит из наших рук пачку нарядов, и ну бежать. Его немедленно догоняют — что за шутки! Кто-нибудь чуть присядет и коленями как даст под коленки впереди стоящему; тот едва удержится на ногах — и в ругань. А если завидим среди нас старичка, кричим ему: «Здорово, дед, пошли на обед!»
В раздевалках всегда воняет металлом и краской. От металлических шкафов, что ли, кстати очень маленьких (2.20 х 40 х 40). А может, мы сами притаскиваем вонь ржавчины и опилок на своих спецовках и башмаках. Посреди раздевалки фонтанчик, как в городском саду, в несколько струй.
В детстве мы вечера напролет забавлялись тем, что брызгали друг в друга водой из таких фонтанчиков. Подставляли руку к крану, стараясь зажать его, и тогда тугая, острая струя воды била очень далеко. Случалось по ошибке облить прохожего, который ругался на чем свет стоит. Еще в нашем арсенале были велосипедные камеры. Мы брали такую резиновую камеру, привязывали ее к трубке фонтанчика, закрепляли с другой стороны веревкой. Понемногу камера заполнялась водой, становилась похожей на огромную колбасу, на мяч, на мочевой пузырь, делалась массивной и тяжелой. Тогда мы отвязывали и резко отпускали ее. Камера принималась бешено крутиться в воздухе, потом извивалась на земле, потом снова в воздухе, пока вода в ней не успокаивалась.
У нас в цехе свой бог Вулкан. Он занимается термической и химической обработкой металлов. Коренной житель Бари — очень симпатичный, низкорослый, крепкого сложения. Всегда, даже зимой, в рубахе, причем такой широкой, что под нею целая фабрика поместится. В горле у него все время раздается какой-то рык. За это мы его прозвали «мотороллер». Он весь в ожогах. На руках и на ногах у него обширные зловещие шрамы, делающие его похожим на чудовище. Однажды он на моих глазах попал ногой в форму с расплавленным металлом, стынувшую на земле. Бедняга корчился, как змея, и орал. Ему мгновенно оказал помощь один из рабочих, которому дирекция за это выдала денежную премию.
Через год уходит на пенсию наш старый товарищ, некогда батрак, коммунист старой закалки. Несмотря на возраст, он полон энергии и энтузиазма. Невысокий, тощий, как гвоздь, смуглый дочерна. Он активно участвует во всех собраниях. Выступая, говорит не так, как все, зато убедительно и по существу. Однажды он сказал: «Дорогие мои товарищи, взгляните на себя. Не кровь течет в наших жилах, потому что мы являем собой стадо овец. Только три вещи занимают итальянцев: футбол, песенки да любовь».
Моя бабка, когда ее кто-нибудь обижал или просто нервировал, упирала руки в бока и причитала нараспев: «Все одинаковые, все одним миром мазаны…»
На газонах возле административных корпусов, где засело наше руководство, растут прекрасные душистые цветы. Рядом же с производственными цехами — только кактусы и кустарник с красноватыми листиками и короткими злыми колючками.
Вдруг обесточился цех. Вероятно, во время вчерашнего дождя залило какой-нибудь предохранитель. Погас свет, все погрузилось в тишину; работают лишь те, кто обходятся без электричества: наладчики, техники, уборщики, кладовщики, служащие. Кто-то из рабочих кричит: «Свет, не зажигайся больше!» Другой вторит: «Зажгись за пять минут до конца смены!» Все мы облегченно вздыхаем. Народ помаленьку разбредается кто куда среди умолкнувших станков: кто, сбившись в кучку, обсуждает новости, кто вытаскивает колоду карт, хранящуюся в пачке из-под «Мальборо», кто выбирается на улицу подышать воздухом. Надсадно и пронзительно звонят телефоны. К сожалению, через пару часов ток дают вновь. Сначала загораются лампы на станках, потом включается первый станок, за ним сразу же десятки и сотни других. В цехе снова устанавливается грохот и гул. Несколько слишком загулявших рабочих, запыхавшись, трусят по аллее. Жаль. Цех только-только начал менять облик, все становилось праздничным. Фрезеровщик на пустом бидоне из-под минерального масла исполнял джаз.
Наш местный шут, чернорабочий Джакомино, тот, что напяливал на себя женские трусики, найденные в куче ветоши, подходит ко мне и закуривает сигарету. Однако зажженную спичку не выбрасывает, а сует в рот, крепко зажав между зубами. Он ворочает ею во рту с помощью языка и снова достает, горящую, после чего спичка опять исчезает во рту и наконец появляется, уже погасшая и дымящаяся. Я гляжу на него с восторгом: покажи, говорю, как сделал, давай сначала. Он говорит, погоди, тут меня вызвали оттащить ящик со стружкой, и уходит, напевая что-то себе под нос.
На следующее утро он повторяет для меня свой фокус: сует горящую спичку в рот и вынимает ее оттуда, перевернутую и продолжающую гореть, причем проделывает все это зубами и языком без помощи рук и не обжигаясь. Настоящий фокусник. Спрашиваю, что за песню ты давеча напевал. Там, говорит, такие слова: зачем пахать, мотыжить землю, коль все равно придет война?
Потом собирается показать мне еще один фокус и просит иглу. У меня в шкафчике все есть — и игла и нитка, потому что, если отскакивают пуговицы, мы их пришиваем сами. Берет иглу и кладет ее на сгиб руки. Сейчас, говорит, согну руку. Я в ужасе говорю, мол, не делай этого, воткнется же — он сгибает руку в локте, потом разгибает. Игла торчит из кожи. Вытащи, говорит. С дрожью вытаскиваю иглу.
Это тот самый чернорабочий, которого я встретил в больнице, когда после автомобильной катастрофы лежал там распятый как Христос. На мне тогда не было очков, они разбились в автомобиле; я, словно в тумане, видел, как Джакомино прошел по коридору, стал звать его что было сил, но голос срывался, я еле дышал. Мне подумалось тогда: неужели даже здесь можно встретить своего человека с завода? Решил, что обязательно нужно именно с ним переправить на завод объяснительную записку о причине моего отсутствия. Представляете себе: богу душу отдаю, а сам думаю о какой-то объяснительной записке. Все звал его слабым, замогильным голосом по фамилии: Росси, Росси, Росси…
Пишем друг другу любовные письма. Когда выходим к 7.00 в первую смену, на наших шкафчиках лежат записки, в которых сообщается о новых деталях, запущенных в работу, то есть что с ними делать и как. Послания эти пишутся на первых попавшихся клочках бумаги. Мы не можем позволить себе бумагу экстракласса, потому что руки у нас грязные и царапать слова приходится скособочившись, на краю шкафчика, или примостившись у какого-нибудь станка, где всякие отверстия и впадины, которые годятся для того, чтобы положить туда яблоко, кольцо, газету, но не для писания любовных писем… К тому же вечером нельзя задерживаться в поисках пристойной бумаги, так как вскоре после ухода персонала на территорию выпускают свору сторожевых собак, таких, о которых я говорил, каждая величиной с осла; они с воем разбегаются по аллеям завода. Приходится пользоваться любой бумагой — для вытирания рук, для технических расчетов, карябать на обратной стороне какого-нибудь ненужного чертежа, выброшенного наряда или на профсоюзной листовке. Это телеграфные послания. Беру в руки и читаю одно из них: «Марио, размеры верны только в длину. Начать 0,2; далее 0,5 (резец тот же); d 35 обработан вчерне. Не продолжай d 143, это ошибка. Антонио сказал, что ничего».
«Эти два отверстия высверлить в первую очередь».
«Сменить воду (воняет)».
«Шпиндель в порядке. Довести до конца резьбу, номер шестой по чертежу, толщина уже готова».
«Дорогой Нунцио! Перегородка в углублении крепится неподвижно, деталь вращается. Размер довести до 0 (нуля). В 4-х отверстиях на d 6 возьми поменьше. Углубление с обеих сторон. Деталь устанавливай в том положении, в каком я тебе ее оставил. Пеппино».
Чтобы ночь пришла быстрее, требуется немного. О том о сем покалякать. Пожевать хлеб с колбасой. Разжечь костер на заброшенной ферме. Откупорить бутылку хорошего вина. Кто боится ночи? Кто боится пьяных? Кто боится призраков? Ночь всех нас объединяет, роднит; все желают тебе здоровья, счастья, и ты платишь тем же. Проходим по улицам. На площади гоняют мяч. Смешались в кучу толстые, худые, веселые, печальные, пьяные, молодые, старые; кто при галстуке, кто в парадных брюках, кто в красном костюме. Вратарю под сорок. Он худой, лысый и к порученному делу относится ответственно: лицо напряжено, лысина вспотела. Так проходит ночь. Игроки лупят по мячу, не поймешь, кто где. Забили гол в свои ворота. Виноватому отвешивают щелбаны и орут на него. Потом гаснут фонари.
Сегодня повздорил с одним своим сверстником. Начал мне вправлять мозги: ты, мол, уже старый, и нечего шлепать по проспекту с какими-то девчонками и мальчишками. Женатый мужик, возьмись за ум, гляди, раздался, как свинья, и седина в голову. Дорожи, мол, любовью ближних, ведь годы-то летят. Я ему отвечаю: иди-ка, парень, в болото, сам ты старый и вдобавок буржуй, на себя погляди. Почему мы здесь не живем, а существуем? Потому что мы есть тупые, безмозглые рабы. Вместо взаимной поддержки и жизни во имя молодости, веселья и здоровья мы даем друг другу придуманную нами самими отраву, словно недостаточно ядов уже давно отравляют человека. Отвяжись, змей, говорю я ему и изображаю змеиное шипенье: шшшшшш!
Женившись, мы ни на что больше не годимся, превращаемся в отбросы, гниющие в помойной яме. Когда бы ни женился — в двадцать пять лет, в тридцать. Хоть в четырнадцать. Все одно, ты становишься обгрызенной горкой, ничтожеством. Вынужден таскаться по улице за своим выводком и женой, постоянно торчать рядом с ней, все время ощущать ее присутствие, когда она спит, ест, канючит, сидит в сортире, страдает головной болью. Жизнь становится беспробудно серой, и это конец. Женатый мужчина теряет свой революционный запал, перестает быть носителем нового. Ответственность раздавливает его в лепешку, и он смиряется со своей участью.
Лишь одно дерево осталось на площади. А раньше их было множество. Тут вообще было много зелени, росли сотни высоких тенистых деревьев с могучими стволами. Теперь из них осталось одно-единственное. Хороший предлог для того, чтобы распять его на кресте из тысячи тонн железобетона.
Трик-трак! — сухо шелестела обрубленным хвостом ящерка в траве. Она прыгала, кружилась, подскакивала, словно собираясь наброситься на нас, а мы, дети, принимались хором заговаривать ее: «Ящерка, ящерка, полезай в норку, принеси нам корку. Полезай в норку, принеси нам корку…» И так, пока она не исчезала в траве. Пока не пропадал ее сухой шелест: трик-трак!
Известковый фасад дома, где живет один мой товарищ, превратился в мраморный, ядовито-розового цвета. Исчез виноград, который увивал террасу, нет больше колодца — ничего больше нет. Только жуткий фасад из розового мрамора. Я спросил: «Какого черта вы это натворили, идиоты?» Он ответил, что недавно состоялась официальная помолвка его сестры с хорошим человеком, из служащих, настоящим мужчиной, и что этот брак должен, обязательно должен состояться.
Навестил сегодня приятеля, который не работает по причине несчастного случая. Он веселился, с гордостью показывал мне загипсованную руку, угощал вином, потом закурил сигарету и держал ее двумя пальцами больной руки, смешно вытягивая шею, чтобы можно было курить. Я его не узнаю. Он совершенно не такой, каким бывает на заводе. Словно помолодел. Прощаюсь. В ответ он помахивает гипсом и улыбается: чао!
Страшно болит колено. Болит не переставая. Ни физиотерапия, ни гипс, ни электромассаж облегчения не принесли. Узнал, что в деревне неподалеку живет замечательный костоправ, к нему приезжают за помощью из всех окрестных сел. Он — моя последняя надежда. Еду к нему, но не застаю дома. Скоро вернется, говорит его жена, ты сядь, посиди. Нет, отвечаю, я лучше на улице подожду. Да садись, что люди скажут? Нет, говорю, посижу на земле, мне так больше нравится. Приходит муж. Ну что, молодой человек? Показываю колено. Да здесь же все распухло! Еще бы, говорю. Когда случилось? В прошлом октябре. Поздновато, что ж раньше не шел? Не знал, отвечаю, про вас. Он просит жену принести таз с водой, ставит туда мою ногу и начинает мучить меня зверским массажем. Льет с ладони воду на больное место и трет, трет без конца, массирует. Потом, вытерев насухо, присыпает пудрой. Будет лучше, говорит. Приедешь домой — обвяжи бинтом. Я смотрю, как он работает. Ну надо же! Такого человека с мозолистыми и твердыми как камни руками в больнице днем с огнем не сыщешь. Ни один санитар к тебе даже не прикоснется: брезгуют, наверно. А этот человек заботливо массирует мое колено своими сильными, но очень легкими руками, похожими на орлиные лапы. И — странное дело — боль понемногу уходит. Его жена кладет в кипящую воду макароны, по дому разносится запах поджаренного с помидорами чеснока. Спрашиваю, сколько с меня. Сам решай, отвечает он. Оставляю десять тысяч. Он растерянно улыбается, говорит — это много. Я настаиваю, прошу его взять деньги, мы улыбаемся друг другу. И не надо платить никаким медсестрам: они обычно, если любезны с тобой, значит, ни черта не умеют.
Нас человек пятьдесят. Мы собрались на лугу, разожгли костер, уселись в кружок и поем, рассуждаем, разговариваем. Огонь пылает яркий, веселый, и хочется на нем что-нибудь зажарить. Но у нас нет ни гроша, а вокруг, как назло, никакой живности. В этих местах встречаются люди, скрывающие под засаленными пиджаками миллиарды, но мы сидим без денег. Правда, у нас есть почти все остальное: молодость, веселье, женщины, деревья, луна, звезды, гитара, сверчки, — только еды никакой.
Один из рабочих вдруг в шутку завыл: «У-у-у-у-у-у-у-у!» — и тут же все остальные, включая меня, подхватили: «У-у-у-у-у-у-у-у!», «У-у-у-у-у-у-у-у!» Мы выли и выли, словно волки или упыри. Потом кто-то крикнул: «Ну хватит, а то ребенка разбудите да напугаете!»
Я чувствовал себя разбитым, как никогда. Время тянулось бесконечно долго. Восемь бесконечных часов работы. Не могу же я каждый день, например, по восемь часов кряду есть, по восемь часов заниматься любовью, по восемь часов развлекаться. А здесь приходится по восемь долгих часов работать.
Встретил недавно своего двоюродного брата, он работает врачом. Делает деньги, и такой стал важный: я для него что ноль без палочки. Он и здоровается со мной сквозь зубы. Я ему: ну что, много денег наварил? А он в ответ: мол, долго учился и благодарит отца, который возил его в школу на телеге. У моего отца телеги не было.
Сегодня под навесом у заводских ворот я ждал автобуса на Бари. Лил дождь. Видели бы вы, что вытворяли эти автомобили! Гоняли как на пожар, делали смертельные обгоны — и все для того, чтобы поспорить, кто быстрее… У ног моих лужица, передо мной ковер маков, позади — слепящая зелень лугов.
Нам неохота было ходить в столовую по длинной асфальтовой аллее, и мы протопали тропинку напрямик через газон. Тропинка эта приводит в бешенство садовников. Чего только они ни делали, чтобы отбить у нас охоту пользоваться ею: насажали каких-то колючек, кактусов, крапивы, — все без толку, мы продолжаем ходить напрямик через газон. Наконец садовники вроде бы смирились, но всякий раз, когда мы появляемся на тропинке, они смотрят волками и ругаются на чем свет стоит.
Вечер выдался жаркий, влажный. Комары путаются в волосах, усах, набиваются за воротник. Раскаленная стружка выжгла на груди одного из наших фрезеровщиков целую татуировку — как будто кошачья лапа грудь расцарапала. Когда стружка пристает к коже, это дико больно, ее не отдерешь, и шкура поджаривается живьем. А попадет в волосы, так ее не найти. Пахнет паленым, волосы тлеют, а где стружка проклятая — непонятно.
Порхают бабочки, горит обожженная и искусанная шея; чтоб не горела, повязываем платки на манер американских гангстеров. В душном вечернем воздухе ноют комары, жужжат большие мухи, а бабочки все порхают и порхают; крылышки у них прозрачные, словно дамские лифчики. Из ворот пахнет гнилью, мочой; прошелестела и скрылась летучая мышь. Ухо тщетно пытается уловить шум прохладного дождя. Вот так всегда знойным летом: ждешь не дождешься зимы, чтобы снова мечтать о лете.
1
Из Материалов XVI съезда ИКП.
(обратно)2
Один из крупнейших итальянских капиталистов, владелец фирмы ФИАТ, производящей легковые автомобили. «Катена-Зюд» — предприятие, построенное Аньелли на Юге Италии. — Здесь и далее примечания переводчиков.
(обратно)3
Трулло — тип апулийского крестьянского дома с островерхой купольной крышей.
(обратно)4
Акционерное общество нефтеперерабатывающей промышленности Италии, тесно связанное со «Стандард ойл компани» (США).
(обратно)5
Общенациональное предприятие по производству электрической энергии.
(обратно)6
Итальянский союз трудящихся (ИСТ) — профсоюз социал-демократического направления.
(обратно)7
Название нефтяной компании, в данном случае ее итальянского филиала.
(обратно)8
Национальный институт помощи пострадавшим на производстве.
(обратно)9
Национальный институт социального обеспечения при профсоюзе католического направления.
(обратно)10
Разновидность инсектицида.
(обратно)11
Универсальный магазин самообслуживания с твердыми, умеренными ценами.
(обратно)12
Лидер неофашистской партии.
(обратно)13
Игральные автоматы (англ.).
(обратно)14
Монеты (англ.).
(обратно)15
Итальянские профсоюзные объединения.
(обратно)



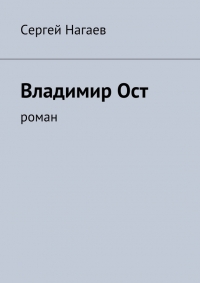



Комментарии к книге «Голубая спецовка», Томмазо Ди Чаула
Всего 0 комментариев