Звонок телефона раздался в десятом часу утра.
Он шагнул к большому столу, на краю которого стоял аппарат, снял трубку,
— Слушаю.
— Хелло, Моску? — раздалось звучное девичье контральто. — Итальяно. Рома.
И тотчас в трубке возник другой – сдавленный от напряжения – голос.
— Это я. Через шесть часов улетаю в Нью–Йорк. А сейчас иду менять лиры на доллары.
— Господи, сыночек! Как я рад, что ты звонишь! Как ты мог уехать, не простившись?..
— Ладно! Не будем терять времени. За эти три месяца ничего не нашёл в кладовке?
— Нет. Сыночек, как ты?
— Отодвинь большую картонную коробку с корой для твоих орхидей — увидишь.
— Хорошо. Но скажи хоть два слова о себе. Сердце болит? Как себя чувствуешь?
— Увидишь, что за коробкой, — узнаешь.
В трубке щёлкнуло. Послышались частые гудки. Он положил трубку. Снова снял её. Обычный длинный гудок.
Долго сидел у телефона, уткнув лицо в ладонь. Представлял утренний аэропорт в Риме, стойку банка с окошками касс, где сын меняет лиры на доллары…
Затем заставил себя встать, прошёл коридорчиком к кладовке, щёлкнул выключателем, открыл дверь.
Картонная коробка высилась в глубине средней «полки за пластмассовыми бутылками с жидким удобрением «Уко». Он сдвинул бутылки влево, потянул на себя коробку с торчащими кусками сосновой коры и увидел прислонённую к беленой стене длинную общую тетрадь в чёрной клеёнчатой обложке.
«Я не умею с тобой разговаривать. Вечно ты занят. То пишешь свой проклятый роман, вот уже шестой год. То у тебя больные. То уходишь заниматься к своему Артуру Крамеру. То читаешь и конспектируешь какие‑то книги, которые часто не книги даже, а ксероксы с книг.
То возишься со своими проклятыми орхидеями.
И лишь когда ты на кухне — готовишь еду, моешь посуду или стираешь в ванной, тебе можно подойти.
И всегда из этого ничего хорошего не выходит. Ты всегда злишь меня тем, что, не прерывая работы, отвечаешь коротко, будто всем своим видом показываешь, что вот ты занят, а я бездельник.
Да, я бездельник. Но теперь тебе придётся меня выслушать. До конца. Когда ты будешь читать то, что написано в этой тетради, я буду уже далеко от тебя…
Черт! Как долго длится зима. Конец февраля, за окнами снова метёт снег. Ничего, немного ещё осталось.
Я жду вызова. Вот почему каждое утро и вечер бегу вниз по лестнице к почтовому ящику. Надеюсь, если все‑таки конверт с вызовом первым попадёт к тебе, ты не вскроешь его, не уничтожишь, отдашь мне. Отдашь, куда ты денешься со своими благородными принципами!
Никогда ты не поймёшь, что значит ждать вызова! Да если б я и хотел что‑то делать — не смог бы. Знаю, надо не терять времени, учить английский… Не могу. Считаю дни, часы. Уже и телевизор стало тошно смотреть, крутить на магнитофоне Высоцкого, Вилли Токарева. Ты даже не заметил, что я положил тебе обратно твой магнитофон — «единственную нашу ценность», как ты говоришь.
Конечно, я нарочно включал его на полную громкость, когда к тебе приходили больные. Ничего, скоро тебе никто не будет мешать корпеть над романом, заниматься.
Все у тебя «единственная ценность» — книги, орхидеи, магнитофон. А сам ходишь в рваных ботинках.
Из‑за тебя живём в бедности. Вот сколько к нам ходит больных. Из других городов приезжают, даже из Болгарии, Греции. А ты не берёшь денег! Строишь из себя нового Иисуса Христа.
Когда сегодня утром ты вошёл в комнату, увидел, что я не сплю, и, крикнув «Лови!», кинул апельсин, я, конечно, поймал, сказал спасибо, но только ты никогда не поймёшь, что мне мало одного апельсина, пусть даже последнего, мне надо бы штуки четыре зараз, а так — только желудок раздразнить… Проклятая бедность, проклятые твои принципы!
Давно уже у меня накопилось, что тебе сказать. И вот я решил: пока тянется время до вызова, скажу тебе все за всю жизнь.
Я, конечно, не писатель. Не такой, как ты, который неизвестно зачем годами пишет свои сочинения, зная, что их наверняка не напечатают. Зато ты прочтёшь в этой тетради многое, о чём даже не подозреваешь, о чём не догадывается твоя кудлатая, вечно нестриженая башка. Не обращай внимания на ошибки, на то, что почерк плохой, мелкий и строчки задираются вверх. Ты читай, читай… Сколько сволочей пишут без ошибок и складно. А мне всё равно, лишь бы ты понял.
Не забуду, как, когда мне было четырнадцать лет, в тот первый год, когда я снова стал жить у тебя и дедушки, ты подбил меня попробовать написать стихотворение.
А ты помнишь?
Помнишь, как ты, прочитав его, плакал? И обнимал меня. И жалел. А потом сказал, что я умею быть искренним. Оно у меня сохранилось. Вклеиваю. Тебе на память.
МОЯ ЖИЗНЬ
Жизнь моя трудна и непонятна, И течёт она, как кровь из рваной раны. Надо бы её остановить. Не остановить мне вольной птицы. Что же делать? Как же быть? А не рано ль бить тревогу?. Кто ко мне? Кто на подмогу? Нет таких. А я один, Сам себе не господин. Соберусь, однако, с силой, С твёрдой волей, сердцем милым. И скажу себе я тихо: Потерпи, и всё пройдёт. И разгонит тучи ветер, Выйдет солнце и осветит Молодость мою! Смотри, не заплачь снова.Вообще‑то, я хотел осуществить эту затею с тетрадью раньше, ещё в позапрошлом году, когда умер
дедушка. Когда потом, уже поздно осенью, в конце ноября, я так неожиданно для тебя исчез из дома, я жалел не о том, что не оставил тебе хотя бы записку (я боялся, что ты сразу отыщешь меня сам или подымешь на ноги милицию). Я ехал в поезде «Москва — Сухуми» и думал, что, если мне удастся осуществить мой план, ты никогда не узнаешь, какой я на самом деле. Я думал: погибну или сделаю что хочу, думал, что других вариантов нет. Смерти я не боялся. После всего того, что со мной было.
Ехал, жалел только о том, что ты так ничего и не поймёшь до конца.
Хорошо, что я тогда, перед тем как уйти из дома, не оставил тебе такой тетрадки. Иначе во что бы превратилась наша теперешняя жизнь? Ты спросишь: почему? Не торопись, читай дальше.
Теперь, если я получу наконец вызов и меня выпустят, поймёшь все.
Представляю, как ты будешь сидеть один и читать…
Ехал я тогда в поезде «Москва — Сухуми», вшивый поезд, хотя и фирменный, и, если по–честному, боялся: вдруг на какой‑нибудь станции войдёт милиция, заберут, отправят домой. Или куда похуже. И тебя боялся тоже. Помнишь, за год до моего побега, зимой, тебе кто‑то привёл заплаканную тётку, у которой исчезла дочь? И эти хмыри с Петровки, 38, не могли её найти, — без толку объявили всесоюзный розыск. А ты посмотрел на фотографию, поводил ладонью с закрытыми глазами сперва над картой Москвы, потом над картой Подмосковья, пальцем ткнул куда‑то, где станция Тучково, сказал: «По–моему, здесь, но я не уверен, не гарантирую».
А весной, когда растаял снег, её нашли мёртвую в канаве у станции Тучково, и к тебе потом приезжали из МУРа менты в штатском на чёрной «Волге», уговаривали сотрудничать, помогать разыскивать этих «подснежников». А ты отказался. Помнишь?
Так вот, я боялся, что ты и меня найдёшь ладонью по карте. Если хочешь знать, я сначала поехал в Таллинн, и не только чтоб тебя запутать.
Один хохлатый панк, с которым я познакомился на Пушкинской площади, сказал, что легче всего сделать то, что я задумал, в Эстонии; дал мне таллиннский телефон. Вот я и поехал в Таллинн, дозвонился по этому номеру, встретился в кафе с каким‑то лыжным тренером.
Тот потребовал тысячу, и не чего‑нибудь, а долларов. Я ему говорю: «Откуда они у меня, от сырости что ли? Я и долларов‑то никогда не видел».
Тогда он послал меня матом и ушёл, спасибо, что не донёс.
Таллинн я толком и не увидел, побывал лишь на Ратушной площади да в том кафе, где встречался с этим типом, ещё и заплатил за него. Мог бы, конечно, остаться на денёк, да ночевать негде, в гостинице дорого. К тому же там требуют паспорт, регистрируют.
Вечером уехал обратно в Москву. Утром вышел на вокзале, совсем близко от тебя.
Холодно. Есть хочется. Была мысль: бросить все, вернуться домой.
Я даже зашёл в автомат, хотел позвонить, будто бы из другого города. Да автомат оказался испорчен, проглотил единственную девушку. Ведь я все‑таки боялся, как бы с тобой чего не случилось, знал, что ты волнуешься.
Как чужой в собственном городе, сел в метро, доехал до Курского, запросто купил билет, тем более зима — не сезон. Поезд отходил вечером, деваться некуда, по залу ожидания бродила милиция. Поел в столовке на Садовом кольце, посмотрел дурацкий фильм в кинотеатре «Встреча». А оттуда, как ты знаешь, близко до дома, где живёт мать. Я все думал: позвонил ты ей или нет? А может, позвонил бабушке с дедушкой, ищешь меня? А вдруг совсем не ищешь? Ведь тебе трудно со мной, не такой уж я идиот, чтоб не понимать. Вот и освобожу всех вас от себя, да и себя от всего.
Ужасно тяжело думать обо всём этом, когда ходишь около вокзала, а в Москве уже горят фонари, люди густым потоком идут с работы на электрички, парочки встречаются в метро. А где‑то там, за кварталами домов, в разных местах города живут твои отец и мать и не подозревают даже, что через час их сын уедет навсегда…
Я сидел в пустом купе вагона, мимо окна поплыл перрон с провожающими. Я и боялся, что на ближайшей станции войдёт милиция, снимет меня, и немножко хотел этого.
Интересно, приходила ли тебе мысль попробовать найти человека ладонью в поезде, движущемся по стране?
В то утро я проснулся на своей верхней полке оттого, что внизу у столика завтракали два человека — муж и жена. Они, наверное, сели где‑нибудь в Туле или в Курске.
Разделывали жареную утку, чистили яйца, звякали ложками в стаканах.
Я полежал–полежал, потом надел джинсы и спрыгнул вниз.
Женщина, толстая и красная, как свёкла, взглянула на меня, пригласила:
— Подсаживайся.
Я кивнул, поблагодарил. Но сначала вытащил из бокового отделения сумки мыльницу с мылом, зубную щётку с пастой, взял полотенце и отправился умываться.
Потом ты мне говорил, что, когда обнаружил, что нет зубной щётки, нет твоей дорожной сумки, ты догадался, что я куда‑то уехал, а не зарезан на улицах Москвы, не попал в милицию.
Догадался ты правильно. Только не о самом главном.
Ну вот, когда я умылся и вошёл обратно в купе, стал надевать ковбойку, свитер, женщина сказала:
— До чего же ты худой! Как дистрофик! Садись.
Они уже кончили есть, все убрали, только на чистом
клочке газеты оставили мне кусок утки с хлебом, крутое яйцо да остывший стакан чаю.
Я, как говорится, не дал себя долго упрашивать.
Правда, в сумке у меня были завёрнутый в целлофан большой кусок сала из нашего холодильника, два целлофановых пакета сухарей с изюмом, четыре банки сгущёнки да банка ананасового компота, которую я выпросил у бабушки, как всегда жалуясь ей, что ты меня моришь голодом.
Но это был НЗ — неприкосновенный запас. И я не собирался ни сам его трогать, ни тем более делиться с этими людьми, которые, оказывается, ехали отдыхать в какой‑то санаторий в Гаграх.
Ух и замучили они меня вопросами: «Не болен ли? Куда еду? Почему не в школе? Да как зовут? Да сколько мне лет?» Сами же угостили и сами же не дали спокойно поесть. Я им, конечно, все наврал. Сказал, что меня зовут Коля, что мне уже девятнадцать, что да, я болен, у меня колит, и тоже еду в санаторий, только в Сухуми.
Если б ты видел, как они обрадовались, я просто обалдел от их глупости. Сказали, что у них будет экскурсия в Сухуми, что надо там увидеться, вместе погулять по городу, поехать в обезьяний питомник.
Чего ради? Зачем я им — совсем чужой человек? Зачем они мне со своим вонючим обезьяньим питомником? Странные люди. Мне кажется, они просто надоели друг другу, да ещё в отпуск вместе поехали, вот и жаждали хоть какого‑то разнообразия в моём лице.
Тётка убрала за мной: завернула в газету кости, скорлупу от яйца, вынесла в мусорный ящик. Молчаливый муж её, толстый, как сурок, завалился с «Огоньком», и я скорее залез на свою полку, чтоб только не отвечать на новые расспросы.
В самом деле, странные люди. Всюду суют свой нос, высказывают мнения, лезут другому в душу, как будто у них своей нет… И мама такая же. А ты — Не такой. И я не такой. Тогда почему же мы никак не могли понять друг друга?
Теперь уже никогда не поймём. Только на одно надеюсь — на эту вот тетрадку. Последний шанс.
Зимой, наверное, поезда идут медленнее, чем летом. Никогда так долго и нудно не тянулось время, разве что сейчас, когда я жду конверта с вызовом.
Я лежал на полке. То спал, то вспоминал, как мы с тобой ездили. Оказывается, мы с тобой много ездили. То на юг, в тот же Сухуми, то в Карелию, то на Украину.
Помнишь Карелию? Мы тогда ещё жили все вместе — ты, мама и я. У меня были ещё две бабушки, два дедушки. Мне исполнилось то ли шесть, то ли семь лет, когда мы вдвоём поехали на поезде в Петрозаводск. Самое счастливое лето в жизни. В поезд нам надавали множество всякой вкуснятины, кажется, тоже была запечённая в духовке утка или курица с хрустящей корочкой, помидоры, огурцы. У тебя рюкзак, у меня рюкзачок. С нами были складные удочки в чехле.
Я все хорошо помню, хотя прошло много лет. Помню, как ехали из Петрозаводска автобусом, как шли лесной дорогой, поднимались на какую‑то гранитную гору, а когда вышли наверх, внизу увидели большущее озеро с единственной избушкой на берегу. У мостков стояла лодка.
Помнишь, как ты ключом, который нам дал в Петрозаводске твой знакомый учёный–охотовед, никак не мог отворить замок, потом наконец открыл скрипучую дверь… Как мы целый месяц жили одни на этом пустынном озере, ловили больших окуней на живца, а у тебя даже один раз клюнул угорь, и ты его испугался, подумал, что змея… Видишь, всё помню! Помню, как ты учил меня грести вёслами, как уходил за пять километров в деревню за продуктами, а меня оставлял «за хозяина».
Странно, что я так боялся тогда оставаться один. Теперь привык, не боюсь одиночества.
Помню, как бежал тебе навстречу, когда ты с тяжёлым рюкзаком и сумкой появлялся на склоне горы. Приносил мне пряники, ягоды, картошку, свежий хлеб. Как рассказывал на ночь многосерийные сказки.
А на рассвете мы снова уплывали ловить рыбу на нашей лодке. Помнишь остров, где мы разводили костёр, варили уху?
А ещё я помню, как к нам приехал твой бородатый охотовед, попросил перевезти его через озеро к дальнему лесному берегу. Как он рассказывал, что населению запрещено ловить красную рыбу — то, чем оно всегда питалось, и местные дети никогда не видят икры, сёмги, все это уходит в Москву и за границу.
Помню, как мы его высадили, как вы сверили часы, чтоб вечером забрать его обратно, и он скрылся в густом лесу. И как я тебя спрашивал: «Кто это запрещает ловить рыбу? И что мы будем делать, если нам попадётся сёмга?» Но сёмга нам не попалась. Зато мы наловили тогда целое ведро окуней и одну здоровенную щуку.
А к вечеру, к шести часам, подчалили к тому месту на берегу, и охотовед вышел из леса, а за ним вылетела чёрная туча комаров, вместе с которой он и сел в лодку. Вся его брезентовая одежда, все волосы, вся борода и лицо были в комарах. Лишь постепенно, пока мы плыли, они отстали.
Теперь я понимаю, что я тогда тебя очень любил, хотя и не осознавал этого. С тех пор мы ещё много с тобой ездили, но так хорошо уже не было никогда.
Вот о чём я думал и вспоминал, лёжа весь день на верхней полке.
Вечером эти самые попутчики позвали меня ужинать. И опять я ел их еду и презирал их. Лучше смерть, чем стать такими, как они — глупыми и толстыми свиньями.
Я уже вижу, как ты морщишься, читая это место, у тебя все люди хорошие, а если не очень хорошие, то их надо жалеть и так далее. Притворство всё это! Я знаю тех, кого ты ненавидишь.
Пока что эти «хорошие люди» жалели меня, называли Колей, рассказывали о своей дочке, которая развелась с мужем и воспитывает ребёнка. Тоска!
К счастью, они стали рано укладываться спать, а я походил по коридору вагона, постоял у окна, да там почти ничего не было видно, только моё отражение. И я подумал, что наступает, может быть, последняя ночь в моей жизни.
У многих в семнадцать лет есть друзья, даже своя девушка. У меня же — никого. Не с кем мысленно попрощаться, и никто не пожалеет обо мне, если что случится. Разве что ты. Мама вряд ли.
А вот сейчас я тебе расскажу всю правду про себя и маму.
В тот год, когда мы вернулись из Карелии, мать вдруг решила с тобой разойтись. Не знаю, как это объясняешь ты. Ты ни разу об этом со мной не говорил, а мать без конца твердит, что ты оказался прохиндеем, не тем, за кого она тебя считала, когда выходила замуж, что ты не хочешь зарабатывать, как настоящий мужчина, у которого должна быть машина, дача, пишешь никому не нужные сочинения. А она больная, ей нужно особое питание, санатории, она не должна таскаться каждый день на работу в своё музучилище.
Между прочим, мать на самом деле больная: ездит в Трускавец, ложится в клиники на обследования.
Хотя врачи ничего не находят, ест лекарства. Очень слабая и нервная.
Она мне рассказывала, что подала на развод, а ты даже не пришёл в суд. Что требовала разменять наши две комнаты и разделить вещи, а твои родители оставили ей всю квартиру, и мебель, и все, а сами переехали к тебе.
Зачем ты отдал меня матери? Я был маленький, ничего не понимал, а ты‑то, большой и умный балбес, должен был соображать, что ты наделал. Ты меня предал. Да, я знаю, мать не хотела оставлять меня тебе, это и суд постановил. Всё равно не должен был соглашаться.
В тот вечер, когда я стоял в поезде у окна и смотрел на своё отражение, я понял, что всё началось с этого твоего предательства. Кончились многосерийные сказки, кончилось моё детство.
Да, ты забирал меня по субботам из школы и к утру понедельника опять привозил к первому уроку. Помню, как ты будил меня, как бабушка кормила завтраком, потом мы с тобой спешили в темноте к метро, ехали с пересадками к Чистым прудам, где жили мы с матерью и где была моя школа.
Да, каждый год ты ездил со мной на летние каникулы в Сухуми и другие места, а потом я снова оказывался у матери.
И то, что я должен вернуться, отравляло мне все. Вот почему я так себя плохо вёл, так мучил тебя во время этих поездок.
Помнишь, однажды я засунул бабочку за шиворот нашей квартирной хозяйке в Сухуми? Как она визжала! Ты рассердился, а я убежал. Ты искал меня до вечера по двору, по пляжам, по всему городу, даже на вокзал ездил. И не догадался заглянуть на нашу крышу, куда я залез по приставной лестнице.
А как ещё я мог выразить свой протест?
Не хотел я жить у мамы среди пузырьков с каплями, среди таблеток, грелок и клизм. Слушать её вечные поучения, её вечные проклятия тебе. Каждый месяц ты присылал ей деньги — не знаю, откуда ты их брал, — возил меня на юг, забирал к себе по субботам и воскресеньям, а она ругала тебя последними словами, говорила, что ты ей испортил жизнь.
Не знаю, кто из вас кому испортил жизнь, но мне вы точно испортили.
Помнишь, она отдала меня сначала в престижную французскую школу к знакомой учительнице. Дарила ей духи, коробки конфет, приглашала в гости. Но на черта мне был нужен этот французский? Я хотел к тебе. Говорил об этом матери, плакал. И это ещё больше её злило. На время она вообще запретила видеться с тобой. Перевела в другую школу — обыкновенную. Но и здесь я не учился. Теперь по субботам и по воскресеньям она таскала меня к своим родителям на Ленинский проспект, куда приезжали её брат Дима и младшая сестра Марина, все разведённые и каждый со своим ребёнком.
Вот уж доставалось бабушке Клаве и дедушке Мише! Дедушка ходил в магазины, гулял с нами во дворе, бабушка готовила, кормила, стирала, усаживала за уроки. А мама с сестрой и братом смотрели телевизор и обсуждали свою жизнь.
Бабушка, как всегда, не давала им ничего делать, жалела их, обманутых, больных, говорила, что они с дедушкой прожили тяжёлую биографию, всего добились, воспитали трёх замечательных детей, дали образование: одна — музыкант, другая — актриса, третий — инженер, и все несчастны.
Каково было при этом делать уроки на понедельник, нудно решать примеры по арифметике с иксами–игреками, учить стихи про пионерский галстук? Однажды, когда мы приехали домой от бабушки с дедушкой, она впервые избила меня. Ни за что.
Вчера я не успел до конца рассказать про себя и маму, про то, как зимой ехал в поезде «Москва — Сухуми». Не очень‑то приятно все это ворошить. Но только ты должен знать правду, перед тем как мы расстанемся. Помнишь, когда я кончал третий класс, она снова разрешила забирать меня на субботу и воскресенье, на все каникулы?
Тогда твоя мама, другая моя бабушка, сказала дедушке, а я это случайно подслушал: «Ира скоро отдаст его насовсем, решила, наверно, выйти замуж, и вообще он ей надоел».
Она была умная и по–настоящему меня любила. Я до сих пор помню её чёрные лучистые глаза, и как она меня гладила тёплой маленькой ладонью по голове, и как мы по воскресеньям ходили то в зоопарк, То в кино, как я помогал ей готовить котлеты — крутил мясо на мясорубке.
Я вспоминаю о ней, может быть, чаще, чем ты, только об этом не говорю.
Бабушка Белла оказалась права, хотя и ошиблась на несколько лет. В этом‑то, наверное, и была вся беда.
Когда я возвращался к матери, она злобно выспрашивала, чем кормили, куда ходили. И всегда была недовольна, ругала тебя и бабушку с дедушкой последними словами: «Опять яичница, опять котлеты! Не могут достать ребёнку чёрной икры, сволочи! Припрятали, чтоб самим сожрать, когда ты уйдёшь!»
И всегда усаживала меня за уроки или выгоняла гулять во двор.
Ты видел этот двор — квадратный кусок асфальта, с четырёх сторон зажатый домами, где у подъездов мусорные баки и только посередине один старый скрюченный тополь.
Из двух противоположных арок, ведущих на улицу и в переулок, дул сквозняк, и я был вечно в соплях, особенно осенью и зимой.
Она заставляла меня околачиваться там часами, и я возненавидел этот её «свежий воздух». Мать не гуляла со мной, никуда не водила, кроме как к своим родителям, да и то все реже. Потому что у них постоянно паслись её брат и сестра со своими детьми.
Со двора нельзя было уйти. Хотя перейди переулок — и попадёшь на сквер, где всегда играли ребята с окрестных улиц. Мать постоянно следила сверху из окна нашего пятого этажа, открывала форточку и, встав на табуретку, вопила: «Куда ушёл? Застегни верхнюю пуговицу! Поправь шарф! Гуляй ещё полчаса.»
Если хочешь знать, я изучил кору этого старого тополя во дворе лучше, чем географическую карту. Разноцветные пятна на коре, островки мха были целыми странами, по которым я путешествовал. В этих мысленных путешествиях я был уже один, без тебя.
И тогда, в поезде «Москва — Сухуми», в пустом коридоре вагона я все стоял у окна и думал, как ты мог есть, спать, встречаться с другими людьми, каждый раз на рассвете с тупым упорством садиться писать свой роман, в то время как я, твой сын, погибал.
Устали ноги, я вернулся в купе. Мои попутчики уже храпели каждый на своей нижней полке. Я влез к себе наверх и почувствовал, что у меня болит голова. От этой боли долго не мог заснуть. Пялился на тусклую синюю лампочку под потолком, тёр затылок, жалел, что нет никаких таблеток.
А утром я снова торчал в коридоре, потому что за окнами вагона совсем рядом было Чёрное море. Освещённое солнцем, оно казалось тёплым, как летом. Только пляжи лежали совсем пустые.
Попутчики позвали меня завтракать. А потом начали собирать манатки, и за час до Гагр вылезли со своими вещами в тамбур.
Когда они наконец сошли, я остался в купе один, как царь, и только хотел завалиться подремать до Сухуми — надо было экономить силы, — как дверь открылась и ко мне заглянули два чёрных небритых хмыря.
Сначала они пригласили меня пойти в другое купе, потому что им не хватало партнёра для игры в какое‑то «кавказское очко», а когда я отказался, выложили на столик книжечки–гармошки. Одну с фотографиями Высоцкого, другую со Сталиным, третья — фотографии полуголых баб.
Фотография Высоцкого была у меня с собой в сумке, и я зачем‑то выложил трёшник за гармошку с изображениями Сталина.
И вот вместо того чтоб лечь спать, я стал рассматривать «отца народов» в разных видах: в белом мундире с огромной звездой на погонах, в скромном кителе. То он выступает с трибуны, то снят со своей дочерью Светланой, то стоит во время парада на Мавзолее, а под ним написано «Ленин».
На вид Сталин даже красивый. Как тебе кажется? Ласковый такой на вид, сука.
О Сталине у нас с тобой ещё будет речь впереди. А пока никак не доскажу про маму, как мы с ней тебя накололи.
Я продолжал таскаться в свою вторую, обыкновенную школу. Мне ставили тройки с натяжкой по всем предметам, потому что мать и здесь дарила учителям подарки, зазывала в гости, жаловалась, что я родился с этой самой асфиксией — пуповиной, обвившейся во время родов вокруг горла… Вспомнила, на мою голову.
Асфиксия так асфиксия. Я и вовсе перестал учиться, уроки делал только для вида, просто отсиживал над учебниками и тетрадками, чертил в них что попало, несмотря на мамины подзатыльники и скандалы.
В новом классе мальчишки меня лупили, пользовались тем, что я худой и слабый, мускулов никаких. Однажды зимой, когда шёл после уроков, отняли у меня ранец с учебниками, кинули его в пустой мусорный бак. Знаешь, есть такие — огромные, квадратные.
Я туда еле залез, чтоб достать. А они захлопнули железную крышку.
В грязном, вонючем баке стало темно. Взгромоздились сверху, стали топать ногами, грохотать. Я канючил, чтоб выпустили, плакал, кричал: «Гады! Гады!»
Они смеялись.
Потом стало тихо. Убежали.
Я попытался откинуть крышку, толкал руками, головой. Не поддавалась. На ней есть такая скоба. Они прикрутили её к баку проволокой. Вот почему ничего не получалось. И когда я совсем обессилел и стал замерзать, я из последних сил заорал : «Папа!»
Ты, конечно, не услышал меня. Не мог услышать на другом конце города, понимаю. Но только с тех пор я перестал называть тебя папой. Ты для меня стал «отец».
Меня спас другой человек, какой‑то старик прохожий.
На следующий день я отказался идти в школу. Мать и лупила меня, и уговаривала, пила валерьянку. Потом заперла, поехала к своим родителям советоваться.
И через два дня отвела к знакомому психиатру в диспансере, уговорила поставить на учёт, оформила какие‑то бумаги. Вскоре я оказался в школе–интернате для идиотов.
Потом мне приходилось бывать в местах и похуже этого интерната, но именно тогда я, маленький третьеклассник, понял, что за мир, куда я попал. Мир, где родители предают своих детей.
Врачи и учителя орали на несчастных дебилов, оглушённых таблетками, на всех этих писунов, косых, пускающих слюни…
Я не проглотил ни одной таблетки. Тайком выплёвывал. Благодаря тебе я прожил в этом заведении только трое суток. Но я их запомнил навсегда. Если б ты знал, какими длинными они мне показались!
После уроков нас выводили во двор. Там был обнесённый металлической сеткой пятачок. Туда набивали детей, а потом дверца запиралась, мы должны были «гулять» под надзором «воспитателя», который стоял снаружи клетки, курил и покрикивал на нас.
Шёл мокрый снег, под ногами была снежная каша. Мы толклись там, замерзая.
Представь себе, когда ты появился в этом дворе, подбежал к решётке, к воспитателю, я сразу понял, что ты меня вызволишь, но даже не обрадовался. Все во мне было убито, онемело.
Помню, как ты требовал, чтоб меня немедленно выпустили из этого, загона, как бегал к заведующей, как дверь наконец отперли. Помню, как сидел в приёмной, согревался и слышал, как ты спорил в кабинете, как выходил к секретарше подписывать какую‑то бумагу.
А толку что? Мать всё равно не отдала меня тебе. Наоборот, устроила скандал за то, что увёз из интерната. Снова запретила брать на субботу–воскресенье. Перевела в другую, уже третью в моей жизни школу, где я проучился до седьмого класса.
Теперь мы виделись только во время летних каникул.
Тебе, конечно, будет обидно, но все твои старания, все путешествия, которые ты устраивал, вызывали во мне лишь злобу.
Помнишь то лето, когда тебя пригласили на раскопки в Осетию? Вот фотография, наклеиваю и её, чтоб как следует вспомнил.
Видишь, на фоне горы археологи, окрестные жители и ты, который нашёл своей ладонью могилу до нашей эры. А сзади, из‑за чьего‑то локтя, высовываюсь я в своей панамке.
Ты тут самый главный. Тебя все уважают, удивляются. Я тоже гордился тобой.
В тот день к вечеру я ушёл с местными ребятами на горную речку, хоть ты мне и запрещал. Не помню её названия. Они стали купаться там, где тихо, вроде запруды.
Ты ничего не видел, сидел на берегу в крестьянском доме со своими археологами над планами и чертежами. Тебе было не до меня. Никому не было до меня дела. Кончался август. Наступало время ехать в Москву, снова ходить в школу, где меня дразнили «асфиксия», потому что мать и здесь объяснила, что я вроде не
такой, как все, чтобы мне оказали снисхождение, меньше с меня требовали.
Учителя просто махнули рукой, терпели, ставили тройки, переводили из класса в класс, потому что у матери оказалась очередная знакомая в роно и какие— то справки.
Все на меня махнули рукой. И вот когда я плавал с ребятами и почувствовал, что течение закрутило, выносит из запруды прямо в реку, грохоча, несёт среди обломков скал и валунов, я не испугался. Даже захотел утонуть. Или чтоб разбило о камни.
Так хорошо, когда тебя несёт и ничего не надо делать.
Это не я, а моя рука сама схватила за нижнюю ветку куста, растущего у воды. А потом по берегу побежали пацаны и взрослые, вытащили, привели к тебе.
Ты, как Кутузов в избе, сидел со своими археологами.
Помнишь, ты вскочил, прижал к себе меня, мокрого, замёрзшего? Совсем не ругал за то, что я полез в реку. И всё равно я чувствовал твою досаду, чувствовал, что испортил тебе настроение, помешал.
И от этого мне стало приятно.
Так и тянулась такая жизнь, которую и жизнью‑то назвать нельзя. Утром мать торопливо сплавляла меня в школу; днём я приходил и, если она была на работе, сам грел себе суп, вермишель с нарезанными кружочками докторской колбасы (всегда на обед одно и то же) и должен был идти гулять или садиться за учебники.
Но зачем было делать уроки? Как говорили учителя, я не знал основ, и поэтому математика давно казалась тарабарщиной. И все остальное, кроме географии, тоже не интересовало.
Да к чему я это пишу? Ты и сам все знаешь.
Теперь, вместо того чтоб путешествовать по коре тополя, я вставал на диван и путешествовал по большой карте мира, которую ты подарил мне на день рождения. Она висела над диваном.
Или листал разные детективы, они появлялись у нас без конца — любимое чтение матери. Или включал телевизор.
Мать приходила усталая. Сразу начинала ругать за то, что не гулял, не подмёл, не вымыл сковородку.
Я знал заранее всё, что она скажет, что сделает: поужинает и сядет звонить своим родителям, сестре, брату — жаловаться на меня, на своё музучилище и, самое главное, проклинать тебя.
Потом накормит, заставит лечь спать, а сама усядется в кресло смотреть какое‑нибудь кино по телевизору.
Я лежал под своей картой мира, думал о тебе, о бабушке Бёлле и дедушке Лёве, о том, что вы живёте своей жизнью, вам хорошо.
Правда, иногда днём, когда матери не было дома, звонил то ты, то бабушка. Да что толку от этих звонков? От них только хуже делалось.
Так каждый день. Столько лет.
А потом случилось то, о чём ты не знаешь, даже не догадываешься.
У нас стал появляться «дядя Юра». Длинный худой хмырь в очках. Приехал на своих «Жигулях» откуда‑то из Кременчуга заниматься в аспирантуре. Где мама с ним познакомилась — не знаю. Жил он где‑то в общежитии аспирантов. Сперва привозил мать с каких‑то концертов, потом просто заходил в гости. Один раз даже уселся со мной за письменный стол решать задачки, объяснять дроби.
Могу рассказать, как я от него отвязался.
— У тебя нет основ, — говорит.
— Знаю.
— Тогда давай начнём все сначала. Единица — это одна целая, понимаешь?
— Целая — чего? — спрашиваю.
— Как чего? Вот видишь, у меня в руках карандаш? Он целый. Это один карандаш. Одна целая. Ясно?
— Ясно.
Потом он вдруг ломает его пополам. А это был мой любимый карандаш, чешский, с таким мягким грифелем.
— Теперь что у меня в руках?
В это время мать в новом переднике входит из кухни с подносом, на котором нарезанный торт «Птичье молоко», чашки с кофе, так умильно на нас смотрит, тоже спрашивает:
— Что в руках у дяди Юры, деточка?
А я обозлился и молчу.
— Две половинки одного карандаша, — терпеливо объясняет этот хмырь. — Если выражать в дробях, одна вторая и одна вторая. Что будет, если их сложим вместе?
Он соединил обе половинки. Показывает мне. И снова спрашивает, великий педагог:
— Что будет? Что? Вот видишь, было две половинки, а теперь снова одна це–ла–я. Верно?
— Нет, — говорю. — Это два куска поломанного карандаша.
Ух он и обозлился, хотя слова не сказал. Молча встал, пошёл к обеденному столу есть «Птичье молоко».
А я с тех пор понял, что, раз уж меня поставили на учёт в психдиспансер, надо использовать это до конца, придуриваться, где только можно, чтоб не играть в одну игру с разными настоящими идиотами и сволочами.
Не знаю, на что мать рассчитывала. То, что он сволочь, ухаживает за ней только ради московской прописки и жилья, ясно было даже мне, семикласснику.
У нас была одна комната, у тебя с бабушкой и дедушкой — две. Из‑за этого мать всегда злилась, а теперь — особенно.
Однажды он приносит мне билет на спектакль в Центральном детском театре, другой раз они меня отправляют в кино на вечерний сеанс.
В общем, все ясно.
И тут, когда предсказание бабушки Беллы начало исполняться, она вдруг умерла.
Мать легко отпустила меня на похороны. Здесь‑то после большого перерыва мы с тобой и увиделись. Сначала в крематории, потом дома на поминках. И я увидел, что дедушка стал совсем старый, дряхлый какой‑то. Да и на тебя было страшно смотреть. Всем заправляли твои друзья и знакомые — готовили, накрывали на стол. Игорь, Тоня. Пришёл Артур Крамер.
Ты проводил меня вечером на метро, дал фотографию бабушки, пакет с мандаринами, пирожками.
А вскоре, перед Новым годом, за неделю или за две, мать стала каждый вечер говорить, что она себя плохо чувствует, собирается лечь в больницу. И этот хмырь из Кременчуга долдонил: «Здоровье матери превыше всего».
Я сначала даже не понял, к чему они клонят.
Но как‑то вечером, когда мы с ней были одни, она охнула, схватилась за сердце, говорит:
— Сейчас буду звонить в неотложку, мне плохо, а ты собирайся к отцу. Увезут в больницу, умру — с кем останешься? Вот сумка, собирай рубашки, трусы, майки. Нет сил тебе помогать. Все учебники и тетради — в ранец быстро!
Я опешил. Испугался, что и она умрёт. И её отвезут в крематорий… Стало её жалко. Даже заревел, дурак, кинулся к ней.
А она подгоняет:
— Быстро, быстро! Ты же хотел жить с отцом, вот и будешь.
А я все реву.
— Мамочка, не хочу, чтоб ты умирала. Я тебя не брошу, вызывай, не беспокойся, я на самом деле сам всё умею. Я тебя буду ждать, а ты лечись. Подметать буду и мусор выносить…
— Провожу тебя — вызову. — И тут она сама стала пихать в сумку мои вещи.
А сумка оказалась с рваным боком. Тогда она вынула из шкафа стопку наволочек, выбрала какую похуже, перевалила вещи туда, завязала сверху узел.
— Одевайся. Вот пятак на метро. Ранец не забудь. — И такая злющая улыбка появилась на её тонких накрашенных губах. — Исполнилась твоя мечта — будешь жить с папочкой.
В этот момент я все понял. Весь этот театр.
Она уже нахлобучила на меня ушанку, заставляла надеть пальто.
А я сбросил его на пол, ору:
— Ничего ты не больная! Хочешь выпихнуть меня со своим хахалем, вот и все!
Мать размахнулась, как ударит по щеке.
— Пошёл вон, урод проклятый! Не дам испортить мне жизнь!
Схватила узел, ранец, открыла дверь, вышвырнула их на лестницу, а потом и меня вытолкала, швырнула вслед пальто.
И дверь захлопнула.
Я продолжал орать, плакать, колотить кулаками по двери, пока не почувствовал, что у меня как‑то рот не закрывается, перекосило.
Холодно стало.
Рот все не закрывался.
Я надел пальто, ранец, подобрал свой узел. Спустился по ступенькам, вышел из подъезда в переулок. А там метель метёт, кружит вокруг фонарей. И телефонная будка светится.
Какой‑то прохожий шёл вдоль тротуара, собаку прогуливал.
Я кинулся к нему, протянул пятак.
— Дяденька, разменяйте, две копейки надо.
Он почему‑то уставился на меня, начал в карманах шарить. Потом сунул двухкопеечную, пятака не взял, только спросил:
— Что с тобой случилось, мальчик?
Я не ответил, побежал к будке.
До сих пор не знаю, зачем я наврал тебе, что маму в больницу взяли. Может, стыдно было, что родная мать выгнала?
Я стоял возле будки, видел, как к нашему дому подкатили «Жигули», как вышел оттуда этот хмырь, взял из багажника два чемодана, вошёл в подъезд.
А потом на такси примчался ты. Схватил меня, больно так сжал. И мы поехали.
Ну, это я сильно отвлёкся. Зато теперь все до конца рассказал тебе, как оно было. Как вспоминал в поезде «Москва–Сухуми» своё так называемое детство.
И сейчас пришлось вспомнить.
Надеюсь, получу вызов, уеду наконец — забуду обо всём навсегда. И о том, что было после того, как сошёл на перроне в Сухуми.
С самого начала, как только выпрыгнул из вагона, в груди будто струна натянулась, стала дрожать сама по себе. Даже испугался. Растёр грудь — не проходит. Так и шагал к выходу в город. В одной руке твоя дорожная сумка, другой рукой грудь растираю.
С ходу окружили несколько старух в чёрном: «Комната надо? Комната надо?»
— Почём? — спрашиваю.
«Кто его знает, — думаю, — может, придётся провести здесь два–три дня. Нужно все разведать, как следует приготовиться. В гостиницу опять же путь заказан».
В общем, сговорился — два рубля в сутки за койку в комнате у моря.
Сели с хозяйкой в троллейбус, поехали с вокзала. В городе солнечно, как весной. А стоял декабрь. И в груди у меня эта самая струна все дрожит.
Сухуми тебе известен. Сошли недалеко от набережной, там, где речка Беслетка впадает в море. То самое место, куда я стремился. Вот, думаю, удача.
Через калитку прошли за ограду. Там дом двухэтажный, белый. И внизу, возле лестницы, ведущей наверх, дверь. Хозяйка отперла её, ввела в комнату. Столик, стул, две раскладушки с матрацами, умывальник. Повернуться негде.
Ну, хозяйка одну раскладушку убрала, дала мне ключ, и я остался один.
Скинул куртку, повесил на гвоздь в беленой стене. Сижу и думаю: «Где я? Почему случилось, что я так хотел жить с тобой, и вот прожил три года, и ты далеко, а я тут, в этой комнате…«Тогда я впервые пожалел, что не оставил тебе чего‑нибудь вроде этой тетради.
Наверное, и сидел‑то минут десять. Стало, холодно. Надел куртку, вышел, запер дверь.
На улице было теплее, чем в доме.
Захотелось есть. Но я первым делом зашагал к реке, где у берега за проволочным забором виднелись причаленные лодки.
Ты сам открыл мне это место, навёл на мысль. Помнишь, когда в последний раз были в Сухуми, ты приходил сюда со мной и местным своим знакомым — Георгием Павловичем; вместе в его шлюпке уплывали в море на рыбную ловлю. И ты однажды сказал: «Турция близко. Какие‑нибудь сутки–двое на веслах…» А Георгий Павлович добавил: «Если с двигателем, вообще чепуха, полсуток».
Оказывается, это запало мне в голову.
И вот я был здесь. Прошёл через калитку на причал, мимо пустой застеклённой будки пограничника, мимо лодок, высоких ящиков для хранения моторов и весел.
Шёл, будто гуляя.
Людей почти не было. Только один старик пошатывался в лодке, выбрасывал из неё на доски причала весла, снасти и пойманную рыбу.
Тут я сделал маленькую глупость. Когда я поравнялся с ним, зачем‑то спросил, что это за рыба. И этим выдал то, что я не местный.
— Селёдка, — ответил он. — Слушай, помоги якорь перенести.
Старик нагнулся, поднял большущий якорь с верёвкой, подал. Я принял его, грохнул на причал. Только хотел пойти дальше, как тот говорит:
— Слушай, подай руку.
Подал я ему руку. Старик оказался на причале.
—Ты, — говорит, — откуда? Что здесь делаешь? Приезжий?
Небритый такой старик, седой, в круглой сванской шапочке.
— Приезжий, — отвечаю. — Люблю рыбу ловить.
— Жалко, — говорит, — пришёл бы утром, я бы тебя с собой взял. Одному трудно грести. Сердцем немножко больной.
— А когда утром?
— Сейчас зимой в девять часов отход дают. Слушай, приходи завтра, в воскресенье. Селёдка косяками идёт. Из Азовского моря спустилась. Тепло ищет.
А я думаю: «Зачем ты мне нужен? Куда тебя потом девать — в море топить?» Да и лодка у него плохая, все дно в воде.
— Ладно, — говорю, — приду.
Повернулся, пошёл обратно. А он вдогонку кричит:
— Слушай, самодур у тебя есть?
Я не ответил.
Иду, смотрю на лодки. Все на цепях мотаются. Цепи замкнуты на замки. И все — без весел.
Тут я остановился.
Я ведь решил уходить на вёслах. В моторе я ничего не понимаю. Да и как его спереть? И бензин может кончиться. А самое главное, мотор — он железо. У пограничников наверняка приборы, которые засекают металл и тарахтение. Звук в воде далеко слышен. Пусть на вёслах и дольше, зато все деревянное, есть шанс проскочить. Грести я умею, ты знаешь. Да ещё в Серебряном бору тем. летом тренировался.
Короче говоря, лодки колышутся без весел. Все весла эти куркули заперли в будках. Стою как дурак. Смотрю: те, кто ушёл на лодках, возвращаются с моря в реку. В самом устье река песчаную косу намыла. Проход узенький, мелкий, вот и стараются проскочить.
Думаю, надо смываться, чтоб меня здесь не видели. Пошёл. И вдруг заметил: сбоку, к одной будке прислонённые, весла стоят! Почему‑то три. Новенькие, с красными лопастями.
Бросился к ним. Схватил две штуки, тяжёлые. Чесанул к дому. И, как назло, навстречу по тротуару пограничник топает. С карабином. Я шаг замедлил, дыхание затаил; Прошёл мимо. Ужасно хотелось узнать, оглянется он или нет. Но я удержал себя. А по спине мурашки, и внутри опять струна.
Когда дошёл до своей калитки, обернулся. Его уже не было видно.
Все‑таки было бы интересно посмотреть на твоё лицо. Как ты все это читаешь про родного сына, который задумал пересечь Государственную границу СССР.
Поставил я тогда весла в углу комнаты. Осмотрел. Уключины тоже новенькие, сверкают.
Оставалось главное — добыть лодку. Точнее, украсть. А как это сделать? Они все на замках, да и люди там, на причале, наверное, всегда толкутся. Не говоря о погранбудке… Это мне просто повезло, что в первый раз почти никого не было.
Вот о чём я думал, когда вышел из дома, снова запер за собой дверь.
Шёл мимо пальм и эвкалиптов по набережной. Руку с ключом держал в кармане куртки. Хорошее все‑таки это чувство — держать ключ от собственной комнаты, пускай и снятой ненадолго, пускай без отопления. Никогда у меня не было своей комнаты! Скажешь: как это не было? А вот так! Сначала, когда был совсем маленький, жили втроём — ты, я и мама. Потом я с матерью. А когда она меня выгнала, ты поселил меня с дедушкой, сам остался один в соседней комнате. Правда, дедушка умер через три года.
И всё равно все здесь было твоё. Стол, стулья, телевизор, тахта, ковёр на стене, книги на полках. Ты скажешь, эти книги ты покупал для меня — «Уолден, или Жизнь в лесу», повести Толстого, рассказы Сетон–Томпсона… В том‑то и дело! Все это ты приносил. В конечном итоге, все это было твоим, а не моим. Даже карта мира на стене, которую я потом выпросил у матери, куплена тобой.
Всё, что на мне надето, — твоё. Лыжи, коньки, боксёрские перчатки, гантели, удочки — твои подарки.
У меня же никогда не было своих денег что‑нибудь купить. И даже когда ты мне давал их и я покупал пластинку Высоцкого или доску на роликах, это были не мои деньги.
Лишь однажды, получив первую свою стипендию в медучилище — жалкие тридцать рублей, я потратил их все на такой обед в ресторане «Прага», что даже заболел на утро.
Ух и мрачное у тебя стало лицо, когда ты узнал о том, как я истратил эту стипендию! И недавно такое же лицо у тебя было, когда ты увидел, что я заляпал вареньем первый том «Войны и мира «Толстого. Кстати говоря, скучная, устарелая книжка. Не знаю, зачем ты мне её подсунул, почему все восхищаются. Если по–честному, я её и не прочёл даже, только перелистал.
На самом деле мои любимые книги — «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». Трудно понять, почему этих весельчаков, Ильфа и Петрова, не расстреляли, не посадили. Неужели ты не видишь, каких идиотов они описывают, рождённых этим самым сталинским строем? Один лишь Остап Бендер — свободный человек среди рабов и уродов.
Тогда я шёл по набережной и впервые понял, что разговариваю с тобой. А ты — за тысячи километров. Оказывается, я часто с тобой говорю, мысленно, конечно. Да и сейчас то, что пишу, тоже разговор с тобой. Последний.
Иду, с тобой говорю, даже забыл, где нахожусь и зачем. Прошёл мимо театра, магазина минеральных вод, гостиницы «Абхазия». И тут до меня донёсся запах еды. Заглянул в какой‑то двор, а там столики под навесом и по сторонам столики за бамбуковыми занавесками. Посетителей мало.
Сел я за один из столиков. Еле от официантки добился, чтобы она что‑нибудь поесть принесла. С самого поезда не ел, здорово проголодался. А она говорит: «Закрываемся, поздно уже».
Стемнело. На набережной фонари зажглись. Все же принесла она порцию мяса с подливкой. И пирог с сыром — хачапури называется. Чашечку кофе.
А ты знаешь: кофе я не пью, ненавижу. Чая у них нет. Тогда она открыла две бутылки «Фанты».
Я ещё подумал, надо пару бутылок с собой попросить. Пока буду грести до Турции, пить захочется. И только стал наворачивать, к столику подошёл пёс.
Ем я это мясо. Наперчено — жуть. А он сидит, провожает взглядом каждый кусок. Тощий такой пёс. Одно ухо, как локатор, ходит, другое, надорванное, не поднимается.
Съел я мясо, принялся за хачапури. Запиваю «Фантой». Он все смотрит. Ну, кинул я в него куском пирога. Пёс сперва отскочил, потом хвать — сглотнул. Подошёл поближе, хвостом виляет. Наглая такая псина.
Отломил я другой кусок, ткнул в остатки подливки. Я был убеждён, что наперчённое есть не будет. Он и это сожрал. Ну, думаю, этак мне ничего не достанется.
Доел я все, допил. Принесла мне официантка две «Фанты» с собой, рассчитался. Денег осталось, помню, шесть рублей с мелочью.
Вышел на набережную. А пёс за мной.
Совсем уже вечер настал. Гуляющие расхаживают. Впрочем, немного их было. Все‑таки декабрь.
Перешёл я на другую сторону, к морю. Там причал. Помнишь, от которого катера летом уходят на морские прогулки? Мы с тобой много раз от него уплывали.
С двумя бутылками в руке дошагал до причала. Запихал «Фанту» в карманы куртки, облокотился о поручень.
Волны плещут почти невидимые. Только вблизи в свете фонаря зелёным светом отсвечивают. Вот, думаю, и меня ночь застанет посреди Чёрного моря. Жутковато сделалось. Думаю, утром отплывать надо, пораньше. С другой стороны, лучше позже, чтоб пограничники не увидели, когда самую опасную зону переходить буду. Если пройду — дальше по компасу, всё время на юго–запад. Хочешь не хочешь — в Турцию упрёшься. Компас на руке выше часов надет, школьный, тот самый, что ты подарил.
Накатывают волны, холодом дышат. Повернулся я, чтоб пойти домой, и увидел: город огнями сверкает. Огни в горы взбираются, видно, как ниточки улиц тянутся пунктиром неоновых светильников, машины едут, фарами светят.
И тогда подумалось: «Никто в этом городе меня не знает, у всех тёплые дома, постели. Небось телевизоры смотрят, ужинают…»
Двинулся я по причалу, и рядом какая‑то тень двинулась. Смотрю — тот самый пёс. Идёт возле ног, хвостом виляет.
Вроде теплее стало.
Дошёл берегом моря к лодочному причалу. Хотел поглядеть, что там делается. Ещё издали увидел: прожектор с крыши пограничной будки светом лупит, освещает весь ряд зачаленных лодок, а в самой будке солдат торчит.
Тут же свернул к дому. Подошёл к ограде, толкнул калитку и захлопнул её перед носом пса.
На втором этаже, где хозяева, окна светятся. А внизу темно. Тычу ключом в дверь, в замочную скважину, еле попал. Раскрыл дверь, а мимо меня пёс.
Я нашарил на стене выключатель, лампочка зажглась под потолком. Спрашиваю пса:
— Как же ты, наглец, сквозь ограду проник?
Молчит. Только хвостом виляет.
Вытащил я из карманов свою «Фанту», поставил на стол. Чувствую, в комнате холодильник. Скинул куртку, достал из сумки сало, отрезал корочку, бросил псу. Выключил свет.
И не раздеваясь, скорей на раскладушку, натянул на себя одеяло. Думаю: «Ещё не хватает воспаление лёгких получить».
Вдруг на ногах тяжело сделалось. Это пёс прыгнул и улёгся.
— Ну ты даёшь, — говорю. — Такого наглеца я ещё не встречал.
А он вздохнул. Как человек.
— Ладно, — говорю, — смотри, псина, если блох напустишь…
В ногах стало горячо. И я уснул.
В ту ночь приснился мне сон, какого наверняка никто не видел.
Я стою у нас дома возле окна. А в чёрном небе звезды образовались в созвездия, похожие на буквы. Не наши. Неизвестно какого алфавита. Яркие, плавают в небе, кружат, будто силятся, чтоб я что‑то прочёл.
А я ничего не могу понять.
И вдруг их начинает заслонять что‑то громадное, как туча.
Вижу: это бородатый человек, летящий по небу.
Кричу: «Папа! Папа!»
Пока ты пришёл из соседней комнаты, человек пролетел.
И я проснулся. Досада взяла, что ты не увидел. Не объяснил.
Тут как током ударило: «Я же не дома — в Сухуми. Мне бежать надо!»
А в комнате темно. Сколько ни пялься на циферблат — не различишь, который час. Подтянул к себе стул, где висела сумка, вытащил фонарик, посветил на часы. Полвосьмого.
Набрался духа, выскочил из‑под одеяла в этот холодильник, скорее надел куртку, «молнию» доверху застегнул. Думаю, надо успеть где‑нибудь перекусить — и на причал. Там же выпускают в девять.
Засунул в сумку обе бутылки, взял её с собой. Выпустил пса. Дверь запер. Решил перед завтраком на всякий случай глянуть, что делается на причале.
Иду туда. На улице фонари горят, а меня уже обгоняют люди с вёслами, корзинами, спиннингами. Смотрю, возле лодок дым от запускаемых моторов, толпа народа. Прошёл я свободно вместе с другими мимо пограничника в застеклённой будке. Телефон, у него там, бинокль на полочке. «Ну, — думаю, — если сейчас в этой суматохе не смоюсь, другого шанса не будет».
— А весла‑то в комнате остались! Ну ладно! Что было бы, если бы хозяин меня здесь с ними застукал?!
Никто на меня внимания не обращает, все к лову готовятся. Замки на цепях отомкнуты. Лодки — вот они, колышутся. Во многих уже люди сидят, укладывают снасти, на часы поглядывают.
Все дальше иду по причалу. Между прочим, увидел одну шлюпку дюралевую с двумя моторами на корме. Вот бы, думаю, в такую забраться и рвануть… А возле неё целая компания возится из трёх или четырёх рыбаков. Прошёл мимо.
Вдруг слышу:
— Здесь я, здесь! Иди сюда!
Смотрю, на причале старик вчерашний седой, в серой шапочке. Меня зовёт, рукой машет.
И я понял: вот он, единственный шанс.
— Пришёл — молодец, — говорит. — С рыбой будешь. Забирайся в лодку, удерживай её вёслами. Имя твоё какое?
— Коля, — отвечаю, — Николай.
— А меня Шота Степанович зовут.
Он руками придержал лодку, и я спрыгнул в неё. Из‑под решётчатого настила фонтанчики воды всплеснули.
Сел я на среднее сиденье, примостил рядом сумку, за весла взялся. Смотрю, банка консервная на дне плавает. Думаю: хоть будет чем воду вычерпывать.
— А где же якорь? — говорю.
Старик переставил с причала в лодку свою корзину с каким‑то барахлом, отвечает:
— Ловить самодуром якорь не нужен. Снасть у тебя есть?
— Нет никакой снасти.
— Как же так? Слушай, у меня здесь только один самодур.
В этот миг фонари на причале погасли. Вокруг заревели моторы, заплескали весла. Лодки потянулись к выходу в море.
— Черт с ним, — говорю. — Просто посмотрю, как вы ловите.
— Нет, — говорит, — это не дело. Слушай, я сейчас домой схожу, самодур принесу. Десять минут туда, десять минут — обратно.
У меня камень с души упал.
— Спасибо, — говорю, — обожду. Не спешите.
И только старик повернулся, пошёл, как откуда‑то из‑за пустой лодки, которая рядом на цепи моталась, возникла эта псина. Прыг ко мне. Уселся на носу. Сидит.
— Пошёл вон! — говорю и снова берусь за весла. Пёс ни с места. Думаю: «Ладно! Не так одиноко будет!»
Смотрю, старика уже не видно.
Рванул вёслами, пристроился за какой‑то белой шлюпкой. А сзади ещё две с рыбаками. Последние.
Течение реки подхватило. Успевай только оглядываться. Ведь гребёшь, сидя спиной к движению. Какой дурак это придумал?! Едва не врезался в мотор белой шлюпки. Там очкарик какой‑то сидел, вроде тебя, лохматый, вёслами загребал.
Он проскочил эту мель между песчаной косой и берегом. И я за ним. Проскочил.
Несёт по инерции мимо него. А он весла бросил, двигатель запускает, за шнур дёргает. А мотор не заводится. Тут он матом меня обложил.
А мне смешно. Смотрю, я уже в море, и погранбудка удаляется. Проскочил.
Гребу, озираюсь. Те, кто первые на моторах, далеко ушли. Чуть не до горизонта.
Солнце из‑за гор всходит. И собака моя на носу сидит. Как‑то поверилось, что все удачно получится, всё будет хорошо. И это самое лучшее из всего, что было.
Есть захотелось жутко. Я отгрёб ещё немного. Думаю: «Надо как следует заправиться перед броском». Остановился. Достал из сумки сало, сухари. Ножом сковырнул крышку с «Фанты». Поел, запивая из бутылки. Псу тоже шматок сала кинул, да неудачно: попало на дно, под решётку, в вонючую воду.
Тот спрыгнул с носа, все‑таки исхитрился, достал. И снова на нос забрался. Сидит, ухом поводит. «Назову его, — думаю, — Матросом. Или лучше Ворчуном». Почему Ворчуном — сам не знаю, просто такая мысль пришла.
Сдвинул я рукав повыше, взглянул на стрелку компаса. Потом перевёл дыхание. Взялся за рукоятки весел. И как начал шпарить на юго–запад!
Вода под килем звенит, солёные капли с весел брызгают, на лицо попадают. Утираться некогда. Гребу!
И если честно: вот о чём я думал тогда с каждым взмахом весел:
Будьте вы прокляты с вашими мусорными баками!
С вашими психинтернатами!
С вашими разводами!
С вашей докторской колбасой!
С вашими очередями и морозами!
С вашей школой и комсомолом!
С вашим Львом Лещенко и Леонидом Брежневым!
С вашим Черненко!
Стало жарко. Солнце от гор оторвалось. Рванул я «молнию» на куртке, расстегнул. Огляделся. Есть ещё несколько лодок дальше меня — рыбаки рыбу ловят.
А город Сухуми уже чуть виден — просто полоска берега с крышами зданий, за которыми высятся горы.
Ничего не было жалко. Ни мать. Ни тебя.
Гребу и думаю: «Прощайте, дорогие родители! Счастливо оставаться! Спасибо за моё исковерканное детство!»
Прошёл я мимо тех рыбаков. Они ещё на меня оглянулись, один, помню, крикнул: «Дальше не ходи!»
«Фига с два! — думаю. — И вы оставайтесь со своей селёдкой и погранбудкой!»
Все дальше они, все дальше. Стали словно клочки мусора на чистом море.
И хоть ладони саднило, мускулы заныли, я все махал вёслами, отпихивался от толщи волн. „ Глянул вперёд, а там бескрайний синий простор. Свобода! Собака моя в клубок свернулась, лежит. Наверное, укачало.
Думаю: хорошо, большой волны нет. И погода мировая, как на заказ. Выхожу в международные воды.
Только бросил весла, хотел снова на компас взглянуть — неизвестно откуда катер. Летит ко мне.
Сначала подумал, что это сейнер рыбацкий. А у него пулемёты торчат на носу, на корме…
Он такую дугу описал, снизил скорость. Задним ходом приближается. Вдруг рявкнул громко, на все море:
— Эй, на шлюпке, готовьтесь принять конец!
Я будто окаменел. Сижу. Не знаю, что делать. Смотрю, там на корме два матроса с карабинами. У одного в руках свёрнутый кольцами канат. У другого — мегафон.
— Лови!
Канат рядом с лодкой плюхнулся в воду. Всего обрызгал. Они выбрали его, катер ещё ближе подошёл задом. Матрос снова крикнул в мегафон:
— Принимай конец! Привязывай к лодочной цепи!
— Не имеете права, — говорю. — Я рыбу ловлю. Чего пристали?
А сам уже перелез к носу. Отпихнул собаку. Готовлюсь канат ловить. Руки дрожат.
Снова канат полетел. Прямо в меня. Едва не убил. Поймал я его. Стал привязывать к лодочной цепи. Толстый. Никак не привязывается. А те подгоняют:
— Живей!
Наконец связал узлом канат и цепь, катер рванул. Лодка дёрнулась. Чуть не полетел в воду. Уцепился за борта, сел на нос. Помчали меня обратно.
А в лодке, оказывается, полно воды. Выше решётчатого настила плещется. Дрянь лодка. Мог потонуть.
«Лучше бы потонул, — думаю. — В тюрьму засадят. Оттуда даже отец не выручит. Хана.»
Хоть безразличие какое‑то охватило, подумал: «Можно спастись! Скажу, приезжий, не знал, докуда разрешено заплывать».
И вспомнил: у меня же компас на руке, в сумке карта Турции, которую я у тебя из «Малого атласа мира» выдрал…
Компас потихоньку снял, опустил руку за борт, разжал пальцы. Избавился.
А сумка на среднем сиденье осталась. Рядом с ней пёс сидит.
Только я хотел туда перебраться, матрос как гаркнет в мегафон:
— Оставаться на месте!
Тогда я стал корзину этого старика — хозяина лодки — потихоньку к себе ногой пододвигать. Глянул сверху — там в целлофановом пакете пенопласт с намотанной на него леской, с крючками и красными пёрышками — самодур!
Все‑таки легче стало. Поди докажи, что я не на ловлю вышел. А карта… ну и что, скажу, на случай непогоды. Чтоб не заблудиться.
Ты читаешь про все это и наверняка не доволен, что я из твоего атласа выдрал карту. Да зачем она тебе? Всё равно нигде не был, да и вряд ли будешь со своей любовью к этой самой Родине.
Я хоть сделал попытку. Не удалось тогда — получится сейчас, если придёт, наконец, вызов.
Думал, повезут обратно к устью реки, на причал. А они — прямо к набережной. Мимо всех этих рыбаков на шлюпках. И все на меня смотрят.
Почему‑то отчаянно сделалось, весело. И я поднял руки вверх. Будто бы шпиона поймали, и вот он сдался. И с набережной смотрели прохожие. И с пляжа какие‑то физкультурники в спортивной форме. Так и доставили до берега — с поднятыми руками.
Там уже газик стоял. С надписью «Комендатура». И рядом два пограничника ждут — офицер и солдат.
Мою сумку, корзину старика — все забрали и сели вместе со мной в машину.
Пёс выскочил из лодки и наутёк. Оглянулся я тогда на него, завидно стало до слез.
Что было в комендатуре, писать не хочется. Обыск. Допрос. Кто отец? Кто мать? Всю одежду перетряхнули, кроссовки распороли. Сгущёнку из банок вылили. И конечно, привязались к карте Турции: «Где назначена явка? С кем?» Как в кино.
Майор допрашивал, вроде взрослый человек. Я ему говорю: «Чего вы мне шьёте? Просто приехал рыбу половить».
А он как вскочит из‑за стола. Как даст кулаком в лицо. У меня кровь из носа потекла.
И тут я понял то, что сейчас хочу тебе сказать, все же ты мне отец: никогда, ни при каких обстоятельствах не попадайся им в лапы. Это как крюк какого‑то страшного механизма. Подцепят, и закрутит, и ты уже не человек с именем и фамилией. И не надейся ни на какие права.
В общем, били меня. И кулаками. И резиновой палкой. Все это час длилось, наверное. Пока не догадался сказать, что я на учёте в Москве в психдиспансере.
Солдат отволок в пустую камеру, запер.
А вечером привели опять к этому майору. Вежливый такой сделался, добрый.
— Связались с Москвой, — говорит, — с тобой все ясно. Давай договоримся. Вот лист бумаги, авторучка. Пиши объяснительную, что хотел перейти государственную границу, чтоб увидеть памятники Венеции.
— Какой ещё Венеции? — говорю. — При чём тут Венеция?
— Ну, не хочешь Венецию, — отвечает, — пиши хоть египетские пирамиды. А может, английскую королеву. Или Маргарет Тэтчер. Все едино. Ты же ненормальный. Значит, не по нашему ведомству. А нам нужна версия. И мы тебя завтра отпустим. Даже судить не будем.
Написал им, что хотел увидеть Венецию и Маргарет Тэтчер. Подписался.
Фига с два отпустили. Утром запихнули в санитарную машину с решётками. Сопровождающего дали — солдата с карабином, узбека. У него были мои документы и сумка.
Ехали долго. Куда‑то в горы, где снег лежал. К вечеру стали перед какими‑то воротами. На гудок они распахнулись. Проехали мимо голых деревьев, и я увидел длинный облезлый двухэтажный дом с зарешеченными окнами.
Подумал, тюрьма, оказалось — психбольница.
Что за жизнь у меня! Вечно чего‑то жду. Время тянется медленно. Потом, глядишь, месяц прошёл. Или год. А я опять жду чего‑то.
Как‑то ты сказал, что нужно жить в настоящем времени. И на полную катушку. И твойКрамер тоже твердил мне, что надо быть сразу здесь и теперь.
Не хочу я мучиться в этом вашем настоящем времени, когда здорового человека без суда запирают в психушку. Которая, может быть, хуже тюрьмы.
Я ведь тебе не все рассказал, когда вернулся. Знаю, ты не стал бы злорадствовать, но все же в душе мог подумать: «Так тебе и надо, если решился на такое, причинил столько горя…»
И вправду, получается так, что приношу тебе одни огорчения.
Не знаю, о чём ты думал, пока меня не было два с половиной месяца. Даже в милицию не пошёл, не объявил всесоюзный розыск. Правильно сделал. Иначе не известно, чем бы всё это кончилось. Опасно вмешивать в эти дела ещё и милицию. Только зря матери звонил. И бабушке с дедушкой. Нарвался на очередные телефонные скандалы. Сам виноват.
Сколько раз, сидя в этой психбольнице, я пытался переслать тебе письмо, хоть записку, чтоб ты узнал, где я нахожусь, забрал домой.
Не разрешали никакой переписки. Будь у меня деньги, я мог бы подкупить санитаров, да все до копейки осталось в комендатуре.
Ух и тянулось время! Почти как теперь. Если б не придумал себе это сочинение, которое сейчас пишу, наверняка в самом деле сошёл бы с ума. А тогда ничем не мог себя занять. Палата, куда меня поместили, была тесной, на двенадцать человек. Кроме одного здоровенного дебила с бритой головой, который всегда ходил полуголый, в одних кальсонах, все были нормальные, здоровые люди.
Всем нам утром раздавали таблетки. К счастью, никто не следил, едим мы их или нет. Ясвои накапливал в тумбочке, а потом выбрасывал в уборную. Потом мы тащились в столовую. Все в одинаковых застиранных и дырявых зелёных пижамах становились в очередь к раздаточному окну, где повар наливал в тарелку черпак жидкой манной каши. Рядом стоял таз с нарезанным хлебом. Хлеба можно было брать сколько захочешь. И ещё из титана каждый наливал себе в стакан чай, похожий цветом на мочу.
После завтрака — «трудотерапия». Сидели за длинными столами в большой комнате, клеили из картона коробочки для каких‑то приборов.
Перед обедом выпускали гулять. Я надевал поверх пижамы свою одежду, куртку. И всё равно было холодно брести по круговой тропинке в снегу, мимо высокой кирпичной ограды с кусками битого стекла наверху.
Часто был туман. Каркали вороны.
Если б ты знал, как хотелось домой! Самое страшное — никто не говорил, сколько меня здесь продержат. Пришёл новый, 1984 год, а 7 января был мой день рождения.
Среди нас был таксист из города Кутаиси. Верующий в бога. Он сказал, что мне повезло, что я родился в день рождения Христа.
Поздно вечером, когда все уже храпели на своих койках, он вывел меня в коридор к зарешеченному окну и заставил повторять вслед за ним какие‑то молитвы. Я подумал: «Кто его знает, вдруг поможет?» Повторял.
Помнишь, ты мне говорил, что не все так просто. Что есть невидимый мир. Давал читать ксерокс с книжки Циолковского «Неизвестные разумные силы», рассказывал биографию Христа.
Там, в психушке, я про все это вспомнил.
Между прочим, этот таксист из Кутаиси (его звали Зураб) всё время жутко волновался за свою семью. Стонал по ночам, плакал.
Дело в том, что раньше он жил в одном доме с родной матерью и сестрой. И вот когда сестра вышла замуж, они дали кому‑то взятку и выгнали его вместе с тремя детьми и женой на улицу. Оказывается, не у одного меня такая мать.
И нигде им не давали жилья. Нигде не мог добиться правды. Нашёл на пустыре какой‑то сарай. С тех пор они там живут. Без электричества. Без водопровода. Сложил печку, воровал дрова, топил. Дети ходили в школу, болели. Так тянулось несколько лет. Он рассказывал, что и Брежневу писал, и в Верховный
Совет. Приезжали к ним комиссии, ахали, охали. Но никто не помог.
И когда умерла младшая дочка, он совсем отчаялся, дал телеграмму в Организацию Объединённых Наций. На свою голову. Тут же прикатила «скорая», забрали его, засадили в эту самую психушку.
Ещё в нашей палате был Алёша — седой парень из Белоруссии с диагнозом «шизофрения». Оказывается, когда его мобилизовали и привезли в воинскую часть, первое, что он увидел, это плац и турник, на котором висели подвешенные за руки два солдата. По их голым спинам лупцевали ремнями старослужащие.
И этот парень, ещё не надевший военной формы, отказался служить, отказался даже войти в казарму. Представь себе, что ему пришлось перенести. Чуть не год мытарили. В конце концов записали в документах, что у него галлюцинации, шизофрения. Отправили лечиться.
А дней за десять до того, как меня выпустили, в соседней палате появился самый интересный человек из тех, с кем я там познакомился, тоже москвич. Его взяли высоко в горах над Новым Афоном. Из‑за него эти последние дни стали для меня самыми важными. Он записал мой московский телефон, обещал звонить, когда вернётся в Москву, — и сдержал своё слово.
Напишу про него в самом конце.
Первый по–настоящему тёплый день. Март! Все–та–ки кончилась эта зима. Проклятая, как и все остальные зимы. Вчера я лежал в постели, допоздна слушал «Голос Америки» по своему приёмнику. Сказали, что к приезду Рейгана отпустят всех, даже отказников, всех, кто не связан с государственной тайной. Он приезжает в конце мая, а я до сих пор не получил вызова!
Тебе не понять, что значит настоящее отчаяние. Если не придёт вызов, если меня не выпустят, кончу самоубийством. Я не боюсь смерти. Тем более ты говоришь, что смерти нет. Вот и проверю.
Сегодня ты ушёл рано, когда я ещё спал. Спасибо за омлет на плите, за тёртую с сахаром морковь. В любом случае, скоро тебе не о ком будет заботиться. Отдохнёшь от меня.
С утра было, наверное, сто звонков по телефону. Ищут тебя, спрашивают. С таким уважением. Не дали
ни выспаться, ни толком позавтракать. Ты нужен всем. Все нужны тебе. Кроме меня, родного сына.
В психбольнице я часто думал: как же это всё получилось?
Когда ты примчался в метель на такси к телефонной будке, забрал меня вместе с моим узлом, мне шёл четырнадцатый год. Семь лет я прожил у матери. Как они прошли, ты теперь знаешь.
Оказалось, что за это время и у тебя шла своя жизнь. Хотя ты не женился и был так же беден, многое изменилось с тех пор, как мать уехала вместе со мной.
Не хотел писать: там, в грузинской психушке, я болел гриппом с высокой температурой, лежал в изоляторе, бредил. И однажды в бреду вспомнился наш большой, на пятнадцать вёдер воды, аквариум, в котором жил карп, и как ты держал меня маленького на руках, а я кидал ему катышки белого хлеба… Вспомнилось, как ты купил мне на Птичьем рынке кролика. Он прыгал то в лоджии, то по всей квартире. Все‑таки когда мы жили втроём — ты, мама и я, — было много хорошего. Помнишь, как мама без конца разучивала на пианино «Лунную сонату»? И я засыпал под эту музыку.
Вернувшись к тебе, я увидел, что в том углу, где на стойке стоял аквариум, высится целая оранжерея до потолка, набитая висящими корзинками с растениями, освещёнными лампами дневного света.
Откуда они взялись, эти орхидеи? На черта они тебе понадобились? Неужели ты продолжал их поливать, ухаживать за ними в то время, когда я исчез на целых два с половиной месяца?
Если б ты знал, как я ненавижу это твоё странное увлечение. Жить в бедности среди орхидей!
Но это были ещё не все перемены.
Наверняка считаешь себя умным, а поселил меня вдвоём с дедушкой. Сам остался в своей комнате. С орхидеями. С громадным столом, за который ни свет ни заря садился писать свой роман.
Конечно, дедушка относился ко мне хорошо. Радовался, что я опять с вами. Жалел, что бабушка Белла не дожила до этого времени.
И все‑таки нельзя было селить меня с ним, дряхлым стариком, который не спал по ночам, шаркал своими тапками, включал свой ночник, читал «Правду». Я это особенно ненавидел. Тоже мне старый коммунист с восемнадцатого года! Персональный пенсионер! Уже тогда я понимал, что в этой «Правде» печатают ложь. Ты сам рассказывал мне про XX съезд, про Хрущева. Давал читать брошюрку с его речью на XXII съезде.
А что изменилось?
Думаешь, я не видел, как, когда к тебе приходил Артур Крамер послушать новые главы твоего романа, ты выключал телефон из розетки? Ему читал, а мне — нет. Говорил, что я ещё маленький, не пойму. Значит, про Сталина мог понять, а про то, о чём ты пишешь, не мог?
К тому времени ты перевёл меня из той школы, где я учился, когда жил с матерью, в другую, совсем близко от дома. Это была уже четвёртая школа в моей жизни.
Учителя быстро просекли, что я отстаю по всем предметам, кроме разве географии и литературы. Испугались, что снижу им процент успеваемости. Стали оставлять меня после уроков на дополнительные занятия. Особенно старалась классная руководительница — математичка. Она все допытывалась: почему это я сменил столько школ? А что я мог ей сказать? Хотела встретиться не с тобой, а с матерью.
Мать ни разу даже не позвонила, с тех пор как меня выгнала. Её родители тоже. И я не хотел им звонить, я их всех ненавидел, хотя ты говорил, что это нехорошо, все‑таки родная мать, может быть, она действительно болеет…
Только через год после того, как я вступил в комсомол, перешёл в восьмой класс, ты все‑таки настоял, заставил позвонить, поздравить с днём рождения.
Мать как ни в чём не бывало стала спрашивать, как моё здоровье, как я учусь, хорошо ли меня питают.
Сама рубля не прислала. Я‑то видел, как нам трудно. Никто алиментов нам не платил. Иной раз жили на одну дедушкину пенсию персональную — жалкие девяносто рублей.
И все же ты продолжал писать свой бесконечный роман да ещё отвечал мне, что его, наверное, никогда не напечатают.
И в свободное от этого занятия время бесплатно лечил этой своей биоэнергией рук больных, которые прут в наш дом со всех сторон, всех концов света.
А в промежутках ходил за продуктами, готовил, стирал, отстукивал на машинке рецензии на какие‑то рукописи, за что получал гроши.
По вторникам оставлял нас с дедушкой на целый вечер — уходил на занятия к Артуру Крамеру. Думаешь, я не знаю, чем вы там занимаетесь? Имей в виду, толстую книжку, где ты конспектируешь его беседы, записываешь упражнения, я давно отыскал на твоей книжной полке между Платоном и Циолковским, пролистывал. Не удалась твоя маскировочка!
Не злись. Мне тоже хотелось уметь исцелять людей, находить под землёй могилы. Хотелось стать таким, как ты, как Артур Крамер. Я просил, умолял, чтоб и меня научили.
Но оба вы с Крамером утверждали, что этому можно научиться только после того, как человек перестаёт расти, после 25 лет. А пока надо, мол, хорошо заниматься в школе, найти своё призвание.
Призвание! Легко вам было так говорить! У вас уже было все — возраст, профессия, любимое занятие. У меня не было ничего.
Хотелось скорей стать хоть чем‑то, всех удивить.
Ты до сих пор не знаешь, что меня из‑за этого чуть не выперли из школы. Все та же наша классная руководительница Варвара Степановна вздумала подключить меня к «общественной жизни», ввела меня в редколлегию общешкольной стенгазеты. И так получилось, что, кроме меня, некому было делать выпуск к 8 Марта, Женскому дню. Никто не хотел этой ерундой заниматься. Она же заставила. Дала лист ватманской бумаги, краски, клей, старые «Огоньки» и «Работницы». Велела сочинить стихи — поздравление учительницам.
Чуть не до ночи я сидел дома, наклеивал картинки из журналов, рисовал, раскрашивал, делал эту показуху, никому не нужную. И как раз посередине осталось свободное место.
Ну, тут я решил отличиться.
У нас была биологичка, знаешь, из тех, что «с седыми прядками над старыми тетрадками». Из той самой слюнявой песенки. Такая старушка–девушка, которой давно пора на пенсию, а она всё преподаёт, всё воспитывает. Так вот, что‑то у неё случилось с памятью, заело в одном пункте. Однажды на уроке она рассказывала о Мечникове, который изобрёл какую‑то простоквашу. И если её всегда пить, будешь жить чуть ли не бесконечно. Так долго, что надоест. Сам будто бы захочешь помереть. И люди, встречаясь на улице, будто бы будут с улыбкой говорить друг другу: «Желаем вам приятной смерти!»
И эту липовую историю она выкладывала нам чуть не на каждом уроке биологии. Как какую‑то новость.
Ух и злорадно я улыбался, когда составил свой стишок и вписал его фломастером на свободное место.
А утром восьмого марта прикнопил газету на первом этаже, на том стенде, мимо которого в большую перемену все к буфету бегут.
Народу собралось — вся школа А я сзади стою. Все, конечно, читают стихотворение:
УЧИТЕЛЬНИЦЕ БИОЛОГИИ
Желаем вам приятной смерти, Как некий Мечников сказал. Весь класс бы гроб ваш провожал С улыбкой радостной, поверьте!Скандал был большой. Хорошо, хоть в школе оставили.
Перечитал всё, что вчера написано, и понял: не удалось объяснить тебе самое главное: из‑за чего я решил уйти через границу.
Там, в психушке, когда я мысленно разговаривал с тобой, все вроде было понятно. Сейчас — не получается. Отвлекаюсь на всякую чепуху.
Вспомни Игоря и его жену Тоню — адвокатов. Это они помогали тебе на похоронах бабушки Беллы, устраивали поминки. Стали лучшими друзьями. Когда ты меня взял к себе, приносили мне то пальто, то ботинки. Подарили куртку Игоря.
Ты вот не знаешь, что уже тогда за ними следили. А я знаю. Шёл однажды осенью из школы, смотрю — они вдвоём идут к нашему подъезду. Следом чёрная «Волга» ползёт. Когда они вошли в дверь, я как раз поравнялся с этой машиной. Она остановилась. Окно опущено, и слышно, как один из штатских, что там сидел, говорит по рации: «Объекты такие‑то вошли в такой‑то дом».
С одной стороны, я испугался, вспомнил, как ты всегда выключал телефон, когда они приходили, когда ты читал Крамеру главы романа; с другой — стало здорово интересно: вот какие люди к нам ходят. Вернее, к тебе.
Улучив момент, когда Игорь оказался на кухне, я ему сказал про чёрную «Волгу». Он глянул в окно, увидел, что она стоит у тротуара. Перекрестился. И •тут же они с Тоней ушли. И машина уехала.
Через несколько дней Игорь забежал к нам. Один, без Тони. Подарил мне маленький приёмник. А тебе принёс зелёную папку с бумагами. Я подслушал, ты уж не злись, он просил тебя где‑нибудь спрятать её.
Он ушёл. С тех пор они перестали у нас появляться.
А меньше чем через полгода я услышал по «Голосу Америки», что их арестовали. Об этом говорили все радиостанции. Весь мир вступился за них.
Ты же как ни в чём не бывало продолжал писать свой роман и лечить больных. Ты ни слова мне не сказал о том, что они в тюрьме. Не счёл нужным.
А ведь я испугался по–настоящему. Знаешь чего? Что и тебя арестуют. И мы с дедушкой останемся одни. Мы бы тогда пропали. Он делался совсем старый, включал газ и забывал его зажечь, искал очки, которые были у него на носу.
Что бы я с ним делал, если б с тобой что случилось? И что стало бы со мной?
Каждый раз, когда ты уходил на занятия к Крамеру, я искал зелёную папку. Перерыл весь дом. Пока не нашёл её в кладовке на полке, где ты держишь коробки с корой и удобрениями для своих орхидей. Она лежала в старом портфеле с дедушкиными грамотами первых пятилеток, удостоверениями о награждении медалями и орденами. В папке оказались копии писем и телеграмм в защиту Сахарова и каких‑то священников. Статьи о том, что люди у нас в государстве бесправны. Что все дела решаются взятками.
Я сразу понял: все это правда. Вспомнил интернат для идиотов, вспомнил, как мать делала подарки учителям, как меня засадили в мусорный бак.
Правозащитники, вот кто они были. Игорь и Тоня. Под этими документами стояли ещё подписи многих людей. А вот твоей не было. И крамеровской тоже.
Но ведь вы все считались друзьями! Я ничего не мог понять. Думал об этом и дома, и на уроках.
Пристрастился с тех пор слушать радио. Как ни забивали глушилками, кое‑что прорывалось.
В тот вечер, когда передали, что Игорь получил два года лагерей и три года ссылки, а Тоня пять лет ссылки, я вытащил из кладовки зелёную папку и вошёл к тебе в комнату.
Как назло, у тебя оказался больной. Из‑за приёмника я даже не услышал, что кто‑то пришёл. Какой‑то деревенский старик. Бородатый. В валенках. С перевязанной шеей.
Ты увидел, что у меня, даже в лице изменился. Вырвал из рук папку, крикнул:
— Выйди вон!
Ну, вышел я. Хотя грубо так говорить родному сыну. Старик, наконец, ушёл. Ты затворил за ним. И явился за мной. Дедушка спал. Ты поманил меня пальцем, завёл в свою комнату с этой орхидейной оранжереей, плотно закрыл дверь. Отключил телефон.
Черт меня дёрнул за язык. Я спросил:
— Боишься, трус?
И тут началось. Тут‑то ты показал себя. Потребовал дневник, увидел там двойки.
Я ведь вовсе не за тем к тебе заходил. Я хотел понять про Тоню и Игоря, про то, как ты можешь спокойно разводить свои орхидеи, в то время как их осудили. Ни за что. Повторяю: весь мир об этом только и кричал. О них да ещё о Сахарове. Сообщали, что люди на Красную площадь выходили. С плакатами в их защиту.
Ты не давал слова сказать. Говорил, что я совсем не учусь (и это была правда), что не помогаю тебе по дому (и это тоже была правда), что не хочу пуговицы себе пришить (тоже правда), что завуч требует, чтоб после восьмого класса меня забрали в профучилище.
Говорил, что не имею никакого права лезть во взрослые дела, совать нос в эту папку. Что Игорь и Тоня действительно герои. А ты должен во что бы то ни стало выжить, чтобы написать, закончить роман, который для людей важнее, чем любые диссидентские подвиги. Что именно поэтому Игорь и Тоня не втягивали тебя, не приносили на подпись телеграммы и заявления.
— Как же люди прочтут твой роман, если его всё равно не напечатают?
— Не знаю, — сказал ты. — Не знаю.
— Тогда дай почитать мне.
— Обойдёшься, — ответил ты. — Он ещё не окончен. А кроме того, не поймёшь.
— Крамеру читаешь, а мне не прочёл ни страницы… Почему это не пойму?! А если ты пишешь всякую чепуху, в то время как твоих друзей сажают?
И вот тут ты заорал. Чтоб я забыл о романе. Об этом разговоре. Об этой папке. Чтоб перестал слушать иностранные передачи и занимался своим делом. И немедленно ложился спать.
— Ну и сиди со своими орхидеями! — вот как сказал я тогда.
Выходя из комнаты, хлопнул дверью и понял раз и навсегда, что ты не хочешь принимать меня в свою взрослую жизнь, чего‑то недоговариваешь. А раз так, я сам стану борцом за права человека! И в этом моё призвание!
С тех пор ты совсем перестал говорить со мной о самом интересном для меня, прятал свои бумаги. Заботился только о том, чтоб мы с дедушкой были сыты и одеты. Будто только в этом смысл жизни.
А я стал слушать тайно разные «голоса», накрывшись с головой одеялом. Стал вместо мультиков и кинофильмов смотреть по телевизору программу «Время». Заинтересовался политикой.
Ходить в школу стало совсем неинтересно, тем более высиживать на комсомольских собраниях. Меня заставили вступить в комсомол, я ни за что не хотел. Тогда все та же наша классная руководительница как‑то оставила меня после уроков, спросила:
— Куда будешь поступать после школы?
— В Институт международных отношений.
Она удивилась, потом сказала:
— Тем более. Туда, не будучи комсомольцем, не попадёшь.
И я вступил в комсомол. Из корыстных, так сказать, побуждений.
Ну и потом они дали мне кое‑как окончить восьмой класс, чтобы опять же не портить ихних показателей, вызвали тебя и заставили забрать из школы. Они откуда‑то знали, что я состою на учёте в психдиспансере.
К тому времени я уже понял, что с этим учётом мне никогда в жизни не поступить ни в какой МГИМО.
И тогда ты запихнул меня в медучилище. Мне было всё равно, хотя я сам, перелистав все эти справочники, которые ты мне подсунул,, выбрал медицину. Думал, по крайней мере там не будет проклятой математики. Оказалось, всё равно надо пройти всю программу девятый–десятый классы. Только это было ещё не моё страшное. ^ Когда я находился в Грузии, в этой психбольнице, и особенно когда лежал там больной в изоляторе, вспоминались многие странные вещи.
Неожиданно вспомнил, как давным–давно, когда ещё жили втроём (я, ты и мама) и я был совсем маленький, мы снимали подмосковную дачу с терраской. И на этой терраске стояла проволочная клетка, где прыгала белочка.
Один раз рано утром я проснулся от сильного треска и шума. Выбежал босиком на терраску и увидел, что белочка мечется в клетке. А сверху на проволочных прутьях разлёгся огромный чёрный в проплешинах котище. Пытается просунуть лапу, схватить белочку. А ей некуда деться.
Я заорал, заплакал. Ты прибежал с участка, где сидел над своими бумагами за столиком под сосной, прогнал кота, поднял меня на руки. Помнишь?
Всё, что я увидел в медучилище, навалилось на меня, как этот мерзкий кот. Второкурсники отнимали стипендию, которую я получал первые полгода, если не отдавал — били. Я тебе про это не говорил.
А ты все злился, когда я каждый день просил деньги на обед, думал, что я растрачиваю стипендию, как в первый раз, в ресторане «Прага».
Да, знаю, тебе трудно жилось со мной и дедушкой. Но должен же я был обедать в училище, покупать сезонку на транспорт? Шнурки для ботинок. Тетради. В кино хотелось. В театр.
Большинство учащихся были девчонки. Многие уже прошли через аборты. Занимались проституцией. Распивали со старшекурсниками водку. Что их ждало после окончания училища — семьдесят рублей в месяц?
То же ждало и меня. На практических занятиях нас учили всаживать уколы в кожаный манекен, делать перевязки. После окончания училища я, оказывается, обязан был заниматься этими делами в качестве медбрата целых три года. Только делать уколы не в манекен. А в чужие задницы. За семьдесят рублей.
До чего же не хотелось вставать по утрам, тащиться на занятия. Но и домой возвращаться не хотелось. Ты был, как всегда, занят. Дедушка вечно приставал: «Какие отметки получил? Почему не садишься заниматься? Убавь звук в телевизоре…»
И вот я научился прорываться без билета в кино. И в театры. Это не так уж сложно. Дожидался, когда к билетёру подойдёт побольше народу. И проскакивал среди них. Ну, иной раз поймают, выгонят. На второй или третий раз проскочишь.
В театре редко бывали свободные места. Сидел на ступеньках. Просмотрел почти все постановки Театра сатиры. Это мой любимый театр. И на Таганке удавалось бывать.
А вообще — скучный город Москва. Особенно если нет денег.
Хорошо помню то осеннее утро, когда за тобой приехали на «скорой» — повезли в реанимацию спасать какого‑то больного.
И я впервые решил не идти в училище, пропустить хотя бы один день. Все мне там опротивело. Да и вся жизнь тоже.
Съел оставленный тобой завтрак, уселся в кресло, включил телевизор, стал смотреть «Ритмическую гимнастику ".
И тут привязался дедушка: почему не иду учиться? Почему не вымыл после себя посуду?
— Отстань, — отмахнулся я от него. Настроение было хуже некуда.
А он опять лезет:
— Вечером слушаешь враждебные «голоса», утром смотришь на голых баб. Чем все это кончится? Отец с ног сбился. Одно горе с тобой, горе!
И берет выключает телевизор.
Я снова включил.
Он снова выключил.
Тогда я вскочил с кресла. Включил телевизор. Как отодвину дедушку в сторону…
А он вдруг упал.
Лежит на полу, рядом очки валяются. Плачет:
— За что ты меня? Я же твой дедушка. Подними меня, подними, дай руку.
Тут я увидел тебя. Ты стоял в дверях комнаты. В плаще. С кепкой в руке. И рука эта дрожала. Страшно было смотреть. Потом ты кинулся к дедушке. Поднял его, уложил на диван, дал валерьянки.
Мне ни слова не сказал. Вообще не стал со мной разговаривать.
Знаю, в тот день ты перестал видеть одним глазом. Знаю, врачи потом обнаружили: разорвался какой‑то сосуд, залил кровью сетчатку.
Думаешь, я не переживал? Жалко мне тебя было, дурака. Что я такого особенного сделал? Если б ты поговорил со мной, пусть отругал бы, ударил, может, ничего и не случилось.
А то переживал внутри себя. Сам виноват.
Читай–читай. Тебе неприятно все это вспоминать. А мне, думаешь, приятно?
Я пытался с тобой заговаривать. Дедушка просил меня простить.
Ты же сделался как каменный. Молча оставлял рубль на обед. Готовил завтраки и ужины. И все.
Теперь уже я сам стирал себе носки, трусы и майки. Никогда не думал, что так повернётся лаша жизнь, о которой мечтал раньше.
Однажды, выйдя из медучилища, решил без звонка заехать к матери. Это было через год после того, как ты заставил меня поздравить её с днём рождения.
Мать была дома. Вроде обрадовалась. Тут же стала готовить ужин. Оказывается, она не вышла замуж. Уж не знаю, куда подевался этот её хмырь из Кременчуга.
За ужином выспрашивала, как когда‑то: «Как он тебя питает? Почему ходишь в ковбойке с потёртым воротником?» Ужасалась тому, что ты определил меня в медучилище. Что я худой. Что я забыл её родителей, бабушку и дедушку. Невзначай спросила, прописал ли ты меня на своей площади.
Когда узнала, что давным–давно прописал, у неё отлегло от сердца.
И тут я попросил денег.
Она полезла в сумочку, стала там что‑то перекладывать, говорить, что мало зарабатывает. Все‑таки дала три рубля.
Через несколько дней я нанёс визит её родителям. Пообедал у них. Узнал, что Марина — сестра матери — вышла замуж за какого‑то шведского фирмача и вместе с сыном уехала к нему в Стокгольм. Бабушка Клава и дедушка Миша были и вправду рады мне. Сами предложили десятку.
С этих пор я стал регулярно бывать у них и у матери. Кормился, выпрашивал деньги. Но тебе об этом не говорил. И все думал: а если б я не начал ездить, так бы они и жили, забыв обо мне? Ведь за три года ни разу даже не позвонили, не поинтересовались. Кому рассказать — не поверят.
И решил драть с них со всех сколько можно.
Теперь я уже был не так зависим от тебя. Особенно после того, как умер дедушка Лева.
Помнишь то ноябрьское утро, когда мы проснулись, а он — мёртвый? Помнишь автобус с гробом, крематорий? Теперь на поминках не было Игоря с Тоней. Были другие твои знакомые. Крамер. А Игорь с Тоней находились далеко, в Горном Алтае, в ссылке.
Когда поминки кончились, все ушли, кроме Артура Крамера.
Он завёл меня в комнату, где теперь я мог жить один, спросил, какие у меня планы.
А что я мог ответить? Никаких планов не было. К тому времени— я уже месяц не ходил в училище. Ты об этом ещё не знал. Легче было сказать об этом Крамеру. Всё равно тебя бы вызвали в учебную часть.
Я и сказал:
— Я разошёлся с медициной.
— Ну и что дальше? — спросил он.
— Хочу стать борцом за права человека.
— Ясно, — сказал Крамер.
Между прочим, Артура Крамера я уважаю больше, чем всех людей, каких видел в жизни.
Он не стал говорить прописных истин, что надо учиться, работать и так далее. Сел на стул, подпёр рукой голову, смотрит. Пристально так на меня. Я даже глаза отвёл.
Потом вдруг спрашивает:
— А ты никогда не задумывался, почему Робеспьер, Дантон и другие прекрасные люди Французской революции, борцы за права человека, кончили тем что стали отрубать друг другу головы на гильотине. А вспомни великое революционное движение в России Народовольцев, большевиков. К какой мясорубке это привело? К какому режиму в стране? Страна и сейчас покрыта концлагерями. Телефоны прослушиваются Мало что изменилось после Сталина. Я вот недавно был на погранзаставе. Возили пограничники на газике по ту сторону контрольно–следовой полосы вдоль забора из колючей проволоки в два человеческих роста. По всей границе СССР тянется этот забор. Вся страна — концлагерь… Родина наша гибнет.
Я его слушал, и даже страшно стало.
Много чего он мне тогда рассказал. А потом говорит:
— И вот в этих условиях твой отец заканчивает роман, даже не роман — нечто большее — о другом пути, единственном, каким и можно только спастись. Каждому человеку. И всей стране. Всему миру.
— Каким это путём? — спрашиваю.
— Прочтёшь — узнаешь.
— А он не даёт! Даже не хочет об этом разговаривать! Вообще перестал со мной общаться!
Артур как грохнет кулаком об стол.
— Да у него секунды свободной нет! Я уж не говорю, что в любой момент могут конфисковать роман. Ты что, не видишь, каково ему приходится? Ведь он ещё лечит людей. Ночами пишет эти внутренние рецензии — зарабатывает на жизнь. Таскается по магазинам, готовит тебе. Ты ему хоть чем‑то помог? Человек фактически из‑за тебя без глаза остался. А что будет, если ты его опять доведёшь и такая же история случится со вторым глазом? У него теперь, кроме тебя, никого…
Ты в это время мыл на кухне посуду после поминок. Был уже первый час ночи.
— Сдаётся мне, что ты становишься борцом за собственные права, — сказал Крамер, вставая. — Учти, отца мы в обиду не дадим.
Вот как он повернул всё дело. Твой Артур Крамер. Я даже сначала подумал, что это ты его подучил так со мной говорить.
Тогда‑то впервые и мелькнула у меня мысль — убежать, вырваться за стену из проволоки, из этой клетки. Живите сами как хотите. И никому не буду мешать.
Я стал готовиться. Копить жалкие подачки, которые выклянчивал у дорогих родственников.
А с медучилищем простился навсегда. Как ты меня ни уговаривал, забрал документы.
Теперь, с твоей точки зрения, я целыми днями бездельничал. Занятый романом, ты в упор не видел того, что происходит с твоим сыном, спасал любимую Родину или лечил чужих людей. Ух и занервничал ты, когда меня первый раз вызвали в милицию, интересовались, где учусь или работаю.
А я показал им справку из психдиспансера.
Оказалось, что за то время, пока я находился в изоляторе этой психбольницы, ты меня отыскал. Сколько потом ни спрашивал, ты не говорил, каким способом.
Не успели перевести обратно в общую палату, как вызвали к главному врачу. Толстый такой грузин.
— Ты, — говорит, — больше не хочешь увидеть Венецию и Маргарет Тэтчер?
— Не хочу.
— Замечательно, — говорит. — А ты знаешь, что тебя отец ждёт? Всех на ноги поднял. Деньги тебе перевёл. Мы с ним созвонились, он в курсе дела.
— Давайте деньги, — говорю. — И документы отдайте.
— Нет, — отвечает. — Билет мы тебе купим. На поезд посадим. Так и быть — без сопровождающего. А документы на тебя перешлём в Москву, в твой диспансер. Понял?
— Понял. А где моя сумка?
— Получишь. И учти: теперь будешь под надзором милиции, периодически должен посещать диспансер. Приедешь домой — срочно устраивайся на работу. Или на учёбу. Или туда и сюда. Чтоб не болтался без дела, понял? Чем хочешь заниматься?
И тут, не знаю зачем, я сказал:
— Получу в вечерней школе аттестат, буду поступать в Институт международных отношений.
Он засмеялся.
— Замечательно. Продолжаешь витать в облаках. С такими документами, какие теперь у тебя, ни в один институт не примут. Навсегда испортил себе биографию.
Сам понимаешь, с каким настроением возвращался я в Москву.
В этот раз меня никто не подкармливал. Выскакивал на станциях, на оставшиеся твои деньги покупал пирожки, печенье. Брал чай у проводника.
Ехал и все думал: что меня ждёт? От встречи с тобой ничего хорошего ждать не приходилось. По–честному, чем ближе поезд подходил к Москве, тем больше я боялся.
Был конец января. За окнами вагона летел снег. Заводы с дымящимися трубами, утонувшие в сугробах садовые домики вроде сортиров, обледенелый мусор — тошно было глядеть в окно!
Опять вспомнился этот проклятый чёрный кот, который лежал на клетке с белочкой. Как он цапает её лапой, а ей из клетки не вырваться…
Раньше, да и потом, ты всегда говорил, что нужно найти цель, идти к ней, осуществиться, как осуществился Крамер. Как Игорь и Тоня, они, мол, знали, на что шли. Что человека создаёт сопротивление окружающей среде.
Но я ведь тоже сопротивлялся, как мог!
Чем я виноват, что эта ваша окружающая среда оказалась такой? Окружённой колючей проволокой.
Я не просил вас с матерью, чтоб вы меня родили. Чтоб у меня была асфиксия.
Я застал этот мир, эту страну после вашего Сталина с его режимом. Когда всех хороших людей порасстреляли, развалили, как пишут теперь во всех газетах и плачутся по телевизору, все хозяйство.
Ты скажешь — ты не виноват.
Но уж не я. Это точно.
Могли всем народом пойти на Красную площадь, в Кремль, и придушить его. Весь народ никакие войска бы не остановили. Даже войска КГБ. Даже пушки и танки.
Сидели, дрожали…
А я‑то за что должен расплачиваться?
Если серьёзно: что я такого особенного сделал?
И вот я опять был на Курском вокзале. Поезд пришёл вечером. Люди все так же толпами шли к электричкам, будто ничего не произошло, не изменилось.
Я как представил себе, что опять войду в дом, опять телевизор, опять буду под одеялом слушать «голоса», дедушка Лева станет приставать: «Почему не учишься? ' Чуть не заплакал. Потом вспомнил, что дедушка умер.
И поехал к другому дедушке. Хотя ты и не знал, когда точно и каким поездом я возвращаюсь, я понимал, что ты меня ждёшь с часу на час, волнуешься. Но я боялся встретиться с твоим укоряющим взглядом. Решил оттянуть время.
Если б ты видел, что я застал у дедушки Миши и бабушки Клавы!
Ты уже знаешь, что моя тётка, сестра матери Марина, вышла замуж за шведского фирмача.
Так вот. Вся эта компания была в сборе. И фирмач, и Марина со своим сыном Антоном. И мать. И её брат Виктор. Все они сидели за накрытым столом, когда бабушка открыла мне дверь.
Интересное дело, до меня они объедались вкусной заграничной жратвой, пили кофе, смотрели по видео американский фильм, а тут подняли целую панику: «Мы с ума сходим., куда ты делся? Господи, до чего вырос и исхудал, прямо дистрофик! Сволочь отец, довёл ребёнка!»
Конечно, особенно ужасалась мать.
Только бабушка ничего не сказала. Сразу отвела в ванную, велела раздеться, забрала белье. И пока я мылся, запихнула все в стиральную машину на кухне.
Мылился я душистым иностранным мылом фирмы «Palmolive», голову мыл вьетнамским шампунем и думал: «Ёлки–палки, живут же люди!»
Дед дал мне свои трусы и майку. Фирмач, которого зовут Густав, подарил синюю рубашку на кнопках, галстук, носки. И новенькие кроссовки. Они оказались великоваты. Но я был рад. Настоящий «АЛёаз». Ты никогда не сможешь мне такие достать.
Усадили за стол, как какого‑то именинника или героя. Угощение было классное — икра, шпроты и сардины, французский сыр, впрочем, вонючий, цыплёнок табака. Густав, он хорошо говорит по–русски, предложил выпить коньяка из красивой бутылки, да ты ведь знаешь — ненавижу спиртное, как и курево. Я отказался. Зато приналёг потом на апельсины, замороженную клубнику. Даже для пробы растворимого кофе выпил, заграничного. Не понравилось. Приналёг на «кока–колу» — отличный напиток!
Конечно, я им ничего не сказал, ну, про то, что пытался перейти границу. Просто, мол, поехал в Сухуми море посмотреть, а меня поймали, посадили в психушку.
— Суд был? — спросил Густав.
Когда услышал, что суда не было, удивился. Сказал, что ни у них, ни во всём цивилизованном мире так быть не может. А я про себя подумал: «Это ещё счастье, что его не было. Сидел бы сейчас в тюрьме».
А тогда я сидел с ними вместе, угощался, впервые в жизни смотрел по видео фильм ужасов с Майклом Джексоном, который выступал в маске с длинными клыками.
Было вовсе не страшно. Наверное, уже ничего не страшно тому, кого запирали в мусорном баке, кого выгоняла в метель родная мать или, затащив в туалет медучилища, били между ног — отнимали стипендию… Я уж не говорю об интернате для идиотов и психбольнице. О том, как меня бил майор в комендатуре.
Всё помню. Ничего не забываю.
Постепенно выяснилось, что Марина с моим двоюродным братом Антоном только что прибыли на две недели по гостевой визе. А Густав чуть ли не раз в месяц прилетает из Стокгольма по делам фирмы. Что у них там и свой дом, и своявилла на озере. Что уже ездили на своей машине в ФРГ, в Грецию. Привезли в подарок старикам видеомагнитофон, телевизор цветной японский. Несколько чемоданов барахла. Матери подарили дублёнку, туфли, электронные часики.
Обидно мне стало. Думаю, отделались кроссовками и рубашкой с галстуком.
Антону тогда шёл шестнадцатый, на год меня младше, а видел бы, как он одет, — с иголочки. Уж не говорю о Марине. Разодета в пух и прах, украшения так и сверкают. Не знаю, где она подцепила этого Густава. Если б не акцент — обыкновенный лысоватый толстяк в подтяжках, ни за что не догадаешься, что иностранец.
Только стал подумывать, как бы чего‑нибудь ещё выцарапать, как мать стала поглядывать на свои новые часики, говорить: «Поздно уже. Тебе далеко ехать…» Боялась, что бабушка оставит меня ночевать или я напрошусь к ней.
Ух и завидовала она своей младшей сестре! Уверен: сто раз просила познакомить с каким‑нибудь таким же тузом.
Что делать! Я встал из‑за стола, начал прощаться. А бабушка просит: «Погоди немного. Сейчас поглажу, возьмёшь своё белье».
И как‑то получилось, что мы с этим Густавом ненадолго остались вдвоём.
Он' всё недоумевает:
— Как это: посмотреть море — и за это в психиатрическую клинику?
Тут я его в упор спрашиваю:
— Умеете хранить секреты?
— О да! — отвечает.
— Так вот. Я переходил государственную границу. И меня арестовали, — сказал, сам удивился, к чему я это делаю. Будто хвалюсь.
Он опешил. Потом спрашивает:
— Зачем?
— Хотел бороться за права человека в Советском Союзе. Как Игорь и Тоня. — Я назвал их фамилию. — Слышали таких?
— Конечно, — кивает. — Конечно. Они сосланы. Весь мир их знает.
— Это — мои знакомые, — говорю. — Друзья отца.
— Вот как?! — Он с уважением посмотрел на меня. — Очень храбрые люди. А твой отец тоже диссидент?
— Нет, — говорю. — Он знает другой путь. Спасения нашей страны и всего человечества.
Ты не злись. Я, правда, гордился тобой, когда рассказывал, как ты пишешь свою книгу, лечишь и вылечиваешь людей биоэнергией, как бедствуешь.
Тут опять появились Марина, мать. Бабушка со стопкой чистого белья и моей сумкой.
Когда прощались, этот Густав улучил момент, чтоб никто не видел, сунул мне авторучку, шепнул:
— Отцу презент.
В лифте я разглядел. Это был «Паркер» — шикарная шариковая ручка. У тебя такой сроду не было. Честно говоря, решил оставить её себе. В общем, расслабился я у своих родственников. Зато когда подходил к дому, снова всё навалилось.
Шёл уже первый час ночи. Открывая дверь своим ключом, услышал, как ты стучишь на пишущей машинке. Думал, ты не заметил моего прихода. Разделся. Вошёл в свою комнату. Чудно было войти в неё и не увидеть дедушки…
В этот миг ты обнял меня за плечи, повернул к себе, прижал, заплакал. Я увидел: голова у тебя поседела.
Я сунул тебе авторучку. А ты даже не поглядел на неё. Повёл в кухню ужинать. Там уже было все накрыто.
Есть мне не хотелось. И тогда ты сказал:
— Поздно. Ложись спать. Утром поговорим.
Не думал я, что ты меня так встретишь. Хорошо было засыпать в своей комнате на своей тахте, укрытым одеялом с чистым пододеяльником.
Первые дни и даже недели у нас пошла отличная жизнь. Ты не приставал ко мне, не спрашивал. Только один раз у тебя вырвалось: «Как же ты мог пойти на такое? И почему они мне ничего не сообщили?»
Оказалось, что пока я мучился в медучилище, шатался по театрам и кино, пока ездил в Таллинн и в Сухуми, сидел в психбольнице, началась перестройка.
Ты показал мне письма, которые присылали из ссылки Игорь и Тоня. Мы вместе собрали им посылку из круп и вещей, вместе ходили на почту отправлять. Вместе читали газету «Известия», смотрели по телевизору программу «Время».
Теперь мне уже не надо было лезть под одеяло слушать мой приёмник. Никто не мешал.
Утром вставал поздно. Заходил к тебе в комнату. Был февраль. Твоя оранжерея светилась неоновым светом. Цвели орхидеи, ты работал за своим столом.
Однажды я спросил:
— Сколько лет ты пишешь свой роман?
— Кажется, шестой год, — ответил ты. — Знаешь, появилась надежда, что его напечатают. Скоро кончу. Попробую.
— О чём все‑таки роман?
— Не могу, не умею коротко сформулировать… Видишь ли, и на Западе люди несчастны. Дело не в обилии еды и других товаров. Сколько и у них самоубийств, преступности. Их путь — бездуховный. Но и наш не дал людям счастья. Есть третий путь. Это — путь раскрытия огромных возможностей каждого человека. Я сам вместе с Артуром Крамером и его учениками иду по этому пути. Невозможно переделать мир, не начав с себя. Не открыв себя влиянию Бога.
Примерно так ты ответил.
И тогда я сказал:
— Я тоже хочу лечить людей. Тоже хочу стать как ты. Почему за столько лет ты мне ни разу не читал роман, не развивал мои возможности?
— Кончу — дам прочитать. Это было просто опасно, — ответил ты. — Теперь, кажется, можно. Только ведь я не зря определил тебя именно в медучилище. А теперь что ты думаешь делать? Вечно ноешь, брюзжишь. То Сталин тебе виноват, то мать, то вообще эпоха. А ветер, между прочим, дует всегда. Как говорил индус Вивекананда, он дует одинаково для всех судов. Просто одни распустили паруса, другие — нет…
Видишь, к чему ты свёл тогдашний наш разговор. Скучно мне стало. И завидно. У тебя появилась надежда. А у меня?
Числа восемнадцатого февраля раздался телефонный звонок. Спрашивали меня. По имени–отчеству. Женским голосом. Просили на следующий день прийти в диспансер. Тебя не было дома. «Чего они от меня хотят? — подумал я. — Придётся куда‑нибудь устраиваться».
Пошёл по улицам читать на досках «Мосгорсправки» объявления. Призывали учиться на каменщика, на токаря, на маляра,' продавца. Никто не приглашал учиться на дипломата. Списал в записную книжку несколько телефонов училища официантов и училища поваров. Подумал, хоть буду при этом питаться, отцу станет легче.
Видишь, я думал и о тебе, думал!
На другой день поехал к двенадцати в психдиспансер.
Старинный такой особнячок. Да ты там был. Знаешь. А уж мне приходилось раньше бывать не один раз — и когда в школе учился, и в медучилище: вызывали ведь через каждые полгода, беседы с врачом, выписка рецептов на лекарства, которые я никогда не ел. И ты, в отличие от матери, никогда не заставлял меня этого делать.
Ну вот. Подошёл я к окошку регистратуры. А там, как всегда, очередь. Правда, в этот раз небольшая. Человек пять. Встал за каким‑то высоким мужиком с палкой, двигаемся понемногу. Наконец, подходит он к окошку, за которым сидит тётка — регистраторша в белом халате, просит:
— Будьте любезны, мне нужна справка о том, что я не состою у вас на учёте. Для поездки за границу.
Ух и позавидовал я ему! Вот, думаю, человек запросто, без всяких, окажется там. Я ещё хотел спросить: в какую страну едет?
Она потребовала паспорт и военный билет.
Он сунул их в окошко, сказал:
— У меня не военный — освобождение от воинской обязанности.
Регистраторша поглядела в документы, вскочила со стула, начала на полке толстые папки выглядывать. Вынула одну, пролистала.
— Странно, — говорит, — как это случилось, что вы до сих пор не находитесь у нас на учёте?
Он ещё смеётся:
— Потому что я ещё не сошёл с ума!
И тут она берет из стопки такую чистую тетрадочку с надписью «История болезни» и начинает переписывать в неё из паспорта его фамилию, имя, отчество и так далее.
Он как заорёт:
— Что вы делаете?! Мне нужна только справка!
А она ему:
— Не волнуйтесь, больной. Сейчас пройдём вместе в кабинет № 2, доктор вам все объяснит.
— Да я не больной! С какой стати вы завели на меня целое досье?!
— Тихо, — говорит она. — Тихо.
Выходит из регистратуры, запирает за собой дверь и, держа в руках документы и эту самую историю болезни, идёт куда‑то в коридор. И он как миленький хромает вслед со своей палкой.
Надо мне было, дураку, уйти. Я просто почувствовал, как крюк этого самого невидимого механизма зацепил его и сейчас зацепит меня.
Регистраторша вернулась, Цап рукой из окошка мой паспорт.
— А где, — говорит, — военный билет?
— Какой ещё билет? Мне семнадцать, — отвечаю. А сам думаю: «Хорошо хоть скоро от армии освободят, должны освободить».
Она нашла историю болезни, сказала:
— Поднимайтесь на третий этаж к главврачу.
Теперь, если б захотел удрать, не смог бы.
Паспорт‑то у неё! Вот система!
Пошёл и думаю: «А зачем все это надо? Нельзя было приходить. Обязан я, что ли?»
А там, у кабинета главврача, целая очередь расселась на стульях. Мамаши с детьми, которых, наверное, так же, как и меня, хотели сплавить в интернат. На вид совсем нормальные, славные детишки. Сидят притихшие, чуют, что их ждёт. И несколько взрослых.
Ждал я, ждал. Видел, как сестра принесла из регистратуры мою историю болезни.
Наконец, вызывают.
Вхожу, в кабинет. Огромный такой. Со старинным камином. Узорчатым паркетом. Посреди стол стоит. За ним жирная старуха — главврач с накрашенными губами. Сбоку — медсестра.
— Садись, — говорит старуха. — Что ж ты, голубчик, наделал?
Начала листать какие‑то бумаги. Что‑то переписывать в мою историю болезни.
Потом спрашивает:
— Интересуешься пейзажами Венеции?
— Нет, — говорю, — уже не интересуюсь.
— А головные боли у тебя бывают?
— Нет, — отвечаю, — не бывают.
— Странно…
И тут в кабинет вламывается этот хромой с палкой. Страшно было на него смотреть.
— Что у вас тут происходит?! — кричит. — Да я вас всех тут, . всю вашу лавочку разгоню к чёртовой матери!
— В. чем дело? Как вы смеете врываться? — говорит старуха.
— А вы как смеете нормального человека записывать сумасшедшим? Что у вас тут вообще делается?! Это вам не бериевские времена!
— Спокойно, — говорит старуха. — В чём все‑таки дело? Присядьте, больной.
— Какой я вам больной?! Сами вы тут все сумасшедшие!
— Конечно, больной, — говорит старуха. — Смотрите, у вас по лбу пот катится, руки дрожат… Все признаки неуравновешенного состояния психики. Разве не так?
Он так и плюхнулся на стул у окна. Молчит.
— В чём все‑таки дело? — снова спрашивает старуха. — Вы Нам мешаете.
— Ну и ну, — говорит, — я пришёл в спокойном состоянии за справкой. Для турпоездки в Австрию. Это у вас меня довели до того, что действительно дрожат руки. У меня в детстве был полиомиелит, детский паралич. И я давным–давно освобождён от воинской обязанности по группе первой, статья девять
— Извините, голубчик, — перебивает старуха. — Эта статья говорит о тяжелейшем поражении головного мозга. И мы вам с таким заболеванием справки дать не можем. И обязаны поставить на учёт в нашем диспансере.
Тут он встаёт, подходит к самому столу и говорит прямо в её старушечье накрашенное лицо:
— Я только что дозвонился в военкомат. Мне сообщили, что лет двадцать назад все номера статей переменились. «Девять–а» теперь, действительно, — заболевание головного мозга. А у меня нога больная. Понятно? И вы должны, обязаны быть в курсе дела. Или вы профнепригодны?
И старуха, и медсестра, и даже я поняли, что он не врёт. Видел бы ты, как лицо главврача пошло пятнами.
Наконец старуха пришла в себя.
— Если это так, вам придётся спуститься на второй этаж, пройти экспертизу ВТЭК.
— Мне нужна справка о том, что я у вас не на учёте. А не экспертиза! — Он начал опять наливаться злостью.
И тут медсестра говорит:
— Они в полвторого кончают работать. Идите. Иначе опоздаете.
Он как вылетит из кабинета!..
Не знаю, чем у него все это дело кончилось. А у меня, ты знаешь, кончилось пострашней.
— Видишь, голубчик, какие люди неуравновешенные бывают, — говорит старуха. — Лечиться надо. И тебя будем лечить. Поедешь сейчас в больницу. Там тебя обследуют, подлечат.
— В какую ещё больницу? — говорю. — Я здоров.
— Нет, голубчик, болен. Опасно болен. Здоровые советские люди не нарушают государственную границу, не хотят увидеть Венецию и Маргарет Тэтчер.
Так вот и замкнулся этот круг, который начался в Сухумской комендатуре.
Как я ни бился, как ни доказывал, что пограничники заставили написать эту глупость, ничего не вышло.
Минут через двадцать два дюжих медбрата впихнули меня в санитарную перевозку с зарешеченными окнами, которая стояла во дворе психдиспансера. Там уже было набито.
Повезли. Через центр города в Сокольники.
Какой‑то армянин, сидевший рядом на лавочке, сказал:
— Сегодня пятнадцатое февраля. Через десять дней — Двадцать седьмой съезд. Всегда перед съездами и праздниками забирают.
Окна с решётками, двери без ручек, запираемые санитарами, медсёстрами и врачами на ключ, похожий на железнодорожный. Как у проводников. Эта обстановочка стала для меня уже привычной.
Таблетки, как прежде, выбрасывал в туалет. А вот от уколов избавиться не удавалось.
От них мы делались сонные. Всё время хотелось спать.
В первый же день я уговорил одну бабку–санитарку, чтоб позвонила тебе, сказала, где я нахожусь.
А на другой, помню, разбудили меня часа в два, говорят: «Иди в комнату для свиданий с родственниками. К тебе пришли».
Ну и вид был у тебя! Хмурый, злой.
Помнишь, сколько набилось народа — те, кого вызвали из палат, и те, кто пришёл со своими сумками и авоськами. Теснотища. Все стулья заняты. Кто плачет, кто пьёт кефир прямо из бутылки. Санитарка сидит, наблюдает, чтоб не передали, чего не позволено.
А ты смотришь на все это злыми глазами, словно запоминаешь. А мне, как в песенке, всё равно, не боимся мы волка и совы. Стою с тобой в углу, ем бутерброды и яблоки, которые ты принёс, и вижу, что мы одного роста. Что я стал такой же, как ты. Но только ты — ребёнок. Не понимаешь, как жизнь устроена на самом деле.
Ты все рвался поговорить с врачом, с дирекцией больницы: на каком, мол, основании меня здесь заперли. Ну, поговорил, ну и что?
А я заранее знал: не отпустят. Мне уже тут объяснили бывалые люди: пройдёт съезд, дней через десять выпустят. До Первого мая… Раз уж подцепил этот ихний крючок, так будет на всю жизнь.
Жалко на тебя было смотреть, когда ты уходил. Когда санитарка отперла тебе дверь. Ты оглянулся…
И тут я вспомнил, как несколько лет назад (ещё был жив дедушка Лева) к тебе пришли в гости два профессора из США — муж и жена, совсем старые люди. Кажется, их прислал Артур Крамер. Они интересовались этой самой парапсихологией.
Профессорша знала русский. Пока ты с ней разговаривал, я притащил из своей комнаты настольную игру «Хоккей», и мы с профессором от души сыграли матч «Америка — Советский Союз», в котором победил Советский Союз, то есть я.
Потом позвали дедушку, пили чай, профессор задавал тебе вопросы на английском, профессорша переводила. Мне было только пятнадцать, дурак я был, что не вслушивался, не запомнил, о чём ты рассказывал.
Через несколько дней или неделю, когда ты стирал в ванной, раздался звонок. Я подошёл к телефону. Мужской голос спрашивал тебя.
Помню, как ты разговаривал, требовал прислать какую‑то повестку, потом согласился куда‑то прийти.
Я спросил:
— Куда идёшь?
Ты ничего не ответил. Быстро переоделся. Сунул в пиджак паспорт. Нацепил галстук, надел плащ. И уходя, оглянулся…
Так вот, учти. Я всё знаю. Мне пришлось ехать с тобой в одном вагоне метро, красться по улицам до площади Дзержинского, до того самого подъезда КГБ, где написано «Бюро пропусков». Ты был так погружён в свои мысли, что даже не заметил меня.. А я сразу заподозрил неладное, понял, что этот вызов связан с американскими профессорами.
Прав я или не прав?
Ты вышел оттуда часа через полтора. Знаешь, как я обрадовался! Боялся, больше никогда не увижу… Думал: что будет со мной и дедушкой?
Ты почему‑то двинулся не обратно в метро, а просто вниз по Кузнецкому. Зачем‑то зашёл в зоомагазин. Я заглянул. Ты стоял спиной ко мне, уставясь на аквариум, где плавали рыбки.
Тогда я перестал следить, пересчитал свою мелочь, пошёл в кинотеатр «Метрополь».
Вечером, сколько ни спрашивал, ты не ответил, куда тебя вызывали. Отвечал: «Не трогай меня», «Не твоё дело».
Учти, терял сына! Не хотел ничем поделиться. А ведь сам Крамер говорил: у тебя никого, кроме меня, нету.
Наконец‑то!
Видел, как я подпрыгнул чуть не до потолка? Ещё бы! Наконец‑то сегодня, 10 апреля 1988 года, почтальонша принесла большое заказное письмо на моё имя. Ты расписывался, а я уже распечатывал его в своей комнате. В нём был вызов. Официальный. С печатями. Из государства Израиль. Молодец Густав! Не подвёл меня, все устроил.
— Я сразу же взял документы и поехал в ОВИР. А ты остался дома. Наверняка думал, что вот теперь, если выпустят, я уеду в Израиль.
Выпустят! Куда они денутся?!
Только на черта мне нужен Израиль, который убивает палестинцев?! Нет. Когда долечу до Вены, добьюсь, чтоб меня отправили в США. И там надолго не застряну. Штаты станут пересадкой на пути к настоящей цели. Какой? Узнаешь, когда меня здесь не станет. То‑то удивишься!
Теперь времени будет мало, нужно добывать деньги.
На визу, билет, на новый паспорт. Постараюсь не просить у тебя. Да что с тебя возьмёшь?
Сегодня овировский чиновник, когда я писал заявление, спросил, понимаю ли, что делаю. Лишусь гражданства и так далее.
Я кивнул. А сам подумал: «Знаю, чего лишусь, — зарешеченных окон». Хотя, когда меня в восемьдесят шестом выпустили после съезда, а перед маем снова вызвали в диспансер, ты поехал со мной, отстоял. Все‑таки перестройка.
Вернули в Москву академика Сахарова, досрочно приехали из ссылки Тоня с Игорем. Помилованные. Кто поплатился за то, что они перенесли? Вычеркнули у честных людей пять лет жизни, если считать год, когда они находились в Лефортове под следствием. А в это время Чурбановы и Трегубовы не тужили. Гребли взятки, обворовывали твою любимую Родину.
Ты ещё не знаешь всего, что я насмотрелся за эти два года, после того как вышел из больницы в Сокольниках.
Тогда ты особенно заботился обо мне. Не приставал с этими разговорами об учёбе, работе. Помнишь, как однажды ты нашёл на антресолях целый чемодан с фотографиями? И мы с тобой весь вечер рассматривали их. Ты говорил, что в биографиях бабушки Беллы и дедушки Лёвы отразилась биография страны. Помнишь, как среди этих фотографий мы увидели вырезанные из старых журналов фотографии Маяковского?
Я удивился, спросил:
— Это что, наш родственник?
И ты ответил:
— В известном смысле. Родители очень любили его. Мама даже несколько раз видела. И я тоже люблю. И не только стихи. Вся его жизнь — поэма.
— Из‑за чего он кончил самоубийством? — спросил
я.
И ты ответил; я этого никогда не забуду — того, что ты сказал:
— Маяковский привил себе социализм. Как прививает себе учёный — микробиолог новую вакцину против болезни. Старый мир был болен. Казалось, изобретено новое лекарство для счастья человечества. Это был великий эксперимент.
— Тогда зачем он выстрелил в себя?
— А ты хотел, чтоб его расстреляли в тридцать седьмом?
В тот вечер я понял, почему ты раньше уходил от моих вопросов, изо всех сил скрывая своё отношение к тому, что делалось вокруг, не стал диссидентом, как Игорь и Тоня! Потому что тебе больно то, о чём открыто орут сейчас, во время перестройки, все газеты, журналы, телевизор. У тебя у самого эта прививка!
Конечно, интересно все‑таки прочесть твой роман. Узнать, к чему ты пришёл. А ты ухитрился раздать по редакциям все экземпляры. Даже если его напечатают, меня уже здесь не будет.
Снова надо ждать. Теперь уже разрешения ОВИРа. Не может быть, чтоб меня не выпустили. Один мой друг, о котором ты ещё узнаешь, сказал: «Ты им даром не нужен».
Все‑таки обидно слышать такие слова. Что ты даром не нужен своей стране. Хотя я всегда это чувствовал. Не нужен матери. Не нужен школе. Медучилищу. Да и везде, где работал за последние полтора года, тоже был не очень‑то нужен.
Помнишь, как после звонка из милиции я стал ходить в вечернюю школу рабочей молодёжи, устроился дежурить лифтёром в доме у метро «Сокол»? За семьдесят рублей.
Я это сделал только для тебя. Чтоб тебе было спокойней.
Однажды ты себя плохо почувствовал. Попросил бросить в почтовый ящик письмо Артуру Крамеру, который был тогда в командировке. На улице я не удержался и распечатал. Вот оно, это письмо. Так и не послал, потому что конверт был уже разорван. Вклеиваю.
«Дорогой Артур!
Как договорились, посылаю контрольное письмо. Вчера с семи утра по московскому, или же с десяти по душанбинскому, видел в закрытых глазах тебя, садящегося в газик. Вы ехали в горы. Водитель говорил о какой‑то проблеме в Институте ботаники; что‑то связанное со склокой.
Несмотря на жару, он был в пиджаке и галстуке.
В твоём сознании все это время находился М. С. Горбачев. Ты думал о том, что ему сейчас труднее, чем всем. Потом думал о составе Политбюро. О том, что нам запрещено вмешиваться в мышление других людей.
Ярко видел, как вы проехали мимо тенистых деревьев, под которыми сидели на корточках с пиалами в руках старики в полосатых халатах.
Дальше опыт пришлось прекратить — в комнату вошёл сын. Сильно заболела голова.
На днях, пользуясь твоим методом, выгнал камень, застрявший на выходе из почки в мочеточник, у одного режиссёра. Сам удивился. Для проверки послал его на рентген. Камня нет.
С сыном все по–прежнему. Трагедия, нет у него никаких идеалов, не получается помочь ему ни в чём. Я — типичный сапожник без сапог.
До встречи».
Ну и письмецо! Вот ты жалуешься, что нет у меня никаких идеалов. Над теми идеалами, что нам внушали на комсомольских собраниях, сейчас открыто по телевизору смеются.
Откуда им взяться? Этим идеалам.
Не волнуйся. Есть у меня идеалы. Есть!
Сколько у тебя знаменитых знакомых, даже кинорежиссёры, столько людей вылечил и не мог, не захотел попросить их устроить меня на интересную работу. И чтоб деньги хорошие платили.
Пришлось мне через два дня на третий сутками сидеть в подъезде, в конуре у лифта, со своими учебниками и тетрадями, заниматься ради этого проклятого аттестата.
Лампочка тусклая, жильцы грохочут дверью лифта, постоянно выглядывай — свои или чужие входят в дом. Может, для пенсионеров и занятие, а для меня — тоска смертная. Считал часы, когда можно будет уйти домой. Единственное утешение — приёмничек. Слушал днём передачи про перестройку и гласность. Вечером — западные станции. Их уже перестали глушить.
Ночь. Все спят. А я ловлю кайф. Слушаю песни Вилли Токарева. Или Высоцкого. «Идёт охота на волков, идёт охота…» Моя самая любимая песня. Слушал и рок–музыку. До сих пор не могу понять, нравится она мне или не нравится.
Это ты виноват со своими Бахами и Чайковскими. Никогда не забуду эти вечера, когда ты ставил пластинки на свой дохлый проигрыватель «Молодёжный», звал в свою комнату: «Послушай то, послушай это…» Воспитывал, так сказать, мой музыкальный вкус.
Ну, терпел я, слушал. Глядел на твою оранжерейку.
Кстати, зачем все‑таки эти орхидеи, которые цветут через пень колоду? Разводил бы лучше розы. Или гвоздики. На рынке такой цветок от двух до пяти рублей. В зависимости от сезона. Вот я уеду, подстели что‑нибудь на паркет в моей комнате, насыпь слой земли, проведи освещение. Штук тысячу цветов можно посадить. Даже если по три тысячи в месяц выручать, то за год — тридцать тысяч. Теперь можно не бояться. Индивидуально–трудовая деятельность. Искренне советую! Сразу зимнее пальто себе купишь, ботинки. А со временем и машину. Только не советую.
Там, где я работал лифтёром, близко рынок. Каждый раз после дежурства шёл через него к метро. И всегда проходил мимо всех рядов, пробовал, будто что‑то собираюсь купить. Начинаю с квашеной капусты, потом хожу, пробую у разных торговок сало, они отрезают тонкие ломтики, перехожу к сухофруктам — изюму, кураге.
Пока продавцы меня заприметили, я уже вылетел с работы. И перестал бывать на этом рынке.
А знаешь, почему выгнали? На самом деле вовсе не из‑за того, что я один раз на два часа смылся со своего поста в киноклуб, где показывали «Ностальгию» Тарковского и начальник ДЭЗа это обнаружил. Он бы меня простил, если б не профессорша с седьмого этажа. Вынесли видео, золотые украшения, сертификаты для «Берёзки». У неё перед этим муж–профессор ушёл к молодой, благородно оставил все богатства. И вот эти богатства упёрли. Как раз в моё дежурство. Милиция приезжала с овчаркой.
Я лично не видел никаких грабителей, никаких чужих людей. Так и сказал участковому. А она на меня напустилась, устроила истерику.
— Ты, — говорит, — виноват. Не уследил. Я тебя в тюрьму засажу! Думала, у нас консьерж, а ты, может, наводчик, пособник бандитов! Дежурят случайные люди!
Вот почему я тебе тогда не рассказал. Меня в милицию на допросы тягали. В моём положении знаешь как опасно!
Потом выяснилось, что и видео, и золото, и сертификаты спёр этот же самый профессор, её муж. Которого выгнала молодка, когда получила богатства. Он полудохлый вернулся домой, во всём признался профессорше. И она его простила.
А меня выперли. Ни за что ни про что.
Правда, я не очень горевал. Теперь у меня была трудовая книжка, где добрый начальник ДЭЗа написал: «Уволен по собственному желанию». Это ложь, неправда. Но мне сказали, что всюду так делается.
Вчера, когда от тебя уходил Игорь, он вдруг попросил проводить до метро. Зря ты сказал ему, что я получил вызов и собираюсь уезжать. Кто его знает, возьмут и не выпустят. Или кто‑нибудь вмешается, все испортит. Не то чтобы я стал суеверный, но все же. Пока дело не сделано — не надо о нём говорить.
Ещё вечер не наступил. Были сумерки. Не доходя до метро, он сел на лавку в скверике и сказал:
— Присаживайся.
Я сел. Увидел: у кустов сирени везде растопырились почки. И воздух апрельский, сладкий. Думаю, неужели совсем скоро увижу Вену и Италию, куда сначала прилетают эмигранты, потом увижу небоскребы… Честное слово, сразу вспомнил о тебе. Представил, как ты сидишь дома над своими бумагами. И наверняка до смерти будешь сидеть. Жалко мне тебя стало. Игоря тоже. Совсем он седой после тюрьмы и ссылки.
И тут Игорь говорит:
— Значит, решил, что тебя с твоими запросами здесь ничего хорошего не ждёт?
— Это уж точно, — говорю. — А вы думаете по–другому? Вы с Тоней почему не уезжаете? Надеетесь на перестройку? Когда буду там, хотите, постараюсь устроить вызов?
А он ответил:
— Если б мы хотели уехать, нам прислали бы вызов и до ареста, а уж сейчас — тем более. Лучше скажи: не жалко отца? Он ведь переживает. Ты у него один…
Так и знал, что он про это заговорит. И я сказал:
— Отец уезжать не желает. У него теория: если человек может светить, он должен светить, где темно. Считает предателями тех, кто эмигрирует.
Разве неправильно я ответил? И ещё добавил, что отец старый, ему пятьдесят, а я молодой, хочу увидеть разные страны.
— Какой ты ещё дурачок, — сказал Игорь. — Я и сам в молодости бредил морями–океанами. Все понятно. Романтика. Но тебе уже девятнадцатый.
И вот этим он вывел меня из себя. Ненавижу эту романтику, про которую песни поют в передачах радиостанции «Юность»! Романтика! Мы сидели, а наискосок, на другой скамейке, не знаю, видел Игорь или нет, два парня, задрав рукава, кололись…
Наверное, не видел. Потому что говорил, что сейчас самое интересное время, что все страны мира с надеждой смотрят на нас, что скоро сделается правовое государство, мне простят попытку перехода границы. Что я должен выкинуть из головы эту глупость с израильским вызовом, получить аттестат…
Ух и разозлился я. А ещё защитник прав человека! Воображает, будто я такой уж простак!
И я сказал, что мне нечего прощать. Что любой человек, как птица, волен лететь, куда хочет и когда хочет. Понаделали этих границ! Тюрем! Психушек! Сказал, что никому не сделал зла, а мне делали все. И мать, и даже отец, то есть ты.
Игорь воскликнул:
— Да как ты смеешь?! Что ты несёшь?!
А я сказал ему. И тебе говорю. Читай, когда меня уже не будет рядом:
— Отец увлечён своими делами. Не замечает меня. Держит в стороне, ничем не делится. Что толку, что он кормит, одевает, заботится? Это его долг. Даже звери и птицы выкармливают своих детей. Но он почти не общался со мной, как с тем же Крамером, с другими людьми. Я был совсем один. От такой жизни становятся наркоманами, пьяницами. Или уголовниками. А я всего‑то хочу никому не мешать, уйти, жить своей жизнью.
— Ну ты и фрукт! — сказал Игорь. — А как ты себе представляешь — «жить своей жизнью»? Получать в Израиле или США пособие, сидеть на шее у какой‑нибудь организации, как ты сидишь на шее у отца? Что ты там собираешься делать? Ведь у тебя нет профессии. Цели. Мы все эти годы боролись, готовили перестройку. Не все можно было тебе говорить.
— В том‑то и дело, — перебил я его, — считали за маленького. Да я в свои годы понавидался и пережил побольше иного взрослого! И цель у меня есть. Может, поважнее, чем у некоторых.
— Какая цель? — спросил Игорь.
Я промолчал. Довёл до метро.
Домой возвращаться не хотелось. С тех пор как пришёл вызов, ты совсем замкнулся. Переживаешь. Понимаю. Но, как говорится, помочь ничем не могу.
Зажглись фонари. Народ валит: кто на свидание, кто в кино. Наряженные кто во что горазд. И я подумал: «Неужели у них всех есть цель, достойная свободного человека?» Точно знаю, нет такой цели. А у меня есть.
И поехал в центр на Старый Арбат, на Пушкинскую площадь. С тех пор как ушёл с последней работы, всё время там провожу. Интересно!
Кем только за эти два года не работал! После того как был лифтёром, и утреннюю почту разносил, и в булочной хлеб разгружал, и в поликлинике — в регистратуре. И курьером в издательстве. Загоняли меня на этой должности. Всю Москву объездил с их пакетами. Только вернёшься — гони в другое место. Спасибо хоть сезонка была за их счёт. А вы говорите бездельник! То, что зарплату, жалкие семьдесят рублей, тебе не давал, самому не хватало.
Как раз когда работал курьером, год назад это было, неожиданно позвонил тот самый москвич, с которым я познакомился в грузинской психушке. Помнишь, я уже писал здесь? Его взяли в горах, под Новым Афоном. Позвонил, как обещал. Не обманул.
На всякий случай не буду писать, как его полностью зовут. Володя. И все. Он старше меня. На второй год войны в Афганистане ему оторвало стопу левой ноги. Легко отделался.
Ещё там, в Грузии, он мне много рассказывал про Афган. Чего тогда в газетах не писали. Но это было не самое главное.
А главное было вот в чём. Когда Володя лежал в госпитале, уже в Советском Союзе, какая‑то медсестра дала ему почитать перепечатанную на машинке книжку.
И первое, что он узнал из этой книжки, что, раз он её читает, значит, это не случайно. Значит, стрела долетела до цели. В том смысле, что те, кто написал, знают, кому и когда она должна попасть в руки.
Потом в Москве он и мне дал почитать ксерокс с этого текста. Значит, и я выбран, и до меня долетело послание. Я читал по ночам. Проглотил за две ночи. Тебе не показывал. Не говорил. Во–первых, потому что дал клятву, во–вторых, ты бы, наверно, высмеял.
Хотя не знаю…
То, как ты лечишь людей своей биоэнергией, видишь в закрытых глазах, где находится человек за сотни километров от тебя, — все это может иметь отношение к тому, о чём я узнал.
Знаешь ли ты, что в Гималаях издавна живут бессмертные мудрецы? Не только индусы и тибетцы. Избранные люди всех веков со всего света. Из Древнего Египта тоже. У них там в глубочайших пещерах свои библиотеки, почище Ленинки, свои подземные скоростные дороги, уходящие под дно всех океанов. Эти люди могут наводить своё сознание на любого человека, где бы он ни находился. И таким образом привести его к себе. Через все препятствия и границы. Летающие тарелки — это оттуда, а не из иных цивилизаций. На этих тарелках они путешествуют, куда хотят. Кроме того, они связаны с людьми, живущими на какой‑то планете в созвездии Орион, встречаются с ними где‑то в районе Северного полюса.
И от этих встреч возникает в небе то, что мы принимаем за северное сияние.
Они настолько могучи, что могли бы запросто прекратить любую войну, вмешаться в действие любых правительств. Но почти никогда не делают этого, потому что презирают насилие, считают, что люди должны сами дозреть.
К тем, кто дозрел, попадает в руки эта книжка. Которой они призывают к себе.
Понял?
Я тоже всегда ненавидел насилие. И Володя, пройдя через Афганистан, как он говорит, вышел на их уровень. Вот почему он оказался в горах над Новым Афоном. Не зря там был построен знаменитый монастырь. Все настоящие монастыри строили в горах или на возвышенностях, чтоб легче было общаться с Гималаями. Кроме того, горный воздух — самый чистый, самый полезный.
Володя приехал в горы, устроил себе одинокую хижину из досок и камней, жил там полгода, настраивался на Восток, на гималайских мудрецов — медитировал. Ты это слово должен знать. Я его слышал, когда вы с Артуром Крамером разговаривали.
Там, в горах, Володю и накрыла милиция. Засадили в психушку, где мы познакомились.
Мы часто встречаемся. Я рассказал ему всю свою жизнь. И про мать. И про тебя. Это он придумал, чтоб я попросил Густава устроить мне вызов. А скорее всего — гималайские мудрецы через него подсказали…
Интересно, зная всё это, шляться по Старому Арбату, глядеть на панков с выбритыми висками, кришнаитов, рокеров и металлистов. Вчера их было полно. Потому что суббота, что ли? Ещё брейкеры были. Танцевали — крутились, лёжа на асфальте.
И тех, кого ты ненавидишь, видал — парней с фашистскими знаками на куртках.
А по сторонам у стен домов художники со своими картинами. У кого сладенькие пейзажики с церковками, у кого полуголые девки намалёваны, у кого — Сталин с топором.
Иностранцы ходят, фотографируют. Будто где‑нибудь в Нью–Йорке.
Только все это какое‑то ненастоящее. Показуха. Такое впечатление, сам не пойму отчего.
И тут же проститутки прогуливаются. С нарумяненными щеками. Так и ждут, чтоб кто‑нибудь пригласил в ресторан или хотя бы в кафе. Не боятся ни СПИДа, ничего.
Действительно, жуткое дело — жить без цели.
Теперь ты понял, что она у меня есть? И что я лечу в Штаты не за джинсами и прочей фигнёй? Штаты — лишь перевалочный пункт на пути к цели.
Написал тебе про Гималаи, раскололся. И пожалел. Я ведь давно мог про это написать. Про самое главное. Но боялся. Не то чтоб боялся, а заранее вижу твою улыбку… Пускай грустную.
В конце концов, мне наплевать, веришь ты или не веришь в Гималаи.
Вот Игорь и Тоня целиком поверили в перестройку. Игорь вчера говорил: борется за коллегию адвокатов, за правовое государство. Хотят организовать юридический кооператив. Я, между прочим, над ними не смеюсь. И над «архангельским мужиком», про которого вместе смотрели фильм по телевизору, не смеюсь. И над хирургом Федоровым тоже.
Только не туда они ударились. Хозрасчёт, аренда, кооперативы — все меряется рублём. А людям нужна идея. Такая, чтоб только позови, и пойдут любую работу делать бесплатно. Для своей же радости, а не для рубля. Вот чего сейчас нет.
Мне денег не нужно. И знаний, которые из учебников. Недаром я бросил ходить в эту вечернюю школу. Одна тоска.
Мне нужны другие знания. Настоящие. Те, которые хранят мудрецы в Гималаях. Уж там‑то учат не для аттестатов — жалкой бумажки.
Только бы выпустили, только бы добраться!
У Володи–афганца есть инвалидный «Запорожец» с ручным управлением. Несколько месяцев назад, в феврале, он взял меня с собой на выставку картин художника Рериха. Этот Рерих добрался до Гималаев, жил там вместе со своей семьёй, виделся с мудрецами, которых зовут махатмами. Правда, они его почему‑то внутрь своей тайной страны не впустили. Зато он всю жизнь рисовал картины про горы, которые окружают эту страну. По–моему, здорово!
Помнишь, я тебя потом просил, очень просил сходить посмотреть Рериха? А ты сказал, что и так видел, не проявил интереса.
Когда мы с Володей вышли с выставки, разыгралась метель. Я помог ему счистить снег с «Запорожца», и мы сели в машину. А там, оказывается, стекла изнутри замёрзли. У него печка не работала. Кое‑как соскоблили иней со стёкол. Поехали куда‑то на улицу Зорге, где инвалидам автомобили чинят. Он заодно хотел, чтоб какую‑то левую полуось заменили.
Он рулил, рычагами дёргал. А я иней с лобового стекла соскребал, иначе впереди ничего не видно. Два раза чуть в аварию не попали, еле доехали.
Возле этой станции обслуживания «Запорожцев» стояло полно машин. На обледенелом косогоре. Мимо самосвалы грохочут куда‑то на стройку. Едва нашли местечко, приткнулись.
Володя запер машину, заковылял со своей палочкой по скользкому косогору. Я его подстраховывал.
Вошли в помещение со стойкой и окошками, где ремонт оформляют, а там тьма народа. Кто без руки, кто без ноги. Хромые. Есть и вовсе без ног — на тележках с подшипниками. Очереди. Шум.
Мы минут сорок простояли, пока до окошка доползли. Чего я только там не наслышался: и как инвалидов войны оскорбляют, и как они с кассиршей лаются за то, что обсчитывает, сдачи не даёт. Уже пожалел, что поехал, а Володя говорит:
— Спасибо, что ты со мной. Не уходи. Каждый раз, как приходится сюда обращаться, часть жизни теряю. В Афганистане было легче.
Со скандалом добился он, чтоб согласились починить печку и эту самую полуось. Снова вышли на улицу, сели в машину, въехали на ней в цех.
Там мастера расхаживают. В комбинезонах. Важные.
— Ждите, — говорят. — Ждите.
И через каждое слово — мат.
Прождали до вечера. Не потому что очередь, а просто они первыми чинят машины тех, кто им на лапу сунет. Вот и все.
Одного я особенно возненавидел. Здоровый, в шапочке с длинным козырьком, в американском комбинезоне со множеством кармашков. Ему туда, в эти кармашки, и совали деньги несчастные инвалиды.
В конце концов к нему и попала Володина машина. Повозился он с печкой, потом поднял машину на стенде, стал возиться под ней, снял колесо.
— Да, — говорит, — надо менять полуось. Только нет запчастей на складе… Вечная проблема с запчастями.
И смотрит на Володю.
— Не может быть, — отвечает тот. — Мне сказали — починят. Выписали.
— Ничего не знаю. Полуосей нет. — И опять на Володю смотрит. — Есть у меня одна. Собственная. В крайнем случае могу уступить…
— Сколько? — спросил Володя.
— Четвертак.
Володя сразу полез в карман куртки, вынул бумажник, отдал ему двадцать пять рублей. И тот пошёл за полуосью.
Я говорю:
— Что ты делаешь? Неужели не понял, что тебя обманули?
— А куда податься? — отвечает Володя. — Все так построено.
Тут я сорвался с места, побежал в ту сторону, куда ушёл этот бугай. Там лесенка в подвал. Внизу зарешеченное помещение склада с окошком. Как раз кладовщик с полки снимает эту полуось. Там их до черта навалено. Новеньких, в промасленных бумажках. Бугай обернулся, увидел меня, сощурился злобно.
— Посторонним находиться не положено, — говорит.
— А положено инвалида, который на афганскую пенсию живёт, обманывать? — У меня даже губы затряслись.
Вскоре он вышел вслед за мной, молча вернул Володе двадцатипятирублёвку. Заменил полуось. Поставил колесо. Спустил машину со стенда.
И мы наконец выехали из цеха и с этой проклятой станции.
Было уже темно. Метель метёт. Володя печку включил. Работает. Стекло не надо скоблить. Тепло.
Володя хотел меня домой завезти. И, кстати, с тобой познакомиться. Ужасно я был горд, что ему четвертак сэкономил.
Едем. О Гималаях разговариваем. А встречные машины нам почему‑то гудят, светом мигают. Какой‑то стук послышался.
Володя подъехал к тротуару. Вылез из «Запорожца», глянул и ахнул.
— Колесо, — говорит, — отваливается! Ещё секунда — и мы бы с тобой погибли…
Я тоже вышел. Обогнул машину. Смотрю, колесо криво стоит, еле держится.
Оказалось, эта сволочь, бугай, колесо поставил, а ни одного болта не завинтил. Решил отомстить.
Приподнял Володя машину домкратом, стал в метели с колесом возиться.
А у меня вдруг сердце заболело. Ни с того ни с сего. Помнишь тот вечер, когда я приехал и ты мне ладонью снимал боль? Тут уж не до Володи было.
Вот тебе и рабочий класс.
…Просто так позвонил. От нетерпения. Ещё месяца не прошло. А мне говорят: «Приезжайте. Ваш вопрос решён положительно».
Положительно!
Я немедленно поехал в ОВИР. Если б ты видел, какая там очередь! Дождался. Принял меня начальник. Говорит:
— Подумайте ещё раз. Лишаетесь советского гражданства. Вернуться очень трудно. Почти невозможно.
— Подумал, — говорю. — Было время.
Потом взял у секретарши список того, что надо сделать. Теперь все зависит от меня.
И только одно от тебя зависело: съездить со мной в эту нотариальную контору на улице Кирова, подписать бумажку, что не имеешь ко мне никаких материальных претензий.
Спасибо, что съездил. Что подписал.
Правда, все испортил, сказав, когда выходили: «Ты взрослый человек. Имеешь право делать, что хочешь. Но провожать в Шереметьево не поеду. Не перенесу».
Ну и ладно. Раз тебя не будет — поедут на проводы мать и её родители. Уж они‑то за меня искренне рады. Говорят: «Здесь у тебя нет шансов, а там будут».
И ещё ты спросил:
«А как с деньгами?»
«В порядке, — ответил я. — Не волнуйся».
И мы расстались. Потому что я очень спешил. Знаешь куда?
Я, конечно, мог бы заставить тебя что‑нибудь продать, например, огромную голландскую тарелку с ветряными мельницами, которая принадлежала ещё родителям бабушки Беллы и висит на стене в твоей комнате. Можно было бы продать и магнитофон, те же орхидеи. Сам говоришь, что им цены нет. Твою пишущую машинку, хотя и старую.
Но мне тебя жалко. Остался бы совсем ни с чем.
Я поехал к одному зубному врачу.
Помнишь, мельком, месяца полтора назад, я сказал тебе, что по туристской визе в Москву на десять дней снова заявился Антон — мой двоюродный братец из Копенгагена? Ты, как всегда занятый своими делами, не обратил на это внимания.
Антон обосновался не у бабушки с дедушкой, а в гостинице «Националь», где платил чуть ли не 100 долларов в сутки за номер. Привёз привет от Густава, который передал, что мою просьбу о вызове исполнил, что я его скоро должен получить. И ещё я огрёб в подарок джинсовую куртку. Фирмы «Леви».
У Антона была куча советских денег, потому что он привёз и тут же продал в комиссионке компьютер. Персональный.
Антону сейчас семнадцать лет. Если б ты видел, как он загулял! Вырвался из‑под надзора Марины и Густава в Советский Союз. Накупил шампанского, коньяка. Познакомился в ресторане с двумя дамочками сильно старше его. Вызвал меня. Несколько дней подряд провели мы с ними. Кино, дискотеки, опять же рестораны.
Во вторник, когда ты ушёл к Крамеру, Антон уговорил привести всю компанию к нам, потому что в гостиницу посторонних не пускают. Он уединился в моей комнате со своей дамочкой. А другая, некая Виолетта, длинная и тощая, сразу стянула через голову платье, осталась в зелёной сорочке и разлеглась у тебя на тахте.
— Иди сюда, — говорит.
А я, чтоб ты знал, ни разу не был с женщиной. Никогда.
Но мне вдруг противно стало. Все на свете. И особенно, что она развалилась тут, в твоей комнате, где орхидеи. Сижу у стола как каменный.
Она все лежит, воркует:
— Кто меня погреет? Замерзаю…
— Одевайтесь, — говорю. — Сейчас отец придёт.
Она выругалась матом. Встала. Напялила платье. Уселась красить губы.
Тут и Антон со своей бабой кончил дело, вошли. И мы уехали.
Отвезли их на такси до ресторана «Будапешт». А сами направились дальше, к Александру Ивановичу — первому мужу Марины, который и есть отец Антона.
Он зубной врач. Квартира — шик–блеск. Все импортное. Даже ванна. Даже унитаз — розовый в цветочках. В одной из комнат стоит кресло для лечения зубов. Дома подрабатывает. Видать, неплохо.
Весь вечер ко мне присматривался, расспрашивал. А потом сказал, что если буду уезжать, он даст 1200 рублей на визу, билет и так далее. За одну услугу. Сунул мне визитную карточку с телефоном.
Вот куда я помчался сегодня после нотариальной конторы. Я с ним ещё вчера созвонился.
Между прочим, когда ехал на троллейбусе по Садовому Кольцу, увидел у планетария объявление о лекции:
«Русский космизм и Гималаи».
Как током ударило.
Дальше был целый детектив. Как в кино.
Когда прибыл к Александру Ивановичу, он сказал, что ему необходимо переправить одну штуку — бриллиант. Показал. Такой прозрачный сверкающий камешек, ничего особенного.
— Я, — говорит, вам высверлю зуб, вложу туда эту штучку и запломбирую. А в Вене вас встретят.
— Кто встретит? Когда?
— Пусть это вас не беспокоит.
Честно говоря, я немного испугался.
— А что же вы с Антоном не переправили? Ему проще — из Копенгагена.
— Он шалопай, — говорит. — Ничего доверить нельзя. А вы, я вижу, человек серьёзный. Гарантирую, никакого риска. Вот и деньги. Тысяча двести. Можете пересчитать.
Первый раз я увидел новенькие сотенные бумажки с кремлёвской набережной. Целых двенадцать штук.
— А больно будет? — спрашиваю.
— Откройте рот, — говорит.
Я открыл.
— Да у вас дупло! Одно. Второе… за зубами надо следить. Чуть рассверлю одно, запломбирую, все дела. Заодно зуб починю.
И я согласился.
11 мая 1988 года.
Ночь.
Не знаю, удалось ли тебе заснуть. Свет в твоей комнате горит.
И я не сплю. Пишу в эту тетрадь. Последний раз.
Я не сказал тебе, что у меня на завтра билет. Какое «на завтра»?! Уже на сегодня! Сейчас без четверти два ночи.
И правильно сделал, что не сказал.
Но ты будто почувствовал.
Завёл на кухню. Заварил чай в старинных чашках, которые остались от бабушки. Сказал, что ещё не поздно одуматься. Что понимаешь мою обиду.
Опять повёл речь о перестройке. О том, что со временем страна придёт в себя. Что невозможно жить без Родины.
Да пока она придёт в себя, я сдохну! На днях снова звонили из психдиспансера, чтоб явился. Наверняка сгребают всех перед приездом Рейгана.
Ты говорил, что виноват передо мной. Давно я ждал от тебя этих слов! Говорил, что орхидеи — тот песок, в котором ты, как страус, прятал голову, чтоб не сойти с ума. Чтоб выжить. Что думал о стране, о человечестве, а проморгал сына.
Дал толстую папку с романом. Чтоб я прочёл, а у меня уже и времени нет.
Пролистал я сейчас первые главы. Интересно. Только не понятно, к чему ты клонишь. Тут во второй главе упоминается Христос.
Не понятно, чего все носятся с этим Христом? Ну, чего добился этот Христос? Предали его, распяли, приколотили гвоздями к кресту. Ну и что тут такого особенного?
Сам же рассказывал про Януша Корчака, который пошёл за ребятишками в фашистскую газовую камеру. А что Берия и сотрудники КГБ творили на Лубянке?! Может, такие муки и Христу не снились!
За целые две тысячи лет его ученикам и последователям ни фига не удалось сделать. Люди уродовали себя, уже изуродовали Землю. А ты, как я понял, собираешься своим романом изменить мир. Смешной человек! Пишешь: без Бога нельзя ничего построить.
Конечно, если есть Бог, ты, как всегда, окажешься прав. А если нет?! Тогда ты, извини, идиот.
Совсем поздно. Ложусь спать.
Встал я сейчас. Шесть утра. Воробьи чирикают. Посмотрел в зеркало: с чужим бриллиантом в зубе еду на поиски гималайских мудрецов. Странно стало. Подумал: а вдруг ты прав? Насчёт Бога и Родины. Даже сердце заныло. Накапал валокордина.
Так или иначе, пора складываться. В доме порядочного чемодана нет. Беру все ту же твою дорожную сумку. Барахла у меня мало, поместится.
Ухожу. Отлёт в 10 утра, а в Шереметьево нужно приехать к семи тридцати — таможня и все такое.
Мог бы оставить эту тетрадь на столе, но, чтоб ты не ринулся за мной в аэропорт, прячу её в кладовку.
Прощай!!!»
1988

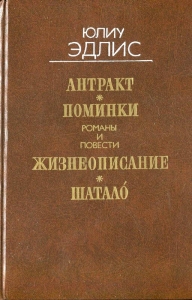



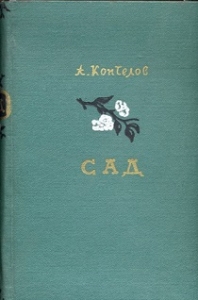





![Царевич [The Prince]](https://www.4italka.su/images/articles/522082/primary-medium.jpg)

Комментарии к книге «Что с тобой случилось, мальчик?», Владимир Львович Файнберг
Всего 0 комментариев