Вениамин Кисилевский АНТИДЕКАМЕРОН
Александру Хавчину
1
Когда-то Дегтярев любил командировки. Любил пеструю сутолоку вокзалов, если дорога ему предстояла дальняя, чаще всего в Москву, на какое-нибудь совещание или иное сборище, коих в былые времена проводилось несчетно, с непременными финишными застольями, игриво именовавшимися «неофициальной частью», в лихой компании раскрепостившихся коллег. Любил проветриться, расслабиться в служебном автомобиле, снисходительно поглядывая на периферийные красоты и убожества, покуривая, пошучивая с услужливым водителем. Областные вояжи, конечно, уступали столичным по чину и размаху, зато искупалось это должным привечанием высокого гостя местными эскулапами, воздаваемыми почестями и ощущением собственной значимости. Вольно ему было казнить или миловать, встречавшие знали это, старались угодить ему, не настраивать против себя, а уж если прибывал он по делу конфликтному, нехорошими последствиями грозившему – только что на руках не носили.
Но предпочитал все-таки дальнюю рельсовую дорогу. Нравилось ему неспешно, солидно взойти в свое временное купейное обиталище, устроиться на обязательной нижней полке – а в последние годы неизменно в удобном СВ обосновывался, – потомиться в предвкушении нетягостного безделья, размеренности замкнутого колесного бытия, когда все его заботы ограничивались дорожным пропитанием да, если пожелается, общением с ниспосланными ему случаем попутчиками. Захочет – поспит, захочет – почитает или просто поглазеет в окно неутомленными глазами, о своем помыслит. И всякий раз – почти детское ожидание чего-то нового, неизведанного, вдруг поворотного. Негаданной встречи какой-то, особости. Бывали порой накладки, если соседями оказывались беспокойный младенец, голосящий в ночи, крепко перебравший хмельного назойливый мужик или какой-нибудь нечистоплотный тип, но в большинстве поездок ему везло, катил безмятежно, в свое удовольствие, нередко в компании милых женщин; с одной из них он грешным делом даже продлил в той же Москве приятное знакомство. А главное – никому тут не ведомо было, что он врач, никто не приставал к нему, не дергал, не хотел от него чего-то. И телефона в вагоне не было – ни утром, ни днем, ни – что милей всего – ночью. Благодать.
Но это когда-то. Теперь же все больше удручала Дегтярева необходимость ломать привычный уклад, лишаться своей постели, своего душа, туалета, существовать неизвестно где и с кем, приспосабливаться к ненужному, неудобному. Все многократно обострилось, когда нелады с желудком начались и поясница любое неосторожное движение хищно караулила, – каждая такая поездочка проблемой делалась. И он всеми правдами и неправдами старался избежать этой командировочной мороки. Благо времена теперь иные настали, Москва другой планетой сделалась, а он, Дегтярев, выбрался на уровень, когда за редкими исключениями уже не его посылали, а он посылал, мог выбирать. Покидал город лишь по крайней необходимости.
Об этом и думал Лев Михайлович, главный врач крупной городской больницы и главный областной анестезиолог, сидя рядом с водителем в белой больничной «Волге» и без интереса глядя на отощавшие, прохудившиеся деревья вдоль дороги, на тянувшиеся за ними изъеденные частыми дождями и ночными заморозками поля, на попадавшиеся изредка неказистые строения, такие же облезлые и унылые, на просевшее небо, темное и драное. Осень в этом году поторопилась, в августе уже заявила о себе нелетним хмурым ненастьем, а сейчас, в октябре, ветреном и холодном, больше походила на раннюю зиму, никакой надежды не оставляя. Но не только беспросветность вокруг портила Дегтяреву настроение, хватало и других причин. Ехать предстояло долгонько, больше двух часов, а клятый радикулит напомнил о себе еще ранним утром, и с каждым проглоченным десятком километров давал о себе знать все настойчивей, грозя превратить остаток пути в сплошное мучение. В районной больнице, куда направило его областное начальство, ждала Дегтярева тягостная разборка. Тем более тягостная, что тамошний главный врач, Боря Хазин, был его однокашником и давним приятелем.
Случай был – хуже не придумаешь. Умер больной от вливания несовместимой крови, за такую провинность, и поделом, карают нещадно, и как-либо спустить дело на тормозах не удастся. Не снести было головы всем причастным к этой нехорошей истории, Хазину, скорей всего, тоже – на него, упрямого и вспыльчивого, давно уже точили зубы в Областном министерстве здравоохранения. В прошлом году уцелел тот лишь благодаря титаническим усилиям его, Дегтярева, едва ли не вымолившего у министра снисхождения к Боре, не сдавшему вовремя какой-то ерундовый отчет. А Боре до пенсии еще полтора года. Пусть и петушится, что не держится он за свое главенство, каждый день душу ему выматывают, основное ремесло свое знает, руки не из задницы растут, пойдет рядовым хирургом, во всех отношениях выиграет. И злился Дегтярев на остолопов, загубивших больного, злился на Хазина, допустившего такой бардак в своей больнице, злился на себя, знавшего, что не сумеет разобраться с дружком, как тот того заслужил. Хотя, сам главный врач, понимал Дегтярев, что прямой вины Хазина нет – наверняка у него и занятия по гемотрансфузиям проводились, и семинары, и все это отражено в больничной документации с положенными датами и росписями. Не может ведь руководитель тенью ходить за каждым олухом. Или даже не олухом – бывают такие роковые стечения обстоятельств, что никакому здравому смыслу не подвластны, объяснений не имеют. И нет гарантии, что завтра, не приведи Господь, такая же беда не случится в его, Дегтярева, больнице.
А еще знал, что смущает, лишает его покоя Лиля, сидящая на заднем сиденье. Сестричка Лиля Оболенская, из-за которой почти два десятка лет назад совсем потерял он голову и столько дров наломал. Только теперь она не сестричка и не Лиля – Лилия Петровна и вряд ли Оболенская, врач Областного Центра крови, и он сегодняшним утром, впервые за много лет увидев ее, не сразу узнал в полноватой желтокудрой даме прежнюю тоненькую, русоволосую, ясноглазую девушку. Скорей даже не девушку, а девочку, мало походила она на дипломированную выпускницу медучилища, школяркой казалась.
Он, Дегтярев, когда появилась она в его отделении, подосадовал, что прислали ему такую пигалицу. Но по-мужски отметил, что девчушка она симпатичная, милая той тихой девственной красотой, которая должна тревожить, сна лишать пацанов-одноклассников, в беспокойных снах им являться. Но и в снах вряд ли могла она будить приглушенные днем мальчишеские желания – слишком высоким и чистым был ее лоб, доверчивы синие глаза и по-детски нежен голосок. Не то что обидеть, боль причинить – даже просто неучтиво заговорить, какую-либо бестактность по отношению к ней допустить казалось чуть ли не кощунством. Такие светлые тургеневские девушки уже и в те далекие годы почти все повывелись, считанные сохранились. Для обожания сохранились, для поклонения, для восторженно-неумелых юношеских стихов. Когда мнится счастьем неземным лишь руки ее коснуться, ответный взгляд ее заслужить, и кажется вздорной сама мысль повести себя с ней как с обычной девушкой, женщиной, покуражиться. Не только ее прыщавым сверстникам, но и вызревшим ушлым парням. И, словно и это задумывалось кем-то свыше, имя ей дадено было такое же нежное, ласковое, донельзя подходило ей.
Ее полудетское очарование Дегтярев отметил сразу, но никакого мужского интереса к ней не испытал. Да и какой мог возникнуть интерес к этой пичужке у него, сорокалетнего отца двух девчонок, старшая из которых почти ровесницей ей была? Главным врачом он тогда еще не был, заведовал анестезионно-реанимационным больничным отделением, и первая мысль, когда увидел Лилю, была о том, что проблемы у нее будут с работой. Служба у них нерядовая, связана с постоянными стрессами и немалыми физическими нагрузками, порой такого предельного напряжения требует, что и мужику не всякому под силу. Сестер в отделении не хватало, большие сложности были с ночными дежурствами, обрадовался он, когда позвонили ему из отдела кадров, сказали, что пришлют сейчас выпускницу училища. Предпочел бы он, конечно, работницу с опытом, чтобы можно было сходу к делу приспособить, не возиться с ней. Выбирать, однако, не приходилось, и на том, как говорится, спасибо. Но все же трепыхнулась в нем мыслишка отправить эту былиночку-тростиночку назад в кадры, потерпеть еще, пока не сыщется кто-нибудь более подходящий.
– Ты хоть представляешь себе, чем здесь придется заниматься? – спросил у нее. – У нас день и ночь пахать нужно, не пофилонишь.
– Представляю, – дрогнула пушистыми ресницами. – Я сама сюда попросилась.
– Ну-ну, – хмыкнул Дегтярев. – Найди Анну Никитичну, это наша старшая сестра, пусть тобою займется.
К его приятному удивлению, оказалась Лиля хорошим работником. Понятливая была и внимательная, быстро обучалась. Более того, оказалась она неожиданно выносливой, без видимой усталости самые долгие и трудные операции выстаивала, никогда не жаловалась, и руки у нее были не крюки. Обладала она еще одним нужным, особо в их профессии ценящимся качеством – благотворно влияла на своих немощных подопечных. И не только мужского пола. Тяжелые послеоперационные больные, даже лишь недавно отошедшие от наркоза, старались улыбнуться ей, не стенать громко и не капризничать. Полгода не прошло, а Лев Михайлович предпочитал уже брать ее помощницей на сложные, непредсказуемые операции, знал, что во всем может на нее положиться, не проморгает она и не замешкается.
Но всего удивительней, что остальные сестры, ревниво следящие, чтобы шеф не уделял кому-то из них больше внимания, – так уж издавна повелось в любом замкнутом медицинском коллективе, где большинство составляют молодые и незакомплексованные женщины, – не покусывали юную негаданную фаворитку. Изощренно и будто бы добра ей желая, как умеют это лучше всех лукавые медички. Сестры в его отделении были почти все вполне еще амурного возраста и не одна из них не прочь была бы полюбезничать с моложавым симпатичным завом. Что показательно – и суровая, взыскательная старшая сестра Никитична, спуску никому не дававшая, благоволила к Лиле, не отрывалась на ней. А Льву Михайловичу, и он не скрывал этого, Лиля Оболенская в самом деле пришлась по сердцу. И как человек, и как сотрудница. Опекал ее, похваливал, даже изредка, в радужном настроении, называл доченькой. И, если откровенно, с удовольствием заимел бы такую славную дочь, светлую и улыбчивую, не в пример его собственным, с характерами очень непростыми. Но уж никак не видел в ней женщину, объект для ухаживания, обольщения. И это он внушил Лиле, что надобно ей расти, учиться дальше, не пренебрегать своими способностями и возможностями. Это благодаря ему стала она заочно учиться на биологическом факультете, обретать высшее образование.
Личная жизнь Лили его мало интересовала, хотя были все основания полагать, что мужским вниманием она не обделена. В том числе у мужской части врачебного персонала больницы, особенно хирургов. Когда он в операционный день прибывал с Лилей в хирургическое отделение для дачи наркоза, молодцы сразу оживлялись, острили, заигрывали с обворожительной сестричкой. Не однажды случалось видеть Льву Михайловичу, как провожал кто-нибудь Лилю утром на дежурство или встречал после работы. И совсем молоденькие ребята, и постарше. Особенно настойчив был один, крупный, смуглый, скуластый парень, частенько карауливший Лилю у больничных врат. Никогда Дегтярев не позволял себе подначивать ее по этому поводу, вообще касаться этой темы. Впрочем, насколько он мог судить, ни один из них не преуспел. К слову сказать, все Лилины ухажеры, которых случайно выпало Дегтяреву увидеть, ему не понравились. Лиля, на его взгляд, заслуживала лучшего.
Он, наверное, был последним в отделении, кто заметил, что Лиля к нему, по выражению афористичной Никитичны, неровно дышит. Примечал, конечно, и жалобные взгляды ее, и то, как розовеет она, когда обращается он к ней, как радуется, если берет ее с собой на операцию, но фривольного, личностного значения этому не придавал. Потому, прежде всего, что давно привык уже к кокетливому обхождению своих сестричек, к тому же, повторяясь, как женщина она для него не существовала, не из той она была оперы. Вскоре, однако, не замечать преобразившегося Лилиного отношения к нему сделалось невозможным, слепым и глухим надо быть. Это, Дегтярев не сомневался, было уже не просто уважение и почитание – нечто большее. Был он вполне зрелым и опытным мужиком, чтобы оставаться в неведении. И сие «нечто» очень его встревожило. Прочувствовал он, что не блажь это и не прописное увлечение девочки зрелым мужчиной, что сплошь и рядом случается, тем паче если объект этот – ее начальник. Верней, не просто начальник, тогда все было бы проще и объяснимей, а учитель, наставник. Непостижимый и вечный комплекс. Так вызревающие школьницы всем классом влюбляются в своих преподавателей, зачастую типов совсем заурядных.
Встревожился он потому, что ни к чему это было и не к добру, лишь всему во вред, прежде всего работе. И жаль было безоглядно втюрившуюся девчонку, несовременно, он давно уже пригляделся к ней, искреннюю, чистую. Этого только не хватало. Ему и ей. Началось, точней продолжилось это воскресной ночью, в их совместное дежурство. В гинекологию привезли пожилую женщину с сильным кровотечением, было принято решение пойти на оперативное вмешательство, Дегтярева позвали давать наркоз. Операция непредвиденно затянулась, наркоз шел трудно, в довершение ко всему была женщина тучная, с сердечным пороком и обломным кровяным давлением, намучились они с Лилей изрядно. Когда, к счастью, все успешно завершилось, вернулись они в свое отделение, решили взбодрить себя чайком. Лиля вызвалась сама все приготовить, вскоре заявилась к нему в кабинет с чашками и бутербродами. Было это в порядке вещей, ему и раньше доводилось чаевничать по ночам и с Лилей, и с другими дежурными сестрами, ни о каком посягательстве на субординацию тут и речи не было. Уселись за журнальный столик в углу, специально для таких целей Дегтяревым приспособленный, он сделал первый желанный глоток, истомно потянулся, сказал ей:
– Что, доченька, досталось нам сегодня?
Лиля как-то странно взглянула на него, заполыхала – она всегда краснела легко и быстро – и еле слышно произнесла:
– У меня к вам просьба, Лев Михайлович. Пожалуйста, не называйте меня доченькой.
– Тебе это неприятно? – вскинул он брови.
– Я не хочу быть вашей доченькой, – выделила последнее слово.
Он мгновенно уразумел, что ответ этот с двойным или даже тройным дном, попытался отшутиться:
– Тебе было бы стыдно за такого отца?
– Вы ведь и так все про вас и про меня знаете, я же вижу, – опустила веки.
Он, чтобы его замешательство укрылось от нее, преувеличенно сосредоточился на поглощении чая, в лицо ей не глядел, в поле своего зрения оставив лишь ее стиснутые руки, маленькие и нежные как у ребенка, но по-женски красивые, ухоженные. Сейчас нужны были всего одна-две фразы, емкие и вразумительные, которые бы раз и навсегда все расставили по местам, не обидели ее, отрезвили. Чтобы могли после этого нормально общаться – он, в отцы ей годящийся, зав отделением, где она работает, и она, глупенькая девчонка, вообразившая себе невесть что. Сказал ей, недвижимо застывшей:
– Не надо портить наши отношения. Не выдумывай меня. – И, мгновенье назад не подозревая, что скажет ей это, добавил: – Иначе нам лучше расстаться.
Лиля молча поднялась и вышла из кабинета. А он долго еще сидел, вертя в пальцах опустевшую чашку, размышлял, верно ли себя повел, не перегнул ли палку. Все-таки должен был найти какие-то другие слова, добрые, отеческие, ведь совсем девчушка она, тут не топором бы, а тончайшим, осторожным скальпелем. Возможно, у Лили это первая любовь, пусть и такая несуразная, сомнительная, но именно поэтому требовавшая еще большего внимания и понимания, чтобы беды не натворить. Как если бы в самом деле была она его доченькой. Разве застрахованы его дочери, взбалмошные девчонки, от подобной истории? Легко ли им будет, если так же небрежно и холодно отнесется к ним обожаемый человек? Захотелось даже вернуть ее, успокоить. Но тут же погасил в себе это желание, доверившись старой врачебной истине, что рана скорей заживает, если не трогать ее руками и поменьше обращать внимание.
Вскоре он убедился, что решение принял верное. Оба они, как сговорившись, вели себя так, словно ничего между ними не произошло, не было того чаепития воскресной ночью. Дни шли за днями, в радостях и печалях, в заботах больших и малых, более удачные и менее, обычная и привычная жизнь, больничная и не больничная. Единственно, о чем позаботился Дегтярев, – составил график на будущий месяц так, чтобы их ночные дежурства не совпадали. На всякий случай. И по возможности старался не оставаться с Лилей наедине. Все же отчего-то чувствовал себя виноватым, хоть и не знал толком, в чем она, эта его вина, заключается.
Сдвинулось что-то на очередной утренней планерке, спокон веку звавшейся «пятиминуткой» и надолго затягивавшейся порой, когда не все ладно было в его отделенческой вотчине. Все было как всегда: отчет за минувшее ночное дежурство, состояние тяжелых больных, план работы на новый день. Лиля появилась в кабинете позже остальных, пришлось ей занять единственный свободный стул неподалеку от дегтяревского стола – обычно старалась она пристроиться где-нибудь подальше. Сидела, облаченная в голубую больничную униформу – курточку с короткими рукавами и брючки, – примерно сложив руки на коленях и глядя в пол. Слушая дежурившего врача, Дегтярев краем глаза поглядывал на ее слегка курносый профиль под высоким накрахмаленным колпаком, на оголенные руки. И обратил вдруг внимание, какие они у нее красивые, словно впервые увидел. Алебастрово белые, точно и не знойное лето на дворе, туго обтянутые молодой атласной кожей. Даже не коснувшись их, легко было догадаться, как нежны они и упруги. Поймал себя на коварном желании провести по ним ладонью, задержать в ней точеные Лилины пальчики. И настолько сильным, чувственным было это желание, что сам поразился. А она вдруг коротко посмотрела на него и порозовела, словно каким-то непостижимым образом проникла в его мысли. И тут же снова опустила глаза.
А ночью она приснилась ему. В безумном эротическом сне, которые много уже лет не являлись к нему, чуть ли не со дня женитьбы. Он пробудился, содрогаясь, изумился себе, потом долго лежал без сна, до подробностей вспоминая сгинувшее виденье. Утром он столкнулся с ней в дверях, и она снова, на миг опалив его синим взглядом, залилась горячей краской. Будто и сны его были ей доступны. Тем удивительней это было, что после того разлучного чаепития минуло уже почти две недели и раньше при встречах ничего подобного с ней не происходило. Больше того – выглядела в общении с ним зажатой, непроницаемой.
С того дня и началось это наваждение. Такого с ним не было и в заполошные юные годы, вообще никогда не было. Ну, влюблялся, конечно, томился, но никогда прежде так не сжигало его желание поскорей увидеть свою избранницу, заглянуть в ее глаза, голос услышать. Казалось, все на свете отдал бы, чтобы обняла она его своими прекрасными руками, слова любви прошептала. Точно вырвалась вдруг на волю откуда-то из сокровенной его глубины дремавшая дотоле пылкая страсть, о которой и не подозревал он, не помышлял, что вообще носит в себе. Ему стала нужна эта девочка, эта женщина, так нужна, что чем угодно рискнул бы…
Человек не импульсивный и не минутный, он искренне пытался разобраться в себе, постичь происходящее с ним. Что стряслось, что изменилось? Почему раньше, год уже прошел, не потянуло его к ней? Отчего ее недавнее почти не скрываемое признание в любви вызвало в нем лишь одно желание – поскорей и по возможности незатратно отдалиться от нее? Не видел что ли раньше ее белых рук, ее синих глаз, едва проступавшей из-под тонкой курточки полудетской груди? Злосчастный сон разбередил? Что разбередил? Или это начался вдруг пресловутый кризис мужского среднего возраста, когда сороковник близится, всплеск гормональный? А она, Лиля, как раз вовремя и подоспела? Изводила мысль, что, захоти он сблизиться с ней, сделай он только шаг ей навстречу – и она тут же откликнется, с радостью и готовностью. Если уж решилась сама признаться ему…
И еще в одном мог не сомневаться: добром эта история не кончится. Заведись он с ней – и вскоре все отделение, а затем и больница об этом узнают, как бы ни таились они, как бы ни ловчили. Каким образом – неизвестно, но обязательно узнают, печальных примеров тому не счесть. И вообще затевать какую-либо интрижку там, где работаешь… Сколько погорело на этом мужиков, достойных и недостойных. Не понимал он их никогда, не одобрял. И сам ни разу не позволил себе захороводить с какой-нибудь молоденькой врачишкой или сестричкой. Хотя, чего таить, нравились ему подчас, некоторые очень даже. А тут уж совсем дурно пахнущий случай – великовозрастный заведующий отделением и его медицинская девчонка-сестрица. И что ему нужно от нее? За ручку с ней ходить? В подъездах целоваться? Что невинна она еще – сто процентов. Не посмеет же он, двух уже взрослых дочерей отец, презреть ее девственность, святотатство такое совершить. Не позволит себе ломать ей судьбу. А для интрижек эта девушка не создана, за версту видать. Это, он предчувствовал, будет глубоко и сильно. Это будет страшно так же, как и восхитительно…
Он знал, что ему нужно делать. Ни единой лазейки себе не оставлял, упорно внушал себе, что не озабоченный мальчишка он и не оторва-сладострастник. Не воспользуется он ее слабостью. Пересилит себя. Заставит вести себя с ней так, как надлежит взрослому и порядочному мужчине. Чего бы ему ни стоило. А если не сумеет, не совладает подло, то грош ему тогда цена. Но он сумеет. На горло, если потребуется, себе наступит, потому что иного не дано.
Придя к этому непреклонному решению, Дегтярев не отказывал все же себе в малой радости лишний раз полюбоваться на нее. Хоть посмотреть. Не однажды ловил себя на том, что ищет случай увидеть Лилю, побыть с нею рядом, заговорить. Так бросивший курить норовит, когда невмоготу, подышать дымом чьей-нибудь сигареты, нечто сродни мазохизму. А Лиля, словно проведав о его зароке, держалась с ним ровно, без эмоций, разве что выдавал ее порой предательский румянец. Словно заключили друг с другом молчаливое соглашение.
Он зорко следил за выражением ее лица, и однажды, на утренней планерке, сразу заметил: что-то в ней изменилось. Ближе всего – прихворнула. Или дома проблемы. Пасмурная какая-то, глаза потускнели. Будто повредилась звонкая струнка, прямившая Лилино тоненькое тело. И взгляд ее один перехватил – не то виноватый, не то жалобный, не разобрать было. Следовало бы поговорить с ней, может, помочь ей чем-то мог, но планерка затянулась, он опаздывал на операцию. А она сменялась с дежурства, ушла. И следующий день был у нее выходной, когда же вновь увидел ее, выглядела она обычно. Разве что показалось ему, будто тень какая-то на нее легла, света поубавилось. Ничего он у нее спрашивать не стал, к тому же день выдался суетной, умирал больной после ампутации легкого, не до того было. И вообще остаться с ней наедине выпало ему лишь в конце следующего дня и не так, как всегда.
Привезли новый портативный наркозный аппарат, которого Дегтярев дождаться не мог; он, когда сообщили ему об этом, поспешил в больничный склад. Распаковал, полюбовался на него, поблескивающий хромом и никелем, извлек сопроводительные документы. И тут обнаружил, что забыл в кабинете очки – с недавних пор, если читать приходилось мелкий шрифт, без них не обходился. К тому же освещение было скудное. Кладовщица куда-то ушла, оставив его одного, он по внутреннему телефону позвонил Никитичне, попросил прислать сюда кого-нибудь с его очками. Складское помещение находилось в другом конце двора, пришлось подождать. Дегтярев сидел возле ящика на корточках, перебирал запасные детали, оглянулся, услыхав за спиной шаги. Это была Лиля. И он неожиданно взволновался. Оттого, наверное, что впервые оказались они наедине вне стен отделения. Ни с чем это не сопоставил, просто ощущение было тревожным.
Она подошла, отдала ему очки, присела рядом, нежно, как живого, погладила глянцевый аппаратный бок:
– Красивый какой…
А он неотрывно смотрел на ее белую гладкую руку, вдруг, как завороженный, накрыл ее кисть своею, задержал. Какое-то время ничего не происходило, они замерли недвижимо в этих неудобных позах, не глядели друг на друга. Глядели на свои сомкнутые руки. Потом медленно, точно опять сговорившись, выпрямились, оказались лицом к лицу. И трудно было сказать, кто к кому первым потянулся. Целовались жадно, исступленно, вминая друг друга в себя, изнемогая. Голова у него кругом пошла и, если бы не послышались к счастью или несчастью шаги спускавшейся к ним в подвал кладовщицы, все могло бы завершиться для обоих сокрушительно. Сделав отчаянные усилия, отпрянули, чуть отдышались. И ни звука так и не произнесли. Ни тогда, ни после, возвращаясь в отделение. Он ни о чем не жалел, ни в чем себя не упрекал. Он был счастлив. Не помнил, чтобы когда-нибудь был так счастлив. И знал уже, что никуда от судьбы не деться, так, значит, ему суждено – и будь что будет, что должно быть. Изредка они встречались взглядами, и читал он в ее волшебных синих глазах ту же нежность и жертвенность. Оставалась лишь одна проблема, извечная для влюбленных, – где уединиться им от глаз людских, чтобы натешиться, насладиться друг другом. Была, конечно, какая-никакая возможность закрыться с ней в его служебном кабинете, хоть на малое время одним поворотом ключа избавиться от всего и вся, и желалось ему этого невыносимо, но хватило рассудка не поддаться искушению. Да и не хотел он быть с нею «малое время», принижать, уродовать это вдруг ему выпавшее счастье. Потому что знал уже и то, что встреч впереди будет много, встреч солнечных, восхитительных. Надо было что-то придумать. Опыта в подобных делах у него не имелось. Гулёной не был, но и образцовым мужем назвать его было нельзя – пусть и случайные, редкие, однако шашни на стороне за ним все же водились. Но никогда ничего серьезного, длительного – так, легкие скоротечные романчики, в большинстве в тех же командировках. И почти никогда сам не был инициатором, отвечал взаимностью – издержки профессии. Ни в какое сравнение не шло с чувством, возникшим у него к Лиле. Входя в свой корпус, он нарушил молчание, тихо сказал ей:
– Не здесь.
И она как нужно поняла его, преданно улыбнулась:
– Не здесь. – И, будто случайно, коснулась на мгновенье его руки. А он от этого прикосновения едва не задохнулся…
До конца дня ни словечком больше не обмолвились, лишь, где-нибудь пересекаясь, счастливо, заговорщицки сплетались взглядами. А после работы поехал он к Мишке Одинцову, старинному, со школы еще дружку; у того, Дегтярев знал, жена с сыном отдыхали сейчас на море. Ничего объяснять не стал, попросил на следующий вечер ключи от его квартиры. Неуклюже пошутил, что даст ему денег на кино, чтобы время скоротал.
– Обалдеть! – выпучил Мишка глаза. – Ты ли это, примерный ты наш? Что-нибудь сурьезное?
– Сурьезное, – кивнул Дегтярев.
– Вот это да! – Мишка плотоядно потер ладони. – И ты, значит, туда же! С почином тебя, Левушка! Или не с почином?
– Так дашь ключи или не дашь? – насупился Дегтярев.
– Еще как дам, – расплылся тот в улыбке. – И простынку свежую обеспечу! И свечку! Свечка тебе нужна?
– Да пошел ты! – ткнул его в бок Дегтярев. – Язык у тебя без костей!
Он едва дождался утра. Всегда старался пораньше прибыть в отделение, посмотреть, что там и как, в тот же день примчался едва ли не за час. И не удивился, обнаружив, что Лиля уже здесь, в рабочем одеянии. Выждав четверть часа, он, с озабоченным видом проходя по коридору мимо, позвал ее в кабинет. Там, с опаской косясь на дверь, на секунду прижал ее к себе, припал к ее сладким губам, тихонько застонал, ощутив мягкую упругость ее груди. Затем протянул ей вырванный из блокнота листок.
– Это адрес? – сообразила она.
– Да, – ответил, не сводя с нее глаз. – Сегодня в семь часов. Тебя устроит?
Тут же обозлился на себя за это несуразное «устроит», виновато заморгал.
– Меня все устроит, – еще отчетливей покраснела она, быстро клюнула его в губы и вышла из кабинета…
День тянулся бесконечно, повезло, что назначены были две операции, а то бы он вконец извелся. Как-то так получилось, что с Лилей он больше в тот день не встретился, в половине шестого был дома, в половине седьмого – у Мишкиного дома. И увидел сидевшую неподалеку на скамейке Лилю. Великие конспираторы, они лишь обменялись взглядами, Дегтярев один вошел в подъезд, взбежал на второй этаж, повозился, чертыхаясь, с незнакомыми чужими замками. И снова недовольно поморщился, войдя в Мишкину квартиру. Тот, уходя на работу, даже форточки не открыл, в комнате сгустился плотный застоявшийся воздух, настоянный на асфальтовой дневной духоте. Заглянул во вторую комнату, поменьше, там дышалось еще туже, он вмиг покрылся липкой испариной. На покрывале широкой двуспальной кровати Мишка провокационно оставил сложенную вчетверо простыню в веселеньких цветочках. Недобрыми словами поминая Мишку, явно перебдевшего в опасениях, что заберутся к нему в дом грабители, Дегтярев распахнул в обеих комнатах окна, затем, поколебавшись немного, все же сдвинул шторы, застраховался. Существенных изменений к лучшему достичь не успел – в прихожей тихо грюкнула входная дверь, он поспешил навстречу.
Несчетно весь день размышляя, как встретиться ему сегодня с Лилей, он перебрал множество вариантов. Хотелось, чтобы свидание это надолго у нее осталось в памяти, не превратилось, упаси боже, в примитивную случку на чужой кровати. Чтобы все было красиво и чисто, как заслуживала того Лиля. Но, придирчиво отвергая одну возможность за другой, утвердился в решении, что все банальные и небанальные атрибуты ухажерства будут с Лилей неуместными. Даже беспроигрышные цветы, не говоря уже о подозрительном вине «для разогрева» или каком-нибудь сомнительном подарочке-колечке. Это все необходимо и уместно будет потом, не сегодня. А еще он тщательно отбирал слова, которые скажет ей, особенно первые, самые ответственные, когда окажется он с ней здесь наедине. Все, что удавалось сочинить, не нравилось Дегтяреву, коробило – в конце концов положился на то, что в нужный момент они сами сыщутся, выплеснутся из него. Но чем бы ни занимался он в тот день, о чем бы ни думал, на донышке сердца неотвязно скреблась сереньким мышонком, не избывала коварная мыслишка, что все-таки есть в этом что-то недостойное, нечестное, о чем еще пожалеет он или, того хуже, не простит себе. И Лиля ему потом не простит. Слишком уж много всего было тут намешано…
Но все мгновенно выметнулось из головы, едва вновь увидел ее. И слов никаких не понадобилось. Бросились друг к другу, обнялись, встретились жадными губами, затерзали друг друга. Он подхватил ее на руки, понес в спальню. Тратить время на расстилание постели не хватило терпения. И он поразился, сколько неукротимой страсти оказалось в этом хрупком девственном теле. Она сама, отстранив его слепые руки, начала сдирать с себя платьице, затем все остальное; закрыв глаза, бормоча что-то невразумительное. Он, часто и шумно сопя, последовал ее примеру. Еще секунда – и белым огнем ослепило Дегтярева ее распростертое тело. И несущественным стало, что досадно потен он и разгорячен, что буквально нечем дышать в этой раскаленной комнате, что иначе мнилось ему это долгожданное свидание. Все, кроме нее, вообще утратило смысл и значение. Хватило лишь остатков рассудка, чтобы выдавить из себя:
– Пусть все будет?
– Пусть, – беззвучно ответила она.
Но когда он крепче сжал, в сторону повел ее трепещущее бедро, вдруг вся напряглась она, задергалась, высвобождаясь из-под навалившегося на нее тела, лихорадочно забормотала:
– Нет, нет, нет…
– Что «нет»? Что? – Попытался прочитать что-либо в ее глазах, но веки ее были судорожно стиснуты и такая мука на лице, такое отчаянье, что он вдруг испугался. Выпустил ее, склонился над ней на коленях, взмолился:
– Что не так, радость моя? Ты боишься? О чем-то плохом подумала?
Она, не отвечая, соскочила на пол, принялась быстро, путаясь в крючках и складках, одеваться. Он ошарашено наблюдал, как она, тихонько подвывая, натягивает на себя сопротивлявшееся платье, сует ноги в босоножки и, не застегнув ремешки, бежит от него. Хлопнула входная дверь – и тишина обрушилась на него такая, словно во всей вселенной остался он в одиночестве…
Утром Анна Никитична подошла к нему с листком бумаги в руке:
– Черт те что, Лев Михайлович! Вот, Лиля Оболенская сунула мне его и ускакала, я и прочесть не успела, что там. Потом гляжу – заявление об увольнении. И выглядела она так, будто всех близких своих в один день похоронила. В смену не вышла, не предупредила, кем заменить ее теперь? Не по-людски как-то. Понятно, стряслось у нее что-то, но о работе ведь тоже думать надо, не дитя малое. И вообще отработать должна сколько положено, что это за выкрутасы? Может, послать за ней кого-нибудь?
– Никого за ней не надо посылать, – хмуро буркнул Дегтярев, очень стараясь не выдать себя. – Обойдемся как-нибудь без нее. Пусть ей, раз она такая…
После Лилиного бегства больше они не виделись. И не знал о ней ничего. Разве что долетело откуда-то лет пять назад, что заведует она лабораторией в Областном Центре крови. Значит, нужный диплом все-таки получила, выучилась. И вот – эта встреча. Главный врач Центра, выходит, отчего-то не поехал с ними, послал вместо себя Лилю Оболенскую. Или не Оболенскую уже, с другой теперь фамилией, роли не играло…
Он, как созвонились вчера, заехал сначала за включенным в комиссию Кручининым, завом хирургией из Областной больницы, потом за министерским инспектором Корытко. А возле Центра крови поджидала машину Лиля. Он не вышел, увидел ее через боковое стекло. И сразу не узнал – наверное, от неожиданности. Все-таки пришлось сделать усилие, чтобы признать в этой плотной круглолицей женщине с выкрашенными в соломенный цвет волосами ту девчонку двадцатилетней давности. Галантный Кручинин выбрался из «Волги», усадил Лилю на заднее сиденье между собой и Корытко. Похоже, она не была предупреждена, что поедет вместе с Дегтяревым. Взгляд ее, мимолетно скользнувший по лицу сидевшего впереди мужчины, вдруг изумленно застыл, на какое-то время замешкалась. Его-то, можно было не сомневаться, узнала сразу же…
Дегтярев раздраженно посмотрел на заляпанный грязью толстый зад раздолбанного автобуса, минут десять уже неспешно дымящего впереди, резко выговорил водителю:
– Обгони ты, наконец, эту вонючую колымагу, терпения больше нет! Тоже мне, водила называется!
– Да я сам хочу, все не удается никак, вы же видите, движение навстречу большое, – оправдался тот, непонимающе глянув на Дегтярева. Вместе работали давно, притерлись друг к другу, даже, как нередко бывает это у шефа с личным водителем, вплоть до неординарных отношений. Во всяком случае, Дегтярев никогда не разговаривал с ним таким тоном, разве что совсем уж допекало что-нибудь.
Ныла поясница, близился час тягостной разборки с Хазиным и его остолопами, ворковал что-то, похохатывал за спиной Кручинин, развлекая Лилю, все было не так, все было плохо. Далась же ему эта Лиля! Какие проблемы? – злился Дегтярев. – Два десятка лет прошло, забыл уже он, когда последний раз вспоминал о Лиле. Ну было, было, бесследно для него не прошло тогда, но пусть это будет самым большим горем в его жизни, нашел отчего нервы портить. Что ему эта Лиля? Тем более что один на один с ней оставаться ему не придется. Побудут вместе пару часов, вернутся в город – и снова двадцать лет не увидятся, если вообще когда-нибудь увидятся. Укрощал, настраивал себя, но получалось не очень-то…
2
Предчувствие не обмануло Дегтярева, дело оказалось еще тухлей, чем он предполагал. Хуже того – получил он возможность убедиться, что, спасая свою репутацию, чтобы не сказать шкуру, люди способны на любые пакости. Люди, причем, не последние и в ущербности какой-либо прежде не замеченные. К тому же состоявшие, пока гром не грянул, в отношениях самых добрых.
До начала вливания больному компонентов крови почти все в этой нехорошей истории было понятно и, пусть и с трудом, но объяснимо. Понять бы еще только, зачем было тамошним хирургам вообще браться за эту операциию. А история была такая. У Бойко, нестарого, чуть за пятьдесят только, крепкого мужика была выявлена опухоль почки. С подозрением, что опухоль злокачественная. Сделал он все необходимые исследования, ездил из района к городским специалистам, удалось ему проконсультироваться у самого компетентного уролога. Пришли к решению, что надо оперироваться, и чем скорей, тем лучше. Бойко и сам настроен был избавиться от прицепившейся к нему напасти, тянуть не хотел. С чем и пришел в результате к здешнему урологу. Тот взялся прооперировать его, положил в стационар. С этого все неприятности и начались…
Сидели в кабинете заведующего хирургическим отделением больницы – прибывшая разбираться министерская комиссия, врачи, участвовавшие в операции, и Хазин.
– Какой у вас врачебный стаж? – спросил Корытко уролога – рыжеватого веснушчатого парня.
– Три года, – промямлил тот.
– Вы когда-нибудь самостоятельно ампутировали почку?
– Нет, – еще тише.
– Зачем же взялись тогда?
Вообще-то, вопрос этот адресовать следовало не ему, а Боброву, дородному усатому мужику, заведующему отделением. Потому что это он, Бобров, отвечает за все, происходящее у него в отделении, назначает и отменяет оперативные вмешательства. Кроме того, Бобров сам участвовал в этой операции и, следовательно, с него и спрос иной, чем с его молодого и прыткого ординатора.
Но все эти вопросы и расспросы принципиального значения уже не имели – картина и без того была ясна. Минувший час Дегтярев, Кручинин и Корытко провели за изучением истории болезни, а Лиля в больничной лаборатории делала пробы на совместимость крови Бойко с вводимыми ему средами – все-таки виновники трагедии, заметая следы, не рискнули выбросить хранимые после вливания больному контейнеры с остатками эритроцитной массы и плазмы. Зато записи о ходе операции и послеоперационном периоде наверняка подделали, хоть и внешне подкопаться было не к чему, сработали умело. Но хватало опыта и у Дегтярева, и у Кручинина, чтобы усомниться в истинности написанного. Не хватало лишь разумения постичь, как могли так оскандалиться и Бобров, не чета юному урологу Лукьянову опытный и знающий хирург, и толковый, с немалым стажем анестезиолог Глинский. Зачем, кроме всего прочего, пошли они на поводу у того же Лукьянова и Бойко.
Бойко, когда худшие опасения подтвердились, заявился к Лукьянову и сказал, что оперироваться желает в своей, местной больнице, – дома, мол, и стены помогают, да и семья всегда рядом. Лукьянов, зная, что у того направление на операцию в Областной онкологический диспансер, сначала будто бы отказывался, но Бойко настаивал; и Лукьянов, посоветовавшись с Бобровым, дал согласие. Порешили, что сами управятся, ход операции представляли, надо лишь для большей уверенности почитать кое-какую литературу и посидеть над анатомическим атласом – с удалением почки раньше не связывались. Была, возможно, еще одна причина, почему договорились они с Бойко, и Дегтярев догадывался, какая, но об этом даже спрашивать было непристойно. Больше местных эскулапов беспокоило, что Бойко оказался носителем самой редкой, уникальной резус-отрицательной четвертой группы крови. Понимали, что такая операция будет сопровождаться обильной кровопотерей, возместить ее очень непросто. И почти две недели занимались тем, что собирали для Бойко эритромассу и плазму крови, каждодневно звонили в Областной Центр крови, в дальние и ближние отделения переливания крови, искали доноров. Их усилия увенчались успехом, ко дню операции в холодильнике хранились литр эритроцитов и полтора литра плазмы, за восполнение кровопотери можно было не беспокоиться.
Вот тут-то и подстерегал их самый большой облом. Как такое могло случиться, в голове ни у кого не укладывалось. Роковая ошибка, непростительная не только для опытных специалистов, но и для зеленых новичков. Вообще для человека не из леса. И прежде всего за это головы следовало бы снести всей провинившейся троице. У Бойко, как потом уже выяснилось, оказалась не четвертая группа крови – третья. А что четвертая она у него, свидетельствовала бумажка, привезенная Бойко из онкологического диспансера, где лежал он перед тем на обследовании. И ни лечащий врач его Лукьянов, ни готовящийся вести наркоз Глинский не удосужились перед операцией перепроверить его группу крови, просто переписали в историю болезни данные с этой бумажки. А Бобров, за что и винить-то его нельзя, не поинтересовался этим – для него само собой разумелось…
– Ну, как бы допустим, – терзал Лукьянова Корытко, – допустим, что вы вняли просьбам больного, настаивавшего, что оперироваться он хочет дома. Но ведь можно было пригласить из городской клиники знающего уролога, ассистировать ему, это же в порядке вещей, сплошь и рядом практикуется. Для того, в конце концов, чтобы спать спокойно. И поучиться заодно.
– Но хорошо же соперировали, – вяло защищался Лукьянов.
Тут крыть было нечем – операция, несмотря ни на что, в самом деле прошла на диво успешно. Больше того, кровопотеря, что совсем уж поразительно, была минимальная, несопоставимая с обычной при такой большой и тяжелой операции. Вполне можно было вообще отказаться от вливания и крови, и плазмы, обойтись кровезаменителями. Но продолжалась та самая чертовщина. Знали, что показаний нет, но, похоже, сработала анекдотическая расейская «практичность»: не пропадать же добру, с таким трудом добытому, припасенному. И за скудные больничные деньги купленному. К тому же ни одного резусного больного с четвертой группой крови, нуждавшегося в гемотрансфузии, в больнице не было. Хорошо еще, не всё успели ввести, оставили про запас. И решили все-таки, когда операция подходила к концу, прокапать – хуже точно не будет, тонус больному поднимет после операции, сопротивляемость улучшит. В это «решили» и уперлись лбами члены комиссии…
– Кто решил? Кто из вас тут сказал, чтобы принесли кровь из холодильника? – допытывался Корытко. Он, хоть и меньше всех разбиравшийся в клинических вопросах, взял инициативу на себя. – Не санитарка же как бы сама решила!
Бобров отвечал, что занят был операцией, убежден он, что решил Лукьянов, лечащий врач Бойко. Лукьянов отбивался тем, что никакого отношения к этому не имел, потому как, всем известно, во время операции все трансфузии входят в компетенцию анестезиолога, со всеми пробами на совместимость и прочим. Глинский, возмущенно сверкая очками, доказывал, что даже помыслить об этом не имел права, – ведь анестезиолог по закону не имеет права одновременно вести наркоз и переливать кровь. И вообще вся ответственность за ход операции лежит на ведущем хирурге, а таковым являлся Бобров. Круг замыкался. Длился этот перекрестный допрос битый час, но каждый из них твердо стоял на своем и беспощадно топил другого. Причем, что особенно неприятно поразило Дегтярева, топил откровенно, ни с чем не считаясь…
Разумеется, выяснением истины с врачами дело не ограничилось. Были еще три участника злодеяния – операционная сестра, сестра-анестезистка и санитарка, которой велено было принести из холодильника компоненты крови. С каждой из них побеседовали отдельно, чтобы остальные не слышали. И не один Корытко – подключились все, кроме безмолвной свидетельницы происходящего Лили. Даже изощрялись друг перед другом, пытаясь «расколоть» их, щегольнуть умением самого искусного следователя. Но так же безрезультатно. Санитарка, пожилая, насмерть перепуганная бабуся, всхлипывала одно и то же: сидела в предоперационной, крикнули ей, чтобы принесла фляжки, приготовленные для Бойко, она и принесла. А кто крикнул – поди разбери, еще и со слухом у нее нелады. Операционная сестра, конечно же, своей работой занималась, не до того ей было, кто и что кому сказал. Анестезистка упирала на то, что делает лишь то, что ей приказывают; да, капельницы она заполняла, вены колола, а уж кто приказал, не обратила внимания, пусть врачи сами разбираются. Круг не то что замкнулся – из непробиваемой брони сделался. У Дегтярева, во всяком случае, возникло ощущение, что, возможно, они не сговорились ни с кем-либо из врачей, ни между собой, действительно не помнят. А если кто-то и помнит, то помнит и присловье о холопских чубах, когда паны дерутся…
В конце концов, большой беды не было, что перелили больному, даже без необходимых на то показаний, кровь, – особого вреда ему тем не причинили бы. При условии, понятно, что кровь совместимая. В не такие уж давние еще времена делали это нередко, надеясь больного «стимульнуть». Беда, беда непоправимая и непростительная была в другом.
– Ну, хорошо, – поморщился Дегтярев, когда вернули в кабинет врачей, – мы уже поняли, что узнать, кто сказа «мяу», вряд ли удастся. А как вы вели себя тут, пусть на вашей совести остается и ваш главный врач разбирается с этим. У меня другое в голове не укладывается. Как можно было не определить больному, да еще такому больному, группу крови? И когда клали его в стационар, и перед операцией? Как можно было слепо довериться какой-то бумажке?
– Не какой-то, – буркнул Лукьянов, – из вашего областного диспансера.
– Прекратить! – сотряс кулаком стол Корытко. – Совести нет! Стыда как бы нет! На хрена ты такой нужен здесь тогда? А там такая же дурья башка сидела, я еще разберусь!
– Не в чьей-то дурьей башке дело, – вмешался Кручинин. – Что, никому здесь не известно, что каждую – каждую, доктора! – ампулу крови нужно перед вливанием проверить на совместимость с кровью больного? Даже если этикетки наклеены, что взято у одного и того же донора! Если не известно, надо закрывать вашу больницу.
– И главного врача в сторожа! – поддал жару Корытко.
Хазин, посчитавший за лучшее все это время помалкивать, тихо крякнул.
– Мочу у больного на следующий день брали? – продолжил Кручинин.
– Брали, – промямлил совсем уже сникший Лукьянов. – В историю болезни вклеено, там дата есть.
– Вклеено! – передразнил Корытко. – Ловкость рук и как бы никакого мошенства! Вы тут, как я погляжу, что угодно вклеите!
Дегтярев тоже не уверен был, что анализ этот не прилепили задним числом, но склонен был поверить. Знал то, о чем не ведомо было Корытко: если несовместимая кровь больному переливается под общим наркозом, реакции может вообще не быть или клиническая картина окажется смазанной. Вплоть до того, что все обойдется без печальных последствий, и в моче на следующий день не окажется эритроцитов, свидетельствующих о такой ошибке. У этого Бойко, не исключено, процесс развивался медленно, и о начавшейся катастрофе могли в первый день не подозревать. Хуже того, операция была на почке, кровь в моче могли списать на этот счет. Историю болезни Бойко он изучил досконально, но все же спросил Боброва:
– Когда и как вы заподозрили, что влили иногруппную кровь?
Тот ответил, что первой всполошилась дежурная сестра, заметившая, что делается всё красней собираемая в бутылку моча. И только когда у Бойко стало падать давление и боли в костях начались, зародилось сомнение, не связано ли это с вливанием крови. Срочно отдали его кровь в лабораторию, где и определили, что кровь у него третьей группы. Забили тревогу, доложили главному врачу. С этой минуты и начались у Хазина проблемы, которые теперь ему боком выйдут. Потому что прекрасно знал Хазин: о таком ЧП нужно немедленно сообщать. И в Областной Центр крови, и в министерство. А он не сделал этого, пожалел своих врачей, думали, что вытащат больного сами, никто не узнает. Упустили время, лишь через два дня, убедившись, что все их старания тщетны и больной погибает, повезли Бойко в город, подключили к искусственной почке, но тот скончался к вечеру того же дня…
Последние полтора часа Дегтярев провел стоя или расхаживая по комнате – свирепевший радикулит сидеть не давал, вгрызаясь в тело и стреляя в ногу. Выйдя покурить, проглотил, чтобы никто не заметил, две таблетки прихваченного с собой палочки-выручалочки индометацина, чуть полегчало, но потом вновь дал о себе знать притаившийся ненадолго лютый враг. Он подошел к окну, иссеченному разохотившимся дождем, смотрел на чахлый больничный двор, по которому ветер гнал скукоженные листья, думал о том, что скоро стемнеет, пора возвращаться домой, пока совсем его не скрутило. От мысли, что придется еще два часа сидеть и терпеть в трясущейся машине, того больше портилось настроение. Мелькнула идея, что не худо бы перед отъездом попросить Борю сделать ему поясничную новокаиновую блокаду, в другое бы время так и поступил, но сейчас почему-то не казалось это удобным, сопротивлялось изнутри. Если бы еще не Лиля, не все остальные… Слышал за спиной скрипучий голос Корытко, добивавшего нерадивых врачей, думал и о том, что зря уже переводятся слова, все и так предельно ясно, больше тут делать нечего. Акт написать можно и дома, потом, прежде чем отдавать в министерство, переслать сюда, чтобы Хазин подписал все экземпляры и вернул. И кропать этот акт придется ему, Дегтяреву, и оттого, как сочинит он его, во многом будет зависеть Борькина судьба. Которому надо бы не министерское судилище устраивать, а по шее накостылять, чтобы не строил из себя исусика, не покрывал своих врачей, пауков в банке. Те, в конце концов, отделаются выговорами, ну, врачебную категорию понизят, а у Борьки вся жизнь может под откос пойти. И не факт, что дадут ему возможность остаться здесь даже рядовым хирургом, варианты не исключены самые тягостные. Хоть в самом деле в сторожа иди, как сострил Корытко. Если еще родственники Бойко в суд не обратятся – нынче все грамотными стали, телевизионных передач насмотрелись, – тогда вообще кранты…
Желудок тоже безразличным не остался, напоминал о себе. С самого утра ничего не ели. Может, потому и негодует так сейчас Корытко. В прежнее бы время, не приедь они сюда по такому случаю, все было бы обставлено в лучшем виде. Хазин в таких делах знает толк. Когда он, Дегтярев, приезжал один – ехали к Борьке домой, жена его такой стол накрывала – вспоминать радостно. Он, Дегтярев, ко всему прочему, был свидетелем на их свадьбе, столько лет ведь дружили. Если же, было не раз, прибывал сюда Дегтярев с кем-нибудь еще, кормил Хазин гостей у себя в кабинете, где его ушлые секретарша и главная сестра так все обустраивали, что не каждый ресторан сравнится. Они сегодня здесь уже почти три часа, а бедолага Хазин не рискует предложить им хотя бы чайку попить, опасается, что неверно поймут его…
И, конечно, подбрасывало дровишек в огонь, что столь длительное время пребывает он здесь вместе с Лилей, Она, вернувшись из лаборатории, вручила Корытко исписанный листок, села в дальнем углу и ни слова не произнесла. Хватало у нее, не врача по диплому, ума не встревать в обсуждение. А он, Дегтярев, старался не смотреть в угол, где она пристроилась. Похоже, и она избегала встретиться с ним взглядом – несколько раз, когда он все же не совладал с собой, бегло посматривал в ее сторону, то замечал, что сидит она по-ученически прямо, уставившись в пол. Колени сжаты, руки на коленях, как двадцать лет назад на отделенческой планерке. А он краем глаза отметил, что и колени-то у нее теперь другие – полные, округлые, колени зрелой женщины. А руки всё так же красивы – мраморно белые и гладкие, словно лишены были жил и вен. Лишь однажды взгляды их встретились, оба сразу же отвели их, но успел он заметить, как загорелось ее лицо – от этой девичьей напасти так и не избавилась. И хватило ему этого недолгого мига, чтобы высмотреть в ее глазах то же не то виноватое, не то жалобное выражение…
Чего привязался к ней? – досадовал на себя Дегтярев, глядя на маленькую старушку, семенящую через двор, накрывшись газетой. Такая Лиля, не такая – что это меняет? Какое вообще ему дело до нее? Если бы у них в тот вечер хотя бы свершилось все, еще бы куда ни шло. Так ведь не было ж ничего. Не изменил он что-либо ни в ее судьбе, ни в собственной, ничего не должен ей. Из отделения она тоже сама ушла, не в чем ему винить себя. Причем нехорошо ушла, нечестно, не пожелав даже объясниться с ним, попрощаться. Если уж кому обиду держать, так это ему, не Лиле. И правильно он настраивал себя, когда ехали сюда. Перебудет тут с ней, вернутся в город – и еще двадцать или сколько там лет не увидятся, если пошлет ему Господь такую долгую жизнь. Мало ему здесь проблем, недоставало только сейчас Лилей голову себе морочить… Пора заканчивать эту бодягу. Решительно повернулся к ним, сказал:
– Ладно… – И охнул, не договорив. От этого неосторожного движения раскаленным дротом прожгла поясницу нестерпимая боль. Так и остался полусогнутым, хватая ртом воздух.
Первым о том, что стряслось с ним, сообразил Хазин, знавший о дегтяревской хворобе. Подбежал, поддержал, прошелся кулаком по его хребту в надежде вправить зловредный позвонок, уменьшить боль. И, повезло, это ему случайно почти удалось – во всяком случае, скрутило уже не так сильно, сумел Дегтярев распрямиться.
– Пустяки, – изобразил Лев Михайлович улыбку, – корешки вдруг взбунтовались, сейчас все пройдет.
– Не пройдет, – мотнул головой Хазин. – Эта зараза если прицепится… – И не заметив, что перешел на «ты», продолжил: – Куда ты такой поедешь? Хочешь, чтобы в дороге прихватило, как в тот раз? Сделаем тебе электрофорез, потом блокаду, там поглядим. На второй этаж сам подняться сможешь?
Ответить Дегтярев не успел – в дверь постучали, в образовавшуюся щель просунулась голова водителя:
– Я извиняюсь, Лев Михайлович, езжать надо. У меня дальний свет не работает. Не пойму, что с ним вдруг приключилось. Повозились мы тут с ребятами в гараже – всё без толку. Стемнеет скоро, а тут еще погода такая…
– Подожди, – нахмурился Дегтярев.
В сомнении поглядел на закрывшуюся дверь, прикидывая, как быть дальше. Хазин не зря напомнил о том, как в прошлом году пришлось ему с дороги вернуться, потому что убедился, проехав с десяток километров, что до города в машине не высидит. Будь он здесь сейчас один, вопросов бы не возникало. Остался бы у Борьки ночевать. Или поступить все-таки, как тот предлагает, а остальные пусть уезжают? Почему-то еще больше испортилось настроение оттого, что Лиля всему этому свидетельница. Удручало, что видит она его таким, чего уж там, постаревшим, недужным…
– То есть как это не работает дальний свет? – дернул бровями Корытко. – Хорошенькое дело, как же мы поедем? Почему вы, Лев Михайлович, не позаботились, чтобы машина была в исправности? Тем более как бы приступ у вас, отъезд может затянуться. – И Хазину: – Прикажите, чтобы готовили машину отправить нас. Только без дефектов, надежную.
– Прикажу, – кивнул Хазин, – только из надежных у меня один фургончик, сейчас узнаю, на месте ли.
Потянулся к телефонной трубке, но Корытко опередил его:
– Я в этом вашем гробу не поеду, плохо переношу дорогу, укачивает меня, вестибулярный аппарат неважный. Как же вы так поставили дело, что нет у вас ни одного путного легкового автомобиля? Чем вы тут занимаетесь?
– Это не я, это вы так поставили дело, – потемнел Хазин. – Ни запчастей, ни денег, чтобы купить, выкручивайся, как можешь. А занимаюсь я тут, Степан Богданович, тем, что удивляюсь, как вообще старье мое на ходу и вообще все в больнице не развалилось. Понимаете? Спрашивать легче всего!
– Остынь, – попытался урезонить его Дегтярев, видя, как тот заводится, и по опыту зная, во что это может вылиться. – Я, пожалуй, в самом деле останусь пока здесь, а они, думаю, успеют добраться до города засветло.
– А если не успеем? – не угасал Корытко.
И тут вдруг комната озарилась космической белой вспышкой, а вслед за тем так громыхнуло, что звякнула на столе телефонная трубка. И дождь, прежде заведенно, скучно творивший свою долбежную работу, разъярился, зашипел, обрушился на притихшую землю гулким сплошным потоком.
– Ни фига себе! – присвистнул Кручинин. – Боюсь, это надолго. Развезет тут ваши веселенькие дороги, не то что в фургончике – на тракторе не выберешься. А поездом в ближайшее время можно отсюда убыть?
– В половине одиннадцатого будет проходящий московский, – пожал плечами Хазин, – раньше в вашу сторону ничего.
– Это ж когда мы в городе будем?
– Около часу ночи.
– Поздновато, – хмыкнул Кручинин. – Но по крайней мере без приключений. Если других предложений нет, я позвоню в свою больницу, чтобы дежурную машину подослали к нашему поезду, потом всех по домам развезли. – Вы как? – обратился к Лиле.
– Я как все, – зарделась она. – Обо мне не беспокойтесь, пожалуйста.
– Выбирать, вижу, как бы не приходится, – беспросветно вздохнул Корытко, давая понять, что ничего другого от здешних недоумков и не ждал. – А буфет хоть какой-нибудь в этой больнице есть? А то мы до вашего поезда вообще ноги протянем.
– Не протянете, – вмешался вдруг Бобров. – Если у вас больше нет к нам вопросов, можно было бы… – С надеждой глянул на Хазина: – Я позвоню Кузьминичне? Пока Льву Михайловичу помогут, она бы все приготовила.
Кто такая Кузьминична, Дегтярев знал, гостевать у нее доводилось. Знал даже, что она какая-то родственница Боброва. Хозяйничала в небольшом пансионате на берегу реки, и там частенько завершали всякие мероприятия прибывшие в район сановные визитеры. И помещение для этого там имелось подходящее, и привечать умела оборотистая Кузьминична. По полной программе. И загулы там, это для него тайной тоже не было, бывали такие, что земля ходуном ходила.
– Решили, едете поездом? – спросил Хазин.
– Надеюсь, вы сумеете договориться с вашим железнодорожным начальством, чтобы нам в где-нибудь тамбуре отираться не пришлось? – снова вздохнул Корытко.
– Не проблема, я обо все позабочусь, – успокоил Бобров.
– Давай, Гена, займись всем этим, – попросил Хазин. – Вы, наверное, захотите домой позвонить, предупредить, вот телефон, а мы пока с Львом Михайловичем немного подлечимся.
Дегтярев, стараясь держаться прямо и улыбаться иронически, отстранил изготовившуюся поддерживать его Борину руку и двинулся к выходу. Подозревал, что нелегко ему дадутся ступеньки на второй этаж, но худо-бедно обошлось. Лежал на кушетке, доверившись хлопотам сестрички из физио-процедурного кабинета, потом терпел, когда Хазин обкалывал новокаином его настрадавшуюся поясницу. Осторожно, боясь спугнуть притихшую боль, встал на ноги, прошелся по комнате, наслаждаясь обретенной легкостью. Вот так мы, человеки, устроены, – ухмыльнулся про себя. – Еще недавно судьбоносным, жизненно важным казалось все, связанное со смертью Бойко, с Бориными проблемами, с этой нечаянной встречей с Лилей, а прихватила боль – и ничего, кроме желания избавиться от нее, не осталось. Ну, почти не осталось. И суеверно не стал радоваться исцелению – неведомо было, как поведет она себя в дальнейшем: помилует или, забитая сейчас новокаином, снова пробудится.
– Не вышагивай, полежи еще немного, – сказал Хазин.
– Пойдем, не надо твоих паучков надолго оставлять с Корытко наедине, – ответил.
Опасался, что Боря, возвращаясь, заведет речь о перспективах истории с Бойко, но тот заговорил вдруг о своей кошке, родившей пятерых котят, и куда их теперь девать, неизвестно. Будто ничего существенней для него сейчас не было. И лишь подходя уже к бобровскому кабинету, туманно изрек:
– Ты уж, пожалуйста, там не очень. Я все понимаю, но все-таки…
– Договорился, нас там ждут, – встретил их Бобров. – Поехали, давно подкрепиться пора.
Добирались недолго, минут пятнадцать – комиссия на «Волге», хозяева впереди в пресловутом фургончике. Перед тем поразвлеклись немного, добегая до машин под проливным дождем. Зонты нашлись для каждого, но лихой Кручинин выделенным ему не воспользовался, пристроился со смехом под одним с Лилей и на ходу прижимался к ней отнюдь не двусмысленно, всю облапив. Лиля заполошно визжала, но даже попытки высвободиться не сделала. Дегтярев тихо бесился, больше на себя – что цепляет его это. И потом, в пути, слыша, как позади него Кручинин что-то ей воркует, а она хихикает, недовольствовал. А еще дивился тому, что вся проштрафившаяся врачебная троица тоже подалась к Кузьминичне. Бобров – понятно, он тут разводящий, но остальные двое… Как, интересно будут сидеть за одним столом, общаться после того, как враздрай топили друг друга? Как в глаза смотреть будут? Неужели, сговорившись заранее, устроили комиссии спектакль, чтобы нельзя было отыскать виновного? Все же склонялся к мысли, что вряд ли они такие умелые актеры, – скорей всего, боятся, что кто-то воспользуется чьим-либо отсутствием, чтобы свалить на него всю вину. Но в любом случае думать об этом было неприятно. Как и не тешила мысль, что придется до самой ночи коротать время в этой компании, еще и с Лилей. Разве что пообедать в самом деле не помешало бы. Но с куда большим удовольствием оказался бы он сейчас дома, полежал, ублажая свой пробудившийся радикулит, в горячей ванне, а затем улегся в своей постели, по крайней мере до утра отстраняясь от всех передряг этого дня. Только бы снова не прихватило, загружать всех…
На крыльце их самолично встречала владычица Кузьминична со своим придворным Толиком. Кто такой этот Толик и каковы его функции в пансионате, Дегтярев так и не взял в толк. Что не сын ее – точно. И не рядовой какой-нибудь завхоз. По многим приметам, состоял все-таки любовником у разбитной хозяйки, хоть и верилось в это с трудом – возрастной разницы между ними лет двадцать пять, не меньше. Впрочем, выглядела Кузьминична вполне еще завлекательно. Особенно, когда улыбалась. То ли щедро наградил ее Всевышний отменными, не потускневшими с годами зубами, то ли протезист ей попался рукастый, но улыбалась как голливудская звезда. И если особо не присматриваться к ней и пренебречь ее густым макияжем, за тридцатилетнюю сошла бы. Хоть и знал Дегтярев, что до пенсии работала она в райкоме партии, и уже не меньше пяти лет заведует этим пансионатом. И без Толика, красивого, цыганистого вида парня с нагловато-масляными глазами, ничего здесь не обходилось.
Тут спасаться от дождя не пришлось – вход покрывал широкий козырек, машины подкатили прямо к крыльцу толстостенного, старой постройки трехэтажного здания.
– Милости просим, гостюшки дорогие! – лучезарно улыбалась Кузьминична. – Чувствуйте себя, как дома, не забывайте, что в гостях! – И вслед за Толиком громко, всплескивая руками, захохотала, радуясь шутке. – В такую погодку по чарочке пропустить, да под борщец хороший – самое милое дело! А красавицу какую с собой привезли, ну прямо артисточка! Толик, проводи гостей, я пока на кухню наведаюсь, распоряжусь. И о шоферах позабочусь, чтобы не проголодались.
Толик, скользнув по Лиле привычным взглядом неотразимого соблазнителя, тряхнул кудрявыми чернющими волосами:
– К нашему шалашу!
С того раза, как побывал здесь Дегтярев, ничего не изменилось. Это явно была не столовая для пансионатских обитателей – предназначалась эта квадратная просторная комната с длинными окнами в малиновых бархатных портьерах и лепниной на потолке для особых приемов. Стоявший посредине стол на прочных ногах, покрытый малиновой же скатертью, запросто мог принять два десятка человек, и темные стулья вокруг были такие же массивные, добротные, с высокими резными спинками. Сиживало, надо думать, на них не одно поколение ответственных и полуответственных деятелей, сохранилась мебель отменно, не нынешней хлипкой чета. И сервирован стол был не абы как – посуда не случайная, отборная, накрахмаленные салфетки в кольцах, ложки, вилки и ножи в рядочек. Дегтярев насчитал десять приборов, из чего сделал вывод, что Кузьминична, извещенная Бобровым о количестве гостей, присоединится с Толиком к их компании. И судя по тем же приборам, двое должны были сидеть в торце стола, остальные – по четыре в каждой стороны. Прикидывая, кому предназначается торец, Дегтярев решил, что в любом случае сядет подальше от Лили, и лучше бы с одной с ней стороны, чтобы не глаза в глаза. Но главное – не делать резких движений, не провоцировать поясницу.
Сметливый Толик, хоть и не знал никого, кроме Дегтярева, из членов комиссии, рассадил всех по своему усмотрению. Будто бы ни чем не руководствуясь, с радушной улыбкой трогал всех по очереди за локоть и отодвигал стул, повторяя:
– Сюда, пожалуйста, спасибо.
И первым, в торец, усадил Корытко, оставив рядом стул свободным, – наверняка предназначался он Кузьминичне. Вскоре каждый сверчок заимел свой шесток: справа от Корытко друг за дружкой Дегтярев, Лиля, Кручинин, справа от хозяйского стула – Хазин, Бобров, Глинский и Лукьянов. Стул за кручининским Толик оставлял, надо полагать, для себя. План Дегтярева отдалиться по возможности от Лили не сработал, но противиться выбору Толика не стал – превратно могли истолковать. Появилась сияющая Кузьминична, за ней две симпатичные девушки в белых передничках и наколках, катящие перед собой столики на колесах. У первой он был заставлен разномастными и разнокалиберными бутылками, вторая везла большую кастрюлю с опущенным в нее половником и чашу со сметаной. Едва появились они, по всей комнате вмиг разлетелся обалденный дух горячего мясного борща, щедро сдобренного зеленью и чесноком; Дегтярев только сейчас понял, как он проголодался, даже о радикулитных проблемах забыл.
Работали девушки споро и ловко, в считанные секунды стол был заставлен бутылками, борщ разлит по тарелкам. Дегтярев подивился обилию бутылок – коньячных, водочных, винных, – точно здесь готовились ублажить не один десяток крепко пьющих умельцев. Но еще больше поразила его эта кастрюля с борщом. Неужели умудрились приготовить его за малое время от бобровского звонка до их приезда? Начисто отвергалась мысль, что таким роскошеством потчуют своих заурядных постояльцев. А если все-таки потчуют, Кузьминичне надо бы памятник при жизни поставить. Или все-таки не спонтанно все произошло, готовились к визитерам из министерства? После недолгого рабочего совещания, кто что будет пить, емкости были наполнены, Кузьминична церемонно возвысилась над столом со своим коньяком, пропела, какая честь для нее принимать у себя столь высоких гостей, надеется она, что понравится им ее скромное угощение, особенно ее фирменный, по собственному рецепту плов. Завершив свое яркое выступление трафаретным пожеланием, чтобы все были здоровы, подала дорогим гостям пример, аппетитно проглотив содержимое своей рюмки.
Дегтярев, словно имело это какое-то значение, отметил про себя, кто какой напиток выбрал. Вином пренебрегли, коньячную компанию Кузьминичне составил лишь Корытко, все остальные предпочли водку. В том числе и Лиля, что царапнуло Льва Михайловича. Отчего-то показалось это ему предосудительным, не ожидал от нее.
Обед удался на славу. То ли расслабила всех обильная и сытная еда, то ли спиртное разнежило, но через полчаса все полюбили друг друга, тосты провозглашались один за одним, никто, кроме всегда равнодушного к выпивке Дегтярева, не сачковал. Разве что Лиля с переменным успехам сопротивлялась настояниям Кручинина, бдящего, чтобы рюмка ее не пустовала. И, похоже, забыты были всеми и Бойко, и распри в бобровском кабинете – не до того стало. Или, не исключалось, намеренно приводили себя в состояние, чтобы стало не до того. Ценным собутыльником оказался Толик. Взял на себя роль тамады, вызывал тостующих, сыпал шутками и анекдотами. Неожиданно оказался остроумным и находчивым – сначала подумалось, будто нужен он Кузьминичне лишь в одном качестве, ни на что большее не годится.
Опасения, что возникнут у него сложности из-за близкого соседства с Лилей, также не оправдались Она крепко была взята в оборот Кручининым, и по мере того, как тот хмелел, ухаживания делались все явственней. Лиля, насколько Дегтярев смог уловить, откровенных авансов ему не давала, но и недотрогу из себя не строила. Смеялась, запрокидывая белую шею, пару раз шлепнула Кручинина по руке. И почти все время сидела, отвернувшись от Дегтярева, а он с ней тоже не заговаривал. Лишь однажды, когда передавал ей бутылку с фантой, пальцы их на миг встретились, она едва заметно вздрогнула, он увидел, как еще сильней загорелось ее лицо, разгоряченное выпитым и кручининским кавалерством. Дегтярев не без оснований подозревал, что с самого начала повела она себя так, чтобы отгородиться от него. Чтобы ничто не напомнило ему о той давней воскресной ночи; а Кручинин – всего лишь удачное для нее стечение обстоятельств. Но тут же поймал себя на том, что, похоже, выдает желаемое за действительность. Подосадовал, что все-таки сидит, значит, в нем это желаемое, как бы ни накручивал себя. Понять бы еще, зачем оно сидит, почему, что ему вообще сейчас надо от своей бывшей медсестры, в которую когда-то безоглядно влюбился. Уж не ревнует ли он ее к удалому Кручинину? И пить начал больше обычного – раньше, бывало, всего двумя-тремя рюмками в застольях ограничивался. Внушал себе, что Лиля здесь ни при чем, просто алкоголь – неплохое обезболивающее…
Трапеза катилась по накатанной колее. Покончив с тостами по кругу, похохотав над анекдотами, запели. Тут тоже инициативу проявил Толик, затянул про золотые огни на улицах Саратова. У него и голос оказался приятный, и слух верный, очень хорошо вторил. Пели старательно, громко, ни одного куплета не пропуская. А если забывали начало очередного, выручал Толик, все помнящий, остальные дружно подхватывали. Грохотало за окном, время от времени вспыхивали малиновые шторы, предусмотрительно сдвинутые Толиком, но все это лишь единило, даже придавало их пиршеству некий экзотический оттенок.
Преобразился и Корытко. Не понять было, намеренно цеплял он на себя брюзгливую чиновничью маску и только сейчас, оттаяв за столом, раскрылся, или это коньяк благотворно на него подействовал. Лицо порозовело, разгладилось, заливисто смеялся над анекдотами, сам рассказывал, отпускал комплименты Кузьминичне. Дегтярев отметил вдруг, что тот вовсе не старый еще, немногим, может, за пятьдесят, не желчный пенсионер, как полагал ранее. А еще наблюдал он за местной братией. Никакого отчуждения между ними не уловил, держались они совершенно раскованно, пересмеивались, что снова навело Дегтярева на мысль о спектакле, устроенном ими министерской комиссии. Лишь один Хазин не очень-то вписывался в эту теплую компанию. Впрочем, уловить это смог бы один Дегтярев, знавший Борю много лет. Вместе со всеми Хазин выпивал, балагурил, заигрывал с менявшими тарелки девушками, но все же глаза выдавали его. Глаза трезвого, погруженного в свои мысли человека.
Дегтярев, хоть и выпил больше обычного, опьяневшим себя не чувствовал. И не заметно было, чтобы кто-либо из гостей, изрядно принявших на грудь, терял над собой контроль. То ли способствовала этому горячая жирная пища – плов, кстати, приготовлен был отменный, – то ли компания подобралась к алкоголю устойчивая…
Сидели третий час, в щель между шторами заглядывала уже сизая вечерняя мгла. Отбыли в другие края громы с молниями, но дождь не угомонился, лишь не бушевал уже так, не испытывал на прочность оконные стекла – шумел ровно и плотно, давая понять, что нерастраченных сил его хватит надолго. Дегтярев подумал, что пора бы заканчивать эти посиделки, – девушкам убрать посуду и отправиться отдыхать, да и у Кузьминичны с Толиком есть тут и другие заботы, кроме ублажения навязанных им гостей. К тому же не следовало проверять мужиков на их сопротивляемость к спиртному. Тем более что неопустошенных бутылок осталось на столе немало. Все могло пойти под откос, если кого-нибудь из них развезет. До прихода поезда еще далеко, и, по меньшей мере, здешних врачей надо бы распустить по домам. А у Кузьминичны наверняка сыщется комната, где бы они посумерничали перед отъездом, настроились. Позвал взглядом Хазина, кивнул ему, что время закругляться. Хазин понимающе моргнул, встал, поднял руку, привлекая к себе внимание. Многословно поблагодарил хозяев, сказал, что пора и честь знать. И, подавая пример, вышел из-за стола.
– А кофе? – изобразила испуг Кузьминична. – Как же без кофе?
– Я с удовольствие попью кофе, – поддержал ее Корытко. – Пусть принесут сюда.
– Ну, разве что кофе, – не стал возражать Хазин.
– Сюда нести ничего не нужно, – загадочно улыбнулась Кузьминична. – В Греции все есть! – Грациозной походкой двинулась к неприметной двери в другом конце комнаты, широким жестом распахнула ее, щелкнула выключателем: – Прошу, милостивые господа!
Вслед за ней вошел Корытко, покинули свои стулья остальные. Эта комната была небольшая, уютная, для чего она предназначалась, сразу сделалось понятным. И обстановка в ней не соответствовала той, где обедали. Модерновые, не дедовские диваны, кресла, под стильными торшерами – легкие журнальные столики с пепельницами, огромный ковер во весь пол. Только портьеры на окне были из того же кондового малинового бархата. Кузьминична торжествующе оглядела всех, подбоченилась:
– Ну, как вам наша Греция?
– Класс! – одним словом обошелся Корытко.
Кузьминична подошла к стоявшему на тумбочке в углу магнитофону, включила его, приглушила звук, чтобы музыка была чуть слышной, снова продемонстрировала свои безупречные зубы:
– Располагайтесь, закуривайте, кофе сейчас будет. – И той же балетной походкой, неожиданной для ее большого грудастого тела, удалилась.
Тут уж Толик не распоряжался, все расселись по желанию. Кручинин повлек за руку Лилю к маленькому, на двоих, диванчику, врачебная троица дружно устроилась рядком на большом диване, Хазин погрузился в кресло, а Дегтярев подпер плечом стенку – от греха подальше, и без того насиделся уже сверх меры. Поясница не бунтовала, но все же напоминала о себе, чтобы жизнь медом не казалась. Не сел и Толик – вышел вместе с Кузьминичной, но вскоре вернулся, хотя вряд ли был здесь теперь уместен. У Дегтярева возникло ощущение, что он приставлен к ним, только неизвестно, кем и с какой целью. Все, исключая Корытко, оказались курящими, с наслаждением задымили. Лиля тоже взяла предложенную Кручининым сигарету, но виделось, что курить ей приходится редко, если вообще приходится. Возобновился прерванный разговор, Кручинин рассказывал, как пришла к нему тетка лет под семьдесят, просила укоротить ей нос. Нос у нее и в самом деле был длинноват, но он не соглашался оперировать, пугал непредсказуемыми в ее годы осложнениями и тем, что операция очень болезненная. Но та настаивала, говорила, что на всё пойдет, всё вытерпит. Оказалось, влюбилась она в кого-то насмерть, боялась, что с таким носом нет у нее шансов на взаимность. Рассказывал Кручинин умело, смешно, изображал в лицах, все покатывались со смеху.
– И что, сдались вы? – спросила Лиля.
– Заплатила – и сдался, – ухмыльнулся Кручинин. – Любви, Лилечка, не только все возрасты покорны, но и доктора. На том стоим.
Дегтярев глядел на него и думал, что вот ведь каким везучим уродился человек. Всего ему дадено, не поскупилась природа. Даже излишне, пожалуй, красив для мужчины. Высок, статен, с породистым лицом возмужавшего херувима. Женщины небось прохода ему не дают. Да еще умен, смышлен, библиотека у него завидная. Не однажды случалось общаться с ним, получил возможность убедиться. И руки у него что надо, попасть к нему на операцию большой удачей считается. Даже то, что едва заметно порой заикается, лишь некий шарм ему придает. А что репутация бабника у него, так это никому еще не вредило, лишь славу множило. Не удивительно, что Лиля, давно уже не та тургеневская девушка, кокетничает с ним. Приятно это ему, Дегтяреву, или не приятно…
– Да уж, – хмыкнула Лиля, – с докторами это бывает. Да не всегда коту масленица.
– А вам почем знать? – ухватился Кручинин. – Неужели по собственному опыту?
– Может, и по собственному.
Случайно у нее вышло или намеренно – показалось Дегтяреву, будто Лиля адресовала эти слова одному ему. И тут же отвела глаза, снова выдав себя зардевшимися щеками. А он, дабы делать что-то, не стоять столбом, подошел к окну, прильнул к стеклу, защитившись ладонями от света, буркнул:
– Конца-края этому дождю не видать. Не погода, а чума какая-то.
– А у нас пир во время чумы. – Не понять было, иронизирует Хазин или сожалеет. – По всем литературным канонам.
– Боккаччо нам только не хватает, – рассмеялся Кручинин.
– Какого еще Бокачо? – заинтересовался Корытко.
– Был один такой товарищ, – переглянулся с Дегтяревым Кручинин. – Давненько, правда. Книжечку забавную сочинил, «Декамерон» называется.
– А он здесь как бы при чем? – удивился Корытко.
– Он здесь ни при чем, – улыбался Кручинин, – но аналогия прослеживается. Только у него там настоящая чума была, люди из дому выйти не могли, как в заточении.
– А Декамерон этот у него кто? – терял свои последние акции Корытко.
– Вот декамерон у них как раз и при чем, потому что их ровно десять человек было. И каждый, чтобы время скрасить, рассказывал какую-нибудь любовную историю. Замечательная книжица, Степан Богданович, рекомендую почитать.
– Только нас тут в комнате не десять, а девять, – рассудил Корытко. – Аналогия как бы не полная.
И при этих его словах дверь открылась, возникла преобразившаяся Кузьминична. Не то поразило, что она, хоть и не царское это дело, сама вкатила столик с большим кофейником, чашками и сахарницей, а что успела она переодеться. Сменила зеленые кофту и юбку на серый брючный костюм. Посчитала, видать, что кофейная церемония требует от нее именно такого представительства. Задержалась на входе, давая возможность по достоинству оценить ее новый наряд и подольше насладиться чарующим зрелищем. Первым сориентировался Степан Богданович, громко захлопал, тут же присоединились к нему остальные. Толик подбежал, принял у нее каталку.
– Вас как раз и не хватало! – заговорщицки посмотрел на Кручинина Корытко.
– Меня или кофейка? – лукаво стрельнула глазами Кузьминична.
– И вас, и кофейка. Нас теперь с вами десятеро, можно, как в «Декамероне», рассказывать любовные истории.
– Можно и любовные, – забавно сморщила нос Кузьминична. – Отчего ж не рассказать!
– Угу, – подключился Хазин. – Магнитофон имеется, запись сохраним, осчастливим грядущие поколения. Чтобы не уличили нас в плагиате, назовем как-нибудь иначе, «Антидекамерон», например.
– Против любви, что ли?
– Слушайте, – хлопнул себя по колену Кручинин, – неплохая идея! До поезда все равно еще пропасть времени. Не при наших милых дамах будет сказано, о чем мужики, особенно поле доброй выпивки, треплются, когда соберутся? О бабах, пардон, конечно, да об амурных подвигах своих геройских. И никто никогда не признается, как облом у них вышел, прахом пошла любовь. Под пытками не выдадут. А ведь облом такой у каждого хоть один разок да бывал! Что, слабО рассказать всем об этом? А мне вот не слабО, могу первым, как Матросов, на амбразуру!
– Любопытно было бы послушать, – сказала Лиля.
И Дегтярев, сам дивясь этим своим словам, вдруг сказанул, в упор глядя на Лилю:
– Принимается. Но при условии, что дамы тоже нам расскажут. И пусть никто не отмалчивается, чтобы разоткровенничавшийся в дураках не остался. Тогда согласен быть вторым после Василия Максимовича.
– Против, воздержавшиеся есть? – весело спросил Кручинин. – Как говаривали мы в детстве, молчание – знак согласия. Дезертиров призовем к ответственности, выгоним под дождь. Погодите, вот только кофе глотну. И выключите кто-нибудь эту музычку, не в масть она сейчас…
3
Василий Максимович отставил чашку, запасся воздухом, словно предстояло ему нелегкое испытание, затем решительно выдохнул, подтащил свободное кресло к двери.
– Место для рассказчика, чтобы всем было видно. И чтоб никто не сбежал.
Обстоятельно, неспешно поставил на подлокотник пепельницу, закурил. Оглядел всех по кругу, подмигнул Лиле, ловко выпустил в ее сторону сизые дымные кольца и первой же своей фразой всех озадачил.
– Нормально расти я начал почти в шестнадцать лет. Самым маленьким в классе был. На уроках физкультуры в шеренге последним стоял. Что здорово угнетало меня, больше даже, чем мой незавидный рост. Это ощущение не каждый понять может, самому прочувствовать надо, каково это – все перед тобой, а за тобой никого. Был у меня в классе дружок, Валерка Петров, тоже росточком не вышел, но передо мной стоял. И мы с ним все время мерились, кто из нас выше, очень принципиальным было. И когда, в пятом классе, я обогнал его и встал перед ним, радости моей предела не было. Валерка, кстати, так низкорослым и остался. Подрос, конечно, потом немного, за полтора метра перевалил, но тем не менее. Однако преуспел, если можно это назвать успехом. Помните, лет пятнадцать назад было громкое дело, судили банду Гнома? Весь город грабежами да разбоями в страхе держали. Так вот этот Гном и был мой Валерка, главенствовал там, заправлял всеми битюгами-мордоворотами, росточек не помешал ему. Но это так, к слову, вспомнилось вдруг.
А девчонки нравиться мне начали еще с детского сада. Влюблялся чуть ли не каждый день. Потом в своих одноклассниц втюривался, в девчонок с нашей улицы. Но, увы, не баловали меня взаимностью, внимания не обращали. И вообще мне с ними общаться было непросто. Поговорить с кем-нибудь – большая проблема. История со мной приключилась глупейшая. Было мне тогда лет шесть, отвезла меня мама на лето к родичам в деревню. Роскошное, должен сказать, местечко, прямо-таки сельская идиллия – речка, вполне еще тогда чистая, с песчаным бережком, лесок неподалеку с грибами-ягодами. Вот этот-то лес такую память по себе оставил, что до сих пор иногда ночами снится.
Дружки у меня там быстро нашлись, опекал меня двоюродный брат Санька, на четыре года меня старше, всюду таскал за собой. Деревенские ребята самостоятельные, ко двору не привяжешь. Ватага удалая подобралась, и я, малой, за ними – и на речку побултыхаться, и по садам-огородам, и в лес. А тот день, верней, ту ночь вовек не забуду. Отправились мы после обеда всей гурьбой в лес, затеяли игру в индейцев. Санька вождем племени себя назначил, я при нем, скрывались мы от вражеских солдат. Я шустрый был, задумал, чтобы отличиться, так спрятаться – ноги собьют, пока меня отыщут. И даже от Саньки тайком сбежал, прячась за деревьями. А потом пришла ко мне веселенькая мысль – обмануть их всех, за нос поводить. Сделать кружок – и выйти с другой стороны к тому месту, откуда мы игру начали, то бишь, к вражескому лагерю. Все потом, вместе с вождем Санькой, искать меня станут, накричатся, подумают, что пропал, вернутся – а я вот он где, целый и невредимый, напущусь на них: куда вы все подевались, ждать вас надоело!
Короче, заблудился я. Кружил, кружил, того места не нашел, дороги к дому не нашел, испугался, звать их стал. Ору-ору – никто не откликается. До сих пор не могу понять, как это я на своих коротких ногах умудрился так далеко забраться. В лесу темнеет быстро, тут уж я от страха совсем извелся. Бегу, реву, падаю, коленки и локти в кровь ободрал. Постою немного, покричу, послушаю, не отзовется ли кто, и опять несусь, ничего уже не соображая. Вскоре и бежать не мог, сил не осталось, горло надорвал. А темень все гуще, страшней, плетусь по этому проклятому лесу и вою тихонечко. Птицы затихли, звезды на небе проступили, шорохи появились какие-то, скрипы, у меня от мысли, что ночью здесь один останусь, волосы на голове шевелились. Тут и у взрослого бы душа в пятки ушла, а уж мне, мальчонке…
Хватило все-таки остатков разума понять, что чем дальше стану идти, тем найти меня трудней будет. Высмотрел под деревом какую-то нору, забрался в нее, затаился, чтобы дикие звери не нашли меня, не съели. Что за ночь была – словами не передать. И как живым остался, не помер со страху, не знаю. Уснуть боялся, чтобы звери меня спящим врасплох не застали. Даже выть опасался – вдруг они услышат, по голосу меня найдут. Только зубами лязгал, унять их не мог, да дрожал – и от ужаса, и от холода. Только под утро уже крики услышал, фонари увидел. Товарищи мои, оказывается, поискали меня недолго, потом кто-то придумал, что я, наверное, без них домой ушел, не захотел играть. Вернулись – нет меня. А Санька мой не посмел рассказать, что в лесу меня одного бросил. Еще и разозлился на меня, уверен был, что я все это специально подстроил. Проучить меня хотел, и до последнего надеялся, что я сам, убедившись, что никто за мной, городским придурком, бегать не собирается, приплетусь как миленький. Где тут, думал, заблудиться? – до леса одна дорога, рукой подать. И лишь когда вечереть начало, всполошился он, дома во всем признался, искать меня бросились…
Это я к тому рассказываю, что я после этого речь потерял, говорить почти не мог, мычал только неразборчиво. Такая шоковая реакция. Позвонили маме, примчалась она, увезла меня в город. Потом и невропатологи меня лечили, и психиатры, к логопеду водили; речь вернулась, но стал я сильно заикаться. Так это еще не всё – у меня седые волосы появились. Не одной прядью, а гнездами, по всей голове. Представляете красавца – голова в белых перьях и на каждом слове спотыкается. Кому я такой нужен, какая девочка дружить со мной захочет? И это в довершение к моему мелкому росту. Ну, в младших классах большой трагедией это для меня не было, но когда повзрослел…
В девятом классе вся моя разбросанная любовь сконцентрировалась на Нине Волковой. Красивая была, бойкая, кучерявая, глазки голубенькие – прелесть что за девочка. И обладала она еще одним ценным для меня преимуществом – невысокая была, не выше меня. Это было очень важно – казалось тогда оскорбительным уступать избраннице в росте.
Шансы на взаимность были у меня не мизерные – их вообще не было. Вокруг этой Волковой все наши мальчишки увивались. И мне, маленькому пятнистому заике, делать там было нечего. Ко всему прочему, не любил я свое имя Вася, примитивным казалось и убогим, котам лишь впору. Думалось, что кабы звали меня как-нибудь Денисом или Максимом, что-то могло измениться. И если бы еще… Если бы еще не вскакивали у меня на лбу и щеках отвратительные, разной степени зрелости прыщики, с которыми я боролся так же отчаянно, как и безуспешно. Острословы хотенчиками их называли. Разбежались они по мне в самое неподходящее время – когда утвердился я в мысли, что жизнь, в которой нет Нины, попросту бессмысленна.
А влюбился я безоглядно. Понял, что все мои прежние влюбленности были ерундой на постном масле, ни в какое сравнение не шли со страстью, которой воспылал я к неземному созданию Нине Волковой. Та самая первая любовь, о которой столько говорено. Уж так я страдал, так страдал! Караулил ее за углом, чтобы лишний раз увидеть, встретиться с ней будто бы случайно. Иногда, везло, шел немного рядом с ней, будто бы по дороге нам. Вся пакость была в том, что я при ней еще сильней заикаться начинал, как заклинивало. И учеба, само собой, под откос пошла. До уроков ли было, если все мысли только об этой Нине Волковой. И днем, и ночью. Я уже в ту пору вошел, когда одного подглядывания из-за угла мало мне было, кровь закипала. Те еще ноченьки были. Сначала на тройки скатился, потом и двойки в дневнике замелькали. Родители мои заохали, разносы мне устраивали, к совести моей взывали.
Я ведь раньше неплохо учился, мог бы и в отличники выйти, если бы не математика. Не давалась она мне никак. Все эти синусы-косинусы путались у меня в голове, непроходимыми дебрями казались. И решила мама репетитора мне нанять. Так удачно получилось, что бегать никуда не надо было – на нашей же лестничной площадке учительница математики жила. Только она не в моей школе преподавала, в другой. Договорились они, что я три раза в неделю вечерами ходить к ней буду. Я сопротивляться не стал, чтобы маму еще больше не огорчать, но очень не хотелось. Это сейчас репетиторов приглашать нормальное дело, чуть ли не до того, что иначе в институт не поступить, а тогда брали их только отпетым бездарям и двоечникам, чтобы на второй год не остались. К тому же не прельщала меня перспектива тратить на занятия с тетей Шурой – так по-соседски звал ее – столько вечеров. Вечеров, когда мог бы побродить возле Нининого дома, на окошки ее посмотреть, встретить, если очень повезет, или просто поваляться дома на диване, грезя о ней.
Несколько искупало все эти потери, что тетя Шура нравилась мне. И дочка ее, Наташка, нравилась. Я с Наташкой подружился даже. Мама с тетей Шурой давно поддерживали отношения, захаживали друг к другу, иногда, если тете Шуре надо было куда-нибудь вечером, Наташку маме оставляла. Забавная была девчонка и большая выдумщица. Фантазерка – не соскучишься с ней. Она мне сказки рассказывала, сама сочиняла. Такие сочиняла – не всякий взрослый сумеет. И еще рисовала она хорошо, я, например, так не смог бы. Одаренная девочка. Ей к тому времени лет пять исполнилось. На маму совсем была не похожа – светленькая, пухленькая, а тетя Шура смуглая, черноволосая и темноглазая, южных каких-то кровей. Жили они вдвоем, без папы, его у Наташки, скорей всего, никогда и не было, тетя Шура замуж не выходила. Так, во всяком случае, смог я понять из услышанных мною обрывков разговоров. А тетя Шура нравилась мне потому, что приветливая была, улыбчивая, и относилась ко мне всегда, как ко взрослому, не сюсюкала, даже когда я совсем малышонком был. Разговаривала со мной как с ровней, слушала внимательно, не поучала. Я и дома у нее любил бывать. Жили они бедновато, но всегда находилось у тети Шуры чем угостить меня, и что к чтению я с детства пристрастился, во многом ее заслуга. Библиотека у нее была неплохая, давала мне книжки читать, сама выбирала.
Одним словом, начал я к ней ходить математикой заниматься. Если бы не Нина, с удовольствием приходил бы к тете Шуре. Она хорошо объясняла, терпеливая была, и как-то так получалось, что я дураком себя не чувствовал, будто бы не с ее помощью, а сам додумывался, сообразительность проявлял. Но мы не только над задачником корпели, мы еще и разговаривали обо всем, чаевничали, славно у нее было. И однажды, сам не пойму, как это случилось, рассказал я ей о Нине. А ведь никто, даже лучший друг мой Валерка, не догадывался, как сохну я по Нине. Никому эту сокровенную тайну не доверял, родителям тем более. А тете Шуре, так вдруг расположился к ней, рассказал. Не всё, конечно, без подробностей, но самое главное – что очень мне нравится Нина, а она меня не замечает, потому что маленький я, седой и заикаюсь. И мне от этого плохо.
Потому, наверное, рассказал, что донельзя хотелось выплеснуться, облегчиться, невмоготу стало в себе носить, и не сомневался я, что никто об этом, кроме нее, не узнает. Как случается вдруг разоткровенничаться вдруг с неблизким, отдаленным от тебя человеком, в поезде, например. И потому еще, что уверен был – подтрунивать надо мной она не станет, отнесется с пониманием. И посочувствует, не отделается затертыми словами, что в моем возрасте это со всеми бывает, и не надо упиваться своим горем, голову пеплом посыпать – в мире, кроме Нины, немало прекрасного, и на ней свет клином не сошелся. Мы как раз чай на кухне пили с бубликами, вдвоем остались, потому что Наташка в комнате мультики смотрела. Тетя Шура ни разу меня не перебила, не переспросила, и глядела на меня, как единственно возможно было – не с таимой снисходительной усмешкой взрослого, не с удивлением и не с жалостью – она понимала меня и сострадала мне. Закончил я свое сбивчивое повествование унылым вопросом:
– И что теперь делать мне, тетя Шура?
– Как что? – ответила, помолчав. Подошла, растрепала мне волосы теплой рукой. – Жить с этой любовью, радоваться ей. Да, Васенька, радоваться, пусть и покажется это тебе нелепым. Это не я придумала, это еще древние мудрецы говорили: любовь всегда прекрасна, даже безответная, безнадежная, потому что возвышает и очищает человека, раскрывает в нем самое светлое, чистое. И вообще повезло тебе, потому что не каждому дается.
– Ничего себе повезло, – буркнул я, не очень-то постигнув, отчего мне сейчас должно захорошеть.
Она пригладила мои взъерошенные волосы, на секунду прижала мою голову к своей груди:
– Все у тебя будет хорошо, Васенька, поверь мне. И Нина твоя, вспомнишь еще мои слова, будет стараться тебе понравиться. И не одна Нина. Ты ведь красивый и толковый мальчик, девочки о таких мечтают.
– Я – красивый? – искренне изумился я.
– Конечно. Разве ты не знал?
– И заикаюсь, по-вашему, красиво?
– Не самая большая беда. Заикались многие талантливейшие люди, достоинств их это не умаляло. И вообще ты заикаешься намного меньше, чем год-другой назад. Ты заметил, что сейчас, например, разговаривая со мной, почти не заикаешься? Потому что не комплексуешь. Перестань, Васенька, комплексовать, живи с радостью – и все у тебя сбудется.
– Это вы меня уговариваете, чтобы успокоить, – не сдавался я. – Я же все про себя знаю. И остальные знают.
– Пойдем со мной. – Взяла меня за руку, повела в комнату. Там спросила у Наташки: – Вася у нас красивый?
– Конечно, красивый, – оторвалась Наташка от телевизора.
– Слышал? – дурашливо подтолкнула меня плечом тетя Шура. – Не зря говорят, что устами младенца глаголет истина. Вот смотри, – не выпуская моей руки, подвела к большому, во всю дверь, зеркалу в шкафу. – Видишь?
И стала мне говорить, какие у меня редкостные волосы, какие выразительные глаза, красивый рот и мужественный подбородок. А что ростом я невелик, тоже не беда – мало ли было великих людей, не отличавшихся гренадерским ростом, тот же Наполеон или Ленин. Но я еще обязательно подтянусь, потому что похож на отца, а отец у меня хорошего роста, от генов никуда не денешься. Просто одни, мальчики особенно, раньше начинают расти, другие позже. Вот в ее десятом классе есть один парень-дылда, в сборной по баскетболу играет, так он еще год назад в самом хвосте плелся. Надо только очень хотеть и очень верить, тогда все получится. А если я сам буду считать себя ущербным, то таким и останусь…
Я стоял рядом с ней, глядел в зеркало на себя, на нее, и вдруг заметил, что уж если кто красивый, так это она, тетя Шура. Раньше как-то не обращал внимания. На индийскую киноактрису похожа. И пожалел, что она выпустила мою руку. Без ее ладони моей неожиданно холодно стало, неуютно. Вспомнил, как она в кухне прижала меня к себе, как почувствовал на миг мягкую упругость ее груди – и горячо вдруг стало. И стыдно. А еще испугался, что она, такая умная и проницательная, догадается, отчего это я краской залился…
И с того дня приключилось со мной что-то непонятное. Дождаться не мог вечера, когда надо заниматься с ней. Нет, никаких планов, конечно же, я не вынашивал, смешно было даже подумать об этом, но хотелось видеть ее, слышать ее голос, близко находиться. Сложность только была в том, что так же тянуло меня побыть с ней, как и опасался делать это. Страшило, что выдам себя. А уж на грудь ее и вовсе старался не глядеть, чтобы дышать мог ровно. И что удивительно – с Ниной мне здорово полегчало. Нет, не разлюбил ее, просто перестал психовать. И не бегал уже к ее дому, чтобы «случайно» встретиться. Иного выхода повидаться с Ниной не в классе у меня не было: жили мы с ней по разные стороны от школы, домой рядышком не пойдешь. Да и шансов не было наедине с ней оказаться: она если не с кем-то из девчонок, то какой-нибудь парень увяжется или сразу несколько. А где-то через неделю – раньше так не фартило – встретил ее на почте, куда мама меня купить конверт отправила. И проводил ее потом до самого дома, и разговаривала она со мной хорошо, не выпендривалась. А я вдруг поймал себя на том, что мало заикаюсь и не подыскиваю каждое слово, не зажимаюсь. Но самое немыслимое поджидало меня, когда мы расставались с ней. Произнесла она слова вроде бы никакие, обыкновенные, но для меня много значившие:
– Что-то тебя в последнее время не видать стало. – И посмотрела.
Меня больше этот ее взгляд потряс, чем слова. Хорошо посмотрела, тепло, прежде так не бывало. Я возвращался домой, вспоминал, радовался, но осчастливленным себя не чувствовал, просто радовался. Как если бы играли мы с ребятами в футбол и наша команда выиграла. Это новое ощущение меня тоже поразило. И встревожило. Не сомневался – ничего бы этого не было, не будь того памятного разговора с тетей Шурой, стояния с ней перед зеркалом. И снова приснился мне ночью кошмарный сон, только мучила меня не Нина, а она, тетя Шура. Я пробудился весь в поту, долго лежал с открытыми глазами, а потом ужаснулся, что люблю тетю Шуру. Не как Нину Волкову люблю, иначе, но так же сильно…
Тем вечером у нас были назначены занятия, но я к ней не пошел. Соврал маме, будто голова у меня кружится и живот болит. Чего боялся – сказать бы себе отчетливо не смог, как по рукам и ногам связало. Мама сходила предупредить тетю Шуру, вернулись они вдвоем. Потом мама звонила знакомому доктору, а тетя Шура осталась со мной. Присела ко мне на краешек дивана, тронула мой лоб ладонью, участливо спросила:
– Что, совсем расклеился?
А я, точно и в самом деле помутилось у меня в голове, вдруг снял со лба ее руку и поцеловал. Она долго, пристально глядела на меня, затем вздохнула и сказала:
– Вот так даже… Ну, выздоравливай поскорей, Васенька. – И ушла.
Конец этого дня и весь следующий я провел как в тумане. Черт те что творилось со мной. Хорошо, не вызвали в школе ни разу, а то наплел бы сам не знаю что. Сидел истуканом, в окно глядел. На последней перемене подошла ко мне Нина, спросила, все ли у меня в порядке. Обратила, значит, внимание, что я какой-то не такой. Я же, вместо того, чтобы порадоваться этому вниманию, хмуро пробурчал:
– Всё у меня в порядке.
Она безразлично пожала плечами и удалилась. И я не обозвал себя идиотом, все равно мне было. Больше угнетало, как мне дальше быть. Что все про меня поняла тетя Шура, никаких сомнений не осталось. И что мне делать завтра – идти к ней или не идти? Все варианты были плохи, все против меня. От мысли, что придется в глаза ей глядеть, жаром окатывало. В конце концов решил, что не пойду, не сумею. Не мог только придумать, как объясню это и тете Шуре, и маме – не прикидываться же снова больным. Да если и прикинусь. Ну, еще день, еще два, потом что? Надежней всего было просто заявить тете Шуре, что не буду я к ней больше приходить. Она, уверен был, все поймет и выяснять ничего не станет. В идеале – скажет маме, будто успехи мои таковы, что в репетиторстве больше не нуждаюсь. А я уж как-нибудь сам подналягу на эту заковыристую математику, чтобы даже тройки по ней впредь не появлялись. Но если мама заплатила уже за месяц вперед, как тогда? Меня в этот денежный вопрос, конечно же, не посвящали, но ведь наверняка он возник, пусть и дружит тетя Шура с мамой по-соседски и отказывалась она брать деньги. Мама наверняка на своем настояла. Будут высчитывать, сколько необходимо вернуть? Кислая история…
Тем вечером поджидал меня сюрприз. Мама с папой собрались к кому-то на день рождения, сказали, что вернутся поздно. Мне повезло – ничего выдумывать не придется. Запрусь – и не открою, если тетя Шура, в чем я, вообще-то, очень сомневался, сама ко мне наведается. Нет никого дома, ушли все. Но когда подползли часовые стрелки к заветным восьми часам, я вдруг передумал. Увидеть тетю Шуру захотелось так же неодолимо, как страшило это. И я пошел к ней. Многое зависело от первых секунд. Как встретит она меня, как поглядит. А я не должен ничего ей объяснять – я, может, болен был, не ведал, что творю…
Не напрасно я рассчитывал на умницу тетю Шуру. Улыбнулась мне, как всегда, обыкновенно сказала:
– Проходи, Васенька, в комнату, я сейчас. Наташку докормлю и приду.
Я, отмякнув немного, сидел за столом, прислушивался, как в кухне тетя Шура уговаривает дочку. Та капризничала, не хотела есть, плакала. Что, вообще-то, не часто бывало – Наташка покладистая девочка, договориться с ней труда не составляло, могла она похныкать, но плакала совсем редко. Для меня, однако, было хорошо, что тетя Шура задержалась на кухне, – настроился, перестал мандражировать.
– Что-то Наташка сегодня не в форме, – пожаловалась мне тетя Шура, входя с ней в комнату, – уж не захворала ли. Температуры, похоже, нет. Надо бы уложить ее сегодня пораньше, пусть выспится.
Мне в этих ее словах почудился намек, что не должен я сегодня здесь засиживаться, а еще лучше – если уберусь отсюда, не до меня ей сейчас. Последний вариант меня устраивал: увиделся с ней, держался нормально, мог теперь не опасаться следующей встречи. Спросил у нее:
– Может, я тогда лучше уйду? А вы с Наташкой побудете…
– Да нет, думаю, обойдется, – неуверенно ответила она. – Вот мы сейчас у нее самой узнаем. Наташенька, пусть Вася уйдет, а мы с тобой поиграем, чтобы тебе одной не скучно было?
– Не надо ему уходить, пусть учится, – ответила девочка, – мне скучно не будет, мне нужно коровок нарисовать, маму с дочкой, как они гуляют на лугу с цветочками.
– Да, это нельзя откладывать, – поддержала ее тетя Шура. – Они ждут не дождутся, когда ты их нарисуешь, потому что очень проголодались.
За этой комнатой была вторая, маленькая, Наташкина обитель. Стояли там ее кроватка, шкафчик, стол, а все стены обклеены были Наташкиными рисунками. Тетя Шура ушла с дочкой всё ей для рисования подготовить, а я снова порадовался, что терзания мои были напрасными, встретились мы нормально, а я постараюсь, чтобы ничем не выдать себя. Хоть и сознавал, что сделать это будет непросто. Тетя Шура показалась мне еще красивей, чем прежде. Не знаю, из какого материала сшит был ее синий домашний халатик, но даже на вид он был мягкий и теплый, погладить хотелось. И только сейчас обратил я внимание, что он не длинный, как у мамы, а до колен. Я и ноги тети Шуры раньше не замечал, лишь теперь, когда уходила она с Наташкой, смотрел ей вслед и восхитился, какие они у нее стройные и тугие. И даже ее домашние тапочки показались мне необычайно мягкими и милыми, как раз для ее красивых смуглых ног. Аж головой затряс, чтобы отогнать от себя эти крамольные мысли, – скоро вернется тетя Шура и, едва взглянув на меня, распознает, о чем я тут без нее думал. Дал себе слово не смотреть на нее, не провоцировать себя, чего бы мне это ни стоило. Услышал ее легкие шаги, уткнулся в лежавшую передо мной книгу.
– Ну, как тебе живется? – непринужденно спросила тетя Шура. – Хорошо себя чувствуешь? В школе, дома всё в порядке?
– В порядке, – не отрывал я взгляда от книги. – Мама с папой на день рождения ушли, сказали, что поздно вернутся, чтобы я без них поужинал и спать ложился.
– Какие проблемы, – пожала она плечами, – ты уже парень взрослый, за ручку водить тебя не надо. Ну, так на чем мы в прошлый раз остановились?
Все было как всегда, но не укрылось от меня, что села тетя Шура чуть от меня подальше, чем обычно. На сантиметры какие-то, чтобы демонстративно не было, но все-таки подальше. И еще одна перемена во мне произошла. Раньше, хоть и сидели мы поближе, никакого запаха я от нее не чувствовал. А сейчас уловил. Только сказать бы не мог, какой он. Похоже было на запах моря, куда мы ездили летом. Когда солнышко уже припекает, галька нагрелась, а ветерок срывает пену с катящихся к берегу мелких зеленых волн, приплывших из тропической дали. И свежий запах этот меня тревожил, и я, как ни старался, соображал в тот вечер хуже, чем всегда, и боялся, что тетя Шура вдруг спросит, отчего это я сегодня такой невнимательный. А еще понять не мог, чего мне больше хочется – поскорей уйти или сидеть тут целую вечность, вдыхая этот восхитительный запах, видеть ее маленькую руку, когда касается страницы пальцем, и если скосить глаза – холмик вздувшегося на ее груди халата. Время тянулось бесконечно, время летело удручающе быстро. Пришла Наташка показать, что она там намалевала. Я совершенно искренне восхитился, какая она способная девочка, позавидовать можно. Мама тоже ее похвалила, спросила только, где же обещанные луговые цветочки.
– Коровки их съели, – вздохнула Наташка. – Жалко их, конечно, такие красивые, но ведь коровкам тоже кушать надо.
Тетя Шура расцеловала ее, назвала маленьким философом, и тут-то я по-настоящему Наташке позавидовал. Чего бы только ни отдал, чтобы оказаться сейчас на ее месте. Тетя Шура вдруг пристальней глянула на нее:
– Бледненькая ты какая-то сегодня… У тебя ничего не болит?
– Ничего, – ответила Наташка, – только спать хочется.
Ответ ее того больше обеспокоил маму, я тоже не припоминал, чтобы Наташка сама спать попросилась.
– Пойдем, – сказала тетя Шура, – умою тебя, потом уложу, температурку измерим. – И мне: – Ты пока дорешай этот пример, я потом проверю.
Я корпел над – как на зло! – не дающимся мне примером, ничего у меня не получалось. Тетя Шура закрылась с дочкой в Наташкиной комнате, оттуда слышался ее чуть распевный голос – похоже, рассказывала сказку. Я все-таки добил этот зловредный пример, ждал, чтобы тетя Шура посмотрела. Довольно долго ждал, неловко стало сидеть в комнате одному. Наконец она появилась, осторожно прикрыла за собой дверь.
– Уснула. Не нравится она мне сегодня. Температура вроде нормальная и не жалуется ни на что, но не по душе мне все это. – Подошла сзади, склонилась надо мной, показала пальцем: – А это у тебя какой знак?
Я ощутил, как макушки моей невзначай коснулась ее грудь, в глазах потемнело. Верней, не потемнело, а, наоборот, полыхнуло, словно огрели чем-то по башке. Чужой рукой, ужасаясь себе, медленно взял ее ослеплявшую меня руку, сжал ее пальцы. А потом произошло со мной и вовсе чудовищное – неожиданно заплакал. Заплакал – я, взрослый уже пацан, через год школу заканчивать. Слезы брызнули так внезапно, не успел сдержать их. Она молча потянула к себе свою руку, я, не выпуская, поднялся со стула, повернулся к ней. Она была одного со мной роста, глаза в глаза.
– Ну что? – еле слышно спросила она, не делая больше попытки высвободиться. – Что, дурачок? – Свободной рукой вытерла мне глаза. – Что тебе надо? Хочешь поцеловать меня, да? Очень тебе это нужно?
Я отчаянно кивнул головой.
– Ладно, я разрешаю, только не плачь. И не в губы, пожалуйста. – И подставила мне щеку.
Я не хотел целовать ее в губы, да и не осмелился бы, потянулся, закрыв глаза, губами к ее щеке, сомлел от счастья, коснувшись ее нежной кожи. Сразу отстранился, по-прежнему не размыкая век, силясь подольше сохранить, не растратить это сладостное ощущение.
– Никогда еще не целовался с девчонками? – услышал ее голос. Даже с закрытыми глазами догадался, что она улыбается.
Я молча помотал головой.
– А пора бы уже. – Теперь засмеялась. – Эх, ты, плакса ты моя.
Если бы еще мгновение назад сказали мне, что такое возможно, ушам бы своим не поверил. Она обвила мою шею руками, прильнула к моим губам. Я чуть сознания не лишился, но все же – сработал инстинкт – судорожно прижал ее к себе, ответил на поцелуй. И она не отпрянула, не оттолкнула меня, позволяла мне всё. А потом я услыхал, как вдруг часто, шумно она задышала, даже, почудилось, застонала тихонько. А я, соображая еще что-то, испуганно отклячил зад, чтобы до конца себя не выдать, не оскандалиться.
– Погоди, – вырвалась она. – Погоди, Васенька, немного. – Подбежала к выключателю, щелкнула им, комната рухнула во тьму. Но доставало уличного света, чтобы различить, как приставила сначала она стул к Наташкиной двери, как приблизилась к дивану, затем метнулась в сторону какая-то большая тень – неужели халат?! – вслед еще что-то, во что отказывался я поверить, она легла, охрипшим голосом сказала:
– Ну, иди сюда. Иди, скорей же!
И я, боясь, за целость моих тонких спортивных штанов, помчался на ее зов, сдирая их с себя на ходу. Запутался в штанине, едва не упал, полетела на пол футболка. Только трусы не снял, рука не поднялась. Навалился на нее сверху, шалея оттого, что все это сейчас принадлежит мне – едва различимое во тьме лицо, ее плечи, руки, ее волшебная грудь, что можно трогать их губами и руками, что мои они, мои, что вся она моя, поверить невозможно, что не бред это и не свих моего воспаленного ума, не продолжение того яростного сна, что все вдруг не пропадет, не исчезнет бесследно канувшей в мертвую гальку нахлынувшей морской волной… И она – о, чудо! – тоже обнимала и целовала меня, бормотала что-то невразумительное. Я, наверное, делал ей больно, потому что она стонать начала еще тяжелей, но когда я, совсем потеряв голову, изнемогая от рвущегося из меня желания, умудрился извернуться, стащить одной рукой трусы, она ласково шепнула мне на ухо:
– Подожди, Васенька, не торопись, полежи еще со мной, поцелуй меня. Все у нас с тобой будет, только не надо так суетливо…
Но я уже не мог не торопиться, чувствовал, что еще немного – и выплеснется из меня неодолимое желание. Требовательно, словно руководил мною кто-то невидимый, раздвинул ее ноги – и в это время заплакала за стеной Наташка…
Она сжалась вся, напряглась, а потом зло так, раздраженно бросила мне:
– Ну давай же, давай же, чего ты ждешь?
Я бы дал. И с какой бы радостью. Но весь мой пыл вдруг куда-то улетучился, весь запал исчез. Словно этот Наташкин плач выбил из меня все живое. Пропало все, поникло, и внутри, и снаружи. Попытался еще добиться чего-то, подергался, но лишь напрасно изводил себя. Тетя Шура пыталась помочь мне, но я от этого лишь еще больше запаниковал. И снова позорно заплакал. От обиды, от бессилия, оттого, что плакала за стеной Наташка. А тетя Шура сбросила меня, обозвала в сердцах щенком, накинула на себя халат и поспешила к дочери. А я оделся в темноте на ощупь, все еще всхлипывая, потащился домой…
Василий Максимович закурил новую сигарету, медленно выпустил длинную дымную струйку, проследил за ней, блекло улыбнулся:
– Вот такой, господа, антидекамерон…
– Занятно, – первым подал голос Корытко. – Здорово вы рассказали, у меня самого даже, признаться, как бы засвербило. А потом как вы с ней дальше были?
– А дальше я с ней хорошо был, – усмехнулся Кручинин. – Хорошо и долго, почти два года, пока она замуж за какого-то лысого хмыря не вышла и не переехала к нему. Женщина уникальная была, чего ни коснись. Горький говорил, что всем хорошим он обязан книгам, я бы мог переиначить, что я, например, – обязан ей. Не всем, понятно, обязан, но многим и многим. За одно могу ручаться: если бы не она, совсем другим человеком бы стал. Не знаю, лучше ли, хуже, – другим. И если бы каждому пацану в нужное время встретилась такая тетя Шура, у нас бы сейчас и жизнь в стране была другая – поумней и поздоровей…
– И что, – полюбопытствовал Корытко, – не прознали ваши родители, что вы, мальчишка, бегаете к великовозрастной соседке, не пощипала ей мама волосы на голове?
– Представьте себе, никто ничего не узнал. Шурочка моя позаботилась.
– А Нина? – спросила Лиля. – С Ниной потом как?
– А Нина была моей первой женой, – расплылся в улыбке Кручинин. – Прожили мы с ней, правда, недолго. Как говорится, характерами не сошлись. И вообще, доложу вам, Нина эта после Шурочки… Но это уже не честно, мы так не договаривались – всю автобиографию выкладывать. К тому же, я вижу, Льву Михайловичу не терпится порадовать нас своей грандиозной историей. – Вернулся на диван к Лиле, пародируя захудалого конферансье, указал на покинутое кресло: – Оно вас ждет, маэстро, а мы сгораем от нетерпения…
4
Лев Михайлович пребывал в легкой растерянности. Поддержав сомнительную идею Кручинина признаваться в случавшихся любовных неудачах и вызвавшись даже стать вторым после него рассказчиком, преследовал он, если откровенно, собственные цели. Проснулось вдруг давно позабытое, но некогда очень сильное желание постичь, отчего все-таки Лиля тогда сбежала. Рассказать о том незадавшемся свидании в Мишкиной квартире, не называя, конечно, имени своей избранницы, посмотреть, как Лиля сейчас будет на это реагировать. Ведь вся чертовщина в том, что она – сомнений не было – хотела же отдаться ему, для того и пришла. Раньше него пришла, ждала. Сама разделась, сама предложила себя ему. Это не случай с Кручининым, когда зрелая, но одинокая и давно не имевшая близости с мужчиной женщина после будто бы невинного, материнского поцелуя настолько возбудилась, что пренебрегла даже плакавшей за стеной дочкой. У Лили не было никакой спонтанности, никакого гормонального всплеска. А если и был такой всплеск, то не с отрицательным зарядом, чтобы сбежать в последний момент. Было там что-то другое, не подвластное разумению. И было это поразительно настолько же, насколько сейчас, через пропасть лет, неодолимо захотелось ему узнать, что произошло тогда. Отчего-то уверился, что она, выслушав его и всё правильно оценив, решится хоть сейчас пролить на это свет – тоже так, чтобы никто, кроме них двоих, не догадался, о ком идет речь. И почему сбежала она вторично, из отделения, не пожелав даже попрощаться с ним. В конце концов, если не захотела встретиться, могла ведь позвонить ему, попытаться объяснить что-то, не оставлять в дураках. И слушая Кручинина, прикидывал, как бы все это половчей преподнести. Не дать, во всяком случае, понять Лиле, напропалую кокетничавшей с Кручининым, как был он тогда уязвлен и обескуражен. И что долго еще страдал, да, да, страдал, не мог выбросить из головы девчонку, в которую вдруг влюбился без памяти…
Впрочем, к рассказанному Кручининым он равнодушным не остался. Удивило также странное совпадение: тому накануне любовной встречи тоже, оказывается, приснился эротический сон, участницей которого был объект вожделения. А еще появились сомнения, сумеет ли он изложить свою историю так же связно и увлекательно. Тягаться с Кручининым, понимал, будет сложновато, однако не хотелось, чтобы все, Лиля прежде всего, ощутили эту разницу. Были и другие проблемы, небезразличные при его нынешнем статусе главного врача и областного анестезиолога, – не в доверенном же кругу близких друзей сейчас находится. Не надо бы им знать, что он, пусть даже двадцать лет назад, приставал к юной сестричке. Еще и при Борьке Хазине, прекрасно знавшем Настю и в доме у них бывавшем. Повеса Кручинин ничуть свое реноме не уронил, поведав о своей мальчишеской любви. Дать им все понять, что сорвалось у него свидание где-нибудь в другом месте, не в своей больнице? Но как тогда Лиля поймет, что речь идет о ней? Или, еще хуже, подумает, что для него соблазнение девочек-сестричек привычное дело. Как-то не подумал об этом раньше, лишь когда Кручинин указал ему на «авторское» кресло, в голову пришло. Но не отнекиваться же теперь, тем более что сам чуть ли не подстрекателем этой затеи выступил. Лиля тоже согласится пооткровенничать? Обязана ведь, не рискнет остальных в дураках оставить, не та компания. Может быть, она-то как раз сейчас…
Ни к какому итогу не придя, Дегтярев пересек комнату, уселся в кресло, ритуально, как перед тем Кручинин, закурил, выгадывая лишние секунды, чтобы остановиться на чем-то. И в последний момент решил, что не станет изворачиваться. Что было, то было, красит его это или не красит, и не им судить его, он сам себе судья. Не называя, понятно, Лилиного имени. А она должна все понять как нужно, всегда смышленая была. Щелкнул зажигалкой, сделал первую затяжку, взглянул на Лилю – и едва не поперхнулся застрявшим в горле дымом. Она тоже смотрела на него, и глаза ее смеялись. Нехорошо смеялись, с подначкой. Будто предугадывала она, о чем он заговорит, заранее изготовилась потешиться. Возможно, вовсе не ему эта насмешливость предназначалась – Кручинин как раз шептал ей что-то на ухо, но удар получился чувствительным. Времени на раздумье совсем не осталось, но он знал уже, что не заговорит о ней. Хватит с него той пощечины двадцатилетней давности. Тогда что же?… Лариса? Да, конечно же Лариса, лучше не придумать и не вспомнить. Милая Лариса, первая его настоящая врачебная победа, первое поражение. Если можно это назвать поражением. И пусть простит она его, если каким-либо чудодейственным образом узнает, что рассказывал он здесь о ней. Но она не узнает, чуда не свершится – бездна километров между ними, бездна лет. И неизвестно, жива ли она вообще, как жизнь ее сложилась. Он, уехав из Ольгинской, так ни разу не позвонил и не написал ей, хоть и обещал. А она не смогла бы это сделать, даже если б захотела – адреса ей не оставил. И как давно не вспоминал он о ней… Почему не вспоминал? Почему вдруг сейчас вспомнил, вынырнула неожиданно из каких-то замшелых тайников памяти?…
– Алло, маэстро, вы там часом не заснули? – хохотнул Кручинин. – Или, мильпардон, столько у вас было этих неприятностей, что не знаете, какую выбрать?
– Шутка не самая удачная, – поморщился Дегтярев, ощутив прилив еще большей неприязни к нему. И с тем же неудовольствием сознавшись себе, что наверняка связано это с приставаниями Кручинина к Лиле. – Просто затрудняюсь я, с чего начать.
– С вашего начала, конечно, а не, опять же пардон, с конца, тем паче при дамах!
Каламбур имел успех, даже потускневший Хазин усмехнулся.
– Ну, если с начала, – бровью не повел Дегтярев, – то распределили меня после окончания института в распоряжение министерства путей сообщения, в Ольгинскую. Есть такая станция на Восточно-Сибирской железной дороге. Я хирургией хотел заниматься, предложили мне на выбор – или сельскую больничку на отшибе в области, или эту самую железную дорогу. Я еще холостой был, на подъем легкий, решил белый свет посмотреть, интересно было. Существовала, правда, еще одна причина. С Настей своей я только женихался, и очень непросто складывались у нас отношения: то пропадали друг без друга, расстаться не могли, то ссорились, расходились. Вот я и решил испытать – и себя, и Настю. В такой дали. Горько пожалел об этом, когда еще поезд мой не тронулся, и Настя – ей год доучиваться оставалось – перрон слезами заливала и цеплялась за меня, да поздно спохватился. А добираться трое суток, было время покопаться в себе…
Между прочим, до сих пор Ольгинскую с благодарностью вспоминаю. Вот Василий Максимович почти всем хорошим в себе тете Шуре обязан, а я, может быть, этой Ольгинской. И не только за то, что врачеванию меня научила. Прибыл туда лопоухим неумехой в розовых очках, еще и с самомнением таким. Великий хирург, староста студенческого хирургического кружка, на последнем курсе доверили мне один аппендицит и две грыжи самостоятельно сделать. И это говорится только – «самостоятельно», наш куратор мне ассистировал, бдел. Там же, совпало так, и на анестезиолога выучился – я об анестезиологии никогда и думать не думал. Просто единственный ольгинский уехал перед моим приездом, меня к этому делу и подключили, в Красноярск на учебу послали. Совмещал с хирургией. Потом, когда в город вернулся, работу мог бы и не найти – хирургов везде полна коробочка, анестезиологи же всегда дефицит.
Но это уже вернувшись, понял я, что благодарить нужно за науку далекую сибирскую станцию, хоть и вечностью мне те два года показались. А выйдя в Ольгинской из вагона, совсем приуныл. Не знаю, какая она сейчас, без малого сорок лет прошло, но тогда… Один захолустный вокзал чего стоил. Разузнал я у аборигена, где железнодорожная больница, подхватил свой чемодан – и поплелся. Пылища, зной – не думал я, что в Сибири так жарко бывает, – все дома деревянные, допотопные, иду-иду, проклинаю все на свете – нет больницы. Закралось даже подозрение, что подшутил надо мной, олухом приезжим, нехороший мужик, не в ту сторону послал. Спросил у тетки, где больница, та ответила, что прошел уже, в обратную сторону послала. Вернулся, увидел табличку, на которую раньше внимания не обратил. Я ведь уверен был, что больница, даже в этом маленьком городишке, должна быть обязательно каменная, приличная. А тут во дворе за оградой приземистые бревенчатые домики стоят: поликлиника, хирургическое отделение, терапевтические, все прочие службы. Еще я почему-то думал, что мне, молодому спецу, осчастливившему их прибытием из такого далека, сразу же дадут жилье, позаботятся обо мне. Не тут-то было – поселили меня в общежитии для машинистов и помощников, а их в комнате, кроме меня, еще пятеро. Прелесть была и в том, что жили мои соседи в соответствии с графиком движения поездов – кому рано утром на смену, кому в ночь. Вставали, шумели, будили меня. И еще одна радость: общежитие близко к железной дороге стояло, гудки бесконечные, переговоры по громкому радио. Я потом немного пообвык, а первые месяцы спать невозможно было. Правда, после Нового года подфартило мне, сбежал очередной присланный сюда молодой специалист, гинеколог, я в его квартиру вселился. В нормальной пятиэтажке, рай после общежития – своя комната, паровое отопление, туалет, жить бы да радоваться. Я бы и радовался, если бы не тосковал так по дому, по Насте. Мы с Настей каждый день друг другу письма писали, но письма что – увидеться хотелось, поговорить, голос ее услышать. Усугубляло все это, что близкими друзьями я не обзавелся, вечера в большинстве коротал в одиночестве. В Ольгинской даже телевидения еще не было, хорошо хоть библиотека неплохая. Немалую роль играло, что к выпивке я равнодушен был, в собутыльники не годился, а «насухо» общаться там плохо умели.
Впрочем, особо скучать не приходилось. Если откровенно, то по-настоящему, на всю катушку, вкалывал я только в Ольгинской. Очень уж местечко было неспокойное. Опять же не знаю, как сейчас, а тогда почти весь Енисей до самого Ледовитого океана в колючей проволоке был. Зона «Краслага». Мне потом нередко доводилось выезжать с врачебной бригадой в лагеря, прием вести, такого навидался и наслушался – на всю оставшуюся жизнь. Но я сейчас не об этом. Много в Ольгинской жило бывших «зэков». По каким-либо причинам не возвращались домой, оседали там, семьями обзаводились. Мужики почти все охотники, в каждом доме ружье. Пили они сильно, и не водку даже – самогон убийственный гнали. Мне эту бурую пакость довелось попробовать. Вкус и запах отвратительные, зато крепости необычайной. И не столько даже от него пьянели, сколько дурели. Народец лихой, налижутся – и отношения выяснять. Добро бы только кулаками, а то ведь и за стволы хватаются.
Но если бы только это. В каждом дворе мотоцикл. Парень без мотоцикла неполноценным считался. Примут на грудь – и носятся, сломя голову, в прямом и переносном смысле слова. В темноте это вообще гиблое дело, а освещение да пути-дороги там те еще, ухаб на рытвине. Так что работы хирургам хватало, по самое не могу. Я там за два года столько травм и увечий перевидел, сколько в большом городе не наберется. Ну, и болезней всяких с избытком хватало, район чего ни коснись неблагополучный, вода ржавая. Одним словом, было куда руки приложить. У меня, как у тех машинистов, день с ночью порой мешались. Оперировали чуть ли не каждый день. Придешь домой с работы, только расслабишься – уже в дверь прибежавшая санитарка стучит: Лев Михайлович, больного привезли, зовут вас…
И повезло мне, было у кого поучиться. Заведовал нашим отделением толковый хирург, Юра Рудницкий, молодой еще, местный уроженец, что называется, самородок. Удивительная вещь – бирюк бирюком, интеллектуально дремучий, ни одной, кроме медицинской, книжки, наверное, в жизни не прочитал, чувство юмора как у павиана, но хирург от Бога. Такие сложные операции делал – не всякому маститому хирургу под силу, руки просто золотые. Натаскал он меня за два года порядочно, за это прежде всего и благодарен я Ольгинской.
Зато с деньгами у меня проблемы были. Работал на две ставки, но как врачам платят, не мне вам рассказывать. К тому же теплую одежду пришлось покупать, даже валенки – зима там долгая, злая. Столовая, правда, была сносная и дешевая, к тому же, не стану греха таить, в отделении своем частенько обедами подкармливался, так принято было, но денег все равно удручающе не хватало. Потому что много тратил на телефон. Едва ли не каждую неделю бегал на телефонную станцию, заказывал разговоры с Настей. Старался сразу же после работы, чтобы на ночь ей не приходилось – четыре часа разница во времени. Меня там все уже знали, а с одной девушкой, у которой в окошке заказ делал, я даже познакомился. И если не занята она была, калякали мы с ней в ожидании, когда соединят меня. Ларисой ее звали, славная девушка, настоящая русская красавица – светловолосая, сероглазая, еще и коса у нее толстенная, нынче таких и не встретишь.
Мы, больничные хирурги, – нас четверо было – не только стационарных больных вели, еще и в поликлинике принимали, менялись по очереди. Меня, если операция предстояла под общим наркозом, с приема снимали. И вот однажды, как раз моя поликлиническая очередь была, является ко мне утром на прием Лариса. Я тогда уже больше года отработал, кое-чему научился. Увидел ее – и сразу понял, что беда с ней приключилась. Бледная, осунувшаяся, темные круги под глазами. Пожаловалась, что живот у нее болит. С вечера прихватило, еле сил достало утра дождаться. И таблетки, сказала, пила, и грелку прикладывала, только легче не становилось, отравилась, наверное. Я Ларису на кушетку уложил и, еще живота ее не коснувшись, понял, что там катастрофа. А когда пальпировать начал, и она зубами от боли скрипела, окончательно удостоверился, что плохи дела – все признаки начавшегося перитонита. Скорей всего, прободная язва желудка, но в любом случае оперировать срочно нужно. Удивило, что сил у нее хватило своими ногами до больницы добраться. Отправил ее на каталке в стационар, позвонил Сапееву, что сейчас привезут к нему больную с подозрением на прободение, пусть операционную готовят. Сапеева извещал потому, что Рудницкого в Ольгинской не было, уехал на ту беду в Красноярск на аттестацию.
Голос Сапеева не понравился мне. Мужик он был неплохой и хирург не последний, но страдал извечным российским пороком – пил по-черному. Не однажды Рудницкий его выпроваживал из отделения, не допускал к работе. Случались у него и светлые промежутки, с месяц держался, а затем снова пускался во все тяжкие. Судя по голосу его, как раз темная полоса и подоспела. Худшие опасения мои сбылись, вскоре позвонил Коля, попросил меня поскорей прийти. Я все понял, оставил прием, поспешил в отделение. Коля был нашим четверым хирургом, но таковым пока только значился, потому что прибыл к нам всего пару месяцев назад, прямо со студенческой скамьи. И если я, приехав сюда, уже кое-что умел, то он, как шутят у нас, был вообще хирургически стерилен.
Сапеев меня встретил блаженной улыбкой, сказал, что в желудке у Ларисы точно дырка, и анализы подтвердили, сейчас он ее заштопает за милую душу, все в лучшем виде сделает. Что в лучшем виде ничего у него не получится, я осознал, лишь войдя в ординаторскую, почуяв прущий от него сивушный запах. И эта улыбка… Он был не с похмелья, что зачастую не мешало ему худо-бедно делать свою работу, он был пьян. И я запаниковал. Что нельзя его к операционному столу подпускать, сомнений не вызывало. Оттягивать же Ларисину операцию даже на лишние минуты было опасно. А я ни разу еще один на желудок не замахивался, Рудницкий пока не давал мне, хоть и ассистировал ему не раз, ход операции знал прилично. Если, как выразился Сапеев, придется «штопать» перфоративное отверстие, еще куда ни шло, сумею, наверное. Но если ушить язву не удастся, придется делать резекцию желудка, а это совсем другой класс хирургии, могу и не справиться; и страшно подумать, что будет тогда. Но и это не всё. Общий наркоз дать некому. Кроме меня, в больнице им только Рудницкий владел. Придется оперировать под местной анестезией, что многократно все усложняло. И я рискнул. Рискнул, потому что выбирать не приходилось. Сапеева даже помогать себе не позвал, остался вдвоем с Колей, держащим крючки. Сапеев, кстати, и не заглянул в операционную, вообще ушел в поликлинику. Для того, вероятно, – нехорошо подумал я о нем, – чтобы потом ни за что не отвечать. Как ни пьян был, но на это тяму хватило…
Оперировал я Ларису долго и трудно, потел, как в парной. Новокаина не жалел, чтобы она поменьше мучилась. Санитарка на всякий случай раскрытый оперативный атлас передо мной держала, но я в него не заглядывал – руки, что бывает порой в хирургии, умней головы оказались. И снова мне повезло, удалось ушить отверстие, резекция не понадобилась. Сработал неплохо, надежно, сам почувствовал. Когда заканчивал уже, позволил себе даже шутить с Ларисой, подбадривать ее. И горд и счастлив был так, словно операцию на сердце сделал. Сыщется ли кто-нибудь из моих однокашников, кто бы через год один на один с желудком разобрался?…
А Лариса молодчина, держалась очень мужественно – если стонала подчас, то старалась это делать негромко, без воплей. Больше двух часов терпела, а я ведь знал, как это больно, сколько новокаина ни вводи. Я, когда все закончилось, готов был расцеловать ее. Положил ее в свою палату, без конца наведывался к ней, узнавал, как дела. Коля даже подтрунивал надо мной – мол, не только как своей больной интересуюсь ею. И, между прочим, не так уж был далек от истины. Нравилась она мне, как не может не нравиться молодому, страдающему от одиночества парню красивая, статная девушка. Она и не глупа была – убедился, еще беседуя с ней через почтовое окошко. Я бы, может, и до этой прободной язвы погусарил немного с ней, если бы не была она свидетельницей тому, как маюсь я в ожидании, а потом нежно курлычу в телефонной кабинке. Совсем уж пошло выглядело бы. И девяносто девять из ста, что подслушивала она мои с Настей беседы. Такова уж природа женская, а я ведь в Ольгинской заметной личностью был – врач, да еще холостой, для маленького городка целое событие. И я тоже чувствовал, что симпатичен ей, не бином Ньютона.
Щекотливость наших отношений была еще и в том, что мне по долгу службы приходилось видеть Ларису обнаженной. Когда сердце и легкие выслушивал ей, когда перевязывал. И в полном моем распоряжении было ее тело, молочно белое, с тяжелой наливной грудью. Был бы я последним маразматиком, если бы не оценил ее достоинства, не залюбовался, а то и мысли греховные не закрадывались бы. Телефонной Настиной любви маловато мне было, в те мои-то лета. Но шашни я в Ольгинской ни с кем не заводил, хотя возможностей было выше крыши – я там самым завидным женихом считался. Одних смазливых сестричек в больнице с десяток набралось бы, но я ни с одной из них не связывался. Не только потому, что беспардонный Рудницкий предупредил меня в первые же дни после моего приезда, чтобы я у него в отделении бардак, как он выразился, не устраивал. Ни одна мне так, чтобы захотелось встречаться с ней, не понравилась, а на стороне я почти никого не знал – работы много, мало где бывал. Вообще небезопасно было заводить здесь любовницу – во-первых, об этом на следующее же утро вся Ольгинская узнала бы, а во-вторых, размениваться не хотелось. Вот разве что с Ларисой ближе познакомился бы с удовольствием, по сердцу пришлась. Уж не знаю, насколько ближе, но тянуло к ней. И с Настей моей это как-то не пересекалось, в разных плоскостях лежало.
Возможно, и сошлись бы мы с ней, если бы не еще одно обстоятельство. В конце лета ездил я в отпуск домой, две недели мы с Настей отдыхали в Крыму, в прекрасном Симеизе. Сняли комнатку недалеко от моря, эти две недели пребыванием в Эдеме нам казались. И созрел плод в этой райском саду, Настя забеременела. Узнал я об этом, естественно, когда вернулся уже в Ольгинскую. Не знал, радоваться мне или печалиться, здесь, за тысячи верст от нее. Но в любом случае куролесить тут, когда Настя, по сути жена моя, вынашивает моего ребенка, виделось непристойным. А для Ларисы не было тайной, что я скоро стану отцом, я ей об этом сам, выпорхнув из телефонной кабинки, поведал.
Но слаб, слаб человек; я, честно признаться, заходя к ней в палату, чтобы осмотреть, предвкушал ждущее меня удовольствие. Хоть и внушал нам когда-то наш студенческий куратор, что врач, посмотревший на своего больного с вожделением, звания своего не достоин, сомневаюсь, что все мы, и я в том числе, сделали это жизненным кредо. Хоть посмотреть лишний раз на Ларису, хоть полюбоваться, хоть за руку подержать, считая пульс. Гормоны-то разуму непослушные играют, как себя ни настраивай, как ни блюди. Тем хуже мне приходилось, что и Лариса, я же видел, тоже дождаться не могла моего прихода. Видел я, как светились ее глаза, как волновалась, краснела. У нее даже голос менялся, когда со мной разговаривала. Я ведь теперь для нее был не только симпатичным ей парнем, но и спасителем, избавителем. Для женщины это особое искушение, тоже рассудку неподвластное, на том от сотворения мира Земля держится. И что я вижу ее каждый день обнаженной, о чем кому-либо другому лишь мечтать можно, что право имею трогать ее, будоражило еще больше. Мы с ней словно заключили негласный союз: да, оба мы знаем, что есть грань между нами, которую переходить нельзя, да, никогда не быть нам вместе, но пусть хоть такими будут наши любовные свидания, и что любовные они, только мы вдвоем с ней знали…
Послеоперационный период, слава Богу, прошел у Ларисы гладко, без осложнений, выписалась она в положенное время, пришла ко мне в ординаторскую прощаться, букет огромный принесла. Коля, который в кабинете был, вышел, оставив нас одних. Еще и, провокатор, мне подмигнул незаметно. Она – сама, как розы в ее букете пунцовая, подошла ко мне, вручила цветы, залепетала слова признательности. Я учтиво стою перед ней, штампованно отвечаю, что не стоит благодарности, рад был помочь ей. Смотрим друг на друга – и оба понимаем, что вовсе не о том мы говорим, от другом думаем. Больше всего о том, что вот сейчас уйдет она – и закончатся наши свидания, видеться сможем только через дырку в перегородке. И то не скоро еще, когда на работу она выйдет. Лариса все сказала, я все сказал, стоим мы друг перед другом, не знаем, что дальше делать. Потом оба шагнули навстречу и поцеловались. Нескладно получилось, я перед собой букет держал, помешал он нам. Да и поцелуй какой-то неловкий получился, словно никому из нас раньше целоваться не приходилось, еще и носы помешали. Ткнулись мы вытянутыми губами, потом Лариса повернулась и к двери побежала. А я сел за стол и подумал, что нет худа без добра. Хорошо, что она выписалась, не буду себе больше голову морочить, нормально жить и работать стану…
Прошло три дня, я уже успокоился, Лариса мысли не загружала, делал я утренний обход – и заглядывает в палату сестра, говорит, что зовут меня к телефону. Иду я в ординаторскую, беру ждущую меня трубку – она, Лариса. Сбивчиво извиняется, что беспокоит меня, посоветоваться хочет. Боли у нее в животе появились, не знает, как поступить, – может быть, лекарство какое-то принять надо или просто грелку? Встревожило меня это, спрашиваю, в состоянии ли она прийти в больницу. Отвечает, что, наверное, в состоянии, только больно очень. День, к счастью, не операционный был, сказал я, что сейчас я сам к ней приду, пусть адрес свой сообщит. Она сначала отнекивалась, неудобно-де ей и не смеет она, потом все-таки согласилась – утешила, что от больницы недалеко живет, за десять минут доберусь. Объяснил я все Рудницкому, отпросился и заторопился к ней.
Жила она в самом деле близко, быстро добрался. Открыл калитку, в дверь ее позвонил. Отворила она мне сама, дома никого не оказалось. И я сразу обратил внимание, что она, хоть и дома на больничном, глаза и губы подкрасила, а коса на груди, когда увидела она меня, прямо-таки ходуном заходила. Но я это просто краешком глаза отметил, не до того было. Разделся, пошел вслед за ней в комнату. Она легла на застеленную кровать – и смотрит на меня жалобно. Стал я ее расспрашивать, где да как болит, не съела ли чего подозрительного, язык обозрел, пульс пощупал – вроде бы ничего страшного.
– Расстегнитесь, – говорю, – я живот посмотрю.
Распахнула она халат – а под ним только трусики узкие. И марлевая нашлепка на животе, еще не снятая. Я отклеивать ее не стал в таких условиях, вокруг нее пальцами подавил – живот мягкий, опасений не вызывает, хоть и кривилась она, когда я поглубже трогал.
– Так где все-таки болит? – спрашиваю.
А у нее глаза уже до краев слезами наполнились, показывает пальцем на сердце и носом шмыгает:
– Вот здесь у меня болит, Лев Михайлович…
Тут уж круглым идиотом надо было быть, чтобы не понять, что прикидывается она, выдумала все, чтобы заманить меня к себе. С одной стороны, что там говорить, польстило мне это, но с другой подосадовал на нее: ну, если бы вечером она это придумала, планы какие-то вынашивала, тогда бы еще куда ни шло. Но с работы срывать, знает ведь, что не прохлаждаюсь я там… Сижу возле нее на кровати, гляжу на ее мокрые глаза, спрашиваю напрямую:
– Зачем вы это сделали?
И слышу в ответ, что так ей вдруг меня увидеть захотелось, что совладать с собой не смогла, позвонила. Я, конечно, волен теперь презирать ее за это, но все же надеется она, что правильно ее пойму, не стану на нее сердиться. Потому что иначе никогда не простит она себе. Такое вот любовное признание с оголенной грудью и марлевым прямоугольником на животе.
– В самом деле вот здесь тяжко мне, Лев Михайлович. – Взяла мою руку, приложила к левой груди, своей рукой сверху придержала, чтобы не отдернул, тоненько попросила: – Посидите немного со мной, пожалуйста, не уходите.
У меня в голове мешанина какая-то; испытание, должен сказать, не для слабонервных, когда такая деваха твою ладонь к своей теплой груди притискивает, а грудь такая, что сам Рубенс поахал бы. Я еще ничего ответить не успел, а ладонь моя уже сжала ее, словно рука отдельно от меня жила. И от этого ощущения кровь не только к голове вмиг прилила, а Лариса тут же, времени не тратя, другой рукой обхватила меня за шею, притянула к себе, целовать начала. Губы – как огонь. Хотел бы я посмотреть на нормального мужчину, который бы отбиваться, вырываться стал. Единственное, что не позволил я себе – сам не разделся и до логического завершения процесс не довел. Все-таки до конца из врачебного образа своего не вышел, хоть и распирало меня желание до невозможности. Не последнюю роль сыграло, что со дня операции две недели всего прошло, повязка на ее животе – как меч между Тристаном и Изольдой…
И стали мы с ней встречаться. Никого тем не удивили. Что необычного в том, если холостые парень и девушка понравились друг другу, вместе время проводят? Больничному начальству даже выгоден был наш роман – вдруг женюсь я на Ларисе, останусь в Ольгинской. Проверенный способ удержать в захолустье приехавшего молодого врача – так, например, когда-то москвич Сапеев здесь осел. Не всем, конечно, наша любовь по нраву пришлась, некоторые сестры и одна молодая докторица из терапии виды на меня имели. Докторица так вообще напропалую заигрывала со мной, разве что в открытую себя не предлагала. Она-то и насплетничала мне, что Лариса, оказывается, замужем побывала. Выскочила, когда ей только семнадцать исполнилось, да недолго женой побыла – муж ее, шофер, два года назад в аварии насмерть разбился. Интересно, что Лариса никогда мне об этом не рассказывала, а я, узнав, делал вид, будто ничего о том не ведаю. Хоть и по-мальчишески обидно мне было, что замужем Лариса побывала, какой-то не такой светлой для меня стала она со своими серыми глазами и девичьей косой.
Но имела эта новость и свои положительные оттенки – на Ларисину девственность я бы уже не посягнул, такая проблема могла меня не беспокоить. Что для меня, залетной птахи, тоже было немаловажно – не чужим, не случайным для меня сделалась она человеком. Тем не менее складывались наши отношения странновато для двоих, едва не совокупившихся в первый же день, когда остались наедине. Я к ней в дом не заходил, не манило общаться с ее родителями. И с ее старшим братом, тоже шофером – видел его однажды, – здоровенным чубатым парнем. Но и к себе Ларису не приглашал, а она, что так же любопытно, в гости ко мне не напрашивалась. То ли покорно ждала, когда я сам позову ее, то ли уверилась, что никуда я от нее не денусь, не форсировала события. Она уже приступила к работе, встречались мы, когда у обоих такая возможность появлялась. В кино иногда ходили, по воскресеньям с утра забирались куда-нибудь подальше от людских глаз. Май уже настал, весна в том году была очень ранняя, на тепло не поскупилась.
А весна сибирская, должен сказать вам, это нечто. Красотища неописуемая. Тайга не тайга, но через полчаса всего можно было оказаться на опушке былинного леса, с гигантскими соснами, кедрами, с дремучими зарослями; идешь по едва приметной тропинке, как по сказочному королевству, на полянку вдруг набредешь – дух захватывает. Там у них такие цветы растут, жарками называются, нигде их никогда больше не встречал. Названию своему соответствуют – просто маленькие раскаленные солнышки. Горят в молодой зеленой траве – глаз не оторвать. Ну, мы с Ларисой, конечно, не только гуляли и восхищались, было и чем другим заняться. Особенно, когда она пальто на легкую курточку сменила. Вот тогда-то я, сам до предела накалившийся, и давал себе слово, что уж завтра или даже сегодня же непременно затащу ее к себе домой. Но всякий раз мешало что-нибудь – то меня в больницу звали, то у нее вечерняя смена была, точно специально кто-то терпение наше испытывал. Надо сказать, что звонить Насте я бегал по-прежнему, отношение к ней не изменилось. И жалуясь, как скучаю по ней, как волнуюсь за нее и нашего ребенка, предателем себя не чувствовал. Говорил уже, что как-то не пересекалась тяга моя к Насте, обитавшей так далеко от меня, с тем, что было у меня с Ларисой, до которой рукой подать, в самом прямом значении этого слова. Но все-таки ощущение было не из простых. Хоть и взял я с Ларисы клятву, что не будет она подслушивать мои с Настей разговоры, все равно осадок держался. Говорить нежные слова одной своей женщине, зная, что другая может их услышать – хуже не придумать. А Настя скоро должна была родить, и Лариса, проведя нехитрые арифметические подсчеты, знала, конечно же, об этом. Надо отдать ей должное – ни разу не заговорила со мной о ребенке. Понимала ведь, что, если не захочу я, чтобы мой ребенок рос без отца, должен буду покинуть и Ольгинскую, и, само собой, ее тоже.
Недели три длились мои ничем не заканчивавшиеся гуляния с Ларисой, и я, изведенный этими мученическими свиданиями, полностью созрел для последнего шага. Даже перезрел. Было воскресенье, но Лариса работала, ее смена до пяти длилась. Договорились мы с ней, что встречу ее после работы. И я, дожидаясь этих пяти, твердо решил уже, что поведу ее к себе. Заранее бутылку вина купил и торт, постель перестелил, чтобы все пристойно было. А без двадцати четыре заявился почтальон, принес мне телеграмму. Настина мама сообщала, что Настя родила девочку…
Лариса вышла, и сразу же, едва взглянув на меня, поняла: случилось что-то из ряда вон. Догадалась мгновенно:
– Настя родила?
– Девочку, – ответил я.
Несколько секунд она молчала, потом сумела улыбнуться:
– Что ж, поздравляю тебя, папочка. Надо бы это событие отметить.
– У меня уже все приготовлено, – изобразил улыбку и я. – Пойдем ко мне.
Лариса, пока дошли мы, была необычно весела и говорлива, и я не мог понять, хочет она показать, будто ни по чем ей рождение моей дочки, или связано это с тем, что идем ко мне. Осмотрела она все уголки моего убого жилища – подержанные кровать, шкаф, стол, стулья, посуду мне по бедности дала напрокат больница, – похвалила, что чистенько у меня. Увидев на кухне приготовленный для празднования стол, признательно мне улыбнулась.
Я откупорил бутылку, разлил вино по стаканам:
– Давай, Лариса, отметим появление на Земле еще одного человечка.
Она коснулась своим стаканом моего, обошлась одним словом:
– Давай.
Выпили мы, и я тут же вновь подлил в стаканы, чтобы раскрепощенней себя чувствовать, глянул на нее:
– А теперь за что выпьем?
– А теперь за нас, – ответила. – Тоже за человечков на Земле. – Легко, быстро, как воду, проглотила вино и с такой сосредоточенностью принялась за лежавший перед ней на блюдце торт, словно ничто большее не занимало ее.
И я пожалел, что купил всего одну бутылку. По многим причинам пожалел. Лариса облизала ложку, вдруг рассмеялась:
– Да не заводись ты, все нормально. Что должно было случиться, то и случилось. – Встала – и начала расплетать косу.
Волосы у нее были замечательные, и когда русым водопадом низверглись они на ее плечи, грудь, обволокли ее всю до самого пояса, залюбовался я.
– Ну вот, – сказала она. – Теперь всё. Не думай больше ни о чем. – И протянула мне руку.
Взял я Ларису за руку и повел в комнату. И мы не торопились, не набрасывались друг на друга, как в том же лесу, когда пристраивались на каком-нибудь поваленном дереве. Раздевались оба привычно, размеренно, как долго прожившие вместе супруги перед сном. Было совсем еще светло, и я вдруг не узнал Ларису, которую столько раз видел обнаженной. Стояла перед мной другая женщина – никаким хворям не подвластная, с крепкой грудью, с крепкими, стерегущими заветное лоно бедрами, созданная природой, чтобы не угасала жизнь на планете. И в этих щедрых, длинных, разметавшихся волосах было что-то диковатое, первозданное. Тряхнула необузданной гривой, блеснула влажными зубами:
– Полюби меня, Лёвушка.
Как же было не полюбить ее? Откинул одеяло, подхватил ее на руки, бережно, как хрупкую драгоценность, опустил на кровать. И обнялись мы так, будто страшились, что кто-нибудь из нас вдруг фантастически сейчас пропадет, исчезнет. Желание во мне нарастало с каждым мигом; я провел ладонью по ее губам, груди, затем рука моя сползла на живот – и тут пальцы мои наткнулись на что-то ребристое, шероховатое. Это был ее послеоперационный шрам, совсем еще свежий. Края кожи, которые, смазанные йодом, я недавно сшивал кривой колючей иглой. А потом отрезал ножницами торчащие хвостики ниток. И сразу все пропало. Напрочь. А она ничего не говорила и не шевелилась – ждала. Ждала, не пытаясь изменить что-то. А я уже ничего не ждал, молча оставил ее и начал одеваться. Она полежала еще с минуту, закрыв глаза, тоже оделась и, так и не сказав мне ни слова, ушла, бесшумно прикрыв за собой дверь…
Дегтярев, подражая Кручинину, тоже снова, теперь уже финально, закурил, только не стал, как тот, улыбаться – защелкал без надобности зажигалкой, глядя, как то возникает, то пропадает маленькое желтое пламя.
– А после что? – спросила Кузьминична.
– А после, – вздохнул он, – поехал я в свою врачебно-санитарную службу добиваться, чтобы разрешили мне уехать из Ольгинской в связи с рождением ребенка. Шансов у меня почти не было, потому что необходимые три года я не отработал, а с Настей мы не были расписаны. Но будущий тесть мой был человек с большими возможностями, нажал на нужные рычаги – через месяц навсегда распрощался я с Ольгинской.
– И так больше с Ларисой и не увиделись? – посокрушалась Кузьминична.
– Увиделся, перед самым отъездом. Но до этого на работе у нее не показывался, даже звонил из домашнего телефона Сапеева, Лариса тоже не напоминала о себе. Но все-таки пришла на вокзал проводить меня, еды в дорогу принесла…
Дегтярев опять уткнулся взглядом в зажигалку. Потому что соврал им. С Ларисой действительно перед отъездом виделся. Но сначала не на вокзале, а у себя дома. В Ольгинской какие тайны? – все знали, почему и когда отбывает очередной прибывший сюда молодой врач. Лариса к нему сама пришла накануне вечером проститься. Ничего не придумывала, сказала, что захотела так. И сгинул бесследно шок, парализовавший его в тот раз. И все у них было, так чудесно было, что возникла у него безумная мысль не уезжать от нее никуда. И, сам в эти минуты искренне веря своим словам, бормотал ей лихорадочно, что обязательно еще встретятся, он что-нибудь придумает, напишет ей, позвонит…
Не написал и не позвонил. А вскоре другая жизнь у него началась, закрутило, завертело, не до Ларисы стало. Вспоминалась все реже, а потом и вовсе растворилась в иных заботах и чаяниях. И удивился, что неожиданно всплыла она в его памяти, сейчас, через столько лет. Но об этом ни Кузьминичне, ни всем остальным знать не полагалось…
5
Лев Михайлович вернулся к своему окну, любопытно ему было, кто следующий рискнет перед всеми разоткровенничаться. Но никто, похоже, не собирался прийти ему на смену. Кручинин, взявший на себя роль распорядителя, обвел всех вопрошающим взглядом:
– Исповедальное кресло ждет, господа. Кроме всего прочего, вы ставите меня и Льва Михайловича в сомнительное положение. Будто мы с ним сидим здесь голые среди одетых. Если добровольцев не окажется, придется мне, защищая честь, применить насилие, а я страшен во гневе. К тому же все, надеюсь, помнят, что штрейкбрехеры будут с позором изгнаны под дождь?
Кузьминична – было заметно, что хмель на нее подействовал сильней, чем на других, – сочла нужным вмешаться:
– Ох, переводятся мужички наши, а признаваться в грешках своих боятся. А ну, Толик, чего расселся? Давай, выкладывай, как там у тебя не сработало! Думаешь, не знаю о хитромудрых твоих поскакушках?
Дегтярев подумал, что уж у кого-кого, а у Толика любовные неудачи вряд ли случались. Достаточно было лишь взглянуть на него – идеальная секс-машина, специально для этого созданная. И трудно вообразить, что какие-либо нюансы способны укротить его кобелиный пыл. Разве что огреть его дубиной по забубенной башке. Или по другому месту.
– Какие поскакушки? – дернул плечами Толик. – Не было у меня никаких таких поскакушек. Хоть одну припомнить можете?
– А то, – хмыкнула Кузьминична. И вдруг начала смеяться. Смеяться так истово, безудержно, что сотрясало ее всю. Слезы полились из глаз, она звучно хлопала себя по могучей груди, словно опасаясь, что сейчас не выдержит, выскочит изнемогавшее сердце, сучила ногами.
До того это было неожиданно, что все насторожились, опасливо переглянулись; Дегтярев заподозрил, что случился с ней истерический припадок, так странно проявившийся. Или, что тоже не исключалось, изощренно отомстил ей неумеренно принятый коньяк.
– Вот Лев… – отдышавшись немного, смогла наконец Кузьминична выталкивать из себя слова, – вот Лев Михайлович нам про какую-то Изольду с мечом… Расскажи им, Толик, про свою Изольду… Пусть они тоже… – Осторожно промокнула платком глаза. – Ой, не могу… Расскажи, Толик!
– Та ну, – отмахнулся Толик. – Еще чего. Не буду я про это.
– Ну Толечка, ну пожалуйста, – запросила Кузьминична. Потом, засомневавшись, видимо, что уговорит его, пригрозила: – А то я сама расскажу, тебе же хуже будет.
– А чего мне хуже будет? – сопротивлялся Толик. – Это не моя, это ваша идея была. Сами же меня заставляли.
– Хорошо, пусть буду я виновата, – соглашалась Кузьминична, – да только что это меняет? Так будешь рассказывать или нет?
Толик беспросветно вздохнул, выказывая, что всего лишь потакает вздорным капризам Кузьминичны, зашагал к креслу возле двери.
– Окошко приоткрой, – велела ему вслед Кузьминична, – надымили мы тут.
Толик выполнил ее поручение, натужно пошутил:
– А дождь, между прочим, уже закончился. Так что выгнать меня под него все равно не удалось бы.
Поерзал, устраиваясь поудобней в кресле, криво усмехнулся:
– Изольда… Вот уж имечко так имечко… Я, конечно, не могу так складно, как доктора передо мной, говорить, все равно не получится. Уж как сумею. Года полтора назад было. Прикатили сюда артисты аж из Москвы. Для нас прямо невидаль. К нам часто всякие артисты приезжают, концерты здесь дают. Сейчас куда чаще, чем раньше, даже навязываются. Время сами знаете какое – кормиться им всем надо, а этих певцов и ансамблей столько поразвелось, что девать некуда. Не тех, которые в телевизоре, те к нам не заглядывают, их наши бабки не устраивают. Дорого они берут, здешним не потянуть. Да и не поедут они в такую таракань. Случаются, конечно, и всем известные, даже знаменитые, но это которые в тираж давно вышли, в больших городах ничего им не светит, людей не соберут. А так в основном из области или других каких-нибудь городов, какие попроще. Их зазывальщики, они теперь менеджерами зовутся, к нашему завклубом один за одним шастают, афиши привозят. Потом, кто сумел сговориться, расклеивают. Почти каждую неделю кто-нибудь из них творчеством своим одаривает. Не обязательно, конечно, халтурщики, и очень даже неплохие, особенно молодые, приезжают, если никуда больше, кроме как в такие места, пробиться не могут. Наши бы на всех посмотреть желали, интересно ведь, какие тут у нас развлечения, только ходят почти одни и те же, кто искусством интересуется, да только накладно очень, на всех деньгами не запасешься. Порой жалко даже этих артистов делается, уж я-то знаю. Готовятся они, ясное дело, по поездам и автобусам мотаются, живут, питаются абы как. Им ведь надо и дорогу, и питание оплатить, и заработать что-нибудь – на те же костюмы, инструменты. А у нас, например, зал на сотню человек, не разгуляешься. Так если бы еще заполнялся всегда, тогда бы куда ни шло, а то ж зачастую и половину мест не раскупят. Не раз такое бывало, что отменяли концерты, зря они свои афиши тратили – билеты не продавались.
А тут случай особый – из Москвы приедут, москвичи нас раньше не баловали. И не какой-нибудь захудалый оркестришко – сами «Инопланетяне». Уж не знаю, как там на телевидении, я лично всего разок их на экране видел, но по приемнику часто их передают, даже лауреаты они какие-то. Все билеты на них в один день расхватали, хоть и цены были зашибись. Только и билетов-то, ясное дело, в кассе было с гулькин нос, большинство по нужным людям разошлись. На Галямова, нашего завклубом, прямо охоту устроили, чтобы билетиком разжиться, все наше начальство с женами своими разохотилось. Даже я, а Галямов Кузьминичне кумом приходится, с трудом два билета выпросил. Полный аншлаг. У них и менеджер не задрипанный был. Верней, была, потому что женщина. Я ее случайно увидел, заглянул как раз к Галямову, когда она у него в кабинете сидела. Тоже редкость – обычно они с кем-нибудь из области договариваются, а те уже на Галямова выходят. А тут сама. Да такая прикинутая, не для наших Бродвеев. Галямов мне потом сказал, что у нее родня какая-то в соседнем районе живет, навещала их, вот заодно и к нам завернула. А вообще-то они у вас в городе выступали, здесь, наверно, подкалымить хотели.
Мы еще, помнится, с Галямовым поспорили – парик у нее на голове или свои волосы. Потому что такая рыжая копнища была – что у твоей Пугачевой. И каблуки высоченные – не знаю, зачем ей такие, при ее-то длине. Я, видите ж, ростом не обижен, а она как бы еще не выше меня. И ногти у нее – впервые видел – в черное выкрашены, и такие длиннющие, что не знаю, как она с такими даже просто тарелку за собой вымоет. Я у Галямова, когда он беседовал с ней, и минутки не пробыл – отдал ему стеклорез, который брал перед тем, и ушел. Но успел заметить, как рыжая эта глазами в мою сторону блимнула. Ну, блимнула и блимнула, мне это до фонаря. А Галямов, потом уже, сказал мне, что я заинтересовал ее. Расспрашивала его, кто я да что я, чего тут делаю.
Ну, короче, осталась она у нас тут с ночевкой. Сказала, что устала очень, отдохнуть хочет. Галямов, ясное дело, к Кузьминичне: прими столичную штучку, сделай все в лучшем виде, чтобы перед Москвой, значит, в грязь лицом не ударили. Ну и чтобы позаботилась, значит, кума, чтобы не заскучала гостья здесь. А как ее тут веселить? Чего ей тут показывать? В кино сводить или на танцы? И не наших же пансионатских зануд ей подсовывать. Кузьминична и говорит мне:
– Берешь, Толик, москвичку на себя.
Я отнекиваюсь: что я с ней делать буду? Кузьминична мне: тебя что, учить надо? Поухаживай за ней, анекдотики, комплиментики, то да се, гитару прихвати, песенки спой. Вдруг она – смеется – тебя за талант примет, в ансамбль свой пригласит. И этими словами, теперь уже признаться можно, очень меня Кузьминична зацепила. А что, подумал, чем черт не шутит? Я себя великим артистом не считал, но уж, извините за нескромность, не хуже буду многих тех, кто в телевизоре изгаляется. Мне под фанеру прятаться не надо, своего хватает голоса. И случай такой упускать не следовало – пусть меня знающий, профессиональный человек послушает. Что профессиональный, сомневаться не приходилось, в Москве абы кого к такому ансамблю не подпустят. Чего, думаю, в жизни не бывает! Сколько слышать приходилось, как многие известные теперь артисты начинали. И в подземных переходах пели, и в кабаках, и на задворках. А потом бац! – такой вот счастливый случай, кто-то нужный услышал, кто-то оценил, кто-то подсобил – и в звезды выбился. А такой случай, может быть, один раз в жизни бывает. Упустишь его – и гуляй, Вася.
К вечеру, значит, привозит сюда Галямов свою гостью. Теперь уже, ясное дело, не его, а нашу. Мы с Кузьминичной, как положено, встречаем ее. Галямов знакомит нас:
– Это, – говорит, – Изольда, надеюсь, ей у вас понравится.
А чего ей у нас не должно понравиться? Кузьминична расстаралась, царскую, не для всякого, комнату ей отвела: отдельный горячий душ в кафеле, кровать пружинистая, диван гостевой, телевизор. А уж по части накормить – вы тут сами удостоверились. Наш повар Гаврилыч прежде в ростовском ресторане готовил, сюда уже после пенсии перебрался. И с годами хуже варить не стал.
Вообще-то, мне такие, как эта Изольда, женщины никогда не нравились, пусть они хоть из Парижа. Мнят о себе много, а сами, если краску с них смыть, ничего из себя не представляют, одна показуха. А эта Изольда лицом еще на лошадь смахивала. Так будто бы не страшная, но все у нее большое – и нос, и рот в яркой помаде, и руки с ногами. Ноги, правда, красивые, тут ничего не скажешь. Всего этой дылде много было отпущено, вот только на женскую грудь материала не хватило, плосковатая была. И голос – будто по три пачки в день высмаливает. Но хуже всего – эти ее ногти, как у того вампира из фильма-ужастика. И привереда она, сразу видать, та еще. Когда мы с Кузьминичной в комнату ей отведенную привели – нет, чтобы за такое к ней внимание поблагодарить, – так поглядела, будто мы ей дом колхозника для ночевки предлагали. Поозиралась, узнала, есть ли горячая вода, минералку попросила, только обязательно без газа. Кузьминична говорит ей:
– О воде не беспокойтесь, будет вам без газа. Только одной водой сыты не будете, поужинаете у нас. Вы пока отдыхайте, располагайтесь, а мы потом вас покормим. Вы где есть предпочитаете – тут у себя или в зале для приемов?
– Лучше у себя, – отвечает, – меньше хлопот.
Кузьминична спрашивает:
– Если через часик мы к вам наведаемся, удобно вам будет?
– Удобно, – соглашается, – я себя пока в порядок приведу. – А потом смотрит на меня с прищуром и добавляет: – Надеюсь, кто-нибудь составит мне компанию? Я ужинать в одиночестве не люблю.
Кузьминична ей:
– А чего ж не составить? Мы гостям рады.
Я Кузьминичне, когда вышли, заявляю:
– Учтите, я один с этой крашеной лошадью не останусь. Будем втроем.
А Кузьминична отмахивается: во-первых, дома у нее дела, внучка приболела, а во-вторых – пусть я не строю из себя Ивана-царевича. Что мне делать оставалось? Мог бы, конечно, упереться – не буду, мол, и всё, я этой Изольде не вода без газа, чтобы ей в покои доставляли, но не покидала мысль, что случай единственный упущу, потом локти кусать буду. Попросил только Кузьминичну еще часок не уходить, чтобы одному к ней в комнату не заявляться. А уж потом она скажет ей про внучку, почему не останется с нами.
Короче, ровно через час топаем мы к Изольде, с нами самолично Гаврилыч при полном параде, в белом колпаке, на тележке перед собой антрекоты катит с прочей закусью. Кузьминична забыла спросить у Изольды, пожелается ли ей к ужину еще чего выпить, кроме минералки без газа, притащили на всякий случай полусухого красного. Гаврилыч сказал, что к антрекоту в самый раз такое годится. Ну, Кузьминична деликатно в дверь к ней постучала, заглянула – можно ли войти. Входим – Изольда уже переоделась, и халат на ней вроде японского – кимоно такой называется. Вот только непонятно было, почему она, если ноги устали, каблуки не сняла.
Она сразу смекнула, едва только Гаврилыч тележку вкатил, что мы с ней вдвоем будем, – на тележке-то всего два антрекота и посуда на двоих. И не засомневалась, что вторым с ней буду я, а не Кузьминична. Поощрительно мне улыбнулась, комплимент Гаврилычу сделала, что у нас тут сервис, как в лучших лондонских домах. Кузьминичны отмазку выслушала, вид сделала, будто пожалела, что не останется Кузьминична с нами. Гаврилыч все красиво на столе расставил, пожелали они с Кузьминичной приятного аппетита – одних нас бросили. А Изольда на себя роль хозяйки взяла. Присаживайтесь, говорит, Анатолий, составьте мне компанию, не тушуйтесь. А я и не тушуюсь, чего мне тушеваться, хотя, конечно, понравиться ей уже хочу. Не то чтобы совсем уж, а так, чтобы расположить ее. Случай же. Гитару, ясное дело, с собой не принес, за дверью оставил, чтобы не в лобовую было. Потом, думал, как-нибудь наведу ее на разговор, что петь умею, многие даже считают, что на большой сцене выступать могу, а там уж от нее зависит. Навязываться не стану – захочет она меня послушать, я сначала для вида покочевряжусь немного, постесняюсь, а потом будто бы уступлю. Схожу за гитарой – и вернусь. Что петь буду – заранее решил. Мне, все считают, лучше всего цыганские романсы удаются. Меня и самого часто за цыгана принимают, спрашивают даже, так что сочетание удачное получится.
Одна вот только мысль напрягала – что глаз Изольда на меня положила. Для того, может, и сочинила, что устала она, переночевать тут желает, Галямову наболтала. И вот каблуки свои с умыслом не сняла, чтобы ногами своими пофорсить. До крайности может у меня с ней дойти. Я, ясное дело, Ивана-царевича, как Кузьминична выразилась, из себя строить не должен, но очень уж нежелательно было. Мне надо, чтобы женщина нравилась, я так с кем попало не могу. Еще и эти ногти у нее ведьминские. Ладно, думаю, там разберемся, главное, чтобы выгорело у меня как задумал. Вдруг в самом деле случай. Позовет меня к своим лабухам, сам инопланетянином заделаюсь. Мне бы только засветиться, а там уж, если удача не изменит, и без нее дорожку себе проторю. Что ж, решаю, не тушеваться так не тушеваться, пусть не думает, что мы тут бараны задрипанные, мы о себе тоже кое-что понимаем.
– А чего мне тушеваться? – говорю, – я компанию красивой женщине составить всегда рад. Рекомендую, – говорю, – творчество нашего повара Гаврилыча, он у нас большой умелец. Потом скажете, хуже ли, чем в ваших московских ресторанах. – И бутылку в руках верчу: – Для аппетита не желаете?
А она желает, подставляет свой бокал. Налил я ей, как положено, на одну треть, сам и тост предложил:
– С приездом, – говорю, – Изольда, простите, отчества вашего не знаю, пусть поездка ваша будет удачной.
А она поверх бокала глаза свои подведенные щурит, краешками губ улыбается:
– Во многом от вас, Анатолий, зависит, будет ли она удачная.
Всё, думаю, спекся. Если и были какие-то сомнения, то как ветром выдуло. После таких слов да взглядов, ясное дело, нужно сразу предлагать на брудершафт пить. Или даже без брудершафта. И захотелось мне вдруг слинять из этой комнаты куда подальше. Черт, думаю, с ними, и с гитарой моей, и с ее инопланетянами, я уж как-нибудь без них проживу. Была б хоть водка на столе вместо этого красного, и лучше б не одна бутылка. Ладно, думаю, поесть-то все равно придется, потом всё как-нибудь на тормозах спущу, я ей не вода без газа.
Сидим мы, хорошо сидим, чинно, ужинаем, беседуем. Вилка в левой руке, нож в правой, всё, как положено. Салат ей подкладываю, вино по чуть подливаю, ухаживаю за дамой, значит. Она меня про здешнюю жизнь расспрашивает, как нам тут живется, я про Москву ее, про гастроли. С кем она из знаменитых встречалась, какие они из себя. Ну, и о политике, как же без политики. Это ж не из телевизора услышишь, это из самой Москвы, из первых, как говорится, рук. Тем более что рассказывала она интересно, в таких местах бывала, с такими людьми встречалась, что мог бы ее до самого утра слушать, не надоело бы. Она, если не врала, с самим Жириновским знакома была. Но все-таки не думаю, что врала, очень уж правдоподобно рассказывала, ни разу не было у меня возможности подозревать, что лапшу мне на уши вешает, – я ведь тоже не лох, конфетку от дерьма отличаю. И о Хлестакове из Гоголя мне рассказывать не надо, я сам Хлестакова в нашем театре, что Галямов тут устроил, играл.
И чем, значит, дольше мы сидим, чем больше разговариваем, тем сильней она мне нравится. И вино здесь ни при чем – что там одна бутылка красного на двоих. Умнейшая была женщина, такие, ясное дело, редко встречаются. И на лошадь уже будто бы не смахивает, просто женщина крупная такая, на чей вкус. И глаза у нее красивые, ресницы длинные. Что меня еще приятно поразило – напрасно побаивался ее. Думал, начнет она, когда мы вдвоем останемся, приставать ко мне, разговоры всякие с намеками заводить, одним местом передо мной вертеть. А мне, значит, придется во всем этом участвовать. Ни чуть. Хороший, душевный разговор у нас получился, и не форсила она передо мной: я, мол, деревенщина неотесанная, а она королева испанская. По-простому всё, можно сказать, по-дружески, на равной ноге. Я ей, признаться, позавидовал, как они там интересно живут, где бывают, чего у них только не случается. Вот, к примеру, рассказывала она – сама свидетельницей была, – как в ресторане Шевчук с Киркоровым задрались, я прямо укатывался. Киркоров, между прочим, с Пугачевой давно вместе не спит, она Галкина к себе водит, ну, это я так, вспомнил просто.
Отужинали мы с ней славно, на диван перешли, закурили. Я, между прочим, догадывался, что она курящая, заранее подготовился, пачку «Мальборо» с собой захватил. Чтобы не думала, что мы тут одну «Приму» тянем. Короче, не пожалел я, что пришел к ней, только на руки ее старался не смотреть. Но все же, как ни интересно было ее слушать, про свое тоже не забывал, на что рассчитывал. Только не знал, как, будто бы невзначай, к этому подступиться. Лазейки удобной не было, чтобы не специально, а будто к слову пришлось. Грамотней всего было бы, конечно, сказать ей, что мне какая-то песня инопланетян нравится, напеть ей, будто бы припомнил. Но, как на зло, ни одна не вспоминалась. Или, может быть, и вспоминалась, но не уверен был, что инопланетянская она, тогда бы вообще опозорился. А она сидит, покуривает, ногу на ногу забросила, пепельница между нами. Будто бы и не соблазняет она меня, но верхнее колено, случайно или не случайно, очень высоко в разрезе просматривалось. Я на всякий случай его тоже взглядом обходил.
Но сообразил-таки: похвалил инопланетян, польстил ей даже, что вряд ли, наверно, если бы не она, такими знаменитыми они сделались. А потом спрашиваю, какая их песня ей больше всего по душе.
– Да мне, – отвечает, – многие по душе, у нас композиторы хорошие, один мальчик вообще очень талантливый, замечательные песни пишет. Только не раскручен еще как следует. Мелодии на слуху, а автора мало кто знает. Вот, к примеру, эту песню, которую везде поют, он сочинил. Слышали такую? – и тихонько напевает.
Обрадовался я, что в самое яблочко попал. Песню эту в самом деле часто передают, мне самому нравится. И что удачней всего, даже слова запомнил, у меня на это память хорошая. И начал ей подпевать, как бы дуэт у нас получился. Изольда похвально на меня посмотрела, улыбнулась:
– А у вас, Анатолий, голос хороший. И слух тоже, молодец.
Я, как положено, засмущался, потом сказал ей, что так многие говорят. Некоторые считают даже, что я выступать мог бы, советуют к специалисту какому-нибудь обратиться, чтобы послушал меня. Только где ж его, специалиста, взять, да и кто на меня время тратить будет. А я, вообще-то, под гитару пою, под гитару у меня лучше получается.
– Жаль, – говорит, – что гитары у нас нет, я бы с удовольствием послушала.
Попалась рыбка на крючок. Если, говорю ей, вам в самом деле интересно, то гитара у меня тут рядом, могу принести. Что ей оставалось? – сама ведь напросилась, я не настаивал. Уж не знаю, хотела или не хотела, но сказала:
– Принесите, любопытно.
А гитара моя в коридоре за тумбочкой была схоронена, дожидалась меня. Прихватил ее – и назад. Возвращаюсь, а Изольда по-другому сидит: с ногами в углу дивана. Приготовилась, значит, к моему представлению, позицию заняла. Перебрал я струны – и запел. Про очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Опасался, что от волнения голос просядет, – ничего подобного, хорошо зазвучал, душевно, и цыганщина эта самая хорошо поучалась, с нужной такой надрывностью для эффекта. Что волновался – скрывать не стану. Интересное дело – приходилось ведь мне перед целым залом петь, где столько народу, а тут одна бабёнка, пусть даже из Москвы она и с Жириновским знается. Потому что многое от нее для меня сейчас зависело. Не оттого только, что в инопланетяне мне захотелось и самому, если повезет, в том ресторане побывать, где Шевчук с Киркоровым задрались. Хотя, правду сказать, кто ж от такого откажется. А потому еще, что вдруг захотелось мне, чтобы похвалила она меня, удивилась, какой я талантливый. Пою, на нее поглядываю – и вижу, что нравится ей мое исполнение. И в самом деле удивляется она. Не так, чтобы лишь приятное мне сделать, из вежливости – действительно нравится ей.
Закончил я про то, как увидел вас я не в добрый час, – смотрю на нее молча. А она мне хлопает, молодчиной называет. Просит, чтобы еще спел. Ну, я ей уже не цыганскую, чтобы не думала, будто я только на это и способен. Про отраду в высоком терему. Так вывожу, что и мне понравилось. Кто сам поет, знает, что голос – штуковина непостижимая, капризная, и неизвестно, когда и от чего он зависит, он сам по себе живет. Иногда прячется куда-то, а то вдруг так разовьется, не нарадуешься. Вот в тот вечер очень хорошо мне пелось, прямо редкостно. Про отраду в тереме так выдал, что перед Кобзоном не стыдно было бы. А она опять похлопала и самородком меня назвала.
– Еще, – спрашиваю, – хотите, ежели не устали?
Ответила она, что хочет, только попросила свет выключить, потому что в глаза ей режет. Ну, я выключил, мне в темноте петь даже сподручней, романтичней получается. В комнате после этого не совсем темно стало, а такой полумрак залег – двор у нас, видели же, хорошо освещается. Дал по струнам – и третью ей, лирическую, как в степи глухой замерзал ямщик. Она потом и говорит мне, что у меня большие способности, учиться обязательно нужно. У меня, сказала, и внешность очень выигрышная, для зрительского успеха не последнее дело. Я горячее железо кую: у кого тут учиться, кому я тут со своей внешностью нужен, позаботиться некому. И тут она бальзам на меня проливает: я, говорит, позабочусь, у меня, говорит, есть такие возможности. Приедете ко мне в Москву, я вас с кем надо познакомлю, похлопочу. А я от слов ее этих совсем разомлел, поверилось, что все у меня, о чем мечтал, сбудется. Тот самый счастливый случай.
– Не знаю, – от души сказал, – как мне вас благодарить.
Лицо ее плохо различаю, но угадываю, что улыбается оно. И голос улыбается:
– Надеюсь, придумаете, как отблагодарить.
А чего тут придумывать? Непонятно разве, чего ей от меня хочется? И я, как на духу говорю, пусть кто хочет обижается, раз было это, не заставлял себя, не в угоду ей делал. Никакой уже лошадью, особенно в сумерках, не казалась мне, за это время, что мы с ней вместе провели, большое расположение к ней почувствовал. Даже, можно сказать, очень большое. И понимал я, что всякие штучки-дрючки здесь не нужны, решительно нужно действовать. И слов лишних не тратить. Опять же не засомневался я, что из-за меня она здесь ночевать осталась. Сказал только:
– Я к вам, Изольда, со всей, какая есть у меня, благодарностью.
Гитару на стол положил, подхватил Изольду на руки и на кровать понес. Такая у меня была к ней благодарность, что пушинкой мне она показалась. Халат-кимоно с нее в момент скинул, а она и не сопротивлялась, только, хоть и темновато было, стеснительной оказалась, все отворачивалась от меня. Ну, думаю, тебе же хуже. Начал, как получалось, пристраиваться к ней, а она уже вся готова. Застонала, шепчет мне:
– Толечка, миленький мой…
И тут, в этот самый момент, я всё постиг. Такое постиг, что вмиг обалдел. Оторвался от нее, только и сумел сказать:
– Ты что? Ты что это?…
А она все одно твердит: «Толечка, миленький, Толечка, миленький»…
Короче, не она это твердила, а он твердил. Мужиком оказалась. Оказался. Меня чуть не вывернуло. Хорошо, не разделся я, брюки только застегнуть. Соскочил с кровати – и дёру. А она, он то есть, мне вслед канючит:
– Толечка, Толечка, миленький…
Не помню, как за дверью очутился. Весь мокрый, как из реки меня вытащили. Домой мчался, будто гнались за мной. И весь день потом в пансионате не показывался, чтобы точно увериться, что не встречусь я с ней. Анна Кузьминична мне звонит, спрашивает, куда подевался, а я ей даже причину сказать не могу – после, говорю ей, все расскажу, сейчас не могу. Про Изольду у нее спросил – рано утром, сказала, умоталась, и не видела ее. А я все равно прячусь – вдруг вернется. Чего боялся – сам не понимал, что этот Изольда сделать мне может? А вот поди ж ты. Анна Кузьминична уже потом, когда рассказал ей, помирала со смеху, вот как сейчас, вы же сами видели. А чего тут смешного, гнусь одна. До сих пор, как вспомню этого Изольду, мураши по коже…
– Так тебе и надо, – хмыкнула Кузьминична, – меньше кобелил бы, артист. И нечего тут разукрашивать, что загипнотизировала она тебя своими байками. В Москву ему захотелось, посмотрите на него!
– Ну, знаете! – возмутился Толик. – Я что, сам к ней напрашивался? Не просил, чтобы вы меня одного с ней, с ним не оставляли? Кто меня подсовывал ей, Галямов, что ли?
Было заметно, что диспут этот вели они не впервые, удивило лишь Дегтярева, что Кузьминична отчего-то заставила Толика говорить сейчас об этом, угрожала, что сама всем расскажет, если тот заупрямится. Даже если всколыхнуло что-то в ней, захмелевшей, произнесенное им, Дегтяревым, имя Изольда. И счел нужным, чтобы положить конец начавшейся ненужной перепалке, вмешаться:
– Ничего смешного действительно нет. Кстати сказать, это уже просто эпидемия какая-то. Впору национальным проектом сделать нещадную борьбу с гомиками, иначе, боюсь, добром это не кончится.
Поддержал его Корытко, сказал, что по данным некоторых социологов число сторонников однополой любви до десяти процентов доходит:
– Представляете, каждый десятый мужик смотрит на мужика, как на женщину. Как бы Содом и Гоморра, куда катимся?
Неожиданно заспорил Кручинин. Обращался почему-то не к Корытко, а к Дегтяреву. Сказал, что десять процентов – это явный перебор, вряд ли и три-четыре наберется, но у каждого человека есть право выбора, и никто никому не должен указывать, как и с кем ему жить. Да, он, Кручинин, не сторонник таких симпатий, но принимать это надо как данность, никуда не деться, и они, врачи, должны лучше других это разуметь. Не возвращаться же к сталинским временам, когда гомиков сажали в тюрьмы. Мы, в конце концов, просвещенные европейцы, а не кондовые азиаты.
Лев Михайлович, давно Кручинина знавший, не понял, искренне тот говорит или затевает диспут ради диспута, чтобы покрасоваться перед Лилей своим полемическим мастерством. В принципе, ничего оригинального Кручинин не произнес, эти провокаторские сентенции звучат нынче сплошь и рядом, и вообще меньше всего Дегтяреву сейчас хотелось затевать это бессмысленное словоблудие. Да еще при Кузьминичне с Толиком. Если бы не посмотрел так на него Кручинин. На него, а не на Корытко. О чем они там с Лилей перед тем хихикали? И не в силах подавить в себе вспыхнувшую сегодня неприязнь к Кручинину, с излишней, наверное, язвительностью ответил:
– Странно, что я должен вам что-то доказывать, Василий Максимович! О какой данности вы говорите? Это ведь цепная реакция, как при радиоактивном распаде. Откуда их столько поразвелось? Что, природа вдруг свихнулась, генная мутация? Вы хоть одного гомика раньше знали? На улице у себя, дома, в школе, в институте? Это же не спрячешь, как бы они не таились, все равно засветились бы. Эта агрессивная зараза буквально в открытую сейчас насаждается, манят ею, как запретным сладким плодом. Хотя в голове не укладывается, какая там может быть сладость. Порой в телевизор плюнуть хочется. Какие-то артистики размалеванные зазывные гримаски с экрана строят! Диспуты всякие идиотские, норма это, не норма, проводить их марши, не проводить, древних патрициев поминают. И почти не слышно, чтобы кто-нибудь о самом главном, о самом страшном говорил. Да нет, не говорил – бил в набат. Если бы они похотью своей только друг друга ублажали, хоть как-то смириться можно было бы, данность это или не данность. Но они ведь, сволочи, детей растлевают. Хороших, нормальных детей. Это у них особое удовольствие, клубничка эдакая. А те потом вырастают. И других ребятишек портят. Я бы каждого такого педофила двадцать лет в тюрьме гноил. Лучше бы не двадцать – пожизненно. А то отсидят пару лет – и опять за свое принимаются. Не читали разве, не слышали? У вас же самого два пацана, не страшно за них?
– Дело говорите, Лев Михайлович, – снова пришел на помощь Корытко. – Это как бы узаконенное распутство. По всему миру расползается.
– А что, бывает и неузаконенное распутство? – поддел его Кручинин. – Просветите нас, Степан Богданович. Кстати, ораторское кресло свободно, ждет очередного клиента.
Корытко явно не понравились ни слова Кручинина, ни тон, каким были сказаны. Дегтярев заметил, как вдруг преобразился он: опять стал тем, каким встречал его, бывая в министерстве.
– Как же, – потемнел Корытко, – разбежался. Боюсь только, Василий Максимович, что уж вас-то просвещать нет надобности, сами кого угодно просветите.
– Это вы зря, – перестал улыбаться Кручинин. – Мы же договаривались. И не обо мне сейчас речь.
– Обо мне, что ли? – подозрительно глянул на него Корытко.
И снова вмешалась хозяйка пансионата, состроила «мусеньку»:
– Ну мальчики, ну что вы в самом деле, не надо ссориться. Так ведь хорошо отдыхаем. Это я виновата, о таком Толика рассказывать уговорила. А мы давайте не о таком. Давайте о хорошем. Мы и вас, Степан Богданович послушать хотим, удовольствие получить. Грустное с вами тоже наверняка случалось, как же в нашей жизни без грустного? И у меня было, как же не быть? Чего нам тут один перед одним выставляться, мы же здесь как одна семья теперь. А вы такой интересный, солидный мужчина, Степан Богданович, и говорите так умно. Уважьте коллектив, поделитесь с нами своим, а я потом тоже о своем всем расскажу, хоть и, по правде сказать, не собиралась этого делать, это ваши, мужские проблемы. Ну Степа-ан Богда-анович, не на колени же перед вами ставать! И Василий Максимович тоже прав – все так все, пусть всем будет одинаково.
– Зачем же на колени? – смутился Корытко. – Я и без коленей могу, если нужно. Признаться, есть у меня одна как бы история. И смех, и грех. Разве что о ней… – Пригрозил Кузьминичне пальцем: – Только вы потом сразу за мной, как обещали. Ради вас как бы соглашаюсь.
Кузьминична по-девичьи зарделась, обещающе улыбнулась ему.
– Кресло вас, Степан Богданович, как бы дожидается, – не угас Кручинин.
Корытко, не удостоив его даже взглядом, приподнял свое грузное тело, пробно откашлялся и двинулся к креслу…
6
Очень было Дегтяреву любопытно послушать о каком-нибудь амурном приключении Степана Богдановича. Знал его давно, и всегда поражался, как точечно попадают в органы власти эти Корытко. И не представлял свое министерство, бывший облздравотдел, без этой одиозной фигуры. Корытко мало с годами менялся, разве что прибавлял в весе и просторней делалась лысина. Почти никто не знал, что, на своем уровне руководя здравоохранением большой области, был он стоматологом. Впрочем, и стоматологом по сути не был – просто закончил стоматологический факультет. Обыкновенный сельский хлопец, в институте комсомольский вожак и активист – может, за эти заслуги или посодействовал кто-то, – сразу он, молодой коммунист, заделался главным врачом больницы. Больницы маленькой, заурядной, но все-таки главным. И проявил себя хорошо. Порядок там был образцовый, документация в идеальном состоянии, а наглядная агитация на таком уровне, что всей области в пример ставили. И говорун был отменный – на всех мероприятиях задорно выступал, аплодисменты срывал. А уж по части прогрессивных починов и повышенных социалистических обязательств равных ему вообще не было. Замечен был, отмечен, и через всего три года назначен главой райздравотдела. Он и на этом поприще тоже проявил себя инициативным, энергичным – через те же три года, минуя городской масштаб, взят был в областное Управление. И не на рядовую должность – сразу завотделом. По тем временам бешеная карьера, тридцати не было – в медицине еще подростковый возраст. Его инспекторских проверок боялись все больницы. Памятью обладал отменной, все законы, подзаконы, статьи, постановления знал назубок, и провести его было невозможно. Одна была слабость – злился, когда его фамилию произносили с ударением на втором, а не на последнем, как он настаивал, слоге. Женился удачно, на дочери исполкомовского туза, на земле прочно двумя ногами стоял. И всё бы хорошо, большинство не сомневалось, что он со временем до самого высокого областного, а то и не областного верха доберется, но случилась тут с ним пренеприятнейшая история. Бес попутал, закрутил он любовь с молоденькой врачихой, и так неудачно, что жена об этом дозналась. Времена уже горбачевские были, но Союз еще не распался и коммунисты власть держали. Жена скандалище закатила, да при таком всесильном папеньке, чудом Степан Богданович уцелел, из партии не выгнали, отделался строгим выговором. А с таким пятном все пути наверх отрубаются напрочь. Благодарить должен был судьбу, что из Управления с треском не вылетел, в рядовых инспекторах остался. Времена вскоре изменились, партийное прошлое роли уже не играло, интрижки на стороне вообще никого не коллыхали, но для нового рывка ни сил, ни средств у Корытко уже не осталось. И на тестя уже надежды не было. А уж когда Управление громким словом «министерство» именоваться стало и другие люди у руля оказались, о новом возвышении и речи быть не могло. Туго пришлось Степану Богдановичу – по специальности никогда не работал, ничего больше, кроме как инспектировать, не умел.
Впрочем, и в министерстве ценили Корытко. Ценили за усердие, дотошность. Без таких работников любое дело рассыпаться может. Да и сам он, Дегтярев, отдавал Корытко должное. Если обращался к нему по какому-либо поводу, то уверен был, что тот не забудет, не заволокитит. Раздражало только Дегтярева, как прилипал к речи Корытко всякий словесный мусор. Причем набор этого вздора по каким-то неподвластным разуму течениям периодически менялся. Это его «как бы» чуть ли не в каждом предложении выводило Дегтярева из себя. Раньше щеголял Корытко нелепым сочетанием «почему-потому что», пришедшим на смену удручающему «понимаете ли».
И еще за одно достоин был Корытко похвалы: оказавшись в министерстве на рядовой должности, держался он молодцом. Не сетовал на судьбу, не напоминал при каждом удобном случае, какое прежде занимал положение. Больше того – как-то так получалось, что возникало ощущение, будто и сейчас, не имея былых регалий, многое он может и многое от него зависит. И относились к нему соответственно. Правда, сдал он заметно, похоронив года два назад жену. Говорят, очень любил ее, хоть и сломала она ему жизнь. Лев Михайлович был на похоронах, видел, как тяжко досталось это Степану Богдановичу…
Дегтярев смотрел, как выверенным неспешным шагом, привычным для человека, которому частенько приходится идти к трибуне, направлялся Степан Богданович к освобожденному Толиком креслу, пытался вообразить, какая с ним могла случиться незадача. Закралось даже подозрение, что вспомнил Корытко о самом крутом в его жизни обломе – роковой врачихе, пусть и не имело это прямого отношения к любовной неудаче. Корытко внушительно сел, лицо его еще сильней покраснело, оглядел всех цепким взглядом из-под тяжелых век, затуманился:
– Вот доктора наши знают, я не так давно жену потерял. Замечательная была моя Сонечка женщина, таких редко встретишь. Судачили злопыхатели, будто как бы женился я на ней, потому что была она дочкой известного в городе человека. Нисколько. Я Сонечку за исключительные личные качества полюбил. И жил я с ней, как она того заслуживает. Не знаю, верней, знаю, почему сейчас Василий Максимович иронично улыбается, но совершенно напрасно. Загогулина, как его любимый Ельцин выражался, со всяким может случиться, у меня однажды такая проруха тоже была, о чем жалеть буду вечно. Только сути это как-то не меняет, как бы не ему меня судить. Хозяйкой моя Сонечка была необыкновенной, а уж чистюля – поискать еще. Я парнем был деревенским, привык, чтобы всё по-простому, без больших условностей, так она меня быстро к своему порядку приучила. В доме у нее все блестело, кухня – как операционная, каждая вещь свое место знала, как бы пятнышка ни на чем не увидишь. Особенно за постелью она следила, за бельем, за полотенцами. Так меня в свою веру обратила, что пребывание вдали от дома, в командировке, например, сущим наказанием для меня делалось, даже в самой приличной гостинице. Царство ей, Сонечке, небесное, век ее не забуду…
Ну, ладно. Хотя, чего уж тут ладного. Распростился я, значит, навсегда с Сонечкой, что поделаешь – жить надо как-то дальше. Тем хуже мне приходилось, что детей Господь нам как бы не дал, в одиночестве остался. Вот и живу дальше. Что, казалось бы, одинокому вдовцу надо? – и газета вместо скатерти сгодится, и за простынями-наволочками следить как бы особенно не нужно, чего уж теперь. Нет же, так она меня приучила, что и душа, и тело нечистоты уже не переносят, едва ли не болезнью сделалось. Кто в доме у меня бывал, тот знает.
Вот, значит, год уже, наверное, после того, как без Сонечки я, прошел, выпала мне поездка в другой город на перекрестную проверку. И один только поезд удобный, чтобы утром попасть и с утра сразу к работе приступить. А поезд проходящий, захудалый, еще и медленный, целую ночь тащиться. Я когда в свой вагон зашел, совсем расстроился – грязища несусветная, глаза бы не глядели. Проводница явно навеселе, к ней обращаться вообще бесполезно. Повезло хоть, в купе своем приличную женщину застал, она раньше меня по дороге села, встретила приветливо. Сказала, что как бы рада она такому попутчику, боялась, что в этой колымаге ей ночь одной коротать придется или, того хуже, такие могли подсесть, что как бы чего не случилось. Сама, между прочим, из Дагестана, но русская, к родичам своим в тот же город ехала, чтобы узнать, можно ли туда перебраться, невмоготу ей там стало.
Познакомились мы с ней, всё чин по чину, без всякого поездного панибратства: я Степан Богданович, она – Ольга Дмитриевна. Хотя, я вполне мог бы к ней без отчества обращаться, ей немногим за тридцать было. Бухгалтером работала на швейной фабрике, надеялась, что ее профессия в том городе сгодится, опять же родственники, потому что без мужа она и дочка старшеклассница, за которую очень она боится. Как бы из-за дочки в основном и хочет из Дагестана уехать, той уже из дома в школу и обратно ходить страшно – местные ребята с русскими девчонками не церемонятся. И вообще, сказала, там уже не Россия, одно только название.
Все это она мне рассказывала, совета спрашивала – чувствовалось, что редко приходится ей там у себя откровенно беседовать, и как бы доверием ко мне прониклась. А я слушал ее и думал, что вот еще одна неприкаянная душа по земле бродит, только у нее передо мной большое преимущество – дочка у нее есть. Пожалел ее, растерявшуюся. Чего бы, думал, не жить ей без огорчения, все у нее для этого: и годы еще никакие, и внешность приятная, и умом не обижена. Показала она мне дочкину фотографию – такая же, как мама, светленькая, курносая, глазки милые – не удивительно, что Ольга Дмитриевна за нее боится, местные удальцы как бы в покое такую беляночку не оставят. Она еще оттого паниковала, что девочка сейчас одна осталась. Пристроила ее к своим знакомым, пока сама отсутствует, но все равно сердце не на месте. Приятное у меня получилось знакомство, душевное – если бы еще не грязь в вагоне и не воздух тухлый, не пожалел бы, что в этом поезде оказался.
Время уже позднее, а я пообедать даже толком не успел, опаздывал. Прихватил с собой полбатона и колбасы кусок – много ли до утра нужно? – чай в термосе с удобным колпачком; знал, что те стаканы, которые принесут мне, как бы противно будет в руки брать. И двумя полотенцами запасся – одно, чтобы столик купейный покрыть, другое для умывания. Вынимаю все это из чемодана, спрашиваю, не желает ли она со мной отужинать. Разносолов, сказал, у меня с собой как бы нет, я по-холостяцки, без прихотливостей. Полотенечко постелил, свой провиант на него выложил, термос выставил. Колбасу нарезаю, приглашаю Ольгу Дмитриевну:
– Не стесняйтесь, присоединяйтесь ко мне, чай еще не остыл.
И наблюдаю, очень понравилось ей, что я заранее о том, чтобы пристойно в поезде кушать, позаботился, о многом ей сказало.
– Сомневаюсь, – улыбается, – что вы холостяцкую жизнь ведете, чувствуется женская рука.
А я в ответ шучу:
– Иногда и мужская рука женской не уступит, тут посмотреть еще надо, чья рука. Тем более что врач я и как бы обязан о своей гигиене заботиться.
А она как услышала, что я врач, того сильней ко мне расположилась. Пожаловалась, что у дочки ее частые головные боли, порой такие, что таблетками не утихомиришь, а в чем причина – неизвестно. Показывала ее врачам, те один к другому посылают, никто ничего толком объяснить не может. Сошлись на том, что вегето-сосудистая дистония у нее, а что это за дистония такая и как избавиться от нее, сами не знают. Рецепты выписывают, а помогают они как мертвому припарки. Не знаю ли я, спрашивает, что бы это такое с дочкой могло быть. Я, естественно, отвечаю, что диагнозы заочно ставить нельзя, причин таких великое множество, но помочь сумею, есть у меня такие возможности. Если привезет ее в мой город, лучшим специалистам покажу. Тут она вообще ко мне прикипела, сказала, что обязательно моей любезностью воспользуется, если это не очень затруднит меня. В сумку свою полезла, достала оттуда сыр, печенье, присоединилась ко мне.
Ужинаем мы с ней, угощаем друг друга, вдруг дверь без стука отодвигается, появляется проводница, а за ней два мужика потасканного вида стоят – заросшие, в телогрейках засаленных. И запах от них такой, что на расстоянии выворачивает.
– Вот здесь, – говорит проводница, – два свободных места. Если ночью никто не подсядет, до утра пробудете, а если что – я скажу.
Я из этих ее слов понял, что безбилетные они, как бы сговорились с нашей проводницей. Если бы они с билетами к нам подселились, я бы не возникал – попутчиков не выбирают, как повезет. А тут прямо накрыло меня. Велю проводнице:
– Пусть они мне свои билеты в мое купе покажут.
Проводница мне:
– А вы кто такой, чтобы вам билеты показывать? Контролер, что ли?
Я ей спокойно отвечаю:
– Вот доедем до ближайшей станции, узнаете, кто я такой. А пока пригласите ко мне вашего бригадира, у меня есть о чем с ним потолковать. И о санитарном состоянии поезда, и о порядках, которые вы тут наводите. Заодно и врачебную экспертизу могу провести – на наличие алкоголя в вашей крови.
Она, хоть сразу видать, что выжига та еще, как бы огонь и воду прошла, тут же поостыла. Но один из мужиков, что постарше, вмешался:
– Вам что, свободной верхней полки жалко?
– Не жалко, – объясняю, – но закон есть закон, нарушать его никому не позволено.
А второй из-за плеча проводницы щерится:
– Знаем мы твой закон, просто хочешь с бабой своей на ночь вдвоем остаться, законник гребаный.
Я встаю, из-за столика выбираюсь, говорю ему:
– А ну-ка повтори, что ты сказал.
Я, вообще-то, конфликтов как бы не люблю, тем более с такими сомнительными типами. Тем паче, что их двое на меня одного и моложе они. И вообще устраивать разбирательство здесь, неизвестно с кем, на ночь глядя – сумасбродом надо быть. Но такая меня тогда злость захлестнула, такую ненависть к нему ощутил, что, ей Богу, хрястнул бы его по ухмылявшейся роже, если бы повторил. И они, наверное, это почувствовали, потому что первый товарища придержал:
– Не связывайся с ним, он еще у нас свое получит, никуда от нас не денется.
И проводница туда же – скумекала, что в любом случае с нее спросится, на откат пошла:
– Ну его, ребята, – сказала. – В самом деле, не связывайтесь, я сейчас все устрою.
А я добиваю:
– Заодно устройте, пожалуйста, нам постельное белье, чтобы за вами не бегать. Исполняйте свои служебные обязанности.
Она носом воздух в себя шумно втянула, но промолчала, только дверью, уходя, с маху грюкнула.
Ольга Дмитриевна руки к сердцу прижала, как на икону на меня смотрит. Сам Господь, говорит, послал вас ко мне, не представляю, что бы я делала, если бы тут одна сейчас оказалась. И еще прибавила, что не перевелись мужчины, есть, у кого защиты искать. Слышать мне это как бы приятно было, ответил ей, как должен был – что не стоит благодарности и ничего как бы героического я не совершил, просто этим жлобам потакать нельзя, они все смелые только пока хороший отпор не получат. Тут она забеспокоилась: вдруг они в самом деле меня потом подкараулят и счеты сведут. Меня, признаться, это тоже озаботило, но как бы совсем немного – я действительно думал о них, как Ольге Дмитриевне сказал. А она меня прямо тронула:
– Я, когда мы приедем, от вас не отстану. Пока не убедюсь, что вам опасность не угрожает. И не смейте отказывать мне.
Я в газетку остатки после ужина собрал, поднялся, чтобы сходить в бачок выбросить, а она меня не выпускает – сама, говорит, вынесу, они вас в тамбуре поджидать могут. И кулек у меня отбирает. Я ей, понятно, не отдаю, за кого она меня принимает, возмущаюсь, что же мне теперь – нос из купе не казать? Я к дверям, она выход загораживает, за ручку берусь – она не дает. Я деликатно пытаюсь ее отстранить, она сопротивляется, как-то так получилось, что в пылу мы с ней вроде как бы обнялись. И оба вдруг это поняли, гляжу – она краской пошла. Самому неловко стало, сразу ее выпустил, она говорит:
– Мне все равно выйти надо, а вы пока переоденетесь, вы же, наверное, в костюме спать не собираетесь.
Понял я, что как бы смешно уже будет, если дальше начну с ней воевать, отступился. Она ушла, я в спортивный костюм облачился, а у самого сердечко постукивает: все ж таки это тесное касание молодого женского тела бесследно не прошло. Думал, как Сонечки моей не стало, отошло уже все у меня, как бы и думать забыл. Не отошло, оказалось, и очень меня это смутило. И была бы она просто женского пола, а то ведь симпатичная, все у нее на месте и – тоже не последнее дело – вижу ведь, что понравиться мне хочет. Пусть даже, кроме всего прочего, из-за того, что вызвался дочке помочь, но дела это не меняло. Тут всегда, мужчины знают, особый случай: как вести себя, если чувствуешь, что как бы не безразличен ты женщине, которая тебе тоже понравилась, и есть почти уверенность, что привередничать она не будет, если поухаживать за ней. Сам, пока ее не было, для себя так решил: будет она как бы настойчиво знаки внимания мне оказывать – тогда для себя что-то решу. А сам активничать не стану. Тут много всего намешано было, прежде всего, что в поезде это, нехорошо это как-то, не удобно, к тому же, если откровенно, не юноша прыткий уже был, мог и засомневаться…
Вернулась она, ничего будто бы между нами не произошло, беседовать продолжаем как бы обыкновенно, но чувствую, что многое в ней теперь изменилось, и она, уверен был, тоже чувствует, что я это чувствую. Как бы симпатичная ниточка такая между нами протянулась. Тут заявляется проводница, швыряет два постельных комплекта рядом со мной на полку, цедит, на нас не глядя, сколько заплатить ей должны. Ольга Дмитриевна к сумочке потянулась, но я лишь посмотрел на нее – и она, снова покраснев, руку опустила. И понял я, что это для такой, как она, женщины не просто уступка. Вообще все как бы не просто, когда что-либо денег касается. Тут и самые близкие друзья, если вместе платить приходится, свое право отстаивают, щепетильное дело. А я, значит, в такое как бы доверие к ней вошел, что согласна она, чтобы почти незнакомый и неизвестный ей мужчина платил за нее. Этим своим поступком больше она сказала мне, чем если бы тысячу всяких слов произнесла.
Ушла проводница, мы с Ольгой Дмитриевной сидим напротив, столиком разделенные, разговор как бы продолжаем. И начала она мне про себя рассказывать. Так рассказывать, словно я не посторонний человек, а близкая подружка. Как совсем еще молоденькой была, когда мама умерла, отца вообще никогда не видела, совсем одна осталась. А тут сосед ее, взрослый уже, набиваться к ней стал, Ему, правда, тридцать всего было, но ей, семнадцатилетней, стариком казался. Не нравился он ей, надежды ему не давала, но он настырный был, проходу ей не давал. Выходи за меня, говорил, пропадешь ты одна, а я позабочусь о тебе, королевой жить будешь. А она как бы растерянная была, только школу закончила, на бухгалтерские курсы поступила, после маминых похорон совсем без денег осталась, впроголодь жила, надеяться не на кого. А его она давно знала, в одном доме ведь жили, мужик будто бы нормальный, ничего такого за ним не водилось. А что не женился долго, так это ему как бы и в плюс – значит, основательный человек, не вертопрах.
Одним словом, подумала она-подумала – и согласилась. Тут еще и тетка, к которой она сейчас едет, свою роль сыграла. Выходи за него, советовала, не беда, что не нравится, с лица воду не пить, главное – что он ее любит. Между прочим, сказала ей, такие браки как бы самые надежные. Те скороспелки, которые от любви млели, так же быстро потом разбегались. А тут не мальчишка, человек солидный, инженер, опять же русской национальности, что в ее республике фактор немаловажный. Внушала ей, что, как говорится, стерпится – слюбится, не она такая первая и не она последняя. Взвесила Ольга Дмитриевна все, теткину правоту приняла – тем все и кончилось. Правильней сказать, только началось, потому что в первые же послесвадебные дни поняла, что не королевская жизнь ей уготована.
Заподозрила она даже, что он сватался, чтобы переселиться к ней – жили там впятером в одной комнате. Однако ж думала, что ничего, как-нибудь со временем все нормализуется, даже привязалась к нему по-своему. Ну, а как дочка родилась, и вовсе как бы ни до чего другого стало. К тому же девочка болезненная была, большого ухода требовала. Но что в конец ее сразило – муж после рождения дочки еще хуже к ней переменился. Укорял ее, что мальчика ему не родила, кто-то там бракоделом его дразнит. Никакого внимания ребенку не уделял – ни выкупать помочь, ни погулять, ничего. А дите беспокойное, по ночам плачет, он перед работой не высыпается; она, чтобы не психовал он, на кухне скрывалась, там взад-вперед ходила, укачивала девочку, пока та не заснет. Но хуже всего донимало ее, что к выпивке он был склонен. Раньше, до ребенка еще, нередко за воротник закладывал, иногда домой, что называется, на бровях приползал. Но поначалу вел себя терпимо, особо не выступал – доберется до кровати, в чем есть завалится и храпит до утра. А потом колобродить начал: и то ему не так, и это, руки распускал, если слово ему поперек скажет. Ни по чем ему было, что девочка пугалась, криком исходила. А то еще не только на стороне пил, друзей в дом приводил, таких же алкашей, требовал, чтобы она им стол накрывала. Она бы, может, и накрыла, чтобы не злить его, да только денег он ей как бы почти не давал – откуда они, если пропивал все. И снова она виновата: плохая хозяйка, дом вести не умеет…
Поняла она, как влипла, да куда ж теперь деваться? Опять же ребенок у них, какой-никакой, а отец. И до последнего надеялась, что как бы образумится он, наладится еще у них жизнь. Потому надеялась, что у него вдруг и светлые промежутки бывали, когда не пил он и по-человечески к ней относился. Не часто, но все-таки бывали, даже цветы ей, случалось, приносил. Год прошел, другой, третий – и убедилась она, что напрасно хорошего дожидается, – светлые промежутки вовсе прекратились, и все чаще поколачивал он ее, руки распускал. На работу ходить стыдно было, как синяки свои ни запудривала. Согласна была с дочкой на хлебе и воде сидеть, только бы избавиться от него. А как избавишься? – из дому ведь не выгонишь. На развод подать – так он все равно из квартиры не уйдет, такие же права имеет. Сама бы сбежала, да сбегать некуда – одна тетка далеко, но той самой от жизни достается…
Так и жила год за годом, один свет в окошке – дочурка ненаглядная. Не то что бы привыкла – как бы смирилась она с этой своей жизнью, так, значит, выпало. А с мужем они совсем чужими людьми сделались, жил он, как квартирант, только что обстирывать его надо было и кормить, тут уж никуда не денешься. Квартирантом потому еще можно было его назвать, что мог прийти и не прийти, иногда сутками пропадал где-то. Давно знала она, что шляется он, только мало ее это волновало. Даже рада была, когда он дома не появлялся, меньше проблем. Думала, так ей весь свой век коротать придется; себя заживо похоронила, об одном мечтала: чтобы у дочки жизнь лучше сложилась, не так мыкалась, как мама. И вдруг в прошлом году повезло ей несказанно. За все беды, что на нее сыпались. Он сам с ней на развод подал, на другой жениться задумал. Удивлялась она, кто на него, такого, позарился, жалела ее. Удача еще в том была, что ушел он как бы благородно, с одним чемоданом, на вещи и жилплощадь не претендовал. Вот и надумала она там квартиру продать, а на эти деньги рядом с теткой хоть коммуналку себе какую-нибудь прикупить – главное, чтобы с работой на новом месте устроилось, чтобы не в никуда она с ребенком ехала…
Слушал я Ольгу Дмитриевну, жалел ее до невозможности, а потом, откровенность за откровенность, о своей жизни рассказал. Как без жены остался, с которой душа в душу жили, как пусто теперь в квартире, никакой в жизни радости нет. А когда слушал ее и сам потом рассказывал, как бы забродили у меня в голове всякие отчаянные мысли. Вот Толик о счастливом случае говорил, со мной как бы то же самое произошло. А что, подумал, если это мой счастливый случай? Оба мы с ней одинокие, оба невезучие – может, с каким-то умыслом свела нас судьба в одном купе, даже позаботилась, чтобы никого тут больше не оказалось, как бы не помешал никто нашему общению? И дочка у нее такая славная, я бы мог вместо отца ей быть, позаботился бы о ней, своих-то детей никогда не было. Что разница в возрасте у меня с Ольгой Дмитриевной большая, тоже не препятствие – и не такие браки случаются, а я еще, слава Богу, не дряхлый старикан – взволновала же, например, она меня. И – видно ж – я ей тоже по сердцу пришелся, что обнадеживало. Утром приедем, расстанемся с ней – и нет никакого счастливого случая…
Будь я помоложе и как бы полегкомысленней, я бы активней себя повел. Нет, не в том смысле, что сходу начал бы куры ей строить. Шутка ли – познакомиться с кем-то в поезде, расположиться друг к другу и за несколько часов планы на совместную жизнь строить? И потом, первое впечатление может быть обманчивым. Нельзя же было исключить, что не та Ольга Дмитриевна, за кого себя выдает, такие случаи тоже известны. И так я для себя решил: обменяемся мы с ней адресами, телефонами, а после, время для осмысления выждав, снова с ней встречусь. Она как бы может ко мне с дочкой приехать погостить. Тут, кстати, и выдумывать ничего не надо, с моей стороны даже намеки не нужны – дочку специалистам показать необходимо. А дальше – как повезет, как бы ясно станет, случай или не случай…
Могли бы мы с ней, наверное, ночь напролет проговорить, но время совсем уже позднее, она первая сказала, что пора мне отдыхать. Знала, какая мне завтра с утра предстоит работа, что отдохнуть я должен. Тут уж она верховенство взяла, собралась постели себе и мне приготовить. Выглянула в коридор, удостоверилась, что пустует он, просит меня на минутку выйти, не мешать ей. Я матрасы сверху снял, свое, не поездное полотенце прихватил, в туалет направился, умыться перед сном. Туалет там, кстати сказать, такой страхолюдный был, что эту проводницу только за него одного судить следовало бы. Возвращаюсь – наши с ней нижние полки уже застелены, свет выключен, лишь синеватый ночной еле горит. Ольга Дмитриевна уже легла, простыней до подбородка накрылась. Я дверь изнутри запер, тоже улегся, пожелал ей спокойной ночи, она мне как бы тоже пожелала. Лежим, молчим. А я чувствую, что не скоро заснуть смогу, если вообще смогу, обстоятельства этому не способствуют. И знаю, хоть лица ее не вижу, по одному дыханию сужу, что и она бодрствует. Но – ни слова. Ни она мне, ни я ей.
Полчаса, не меньше прошло. И захотелось мне, чтобы позвала она меня. До того, признаться, захотелось, что дышать трудно стало. Всякие как бы видения перед глазами поплыли. Хоть намек какой-то, думаю, подаст мне сейчас – и все сомнения отброшу. И уже не отпущу ее, как бы дальше ни сложилось. Понял, что именно она та женщина, какая мне нужна, и не прощу себе, если расстанусь с ней. Вдруг слышу: заворочалась она, завздыхала, как бы руками зашарила.
– Что-нибудь случилось? – у нее спрашиваю.
– Одна сережка подевалась куда-то, – жалуется, – никак не найду.
– Куда ей тут деваться? – говорю, – сейчас отыщем. Вы не возражаете, я свет включу?
Не возражает она, я выключателем щелкаю, она простыню отбрасывает, садится. Опасался я, что она халат на ночь сняла – нет, в нем осталась. Она свою подушку вертит, простынями ворочает, а я прямо как бы обомлел. Не помогаю искать – на эту подушку и простыни во все глаза пялюсь. Мамочка родная – такого не видел еще никогда. Ну, бывает в захудалых поездах белье и сероватое, и сыроватое – мириться приходится. Но такого не видал никогда. Что вообще не стираное оно – вопроса нет. Но наверняка спали на нем перед тем кто-то вроде тех мужиков в ватниках. И долго спали. А эта сволочная проводница потом его просто сложила, в пленочный пакет спрятала и нам подсунула. На свою измятую постель глянул – еще гаже стало. Счастье, что сережка потерялась, пришлось мне свет включить, а то бы всю ночь об эту замызганную наволочку лицом терся.
– Нашла! – радуется Ольга Дмитриевна. – На полу лежала. – На меня смотрит, хмурится: – Что с вами, Степан Богданович?
– Вы видели, какие постели нам стелили? – у нее спрашиваю.
– Да уж видела, – вздыхает, – чего еще от них ждать? Совести никакой.
– Почему же мне ничего не сказали? И как вообще могли вы в такую мерзость и себя, и меня положить?
– Не сказала, – оправдывается, – потому что бесполезно было. Ну, пошли бы вы среди ночи с этой нахалкой отношения выяснять, что-нибудь изменилось бы? Спать-то все равно надо. Я сама сегодня утром села, постель еще не брала, понятия об этом кошмаре не имела. – А потом нежно берет меня за руку, виновато улыбается: – Ну не сердитесь, Степан Богданович, скоро приедем, забудем, как страшный сон, этот гадкий вагон.
Я руку ее снимаю, другим голосом говорю:
– Вы правы, забудем, как страшный сон.
И сразу как бы прочувствовала она этот другой голос, руку убрала, тихо так спрашивает:
– Ну зачем вы так, Степан Богданович? Стоит ли из-за какой-то дурацкой постели? Все ведь так хорошо было.
А я свет выключаю, точку ставлю:
– Лучше не бывает. Давайте спать, Ольга Дмитриевна, к чему лишние слова.
Она ничего не ответила, легла, к стенке отвернулась…
Корытко вынул из кармана платок, промокнул им заросившийся лоб и шею, потом так же аккуратно сложил его, спрятал, скорбно покачал головой:
– Вот такие пироги…
– И что, всё на этом? – не поверила Кузьминична.
– Всё, дорогая. Просидел я до утра, выпрыгнул из вагона, едва поезд остановился, затем по делам своим отправился.
– А она что?
– Ничего она. Больше ни словечка друг другу не сказали. Я пораньше к выходу из вагона пробрался, первым из него вышел, как она там дальше, не знаю…
7
Степан Богданович снова вытащил платок, теперь провел им по губам, словно давая понять, что говорить больше не намерен, вернулся на диван, занял свое пустовавшее место рядом с Кузьминичной. Та сердечно погладила его по плечу:
– Вы умничка, ваш рассказ надо бы на пленку записать и по всему радио каждый день на всю страну передавать. Чтобы мужчины наши послушали, выводы для себя сделали. Женщины, конечно, тоже, но мужчины особенно. Потому что ни в какие ворота уже не лезет. Что своего первого мужа, что второго, что одного сына, что другого к порядку не могла приучить. Где снимут с себя, там и бросят, носки по всей комнате валяются, если бы им брюки не гладила и обувь не мыла, так бы и ходили в непотребном виде. А уж не разувшись с улицы по вымытому полу пройти – плевое дело. Стыдно сказать, помыться заставлять приходилось. Потому что кто снаружи чистый, тот и внутри такой же. Бывают, конечно, исключения, но ничего от этого не меняется. И правильно наш литературный классик Чехов сказал, что у человека все должно быть чисто – и одежда, и внешность, и душа.
– Это не Чехов, это Дзержинский сказал, – невинным голосом проворковал Кручинин. – И там у него еще с чистыми руками горячее сердце было.
– Может, Дзержинский и повторил, но первым Чехов был, Антон Павлович, не сбивайте меня, Василий Максимович, я тоже книжки читала, не вам одним.
Похоже, обиделась, затеребила воротничок голубой блузки.
– Так мы ждем, Анна Кузьминична, – не умолкал Кручинин.
– Чего это вы ждете? – свела брови.
– Вашей истории ждем. У такой, как вы, красивой и эрудированной женщины их должно быть немало. Могу лишь вообразить, сколько мужских сердец вы разбили. И еще, увы, разобьете.
Дегтярев воздал Кручинину должное. Конечно, не очень-то порядочным было его подтрунивание над женщиной, так радушно их встретившей, накормившей и напоившей, и комплименты его Кузьминичне были небезупречны, но при нынешнем ее состоянии пришлись в самый раз. Она снова молодо зарумянилась, плечиками повела:
– Скажете тоже! Какие уж теперь сердца, что горячие, что холодные, вы бы на меня раньше поглядели! Парни за мной табунами ходили. Было, мальчики, было…
– Вы и сейчас хоть куда, – поддержал Кручинина Корытко, – зря себя как бы в тираж списываете. И на мужчин энергетически влияете. Если б не вы, не уверен, что стал бы я про себя тут всем выкладывать. Тем более что вы обещали сразу после меня о себе рассказать.
– Обещала – значит сделаю! – непреклонно тряхнула головой Кузьминична. – Я всю жизнь свои обещания выполняю. Потому что всегда я на такой работе, что люди мне верить должны. И на комсомольской, и на партийной, и вообще. Вот те, кто у нас тут живет, знают, не дадут мне соврать. А историй всяких столько было, что роман написать можно, жил бы только новый Чехов. Столько разных людей через меня прошло!
– А вы по теме, сударыня, по теме, – направлял ее на нужную стезю Кручинин. – О несостоявшемся, о несбывшемся. Как вы очень справедливо заметили, в жизни хорошее и грустное рядышком ходят.
– Можно и по теме, если желаете, – довольна была таким вниманием к себе Кузьминична. – Только о грустном не хочу, надо что-нибудь повеселее, а то приуныли вы тут. – Озорно всех оглядела: – Может, мне и не надо бы о таком, я ведь среди вас женщина, да пусть уже. Все молодыми были, все грешили, я, мальчики, тоже не в монашеских одеждах ходила. Вот, помнится…
– Минуточку! – вскочил Кручинин. Подошел к Кузьминичне, учтиво согнул кренделем руку. – Будем соблюдать традиции, позвольте, сударыня, проводить вас к авторскому креслу, чтобы нам не только слушать, но и любоваться вами можно было.
Кручинина тоже поднялась, вдруг ее качнуло, рука Кручинина пришлась очень кстати. Уцепилась за нее, одарила Кручинина благосклонной улыбкой:
– Мерси.
Дегтярев наблюдал, как она, сопровождаемая Кручининым, пересекает комнату, отметил, что ее уже порядочно развезло, явно перекрыла она свою алкогольную норму. Кузьминична плюхнулась в кресло, снова лучезарно улыбнулась:
– Так о чем это я? Ах, да, как молоденькой была! Знала бы, что говорить об этом стану, фотографии бы из дому принесла, посмотрели бы вы на меня прежнюю! Думали некоторые, что я в артистки пойду, с такой выгодной внешностью. Я бы и сама не отказалась, если бы позвали, но для этого в большом городе надо жить, с другими людьми. Сейчас об этом почти никто уже и не помнит, а я ведь тоже с медицины начинала, поступила в медицинское училище. И там не затерялась. Я бедовая была, на месте не сиделось, все придумывала что-нибудь, других заводила. Мне надо, чтобы весело было, интересно, чтобы жизнь вокруг кипела. Терпеть не могу всяких кислятин. Такие вечера, такие мероприятия проводила, что все наше училище гремело. Даже в газете про меня написали. Увидели, какая активная, комсоргом меня избрали. Сначала в группе, потом на курсе, а еще потом – всего училища. Вот сейчас модным стало хаять комсомол, слова доброго не услышишь, а что на замену пришло? Чем теперь молодежь привлечь можно? Вы на нынешних-то молодых посмотрите: хулиганы да наркоманы, страх берет! Или, кто посмирней и по дворам не шляется, сидят, носы в компьютеры уперев, от жизни отгораживаются, тоже мне удовольствие! А мы в комсомоле хорошо жили, здорово, и с пользой тоже, настоящими людьми повырастали, не этим балбесам чета! Беда вот только была, что в училище нашем сплошь одни девчонки, мужского духу не хватало.
Ну, само собой, я в нашем райкоме комсомола своим человеком стала. Без меня у них ничего не обходилось. Как что провести, организовать нужно – в первую голову ко мне. А какие мы шефские концерты давали, как советские годовщины отмечали, одни, к примеру, встречи с ветеранами чего стоили! Это сейчас не нужны никому даже участники войны, многие почти в нищете, подачками в День Победы от них отделываются. А тогда знаменами нашими были, все почести им отдавали. А как мы Октябрьский день праздновали, первомайский! На демонстрацию гнать никого не нужно было, сами шли, с музыкой, с песнями, весело как было, радостно! Да что там говорить, хорошее время ушло, настоящее, не то что теперь – только купи-продай и своруй, где можешь. А субботники, а стройотряды – чем плохо? Мы и чуткие были, на чужую беду отзывчивые, это сейчас на земле валяться будешь – мимо пройдут, не оглянутся даже.
Ладно, не о том я сейчас, воспоминаниями только душу бередить. Но я так считаю, что лучшее время в моей жизни в комсомоле прошло. Партийная жизнь тоже была насыщенной, но там уже строгости больше было, целенаправленности. А в райком я, признаться, бегала не только потому, что отчитываться надо было и директивы получать. Очень мне нравился первый комсомольский секретарь. Царство ему небесное, Виктору, подстрелили его в Ростове бандюги. А он, Виктор, потом далеко пошел, даже когда рухнуло все – такую фирмищу себе отгрохал! Голова у него всегда смекалистая была, знал, что к чему, любое дело умел наладить. А в комсомольскую мою пору совсем молоденький еще был, из армии недавно вернулся. И до чего ж красивый парень, все девчонки на него заглядывались. К тому же холостой, первым у нас женихом считался. Но он из всех меня выбрал, другим предпочел. И за внешнюю красоту мою, и что комсомолу себя отдавала. О любви нашей многие, конечно, догадывались, такое не спрячешь, но мы все ж таки афишировать это не хотели. Ну, там, моральный облик и все такое. Это сейчас все дозволено, а прежде большое внимание этому придавалось, особенно кто на руководящей должности, тем более партийной, а он еще в армии коммунистом стал.
Проблема в том еще была, что встречаться нам негде. У него своей квартиры не было, семья большая, у меня то же самое. Мы вообще старались вдвоем не засвечиваться – чтобы там в кино вместе сходить, на танцы или просто по улице пройтись, ограничивали себя. А дело-то молодое, помиловаться хочется. То, риск он такой на себя брал, в кабинете его закрывались в обеденный перерыв, то он ко мне в училище наведывался, когда все уходили, – в классе свободном запирались, будто бы обсуждали что-то. А чаще всего, вот как Лев Михайлович рассказывал, уединялись где-нибудь подальше, чтобы никто нас не видел. Удобства для любви, конечно, не те, но я и от этого была счастлива, каждой минутой совместной дорожила, влюбилась по уши. Все ждала, что замуж он меня позовет, нормальной жизнью заживем, ни от кого не прячась. Можно было бы, например, квартиру снять, пусть и трудно бы нам пришлось на мою смешную стипендию и небольшую Викторову зарплату. Говорила ему об этом, но сама понимала, что время еще не пришло. Ему по партийной линии расти следовало, а мне выучиться сначала, на ноги встать.
Закончила я училище, направили меня в больницу лаборантом, у моей группы такая специализация была. Я и в больнице не затерялась, через полгода всего комсоргом выбрали. Одно невезение – невзлюбила меня наша зав лабораторией, придиралась ко мне. То ей не так, это ей не так. Зануда была страшная, старая дева, немудрено, что никто ее за себя взять не захотел. Из вас никто ее не застал, она раньше вас из больницы ушла, а то бы поняли меня. Больше всего напускалась на меня, что мне по комсомольским делам приходилось отлучаться, можно подумать, что я на гулянки бегала! Она мне в отместку и работы интересной не давала, к биохимии, например, не подпускала. В основном на анализах мочи сидела, а это, сами понимаете, удовольствие небольшое. Жаловалась я Виктору, можно было, конечно, поприжать ее, вредину, чтобы неповадно ей было, но давить не имело смысла. Тем более что беспартийная она и единственный врач в лаборатории. И вообще в больнице неинтересно мне работать было. Это ж не училище, какие там комсомольцы? Полтора десятка едва набиралось, у многих дети уже, ничего им не надо, только и думают, как бы поскорей с работы домой умотать. Просто всех на собрание свести – и то мучение. Многие к тому же в смену работали. Стала подумывать я, чтобы уйти из этой богадельни. Виктор поддержал меня, посоветовал дальше идти по комсомольской линии, раз у меня хорошо это получается и тяга к этому есть. Выждать немного надо было – у них в райкоме передвижка вскоре намечалась, вакансия образовывалась. А меня там все знали и ценили, ну, и от Виктора многое зависело. И не в одной моче дело – я еще потому загорелась, что хотелось до невозможности рядом с Виктором быть, каждый день его видеть и время проводить вместе.
К весне сбылась моя мечта, взяли меня инструктором. Только вплотную с Виктором поработать не удалось – он вскоре в райком партии перешел. Но все равно над комсомолом он шефствовал, его направление. Я теперь уже за двоих старалась, чтобы его тоже не подвести. Он за меня спокоен был – если уж мне поручено, можно не сомневаться. Ну и, конечно же, и мне надлежащим образом проявлять себя следовало, чтобы в кандидаты приняли. В партию обязательно нужно было вступить, чтобы укрепиться, тоже расти дальше. Это мне Виктор все время твердил, да я и без него понимала. Само собой, не только от Виктора это зависело, но лучше его рекомендации и желать было нельзя. А в райкоме партии без того знали, что работница я дельная, надежная, маху не дам. Ожила я, зарядилась, утром с песней просыпалась, к деятельности тянуло, к живому, настоящему делу. И вообще у меня в жизни хорошая полоса пошла. В июле мы с Виктором на море поехали. Никто не знал, что вместе, мы тайком, на всякий случай даже в разные вагоны билеты взяли. Я на море тогда впервые побывала, целых две недели счастливей меня никого не было. Приехала – загорелая, радостная, светилась вся. Парни вокруг меня вьются, да только нужны они мне, как слепому зеркало, у меня на Викторе еще больше свет клином сошелся…
О чем это я? Ах, да, как с моря приехала. А тут и август подоспел, День железнодорожника. При чем тут, спросите, железнодорожники? А при том, что это праздник у нас был такой, что с первомайским потягаться мог бы. У нас тут железная дорога – самая первая сила. И сейчас они всех богаче и возможностей больше, чем у всех, а уж тогда – и говорить нечего. Праздновали так, что земля дрожала. Потому еще, что наш первый секретарь, Борзенко, был тоже из них, раньше начальником станции работал. Серьезный был мужчина, требовательный, спуску никому не давал, как что не по нему – на молекулы разносил. Боялись его – но и уважали. Потому еще, что брат его в области тоже высокую партийную должность занимал, наш Борзенко за ним, как за каменной стеной был. Знали все: как скажет Борзенко, так и будет, не стой поперек.
А у них на левом берегу своя ведомственная база отдыха была. Она и сейчас тем есть, но не та уже, в упадок пришла, не те нынче возможности. А тогда – сплошной коммунизм для руководства. Наши доктора там бывали, знают – это с десяток домиков таких за оградой, и не только для короткого воскресного отдыха, но и для длительного у них там все приспособлено. Кухня имеется, столовая просторная, все, как полагается. Домики разные – и большие, для нескольких семей, и поменьше, и совсем маленькие. Ну, а для начальственного отдыха – дом не сборный, солидный, кирпичный, все удобства там, какие пожелаются, пианино даже. Летом на базе, особенно в выходные, полно народу, семьями, с детишками. Дно там хорошее сделали, почистили, мостик для купания соорудили. Домишки эти не для одних железнодорожников предназначались, высшее городское руководство тоже использовало, если потребность была. И мы, комсомолия, базой этой иногда пользовались, резвились, чего уж там, на всю катушку…
О чем это я? Ах, да, как День железнодорожника праздновали. Повезло им, праздник на самое благодатное августовское время приходится, одно удовольствие, еще и на воскресенье всегда выпадает. Вот и пригласил меня Виктор поехать туда отдохнуть. Не меня одну, конечно, кое-кто из наших еще поехал, из райкома партии тоже, сам Борзенко обещал быть. Автобусы снарядили, повезли гостей туда во второй половине дня. Потому что в первой официальную часть в клубе проводили, ну, доклад там, отличившихся награждали, всё, как полагается.
Мне на этой базе отдыха, говорила уже, и раньше приходилось бывать – слет проводили, еще пару раз, но впервые попала туда в таком влиятельном обществе. Надо еще сказать, что женщин прибыло совсем мало, а из жен вообще никого – не принято было жен с собой брать. А такие как я, молоденькие, вообще наперечет. Мужики многие подвыпили уже, со мной заигрывают, предложения всякие делают, все солидные, при должностях, а мне и самой весело. Пусть, думала, Витенька мой увидит, каким мужским успехом я пользуюсь. В столовой столы уже накрыты, но никто туда не заходит, ждут, когда первые приедут. Кучкуются возле нее группками, покуривают, анекдоты травят. День жаркий был, река рядом манит, но никто не расходится, потому что ждут. Ну, конечно, музыка играет для настроения, некоторые даже танцуют под нее. Наконец прикатывает черная райкомовская «Волга», в ней сам Борзенко, при нем второй секретарь, начальник станции, исполкомовский председатель – весь наш верх. Они сразу в столовую, мы за ними, рассаживаться начали. Тут тоже свой порядок имелся, никто никому не указывал, куда садиться, но каждый свое место знал, насчет себя не заблуждался. Там, вообще-то, поставили не один стол, а два, параллельно, из маленьких столиков сдвинутых. Тот, который главный стол, не для таких, как я, предназначался, но я за него попала, буквально затащили меня туда, чтобы женским полом его украсить. Приятно мне, конечно, было, но больше всего я гордилась, что и Виктор мой при всех правах за тем же столом, жалела только, что не рядом с ним, разлучили нас. А я как раз напротив Борзенко оказалась. Что впервые за одним столом с ним сидела, объяснять не надо, но впервые так близко его видела. Нет, и раньше, конечно, видела, но не так же.
И поразило меня, что вовсе не такой он, каким себе представляла. Он, оказывается, не только улыбаться, но и смеяться умел, вел себя по-простому, пиджак снял, на спинку стула повесил, галстук поверх бросил. Со стороны посмотреть – и не скажешь, что первый секретарь. Он, правда, хоть и такой пост занимал, мужчиной неказистым был. Маленький, щупленький, лицо желтое – говорили, что желудок у него больной, – не старый еще был, но с залысинами большими, в тяжелых очках. И что интересно, раньше я все это как-то не замечала – ни роста его, ни комплекции. Потому, может, что видела его всегда в президиуме, а без пиджака и галстука вообще никогда. Внушительным казался мужчиной, значительным. Он тут и вел себя, не чинясь, выпивал наравне со всеми, с желудком своим не считался. Ну совсем обыкновенный человек, мне даже от этого приятно сделалось.
Но стала я замечать, что все чаще он на меня поглядывает, и чем больше выпивает, тем откровенней. Ну, я не вчера родилась, поняла, что заинтересовался он мною. С одной стороны, и это мне приятно стало – не каждая такого внимания удостоится, – а с другой, встревожилась вдруг, как бы предчувствие такое. А мужики уже хорошо на грудь приняли, разнобой пошел, за другим столом песни стали заводить. А мне уже не просто приходилось – мужики по бокам от меня крепко в оборот взяли. Особенно один досаждал, торга нашего начальник, Самосудов, помню, была его фамилия. Он-то меня за свой стол и затащил. Пить чуть ли не силком заставлял, развезло его быстро, непристойности говорить начал. Жирный он был, противный, вспотел сильно, все настроение мне портил. Не здесь бы я была и не за таким столом, живо бы его отшила, а тут терпеть приходилось, даже улыбаться ему. Я к нему не раз приходила, чтобы помог, если большое мероприятие с неофициальной частью потом намечалось, он меня всегда выручал. И еще тревожило меня, что Виктор – он тоже напротив сидел, но в дальнем конце – видит, как эта жаба Самосудов жмется ко мне и будто бы по-дружески лапает, а руки-то у меня голые.
Тут замечаю я, что Борзенко тоже это замечает. Он только в самом начале вставал, когда первый тост провозглашал за железнодорожные успехи, а так больше не поднимался. А то вдруг встал, все сразу притихли, и говорит:
– Давайте-ка, други, выпьем за наших прекрасных дам, без которых жизнь наша была бы бесцельна и невыносима.
Все загалдели: прекрасный тост, здорово сказал, мужчины пьют стоя, ну, как всегда бывает, а потом во все глаза на нас уставились. На нас – это на меня и на Борзенко. Потому что он через стол своей рюмкой потянулся ко мне и со мной персонально чокнулся.
Тут мне еще беспокойней стало, но зато выручил он меня – Самосудов сразу вроде бы протрезвел, как-то интерес ко мне потерял. А день уже к закату клонится, завечереет скоро. Посидели еще немного, повыпивали, позакусывали – стол, доложу вам, шикарный был, по тем временам просто невиданный, наверняка Самосудов расстарался – и снова Борзенко всем руководит:
– Что-то засиделись мы, братцы-кролики, не худо бы размяться.
Все снова зашумели, кто-то даже захлопал, из-за столов повылазили, сдвинули их к стене, чтобы свободного места больше было, музыка заиграла…
О чем это я? Ах, да, как танцевали мы. Это сейчас можно никого не приглашать, выходи себе в круг и выламывайся, сколько суставы позволяют, а тогда только парами. А у них на каждую женщину по пять мужчин – самые никакие нарасхват были. А меня никто не приглашает, вообще рядом со мной никого нет, как от чумной от меня шарахаются. Ну, я не из тех, кто в сторонке платочек в руках теребит, – сама к Виктору подошла, пригласила его на танго. Гляжу – и он восторга не выказывает, и улыбается мне, будто сегодня только познакомились. А танцевали мы с ним на таком расстоянии, что между нами еще кого-нибудь втиснуть можно было. Я без обиняков говорю ему:
– Что, субординацию соблюдаешь?
А он мне:
– Глупости какие, просто не надо нам демонстрацию здесь устраивать, мы свое еще наверстаем.
Дотанцевали мы с ним, как шерочка с машерочкой, отводит он меня туда, откуда вышла, и со мной не остается, удаляется. И тут же Борзенко передо мной возникает, с двумя бокалами.
– Выпейте, – говорит, – холодного лимонада, жарко сегодня.
Я поблагодарила его, выпила с удовольствием, и даже не успела заметить, кто и как у меня пустой бокал забрал, словно сам вдруг испарился. И Борзенко уже с пустыми руками стоит, улыбка до ушей:
– Вы позволите, мадемуазель, пригласить вас? Танцор я, правда, никудышный, не судите строго.
Еще бы я не позволила. Его улыбку своей перещеголяла, до затылка, наверно, растянула. Отвечаю ему:
– Спасибо, Павел Лаврентьевич, мне очень приятно.
Теперь фокстрот заиграл, заплясали мы с ним, убедилась я, что не то скромничал он, не то на комплимент напрашивался, но танцором оказался он хорошим, даже удивительно при такой ответственной должности. Я тоже плясунья была не последняя, здорово у нас получалось. Неудобство я только от того испытывала, что он поменьше меня ростом был, не привыкла я к такому. И никто, кроме нас, больше танцевать не вышел, стоят вокруг, хлопают в ритм, восхищаются. Закончилась музыка, Борзенко мне красиво руку поцеловал – поблагодарил так, значит, – и к прежнему месту отвел. Потом на часы свои посмотрел, вздохнул огорченно:
– Дела, Анечка, дела, будь они неладны. Из-за них даже отдохнуть, как все нормальные люди, не могу. Но, надеюсь, буду еще иметь удовольствие повидаться с вами.
Раскланялся – и ушел со своим замом и начальником станции. А я прямо замлела вся. Больше всего оттого, что он имя мое запомнил, хоть и обитаем мы с ним в разных космосах. Но здорово полегчало мне, когда он ушел. Ничего такого между нами вроде бы не было, но так смотрел он на меня через свои тяжелые очки, что екало у меня в желудке. И всем остальным, когда без него остались, тоже полегчало. Дым коромыслом пошел, а на меня прямо охота началась, и главный среди них охотник – жирный Самосудов с потными руками. Улучила я подходящий момент, Виктору знак сделала – и сбежала от них. Виктор меня возле речки догнал, отошли мы с ним в сторонку, чтобы глаза никому не мозолить, у воды сели. Я, под настроение, в глаза говорю ему:
– Что ж ты, Витенька, меня одну бросил? Борзенко испугался?
Он меня обнял, к себе прижал:
– Глупенькая ты моя! Не можешь игры от настоящего отличить! А то будто не знаешь, как я к тебе отношусь.
Стали мы с ним целоваться, тут уж я и про Павла Лаврентьевича, и вообще про все на свете забыла. Совсем стемнело уже, звезды в небо повысыпали, река блестит, сплошное очарование. А когда еще Виктор со мной…
О чем это я? Ах, да, как мы с ним у реки… Он спрашивает:
– Ты в купальнике? Может, искупнемся?
А я купальник под сарафан заранее надела, знала ведь, куда еду. Но больше, чем купаться, мне иного желалось. Подумывала уже, грешным делом, затащить Виктора еще подальше, где кустики начинались. В другое бы время не рискнула, но подпоил меня все-таки приставала Самосудов, от него разве отвяжешься, а я тогда к выпивке совсем неприспособленная была. Ну, и Виктор, конечно, распалил меня, было дело. А тут еще вся эта гоп-компания к реке привалила, гик да ор такой, что птицы поразлетались.
– Витенька, – шепчу ему на ухо, – пойдем отсюда, не хочу от них поблизости.
За руку его потянула – и не знаю, как бы он себя повел, если бы не появился вдруг рядом с нами неизвестно откуда какой-то человек. Словно из воздуха возник. Я в темноте не узнала его, но будто бы встречала похожего в райкоме партии, как бы не водитель Борзенко. Он наклонился, Виктору что-то в другое ухо шепнул – и в темноте пропал. Мне Виктора лицо плохо видно было, но поняла я, как ошарашен он услышанным, потому что как деревянный стал. Всполошилась я, выпытываю, что случилось, а он молчит, только дышит, будто тяжелую работу делает. А потом простуженным голосом говорит мне:
– Надо идти, Анечка, там тебя один человек ждет.
– Какой еще человек? – спрашиваю, хотя сразу обо всем догадалась, да и догадываться-то особой нужды не было, не девочка с бантиками.
– Н-ну, – мнется он, – просто один человек поговорить с тобой хочет.
Меня аж затрясло всю:
– Не пойду я ни к какому человеку, ты что, Витенька?
А он одно и то же бубнит: ничего такого, просто поговорить, ничего такого, просто поговорить…
Заплакала я, от себя его оттолкнула, встала, сквозь зубы ему:
– Никуда я не пойду, сам иди с ним разговаривай, если там ничего такого.
Он тоже встает, и я даже во тьме вижу, какое у него лицо белое. И говорит голосом, какого никогда у него не слышала:
– Пойдешь. Или все между нами кончено, так и знай.
– Что кончено? – не верю.
– Всё, – отвечает. Поворачивается – и почти бегом от меня.
А я стою и не знаю – жива или мертва. Кто-то тихо подошел ко мне, гляжу – тот самый, ласково говорит мне:
– Пойдемте, девушка, я провожу вас.
И тут внутри меня словно бомба взорвалась. Зло такое накрыло, что словами не передать. Ах ты ж гад, думаю на Виктора, как же я тебя раньше не разглядела? Что ж, думаю, всё так всё, тебе же хуже будет. И когда с тем провожатым шла, все слезы напрочь высохли, столько злости во мне было. Одного хотела – поскорей дома оказаться, накрыться с головой и умереть…
О чем это я? Ах, да, ведет он меня, значит, к тому самому каменному дому. Только мы, как я думала, в него не вошли, обогнули его, а там за ним еще один домишко прятался – маленький такой, который на двоих. Провожатый мой сгинул куда-то – не иначе как фокусником подрабатывал, – а я дверь отворяю, вхожу. В комнате, конечно же, Борзенко и, конечно же, один. Ничего другого я и не ожидала. Сидит за столом, а на столе натюрморт. Бутылка шампанского и большущая ваза с фруктами. Ну там яблоки-груши всякие, виноград, но мне почему-то сразу бросились в глаза бананы – я их раньше только в кино да на картинке видела. Он встает, умиляется:
– Вы меня осчастливили своим приходом, мадемуазель, посумерничайте со мной вдали от этого бедлама.
Я, конечно, сразу поняла, что он под словом «посумерничайте» имеет в виду, тоска меня взяла такая, что словами не передать. Молоденькая же совсем была, глупенькая, для одного блюла себя, не то что нынешние оторвы. Господи, думаю, что же мне теперь делать? Если бы не предательство Виктора, знала бы что. Все-таки, какая-никакая профессия у меня была, без работы не осталась бы. Впрочем, сомневаюсь, чтобы кто-нибудь взял меня, если бы наш Павел Лаврентьевич хоть пальцем шевельнул. Но уж больно он непривлекательным мужчиной был, просто воротило меня от него, как недавно от Самосудова. Я и потом, когда в зрелый образ вошла, никого к себе не подпускала, если душа к нему не лежала, а уж тогда, девчонкой совсем… А он за плечико берет – меня словно током шибануло, когда притронулся, – за стол к себе усаживает:
– Давайте, – говорит, – за наше хорошее знакомство шампанского выпьем, а то я смотрю, какая-то вы зажатая.
Зажмешься тут. И не знаю, на кого больше досадую – на него, на предателя Виктора или на себя, что поехала сюда, дура, на свою голову. И не только на голову. Столько сразу мыслей пронеслось, и все самые разные, можно даже сказать, противоположные. Была среди них, честно скажу, и такая: не будь в самом деле дурой – потерпеть немного, будто к зубному врачу пришла, а потом вся твоя жизнь может перемениться, Виктор перед тобой на полусогнутых стоять будет. А то будто не знала я, сама не видела, как самые никудышные бабёнки вдруг большими начальницами делались, на работу и с работы машина их возит…
Помню, зашел у нас как-то с Виктором разговор о выпивке, учил он меня, как пить надо, если не пить нельзя, а голова должна по возможности трезвой остаться. Сказал он мне, что хуже нет, если после водки пиво или шампанское в себя вливать, закосеть можно. Шампанское еще даже хуже пива. А я уже и без того, будь он неладен этот Самосудов-жаба, кондиций хороших набралась. Вот оно, думаю, спасение – забью себя шампанским, а там куда вывезет. Обалдею так обалдею: или отшвырну этого хиляка, если внаглую полезет, или… ну, как у зубного врача. Выпью сейчас шампанского и бананом заем! А он уже бутылку откупоривает, с помпой такой, пробкой в потолок, фужеры мой и свой наполняет, спрашивает у меня:
– Ну, так за что, Анечка, будем пить?
А я бы сейчас только за одно выпила: чтобы у Виктора какая-нибудь кость поперек горла встала за те слова поганые, что сказал мне. Но говорю, конечно, другое:
– Давайте за День железнодорожника, их ведь праздник сегодня.
– Ф-фу, – поморщился, – какая вы, оказывается, скучная, был о вас другого мнения. Неужели ничего интересней придумать не могли?
– А за что ж тогда мне с вами пить? – придурочную из себя строю.
– За нас, Анечка, за нас, – вдалбливает мне. – За нашу прекрасную встречу, за дружбу.
– Если за дружбу, тогда, конечно, давайте, – соглашаюсь.
Известно мне было, что шампанское не водка, чтобы его залпом пить, этикета оно требует, но я, чтобы поскорей все закончилось, одним духом фужер опустошила. И сразу у меня в голове зашумело, зазвенело, беру я из вазы банан, откусываю. И вдруг снова заплакала.
Гляжу – он на меня глаза таращит, затем спрашивает:
– Что с вами, Анечка, почему вы плачете?
– Потому, – отвечаю ему сквозь слезы, – что в мире все сплошной обман, никому и ничему верить нельзя. Расхваливали мне все эти бананы, а на самом деле не разжевать их и гадость несусветная!
А он от смеха трясется, тоже слезы на глазах выступили:
– Простота моя святая, – еле лопочет, – их же раздевать, раздевать надо!
– Кого раздевать? – соображаю еще более-менее. – Меня, что ли?
А он еще пуще заливается:
– И вас заодно не мешало бы, прелестный каламбур получился!
Я как про этот каламбур услыхала, уже не сомневалась больше: всё, думаю, приехали. И только теперь до конца поняла – раньше как-то не заметила, – что сильно он пьян. Говорит гладко, а глаза за стеклами совсем расползаются. Он к двери шаткой походкой прогулялся, незаметно засов изнутри задвинул, возвращается, садится, спрашивает меня:
– Вы всегда, Анечка, такая смуглая, или загорели так?
Я, наконец, откушенное от банана дожевала, проглотила, отвечаю ему, что на море недавно была, а он куражится:
– А вот я сам сейчас определю, есть верное средство, надо на границу между загаром и не загаром посмотреть. – Придвигается ко мне вместе со стулом и начинает мне, сидя, пуговички на сарафане расстегивать. Я на свою беду в сарафан этот вырядилась, пуговички сверху донизу…
О чем это я? Ах, да, пуговички, значит, мне расстегивает. А я креплюсь до последнего: ладно, думаю, границу пусть еще посмотрит, а больше ничего ему не позволю.
– Ого, – восхищается, – как у вас тут красиво! – И сразу же руку туда запускает. А глазища за толстыми стеклами как два блюдца с повидлом.
Я как дернусь – и нечаянно очки у него с носа смахнула. А он на колени падает – я думала, чтобы очки подобрать, а он за колени меня обнимает, Киприда, говорит, киприда. Я как про киприду услыхала, совсем растерялась, думала, что это он так с меня требует. Но даже не это пришибло меня. Представляете себе: партийный секретарь перед тобой на коленях стоит. Пусть даже и здорово поддатый. Нельзя же было такое допускать, я со страху тоже на колени рухнула, чтобы не возвышаться над ним. А он поддатый-поддатый, но ручонки проворные были. Я и ахнуть не успела, как сарафанчик мой упорхнул, лифчик вслед за ним полетел, и он, к груди моей, прошу пардону, присосался. И тут, пока я шалела, кто-то в двери постучался. Громко так, требовательно, даже странно было, что кто-то к нему так ломиться может. И он сразу точь-в-точь как Виктор сделался, когда тот фокусник на ухо ему шептал. Одеревенел. Но быстро нашелся, очки подобрал, нацепил, к окну на цыпочках сиганул, распахнул его, шипит мне:
– Выматывайся отсюда, живо! Ну, кому говорю?
И так он это «ну» произнес, что я пулей в окошко вылетела, до ближайшего дерева домчалась, за ним спряталась. Господа поблагодарила, что чудо для меня сотворил, выручил в последний момент, потом лишь до меня дошло, что я в одних плавках да босоножках осталась. Но больше, чем испугалась, я злорадством переполнилась. Кроме как жена, никто так стучать не осмелился бы, а у него там на полу и сарафан мой, и лифчик. Заткнет куда-нибудь в спешке, а жена обязательно найдет, не киприду, а корриду ему строит. Но мне-то самой куда деваться, как людям на глаза покажусь? Повезло еще, что темно; ну, до утра где-нибудь перекантуюсь, а дальше что? Хоть и ночь тут, но не полная ж темнота – и домики освещены, и фонари вдоль дорожек, слабые, но все ж таки. Был всего один человек, которому я могла в таком виде показаться и который выручить мог, – Виктор. Даже не устыдилась бы – пусть видит, предатель, до чего он своими, можно сказать, руками меня довел, лучше такой кости ему в горло не придумать. Но как до него в таком виде добраться? А там, в столовой, отсюда слышно, гульба во всю идет, музыка гремит, орут, топают. Решила я незаметно, от дерева к дереву, туда пробраться, затаиться – вдруг опять повезет, Виктора высмотрю, окликну…
О чем это я? Ах, да, как за деревом пряталась. Хорошее мне дерево попалось, удобное, на нужном расстоянии от столовой, чтобы и видеть все, и близко не подходить. Главное, самое большое и толстое, других таких, чтобы схорониться, рядом не было. А сердечко все равно выскакивает, это ж не вообразить, как это среди людей без ничего оказаться. Если увидит кто меня такую – впору к реке бежать топиться. Возле столовой фонарь, мужики покурить выходят, только нет среди них Виктора…
Вдруг вижу: появляется разлюбезный мой Самосудов с какой-то незнакомой мне женщиной, направляются в мою сторону. Он ее по привычке своей пакостной обнимает, та хихикает. Городок у нас небольшой, почти все друг друга наперечет знаем, а эту не встречала раньше, должно быть, приезжая. Я на нее в автобусе еще внимание обратила, такая, знаете, на учительницу младших классов похожая. Одета строго – в белой блузочке и черной юбке, очки круглые, волосы гладко назад зачесаны, с виду неприступная. Откуда ж ты, подумала я, взялась, что не гонишь эту жабу, лапать себя ему позволяешь? И, главное, идут прямо в мою сторону, будто по наводке. Не хватало еще, испугалась я, чтобы они до меня добрались, подумывала уже, чтобы дёру дать. Но, опять же, как такой выскочишь? Ползком разве что, по-пластунски…
О чем это я? Ах, да, подходят они, значит, вплотную к моему дереву, а я в последний момент медленно так вокруг него передвигаюсь, жду, когда они минуют его с другой от меня стороны. Да не тут-то было: аккурат за моим деревом останавливаются, спрятались от всех, значит, за самым объемистым, – и начинает эта жаба от нее добиваться. Та, правда, не очень-то сопротивляется, знай себе, хихикает. Представляете себе картинку: они за деревом непотребством занимаются, а я за ним же, только сбоку, к коре его, как Александр Матросов к амбразуре, прилипла, дышать боюсь. Одно, уповала, спасение – что загорела крепко, белым пятном от столовой не высвечиваюсь, хотя и мог бы кто-нибудь заметить, если бы присмотрелся. Ой, не могу! Ну, а у моих голубков, слышу, дело быстро продвигается. Он пыхтит, как паровоз, она еще глупей хихикает.
– Осторожно, – говорит ему, – порвете. Давайте я сама.
Я, откуда только смелости набралась, осторожненько выглядываю, вижу: распахивает он ее, от белой блузочки освобождает. Вот я и помогла им. За воротничок тихонечко потянула, в руках она у меня и осталась, каждый из них, наверное, на другого подумал. Да и вряд ли до того им было, в самый раж вошли. А я, значит, продолжения жду, удобства Самосудову желаю, чтобы в юбке он не путался. Заодно вспомнить пытаюсь, как там у нее юбка крепится. А она, знай, свое долдонит:
– Осторожно, порвете, я сама, сама…
Прошуршало к моим ногам, я опять защитника своего небесного поблагодарила, юбку подобрала, бочком, бочком, к другому дереву отступила, в блузочку влезла, юбку на себя натянула – и ходу! Добралась до ближайшего домика, где посветлей, оглядела себя. Та очкастая сушеной воблой была, не по мне одежка, но худо-бедно жить можно было, если руками впереди придерживать и ни к кому спиной не поворачиваться, потому что юбка сзади не застегивалась. И слышу, кричит кто-то:
– Поехали, поехали, время вышло, автобусы никого ждать не будут!
Я на всякий случай с другой стороны обошла столовую, дождалась, пока садиться начнут, и когда в автобусные двери влезать начали, быстренько пристроилась. Высмотрела в углу на заднем сиденье свободное местечко, воткнулась в него, от этих переживаний весь хмель выветрился. Везло мне в тот вечер несказанно, Виктор не в мой, в другой автобус подсел. А то бы удивляться начал, когда это я успела переодеться, другие бы услышали. А так кому я нужна? – все уже не в том состоянии были, чтобы обращать внимание, кто во что одет. Тронулся, наконец, автобус, я смеяться начала, как сумасшедшая. Воображаю себе, как офонареет та очкастая, одежки своей не обнаружив, и что они с жабой после этого делать станут, – и давлюсь от хохота. Ладошкой рот прикрываю, чтобы не выдать себя, хорошо, мужик, который со мной рядом сидел, так набрался, что заснул сразу…
– Ой, не могу! – звучно хлопнула себя по бедрам Кузьминична и зашлась таким безудержным смехом, что даже тот, когда вспомнила от свидании Толика с Изольдой, в сравнение не шел. Судорожно ухваченных глотков воздуха доставало лишь на то, чтобы выплеснуть из себя очередное «ой, не могу». Длилось это минуты две, затем пришла немного в себя, окинула всех победным взглядом:
– Что, мальчики, повеселила я вас? Обещала – значит, сделала!
– А та, в очках, как же? – полюбопытствовал Корытко. – Как она-то выкрутилась?
– Той легче пришлось, – ухмыльнулась Кузьминична, – не в одиночестве же, как я, была. К тому же Самосудов на своей машине прикатил. Но все равно об этом весь город узнал, со смеху покатывались – здесь разве чего утаишь? Раздобыл он где-то простынку, замотал в нее свою зазнобу, в машину всунул. А всё ж кто-то увидел, растрепал потом. Очкачтая эта, после уже выяснилось, журналисткой оказалась из областной газеты, приехала сюда статью писать.
– А с Виктором вашим как? – Корытко во всем любил полную ясность. – Как бы помирились вы с ним?
– Как бы помирились, – вздохнула Кузьминична. – У меня же с Борзенко ничего не было. Если б было, тогда другое дело, я бы Виктору не простила. Ну, подулась, конечно, чтобы так не спустить ему. Только мы после этого недолго еще встречались, он тоже обиду держал на меня, упрекал, что пошла я все-таки к Борзенко. Порядочная девушка, говорил, никогда бы не пошла, кто бы и как ее ни уговаривал. Отношения у нас хмурые стали, больше ссорились, чем любились. К тому же он вскоре уехал от нас в ваш город, туда его перетянули, как перспективного. Потом редко виделись, когда к нам наведывался, но у меня уже к тому времени другой интерес был, да и он, года не прошло, там у вас женился, разошлись наши пути-дороженьки…
– Прямо-таки советская Анна на шее! – восхитился Кручинин.
– На какой еще шее? – насторожилась Кузьминична.
– На хорошей, сударыня, шее, на хорошей, – успокоил ее Кручинин, – это просто поговорка такая для тех, кто время впустую на книжки тратит.
– Не беспокойтесь, Василий Максимович, я время впустую не трачу, – все еще подозрительно глядела на него Кузьминична. – Мне его, Слава, Богу, есть на что тратить…
8
– Не совсем так, – впервые заговорил Бобров. Местные доктора вообще тихо сидели в рядочек, старались поменьше привлекать к себе внимание. – Виктор, я же помню, приезжал к вам тогда, звал тебя к себе, ты же сама не поехала, закрутила с этим прохиндеем Петром, замуж за этого алкаша пошла.
– Какой же он прохиндей? – вскинулась Кузьминична. – Прохиндея, небось, начальником стройучкстка не поставят! А что выпивал он, так, извините, кто ж не выпивает, к тому же работа у него была такая, строитель ведь, у них без этого нельзя, хоть увольняйся. Не на совещаниях же все вопросы свои решали, будто не знаешь! Ты просто не любил его всегда, вот и наговариваешь! Из-за Зинки своей!
– Она такая же моя, как твоя, – отбился Бобров. – А поехала бы с Виктором, не так жила бы, да еще не в этом захолустье.
– Ага! – хмыкнула Кузьминична, – сейчас бы вдовой была!
– Будто ты сейчас не вдова. Может, после Виктора фирму его к своим рукам прибрала бы. В королевах бы ходила.
– Ну, никому не ведомо, что лучше, а что хуже, – философски заметила Кузьминична. – Вдруг бы меня вместе с ним прихлопнули, у них это запросто. И вообще, Гена, нашел ты место о семейном говорить, наклюкался, что ли? Ты, если такой умный, о Зинке и расскажи, как она из тебя клоуна делала! Ну, чего ты к дивану одним местом приклеился? Кишка тонка? Иди-иди, садись в кресло, а мы все послушаем!
Дегтярев с любопытством следил за их перепалкой. Надо полагать, отношения у них были непростыми. Боброва знал давно, знал также, что Кузьминичне каким-то родичем он приходится, и мнения о нем был неоднозначного. Внешне располагал к себе – таких докторов, особенно хирургов, обожают больные и верят им безоговорочно. Дородный, степенный, с внушительными усами, не говорит, а речет. И специалистом был неплохим, оперировал изрядно, Хазин о нем хорошо отзывался. Но были в нем, не разобрать даже, то ли зыбкость какая-то, то ли желание понравиться, угодить, если зависел от кого-то или чего-то, смех появлялся какой-то дребезжащий. Впервые заметил это, когда, уже давненько, приезжал Бобров на аттестацию за высшей категорией, – он, Дегтярев, был тогда членом аттестационной комиссии. Привез Геннадий Иванович чемодан вяленых лещей, эдаким неуклюжим провинциалом прикидывался, улыбался заискивающе, будто и без того свою категорию не получил бы, никто и не думал голосовать против. И потом, в другой раз, когда проморгал Бобров инфаркт миокарда у больного с резями в животе. Случай редчайший, и самые маститые хирурги на этом прокалывались, только посочувствовать можно, разбирательство, однако, было тягостное. Не понравилось Дегтяреву, как тот выкручивался, нес всякую ахинею, чтобы выгородить себя, хотя все было ясней ясного. И сейчас, в этой истории с Бойко… Впрочем, Дегтяреву не однажды приходилось встречаться с тем, что рослые, мужественного вида люди на поверку оказывались жидковатыми и трусоватыми. И еще удивило его, что Геннадий Иванович, права Кузьминична, завел вдруг дискуссию, явно для посторонних ушей не предназначенную. Вроде бы сильно набравшимся Бобров не выглядел и вообще, это Дегтярев тоже знал, выпить мог неслабо.
А Геннадий Иванович был явно озадачен. Понимал, что посидеть в этом кресле все равно придется, – как же увильнуть, если вся приехавшая комиссия уже исповедалась? – но и приказной тон Кузьминичны, и требование рассказать о неведомой никому Зинке, превращавшей его в клоуна, очень ему не понравились. Наткнулся взглядом на вопросительно выморщившего лоб Корытко, покорно встал и направился к покинутому Кузьминичной креслу. Сел, привычно огладил свои роскошные усы, обратился почему-то не к Анне Кузьминичне, а к тому же Корытко:
– Никто никогда из меня клоуна не делал, тем более Зина. Это она, – кивнул на Кузьминичну, – думает так. И еще некоторые. А как всё в действительности было, никто из них не знает. И сама Зина по сей день не знает. Это она потом наплела, будто выгнала меня в одних подштанниках на мороз и я в таком виде по улице шастал. Потому, мол, выгнала, что я цирк там у нее устроил. Да только цирк не я, а она устроила. С дурацкими своими кошками.
Зина, – продолжил, – чтоб вы знали, младшая сестра Петра, первого мужа Кузьминичны. Я, пока не вышла Аня за него, и не знал эту Зину, на свадьбе познакомились. Потому что после школы уехал в Краснодар в институт поступать, на Кубани же потом и работал. Сюда только через десять лет приехал, когда отца не стало, а мама болела. Я холостым прибыл, так они меня тут женить хотели. Просто мания у них была: женить, и как можно быстрей. Будто это не у меня, а у них такая проблема. Они мне и раньше, когда родителей навестить приезжал, то одну, то другую сватали, все уши прожужжали, Аня особенно старалась. А уж когда здесь обосновался, вообще житья не давали. Не знали того, что у меня в Краснодаре любовь осталась. Замужняя она была, а то бы с собой привез. Обещала мне развестись, вот и ждал. Хотя, чего уж тут говорить, одними письмами и телефонными звонками молодому довольствоваться трудно.
А тут свадьба, Зина эта, значит, сестра жениха. Глянулась она мне сразу, врать не стану. И лицом хороша, и ладная, и плясала здорово. Удивительно даже, а ей уже двадцать пять сравнялось, что замуж до такой поры не вышла. Мнения о себе была высокого, никто угодить ей не мог. Ну, а на меня она тоже быстро глаз положила, интерес проявила. На той свадьбе просто не отпускала от себя. Да я особенно от нее и не рвался. И Аня, хоть и без того у нее своих невестиных забот хватало, подстегивала меня, нахваливала Зину. И как бы хорошо, зудела мне, если бы у нас одна большая семья образовалась, пусть я и не родной ей брат, а двоюродный. И жить было бы удобно, потому что их отец половину дома Петру, а половину Зине отписал, а там домина такой – не сравнить с моей халупой, квартирным вопросом пренебрегать не следовало. То есть как ни верти, кругом сплошные преимущества. Прибавить к этому, что Зина и сама девушка в городе не последняя, институт инженеров железнодорожного транспорта закончила, на хорошем месте в отделении дороги работает – чего уж лучше? Но она мне и сама собой понравилась, Анины дифирамбы здесь ни при чем.
Но был у Зины один, я бы сказал, недостаток. Для кого-то, возможно, и радость, а для меня недостаток, и большой. Обожала она кошек, как с детьми малыми нянчилась с ними. А я кошек терпеть не могу, одного вида их не переношу. Вот собак я люблю и, вполне можно сравнить, реагирую на кошек так же, как собаки. Презираю.
Я когда к Зине впервые в дом попал – аж нехорошо мне стало. У нее две своих комнаты, а в них чуть ли не с десяток кошек, всех мастей. И везде они – на полу, на стульях, на диване, на шкафу, на столе даже, куда ни глянешь. Особенно один котяра меня поразил, Бароном, как сейчас помню, звали. Огромный такой, весь черный, только грудь белая, усищи торчат наглые, и ведет себя так, будто в самом деле барон и все только для него тут предназначено.
Я вообще не понимаю, как можно кошек любить. Собак за что любят? Преданные они, верные, настоящие человеку друзья. И в ответ любят они бескорыстно, жизнью своей, если потребуется, ради человека рискуют. А эти? Не зря ведь говорят, что сами по себе. Ни приучить, ни приручить, толку от них никакого. И подлые еще, вороватые, злопамятные – попробуй только сделать что не по ним. Ну, те, кто бездомно живут, кому о пропитании заботиться нужно, те еще облик свой кошачий до конца не потеряли. А кто при доме, да в городской еще квартире? Мышей ловить давно разучились, если бы пожрать у хозяев не выпрашивали, целый день дрыхли бы. Ладно, с одной как-то примириться можно, живет себе тунеядцем и пусть живет, если по душе кому-то. Но когда их сразу несколько… А эта Зинина страсть к ним вообще для меня непонятна была. Не старая дева, не одинокая, для которых эти кошки вся жизнь, современная, можно сказать, женщина, при всех своих женских интересах. И зачем их столько? Она мне потом рассказала, что не специально их так много набрала, просто мимо пройти не может, когда видит бездомную, неприкаянную. Зимой особенно. А еще детишки окрестные, знают ведь про ее слабость, приносят, а она отказать не может. И рожают они у нее, а котят не всегда раздать удается, не топить же их и не на улицу выбрасывать. А сейчас тем более, потому что холодно, пропадут же. Я ей говорю:
– Если так дальше пойдет, то скоро у тебя ступить негде будет, чтобы на чей-нибудь хвост не наступить.
А она смеется:
– Ничего, в тесноте да не в обиде.
Я ей на это:
– Но в обиде могут не только кошки твои, но и человек оказаться. – Открытым текстом на себя намекаю.
Отвечает мне на это, что кто ее по-настоящему полюбит, тот ее всякую полюбит, кошки не помеха. Мне, смеется, даже интересно будет, если понравлюсь я тому, кто кошек не жалует, лучше испытания не придумать!
Ну, такой разговор у нас уже потом состоялся, а тогда, в первый раз, как пришел к ней, кондрашка, думал, меня хватит. Первой мыслью было бежать оттуда и никогда больше не появляться. Так бы, наверное, и поступил, если бы не глянулась мне Зина. Так, признаться, глянулась, что о той, с кем разлучился, в один день горевать перестал. И, конечно же, не оставляла меня мысль, что если сладится у меня с Зиной, ни одной наглой усатой морды здесь не останется. Придется ей выбор делать. И если хоть капля здравого смысла есть у нее, предпочтет она меня своим кошкам. А если не предпочтет, то хорошей это для меня лакмусовой бумажкой послужит – я уже давно не мальчик был, не одними эмоциями жил. И работа у меня не такая, чтобы дурью маяться, – дом нужен спокойный и тихий, чтобы можно в нем было расслабиться после больницы, отдохнуть по-человечески. Хоть и понимал уже – на свадьбе еще понял, – что эта кошачья мама во всех отношениях самый подходящий экземпляр для совместной жизни. Прежде всего потому, что мне после той краснодарской ни одна женщина не полюбилась, думал уже, что однолюбом родился. А Зину увидел – и куда что девалось. Опять же брат ее на моей сестре женился, условия для проживания тут хорошие – тоже не последний фактор, если не лукавить.
А я к ней тогда, в первый-то раз, не с пустыми руками пришел. Думал, посидим с ней, пообщаемся поближе, друг друга получше узнаем. Вино марочное купил, коробку шоколадную. И не чужим пришел, не посторонним – мы перед тем на свадьбе… ну, в общем, нашли возможность уединиться, побаловались немного.
Встретила меня Зина любезно, поцеловала на пороге, как своего человека, раздеться помогла, зачем, сказала, все это принес, и без того у нее приготовлено. Тронуло меня, что она и сама к моему приходу приготовилась, – ко мне вышла не в домашнем затрапезном, а в платье нарядном и в туфлях на каблуках. Давала тем самым понять, что встреча наша – событие для нее, большое внимание она этой встрече уделяет. И столик уже в другой комнате был на двоих красиво накрыт, витая свеча в подсвечнике, а вокруг бутылки с шампанским кушанья разные – что вкусно всё, и пробовать не надо, хватало только посмотреть. Но я сначала всего этого не увидел, потому что дверь в ту комнату была закрыта. Понятное дело – если б ее ораву туда запустить, в миг бы крошки на столе не оставили, свечу бы даже сожрали.
Не встреть меня Зина так тепло и ласково, я бы сразу этим зоопарком возмутился. Но не стал при первом же свидании напрягать ее, удивился только и попенял немного. Кошки с котами к моему приходу равнодушно отнеслись, лишь Барон на меня недобро отреагировал: спину дугой, шерсть дыбом, зашипел по-змеиному. Ну, Зина прикрикнула на него, он в угол отступил, но оттуда все равно зверем на меня поглядывает, шерсть никак не уляжется. Словно я на его гарем тут покушаюсь. Не сказать, что испугался его, но ощущение не из приятных, уж больно здоровый был котяра, глаза злющие. И сразу я понял, что мы непримиримыми врагами станем. И если суждено мне будет обосноваться здесь – его первого вышвырну ко всем чертям, пусть хоть полярный холод будет на дворе.
Повела меня Зина в другую комнату. Пока меня пропускала, проход ногами защищала, чтобы выкормыши ее туда не проникли. Но все равно одна серая кошка, самая проворная, умудрилась прошмыгнуть. Забежала, хитрюга, – и под тахтой скрылась, чтобы не достать ее. Остальные же за дверью мяукать взялись, кто-то лапой скребся. То ли не хотели они с хозяйкой разлучаться, то ли учуяли, что поживиться чем-то можно. Бедлам, одним словом.
Подпортилось у меня настроение, но Зина со многим меня примирила, потому что красивая была и встретила так хорошо. Она свечу зажгла, свет погасила. Я, признаться, впервые в жизни при свече вдвоем с нравящейся мне женщиной ужинал. Ощущение, должен сказать, редкостное. Это совсем не то, когда свет вдруг на подстанции вырубают и свечкой приходится пользоваться, у нас такое нередко – совсем другое ощущение. Уютности в этом много и задушевности, сближает очень. Открыл я шампанское, выпили мы с ней за наше знакомство, закусываем, получил я возможность убедиться, что Зина ко всем достоинствам и кулинарка отличная, золото, а не женщина. Все бы вообще замечательно было, если бы кошка из-под тахты не вылезла, не приставала к нам. И клянчит, главное, так настойчиво, что не отвяжешься от нее. Зина ей потакает, колбасу с рук дает, а та, утроба ненасытная, мигом все проглатывает и дальше клянчит, покоя от нее нет. И как меня это ни раздражало, все равно хорошо мне было. И Зина все больше мне нравилась. Сидели мы с ней славно, разоткровенничались, о себе друг другу рассказали, о жизни вообще. Оказалось, что на многое взгляды у нас совпадают, и понимает она меня правильно. А я Зину понимаю.
Допили мы шампанское, за мое вино принялись. Отношения совсем родственными сделались. Мы по сути уже и были с ней родственниками, но теперь они сделались не теми родственными, как будто мы просто родственники, а совсем другими, ну, вы ж понимаете. И будь моя воля, не уходил бы я от нее, так здесь бы и остался. Чтобы свеча горела на столе, чтобы ночь зимняя за окном, а мы с ней вдвоем, от всего мира отрезанные, только она да я. И чувствовал, что и ей со мной хорошо, и не станет она гнать меня, если попрошу остаться. Кабы еще эта серая попрошайка возле нас не крутилась, раем бы показалось.
Не знаю, как у нас дальше в тот вечер все сложилось бы, наверное, так, как и надеялся я, но брат ее помешал. Заявился со своей половины, к себе позвал. У них, оказалось, там очередная компания собралась, все никак свадебные возлияния не могли закончить, хоть и два дня уже прошло. Отказаться не могли мы, а потом уже к Зине вернуться неловко было, наглядно получилось бы, скомпрометировал бы девушку, а у нас тут, знаете ли, не столичные нравы, зато языки длинные. Но договорились мы с ней, что я послезавтра приду. Послезавтра, потому что на следующую ночь у нее ночное дежурство выпадало. И я, признаюсь, этого нашего с ней вечера еле дождался, будто мальчишка нетерпеливый. Только вечер нас ждал не обычный, а новогодний, как раз на тридцать первое декабря пришелся. Решили мы с Зиной вдвоем Новый год встретить, без никого. Конечно, не просто это было бы, семейный праздник и все такое, к тому же сразу бы всем себя выдали, но нас это уже мало заботило. Не часто, но бывает так: двое только познакомятся, дни какие-то считанные, для взрослых серьезных людей вообще всего ничего, но знают уже, что никак им друг без друга нельзя.
Короче, дождался я все-таки желанного дня и часа, непременным новогодним шампанским запасся и поспешил к ней. А еще два сюрприза ей приготовил. Колечко ей купил – не обручальное, просто колечко, красивое, с бирюзой, в красивой тоже коробочке с атласной подкладкой, всю зарплату в этот подарок вбухал. А второй сюрприз – маску смешную, буратинскую. Мама сохранила с той поры, когда я в школе еще учился и в спектакле играл. И посмешить Зину хотел, и обыграть свой подарок: мол, не простое золотое колечко это, а золотой ключик, чтобы открылось для меня ее сердечко.
А маска, должен сказать, замечательная была, мы когда-то над ней с мамой три вечера трудились. Над носом буратинским длинным особенно покорпели, чтобы он похожим был и хорошо держался, не отваливался. Мама его для крепости еще и нитками к картону пришила.
Надо бы мне, как принято, попозже к ней прийти, часам к одиннадцати, чтобы старый год проводить и долго нового не ждать, потому что ночь еще впереди. Но я столько ждать не захотел, а правильней сказать, не мог, в девять уже поспешил к ней. С заветным шампанским в руке, с колечком в одном и аккуратно сложенной маской в другом пиджачном кармане. Погода вот только в тот день подкачала. У нас так нередко бывает, совсем обидно, если под Новый год. Вдруг зима денется куда-то, заморосит, снег в грязь и слякоть превратится, всякое настроение отшибает. Но мне не отшибло – вообще ни на что не обращал внимания. Тешился, что скоро Зину увижу, ночь вместе проведем. Лишь об одном одолжении попрошу ее – чтобы ни одного хвоста в нашей комнате не было, пусть она такой новогодний подарок мне сделает.
Встретила меня Зина еще теплей, чем в прошлый раз, в другом уже нарядном платье. На шее у меня повисла, хоть и мокрый я с улицы, сказала, что заждалась. Однако догадывалась, наверное, что я столько дома не высижу, пораньше приду, потому что к нашему с ней застолью заранее все уже приготовила и елочку нарядила. Осталось только гуся, сказала, из духовки вытащить. Не терпелось мне колечко ей подарить, чтобы обрадовалась, чтобы глазки засветились, но сдержал себя. Хотел все красиво сделать, под телевизорный бой курантов. Мы с ней за счастье в наступившем году выпьем – тут я коробочку ей с присказкой своей и вручу.
Разделся я в прихожей, ботинки на тапки, Зиной приготовленные, сменил. Тапки эти, признаться, меня еще в прошлый раз порядком смутили. Зачем, подумал, в доме тапки мужские держит? То есть, понятно, зачем, но мысль, что неизвестно чьи ноги в них уже побывали, удовольствия не доставляла. Тем более что тапки далеко не новые были, разношенные, повидали на своем веку. Но постарался заглушить в себе это, не портить настроение. Входим мы в первую комнату – а там прежняя картина: кошки повсюду, в самых разнообразных местах и позах, а Барон посередине сидит, зенки свои желтые на меня щурит. И вновь то же самое: выгорбился, агрессивно шипит, показалось даже, что сейчас прыгнет на меня. Зина цыкнула на него, тот нехотя, шипеть продолжая, под стол отступил, но оттуда все равно недобро зыркает, не успокаивается.
– Чем-то ты Барону не по нраву пришелся, – говорит Зина. – Даже удивительно.
– Это он меня к тебе ревнует, – шучу.
– Не думаю, – отвечает, – что-то раньше за ним такого не наблюдалось.
Ага, подумал, немало, видно, тут мужиков до меня перебывало, раз она такой вывод может делать. Эта мысль еще неприятней была, чем про тапки, но я снова постарался пригасить ее в себе. В конце концов, понимать должен был, что не к школьнице в гости пришел. Да и какое право имел судить ее за прошлую жизнь, меня ж тогда с ней не было. Но все равно неприятно. Чтобы пар немного выпустить, говорю ей:
– Ты можешь мне сегодня одно одолжение сделать?
– Смотря какое. – Глаза смеются, но видно по ним, что на любое одолжение согласна, и не на одно.
– Пусть, – говорю, – в эту ночь в комнате мы лишь вдвоем будем, без животных.
– И только-то? – уже не одними глазами смеется, – А я уж было подумала…
– Кстати, – спрашиваю, – а как они у тебя, вон их сколько, с туалетными делами управляются? Просто интересно.
– Они у меня приученные, – отвечает, – у меня форточки всегда открыты, вход туда и обратно всегда свободный. И не дома ж им целый день сидеть, это сейчас время такое негулящее, вот они и домоседствуют. И вообще нашли мы, о чем сейчас говорить. Пошли! – Берет меня за руку и в другую комнату ведет. Просьбу мою, однако, выполняет – позаботилась, чтобы никто, кроме нас, за дверью не оказался. Даже той самой ловкой серой кошке проникнуть не удалось.
А в той комнате – сказка новогодняя. Елочка в углу разноцветными фонариками весело мигает, столик вкуснятиной заставлен, никакого гуся не нужно, все мои безрадостные думы напрочь отмелись. И о тапках позабыл, и о кошках – ночь сегодня такая славная, елочка хвоей пахнет, и мы с Зиной вдвоем до самого утра, и никого, кроме нас, и глаза ее так много обещают мне… Я даже телевизор выключил, чтобы песенками своими нас не отвлекал. До двенадцати еще далеко, за стол садиться рано, но знал я, что скучать нам не придется.
– Сними пиджак, – говорит Зина, – и галстук тоже сними, расслабься, считай, что ты у себя дома.
Я Зининому совету следую, постарался лишь пиджак так на спинку стула повесить, чтобы маска не выглядывала, сразу же подхожу к ней, обнимаю, а ноги сами меня к ее тахте несут. Она от поцелуев не уклонятся, но шепчет мне:
– Погоди, у нас еще вся ночь впереди. Не надо второпях, пусть у нас сегодня все замечательно получится.
Я взмолился:
– До ночи, Зиночка, так далеко, хоть полежи со мной! – Не терпелось мне прелести Зинины увидеть, насладиться ими.
Она опять смеется:
– А до нового года дотерпишь, не захиреешь?
– Дотерплю, – обещаю.
– Ну, смотри, – испытывает меня, – погляжу я, какой ты у меня нехиреющий! – И огорошивает: – Ты пока садись, Геночка, сейчас я награжу тебя за терпение!
Я сажусь – а она, представьте себе, выходит на середину комнаты, напевает и, танцуя, начинает раздеваться. Когда наперво только без платья осталась, меня в пот бросило. Это сейчас везде стриптиз показывают, по телевизору даже в дневное детское время, а тогда мы только слышали о нем, да и то смутно. А она, продолжая напевать и бедрами крутить, к двери подплывает, щелкает выключателем, в комнате только елочка в углу светится, а сама Зина как туманом окутана, но видится хорошо. А я смотрю – и балдею. Когда же она лифчик сняла и в сторону его отшвырнула, меня аж затрясло всего. А она лишь свои узкие белые плавочки на себе оставила, еще немного повертела грудью, чтобы доконать меня, потом на тахту упала, руки раскинула, зовет меня:
– Ну, иди сюда, терпеливенький мой!
Меня уговаривать не надо было, мигом разделся и в одних трусах бросился к ней. А она все смеется:
– Не горячись, Геночка, потерпи, ты же обещал!
Это сказать легко: потерпи, к тому же долго я без женщины обходился, хорошо еще, что… ну, в общем, облегчение, уж простите за такое, само пришло, а то бы, боялся, разорвало меня изнутри. Выпустил ее, рухнул рядом с ней в истоме на спину – и вдруг такое увидел, что на секунду даже о Зининых прелестях забыл. Сидит на перекладинке под раскрытой форточкой Барон – и смотрит на меня фосфорическими глазами. Темновато было, но я сразу его опознал. И по груди белой и по величине. И еще глаза эти… Светятся… Как в фильме-страшилке. Спрыгнул он беззвучно на пол и под тахтой скрылся. Не поверите, я, взрослый мужик, доктор, тогда уже под сотню килограммов весил, какого-то кота испугался. Да не какого-то – поглядели бы вы на него: зверюга-зверюгой. И еще глаза эти светящиеся… Больше всего напрягло меня, что он враждебность свою сразу проявлять не стал, молча под тахтой затаился. Словно выжидал удобного момента для нападения. А Зина тоже распалилась уже, тянет меня к себе:
– Ты чего? Что-то не так?
А меня словно заклинило: вот перевернусь сейчас, в мозгу свербит, на живот, контроль над ситуацией утрачу – он на спину мне и вскочит. Даже вдруг почувствовал, как когтищи его впиваются в меня.
– Там под тахтой Барон, – говорю ей.
– Ну и что? – удивляется. – Пусть себе сидит, тебе-то что? Иди ко мне.
Что мне оставалось? Ну, что желание во мне приугасло, и говорить нечего. Тоже бы не катастрофа, тем более что обещал ей до нового года дотерпеть. Но не заявлять же ей, что кота под тахтой испугался.
– Выгони его, – прошу, – он мне мешает.
– Гена, – в голосе уже раздражение чуется, – дался же тебе этот кот! Больше тебе заняться нечем?
– Выгони его! – стою на своем.
Помолчала она, потом буркнула:
– Тебе надо – ты и выгоняй. – И к стене отвернулась.
А я, как на духу говорю, ноги босые с тахты спускать опасаюсь. Так, думаю, и вцепится. И чем его выгонять: была бы палка у меня какая-нибудь, не рукой же. И еще мысль промелькнула, что вот сейчас к нему под тахту загляну, где он там, а он только того и ждет, лицо мне расцарапает. И вовремя вспомнил, что маска у меня в пиджачном кармане. Себя защищу и его, не исключалось, напугаю. Отпрыгнул я подальше от тахты, свет включил, чтобы не в темноте, затем к пиджаку, Буратину на себя цепляю. Зина лежит, не поворачивается, сопит только недовольно. А я лихорадочно план боевых действий выстраиваю. Гнать буду ножкой от стула. Куда гнать? Дверь в ту комнату отворю – другие кошки набегут, вообще сумасшедший дом получится. Форточка высоко, туда его вряд ли загонишь. Значит, придется окно открывать. Зимой не самая удачная затея, но ничего другого не остается, повезло еще, что не морозно, Зину пока чем-нибудь накрою, чтобы не застудить. Все это рассказывать долго, а созрело в одно мгновение. О том лишь не подумал, что с улицы при свете увидеть могут, как я тут в одних трусах по комнате мечусь, не до того мне было. Подбегаю к окну, распахиваю с треском, Зина от этого звука встрепенулась, кричит мне:
– Ты что, с ума сошел?
Я к ней поворачиваюсь, она как увидела мое преобразившееся лицо, заорала, будто режут ее:
– Совсем свихнулся? Идиот!
Я ей пиджак свой бросаю, тоже кричу:
– Накройся, я быстро! В карман только не залезай! – Как ни заведен был, но все-таки не забыл про кольцо для нее приготовленное.
И вдруг преобразилась она. Не узнать стало ее прежнюю, ласковую. А глаза такие злющие, что Барон рядом с ней добрый котенок. И шипит коту под стать:
– Ах ты ж сволочь! Ну всё, хватит с меня! Клоуна из себя корчишь, поиздеваться надо мной сюда пришел? – Подлетает к столу, шампанскую бутылку за горлышко хватает, замахивается на меня: – А ну выметайся отсюда, живо!
И хотите верьте, хотите не верьте, не засомневался я, что эта фурия сейчас меня по башке огреет. И сам вдруг такую ненависть к ней вместе с ее дурацкими кошками ощутил, что в глазах потемнело. А ее точно накрыло, вконец доконал ее, видать, мой Буратино, бутылку над собой еще выше занесла, зубы оскалила, ну ведьма-ведьмой:
– Я кому, гаденыш, сказала?
Этим гаденышем она вообще меня перевернула. Не был бы я так заведен и ошарашен всем происходящим, поступил бы иначе. В то же окно сбежал бы, сказав ей на прощанье пару теплых слов. Только оделся бы сначала. И не столько я бутылки ее испугался, сколько злость накрыла. Да пропадите вы тут все пропадом, думаю. Себя не помня, выбросился, как был, в окно и помчался от нее. Хорошо, хоть не совсем голяком. Тут же опомнился, да поздно было. Хватило только остатков рассудка, чтобы не просто домой бежать, а как бы с таким видом, будто закаляюсь я, решил перед Новым годом оздоровительную пробежку сделать. Может быть, традиция у меня такая. Позабыл только, что в Буратине бегу, не сразу содрал его с себя. Ну, и, как всегда бывает, закон подлости сработал. Время будто бы такое было, что людям на улице делать нечего, по домам сидят, так нет же, засекли меня все-таки, сплетни по городу пошли. А я ведь врач тут, мне репутацию перед больными соблюдать нужно, расхлебывал потом. Вот такой у меня тогда Новый год получился. Пофартило еще, что жил недалеко, а то бы пневмонию или того хуже что-нибудь подхватил…
Бобров как-то кривовато улыбнулся, тоже полез за сигаретами. Откликнулась Кузьминична:
– Да уж, почесали тут языками, не поскупились. Только Зинка эта нам не так рассказывала. Пришла с твоими вещичками, говорила, что с головой у тебя не в порядке стало, клоуна из себя представлял. Она сначала ничего понять не могла, но когда ты ее ни с того ни с сего воровкой обозвал, которая по карманам чужим шарит, лопнуло у нее терпение. А уж когда в этой своей клоунской маске в окно выскочил, бесповоротно решила, что ты рехнулся.
– И вы всему этому бреду поверили, будто не знали меня? – поморщился Бобров.
– Так Новый год же был, – пожала плечами Кузьминична. – Подумали, что набрался ты крепко, в голове помутилось, у нас тут и не такое бывало. Ты же сам, вспомни, ни с кем потом говорить об этом не захотел, мы тебя и не трогали.
– А куда мне было деваться? Объяснять, что какого-то кота под кроватью испугался? – огрызнулся Бобров. – Я и сейчас бы не рассказал, если бы ты не срамила меня при людях. Клоун, клоун! Тоже мне! Язык у тебя без костей! – Геннадий Иванович тоже двинул плечами и, так и не закурив, вернулся на свой диван.
– Как же вы потом с Зиной после этого? – заинтересовался Корытко. – Вы ведь как бы родственниками стали, избегать друг друга не удалось бы.
– Вот с этим уже настоящий цирк приключился, – ответила вместо Боброва Анна Кузьминична. – Зинка-шалава после того недолго здесь побыла. Появился у нас залётка, морячок какой-то с Тихого океана, диво здесь невиданное, весь из себя якорях и тельняшках, в два дня охмурил ее, вместе с ним умотала, кошек своих не пожалела. С тех пор и не видели здесь ее, написала только, чтобы деньги за ее половину дома выслали ей.
– Зачем же, если знали, что шалава она, сватали меня? – не сдержался Бобров. – Все вы тут хороши…
9
– Не нагнетай, Гена, – блеснул очками Глинский. – Я ведь в это время работал уже в больнице, при мне было. И помню хорошо всю эту историю. Можно подумать, что в самом деле только о тебе и судачили. Тем более в Новый год же, когда и не до такого себя здесь во хмелю доводили, верно Кузьминична сказала. Потрепались немного и забыли, ничего тебе не надо было расхлебывать. Я, между прочим, и не я один, совсем другое предполагали. А то мы Зинку не знали. Уверены были, что это не она тебя выгнала, ты сам от нее бегством спасался. Открылись у тебя глаза, дёру дал от нее в последний момент чуть ли не в чем мать родила. И Петя старался, очень уж сестренку свою непутевую поскорей выдать замуж хотел, чтобы перестала она колобродить. Он, уверен, и Кузьминичну настропалил, чтобы агитировала тебя. Ты ж был тут самой подходящей для нее кандидатурой, лучше не придумать. Я бы тебя раньше о ней предупредил, да опасался вмешиваться. А морячка того Зинке сам Бог послал, кто бы ее из наших парней за себя взял? На таких не женятся, таких только… не здесь об этом…
– Чего это я его настропаляла? – возмутилась Кузьминична. – У него свои глаза есть, ему и решать было. Просто полдома ее, полдома Петра моего, двор опять же с постройками, хозяйство. Пусть уж лучше, думала, Гене моему достанется, чем какому-нибудь забулдыге, которого Зинка к себе притащит. К тому же уверена была, Гена такой мужик, что найдет на нее управу, шелковой станет. Между прочим, из таких вот шалав отличные жены затем получаются, если не дуры.
– Откуда знаете? – вежливо осведомился Кручинин. Перехватил укоризненный взгляд Дегтярева, быстро сменил тему. – Я, собственно, сейчас больше хотел о кошках, а не о женщинах поговорить. Абсолютно не согласен с Геннадием Ивановичем, даже принимая во внимание нелюбовь его к этим восхитительным животным. Ведь кошки – олицетворение женского начала. Разве любим мы женщин за какой-то прок от них, ловят они мышей или не ловят? Мы же за красоту их любим, за грацию, за непостижимость. Кошки очаровательные существа, до невозможности уютные, от одного их мурлыканья на душе теплей делается. Символ, я бы сказал, домашнего очага.
– У каждого свое мнение, – счел нужным постоять за себя Бобров.
– Это понятно, – продолжил Кручинин, – и я своего мнения никому не навязываю. Но разве можно, к примеру, сидеть с собакой на коленях, с ее жесткими лапами и псиным запахом? Обратите, кстати, внимание, какими непохожими бывают собаки разных пород. Что размеры, что морды, что уши, что хвосты, что все остальное. Порой, если двух рядом поставить, и не скажешь, что они одного роду-племени. А кошки – всегда кошки, мало чем одна от другой отличаются; ну, пушистей немного или не пушистей, глазки чуть такие, чуть не такие, не принципиально. Согласитесь, Геннадий Иванович.
– Мы о разных вещах говорим, – снова возразил Бобров. – Да и хватит уже обо мне. А тебе, Юра, наказание, что не предупредил меня тогда, – иди колись.
– Чего мне колоться, все так все. – Глинский снял очки, протер их тщательно платком, словно готовился к ответственному действу, аккуратно пристроил на переносице.
Уже по одним этим движениям можно было судить, что наверняка человек он не суетливый, обстоятельный, даже педантичный. Удивительно, – подумал Дегтярев, – что допустил он с Бойко такую непростительную беспечность. Смотрел на него, идущего к креслу, длинного, сухого, слегка сутулящегося, как большинство высоких людей, – мало походил он на человека, способного на какое-нибудь любовное сумасбродство.
Глинский чуть сдвинул кресло, придавая ему другим не ведомую ориентацию в пространстве, сел в него, повторил ритуал протирания очков. И заговорил не сразу, будто сначала прислушивался к звучавшему внутри него голосу.
– Я, пока другие вспоминали, размышлял над тем, о чем самому говорить, когда придет мой черед. И вспомнилось мне одно со мной приключение, когда, как сказал поэт, любовная лодка разбилась о быт. Но завели тут речь о собаках и кошках, и пришла мне на память давняя история, связанная с собакой. Возможно, не совсем она по нашей тематике, но тоже дорогого стоит. Для меня, во всяком случае.
Я, можно сказать, женился в три года. Правильней выразиться, в эти три года знал уже, на ком женюсь. Мы с ней, с Люсей, в детском саду в одну группу ходили. И мамы наши в одной школе учительницами работали и дружили между собой. Мы с Люсей десять лет за одной партой просидели и вообще не разлучались. Нас по отдельности даже не воспринимали. И она, Люся, с того же детского садика жениха во мне видела, так же ко мне относилась. На нас мамы наши нарадоваться не могли, какие мы с ней два голубка. Ни у кого даже мысль не могла возникнуть, что расстанемся мы когда-нибудь. Хотя едва ли не во всем мы с Люсей противоположностями были. Я, признаться, человек не очень эмоциональный, а она такая маленькая крепенькая хохотушка была, из тех, кому палец покажи, сразу смехом зальется. Энергии столько в ней было, что на одном месте сидеть долго не могла, резвости через край. Но не зря ведь говорят, что противоположности сходятся. Мы с ней, пусть и разные такие, по-настоящему и не поссорились ни разу. Планы, конечно, на будущее строили; наши с ней, когда постарше мы стали, беседы часто начинались одной и той же фразой: «вот когда мы поженимся…». И мамы наши – а мы в гостях друг у друга, как у себя дома были – тоже говорили: «вот когда вы поженитесь…». А мы с Люсей всегда вместе: если не я у нее, значит, она у меня.
Но все понимали, что надо сначала определиться, на ноги подняться. Мы с ней после школы решили в медицинский поступать, обоим нам профессия эта нравилась. Страх один был, что кто-то из нас поступит, а другой нет. Вообразить невозможно было, что придется разлучиться, существовать по раздельности. А конкурсы тогда в медицинский кошмарные были, особенно без двухгодичного медицинского стажа, проходной балл высоченный, даже золотых медалистов отсеивали. Но повезло нам, оба пробились, редкостная удача такая выпала. Не желала, значит, судьба, чтобы пути наши хоть на время разошлись. Мы с ней в одну группу факультетскую попали, и там нас тоже друг без друга не видели, удивлялись, если кого-нибудь поодиночке встречали. Проучились уже три года, повзрослели, наш бы с ней союз законным браком скрепить следовало, но мы не спешили. Оба мы с ней без отцов росли, какая там у наших мам зарплата, не хотели у них на шее повиснуть. А главное – жить хотели в отдельности, чтобы все у нас было свое и никто не вмешивался. Причем больше это от нее исходило, я на все был согласен. После третьего курса заимели мы право средними медицинскими работниками трудиться, дежурили по ночам, материально полегче стало. Люся даже по грошику откладывать начала на обзаведение, когда институт закончим и вместе в одну больницу работать поедем. Знали ведь, что в городе остаться вариантов нет, распределят нас куда-нибудь в область. Но мы этого не боялись, только бы вместе, иного для себя не представляли.
Не то чтобы я других девушек не замечал, некоторые нравились мне, но и мысль не могла возникнуть, что могу с кем-нибудь, кроме Люси, прогуляться даже. Говорю же – с детского сада выбор сделал. И она ни на кого из парней не заглядывалась – я бы заметил, узнал ведь ее за столько лет, как самого себя.
У нас вообще никаких тайн друг от друга не было. Вот только подрабатывали мы с ней в разных больницах, в одну не удалось устроиться. Обязательно потом рассказывали, как у кого дежурство прошло, что и с кем случилось. Она в травматологии работала, у них там вообще всякие страсти бывали, особенно в Люсином изложении.
Больше всего об одном парне она опечалилась, водителе автобуса. Такой молодой, говорила, красивый, по частям его собирали, думали, не выживет. И когда он на поправку пошел, радовалась так, словно близкий человек выздоравливал. Мы тогда уже на последнем шестом курсе учились, готовились к самостоятельной жизни. А Люся и потом, когда этого водителя домой выписали, наведывалась к нему. Не гостевать, конечно, – инъекции делала, договорились они.
Столько тарахтела она о нем, что я, признаться, ревновать немного начал. Виду, понятно, не показывал, чтобы не оскорблять ее. Больше всего не нравилось мне, что она его Коленькой называла. Как меня Юрочкой. Ах, Коленька сказал, ах, Коленька сделал. Я даже подтрунивал над ней. Произойдет что-нибудь, подначиваю:
– Интересно, что бы на это твой Коленька сказал?
А уж когда Коленька настолько окреп, что на работу вышел, Люся просто счастлива была. И по-прежнему к нему бегала. Я уже волноваться начал, спрашиваю:
– Если он уже здоров, то наверняка в твоих уколах больше не нуждается, зачем ты ходишь к нему?
А она обиделась на меня, что подозреваю в чем-то, еле успокоил ее. Через какое-то время заявляет мне Люся:
– Мы завтра вечером идем в кафе.
Я удивляюсь:
– Чего вдруг? Событие какое-то?
Мы с ней никогда ни в какие кафе не ходили, потому что денег на это выбрасывать не хотели, да и не было у нас таких денег. Оказалось, Коленька нас приглашает. Не очень-то по душе мне это пришлось, но в то же время облегчение какое-то почувствовал. Если он не одну, со мной Люсю приглашает, значит, вряд ли у них промеж собой что-то есть. Заодно и порадовался, что увижу, наконец, этого Коленьку, хоть знать буду, чего это прикипела она к нему, – все-таки сомнения порой бродили.
Говорил уже, что перед тем никогда не доводилось мне ни в ресторанах, ни даже в кафе сиживать, Люсе, соответственно, тоже. Кроме столовых, никаких подобных заведений мы не знали. И, смешно вспоминать, думалось почему-то, что как бы не своими там окажемся, заметно это будет. В тот вечер готовились, будто в театр на премьеру собрались. Я свой единственный костюм вычистил, отутюжил, туфли до блеска надраил, Люся лучшее платье надела, бусы мамины янтарные. К семи часам было назначено, мы минута в минуту подошли. Кафе в центре города, «Мечта» называется. Я внутрь, само собой, никогда не заглядывал, но представление имел. Мимо же столько раз проходил, а окна большие, стеклянные, хорошо просматривается.
Заходим – а Коленька уже там, в дальнем углу за столиком поджидает нас, а на столике том все для ужина приготовлено. Что мне сразу в глаза бросилось: посреди всего бутылка водки стоит и бутылка вина. А я тогда к выпивке совсем не приспособлен был, о Люсе и говорить нечего. Господи, думаю, кто же все это выпьет? Неужели он один? И еще неизвестно, как поведет он себя, если столько употребит. Но держусь нормально, веду себя обученно, стул отодвинул, чтобы Люся села, Коленьке руку протягиваю:
– Юрий, – говорю, – рад с вами познакомиться.
Он мне с первой минуты не понравился. Зад свой от стула не оторвал, сидя мне руку пожал:
– А я Николай, много о тебе слышал.
Заметили? Я, без пяти минут доктор, к нему на «вы», а он мне «тыкает». Что с него, думаю, взять, водила и есть водила. Но про себя с огорчением отметил, что парень он в самом деле приметный. Девчонкам такие нравятся. Рослый, плечистый, брюнетистый. Одни волосы чего стоили – до того кудрявились, не верилось даже, что сами по себе так вьются. А я всё о своем думаю: зачем все-таки он меня тоже позвал? Потому что Люся без меня не пошла бы? Хотел поглядеть на меня, оценить? Отшить меня? Но зачем для этого нужно было на кафе тратиться? Себя показать, чтобы на Люсю впечатление произвести, какой он удалой да широкий? Этот вопрос, кстати сказать, вовсе не последним был. Один из тех немногих случаев, когда я от Люси что-то утаил. Мне перед тем зарплату выдали, деньги не бог весть, но расплатиться за себя и за Люсю смог бы, какими бы цены в этой «Мечте» ни были. Потому что было это принципиальным, не хотел я, чтобы он за нас платил. Пусть и брешь это в моих финансах пробило бы заметную, тем более что водку и вино он заказал, которых мы с Люсей если и отведаем, то самую малость. Но я мелочиться не буду: счет нам принесут, на три сумму разделю, две трети заплачу, понравится это ему или не понравится. Я когда в этом решении утвердился, сразу мне похорошело, поуверенней держаться стал – и с Коленькой этим, и вообще в кафе. А мне там понравилось: и красиво, и уютно, и музыка из магнитофона негромкая. Вот, – подумалось, – скоро дипломы с Люсей получим, заживем своим домом, обязательно станем иногда ходить с ней куда-нибудь посидеть, отдохнуть. Чтобы Люся с ужином вечером не возилась, и вообще.
Но это всё были второстепенные мысли, а первейшие: понаблюдать за ними. Особенно, когда Коленька-Николай на грудь примет, бдительность потеряет. Хоть где-то – а промелькнет, как они между собой, или он, или она себя выдадут. Мне ведь много не надо – шутки, улыбки, взгляда. И если что-то заподозрю… Что я тогда? Уйду? Уйду вместе с Люсей? Сделаю вид, будто ничего не заметил, потом уже с Люсей разберусь? Одна проблема на другой. Тут еще одна обида была. Сами мы не княжеских кровей, говорить даже об этом неловко, но все же заело меня, что Люсин выбор пал на этого заурядного водилу, как бы он ни кудрявился. Ни тени интеллекта на лице, ухмылка самодовольная. Я прежде всегда был убежден, что Люсю привлекают парни совсем иного склада. Так что слово «обидно» здесь самое уместное. И до сегодняшнего вечера не подозревал, что я ревнивый человек. Может быть, потому, что Люся никогда мне повода не давала. Ревнивцы, знаете, бывают двух типов. Одни в сопернике выискивают преимущества, которые привлекли их пассию, другие, наоборот, лишь негативное в нем видят, чтобы еще сильней растравить себя. Я, скорей, ко второму типу отношусь. К тому же Коленька, кажется, все делал для того, чтобы я во мнении этом укрепился. У Чехова, помнится, сказано, что есть люди, по одному смеху которых можно узнать дурака. Так вот Коленька был как раз из таких. Вдобавок ко всему ржал он так громко, что оборачивались на нас.
Отношения у меня с ним с первых минут не сложились. Началось с того, что он, не спрашивая меня, мой бокал, как и себе, доверху наполнил водкой. Я сказал, что водку пить не буду, демонстративно и себе, и Люсе в рюмки – благо не одни бокалы нам поставили – налил вина. А он задает мне вопрос, от которого нормального человека всегда воротит:
– Мужик ты или не мужик?
Если бы не Люся, ответил бы ему соответственно, но портить ей настроение не хотел. Сказал только, что мне самому решать, что пить, а чего не пить, и вообще было бы неплохо, если бы он ко мне, как я к нему, обращался на «вы». Тут Люся вмешалась, но лучше бы промолчала. Возможно, подсобить мне хотела, но вышло так, будто бы за ней всегда последнее слово. Заявила, что не разрешает мне пить водку, поэтому пусть он не пристает ко мне. А он словно не замечает, что заведённый я, гогочет:
– Ежели так, тогда ясненько! Против Люси не попрешь, девица с характером! Я это усек, когда еще весь битый-ломаный лежал, как мумия загипсованная, а она мне одно место шприцами дырявила! Вот за Люсеньку мы сейчас и выпьем, как она того заслуживает! Ну, будь, Люсенька! – Чокается с ней своим бокалом и одним махом его опорожняет, утробно крякает.
А со мной, это тоже заметьте, не чокнулся. И я это как посланный мне сигнал воспринял – дает понять, что мало я его интересую и считает он меня здесь бесплатным приложением к Люсе. Бесплатным во всех смыслах этого слова. Он закусывает и, не переставая жевать, рассказывает, как одну выпендрежную тетку сегодня лажанул – в автобус ее не пускал с овчаркой. Он вообще псин всяких терпеть не может, а та еще через переднюю дверь полезла, будто дите у нее малое. Объясняет он ей, что нельзя с собаками, тем более такими страхолюдными, пассажиров перепугает, а тетка на своем стоит: покажите, требует, где написано, что не положено, если собака в наморднике. Он ей говорит: сейчас покажу, раз ты такая законница. А у него как раз в кабине вчерашний «Советский спорт» лежал. И затряс восхищено головой:
– Ну, комедия! Я ж не поленился, вылез от руля, газету ей сверху протягиваю: на, держи, специально для таких, как ты, умных с собой вожу! Она газету берет, видит, что это «Советский спорт», глаза таращит. Однако же разворачивает: вдруг в самом деле написано! На какой, спрашивает меня, странице? Не помню, говорю, то ли на первой, то ли на последней. И не уезжаю, стрёмно мне, как она на полном серьезе начинает по газете глазами шарить! Поднимает их на меня, лоб в складках. «Но-о…» – тянет. Я ей: «но» будешь своей коняге говорить, меня пока не запрягала! Садиться будешь или нет? Обрадовалась она, только сунулась, а я дверью перед самым ее носом хлопнул – и по газам! Посмотрела б ты, Люся, какая рожа у нее сделалась, в два раза вытянулась!..
Я ничего смешного в этой истории не видел, пакость одна, к тому же лишь подтвердила она, что первое мое впечатление о нем было верным. Меня другое поразило: что Люся тоже смеяться принялась. Ну да, хохотушка она была, рассмешить ее ничего не стоило, но не дура же! Потакала, значит, ему, угодить хотела. И вообще тут много чего было намешано. Не говоря уже о том, что не самое приглядное зрелище, когда человек одновременно жует, рассказывает и хохочет. А я что? – сижу, ем, вкуса не чувствуя, надо же чем-то заняться и не пропадать же добру, мне ведь и платить за него. А Коленька снова себе водочки наливает, Люсину недопитую рюмку вином пополняет, предлагает выпить за медицину, которую Люся выбрала и которая к жизни его вернула. За это я тоже выпил – и случилось совсем уже неожиданное: Коленька Люсю танцевать позвал. Потому неожиданное, что никто в кафе не танцевал, музыка просто для настроения играла. Люся отнекиваться начала, как раз на это упирая, но он и слышать не хочет, поднимается, за руку ее тянет. Тут уж я не выдержал:
– Ты что, не слышал? Не хочет она танцевать, пусти руку!
Люся понимает, что Коленька так просто от нее не отвяжется и обстановка накаляется, вымученно улыбается:
– Не ссорьтесь, ребята, не портите такой хороший вечер. А ты, Юрочка, не делай из мухи слона, ничего не случится, если мы разок потанцуем, ерунда же это, было бы о чем спорить!
И выходит из-за стола. А я снова не знаю, как мне дальше быть. Тянуть ее за другую руку, мол, сказал, не пойдешь, значит, не пойдешь? На нас и без того уже смотрят. Встать – и демонстративно уйти отсюда, оставить их вдвоем? Было, вообще-то, одно, если постараться, утешение: что Люся иначе в самом деле поступить не могла, – лучше разок станцевать с этим нетрезвым мордоворотом, чем при всех отношения выяснять, – но только очень уж слабое утешение. Сижу, сцепив зубы, гляжу, как они в узком проходе между столиками танцуют. Он, паразит, с Люсей особенно не церемонится, норовит прижать ее к себе, а она, красная вся, на отдалении старается держаться. А я накручиваю себя, что красная она не оттого, что ей стыдно, а взбудоражилась от этого танца с ним. Она смотрит на меня, показывает мне улыбкой, чтобы не брал лишнего в голову, пустое всё. Лучше бы не улыбалась. Но план у меня уже созрел. Закончилась, к счастью, мелодия, возвращаются они. Я встаю, кладу на стол две сотни – половину своей медбратовской получки, – тоже улыбаюсь:
– Приятно было с вами познакомиться, Николай. К сожалению, не можем больше тут задерживаться, дела. Люсенька, я жду тебя на выходе.
Намеренно вежливо ему говорю, чтобы почувствовал, хамло, разницу между нами. Выхожу из кафе, гляжу на часы, зарок себе даю: если Люся через пять минут не появится – ухожу. И гори оно всё огнем. А если появится она вместе с ним, хоть и понимал я, что вряд ли такое возможно, – ему ведь сначала с официанткой расплатиться нужно, а это не быстро – то тем более уйду. Через шесть минут – я одну лишнюю за столько наших лет ей прибавил – вышла. Я ей рот не даю открыть:
– Только, пожалуйста, ничего мне сейчас не говори. Потом объяснимся. И давай быстрей, наш троллейбус подходит.
Бежим мы, чтобы успеть, к остановке, я за руку ее, как обычно, не держу, отдельно бегу. В троллейбусе две остановки молчали, затем я накипевшее у меня выдал ей полной мерой. Что в голове у меня не укладывается, как могла она вообще поддерживать какие-то отношения с таким низкопробным типом. Она что? – оглохла, ослепла, не сознавала, кто перед ней? И не в том дело, что он шофер, ничего зазорного нет, он же мурлым мурло, из другой галактики. Двадцать, – говорю ей, – лет тебя знаю, что с тобой произошло? Она, конечно, защищается. Сама, – оправдывается, – не ожидала, что он так нелепо себя поведет, не поймет она, что на него нашло. Может, водка так плохо подействовала, или на работе неприятности? Вовсе он не такой, видел бы я его в больнице, несчастного. Добрый он и хороший, просто я его не знаю, сужу по первому ошибочному впечатлению. Я в эту глупую дискуссию втягиваться не желаю, ставлю точку:
– Короче, так, Люся. Если ты еще раз рядом с ним окажешься, между нами всё. Думай обо мне после этого что хочешь. Тебе решать.
Нападение, известно, лучшая защита; Люся на меня: да как не стыдно мне, да как мог так плохо о ней подумать, устроить такое из-за того, что станцевала с кем-то, она, конечно, если для меня это принципиально, может вообще к этому Николаю близко не подходить, но тоже от меня этого не ожидала, потому что и она меня два десятка лет знает, удивляется не меньше, – короче, много чего наговорила…
Когда хочешь, чтобы тебя переубедили, желаемого достичь не трудно. Сам уже начал подумывать, что переборщил немного. Свербело только, что Люся очень все упростила, так получалось, что взъерепенился я оттого, что она танцевать пошла с Коленькой, как будто в этом была проблема. Не смог я ей втолковать или не сумел это сделать, что уязвляют меня вообще какие-либо ее отношения с таким, как Коленька-Николай, ничего у них общего нет и быть не должно. Тем не менее, через две других остановки мы поцеловались, а на следующей, нашей, сошли, держась за руки.
Я потом долго над этим размышлял. Внешность, понимал, все-таки немалую роль играет. Для некоторых – решающую. По мне, так, будь я женщиной, даже в сторону этого Коленьки не поглядел бы. Но я не женщина, судить могу лишь отвлеченно. Возможно, та же Люся его другими глазами видела. Добрый он, сказала, хороший. Или попросту сначала очень жалела его, в беду попавшего, а от жалости до чего-то большего рукой подать? Но все равно выше моего разумения было, что этот Коленька способен был произвести на Люсю какое-то впечатление, хоть и видел я его всего полчаса. Мог бы я, конечно, тешить себя мыслью, что не осталась же она с ним в кафе, но не очень-то обольщался – не хватало еще, чтобы и такое случилось, тогда вообще впору думать, что свет перевернулся…
Неделя прошла, мы с Люсей, как сговорились, о Коленьке ни слова. Будто и не было его в нашей жизни, не было никакого кафе. Но у меня в душе покоя нет. Все чудится мне, что видятся они тайком. Возникло даже сомнительное желание как-нибудь выследить ее, способы придумывал разные. Например, поменяться дежурством, не сказав ей об этом, оно у меня с восьми вечера, пусть думает, что до утра не появлюсь я. Сам себе противен был, но, как говорится, из песни слова не выкинешь. Тут еще в том проблема была, что не от одной Люси зависело, встретятся они или не встретятся. Он же настырный, от своего, если заблажит ему, не отступится, имел я возможность убедиться в кафе. И в то же время страшился я узнать невыносимую для себя правду. Потому что пришлось бы мне тогда что-то предпринимать. От этого «что-то» жизнь делалась не мила. Тупиковая ситуация: знал, что не прощу я Люсе, так же однозначно, как и то, что не смогу без нее. Ведь вся моя жизнь, от и до, с нею была связана, сравниться могло с тем, как если бы с мамой пришлось разлучиться. Я тогда слова «люблю» вообще не понимал. Спроси меня кто, люблю ли я Люсю, не совсем понял бы, о чем речь. Просто это была моя Люся, как моя рука или мой глаз, без чего жить можно, конечно, только жизнь такая – ущербней не бывает. И вглядывался, вглядывался – нет, не вглядывался, – впивался глазами в Люсю, стараясь делать это незаметно, пытаясь прочесть что-то в ее лице.
А вскоре случилось вот что. Шел я по улице, увидел, как на углу картошку продают. Хорошую картошку, и недорого. Вспомнил, что дома ее у нас с мамой не осталось уже, а у меня как раз авоська с собой была. Очередь, правда, длинная, человек пятнадцать, но решил постоять. Двигалась очередь медленно, потому что товар такой – пока наберут, пока взвесят, пока отпустят. А передо мной молодая женщина стояла с пацаненком лет шести. Тут и взрослого тоска возьмет, в этой очереди, а мальчишка вообще занудился. На месте ему не стоится, капризничает, мать на него покрикивает. И тут повезло: взялась откуда-то собачонка. Небольшая такая рыжая дворняжка, из тех, что бездомно живут, где и как придется кормятся. Такие бедолаги всегда приветливые, к людям ластятся – в надежде, что перепадет им что-нибудь. Подбежала она к очереди, в ноги тычется, принюхивается, хвостом вертит. Добралась она и до мальчика, тот ее гладить начал, она прильнула к нему, глазенки жмурит – не часто, видать, ей людская ласка перепадала. А мальчика уже ничто другое не заботит, счастлив он, что задружила она с ним. За ухом ее почесывает, нежными словами называет и млеет от этого больше, чем она. Просит маму:
– Она голодная, наверно, дай ей что-нибудь.
Мама в сумку полезла, вынула батон, кусок отломила, бросила. Да так неудачно, что тот за тротуар, на дорогу выкатился, недалеко, правда. Собачонка мигом про мальчика забыла, бросилась за ним. И тут вижу я – автобус к ней приближается. Едет, правда, не прямо на нее, на метр еще сбоку запас имелся, но все равно тревожно стало: вдруг испугается она и в страхе не в ту сторону отскочит, под колеса попадет. Но произошло совсем невероятное – никуда она не отскакивала, он сам на нее наскочил. Специально, мерзавец, вильнул в ее сторону, сомнений не вызывало. А я успел увидеть через лобовое стекло кудлатую голову Коленьки, даже знакомую ухмылку различил. Сшиб он ее – и дальше прямо покатил. Счастье, не мучилась дворняга – удар такой силы был, что всего лишь дернулась пару раз и застыла. А мальчик закричал. Это даже не крик был – вой какой-то нечеловеческий. Потом началась с ним истерика. Бился так, что мама не могла его удержать, пена изо рта. Я испугался, что эпилептический припадок у него, завспоминал уже, что необходимо делать в таких случаях. Люди в очереди к мальчику кинулись, успокаивают его, мама сама ревет, словами не передать. Еле в чувство более или менее привели, мама увела его, все еще давившегося рыданиями…
Я тоже ушел, не стал покупать картошку. И такое на сердце у меня было, что самому впору завыть…
Дома она была, встретила меня, заулыбалась:
– Хорошо, что ты пришел, я как раз…
Я договорить ей не даю, сразу выплескиваю из себя:
– Коленька твой негодяй, каких свет не видывал! Гад и паршивец!
– Да что с тобой? – глаза округлила. – Что произошло?
Я ей рассказываю, что произошло, эпитетов не жалею. Она удивляется:
– Чего ты так разволновался? Собачку, конечно, жалко, но не человека же он задавил! Мало что ли сбитых машинами собак на дорогах валяется?
– Как ты не понимаешь? – из себя уже выхожу. – Он же специально наехал на нее, специально! Нарочно вильнул, чтобы раздавить ее, на глазах у всех! Там в очереди мальчик один сам чуть от ужаса не скончался!
– Ну и что? – смотрит на меня ясными глазами. – Ну вильнул, помешала она ему чем-то. И вообще, из-за какой-то собаки… Ты, Юрочка, просто всегда к нему с предубеждением…
И снова я недослушал. Но теперь уже потому, что убежал, в сердцах грохнув за собой дверью…
Глинский опять снял очки, протирал их теперь еще медленней, автоматически. Посмотрел их на свет и, не надевая, близоруко улыбнулся:
– Дальше не интересно. Расстались мы с Люсей. Вскоре госэкзамены начались, потом разъехались мы в разные стороны, не общались друг с другом. Даже странно, что так легко разошлись мы с ней после стольких лет небывалой дружбы. Она уверена была, что из-за какой-то собаки…
10
– И правильно, что разошлись, – хмуро буркнул Кручинин. Дегтярев подивился, что эта невеселая, но достаточно банальная история произвела на Кручинина, видать было, столь тягостное впечатление. Ассоциации у него какие-то возникли? Впервые Василий Максимович не ерничал, не подзуживал рассказчика, чтобы, сомневаться не приходилось, позабавить Лилю. – Это ведь как у нас в медицине – незначительный вроде бы симптом, по которому ставится гибельный диагноз. – Вовремя спохватился, с мальчишеской игривостью подтолкнул соседку локтем: – В любви мелочей не бывает, да, Лилечка?
– Не бывает, – ответила Лиля.
– Не желаете ли поведать нам об этом? – не отставал Кручинин.
– Я потом, – смутилась Лиля, – после всех.
– Всех-то один наш героический уролог, кажется, остался, – глянул на Лукьянова Кручинин. – Ну, давай, племя младое, незнакомое, просветите нас, пережитков прошлого.
– Еще Борис Семенович, – счел нужным сказать Лукьянов.
– Ничего, я потерплю, – махнул рукой Хазин. – Давай, племя, давай, не отлынивай.
– Даю, – с готовностью отозвался Лукьянов и бодро зашагал к креслу. – Только моя история, возможно, не такая занимательная, как другие.
Что его история вряд ли будет занимательной, предполагал и Дегтярев, хоть и чувствовалось, что парню не терпится поговорить о себе. Сейчас он мало напоминал того растерянного, блеющего, каким был во время разбирательства. Вот только не похоже было, чтобы щуплый, рыжеватый, густо усеянный отчетливыми веснушками Лукьянов мог похвастать успехом у противоположного пола. Зато любовных обломов у него наверняка случалось немало, так что особо копаться в памяти не пришлось бы. Любопытно лишь было, о каком из них он хочет рассказать. Впрочем, для этой провинции всякий врач, если он холостой, – самый завидный жених, конопатость не помеха. А Лукьянов, пусть и самый из врачей молодой, совсем не тушевался. Сел, забросив ногу за ногу, откинулся. Предваряя рассказ тем, что-де уступит в интересе остальным, он, судя по заблестевшим ореховым глазкам, похоже, слегка кокетничал. И первой же своей фразой порядком удивил Дегтярева, не ожидавшего от простоватого на вид Лукьянова таких доблестей.
– У меня поэтическая книжка недавно вышла. Уже вторая. Собираюсь заявление подавать в Союз писателей. Небольшая, правда, книжка, ведь за свой счет пришлось издавать, а это очень дорого. Время сейчас такое, что самого Пушкина ни одно издательство издавать не стало бы, потому что экономически невыгодно. Если ты не детективщик, да еще раскрученный, как Донцова какая-нибудь, шансов издаться да еще и заработать на этом – никаких. Это не говоря уже о том, что книжки теперь вообще мало кто читает, а уж поэзию и подавно. Я свою книжку, сколько денег хватило, тиражом в двести экземпляров издал. Если так дальше пойдет, скоро такой тираж совсем не маленьким окажется.
Я ведь стихи пишу сколько помню себя, еще грамоты не знал. Сочинял – а мама за мной записывала, до сих пор тетрадки хранятся, забавно почитать. Когда подрос, в старших классах уже, пытался где-нибудь, кроме школьной стенгазеты, напечататься. Больше всего, конечно, хотелось в толстом литературном журнале; мечта заветная – в московском, но тут удача нужна неслыханная, и не только удача. У меня целая система была разработана – адреса всех редакций выписаны. В одной не берут – я в другую отсылаю, в таблице отмечаю, чтобы дважды не попасть, но все без пользы, чаще всего вообще не отвечали. И не в качестве моих стихов дело, говорю же – сам Пушкин не сподобился бы. Подозреваю, что зачастую они там и не читали мои стихи, в корзину выбрасывали. А почти все, какие были, ответы начинались одними и теми же словами: «ваши стихи не могут быть опубликованы, потому что…». Я у Виктора Некрасова прочитал, что он однажды тесемки своей папки с рукописью завязал специальным хитрым узлом, мало кому известным. Вернули ему эту папку с отрицательным отзывом, а узел нетронутым остался. Наглядный пример, а ведь в те времена в литературе совсем другие отношения были, разве с нынешними сравнить?
Ну, это я так, к слову, чтобы ситуация была понятна. А у меня ко времени, когда в институте уже учился, стихов набралось на увесистый сборник, и четыре поэмы еще. В городе, где я тогда жил, тоже был «толстый» литературный журнал. Правильней сказать, это он раньше был толстым, теперь совсем скукожился, но все-таки. Меня там все уже знали, чуть ли не каждый месяц новые подборки свои приносил. Проблема еще в том была, что главным редактором, от которого все зависит, тоже сидел поэт, а это хуже всего. К тому же явно не жаловал он меня, чем-то не понравился ему. И вообще там народец был не очень приятный, через губу разговаривали. Но я понимал уже, что в столичных журналах ловить нечего, а у себя в городе хоть какие-то шансы да имелись. Еще и потому, что поэзией ведала нормальная, на всех них не похожая женщина, Федулова такая, Марья Дмитриевна. Могу теперь назвать ее, потому что давно уже нету тут ее, в Германию укатила. Она меня и встречала приветливо, и стихи мои нравились ей. А от нее, все знали, немало зависело, главный с ней считался, могла на него повлиять. Мне мои собратья по перу говорили, что она, если очень захочет, своего обязательно добьется, хоть один стишок, но напечатает.
В литературных кругах личные отношения вообще много значат, и я, конечно же, старался ей понравиться не только стихами. Не как мужчина, понятно, тем более что она лет на пятнадцать старше меня была. К тому же подозревал я, что не интересуется она мужчинами – типичная такая старая дева, которых раньше «синими чулками» прозывали. Маленькая, невзрачная, в сильных очках. И косметикой она почти не пользовалась, что отношения с мужчинами наглядней всего характеризовало. Правда, сын у нее был, все ж таки позарился кто-то на нее когда-то. Я что мог? – ну, шоколадку ей принесу по случаю, цветочки, с праздником поздравлю, книжку интересную достану, свежий анекдот расскажу. Так не один я, многие делали.
Стихотворцев у нас хватало, в городе даже не одно, а целых два литературных объединения было для так называемых «молодых авторов». Так это ж только в городе, а по всему региону сколько? По возрасту молодых в них, по правде сказать, было не густо – меньше, пожалуй, чем вполне зрелых людей и даже пенсионеров. В основном поэты, прозаиков куда меньше. И все молодыми, раз не члены Союза, считались. Хотя, конечно, по– разному там оказывались. Кто за многие годы попривык уже, друзей себе там завел, кто от одиночества, кто использовал возможность стихи свои людям почитать, а кто и просто от нечего делать или пофорсить: вот, мол, и я в литературном процессе участвую, да и свихнутые просто не редкостью были.
У меня, я уже в институте учился, тоже дружок завелся, Алик такой. Из нашего же медицинского, на два курса выше меня. Но он постарше был, потому что после армии поступал. Стихи его не нравились мне, жестяные какие-то, плоские, восклицательные знаки чуть ли не после каждой строчки, но парень был веселый, разбитной, не мелочился. Мы с ним хорошо поладили, и научился я кое-чему у него. Не стихосложению, понятно, а вообще жизни. Я ведь после школы еще лопушок лопушком был, сквозь розовые очки смотрел, а он мне на многое глаза открыл. Бабник, между прочим, был редкостный, из тех, о которых говорят, что ни одной юбки мимо себя не пропустят. И вот однажды он буквально ошарашил меня. И не одного меня. Принес на очередное собрание сумку, набитую вчера только вышедшим номером нашего журнала. Штук двадцать, не меньше. Целых четыре его стихотворения напечатали. Всем раздаривал, на своей странице посвящения писал. Я все эти его стихи раньше читал, сплошное, на мой вкус, графоманство. И даже, я бы сказал, не лучшее взяли из того, что он накропал. Мы с Аликом друзьями были, но я, будь я редактором, все равно такое не опубликовал бы, пусть обижается. Не тот уровень, тем более для толстого журнала. Пусть и, заметил я, подредактировал кто-то, скорей всего, Федулова, его творения. Поздравляли его, руку ему сердечно жали, по плечу хлопали, хоть и не укрылось от меня, что большинство, если не все, были того же, что и я, мнения. Я бы даже сказал, что для многих он врагом после этого сделался, там народец такой. Я, само собой, тоже восхищение свое выказал, чтобы не обидеть его, а потом, когда вдвоем мы остались, спросил у него, как ему удалось в журнал протиснуться. А он смеется:
– Места надо знать.
Я не понял:
– Какие еще места?
– Те самые, – подмигивает, – которые у женщин зудят!
У нас разговор этот состоялся в кафешке, куда повел он меня свою творческую удачу обмывать. Взяли мы бутылку портвейна, по кружке пива, сидим, а он весь светится, как майское утро. Может, если бы не выпивали мы с ним, скрыл бы Алик от меня всю правду, а тут, по-дружески, раскололся. Он, оказалось, переспал с Федуловой, а та, соответственно, такой подарок ему сделала. У меня глаза на лоб полезли.
– Ты что? – поразился, – она же старуха!
– Ничего она не старуха, – отвечает, – ей всего тридцать шесть годочков, для бабы самый сок. И все, что надо, при ней имеется, ты приглядись хорошенько. И вообще, – снова подмигивает мне, – средства оправдывают цель. – А потом и вовсе меня оглушает: – Думаешь, я у нее один такой был? Она молоденьких любит, жадная до них. – И добивает меня: – О тебе, кстати, хорошо отзывалась, ты давай, братан, пробуй, не пожалеешь…
Я после этого нашего с ним разговора, честно сказать, в большом смятении был. Постыдным казалось таким путем в большую литературу лезть, но зацепило меня крепко. Не поверите, спать плохо начал, ум нараскоряку. Если бы еще не сказал он, что Федулова хорошо отзывалась обо мне. До того хотелось тоже свою фамилию на журнальной странице увидеть, стихи мои, типографским шрифтом набранные, что ничто другое в голову не лезло. Ради этого ничего не жалко. Понимал, однако, что я же не Алик, во всех отношениях. Насчет внешности своей никогда не заблуждался, мне тогда вообще казалось, что на меня ни одна женщина не посмотрит. И если бы только это. Мне к тому времени уже двадцать сравнялось, а я девственность сохранил. Это я в стихах был смелый да умелый, в жизни все иначе происходило. И даже если бы – один шанс из тысячи – ответила мне Федулова взаимностью, чем бы покорил ее настолько, чтобы сражалась она из-за меня с главным редактором? Но мне, признаться, от одной мысли, что нужно будет миловаться с Марьей Дмитриевной, дурно делалось. Как это, если женщина тебе не нравится? Можно разве себя заставить? А если не получится заставить? И потом, что значит «хорошо отзывалась»? Лестно, конечно, было думать, что ей стихи мои нравятся, но все остальное…
И еще. Я ведь, если называть вещи своими именами, подлизывался к ней, цветочки дарил, и что-то не заметил я, чтобы она хоть однажды как-нибудь многозначительно на меня поглядела, намек какой-то сделала. И как понимать Алика слова, что он у нее не один такой был? Наплел мне, чтобы почище выглядеть? Попадались, вообще-то, мне в том журнале стихи молодых откровенно слабенькие, удивлялся, за какие достоинства выбрали их, – неужели все они Алика путь проделали? В такое поверить невозможно было. Вот тебе и «синий чулок»! Как они с ней, интересно, сговаривались? И как дошли до жизни такой? Как дошли, как дошли! – шпынял себя. – Будто сам ты сейчас не отвергаешь с негодованием этот вариант!.. Ведь не отвергал же…
И так меня эти мысли разбередили, что пошел я на следующий день в журнальную редакцию. Просто поглядеть внимательно, такая ли она, как Алик мне расписал, любопытство взяло. Ну, конечно, не с пустыми руками пошел – новые стихи ей понес, чтобы причина была. Она в комнате сидела с другим редактором. Типом, должен сказать, пренеприятным. Очень хотелось мне, чтобы он в это время отсутствовал, потому что всегда при нем общаться с Федуловой неуютно мне было, смущало, что он мои с ней разговоры слышит. Повезло, делся он куда-то, но была Марья Дмитриевна не одна – сын к ней пришел. Сына, Витей его звали, восемь лет ему, второклассник, я не впервые в редакции видел, забегал он к маме. Очень на маму похож был, такой же бледненький, очкастый. Федулова как раз его чаем с коржиками поила, я извинился, сказал, что за дверью подожду, но Марья Дмитриевна велела заходить, присаживаться, скоро она освободится.
Сел я на свободный стул, искоса на Федулову поглядываю. Пытаюсь представить ее в постели с Аликом. Но даже моего поэтического воображения на это не хватало. И все-таки другими глазами уже на нее смотрел. Действительно, не старуха, в теле хорошем, и если подмалеваться ей и оправу очков сменить, вполне терпимой была бы. Но если я с Аликом ее в любовных сценах вообразить не мог, то уж с собой… Сижу, невольно слушаю, о чем она с сыном толкует. Витя жалуется ей, что к завтрашнему дню задали им лошадь нарисовать, а у него никак не получается, нисколько на лошадь не похоже. И тут мне удачная мысль в голову пришла. Я неплохо рисую, грех было не воспользоваться такой возможностью. Говорю ей:
– Извините, Марья Дмитриевна, что вмешиваюсь, подслушал нечаянно. Я могу вашему Вите лошадь нарисовать. Можно у вас листок бумаг попросить и карандаш?
Дает она мне – и я в несколько секунд изображаю им конягу. Федулова восхищается моими способностями, но вздыхает, что Вите нести этот рисунок в школу нельзя: никто не поверит, что он сам рисовал. И вообще не гоже это – выдавать чужой труд за собственный, нечестно. Я и тут выход нахожу. Беру у нее линейку и расчерчиваю лошадь на клеточки. Теперь, объясняю, все проще простого – Витя должен такие же клеточки на чистом листе изобразить, в каждую перенести линии из соответствующей клеточки моей лошади, точно такая же получится, а потом клеточки стереть. И никакого выдавания чужого за свое. Идея понравилась, мы с Витей, не теряя времени, сразу же мое предложение воплотили в жизнь, за четверть часа управились. Сын счастлив, мама благодарна, а я кую железо пока горячо:
– Хотите, Марья Дмитриевна, научу вашего сына рисовать? Это совсем не сложно, меня самого так учили. И меня это вовсе не затруднит, мог бы разок-другой в неделю с мальчиком позаниматься.
Федулова отнекиваться начала: нехорошо, мол, что я время свое буду тратить, да и неудобно как-то, но тут Витя мне на помощь пришел, сказал, что он бы хотел, если это в самом деле не сложно, потому что всегда мечтал научиться рисовать. Федулова еще посопротивлялась для виду, выпытывала, в самом ли деле не обременит это меня, под конец мы сговорились, что завтра вечером я к ним зайду. А потом она попросила, если опять же не затруднит меня, проводить Витю домой, здесь недалеко. Сын покажет, где они живут, и вообще ей спокойней будет, если мальчик пойдет не один – такие ужасы по телевизору показывают, что сердце у нее не на месте, когда Витя один оказывается на улице. Стихи у меня взяла, пообещала, что буквально сегодня же ознакомится с ними.
Ушли мы с Витей, я прямо ликую, благодарю провидение за такой подарок. Понимаю же, что совсем другими теперь станут наши с Федуловой отношения, – не каждому выпадет в гостях у нее побывать. И ведь первый звоночек уже прозвенел: сказала, что стихи мои сегодня же почитает. Обычно большой удачей считалось, если через месяц удосужится. Привет Алику. Не обязательно, значит, ее постели добиваться, чтобы расположение заслужить, у меня по уму все будет и естественно. Мне и Витя понравился – разговорились мы по дороге. Смышленый оказался мальчик и контактный, такой маленький, а книжки уже читает, стихи наизусть помнит. Мама его, наверное, большое внимание этому уделяла.
И вот на следующий день ровно к семи, как условились, прихожу я к ним. Вите в подарок несу акварельные краски и кисточку. Дома у меня давно без дела валялись, пригодились сейчас. Открывает мне Федулова, какой не видел ее раньше и не представлял себе, – в цветастом домашнем халатике, в шлепанцах. Такой она мне куда симпатичней показалась, не отпугивала. Спрашивает меня, поужинал ли, я, конечно, отвечаю, что недавно поел, но все равно приглашает почаевничать с ней – за чаем, мол, и обсудим мои стихи. Как я понимал, своеобразная плата за мое репетиторство. Я упираться долго не стал – тоже на мою мельницу вода, – отправились мы с ней на кухню. Знать бы, что так удачно события будут разворачиваться, тортик какой-нибудь прикупил бы или цветочки. Выставила она печенье к чаю, конфеты – уж не знаю, для меня специально припасла или так всегда у нее; сидим вдвоем, Витя воспитанно в комнате. Федулова, пока мы пьем, листочки мои перед собой разложила, впечатления свои высказывает. А мне слушать ее – бальзам на душу. Нашлись у нее кое-какие мелкие замечания, но похвалила меня, сказала, что это совершенно печатабельная – слово такое употребила – поэзия, и надеется она, что, возможно, удастся опубликовать в одном из ближайших номеров. Посожалела, что редакционный портфель стихами на год вперед заполнен, но тем не менее шансы у меня очень неплохие. А я снова порадовался, что все у меня так удачно складывается, в нужную минуту вместе с Витей в редакции оказался. Оценила, значит, Марья Дмитриевна мой благородный порыв, в долгу себя почувствовала. И мой подарок ее сыну тоже впечатление произвел. Эти мои стихи были ничем не лучше предыдущих, однако ж ни о какой печатабельности раньше и речи не было.
Потом мы с Витей учились рисовать кувшин, объяснял ему, как руку надо держать, что такое пропорции, светотень. Марья Дмитриевна изредка к нам подходила, тоже слушала, глядела. Я сына ей нахваливал, говорил, что талантливый он, скоро мы к краскам перейдем. Каждой ведь матери приятно, когда о ребенке хорошие слова говорят. Простились мы тепло, снова благодарила она меня, договорились, что в пятницу вечером я опять навещу их. Возвращался я домой, не оставляло меня ощущение, что крепко я удачу за хвост ухватил, – если так дальше пойдет, можно будет и на поэму замахнуться. Совесть меня не беспокоила – уверен был, что стихи мои, по меньшей мере, не уступают большинству того, что у них печаталось, даже членов Союза писателей. Просто кому-то суждено было попасть в редакционный портфель, кому-то не суждено, кому-то раньше из него выбраться, кому-то позже, кому-то вообще никогда. И в немалой степени зависело это от случая, от удачи зависело, мне, значит, повезло больше, чем другим. Но учитывать нужно и то, что везет тому, кто везет, кто умеет что-то. От способностей зависит. Если бы не умел я рисовать, ничего бы этого не произошло. И Алику с его «места надо знать» очередной привет передавал.
У меня вообще сложное впечатление осталось после того, как дома у Федуловой побывал. Судя по обстановке, жилось ей туговато. Оно и понятно – без мужа она, в этой захудалой редакции путных денег не заработать. Витина кровать, диван помятый, громоздкий допотопный шкаф – как Алик любил говаривать, «старой бабушки журнал». И еще одна мысль озадачила меня вдруг. Если что-то у него с Федуловой было, то где и как это могло произойти? Одна ведь комната, куда они Витю девали? Не в редакции же любились, куда-то водил он ее? Технически сложновато. И очень захотелось, чтобы наврал он мне. Что ходок Алик тот еще, я прекрасно знал, но и трепач он был первостатейный. Или – от этой мысли я даже споткнулся – разыгрывал он меня? Позабавиться хотел, науськивая меня на Федулову, чтобы потом вволю поржать? С него станется. Та самая редкостная удача ему улыбнулась, и он, подвыпив еще, спектакль для меня устроил? Мысль эта была чудовищна, потому что по жестокости такой прикол трудно превзойти. Ведь если бы последовал я его совету и клинья бить начал под Федулову, почти в матери мне годящуюся, она бы так меня шуганула, что дорогу в редакцию навсегда позабыл бы. И не только в редакцию. Все-таки я его своим другом считал. Неизвестно вот только было, считал ли он меня тоже. Точно узнал бы я об этом, кабы подозрения мои подтвердились, да поздно было бы. Никогда бы ему не простил, но толку-то – поезд ведь ушел бы…
И еще по одной причине хотелось мне, чтобы он соврал. Так часто бывает, когда в доме у человека побываешь, за одним столом с ним посидишь. Иначе уже смотришь на него, по-другому относишься. Федулова в домашнем халатике, угощавшая меня конфетами, совсем не та, что за своим редакторским столом. И вовсе не казалась уже мне страшненькой. Какую-то роль сыграло, что живут они с сыном бедновато, тоже располагало к ней. И я потом не раз ловил себя на том, что с нетерпением дожидаюсь пятницы, тянуло снова оказаться у нее в гостях, сам удивлялся.
А в пятницу я, в предвкушении того, как мы чаевничать с ней будем, тортом вооружился, своим, так сказать, вкладом в застолье. Она как увидела торт – заохала, руками замахала, транжиром назвала. Но не укрылось от меня, что все-таки приятно ей мое внимание. Теперь уже на чай и Витю пригласила, славно мы посидели, поболтали. Больше всего о поэзии, конечно. И я лишний раз получил возможность убедиться, какая Марья Дмитриевна умница, как много она о поэзии знает, я и фамилий-то некоторых никогда прежде не слыхал. Совсем сразила меня, когда Бальмонта начала читать, очень любит его, оказалось. В городе, наверное, и десятка человек не наберется, которые бы не только знали Бальмонта, но и помнили хоть строчку из него наизусть. Даже пожалел, что настолько она старше меня и во всех смыслах я не ровня ей, мне бы такую девушку. В одном я с Аликом точно согласиться мог бы: никакая она не старуха и не страхолюдина.
Вскоре я у нее дома едва ли не своим человеком стал. Вроде бы даже подружкой моей Марья Дмитриевна сделалась. Я и к Вите привязался. Позанимаюсь немного с ним, дам ему задание – а потом с мамой беседую. И не только о поэзии. Она обо мне скоро больше знала, чем моя собственная мама. Советовался с ней, вообще любил ей что-нибудь рассказывать – замечательно умела слушать. Она ко мне тоже хорошо относилась, Сереженькой звать начала. Месяц всего прошел, а я уже не мыслил вторника и пятницы без наших встреч.
Но в одну пятницу неожиданность меня ждала. Прихожу вечером к ним – а Вити нет, бабушка на выходные забрала. Я и не знал, что у Вити есть бабушка. Марья Дмитриевна извиняется, сама, говорит, не ожидала, что бабушка вдруг заявится. Положение щекотливым было. Приходил же я не к ней, а к сыну, и если Вити дома нет, то и мне тут делать нечего. И еще, совсем некстати, подленькая мысль откуда-то выскочила: тот же Алик мог, значит, здесь порезвиться, если сын у бабушки. Говорю ей, однако, то, что следовало сказать:
– Если Вити нет, тогда я пойду?
Она этот вопросительный знак в конце сразу уловила, улыбается:
– Ну, если вы только к Вите приходили…
И я, с обрыва в реку, выпаливаю:
– Я, Марья Дмитриевна, не к Вите прихожу.
Она мне в глаза насмешливо смотрит и шаг в сторону делает. Я это правильно расценил, вхожу на пластилиновых ногах. Она все улыбается:
– Попьем сначала чайку по традиции?
Это ее «сначала» меня совсем добило. Что она имела в виду? Потом, мол, побеседуем? Но беседовать и за столом можно. И эта улыбка ее… Отправляемся мы на кухню, а она мне дальше загадки загадывает:
– Вы, Сереженька, кстати пришли, у меня сегодня день рождения, очень грустно было бы в одиночестве проводить его.
Я растерялся – не знал, оправдываюсь, как же я без подарка, она меня успокаивает, что предрассудки это, не о чем говорить. Усаживает меня, достает из шкафчика бутылку вина, бокалы, коробку конфетную, улыбаться не перестает:
– Чай подождет, сейчас мы с вами выпьем немного за мои лета.
И тут меня словно током шарахнуло. Вспомнил, что примерно полгода назад зашел я в редакцию, а они там все за столом сидят, празднуют что-то. Я сразу, только заглянул туда, дверь прикрыл, кто-то в коридоре объяснил мне, что не вовремя я приперся, у Федуловой сегодня день рождения…
Меня, как вспомнил об этом, в жар бросило. Зачем обманывает? Для чего вино достала? Я ж все-таки не ребеночком уже был, на третьем курсе учился, соображал кое-что. И еще одно открытие для себя неожиданно сделал. Было в первые секунды ощущение, что какая-то не такая сегодня Марья Дмитриевна, но лишь сейчас понял, что изменилось. Она марафет на себя навела – глаза подкрасила, губы поярче, волосы по-особому уложила. Специально для меня старалась, если никого больше не ждала? Просто хотела в свой день рождения выглядеть получше? Так ведь нет никакого дня рождения… Для меня, значит… Ждет от меня чего-то… А чего ждет? Известно, чего. А рядышком невидимый Алик сидит, зубы скалит. И все, что говорил он про нее, у меня в башке искрит. Голос его явственно услышал: «ты давай, братан, пробуй, не пожалеешь…». Я бы, коль на то пошло, и попробовал. И заставлять себя нужды не было. И не потому, что могло это помочь моим журнальным публикациям. И второго такого отличного шанса, знал, уже не будет. И девяносто девять из ста, что с дальним прицелом затеяла она этот «день рождения». И много других всяких «и». У меня тогда женщин еще не было, так, целовался с девчонками несколько раз, но откуда-то взялась уверенность, что справлюсь я, все, как надо, сделаю. Больше того, захотелось мне этого, мысленно уже раздевал ее и на диван относил. Но был ведь и тот оставшийся один из ста процент, что и не помышляла она соблазнять меня, померещилось мне. И если я вдруг приставать к ней начну, такой скандалище мне закатит, что мало не покажется. Не в том даже дело, что после этого дорога в журнал мне будет заказана, – отпетым подлецом в ее глазах выглядеть не хотелось, вообще расставаться с ней…
Решаю про себя: как будет, так и будет, и чему быть, того не миновать. Сам активничать не стану, но если верный сигнал от нее получу – непонятливым не прикинусь. А сигнала долго ждать не пришлось. Я вино открыл, по бокалам разлил, она щурится:
– Ну, давай, Сереженька, поздравляй меня.
Впервые на «ты» ко мне обратилась. Если оговорилась, зачем ей тогда щуриться? Подбираю нужные слова:
– Будьте здоровы и счастливы, Марья Дмитриевна, как вы того заслуживаете. Я раньше думал, что не очень я везучий, а сейчас получил возможность убедиться в обратном. Повезло мне в такой день оказаться наедине с вами, с такой прекрасной женщиной, иметь честь поздравлять вас, восхищаться вами.
А она головой крутит:
– Однако! Чуть ли не объяснение в любви!
И я решаюсь:
– Без всяких «чуть ли», Марья Дмитриевна. Можно я вас поцелую?
От того, что она мне ответит, а главное, как ответит, многое зависело. Путь к отступлению все-таки себе оставил. Если мимо цели стрелял, можно было бы все списать на эмоциональный невинный поздравленческий поцелуй, не более того. Она опять улыбается:
– Выпей сначала.
Я пью, гляжу на нее, она пьет, глядит на меня. Медленно пьем, по глотку, словно ритуальное действо совершаем. Потом она свой пустой бокал ставит, смешно морщит нос и снимает очки:
– Разве что на брудершафт.
Наклоняется ко мне, за шею к себе притягивает и так к моим губам присасывается, что последние сомнения у меня выветрились. Голова у меня горячей кровью переполнилась, вытаскиваю Марью Дмитриевну из-за стола, тащу за руку в комнату. Да там и тащить-то нужды не было, не упиралась она. Я от собственной смелости шалею, но все-таки в некотором замешательстве нахожусь. Сейчас повалю ее, как мечталось, на диван, а дальше как? Самому ее из халата вынимать или она должна сама раздеться? А мне как? Тоже вместе с ней раздеваться или потом, когда она уже созреет? Теоретически я был подкован неплохо, знал, что женщину сначала раскочегарить следовало, довести ласками до кондиций, потому что возбуждаются они медленней, чем мужчины, зато потом дольше отходят. Одних Аликовых откровений хватало. Но в какой последовательности все делать?
Марья Дмитриевна сама мне на помощь пришла. Возле дивана халат сняла, языком укоризненно поцокала:
– Какой ты, однако, заводной, во уж не думала!
И легла. Но ничего больше не сняла. Может быть, думаю, ждет, что я сам остальное с нее сниму? Алик, между прочим, еще в одном не обманул меня: грудь у нее, хоть и полуприкрытая еще, классной оказалась, не каждая девушка такой похвастать может, как-то под одеждой раньше так она не просматривалась. Меня от одной мысли, что сейчас мне все это роскошество достанется, лихорадка забила. Бросился на нее, волю себе дал. А она уже постанывать начала, торопит меня:
– Ну же, Сереженька, солнышко мое…
И тут в дверь позвонил кто-то. Серпом по мозгам. Замерли мы оба, я шепчу ей:
– Не открывайте, не открывайте, нету вас…
А она сразу серьезной сделалась, как у себя в редакции, недовольно морщится:
– Погоди, это может быть… Сейчас погляжу.
Смахивает меня и босиком на цыпочках спешит к выходу. Я понимаю, что хочет в дверной глазок посмотреть. Через секунду в комнату заглядывает, нетерпеливо рукой мне машет и шипит:
– Прячься, скорей!
Сама в это время халат на себя натягивает, а звонок повторяется, длинней уже, настойчивей. Я в жизни так не пугался, заикаться начал:
– К-куда п-прятаться?
Она к шкафу подбегает, дверцу распахивает, плечики с одеждой сдвигает:
– Давай же, не телись!
Хорошо что раздеться не успел. Влетел я в этот шкаф, она дверцу за мной захлопнула – и назад. А у меня парадоксальная реакция пошла, хоть и колотило всего. Это ж ситуация из бородатых анекдотов, нарочно не придумаешь. Сижу на корточках, дышу спертым воздухом, смехом пополам с икотой давлюсь. Но голова еще что-то соображает. Чего она запаниковала? Почему, как я просил, не притворилась, будто нет ее дома, кого испугалась? Мужа нет у нее, прятать меня не от кого. Подумала, что сын вернулся? Так зачем меня в шкафу прятать? Долго ли тот же халат набросить, вернуться на кухню – ну, сидим мы с ней, винцо попиваем, какой здесь криминал? Так она себя повести могла только, если нагрянул какой-то мужчина, кому не надо бы знать, что кто-то есть у нее. Но тоже непонятно – почему она не может пригласить домой своего автора для работы, в редакции не успевает? В конце концов, не ночью же, еще и не стемнело толком. И вслед за тем другая мысль, заполошная: а что, если он пройдет на кухню, увидит на столе недопитую бутылку и два бокала, как она ему это объяснит?… Слышу в прихожей мужской голос – не Витя, значит, все-таки мужик какой-то. Входят они в комнату, она говорит ему:
– Я тебя сегодня не ждала, что случилось?
– Да ничего особенного, – отвечает, – У супруги, я и не знал, сегодня встреча с одноклассниками, собираются в ресторане. Вечер свободный, чего, подумал, дома торчать, решил к тебе наведаться. Ты что, не рада мне?
– Ну что ты? – обижается. – Будто не знаешь, как я всегда тебя жду!
А я обомлел. Вот, оказывается, почему не хотела она, чтобы меня здесь увидели! Голос-то этот принадлежал не кому-нибудь – главному редактору, моя Марья Дмитриевна и здесь успела! Или это он успел? Что гость он здесь не случайный и какие между ним отношения – на поверхности лежало. Но меня уже другое волновало: как долго придется мне отсиживаться в этом анекдотическом шкафу? Она ведь тоже должна понимать, как мне здесь достается, обязана что-нибудь придумать, чтобы побыстрей спровадить его. Она, слышу, и придумывает. Говорит ему, что голова у нее разболелась, не хочет ли он погулять с ней немного по свежему воздуху. А он жирно хихикает:
– Я знаю одно очень эффективное средство от головной боли, сейчас подлечу тебя!
Вслед за тем возня какая-то, а потом диван начал ритмично скрипеть. Возле самой моей дверцы, прекрасно мне слышно, как редактор главный сопит и пыхтит. Ощущение, должен сказать, не самое приятное. И представляю себе, каково ей-то сейчас: знает же, что я все это слышу. Я даже уши заткнул, до того мне противно стало. Но вскоре другое меня забеспокоило. Уж не ведаю, как и сколько другие анекдотические персонажи в закрытом шкафу выдерживали, а мне уже несладко приходилось, дышать трудно. Еще и нафталином там мерзко попахивало. Если этот ушлый лекарь от головной боли долго тут задержится, могут возникнуть самые нежелательные варианты. Наконец заурчал он утробно, перестал диван скрипеть. Ну, – я понадеялся, – одного разочка ему, наверное, должно хватить, не молод уже. Так на мое счастье и вышло. Марья Дмитриевна выручает меня, жалуется, что голова еще сильней разболелась, снова предлагает ему проветриться. А он говорит ей, что вряд ли получится у них, потому что, вспомнил он, ему скоро из Москвы должны позвонить, очень важный для него звонок.
Минут через десять хлопнула за ним дверь, выбрался я на свет божий. Федулова возвращается, смотрит на меня. Вся прямо полыхает, не понять только: оттого, что стыдно ей, или после их любовных утех. Она молчит – и я молчу, понятия не имею, что сейчас мне сказать и надо ли вообще что-то говорить. Она одним словом обошлась:
– Останешься?
А я двумя:
– Нет, пойду.
Ничего она больше не сказала, отправилась дверь мне открывать. С тем и ушел…
Лукьянов картинно вздохнул, покачал головой, якобы сокрушаясь по поводу греховности рода человеческого. Добавил:
– Во вторник, естественно, я к ним уже не пошел. И вообще больше мы с ней не виделись, она недели через три уволилась. Алик, он каким-то образом раньше всех обо всем узнавал, говорил, что не сама ушла, а шеф ее выпер, прознав о ее шашнях с каким-то молодым поэтом. Давно подозревал он ее, попалась наконец. Алику не всегда верить можно было, но, похоже, слух этот был не лишен оснований.
– Значит, так и не напечатала она ваши вирши? – поддел его Кручинин. – Зря старались?
– Не успел я постараться, – будто бы засмущавшись, потупил глаза Лукьянов. – Да и, уж не сочтите за нескромность, не велика была беда, талант, не зря же говорят, все равно пробьется…
11
– Обязательно пробьется, – иронично хмыкнул Кручинин. – Правда, поговорка эта звучит несколько иначе. Боже упаси, – сделал невинное лицо, – я никого из присутствующих здесь не имею в виду. Есть вообще много хороших поговорок, на все случаи жизни. Например, «делу время, а потехе час», или «на всякого мудреца довольно простоты». Последняя, между прочим, к нашему визиту сюда прямое отношение имеет. Один такой мудрец тут есть. Я бы даже сказал, что перемудрил он. Вот ему бы побольше простоты явно не помешало бы.
– Это как посмотреть, – счел нужным заступиться за Хазина Дегтярев, понял, в кого метит Кручинин. – Больше того, мне почему-то кажется, что вы, Василий Максимович, могли поступить в подобной ситуации так же. Не всегда же солдату грудью прикрывать командира, случается и наоборот, и нередко.
– Готов согласиться, если речь идет лишь о жизни самого командира, – парировал Кручинин, – не касается других жизней. К тому же силы и возможности свои умному человеку положено сознавать.
– Я думал, полемика о моих действиях и умственных способностях осталась уже позади, – вмешался Хазин, – и все это найдет отражение в акте. А относительно моей мудрости или не мудрости позвольте уж мне самому судить, это в компетенцию моего безгрешного руководства не входит.
Вот уж характер! – подосадовал Дегтярев. – Ну к чему сейчас на рожон лезть, против себя следователей восстанавливать? Кручинин мужик не вздорный, с ним обойдется, но Корытко мимо ушей не пропустит. Наверняка хазинские филиппики в адрес безгрешного руководства отнесет на свой счет, мало Борьке проблем. Глянул на помрачневшего Степана Богдановича, убедился, что опасения не беспочвенны.
С Борькой Хазиным Дегтярев когда-то учился на одном курсе, сдружился с ним еще в начале первого, когда ездили на неизбежную «картошку». Привлек его Хазин тем, что хорошо начитан был, не жлоб, с юмором у него все в порядке. И чем дальше узнавал, тем больше нравился ему Хазин, хоть и пикировался с ним чуть ли не по каждому поводу. Спорщик Борька был отчаянный и свою точку зрения отстаивал до последнего. Ладить с ним, тем не менее, особого труда не составляло, характер у него при всем его упрямстве был не вздорный. Если бы не один его пунктик, тут он становился неуправляемым. Отец у Хазина был еврей, и Борька считал это знаковой отметиной своей жизни, комплексовал. Любые антисемитские намеки, порой даже беззлобные еврейские анекдоты воспринимал как личные оскорбления. Просто сдвинут был на этом. В шестнадцать лет, получая паспорт, взял национальность отца, чтобы не подумали, что стыдится он, прячется. И это при том, что отец настоятельно советовал ему записаться по маме русским, не усложнять себе жизнь. При каждом удобном и неудобном случае Борька считал необходимым отметить, какая у него половина крови. Такое нередко бывает с полукровками, равно как и то, что они же бывают ярыми антисемитами. Рассказывал он, что в детстве, да и не в детстве тоже, сразу лез в драку, если только почудилось ему, что насмехаются над ним. Хотя, сомнительно, чтобы много находилось охотников связываться с ним, – парнем он был рослым и крепким, к тому же разряд имел по боксу.
Парадокс же заключался в том, что человека более славянской внешности трудно было сыскать – светловолосый, светлоглазый, с безупречным носом. А с теми же анекдотами вообще чехарда какая-то получалась. Никто не принимал его за еврея, да и фамилия у него была нейтральная, поэтому позволяли себе некоторые, не подозревавшие о Борькиной принадлежности, ядовитые шуточки, от которых воздержались бы, зная, что рядом находится еврей. В колхозе же на первом курсе он так отметелил одного словоблуда, оказавшегося на Борькину беду партийным деятелем, что едва не вылетел из института, отделался комсомольским строгачом. Сейчас разгоравшийся спор никакой национальной окраски не имел, однако Дегтярев, увидевший, что Хазин заводится, счел за лучшее увести разговор в сторону, пошутил, чтобы разрядить обстановку:
– Борис Семенович, похоже, пытается избежать опустевшего кресла, увлечь нас в непроходимые полемические дебри. Не выйдет, гражданин Хазин, мы не поддадимся на ваши происки!
– Ничего я не избегаю, – пожал плечами Хазин. – Все так все. И не я, кстати, эти разборки сейчас затеял.
– Тогда мы – воплощенное внимание, – нарочито беспечно продолжил Дегтярев. – Сгораем от любопытства.
Ему и в самом деле любопытно было, о чем расскажет Борька. Дружили почти сорок лет, были друг с другом откровенны. И что-то не мог Дегтярев припомнить о каком-нибудь любовном проколе в Борькиной жизни, даже в его холостую бытность. Семьянином Борька был примерным, но не безгрешным – о нескольких хазинских интрижках Дегтярев знал. Смотрел, как тот неторопливо усаживается в нагретое уже кресло, тоже закуривает.
– Василий Максимович, – начал Хазин, – затеявший весь этот «Антидекамерон», призывал сознаваться в любовных неудачах, которые неизбежны у каждого мужчины. Иными словами – набраться смелости рассказать о том, как по какой-либо причине ему не удалось продемонстрировать свои мужские возможности. Но по настоящему счету Василий Максимович желаемого не достиг. Лишь он один героически поведал о том, что просто не смог, хотя и очень хотелось, физически, скажем так, полюбить тетю Шуру. Ну, с натяжкой Лев Михайлович. Все остальные говорили о том, что, конечно же, могли бы, если бы не помешали какие-то обстоятельства, не дали они усомниться в своих мужских способностях. Я даже, зная о принципиальности Кручинина, ждал, что он обратит на это внимание, не совсем честная игра получилась. Впрочем, что не обратил, делает ему честь, нельзя же заставить человека, если тот сам не хочет. К тому же, оригинальная придумка могла вообще заглохнуть, и он с Дегтяревым действительно оказались бы в двусмысленном положении. Прав он и в том, что у каждого, если покопаться, найдется нечто такое, о чем мужчинам откровенничать не желательно. Особенно в зрелые годы, когда возможности уже не те. А мы тут все, кроме Толика и Сережи Лукьянова, люди уже немолодые, о женщинах, разумеется, речь сейчас не идет. Да и обстоятельства эти бывают разные, а человек, увы, не запрограммирован на безотказную сексуальную жизнь. Как в том кавказском тосте – чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
Об этом тосте я не случайно вспомнил. Лет пятнадцать назад крепко прихватил меня желудок. Язва открылась, житья не давала, вот Лев Михайлович знает. Он же и уговорил меня поехать в Железноводск, путевку в санаторий помог достать. Там, как обычно, группки по интересам образовались, в основном, по территориальному принципу – кто с кем за одним столом сидит или обитает рядом. Подобралась и у меня небольшая компания, нас в палате четверо было. И случись у одного день рождения. Решил он его отметить, договорился в столовой и с начальством, что позволят ему пригласить туда вечером гостей, смотался в магазин, продукты купил, выпивку, собрал человек десять. Был среди нас балагур один из Осетии, такой, знаете, типичный кавказец – шумный, носатый, усатый, с красивой проседью. Не молод уже был, но джигит джигитом, тамошние дамочки заглядывались на него, обычная санаторская действительность. Собрались мы, значит, в столовой, три столика сдвинули, разместились, виновника торжества поздравляем. Взялся и осетин свой тост говорить. Поднялся он со стаканом в руке, вздохнул не к месту печально и вдруг выдал имениннику:
– Я тебе желаю, чтобы тебя посадили в тюрьму.
Он чисто по-русски говорил, а тут неожиданно характерный акцент у него появился. У всех лица вытянулись, тихо стало. А он помолчал немного и добавил:
– В сто двадцать лет. – Снова пауза – и заканчивает: – За изнасилование.
Все сразу загалдели, захлопали, восхищаются его остроумием. Вы оценили суть? За счастье почли бы и женщину изнасиловать, и остаток преклонных лет в тюрьме провести, лишь бы потенция была сохранена. Мне тогда, между прочим, тоже понравилось, решил запомнить, потом где-нибудь повторить. Хотя, конечно, у меня так, как у него, не получилось бы, внешность не та. А рядом со мной сидела некая Марина. Я с ней знаком не был, к тому же появилась она в санатории чуть ли не вчера, впервые приметил ее утром в столовой. Именинник пригласил ее, потому что за стол к нему подсадили. А не заметить ее было сложно – эффектная женщина, к тому же на завтрак вырядилась, точно на прием собралась. Но она и без нарядов привлекла бы к себе внимание – высокая, статная, волосы платиновые. Симпатичная, молодая еще, не старше тридцати выглядела. Ее появление настоящий фурор среди мужиков произвело – молодых привлекательных женщин было мало. Даже позавидовали мне, что место рядом с ней досталось.
По правде сказать, мне и самому было приятно оказаться рядом с такой женщиной. Ухаживать, как полагалось, за ней начал, в стакан подливать, развлекать, чтобы не заскучала. Без каких-либо скабрезных мыслей, просто располагало всё к этому. Понравилась мне она еще и тем, что не заржала, как остальные, после этого тоста, а всего лишь улыбнулась краешками губ, воздавая должное осетину. Когда разговорился я с ней, выяснилось, что она и не глупа, на шутки адекватно реагирует. И как-то очень быстро мы с ней поладили, что в компании обычное дело, еще и выпивка этому способствовала. А когда застолье наше закончилось, предложил я ей прогуляться перед сном немного. Она согласилась, не жеманилась. Осень уже пришла, но в Железноводске тепло было совсем по-летнему, вечер чудесный, тихий. Она из Одессы прибыла, в техникуме немецкий язык преподавала. И чем больше прогуливались мы, тем лучшее впечатление она на меня производила. И я на нее, сумел заметить, тоже. Где-то через полчаса мы уже на «ты» перешли и без отчеств – она первая предложила. А когда привел я Марину к ее комнате, лишь руку ей на прощанье поцеловал, поблагодарил за славный вечер, больше ничего себе не позволил.
Были, конечно, у нее изъяны. Во всяком случае, то, что всегда не нравилось мне в женщинах. Излишне категорична была, безапелляционна. И ярко накрашенные длинные ногти ее раздражали меня – я, как большинство медиков, терпеть этого не могу, гоняю своих сестричек. И что студентов своих баранами называет. Но все же и достоинств было немало. А для «желудочной» санаторной рутины и скуки – вообще была событием. Там самые малопривлекательные дамочки успехом пользовались. Хотя бы потому, что мужской пол – редкий для России случай – численностью их заметно превосходил. По большому счету в санатории этом вообще не с кем было время проводить, народ какой-то неинтересный подобрался, Марина очень мне пребывание в Железноводске скрасила. Жаль, поздно приехала. И она, сама мне призналась, рада была нашему общению, подружками не обзавелась. Женщина, с которой она комнату делила, не по душе ей пришлась. Особенно бесило Марину, что та частенько выгоняла ее, дабы принять своего поклонника.
Одним словом, хорошо мы с ней совпали, почти все свободное время вместе проводили. Я уже много о ней знал: что муж у нее сильно пьющий, не в полном ладу она с ним живет, что дочка ее восьмиклассница рано повзрослела, позволяет себе не по возрасту, боится она за нее. Я это сообщение о дочке еще под тем углом воспринял, что не похожа была Марина на мать такой взрослой дочери. Но прежде всего, чего уж там, удовольствие мне доставляло проводить время с красивой и умной женщиной, даже, покаюсь, ловить на себе завистливые взгляды других мужиков. Джигит осетин от огорчения даже разговаривать со мной перестал.
Мне всегда были интересны люди, которые знают и умеют то, в чем я плохо или вообще не разбираюсь. Обожаю профессионалов, в чем бы этот профессионализм не заключался, – музыкант, врач, шофер, пекарь, не важно, был бы мастером своего дела. Убежден я, кстати сказать, что жизнь такая в нашей стране потому, что давно не ценится профессионализм, качество работы не во главе всего. Поэтому ничего, сделанного у нас, покупать не хотелось, чего ни коснись: рубашки ли, утюга, телевизора, продолжать можно до бесконечности, всегда за импортом гонялись. Не потому, что мы бездарней других, а много лет просто не было смысла качественно работать, за количеством гнались, уравниловка процветала, повывелись мастера. И праздник, когда встречается тебе настоящий специалист, умелец, толково знающий свое дело. К тому же всегда интересно почерпнуть для себя что-нибудь новое. А Марина как раз из таких была, хорошо знала и немецкий язык, и немецкую литературу, стихи мне по-немецки читала. Я в школе тоже учил немецкий, подзабыл, конечно, многое, но даже моих скромных познаний хватало, чтобы оценить, как она – специально ее просил, еще и проверял себя – свободно говорит по-немецки, о некоторых названных ею немецких писателях я, вот как Сережа о Бальмонте рассказывал, к стыду своему, понятия не имел.
Но вот на этой немецкой почве мы и не сошлись с ней. Говорил уже, что судила она о многом излишне категорично, переубедить ее трудно было. Зашел у нас однажды разговор о Гитлере, и Марина более чем смутила меня. Она, конечно, соглашалась, что виновен он в пролитой крови и столько людей истребил, обездолил, но считала его великим государственным деятелем, одним из лучших в мировой истории. На Гитлера много напраслины возводят, а ведь при нем, убеждена она была, немецкий народ жил благополучней и достойней, чем когда бы то ни было, и вообще он столько за свою недолгую бытность для него сделал, что никому другому не превзойти его. А главное – поднял он с колен немецкую нацию, приниженную после первой мировой войны, вернул ей былое величие, арийский дух укрепил. Нам бы такого фюрера…
Мне даже сначала показалось, будто разыгрывает она меня. Затеяла, что называется, спор ради спора, чтобы попикироваться, потягаться, чьи доводы убедительней. А потом вдруг убедился, что она действительно так думает. Мы в тот вечер впервые поссорились и, не будь я замкнут тогда в надоевшем санаторском пространстве, вряд ли после этого продлил с ней наши прежние отношения. Но учитывать следовало и то, что очень понравилась она мне, дорожил нашим общением. Повозмущался, но стерпел. Примирились мы на том, что темы этой больше касаться не будем, пусть каждый останется при своем мнении.
А отношения наши развивались по нарастающей. Вполне закономерно это, что бы ни твердили ревнители нравственности, когда много свободного времени проводят вместе мужчина и женщина симпатичные друг другу. Нельзя не присовокупить к этому, что санаторский воздух буквально пропитан был амурными миазмами, кто бывал в наших санаториях, знает. И темпы сближения там несоизмеримы с обычными. Через день мы поцеловались, а еще через два начал я прикидывать, где бы мне наедине с ней остаться не в походной остановке. Не те уже были наши годики, чтобы в кустиках прятаться. Моя комната отпадала, потому что жило нас в ней четверо, и просить всех троих, чтобы умотались куда-нибудь, освободив ее для меня, было затруднительно. Тем более что одним из них был лихой осетин, обидевшийся на меня, что не ему досталась Марина. У Марины ситуация была полегче, она вдвоем жила, но плохо контачила со своей соседкой. А я же видел, что и она совсем не прочь оказаться со мной наедине в закрытом помещении. Это меня еще больше распаляло. Вскоре мы настолько с ней сошлись, что могли уже обсуждать это откровенно. Обдумывали даже вариант снятия номера в гостинице. Побывал я там, побеседовал с администратором, понял, что шансов никаких, все номера на месяц вперед расписаны. И тут улыбнулась нам удача. Маринина соседка убывала в Кисловодск, там и заночевать собралась – встретиться там с кем-то должна была. Я о такой удаче и мечтать не мог – целая ночь в нашем распоряжении. Когда сообщила мне Марина об этом, обрадовался, как студентик.
Мы с ней нашу «первую брачную ночь» решили красиво провести. Не идти в опостылевшую столовую, самим все устроить для совместного ужина, уединиться до утра, от всего и вся отрешиться. И приготовления наши к желанному вечеру были не менее приятны, чем ожидание любовного завершения. Сходили мы на базар, тщательно обсуждали, что будем пить, романтическую свечу даже купили. Очень хотелось нам обоим, чтобы небанальным, памятным было наше свидание. Усугублялось все еще и тем, что у меня через три дня путевка заканчивалась, разлука предстояла. И оба знали мы, что расстанемся навсегда, – где я, а где Одесса. Плюс ко всему Украина независимым государством стала, со всеми вытекающими отсюда проблемами. Разве что в обозримом будущем созвониться, снова съехаться в этом санатории подлечиться, но шансов практически не было – чтобы попасть сюда, еще и сразу двоим в намеченное время, одного желания мало. Хотя и обдумывали с ней этот вариант. Марина, возможно, и сумела бы, у нее муж большим начальником был, а мне-то ничего не светило. Даже при помощи Льва Михайловича.
Сговорились мы, что приду я к ней в половине восьмого. В семь ужин, все в столовой соберутся, никто в коридоре не заметит, что я в ее комнату зашел. Не то чтобы так уж пеклись о своей репутации, просто не хотели мы лишний повод давать для злословия тамошним сплетникам. Сопоставят потом, что оба мы в столовой отсутствуем. Хотя, думаю, все и без того уверены были, что мы давно спаровались.
Я успел еще сбегать за цветами, купил три белых розы – знал уже, что она розы любит, – явился к ней не абы как, при галстуке, жених женихом. А она меня поджидала в белом платье, красивая была до невозможности. И нисколько это смешным, вычурным не казалось нам, далеко не юным семейным людям. Оба этому свиданию придавали больше значения, чем просто счастливой возможности волшебно, не таясь, оказаться в одной постели. И еще был в этом какой-то легкий налет грусти, предвестие скорой разлуки навсегда.
Мы не торопились, не комкали нашу встречу, чтобы поскорей финишировать. И тешило, что ждет нас впереди целая прекрасная ночь, в которой мы будем принадлежать друг другу. Мы зашторили окна, мы зажгли свечу, мы пили вино, мы наслаждались возможностью видеть и слышать друг друга, дышать одним воздухом. Она первая заговорила о том, что скоро придется жить нам врозь. Сказала, что многим пожертвовала бы, чтобы жить в одном городе со мной. Я со вздохом возразил, что вряд ли понравилось бы ей обитать в нашем маленьком провинциальном городке после Одессы. Марина ответила на это, что порой готова на край света убраться, только бы подальше от этого ненавистного ей города. Я удивился, сказал ей, что никогда в Одессе не был, но столько читал и слышал о ней, что восхищаюсь и ею, и людьми, жившими и живущими там. Признанная столица юмора, город Бабеля, Олеши, Катаева, Ильфа и Петрова, Карцева с Ильченко, Жванецкого – только одних этих имен, всех не перечислить, достаточно, чтобы боготворить Одессу. А все они так тепло, с такой сыновней нежностью отзывались о ней, скучали, расставшись, пользовались каждой возможностью побывать на родине. Там одни названия звучат, как музыка – Лонжерон, Молдаванка, Пересыпь… Я бы, например, дорого дал, чтобы побывать на легендарном Привозе, пройтись по Дерибасовской, поглазеть на Дюка Ришелье. Да из-за одних одесситов стоит там жить, ведь всему миру известно, что нет более остроумного и жизнерадостного народа. А если добавить к этому, что лежит Одесса у благословенного Черного моря, то лишь позавидовать можно тем, кому повезло жить в ней. В голове не укладывается, что кто-то хочет бежать из нее на край света…
Говорю ей это, говорю, она меня не перебивает, молча выслушала мой пламенный монолог, иронично усмехнулась:
– Это ты говоришь так, потому что сам никогда в Одессе не жил. Наслышался какой-то бредятины, забил себе голову всякой ерундой. На Дюка Ришелье поглазеть он хочет! Ты бы лучше поглазел на всю эту жидовню, на все эти жидовские морды, послушал бы их пархатую речь! И везде они, куда ни сунься, нет от них спасения. Мне, когда и в школе, и в институте училась, противно было на занятия ходить. От одних этих фамилий тошнило. Это же не город, а сплошная синагога! Я бы наших девчонок, которые блудили с жидовскими парнями, собственными руками придушила, без жалости! Я уже не говорю о блуде – сдохла бы от отвращения, если бы один из них хоть прикоснулся ко мне…
Она еще много чего наговорила, а я настолько ошарашен был, что даже не перебивал ее, лишь таращился во всем глаза и воздух глотал. Наконец сумел заговорить:
– Чем же тебе евреи так насолили? Что такого плохого они тебе сделали, чтобы так их ненавидеть?
И услышал в ответ:
– А то плохое, что вообще они существуют, воздух поганят. И все беды славянского, русского народа из-за них, это же народ-вредитель, целью своей поставивший извести нас под корень, неужели ты не понимаешь?
– И что ты предлагаешь, – сам дивясь своему спокойствию, говорю ей, – перестрелять их или сжечь всех в газовых камерах, как намеревался твой любимый фюрер?
– Такие крайности не обязательны, – отвечает, – но пусть бы все они до единого убрались отсюда в свой картавый Израиль и там своим чесночищем воняли, воздух здесь не отравляли. Но все равно и там им не жить, изничтожат их арабы, в море утопят, ждать недолго осталось, вспомнишь мои слова!
Не поверите, мне вдруг даже интересно стало. Доводилось мне встречать самых махровых антисемитов, но с такой лютой ненавистью столкнулся впервые. От этого ее «чесночища» совсем обалдел. Говорю ей:
– Вообще-то, сомневаюсь, что в Одессе, как ты заявляешь, кругом евреи, ступить негде. Их и раньше-то, насколько мне известно, меньше пяти процентов было, а уж когда выезжать им разрешили, дай бог, чтобы один процент остался.
Она мне:
– Не знаю, сколько там процентов, мне и тех, которых каждый день вижу, по горло хватает. Не пойму, почему ты их защищаешь.
А у меня одна ее фраза в мозгах пульсирует: что сдохла бы от отвращения, если бы какой-нибудь еврей хотя бы прикоснулся к ней. Злость такая взяла, что желудок заныл. Сейчас, думаю, к тебе еврей прикоснется. Так прикоснется, что надолго запомнишь. А потом свой паспорт тебе покажу – тогда еще пятую графу из паспортов не убрали. И посмотрю, сдохнешь ты или не сдохнешь от отвращения. Пиджак я снял, когда только пришел, однако при галстуке, парад соблюдая, остался. Поднялся я, развязал его, потом рубашку снял, бросаю ей:
– Хватит рассиживаться, давай займемся тем, для чего пришли сюда. Раздевайся. – И начал брюки стаскивать.
Она удивлено на меня глядит, не ожидала такой кондовой прозы при поэтической свече, туманится:
– Какой-то ты вдруг стал…
– Каким был, таким и остался, – держусь невозмутимо. Стою перед нею голый, интересуюсь: – Твоя какая кровать, эта?
– Эта, – глазами моргает.
Я покрывало сбрасываю, ложусь, повторяю, чтобы не рассиживалась. Она посидела еще немного в замешательстве, затем, ни слова больше не произнеся, тоже раздеваться стала. Пристроилась рядышком, без всякого энтузиазма снова мне:
– Какой-то ты… – И попросила: – Не надо так со мной, Боренька, пожалуйста, все ведь у нас было так хорошо…
– Сейчас еще лучше будет, – обещаю. – Давно мечтал до прелестей твоих добраться.
И добираюсь. Так добираюсь, что постанывает она от боли, а я вскоре запаниковал. Ничего у меня не получается. Женщина роскошная, драгоценный подарок мужчине, а у меня и намека на возбуждение нет. Пытаюсь завести себя, из кожи вон лезу, но знаю уже, что лишь напрасно извожусь. Промучился еще немного, ее намучил, покинул кровать и одеваюсь. И всё это молча – ни я, ни она ни слова. Теперь она мне говорит:
– Не расстраивайся, такое со всеми случается, не велика беда. У нас еще ночь впереди, все образуется, поверь мне. Иди ко мне.
А я не отвечаю, продолжаю одеваться. И обида у меня такая, что не вообразить. Не столько на нее, сколько на себя. Подобного со мной прежде не случалось, но вовсе не из-за этого так огорчился. С тем и ушел. Рано утром, срока не дождавшись и документы не оформив, поспешил на вокзал. Дождался первого поезда, идущего в мою сторону, и укатил…
– Вот уж действительно на каждого мудреца как бы довольно простоты, – мыслительно изрек Корытко.
– Если бы только одной простоты, – сказал Дегтярев.
– Еще и потенции? – предположила Кузьминична.
– Да, сударыня, – хмыкнул Кручинин. – Именно это Лев Михайлович имел в виду. Ох уж этот Лев Михайлович! Лилечка, определите у него группу крови, вдруг она у Льва тоже положительная!
– Мне известна его группа крови, – не улыбнулась Лиля. – Он, если кто не знает, Почетный донор.
– Тогда, значит, мне определите. Я, между прочим, тоже донор, насдавался в отделении своей кровушки, зато появится у меня повод навестить вас. Надеюсь, не прогоните?
– Не прогоню, – сказала Лиля, поглядев на Дегтярева. И вдруг медленно начала заливаться румянцем.
А Лев Михайлович снова подумал, что так и не избавилась она от этой своей девичьей напасти. Покраснела оттого, что при всех заявила, что не прогонит Кручинина? Почему же при этом на него, Дегтярева, смотрела, словно ему эти слова адресовала? Чтобы приревновал он? Зачем ей? Вспомнила, как сошлись они в Мишкиной квартире? Захотела, чтобы он вспомнил? Опять же, зачем? Посылает ему какой-то сигнал? Через столько лет? Смешно даже подумать такое. Или не смешно? Откликнулся бы он, если бы позвала? Она, в которой не сразу признал он бывшую тоненькую сестричку. Зачем она волосы так нелепо красит? Неужели седеть начала? Хотя, почему бы нет? – тоже сороковник уже, небось, набежал. Привлекательности былой, правда, не утратила. Только иная теперь она, эта привлекательность, – вызревшая, округлившаяся, уверенная. Плечи, грудь, бедра спелостью налились, То-то Кручинин липнет к ней, слюни пускает. И не один Кручинин, скорей всего, – сексапильный она экземпляр. Как, интересно, у нее жизнь сложилась? Выглядит, во всяком случае, благополучно. Уже и Лилей называть ее неудобно, фамильярно получится, один Кручинин позволяет себе. Отчества ее не запомнил – Петровна, Павловна? Ни разу не заговорил с ней, потому и надобность не возникала. Так откликнулся бы или нет, если бы позвала? И неожиданно для себя сказал ей:
– Лилия Петровна, простите, если перепутал отчество, вы, наверное, тоже хотите нам что-то рассказать? – И это «нам» выделил. Другие наверняка не обратят внимание, а Лиля поймет, всегда смышленая была. И тут же подосадовал на себя: зачем навязывается, прошлое ворошит, намеки какие-то посылает? Все ведь давно быльем-мохом поросло. Или не поросло? – вот же и она, как девчонка, краснеет, и он сам неспокойным сделался с той минуты, как увидел ее, на Кручинина злится, как не было этих двух десятков лет…
– Да-да, Лилечка, – поддержал Кручинин. – Мы не уйдем отсюда, пока не услышим вашу исповедь, ночевать здесь останемся…
12
– Ночевать мы здесь не останемся. – Лиля, еще плотней зардевшись, направилась к креслу. Села, прижала к щекам ладони, словно остужая, опять посмотрела на Дегтярева:
– Почти никто тут не знает, а я ведь тоже прямое отношение к медицине имею. Сколько помню себя, хотела врачом быть, после школы в медицинский подалась, одного балла не добрала. Год не хотела терять, отнесла документы в медицинское училище. Если закончить его с красным дипломом, можно было сразу без экзаменов поступать в институт, два года отрабатывать не требовалось. Но и тут не по-моему вышло, хоть и училась я хорошо. Отомстил мне директор нашего училища, гад был тот еще, но не об этом сейчас речь. Получила я направление в хорошую больницу, но и там с самого начала не заладилось. Я хотела в глазное отделение, мечтала офтальмологом стать, очень мне эта профессия нравилась, а меня больничный кадровик в реанимацию отправил. Там, сказал, сестры нужны, в глазном вакансий нет. Не от меня зависело, пошла в реанимацию. Принял меня заведующий отделением, расспрашивать начал, а я вижу, что не глянулась ему. Зато он мне сразу понравился. Может, потому еще, что похож был на артиста Тихонова, в которого с детства влюблена была. И не только во внешности дело – что-то вдруг такое к этому доктору почувствовала, словами передать трудно, что-то мое, родное, близкое. Уходить от него не захотелось. А он брать меня не желает, пугает, что тяжело мне после училища будет, не справлюсь я. А я ему отвечаю, что всегда мечтала в реанимации работать, стремилась к этому. В общем, взял он меня, назад не отослал.
Приступила я к работе, поначалу в самом деле нелегко было, особенно, когда операционный день длинный и в ночные дежурства, но старалась изо всех сил. Когда хвалил он меня, на седьмом небе была от счастья. Но, конечно, никаких планов насчет него не строила, понимала, что мы несовместимы. Он доктор, намного старше, женат, дочки у него, да и в любом случае шансов у меня никаких не было. В нашем отделении все, наверное, тайно и не тайно были влюблены в него, и девицы не мне чета. Я тогда худющей была, пичужка такая, он на меня как на особу женского пола вообще внимания не обращал. Тут еще роль играло, что опыта у меня ни малейшего не было, мне до тех пор ни один парень по-настоящему не нравился, первая, можно сказать, любовь. Оставалось только вздыхать о нем по ночам и всякие фантастические истории придумывать, в которых влюблялся он в меня. Но когда начал он меня доченькой называть, окончательно удостоверилась я, что как женщина для него не существую.
И что любопытно, буквально с того дня, как влюбилась я в него, изменилось, наверное, что-то во мне. Раньше не могла я похвастать, что особым успехом пользуюсь у парней, а тут как прорвало. Даже самый красивый мальчишка из нашего класса, за которым все наши девчонки бегали, встретив меня через два года на улице, провожать вызвался и о свидании попросил. Бывали времена, когда сразу двое парней ухаживали за мной, цветы дарили, утром на работу провожали, после работы встречали. Один стихи мне писал, каждое утро в почтовый ящик бросал. Смешно сказать, но со мной нередко и больные заигрывали. И молодые, и немолодые. Лежит под капельницей, в чем только душа держится, а туда же – комплименты расточает. Словно магнит какой-то во мне вдруг появился, диву давалась. А я девушкой строгой была, никому ничего не позволяла. Для меня тогда просто поцеловаться с кем-нибудь целым событием было, хотя уже до девятнадцати лет дожила. К тому же ни у кого из них перспектив не просматривалось – сердце мое занято было, для остальных пустовало.
Но это недолго длилось, потому что появился в моей жизни Рустам. Он меня в трамвае увидел, подошел, по-хозяйски за руку взял, познакомиться предложил. Я руку вырвала и к выходу заторопилась, благо к остановке подъезжали. Не к моей, но очень уж перепугалась я. Здоровенный он был и на монгола похож – такой, знаете, скуластый, глаза чуть раскосые и до того черные, что зрачков не различить. Как посмотрел он на меня этими узкими омутами, сердце в пятки ушло. А он выпрыгивает за мной, не отстает. Вижу я, что не отбиться мне, а как избавиться от него, ума не приложу, хоть в милицию беги. Говорю ему:
– Что вам от меня нужно?
Он улыбается:
– Разве не ясно? Понравилась ты мне, встречаться с тобой хочу.
Я ему плету, что ничего у него не получится, потому что есть у меня парень, и мы собираемся пожениться. А он мне отвечает, что никакой женитьбы не будет – если и выйду я замуж, то за него. Меня от такой наглости затрясло всю, сказала ему, что, если не отстанет от меня, позову на помощь милицию.
– Зови, – зубы скалит, – хоть милицию, хоть полицию, хоть черта лысого, все равно тебе от меня никуда не деться. Я. – говорит, – может, всю жизнь тебя искал, неужели теперь, когда встретил, отпущу?
Чувствую я, все очень серьезно, и трезвый он, на психа тоже будто бы не похож, решила с другой стороны зайти. Сказала ему, что одного его желания мало, надо еще, чтобы он мне тоже понравился, а в этом смысле надеяться ему не на что, насильно, как говорится, мил не будешь. Тем более после такого знакомства. А он мне на это: не зарекайся, узнаешь меня получше – иначе поглядишь. И пусть я не думаю, что он искатель приключений, нахал, пристающий на улице к девушкам. Просто никогда не простит он себе, если сейчас расстанется со мной. И я вдруг поняла, что не попросту наглеет он, в самом деле понравилась ему, чуть ли не пресловутая любовь с первого взгляда, со мной ведь такое же было. И последний довод привожу:
– Ничего у нас не получится, потому что я вас боюсь. И всегда буду бояться. А там, где страх, там никакого ответного чувства быть не может.
Он улыбаться перестал:
– Не нужно меня бояться, я ничего плохого тебе не сделаю. И ты никогда не пожалеешь, что выбрала меня, в лепешку разобьюсь, чтобы и ты меня полюбила.
Просто сценарий бездарного фильма, на простачков рассчитанного. А мы уже к моему дому подходим. Я прикидываю, как дальше могут развиваться события. Сбежать от него, такого настырного, все равно не удастся, отговориться тоже. Единственный более или менее приемлемый выход из положения – попытаться обмануть его. Дать ему какой-нибудь вымышленный номер телефона, зайти в чужой подъезд, пусть меня потом ищет.
– Ладно, – говорю ему, – один шанс из тысячи, что я изменю свое мнение, узнав вас получше. Вы, наверное, догадываетесь, что впечатление сейчас произвели не самое благоприятное. Сделаем перерыв, вы мне через день-другой позвоните, номер телефона я вам дам, дальше поглядим. Извините, меня дома ждут. Вы запишете или запомните?
– Запомню, – кивает, – говорите.
Я ему какие-то цифры называю, перед ближайшей девятиэтажкой останавливаюсь:
– Ну, вот я и пришла. До свидания, жду вашего звонка.
Самый тревожный момент наступил – боялась я, что он так просто не отпустит меня. Но сработала моя хитрость, и он повел себя на удивление мирно. Попрощался, сказал, что завтра же позвонит. Я в подъезд вошла, поднялась в лифте на последний этаж, отсиделась там с четверть часа, наверное, чтобы наверняка, потом выглядываю прежде, чем выйти, осторожно – не видать его. Вздохнула облегченно – и к своему дому припустила. И десяти шагов не сделала – как из-под земли передо мной вырастает он с той же улыбочкой, руку протягивает:
– Ну, давайте знакомиться. Меня Рустам зовут. Краткие биографические данные: двадцать шесть лет, мастер цеха подшипникового завода, холост, влюблен.
Я до того растерялась, что руку его пожала, сказала, как меня зовут. А он руки моей не выпускает:
– Извини, Лиля, есть у меня основания тебе не доверять. Скажешь мне свой правильный телефон?
Я еще не отошла от всего этого, лепечу ему.
– Вот теперь я тебе верю, – выпускает наконец мою руку. – Но даже если бы опять солгала, я бы тебя все равно отыскал, все дома тут вверх тормашками перевернул бы. Пойдем, отведу тебя.
И я, как загипнотизированная, плетусь к моему дому, потом он, меня до самой квартирной двери проводив, уходит, а у меня в голове такое творится, что впору собственный телефон забыть.
Решила я несколько дней к телефону не подходить. Попросила своих, чтобы говорили, будто меня дома нет, если услышат мужской голос, кто бы ни звонил. Но уже не надеялась, что спрячусь от него – пообещавшего все дома тут своротить. И отсидеться в квартире не могла бы – работа ведь. Следующим утром из дому выходила с опаской, боялась, что караулит он меня. Одно слегка обнадеживало: ему ведь тоже на работу надо, тем более что мастер он, если не врет, положение обязывает. Не тут-то было – у подъезда столбом торчит. Можно уже было не сомневаться, что не избавлюсь я теперь от него, в железные тиски попала. Тоска меня взяла беспросветная. И страхом, который сковал, когда в трамвае он за руку меня взял, снова переполнилась. Меня кто какой национальности вообще никогда в жизни не интересовало, было в этом страхе что-то чуть ли не генетическое, от татаро-монгольского ига. Не знаю, чем другим объяснить, отчего так забоялась. Глаза у него – как две горячие щели, испепелят, кажется, если разозлить. Спрашиваю у него:
– Разве мастерам утром не надо ходить на работу?
– Мне сегодня в ночную, – улыбается.
– А если бы и мне сегодня в ночную? – допытываюсь. – Вы бы целый день здесь простояли?
– В этом можете не сомневаться, – отвечает.
И тут что-то шевельнулось во мне. Нет, симпатией к нему не прониклась, но все-таки лестно стало, что способна я пробудить в ком-то такие сильные чувства. Все прежние мои ухажеры рядом с ним мокроносыми детишками показались. А он руку из-за спины вынимает, цветы мне протягивает, алые гвоздики:
– Доброе утро, Лиля.
Мне по утрам никто еще цветы не дарил, тоже приятной неожиданностью для меня стало. И немного поспокойней на душе. Едем мы в трамвае, разговариваем, нормально разговариваем, и если бы он все время не глядел на меня неотрывно, вообще перестала бы комплексовать. К моему удивлению, оказался он не самым плохим собеседником, грамотно фразы строил, шутил удачно. У меня перед тем впечатление сложилось, что он дикарь какой-то необузданный. Хоть и должна была понимать, что дурака и психа, да такого молодого еще, мастером цеха на заводе не назначат. Он обрадовался, узнав, что я медицинская сестра. Это здорово, – сказал, – когда в семье медик, особенно для наших с тобой ребятишек. Я как про этих наших ребятишек услыхала, обомлела. Ничего себе! – думаю, – уже, значит, все без меня решил – что не только замуж за него выйду, но и не одного ребенка ему рожу. Удивляюсь:
– Почему вы так уверены, что обязательно будет по-вашему? Будто от вас только зависит, как дальше сложится моя жизнь.
А он мне:
– Потому что иначе просто быть не может. Должна же быть на Земле какая-то справедливость. Меня, когда увидел тебя, словно кипятком ошпарило. Я ведь давно тебя знал, мог бы даже нарисовать, только встретить никак не удавалось. Таких случайностей не бывает, перебор для случая.
Я последний козырь выкладываю:
– И не заботит вас, что я люблю другого, свадьба скоро у нас?
– Нисколечко, – отвечает, – даже если бы ты вообще была замужем. Иному не бывать.
Я лишь головой мотаю:
– Что, выкрали бы меня?
– Вместе с забором, – смеется, – как в той песне.
– И все равно вам, как я к вам отношусь?
– Не все равно, – перестал улыбаться. – Разве это может быть все равно? Если бы не надеялся, что ты меня тоже полюбишь, не подошел бы к тебе.
Мне даже любопытно стало:
– Да с чего вы взяли, что я полюблю вас? Мы всего ничего знакомы. И знакомство-то наше, мягко выражаясь, не самое приличное.
А он свое гнет:
– Мог бы тебе сказать, что моей любви столько, что хватит на двоих, но не скажу. Должна же, в самом-то деле, быть какая-то справедливость. Разве может остаться равнодушным один человек к другому, если тот свою жизнь к его ногам бросает? Я тебе вчера не пустые слова говорил, когда обещал в лепешку разбиться.
Ни больше, ни меньше. Я от такого напора совсем растерялась. С ним даже рядом стоять жарко было, словно раскалился он. Да и привычки у меня не было к чьей-то такой просто бешеной энергии, страсти, не знаю, как точней назвать. Воздух вокруг начал потрескивать. И это тревожное ощущение, что беззащитна я перед ним, маленькая и слабая, сметет он меня, сдует, как ветер пушинку, обреченность полнейшая. Подъехали мы к больнице, он меня до моего лечебного корпуса проводил, спросил, когда я освобождаюсь, встретит он меня. А у меня голова кругом. Выбросила в вестибюле цветы в урну – прежде всего потому, чтобы доктор мой не увидел, и не сразу в себя полностью пришла. Боялась, в таком состоянии напутаю что-нибудь, беды потом не оберешься…
И с того дня началась у меня другая жизнь. И вся она заполнена была Рустамом. Он как-то даже так устраивал, что его рабочие смены часто совпадали с моими. Встречает, провожает, в кино ходим или просто гуляем, побывала я и в театре с ним, и в ресторане. Но более всего любил он гостевать у меня, со всеми поладил – и с папой, и с мамой, и с младшим братишкой моим. Они сначала, как и я, настороженно к нему отнеслись, побаивались за меня, а потом привыкли к нему, чуть ли не своим в доме сделался. Папа так вообще уверен был, что это его будущий зять. Чем плох? – не мальчишка ветреный, собой хорош, опрятен, уважителен, работа у него не абы какая, деньги приличные, всегда трезвый, чего еще желать? А главное – видели же, с каким обожанием ко мне относится, тут ошибиться невозможно. И я тоже к нему постепенно привыкла, не дичилась уже. Но все равно где-то совсем глубоко еще гнездился страх, испытанный мною в трамвае, изжить не могла. А еще я оказалась точно в вакууме. Отвадил он от меня не только всех моих знакомых ребят, но и девочек. Чтобы никого, кроме него, близко не было. Никто из них и не сопротивлялся, хватило им нескольких сказанных слов. Поэта моего бедного, вдруг зароптавшего, так двинул, что тоже как ветром сдуло. Я после этого митинг протеста устроила, перестала разговаривать с Рустамом, он каялся, прощения просил.
– Ты же неглупый парень, – вдалбливала ему, – неужели не понимаешь, что у меня тоже должна быть своя жизнь, друзья, общение какое-то? Ведь себе же во вред делаешь! Я тебе не пойманная птичка, чтобы в клетке меня держать, по какому праву?
Но с ним спорить бесполезно было. Защищался тем, что никому такие друзья не нужны, грош им цена, если после минуты разговора отрекались от меня, звонить даже переставали. Один поэт нормально, по мужски себя повел, да и тот сразу же слинял. А когда допытывалась я, чем они мешают ему, отвечал, что могут они плохо повлиять, втянуть меня, наивную, в какое-нибудь нехорошее дело, а он обязан заботиться обо мне, отвечает теперь за меня. Как на непробиваемую стену натыкалась. И уже почти смирилась, понимала, что никуда от него не деться, рок он мой. От этого ощущения руки опускались. Тем страшней, безысходней это было, потому что не любила его и знала, что никогда не полюблю. Возьмет он меня измором, тем все и кончится. И если бы еще не любила я своего доктора, никто, кроме него, не был нужен…
Но поразительней всего было другое. И объяснить это совершенно невозможно, никакому Фрейду не под силу. Больше всего с первого же дня боялась я, что сделает он что-нибудь со мной. Неукротимый ведь, буйвол бешеный. И мое сопротивление ему – что для котища мышонок. А он, поверить в это невозможно, за три недели уже, что мы встречались, даже ни разу попытки не сделал поцеловать меня. За руку только держал. Знаете, почему? Сказал мне, что я должна первая поцеловать его, захотеть этого, а он ждать и терпеть будет хоть год, хоть десять, пока такое желание у меня появится. Эдакий вывихнутый вариант «Обыкновенного чуда». Непостижимый для меня был человек. А я все об одном печалилась: почему так несправедливо жизнь устроена: тот, кого любишь, внимания на тебя не обращает, а кто вовсе тебе не нужен, расшибиться готов ради тебя?…
Но наступило утро, о котором я и мечтать не смела. Закопалась я, на утреннюю отделенческую планерку чуть опоздала. Шеф мой очень не любил, когда вовремя не приходят, а для меня его любое недовольство мною едва ли не трагедией было. Свободный стул всего один оказался, вплотную к его столу, там обычно кто-нибудь из врачей сидел. Я могла бы и постоять, как нередко кто-нибудь из сестер, если стульев для всех не хватало, но потащило меня к этому близкому стулу как арканом. Хоть и не должно было – незадолго перед тем грустная история у меня произошла с моим любимым доктором. Совпало у нас ночное дежурство, тяжелая операция досталась, вернулись к себе уже под утро, решили чайку попить. Я все приготовила, заявилась к нему в кабинет. Он меня за хлопоты благодарит, опять доченькой называет. И что со мной приключилось, понять не могла, оттого, может, что устала очень, контроль над собой утратила. Попросила вдруг его не звать меня больше доченькой. Он шутит, не устыдилась ли я такого отца, а я выпаливаю, что ничего ему объяснять не надо, он же все про меня и про себя знает. Он сразу посмеиваться перестал и каждое слово, как гвоздь, в меня вбивает: чтобы я не выдумывала его и дурью себе голову не забивала. Иначе, мол, трудно будет нам вместе работать и даже, скорей всего, придется расстаться. Если раньше у меня один шанс из миллиона был, то теперь и его не осталось. Я бы и сама давно уволилась, не мучилась, тем более что недавно в глазном отделении медсестра потребовалась, брали меня, но было это выше моих сил. От одной мысли, что не буду его видеть, жить не хотелось.
Два дня после этого как в тумане ходила, а тут эта планерка, сижу совсем близко от него, блаженствую. И вдруг изменилось что-то, словно теплом каким-то от него повеяло. Я посмотрела, не веря себе, на него – и с его взглядом встретилась. Один лишь миг это продлилось, но мне больше и не нужно было, все поняла. Поняла, что не безразлична ему, сдвинулось в нем что-то. И он, видела я, понял, что я поняла, и краше этого мгновенья никогда у меня в жизни не было. Ни слова мы друг другу не сказали, но весь тот день не ходила я, а порхала, не удивилась, если бы в самом деле от земли оторвалась.
И тогда же решила я, что историю с Рустамом пора заканчивать. Пусть он разнесет в щепки все, пусть придушит меня, ничто уже не останавливало. Даже в самых смелых мечтах не помышляла я, что соединится моя жизнь с любимым мною человеком, не бросит он ради меня жену и детей, но знала я, что принадлежу теперь только ему и никто не должен быть между нами, чего бы это мне ни стоило.
Вечером пришел ко мне Рустам. Я одна, на беду, была, мама с папой в цирк брата повели. Заявился он на удивление веселый, оживленный, говорит мне, что есть у него для меня хорошая новость. Я ему:
– Погоди, сначала я тебе свою новость скажу.
Он резвится:
– Тоже хорошую?
– Для тебя плохую, – отвечаю. И все ему выкладываю. Что искренне жаль мне его, что благодарна ему за чувство ко мне, но хочу быть с ним до конца честной. Я люблю другого человека, и это не придумка, сочиненная мною в первый день. И этот человек отвечает мне взаимностью. Дороже этого ничего у меня нет. Глупо просить его, как всегда в таких случаях пытаются, остаться друзьями, но так случилось и ничего уже не изменить.
Он каменным сделался. Одни глаза на лице живы. И в глаза эти смотреть страшно, как в бездну. Я думала, он сейчас прикончит меня, но почему-то не боялась этого. Он всего лишь одно слово произнес:
– Кто?
Вот тогда-то я действительно испугалась. Если узнает он, о ком речь, страшно подумать о последствиях. Ни перед чем ведь не остановится, буквально о жизни и смерти речь пойти может.
– Какая разница, кто? – спасаюсь, – если я люблю его, а не тебя? У тебя есть самолюбие? Ты согласен встречаться с девушкой, любящей другого?
– Так его любишь? – губы совсем побелели.
– Так люблю, – не отвожу взгляда.
Он сел, голову в кулаки воткнул, минут на пять застыл, потом дикарские глаза свои на меня поднимает:
– У тебя с ним что-нибудь было? Только честно.
Я ему честно отвечаю:
– Не было. Не потому, что я не захотела. Но скоро будет, и это счастье для меня.
Он опять в изваяние превратился, даже пожалела его. Всегда ведь тяжело видеть, как страдает сильный, мужественный человек. Жду, чем все это завершится. Он медленно встает, тихо говорит:
– Снимай с себя всё.
Я у окна стояла, ноги едва не подкосились. Проскочила даже мысль выброситься в него, чтобы разом со всем покончить. Задаю в панике дурацкий вопрос:
– Зачем?
А у него скулы едва кожу не продирают:
– Лучше сама сними, не заставляй меня все разорвать на тебе в клочья. И не веди себя так, чтобы довелось причинить тебе боль. Я этого не хотел бы.
Хватаюсь за последнюю соломинку:
– Я кричать сейчас буду, стекло разобью.
А он:
– Не будешь. – Одним прыжком возле меня оказывается, рот мне зажимает, хватает и бросает меня на диван. Все на мне по швам затрещало, а потом такая боль пронзила, что сердце едва не остановилось. А что он дальше со мной делал, врагу не пожелаешь. Я только зубами скрипела и выла, понимала, что просить, молить его о пощаде бессмысленно. И длились эти мучения целую вечность. Выпустил наконец меня, задыхается, то ли сам устал, то ли от бешенства, швыряет мне:
– А теперь пропади ты пропадом! Ненавижу тебя!
Выбежал он, а я наревелась донельзя, потом в ванную комнату пошла, стою под душем и все дальнейшее себе отчетливо представляю. Вот наполню ванну теплой водой, лягу в нее – и полосну себя по венам папиной бритвой. Засну – и все для меня закончится, потому что жить дальше с этим невозможно. И незачем жить. Так бы, наверное, и сделала, если бы о папе с мамой и брате не вспомнила. Как зайдут они в ванную, увидят меня… И еще вспомнила о кровавом пятне на диване, нельзя было его оставлять. Душ выключила, полотенцем вытерлась, поспешила следы преступления отмывать. Потом утюгом высушивала, чтобы успеть до их возвращения…
Казалось мне, что мир теперь обрушится, жизнь всякую ценность потеряет. Нет, не обрушился мир. Хватило меня и на то, чтобы с домашними нормально разговаривать, улыбаться даже. Ночь только тяжеленная была, еле дождалась утра. Но еще дня два прийти в себя не могла. На работу ходила, говорила, делала, что положено, как на автопилоте, будто все это за меня другой кто-то делал. Доктор мой, как ни старалась я не выдать себя, что-то неладное все-таки заподозрил, перехватила я несколько его непонимающих взглядов, но не спросил ни о чем. Доченькой больше не называл…
А еще через день подходит ко мне старшая сестра, дает мне очки и велит отнести их в больничный склад нашему заву. Прочитать он что-то без них не может. Пришла туда, а он там один, новый наркозный аппарат разглядывает. Красивенький такой аппарат, блестяще-матовый, аж погладить его, как живого, захотелось. Присела возле него, так и сделала. А он рядом на корточках сидел, вдруг мою руку своей ладонью накрыл. Поднимаемся мы с ним на ноги, не знаю, как я выглядела, а он прямо в лице изменился. Я таким его всего однажды видела, когда у больного на операционном столе сердце остановилось, возвращали его к жизни. Затем потянулись мы друг к другу – и началось. Такое началось, о чем я, придумывая когда-то по ночам, и вообразить не могла. Я совсем голову потеряла, вообще не знала, на каком сейчас я свете нахожусь. Он, к счастью, не отключился, услышал, как спускается к нам кладовщица. Представляю себе, если бы она такими нас увидела. Возвращаемся мы в отделение, и знаю уже, что сбудутся мои ночные грезы. Очень скоро сбудутся, пусть только позовет меня. Мелькнула даже, когда в наш корпус входили, безумная мысль, что позовет он меня прямо сейчас, в свой кабинет, закроемся изнутри – и, как Рустам сказал, пропади все пропадом. А он, словно мысли мои прочитав, говорит мне:
– Не здесь.
И я, чтобы все ему до конца ясно стало, отвечаю:
– Не здесь.
На следующий день зовет он меня, проходя мимо, к себе. Почувствовала я, что сейчас все и решится. Вошла, а он мне бумажку протягивает. Я ничего изображать не стала, в глаза ему смотрю:
– Это наш адрес?
И слышу в ответ, что да, адрес, будет ждать он меня там в семь часов.
Самым трудным было дожить до этих семи, невыносимо медленно время ползло. Я примчалась чуть ли не на час раньше, ждала в сторонке на лавочке, когда он появится. Встретились мы взглядами, я немного на всякий случай выждала и побежала за ним. Едва порог указанной в адресе квартиры переступила, бросились мы друг на друга, словно вечность назад разлучились. Он меня в комнату понес, а я чуть ли не на руках еще у него раздеваться начала. Он меня спрашивает:
– Пусть все будет?
– Пусть, – ответила ему. И тут меня боль изнутри прошила почти такая же, какую мне Рустам причинил. И пятно кровавое перед глазами всплыло…
Это уже потом, когда немного в себя пришла, попыталась я проанализировать то свое состояние. Чего испугалась? Что испытаю с ним те же муки, как недавно с Рустамом, память восстала? Узнает он, что я уже не девушка, изменила ему? Да, да, изменила, как ни парадоксально это звучит, пусть и не по своей воле изменила. Тут, наверное, все одно с одним в какую-то чудовищную массу спеклось, но ощутила я, что не могу ему отдаться, как заклинило. Дергаться начала. А он ничего понять не может: как же так? – сама прибежала даже раньше него, сама на шее повисла, сама для него разделась – и такой вдруг от ворот поворот! Спрашивает меня:
– Что не так, радость моя? Ты боишься? О чем-то плохом подумала?
Что я могла ему ответить? Не помню, как выбежала, как дома очутилась. Утром пришла на работу пораньше – знала, что наша старшая всегда спозаранку уже на месте. Молча сунула ей заявление об увольнении – и удрала. А перед тем ночь была. Могла бы она посоперничать с той, после Рустама. Знал бы кто, чего стоило мне это заявление написать. Но не могла я после всего в глаза ему поглядеть, не хватило бы меня…
– И что дальше? – глухо спросил Дегтярев.
– Обыкновенно дальше, – невесело усмехнулась Лиля. – Руки на себя не наложила, не свихнулась. Устроилась в другую больницу, биофак вечерний закончила, приняли меня в лабораторию станции переливания крови, вскоре заведовать ею стала. Так и живу.
– А Рустам ваш? – полюбопытствовал Кручинин. – Так больше и не появился?
– Появился, – вздохнула Лиля. – Через неделю. На коленях передо мной стоял, умолял простить. Едва узнала его. Он и без того смуглый был, а тут вообще почернел, словно обуглился, глазницы ямами.
– Простили его?
– Простила. Не сразу, конечно. Мы уже почти двадцать лет женаты. Дочка у нас.
– Все таки сумел он внушить любовь к себе?
– Я не хочу отвечать на этот вопрос. – Лиля вернулась на диванчик, постаралась сесть на самый краешек, подальше от Кручинина.
Последний час Дегтярев стоял – чертов радикулит, никогда не знаешь, чего ждать от него, затаился, но Лев Михайлович все-таки не садился, не провоцировал его. Поглядел на часы:
– Половина десятого, мы не опоздаем?
– Сейчас позвоню. – Бобров, сопровождаемый Толиком, вышел из комнаты.
Все замолчали. Похоже, несколько смущены были тем, что пошли на поводу у Кручинина, разоткровенничались. Словно вдруг разом протрезвели.
– Эх, жизнь наша сволочная, – потревожила тишину Кузьминична.
– Или мы в ней, – буркнул Хазин.
Вернулся Бобров, сказал, что все улажено, билеты в кассе отложены, поезд идет по расписанию. Можно потихоньку трогаться, чтобы потом не суетиться.
Вышли во двор. Совсем уже стемнело. Дождя не было…
13
Все было исполнено в лучшем виде. В маленьких городках медицину уважают, а зав хирургией местной больницы – звезда первой величины. На вокзале их встретил какой-то ответственный железнодорожник в мундире, позаботился он и о билетах, чтобы у кассы в очереди не толкались, и к вагону проводил. Понять, как такие вещи делаются, – удивлялся Дегтярев, – мало кому дано, сие великая ведомственная тайна есть, но нашлось для них целое свободное купе в забитом до отказа проходящем поезде. И это при том, что извещены были местные железнодорожники за считанные часы до прибытия состава. Даже недовольный прежде таким оборотом дела Корытко удовлетворено гмыкнул, войдя в чистое и теплое купе. Постели на два часа брать, естественно, не стали, от предложенного любезной проводницей чая тоже отказались. Сидели по двое – Корытко с Дегтяревым на одной полке, Кручинин с Лилей на другой, – глядели в черное ночное окно, за которым изредка летучими светлячками мелькали таинственные близкие и дальние огоньки. Разговор не клеился, даже неугомонный Кручинин приувял, не заигрывал с Лилей. Она сидела у окна задумчивая, вообще ни слова после своего рассказа не произнесла. И на Дегтярева старалась не глядеть.
А Лев Михайлович – на Лилю. До того был потрясен услышанным от нее, что совсем затосковал. Сволочь я, эгоист, – досадовал на себя, – почему тогда не разыскал ее, не успокоил девочку? Не прочувствовал, как ей тяжело. На поверхности ведь лежало, что стряслось что-то с ней, не просто выделывается. Обиделся как мальчишка, что сбежала от него. И ничего самому предпринимать не надо было, старшая сестра настаивала, что нужно отыскать ее хотя бы потому, что обязана была Лиля отработать две недели, весь график дежурств ломала. А может, оно и к лучшему, что поступил так? Как бы сложилась его жизнь, если бы не сбежала она? Ведь все у него очень серьезно было, не блажь, не кобелиное желание потешиться с симпатичной сестричкой. Припомнит ли он за всю свою клонящуюся уже к закату жизнь, чтобы вспыхивало в нем к кому-нибудь такое светлое, сильное чувство, как к ней? Прошел, возможно, мимо дареного судьбой счастья, сам себя наказал. Или не наказал? Дано ли знать, как сложилась бы эта жизнь, если бы продлилась их любовь? Вплоть до того, что вдруг женился бы на ней и обрел взамен пусть и заурядного, но спокойного, размеренного семейного бытия неведомо что, с самыми неожиданными последствиями. Например, выяснение отношений с этим ее Рустамом. С непредсказуемым результатом и, не исключено, плачевным. Лиля не та девушка, с которой можно было бы позабавиться, пока не надоест, а затем безболезненно расстаться. Но – и это затмевает многое – была ли в его жизни девушка, женщина, испытывавшая к нему такие сильные чувства, готовая на все ради него?…
Украдкой посматривал на ее памятный с далеких лет нежный профиль с чуть вздернутым носом, томился. Сейчас, в неярком вагонном свете, лицо ее казалось совсем молодым, лишь чуть усталым. Но все-таки зачем, зачем выбрала она для своего рассказа именно ту давнюю историю? Наверняка же не для них, для него, и что с умыслом каким-то – никаких сомнений. К тому же без надобности была откровенна – вдруг захочется кому-то, тому же Кручинину, полюбопытствовать, где и у кого работала она после училища. Сохранила к нему прежние чувства? Вряд ли, за столько лет… Он-то ведь забыл ее, хоть и сильно тогда увлечен был ею, не узнал даже. И потом, если бы не угасло в ней это чувство к нему и так уж без него не могла, отыскала бы возможность дать ему знать о себе. Не захотела, значит. Не рискнула? Счастлива ли она с Рустамом? С таким непримиримым, взрывным человеком ужиться не просто, даже при самом ангельском характере. А что ревностью своей Рустам изводил ее, дышать не давал – это уж несомненно, с таким типом людей он, Дегтярев, не раз встречался, удовольствие небольшое. Отказалась она отвечать на вопрос, сумел ли Рустам внушить ей любовь к нему. Но этим же, можно считать, и ответила. Дочка у них. Скорей всего, на отца похожа, у того гены сильные, восточные, должны возобладать. И характером доченька, скорей всего, далеко не сахар, достается Лиле…
И самый каверзный вопрос: так откликнулся бы он или нет, если бы позвала его? Особенно после того, как почти сделала она это сегодня, вспоминая былое. Ведь не краснела бы так, если бы просто вспоминала, – не девочка уже, зрелая, наверняка собой владеть научившаяся женщина, лабораторией заведует. Теперь это технически разрешилось бы элементарно, никакой дружок Мишка не понадобился бы – посадил в машину и отвез на пустующую дачу, полчаса дел. Прятаться не надо, чужой постелью пользоваться… И не меньше сейчас притягательна Лиля чем прежняя тоненькая девочка – другая красота, другая любовь. Простофилей нужно быть, чтобы не откликнуться. А почему, собственно, должен Он откликаться? Почему онА должна быть инициатором, звать его? Она, в конце концов, женщина, замужняя, ко многому обязывает это ее. Дать ей как-нибудь знать, что он хочет встретиться с ней? И тут же новая мысль, как холодной водой окатила: а вдруг она специально все это затеяла? Непостижимая женская месть за несбывшееся, за то, что двадцать лет прожила с нелюбимым? Ну, если не месть, то утешение, получить какое-то удовлетворение оттого, что снова потянулся он к ней, всколыхнула в нем прежние чувства. Она, кстати, Фрейда поминала, хороший материал для психоанализа. Посмотрит «непонимающе» и скажет: вы что себе позволяете, за кого меня принимаете? А за кого он принимает ее, напропалую кокетничавшую с Кручининым? Или намеренно это делала, чтобы обратил он, Дегтярев, на нее внимание? Но значимей другое: не прочь он, чего уж там, просто помиловаться с красивой, растревожившей его женщиной или все-таки пробудилось в нем далекое прошлое, нежданно вернулось прежнее чувство к ней? Не сравнить, конечно, с тем прежним, но тем не менее. И почти не сомневался уже, что да, пробудилось, вернулось…
Возобновилась ли прежняя связь между ними – между ним и Лилей, так же непостижимо ощутившей когда-то, что повлекло его к ней на той роковой утренней планерке, одного взгляда хватило? Посмотрел на нее, отвернувшуюся к окну, мысленно попросил: погляди на меня. И она тут же повернула к нему голову, вопросительно приподняла брови. И снова разлился по ее щекам предательский румянец. А у него вдруг чувствительно напомнил о себе попритихший было радикулит. Словно сигнал какой-то подавал. Где тонко, там и рвется, нехорошо подумалось, тяжело поднялся, сказал:
– Никак не угомонится вражина мой. Пройдусь немного, подымлю в тамбуре.
Выбрался из купе, прошагал в конец вагона, закурил. И загадал: если она выйдет сейчас ко мне, тогда сам позову ее. Хотя бы просто уединиться, поговорить. А если не выйдет… Если не выйдет, дождусь, позовет ли она, даст мне как-то знать. Впереди два часа, найдет, если захочет, возможность. Если же не позовет она…
Не успел ни додумать эту мысль, ни до половины еще сжечь сигарету, когда Лиля появилась. И сходу огорошила его:
– Зачем вы позвали меня, Лев Михайлович?
– Я разве звал вас? – подрастерялся.
– Звали, конечно. Хотели меня о чем-то спросить?
– Вообще-то, хотел, – ответил он и неожиданно продолжил, ужасаясь собственным словам: – Почему вы так непозволительно вели себя с Кручининым? На глазах у всех. На моих глазах.
На лице ее проступило подобие улыбки:
– Неужели приревновали?
– Да, – сорвался он с обрыва, – представьте себе, приревновал. Вы это хотели от меня услышать?
– Это, – кивнула она. – Только здесь у нас разговор не получится, по многим причинам. А я бы хотела поговорить. Но ко мне лучше не звонить. Вы не против, если я вам сама позвоню? Если вам это удобно.
– Еще как не против. – Полез в карман, вытащил свою визитную карточку, протянул ей. – Здесь все мои позывные, но лучше звоните на мобильный, он здесь не указан. – Написал на обороте цифры, жирно подчеркнул.
– Ладно, – коротко ответила она, легко, почти невесомо коснулась его руки, как тогда, много лет назад, когда возвращались они из склада, – и ушла.
Ему вдруг стало хорошо. Так хорошо, как давно уже не бывало. Будто улетучились бесследно куда-то все эти годы, сгинули вместе со всеми своими заботами и проблемами. Не сразу постиг, отчего ему так вдруг захорошело, потом сообразил: отпустила, словно по волшебству, поясница. Совсем уже, знал, отпустила, не затаилась, как раньше, снова он здоров, молод, силен, ни тени облачка на горизонте. А еще знал уже, как все у них будет дальше. Она позвонит ему, они договорятся о встрече, он подберет ее в условном месте, умчит на дачу, там и поговорят. Замечательно поговорят. И снова она будет принадлежать ему, прежняя Лиля Оболенская, новая Лиля Оболенская. Теперь уж он ее не отпустит, не выпустит. Да она, уверен был, сама не сбежит. В купе вернулся тем же сорокалетним бодрячком, постарался скрыть свое радостное возбуждение. Удавалось не очень-то: это, всякому известно, плохое настроение можно спрятать от других, с радостным все много сложней. Никто, правда, не обратил на него внимания – Кручинин как раз звонил по своему мобильнику в больницу, договаривался о дежурной машине, которая встретит их на вокзале. Лиля по-прежнему сидела, отвернувшись к окну. Дегтярев поглядел на ее гладкую белую руку, подпиравшую щеку, представил себе, как скоро завладеет он ею, и не только ею, поскорей бы только…
– Всё в ажуре, – сказал Кручинин, – всех по домам доставлю без проблем. Вас, Лилечка, мы отвезем первую, хотя будет это для меня трагедией, как от сердца оторву. Вы не забыли, кстати, что обещали вплотную заняться моей грешной кровью? Если сумею дожить до этого феерического события.
– Обязательно, – сухо ответила Лиля. – Вы позволите мне воспользоваться вашим сотовым, предупрежу мужа, чтобы не волновался? Я свой дома забыла.
Дегтярев сразу чуть потускнел, одного упоминания о муже хватило. Очень хотелось послушать, как она будет говорить с ним, о многом бы ему сказало, однако Лиля с кручининским телефоном вышла в коридор, задвинула за собой дверь. Но все равно оставшегося хорошего настроения было достаточно, чтобы не киснуть. И по-детски захотелось, чтобы у всех остальных тоже поднялось настроение, не пожалел никто об этом сумбурном дне. И потеплел к Кручинину, с тем ощущением превосходства, какое всегда испытывает удачливый соперник. Тут же вспомнил о Борьке Хазине. Проблема из проблем, Борька в любом случае не должен пострадать. Предупредил:
– Имейте в виду, дорогие коллеги, я Хазина топить не буду, хотя бы потому, что он, вы же все знаете, мой давний друг. Могу лишь добавить к этому, как сказал уже раньше Василию Максимовичу, что пытаться защитить перед начальством своих проштрафившихся подчиненных наверняка стал бы и он сам, и не только он. На том стоим. Пусть и с точки зрения закона нет оправдания тому, что там произошло. Наказать Хазина, конечно, нужно, но не выпороть так, чтобы на улице перед пенсией оказался. И прежде всего потому, что лучшего, чем он, главного врача там не сыскать. К тому же он патриот своей больницы. Помните, Степан Богданович, как лет десять назад отказался он, когда сватали, возглавить областной онкологический диспансер, не уехал оттуда? Много ли найдется, кто бы не воспользовался такой возможностью?
– Ну, о том, чтобы увольнять его, и речи нет, – пожал плечами Кручинин. – Но и спустить дело на тормозах мы не имеем права, никто нас не поймет.
– Как бы не мне решать его дальнейшую судьбу, – повторил его жест Корытко, – я не министр.
– Не скромничайте, Степан Богданович, от вашей позиции многое, если не все зависит, – польстил ему Дегтярев.
– Надо сначала почитать акт, который вы напишете, – уклонился Корытко, но было заметно, что слова Дегтярева упали на благодатную почву.
Обсуждение прекратилось, потому что вернулась Лиля. Ей, человеку не из их обоймы, слышать это не полагалось.
До прибытия в город ничего существенного не произошло, болтали о всякой ерунде. О Хазине больше не вспоминали. Лиля в разговоре почти не участвовала, на заигрывания Кручинина сказала, что у нее разболелась голова. Водитель присланного «рафика» встречал их у вагона, отвел к своей машине. Первой, как обещал Кручинин, отвезли домой Лилю. Дегтярев в окно видел, как встречал ее у подъезда рослый лысоватый мужчина. Скудное освещение не позволяло толком разглядеть его. Волнуется, однако, муженек, – подумал про себя. – Или хотел удостовериться, что действительно прикатила она из командировки на больничном транспорте, не провожал ее кто-нибудь подозрительный? Еще бы на вокзал приперся…
Звонка ее ждал с самого утра. К обеду начал нервничать, потом тревожиться. Не договаривались они, что Лиля даст о себе знать на следующий же день, больше того – не так-то просто ей, наверное, вырваться вечером из дома: причина должна быть такая, чтобы ревнивый муж ничего не заподозрил. Но все равно было обидно, что мучит она его неизвестностью, могла бы, в конце концов, позвонить в любом случае, объяснить ситуацию, да просто позвонить, пообщаться с ним. Гнал от себя мысль, что передумала, – ведь это же не он, она сказала, что нужно им поговорить. И это неслучайное касание Лилиной руки, столько ему сказавшее…
По неизбывной привычке копаться в себе снова пытался разобраться, почему так важны для него этот звонок, эта встреча. Рецидив чувства двадцатилетней давности? Желание все-таки заполучить то, что когда-то не сумел? Совсем недостойное – восторжествовать над Кручининым? И как ему дальше быть с Лилей, если их свидание состоится и окрепнет желание видеться дальше? СтОят ли возможные в будущем проблемы, и проблемы немалые, радостей этих свиданий? Ведь легкой интрижкой из цикла «сошлись-разбежались» все наверняка не ограничится. И всё та же, всё та же неотвязная мысль: что ему вообще нужно от Лили? Понежиться с женщиной, которая за столько лет, оказывается, не растеряла свою любовь к нему, и ведь не рядовую любовь – первую, заветную? Она еще достаточно молода, красива, заполучить такую женщину мечта каждого мужчины. Наметившаяся Лилина полнота лишь придает ей привлекательности. И, вопреки тому, что мнилось тогда в вагоне, начал склоняться к тому, что, пожалуй, последняя версия все-таки правдоподобней. Увы, ларчик, похоже, открывается просто – банальная мужская похоть, если называть вещи своими именами, всё прочее уже вторично. Ну, пусть не похоть, можно подобрать словечко поделикатней, многое ли от этого изменится? И от того, что Кручинин сыграл здесь не последнюю роль, тоже никуда не деться. Ведь не проснулось же в нем ничего, когда увидел, узнал ее, пока не стал волочиться за нею Кручинин…
Докопавшись до этого, Дегтярев огорчился. Подосадовал крепко. Хотелось ведь чего-то восторженного, памятного, сказки хотелось. Такая прелестная, романтичная история: они встретились через двадцать лет и вдруг поняли, что не угасла прежняя любовь, что лишь сейчас они осознали, как всегда нужны были друг другу, какую бесконечную глупость сотворили расставшись. Они жили долго и… Надо ли обманывать себя? Ведь конец этой сказки наверняка будет самым прозаическим: приедут на дачу, разденутся, лягут, потискают друг друга – и облегчатся с ощущением исполненного долга. Она искупит свою былую вину перед ним, а он погордится, что есть еще порох в пороховницах, еще способен он внушать такое сильное чувство, которому годы не подвластны, что вообще на что-то еще способен. И в этом вся квасная суть, как бы ни накручивал он себя, как бы ни пытался раскрасить все радужными красками. Такой вот Фрейд…
Нет, не совсем так, – сделал еще одну попытку добраться до другого берега этого топкого болота, – или даже совсем не так. Если бы нужно было ему от Лили только ее тело, стал бы разве с таким нетерпением ждать ее звонка? Не пацан же он сексуально озабоченный. Да та же молоденькая, разбитная секретарша его Любаша, откровенно кокетничавшая с ним, немалую фору даст Лиле, у которой дочь уже, небось, постарше Любаши. И никаких хлопот. Не все тут, значит, так уж просто, есть какая-то тайна, неподвластная разумению. Не надо, твердо решил, изводить себя сомнениями, все само собой прояснится на этом свидании. Точней, после него. Позвонила бы только поскорей. И хорошо бы наведаться с ней на дачу прямо сегодня, чтобы не длилась эта неизвестность. От него зависящее он по-честному сделает, остальное – за Лилей.
Но тут же новая мысль, ядовитая, скользкая. Оправдает ли он Лилины надежды, не разочарует ли ее? И свои надежды тоже. Двадцать лет разницы между ними двадцать лет назад и сейчас – это, как острят одесситы, две большие разницы. Мужские силы еще, слава Господу, не истощились, но разве сравнить с прежними? Уж он-то все о себе знает лучше кого-либо другого. Да, вчера вечером в тамбуре ощутил он себя готовым к подвигам Гераклом, но это ни о чем еще не говорит. Не имел он права оскандалиться перед Лилей – в такой фарс все превратится, что кручининская затея с антидекамероном невинной шуткой покажется. По закону подлости. Прикупить, что ли, дабы понадежней себя чувствовать, хваленую виагру? Легко сказать. Что значит «прикупить»? Подойти к аптечному окошку, произнести это слово… Рядом может кто-нибудь оказаться. Да если и не окажется, одной аптекарши хватит. Его, главного врача, кто только не знает!..
Осадил себя. Зачем вообще подумал об этом, зачем будить лихо, пока оно тихо? А то будто не знает он, что почти все эти проблемы оттого, что начинаешь сомневаться. Как не удавалось никому в той легенде заполучить эликсир жизни, потому что условием было не вспоминать в это время о краснозадой макаке. Нет, все обязательно будет хорошо, да и Лиля из тех женщин, которые действуют получше всякой виагры…
И тут пробудился телефон в кармане халата. А он каким-то непостижимым чувством знал уже, что звонит Лиля, сердечко забилось. Разговор длился считанные секунды. Верней даже, не разговор это был – на его «слушаю» она быстро ответила, что будет ждать его в половине пятого возле главного почтамта. Время было на редкость неудачное, потому что на те же шестнадцать тридцать у него было назначено совещание с заведующими отделениями. Почему-то думалось ему, что свидание их должно состояться обязательно вечером. Было уже почти четыре часа – времени в обрез, чтобы успеть к назначенному сроку. Подосадовал на нее: неужели нельзя было предупредить его раньше, не устраивать гонку? Понимает же, что он не вольный сокол, от многих обстоятельств зависит. Или сама она до последнего не знала, когда сумеет и сумеет ли вообще освободиться сегодня? Считанные секунды у нее были чтобы незаметно созвониться с ним? Но сейчас на все эти анализы и синтезы времени не оставалось. Сказал Любаше, что должен срочно ехать в министерство, пусть обзвонит заведующих, сменил халат на пиджак и поспешил к своим поджидавшим во дворе «жигулям».
Объект она выбрала проигрышный. Центр города, узкая улица, припарковаться вряд ли удастся. И зачем в таком людном месте? Дела у нее какие-то на почтамте, решила совместить? Дегтярев медленно продвигался в сплошном автомобильном потоке загруженной транспортом улицы, поглядывал на часы. Завспоминал, как начиналась у него вся эта любовная эпопея с Лилей. А ведь всего лишь, поверить в это трудно, из-за какого-то сна! Того самого эротического сна, в котором прелюбодействовал он с ней. И утром на планерке увидел вдруг Лилю совсем другими глазами. Сперва только ее руки, затем все остальное. Смотрел с поразившим его тогда вожделением. А она это непостижимо ощутила, зарделась. Как сумела проникнуть она в его сон, а потом и в мысли? Вел ведь себя на той планерке обычно, столько людей в комнате, слушал отчет дежурившего ночью доктора, взглядом с Лилей встретился на долю секунды. Та самая телепатическая связь, о которой без конца судачат и которую он, Дегтярев, всегда считал чушью, выдумкой невропатов? А если бы не приснилась ему накануне ночью Лиля? Он же до этого несчетно видел ее, с руками и не руками, никаких эмоций не испытывал. Всё тот же затасканный Фрейд? Или действительно существует нечто, человеческому разуму неподвластное, тайные знаки, посылаемые человеку из другого мира, другого сознания, именуемого одними божественным промыслом, другими – абстрактным словом «космос»?…
Сам Дегтярев почитал себя агностиком – не верил в существование бородатого властителя где-то на небесах, но признавал существование неких могущественных внеземных сил, способных влиять на людские судьбы. Ибо ничем другим нельзя было объяснить многие события в его, например, собственной жизни, списать которые на игру случая не удалось бы при всем желании. Но разве до появления Лили никогда не снились ему скоромные сны? Разве придавал он им какое-то значение? Разве хоть однажды руководствовался ими? И почему она, Лиля – всего лишь одна из многих окружавших его тогда женщин и не самая заметная среди них, исчезавшая из его внимания, едва выпадала из поля зрения? Почему она, девчушка, уж никак в любовницы не годящаяся? Вот и сейчас устремился он к ней, бросив работу, отменив важное совещание, боится опоздать, чертыхается, угодив в очередную пробку. Опасается, что она уйдет, если не появится он в назначенное время? И что, если уйдет? Невосполнимой это потерей для него станет, лишится он чего-то жизненно необходимого? И все-таки что, ну что для него Лиля? Какое-то наваждение просто. Что для него это свидание? Полагать, что разбередила она ему душу, когда начал приставать к ней Кручинин, – себя обманывать…
Повезло – выезжала из плотного ряда машина недалеко от почтамта, удачно успел вклиниться в образовавшийся проем. Еще семь минут в запасе, даже раньше срока прибудет. Когда-то она примчалась на свидание задолго до назначенного часа, как будет сейчас? Выхватил ее взглядом сразу же – в светлом плаще, в ярком шарфике. Улыбнулась, завидев его, пошла к нему. А он вглядывался в идущую к нему женщину, о существовании которой еще день назад и думать не думал, а теперь настолько усложнившую ему жизнь. К добру или не к добру усложнившую? Как встретиться с ней? Руку пожать? Руку поцеловать? В щечку бесплотно чмокнуть? Ее, похоже, этот процесс тоже волновал – чуть замешкавшись, все-таки подставила ему для поцелуя щеку, заговорила излишне оживленно:
– Как хорошо, что вы здесь, боялась, что дела вас не отпустят или… – запнулась.
– Или? – спросил он.
– Или не захотите.
– Лукавите, – усмехнулся он. – Прекрасно знали, что захочу, с вашей-то фантастической интуицией. Не понять только, почему отвели мне так мало времени, чтобы горячку не порол.
Оказалось, все у нее произошло стихийно, думала, что вообще им сегодня не удастся встретиться. Не так-то просто ей задержаться после работы, супруг в любую минуту может позвонить. А тут, на счастье, хоть и грешно называть это счастьем, заболела ее подруга, сказала Лиля Рустаму, что после работы поедет ее навестить, задержится. Так и сделала. Подруга всего-навсего простыла, особых забот не потребовалось, а живет она здесь за углом, две минуты ходу…
– Извините, что заставила вас так спешить, – виновато коснулась его рукава, – временем дорожила, хотелось пораньше увидеть вас, поговорить. Вы не против, если мы посидим немного где-нибудь в кафе, кофейку попьем?
– Зачем же в кафе? – смотрел он на ее шевелящиеся пухлые губы. – Могу вам предложить более удобный вариант. У меня недалеко за городом дача, не бог весть что, но уютно и кофе тоже найдется. Никто нам мешать не будет.
Она все поняла. Как надо поняла – не засомневался он в этом, одного взгляда хватило на ее зардевшиеся щеки.
– Хорошо, – тихо сказала. – Если не долго.
– Как скажете, – ответил он.
Оставшиеся до его «жигуленка» полсотни метров прошли молча, она не взяла его под руку, вышагивала рядом, будто просто им по пути. Он изредка косился в Лилину сторону, отмечал, как всё не гаснут ее щеки и плотно сжаты губы.
– Вот мое ландо, – открыл он дверцу, – милости прошу.
Лиля села, качнула головой:
– Я думала, у вас уже какой-нибудь «мерседес», вы теперь в таких верхах обитаете.
– Откуда мне? – усмехнулся он. – А то вы меня не знаете, хоть и столько лет прошло. Мне и эта тележка не легко далась. И дача, кстати, не купленная, в наследство от тестя досталась.
– Повезло вам с тестем.
– Мне, кажется, с другим повезло, – со значением произнес он. – Не думал – не гадал.
– Мне тоже. – И сразу отвернулась.
В дороге и десятка слов друг другу не сказали. Словно берегли их для иной обстановки, не хотели растрачивать. Но главные слова уже были сказаны, и это ее «мне тоже» ни в каких домыслах не нуждалось. Дегтярев повеселел, увеличивал, где только можно было, скорость, чтобы побыстрей добраться. Закрыть за ними дверь, снять с нее плащ, заглянуть близко в ее светлые глаза. Теперь казалось ему странным, что мучили его какие-то сомнения, до каких-то истин докапывался. Все предельно ясно и просто – скоро окажется он наедине с этой прекрасной женщиной, и обоим не надо будет врать и притворяться, объяснять что-то и что-то придумывать. Они хотели друг друга – и друг друга заполучили, никакого Фрейда.
Раздраженно посигналил не пропускавшей его «маршрутке». И радовался охватившему его азарту, удивлялся, что помышлял недавно о выручалочке виагре. Любовь это или не любовь, доискиваться не имело смысла, рядом с ним женщина, которая влечет его к себе так, как пропасть лет с ним не бывало, и которая, сто из ста, испытывает к нему те же чувства. Какой к черту кофе? У них так мало времени, каждой секундой дорожить нужно. Каждой секундой этого, может быть, последнего ниспосланного ему на склоне лет человеческого, мужского счастья.
Подал ей руку, помогая выйти из машины, и не выпускал уже ее, пока не ввел Лилю в комнату, хоть и испытывал неудобства, управляясь и с дверцей машины, и с входной дверью одной рукой. Ее дыхание рядом, ее пока сокрытое от него тепло, которым совсем скоро поделится она с ним…
– Позвольте за вами поухаживать, мадам, – улыбнулся, расстегивая пуговицы ее плаща. Снял его, нетерпеливо бросил на спинку стоявшего поблизости стула, обнял ее, прижал к себе, припал к ее губам.
– Если б вы знали, – прошептала она, когда обрели они возможность перевести дыхание, – если б вы только знали, как желалось мне этого. Столько лет мечтать даже не смела, похоронила давным давно.
– Почему же пропала куда-то, не позвонила даже? – упрекнул. – Я еще долго ждал, надеялся.
И услышал:
– Зарок себе дала. Если нужна я вам, если позовете меня – ни мгновенья колебаться не стану, ничто не остановит. Но вы не позвали, не нужна оказалась. День не искали меня, неделю не искали, и я поняла, что надеяться уже не на что. Вы знаете, я хотела, чтобы у меня родился мальчик. Я бы назвала его вашим именем, и моя любовь к нему была бы частицей моей любви к вам. Но и тут не повезло, родилась девочка. Я все время боялась где-нибудь случайно встретиться с вами, боялась, что жить после этого совсем тошно станет. Мой муж неплохой, в сущности, человек, преданный, заботливый, мы хорошо уживаемся, мне даже завидуют. Я бы дорого дала, чтобы полюбить его, старалась, хотела успокоиться, жить нормальной жизнью. Но ничего у меня за двадцать лет не получилось, не смогла выбросить вас из сердца. Вы стали моей бедой, моей болезнью, вы изломали мою жизнь. Не знаю, как это назвать, может быть даже, патологией какой-то, паранойей, у психиатра лечиться следовало бы, но так было, и я ничего не могла изменить. Я когда увидела вас в машине – в глазах потемнело. Страшилась, что выдам себя. Кручинин помог, отвлекал меня, комплексовать не давал. Я, наверное, неразумно поступаю, признаваясь вам во всем этом. Не по-женски. Но ничего от вас таить не хочу. Я глупая, да?
– Это я дурак, – скорбно вздохнул Дегтярев. – Нет, не дурак – идиот. Я бы мог попытаться объяснить тебе, почему не искал, не позвал, но все это были бы только слова, от которых мало проку. Остается одно – вычеркнуть из жизни эти потерянные два десятка лет, начать все заново, с чистого листа. Нет, не с чистого – продолжить тот, начатый когда-то нами…
Сейчас ему казалось, что говорит он совершенно искренне, и то, что позабыл он о Лиле – та же необъяснимая патология, затмение. Просто не догадывался он раньше о том, что подкрадывавшаяся нередко беспричинная будто бы тоска была томлением по ней, по женщине, без которой жизнь не в радость. Сумел лишь сказать:
– Ты прости меня, пожалуйста.
– Ну что ты, – провела ладонью по его щеке. – Это мне надо просить у тебя прощения. Так, значит, суждено нам было. Сегодня, может быть, самый счастливый день в моей жизни. Я знаю, сегодня все у нас будет, и это будет прекрасно. Одна всего просьба. Я еще… Не торопись, пожалуйста, не превращай все в… ну, ты же понимаешь. Дай мне прийти в себя. Мне нужно привыкнуть к тебе новому, отрешиться от прежней, без тебя, жизни. Я ведь, кроме мужа, не знала ни одного мужчины, это для меня не так просто…
– Я понимаю, – кивнул он. – Не думай ни о чем плохом. Хочешь, в самом деле кофе попьем, расслабимся?
– Нет, – сказала, – лучше полежи со мной. Сначала просто полежим, хорошо?
Он расстелил постель, попросил ее:
– Можно я тебя сам раздену?
– Ну конечно, – впервые улыбнулась, – зачем ты спрашиваешь?
Они лежали, взявшись за руки, словно перетекали через эти их сомкнутые руки от одного к другому тепло и нежность. Он спросил:
– Сколько у нас времени?
– Не очень много. Не позже семи должна быть у Павлика.
– У какого Павлика? – насторожился он.
– У внука моего. Да, да, Лев Михайлович, я уже бабушка, увы. Очаровательный мальчишка, утеха моя. Скоро полтора годика. Дочка моя рано замуж выскочила, не терпелось ей, дурёхе. Вот и сделала меня бабушкой. Она тоже, как и я когда-то, на биофаке вечернем учится, сегодня у нее занятия, должна я заступить на вахту.
Бабушка… – оторопел Дегтярев. – Она уже бабушка… Он лежит рядом с голой бабушкой… И хочет заняться с этой бабушкой любовью… Мысль эта была почему-то до того ошеломительной, что даже ёкнуло что-то внутри…
– У нас так мало времени, – тронула губами его ухо. – Иди ко мне…
Все старания его были тщетны. Проклинал все на свете и мечтал об одном – чтобы муки эти наконец закончились, чтобы сгинул весь этот кошмар. И еще злился почему-то на выдумщика Кручинина, словно была в том Кручинина какая-то вина, чудилась его ироничная ухмылочка…
Февраль 2008 г.



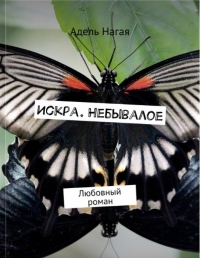




Комментарии к книге «Антидекамерон», Вениамин Ефимович Кисилевский
Всего 0 комментариев