Солнце клонилось к Манычу, когда на хуторской дороге появились двое. Досужие бабки, сидящие на завалинках, узнали в парне Дмитрия, который полгода назад ушел в отряд красного командира Апанасенко. А с ним шла молодая женщина. Такая красивая…просто икона, да и только! Но, видать, с характером. Митя потом говорил, что казачку с Дона взял себе в жены.
Хуторянам не раз случалось ходить по степи, любуясь колокольчиками, васильками, ромашками, одуванчиками. Хороши они, а выделить какой-нибудь цветок трудно. Но вот вспыхнет среди зеленой травы алый мак – так и потянет к нему, как тянет к яркой красоте еще никем не разгаданная сила.
Наверное, то же самое испытывали и хуторяне при виде Митиной жены. А она, снова проводив мужа в армию, редко показывалась на улице, особенно с тех пор, как схоронила свекра и осталась вдвоем со свекровью. Когда же проходила по улице, хуторские соперницы завистливо смотрели ей вслед и судачили:
– И так, почитай, мужиков на хуторе не осталось, так она остатных изведет, все по ней сохнут.
А казачка шла, высоко подняв голову, строгая и недоступная. Однажды вечером подстерег ее старший сын богатого мужика Саватеева. У этих Саватеевых уже немало греха на душе было. Стал он на дороге, ровно каменный столб, и говорит:
– Ты что же это нас, своих же хуторян, чураешься? Или мы хуже твоего Митьки?
Как глянула она на него своими черными очами – будто пригвоздила к дороге. Он-то не из робких был, но потом сказывал, что у него враз руки и ноги занемели от ее взгляда. А она спокойно так отвечает:
– Свои сейчас кровь за народ проливают, а вы плетни подпираете.
Обошла его не торопясь и поплыла лебедем дальше.
На хуторе снова, уже в который раз, было безвластие. Бои шли по другую сторону Маныча. За день до этого прошли через хутор красноармейские части, двинулись к Царицыну. Бабы высыпали из домов с кувшинами молока, с кусками сала, хлеба… Несли у кого что есть. Каждая думала ненароком со своим мужиком свидеться, только не оказалось в тех колоннах хуторских.
Митина жена дольше всех стояла при дороге, глядя вслед уходящим колоннам, пока не осело последнее облачко пыли, поднятой солдатскими сапогами. Стояла и ждала неизвестно чего, словно чуяло что-то ее сердце. Ветерок трепыхал концы роскошного платка, подаренного ей мужем.
Платок тот был на зависть всем хуторским бабам. Одна саватеевская невестка торговалась с солдаткой, золотой перстенек с бирюзой за него предлагала. Не отдала! Мужнин подарок, сказала, дороже всякого золота.
Неспокойно стало на хуторе. Бои придвинулись ближе, уже были слышны выстрелы. К вечеру пришли белогвардейцы с обозом. Митина жена несколько дней на улице не показывалась, а однажды в сумерки постучала в окошко к саватеевской невестке, той самой, что платок хотела перекупить. Удивилась баба: такая гордячка и вдруг сама пришла! Опустила глаза казачка и говорит:
– Коли не передумала платок брать, на вот… Только не за кольцо, а за продукты.
Баба смотрит и диву дается. Видать, совсем оголодала молодка, если с дорогим сердцу подарком расстается, и не за золото, а за кусок сала и каравай хлеба. Взяла платок, вынесла ей щедро за него. Казачка завернула все в фартук и унесла.
А в ту пору на дворе оказался белогвардейский офицер, что был у Саватеевых на постое. Поразила его красота молодки. Долго смотрел ей вслед, как завороженный. Потом стал расспрашивать у хозяев, кто такая.
– Тут не подступиться, – сказали ему. – У нее гордости на семерых хватит. Да и замужняя она, ее Митька против вас в Красной Армии воюет.
Офицер ничего больше не спросил и не сказал. Только на другой вечер пошел на край хутора, где стояла Митина хата. Постучал деликатно в окошко, потом вошел. Сам красивый, форма нарядная и сабля на боку. В горенке увидел давешнюю молодку, сидит она за столом и что-то вяжет. Всегда такая гордая и смелая, а тут ее будто подменили. Глаз от спиц не поднимает, держится за них, словно утопающий за соломинки.
– Что же ты так плохо гостя встречаешь? – обиженно спрашивает офицер.
Казачка, не поднимая глаз, отвечает:
– Какие нынче гости? Угощать нечем.
– Мне угощения не надо, – говорит офицер. – Я не за тем сюда пришел. Красотой твоей хочу полюбоваться, поговорить с тобой.
– Мы не ученые, не умеем с благородными людьми разговаривать, – отвечает казачка, а сама все вяжет.
– Да брось ты работу, взгляни на меня хот раз, – сказал офицер, взял у нее из рук вязание и положил на стол.
Тут она и подняла глаза – будто два всполоха ожгли офицера. Прямо застыл он от ее взгляда и красоты. Долго стоял так офицер, не смея шевельнуться и не находя слов, чтобы выразить свое восхищение. Потом пришел в себя и говорит:
– Русские дворяне всегда умели ценить красоту. Зачем тебе прозябать на хуторе? Кого ты ждешь? Мужа? Мне рассказывали о нем. Уже почти год от него вестей нет. Он или бросил тебя давно или покоится уже в могиле. Я через день уезжаю в Одессу, тебя с собой заберу. Помни, что власть сейчас наша. Собирайся, завтра за тобой приду.
Свекровь со страху только сильнее головой затрясла, а молодайка стояла, как вкопанная, смотрела на офицера горящими глазами и молчала. Офицер обернулся на нее еще раз с порога и вышел. Заскрипели ступеньки на крыльце, потом хлопнула калитка. Тут опомнилась казачка и говорит свекрови:
– Что делать, маманя? Готовьте харчей в дорогу. Уходить нам с Митей надо немедля. Открывайте подпол.
Отодвинули они стол, открыли крышку над подполом, оттуда Митя выбрался, стал по хате сновать, испытывать ногу. Оказывается, он в бою за Манычем был ранен, еле ночью до хаты добрался, когда уж белогвардейский обоз в хутор зашел. Это для него жена платок на продукты обменяла. Слышал он все, что офицер говорил. Рана уже затянулась, но на ногу ступать еще было больно. Но что делать? Надо уходить.
Забегала красавица по хате, собирая все необходимое в дальнюю дорогу. И вдруг распахнулась дверь – на пороге стоял недавний гость с револьвером в руке. Он смерил Митю холодным взглядом, спросил:
– Муж?
– Муж! – с вызовом сказала казачка. – Не бросил он меня и не сгинул! Раненый он. Сердце-то у вас есть?
– Сердце?
Офицер постоял минуту в раздумье, потом, словно обрадовавшись чему-то, улыбнулся, примирительно сказал, глядя на Митю:
– Ну, вот что. Я никого здесь не видел. Только чтоб тебя через минуту не было.
Красавица, перехватив его многозначительный взгляд, побледнела и тяжело опустилась на лавку.
– Не стоит так переживать, – утешал ее офицер, – ведь я дарю жизнь твоему мужу. И тебе тоже.
– Жизнь без Мити? – закричала она и вскочила. – А на что она мне, такая жизнь?!
– О, – восхитился офицер, – какая верность. Похвально, похвально. Ну, вот что…Я не варвар, но по закону военного времени должен доставить пленного в штаб или убить на месте…при попытке к бегству.
– Ну, стреляй! – закричал Митя и застонал, ступив на раненную ногу.
– Я в безоружных не стреляю, – высокомерно сказал офицер. – Будем биться на саблях. Где твоя сабля? Бери ее и пойдем к озеру. Это будет честный поединок. Или ты боишься?
– Я боюсь? Да я в бою один на пятерых шел, – сказал Митя, вынул из-за печки саблю и вышел с офицером.
Мать с криком метнулась следом, да упала без сознания. Невестка кинулась к ней, стала приводить в чувство. Долго возилась, пока старушка глаза открыла, и думала: что сейчас на озере, как там ее Митя, ведь раненый, выдюжит ли против офицера? И сердце падало, как в пропасть.
Вдруг дверь распахнулась. На пороге, тяжело дыша, стоял офицер. В одной руке у него была сабля, залитая кровью, в другой – Митина шапка, порубленная в клочки. Казачка сделалась белее мела, а сердце у нее словно льдом обросло. На какой-то миг застыла, окаменев от предчувствия страшной беды.
– Это был честный поединок, – сказал офицер и бросил саблю с шапкой на стол. – Я не виноват, что он слабее меня оказался… Теперь ты свободна. Верность, долг – тебе не помеха. Собирайся, поедешь со мной.
Казачка очнулась от оцепенения, медленно подошла к столу, бессильно уронив руки. Потом подняла на офицера глаза, и на какую-то секунду они вспыхнули тем огнем, который так завораживающе действовал на всех.
Она и сама не поняла сначала, что произошло. Когда у нее чуть-чуть посветлело в глазах, увидела на полу труп офицера, а в своей руке – его саблю, по которой струилась свежая кровь. Крепко зажав ее, молодая вдова вышла на тропинку, ведущую к Манычу. На берегу озера она нашла Митю. Он лежал на спине и широко раскрытыми глазами смотрел в небо.
При свете луны вырыла жена ему саблей могилу. Потом втащила на невысокий холмик большой шершавый камень, лежавший неподалеку, высекла на нем саблей, как умела: «Здесь похоронен Митя». И ушла в степь. Больше ее никто не видел.
Белая чайкаНад Манычем много чаек летает, но на хутор редко какая залетит, чуть покружится и возвращается в стаю. А то вдруг повадилась одна: солнце на закат – она тут как тут. Покружится с печальным криком над крайним домом, потом сядет на крышу и тихо так стонет: «Ки-ки-ки». Ну, словно девица плачет.
Приметили ее люди, потому что такой белой чайки еще не видели. Нигде ни подпалинки, ни серого перышка, вся чисто белая, словно невеста в подвенечном наряде. И стали сельчане меж собой шептаться:
– Не иначе, Ксенюшка это. Душа ее по погибшей любви плачет. Вон ведь ни на какой другой, а только на свой дом садится. Точно она!
И вспоминали девушку, которая жила когда-то в этом крайнем доме, красивую да веселую, певунью да хохотунью. Только как-то умолк веселый смех – богатый мужик Лытаев прислал к Ксении сватов, хотел женить на ней своего старшего сына. Мать с отцом уговаривали ее, просили о семье подумать – гляди, и им чего от богачей перепадет.
– Не пойду за него, – уперлась Ксения.
– Да чем плох парень? Высокий, кудрявый, кровь с молоком, – уговаривала ее мать.
– А мне с его кудрей воду не пить! – отвечала дочь. – Больно он характером крут.
– Так ведь зато богатство! – не отступала мать.
– Сегодня – богатый, а завтра – бедный, – стояла на своем Ксения. – Время смутное. Кому его богатство достанется, еще неизвестно. А не люб он мне.
Время и впрямь было смутное. Одни мужики ушли в Медвежинское, где формировались отряды Красной Армии, другие подались на Дон, к Корнилову, а иные здесь остались, выжидали, чем дело кончится. Лытаев своих сынов никуда не отдал: ему, дескать, любая власть хороша, лишь бы не трогала. Только врал, конечно. Ему такая власть нужна была, которая бы его богатство защитила. Бедняков он люто ненавидел. А против Ксении и вовсе злобу затаил: как посмела голытьба его сыну отказать?
Тут вскоре недалеко от села стрельба началась. Кто там с кем бился, издалека не понять. А поскольку у них в тот момент никакой власти не было, все по домам прятались и ждали, что дальше будет. К вечеру стрельба стихла. Уже темнеть стало, когда Ксения, подоив корову, вышла из сарая. И тут услышала за стенкой шорох, а потом и шепот: «Голубка, помоги!». Глядит – парень к стенке прислонился, еле на ногах держится, вся рубаха в крови. На голове шлем со звездой. Смекнула Ксения: видно, из тех, кто сегодня за околицей бился. Сделала знак, чтобы молчал, и повела в сарай. Там солому разгребла, уложила его. Дала молока попить и пошла в хату поискать ему чистую рубашку. Только как же от отца – матери скрыть? Ведь завтра утром увидят гостя. Чтобы ненароком крику не подняли, Ксения им все рассказала и предупредила:
– Если кому о нем скажете, всем нам худо будет.
И они молчали, пока тот боец у них в сарае жил. Ксения его выхаживала. Рана, видать, неглубокая была, быстро зажила. Тут бы ему и уйти. А он в Ксению-то и влюбись! И она как дурману наелась: только о нем и думает. Как-то под вечер приводит его в хату и говорит отцу – матери:
– Вот мой суженый, Василием зовут. Раз здесь власти нет, поедем мы в станицу венчаться.
Мать в слезы, отец с укорами:
– Ведь уйдет опять воевать, какой же это муж?
– Ждать буду, сколько б ни воевал! – заявила Ксения. – А не позволите – сама с ним уйду!
Делать нечего. Достала мать из сундука свою фату да платье подвенечное, приладила на Ксению. Наутро лошадь с телегой приготовили. Ксения венчальное на себя надела, вся от радости так и светится. И вдруг стрельба началась. Выскочили Ксения и суженый на крыльцо и видят: по дороге тачанка мчится, а в ней два человека сидят, отстреливаются от тех, кто за ними на лошадях гонится. Глянул Василий на Ксению: красивая, желанная, век бы с ней не расставался. Но как можно возле нее стоять, когда товарищи в беде?
– Прости, Ксенюшка, должен я товарищам помочь, – сказал и побежал к тачанке.
Тут одну лошадь, которая в тачанку была запряжена, пулей подкосило, вторая с перепугу на дыбы встала.
– Режьте постромки, бегите, я вас прикрою, – крикнул Василий, запрыгнул в тачанку и припал к пулемету.
Ксения на крыльце стоит и все это видит. Мечется, хочет к суженому бежать, да отец на пути стал, а мать за платье держит, не пускает.
Только вдруг умолк пулемет, ни одной пули не осталось. А белые уже на конях подскакали. Вынул тогда Василий саблю и приготовился к бою. А офицер кричит:
– Не стрелять, взять живым!
Василий спрыгнул с тачанки, махая саблей.
И вдруг раздался выстрел, Василий рухнул на землю.
– Кто стрелял? – кричит офицер.
– Я стрелял.
Смотрит офицер: стоит мужик с парнями, в руках винтовку держит. Это Лытаев с сыновьями. «Он наш общий враг, – говорит, – потому и убил». Ксения кинулась к суженому и застонала, словно чайка над озером. А Лытаев говорит старшему сыну:
– Не хотела она с тобой под венец идти, бери ее так! Волоки в сарай!
Как услышала Ксения это, схватила саблю, которую любимый из рук выронил, и крикнула:
– Не подходи – зарублю!
Парень остановился, а отец его подначивает:
– Девки испугался? Говорю тебе, бери ее силой!
Тут двинулись на Ксению все братья и отец Лытаевы. Она и побежала к Манычу. На пути уж саблю бросила, чтобы легче бежать было. Добежала до озера, а Лытаевы уже за спиной дышат. Повернулась к ним Ксения, посмотрела гордо так и говорит:
– Ну, берите теперь меня из озера, если достанете!
И как была в фате, в подвенечном платье, так и бросилась в воду. Где уж ее достать! Так и скрылась навечно в Маныче.
А вскоре после этого чайку-то народ и приметил. Белая-белая, как невеста, покружится с жалобным криком и сядет на крышу дома, где Ксения жила. И решили люди: не иначе, Ксенюшка это, по любви своей погубленной плачет.
КарагачСтарое, изломанное бурями дерево долгие годы одиноко стояло посреди большого хлебного поля. Откуда оно взялось и почему тут растет? Оказывается, и у него своя история.
Петр, уехавший из родного села в город на учебу, прибыл на несколько дней, чтобы погостить у матери, а заодно рассказать товарищам о новой жизни. Парни и девушки слушали его с большим интересом.
Когда созвали сельчан на общее собрание, Петр тоже пошел. Сходка была на редкость бурной. Мужики решали важный вопрос: вступать или не вступать в колхоз. Начальник из района произнес краткую речь и предложил собравшимся высказаться.
– Ежели я хозяин, то отдай голытьбе и коней, и коров лучших! – возмутился Илья Терновой. – А они чего же, чирики драные принесут?
– Вот, вот, – поддакнул блажной Николка, который всегда поддерживал Тернового, потому что мечтал породниться с ним, выдав дочь замуж за его сына. – Я, значит, своих двух овец тоже должен отдать? А что, к примеру, Василиса даст? У нее же всей живности – кот да Петруха!
– Ты сына моего не трожь! – закричала Василиса. – Тебя завидки берут, что он ученый!
– От энтих-то ученых вся смута и идет, – недовольно прогудел Терновой.
Не хотел Петр в спор вмешиваться, но не выдержал обидных слов Николки. Вышел к столу, улыбнулся всем широко и радостно. Василиса гордо посмотрела на обе стороны: каков, мол, сын-то! Только и счастья, только и радости у нее было, что Петруша. Лучше него никто в селе говорить не умел. Вот и повел он свою речь о колхозе:
– Каждый из нас из года в год сам свой клочок земли поднимает, ни рук, ни сил не хватает. А кто-то и вовсе не на себя, на богатых мужиков работает. Вон у Тернового сколько батраков! Так до каких же пор надрываться будем? Вы только посчитайте, сколько мы на одной меже земли теряем! Чем мы друг от друга отгораживаемся? Землей! Да если все межи перепахать, это сколько десятин выйдет! Никто не считал? А вы посчитайте.
Петр никого конкретно не уговаривал, но так убедительно рассказывал о выгодах совместного хозяйствования, что мужики сами удивились, сколько всякого добра они теряли на индивидуальных участках. Опять же, где справедливость? У Тернового, к примеру, всего ртов-то он, его Лукерья да сын, а земли больше, чем у всех остальных. Мужики склонялись к тому, что колхоз создавать надо.
– Уговорил-таки, – злобно прошептал Терновой.
– Ну, вот, я все сказал, – Петр опять широко и светло улыбнулся. – Я первый ставлю свою фамилию в списке. Вернусь с учебы – и прямо в колхоз. А теперь ты иди, мама.
Василиса важно выплыла к столу, написала корявыми буквами имя и фамилию и с достоинством пошла на место. Ведь это шутка ли сказать – они с Петрушей колхоз зачинают!
– Куда конь с копытом, туда и рак с клешней, – громко и злобно процедил Терновой.
Василиса смерила его насмешливым взглядом и неожиданно нашлась:
– А тебе копытов не хватит всех лягать.
Собрание дружно засмеялось.
– Попомню я тебе эти насмешки, – злобно прошипел Терновой и быстро пошел к выходу.
Вслед за ним вышли еще несколько мужиков, не согласных с собранием. Остальные подходили к столу и расписывались на листке бумаги кто как умел. Как ни шумели «крепкие хозяева», колхоз был создан и утвержден сходкой.
Василиса, радостная и гордая за сына, который так умело повернул собрание, стояла возле двери и ждала его. Он обсуждал что-то с районным начальником, и ей было очень лестно, что все сельчане видят, в каком почете ее Петруша. Потом сын подошел к ней:
– Мама, я немного погуляю.
– Гуляй, сынок, пока не шибко занятый, а то в колхозе дел много будет, – ответила Василиса, глядя на парней и девчат, которые теснились рядом, ожидая его.
Василиса ждала сына за полночь, истомилась и не заметила, как ее сморил сон. Вскинулась, когда прокричал петух. Что же это Петруши все нет? Она вышла на крыльцо и оглядела двор, небольшой пригорок и тропку, ведущую к Манычу. От недоброго предчувствия ослабли ноги и холодный комок подкатился от сердца к горлу. Вдруг она увидела на дороге Николку, до нее долетели его слова:
– Василиса, чего стоишь? Беги скорей в поле, там твой Петр…
Она разом все поняла. На какое-то мгновение ноги словно приросли к земле, в глазах помутилось, но в следующую секунду ее словно ветром подхватило. Некоторые сельчане, услыхав крик, вышли из домов. Николка пояснял им на ходу:
– Пошел я с овцами на зеленя, а тут, где земля Тернового начинается, гляжу – лежит кто-то. Подхожу ближе – Петрушка. Конченный.
Когда сельчане подбежали к страшному месту, Василиса уже была там и билась возле сына в судорогах, без крика, без стона. Сельчане боялись ее тронуть, лишь смотрели и перешептывались.
Василиса перестала биться, стала на колени. Кто-то попытался ее поднять, но она отстранила их и встала сама. Мужики хотели нести Петра к дому, но Василиса решительно возразила:
– Здесь его погубили, пускай здесь его земля и примет.
– Да ты чего, это же земля Тернового, – сказал Николка.
Василиса медленно повернулась к нему и так посмотрела на него, что у того от этого взгляда мурашки побежали по коже. Она твердо произнесла:
– Земля теперь колхозная.
Никто больше не сказал ни слова. Все молча двинулись по домам за Василисой, боясь заглянуть в ее словно незрячие глаза.
Похоронила она сына, как и хотела, на том месте, где его убили. Долго сидела в оцепенении одна над черным холмиком. Потом поднялась и пошла ко двору, где рос молодой карагач, посаженный сыном прошлой осенью. Василиса выкопала его и понесла к могиле. Там, около холмика, посадила деревце и сказала:
– Пускай тебе, сынок, вместо памятника будет.
Терновой исчез из села, и все догадывались, что убийство Петра – его рук дело.
Скоро мужики, вступившие в колхоз, начали пахать землю. Карагач стоял на дороге, кто-то нечаянно зацепил дерево плугом, свалил да так и оставил в спешке. Вечером пришла Василиса и снова посадила его.
Каждую весну стоял тот карагач на дороге у пахарей. Кто ненароком цеплял его, а кое-кто из новых, не знавших печальной истории, и нарочно пытался свалить дерево – мешает! Но каждый раз после этого в поле приходила старушка в белой косынке, выправляла деревце, утрамбовывала в лунке землю руками, носила ведрами воду. И оно жило, как жила немеркнущая, всесильная материнская любовь.
Уже много лет прошло, как умерла старушка. Грозы, бури, суховеи обломали, оголили дерево, одиноко стоявшее в хлебном поле. Но только не здешний человек может удивляться, почему трактористы объезжают этот полувысохший карагач. Может, и не все они знают его историю, но твердо помнят наказ старожилов: «Дерево не трогать!». Его хранили как память о материнской любви.НезабудкиКаждый уголок земли красив по-своему. Кто море любит, кто горы, кто лес… А для чабана нет ничего краше степи. Даже выжженная солнцем мила она его сердцу. Но вот откуда посреди сизо-бурой земли появились незабудки, никто не знал, пока чабаны не рассказали. Старики многозначительно говорили: потому незабудки здесь выросли, что место это особое.
Жил тут один барин, земли у него было не меряно – от Маныча чуть не до Каспия. Его отары тучами по степи ходили. Григорий, Матвей и Алешка у него чабановали. Как-то вернулись они на кошару с дальнего пастбища и увидели доброго коня. Григорий сразу признал в нем одного из хозяйских рысаков. Неужто «сам» пожаловал? Но тут из хаты вышли жена Григория Дарья и хозяйский конюх Иван по прозвищу Вьюн.
– Какая нужда до нас? – спросил его Григорий.
– А такая! – зазвенел на всю степь Вьюн. – Сынок хозяйский в отпуск пожаловал. Хочет завтра в степи поохотиться. Так хозяин велел добрую овцу заколоть, чтобы было чем угощать. А коня для сынка дал. Пускай, говорит, отдохнет за ночь, чтобы завтра легче ходил.
– Кого тут стрелять? – с досадой проговорил Григорий. – Окромя овец да нас, ни одной живности.
– Ой, Гришенька, боюсь я его, – обратилась к мужу Дарья. – Прошлым летом-то…помнишь? Кабы ты не подоспел…
– Как не помнить… – хмуро отозвался Григорий.
– Ну…хозяйское дело таковское, – вдруг смутился Вьюн.
– Хозяйское дело – за барышнями ухаживать, а не сельских баб смущать, – неожиданно зло сказал Григорий. – Ладно, давайте вечерять. Алешка, заводи костер.
В огне весело прыгали веточки хвороста и прохватывались дымом слипшиеся стебли высохшего татарника. Вьюн, словно продолжая разговор, сказал:
– У них вся порода таковская. Испортят бабу, а потом прогонят, как овцу паршивую. Наталья-то, горничная, так и пропала. Темное это дело, да не нашенское. А какая девка была! Пригожая да тихая. И все, бывало, улыбается. А то вдруг с лица спала, хотела руки на себя наложить. Поняли мы: сгубил ее хозяйский сынок. Только вдруг исчезла Наталья. День, два, три нет. Хозяин сказал, что она в город к кому-то нанялась. А сам ее вот сюда на кошару отправил. До вас здесь дед Михайло со своей старухой чабановал, она и приняла дитя у Натальи. Проходит неделя – является хозяин на повозке. Услал Наталью за хворостом, а сам взял дитя в повозку – и был таков. Наталья вернулась: где ребенок? Металась, бедная, два дня по степи, все дитя искала. Михайлу со старухой хозяин рассчитал, да они вскорости и умерли. А про Наталью мне Михайло перед смертью сказывал.
Некоторое время все сидели молча. Угли затухающего костра, блестевшие прежде грудой рубиновых камней, подернулись пепельной дымкой. Григорий плеснул на них водой, и они, зашипев, сникли.
Утром, чуть свет, Григорий, Вьюн и Матвей сошлись возле летней печки и тут увидели овцу, которая тихо лежала около нее и грустно, не мигая, смотрела на них. Увидев людей, она даже не шевельнулась. Григорий вгляделся в нее и заявил:
– Не наша овца. Шерсть длиннее, чем у наших. Вон и пятно черное на ухе.
– Так то ж моя знакомка! – весело закричал Вьюн. – Точно, Черноухая и есть. Вчера в степи за мной увязалась. Шибко бежала, только коня-то ей не догнать. А гляди ты, сама людей нашла. Вот ее и режь!
– Чужую резать не буду, – решительно заявил Григорий, – может, еще хозяин объявится. Алешка, гони ее покуда в отару.
Овца, словно сообразив, что речь идет о ней, поднялась и вдруг жалобно заблеяла.
– Скажи ты, ровно дитя потеряла, – задумчиво сказал Григорий.
Вскоре явился хозяйский сын верхом на рыжей лошади, которую тут же и передал Вьюну в обмен на гнедого. Уловив косые взгляды Григория, он от угощения отказался и, помотавшись по ковылям не больше часа, вместе с Вьюном ускакал в село. Вьюн увез с собой и только что зарезанную овцу.
– Алешка, – позвал Григорий, – ты оставайся с Дарьей, а в степь мы с Матвеем пойдем.
Сначала шли прямиком, а потом вдоль солончаков и полыни. Обожженная степь уже не блистала яркими красками, и только коренной степняк мог оценить ее негромкую красоту. Сзади остался островок скошенной ржи со снопами, сложенными в виде островерхих домиков, а впереди слегка колыхалась под ветерком сизая полынь.
Поближе к курганам стали попадаться пахучие участки разнотравья. Григорий и Матвей пустили овец пастись, а сами взобрались на курган, сели так, чтобы видеть всю отару. Перед ними простиралась бесконечная равнина буровато-серого цвета, которая где-то далеко, на горизонте, незаметно смыкалась с вылинявшим небом.
– Эгей, куда пошла? – вдруг услышал Матвей голос Григория.
Он посмотрел в ту сторону, куда глядел обеспокоенный Григорий. Одна овца, жалобно блея, мелко трусила, уходя в степь. Григорий несколько секунд следил за ней зоркими глазами степняка, а потом сказал:
– Черноухая это… Куда ее несет? Ведь пропадет одна в степи.
Но овца вдруг остановилась и легла на землю, вытянув морду. У ее головы виднелось какое-то голубое пятно. Пока овцы паслись, Черноухая так и лежала, не двинувшись с места.
– Больная, что ли? – сказал Григорий. – Вечером посмотрю ее, а то всю отару перепортит.
День клонился к закату, а Черноухая так и не пощипала травы. Матвей и Григорий подошли к ней и увидели, что овца лежит, вытянув мордочку к маленькому островку незабудок.
– Вот те на, какая красота! – выдохнул Матвей.
Григорий достал широкий чабанский нож, часто заменявший в степи лопату, и сказал:
– Отрежу кусок, пусть Дарья возле хаты посадит.
Но только он коснулся ножом земли, как Черноухая вскочила и жалобно заблеяла. Григорий отстранил ее рукой и глубоко вонзил нож по одному краю островка незабудок, стараясь не повредить корни в том куске, который собирался отрезать. С силой ударил рядом, потом еще и еще… Овца встревоженно металась и блеяла, будто негодовала, что люди нарушили ее покой. Вдруг нож ударился обо что-то и соскользнул глубже в землю. Григорий вырезал уже порядочный пласт земли с незабудками и поднял его, бережно положив рядом. Глаза его уставились в только что вырытую ямку. Матвей тоже смотрел туда же, застыв от ужаса. Там в полуистлевшей холстине лежали тоненькие косточки, которые могли принадлежать либо ягненку, либо младенцу. Здесь покоилось чье-то дитя. И над этим вечным покоем безвинной детской души выросли незабудки, как символ чистоты и бессмертия. А может, их посадила чья-то заботливая рука?
– Нечистое место, – прошептал Матвей. – Не бери ты эти незабудки. Ну их!
Григорий поспешно опустил в ямку вырытый кусок земли и отпрянул от загадочного места. Чего он только ни повидал в степи, но от этого даже его бесстрашная душа смутилась.
– Григорий, – вдруг как-то жалобно позвал Матвей, – а где Черноухая?
Григорий несколько раз повернулся вокруг себя. Долго всматривался в степь – овцы нигде не было. Кругом простиралась все та же сизо-бурая равнина – разве на ней овцу заметишь? Когда вернулись на кошару и осмотрели отару, то убедились, что Черноухой здесь не было. Этот необыкновенный случай, степное колдовство, связанное с приблудившейся овцой, так жгли Матвея, будто ему под сердце наложили целый ворох горячих углей из костра. И он рассказал Дарье с Алешкой про Черноухую и незабудки, стараясь придать этому случаю еще больше таинственности. Алешка слушал, разинув рот, а Дарья, широко раскрыв глаза, вся трепетала и повторяла:
– Наталья это, а никакая не овца…Душа ее по степи блукала, дитя искала. Загубили, значит, дитя ироды! То-то она так жалобно блеяла. Плакала. Точно, Наталья это!
– Сказки все это, – сказал Алешка. – Душа отдельно от тела не живет, нам учитель сказывал.
– Цыц» – прикрикнул на него Григорий. – Читать, писать научился, так уже и грамотей!
А Матвей, вспоминая подробности этого случая, все раздумывал. Кто ж его знает… Может, овца чужая приблудилась. Как пришла, так и ушла. А может, и впрямь Натальина душа? И кто под незабудками схоронен? Не ребенок ли ее? Эх, чего только в той степи не бывает!
МаревнаЭту историю дед Матвей детям своим, а потом и внукам рассказывал.
Почабановал он немного на хозяина и решил в город идти, там работу поискать. Дорога через степь шла, пустынную и неоглядную. Родители и соседские старики отговаривали: одному в такой путь опасно отправляться, да еще пешком. Маревна, царица степная, так замордует, что будет он по степи кружить, никогда оттуда не выйдет да и сгинет.
Матвей отмахивался: сказки все это, нет на свете никакой Маревны. Обещал он своей невесте Насте в городе устроиться, а потом и ее туда забрать. В общем, настоял на своем. Взял флягу с водой, каравай хлеба и отправился в путь. А перед этим, то ли в шутку, то ли всерьез, попросил Настю:
– Чтобы Маревна меня не околдовала, люби меня крепче, думай обо мне каждый день. Вот твоя любовь дорогу-то мне и укажет.
Перекинул через плечо суковатую палку, выдернутую из плетня, зацепил за сучок котомку и пошел в рассветный час по пыльной дороге, потом свернул в степь, решил прямиком пройти, чтобы путь сократить. Шел два дня по степи и дивился ее пустоте: кругом полынь да ковыль и ни одной живой души. Ночевал прямо на земле, прогретой за день солнцем. А когда земля начинала остывать, он поднимался и при зыбком свете угасающих звезд осматривал степь. И до чего же она была порой похожа на родимый Маныч! Смотришь и не поймешь, то ли это ковыль от ветерка колышется, то ли волны по озеру перекатываются.
В безбрежном просторе причудливо гуляли какие-то тени: то ли отражения низко плывущих облаков, то ли души погибших путников. И вспоминал тогда Матвей слухи о тех, кого «замордовала» степная царица. Говорили, кто ее увидит, тот неотступно будет за ней ходить, пока совсем с дороги не собьется и не упадет без сил. Тут и растерзают его дикие звери, истлеет он под жарким солнцем, а тоскующая душа его пойдет бродить по ковылям, наводя страх на каждого, кто отважится в одиночку ходить по бескрайней степи.
На четвертый день пути Матвей почувствовал, что ослаб. Поглядел на оставшийся кусочек хлеба величиной с пол-ладони и медленно, боясь уронить хоть крошку, съел. Опрокинул фляжку, в которой была вода, – оттуда не вылилось ни капли. Оглянулся вокруг – ни ручья, ни даже болотца. Полдня терпел, а когда солнце стало прямо над головой, почувствовал, что мутится у него разум от жажды.
Присел передохнуть, осмотрелся. Кругом стоял неподвижный ковыль, а над ним дрожало марево, поднимаясь к небу теплыми потоками. Долго смотрел перед собой совсем обессилевший Матвей, надеясь увидеть хоть какие-то признаки жилья или такого же, как он, заблудившегося путника. Появись хоть одна живая душа, ему стало бы легче. Но никого! Ум у него совсем помутился. В груди словно костер развели. «Пропаду, – безнадежно подумал Матвей, – ведь пропаду!».
И вдруг в плывущем над степью мареве стал он различать очертания женской фигуры. Вздрогнул Матвей: уж не Маревна ли сама? Видать, она и есть. Высокая, статная, в полупрозрачном голубоватом платье и с длинной голубой косой, она стояла над степью неотразимо прекрасная и слегка колыхалась, будто туман на ветру.
У Матвея сердце шибко-шибко забилось при виде этакой красы. А Маревна протянула к нему руки, приглашая встать. Потом повела рукой над степью. Матвей поднялся, будто во сне, чувствуя, что не совладать с ее волей. И тут увидел…волны! Да не Маныч ли это родимый? Не к нему ли он снова вернулся?
Волны плавно катились одна за другой. Маревна, покачиваясь на волнах, улыбалась и, слегка поводя рукой, все звала и звала Матвея к себе. А где-то над ним, наверху, звучала нежная музыка, будто высоко в небе пели волшебные свирели. И забыл Матвей о рассказах бывалых людей, об их предостережениях, кинулся к Маревне, не сводя с нее глаз, кинулся к воде и думал, как припадет сейчас к краю платья царицы, как окатят его прохладные волны. И такой радостью наполнилась его душа, какой он никогда до того не испытывал.
Он шел все быстрее, почти бежал, а недосягаемые волны откатывались все дальше, и Маревна плыла над ними, как прекрасное видение, и притягивала к себе своей неописуемой красотой. А когда Матвею показалось, что он уже настиг ее и вот-вот коснется полупрозрачного платья, будто сшитого из голубого воздуха, он споткнулся и упал без сил.
Вот и пришел ему конец, никто не узнает, где истлеют его кости, думал он. И тут на минуту пришел в разум. Неужто даст погубить себя ни за что, ни про что? Неужто не одолеет силу Маревны? Он приподнял голову и, глядя на степную царицу, горячо прошептал: «Заманиваешь, проклятая? Так знай же, не пойду я больше за тобой! Настенька моя краше тебя!»
Маревна сильно колыхнулась от такой обиды, потом мелко-мелко задрожала и медленно растаяла. Только голубая струйка, тянувшаяся к небу, напоминала о ней. И сразу исчезли синие волны. О чудном видении напоминал только легкий звон в ушах. А сквозь него пробивался еле слышный голос Насти: «Люблю тебя! Помню и жду!»
Матвей увидел, что лежит у края житного поля, которое слегка колышется в знойном мареве, напоминая волнующееся море. Тяжело дыша и все еще ощущая непостижимую силу Маревны, он потрогал голубоватый колос с длинными усиками: вот-вот начнет созревать. «Значит, люди близко, коли рожь растет», – осенило его. И он побрел прямо через поле, раздвигая упругие стебли.
Солнце уже опустилось низко над степью, когда Матвей пересек поле и вышел к едва приметной тропинке. «Она скорее к человеку приведет», – подумал он и свернул на нее. Осознав свою твердость, он пошел по тропинке, не оглядываясь, страшась снова испытать на себе притягательную силу Маревны. Вскоре показался темно-синий дымок, какой бывает, когда жгут кизяки. Матвей увидел неподалеку длинную саманную кошару и рядом маленькую хатку, возле которой топилась летняя печь. У печи сноровисто хлопотала молодайка в белом платочке. Матвей чуть не заплакал от радости, увидев снова человеческое жилье. Измученный длинной дорогой, зноем, жаждой и степными видениями, он упал на колени и низко, припадая лбом к пыльной тропе, поклонился святому очагу жизни. И такая тоска по дому, по родной приманычской земле охватила его, что готов он был хоть на коленях приползти ко всему, что так дорого сердцу.
С трудом добрел Матвей до кошары. «Воды!» – только и сумел вымолвить. Чабан окинул его суровым взглядом, а молодайка быстро зачерпнула полный ковш и поднесла Матвею. Он жадно пил, торопясь и обливаясь, пока на дне не осталось ни капли.
Когда густая темнота расползлась по степи, зажгли костер. Сытый и обласканный гостеприимными хозяевами, Матвей, глядя на беспокойные языки пламени, рассказывал им о своем хуторе, лучше которого и на свете-то нету, о том, как плутал по степи и как заманывала его степная царица, да любовь к Настеньке сильнее оказалась. Молодайка со страхом крестилась, чабан понимающе кивал головой, а подпасок недоверчиво хмыкал:
– Да то ж облака и пар от земли.
Матвей, передохнув, вернулся домой. На обратном пути с дороги в степь уже не сворачивал. Стал снова чабановать. И сколько потом ни ходил по степи, Маревну больше не видел. Говорят, она кажется только одиноким заблудившимся путникам.
ОглавлениеИдиллия ДедусенкоЛегенды Седого МанычаПоединок у озераБелая чайкаКарагачНезабудкиМаревна



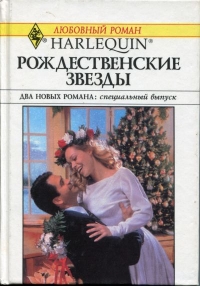
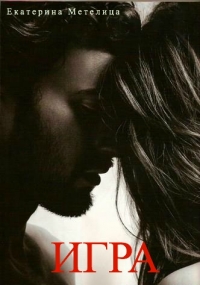
Комментарии к книге «Легенды Седого Маныча», Идиллия Дедусенко
Всего 0 комментариев