Лана Ланитова Милкино счастье
Дрожи и кайся, афедрон, Моля усердно о пощаде. Нагою пышностью сражен, Я утолю твои печали… Алкаю узость твоих врат И их пугливую стыдливость. Ты криком страсти восхвали Приапа дерзкую пытливость. (Из вольных сочинений графа Анатолия Александровича Краевского[1])1885 г.
Чистенькое, небольшое оконце, треснутое по диагонали и проклеенное серой замазкой, разламывало идущих по улице прохожих поперек их и без того потешных фигур. Вот прошла толстая баба в ярком цветастом платке – ее арбузные груди не совмещались с откляченным задом, и баба та походила собою на букву «зю». Таким же изломанным проковылял и сонный дворник, его красное, опухшее лицо выдавало в нем признаки жуткого похмелья. Прокатилась кривая повозка с пегой лошаденкой – тощий круп лошади двигался отдельно от задней части с хвостом…
– Маменька, надо бы нам купить другие занавески. Эти желтые – старые-престарые. И моль их поела…
– Угу, старые. Вот, как разбогатеешь, тогда и купишь. Все купишь… – раздался приглушенный голос матери.
Её звали Людочкой или Милой. Она заканчивала гимназические курсы имени княгини Ольги, в городе Н. Город этот был не совсем уж захудалым и уездным, но и до столичных размахов ему было далеко. Скажем так, это был самый обычный губернский город в средней полосе России.
Итак, наша героиня заканчивала гимназические курсы и мечтала о том, что очень скоро все будут называть ее – Людмилой Павловной. И как только это произойдет, вся ее будничная жизнь изменится до неузнаваемости. Какие-то несчастные занавески! Господи, да она станет жить в огромном доме с тяжелыми бархатными портьерами. Высокие потолки, белая лепнина, красивая мебель, лакеи. И она – в роскошном платье. И ОН. Кто был ОН, и где это должно происходить – об этом она пока не думала. Она лишь грезила наяву, уносясь все дальше в безоблачную и почти сказочную даль.
– Людмила Павловна! Правда же, маменька, мое имя звучит как-то особенно и со значением! – мечтательно повторяла Людочка, словно пробуя свое полное имя на вкус. – Люд-ми-ла Пав-лов-на… Люд-ми-ла Пав-лов-на, прошу вас! Мерсис… – черные бровки взлетали вверх, милое лицо вытягивалось в смешной гримасе. Девушка вставала в академическую позу и изображала танцевальное па с невидимым кавалером.
– Не крутись, стой смирно, егоза. Не то уколю, – устало одергивала ее мать. – Ты грамоту-то всю освоила? А математику? Как экзамены-то выдержишь?
– Обижаете, maman, – хмурила бровки девушка. – Грамоту нам давали еще в начальном классе. Мы сейчас целые оды заучиваем, и стихи, и сочинения пишем… – Милочка закусила пухлую губку в легкой задумчивости.
– Маман… – усмехнулась мать. – Это в гимназии вас научили так мать называть?
– А как же? По-другому даже неприлично выражаться, маменька. Дочь нашей директрисы завсегда только так к своей матери обращается. Она при этом щурит глаза… вот так, – девушка скорчила умильную рожицу, – и коверкает язык… А знаете, она совсем нехороша… А я третьего дня видела на улице офицера, он так на меня посмотрел… Так как-то пристально и, представляете, взял лорнет… Ай!
– Стой же ровно! Сказала же, что уколю. Вот бисово дитя. Пошью платье криво, кто потом плакать будет? Офицеры у нее на уме! Закончи сначала учебу.
Мать Людмилы, сорокалетняя вдова, схоронившая мужа-фронтовика, воспитывала одна троих детей. Двух младших братьев Людмилы она сумела пристроить, по ее мнению, удачно – один пошел служить половым в трактир купца Забегайлова. Его уже прочили на место будущего официанта, ибо мальчишка был ловок и сообразителен не по годам. Приходя домой на выходные, он садился у окна и заучивал русские и французские названия мудреных блюд. Мать, умильно глядя на сына, смахивала слезу и пыталась повторить за ним заморские названия. Но сама смеялась от своих нелепых попыток и крестилась со словами: «Учи сынок, учи. Глядишь, в люди выбьешься». Другой сын пошел по стопам отца. Мать определила его учеником к сапожнику. И хоть до обучения сапожному ремеслу дело еще не дошло, ибо мальчик работал все больше по хозяйству и нянчился с младшими детьми мастера, однако, мать надеялась на то, что всему свое время. «Побегай сначала на побегушках, а потом и ремесло получишь. Ремесло еще заслужить надобно-с», – часто говаривала она двум своим вихрастым мальчишкам, когда те жаловались на обиды и тяготы жизни в учениках.
Сама мать всю жизнь проработала швеёй. Она штопала и перелицовывала старые пальто, салопы, форменные шинели, шила пододеяльники, наволочки, нижние юбки. В последнее время ей стали заказывать женские кофты и мужские штаны – и это она считала своей большой удачей. Почти все заработанное она тратила на нехитрую еду и свою ненаглядную дочь – Людмилу, которую ей удалось пристроить на женские гимназические курсы. Курсы эти готовили не столько гувернанток, сколько горничных, санитарок и сиделок.
Мать, видя, как заневестилась ее семнадцатилетняя дочь, часто приговаривала:
«Ничего, Милка, ты у меня вон, какая краля вымахала, вся в отцову породу. Мать-то у Павла красавица была. И не из простых… Дела темные – от кого ее бабка прижила. Грешить не стану наговорами. А только краше ее никого во всем уезде не было. Все мужики в деревне по ней сохли. Рассказывали, к ней даже барин один сватался. А ты вся в нее, в бабку покойную – и стать, и рост, и бедра. Глаза, вон, бабкины! Может, возьмут тебя сначала в горничные, а ты пройдешь по залу, сделаешь этот… чёрт… книксен, так все господа и ахнут. В барские семьи завсегда гости приезжают – разные молодые люди, да при деньгах. Как увидят тебя, так и оторопеют от красоты. Может, кто и руку предложит. А что? Ну, пусть и немолодой муж будет, а в летах. И не морщись. При наших-то средствах – еще нос воротить? Дурочка, да немолодой то баловать тебя станет, наряжать как куклу, по Парижам возить».
Но Людмила не слушала резонные и практичные доводы матери. Конечно, как и всем девушкам, ей хотелось необыкновенного счастья и огромной, чистой любви.
В начале мая она выдержала выпускные экзамены и даже получила весьма приличные оценки. Когда она сдавала литературу, то прочитала с большим выражением отрывок из пушкинского «Евгения Онегина». Учитель ее похвалил, а в комиссии какой-то важный, высокий мужчина в модном сюртуке и с небольшой бородкой, навел на нее золотой лорнет и, наклонившись к директрисе, что-то тихо прошептал, а вслух произнес: «Elle est vraiment charmante»[2]. Все остальные члены комиссии дружно закивали головами и стали пристально лорнировать Людочку. Она же стояла с пунцовыми от удовольствия щеками, немного кружилась голова.
На следующий день состоялся выпускной бал, на который были приглашены все преподаватели, члены попечительского совета, несколько офицеров и старый генерал. Людмила танцевала в том платье, которое ей сшила мама. И хоть они были ограничены в средствах, однако, мать умудрилась сэкономить и купить несколько метров английского кружева и бирюзового атласа. Именно это кружево так красиво обрамляло не по-девичьи высокую грудь Людмилы, что все мужчины буквально не сводили с нее восторженных взоров. Её приглашали то на вальс, то на мазурку. Она кружилась, пьяная от внимания и радости. Один молодой смуглый офицер, невысокого роста, преподнес ей бокал шампанского и позвал ее на балкон. Разгоряченного лица коснулся порыв ночного весеннего ветра. И хоть Людмиле не сильно нравился этот офицер, она с жадностью и женским кокетством слушала его торопливую речь, полную дерзких комплиментов. У нее перехватывало дыхание от острого предчувствия счастья, того счастья, что испытывает любая молодая девушка на пороге взрослой жизни. Ей казалось, что старый сад полон волшебных огней. И звезды ласково подмигивают ей. И что сама она не юная выпускница гимназических курсов, Людмила Петрова, а какая-нибудь великосветская львица – графиня или княжна. А опьяневший офицер ни кто иной, как ее верный паж. Она даже царственно подняла голову и взглянула на своего собеседника таким взором прекрасных карих глаз, что тот потерял нить разговора, икнул и смущенно уставился в темное небо.
– Скажите Владлен, (так звали коренастого офицера) вам не хотелось разбежаться и прыгнуть с балкона? Ведь я совершенно точно знаю, что когда человек счастлив, он не может разбиться. Он возьмет и полетит, – она распахнула руки. Ветер трепал ее густые русые локоны, темные влажные глаза горели от пламени свечи, тонкий профиль расплывался в ночной дымке. Она была настолько хороша, что офицер не сводил с нее страстного взгляда. – Ну, что же вы молчите, Владлен?
– Мадемуазель, к сожалению, мы не птицы. Но если вы прикажете, то ради вас я готов спрыгнуть даже с башни Адмиралтейства, – он схватил ее за руку и принялся с жадностью целовать ладони.
Людмила засмеялась, выдернула руку и убежала в шумный зал. Ее тут же подхватил за талию один из членов попечительского совета, худощавый и плешивый мужчина, лет пятидесяти, и бойко закружил в вальсе. Она плохо помнила, как прошла эта пьяная и счастливая ночь.
Домой Людмила вернулась лишь под утро. Мать не спала. Она накинула пуховый платок на сутулые плечи, подслеповатые глаза щурились от утреннего света. Людмила плюхнулась на мягкую перину. Мать выжидающе молчала.
– Ой, мамочка, как хорошо-то! Вы даже себе представить не можете, – она сладко потянулась.
– Как ты, в платье-то?
– Мама, все на меня так смотрели-смотрели. И я, честное слово, была лучше всех на балу. И даже дочка директрисы выглядела хуже меня. И вообще – она жутко худая. И у нее совсем нет бюста. Она подкладывает туда вату, – Людмила прыснула в кулачок.
– Кавалеры-то были?
– Ой, этого добра хватало.
– Стоящий был кто?
– Мамочка, мне за этот вечер три кавалера сделали предложение руки и сердца. Первого звали Владлен, второго Михаил, третьего Николай Петрович.
– И кто этот… Петрович?
– Ой, он какой-то чиновник. Директриса представляла его, как члена попечительского совета.
– Богат?
– А я почем знаю? Он лысый и противный. А вот Михаил ничего себе… У него такие усики…
– Дура, – беззлобно отмахнулась мать.
– Ну, чего вы, мама? Я же говорю: трое делали предложение. Ждите на днях сватов. А мы еще повыбираем-повыбираем…
Но выбирать Людочке не пришлось. Ни завтра, ни через неделю к ней никто свататься не пришел.
Людмила ходила сонная и немного расстроенная. Будущее пугало. Гимназия осталась позади, выветрилось и пьяное, сладостное похмелье выпускного бала. Что делать дальше, Людмила не знала.
Мать все также строчила на своей машинке и тяжко вздыхала. Людмила морщила лоб и листала скучную книжку. В доме все будто застыло.
– Кому мы, нищие-то, нужны? – мать перестала строчить и устало откинулась на стуле. – Они, поди, узнали, что ты бесприданница, вот и не пришли свататься.
– Кто?
– Да, кавалеры твои. Кто еще-то? Может, соседи еще напакостили. Порассказали, де, кто мы есть. Или тетка Маланья сурочила. Она же видала, как ты собиралась на бал. И так смотрела, так смотрела буркалами своими завидущими. Точно ведьма! Надо бы умыть тебя от сглаза, на воду нашептать…
– Ах, маменька, бросьте. Все эти кавалеры ничтожны. И даже Михаил этот, с усиками… похож на крысу. Ну его!
– Ничего, дочка, не горюй. «Выйти замуж – не напасть; как бы замужем-то не пропасть». Найдешь еще свое счастье. Где это видано, чтобы такая красавица, да в девках засиделась. Погоди, мы свое еще возьмем. А пока, я думаю, тебе надобно поступать на службу. Чего дома прохлаждаться, да бока отъедать? Походи на днях, поспрашивай: может, кому нужна горничная или нянька. А там, как бог даст, – мать ожесточенно застрочила на машинке.
– Ладно еще в горничные, маменька… Но в сиделки я не пойду. Не для того училась.
Людмила стала есть засахаренное варенье и думать, бог знает о чем.
* * *
Через два дня в воротах их дома раздался стук. На пороге стоял дворник из гимназии. Он передал от директрисы записку. Людмила взволнованно раскрыла ее:
«Мадемуазель, у меня к Вам есть важный разговор. Прошу Вас прийти ко мне завтра, ровно в полдень.
Мария Германовна»– Что там? – спросила мать с тревогой.
– Маменька, директриса зачем-то приглашает меня к себе.
– Ну, так сходи.
На следующее утро Людмилочка встала раньше обычного. Она тщательно причесалась, заплела две косы и заколола их на затылке. Прошлась возле зеркала. Потом отчего-то передумала, распустила волосы и заплела одну косу. Она пощипала себя за щеки и облизала пухлые губы.
– Маменька, как вы думаете, что мне надеть? Может, васильковое платье или выпускное?
– Зачем выпускное-то? Не на бал же тебе идти. Раз для делового разговора, так надевай свое форменное платье и передник.
Людмила скорчила недовольную гримасу. Ей так не хотелось заново надевать надоевшее гимназическое платье. Но делать было нечего, наверное, мама была права.
– Ты поживее, давай! Каша стынет, – окликнула мать. – Сколько можно возле зеркала вертеться! Одевайся, завтракай и ступай к Марии Германовне.
Через час Людмила уже подходила к серому зданию гимназии. Она пришла чуть раньше назначенного времени. В здании стояла непривычная тишина – все девочки разъехались на летние вакации[3]. Дворник Архип проводил Людмилу в вестибюль и велел обождать. Когда часы пробили ровно двенадцать, сверху спустилась одна из пепиньерок и велела Людмилочке подняться.
Когда она подошла к дверям кабинета директрисы, то услышала приятный мужской баритон и смех Марии Германовны.
– Мария Германовна, голубушка, вы совершенно правы – воспитание и образование девиц сейчас настолько важно, что в любом умалении его роли я вижу проявление крайнего невежества и более того, подрыв предпосылок для расцвета Российского государства, его дальнейшего процветания, наконец.
– Ну?
– Да! Да! Вы знаете, я читал статьи Константина Дмитриевича[4]. И он утверждает, что «Воспитание призвано оказывать влияние на нравственность общества, возвышать дух над телом, выдвигать вперед духовные потребности». А что есть воспитание женщины? Это и есть – основа основ воспитания нравственной чистоты и непорочности.
– Анатолий Александрович, как жаль, что вы так редко бываете у нас в гимназии. Я хотела бы просить вас вести курс по педагогике.
– Ах, дорогая Мария Германовна, всенепременно буду рад ответить вам своим согласием, но чуть позже. Ибо, на моих отцовских плечах сейчас лежит воспитание трех собственных дочерей. И даже, как вам не покажется забавным, и собственной супруги.
– Даже так? – хохотнула директриса.
– Увы, – мужчина всегда должен быть пастырем в собственном доме. Даже если жена зрелая дама и сама мать, она все равно, как никто иной, нуждается в советах и опеке своего супруга. Опеке и постоянном контроле. В этом я вижу пока свою главную обязанность, как мужа, отца и главы семейства. Хотя, и в Губернской земской управе у меня достаточно обязанностей. Открытие сиротских приютов, училищ для бедноты, школ, заседания в попечительском совете. Хлопот много…
Людмила топталась возле неплотно закрытой двери в комнату директрисы и не решалась войти. Её окликнула пепиньерка:
– Мадемуазель Петрова, заходите же. Вас ждут.
Людмила решительно постучалась в дверь.
– Entrez[5], – прозвучало из-за двери.
– Bonjour, madame, – робко ответила девушка, переступив порог.
Сухопарая директриса Мария Германовна Ульбрихт, дочь потомственного ученого и педагога, которую все воспитанницы звали не иначе, как Maman, восседала за длинным столом, покрытым зеленым сукном. Кабинет директрисы был достаточно велик. Здесь стояли два шведских книжных шкафа, полных книгами и учебниками, этажерки с микроскопами, глобусом и старинной астролябией, которой директриса очень гордилась, ибо считала, что изготовил сей астрономический раритет сам Гуалтерус Арсениус. Почти все воспитанницы не разбирались в том, для чего предназначена сия астролябия. Но все точно знали, что директриса ей очень дорожит и не разрешает к ней прикасаться даже горничной во время уборки кабинета. Людмила лишь три раза за все время учебы бывала во «святая святых» ее учебного заведения – кабинете директрисы. И теперь с удовольствием и чуть отстраненно рассматривала все то, что таило в себе это сакральное для всех учениц место. Тем больше ее удивил тот факт, что наряду с очень важными учебными предметами, возле стены стоял кожаный диван, на котором лежало… несколько новеньких шляпных коробок, по виду очень дорогих, и пара красивых упаковок от модистки. О, Людмилочка знала этот дорогой модный салон, в котором покупались такие платья, о которых она даже не смела мечтать. Она знала этот салон по шуршащим ажурным пакетам, перевязанным розовыми бантами. Далее ее взгляд задержался на двух фарфоровых чашках с остатками чая и роскошной бонбоньерке, полной шоколадных конфет. Вся эта дамская легкомысленность никак не вязалась с образом всегда сдержанной и строгой Maman.
Все детали Людмила ухватила лишь мимоходом, даже не успев связать их в какие-то более стройные образы, ибо главным было иное. Чуть откинувшись в кресле, в небрежной, но красивой позе сидел обладатель приятного баритона. Людмила узнала этого господина. Он присутствовал на ее экзамене по литературе. Именно он тогда высказал одобрение, слушая ее чтение отрывка из «Евгения Онегина». Она вспомнила и то, как пристально он разглядывал ее в золотой лорнет. Он и сейчас с легким прищуром поглядывал на девушку. И взгляд этот был полон смешливого лукавства, вызова, оценки. Он смотрел так, что Людмила вспыхнула и опустила глаза.
– Ах, вот и наша опоздавшая. Мадемуазель, вы слишком долго идете, – строго проговорила директриса, – вы опоздали почти на семь минут.
– Простите, мадам, – только и вымолвила девушка.
Она никак не могла отделаться от жуткого смущения, охватившего все её естество.
– Итак, мадемуазель Петрова, – бесстрастно продолжила мадам, рассматривая Людмилу с плохо скрываемой неприязнью. – Скажите, как вы поживаете?
– Спасибо мадам, хорошо, – тихо ответила Людмила.
– Вы уже отдохнули от занятий?
– Да, мадам.
– Скажите мадемуазель, вы уже думали что-то о своей будущей службе?
– Думала.
– И? Вы нашли себе место?
– Нет пока…
– Ну что же, отлично. Это обстоятельство как нельзя кстати, – улыбнулась директриса одними уголками тонких губ. – Я хотела бы познакомить вас с Его Сиятельством, графом Краевским Анатолием Александровичем. Он попечитель нашего учебного заведения и присутствовал на наших экзаменах. Мадемуазель, Анатолий Александрович довольно высоко отзывался о ваших знаниях по литературе, кои наши доблестные преподаватели смогли-таки вложить в вашу голову. Дело, собственно, вот в чем: Анатолию Александровичу нужна в доме расторопная горничная с образованием. Помимо хозяйственных нужд, она должна уметь подать правильно куверт, уметь обращаться с дорогими столовыми приборами, помогать господам одеться, а также на время суметь заменить гувернантку в присмотре за младшими детьми. Супруга Анатолия Александровича в положении, семью снова ждет пополнение. Словом, Анатолий Александрович и сам все расскажет о своих требованиях и ваших обязанностях.
– Да, мадам…
– Что да? Вы согласны?
Людмила так и не смела поднять глаза на этого симпатичного господина. То, что он симпатичный, она поняла сразу. Тридцатипятилетний Анатолий Александрович был высок, широк в плечах, плотного и сильного телосложения. Его живое лицо довольно часто озарялось чуть ироничной, блуждающей, белозубой улыбкой. Хороши были и его темные усы с бородкой. А серые глаза горели лукавым и проницательным огоньком.
– Мария Германовна, дорогая моя, драгоценная, мы с вами совсем смутили нашу мадемуазель.
Он встал со своего места и подошел к Людмиле. Та стояла ни жива ни мертва. От него так вкусно пахло – одеколоном, сигарами и еще чем-то головокружительным, едва уловимым.
– Людмила Павловна, скажите, вы согласны работать у меня? Зимой мы с семейством живем чаще в городе, а летом выезжаем либо за границу, либо в наше фамильное имение. И вам придется иногда сопровождать мое семейство. Но я могу уверить, что у вас будет довольно приличное жалование, и не столь обременительный круг обязанностей.
Он аккуратно прикоснулся к ее запястью и посмотрел в глаза.
– Людмила Павловна, вы согласны?
У Людмилы чуточку закружилась голова. Его прикосновение было настолько тревожно, что она вздрогнула и глупо одернула руку. «Все, как хотела: меня называют по имени отчеству. И кто? Такой мужчина… Видно, он чертовски богат, дворянин… Чего же лучше мне искать?»
– Да, я согласна, – охрипшим голосом подтвердила Людочка.
– Ну, вот и славно. Дело, я полагаю, слажено. Людмила Павловна, вы успеете собраться до завтрашнего утра? Мой приказчик смог бы завтра утром заехать за вами. И уже отвезти в наш дом.
– Да, – тихо ответила Людмила.
– Мадемуазель, отвечайте громче, – встряла Maman, и тон ее голоса отчего-то был сильно раздраженным. – Если бы вы слышали, Анатолий Александрович, как мои старшие ученицы носятся в рекреационной зале[6] и громко кричат. – Петрова, у вас что, пропал голос?
– Да, – повторила Людмила громче.
– Вы даете себе отчет, что вам, Петрова, оказывается большая честь, приглашением в семью графа Краевского? Что сотни выпускниц нашего заведения мечтали бы о такой вакансии.
– Да, да, я согласна, – Людмила почти пришла в себя и сделала глубокий книксен.
– Ну, то-то же! Идите и собирайтесь. Завтра за вами заедут.
– Да, Людмила Павловна, мой приказчик будет у вас завтра, в десять утра.
– Мадемуазель Петрова, вы можете быть свободны, – проговорила директриса. – Надеюсь, что ваша служба в доме графа будет ответственной и добросовестной. И пусть имя ваше будет стоять в ряду самых лучших выпускниц наших курсов и олицетворять собой образец трудолюбия, честности, нравственности и непорочности.
Людмила кивнула и быстро вышла из кабинета директрисы. Сердце стучало возле самого горла. Сначала она шла быстрыми шагами, а потом и вовсе бросилась бежать и бежала до самого дома.
– Мамочка!
– Что? Сядь ты, оглашенная! Что стряслось?
– Меня берут на работу в дом графа Краевского.
– Графа? А кто он такой? Поляк что ли?
– Мамочка, ну откуда мне знать: поляк он или немец? Может, русский.
– Нет, фамилия-то польская…
– Ну, он по-русски же говорит и по-французски тоже.
– Эвона, по-французски. Рассказывай, – взволнованно произнесла мать. – А я знала! Знала, что подфартит! Я уж ходила ворожить к Лексевне. Тебе не говорила нечего. А Лексевна говорит: то ли дом казенный, то ли служба падает, и король треф.
– Мама, да ну какой там король треф, – отмахнулась Людмилочка, а сама почему-то вспомнила прикосновение графа. И тут же у нее заныло внизу живота.
– Милка, ну что ты молчишь? – услышала она голос матери, доносившийся откуда-то издалека. – Что застыла-то!
– А? Что?
– Я спрашиваю: когда ехать-то?
– А… Завтра. Завтра за мой заедет их приказчик.
– О господи, так надо же вещи собирать. Милка, ну что ты сидишь? Доставай платья, кофты, юбки… Тряпки, полотенца. А, может, там дадут одёжу форменную… Тебя кем туда берут?
– Горничной, мама, – ответила Людмила и упала на подушку.
– Людмила, ты что?
Та не отвечала, через минуту раздались первые всхлипывания, перешедшие в сильный девичий плач.
– Ну, что ты, дочка? – мать обняла и прижалась к Людочке.
– Как я там буду без вас, маменька?!
– Ну, глупенькая. Я же выучила тебя, ты уже взрослая. Должна сама себе на кусок хлеба зарабатывать. И мне будет легче, и сердцу за тебя спокойно, что в хороший дом попала. А самое главное, как я тебя учила: не теряйся там. Присматривайся к женихам холостым, чтобы не бедный только был, с состоянием. Слышишь, дурочка?
– Слышу…
* * *
На утро следующего дня к дому Петровых подъехал экипаж, запряженный сытой гнедой лошадью. На козлах сидел кучер. Из экипажа выскочил энергичный молодой мужчина, невысокого роста, одетый в темный, простенький, но аккуратный сюртук.
– Здесь проживает мадемуазель Петрова? – спросил он скороговоркой у стоящей в ограде матери.
– Здесь, здесь, – ответила мать, тревожно и оценивающе поглядывая на приказчика.
Людмила вышла из дома с двумя большими чемоданами. Ее глаза предательски блестели от слез. Проводы были недолгими. Мать перекрестила ее на прощание.
– С богом, доченька, – проговорила она, утирая глаза.
– Ну-у, вы мамаша, так прощаетесь, будто ваша дочь едет на край света, – усмехнулся веселый приказчик. – Дом графа находится на другом конце города. Так что увидитесь с вашей красавицей на выходных. Если только граф не поедет на днях в свое поместье. Тогда только осенью. Да и то: уж, сколько то лето? – рассмеялся он и заскочил в экипаж.
– Вы ее там не обижайте, господин хороший, – заискивающе попросила мать.
– Не обидим. Хозяин у нас хороший, добрый. Хозяйка – та чуть строже. Но жить можно.
Кучер привязал чемоданы в задней части экипажа. Заскочил на козлы, и экипаж тронулся, увозя Людмилу в новую, неведомую ей жизнь.
Мать еще долго стояла на дороге и крестила удаляющуюся карету, пока та не свернула за угол крайнего дома и не пропала окончательно из виду. Женщина вздохнула и пошла в дом.
Людмила по дороге старалась не смотреть на молодого приказчика. А тот, наоборот, разглядывал ее пристально.
– Не бойся, не съедят тебя там, – хмыкнул он.
– Вот еще. Я и не боюсь.
– Ну, давай тогда знакомиться, барышня. Меня зовут Николаем Степановичем. Но ты можешь называть и просто Николаем. Я разрешаю тебе. Так-то со всеми работниками я строг, а с тобой могу быть ласковым, – подмигнул приказчик.
Людмила промолчала.
– Я смотрю, ты не очень-то и разговорчива. Хотя, это хорошо. Наша барыня болтушек не любит. А ты, Людмила Павловна, у нас, значит, гимназистка.
– Я выпускница гимназических курсов имени княгини Ольги, – гордо ответила Людочка.
– Ну-ну. Вот что, Людмила, мой тебе совет. Слушай внимательно. Барыня у нас строгая. Она часто бывает не в духе. Сейчас вообще в положении, четвертым ходит. Если и накричит на тебя или посмотрит косо, ты смолчи и не горюй. Не велика беда. Зато граф у нас щедрый. Если понравишься ему и будешь проворной, то назначит тебе хорошее жалование. Ладно, сама потихоньку все увидишь. Если что непонятно будет, то не стесняйся, спрашивай у меня. Я все тебе растолкую. У нас уже есть несколько горничных. Они все тебя постарше будут. Потому, первое время слушайся их. Особенно Капитолины Ивановны. Она дама в летах. Станет тебя всему учить. И да, мать-то твою я немного обманул. Видишь как, оно неловко-то вышло… Жалко ее стало. Выходные у нас редко бывают. Чтобы заслужить первые, надобно три месяца отработать, без нареканий и наказаний. Тогда начнут на день отпускать. А самым усердным дают отпуск на три дня. Капитолина как-то ездила к родне на две недели. Так она и работает при господах с самого рождения Анатолия Александровича. Она его еще нянчила. И вот еще что, если начнешь письма писать домой – пиши, что все, мол, хорошо и всем довольна. Не забывай нахваливать хозяйку. Письма все Капитолина с хозяйкой читают перед отправкой. Это тебе – мой совет дружеский. Мог бы и не говорить, – приказчик фыркнул. – Да ты я, гляжу, и не рада…
Людмила действительно сидела огорошенная той новостью, что не сможет так долго увидеть свою мать и братьев. Из глаз снова потекли слезы.
Прошло немного времени, как экипаж въехал в резные ворота. За ними простирался покрытый первой весенней зеленью сад. В нем росли высокие дубы, клены, липы. Меж ними бежали ровные дорожки, посыпанные мраморной крошкой. Из-за бурно разросшихся деревьев едва обозначились ярко-голубые прогалины. Людмила догадалась, что это показался господский дом.
К ним почти бегом поспешил косолапый, чернявый и смуглый дворник. Он бросил на траву грабли и подхватил чемоданы. Приказчик же шел налегке. За ним едва поспевала Людмила. Из глубины огромного парка раздавались детские голоса и чья-то монотонная, взрослая речь. Как только они оказались на территории графского дома, приказчик весь распрямился, сделал важное лицо и стремительной походкой направился в сторону этих звуков.
Ближе к дому дорога раздвинулась, по обеим сторонам появились круглые гипсовые вазоны, украшенные лепными амурами, попадались прямоугольные клумбы – очень ровные и ухоженные. Она пестрели первыми весенними цветами. Над ними порхали бабочки.
«Как тут красиво, – подумала Людмила – Красивее, чем в городском саду. А цветы какие яркие. Где только такие семена достали? Начало мая, а они уже цветут! Может, из теплицы? Я ни разу таких не встречала… А вон и скамейки… Стол, качели. Господи, здесь есть качели! А там, в тени, какой-то диван или что это? Ах, на нем кто-то сидит. Похоже, барыня. И дети ее. А рядом, видно, бонна».
Увидев пеструю когорту господ, Людмила так растерялась, что чуть не споткнулась на ровном месте.
– Ваше Сиятельство, Руфина Леопольдовна, рад видеть вас в добром здравии! – нараспев и подобострастно крикнул приказчик издалека. – А я с утра, по поручению графа, привез новую горничную. К вам подвести ее?
Ответом была полная тишина. Спустя пару минут, в течение которых приказчик мялся и почесывался, а Людмила стояла поглупевшая, с бьющимся, словно у воробья сердцем, раздался скрипучий ответ:
– Подведи.
Приказчик взял девушку чуть выше локтя и стремительно поволок ее к хозяйке.
Глазам Людмилы предстала следующая картина: в середине обширного синего дивана, над которым полукруглой крышей возвышался плетеный из лозы козырек, закрывающий от солнца и увитый еще нераспустившимся вьюнком, восседала узкоплечая и худосочная особа в строгом темном платье и шелковом чепце. Ниже плоского лифа платье расходилось свободными фалдами. Людмила не думала о том, как должна выглядеть графиня… Она совсем об этом не думала. Но та дама, что сидела напротив, поразила ее резкими, почти мужскими чертами серого лица, щедро усеянного кофейными пятнами пигментации, крючковатым носом и впалыми щеками. Но более всего Людмилу поразили глаза графини. Они отчего-то были красные и казались злыми.
«Да, сколько же ей лет? – пронеслось в голове. – Она же, наверное, много старше своего супруга? А может, она нездорова? Или это беременность на нее так повлияла? И все равно… Господи, как она нехороша…»
Вокруг нее, на этом же диване, сидели три девочки. Двое из них очень походили на свою мать – худобой и резкостью черт детских лиц. На вид им было лет по пять. Они были близнецами. Третья девочка, помладше, наоборот, выглядела точной копией своего отца. Живые темно-серые глаза светились яркими огнями на довольно миловидном личике. Эта девочка казалась подвижнее двух своих сестричек. Она то и дело вскакивала, принималась прыгать на одной ножке, вертеться и дергаться в желании куда-то убежать. За что мать одергивала ее рукой, свободной от веера и говорила что-то коротко, по-немецки. Девочки были одеты строже, чем обычные господские дети. Неяркий тон платьиц, аскетичность кроя и длина, напоминали подрясницы монашек какого-то монастыря. Рядом с семейством, на широком табурете, восседала грузная бонна в форменном платье с передником и читала какую-то толстую книгу.
Когда приказчик подвел Людмилу к графине Краевской, девушка сделала глубокий книксен. Графиня молча достала из ридикюля лорнет и уставилась сквозь него на девушку. Людмиле показалось, что прошла целая вечность. Правая щека графини задергалась вместе с уголком узких губ. Она убийственно молчала. У Людмилы заныло под ложечкой, и закружилась голова. Она переминалась с ноги на ногу, не зная, куда деть глаза.
«Господи, зачем я надела это голубое платье? Я в нем так нелепа. Здесь другие порядки…»
Первым подал голос приказчик:
– Руфина Леопольдовна, мы тогда пойдем-с? С вашего позволения, я отведу мадемуазель к Капитолине Ивановне?
Но ответом была все та же, тягостная тишина.
Приказчик попятился, увлекая за собой Людмилу.
– Видишь, как оно… Даже говорить не захотела. Не приглянулась ты ей, дева. Ну, да ничего. Хозяйка у нас в положении, и Анатолий Александрович ее в деревню, на свежий воздух и парное молоко, скоро увезет. А ты, наверное, тут пока останешься… Ладно, все как-нибудь утрясется.
Они вышли к роскошному голубому особняку. Рассеянный взор Людмилы уловил два высоких этажа и треугольный фронтон большой мансарды, украшенный круглым лепным окошком. На голубом фоне ровными и ослепительно белыми выглядели рамы высоких распахнутых окон, в которых трепетали шелковые присборенные портьеры светло серого оттенка. Такими же белыми казались и рустованные пилястры, идущие рядом с окнами.
Огромная круглая клумба, разбитая возле центрального входа, пестрела роскошными анютиными глазками и таила в своей сердцевине небольшой, но изящный фонтан, чья чаша, тоже напоминающая открытый цветок, выбрасывала из себя струи серебрящейся на солнце воды.
– Здесь нельзя долго стоять, – услышала она тихий голос приказчика, – Людмила Павловна, идите за мной.
Они обогнули особняк с левой стороны. Рядом с основным зданием, примыкая к нему и чуть уходя к заднему двору, находился одноэтажный хозяйственный флигель. В одной из скромных, небольших, но сухих и чистеньких комнат этого флигеля проживала старшая горничная. Были здесь комнаты и для другой прислуги. Ниже основного этажа шел объемный подвал с множеством отсеков и кладовых с припасами.
Приказчик провел нашу юную героиню по неширокому коридору, пока они не уперлись в дубовую дверь. Приказчик постучал.
– Да, да, войдите, – раздался немолодой и резковатый женский голос.
А далее наша приунывшая героиня была представлена Капитолине Ивановне – седовласой и плотной, немолодой женщине. Та долго и нудно разъясняла девушке ее новые обязанности. Дала ей в руки список правил для горничных, переведенный с английского языка. Буквы прыгали перед глазами Людмилы. Из списка она поняла, что в этом доме у нее не будет ни одной свободной минуты. Ей даже не позволялось без особой нужды пересекать территорию сада и вообще выходить на улицу.
– В обязанности горничной входит уборка, мытье полов, стирка, утюжка, штопка белья, чистка серебра и столовых приборов, мытье пола, топка печей, выемка золы, исполнение мелких поручений и многое-многое другое. Ты должна превратиться в тень. Тебя не должно быть ни слышно, ни видно. Должна стать тихой, как приведение, и скорой, как ласточка… Ты поняла меня? – отчеканила строгая Капитолина.
– Да, мадам.
– Я, конечно, сомневаюсь, чтобы ты все поняла с первого раза. Я буду тебя учить и строго с тебя спрашивать. Первое время ты будешь больше делать по дому черную работу. Господа на днях уедут в фамильное имение, в деревню. Оставшиеся здесь слуги должны будут помыть стены, отскоблить всю копоть на кухне и кухонной посуде, побелить потолки в подвале, натереть паркет, просушить все подушки, одеяла, воротники, муфты и многое-многое другое.
– Мадам, а за столом или на званых обедах… ваши горничные не прислуживают?
– Что?! – Капитолина аж поперхнулась от такого возмутительного и странного вопроса. – Вот еще! Твое место – подвал, чердак, хозяйственный флигель, портомойня, кухня и задняя лестница. Если хоть раз я увижу тебя у парадного входа, на лестнице, где господа ходят или в их покоях без разрешения, сразу лишу жалования. А повторится еще раз – выгоню.
– Дело в том, что я не кухарка, я училась…
– И что? У нас все горничные грамотные. Ишь, что удумала. На простых обедах господам прислуживаю я, либо камердинер, Федор Давыдович. А на званых вечерах они выписывают официантов и метрдотеля из ресторации князя Верийского.
– Но, как же… Я же немного и по-французски знаю. Может, мне другая какая работа найдется? – робко упорствовала Людмила.
– Другая работа тебе найдется, а как же, – зловеще, прямо в ухо, обдавая нечистым дыханием, прошептала ей Капитолина. – Я бы прямо сейчас нашла тебе другую работу, если бы не прихоть нашего Анатоля. – Вот, прямо в этом голубом платье я бы и отправила тебя на другую работу: ноги в доме терпимости раздвигать. Ты зачем так вырядилась? А? Захотела барина нашего соблазнить? Или графиню разозлить? Смотри у меня. Признавайся, ты дева?
– Да, – дрожащим голосом ответила ей Людмила.
– Сегодня вечером я тебя осмотрю.
– Как это?
– Ноги раздвинешь и покажешь…, что не грешила.
– Но!?
– Не запрягала никого. Такой порядок у нас, – уже спокойнее объяснила Капитолина. – Я должна проверить твою девственность и отсутствие заразы. Ты с посудой дело будешь иметь, а может, и с детьми когда. Сначала я проверю, а после, на неделе, и доктор приедет. Я никогда Илью Петровича, доктора, не гоняю задаром. Ибо, его визиты денег стоят. Потому и осматриваю всех горничных поперед сама. И вот еще что, проверять здесь тебя будут каждые три-четыре месяца. Если начнешь сожительствовать с кем, сразу выгоню. Тут и хозяин не поможет. У нас такой порядок – здесь одни девы работают.
– И даже вы? – глупо поинтересовалась Людмила, дрожа от страха.
– И даже я. Я – дева, хотя мне уже пятьдесят пять, – гордо ответила Капитолина. – Не мной это заведено, однако, порядок есть порядок… Еще покойница, мать Анатоля, сие завела. И графиня тоже поддерживает эти правила. Матушка наша, Руфина Леопольдовна, дама очень строгая. Веры католической. Она одну горничную, прижившую ребенка от бывшего истопника, самолично приказала отвезти в монастырь. Там и рожала та распутница…
– А если я выйду замуж? Я же мужа и детей хочу…
– А вот, как соберешься, так и пойдешь отседа. И рожай тогда кого хочешь, и от кого хочешь. А по мне так, хоть от черта!
Затем строгая Капитолина Ивановна отвела Людмилу на чердак. Там располагалась ее отдельная комнатка. В комнате стояла обшарпанная прогнутая кровать, набитая соломой, умывальник и потрескавшийся комод. В самом верху находилось маленькое чердачное оконце.
– Все горничные у нас живут на чердаке. Эта комната зимой холоднее других. Но Анатолий Александрович распорядился дать тебе именно эту. Да и в той, где живут другие девушки, по-правде говоря, уже нет места. Будет холодно, заткнешь оконце тюфяком. Ничего, не околеешь. Потому, получай белье, два форменных платья, передники, чепцы.
– Ой, да они же большущие, – возразила Людмила, глядя на платья.
– Да, я на себя их когда-то шила, прозапас. С первого жалования начну вычитать с тебя за них. Они дорого мне обошлись. Ткань добротная, крепкая, подъюбник пышный, передник холщовый… Глянь, как отбелен! Воротник на коклюшках вязан. Я бы никогда не отдала тебе эти платья, да не в васильковом же ты тут щеголять будешь? А то, что не по размеру, так невелика беда. А для чего тебе иголка с ниткой? Если большое, то ушьешь. Тебя мать-белошвейка, что с иголкой обращаться не научила?
– Откуда вы знаете про мать? – неприятно поразилась девушка.
– Я все, милая, знаю… Распаковывай пока свои вещи. Сейчас тебе еще сундук принесут и ковш для умывания. Через час спускайся по задней лестнице в подвал, в кухню – обедать.
Как только старшая горничная ушла, Людмила потрогала новое форменное платье. Она встряхнула его. Пахнуло чем-то прелым и кислым. А из рукава вылетела моль. «Господи, сколько лет лежало это гадкое платье? Оно же жутко колючее и воняет!»
Она упала на кровать и обхватила голову: «Я пропала. Про-па-ла… Какие женихи? Какое замужество? Господи, куда я угодила? Если будет совсем невыносимо, я сбегу. Но… Тогда они мне не дадут рекомендации на новое место. Может, Анатолий Александрович даст? Или сразу отпустит меня? Как я о нем забыла? Приказчик говорил, что хозяин добрый…»
Людмила вдруг вспомнила о красивом графе и снова задумалась. Она не поняла, сколько прошло времени. Ей все время казалось, что она попала совсем не в свою жизнь. Что надо встать и выйти из этого запутанного лабиринта. Она просто ошиблась дверью. Ее жизнь – это выпускной бал и кружение вальса, ее жизнь – это цветы, комплименты, красивые платья и усатые офицеры… Ее жизнь… Господи, даже сам граф входил в тот мир, который мстился душе юной красавицы. Но не грязные полы и посуда, не эти лежалые, огромные и колючие платья, ни эта старая карга. Чего она решила у меня проверять? Стыд-то какой. Не может быть, чтобы все это было правдой.
Она знала, что ее жизнь сильно отличалась от жизни тех подруг, с которыми она училась. Тех, чьи родители были много богаче ее бедной матушки. Но мать, не покладая рук, днями и ночами строчила, штопала, вышивала чужое белье и выручала за это какие-то средства. Она экономила на многом, лишь бы ее дочь не выглядела хуже своих одноклассниц. Как ей это удавалось? В силу безоглядной беспечности, присущей лишь молодости, Людмилочка редко задумывалась о том, каких трудов это стоило рано постаревшей и поседевшей матери. Мать делала все, чтобы суровая и грязная действительность не коснулась ее детей и особенно любимой дочери. Она верила в ее светлое, обеспеченное будущее. Людмила заплакала от жалости к себе и своей матери.
«Надо взять себя в руки. Если я сбегу, мама сильно расстроится. Наступил и мой черед, помочь маме. Ладно, поживем-увидим… Как бог даст», – она перекрестилась и поцеловала свой серебряный крестик.
В коридоре раздались шаги. В дверь кто-то стукнул и, не дожидаясь ответа, отворил ее. В комнату заглянула полная рыжая женщина, лет тридцати.
– Спускайся на обед. Капитолина Ивановна зовет.
– Да, спасибо, я сейчас.
Людмила заметалась по комнате. «Господи, а что я надену к обеду? Им же не понравилось это васильковое платье… А эти, тяжелые платья Капитолины? Я в них утону».
Недолго думая, она накинула на плечи темный шерстяной платок, стараясь плотнее упрятать васильковый лиф любимого платья – мать сунула платок в чемодан, на всякий случай, для тепла, и поспешила к выходу. Когда она спускалась вниз по неширокой винтовой лестнице, с заднего двора особняка, то услышала громкий разговор, доносившийся из раскрытого окна второго этажа. Сначала раздался истерический смех, а после последовали быстрые фразы на французском и немецком языках. Говорила женщина. И тон ее голоса был очень взволнован, если не сердит. Приятный мужской баритон что-то ласково возражал, также по-французски. Людмила не разобрала эти обрывочные реплики. Но в голосе мужчины она узнала графа. Теперь точно говорил он. И уже по-русски. «Господи, да это он разговаривает со своей женой, Руфиной».
– Дорогая, ангел мой, зачем ты так кричишь? Тебе, в твоем положении, совсем нельзя волноваться.
– Кричиш-ш-ш? Я вас ненавижу, граф, – злобно ответила ему Руфина.
– Душка, ты просто не в себе…
– Сначала вы пропадаете на целую неделю…
– Господи, Руфина, ну, ты же знаешь, что я ездил в командировку от Земской управы по вопросам сиротского образования, – перебил ее супруг. – К чему все эти подозрения? Это становится невыносимо… Право, цветик мой, пойди, полежи…
– Не есть перебивать меня! – закричала графиня с сильным немецким акцентом. – Я не договорила. Сначала вы пропадаете, бог знает где. А потом приводите в дом какую-то уличную grisette[7].
– Ну, что ты такое говоришь, Руфина? – страдальчески возразил Анатолий Александрович. – Эта девушка чиста и невинна. Она только что закончила гимназические курсы. Я согласовывал ее поступление к нам с Марией Германовной, директрисой гимназии. Голубушка, ты же помнишь Марию Германовну? Я представлял тебе ее на Рождественском балу у князя В-кого… И вот она сама просила пристроить девицу…
– Я не помню всех ваших знакомых! Пока я буду носить очередное ваше дите и рожать его в муках, вы будете забавляться с этой молодой кокоткой! – прокричала она и вдруг зарыдала. И крики ее были похожи на вой сумасшедшей.
– Воды! Федор, воды! – крикнул граф кому-то.
Потом послышалась возня, звон разбитой посуды, глухие удары.
Дальше Людмила не стала слушать, она отпрянула от окна и поспешила вниз, на кухню.
«Господи, боже мой! Что делать? Графиня так ко мне настроена. Что это за дом? Господи, я пропала… Пусть граф лучше отправит меня назад, домой. Зачем такие подозрения? Зачем он предложил мне эту службу?»
Пройдя два узких коридора, она скорее по запаху кислой капусты определила то место, которое называлось кухней.
Перед ней открылось довольно мрачное помещение. Солнечный свет пробивался сюда из полукруглых стрельчатых окошек. Но даже в этот жаркий майский полдень здесь почему-то было зябко и сыро. Пахло не только кислой капустой, но и сажей и чем-то подгоревшим. Людмила чуть не упала, не заметив под ногами пару каменных ступеней, ведущих вниз, в помещение. Пока глаза привыкли к полумраку, она слушала лишь полную тишину и стук деревянных ложек.
– Проходи, проходи Людмила Павловна, – раздался из-за стола знакомый голос приказчика.
В ответ кто-то хмыкнул.
– Не велика честь, называть ее по отчеству. Не заслужила еще, – встряла Капитолина. Голос ее звучал глухо. Женщина что-то жевала. – Еще раз опоздаешь к обеду, будет тебе наказание, – деловито добавила она, смачно проглотив кусок хлеба. – Садись, что встала и рот разинула?
Людмила присела с краю длиной крашеной лавки. Кухарка подала ей миску каких то жидких щей и кусок хлеба. Девушка поднесла ложку ко рту – от щей противно пахло кислятиной и чем-то горелым, а хлеб был плохо пропечен.
– Ешь, не бойся, не отравят! – раздался чей-то булькающий мужской смешок.
Людмила тихонько подняла глаза. За столом сидело человек десять. Несколько мужчин. Среди них она узнала только приказчика и дворника. И несколько женщин. Большая часть женщин были одеты в форменные платья горничных, очень похожие на те, что дала ей Капитолина Ивановна.
Людмила сама не помнила, как прошел этот первый обед в доме графа. Она почти ничего не ела, на что приказчик попенял ей:
– Может, в гимназиях вас кормили пирожными? Нет? Ну, а коли нет, так ешь, голубушка, что подают, иначе исхудаешь и чахотку подхватишь.
В этот же день ее заставили утюжить огромную стопку белья. А после, до самого вечера, она вместе с двумя другими горничными стирала вещи детей и полотенца. Вечером был скудный ужин, состоящий из пшеничной каши и остатков господского пирога, который был поделен Капитолиной Ивановной по ее собственному усмотрению. Самые большие куски достались мужчинам и ей самой. Остальные, включая Людмилу, довольствовались подгорелыми горбушками, без начинки.
Людмила, едва живая от усталости, поднялась к себе в комнату. Единственным желанием было – лечь на кровать и забыться сном. Руки и ноги ныли с непривычки так, что она упала на подушку и заплакала. Она плакала долго и безутешно. За окном стало смеркаться, сознание затуманилось тяжелой дремой. Как вдруг в дверь громко и настойчиво постучали.
Людмила соскочила, плохо понимая, где она находится. Сразу после стука, дверь приоткрылась, и в комнату вошла другая горничная, которую звали Еленой. Людмила вместе с ней стирала белье. Там они и познакомилась. Елене на вид было лет двадцать пять. Она была худенькой и довольно миловидной, если бы не врожденная хромота. Елена стеснялась своего изъяна и часто ходила боком, опуская низко темноволосую голову. Она показалась Людмиле добрее другой прислуги.
– Людмила, я вас разбудила? – спросила она с виноватым лицом.
– Нет, нет, Леночка, я просто прилегла…
– Вас зовет к себе Капитолина.
– Господи, зачем я ей? – устало проговорила Людмила. – Снова белье стирать?
– Нет… Вам надо к ней в комнату идти.
И вдруг Людмила вспомнила то, что ей сначала показалось нелепым сном. Вспомнила, что Капитолина собиралась осматривать ее. Но, как?! Она соскочила с кровати.
– Людмила, вы не переживайте… Тут это делают со всеми молодыми горничными. Не проверяют только пожилых, тех, кто давно работает. Поверьте, я сначала тоже переживала и даже хотела сбежать. Но, у меня больной папенька живет на Моховой, и брат младший. Мне очень нужны деньги. А в этом имении платят больше, чем в других. Немного, но больше… Я выясняла. У меня есть подруга, она работает в другой семье. Мы пишем друг другу письма. Их мне передает отец, – все это Елена произнесла довольно быстро, скороговоркой. – Людмила, вы очень красивы… Очень. И я боюсь, что наша хозяйка станет вас ревновать к своему супругу. Хотя… Кто мы? Мы, по сути, жалкие их рабы. Вы не бойтесь того, что заставит вас сделать Капитолина. Это… это, словом, это пройдет быстро. Вы главное – зажмурьте глаза. Так меньше стыда…
– Елена, да что же это?
– У вас есть близкие?
– Да, мама и братья.
– Во-оо-от. Идите ради них… И не думайте ни о чем.
Людмила оправила платье, снова накинула темную шаль и вместе с новой подругой спустилась вниз по задней лестнице. Они вышли вдвоем и направились в сторону хозяйственного флигеля.
– Ты пойдешь со мной?
– Да… Капитолина всегда делает это не одна. Надо держать свечу… В этот раз свечу буду держать я…
На улице пели соловьи, стояла теплая майская ночь, полная чарующих звуков, но Людмиле было не до них. Она холодела при мысли о предстоящем осмотре.
Когда Елена стучалась в комнату к старшей горничной, у Людмилы от нервного напряжения стучали зубы.
– Проходите, разувайтесь обе за порогом, – решительно произнесла Капитолина.
В ее комнате было светло – горело несколько свечей. Посередине стоял стол, застеленный чистой холщовой тканью. Сама Капитолина была уже без форменного платья. На ней была надета длинная, в пол, юбка и тонкая малоросская рубашка с вышивкой, сквозь которую просвечивали большие груди.
– Снимай чулки, панталоны, если носишь, и проходи сюда.
– Куда?
– Как снимешь нижнее исподнее, так забирайся на стол, поднимай юбку до грудей и широко раздвигай ноги. И да, забыла спросить: ты сейчас белье не пачкаешь?
– Не поняла?
– Ты дурочкой-то не прикидывайся. Я спрашиваю: сейчас кровь не идет? Сухая ты?
– Нет… Крови нет сейчас.
– Тогда ложись. Да, поживее. Мне уже спать пора. Возись тут с вами. В следующий раз позову приказчика вас проверять, – зычным голосом рассмеялась Капитолина. – Что смотришь? Пошутила я…
Людмилу всю трясло от этого унижения. Елена стояла в стороне, стараясь не смотреть на свою новую подругу. Она делала вид, что рассматривает что-то на стене.
Людмила сняла панталоны и чулки и подошла к столу.
– Живее, – прикрикнула на нее Капитолина.
Людмила легла, длинные и стройные ноги свешивались со стола. Она зажмурила глаза и задрала юбки.
– Ох, горе мне с вами. Я как посмотрю-то тебе туды? Разлеглась она, как корова. Пятки на стол клади, ноги раздвигай, держи их руками… И раздвигай шире. А ты, Ленка, подь сюда и свети мне свечой, как следует, в самую середку. Да гляди, воском не капни, – он снова ухмыльнулась. – Не подожги ей п*зденку.
Людмила с ужасом проделала все, что сказала Капитолина. Она лежала ни жива ни мертва, зажмурив от стыда глаза.
– У, ноги-то отрастила. И холеная какая. Видать, мать хорошо тебя кормила, раз задницу такую и ляжки отъела. Кожа, как у барыни.
Все, что говорила эта пожилая женщина, казалось Людмиле гадким и непристойным.
– Шире ноги! Ленка, свети, как следует. А ты чего вся сжалась? Как я п*зду твою рассмотрю? Мне ведь надо глянуть целку в ней. Коли рваная, значит пойдешь отседа на все четыре стороны. Растяни-ка пальцами.
– Смотри, Ленка, вроде, дева она. Так? И, вроде, чистая. Так?
– Так, – охрипшим, смущенным голосом ответила ей горничная.
– Ну, а раз так, то вставай. И идите обе отседа. Устала я. Когда доктор приедет, еще раз покажешься ему… Ступайте быстро, я спать хочу. Живее.
Как только девушки оделись и ушли, Капитолина в задумчивости присела на кровать и стала расстегивать юбку.
– Машка, ты все видала? Иди ко мне… Мочи нет, как засвербело…
Из-за платяной шторки, выполняющей роль немудреной ширмы, тихо, словно кошка, вышла низкорослая женщина, тоже немолодая, но худощавая. Ее фигура походила на фигуру маленького мужичка. Нательная рубашка свободно болталась на широких и мосластых плечах. Жидкие волосы были собраны в пучок. Эту женщину звали Марией. Она тоже работала горничной у графа Краевского.
– Скажи, хороша стерва.
– Хороша, ничего сказать, – грубым голосом отвечала Капитолине Маша. – Только ты, моя жаркая медведица, во сто крат мне милее.
– Иди ко мне… Я как увидела ее п*зду розовую, веришь, аж голова кругом пошла.
– Что, на молодую потянуло? Ты это у меня брось! – по-мужски, грубо возразила ей Машка и схватила Капитолину за волосы. – Снимай юбку, медовая… – приказала она.
– Мне кажется, что Анатоль не случайно ее в дом-то притащил. Он хитрый как лис.
– А ты что, только поняла это? – усмехнулась подруга. – Он живо ее оприходует. Не воблу же свою лютеранскую ему любить. Жалко мне его. Деньги деньгами, но мог бы кого-то получше тогда сыскать…
– Не мог. Кредиторы уже имение описывали. А тут Руфина подвернулась. Такая выгодная партия.
– Выгодная… Как он на нее залазит только?
– Ой, не знаю… Как-то залазит, раз четвертым от него ходит.
– Он, поди, сына ждет?
– А то ж…
– А она снова девку принесет, – обе женщины беззлобно рассмеялись.
Капитолина откинулась на пуховые подушки. Машка села в ногах.
– Что разлеглась? Сымай совсем рубашку. Я по титькам твоим мягким соскучилась.
– Ой, мочи нет… Машенька, возьми тыкалку потолще…
– Как тебя после девкиной п*зды-то разобрало… Ну ничего, я тебя сейчас лучше любого кобеля вы*бу…
* * *
Прошло две недели…
За это время Людмила познакомилась со всей прислугой, знала, кого как звать, и кто за что отвечает. Ее новая подруга Елена очень помогала ей в этом знакомстве. Большую часть дневного времени занимала работа по дому. От тяжелого монотонного труда и плохой еды Людмила немного похудела. Осунулось ее красивое лицо, под глазами появились темные круги, вызванные плохим, но тяжелым сном. По ночам она стонала от боли. Разламывалась спина, руки и колени… Да, особенно болели колени. Их Людмила почти стерла в кровь – Капитолина заставила ее натирать руками паркет в длинных коридорах особняка.
С помощью Елены ей удалось отстирать и привести в порядок колючие и тяжелые платья Капитолины. В две руки, вечерами, девушки быстро управились с ушивкой. Накрахмалили и отбелили передники. Теперь эти платья сидели на ней как влитые, подчеркивая стройный стан и плавные изгибы безупречной фигуры. Под низ она надевала нательную рубашку с длинными рукавами и высоким воротом, чтобы колючая ткань меньше терла ее нежное тело.
Людмилу осмотрел и доктор. Правда, для осмотра он поднялся к ней в комнату и заставил ее обнажиться прямо на кровати. Кроме этого он зачем-то потрогал ей груди, помял живот, заставил открыть рот и пересчитал зубы. После он все записал в карточку. Задал ей несколько вопросов, от которых Людмила снова покраснела. Как ни странно, этот визит не вызвал в ее душе той бури негодования, которую вызвал тот, вечерний осмотр ушлой Капитолины. Может, она стала привыкать к общей бесцеремонности обращения с ней в доме графа Краевского. Может, стала принимать сие за неприятную, но необходимую процедуру. А может, оттого, что сам доктор был мелок, плешив и немолод. И потом он оперировал лишь медицинскими терминами, в отличие от тех, что к великому стыду, она услышала тогда из уст противной Капитолины.
Людмила уставала так, что у нее не было сил осмыслить свое новое положение. Порою ей казалось, что она уснула и видит какой-то больной, изнуряющий и затянувшийся сон. Что стоит только захотеть, и она скинет оковы этого бессмысленного кошмара.
Графа она видела лишь несколько раз. В присутствие супруги он вообще не смотрел в ее сторону, или делал вид, что вместо Людочки находится пустая стена или мебель. Когда рядом оказывалась Капитолина или кто-то иной из наемных работников, в его глазах сквозило презрение, либо нарочитая строгость. Людочка боялась его и терялась всякий раз, как он случайно оказывался даже на горизонте. Каким странным казалось ей воспоминание об их первом знакомстве, в стенах гимназии. Каким он помнился веселым и любезным. И как он изменился сейчас.
«Господи, эти тряпки, вонь, крики, грязный пол, жирная посуда, чудовищная усталость, от которой даже постыдный и наглый осмотр старшей горничной воспринимается не как нечто ужасное, а словно заурядная и привычная данность, данность в череде постоянных унижений – неужели это и есть моя судьба? – с горечью думала Людочка, и по ее щекам текли слезы. – Я так и состарюсь возле этого пола или чана с грязным бельем».
Однажды Краевский выглянул в коридор из своего кабинета, когда Людмила, стоя на коленях, натирала в холле мастикой ненавистный паркет. Он был одет в роскошный английский сюртук, красиво причесан, курил сигару, и от него головокружительно пахло замечательным французским одеколоном. Ей показалось, что в его лице проскользнуло выражение легкого смущения, а после и явного удовлетворения, когда он увидел преклоненный зад Людмилы. Она жутко покраснела, сдунула прядь волос с мокрого от пота лица. И застыла от мыслей об унизительности той позы, в которой застал ее граф, и от своего чуть растрепанного вида, и от ужасного, как ей казалось, форменного платья. Через несколько минут к нему в комнату зашла Капитолина.
«Наверное, он позвонил ей в колокольчик, вот она и пришла так быстро», – подумала Людмила.
Граф нарочно не стал закрывать двери, и Людмила оказалась нечаянной свидетельницей его разговора со старшей горничной.
– Капитолина Ивановна, я вас, голубушка, вот зачем позвал. Новая горничная, Людмила Петрова, поступившая к нам совсем недавно, окончила женские гимназические курсы. Именно оттуда я и пригласил ее в наш дом, – медленно, с расстановкой произнес он.
– Анатолий Александрович, я вся во внимании.
– Капитолина Ивановна, дорогая, ну что же сия мадемуазель делает у нас на коленях, в холле?
– Она натирает пол, – спокойно ответствовала Капитолина.
– Я вижу, любезная, что мадемуазель натирает пол… Именно за этим я и пригласил вас к себе, – Людмиле показалось, что в его голосе звучала неприкрытая ирония.
– А вы, сударь, что прикажете ей делать? – также нагло, не смущаясь, парировала старшая горничная.
– Ну-с, надо бы подумать, – медленно произнес он. – Разве у нас нет работы чуть легче и чище?
– Возможно, что есть… Но отчего я должна давать этой мадемуазели какие-то преференции по сравнению с другими девушками, служащими в нашем доме?
– Капитолина Ивановна, а если мы допустим такое объяснение, что ваш хозяин самолично просит вас о смягчении нагрузки для горничной Петровой?
– Ну, коли вы распоряжаетесь лично, то, как я посмею отказать вам, граф?
– Ну, вот и договорились.
Людмила почти не дышала, пока слушала весь этот неожиданный разговор. Она будто впервые проснулась от тяжкой спячки. Ее сердце радостно забилось: он просит за меня, он спасает меня от этой старой жабы – значит, я ему не безразлична. И только на секунду ее посетило странное чувство. Ей показалось, что этот разговор Краевского с Капитолиной похож на хорошо разыгранный спектакль. Но она тут же отмахнулась от этой глупой мысли.
Капитолина Ивановна исполнила просьбу графа и стала чуть меньше загружать Людмилу тяжелой работой. Но утюжка, штопка, чистка серебра, вытирание пыли осталось за ней. Еще, к огромной радости Людмилы, ей разрешили помогать садовнику. С каким наслаждением девушка снова вдыхала чистый воздух и радовалась летнему солнышку. Она вдохновенно и без устали полола клумбы от сорняков, трогая руками лепестки благоухающих цветов. Ей хотелось, чтобы и садовник и сама Капитолина были довольны ее работой. Душные коридоры, влажная портомойня с вечным запахом щелока и человеческого пота, раскаленные утюги и весь хозяйственный флигель казались адом, по сравнению с тем счастьем, которое ощущало ее сердце в саду. Надобно сказать, что в сад она выходила лишь рано утром, когда графиня и ее дочки спали или завтракали. Ей все также запрещалось показываться на глаза хозяйке. Да она и не стремилась к этому.
Однажды рано утром, когда она шла поливать и полоть клумбы, распахнулось окно на первом этаже. Оттуда пошел дым сигары. Граф отодвинул рукой шелковую портьеру и ласково улыбнулся Людмиле. Она вся зарделась от счастья. Его глаза выражали нечто большее, чем простую симпатию. А может, ей это помстилось?
Семья Краевских готовилась к переезду в фамильное имение. Перед самым отъездом Капитолина разделила всех работников. Большая их часть поехала вместе с семьей графа, в деревню. В городе осталась Людмила, хромая Елена, рыжая Нина и трое мужчин – дворник, кухонный рабочий и посыльный.
– На тебе остается прополка всех клумб. Поливать будете с дворником. Смотри, чтобы он не залил фиалки и другие цветы. И не пересушите… Садовник едет с нами. В деревне ему работы – непочатый край. А тебя раз приладили к цветам, так ходи за ними пока…
– Хорошо, мадам, – радостно отозвалась Людмила.
– Чего ты радуешься, дурочка?
– Да так… просто… Цветы очень люблю. Особенно – фиалки.
– Что, давно полы не терла и сажу не возила? Учти, слушайся теперь Нину. Она здесь за старшую остается. Что поручит, то и исполняй. Работы вам хватит. Там еще, в июле, побелка будет на втором этаже, в детской, грязь потом отмоете. Приедем мы только в октябре. В то время хозяйка рожать должна…Рожает она обычно в городе. Николай Степанович будет у вас наездами. Ну, все… И смотри у меня!
Длинным обозом, навьюченным важами, коробками и узлами, семейство Краевских двинулось в путь. Оставшаяся прислуга высыпала на улицу провожать. Все долго махали платочками, пока кареты не скрылись из виду. Людмиле отчего-то стало немножечко грустно: она не увидит Анатолия Александровича больше четырех месяцев.
Но вышло все иначе, чем думала Людмила.
* * *
Июньским теплым вечером, в фамильном имении Краевских, когда графиня сидела в своей комнате и что-то вязала, а горничная читала вслух Библию, к ней стремительно зашел супруг Анатоль. Между графиней и графом состоялся следующий разговор:
– Ma chère, я вовсе не хотел тебя расстраивать, но… мне придется на время покинуть вас.
– Что случилось? – Руфина отложила вязание. Её маленькие, подслеповатые глаза уставились на мужа.
– Представляешь, от помощника губернского предводителя мне прислали письмо с нарочным, – молвил Краевский расстроенным голосом.
– Но я не слышала лошадей. Когда?
– Я взял письмо и уже отпустил его.
– Что за письмо? Покажите…
– Да, это было собственно не письмо, а записка. Она осталась там, на столе. Сейчас я тебе ее покажу.
Краевский сделал решительный шаг по направлению к двери, но остановился.
– Мой бог, Руфочка, я ведь её нечаянно сжег… Бросил сдуру в камин. Я тут разбирал свои бумаги, жег старые, – пояснил Анатоль, глядя на супругу невинным взором. – Я шляпа. Я и записку сжег вместе со всем ворохом… Вот черт!
– Не чертыхайтесь, безбожник. Вы опять мне лжете!
– Руфина, послушай себя сама. Послушай со стороны. Ну, что ты говоришь? Как я, отец семейства, могу лгать тебе и своим детям? – серые глаза Краевского увлажнились. – Мне невыносимо обидно. Обидно, что за подобный пустяк ты подвергаешь меня неверию и подозреваешь… В чем? В гнуснейшем пороке – во лжи!
Графиня молчала, плотно сжав губы. Правую сторону её щеки охватил нервный тик.
– Ты же обещал быть с нами все лето…
– Обещал, конечно, обещал. Я мечтал об этом, поверь. Но так сложились обстоятельства. Я должен подготовить документы к открытию сиротского приюта. Сроки поджимают, Руфина. Надо набрать попечительский совет, рассмотреть кандидатуры педагогов. Там планируют открыть ремесленное училище, при приюте. И на всё про всё у нас лишь три месяца.
В этот вечер Краевский еще долго уговаривал свою супругу. Он, как всегда, объяснялся убедительно и красноречиво. Она в ответ плакала, укоряла его в неверности. Он уверял ее в обратном. Молил о пощаде. Приводил в доказательство важные аргументы, называл всем известные дворянские фамилии. И даже рассказал пару сплетен из кулуаров Земского собрания. Сделав пояснение, что может лишиться карьеры и общественной должности, если не выполнит свой служебный и государственный долг.
– Так что, дорогая моя Руфина, сейчас без почетного положения в обществе даже с деньгами можно остаться за «бортом». А при этом ни одно, уважающее себя семейство, более не пригласит нас к себе в дом. Быть богатым парвеню[8] модно, но не почетно. Связи, дорогая моя, почетные обязанности члена Губернской земской управы и, конечно, титул – делают из меня того гражданина и мужа, каким ты нынче можешь гордиться. И дай бог, чтобы и наши дети точно так, как и ты, могли еще долго гордиться своим отцом! А для этого, дорогая, надо работать. Работать, не покладая рук! – этой важной тирадой он разразился в довершении всей хитроумной басни. И даже сам поразился тому, насколько ему удалось выглядеть убедительным. Он посмотрел на свое отражение в зеркале, висевшем в комнате супруги, погладил модную бородку и остался вполне доволен собой.
Наутро экипаж уже вез его в город.
Надо ли говорить о том, что никаких записок от помощника губернского предводителя Краевский в тот день не получал. Да, он состоял на службе, но служба эта имела такой необременительный характер, что лучше и выдумать невозможно, если у тебя есть состояние, и ты не нуждаешься в деньгах. Службу Краевский посещал крайне редко. Его, словно свадебного генерала, посылали в основном на торжественные мероприятия, выпускные экзамены, губернские совещания и не более. В любую минуту он мог отказаться и от этой нагрузки.
Мог, но не хотел. Служба в отделе образования Губернской земской управы служила для него тем прикрытием, которым он пользовался регулярно для обмана своей нелюбимой супруги.
Куда же так спешил господин Краевский? Куда он бежал от собственного семейства? О, цель побега сводила его с ума все последние недели. Она не давала ему покоя ни жарким днем, ни маятными июньскими ночами. Мерзавцы-соловьи довершали сие жуткое безобразие, внося в душу смятение и неубывающую тоску. Эту тоску он не мог умалить ни вином, ни карточной игрой, ни чтением книг. Его сердце разрывалось от… любви.
Он увидел ЕЁ впервые на выпускном экзамене, в гимназии. Краевский скучающим взором рассматривал поток зрелых и не очень выпускниц. Несколько гимназисток были вполне недурны собой, а в остальном это были обычные серые мышки, на статях и ликах которых, не мог зацепиться его скучающий и капризный взор.
И вдруг вошла ОНА! Её звали Людочкой Петровой. Да, вот так просто и незатейливо – Людмилой Петровой. О, боги! Про себя он сразу окрестил ее Милочкой. Он почти не слушал, на какой вопрос отвечала эта потрясающе красивая девушка. Ее нежное лицо, пленительная улыбка небольших полных губ, блеск жемчужных зубов, карие глаза со стрелами длинных ресниц, тонкая шейка, высокая грудь, осиная талия и движения – легкие движения, похожие на движения грациозной лани. О, как волнительно она смущалась, как алели ее матовые щечки… Ему казалось, что он где-то ее уже встречал. Казалось, что он был с ней знаком. Казалось, что знает ее уйму времени. Но где? Откуда? Он совершенно не мог этого вспомнить. Он, словно бы узнал ее, но память отказывалась подсказать детали и обстоятельства их прежней встречи.
«Может, я видел ее во сне? Как сказал поэт, как мимолетное видение? Бог мой, что со мной?» – пытался рассуждать Краевский.
Увидев ее, он потерял всякий покой. Он уехал из дома в трактир и пригласил к себе в номер сначала одну даму вольного поведения, потом сразу двух. Он хотел избавиться от жестокого наваждения. Но все было напрасно. Своим бурным темпераментом и склонностью к плотским изыскам он измучил вконец всех трех дам, но так и не насытил ни свою извращенную плоть, ни пытливый и страждущий дух. Ему была нужна ОНА.
Потом он долго курил и думал о том, как заполучить себе в любовницы именно Людочку. Да, мог ли он сделать это? Разыскать ее в отеческом доме, объясниться и дать ей содержание? Нет, подобные действия бы привели к ужасному скандалу. Девушка была юна и невинна. Ей надо было выходить замуж. Он мог быть жестоко разоблачен. Но что было делать? Эта мысль не давала Краевскому ни малейшего покоя. Он снова и снова пил вино, курил сигару за сигарой и много мечтал о ней. Его бурное воображение, обогащенное свободной философией и литературой в стиле Рабле, Бальзака и Мопассана, а также взбудораженное скандальными и запрещенными романами Маркиза де Сада, подкидывало ему невыносимые по своему накалу и совсем непристойные картины. Он сам не знал, чего ему хотелось более – защищать и лелеять это нежное создание или жестоко развратить её…
Ни одна женщина доселе не вызывала в нем такую неистовую бурю похоти и вместе с тем трепетной, почти отеческой нежности. Он хотел мучить ее и ласкать, ласкать и мучить. Владеть ею полностью и без остатка. И любить… любить… Любовь заполнила собою все пространство. Весь его мир.
Когда он вернулся из трактира, то был практически болен. Супруга, находящаяся в положении, прогнала его из своей спальни, дабы он не заразил ее непонятной инфлюэнцей. Был вызван доктор, который, к слову сказать, выписал Анатолю лишь успокоительное и уехал. Но Анатоля не могли успокоить ни гофманские капли, ни валериана. Он раздумывал о том, как увидеться с этой юной цирцеей, навсегда покорившей его сердце.
Он не придумал ничего лучше, как отправиться туда, где он впервые ее увидел. Да, он поехал на аудиенцию к директрисе этой гимназии, в которой вовсю шли летние вакации. Как ему показалось, Мария Германовна была чуточку удивлена его неожиданным визитом, но все же с удовольствием приняла его в своем кабинете. Меж пространными разговорами о воспитательном и учебном процессе, вопросах об прошедших экзаменах и нуждах гимназии, Анатолий Александрович аккуратно выведал и то, что его Людочка небогата, а вернее, совсем бедна, и проживает с одной лишь матушкой. Он щедро расхваливал директрису, сумевшую воспитать таких славных выпускниц… И вдруг в его голову пришла совершенно простая и гениальная, на первый взгляд, идея – предложить девушке работу в собственном доме.
Когда все было слажено простым и необременительным способом, его радости не было предела. Неужели он смог так ловко обвести всех вокруг пальца и завлечь ее в собственное логово? Он даже дрожал от осознания того, что птичка так легко впорхнула в расставленные сети. Его радость омрачала лишь ревность несносной Руфины. Как сможет он объяснить ей столь наглый и странный поступок? Привести в дом в качестве горничной такую немыслимую красавицу. Он решил: будь что будет, а там поглядим. Мне нужны твердость и спокойствие, иначе меня разоблачат.
«До поры до времени мне нельзя никаким намеком, никаким действием выдать свои истинные цели. Только строгость и ничего более. Никаких предпочтений…»
Он вызвал к себе старшую горничную Капитолину Ивановну и решительным тоном приказал ей загрузить новую горничную таким количеством работы, чтобы она падала от усталости.
– Никаких поблажек! – произносил Анатоль с плохо скрываемым сладострастием в голосе.
Капитолина понимала его с полуслова…
Супруга тоже зорко следила за тем, как загружена ненавистная ей девица, которую ее ветреный супруг осмелился привезти в дом без её личного на то согласия. Обычно Руфина сама занималась подбором прислуги. За исключением двух старых горничных, Капитолины и Марии, проживающих в имении давно и постоянно, молодые особы ротировались довольно часто. И каждая, вновь прибывшая горничная, могла посоревноваться с предыдущей в своей немиловидности или откровенном уродстве.
Анатоль иногда подсматривал за Людочкой, холодея от жуткого вожделения. Он видел, что девушка измучена непривычным объемом тяжелой и непосильной для нее работы. Он видел, как прямо на глазах она бледнела и худела. Эти метаморфозы вызывали в нем острые приступы жалости и… странное желание сделать ей еще больнее, увидеть ее полное унижение. А когда он узнал о том, что ее, как и всех, подвергли унизительному осмотру, он долго онанировал, не в силах сдержать в себе пароксизма похоти, завладевшего его душой.
И вот он ехал к ней… Ему самому не верилось, что он, наконец, сумел вырваться из назойливого и душного «протектората» супруги.
Анатоль раздумывал над тем, как впервые возьмет ее за руку, как сожмет до хруста тонкий стан, как поцелует ее чистые и влажные губы… как. О, далее он думать не мог.
Когда карета подкатила к дому, стояло ранее утро. Он встретил ее на дорожке сада. Она шла неспешной походкой и напевала про себя какую-то незамысловатую песенку. Людмила казалась сонной и, верно, еще теплой от недавнего сна. Свежее утро не до конца выветрило сладкую негу в ее мягких движениях и затуманенном взоре. Тонкие пальчики сжимали пустую корзину.
Анатоль вышел на дорожку.
– Доброе утро, Мила!
Она вскрикнула от неожиданности и выронила корзинку. Граф подошел вплотную. Он поднял корзину и протянул ей.
– Не бойся меня, милая… Мила…
Она растерянно смотрела на его красивое лицо и на глазах заливалась румянцем.
– Анатолий Александрович, вы… как здесь оказались?
– Я приехал к тебе…
– Но как?
– А вот так…
Он решительно притянул ее к себе, сильно сжал в объятиях и впился губами в полураскрытый рот. Какое это было блаженство! Когда он отстранился, чтобы глотнуть воздуха, то увидел, что Людочка неестественно бледна, а карие её глазищи закрыты. Она вся обмякла, пошатнулась и свалилась в обморок. Он едва успел подхватить ее на руки. Озираясь по сторонам, Анатоль понес ее по аллее, к главному входу.
«В случае чего, скажу, что горничной стало плохо, – мелькнуло в его голове. – Черт! Почему я вообще кому-то что-то должен объяснять?»
Промелькнули две аллеи, клумба с фонтаном. И вот, наконец, центральный вход.
«Слава богу, никого», – с облегчением констатировал он.
Анатоль вбежал на центральную лестницу и понес ее к своему кабинету. К счастью, почти весь дом еще спал. Эту сцену наблюдал лишь невидимый из-за кустов дворник Степан. Он усмехнулся про себя: «Вон оно как… Ну, оно дело молодое. На то они и господа. А только я буду помалкивать от греха подальше».
Граф даже не заметил тяжести ее стройного тела. Он положил девушку на широкий и мягкий диван. Одеревеневшие от волнения пальцы путались в плотной застежке ее лифа.
«Господи, ну кто пришил столько пуговиц? – с досадой думал он, зацепившись ногтем за крючок. – Это не платье, а колючий панцирь. Как она его только носит?»
И вот, наконец, были расстегнуты все пуговицы, развязаны тесемки нижней сорочки. Он широко, почти до живота распахнул ее ворот.
«Она даже не носит корсет, – между делом подметил он. – Её стан так тонок… Господи, а кожа…»
Заголились матовые плечи и начало нежных полушарий двух очень плотных, по-девичьи тугих грудей. Он схватил графин с чистой водой и, намочив батистовый платок, приложил его к бледному лбу Людмилы. Плюхнулся рядом и жадными глотками выпил остаток воды. Она открыла глаза.
– Анатолий Александрович, простите, я упала, кажется. Что со мной? Где я?
Затуманенный взор с каждой секундой становился все осмысленней. Она подняла голову, взгляд карих глаз пробежал по стене кабинета, скользнул по бархату тяжелой портьеры. Она приподнялась.
– Анатолий Александрович, что это? Мне нельзя… Мне нельзя здесь находиться. Меня накажет Капитолина Ивановна. Это же ваши покои? А где Руфина Леопольдовна? – Она вздрогнула, правая рука коснулась свободной от воротника шеи, опустилась ниже. – О, боже! Я не одета. Что со мной? – внезапно нахлынувшая слабость снова накрыла ее пеленой обморока.
– Господи, Мила! Ну что ты! Успокойся, здесь никого нет, кроме меня! – он тряс ее за плечи.
Опустился на колени и принялся целовать ее руки, запястья. Они пахли травой и чем-то неуловимо-нежным. Почти девчоночьим. Так пахли ручки его маленьких дочерей. Анатоль поднялся с колен и присел рядом. Он наклонился к ее груди – горячие, томные поцелуи коснулись упругой кожи. Она вздрогнула. Губы захватили нежный сосок. Он тут же почувствовал, как эта расслабленная, чуть солоноватая припухлость сначала уплотнилась, а после почти одеревенела от его касания. Сосок выпрямился и стал очень твердым. Она застонала.
– Не бойся, здесь никого нет! – горячечно шептал он, наклоняясь к её маленьким ушам и щекоча усами. – Мы совсем одни… Никто не придет. Никто не помешает. Очнись, любимая… Девочка моя, моя маленькая, нежная девочка. Господи, я негодяй… Как тебя здесь измучили…
Она снова очнулась. Распахнутые глазищи уставились на его темную, склоненную к груди голову.
– Анатолий Александрович, что вы делаете?! – вдруг возмущенно зашептала она. – Зачем вы меня там трогаете?
– Наконец-то ты очнулась. Как ты меня напугала своим обмороком.
Он отпрянул от её груди и выпрямился.
– Ты полежи. Сейчас я прикажу принести чаю, пирожных, икры. Или мадеры? Что ты хочешь? Скажи! Ты вся исхудала…
– Анатолий Александрович, мне нельзя у вас кушать. Мне нельзя здесь быть. Отпустите меня, пожалуйста, – также тихо, но горячо и убедительно прошептала она. – Меня убьют…
– Не говори глупостей. Пока я здесь хозяин, и тебя никто не тронет. Слышишь? Ты слышишь меня?
– Но Руфина Леопольдовна, ваша жена, она…
– Не говори о ней сейчас. Её здесь нет… Она далеко, в деревне. Её здесь долго не будет. Мы здесь одни… Одни… Руфина никогда не ездит сюда без меня. Никогда! Её не будет до самой осени. И слуги и она – все там, в деревне. До осени!
– Но как же? В доме есть другие… Горничные, дворник и…
– Я улажу этот вопрос. Успокойся, милая.
– Можно, я пойду? – она снова села. – Мне надо две клумбы полить и траву прополоть.
– Оставь в покое свои клумбы, – уже решительнее произнес он. – Ты никуда не пойдешь. Слышишь? Я приказываю тебе оставаться здесь. Вот если ты не будешь меня слушаться, тогда я тебя накажу…
Ее лицо скривилась в жалкой гримасе. Она шмыгнула носом и вдруг совершенно неожиданно расплакалась.
– О боже, мадемуазель, вы еще совсем ребенок.
Он вдруг осознал всю степень неискушенности этой семнадцатилетней девушки.
«Болван, что я хотел от вчерашней гимназистки? В ней нет и тени женского кокетства или лукавого притворства. Она вся, словно чистый лист бумаги. Глупенькая и наивная девочка. Но, черт побери, от этого я хочу ее еще сильнее…»
Его частые адюльтеры были столь разнообразны, что он вполне мог называть себя знатоком не только женских прелестей, знатоком и избалованным гурманом, но и исследователем женских душ, характеров и типажей. Довольно часто он обращался к услугам проституток. Старался сходиться лишь с молодыми и здоровыми особами из дорогих публичных домов. Он неоднократно имел отношения и с более юными жрицами любви – моложе Людочки… Но даже у совсем нежных представительниц этого племени он читал в лице женское кокетство, наигранную томность взгляда, а иногда и откровенный расчет. Возможно, что души тех девушек, испорченных средой, в которой они обитали, и не могли быть иными… Сейчас же перед ним сидела совсем иная женщина. Иной душевной организации. По сравнению с ними, она была ангельски чиста и наивна.
Людмила плакала так горько и безутешно, всхлипывая протяжно и жалобно, что он не знал, как и чем её успокоить. Он только гладил ее по голове, повторяя: «Глупая, я же тебя люблю…» Плач прекратился столь же внезапно, как и начался – словно нежданный летний дождь оросил зеленый луг и укатился дальше, в темный лес.
– Итак, я на правах господина повелеваю тебе оставаться сегодня здесь.
– Это совершенно невозможно. Меня потеряют. Там Елена, Нина, дворник и другие… Что они скажут?
– А что они скажут, нас не должно теперь волновать. Если я захочу, то завтра же рассчитаю всех и прогоню с глаз долой.
– Нет, не надо. Леночка очень хорошая и добрая. Ей надо помогать семье…
– Успокойся, Леночку я не стану прогонять. А ты, оказывается, у нас и филантропка… Впрочем, чему я удивляюсь, – усмехнулся он. – Да я вообще никого не собираюсь прогонять, – убедительно произнес он. – Я лишь закрою всем им рты.
– Но как?
– Для горничной ты слишком любопытна.
Она отодвинулась и густо покраснела. Ладошки обхватили русую голову. Людмила покачалась из стороны в сторону и озабоченно закусила нижнюю губу. Потом, будто спохватившись, она дотронулась до распахнутого ворота. Ойкнула и принялась лихорадочно застегивать пуговицы.
– Не спеши…
– Нет, я ухожу. Простите меня, Анатолий Александрович, но.
Он не стал ее слушать. Он навалился всем телом и снова принялся ее целовать. Целовал ее щеки, глаза, шею. Снова добрался до губ.
– Боже, какая ты вкусная… Только не убегай. Я умоляю… Я умру без тебя.
– Но, вы же женаты… – горячо шептала она, чуть отстраняясь от его рук и губ.
– А что мне делать, если я влюблен в тебя безумно? – также шепотом оправдывался он. – Я полюбил тебя с первого мгновения, когда ты читала Лермонтова.
– Я читала Пушкина, отрывок из «Евгения Онегина».
– Вот, я как Онегин, влюблен в тебя…
Она слабо сопротивлялась его поцелуям. В голове был туман. Никто и никогда еще в этой жизни не касался ее губ, шеи, груди. Ни одного мужчину она не видела столь близко. Ей было горячо и страшно от его поцелуев, но вместе с тем томительно хорошо… Внутри нее, в самом низу живота, рос какой-то огненный шар, заставляющий слабеть и закрывать глаза. Он ласкал языком ее губы, перехватывал дыхание. Сильные руки сжимали тугие груди.
– Какие они у тебя… Большие…
– Анатолий Александрович, не надо…
– Молчи… Ты моя.
Ему пришлось на время разжать объятия.
– Сейчас я принесу нам завтрак. Что-нибудь поесть и выпить. А ты… Ты сиди здесь и не смей никуда уходить. Я скоро вернусь. Сиди тихо, как мышь. Чтобы ты не убежала, я закрою тебя на ключ. Не скучай. Почитай что-нибудь из моей библиотеки.
Она привстала и проводила его долгим взглядом, пока он не скрылся за дверью.
«Господи, что же мне теперь делать? Надо бы посоветоваться с Еленой. Но как? Он запер меня. Что теперь будет? Но как он красив… И как вкусно от него пахнет. Этот аромат сводит меня с ума. Боже, неужели я тоже его люблю?»
Людмила еще долго разговаривала сама с собой, несвязанно шепча какие-то монологи. Ходила по кабинету. Руки нервно теребили косу. Подходила к высокой двери, пыталась ее толкать. Но тщетно… Она подошла к окну и тихонечко отодвинула портьеру. Она увидела, как Анатолий Александрович быстрыми шагами шел мимо клумб, по направлению к выходу, в сторону улицы. Его высокая фигура мелькнула за зеленью деревьев и пропала…
«Я пропала… – лихорадочно думала она. – Куда он поехал? Вдруг он вернется с супругой? Как мне сбежать отсюда? Может, в окно? Нет, здесь высоко – я могу зацепиться платьем. И вдруг меня увидят. Нет, будь что будет, но я дождусь графа и объяснюсь с ним. Я не должна…»
Оставим нашу юную героиню наедине с ее душевными терзаниями. Поверьте, это были лишь первые, по-настоящему серьезные рассуждения Людмилы, но, увы, далеко не последние. Оставим Людочку и проследим за графом Краевским.
Покинув кабинет, граф направился прямиком к кухне. Там он увидел рыжеволосую, тучную Нину, которая варила какую-то кашу на плите. Та от удивления уронила половник.
– Анатолий Александрович, вы вернулись? А Руфина Леопольдовна?
– Нет, я здесь один, по делам, – сухо произнес он и вышел.
Краевский понял, что прислуга была не готова к появлению господ, и глупо было бы ждать приготовления хорошего завтрака, а равно и обеда. Он взял извозчика и поехал в ресторан своего старого знакомого, купца, дослужившегося до дворянского титула, Ерофея Козлова. Он заказал у Козлова приличный завтрак, взял две бутылки темной мадеры, фруктов. Щедро расплатился, уловив понимающий и поощрительный взгляд владельца ресторана, который взялся обслужить графа лично. Анатоль немного подумал и распорядился привезти ему к пяти часам и обед на две персоны. По дороге Краевский заехал в цветочный салон и купил роскошный букет белых роз.
«Надо бы купить ей новое платье, ее форменное похоже на панцирь, – вознамерился он. – Ладно, чуть позже. Она, бедняжка, наверное, заждалась меня. А уж, как соскучился я. Я не могу без нее ни минуты. Похоже, я сошел с ума».
Щелкнул замок, дверь отворилась. Он вошел в кабинет. Она сидела на краешке дивана. Её платье снова было застёгнуто на все пуговицы. Перед ней лежала раскрытая книга. Он узнал ее по обложке. Это было редкое, лондонское издание «Золотого осла» Апулея. Расширенными глазами она рассматривала в нем картинки.
– Отличный выбор, – рассмеялся граф. – Как быстро ты находишь нужные книги. Если хочешь, я потом тебе переведу отрывки. Или дам перевод Кострова. Об Апулее писал твой любимый Пушкин. Ты разве не помнишь?
– Помню, кажется… – она решительно захлопнула книгу. – Похоже, здесь много непристойностей.
– Милая, да без непристойностей наша жизнь была бы скучна и пуста, как каша без масла и соли, как обед без хорошего вина. Ты еще очень неопытна. Я только мечтаю открыть в тебе чувственность. Потому, что полюбил тебя. – Краевский подошел к книжному стеллажу и провел рукой по корешкам роскошных фолиантов. Он гордился своим собранием книг и считал себя начитанным и довольно образованным человеком. – Ты знаешь, чуть позже я покажу тебе другие интересные книги и картинки. Они у меня лежат не здесь, они в сейфе. Это – рисунки для взрослых. Ты ведь уже взрослая девушка?
– Я взрослая и потому, Ваше Сиятельство, Анатолий Александрович, именно свое пребывание здесь, я нахожу непристойным, – она решительно направилась к двери.
– Если ты уйдешь, я тут же рассчитаю тебя. И потом, я не дам тебе рекомендации, – он глянул на нее исподлобья.
– Как вам будет угодно, граф, – вспыхнула Людмила.
– Господи, что я несу… – он снова упал на колени и обхватил ее ноги. – Прости меня, Мила, от любви помутился мой разум. Я несу, что ни попадя. Я не то хотел сказать. Не это главное. Ты можешь уйти в любую минуту, ибо не раба ты мне и не крепостная. Но знай, что ты разобьешь мне сердце. И я умру от тоски. Или застрелюсь. Я обещаю, что непременно застрелюсь. Ибо, жизнь без тебя, подобна муке…
Он понимал, что то, что он сейчас говорил, выглядело слишком очевидным и глупым шантажом, тем шантажом, на который бы не повелась ни одна более или менее опытная дама. Ни одна, кроме наивной Людочки. Он успел изучить ее мягкий характер, а потому плел эту несусветную и наглую околесицу, в которой сам себе казался искренним и органичным. Да он и чувствовал так! А потому верил сам и заставлял поверить её. В его серых глазах мелькнули слезы.
– Но, Анатолий Александрович, вы же женаты, – в какой раз твердила она очевидное.
– Я женат. Увы. И женитьба моя состоялась не по моей воле. Я не люблю свою жену. Ты не можешь этого не чувствовать. Любить эту женщину… Это, это… даже смешно, – он закусил кулак и зло рассмеялся.
– О, не говорите так. Это нехорошо. У вас же дети…
– Мила, пожалей меня. Будь снисходительна. Я умоляю. Жизнь наша так коротка, чтобы пренебрегать священным даром, называемым любовью.
Она остановилась. Её душой овладело сильное смятение.
«А может, он прав? Если я уйду, то кому из нас станет хуже. Я ведь тоже… теперь не смогу без него».
– А она, ваша жена и Капитолина Ивановна, и все они, они точно о нас не узнают?
– Ни одна душа…
Она вернулась и села на край дивана.
– Господи, Мила, я же принес нам завтрак. И цветы…
Он открыл красивые коробки с вкусно пахнущей едой и достал из шуршащей упаковки роскошный букет белых роз.
– Это мне? – не веря своим глазам, произнесла Людмила.
– Конечно тебе, любимая!
Как и все женщины, Людочка уткнула свой маленький носик в середину букета и закрыла глаза.
– Они тебе нравятся?
– Очень… Я обожаю цветы.
– Я буду тебе их дарить каждый день, – вдохновенно обещал он.
Да, граф умел ухаживать за женщинами. Он был известный виртуоз в деле соблазнения женских душ. И потому, такая юная, мечтательная и наивная особа, какой была Людочка, не могла не очароваться этим опытным ловеласом. После цветов Людмила уже и не помышляла о бегстве. О чем она думала? Да, ни о чем. Она жила счастьем, которое ей принесла внезапная и пылкая любовь графа. И пила это счастье большими и жадными глотками.
Сначала они завтракали. Краевский сам заварил турецкий кофе и разлил его по фарфоровым чашечкам. Он сам намазал свежайшее вологодское масло и черную икру на белые и хрустящие ломтики французского батона. Разложил на тарелке тонкие лепестки Пармской ветчины и швейцарского сыра, крупные яйца. От запахов еды у Людочки вновь закружилась голова. Он подносил все эти деликатесы к её рту, она, смущаясь, кусала. О, как давно, она не ела чего-то вкусного. Чуть позже, словно фокусник, он достал бонбоньерку с шоколадными конфетами и коробочку фисташковых пирожных.
– А мороженое ты любишь?
– Очень…
– Я буду тебе его покупать. И фрукты, ешь фрукты… Смотри, какие свежие персики. Они заморские… Их привезли на пароходе из страны… Ах, впрочем, я забыл узнать у ресторатора из какой страны эти персики, инжир и виноград, – рассмеялся он, сверкнув белыми, влажными зубами.
– Анатолий Александрович, можно я просто посижу? Я… я не могу пока глотать. Мне много. Я плохо ела эти дни, а теперь… словом, я не могу более.
– Но, ты же ничего не съела… Господи, тебя здесь плохо кормили?
– Я привыкла.
Он сжал ее талию. И снова поцеловал в губы.
– Тогда мы выпьем мадеры. А вечером я принесу свой коллекционный коньяк.
Он подал ей бокал темной «кроновской» мадеры, напоенной ароматом моря и виноградной лозы.
– Мила, испей этого вина. Его называют «дважды рожденным солнцем». Оно доставлено с далекого и лесистого острова Мадейра, омываемого холодным водами Атлантического океана. Там очень солнечно и тепло. И там растет волшебная лоза, из которой получается этот божественный напиток, – говорил он проникновенным голосом, а ей казалось, что он рассказывает какую-то сказку.
Она сделала несколько глотков. Вино показалось терпким и вкусным.
– Пей еще, моя любовь, – говорил он, глядя на нее внимательным и зорким взором.
Его волновала ее реакция на вкус, мельчайшие полутона мыслей и чувств, которые она не умела скрыть. Спустя короткое время взор карих глаз стал бессмысленным. Она внезапно опьянела и смущенно улыбалась, глядя на него. Теперь ее взгляд стал смелее. Она снова захотела встать, чтобы посмотреть его книги, но отчего-то неловко рассмеялась. Её повело в сторону. Русая голова уткнулась в турецкую подушку, лежащую у подлокотника плюшевого дивана. Когда он приблизился к ней, она уже крепко спала…
– Поспи, моя любовь. Поспи. Тебе надо чуточку отдохнуть.
Он снял с нее поношенные туфельки, стараясь не смотреть на бежевые шелковые чулки. Они были заштопаны. А после он приподнял ее ноги и положил на диван. Легкое покрывало легло сверху.
«Надо все это немедленно заменить. И платье, и чулки… все…», – наш Анатоль был тонким эстетом.
Пока Людмила, очарованная каплями Бахуса и околдованная чарами Морфея, погрузилась в глубокий молодой сон, наш Дон Жуан решил уладить кое-какие мелочи. Он снова запер свой кабинет и спустился в хозяйственный флигель. Сначала он распорядился нагреть огромный котел, и приготовить в одной из гостевых спален ванну, и перестелить свежее белье…
* * *
Нельзя сказать, чтобы Елена и Нина не хватились новой горничной. Ее исчезновение было столь внезапным, что вся служащая братия не на шутку разволновалась уже к обеду. Больше других переживала Елена. Спокойным выглядел лишь дворник Степан.
– Может, она сбежала к матери или с ней что-то случилось? Надо послать записку городовому, – предположила Нина.
– Успокойтесь, бабы, – молвил чернявый Степан. – Не нужен городовой. В доме она.
– Как так в доме? – почти хором произнесли удивленные женщины.
– А так… И все… Более не скажу ничего…
Над столом нависла немая пауза.
К счастью, ближе к вечеру, Анатолий Александрович созвал всех слуг в хозяйственном флигеле. И выдал им следующее:
– Достаточно ли я вам плачу, господа? – строго начал он.
– Да… – раздался нестройный хор голосов.
– Нынче я заплачу вам чуть более ваших обычных жалований. Это будут премиальные за ваше трудолюбие и… молчание. С Людмилой все в порядке. Вы поняли меня?
– Да…
– Если хоть один из вас задаст глупый вопрос или пошутит, или сболтнет сдуру чего лишнего, я не только вас всех прогоню без единой копейки расчета. Я вас со свету сживу… Вы поняли? – он мило улыбнулся.
– Да.
С этих пор имя Людмилы не упоминалось вслух. Все делали вид, будто ее никогда и не было в этом доме.
* * *
Пока Людочка спала, граф перенес ее в гостевую спальню, расположенную почти напротив его кабинета. Людмила проснулась, когда за окном проступили легкие сумерки, а в саду запел соловей.
Сонный взгляд с удивлением обнаружил тканевую драпировку вишневого оттенка. Рука потянулась к ней. Пальцы аккуратно отодвинули тяжелую складку, ниспадающую на пол. Недалеко от нее, в широком кресле, сидел граф. Его красивая голова была запрокинута. Анатолий Александрович дремал, сидя в кресле.
«Где я? Это не его кабинет… Боже, он перенес меня в спальню. Неужели это спальня Руфины?» – тревожные мысли одна за другой пронеслись в ее голове, заставив сердце биться сильнее.
Она соскочила с мягкой кровати. Это была довольно широкая, арабская кровать, над которой, подобно восточному шатру, высился высокий вишневый балдахин. Здесь пахло какими-то благовониями, цветами и одеколоном Анатолия Александровича.
Он вздрогнул и тоже проснулся.
– Мила, ты проспала почти весь день, – со смехом попенял ей он. – Что ты будешь делать ночью? А впрочем, ночью нам есть, чем заняться…
Он так разволновался от собственных слов, что его рука потянулась к столику за коробкой английских сигар. Он нервно раскурил сигару, пламя спички осветило его внимательные глаза и загорелое лицо. Только тут Людмила заметила, что его густая шевелюра была зачесана назад, а волосы казались влажными. Вместо модного сюртука, широкие плечи охватывал мужской бархатный халат с отложным, отстроченным воротом. Через широкий вырез виднелись темные волосы. Людмила покраснела…
– Анатолий Александрович, как я здесь оказалась?
– Я перенес тебя спящую.
– Это спальня Руфины Леопольдовны?
– Вот еще! – фыркнул он. – В моем доме полно гостевых комнат. Как ты могла подумать? И давай договоримся: когда мы вдвоем, ты не станешь более упоминать имя… моей супруги. Хорошо?
Она в ответ молчала.
– Ну?
– Хорошо…
– А теперь, нам надо тебя помыть и переодеть.
Людмила вспыхнула.
– Мила, пойми, я люблю тебя, и ты не должна стесняться таких элементарных вещей. Пока ты спала, я приготовил ванну. Она находится здесь, прямо в спальне, в боковом будуаре. Здесь же есть и нужник. В этой комнате ты будешь пока жить. А далее… далее я что-нибудь придумаю. Я подожду тебя здесь. Приведи себя в порядок. Спешить не стоит. У нас впереди много времени. Правда, я пока не купил тебе новую одежду… Но я куплю ее на днях. А пока переоденься в одну из моих батистовых рубашек и шелковый халат. Все, что было на тебе – это колючее платье, передник, туфли, чулки – сними это. Я завтра же все это сожгу.
– Как же, сожжете… А я еще не рассчиталась с Капитолиной за это платье.
– Успокойся, любимая. Ты не станешь более нуждаться в деньгах. Я стану тебя содержать. У тебя будет много дорогих платьев и другой красивой одежды, – он взволнованно ходил по комнате и курил сигару. Иногда он останавливался, закладывал руки за спину и продолжал свой монолог: – Пока ты поживешь здесь, до начала осени. А после я сниму тебе квартиру. Повторюсь: ты ни в чем не будешь нуждаться…
Он потянул ее за руку и распахнул небольшую дубовую дверь. Перед глазами Людмилы оказалась комната поменьше с полукруглым стрельчатым окошком. Стены комнаты были оклеены розовой тканью, расшитой огромными лилиями и золотистыми стрекозами. Ровные стены поддерживались полированными опорами, инкрустированными тонкой резьбой. Потолок тоже казался деревянным и блестящим. Посередине комнаты стояла огромная медная ванна, полная теплой воды. Напротив висело овальное зеркало во весь рост. Его бронзовая оправа темнела выпуклыми женскими головками. Тут же располагался пузатый черный комод со стопкой полотенец и двумя кувшинами. Мягкий пуфик подпирал тонкие шелковые занавески, закрывающие высокое окно. Далее шла китайская ширма – Людмила догадалась, что за ней стоит фаянсовый нужник. Она разглядывала всю эту роскошь и не верила своим глазам.
– Здесь, в комоде, лежат пять сортов французского мыла, мочала, расчески и духи. Мила, ты помойся тем мылом, которое придется тебе по вкусу. А духи… Если позволишь, я сам выберу подходящий аромат. Договорились? И да, здесь, на вешалке, висит моя рубашка и халат. Принимай ванну, я тебя не потревожу.
Он затворил за собой дверь. Оставшись одна, Людмила присела на край ванны.
«Святая дева Мария, помоги… Богородице дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего… Господи, а дальше как? Я забыла… – шептала Людочка. – Молитвы тут не помогут. Он любит меня. А я? Я, кажется, тоже его люблю… Что далее будет со мной? Он же не женится на мне. А вдруг? Вдруг его католичка уедет из России? А он останется со мной. Я тоже рожу ему детей. А может… Может… она умрет родами? Господи, какой грех! О чем я только думаю…»
Она разговаривала сама с собой, оживившись новой, безотчетной и погибельной надеждой. Она понимала, что ее надежда страшна и греховна, но ничего не могла с собой поделать. Она вела себя словно безумная, заразившись его безумием.
«Господь не оставит нас. Он добрый, он что-то придумает, чтобы мы были вместе. А Руфина? Руфина будет жива, но исчезнет… Уедет…Так надо… И так будет!»
Она даже не заметила, как быстро разделась, покидав свои вещи в угол, как настаивал сделать он. Ей стало стыдно за свои штопаные чулки. На мозаичной плитке коричневым бугром топорщилось платье ненавистной Капитолины. Она испытывала необъяснимую, приятную ей месть, зная, что скоро пламя огня навсегда сожрет эту колючую ткань. Она бы сожгла все это прямо сейчас. Оставшись в одних панталонах и короткой рубашке, Людмила глянула на себя в зеркало.
«Господи, как стыдно грешить… – Тонкие пальцы легли на высокую грудь и сжали ее. – Как он трогал меня, как ласкал соски. – В животе снова стало горячо. – Стыдно грешить, но сладко».
Она решительно сняла с себя исподнее. Взошла на небольшую скамейку и перекинула ногу в ванну. Потом вспомнила о мыле и вернулась к комоду. Верхняя, объемистая полка пахнула в лицо тонким ароматом сандала. В темном чреве дубового ящика обнаружилась жестяная коробка, похожая на ларец. В этой коробке лежало мыло. О боже, что это было за мыло… Его привезли прямо из Парижа. Два кусочка были завернуты в шуршащую ажурную бумагу, похожую на папиросную. Яркие наклейки изображали цветы и головки хорошеньких парижанок. Два других кусочка были упакованы в металлические коробочки, украшенные мозаикой из цветного стекла. А пятый кусочек был упакован в кружевной кошелек, сделанный в виде сердечка с золотистой стрелой Амура. Последний ей понравился более других. И пах он розовым маслом. Другое мыло тоже благоухало неземными ароматами: ванилью, яблоками, жасмином и сиренью. Но Мила выбрала именно последнее.
А далее она приняла ванну, тщательно намылив все части своей стройной фигуры, помыла и прополоскала чистой водой русые волосы. Когда она, свежая и благоухающая, глянула на себя в зеркало, то из овальной рамы на нее смотрела сама Афродита, с распущенными длинными волосами, мокрые концы которых приклеивались к круглым алебастровым ягодицам. Она приподнялась на цыпочки и осмотрела себя сбоку: часть стройного и тугого бедра скрывала пушистый лобок, капельками воды блестел плоский живот, талия казалась до невозможности тонкой – как говорила мать: две руки обхватят. И, наконец, торчащие острыми розовыми сосками, большие груди.
Когда она училась в гимназии, её формы стали заметны намного раньше, чем у всех одноклассниц. Это обстоятельство отчего-то не радовало, а скорее смущало ее. Смущало и раздражало. Однажды ватага дворовых мальчишек остановила ее по пути в гимназию. Их главарь, босой, одетый в черный кафтан с чужого плеча и холстинковые штаны, развязанной походкой, сплевывая через выбитый зуб, подошел к ней вплотную и бросил в лицо: «С такими титьками, барышня, уворуют тя черкесы! Хошь, мы станем тя сторожить?» Она обомлела, живо представив то, что ей грозило. И не нашла ничего умнее, как спросить у хулигана: «Почему?» Тот подумал с минуту и ответил: «Инородцы любят титешниц[9], – а потом добавил с усмешкой: – Если черкесы не украдут, так в проститутки отдадут! – и засмеялся противным, простуженным смехом».
Людочке стало стыдно и смертельно обидно от этих слов. Весь день она плохо слушала уроки, ей даже сделали замечание на литературе за невнимательность. А когда пришла домой, то объявила матери о том, что отныне будет туго бинтовать себе груди. Мать подняла ее на смех. Бедной женщине стоило больших усилий, убедить свою дочь, не делать этого.
Теперь обнаженная Людмила с интересом рассматривала изгибы собственного тела, отражающиеся в золотистом, запотевшем от пара зеркале. Перебирала пальцами соски, сжимала грудь и ежилась от озноба и легкой боли…
В этот момент дверь отворилась, и Анатоль заглянул в уборную.
– Господи, как ты хороша… Мила…
Она вспыхнула и прикрылась пушистым полотенцем.
– Все, все… Я не смотрю. Ты можешь одеться.
Он затворил дверь. Сердце Людмилы билось возле самого горла.
«Что будет дальше?» – думала она.
* * *
Конечно, к своим семнадцати годам ей были известны некоторые пикантные и физиологические подробности взаимоотношений между мужчиной и женщиной. В гимназической среде, в которой воспитывалась наша героиня, мысли и знания об этих подробностях, связанные с интимностью и чувственными наслаждениями, считались непристойными. В гимназии царили пуританские взгляды. Никогда курсистки не позволяли себе размышлять об этом вслух. Находились и те, кто пропагандировал среди своих однокурсниц идеи о девичьей непорочности и убедительном желании нести эту непорочность через всю жизнь. Другие же с завидным упорством доказывали, что все «плотские сказки и шалости» придумали злодеи, дабы сбить целомудренных юниц с истинного пути. А на самом деле люди размножаются подобно цветам, без оттенка всяческой «грязной» физиологии…
Подробности «грязной» физиологии Людмила узнала уже из той среды, где она жила. У нее было несколько подруг из так называемого «подлого» сословия. Мать не разрешала Людочке общаться с ними, ограждая дочь от их пагубного влияния. Хотя и сама мать и Людмила, обе были не из дворян, а почти из того же «подлого» сословия, но то, что Людочка училась в гимназии, давало матери право иметь иные надежды на будущий статус любимого чада и положение в обществе. А подружки, будто издеваясь, караулили нашу скромную гимназистку и на редких девичьих посиделках рассказывали такие вещи, от которых она закрывала лицо и со смехом убегала. Нельзя сказать, чтобы она им верила. Но однажды она стала случайной свидетельницей проявления именно «грязной» физиологии, без каких-либо прикрас. Этот случай произошел с ней летом. И случай этот настолько потряс ее девичье воображение, что Людмила не спала многие ночи, припоминая все ужасные, но в то же время волнительные подробности.
В тот памятный, воскресный день, мать Людмилы уехала с соседкой на ярмарку за ситцем. А дочери строго настрого наказала никуда не ходить, и в дом никого не пускать. Стояла июльская жара. Людмила переделала все домашние дела и села возле треснутого окошка вышивать васильки на наволочку. Не прошло и пяти минут, как в стекло ударился маленький камушек. Она распахнула створки и выглянула наружу. Внизу подпрыгивала низкорослая Анютка, бойкая девчонка из соседнего двора.
– Милка, ты одна?
– Одна…
– Хочешь, я тебе кое-что покажу?
– Что? – недоверчиво протянула Людмила.
– Это самое…
– Какое самое?
– Ну ты что, дурочка? Не понимаешь?
– Как это?
– Выходи скорее, узнаешь.
Словно завороженная, Людмила надела легкие туфельки, оправила косу и выскочила из дома вслед за ушлой Анькой. Красная, в цыпках, Анькина ладонь впилась в запястье Людмилы.
– Пошли скорее. Не то все кончится. Там трое осталось.
– Что кончится? Ты можешь толком объяснить? Куда ты меня тащишь?
– Сама все увидишь…
Они свернули в проулок, ведущий к городской пожарной каланче. За каланчой шел дикий парк, в конце которого находились развалины старого и обгоревшего купеческого дома. Место это было нехорошее. Владелец некогда роскошного особняка, богатый купец, убил из ревности свою супругу и пошел по Владимирке на каторгу. Перед этим он поджег собственное имение. Пожар пытались потушить – благо каланча стояла рядом, но тщетно. Пламя занялось так, словно кто-то щедро облил все керосином. Это пепелище стало вечным немым укором местным пожарным.
Крыша давно обвалилась – лишь обломки колон, куски старого, почерневшего гипса и разломанный мраморный портик, посеревший от пепла и поросший акациями, лопухами и чертополохом, напоминал о том, что на этом месте когда-то кто-то жил.
– Ой, я дальше не пойду. Меня матушка будет ругать, – замахала руками Людмила.
– Ну и дуреха. Так и не увидишь главного, – растолковывала ей досужая Анька.
Они не заметили, как очутились на том месте, где происходило то, что навсегда поразило воображение нашей героини. То, что так часто не давало ей уснуть. То, что заставляло душу мучиться, а тело страдать от нестерпимого желания.
В кустах акации мелькнуло что-то пестрое, а после она увидела две голые женские ноги. Без чулок и обуви. И эти ноги были широко раздвинуты. Молочной белизной отливали толстые ляжки. В кустах, заложив руки за голову, лежала полуобнаженная женщина. Людмила не узнала ее. По несвязанным выкрикам, вульгарному смеху и матерным словам было понятно, что женщина пьяна. В ее изголовье сидел парень и он… он держал ее ноги, упираясь ладонями прямо под розовые круглые колени. А далее Людмила увидела огромный белокожий зад, черный от волос лобок, и разверзнутую, багровую и мокрую от белого семени вульву. Все ее воображение не могло представить, что женское срамное место может выглядеть так нагло, открыто, вызывающе волнительно и вместе с тем погибельно похабно. Возле женщины толпилось пятеро мужиков. Двое из них были полностью одеты, у троих рубахи были на месте, а штаны сняты. Их тощие, голые зады смотрелись не менее дико.
– Гляди, ее еб*т уж третий час, – шепотом пояснила Анька. – Видишь, по второму кругу пошли вертеть… А до этого раком еб*и…
Людмила молча пялилась на эту страшную картину и не могла сдвинуться с места. Эта картина не просто завораживала, Людмиле казалось, что еще минута, и она свалится в обморок. Один из мужиков повернулся боком. Его темная ладонь расправляла натруженный орган.
– Гляди, Милка, сейчас у него встанет. Та-аа-кой огромный.
И действительно, спустя несколько мгновений, словно по волшебству, между ног у мужика выросла целая труба, заканчивающаяся красной нашлепкой.
– Что это? – севшим голосом спросила Людмила.
– Это и есть х*й! – смешливым шепотом пояснила Анька.
– Нет такого слова… – шептала бледнеющая Людочка.
– Как нет? Х*й есть, а слова нет? – настырничала подружка. – Гляди, дурочка, он сейчас его воткнет прямо в ее пи*ду.
– Прекрати, – Людочка заткнула уши, но так и не отошла от кустов. Она продолжала и продолжала смотреть во все глаза на то, что происходило возле развалин. А далее она слышала сладострастные стоны, матерную брань, видела и то, как мужики уступают место друг другу. Видела она и то, как пьяная баба ублажала этих мужиков ртом, ползая на коленях, ее отвисшие груди были перепачканы пылью. И то, как баба, не смущаясь, отползала чуть в сторону и мочилась на глазах у мужчин. Потом женщина снова пила вино, запрокидывая лохматую голову. Людочка сама не заметила, как пролетело более часа. И вдруг пьяные глаза женщины рассмотрели среди листвы пестрые сарафаны девиц. Женщина истошно крикнула:
– Мужики, мужики, глядите, да мы тут не одни! Там две сыкухи в кустах схоронились!
– А пусть смотрят и учатся, – заржал один из мужиков.
– Поймайте их, а? – предложила развратница. – Давайте и их вы*бем?
Раздался свист и хохот. Людочка и Анютка сорвались с места и бросились наутек. Только добежав до каланчи, девчонки едва перевели дух… Потом устало шли молча. Перед самым домом Анька остановилась.
– Ты это, только матери ничего не говори, куда я тебя водила…
– Я что, дурочка? – хрипло отвечала Людмила.
– И вот, в следующий раз не будешь меня на смех поднимать… А то вас, в ваших гимназиях дурят, а ты и меня решила задурить. Поглядела? Вот и молчи!
Анька гордо развернулась и скрылась за воротами собственного дома. А Людмила почти бегом пробежала до своих ворот. Как только за ней закрылась деревянная дверь, она принялась тихо плакать. И уже в доме дала волю бурным рыданиям. Когда мать вернулась с ярмарки, то обнаружила у дочери жар.
Та картина навсегда врезалась в ее память. Теперь всякий раз, перед сном, она снова и снова возвращалось мыслями к развалинам купеческого дома. В ответ на эти вспоминания ее собственная рука ныряла под рубашку и блуждала в закоулках плоти. Людмила давно нащупала ту точку, в устье срамных губ, которая доставляла ей, то острую, то тянущую боль, замешанную на непонятном волнении. Девушка пыталась сама себя ласкать. Но ни разу эти ласки не доводили ее до пика сладострастия… Она не знала тайн собственного тела и не знала, как с ним обращаться…
* * *
«Что будет дальше? – подумала она. – Я должна буду ему отдаться?»
Она надела на себя его нательную рубашку, ту, что висела на вешалке. Та доставала ей до колен, непривычно обнажая стройные икры. Плечи и рукава были широки и длины. Она закатала их до локтей. Ворот украшало красивое кружевное жабо. Тонкий батист натянулся на груди Людмилы, подчеркивая контуры острых сосков. В этой рубашке она походила на мальчика-пажа, если бы не высокая грудь и волны распущенных влажных волос.
«Господи, я веду себя так, будто он мой супруг, – снова вздрогнула она. – Может, надеть свое форменное платье?»
Но, посмотрев на коричневую бесформенную кучу, она лишь брезгливо поморщилась. А затем решительно надела на себя его шелковый темно синий халат. И подпоясалась тонким пояском. Босая и розовеющая после недавнего мытья, Людмила вышла из уборной.
Граф все также сидел в кресле и курил сигару. За окном стояла ночь. Вишневые портьеры плотно прикрывали окна. Свет в комнате шел от двух подсвечников. Один стоял на потухшем камине – в комнате было жарко и без огня. А второй возвышался на столике, рядом с креслом графа.
– Мила, ты так долго была в ванной. Я успел заскучать… Иди сюда…
Она подошла ближе и встала посередине комнаты.
– Мила, ты проспала весь обед. А нам из ресторана привозили луковый суп, расстегаи, пирожки, и рыбу. Все это осталось. И еще пирожные есть. Садись, давай что-нибудь поедим…
Людмила только сейчас почувствовала, как проголодалась. Он взял подсвечник и отнес его в другой конец комнаты, к круглому столу, покрытому белоснежной скатертью. Он был изящно сервирован ужином на две персоны.
– Садись любимая, я хочу выпить за наше сближение, – тихим голосом произнес Краевский.
Людмила села за стол. Граф откупорил бутылку французского шампанского. Пенистая волна наполнила бокалы.
– Мила, я хочу выпить за нас с тобой. Я премного благодарен… Нет, я восхищен тем, что ты находишься здесь, рядом. Мила, я до сих пор не верю в это счастье, – он говорил сбивчиво, немного волнуясь.
Его рука протянула высокий бокал. Они чокнулись. Жадными глотками Людмила пила розовое шампанское. Потом они закусывали тарталетками с рыбой, икрой, пирожками. Теперь Людмила ела с гораздо большим аппетитом, чем накануне. Щечки ее раскраснелись. Он немного шутил и отпускал ей тонкие комплименты. Она смущалась от его внимательных глаз и отводила свои. От пламени свечей ее взгляд искрился, осененный длинными влажными ресницами. Краевский любовался ею открыто, настолько она была хороша. Потом он встал и протянул ей руку:
– Иди ко мне… Присядь на мои колени.
Она не упиралась и села. Он стал целовать ее запястья.
– Тебе не нужны духи, Мила… Твое собственное благоухание сильнее любых ароматов. Твоя кожа подобно лепесткам утренней розы. Ты – афродизиак моей души. Я аддиктирован тобой навеки. Ты – мой наркотик. Я люблю тебя, Мила.
Он подхватил ее на руки и отнес на кровать.
– Не бойся меня. Я не причиню тебе зла, – волнуясь, пояснял он.
– Я должна буду вам отдаться? – спросила Людочка, опуская глаза.
Он нервно засмеялся и сел подле.
– Любимая, я мечтаю ласкать тебя и подарить тебе любовь и наслаждение. То, о чём ты думаешь… Нет, мы не станем торопиться. Я лишь хочу вкусить тебя, твой аромат. Я буду очень нежным возлюбленным… Мы не станем торопиться.
Он прилег рядом и развязал тесемки на её шелковом халате. Через минуту халат был сброшен. Он принялся целовать ей губы долгим и волнительным поцелуем, шею, перешел к груди. Людочка не заметила, как и батистовая рубашка была снята. Она лежала пред ним обнаженная. Он же не снимал своего халата. Он гладил ее тело, опуская поцелуи все ниже, к животу. Затем его ладонь легла на сам живот и опустилась к пушистому лобку. Он снова стал целовать ее в губы. У Людмилы кружилась голова от неописуемого наслаждения. Она сама не заметила, как его пальцы нырнули в ее влажное лоно. Он принялся водить ими вверх и вниз, вправо и влево, а то и по кругу.
«Господи, как приятно. Как у него это выходит? Только бы он не убрал руку. А вдруг я обмочусь?» – все эти мысли, словно вихрь, пронеслись в ее голове.
И вдруг она почувствовала, что ее длинные ноги сами раздвигаются, а бедра направляются навстречу его пальцам. Ей было мучительно стыдно, ибо перед мысленным взором всплыла та развратная баба, ноги которой с силой раздвигали мужики. И в этот самый момент огненный шар разорвал внутри нее какую-то невидимую глазу плотину. Она вскрикнула, а после застонала. Ее стон был остановлен его крепким поцелуем.
– Тебе было хорошо?
– Очень…
– Ты такая мокрая…
– Это плохо?
– Это очень хорошо… Всю ночь я стану тебя ласкать, ласкать ту восхитительную горошину, которая называется по латыни clitoris. Древние называли этот женский орган amoris dulcedo (сладость любви), ибо именно он, этот маленький красавец, способен вызывать такую бурю наслаждения. Мила, повторюсь, я очень нежный любовник. Я хочу вести тебя по тропам любви медленно и постепенно.
– Я стесняюсь… Можно я пока надену рубашку?
– Конечно, можно. Хотя, твоя нагота… она сводит меня с ума. Ты – само совершенство. Я принесу нам еще шампанского, – он встал с кровати.
Послышалось легкое шипение и плеск. Через секунду перед ее глазами вновь оказался бокал.
– Пей, моя Афродита. Нет на свете женщины, прекраснее, чем ты.
Она снова пила, и снова были поцелуи.
– Обожди любимая, я схожу в кабинет и принесу тебе несколько своих альбомов. Там есть довольно интересные картинки. Ты должна это увидеть.
Он вышел из спальни в коридор и вскоре вернулся. В смуглых руках покоилась стопка довольно объемных, бархатных фолиантов.
– Так, эти три мы пока отложим. Эти потом, потом. Их пока рано тебе смотреть. А эти два мы будем изучать сегодня, – он загадочно улыбнулся.
Сначала он открыл перед ней розовый альбом. На его страницах были изображены обнаженные женщины. Здесь были блондинки и мулатки, брюнетки и рыженькие. В интерьерах спален и гостиных, в пышных будуарах, и на природе – всюду, рядом с обычными бытовыми предметами, словно живые цветы на морозном снегу, также нелепо и беззащитно выглядели эти нагие жрицы любви. Художник настолько искусно изобразил все детали их беспомощных тел, что Мила невольно вспыхнула и отвернулась. Краевский засмеялся, пальцы нежно взялись за ее подбородок, он поцеловал Людочку в ушко и развернул ее лицо к себе. Ей было стыдно от чужой наготы, но вместе с тем глаза прирастали к этим рисункам, не в силах найти более достойных объектов лицезрения. Все повторялось, как тогда. Когда более часа она не могла отвести своего взгляда от случайной уличной оргии, возле купеческих развалин…
– Давай сядем удобнее, я откину полог, чтобы свет от жирандоли падал на рисунки. Я должен тебе многое показать. Мила, я не просто твой возлюбленный, я, как ты знаешь, служу в отделе образования при Губернской земской управе. Ранее я преподавал историю, литературу, педагогику, и немного дидактику. Я знаю, что в гимназиях не преподают курс физиологии полов, и не раскрывают интимные тайны их взаимоотношений. Увы, но девочки из бедных семей познают эту науку из пагубных примеров улицы, или из рассказов своих старших подруг. Девушки же из дворянского сословия оказываются в еще менее гуманной ситуации. Многие из них даже не подозревают о том, что ждет их в первую брачную ночь. И когда муж накидывается на них, словно животное, дабы воспользоваться своим супружеским правом, они считают, что попали в руки к злодею, либо, что их благоверный сошел с ума, – Краевский рассмеялся. – И вместо наслаждения близостью, бедняжки испытывают глубокую психическую травму, а заодно с ней и физическую. Ибо так устроена природа. Конечно, проходит время, и они постепенно постигают, что к чему, привыкают. Но иногда эта травма мешает им раскрыться как женщинам, во всей полноте физического естества. Я желаю на время побыть твоим учителем. Ты позволишь?
Она смущенно кивнула.
– Итак, что мы здесь видим? Это – обнаженные фигуры женщин. Их груди полны и томятся в желании. Разве нет? – он наклонился и нежно сжал грудь Людмилы. – Цветик мой, сними же и ты рубашку. Я хочу трогать тебя везде. Трогать и наслаждаться.
Она послушала его. Он нежно сжимал ее соски, наклонялся и целовал их длительными поцелуями. Затем, пролистав несколько страниц, они увидели изображения женщин с раздвинутыми ногами. На этих рисунках обнаженные лежали с поднятыми кверху коленями, приседали, раздвигали ноги стоя. Были даже и такие, где бесстыдницы помогали себе руками. Их пальцы натягивали срамные губы так, что обнажался клитор и мягкая вульва.
Мила снова вспомнила купеческие развалины и ту, истерзанную развратом… пи*ду.
Она внутренне съеживалась от этого названия. И ни за что бы, не произнесла его вслух, перед графом. Это было совсем неблагородное слово и звучало оно не на латыни, коей любил оперировать Анатоль. Это было русское и матерное слово. Но отчего то, когда она слышала его отрывистый и звенящий звук, ею овладевало чувство необъяснимого волнения и какого-то странного ощущения органичности именно этого названия. Да, это место и должно называться именно так, а не иначе. Но она молчала, не в силах признаться в том, что её язык мечтал произнести это слово, а уши мечтали услышать.
А далее граф показал ей коллекцию уже не картинок, а фотографических изображений.
– Видишь Мила, эти снимки я купил во Франции. Они очень дорогие. Тебе они нравятся?
Она ничего не отвечала. Он снова перевернул страничку. На ней была фотография красотки, сидящей в плетеном летнем кресле. Женщина закинула ноги на высокие подлокотники, и вся ее нижняя красота была представлена на суд зрителей. Странным было то, что на лобке у женщины не было волос. От этого все внутренности казались настолько открытыми, что Мила невольно ахнула и отвернулась.
– Ты так прекрасна в своей стыдливости, любимая. Смотри, на фото у этой блудницы виден роскошный бугорок, о котором я тебе рассказывал – clitoris. По-русски – клитор, похотник или секель. Ты слышала слово «секель»?
– Да, слышала…
– Ну, вот… Сегодня ты и кончила им. Я и сейчас сделаю так, что ты снова ощутишь неземное блаженство. Ляг поближе к краю и раздвинь ножки, как на картинке.
Сильная рука графа нажала на ее плечо. Она не удержала равновесия и упала. Он раздвинул ей ноги, а сам сел на пол. Она слабо попыталась отмахнуться и что-то возразить, но он не дал ей этого сделать. Он приник головой к ее паху. Она снова с удивлением почувствовала приятное касание к своей опухшей от возбуждения плоти. Но что это? Теперь он лизал! Лизал то самое место! Ее охватил ужасный стыд, почти паника… Но и эти чувства куда-то испарились. Она снова замерла в предвкушении того, неземного блаженства. Ах, как он ласкал ее… Как он это делал? Как вообще возможно сделать подобное с ее телом? Ее бедра снова поступательно задвигались. Прошло несколько минут, и она кончила так сладостно, что из горла прорвался хриплый стон, переходящий в крик.
– О, какая горячая девочка, – шептал граф, осыпая ее живот поцелуями. – Я видел, как сжалась твоя вагина и прелестный анус. У тебя такой розовый, чистый, тугой и нетронутый анус, – шептал он.
Она плохо понимала, о каком Янусе он говорил. Кто такой, этот Янус? Она вдруг сильно захотела спать. Голова ее склонилась к подушкам. Он лег рядом. Спустя время она услышала, что он встал и ушел в уборную. Он пробыл там минут десять. А после из уборной донесся стон. А может, ей это приснилось…
Проснулась она, по привычке, рано. Рядом с ней спал ее ненаглядный Анатоль. То, что вчера произошло между ними, выглядело неправдоподобной сказкой, каким-то чудным, волнительным и сладким сном.
«Так не бывает! – думала она. – Мое пребывание в этом доме вначале было похоже на кошмарный сон. А сейчас что? Я и сейчас не проснулась. Только этот сон внезапно стал настолько хорош, что я бы предпочла смотреть его всю жизнь».
Воспоминания обо всех унижениях, тяжелой работе, приказах Капитолины, злобных взглядах Руфины, казались ей настолько далекими, словно все это было в прошлой, ненастоящей жизни. За эти сутки она даже ни разу не вспомнила о матери и братьях. Все ее мысли были заняты одним графом. Его сильными руками, красивым лицом, чувственным ртом. Ей безумно нравился его запах – эта губительна смесь английского дорогого табака и французского одеколона. Даже его подмышки и живот пахли по-особому. «Кто он? Да он сам бог… Я не только отдамся ему навеки. Прикажи он – и я умру за него. Возможно, сегодня он сделает из меня настоящую женщину. Девочки говорили, что в первый раз – это больно. Ну и что? Я все стерплю. Все… Лишь бы он любил меня».
Она сидела на коленях и откровенно любовалась им. Сбитое одеяло обнажило его пленительный торс. Он лежал на боку. Лишь тонкая нательная сорочка прикрывала его широкие плечи. Сквозь ворот сорочки виднелась волосатая грудь. Боже, вчера, в темноте, я толком не смогла его рассмотреть. Вблизи, при ярком свете, он даже лучше, чем я могла представить. О, эти волнистые темные волосы, в меру длинный и такой прекрасный нос. Почти римский профиль, мягкие, но такие нежные губы. А как прекрасно его дыхание… Он бог! Он перевернулся и лег на спину. Сквозь тонкую ткань проступил его главный орган. Он стоял торчком и был немаленьких размеров. Сквозь батист просвечивал его четкий контур, были видны напряженные вены и круглая головка. Это то, что противная Анька называла – х*ем. Мила вздрогнула и от этого слова. Вздрогнула и поежилась.
Граф давно не спал и сквозь полуприкрытые веки рассматривал её. В какой-то момент он открыл глаза и улыбнулся. А потом привстал и крепко обнял. Он прижал ее к себе спиной так сильно, что она ощутила стальную твердость этого органа. Неужели это войдет в меня? Он большой… Но справедливости ради, она совсем некстати припомнила и то, что у тех, пьяных мужиков, эти… х*и были еще толще и длиннее…
«Ну и хорошо, что у Анатоля не такая дубина, как у тех… босяков, – подумала она. – Её граф дворянин и аристократ – ему негоже иметь меж ног оглоблю…»
Она подумала, что сейчас граф снова начнет любовную игру, оставленную ночью, но он лишь нежно расцеловал ее в щечки.
– Мила, ты умывайся и завтракай. Я сейчас отправлюсь по делам. А заодно заеду в магазин и куплю тебе одежды. Когда вернусь, мы снова поедем по магазинам и в ресторан. Там и пообедаем.
Он встал с кровати, накинул халат и вышел из спальни. Она чуть разочарованно посмотрела ему вслед. Он снова запер ее на ключ. Людмила не торопясь сходила в уборную и привела себя в порядок. Она расчесала длинные волосы, заплела их в косу. Потом позавтракала маленькими булочками и запила все это остывшим кофе. От нечего делать она снова залезла на кровать и принялась рассматривать картинки. Она сразу перешла ко второму альбому. В нем уже были рисунки, изображающие само любовное соитие. Сначала это было изображение любовных парочек и похотливые игры меж ними, потом пошли рисунки с групповыми оргиями. Многие из них были с юмором и изображали сатиров или чертей, забивающих огромные орудия в срамные места толстозадых дам. Были здесь и фотографии настоящих людей, занимающихся развратом. После получасового просмотра всей этой коллекции откровенного творчества, внутри живота Людмилы разлился немыслимый жар. Она легла навзничь и снова раздвинула ноги. Её пальцы нырнули туда, где вчера ее ласкал Анатоль.
«Как он это делал? У меня самой вряд ли получится…» – рассеянно думала она, но не убирала оттуда руку. Она интуитивно вспомнила его движения и весь темп скольжения по клитору. Она продолжала и продолжала тереть пальцами это место до тех пор, пока волна оргазма не подобралась к наивысшей точке. Она вскрикнула, но не убрала пальцы, продолжая слабым нажимом все возвращать и возвращать волны экстаза.
«Господи, теперь и у меня это получилось. Как хорошо!»
Она снова продолжила рассматривать картинки и через десять минут повторила свой опыт. Этот оргазм был еще ярче предыдущего. Ей казалось, что Краевский какой-то волшебник, открывший перед ней двери чувственного наслаждения, слаще которого нет ничего на свете.
В замочной скважине послышался характерный скрежет от поворотов ключа. Дверь распахнулась, на пороге стоял Анатоль. Обе его руки были заняты свертками, пакетами и шляпными коробками.
– Уф, насилу донес я все это богатство.
Все шуршащие свертки он сбросил на небольшую софу, а сам, словно фокусник, достал откуда-то из-за спины, очаровательную корзинку, полную роз кремового оттенка. Мила от радости охнула и захлопала в ладоши.
– Как я люблю, когда ты радуешься… Ты, как девочка…
Он сел на диван и закрыл глаза. Спустя несколько минут, он открыл их, по его смуглой щеке бежала слеза.
– Мила, господи, как я тебя люблю… Скажи, я тебе хоть немного нравлюсь?
– Вы знаете…
– Что я знаю? – он вскочил на ноги и сжал ей локоток. – Что я знаю? Скажи…
– Вы знаете, что да…
– Я люблю тебя, – он снова целовал ее щеки, глаза, чистый лоб.
Им обоим не хватало воздуха. Первым опомнился он.
– Нет, нам надо переодеть тебя и съездить прогуляться. Потом мы заедем в пару мест. В ресторан и в цирюльню… Я все расскажу по дороге. Ну же, чего стоишь? Распаковывай мои подарки.
Людмила присела на край софы. Рука нерешительно потянулась к самому большому свертку.
– Ну, смелее. Я не модистка, Мила. Но кое-что я понимаю в женских туалетах. Я купил тебе пару чулок, панталоны, сорочки, корсет, туфельки, платье и шляпку.
– Даже туфельки? Но вы не знаете моего размера.
– Знаю, Мила… Я смерил твою ножку, пока ты спала. Они мягкие, из очень хорошей кожи, и должны быть впору. Если нет, мы тут же обменяем их.
Преодолевая робость, Мила распаковывала шуршащие свертки и коробки. Глаза ее горели намного ярче, чем в детстве, когда мама прятала под маленькую елочку скромные, но такие милые сердцу рождественские подарки.
Из лиловой французской упаковки выпало потрясающе роскошное летнее платье – из легкого шелкового полотна – светлое, усеянное мелкими фиалками. У платья было две батистовые нижние юбки; небольшой, едва заметный турнюр, сплошь покрытый тоненькими кружевными рюшами. Овальный ворот красовался рядами таких же рюш. К платью прилагалась чертовски элегантная соломенная шляпка с пучком искусственных фиалок. И бежевые туфельки на каблучке.
Мила только ахала, глядя на все это великолепие. Краевский смеялся от счастья, захваченный восторгом своей юной любовницы.
– Это все мне?
– Тебе, кому же еще… Скидывай свою рубашку и примеряй.
– Отвернитесь, я сначала надену белье.
– Ну, хорошо, хорошо, я отвернусь, – посмеиваясь, отвечал он. – Я отвернусь, но не обещаю, что не стану подглядывать…
– Ну, Анатолий Александрович, – канючила Людмила, не в силах медлить. Ей так хотелось надеть это роскошное платье. Судя по всему, ее возлюбленный угадал-таки с размером, не говоря о модном фасоне.
Пока он отвернулся, она спешно надела панталоны. Они были почти прозрачные и тоже украшены полосками изысканного кружева. Ее кожа покрылась мурашками от прикосновения нежной ткани. Волосы на лобке стояли торчком и пружинисто не хотели приглаживаться. От новых ощущений она снова возбудилась и сбивчиво дышала. Немного кружилась голова. Она села на край кровати. Руки потянулись к тонюсеньким шелковым чулкам, лежащим во французской круглой коробочке. Холодный шелк лизнул стройные икры, змеей опоясал бедра. Дрожащими пальцами она сильнее натянула подвязки. И полюбовалась гладкими ножками. При виде сложного корсета, руки устало опустились. Она беспомощно оглянулась. Краевский, слушая за спиной шуршание ткани, вздохи, охи и возню, не выдержал и повернулся.
– Ага! Я не обещал, что не буду подсматривать… И потом ты не сможешь одна, без помощи прислуги, управиться с корсетом.
– Что же делать? – запаниковала Людмила. Её щеки покрылись пунцовыми пятнами.
Она стояла посередине комнаты, в панталонах, чулках и спадающим на бедра, расшнурованным корсетом.
– Не переживай. У меня есть некий опыт. Я завяжу тебе корсет.
Он обошел ее, встал сзади. Кожа спины почувствовала прикосновение прохладных пальцев. Она вздрогнула. Он наклонился к ее округлым плечам и принялся их нежно целовать.
– Ах, Мила, у меня нет сил, и кружится голова от твоих плеч, волос, от твоей нежной груди…
Совладав с сильным приливом нежности, он потянул тесемки корсета. Мила удивилась, как ловко он справился с ее туалетом. Когда корсет был туго зашнурован, Краевский развернул ее к себе и уставился на торчащую грудь.
– Мила, с таким бюстом тебя у меня украдут…
– Черкесы? – глупо спросила она, глядя распахнутыми глазищами.
– Причем тут черкесы? Любой украдет… – он наклонился и стал целовать ее соски.
У нее закружилась голова, и подкосились ноги.
– Довольно… Мы так никуда не уйдем.
Шепча слова любви, путаясь, краснея, целуясь, и повторяя друг другу комплименты, они, наконец, надели на Людочку новое платье и туфельки. Волшебным было и то, что туфельки эти оказались в самую пору. Роскошные волосы украсила легкая шляпка. Людочка стояла посередине комнаты – хорошенькая и стройная, словно молодая березка. Краевский отошел в сторону, всплеснул руками и пропел:
Онегин, я скрывать не стану — Безумно я люблю Татьяну. Тоскливо жизнь моя текла, Она явилась и зажгла, Как солнца луч среди ненастья, Мне жизнь и молодость, да, молодость и счастье…– Ты можешь в коридоре посмотреть на себя в большое зеркало. Или сходи в уборную. Право, я не видел в жизни девушки краше тебя…
Когда они тихонько, словно тати, покинули здание, Людмила шла, опустив глаза. Она боялась встречи с прислугой. Но дом встретил их полной тишиной – будто бы вымер. Граф шел чуточку впереди, она на шаг отставала от него. На дворе стоял ясный полдень. Проходя мимо клумб, она увидела, что они тщательно прополоты и политы. Она почувствовала легкий укол совести. Наверное, Елена их полола на рассвете, пока я еще крепко спала… Она отогнала эти непрошеные мысли, словно докучливых галок с барского крыльца. Солнце сияло по-летнему радостно, свежий ветер коснулся нежных щек. Ей было тревожно и стыдно… Казалось, что новое счастье она своровала украдкой. Но оно было столь долгожданно, мило сердцу, дорого, почти драгоценно, волнительно, что она, став преступницей, была готова на все, лишь бы это счастье не ушло так быстро, лишь бы оно не оставило ее в самом начале… А потому она ускорила шаги по направлению к выходу из сада. Там стоял экипаж. Из распахнутой дверки граф протягивал крепкую, смуглую руку. Он легонько потянул ее на себя, скрипнула откидная ступенька, прошелестело тонкое кружево турнюра, и она оказалась внутри роскошной кареты. Рядом сел он, ее погубитель. Но как он был хорош. В полумраке салона, пахнущего кожей и духами, он нашел ее податливые губы и поцеловал долгим, томным поцелуем, от которого у нее снова закружилась голова…
– Трогай! – где-то высоко раздался голос графа. Он был рядом с ней и парил вокруг… Он даже бежал по дороге и гулко отзывался в сердце.
«Это точно сон», – снова думала она, погружаясь в некое измененное состояние души, где правит праздник и счастье, любовь и страсть.
Она была глубоко пьяна, пьяна и без вина, пьяна зарождающимся сильным чувством, имя которому – любовь.
Краевский нежно обнимал ее в пути. Ехали они недолго. Мелькнула высокая чугунная ограда, пирамидальные тополя. Потянуло жареным луком и специями. Зашли в ресторан не с парадного входа, а со двора. Словно в калейдоскопе качнулась красная кирпичная стена, две каменные ступеньки, она оступилась – он снова подхватил ее за талию. Влажным глянцем сверкнул мокрый пробор лакея, хруст крахмальной салфетки. Тихий шепот. Коридор с вереницей комнат. Стук бокалов за стеной, женский смех, дым папирос. Знакомый ресторатор отвел их в отдельный кабинет. По дороге распахнулась одна из дверей, в проеме показалась немолодая дама в канареечном платье. Она была пьяна, карминные губы сжимали длинную пахитоску. Раздались быстрые шаги, кто-то невидимый запер дверь изнутри…
И снова была трапеза. Они пили шампанское и херес. Ели рыбу и устриц. Граф что-то говорил, она внимательно слушала, не вникая в слова. Он шутил, и сам смеялся. Потом замолкал, вставал из-за стола, подходил к ней и садился рядом. Он начинал целовать ее стройные ноги, клал темную голову на колени. Ее рука гладила его волосы, губы целовали пахучую темную макушку. Они оба смущались, крахмальная скатерть казалась ватным облаком. Янтарный виноград выглядел неестественно крупным. От устриц пахло морем. Икра, обложенная льдом, блестела, подобно мелкому бисеру. Она умела вышивать бисером…
– Мила, ты слышишь меня?..
– Да, – встрепенулась она.
– Почему ты снова ничего не ешь? Я столько всего заказал… Господи, у тебя такие холодные руки… Ты замерзла?
– Нет.
Он снова обнимал ее и целовал. Потом он что-то говорил о душе, ее капризности и тонких изысках. О том, как ненавидит собственное сибаритство и свою избалованную натуру. Рассказывал о какой-то цирюльне. Называл имена. Она плохо его понимала.
– Мила, ты ничего не ела, потому и опьянела, – услышала она вновь. – Ты согласна?
– Да…
– Тогда едем?
– Куда?
– Мила, я уже полчаса рассказываю тебе о том, куда мы должны съездить. Ты, конечно, вправе отказаться. Я пойму. Я принимаю тебя такой, какая ты есть, ибо ты – само совершенство… Но, согласись, что и совершенству нет предела. Они исполнят все аккуратно и быстро. Ты не почувствуешь никаких неприятных ощущений. Там работают мастера своего дела.
– Любимый, о чем ты? – она будто стряхнула с себя оковы сладких грез.
– Мила, я говорю тебе о цирюльне. Там тебе сделают прическу, завьют локоны. И там есть дамский кабинет… для нижних причесок.
– Как это?
– Помнишь, мы видели фото?
– Какое?
– Ну то, где у дамы там отсутствовали волоски…
Она вздрогнула и выпрямилась, лицо покраснело… Она не знала, что и ответить.
– Анатолий Александрович, а это обязательно?
– Совсем нет… Я же поясняю, что сие – лишь мой каприз. Скорее, прихоть. Я, верно, эгоист. Если ты не хочешь, мы не поедем туда.
Она вмиг протрезвела. В ее маленькой и неопытной душе шла напряженная борьба: «А вдруг я разочарую его отказом? Вдруг покажусь неряхой и дурёхой? Может, сейчас так принято, модно, и так делают все светские львицы? Анатоль так тактичен, он пытается приучить меня к этикету и аристократическим привычкам. А я упёрлась, словно деревенская кляча. Господи, у кого бы спросить… Но, как я покажу это место чужим? Цирюльня… И там?»
– Хорошо, Анатолий Александрович, если вы желаете, я готова.
– Мила, ты умница… Я обожаю тебя. Едем.
Он попросил счет и расплатился с лакеем. Со стороны Милы почти вся закуска осталась нетронутой. Граф попросил завернуть им часть еды и фруктов с собой.
Они снова сели в экипаж. Ехали теперь чуть дольше. За окном мелькали деревья, дома. Миле показалось, что они уехали далеко за городские пределы. В этой части старого города она ни разу еще не была. Наконец они подъехали к двухэтажному желтому особняку со спящими пыльными львами перед входом, похожему на какое-то учреждение. Поднимаясь по ступенькам, Людмила заметила керамическую плитку, разрисованную звездами Давида.
– Здесь ранее проживал торговец Арон Гендлер, – пояснил граф. – А теперь в этом доме располагается цирюльня мадам Колетт – в этом крыле. А в другом, – он запнулся. – В другом… – Впрочем, я позже тебе расскажу, о том, что находится в другом.
Их встретила немолодая, худощавая и разряженная женщина в темном шелковом платье с причудливой прической, украшенной множеством перьев и цветов.
– О Анатоль, сколько зим, сколько лет! – воскликнула она с неподдельной радостью.
– Я не один, – перебил ее граф. – Нам нужно к дамскому мастеру.
– Я поняла, – кивнула она. – Проходите, господа.
Пройдя пару темных прихожих, они оказались в довольно большом зале. Стены этого зала были оклеены обоями цвета фуксии, на каждой стене висло овальное зеркало в бронзовой оправе. Напротив зеркал стояли высокие кресла.
– Что прикажет мадемуазель? У нас есть парижские журналы модных причесок, есть сетки, косы, шиньоны. Мы можем завить кудри и уложить волосы в высокую куафюру. Вам в театр или гости?
– Нет, Колетт, нам не нужно излишней пышности. Легкая завивка, чуть поднять на затылке и распустить локоны вольным стилем.
– Хорошо, Анатолий Александрович. Только, если позволите, мы добавим еще мягкое гофре на пробор, ближе к вискам. Сейчас это – писк Парижской моды.
– Я даю вам полный карт-бланш, моя дорогая Колетт. Сделайте нам из этой мадемуазели настоящую принцессу.
– Сию минуту, господин Краевский. Рози! – крикнула она кому-то в другую комнату. – Рози, душка, выйди к нам. К тебе пришли господа.
Рози была полной дамой, одетой в форменное темно-синее платье и белый крахмальный передник. Но носу у Рози красовалась маленькая бородавка. Весь ее передник бы утыкан какими-то металлическими зажимами, гребешками и прочими атрибутами мастера куафюры.
В течение часа Рози колдовала над густыми волосами Людмилы, она нагревала какие-то щипцы, обдавала Людочку горячим паром, что-то начесывала, закалывала шпильками. В довершении всего она чуточку припудрила Людочкины щечки, мазнула розовой помадой ее девичьи губы, расчесала брови и немного добавила сурьмы на длинные ресницы. Когда все было готово, важная мастерица развернула Людочку к зеркалу. Та долго крутила головой в надежде найти свое собственное отражение. Из зеркального полотна на Людочку глядела молодая красавица. Людмила подняла руку, и красавица подняла. И только тут ее осенило: господи, да это же я…
Из комнаты ожидания пригласили графа.
Он смотрел на нее такими глазами, что Людмила снова покраснела.
– Людмила Павловна, – важно произнес граф. – Вы великолепны.
И мадам Колетт и Рози обе смотрели на Людочку с нескрываемым восторгом.
– Да, mon cher Анатоль, вы знаете толк в женщинах, – тихо произнесла Колетт. Такая красота дорогого стоит. Однако ждите нас еще. Мы не совсем готовы, – шутливо пояснила она.
Затем она наклонилась к уху Людмилы.
– Мадмуазель, граф желает довершить ваш интимный туалет…
– Да, он говорил, – охрипшим голосом подтвердила Людмила.
– Вы не волнуйтесь. Сейчас я отведу вас в отдельный кабинет. В нем работает наша Хатидже. Она турчанка. Она займется вашими ножками, ручками и уберет все лишние волоски с тела.
Не прошло и минуты, как мадам Колетт, крепко вцепившись в локоток Людмилы, отвела ее в отдельную, небольшую раздевалку, переходящую в комнатку. В этой комнате отсутствовало окно. Стены украшала тканевая драпировка, с рисунком на восточный манер. Посередине стояло высокое кресло, из подлокотников которого шли металлические трубки и странные деревянные желоба. Свиная кожа обтягивала круглое сидение. Снизу открывалось пустое отверстие, похожее на отхожее место. Прямо под ним находился широкий китайский таз. Тут же стояли стеклянные кувшины, наполненные водой. Рядом располагался столик, покрытый белой тканью. На столике, в строгом порядке, были разложены баночки с какими-то притирками, мазями, флаконы с духами, несколько коробочек французского мыла, и… целый арсенал металлических лезвий – точно таких же лезвий, какие бывают в мужских цирюльнях. Разница заключалась лишь в том, что здесь лежали бритвы и большого размера, и совсем маленькие – длиной в перст, с загнутыми концами. Недалеко от столика висел ремень для правки этих бритв. Напротив странного кресла, прямо на каменных нишах, стояли две газовые лампы с белыми абажурами.
Пока Людочка рассматривала диковинное кресло, к ней сзади подошла мадам Колетт.
– Идите ко мне, милая. Я аккуратно сниму платье, дабы не помять нашу прическу и помогу расшнуровать корсет. Нам надо раздеться донага. Вы сядете в это кресло, вас побреют и удалят лишние волосы – от подмышек до лобка. И не дрожите, это не будет больно. Хатидже – мастер своего дела.
– А может, не надо? – чуть бессмысленно пролепетала Людочка.
– Мадемуазель, вы имеете связь с таким богатым господином. А ходить с пучками лишних волос на теле – сейчас моветон. Наши девочки работают на манер восточных красавиц – совсем голенькие и чистые. И это сейчас модно в Париже. Поверьте, граф оценит ваши бритые прэлести и щедро одарит. Вы же любите, наверное, подарки? О, все женщины любят духи, наряды и украшения.
Людочка рассеянно смотрела на то, как шевелятся карминовые губы мадам Колетт и почти ничего не соображала. За несколько минут ловкие руки Колетт сняли с нее платье, расшнуровали корсет. Тут же было предложено снять чулки и панталоны.
– Садитесь в кресло.
Людочка дрожала от страха. Голая, на цыпочках, она прошла к креслу и присела на край. Она крепко сдвинула ноги и ждала, что будет далее.
– Не так, вы сели неправильно, – затараторила хозяйка. – Сядьте глубже, а ноги разведите в стороны. Ножки должны лечь в эти желоба. Ах, какие у нас длинные и прекрасные ножки. Анатоль знает толк в женских ножках, – засмеялась она.
И не успела Людочка что-либо возразить, как сильные руки Колетт развели в стороны ее ноги. Колетт действовала довольно решительно.
– Я пристегну вас кожаными ремнями – на талии и возле коленей. Видите ли, сия процедура требует большой аккуратности. Шевелиться и дергаться нельзя, иначе мастер может нечаянно порезать вас, моя дорогая. А лезвия у Хатидже сделаны из дамасской стали. Они даже толстые ремни разрезают вмиг, не только нежную кожу, – зловеще хохотнула хозяйка.
Людочку прошиб холодный пот. Низ живота пульсировал.
– О, да ты у нас еще дева! – заглянув ниже, подивилась Колетт – Двигайся ближе, попку на меня. Вот так. Не бойся, Хатидже будет аккуратна. Если захочешь помочиться, скажешь ей.
Весь хмель от выпитого шампанского выветрился в тот же миг.
«Господи, почему все норовят заглянуть мне туда? То злобная Капитолина, теперь эта хозяйка. Сейчас еще придет какая-то Хатидже. Если бы не просьба Анатоля, я никогда бы не пошла на все это» – рассуждала Людмила, трясясь от страха.
Сбоку что-то щелкнуло, повернулся невидимый ключ, стена сама собой приоткрылась – показался край цветной юбки.
«По-видимому, в драпировке есть потайная дверь» – едва подумала Людмила, как тут же увидела весь облик таинственной Хатидже.
Женщина двигалась очень тихо. Она была довольно высока, грузна и широка в плечах. Одета Хатидже была на восточный, почти базарный манер. Яркий, аляповатый наряд оттенял лишь черный головной платок. Черты лица казались крупными и резкими, почти мужскими. Сходство с мужчиной состояло и в том, что над верхней губой у дамы были вполне настоящие, черные усы.
В отличие от мадам Колетт, Хатидже была молчалива. Она принесла с собой низенькую деревянную скамейку, села возле нашей героини и зажгла обе лампы. Щелкнул запорный газовый кран, сноп яркого света ударил Людмиле прямо в глаза, заставив ее зажмуриться. Все ее стройное тело, раздвинутые ноги, круглый живот с маленьким пупком, пушистый лобок, срамные губы, вульва и даже розовый анус – все это было освещено так, словно Людмила лежала под ярким светом театральных софитов. Хатидже остановила свой взор на новой клиентке… Присмотрелась ближе – крякнула от удивления:
– Мамзель еще не была с мужчиной? – сказала она каким-то странным фальцетом, напоенным восточным говором.
Людочка кивнула и снова покраснела.
Турчанка встала и велела Людочке поднять руки. Затем Хатидже взяла керамическую миску, насыпала туда какого-то мыльного порошка, размешала его и намазала им Людочкины подмышки. Сильная рука легла на предплечье и чуть сдавила его, зафиксировав плечо. Снизу что-то звякнуло, и Людочка ощутила на себе скольжение легкого лезвия. Не прошло и трех минут, как обе подмышки Людмилы были освобождены от русых волос. Так же, молча, Хатидже обработала нежную кожу пахучей, настоянной на лаванде мазью, а после припудрила её.
– Здесь все хорошо. Опусти руки.
Затем Хатидже намылила и побрила Людочкины ноги, ниже колена. Ополоснула их теплой водой, и также натерла мазью. Эта мазь пахла розовым маслом. Откуда-то из тумбы, турчанка достала керамический горшок с бинтами, пропитанными каким-то жиром, и обмотала ими ступни Людмилы и кисти ее рук. А сама принялась намыливать и брить Людочкин лобок. Девушка вся затаилась от страха. Нервно пульсировало колечко ануса…
Побрив лобок, Хатидже аккуратно ополоснула его водой. Вода лилась прямо в таз, который стоял под сидением. Сильные руки турчанки надавили на внутреннюю поверхность бедер. В ход пошли мелкие лезвия. Турчанка водила ими возле самых нежных складок, стараясь сбрить все, до единого волоска.
Пытливый взор турчанки был направлен на промежность.
– Тут приказано не брить, а выщипать, – пропела ломаным голосом Хатидже.
– Как это? – тихо спросила Людмила.
– Будет немного больно. Терпи…
Мастерица взяла моток шелковых ниток. Пара ловких движений, и в крупных ладонях Хатидже образовалась хитроумная скрученная петля. Женщина склонилась над пахом Людочки и привычным движением стала выдергивать тоненькие волоски возле промежности и сжатого ануса.[10]
Людочка почувствовала небольшие покалывания. И снова невольно напряглась. Неожиданно она поняла, что сильно хочет помочиться. Турчанка, глядя ей в глаза насупленным взором, отчего-то быстро и без слов вникла в ее состояние. Она встала со скамейки и стала лить воду на сердцевину розовой вульвы. Людочка сама не заметила, как пописала прямо в эту долгую водную струю. Мягкая ткань легла на мокрые складки кожи, большая рука аккуратно промокнула промежность. Хатидже продолжила работу с ниткой.
Пока турчанка дергала волосы вокруг ануса, мысли Людмилы снова уплыли в сторону Анатоля. Она вспомнила его нежные ласки…
Хатидже цокнула языком, черные глаза иноземки грозно посмотрели Людочке прямо в лицо. Турчанка прошептала что-то на своем языке, взяла еще одну тканевую салфетку и снова осушила предательски увлажнившуюся поверхность Людочкиного лона – скользкая влага мешала работе с нитью.
* * *
А что в это время делал Анатоль? Если вы думаете, что граф ждал свою возлюбленную в вестибюле цирюльни или мило беседовал с хозяйкой за чашечкой кофе, то вы сильно ошибаетесь. Колетт за определенную плату предоставляла своим клиентам еще одну, маленькую и довольно пикантную услугу. Прямо позади кабинета, в котором работала турчанка Хатидже, находилась еще одна потайная комната. Здесь тоже стояло кресло. Обычное, довольно удобное, бархатное кресло. И даже столик с кувшином воды для мытья рук и стопкой тканевых салфеток. И чаще всего это кресло использовали особи мужеского пола, особи крайне любопытные и изощренные в своем любопытстве. Бывало и так, что сюда приходили случайные посетители, и за определенную плату, через отверстие в стене, с вмонтированным в драпировку театральным биноклем, произведенном в мастерской Теодора Швабе[11], могли лицезреть весь процесс работы мастера с гениталиями женщин.
К услугам мадам Колетт в основном обращались женщины полусвета: богатые содержанки, многочисленные любовницы, а также дорогие проститутки. Дело в том, что во втором крыле этого здания Колетт держала довольно роскошный и дорогой бордель. А стало быть, умелая Хатидже редко сидела без работы. К ней даже существовала тайная запись. И услуги сей восточной мастерицы ценились очень высоко.
Одну запись вели для дам, а другую… для господ, желающих тайно наблюдать за всем процессом. Дамы, конечно же, не были осведомлены о наличии второй записи. Мужчины, как правило, заходили в эту комнату с черного входа. Возраст местных вуайеристов был различным. Сюда ходили и прыщавые гимназисты, бурно вошедшие в подростковый pubertas, и голодные во всех смыслах студенты, и люди среднего возраста и, конечно, джентльмены совсем преклонных годов, чей дотошный вуайеризм сопровождался пусканием слюней и тряской седых голов. А иногда и сердечными приступами. Редко кто из посетителей не онанировал прямо возле кресла. А после приходила уборщица Груша и с ворчанием вытирала обильные следы плотских излияний, пожертвованных на алтарь второму сыну Иуды, мифическому Онану. Бывало и так, что за время обслуживания одной дамы в кабинете Хатидже, в тайном будуаре менялось по три посетителя. Интересно и то, что в редкие минуты простоя сего алькова разнузданных фантазий и обители амурных грез, возле окуляров морского бинокля любила посиживать и сама Колетт, и еще несколько особей женского пола.
Итак, Анатоль, конечно же, был осведомлен о наличии этой пикантной услуги. И потому, как только за Людочкой закрылась дверь в покои Хатидже, граф уже восседал на кресле и, не отрываясь, смотрел в бинокль. Его ужасно заводило то, как Людочка краснела. Он видел, как от страха заострялись нежные соски, как трепетала ее девственная вульва, как сжимался розовый кружочек ануса, когда вокруг него летала сталь дамасского лезвия или шелковая петля.
Ах, этот розовый анус! Эта сладкая и пленительная звездочка, эта любимица древних фараонов, царей Ассирии, китайских императоров и римских патрициев. Это многажды воспетое святилище порока… Он более всего не давал покоя пресыщенному плотскими утехами Краевскому. Услужливая память подкинула Анатолю воспоминания из далекой юности. Его родной дядя, будучи заправским военным, прошел две войны и вышел в отставку в чине генерала инфантерии. После отставки, маясь от скуки, он решил все свободное время посвятить воспитанию двух своих племянников. Младшему брату Анатолия Александровича на тот момент было всего четыре года, и потому все ретивое внимание дядюшки было обращено на несчастного Анатоля, который до глубины души не любил военных, муштру и вообще все, что связано с военной карьерой.
Настойчивый и педантичный дядя имел на сей счет иные взгляды и определил мальчика в Пажеский корпус. Не смотря на то, что юный Краевский был способен к наукам и учился исправно, его очень раздражала бесконечная муштра, а также внутренние неуставные традиции, заведенные в этом учреждении. Он живо вспомнил ту страшную и греховную ночь, когда «старшие товарищи» лишили его невинности. Он вспомнил боль и стыд… Анатоль крепко спал в казарме, вместе с такими же, как и он новичками. Их разбудил топот десятка сильных юношеских ног. А потом началась безобразная оргия, имеющая тривиальное и гнусное название – игра в «лошадок». Как и других, его бесцеремонно взяли силой. Жаловаться было бесполезно. Старшие поговаривали, что само начальство в курсе этих, по их мнению, невинных детских забав. Надобно сказать, что часть воспитанников данного, закрытого учреждения, не оставляла свои забавы и после окончания Пажеского корпуса. Сии забавы довольно часто перерастали в нежную мужскую дружбу. А бывало и так, что дружба эта длилась долгими годами, лишая её приверженцев всяческого желания создавать семьи с женщинами. Поговаривали, что и в высшем военном и гражданском руководстве довольно таких, мужских пар. И что ежели сам граф Уваров, в свое время, имел молодого любовника, о котором знали в свете, и которого он назначил на должность вице-президента Императорской Академии Наук и на должность ректора Санкт-Петербургского университета, то что тогда говорить об остальных.[12]
Именно сейчас так живо вспомнились детали той памятной ночи. Оргий потом было много. Но более всего запомнилась именно первая. Анатолю было четырнадцать. Его и еще трое новичков, в одних ночных рубахах заставили ползать на коленях по холодному полу. Их грубо подгоняли розгами и пинками. Анатоль дрожал от страха. Он видел тот момент, как «опустили» пухленького Константина. Он видел толстый, как у девчонки зад несчастного. Как ни странно, Константин почти не испугался насильников и даже не кричал. Его тут же окрестили «Катькой», похлопали по послушному заду и сказали, что эта «мазочка»[13] станет самой любимой в роте… Спустя год Анатоль и сам вошел во вкус. А «Катька» стал его постоянным любовником. Будучи юношей, он испытывал к любовнику смешанные чувства – от острой жалости и нежной любви, до откровенного презрения. Они часто ссорились по вине Краевского. Краевский и сам не мог объяснить себе внезапные приступы какой-то тусклой, будто давнишней злости и обиды на своего преданного друга. Анатоль обожал доводить Константина до слез своими вызывающими оскорблениями, мучить и унижать прилюдно. Бывало, Анатоль назначал другу изощренные и позорные наказания и даже бил по ночам розгами. Он брал розги у караульного. Они уходили в уборную. Это было холодное помещение, окрашенное до потолка светлой краской. Здесь всегда было чисто, слегка пахло табаком и карболкой. Анатоль приказывал Константину раздеться донага и упереться руками о высокий подоконник. Он оглаживал ягодицы и спину руками, а потом наносил хлесткие удары. Один-два-три, а иногда и десять. Константин стонал, но его член предательски поднимался. От этого Анатоль еще более зверел. Когда «Катька» принимался плакать чистыми и крупными слезами и молить о пощаде, сердце Анатоля сжималось от жалости. Его душу терзали муки совести, а плоть нестерпимое вожделение. Он бросал розгу… И нежно обнимал Константина. Они мирились долгими ночами. Анатоль ласкал «Катьку» как мужчина, кормил конфетами, дарил подарки. Это было изысканное и извращенное наслаждение…
Константин был выходцем из старинного княжеского рода. Впоследствии он получил высокую должность в Сенате. Сам же Анатоль был отчислен из Пажеского корпуса по причине частых простуд, кои он провоцировал специально, питьем ледяной воды и стоянием ночами на холодном ветру. Краевский сделал все возможное, чтобы быть подальше от военной карьеры. Позднее Анатолий Александрович поступил в Императорский Санкт-Петербургский университет, на историко-филологический факультет и окончил его со званием магистра.
«Катька», а в миру – Константин Николаевич С-кий, иногда навещал своего возлюбленного. Визиты эти были тайные и проходили они в кабинетах бань, трактирных или гостиничных номерах. Однажды «Катька» под благовидным предлогом увез Краевского в столицу, на две недели. Случались и их общие поездки за границу. Кроме «Катьки», Краевский не связывался с иными представителями «голубых кровей». История влечения к «Катьке» была особой. «Катька» – был священен и неповторим, как неповторимо то, что берет свое начало в ранней юности. Кроме всего прочего, его любовник был очень талантливым сочинителем, знал множество языков, был тонким интеллектуалом и сентиментальным по природе. Краевский убил бы любого, кто посмел бы посягнуть на их тайный союз. «Катька» был капризен как женщина и нежен до исступления.
К вопросам познания плотских удовольствий наш пытливый граф подходил эмпирически. И эмпиризм его носил такой обширный характер и имел такую огромную энергию, что за ним вряд ли кто мог угнаться. К двадцати пяти годам Краевский окончательно понял, что более всего его тянет именно к женскому полу. А «Катька» оставался при этом священным идолом и великим исключением из правил. «Катьку» он любил, и любовь эта была вечной.
Что касаемо дам, то в интимных связях со своими многочисленными любовницами Краевский, отдавая дань привычкам молодости, предпочитал иметь с женщинами сношения через «задний оход».
Именно о «заднем оходе» Людмилы и мечтал теперь Краевский. Возможно, что он лишил бы ее девственности и обычным путем. Но, на прямой дороге к этому действу лежали два огромных, словно валуны, препятствия. Первое – он не желал иметь внебрачных детей, ибо появление байстрюков грозило ему большим скандалом с супругой и неприятностями в обществе. Супругу Краевский не любил и сходился с ней в спальне лишь с целью зачатия наследников, применяя при этом всю мощь своей творческой фантазии, дабы представить на ее месте любую иную, приятную ему женщину. Это было необходимо, иначе его потенция давала позорные сбои. Супруга скандалила, а фантазия Краевского отчего-то работала все хуже и хуже. Но! Ни за что на свете он не посмел бы посягнуть на «святая святых» – спокойствие и благополучие их союза, а также бросить тень на свою безупречную репутацию добропорядочного мужа и отца большого семейства. Краевский мечтал о наследнике, но пока его супруга не могла зачать мальчика и рожала только дочерей.
Второе препятствие казалось Краевскому вздорным и позорным. Думая о нем, он много раз чертыхался про себя и вслух, но… нарушить его тоже не мог. Все дело было в тех порядках, кои много лет назад установила его покойная матушка, и кои пришлись по вкусу его супруге, истовой католичке Руфине. Порядки эти заключались в том, что вся прислуга женского пола, работающая у них в доме, должна была сохранять целомудрие. Матушка вполне резонно была уверена в том, что все плотские шалости заканчиваются болезнями Венеры. От них она и старалась оградить свой дом и маленьких детей. И правила эти соблюдались строго: каждые три-четыре месяца всех горничных и иных работниц проверяли на предмет чистоты и непорочности. Если прислуга изъявляла желание выйти замуж, ее тут же рассчитывали и отпускали с богом.
Краевский понимал, что сойдись он с Людочкой естественным способом, то его будет ждать чудовищный скандал, а Людочку позорное изгнание с места службы.
Но сейчас его мысли были очень далеки от всяческих формальностей и общественных устоев. Сейчас весь фокус его внимания, весь разум, все сердечные и иные порывы были направлены лишь к одному объекту. Этот объект, будучи маленьким и довольно тривиальным, рос в его глазах до безумного фантома. Фантом этот дышал страхом и предвкушал скорое вторжение. Ему казалось, что он будет ускользать от его грубого натиска, пытаться убежать, молить о пощаде. Но не было такой силы, которая заставила бы Краевского свернуть с намеченного пути. О, ликуйте мощные приапы, радуйтесь звенящие колоссы, алчущие тугую, молодую и горячую плоть! Вы получили достойную цель для ваших острых мечей… О трепещите все обнаженные и согбенные в низком поклоне! Вы – тугие тоннели разврата, вы – влажные силки, ловящие птиц вожделения, вы – невольники безудержных фантазий, вы ведущие к пароксизму страстей и опустошению тяжелых тестикул. Бойтесь, ибо не будет вам пощады и скорой свободы.
Дрожи и кайся, афедрон, Моля усердно о пощаде. Нагою пышностью сражен, Я утолю твои печали… Алкаю узость твоих врат И их пугливую стыдливость. Ты криком страсти восхвали Приапа дерзкую пытливость.Краевский вскрикнул и обмяк.
Через пять минут он встал, застегнул пуговицы на брюках, перешагнул через маленькую белую лужицу, распластавшуюся на серых половицах. Ополоснул руки, скомкал салфетку и вышел.
* * *
Не прошло и получаса, как турчанка закончила туалет Людмилы. Она убрала все волосы с ее тела, а также размотала мазевые бинты и обработала ступни девушки – отскоблила пятки до появления розовой кожи. Красиво подстригла и отшлифовала ноготки. Тоже самое она проделала и с руками. Десяток полировочных бархоток прошлись по узким ноготкам на пальцах, пахучий жир был втёрт в чуть обветренную кожу Людочкиных кистей.
Граф ждал ее на улице. Он курил сигару и о чем-то думал, рассматривая быстро бегущие облака.
– Я устала, – тихо произнесла она.
– Как ты хороша… Сейчас мы поедем домой и ты отдохнешь.
Они сели в экипаж.
– Ты не испугалась Хатидже? – поинтересовался он с улыбкой.
– Немного…
– Он хорошо умеет обращаться с дамами.
– Он? – Людочкины глаза округлились от удивления.
– Да, это – мужчина. Он евнух, скопец. Когда-то он служил в серале. Но был отпущен на свободу и с нашими, русскими купцами, переехал в холодную Россию. Здесь его взяла на работу Колетт.
– Но, почему вы мне не сказали, что это – мужчина? – возмущенно прошептала Людмила.
– А он давно не мужчина. Он женский мастер. Забудь и не думай о нем. Скопцам неведомы приапические страсти. В своем ремесле он лучший.
За разговором они не заметили, как подъехали к дому Краевского. Людочка вышла из экипажа и пугливо осмотрелась. Граф снова пошел впереди. Дорожки сада были пусты. Людмиле показалось, что возле поворота, ведущего к хозяйственному флигелю, мелькнул коричневый подол платья невидимой горничной.
Они снова поднялись в господские покои. Людочка присела на край кровати.
– Анатолий Александрович, мне право, неловко. Я все время боюсь, что в дом кто-то зайдет. Приедет приказчик или того хуже – Капитолина или ваша супруга.
– Приказчика я отослал в Орловскую губернию. Он занят покупкой рысаков и пробудет там довольно долго. Ни Руфина, ни тем паче Капитолина сюда никогда не приедут без моего на то позволения. Я сам их навещу на той неделе. Ни считая молчаливой прислуги, в доме никого не будет до самой осени. Ты слышишь, на втором этаже, в детской, начался ремонт. Там работают мастера. До нас с тобой никому нет дела. Любимая, успокойся, – он присел рядом.
Его серые внимательные глаза смотрели, казалось, в самую душу. От бородки пахло духами. Сердце его стучало так громко, что она слышала его стук в своей голове. Он потянул ее за руку. Она упала на кровать, соломенная шляпка слетела на пол. Завитые локоны рассыпались по подушкам. Граф принялся целовать ее долгим, страстным поцелуем.
– Разденься, любимая. Ты так прекрасна нагая, – шептал граф, целуя ее шею и приподнятые корсетом груди.
– Анатолий Александрович, вы сводите меня с ума, – отвечала она, глядя на него влажными глазами.
– Так и должно быть, желанная моя.
– Анатолий Александрович, мне надо с вами поговорить, – она приподнялась.
– О чем, любимая?
– Мне неловко…
– Ты без смущения и прямо можешь говорить со мной на любую тему и задавать любые вопросы. Мы же с тобой близкие возлюбленные. Говори…
– Я должна буду вам отдаться? Так?
Он улыбнулся. Но она решительно продолжила:
– Я итак вам отдалась, но, видимо, не до конца. Насколько я знаю, насколько понимаю, чувствую и видела на ваших картинках, мужчины делают большее.
Он снова улыбнулся и сделал протестующий жест.
– Мила…
– Ну, отчего и Колетт и этот… ужасный Хатидже, оба сказали мне, что я еще непорочна. Значит, те наши ласки ничего не изменили у меня там…
– Они и не могли ничего изменить, – рассмеялся Анатоль. – Скажу тебе более: ты и останешься непорочной.
– Но разве так бывает?
– Бывает…
– И вот еще что, самое главное, – она залилась краской. – Сегодня, я, глупая, вспомнила о том, что говорила мне Капитолина Ивановна перед устройством в ваш дом.
– И что же? – его лукавые глаза блеснули.
– Она… она… сказала, что меня здесь будут проверять каждые три месяца. Ну, вы сами догадываетесь на что.
– Догадываюсь, но это не самое главное. Это мелочь, – сказал он более твердым тоном, в котором сквозили нотки легкого раздражения.
– Как же, мелочь? – заикаясь, спросила она. – Если у нас с вами все это случится, то это не станет мелочью. Меня ждет позор и изгнание из вашего дома.
– Ну, во-первых, я найду тебе квартиру, и ты сама отсюда съедешь… Но дело в ином. Я и сам не желаю портить твою плоть, а заодно и репутацию. Мила, я женился бы на тебе без промедления, но, увы, я женат. И ты об этом знаешь.
– Да, вы женаты. И поэтому, нам не следует продолжать, – она вскочила с постели.
– Мила, не сердись. И не осуждай меня за то, чего я изменить уже не в силах. Выслушай, пожалуйста. Мы оба отравили друг друга сильной страстью. Она проникла нам под кожу и в самое сердце, и она намного сильнее нас. Страсть, любовь – для меня эти понятия почти равнозначны. Скажи честно, разве тебе хочется покинуть меня? Не видеть моих глаз, не слышать голоса? Не чувствовать моих рук и губ?
– Нет-нет! – она замотала головой и вдруг совершенно неожиданно разрыдалась.
Он принялся ее успокаивать, нежно целуя в щеки, глаза, губы.
– Тогда как? – всхлипывая, обескуражено спросила она.
– Есть разные способы любви. Понимаешь, дело не в этих, совершенно идиотских традициях. Я их не боюсь… Я не боюсь свою супругу, ни тем паче Капитолину, – он даже зло рассмеялся от вздорности этого предположения. – Я вообще никого и ничего не боюсь. Дело просто в том, что ты еще очень молода, и наступит время, когда на твоем пути встретится достойный молодой человек. И ты выйдешь замуж.
Она перестала плакать и мотнула головой.
– Не возражай. Так будет… Возможно, я даже сам подберу тебе достойного супруга.
– Как, как вы можете так говорить? Я же… полюбила вас.
– Родная моя, возлюбленная, ты даже не представляешь, насколько мне дорого это твое признание. Но время быстротечно. Я не молодею, и когда-нибудь наступит этот час, когда мы вынуждены будем расстаться.
– Нет…
– Господи, я глупец! Говорить такое возлюбленной в самом начале отношений. Мила, я не то хотел сказать. Я это сказал к тому, что не позволю себе иметь с тобой половое сношение обычным способом, как делали до нас все мужчины и женщины этого подлунного мира. Ты так и останешься для всех, а особенно для супруга, непорочной. И потом плотская связь чревата тем, что от нее бывают дети…
– Но, как же… Меня мама выгонит из дому, если «я принесу в подоле».
– Никто тебя не выгонит. Ничего не бойся. Мы пойдем совсем иным путем. Я буду ласкать тебя иначе. Этот способ использовали и римские патриции, и священные весталки, и вавилонские и египетские царицы, и сама Клеопатра, и многие роскошные девы. Не спрашивай меня пока ни о чем. Я все тебе постепенно расскажу… Я поведу тебя тропою чувственных наслаждений. Наслаждений тонких и изысканных. Наслаждений достойных не плебеев, а аристократов.
Людочка слушала своего Краевского, затаив дыхание. Она смотрела на него, как на бога. Краевский же, не смотря на все свое красноречие, немного лукавил, как лукавят все мужчины, уговаривающие женщин на тайную связь. Он не настолько был свободен материально, чтобы ничего не бояться. Мы упомянули выше, что Краевскому были крайне нежелательны не только нелепые и позорные разоблачения, но и даже малейшее пятно на собственной репутации. Да, он боялся и боялся сильно своей супруги. Ибо всю его красивую жизнь, многочисленные счета из модных магазинов, ресторанов, дорогих курортов, изысканных развлечений, званых обедов, дорогих экипажей, породистых скакунов – словом все оплачивалось из огромного состояния его супруги Руфины Леопольдовны, в девичестве Фон Фейербах. Отец Руфины был довольно крупным миллионером, владельцем нескольких мануфактур. И потому Краевский лгал. Вы спросите: зачем он так рисковал? И мы затрудняемся дать ответ. Только сам Всевышний мог бы разобраться в тех мистериях, что бушевали в душе этого красивого и умного джентльмена. В ней боролся страх и благонравие с равными по силе плотскими желаниями и жаждой риска. Да, он рисковал и словно ходил по лезвию острой бритвы. И это состояние пьянило его без вина. Если бы какая-то сила рискнула отнять у него вторую, тайную его жизнь, полную любовниц, шумных борделей, притонов, опиумных клубов и игорных домов – всего того, что в обществе считается пороком – он верно бы зачах или даже умер от скуки…
В душе он был жутко рад, что разговор о невозможности дефлорации начала сама Людочка, а не он. С него снимался груз тех неловкостей, которые могли бы возникнуть, если бы опасения первым высказал он. А так все его красноречие выглядело довольно убедительным и естественным.
Краевский лег на кровать. Он устал говорить. Людмила тоже молчала. Прошло несколько минут.
– Людочка, ты не голодна?
– Нет.
– Тогда, давай снова выпьем.
Он переоделся в домашний халат и принес бутылку темного вина.
– Мила, я угощу тебя прекраснейшим вином, оно называется Lagrima Christi. Это удивительное вино, сладкое, как сама любовь. Мне доставили его из Италии. Оно изготовлено из винограда, растущего возле подошвы Везувия. Ты представляешь эту древнюю землю и вулкан, над которым курится дым? Сотни лет эта земля рождала чудесную лозу, которой я напою тебя, любимая. По этой земле ходили сильные ноги римских патрициев и стройные ножки гетер. Ты слышала что-либо о гетерах?
– Нет…
– О, я расскажу тебе о них. Это были свободные женщины Афин и Рима. Греции в большей степени, чем Римской империи. Их не всегда приветствовало строгое общество, ибо они были жрицами любви. Гетеры развлекали, утешали и образовывали мужчин. Гетеры не были вульгарными блудницами. Они обладали искусством тонкого соблазнения. Для многих граждан было почетно сойтись поближе с гетерой. Именно гетеры так часто прибегали к иным формам любовных соитий, о которых речь впереди…
Краевский разлил вино по бокалам и достал изящную бонбоньерку с ореховыми и шоколадными конфетами. Пахнуло терпким виноградом. Людмила сделала несколько глотков, и у нее тут же закружилась голова.
– Какой прекрасный букет, – смаковал Краевский. – И снова о гетерах. В Афинах существовала специальная доска – «керамик», где мужчины писали гетерам предложения о свидании. Если гетера была согласна, то она подписывала час свидания под предложением.
– Как бы я хотела поехать в Италию или в Грецию, – молвила Людочка, глядя влюбленным и бессмысленным взором на графа. – Там тепло, и там море…
– О, у нас с тобой все еще впереди. Мы обязательно туда поедем. Тайно… И мы будем там гулять у подножия Везувия, и ты будешь отдаваться мне, как Аспазия или Таис Афинская… Сними с себя платье. Пойдем в постель.
Он помог ей раздеться. Когда платье было снято, он долго любовался на ее тугую грудь, поднятую корсетом. Он подходил к ней и целовал по очереди соски. Стянул панталоны. И чуть не задохнулся.
– Мила, как прекрасен твой голенький лобок. Смотри, он такой же выпуклый, как и прежде. Смотри! – он потащил ее в уборную.
Включил там газовый фонарь и подвел ее к огромному зеркалу. Людмила посмотрела на себя и покраснела. Да, она видела, что граф не шутит. Она и вправду была хороша. И новая прическа и дорогой корсет, украшенный сеточкой кружева и обнаженный низ – все было безупречно и волнительно. Она рассматривала голый лобок. «Почему он не назовет это место иначе? Так, как называла его Анька… Я так хочу услышать это слово…» – думала она, пьянея от страсти.
– О боже, я так люблю такую форму лобка… Он гладок, словно морская галька и мягок. Хатидже – истинный мастер. Мила, смотри, сквозь твои губы слегка проступает налитой клитор. Он припух и рвется наружу. Он так хочет моих касаний. Смотри, какой он мокрый. Ты вся течешь… Разведи ноги шире, пожалуйста. Присядь чуточку. Так… Какая ты скользкая… Все течет по ножкам…
Она зажмуривала глаза и делала так, как просил он. А он смотрел на ее отражение в зеркале, еле сдерживая собственного друга.
– Кому-то покажется странным этот изыск, – шептал он на ухо. – Удаление волос с женских гениталий принято больше на Востоке. Там с этим строго. Наши же дамы редко удаляют волосы, считая это занятие прерогативой лореток[14]. Глупые! Право, это дело вкуса. И мне нравились твои чудные волоски, но отчего-то именно голенькое сокровище заводит меня еще сильнее. В таком виде я остро чувствую твою беззащитность, и остро желаю повелевать всеми твоими желаниями.
Краевский расшнуровал корсет и снял его. Теперь она стояла совсем голая.
– Мила, повернись теперь задом. Ах, какая у тебя красивая попка. Такой попке бы позавидовала любая гетера. Я заприметил эту попку еще тогда, на экзамене. И я не спал из-за нее ночами… Твоя попка – моя погибель. Наклонись, пожалуйста, ниже. Я полюбуюсь на твою розовую звездочку. О, как славно поработала Хатидже. Теперь ничто не мешает мне ласкать тебя всюду… Еще ниже. Позволь, я раздвину твои ягодицы и посмотрю на это в зеркало.
Через минуту он подхватил ее на руки и унес на кровать. Людмила, не помня себя, раздвинула ноги. Анатоль сел на колени и склонился возле ее паха. Как только его язык коснулся нежных лепестков, Людочка застонала и сжала зубами кусочек простыни. Он ласкал ее вульву языком так искусно, что Людочка чувствовала, что еще минута, и она взорвется. Но он остановил свои ласки.
– Любимая, я покажу тебе врата, куда очень скоро ворвется мой меч. Это – священнодействие, и оно не любит спешки, ибо спешка погубит в тебе любовный жар. Я не хочу с тобой быть грубым. Я буду нежным любовником. Твой сок струиться ниже, и нам пока не нужны никакие масла. Я буду тебя ласкать и потихонечку введу в твою попочку пальчик или два.
Он так и сделал. Он чуть замедлил ласки клитора, распаляя ее желание, но при этом ввел в нижнюю норку сначала один палец, а потом оба. Он задавал свой ритм и направление, двигаясь в ней аккуратно и нежно. Сначала ей все это показалось не столь приятным. Она сжалась.
– Расслабься. Расслабься и доверься мне. Я подготовлю тебя… Представь, что ты юная гетера, а я твой наставник, обучающий любовной игре. Скоро твоя звездочка проглотит меня с легкостью.
Он делал все движения так, что Людмила невольно стала поддаваться к нему все ближе, насаживаясь на его пальцы. Ее кульминация была бурной – она громко застонала, выгнув шею. А он почувствовал, что ее заднее колечко чуточку расслабилось перед финалом, а после сильно сжалось…
– Ты умница. Мы идем с тобой в верном направлении. Еще немного, и твоя попка станет шире… Я буду ее тренировать. Каждый день… не торопясь, по десятой доле дюйма…
Он встал с кровати. Она увидела, что его собственное орудие любви стоит, словно каменный жезл. Она вопросительно посмотрела на него.
– Сегодня я хочу показать тебе извержение Везувия, – он улыбнулся. – Я хочу, чтобы ты увидела, как это происходит.
Анатоль отошел в сторону.
– Лежи, как лежишь, не сдвигай ноги. Я буду смотреть на тебя. На твою мокрую раковину.
Он принялся двигать правой рукой по стволу и головке члена.
– Не сдвигай ножки… Ты такая мокрая, опухшая… Горячая.
Через минуту до Людочки долетели брызги. Она видела, как он кончал, вздрагивая телом и издавая странные, шипящие звуки. После он молча подошел к кровати и упал рядом.
– Давай немного отдохнем… – глухо произнес он и тут же заснул.
* * *
Проснулась Людмила от того, что почувствовала на себе его взгляды. Он давно не спал, наблюдая за ней. За окном уже светало. Потянуло утренней свежестью. Незаметно пролетел вечер и ночь.
– Ты выспалась, моя любовь? – нежно спросил он.
– Да, – ответила она и укрылась простыней.
– Не закрывайся от меня. Я хочу все время видеть тебя голенькую. Сходи в туалет, а после мы снова немного поиграем. Я тебе кое-что покажу. Потом мы поедем завтракать.
Когда Людочка вышла из уборной, графа в комнате не было. Через несколько минут он вернулся. В одной руке он нес альбом с фотографиями, а в другой коричневую коробку, обтянутую кожей, с перламутровой застежкой на боку. Коробка выглядела довольно объемной.
– Что это? – полюбопытствовала Людмила.
– Во-первых, мадемуазель, ты почему без моего разрешения надела халат? Я же сказал, что хочу видеть тебя только голой.
– Но…
– Никаких «но». Когда мы будем в Италии или во Франции, я сниму виллу и заставлю тебя постоянно ходить по ней нагишом. Вилла будет выходить к морю. Ты будешь плавать, словно морская наяда, а после выходить на берег, где будет тебя поджидать твой господин. О, к тому времени ты станешь такой искусной гетерой. Я научу тебя всему, что сам умею…
Она послушно сняла халат и села на кровать, поджав под себя ноги.
– А сейчас ты увидишь, что я принес.
Он открыл кожаную коробку. Внутри коробка была устлана мягкой подушкой из красного бархата. Прямо на ней, в неких углублениях, соответствующих форме, лежало несколько странных на вид предметов. Все они были выточены из дерева и гладко отшлифованы. Один предмет был очень похож на мужской член. Даже его размер, длина и форма напоминали детородный орган самого Анатоля.
Людочка ахнула и отпрянула.
– Зачем это?
– Зачем? Ты потом узнаешь. Смотри, как искусно он сделан. Я заказывал его китайскому мастеру, который живет в Париже. Он снял мои мерки и сделал слепок из гипса. Этот приап – точная копия моего друга, – Анатоль с гордостью посмотрел на Людочку. – На нем даже сохранен рисунок вен и текстура кожи. На востоке этот предмет называется – дилдо.
– Надо же…
– Вот…
– А это что? – палец Людмилы указал на другие предметы.
Рядом с деревянным фаллосом лежали три продолговатых, яйцеобразных шарика с переходником и круглым основанием на конце. Это основание напоминала широкую шляпку. По ней шла искусная резьба. Да, на шляпке, прямо по дереву, мелким рисунком изображалось греховное соитие. Мужчина брал женщину сзади. А она стояла на четвереньках. На трех других шляпках были изображены иные позы. Людочка мельком заметила, как на другой мужчина рукою вводил какой-то предмет в зад женщине. Резьба была тонкой, но рисунок выглядел довольно отчетливо.
– Эта коллекция стоит очень дорого. У меня в сейфе есть и стеклянные дилдо, и пробки, кожаные, и каменные. Но я решил начать наше знакомство именно с этой.
– Как это?
– Любимая, вчера мы только подступили к этому тонкому вопросу. Как мы решили, я не стану лишать тебя самого дорого, что есть у девушки. Я не лишу тебя девственности. Но от этого занятия нашей любовью не станут скучны. А осмелюсь даже утверждать, что в итоге они понравятся тебе намного больше. В некоторых древних культурах были наложницы, в чьи вагины ни разу не вторгался мужской член. Их с ранних лет учили ублажать мужчин только посредством ануса. Анус – это твоя попка. Ты понимаешь меня?
– Да, – осипшим голосом ответила она.
– Я читал воспоминания путешественников и историков, которые пишут о том, что в Египетских пирамидах были найдены картинки, по которым вполне ясно, что древним египтянам данные ласки были не чужды. Вчера я тебе говорил, что Клеопатра, знаменитая жрица любви, являлась горячей поклонницей анального секса. К слову, в Древнем Риме анальный секс вообще был довольно популярным занятием, поскольку исключал беременность. Ты же не хочешь забеременеть?
– Нет, конечно, нет, – горячо возразила Людмила.
– Вот… То есть, мы оба понимаем, что когда-нибудь ты станешь матерью и верною супругою… Но не сейчас. А сейчас мы лишь позволим себе небольшое счастье. Я не знаю, сколько оно продлится. И не стану загадывать. Но я всей честью своей заверяю тебя, что ты не пожалеешь. Позднее я дам тебе хорошее содержание и выдам замуж. Ты согласна?
– Я согласна. Но… Маменька говорила, что это – грех.
– О, Мила, мы живем в просвещенном веке. Люди многие века до нас любили друг друга, и будут любить после нас. А все социальные нормы и их институты – это унылое нагромождение нашей цивилизации. Мы слишком пугливы. Мы боимся бога, который сотворил нас по образу и подобию своему, мы боимся церковников, мы боимся властей, мы боимся общественного порицания. Мы загнаны в угол. Страх убивает наши души. У нас итак отняли все. Мы всем должны, и никто не должен нам. И только воля и свобода выбора способны принести маленькому человеку истинное счастье.
Она молча слушала его. Все, что он говорил, было новым для нее. Казалось, что нет на свете человека умнее и рассудительнее его.
– Я не хочу замуж… Я не смогу никого полюбить сильнее вас.
– О, как я блажен, Мила… Твои слова заставляют мое сердце биться все чаще, – на его глазах навернулись слезы. – Я тоже полюбил тебя глубоко и всей душою.
Он поцеловал ее в лоб, как ребенка.
– Давай, вернемся к нашим игрушкам. Это будет забавная игра. Я хотел сказать тебе, Мила, что тебя не должно смущать место, выбранное мною для наших любовных утех. Во многих древневосточных любовных трактатах говорится о том, что неправильно считать отдельные части человеческого тела «нечистыми». В твоем теле, любимая, чисто все… Позднее я расскажу тебе о том, что предпочтительнее кушать, дабы нижние врата оставались чистыми. Я отвезу тебя к одному эскулапу, и он поставит тебе клистир с розовой водой. Мы будем иногда ездить и к нему, и в салон к Колетт. И не возражай мне. Ты привыкнешь. Никто и никогда не узнает о нашей связи. Я клянусь! И я сделаю тебя счастливейшей женщиной. Уже сегодня мы поедем с тобой по магазинам, и я накуплю тебе много красивых платьев, белья, обуви. Я хочу купить тебе сережки, кольца, браслеты. У тебя будет все…
Ее глаза заблестели от предвкушения скорого счастья. Она сидела нагая, поджав ноги под себя, и забыв о собственной наготе.
– Мила, ты видишь эти четыре пробки?
– Пробки? Они похожи на яйца…
– Это – анальные пробки. Они разные. И идут от меньшего размера к большему. Эти пробки нужны для тренировки твоих узеньких врат. Если мой приап ворвется в тебя без подготовки, тебе станет больно. Именно для этого древними мастерами были придуманы инструменты для легкого и постепенного открытия твоего нижнего цветка… Они помогут ему раскрыться для любви. Я буду нежен с тобой, потому, что люблю тебя.
Сейчас мы введем в тебя самую маленькую. Она чуть толще моего большого пальца. В течение дня ты поносишь ее в себе. А вечером я поласкаю тебя и выну ее. На следующий день я поставлю тебе вторую пробку. И так далее…
Откуда-то из глубин кармана Краевский достал небольшую баночку. Пальцы открутили крышку – пахнуло цветочным ароматом.
– Здесь оливковое масло, настоянное на флердоранже. Встань, пожалуйста, на четвереньки, и выгни спинку, я аккуратно введу эту пробку.
Людмила чуточку покраснела и вдруг замотала головой.
– Я боюсь…
– Делай, как я сказал.
– Нет, – в ней вдруг проснулась настырная игривость. – А что, если я не стану?
– Тогда я тебя накажу.
– Как?
– Я отшлепаю тебя. Сначала ладонью. Если не поможет, то ремнем. А могу и розгами.
Она немного опешила и побледнела.
– Мила, ты должна привыкнуть. Иногда я буду с тобой строг и настойчив. Иногда я буду позволять себе наказывать тебя.
Она бессмысленно смотрела в его глаза. Они стали холоднее.
– Слезь с кровати и наклонись, – он настойчиво взял ее за руку и потянул на себя. Она неловко сползла на пол. – Наклонись и разведи ягодицы руками. Не напрягайся, я введу аккуратно.
В его голосе теперь звучал металл. Она, стыдясь, сделала все, что он приказал.
– Расслабься, я тебе сказал, – он обильно смазал пробку пахучим жиром и в одно мгновение ввел ее в анус Людочки.
Она и ойкнуть не успела от быстроты этой процедуры. Людмила разогнулась. Одной рукой Краевский сильно сжал её грудь, а другой провел несколько раз по влажной расщелине лобка. Она застонала и закатила глаза от истомы. Он перехватил ее стон крепким и глубоким поцелуем.
– Я хочу в туалет, – смущенно произнесла она, когда он отпрянул.
– Терпи, скоро это пройдет. Сейчас ты должна терпеть.
– Но я не могу.
– Можешь…
Через несколько минут ей и вправду стало чуть легче. Но пробка чувствовалась при ходьбе.
– Я пошел одеваться. Жду тебя внизу. Сейчас мы поедем завтракать.
– А как я надену корсет?
– Сегодня ты можешь его не надевать.
Она наскоро оделась и вышла на ступени крыльца. Графа поблизости не было. Из-за угла показалось бледное лицо горничной Елены и тут же скрылось.
– Леночка, постой! – негромко позвала Людмила.
Елена задержалась на мгновение, Людмила ускорила шаги и заглянула за угол дома. Она едва успела ухватить горничную за рукав.
– Лена, подожди минутку. Не беги. Ты, верно, потеряла меня?
– Нет, – отрывисто отвечала ей подруга, глядя куда-то в сторону.
– Лена, мне ужасно стыдно. Тебе приходится делать и мою работу. Прости меня, так вышло.
– Ничего, барышня. Нам не привыкать. Зато вы выполняете работу по своему прямому призванию, – она вырвала руку и пошла прочь. От волнения ее хромота казалась еще более явной. Она почти волочила ногу.
На душе у Людочке стало ужасно гадко. Она еще раз осознала все то, что с ней произошло.
«Мама родная, что я наделала? Как теперь дальше жить? Они же разоблачат меня. А Руфина чего доброго на каторгу сошлет. Или за это не шлют на каторгу? Господи, как стыдно. Я – падшая женщина Леночка презирает меня…»
Она стояла и шевелила губами, когда к ней подошел Краевский.
– Господи, Мила, как ты меня напугала. Я ждал тебя в экипаже. Вернулся в дом – там тебя нет. Я испугался. Не делай больше так. Если я сказал выходить на крыльцо, ты должна была именно там меня и ждать. Давай договоримся, что ты будешь меня всегда слушать и не отходить от меня ни на шаг.
– Я – падшая женщина, – тихо произнесла она.
– Что? Что, ты сказала? – он посмотрел ей в лицо. Она была бледна.
– Ты с кем-то говорила здесь?
– Нет…
– Я же вижу, что-то произошло. Признавайся, тебе кто-то что-то сказал? – он тряс ее за плечо.
– Нет, нет, – повторяла она бесстрастно.
Она шла, не глядя по сторонам. И остановилась только в конце аллеи. Он подошел к ней и взял ее за руку.
– Послушай меня, я не знаю, кто тебе, что ляпнул в мое отсутствие. Но я обязательно дознаюсь. И вырву сплетникам жало. Хочешь, я завтра же всех рассчитаю и найму новых слуг?
– Нет-нет… У Елены болен отец. Ей очень нужны деньги…
– Так это она с тобой говорила? – он нахмурил брови.
– Нет, – испуганно возразила она, вытаращив глаза, полные слез. – Мне никто ничего не говорил. Я сама…
– Все ты сама! Я оставил тебя с румяными щечками, сладкую и томную, а получил бледную и грустную. И ты еще будешь утверждать, что виновата во всем сама.
– Пойдемте, Анатолий Александрович, вы ведь хотели ехать завтракать, – делано улыбнулась она сквозь слезы.
– Пойдем. И чтобы более я не слышал твоих глупых сентенций.
Когда они сели в экипаж, она все еще всхлипывала, а он выговаривал ей недовольным тоном.
– Нашлась, падшая женщина! Придет время, я привезу тебя на экскурсию в бордель и покажу действительно падших женщин. Причем, разной степени падения. Так вот, дорогая, тебе до них еще падать и падать. И не смей так более говорить о себе! Ты для меня дорога во всех смыслах. Ты – моя женщина, и даже не женщина, а юная весталка. И таковой останешься навсегда. Твое лоно не исказят ни роды, ни худоба и истощение, ни лишняя полнота. Я буду тебя холить и лелеять, как никто и никогда… Я буду любить тебя как дочь, и как любовницу… Спроси любую, почти каждая мечтала бы о подобном «падении». Ты моя! Мила, ты слышишь меня?
– Да…
– Сядь ровно! Что ты снова сидишь на краю, словно бедная родственница?
– Я не могу, – прошептала она.
– Почему?
– Там мешает…
– О, господи. Я – болван! – он упал перед ней на колени и принялся целовать ее сомкнутые ноги и ладони.
– Я хочу это убрать…
– А вот это я тебе не позволю, – он встал с колен. – Сиди смирно и не ерзай. Мы скоро приедем.
Они и вправду довольно быстро оказались возле кованых ворот того же ресторана. Он провел ее через пустой двор к черному входу. И снова мимо Людочки шныряли ловкие лакеи, снова она слышала торопливый говор за стенами кабинетов, звон посуды. Кто-то где-то пел приятным контральто. Кто-то играл в вист. Она шла, влекомая сильной рукой графа, цокая каблучками и шурша кружевом турнюра.
– Твоя талия безумно тонка и без корсета, – шептал он на ухо. – У тебя божественное сложение, – его сильные пальцы крепко обхватывали талию. Легкая ткань почти не мешала трогать ее торчащие и тугие груди, скользить по соскам, сжатым от прохлады, царящей в каменном помещении ресторана.
Она краснела, снова кружилась голова… Но мучили неприятные ощущения из-за того предмета, который он ввел в ее тело. Они вошли в кабинет.
– Ну-с, «падшая женщина», садись, – он с легкостью отодвинул стул и плотоядно улыбнулся.
Она села неуклюже, почти на бедро.
– Садись, как следует, неженка…
– Я не могу, как следует. Мне все там мешает, – она поморщилась.
– Сядь, я тебе сказал. Я приказываю сесть ровно. Все твои жалобы и мелодраматические позы вызывают во мне лишь бурю страсти. Я сам едва терплю. Посмотри на него… – он скосил глаза на серую ткань вздыбленных в паху брюк. Он тоже не железный. И особенно он в сильном волнении тогда, когда ты вот так краснеешь и морщишься. О, какое это наслаждение, видеть твои, такие маленькие мучения… Тебе на самом деле это невыносимо?
– Я просто хочу в уборную, – прошептала она.
– Терпи. Тебе это кажется. Я ввел самую маленькую пробку. Что будет далее?
К ним в кабинет постучал официант.
– Войдите, – сказал граф.
Официант был молодой и розовощекий.
– Что прикажете, Ваше Сиятельство?
– Принеси нам вина Sauvignon blanc, устриц, лимонов, икры и ваших фирменных булочек. Чуть позже, пожалуй, пирожное. Пусть приготовят Mille-feuille[15].
Официант кивнул головой и исчез. Граф подошел к Людмиле, взял ее за подбородок и поцеловал долгим поцелуем. На миг он слегка прикусил ей нижнюю губу. Слегка… Она в истоме закрыла глаза. Его дерзкая рука нырнула к ней под множество юбок, отогнула резинку панталон и проникла к припухшему лону.
– Ты еще будешь утверждать, что тебе это доставляет муку, а вот твоя нижняя красавица дает мне иной ответ.
– Что?
– Она течет… У тебя промокли все панталончики, – шепнул он и укусил ее за мочку розовеющего ушка.
Она вскрикнула от боли.
– Тихо, тише… Будешь кричать, сюда сбежится вся обслуга. Ты же не хочешь этого…
– Анатолий Александрович, я так не могу. Вы сводите меня с ума. Я сейчас лишусь чувств, – шептала она в ответ.
– Сядь ровнее. Не ерзай.
В двери снова постучали. Официант внес фарфоровое блюдо с устрицами, обложенное кусочками льда. По краю блюда лежали душистые, чуть зеленоватые лимоны. Была откупорена бутылка вина. Белое вино наполнило высокие хрустальные бокалы. В распоряжении любовников была свежая черная икра, уложенная в стеклянную икорницу, душистые, еще теплые булочки и лепестки масла, выложенные в виде хризантемы. Официант работал ловко, искоса он поглядывал на Людмилу. Как только за ним закрылись дверь, граф произнес:
– Как ты думаешь, сколько ему лет?
– Кому?
– Этому славному малому, Ваньке.
– Не знаю, – рассеянно протянула Людмила. – Может, двадцать или чуть больше. А что?
– Да так. Он смотрел на тебя.
– Вам показалось…
– Мне ничего никогда не кажется. Я человек далекий от метафизики, даже в быту. Ешь устрицы и попробуй этого вина. Оно молодое, и привозят его из Франции. Лоза произрастает по берегам Луары. Ты географию хорошо учила?
– Да…
– Какая самая длинная река во Франции?
– Луара?
– Да… Надо четче отвечать учителю на вопросы, – он рассмеялся. – Ты так сейчас похожа именно на ученицу. Не хватало тебе только поднять ручку, встать и ответит урок без запинки. И я поставил бы тебе… Что бы поставил? И куда? Ах, да… Я поставил бы тебе хорошую отметку.
Она улыбнулась вымученной улыбкой.
– А если бы ты не выучила урока, я бы тебя наказал. Я бы снял твои панталончики и отшлепал по попочке. Ах, наша бедная попочка, она и так сегодня проходит экзекуцию, – Краевский упивался собственной иронией и распалял в себе неведомое доселе желание. – Хорошо, попочку мы оставим на десерт. Вечерний десерт. А накажем мы тебя сегодня иначе.
Он обогнул стул Людмилы и подошел к ней вплотную. Пальцы коснулись крючков и легкой шнуровки, идущей ниже декольте. Он ослабил натяжение маленьких завязок, потянул вниз. Расслабленный ворот опал ниже плеч. Краевский потянул его еще. Через мгновение Людочка сидела обнаженная по пояс.
– Что вы делаете, Анатолий Александрович?! Зачем вы сняли платье? Я же теперь почти раздета. А вдруг сюда кто-то войдет?! Например, официант, – ее лицо покрылось пунцовыми пятнами. Она стала спешно натягивать рукава.
– Не смей трогать! – жестко возразил он. – Я желаю завтракать, лицезрея твои большие груди, плечи и талию. Ты будешь сидеть так до конца нашего завтрака. Я так решил. А теперь ешь.
– У меня пропал аппетит, – прошептала она.
– Съешь пару устриц и один бутерброд. Это тоже приказ.
Людмила то бледнела, то краснела, поглядывая со страхом на дверь.
– Ты должна привыкнуть, исполнять все мои просьбы. И запомнить, что мое положение в обществе предполагает отсутствие для меня каких-либо рамок псевдоморали, принятых приличий и норм. Если я желаю лицезреть тебя обнаженной, ты должна исполнять мое требование без каких-либо пререканий. Учись быть послушной.
Он выпил бокал вина и стал закусывать устрицами.
– Попробуй, какие свежие. И лимоны пахучие. Я люблю аромат лимонов. A propos, мы остановились с тобой на Луаре. Так вот, моя послушная гимназистка, мы обязательно поедем с тобой во Францию, в Париж, и Прованс. И там я тебя всюду буду любить. Мы навестим местные клубы, побываем в опере. А сейчас ешь, я тебе сказал.
Людочка послушно ела, бросая на графа бессмысленные взгляды. Ее глаза увлажнились от набегающих слез.
– Не сметь плакать, я тебя еще не мучил по-настоящему, – улыбаясь, молвил он.
Краевский проглотил очередную устрицу, сделал глоток вина и встал на ноги. Он снова обогнул стол и подошел к Людмиле. Смуглая ладонь выудила кусочек льда из-под слоистой раковины устрицы. Не говоря ни слова, он прикоснулся этим кусочком к соскам девушки. Людмила вздрогнула. Ее глаза непроизвольно закрылись стрелами мокрых ресниц. Он наклонялся и захватывал губами твердеющие соски, потом отпускал их и снова водил по ним льдинкой.
– Я-я, я не могу так, – она стиснула зубы.
– Ты где не можешь больше? На сосочках или в попочке?
– Господи, я сейчас потеряю сознание…
– Не потеряешь…
Ей было мучительно и одновременно хорошо, она настолько была возбуждена, что временами стон срывался с ее алых от поцелуев губ.
– Сейчас я прикажу подать Mille-feuille и кофе. Здесь варят прекрасный кофе. И пирожные тоже недурственны.
– Подождите, я должна одеться.
– Нет, моя дорогая. Одеваться и раздеваться ты можешь лишь по моей команде.
– Но как же? Сюда войдет официант и увидит меня голую.
– Обнажена лишь твоя грудь. А знаешь ли ты, что в Древней Греции, да и в Египте, многие женщины носили платья без лифа, и их полные груди качались при каждом движении.
– Но, граф, – взмолилась Людочка. – Мы же не в Древней Греции.
– А жаль… Сиди смирно и не шевелись. Можешь опустить глаза долу, как скромная гимназистка. Ты же у нас скромная и послушная девочка… Вот и веди себя соответственно. Считай это моей прихотью. Я хочу, чтобы тот румяный «Ванька» увидел твои груди с мокрыми и красными ото льда сосками… Я хочу, чтобы этому «Ваньке» твои каменные, мокрые груди снились всю жизнь. Давай доставим ему небольшое эстетическое наслаждение. Сиди ровно! Я приказываю.
Через минуту Краевский кликнул лакея. Стоит ли говорить, что несчастный «Ванька», увидев ошеломительную наготу Людочки, сначала вытаращил глаза, а потом вспыхнул как маков цвет, но тут же совладал с собой и, напустив на лицо выражение привычной учтивости, подал господам заказанный десерт и кофе. Он собирал на поднос блюдо с недоеденными устрицами и икрой. Расставлял в красивом ансамбле кофейные чашечки и пирожные. Людмиле казалось, что эти церемонии не закончатся никогда. Она боялась поднять глаза, боялась шевелиться. Дурнота подкатила внезапно, когда за официантом закрылась дверь. Увидев необычную бледность ее щек, граф подошел к ней, достал из кармана пахучую соль и поднес к ее носу. Она вздрогнула и очнулась.
– Не пугайте меня так, мадемуазель. Людмила Павловна, вы каких кровей будете? Кто был вашим отцом?
– Папа умер от ранения…
– Мне очень жаль… Нет, определенно в вас бежит кровь аристократки. Надо бы разобраться в вашей генеалогии. Может, ваша мама или бабушка были внебрачными отпрысками барствующих особ? Вы грохаетесь в обмороки не как простолюдинка. Да и когда я вас впервые увидел, то ваша стать, порода… Нет, вы не из простых. И все-таки, повремените с обмороками.
– Да… Но, не мучайте меня, – снова захныкала она.
– Ты видела, как он смотрел? – оживился Краевский. – А, впрочем, куда там, ты ничего не видела. Бьюсь об заклад, он навсегда запомнит это чудное видение – твои пленительные плечи и райскую грудь. Хотя, они здесь всякого насмотрелись. Но твои грудки – это особый изыск. О, как стоят твои соски. Девочка, сейчас я покажу тебе еще одну форму любви. Её привычно называют – французской. Я знаю, что ты не умеешь, но у нас все впереди… Я хотел перенести это на более позднее время. Но пощади меня, дорогая. У меня более нет сил терпеть. От вожделения лопнут мои тестикулы. Сядь на край стула. Не морщись. Тебе не больно так сидеть… Терпи, моя радость. Я спущу брюки, и ты возьмешь моего друга в свой прекрасный ротик. Не возражай. Открой его…Я покажу тебе движение… Так, так… И аккуратно с зубками. У тебя хорошо получается. Просто соси, – он крепко взял ее за затылок.
Людочка сделала все, что потребовал граф. Ей казалось, что в этом чувственном марафоне не будет конца, и скоро она умрет от разрыва сердца. Но разрыва сердца не случилось. Граф содрогнулся и выкрикнул что-то нечленораздельное. А у нее по губам побежала теплая влага, и стало солоно во рту.
Он сразу замолчал, устало плюхнулся на стул и застегнул пуговицы. Его взгляд стал чуточку рассеянным и сонным.
– Одевайся. Здесь прохладно. Я куплю тебе шелковый платок с кистями, для плеч… Сейчас поедем в магазин, – устало произнес он и закрыл глаза.
Она подтянула кверху ворот платья и завязала тесемки от передней шнуровки.
– Поешь пирожные и кофе, – проговорил Краевский, не открывая глаз. – Ешь. Они очень вкусные.
Людмила взяла серебряную ложку и принялась медленно есть десерт. Действительно, он оказался очень вкусным. За всю жизнь она не ела ничего вкуснее. Когда Краевский пришел в себя, ее тарелка была пуста.
– Я люблю тебя, моя нежная девочка, – сказал он, глядя ей в глаза. – Скушала? Умница. Поехали по магазинам.
– Анатолий Александрович, давайте лучше потом. Я не могу более терпеть. Поехали домой. Мне нужно…
– Ну, хорошо. Потерпи еще полчаса. Сейчас мы заедем только к ювелиру. Я куплю тебе браслет и кольцо. А потом домой.
Граф расплатился по счету и дал хорошие чаевые официанту, который не смотрел прямо, а уводил в сторону голубые, чуть выпуклые глаза от его молодой спутницы.
– Пойдем пешком. Извозчика возьмем чуть позже. Здесь всего пол квартала до ювелирной лавки, – прошептал Краевский. – Ты ведь можешь идти?
Она только сморщилась и жалобно посмотрела на него. В этом месте улица была почти пустынной. Навстречу им попалось лишь два случайных прохожих. Он шел с ней под руку, как с женой. На время она забыла о всяческих неудобствах. Людочка просто млела в душе от того, что может прилюдно опереться на его крепкую руку.
«Господи, сделай так, чтобы не было никого в его жизни, а осталась бы я одна, – мечтала она, понимая всю греховность своих мыслей. – Господи, что я несу? Господи, как он хорош. Я умираю от чувств к нему. Но что будет далее, когда вернется Руфина? Она скоро родит. И у нее может быть сын. Он полюбит ее за сына и будет все время с ней. Нет! А я? У нас никогда не будет общих детей. Даже любить меня нельзя, как всех женщин. Но боже, как я хочу, чтобы его член вошел мне туда, куда входили члены тех, уличных мужиков. Я вслух боюсь произнести это место. Должно быть та, подзаборная шалава, была жутко счастлива. И может, она даже родит от кого-то из них… Хотя, ребенок? Сейчас? Нет, сейчас он мне совсем не нужен. Пусть лучше все будет так, как есть. Пусть он делает со мной все, что считает возможным. Я – раба его, раба навеки».
Мелодичным звоном тренькнула деревянная, с большим стеклом дверь, ведущая во святая святых – ювелирную лавку. До этого Людмила ни разу не была в подобных магазинах. Здесь было очень светло от множества газовых ламп, свисающих с потолка, чуть выше стеклянного прилавка. Тут же горело несколько свечных жирандолей. Не смотря на то, что за окном стоял довольно солнечный летний день, все сонмище искусственного огня служило лишь для одной цели: освещения выпуклой, прозрачной витрины. Людочка ахнула от того, что находилось под стеклом. Красный бархат мягких прямоугольных подушечек приютил разнообразные колье, усыпанные самоцветами, золотые браслеты, кольца, серьги, множество брошей, булавок, и цепочек. Все эти немыслимые сокровища переливались всеми цветами радуги. Здесь были кровавые рубины и травянистые изумруды, лиловые аметисты и розовые александриты, синие сапфиры и брызжущие холодным светом ограненные бриллианты.
Из-за конторки вышел невысокий темноволосый мужчина, еврейской наружности, в пенсне. И развел руки в стороны.
– Ваше Сиятельство, граф, как давно вы к нам не захаживали. Очень, очень рад вас видеть в добром здравии. Вы все хорошеете! Никак на водах побывали?
– Угадали, Семен Яковлевич, был в апреле, – осклабился Краевский. – Мы с супругой посетили Бад Эмс. Там хорошие воды. Супруга лечилась от кашля.
– То-то я смотрю, вы еще посвежели!
– Куда уж, свежее-то, а Семен Яковлевич? – натужным смехом рассмеялся Краевский.
– Не скажите, не скажите. Здоровье, Анатолий Александрович, дороже любого бриллианта на моей витрине. И его ведь не купишь, – грассируя, отвечал ювелир, потирая ручки, и беглым масленым взглядом окидывал Людочку.
При упоминании супруги, Людочка внутренне сжалась, и у нее сразу испортилось настроение. Ей захотелось немедленно покинуть лавку.
– Ну-с, – продолжил ювелир. – А ко мне вас что привело? Я смотрю, у вас очень приятная спутница. Не этой ли мадемуазели мы будем нынче выбирать украшение? – маленькие глазки глянули на графа поверх пенсне.
– Вы угадали, Семен Яковлевич. Именно этой мадемуазели мы и желаем выбрать нынче подарок.
– Колье, цепочку, браслет? А может, кольцо?
– Семен Яковлевич, сегодня я желал бы глянуть на браслеты и кольца, если возможно.
– А как же, граф, дорогой мой! Для вас возможно все. Ай момент, я схожу в свой сейф и принесу вам исключительный товар. Я не держу его здесь, на витрине. У меня есть комплект – изысканный, тонкой работы. Браслет, кольцо, но к нему и колье. Тоненькое, маленькое, но колье. Как раз для девичьей шейки. Показать?
– Мы хотели пока браслет и кольцо, Но, несите… Раз товар исключительный, – с легкой иронией произнес граф.
Ювелир скрылся за невысокой дверью. И через минуту вынес синюю коробочку.
– Вот! – чуть торжественно произнес он. – Этот ансамбль заказывали для дочери Его Превосходительства, генерала Матвеева. Но заказывали два набора. Один в рубинах, другой в сапфирах. Дочь у генерала жгучая брюнетка, писаная красавица. Ей к лицу пришелся рубиновый комплект. А сапфировый остался. К карим глазам и русым волосам вашей спутницы этот комплект очень подойдет. Сапфиры достойно заиграют на ее шейке.
Он откинул верх коробки. На голубоватом бархате лежало тонкое и удивительно изящное украшение. Колье было совсем небольшое и состояло из обруча и трех золотых цветочков, в середине каждого цветка кобальтовым светом полыхал небольшой сапфир. Изящным выглядел и браслет. Застежку его венчали такие же цветы. А на колечке цветок был чуточку больше, и камень немного крупнее остальных.
Увидев украшение, Людочка вдруг позабыла о ненавистной Руфине, как и позабыла о неприятных ощущениях, что доставлял ей инородный предмет, втиснутый в ее тело развратным графом. Она, округлив глаза, смотрела на все это великолепие в немом восхищении.
– Вы позволите, граф, я примерю даме колье?
Краевский кивнул. Семен Яковлевич обошел Людочку, щелкнула застежка, и она ощутила на груди чуть прохладное и восхитительное присутствие золота. Впору оказалось и маленькое колечко. Браслет захлопнулся на нежном запястье так, словно он и был создан именно для Людочки. Ювелир тихонечко подтолкнул ее в спину и подвел к овальной раме большого зеркала.
– Ну как, барышня? Вам нравится?
– Да… – с тихим восхищением подтвердила она, и глаза ее засияли счастливым светом.
Краевский расхохотался.
– Представьте, Семен Яковлевич, такой карамболь: я все утро развлекаю эту мадемуазель, вожу ее по ресторациям, смешу, кормлю мильфеем и устрицами, а она все куксится и хнычет… А тут! Семен Яковлевич, да вы волшебник. Только у вас эта «Несмеяна» улыбнулась впервые за день.
– Ах, Анатолий Александрович, я совсем тут не причем. Дамы любят украшения. И эта сентенция стара как мир, – он вздохнул и развел в стороны маленькие ладошки.
– А ну-ка, Мила, улыбнись-ка так же, и я тотчас куплю тебе этот комплект.
Людочка от смущения разулыбалась еще сильнее, застенчиво наклонила голову и даже рассмеялась от внезапной радости. Она крутилась возле зеркала, рассматривая роскошное украшение.
– Ладно, иди к выходу. Я расплачусь с Семеном Яковлевичем.
А далее она услышала тихий разговор меж графом и ювелиром. Граф хохотнул и чуточку присвистнул от названной ювелиром суммы. Последний шаркал ногами, короткие ручки цеплялись за пройму темной жилетки, а после взлетали к небу. Ювелир объяснял что-то про караты и вес золота. Называл фамилию мастера. Тренькнула музыкальная дверь. Ветер дунул в лицо. Она задержалась на пороге. Людмила прильнула к толстой витрине. Даже на расстоянии граф казался ей самим Аполлоном или царем Соломоном – настолько он был высок и хорош собой. А ювелир превратился в машущую крылами, черную птицу. Людочка, конечно, фантазировала. Но руки, крючковатый нос и голова ювелира, резкие движения, делали его похожим именно на старого ворона.
Из ювелирной лавки они оба вышли в хорошем расположении духа. Солнце сияло по-летнему радостно, в кронах высоких вязов и лип пели птицы. Казалось, что сам воздух стал иным, чем полчаса тому назад. Взяли извозчика. В темноте кареты Краевский снова и снова целовал ее в губы и шептал разные непристойности о пробке. Она же томно благодарила его за подарок, прижималась к широким плечам и что-то восхищенно щебетала, рассматривая колечко и браслет. Она отстраняла ручку, вертела ей и любовалась украшением. На радостях он достал из кошелька несколько крупных купюр и засунул их ей за лиф платья.
– Спрячь пока в своих грудках. Я буду иногда давать тебе и денег. Ты все прячь… Моя…
Через четверть часа они уже были дома. Людочка входила в графские покои уже более спокойно и не шарахалась от всякого шороха.
– Сними пока все и положи в коробочку, – проговорил Краевский. – Это украшение больше пойдет к синему бархату или к чему-то лиловому. А впрочем, есть и другие цвета. Мы подберем. Завтра. Ты счастлива?
– Очень…
– Мой бог, проходят века, а суть женщины неизменна, – философски изрек граф. – Вот она, магическая сила Aurum[16]. Как говорили древние: Auri sacra fames.[17] А знаешь, я даже рад, что ты выдаешь в себе качества обычной женщины. Я не люблю женщин из так называемых «новых», курящих папиросы, спорящих с мужчинами на равных, презирающих моду, украшения и все то, что делает женщину – женщиной. Я не стал бы об этом никогда говорить, ели бы не та степень близости, что связывает теперь нас, но моя супруга презирает всяческие украшения. Она носит лишь оловянный католический крест, – его глаза погрустнели. – Конечно, она набожна, и в ней много добродетели… Но, к черту добродетель, если в женщине отсутствует всяческое лукавство, кокетство, чертовщинка, расчет наконец. Добродетель к месту в сиротских приютах и на благотворительных аукционах, а в постели мне нужна красавица, чьи глаза горят от новых украшений, мехов, платьев. Мне нужна женщина слабая, нуждающаяся во мне. Я одену тебя как куклу, моя девочка. Это украшение ты получила за то, что щекастый «Ванька» пялился сегодня на твои белые груди. И за твои нежные губки, и за французскую любовь в кабинете ресторана. И за то, что я сейчас из тебя достану. Живо раздевайся! Я не просто достану эту несчастную пробку, я тебя еще немного помучаю…
Она снова разделась и тихонечко легла с ним рядом. Все ее тело пробивала крупная дрожь. И трудно было сказать: дрожит ли она от возбуждения, или от страха, или от счастья. Этот головокружительный коктейль вошел в ее кровь и делал ее неимоверно счастливой. Сильные руки графа обнимали ее всюду, усы приятно щекотали медленными поцелуями. Он снова распалял в ней жуткое желание.
– Твои соски пахнут устрицами!
– Ну, вот… Вы сами виноваты. Этот лед… Ах…
– Как ты там мокра! Смотри… – он показал ей свои пальцы.
Она жутко смущалась и закрывала глаза. Он целовал ее в губы, прижимаясь голым телом. Каменная твердость члена немного пугала.
– Мила, ляг на бочок. Сейчас я буду ласкать твой похотливый бугорок и одновременно поиграю с нашей китайской штучкой.
То, что началось далее, заставило Людмилу застонать от фантастического удовольствия. Как он это делал? Он ласкал ей клитор, но сзади пресловутая пробка, благодаря его манипуляциям, давила конусом куда-то вверх – в какую-то кипящую желанием точку. И точка эта распалялась от пульсирующих касаний. Откуда он все знал? Он не просто шевелил, он тряс ею в быстром темпе. На самом пике ей хотелось, чтобы в нее зашло нечто большее, чем эта пробка. Она начала насаживаться на его пальцы. И это чародейское слияние, трепет, быстрое скольжение, настойчивое шевеление, заставили ее содрогнуться в немыслимом по силе оргазме. Этот оргазм был иным, чем все, подаренные им накануне. Она кричала и царапалась, словно дикая кошка.
– Господи, Мила, куда я попал? Ты же тигрица, Мессалина и Клеопатра. Как я тебя нашел?
– А-а-а… Нет. Все!
– Мила, мы чуть ее не потеряли…
– Кого? – слабо прошептала она.
– Пробку. Она теперь мала для тебя. Ты так хорошо раскрылась, любимая. Ты – прелесть.
– Где она?
– Вот, – показал ей граф блестящий конус. – Ты боялась, а она чистенькая.
– Фу, уберите её…
– Конечно, уберу. Эту. Завтра будет другая.
Она мотнула головой, в знак несогласия.
– Но-но… Не спорь со мной. Ты так славно кончила. Ты потрясающая весталка! Весталки были целомудренными, но думаю, что попку свою они таки подставляли для утех славным жеребцам.
Она слушала его, прикрыв глаза.
– Мила, девочка моя, – его рука трясла её плечо. – В нашем союзе один гражданин остался неудовлетворенным. Посмотри на этого мерзавца. Он стоит на карауле, как штык. Уложи его спать. Теперь ты это умеешь. Давай еще раз закрепим пройденный урок. Слезай на пол, вставай на колени. А я сяду на край. Так… Делай так, как я тебя учил в ресторане. Соси его сильнее, ласкай язычком, – сильная ладонь снова легла на ее затылок…
А потом снова был сон. Людочке приснилась мама. Она строго смотрела на дочь, хмуря брови. Людмила о чем-то упрашивала ее, бежала за ней. Но мать бросила ей в лицо бранное слово и ударила по щеке. Девушка вздрогнула и проснулась.
Весь вечер они провели вместе, сидя на широкой кровати. Он рассказывал ей какие-то поучительные, либо курьезные истории из античности, декламировал стихи. Она внимательно слушала, но выражение глаз казалось немного грустным.
– Мила, я довольно состоятельный человек, но если ради каждой твоей улыбки я буду покупать тебе такие дорогие украшения, то я разорюсь, – иронично заметил он.
– Нет-нет, не надо…
– Что не надо?
– Покупать столько украшений.
– Ты уверена? – он рассмеялся.
Она в смущении уперлась лбом в его плечо.
– Ну, что с тобой? Отчего ты снова притихла, птичка моя?
– Я соскучилась по маме. Ты отпустишь меня на выходной?
– Конечно, отпущу! – уверенно сказал он, но в его душе впервые шевельнулось острое чувство тревоги.
«А вдруг мать догадается и поднимет скандал? Она сделает мне серьезную компрометацию. И потом… Я не могу потерять свое сокровище. А мать… Может почуять неладное. Ладно, после разберемся»
Людочка немного успокоилась, а Краевский постарался быстро сменить тему.
– Завтра мы поедем в магазин мадам Дюмаж. У нее есть очень красивое белье, целый отдел белья. А потом мы заедем к Ламберу. У него есть туалеты для молодых дам – таких, как ты, молодых и хорошеньких.
– Анатоль, но ведь у Ламбера жутко дорогой магазин. Помните, тогда у директрисы, я видела как раз свертки из этого магазина.
– Нет, не помню. У какой директрисы?
– Вот это новость! – задохнулась Людочка. – Так вы же меня и пригласили к себе в дом, у нее, у Марии Германовны в кабинете!
– Разве? – он дурашливо округлил глаза. – Мадемуазель, вы что-то путаете. Я решительно не знаю никакой Марии Германовны.
– Ну как же! Мария Германовна Ульбрихт!
– Как вы сказали? Ульбрихт? – он нахмурился, будто припоминая что-то. – Нет, не знаю я дамы с такой фамилией, – продолжал он притворствовать с совершенно серьезной миной.
– Здравствуйте! – не унималась Людмила. – Так вы же сами сидели у нее в кабинете.
– Да? Я сидел? Знаете ли, Людмила Павловна, я много где сижу. Например, в попечительском совете, в земской управе или вот, как давеча, я сидел в ресторации с одной милой дамой, которая одна слопала весь мильфей, – он расхохотался и защекотал ее.
Она задорно смеялась, отбрыкиваясь от его сильных рук.
– Но как же?
– Вы утверждаете, что нас познакомила эта сухопарая Германовна? Странно, а я помню, что нашел свою девочку в саду, в маленькой корзинке. Она там спала совсем голенькая, как маленькая лесная фея. А до этого фея ухаживала за клумбой с анютиными глазками.
– Ага! Вот вы и попались! – торжествующе прокричала Людочка.
– Да в чем же-с, сударыня?
– Если вы не знакомы с директрисой, то откуда вам известно, что она сухопара? А?
– А черт его знает, откуда? Я просто полагаю, что дама с фамилией Ульбрихт не имеет права быть толстой, – он снова прыснул от смеха… – Хотя, если она питается своими курсистками, то отчего бы ей и не растолстеть?
Краевский дурашливо щелкнул зубами. Людочка вскрикнула. Они оба покатывались от смеха. Её щеки раскраснелись, лоб покрылся легкой испариной, глаза блестели, распущенные локоны струились по плечам.
– Мила, как ты красива!
Он перестал дурачиться, повалил ее на спину и принялся осыпать нежными поцелуями.
На утро следующего дня он сам разбудил ее чуть раньше обычного.
– Вставай, соня. Аврора уж алеет на востоке, а ты, моя Селена, крепко спишь! – пропел он.
Она почувствовала аромат его одеколона и дым сигары, и улыбнулась, глядя на него сонным взором.
– Одевайся, мы сейчас поедем с тобой в одно место.
– Завтракать?
– Нет.
– Сразу в магазин?
– Не угадала…
– А куда?
– Я все скажу…
– А вы не будете мне того… вторую пробку?
– А тебе понравилось? Тогда я могу, прямо сейчас и самую большую.
– Нет-нет, – испуганно возразила она.
– Мы сейчас поедем к доктору.
– Зачем?
– Слишком много вопросов. Я так хочу…
– Это к тому, плешивому Илье Петровичу, что ходит в ваше семейство? К тому, что меня проверял?
– Нет, что ты!
* * *
Приемная доктора Артура Карловича Ноймана находилась на тихой улочке, заросшей акациями и кленами, с торца маленького одноэтажного кирпичного здания. Здесь же Нойман и скромно квартировал в полнейшем одиночестве. У него не было семьи. Сей ученый эскулап был известен не только своею частной врачебной практикой, но также и тем, что довольно часто использовал в лечении всех физических недугов водные клистиры[18].
«Если у вас мигрень, или вы простудились, тем паче лихорадка, или цвет лица не радует, то вам необходимо поставить большой клистир с карловарской или морской солью, а лучше даже три!» – любил изрекать ученый немец.
Надобно сказать, что народ у нас в своей основной массе отсталый и к доводам ученого немца редко прислушивался, полагая их вздорными, постыдными и не лишенными греха. Растолкуй он подробности сего метода какому-нибудь мелкому купчишке или того хуже, крестьянину, то те не только бы погнали немца взашей, но и чего доброго бы примерно поколотили. У нас подобное, европейское и просвещенное лéкарство, увы, не в чести. А протодиакон одной из церквей, пришедший к Артуру Карловичу с жалобами на боли в животе, выслушав подробности «новой методы», обругал немца греховодником, служителем сатаны и содомитом. Нойман обиделся и отныне старался служителей культа обходить большой стороной. «Пусть их лечит сила слова божьего, а я – человек маленький», – рассудил доктор. Церковные люди и не возражали, смиренно принимая свои болезни и даже безвременный уход – ибо на все воля Божья.
Смирившись с полной бесперспективностью клистирного метода лечения для широких народных масс, Нойман более и не предлагал его представителям «подлых» сословий, да у последних и средств к нему не было, ибо стоило это лечение не столь дешево. Клистиры и трубки доктор выписывал из далекой и родной Германии. Они требовали частой смены, кипячения, промывания в дезинфицирующих растворах и полной асептики. Артур Нойман любил во всем порядок и не допускал недогляда или халтуры в обеззараживании собственных препаратов.
Когда Нойман бросил успешную практику в столице и переехал в город Н, его ученые порывы, претерпевшие многие, почти трагические фиаско, были уже не столь настойчивы, как в самом начале карьеры. Теперь немец жил тихо и скромно, почти в затворничестве. А лечение клистирами он предлагал лишь очень узкому кругу пациентов. Да и пациенты эти, как правило, были выходцами из дворянской среды, реже мещане.
Почему доктор вынужден был сбежать из Санкт-Петербурга? Мы немножко углубимся в предысторию этого скоропалительного поступка доктора Ноймана. Когда он только открыл свою практику, к его услугам прибегало довольно много господ из аристократических кругов. Тем господам, которые часто бывали на курортах Баден-Бадена, Довиля, Карлсбада или Лазурном берегу, не нужно было слишком долго объяснять полезность промывания кишечника. Артур Карлович дал объявление в газету об открытии собственной небольшой клиники, попросил поручительства двух, довольно известных докторов, задобрив последних приличными суммами наличных. Что делать? Известность, доверие и связи требовали серьезных вложений. Которые, к слову сказать, окупились Нойману сторицей. И наш эскулап приступил к активной практике. О, сколько пышных и ядреных, худых и бледных, обвислых и тощих, афедронов прошло через умелые руки этого господина. О сколько задних врат он отворил! Он знал возможности объемов, состав раствора первого, отворяющего клистира, увеличивал порцию во втором, добавлял отвары трав и солей при третьем подходе, завершая все таинство впрыскиванием ароматного клистира, настоянного на китайских травах, розовом масле или флердоранже. Это было его, собственное изобретение, «для усмирения дурного духа», как любил говорить он. Артур Карлович разбирался в толщине наконечников, особенности трубок, в премудростях использования жирных масел и вазелинов. Он знал, сколько и кому надобно терпеть, прежде чем бурные воды телесных нечистот изольются из сосуда грешной плоти. Он знал, как извести малейшие намеки на тяжкий смрад, проветривая и окуривая помещения сандалом и разбрызгивая лаванду.
Первую группу его пациентов составляли представительницы прекрасного пола. Состоятельные петербургские дамы, молодые и не очень, а иногда и совсем преклонных лет, томные, полные слезливой меланхолии, вследствие особенностей климата Северной Пальмиры, очень часто страдали запорами, несварением желудка или вечно сидели на новомодных диетах. Дабы держать свои талии не только сталью затянутых корсетов, они часто голодали, ну а потом мучились газами или отрыжкой. Были и те, кто регулярно прибегал к помощи клистиров накануне балов или светских раутов. Говорили, что после однодневного голодания и пары-тройки клистиров, на утомленных лицах появлялся естественный румянец, а глаза горели огнем младых годин.
Артур Нойманн довольно быстро завоевал доверие среди этой обширной группы пациенток. Его называли «волшебником» и «душкой-доктором». Часто он выезжал с чемоданом, полным заветным инструментарием и бутылями с солевыми растворами, прямо на дом к пациенткам. Горничные провожали Артура в покои госпожи через запасной вход, тайными коридорами. И он принимался священнодействовать на горе всей прислуге, ибо дамы стонали и кряхтели, и дух в покоях порой стоял довольно неприличный, прямо скажем – не барский дух.
Были среди его пациенток и дамы «полусвета», богатые содержанки и проститутки, которые предпочитали навещать доктора прямо в его клинике. С последними хлопот было меньше, меньше неуклюжих церемоний и уговоров, меньше глупых сентенций и комплиментов для поддержания par contenance[19], меньше страха сделать что-то не так, не угодить или сказать не те слова после облегчительной процедуры. С дамами полусвета он заводил совсем близкие и откровенные беседы, попутно наставляя их в вопросах контрацепции, в коих он тоже немножечко разбирался.
Вторая группа его пациентов довольно часто смешивалась с третьей, но о последней чуть позже. Сейчас о второй. Вначале это были робкие и ненавязчивые визиты пациентов сильной половины человечества. Внимая доводам доктора о полезности клистирных процедур для всякого организма, сия небольшая группа, состоящая в основном из одиноких, сибаритствующих джентльменов, пресыщенных плотскими излишествами, утомленных душою и телом, изыскивала малейший повод, дабы заставить свое холеное тело помучиться, а нижние врата потерпеть. Прибегая к практике доктора Ноймана, эти джентльмены, совершенно не стесняясь, испытывали откровенное сладострастие от подобных процедур. Артур не раз замечал, как после нескольких клистиров их детородные органы наливались могучей силой. Некоторые из них шли дальше в своих просьбах. И за особую, двойную плату, просили доктора облегчить их страдания путем массажа простаты толстыми трубками шлангов, или же его собственной рукой, обильно смазанной вазелином.
Впервые услышав подобную просьбу, доктор вначале возмутился ее нахальной бестактностью. Он сразу вспомнил приговор протодиакона о «скотском грехе и содомии», и несколько дней провел в глубоких раздумьях. Он выписал ряд медицинских журналов, посвященных мужскому здоровью и репродукции, прочитал кучу статей и атласов, в какой раз рассматривая строение мужских желез. Ознакомился с трудами доктора Verdes, который еще в 1838 году дал точное морфологическое описание простаты и вопросов, связанных с ее заболеваниями. Он знал, что в Европе уже делались операции на этой железе и катетеризация для отвода мочи. Но чтобы массаж? Однако, вникнув в структуру и механизм опорожнения этого органа, посредством исторжения секрета, он понял, что эта работа может стать основным делом всей его жизни. Доктор Артур Нойман отверг все ханжеские догмы и личные сомнения и стал использовать в своей практике не только чистку кишечника, но и массаж простаты. В последнем он добился такой виртуозности и мастерства, что на эту процедуру к нему записывались за целый месяц.
«Я врачую храм души – человеческое тело, кое создано по образу и подобию Господа, следовательно, в этом храме все священно. И если пациент нуждается в медицинской помощи, если это ему помогает, то почему бы и нет? Тем паче, что за это мне готовы платить двойную, а то и тройную плату».
Бывало и так, что мужчины после подобных манипуляций получали расслабление, сходное с духовным катарсисом, они плакали и целовали доктору руки. А были и те, кто объяснялся ему в любви…
Он прочел статьи и о женском здоровье, уловив тенденцию лечения женской истерии, путем прямого массажа гениталий также рукой врача. Такую практику использовали доктора на многих западных курортах. Использовали не всегда официально, но почти все дамы об этом знали. Нойман был настроен решительно против губительной практики тех гинекологов и психиатров, которые предпочитали лечить все нервные болезни дам удалением клитора. Он даже мысленно поспорил с Айзеком Бейкер Брауном[20] и написал пару статей со своими выводами, не преминув в заключении сослаться на божественную нерушимость человеческого тела, коему вредят все хирургические вмешательства, направленные на бессмысленное удаление органов, созданных творцом для получения удовольствия.
Он изучил довольно трудов, связанных с utérus et clitoris[21]. И это изучение принесло свои плоды. Ныне часть его пациенток, робко краснея, доплачивали врачу немыслимые гонорары и подставляли свои припухшие вульвы для более решительных манипуляций. Из-за дверей его кабинета теперь так часто слышались стоны. Пациенты и ранее стонали, на клистирах. Но теперь эти стоны носили несколько иной характер.
Ему особенно запомнился один случай. На прием записалась одна молодая барышня, и, судя по её туалетам, стоящим немыслимых денег, но, в то же время элегантных и простых, она была чертовски богата. К этому времени Артур Нойман уже умел разбираться в подобной «простоте» и изяществе, кои стоили много дороже пышных и сверкающих нарядов. Кроме этого барышня была необыкновенно хороша, тонка в кости, легка и породиста. Ему особенно запомнились две темные родинки. Одна украшала ее острые скулы, другая располагалась на левой груди. Когда она вошла к нему в кабинет, шурша шелковым подолом, и скинула с плеч маленькую соболью накидку, а с головы шляпку с вуалеткой, от нее пахнуло таким тонким и свежим ароматом, что у доктора закружилась голова. Она тряхнула золотистыми кудрями и присела в кресло.
«Зачем такой нежной розе нужны какие-то клистиры? Богини не испускают нечистот. Она соткана из иных материй и пришла из иных миров», – подумал он. И взгляд его обычно внимательных глаз сделался немного бессмысленным.
– Доктор, почему вы молчите? – прозвучал божественно прекрасный голосок, где-то над его головой.
– Да, что вы сказали? – очнулся Артур.
– Я спрашиваю: мне раздеваться полностью или только снять платье и панталоны? – небрежно и без малейшей степени стеснения спросила она.
– А это, как вам угодно, мадам… – он глянул в регистрационный журнал. Там не значилась ее фамилия. Было лишь коротко написано: Елена М.
«Какая, к черту, Елена? Что, вот так просто: Елена? Будто у нее нет титула. Она же наверняка замужем».
На изящной ручке Елены М., облаченной в ажурные сетчатые перчатки, сверкнул огромный бриллиант немыслимой чистоты, в тонкой оправе.
– Гм, мадам, как я могу к вам обращаться?
– Называйте меня Елена Васильевна.
– Как вам будет угодно-с, – кивнул доктор. – Елена Васильевна, вы можете снять лишь панталоны и платье, оставшись в сорочке. Мои ассистентки вам помогут.
Надобно сказать, что к этому времени в клинике у Ноймана работали две медсестры. Они помогали ему в обслуживании пациентов и приготовлении растворов. Были также и две сменные уборщицы. Они управлялись с горшками и мыли в помещении полы.
– Благодарю вас. Да, пригласите ко мне помощницу. Мне надо расстегнуть крючки на платье и ослабить шнуровку на корсете.
Помощница Дарья Алексеевна увела пациентку за широкую ширму. Через десять минут златокудрая Елена Васильевна вышла к доктору в чем мать родила. Она прошлепала прекрасными босыми ногами мимо стола ученого немца и снова плюхнулась в кресло, закинув одну стройную ножку на другую. Медсестра посмотрела на доктора, едва пожав плечами, и бесшумно удалилась. Перед глазами доктора мелькнули узкие плечи, маленькая девичья грудь, плоский и нежный живот, под которым топорщился кустик очень темных волос. Нойманн отметил про себя, что снизу Елена Васильевна была не блондинка.
– Вы сами будете мне ставить клистиры?
– Да, сударыня, – кивнул доктор. – Пока я не доверяю своим помощницам проведение этой важной процедуры. Он лукавил. Его помощницы уже вовсю орудовали клистирами с иными, менее трепетными и значительными пациентами, какой казалась эта немыслимая красавица.
У него заметно дрожали руки.
– Скажите, Елена Васильевна, вы ранее проходили уже эту процедуру?
– Я? Да! – с радостью отозвалась дама. – Последний раз мне делали это в Довиле, менее месяца назад.
– Но, зачем тогда вы пришли ко мне? Я не рекомендую делать клистиры так часто…
– Что? Вы полагаете? Ну, не знаю… Я привыкла. После них я себя прекрасно чувствую. Прямо порхаю.
– Хорошо, мадам, идите на кушетку и ложитесь на бок.
– А мне в Довиле делали в иной позе. Я вставала на четвереньки.
– Ну-с, если вы желаете, я могу сделать промывание и таким способом. Он тоже считается физиологичным.
Когда он подошел к кушетке, Елена Васильевна стояла на четвереньках, сильно выгнув спину, словно похотливая кошка. Ее нежный зад казался совершеннейшим творением природы. Алебастровые ягодицы были столь округлы, что доктор снова потерял дар речи.
Что было далее, он помнил смутно. Она заставила его сделать ей пять клистиров подряд. Она ёрзала и извивалась задом, стонала, просила ввести наконечник поглубже и толще. Ее вагина при этом судорожно сжималась, исторгая потоки женского секрета. Нойман стоял весь мокрый, красный и растерянный от капризов новой пациентки. К своему стыду, он едва сдерживал свое собственное вожделение, думая о том, что в подобных случаях ему, перед приходом таких экзальтированных особ, надобно принимать бромистые капли. Когда произошло последнее опорожнение, она быстро приняла ванну и снова легла на кушетку, раздвинув восхитительные ноги.
– Доктор, я слышала, что вы делаете особый массаж.
– Да, мадам, делаю, – его голос дрожал.
– Так делайте же мне скорее… Только вставьте и в попочку что-то потолще.
– У меня есть медицинская заглушка.
– Покажите, она толстая?
– Она средняя, мадам.
– Ладно, давайте хоть ее и скорее-скорее… Я изнемогаю, вы не видите?
Он проделал с ней те же манипуляции, что совершал и с другими женщинами, которые прибегали к подобной услуге: он стимулировал пальцами ее опухший клитор и одновременно другой рукой совершал поступательные движения в вагине. В отличие от других дам, которые стыдливо закрывали глаза во время подобного действа, Елена Васильевна смотрела на него открытым взором голубых блестящих глаз. Она заставляла его шевелить в анусе пробкой и засовывать в лоно всю ладонь. Она извивалась и ругалась матом. А когда все закончилось, ее маленькая ручка схватила его за причинное место так, что он чуть не вскрикнул от боли.
Потом она долго лежала на кушетке. Медленно одевалась и оставила на его столе такую внушительную сумму наличных, что он поперхнулся от изумления. Перед самым уходом она подняла на него затуманенный взор и прошептала:
– А твой дружок, милый Ганс, тоже неплох.
– Меня зовут Артуром…
– Какая разница? Р-р-р ам-м-м! – она смешливо, по-злодейски, щелкнула острыми зубками и хлопнула дверью.
Роскошная карета, запряженная двумя вороными породистыми жеребцами, увезла ее в неизвестном направлении.
Случилось так, что она появилась на пороге его лечебницы спустя месяц. Без долгих церемоний она попросила раздеть ее, решительно затребовала ровно пять клистиров, а после, без предисловий, достала из ридикюля, расшитого самоцветами, два огромных дилдо. Перейдя на «ты» с Нойманом, она буквально приказала провести массаж именно этими двумя предметами. Дилдо были изготовлены из черного каучука и сохраняли тепло человеческой руки. Доктору пришлось немало поработать обеими руками. Мало того, презрев все врачебные каноны и клятву Гиппократа, ошалев от похотливого напора златокудрой и прекрасной ведьмы, он склонился над ее пахом и приласкал клитор собственным языком. У него просто не было третьей руки…
Уходя, она снова оставила на столе такую сумму, что он мог бы позволить себе не работать вообще до конца года. Но самое главное: перед уходом она задержалась на пороге и сказала с небольшой усмешкой на пухлых губах:
– В следующий раз ты поработаешь своим другом, что давно без дела прохлаждается в твоих лекарских штанах.
Он только сглотнул от такого головокружительного предложения. Он ждал ее долго. Но более она не пришла. Его помощница Дарья Алексеевна откуда-то, по своим, никому неведомым каналам, разузнала, что таинственную даму действительно зовут Еленой Васильевной, и что она носит княжеский титул, и замужем за князем Мещерским, которому исполнилось в этом году 72 года…
– Наверное, поехала в Довиль или Баден-Баден оголяться, – ехидно произнесла Дарья Алексеевна.
На что Нойманн отчего-то разозлился на нее и заставил прикусить язык:
– Если вы еще раз посмеете выражаться хоть немного более вольно или неприлично в адрес моих пациентов, я тут же вас рассчитаю.
Он с месяц ходил грустным и немного потерянным. Многие свои обязанности он отдал в руки помощниц и выезжал лично только в дома особо важных пациентов. Но позже его практика вошла в обычную колею.
Постепенно Артур Карлович стал настолько элитным и востребованным доктором, что суммы на его счетах росли в геометрической прогрессии.
Ему буквально не хватало времени и рук – сильных и здоровых рук, для лечения мужских и женских половых недугов. Он даже мечтал со временем расширить свою клинику, завести в ней водный душ с хорошим напором воды для стимуляции дам, а также приобрести несколько, недавно изобретенных электрических аппаратов, для этой же цели, и увеличить количество хорошо обученного персонала. Но его планам не суждено было осуществиться.
В этом месте мы должны плавно перейти к третьей группе потребителей его услуг. Их называли «тётками»[22]. Они приходили сами и приводили своих юных любовников к доктору Нойману на «омовение любовных врат».
Самым известным маршрутом прогулок «тёток» был – Невский проспект от Знаменской площади до Аничкова моста и далее до Публичной библиотеки и Пассажа, оказавшегося идеальным местом для поиска однополых связей, особенно зимой.
«Тетки» орудовали и в Михайловском манеже, любили прогуливаться на набережной Фонтанки, в садах у цирка Чинизелли. Они рыскали свою добычу в Таврическом саду и на спектаклях в Мариинском театре. Местами для встреч им служили кабинеты ресторанов и публичных бань, трактиры, съемные квартиры и гостиницы. А «добычей» подобных любителей однополой любви были юные матросы, солдаты, юнкера, полковые певчие, кадеты, гимназисты, мальчишки-подмастерья, кавалергарды и артисты театров.
Случай свел Ноймана с одной такой парой, в которой активной стороной был важный военный чин, который не раскрывал своего реального имени, звания и места службы. Доктору лишь было известно, что чин этот является высоким генералом и имеет большое влияние в Военном министерстве. А также, что он неприлично богат и знатен. А его пассивным другом был юный певец из Мариинки, красавец Алешенька.
Об Алешеньке хотелось сказать несколько отдельных слов. Когда Артур Нойман впервые увидел Алешеньку, то поразился игрой природы, породившей это ангельски прекрасное существо. Оно было бесполо или, вернее, сочетало в себе игру обеих полов. Алешеньке шел осемнадцатый год. Он был высок и строен. Черты его матового лица казались писанными с какого-то иконного лика. Огромные синие глаза в обрамлении длинных ресниц, смотрели невинно, но вместе с тем чудовищно порочно. Его тонкий нос, яркие малиновые, пухлые как у девчонки губы, словно были созданы для чувственной любви. Русые локоны спадали на худенькие плечи. Алешенька и вел себя так, будто был чуть «не в себе». Он позволял себе частые истерики, ломался по каждому ничтожному поводу, канючил, словно ребенок, украшения и сладости, капризничал и не соглашался со своим покровителем, убегал внезапно и также внезапно появлялся. Убеленный сединами генерал не раз разыскивал Алешеньку по притонам и у цыган в таборе, в ресторанах и на паперти. Алешеньке влетало от крепкой руки любовника, а после генерал его жалел и ласкал, словно одержимый безумец. Он застрелил бы любого, кто покусился бы на душу или тело его возлюбленного мальчика. Коварный «Ганимед» знал об этом и прилично издевался над своим «Зевсом»[23].
Но генерал все прощал своему любовнику, когда тот внезапно начинал петь. Его голос также был божественным, как и его лик.
Встреча Ноймана с этой странной парочкой стала для доктора проклятием и почти смертным приговором. Случилось так, что генерал привез Алешеньку в клинику, пройти курс лечения клистирами, а сам отъехал по делам, пообещав забрать свое «сокровище» на обратном пути.
Нойман сделал все аккуратно, но похотливый юноша внезапно начал соблазнять доктора, чтобы последний вступил с ним в любовную связь. Он клялся, что полюбил немца с первого взгляда, жаловался, что генерал ему жутко надоел, жаловался и плакал, как женщина. Потом он даже попытался встать на колени и расстегнуть Нойману ширинку. На что наш либеральный доктор, который вовсе в душе не был ханжой, по-доброму рассмеялся и шлепнул Алешеньку по голому заду, сопроводив его проказы следующими словами:
– Мой любезный и дорогой юноша, увы, вы обратились не по адресу. Дело в том, что я в своих интимных пристрастиях предпочитаю только женский пол. За сим прошу меня простить, а вас откланяться. Скоро за вами приедет ваш высокий покровитель, и мне не нужны никакие проблемы или тень на мою безупречную репутацию.
Но наш эскулап не знал всей подлости сего юного херувима. Алешенька затаил на Ноймана такую злобу, что решил отомстить последнему во что бы то ни стало. С поджатыми от обиды губками, он оделся в свою соболью шубу и скоро покинул клинику. Алешенька не прощал таких жестоких и позорных обид. Он тут же побежал к генералу и, плача чистыми слезами, совершенно на голубом глазу, сообщил своему «Зевсу» о том, что доктор коварно воспользовался своим положением и его, Алешенькиной, беспомощностью.
– Он насиловал и насиловал меня… долго, – размазывая слезы, лгал подлый Алешенька. – А х*й у него в два раза больше твоего. Мне было больно…
После этих слов генерал рассвирепел, взял извозчика, поехал в клинику, ворвался туда и прострелил Нойману обе ноги, почти рядом с пахом. А после он разгромил все кабинеты, перебил клистиры, бросил истекающего кровью доктора, облил все спиртом и поджог помещение.
Артур Нойман чудом выжил. Из соседнего крыла прибежала на шум его верная помощница Дарья и буквально вытащила доктора из огня.
А утром по пепелищу ходил маленький дьячок и возлагал анафему на сгоревшую клинику содомита Ноймана.
Доктор долго болел и долго приходил в себя. Затем он забрал все свои банковские активы и деньги со счетов и отправился прочь из Петербурга. Крупная часть наличных сгорела в огне проклятого генерала и его похотливого Алешеньки.
* * *
Когда Людочка переступила порог маленького кабинета, навстречу ей вышел высокий светловолосый немец, лет сорока, с грустными льдистыми глазами и льняными волосами. Он прихрамывал на одну ногу, а на правой щеке его красовался багровый шрам от ожога.
– Что вам угодно, господа?
– Здравствуйте, Артур Карлович, – поприветствовал Краевский доктора.
– А, это вы, граф! – немец косо улыбнулся, непроизвольно прикрывая шрам ладонью.
Людочка поняла, что они были уже знакомы.
Доктор провел посетителей в небольшую, строгую приемную. Здесь стоял черный кожаный диван с высокой спинкой, широкий письменный стол, шкаф с книгами, пара стульев и более ничего. Далее шли высокие двери в процедурную.
– Может быть, чаю? – предложил доктор графу, вежливо, но немного отстранено. Чувствовалось, что это предложение звучало скорее для приличия.
– Нет, спасибо, Артур Карлович. Нам, если честно, некогда засиживаться. Как-нибудь в другой раз.
– Кстати, хотел узнать: как здоровье Его Сиятельства, князя Константина Николаевича?
– Благодарствую, все в порядке.
– Он нынче не заедет в наши края?
– Точно не могу-с сказать. Недавно я получил от него письмо, он сообщал, что едет за границу. Насколько понял, он собирался пробыть там до зимы.
– Ну-с, а чем я могу быть вам полезен, Анатолий Александрович? – решительно произнес доктор.
– Можете, можете… Прежде я хотел бы вас познакомить с моей спутницей. Сию милую барышню зовут Людмилой Павловной Петровой. Прошу любить и жаловать.
– Очень приятно, – доктор галантно кивнул Людмиле.
– Артур Карлович, нам надо бы уединиться для небольшого конфиденциального разговора.
– Ну что ж, – доктор порывисто встал. – Пусть Людмила Павловна подождет нас здесь, а мы с вами, граф, можем пройти в процедурную.
Распахнулась высокая, крашеная белой краской дверь, пахнуло касторкой, какими-то мазями, йодом и прочими медицинскими запахами. Людочка невольно поежилась: что он опять задумал? Я же совершенно здорова.
* * *
Дверь плотно закрылась перед самым ее носом. Она попыталась прислушаться, но тщетно.
– Артур Карлович, я прошу вас сделать этой юной особе несколько больших клистиров.
– Она нездорова? Что-то с пищеварением?
– Нет, она здорова… Но клистиры ей не помешают. Сделайте несколько и довольно объемных.
– Хорошо. Объем я регулирую на месте.
– Да, пожалуй. Я только попрошу вас быть с ней настойчивым, руководствуясь не ее жалобами и женскими капризами, а скорее медицинской необходимостью и пользой. Словом, не принимать от нее никаких возражений, проявляя бóльшую решительность, чем с другими. Вы меня понимаете? Я отъеду на пару часов. Вернусь и буду ждать. У вас она должна пробыть не более трех часов. И все три часа – никаких снисхождений. Даже если будут слезы… Буду откровенен. Вопрос тонкий… Я ценю и всегда ценил, доктор, ваше понимание. И понимание это будет и впредь мною щедро оплачено. Итак, она… Она должна почувствовать полное унижение. Возможно, физическую боль. Немного. И вот еще что… Как только закончите, пусть она примет у вас ванну с вербеной или лавандой. И сразу после ванны, вы дадите мне знак. Я должен с ней остаться наедине.
– Но?
– Доктор, не стоит фантазировать, мне хватит и пяти минут, – перебил его Краевский.
– Как вам будет угодно, – кивнул Нойман, нервный тик свел его обожженную щеку.
Нойман почувствовал, как рука Краевского нырнула в карман белого халата, хрустнуло несколько купюр. Артур Карлович не стал противиться.
– Я все понял, Анатолий Александрович. Лишь бы не было проблем с дамой. Видите ли, она очень юна, нежна и, судя по всему, совсем неопытна. И как я понял, в Карлсбаде ей не доводилось бывать.
– Вы все правильно поняли. А потому надеюсь на ваше красноречие…
* * *
– Мила, я оставлю тебя в клинике. Доктор Нойман – наш европейский светило. Он все тебе объяснит. Я отъеду по делам. Не скучай, любимая, я скоро вернусь.
– Анатолий Александрович, вы куда? – ее глаза смотрели жалобно и испуганно.
– Не беспокойся, Мила. Я съезжу в Управу. Вчера я получил один важный циркуляр. Я ненадолго. Ты и не заметишь, как я вернусь.
– Но…
– Никаких но… Вспомни, ты обещала меня слушаться, – понизив голос, решительно произнес он. – И доктора тоже слушайся. Все, что он будет делать, необходимо. Ты поняла? Необходимо, если ты желаешь стать настоящей светской барышней.
– Но что? – в ее глазах стояли слезы.
Он не ответил и молча вышел. Хлопнула входная дверь, Людмила вздрогнула. Сердце стучало так громко, что она слышала его стук где-то у себя в горле.
– Сударыня, зачем вы плачете? – растерянно пробормотал доктор, оставшись с Людочкой наедине. – Я не собираюсь причинять вам боль. Возможно, вам будет чуточку неприятно. Не более. Я буду аккуратен.
«Господи, как она похожа на ту, далекую мою возлюбленную – княгиню Мещерскую… Она, будто ее родная сестра. Внешне. Та же хрупкость, порода, утонченная внешность. Только княгиня была её полной противоположностью по сути. Эта – невинна и пуглива, та – решительна, страстна и… развратна. О, боги! Какая насмешка! Я вновь увидел этот лик и эту фигуру. Но в этом теле живет иная душа. Они обе – как Ева и Лилит».
– Доктор, доктор! Вы слышите меня?
– Да? – очнулся Нойман.
– Что вы будете мне делать?
– О, сущий пустяк, мадемуазель. Я лишь поставлю вам несколько клистиров.
– Но что это?
– Пойдемте в процедурную. Мне надо вам показать ряд медицинских пособий и атласов.
Четверть часа доктор объяснял и показывал Людочке строение человеческого кишечника. Объяснял пользу его промывания. Она бледнела и краснела, вникая в тонкости этого процесса.
– А разве всем барышням делают эти вещи?
– Да, конечно, – лгал лекарь, успокаивая себя в душе тем, что ложь эта рождена во спасение. Разве от его процедур этой девушке станет хуже? Отнюдь. Она зацветет сильнее прежнего. А потому, какие могут быть сантименты? Все вопросы стыдливости не более чем жалкое жеманство. Разве бывает стыдно своей наготы раненному солдату или рожающей бабе? Довольно миндальничать и с этой особой.
Нойман посмотрел на часы и вспомнил слова Краевского о решительности.
– Сударыня, я все вам объяснил. Мы теряем время. У меня сегодня назначены и другие пациенты, – раздраженно сказал он. – На проведении этой процедуры настоял ваш покровитель. А потому я прошу вас зайти за ширму и раздеться. Вам поможет моя ассистентка.
– Как раздеться? Совсем?
– Да, донага, – решительным тоном произнес Нойман и густо покраснел.
«О, теперь я не буду столь щепетилен, каким был тогда, с Еленой Мещерской. Пусть эти нимфы платят за мои страдания чистой монетой. А потом за них доплатят и их высокие покровители, алчущие разврата. Богомерзкие лжецы, насилующие этих кротких весталок. А весталки, нацепившие личины жертвы, сами жаждут растления еще более чем их высокородные сатиры. Так получайте же все сполна. Я заставлю тебя гореть от стыда и корчиться. Так хочет твой покровитель. А ты давно продалась ему всей душой и телом. Раз так, то терпите, барышня. За вас хорошо заплатили», – мстительно рассуждал он.
– Да, донага и живее! – повторил он. – Пройдите за ширму.
Ассистенткой у Ноймана работала все та же, Дарья Алексеевна. Не найдя себе новой работы в столице, она переехала вслед за Нойманом в город Н. Артур Карлович был не против, тем паче он был благодарен этой женщине за свое чудесное спасение. Если бы не она, он сгорел бы тогда в чудовищном пожаре.
– Дарья Алексеевна, подготовьте барышню к процедуре… Полностью.
За долгие годы работы она понимала его с полуслова. Она улавливала малейшие намеки, взгляды, полутона. О чем думала эта, немолодая уже, но крепкая женщина? Они не были с Нойманом любовниками. Их никогда не тянуло друг к другу физически. Но они были прекрасными сообщниками, союзниками, товарищами. У них даже одинаково горели глаза при виде красивой плоти, неважно какого пола. Иногда, к собственному стыду, они одинаково наслаждались легкими мучениями своих «жертв», испытывая при этом приступы нешуточного сладострастия. От коих избавлялись каждый – отдельно от другого. Но подобное случалось редко, чаще их повседневность предоставляла им лишь медицинскую рутину, без какого-либо намека на эротизм или внешнюю эстетику. Иными словами – общими стали их идеи, помыслы и страсти, не исключая страсти к деньгам. Но каждый из них был одинок в реальном мире.
Дарья Алексеевна взяла Людочку за руку, улыбнулась улыбкой людоеда и нежно проворковала:
– Идемте, моя дорогая. Я помогу вам.
«Господи, когда все это кончится? – думала Людмила. – Как только я связалась с Краевским, все меня норовят раздеть».
Через несколько минут Людмила была полностью обнажена и стыдливо прикрывала руками устье стройных ног и торчащие груди. От пытливого взгляда ассистентки не ускользнул тот факт, что у девушки полностью выбрит лобок.
Людочке показалось, что сухие ладони этой немолодой женщины дольше нужного задерживались на ее спине, плечах и даже груди.
«А граф-то, какой гурман. Ощипал ее, словно куропатку», – подумала Дарья.
Примерно тоже самое подумал и сам Нойман. Кровь бросилась ему в голову, когда он увидел беззащитное, выскобленное бритвой лоно Людочки, прорезанное словно ножом, розовой, вертикальной щелью.
– Идите на кушетку и встаньте на четвереньки, – скомандовал он бесстрастно. – А вас, Дарья Алексеевна, я прошу нынче помогать мне.
Каких душевных мук стоило Людмиле исполнение приказа двух эскулапов. Она чувствовала себя, словно на эшафоте.
– Дарья Алексеевна, включите газовый свет.
Щелкнул переключатель, затрещал фитиль. И лоно девушки осветилось ярким светом, наглядно демонстрируя все то, что у других женщин пряталось под обильной растительностью. Эта экзальтированная нагота и беспомощность вызвала в лекаре и его помощнице сильный жар.
Оба переглянулись. То, что они увидели, немного поразило их. Любовница Краевского была девственницей!
«Этот сладострастник имеет ее только в анус! Или собирается иметь, – осенило Ноймана. – Каков подлец! Не дать женщине ощутить всю полноту плотской любви. Эти великосветские мерзавцы лишают своих рабынь даже этого права. Что в голове у этих господ? Девушка давно созрела для нормальных половых сношений. Неужели он хочет, чтобы она прожила так всю жизнь, не дефлорированной? Быть непорочной при таком гнусном пороке? Какое тонкое изуверство! А впрочем, что я хочу от содомита? Жил бы со своим высокородным урнингом[24], сиятельным князем. Зачем ему эта девочка?» – все эти мысли, словно вихрь, пронеслись в голове Ноймана.
Он сам не заметил, как сильное возбуждение охватило его душу и тело. А вместе с возбуждением пришло жестокое желание мести. И месть эту он пожелал отыграть на стоящей перед ним, коленопреклоненной деве.
– Нагнитесь ниже и приподнимите таз, – громко командовал он, его обожженная красная щека кривилась от нервного тика. Людочке казалось, что он все время скалится белыми клыками ровных зубов. – Голову ниже, а зад выше. Дарья Алексеевна, придержите нашей пациентке голову, пока я подберу наконечник.
«О боги, как ее ягодицы похожи на ягодицы Елены! Сейчас я получу все то, о чем мечтал эти годы. Ты ответишь у меня за ту, златокудрую распутницу, которая посмеялась надо мной и бросила, оставив в душе рану на долгие годы. Вы, юные содомитки, корчитесь в муках! Ибо ваши врата достойны лишь этого!»
Он подошел к блестящему столику, накрытому белой тканью, откинул стерильную салфетку. В объемной кювете лежал целый набор металлических, каучуковых и деревянных наконечников. Рука помедлила. Он выбрал один из самых толстых. Присоединил его к резиновой трубке и подкатил штатив с двухлитровым солевым клистиром.
«Войдет ли? – нервно усомнился он. – А мы используем заглушку».
Он взял баночку с вазелином.
Людмила ощутила пальцы доктора. Он чем-то умащивал ее вход. Жидкий вазелин потек ниже, она услышала, как жирная капля пухло шмякнулась о кафельный пол. Она смотрела на желтоватые ромбики метлахской плитки, считая их перемычки: один-два-три, а четвертая треснута пополам. Когда это все закончится? Мама… Белый халат отлетел в сторону. Сухие пальцы медсестры давили ей на затылок. Зачем она так сильно давит? Белый халат снова подлетел ближе. Сердцевина ануса почувствовала холод стали. У доктора отчего-то дрожали пальцы, он чертыхнулся, но надавил. В нее! Она вскрикнула от боли.
– Не кричите мадемуазель, и не сжимайте так анус, – услышала она позади себя.
– Может, взять троечку? – это был тихий голос ассистентки.
– Нет, нам нужна пятерка…
Людочка снова вскрикнула и напряглась. Наконечник не шел даже с вазелином. Желтые ромбики: один-два-три, а четвертый треснут.
– Расслабьтесь, Людмила Павловна. Не смейте так сжиматься, – его ладонь внезапно ударила ее по ягодицам. Раздалось несколько звонких шлепков, и наконечник влетел в узкий проход.
– А-а-а, – застонала Людмила. – Не-ее-ее-т!
– Это неприятно, мадемуазель, но не смертельно. Теперь я поверну кран, и в вас потечет водичка. Вы должны потерпеть несколько минут, прежде чем Дарья Алексеевна отведет вас на горшок. Старайтесь глубоко дышать.
Через несколько секунд Людочка кричала в голос, а вода все лилась и лилась. И после этого коварный доктор смазал вазелином деревянную заглушку и заткнул ею вход. Людочка дернулась, чтобы соскочить, но сильная рука ассистентки крепко держала ее плечи, с силой пригибая к кушетке.
– Терпите. Я засекаю время. Я скажу, когда вам будет можно сходить на горшок.
Людочка выла и стонала, кусала губы и крутила головой. Её затылок взмок под сильной рукой Дарьи Алексеевны.
– Время вышло, вы можете опорожнить кишечник.
Дарья едва успела убрать толстую заглушку…
Эта мука длилась более двух часов. Нойман будто ошалел. Он ввел в Людочку подряд шесть двухлитровых клистиров, всякий раз все дольше и дольше заставляя ее терпеть. Он использовал различные по форме, деревянные и каучуковые заглушки. Людмила ослабла и еле шевелила ногами. Ей казалось, что эта мука никогда не кончится. Что она попала в настоящий ад. Нойман заставлял ее принимать клистиры в разных позах: на боку, на коленях, лежа на животе, лежа на спине. Один-два-три ромбика, а четвертый треснутый… Последний он осуществил таким образом: положил Людмилу на спину и заставил ее согнуть и развести ноги.
– Человеческий кишечник имеет множество изгибов, – отрывисто объяснял он, массируя рукой Людочкин живот – Все это требует разнообразие поз и массаж живота. Вы поняли меня, мадемуазель?
Но мадемуазель уже не отвечала. Она лишь слабо шевелила губами. А после Нойман сам взял ее на руки и отнес в теплую ванну. От воды пахло лавандой и апельсинами. Только в ванне Людочка пришла в себя. К ней заглянула Дарья, проверить температуру воды.
– Ну, как вы себя чувствуете?
Людмила лишь слабо кивнула.
– Вы не сердитесь на нас, милочка. Доктор оказал вам большую услугу, избавив от всех накопленных нечистот. Теперь ваши глаза засияют еще сильнее, и здоровья прибавится. Поверьте мне. Вам не горячо?
Людмила покачала головой.
– А ну-ка, встаньте. Встаньте! – приказала Дарья.
– У меня нет сил.
– Я помогу. Дайте руку.
Людочка встала во весь рост. А далее произошло то, чего она совсем не ожидала. Ассистентка Ноймана заставила ее опереться о выступ в стене, а сама приникла к лобку губами и принялась ласкать языком Людочкин клитор.
«Что она делает? – рассеянно думала Людмила, но, как ни странно, не отстранилась, а, наоборот, подвинулась ближе к алчущим губам Дарьи. Девушка зажмурила глаза и качнулась. – Они здесь все сошли с ума, и я вместе с ними…»
– Сядь, я тебя пальцами доласкаю, – обдавая горячим дыханием, прошептала старая лесбиянка.
Ее полная рука ушла под воду. Людмила закрыла глаза и откинула голову.
– Раздвинь ноги шире… Я аккуратно, не поврежу твою целочку…
Через мгновение Людочка вскрикнула, тонкие пальцы вжались в фаянсовые поручни широкой ванны.
– Спасибо, – прошептала она уходящей ассистентке. Та только усмехнулась:
– Не за что. Это не было оплачено. Просто ты мне очень приглянулась. Приходи еще…
Потом Людочка сидела на широкой деревянной скамье и медленно вытиралась большим банным полотенцем. В этот момент к ней заглянул Краевский.
– Как ты, моя девочка?
Она не ответила. Ее глаза были закрыты, она почти спала. Щеки розовели от пара и воды, завитки мокрых русых волос прилипли к груди и плечам.
– Погоди, не спи. Я сделаю то, для чего мы сюда пришли.
Он поставил ее, словно безвольную куклу, коленями на лавку. Его ладонь коснулась сосков, прошлась ниже от талии к животу и задержалась на лобке. Краевский до боли сжал ее голый лобок.
– Мой бог, я зверею от страсти к тебе. Ты снова вся скользкая, Мила…
Его рука нырнула в карман сюртука, он вынул оттуда новую пробку из китайской коллекции – большего диаметра. Удивительное дело: девушка не сопротивлялась и даже не вскрикнула. Людочка приняла вторженку с легкостью, словно она была желанной гостьей.
Его измученная пассия приняла бы нынче и самый большой экземпляр из тайного футляра. И даже нечто большее…
– Нойман – настоящий волшебник, – крякнул с удовлетворением Краевский.
Он не стал одевать Людмилу полностью. Дарья Алексеевна принесла клетчатый плед. Они втроем укрыли им спящую девушку, и довольный Краевский отнес свое сокровище в карету.
* * *
– Доктор, вы верите в переселение душ? – тихо спросила его Дарья, стоя на крыльце. – Она… Словом, вы поняли, на кого она так похожа…
– Я не верю в переселение душ, тем более в одном временном отрезке. Я вообще не склонен увлекаться мистикой. Однако, как естествоиспытатель, я допускаю наличие в природе биологических двойников. Да, это очень забавно… Сколько этот мерзавец будет держать ее возле себя?
– Да, пока не надоест, – махнула рукой Дарья и пошла в свою комнатку.
«Когда он наиграется ею, я разыщу бедняжку и женюсь на ней, – решил Нойман. – Хоть я и калека, однако, после всего позора, она вряд ли сможет выбирать. И она будет у меня рожать. Много рожать…»
* * *
Людмила не поняла, как долго длился ее сон. Когда она проснулась, за окошком уже стояли густые сумерки. Перед глазами мелькнули длинные черные штиблеты, мужские икры, одетые в тонкое английское трико. В сумраке, прямо на коленях графа, сидела огромная серая птица с опущенной головой и клювом. Граф шевельнул руками, а птица, шурша крыльями, превратилась в обычную газету. Граф не спал, он сидел в кресле и читал под лампой последние новости. Людмила поежилась. Ее соски стояли, словно каменные. Её морозило.
– Мне холодно, – прошептала она и вдруг расплакалась.
– Ну, что ты? – он отложил газету и подошел к кровати.
– Я хочу к маме…
– Людочка, девочка, ты навестишь свою маму. Но чуть позже. А сейчас напиши ей письмо. Напиши, что у тебя все хорошо, и пусть она не волнуется.
– А вы отнесете его на почту?
– Конечно, мы оба завтра зайдем на почту и отправим его.
Она всхлипывала.
– Я ждал твоего пробуждения, соня, целых четыре часа. Мы опоздали на обед. Сейчас швейцар доставит нам ужин. Ты хочешь кушать?
– Да, – пробормотала Людмила.
Она на самом деле почувствовала зверский аппетит.
Раздался звон колокольчика.
– О, уже привезли.
– Подождите, я оденусь…
– Накинь халатик.
А далее был ужин. И снова вино. На этот раз это был португальский портвейн Dows, коллекции 1830 года, доставленный из магазина Леве в город Н. Официант из ресторана за считанные минуты сервировал стол на двоих. На белых фарфоровых тарелках дымились огромные отбивные со сложным гарниром, в золотистых блюдах серым тусклым светом поблескивала черная ачуевская паюсная икра, тут же стоял судок с галантиром из языка, несколько паштетов, фрукты, пирожные.
Людмила ела охотно, но съела мало – больше не входило. А когда она снова вспомнила о манипуляциях Ноймана, у нее и вовсе пропал аппетит. Рука отодвинула тарелку с пирожными.
– Я больше никогда не поеду туда, – заявила она и опустила голову.
– Куда? – он рассматривал ее русую макушку.
– К доктору Нойману.
– Какому доктору? Тебе что-то приснилось?
– Хватит меня дурачить!
– Я тебя не дурачу. Я играю с тобой. Пока нам нет необходимости в частых посещениях сего ученого эскулапа. Тем более, если ты будешь умницей и станешь меня слушаться.
– Я устала быть умницей! – крикнула она.
– Тихо, тише… Услышат слуги. Это что еще за истерики?
– Ты… Вы не представляете, – зашептала он горячечным шепотом, а из карих глаз брызнули слезы. – Он заставлял меня вставать в такие позы… В меня втекало столько воды… Я не могла терпеть. Я думала, что лопнет мой живот!
– Ты была полностью раздета или в сорочке? – глаза Краевского блестели в свете подсвечника.
– Полностью! Его ассистентка раздела меня донага. Они смотрели везде. Они трогали меня везде.
– Тише… Что еще они делали?
– Ничего! Они вставляли в меня какие-то трубки, какие-то заглушки и заставляли терпеть. Терпеть! Это было невыносимо! Я не хочу! Я хочу домой! Рассчитайте меня, я уйду. К маме! – она снова зарыдала.
– Моя девочка, это невозможно… Уже слишком поздно. Поздно. Мы отравили друг друга ядом страсти. Я пью эту страсть маленькими глотками, как одержимый безумец. Я тебя никому не отдам… Маме письмо, напишем завтра же письмо. Иди ко мне…
Он подхватил ее на руки. А затем он снова принялся целовать её в губы. Страстно. Её последние крики потонули в потоке безумных ласк. Он положил ее на спину, распахнул халат и приник губами к лону. О, что только вытворял его язык! Она извивалась от неописуемого наслаждения. Он захватывал губами лепестки губ, язык двигался то быстрее, то тише, то вверх, то вниз. Она вздрагивала, лохматая русая голова металась по подушке, тело выгибалось дугой и двигалось ему навстречу. И он снова шевелил в ней пробкой. Теперь эта пробка своим острым конусом давила на верхний свод так, что Людочка рычала от страсти и кончила, оцарапав Краевскому спину.
– Ты видишь, как горяча твоя попка. Ты становишься Клеопатрой, моя принцесса. Все идет так, как надо. А теперь приласкай и моего старого друга… Еще пару дней, и он ворвется в твои врата, как настоящий победитель. И нет той силы, которая бы разлучила нас. Ты же видишь, ты чувствуешь. Я и только я буду владеть тобой всецело. Я один! Один. Сильнее ласкай его… О, боги!
* * *
Она проснулась рано, но Краевского в кровати уже не было. Людочка с удовольствием потянулась. Солнце нежным утренним светом освещало часть комнаты в проеме распахнутой портьеры. Было по-утреннему свежо, пахло травой и цветами – недалеко от окошка находилась та самая клумба, о которой Людочка напрочь позабыла. Ее любимые Анютины глазки цвели и нежились под солнцем без ее заботливых рук.
Дверь скрипнула и отворилась. Он вошел, напевая себе под нос какую-то арию. Она сделала вид, что еще не проснулась. Он наклонился к ее уху.
– Не притворяйся, я видел, что ты не спишь… Вставай, любимая. Сейчас я выну из тебя наш второй номер. Ты сходишь в уборную, омоешься. И придешь к папочке на последний этап… нашего восхождения к Олимпу.
– Но…
– Не морщись, тебе не идет. Ты становишься похожа на старушку.
Он был одет в светлую пару из тонкой летней ткани сливочного оттенка, муаровый жилет, белоснежную сорочку, схваченную у горла шелковым английским шарфиком, новые штиблеты из мягкой кожи, и от него снова божественно пахло одеколоном.
– Ну-с, руки у меня чисты и теплы. Готова ли ты, юная горожанка Мендеса, пройти предпоследний этап инициации? – торжественно произнес он. – Повернись ко мне попкой я достану из тебя второй номер.
Людочка совсем не понимала и половины слов из его странных речей. Мендес? Что это за город? Он выпрямился и строго смотрел на нее, скрестив руки на груди.
В глазах потемнело. На минуту ей показалось, что она стоит не в просторной, залитой солнечным, утренним светом спальне особняка графа Краевского, а в темном подвале какого-то древнего храма или в пещере. Каменные, покрытые слоем копоти своды озарялись лишь всполохами яркого факельного огня. Пахло сеном, гарью, потом, шерстью и кровью.
Она словно бы увидела себя со стороны. Её худенькая фигурка пыталась спрятаться, вжаться в холодный камень. Стальные вериги до крови рассекли тонкую кожу узких запястий. Колени болели от тяжести кандалов. Кровь сочилось из ступней, изрезанных мелким каменным крошевом. Из одежды на неё был надет лишь грубый шерстяной хитон. Ныли натертые тканью соски, саднило промежность. Но она отчего-то дрожала от жуткого вожделения. Меж ног предательски струилась влага. Ее глаза, опухшие от слез, едва различили молчаливую толпу, стоящую в уступах пещерных сводов. Люди молчали, слышалось лишь густое и влажное дыхание, и стук тысяч сердец. Все смотрели в середину каменного зала. Она была хорошо освещена. Несколько крепких мужчин держали в руках каждый по два факела. Сонмище живого огня выхватывало из темноты высокий каменный помост. Это – был жертвенный алтарь.
В этом видении граф был одет не в светлый сюртук и брюки, а в пурпурную мантию, и борода его спускалась черными завитками до пояса. Взгляд казался суровым, почти страшным, сильные руки покоились на груди. Он подошел к ней вплотную и задрал полу хитона. Его рука нырнула к устью сведенных страхом ног. Пальцы прошлись по опухшим лепесткам плоти. Она застонала. В его глазах появилось удовлетворение и даже усмешка.
– Вы поили ее напитком старого жреца, посланника Банебджеда?
– Да, поили. Мы поили ее три ночи подряд. И готовили ее врата три ночи подряд, – раздался из темноты чей-то женский голос.
Людмила узнала этот голос. Это был голос ассистентки Ноймана, Дарьи Алексеевны.
– Хорошо, – с удовлетворением произнес жрец, похожий на графа. – Введите ее на жертвенный алтарь.
Двое слуг подхватили Людочку под руки и поволокли в центр зала.
Только тут она обнаружила то обстоятельство, что каменный алтарь был устроен таким образом, что середина выступа приходилась жертве ровно на область живота. Кто-то из слуг снял кандалы и вериги. Она мгновенно почувствовала облегчение. Женщина с голосом Дарьи Алексеевны сдернула с плеч шерстяной хитон. Господи, как стыдно! Она обнажена, а все смотрят на нее.
«Прекратите это все! Анатолий Александрович, пощадите!» – шептала она, но не слышала собственного голоса. Её шепот проваливался в немую бездну.
Людочку положили животом на прямоугольный выступ. Руки снова привязали, только теперь их стянули веревкой, конец которой крепился к железному кольцу, вбитому в пол. А ноги широко развели и тоже закрепили веревками к двум другим кольцам. В такой позе она была беспомощна и выставлена на обозрение немой черни. К слову сказать, толпа на этот момент чуточку оживилась. Пробежал едва сдерживаемый шепот и гул. Ей казалось, что люди слились в одну черную массу. И масса эта начала дышать. При каждом ударе ее собственного сердца эта липкая субстанция то расширялась, то сужалась. Отдельные куски отрывались от краев и антрацитовыми протуберанцами расползались по сводам пещеры. Протуберанцы превращались в каких-то макабрических бесплотных животных или змей. Они мельтешили всполохами, разбегались по потолку, всасывались в щели и снова колыхались и исходили дымом. Людочка закрывала мокрые глаза, но страшные видения не отпускали. И вдруг ее взор выхватил знакомый до боли рисунок: на каменном полу обозначились желтоватые ромбики керамической плитки: один-два-три, а четвертая треснута пополам.
– Приведите священного козла! – словно гул, прокатился голос Краевского-жреца. – Эта юная дева из города Мендес, готова принять того, для кого она рождена невестою.
Позади себя она услышала цокот копыт, раздалось и жалобное блеяние. Пахнуло козлиной шерстью.
«Зачем они так со мной? За что?» – думала она, и слезы обиды катились по щекам и капали на каменный пол.
И снова чья-то крепкая ладонь надавила на ее затылок. Она услышала смех ассистентки Ноймана. Появился и сам доктор:
– Голову ниже, зад выше! – снова командовал он.
Она дернулась, а к анусу приставили что-то теплое и одновременно твердое. Толпа ахнула. Людочка посмотрела в пол: один-два-три ромбика, а четвертая треснута пополам…
* * *
– Ау, Мила, любимая, проснись? – ласковый голос Краевского вырывал ее из недавнего видения. – Ну, не будь врединкой, дай папочке попку. Я хотел вынуть нашу игрушку, пока ты спала, но ты так крутилась во сне… Тебе что-то снилось?
– Да! Нет! – испуганный сонный взгляд коснулся лица Краевского.
– Согни колени, я аккуратно… О, твоя дырочка становится все шире… Я схожу с ума при виде этого раскрытого и нежного бутончика. Я еле терплю, Мила…
Она нехотя поднялась с кровати. Неужели это был сон? Господи, как страшно!
– Можешь не надевать халат. Дай мне полюбоваться всеми изгибами твоей точеной фигурки, моя милая нимфа.
Через четверть часа она вышла из уборной – умытая, свежая, с заплетенной косой и одетая в свое единственное и такое милое сердцу платье.
Он сидел в кресле и улыбался. Она чуть пристальнее взглянула на его одежду. Он был одет в светлую пару из тонкой летней ткани, сливочного оттенка, муаровый жилет, белоснежную сорочку, схваченную у горла шелковым английским шарфиком, новые штиблеты из мягкой кожи, и от него снова божественно пахло одеколоном.
– Ну-с, руки у меня чисты и теплы. Готова ли ты, юная горожанка Мендеса[25], пройти предпоследний этап инициации? – торжественно произнес он.
– Что вы сказали? Какого Мендеса? Я не хочу назад, в Мендес! Я не желаю быть невестою козла, – из ее карих глаз полились слезы.
Он даже изменился в лице:
– Мила, бог мой! Что ты несешь! Я же пошутил. Откуда ты знаешь о козле?
– Не знаю, мне что-то приснилось. Там было страшно. Там меня изнасиловал… козел.
– Странно! Какие странные сны ты видишь. Девочка моя, успокойся. Я часто риторствую не к месту. Я ведь историк и литератор. Привыкай, я буду рассказывать тебе много сказок. Нет здесь никаких козлов, не считая меня, – он расхохотался.
Затем он долго обнимал ее и нежно целовал в губы. Опускал голову и щекотал бородкой соски.
– Сейчас мы поедем в кондитерскую. Я куплю тебе вкусные конфетки. Затем мы заедем к Шроту, там подают чудное мороженое. А потом мы едем за платьями. Ты забудешь все свои кошмары, Мила…
Она потихонечку успокоилась.
– Ну что, идем?
Она кивнула.
– Только мы забыли о маленьком пустяке… Мила, встань на край…
Краевский взял ее за плечи и подвел к кровати. Она почувствовала, как он задрал все нижние юбки. Его руки немного дрожали. Большой палец правой руки легко стянул батистовые панталоны. Он задержался на минуту, крепкий поцелуй коснулся трепетных ягодиц. А после он умастил пальцы пахучим вазелином и ввел третью, самую большую пробку. Преодолев легкое сопротивление колечка узкой плоти, сей предмет вошел в нее, словно дикий варвар в хижину покоренного врага. Людочка поморщилась. Она готова была взбрыкнуть или высказать слова укора. Но, отчего-то промолчала, закусив в задумчивости нижнюю губу.
Ее душа разрывалась от сомнений в правильности и логике всех тех вещей, которые творил с ней ее возлюбленный, граф Краевский. Временами она мучилась от нестерпимого стыда и смятения. Временами ее охватывал мистический страх не только возможного разоблачения, но и неотвратимого и страшного наказания. Вы спросите: отчего она не сбежала из имения Краевских? Отчего она не покинула графа? Отчего не прекратила едва начавшуюся опасную связь? Ведь она не была настолько испорчена и искушена, чтобы идти на все это сознательно. Ответ прост: согласие, граничащее с полным безволием, шло от неопытности и несколько рафинированного гимназического воспитания, а также запретов на общение с «миром» ее любящей матери. Людмила Павловна Петрова умудрилась и в бедной среде вырасти девушкой наивной, неиспорченной и жутко доверчивой.
Конечно, она слышала почти сказочные истории об удачно вышедших замуж бесприданницах, или о тех дамах, кои так никогда и не вышли замуж, но жили безбедно, благодаря попечению богатых содержателей. Ей давно хотелось рассказать обо всем матушке, испросить совета, похвастаться деньгами и дорогим украшением. Но она совсем не знала, как мать воспримет эти новости и догадается ли она о столь скоропалительном грехопадение собственной дочери. Ее несчастная мать прожила нелегкую, полную трудов жизнь, большую часть которой прошла в нужде и печалях. Но она была и горда без меры, предпочитая тяжкий труд упрекам в нечестности.
Думала она и том, что граф творил с ней интимную связь каким-то, несколько извращенным манером, не задевая ее девичества. Но, он же старался ради нее. Зачем ей позор? А вдруг она и впрямь потом выйдет замуж за другого, если граф сам не может сделать ей предложения? После подобных, казалось бы разумных доводов, она вспыхивала огнем негодования, и к ней приходили на ум страстные строчки из Евгения Онегина:
Другой!.. Нет, никому на свете Не отдала бы сердца я! То в высшем суждено совете… То воля неба: я твоя…И тогда, словно преступница, она снова начинала грезить о страшном: о смерти Руфины при родах. И сама тут же каялась и отрекалась от собственных греховных помыслов. Часть ее души осознавала, что Краевский, по сути, является лжецом и преступником, но другая часть с исступлением оправдывала его. Она готова была оправдать своего возлюбленного перед всеми судьями этого мира, а равно и на небесах. Она полюбила его страстно и неотвратимо. Полюбила душой и телом. И все его плотские изыски, не смотря на их неслыханную дерзость и попрание основ морали, казались ей тем сладким ядом, без которого она уже не могла ни жить, ни даже дышать.
– Мне неудобно… Она мешает! – снова закапризничала она.
– Терпи. Сегодня вечером мы вытащим ее, и ты станешь моею, до конца, – его голос немного дрожал.
Он достал сигару и закурил ее.
Ей хотелось крикнуть: «Я и так ваша!». Но она молчала, глядя на него затуманенным взором.
Как он и обещал, они поехали в кондитерскую. Это был огромный магазин с пологими стеклянными прилавками, за которыми лежало множество различных сладостей. Сколько раз Людочка мечтала оказаться в таком магазине и накупить там всего-всего. Здесь были блестящие бонбоньерки с шоколадными конфетами из Парижа, жестяные коробочки с разноцветными монпансье, пахучие сливочные тянучки на развес, яблочная пастила, тульские пряники, засахаренные орехи пяти видов, марципановые цветочки и куколки, доставленные из Баварии. Огромный прилавок был заставлен восточными сладостями. На стеклянных полках стояли коробочки с печеньем, пирожными и апельсиновыми штруделями.
У Людмилы разбежались глаза.
– Ну, выбирай, сладкоежка, чего бы ты хотела?
– Я хочу марципановый цветочек, и орешков, и монпансье… тоже.
– Голубчик, взвесьте нам каждого вида орешков по фунту, и фунт изюма в глазури, и фунт марципановых сладостей. И две коробки с ванильными печеньями, и два фунта пастилы и сливочных тянучек. А еще фунт халвы и две бонбоньерки с шоколадом. Да, вон те, английские… И? Что ты еще хочешь, ma cherie?
– Анатолий Александрович, зачем так много? – смущенно проговорила она.
– А хочешь, я куплю тебе всю эту лавку вместе с ее продавцом? – прошептал он на ухо.
– Не-ее-т. Я столько не съем никогда…
– Не съешь? Разве? И продавца не съешь? Смотри, какой он толстый и щекастый. Наверное, вкусный!
Она прыснула в кулачок.
– Ну ладно, тогда мы, пожалуй, не станем пока покупать эту лавчонку. Верно?
Она кивнула. Она была так счастлива, что хотелось все время смеяться. Граф мило шутил и подтрунивал над ней. И в тот момент, когда он крепко обнял её и поцеловал в алеющую щечку, меж лопаток пробежал какой-то неприятный холодок – она почувствовала чей-то взгляд. Людочка резко обернулась. Позади них стоял высокий и стройный господин в черном щегольском фраке и высоком цилиндре. Несмотря на летнюю жару, на его широкие плечи был накинут темный шелковый плащ. Плащ немного распахнулся, обнажив золотую цепь от дорогого брегета и бриллиантовую булавку, приколотую к светлому шейному платку, повязанному поверх белоснежного жилета. Мужчина пристально исподлобья смотрел на Людмилу и Краевского. Вернее не так – он более смотрел именно на нее, Людмилу. От цилиндра на лицо падала легкая тень, но от внимательных глаз Людмилы не ускользнуло то, что этот господин был необычайно красив: тонкие черты лица, огромные голубые глаза, светлые усы и бакенбарды – все это буквально притягивало взгляд. Он стоял у окна кондитерской, почти у самого выхода, и смотрел на Людмилу. Но отчего-то взгляд его прекрасных и внимательных глаз показался Людочке ледяным и почти зловещим. Она прижалась к Анатолю, пока тот весело болтал с кондитером. Прижалась, чтобы найти ответ на то, отчего этот странный господин так вызывающе смотрит на нее. Но когда она обернулась вновь, высокий блондин исчез, оставив после себя тонкий и свежий аромат заморских духов. Стукнула входная дверь, в проеме которой мелькнул шелковый плащ.
Продавец вынес им несколько золоченых кульков, множество коробок и загрузил все это добро в рессорную коляску.
А далее, как и обещал граф, они поехали пить кофе с мороженным, в кафе к Шроту. Это новомодное заведение открылось совсем недавно, но было уже столь популярно у состоятельной публики. Здесь не было отдельных кабинетов, как в том ресторане, где они обедали накануне, в том, где Краевский заставил Людочку обнажиться перед официантом. Она и сейчас с опаской думала о том, не придумает ли граф какой-нибудь новой необычной забавы… Она страшилась его диких причуд. Страшилась, но в то же время эти самые причуды заставляли ее сердце биться от немыслимого возбуждения. Но в кафе граф вел себя совсем обычно, не эпатируя ни малочисленную публику, ни саму Людочку. Когда им подали шарики фисташкового и клубничного мороженного, Людмила забыла обо всем на свете. Она жмурилась от удовольствия, острый язычок с наслаждением облизывал маленькую серебряную ложечку. Граф смотрел на нее с нескрываемым вожделением.
– Мадемуазель, у вас такой красивый язычок. Когда мы будем в экипаже, я непременно поцелую вас, чтобы ощутить его холодок. Не торопитесь, не то простудите горло…
– Угу…
– А propos, ты хорошо сидишь?
– Да…
– Тебе удобно?
– Почти…
– А ты можешь приподняться и снова сесть?
– Зачем?
– Я так хочу. Поерзай, ma cherie, чуток… Прошу тебя. Я хочу, чтобы твоя попочка ждала меня… Начинала ждать, ибо сегодня для нее настанет час Х.
– Анатолий Александрович, пожалейте меня, – прошептала она, краснея.
– Жалеть тебя? Ну, нет… Я буду долго тебя мучить. О, как долго… Ты будешь лежать подо мной без сил, – также тихо отвечал он. – Поерзай, я сказал. Немного… А теперь приподнимись и сядь с размаху.
– Могут увидеть…
– Кто? Те двое, за тем столиком? Помилуй, по-моему, они заняты каким-то идиотским спором. Им не до нас. Попрыгай чуточку…
– Мне неприятно…
– А мне приятно.
Людочка, пунцовая от стыда, препираясь, кокетничая, смущаясь, а иногда и откровенно негодуя, сдавалась на милость победителя и делала ровно то, что приказывал Краевский. В какой-то момент, повинуясь неведомой силе, она повернула голову к окну. Проем бархатной желтой портьеры открывал вид на широкую мостовую. Цокая копытами лошадей, промчались две пролетки, прошагали мимо два господина и одна юная барышня. Барышня куда-то торопилась. Её бледное лицо, похожее на изваяние гипсовой статуи, мелькнуло мимо окна. Через дорогу, прихрамывая, перебежал босой мальчишка-газетчик. Но все это было не то. Не то, что так тревожно притягивало взгляд. Не то, что обожгло холодом ее левую щеку и часть уха. На противоположной стороне мостовой стоял тот же высокий господин, в черном цилиндре и плаще. И точно также он не сводил взгляда с окна кафе, в котором сидели Краевский и его возлюбленная.
– Граф, Анатолий Александрович, мне кажется, что за нами следят, – произнесла она с плохо скрываемым волнением.
– Кто? – фыркнул Краевский в чашечку кофе. – Ты думаешь, что сам Шрот принялся следить за ними из-за прилавка? Или те, двое, только делают вид, что спорят меж собой. А на самом деле они следят за тем, как моя девочка ерзает своей круглой попочкой. Не морочь мне голову. Ты это специально придумала, чтобы не исполнять мои приказы?
– Нет, не специально. За нами следят с улицы. Один господин. Я видела его в кондитерской, он стоит на той стороне мостовой и смотрит. Он смотрит на нас.
– Ну что за глупости лезут в твою прекрасную головку?
– Это не глупости. Посмотрите сами, – она кивнула головой в сторону окна.
Граф нехотя привстал и подошел к широкому окну. На противоположной стороне улицы никого не было. Ветер гнал по мостовой обрывок бумаги, солнце палило прямо в глаза.
– Однако какое лето, – задумчиво проговорил граф. – Жалко, что мы с тобой сейчас не в Ницце, например… Ужасно хочется на море. Купать тебя в пенных волнах… Слушай, ну отчего мне все время хочется увезти тебя на море? Мы обязательно поедем во Францию и в Италию… Италия, Рим. Ты знаешь, я бывал в Риме. Меня все время тянет в этот вечный город. Сам не знаю, почему… Когда я ходил по его улочкам, мне казалось все таким знакомым и милым сердцу…
– Вы видите его? – перебила она.
– Кого?
– Того господина, в плаще.
– Мила, я знал, что ты девушка непростая, в тебе есть порода. Ибо, ты день ото дня поражаешь меня, то своими странными снами, то вот, теперь, фантазиями. Это же надо было вообразить, что за нами следят. Помилуй, да мы с тобой никому на этой планете ровным счетом не интересны. Мы – как два одиноких странника, встретившихся в безбрежном море таких же, одиноких душ. А то, господин в плаще. Мистика какая-то… Никого там нет. Там пыль и жара. А вон, нищий еще идет… Вот и вся проза жизни.
– Нет, он там был… – задумчиво произнесла она.
– Если и был, то сплыл? Ты наелась мороженым или еще заказать?
– Да…
– Еще??
– Нет, я не хочу больше. То есть спасибо. А вдруг его наняла ваша супруга?
– Моя супруга? – Краевский поморщился. – Она способна нанять лишь капеллана для чтения молитв. Ты невольно заставила меня вспомнить о ней. Мне придется уехать на этой неделе, на пару дней, повидать детей… Ладно, довольно о грустном. Поехали по магазинам и портнихам.
Расплатившись за мороженное, они покинули кафе галантного Шрота и пообещали ему бывать здесь чаще.
– На следующей неделе у нас появится две новинки: мороженное с винным ликером и ореховый шербет. Приезжайте граф, и привозите свою прекрасную спутницу, – говорил им Шрот, провожая до стеклянных дверей.
А далее любовники посетили два магазина с дорогим бельем. Продавщицы знаменитого салона мадам Дюмаж наперебой расхваливали и показывали Людочке новые модели шелковых и кружевных корсетов укороченной формы, множество панталончиков, пеньюаров, пошитых из немыслимых, нежнейших тканей, роскошных расцветок, ночных сорочек, чулок, подвязок и прочей дамской мишуры. У Людочки разбегались глаза. Из этих магазинов они вышли с огромным ворохом свертков, коробок и шуршащих пакетов.
Людочка смотрела на графа влюбленными глазами. Он лукаво посмеивался, видя её девичий восторг. В одну из примерочных он осмелился заглянуть сам и, воровски посматривая по сторонам, стянул с Людочки тонюсенькие батистовые панталончики с рюшами и шлепнул ее по розовеющему заду так, что она ощутила присутствие злополучной, третьей пробки. Та дрогнула в ней, произведя колебания в какой-то потаенной точке. Людочка сжала зубы и закрыла глаза. Она едва сдержалась, чтобы не упасть ему на грудь и прижаться всем телом.
– Ты уже хочешь меня, маленькая Клеопатра?
Она молчала.
– Скажи, что хочешь… Не молчи.
– Я не знаю…
– Все ты знаешь… Твои глаза и губы говорят об этом. Губы раскрываются для поцелуев, и влажнеет твоя писенька… Если бы не продавщицы, я бы раздвинул твои ноги и приласкал ее язычком, чтобы почувствовать, как сожмется твоя попка. Ты так славно кончаешь…
– Тише, сюда зайдут.
– Хочешь, я прикажу им нас оставить на время?
– Нет… Позже. Я так не могу.
– Ладно… Поехали к портнихам.
В швейном салоне граф сам выбрал тонкий лиловый бархат, алонсонское кружево и шифон в тон. Пролистав журналы, они выбрали фасон выходного платья. Платье выглядело роскошно.
– Это к твоему новому украшению с сапфирами. Тебе нужно несколько дорогих туалетов. Позже закажем еще платья и меха.
С Людочки сняли мерки. Она была пьяна от счастья. О таких обновках она не могла даже мечтать. Граф сам выбрал и несколько пар мягких кожаных туфелек на небольшом каблучке.
– Ботики и пальто мы купим ближе к осени, – пообещал он.
Они посетили еще пару модных салонов, где Людочка примерила несколько готовых летних платьев, привезенных из Парижа. И шляпки к ним. И пока портнихи подгоняли наряды по фигуре Людмилы, делая, где надо, строчки и ушивку, Краевский решительно взял ее за руку и завел в примерочную, прикрытую толстой плюшевой тканью. Хозяйка салона и ее мастерицы-швеи поняли все без слов и гуськом удалились в соседнюю комнату, плотно прикрыв за собой двери.
Краевский огляделся. Недалеко от примерочной стояла небольшая стремянка с округлым сидением. Ее использовали портнихи для обслуживания высоких дам, вместо обычного табурета. Сильные руки графа схватили эту деревянную конструкцию и водрузили ее в угол примерочной.
– Иди сюда! Скорее… Ты видишь, у меня уже нет сил. Я курсирую с тобой полдня по этим салонам, а сам схожу с ума.
– Анатолий Александрович, Анатоль! – жарко зашептала она, перехватывая его руки. – Сюда могут войти!
– Не войдут. Они понятливые дамы.
– Но я боюсь!
– Ничего не бойся, когда ты со мной. Мы позволим лишь небольшую шалость. Ты в панталонах сейчас?
– Нет, я сняла. С меня брали мерки.
– Отлично. Садись на эту стремянку и разведи ноги. Ну!
Он поднял ее и посадил на этот высокий стул с двумя маленькими деревянными подлокотниками. Она и ойкнуть не успела, как о его крепкие руки потянули ее подол на себя. Словно кукла-фантошь она съехала на край.
– Раздвинь ноги, согни колени. Ну! Шире… и положи ступни сюда. Да, так. Я бы вошел в тебя прямо сейчас, но оставлю сие действо на вечерний десерт. А сейчас просто выгнись ближе. Я приласкаю твой нежный бутончик.
Его пальцы прикоснулись к лепесткам скользкой плоти. Она застонала.
– Как плотно сидит в тебе пробка, – большой палец с силой надавил на разрисованную шляпку китайской игрушки. – О, как хорошо она раздвинула там все… Сегодня в гости к твоей попке придет важный гость, который станет ее повелителем на долгие годы… Ты поняла?
Она только кивала, закусив губы, едва не теряя сознания от жуткого вожделения.
– Я хорошо вижу и твою девственную писеньку. Она тоже хочет меня. Но пока – не время.
– А когда будет время? – неожиданно для самой себя прошептала она.
– Что?
– Когда будет время для моей… п*зды?
– Мила, что я слышу! Откуда ты понабралась этой вульгарной лексики?
– Я – я… не знаю. Я не могу терпеть. Я сильно хочу.
– Ты знаешь, но отчего-то эта вульгарность звучит так, что я… я. Словом, я готов растерзать тебя всюду. Порвать, словно животное. Но, Мила, я не имею пока права…
– А когда? – громким шепотом спросила она.
– Не сейчас… Ты не должна. Будь благоразумной…
Краевский наклонился к ее лону и принялся ласкать его языком. Он отстранялся лишь для того, чтобы сделать глоток воздуха, и снова его язык плотно лизал вспухший бутон меж ее скользких губ. Она была так возбуждена, что сильный оргазм свел судорогой все тело ровно через три минуты. Она вскрикнула и тут же обмякла, чуть не свалившись с высокого табурета. Краевский опустил ее ноги. Оправил платье.
– Не падай, meine liebe. Очнись. Очнись и открой свой ротик. Я не буду тебя долго мучить. Лава стоит у самого жерла…
Они вышли из салона немного растрепанные, с покупками под мышками. Сели в карету.
Пожилая мадам Сычова, владелица модного салона, еще долго смотрела вслед этой необычной парочке. Ее опытный взгляд оценил и состояние графа и бедное происхождение его спутницы.
– Да, как обнаглели нынче девицы. Этой кокотке бы с желтым билетом по улицам ходить, а она присосалась к богатому господину. А у господина, наверное, семья. Ах, какие нравы! Куда мы катимся? Содом да Гоморра!
Они сели в карету.
– Трогай. Мой бог, мы же еще в салон к Ламберу не заехали! – Краевский стукнул себя ладошкой по лбу. – Ладно, у нас будет еще возможность.
Людочка молчала, устало смежив веки.
Когда они приехали домой, она едва переступала ногами, утомленная долгой прогулкой по магазинам. Краевский заказал к пяти вечера обед из ресторана. Он сам ел с аппетитом стерляжью уху и пряженцы с зеленым луком. Пили белое Токайское. Людочка ела мало, она почти заснула в конце трапезы, уткнувшись носиком в лежащую подле нее руку.
– Иди, поспи, дорогая. Я разбужу тебя позже… Я тоже прилягу рядом подремать.
Она почти не помнила, как добралась до кровати. Волны Морфея унесли ее в туманный лабиринт удивительного и тревожного сна.
* * *
– Люциния, проснись! – кто-то тормошил ее за плечо. – Сюда идет Великий Понтифик. Скоро будет осмотр готовности весталок[26]. Ты снова хочешь получить наказание?
Она соскочила с нагретой на солнце беломраморной скамьи. От резкого пробуждения закружилась голова, она покачнулась, прикрыв белым рукавом растрепанные русые косы, спускающиеся до талии.
– Люциния, прикройся! У тебя помялась и задралась пала[27]. Не надо было спать на самом солнцепеке. Смотри, все щеки покраснели. Скоро Понтифик пожалует. Сегодня большая молитва во славу Весты. Ты не забыла? Сегодня твоя очередь охранять очаг и палладиум[28], – напомнила ей служанка и почти подруга Клодия.
– Да, о боги, как я могла заснуть!
– Не мудрено, ты видишь, какая в Риме стоит жара. Иди, омойся в терме, переоденься и переплети косы. У тебя еще целый час, – успокоила ее верная Клодия.
Разгоряченное тело с наслаждением окунулось в расплавленный жемчуг. Родниковую воду смешивали с порошком серебра и молоком буйволицы – оттого она казалась жемчужной. Бутоны белой розы качались по поверхности. Упругих ног коснулись прохладные струи. Служанка Оливия стояла рядом и держала поднос с травяным настоем, ячменную лепешку и кисть черного винограда. Люциния отщипнула кусочек хлеба, тонкие пальцы оторвали и несколько крупных виноградин и положили их в рот. Она зажмурилась от удовольствия. Длинные темные ресницы прикрыли карие глаза. Она снова вспомнила ЕГО… Кроме жрецов и Великого Понтифика в атриум храма Весты не ступала нога ни одного мужчины. Как он посмел? Она чуть не поперхнулась, когда вспомнила его облик… Он не был молодым юношей. Самой Люцинии нынче исполнилось семнадцать. Ему было больше тридцати. Почти под сорок. Также выглядел ее родной отец…
«Отец, почему ты не остановил Великого Понтифика, когда он выбрал Люцинию из двадцати девушек? Понтифик взял ее за руку и увел навсегда в Храм Весты. И с тех пор ее жизнь стала иной. О, она знала, что жребий ее почетен, что о нем мечтают тысячи юных римлянок. Но тридцать лет! Тридцать лет она не имеет права любить. Тридцать лет она имеет право отдавать свою душу и тело только богине Весте».
– Унеси, – коротко приказала она, указав на хлеб и виноград.
Служанка кивнула и удалилась. Другая подала ей белое покрывало. Люциния поднялась по ступенькам круглой термы и замоталась в покрывало.
– У нас мало времени, а я ослабла от жары. Принесите мне гребни, свежую палу, сандалии, и цветы белой лилии.
Служанки молча поклонились Люцинии и засеменили босыми ногами по нагретому полу мраморного портика.
Она сидела на теплой скамье. От порыва ветра покрывало слетело с нежных плеч. Она знала, что это бог северного ветра Аквилон забавляется с ней в дерзкой игре. Аквилон и его братья, Фавоний, Австр и Эвр, любили подпускать своих сынов в тайные лабиринты атриума весталок. Аквилон любил наблюдать, как обнажаются трепетные и полные груди целомудренных жриц Весты, как шевелятся на плечах густые локоны. Вот и сейчас он рванул с нее покрывало и обдал холодком упругие соски – отчего те затвердели и стали походить на спелую землянику. Люциния закрыла глаза и вспомнила, как сосков касались ЕГО губы. Ей стало жарко, а между ног заструилась влага. Хорошо, что никто ничего не видит…
Через несколько минут три прислужницы тихо подошли к ней.
– Госпожа, все готово. Разрешите расчесать вам волосы?
– Да, только будьте аккуратнее. Мне было больно в прошлый раз. В конце каждой косы вплетите цветок маленькой лилии. Из больших соцветий сделайте венок на голову, поверх покрывала.
Она любила не только лилии. Ее любимыми цветами были простые фиалки. Но для торжественной молитвы и ночного бдения она выбирала лишь лилии. Одна из служанок надевала на нее узкие сандалии из кожи ягненка. Другая – острым гребнем разделяла волосы на шесть частей. Весталки носили по шесть косичек, как невесты… Ее готовили к молитве и ночному бдению. Каждую неделю ей выпадала одна священная ночь. Ночь возле огня и палладиума. Она снова вспомнила все…
ОН был высок и строен, а плечи его походили на плечи самого Геракла. Одет ОН был в белую претексту[29] с множеством складок и пурпурной полосой. Золотая пряжка на могучем плече скрепляла сие пышное убранство. Она сразу поняла, что он из знатного рода. Сначала она приняла его за жреца или авгура, и очень смутилась, присев в поклоне.
Его волнистые темные волосы доходили почти до плеч. Римский профиль, лукавые, живые глаза. Острая бородка украшала матовое и самое прекрасное в мире лицо. Твердые губы, блеск жемчуга в смелой улыбке. Как он посмел? Разве он не знает, что весталкам запрещено общаться с мужчинами? Разве он не слышал об ужасной судьбе Попилии, Оппии и Секстилии, чьи тела покоятся под землей у Коллинских ворот? Как только Люциния вспоминала об этом, ее охватывал страшный холод, и волосы шевелились на голове. Что может быть мучительнее, чем быть похороненной заживо? Живой, когда тело так молодо, а душа жаждет жизни?
Она родилась на побережье. Дом ее отца, известного патриция, принадлежал к римскому роду Постумиев. Все ее предки по мужской линии были знаменитыми военными трибунами, консулами или диктаторами. Люциния очень гордилась своим происхождением. Один из домов этого семейства находился в самом Риме. Но все детство Люциния провела с сестрами и собственной матерью в мраморном дворце, построенном возле побережья. Как она любила море. И как она скучала по морю здесь, в Риме. Конечно, она ходила во время весенних и летних церемоний к Тибру. Но ни одна река не могла заменить ей сине-зеленой, пенистой стихии Нептуна. Ранним утром, с первыми, еще робкими лучами солнца, маленькая Люциния спешила к морю. Подобно игривой серне, босыми ногами она бежала с камня на камень, через небольшую оливковую рощу. Ближе к морю роща расступалась, обнажая белый песчаный пляж. Густая дымка висела над синей бездной. Стайки дельфинов играли друг с другом в догонялки. Нет ничего лучше моря. Вместе с сестрами она раздевалась донага и бросалась в тугие соленые волны… Как давно это было. Море… ОН обещал посадить ее на свой корабль и пуститься в плавание. ОН хочет ее украсть.
«Он погубит меня. Вместо моря – земля станет моим приютом»[30], – думала она с тоскою.
Вот уже десять лет, как она училась всем наукам и ремеслу великой жрицы храма Весты. Сколько раз она одна или с двумя – тремя подругами, такими же весталками, как она сама, оставалась ночами возле священного очага и смотрела на огонь, охраняя палладиум. Она с детства знала, что огонь должен гореть, не угасая. Она не должна была заснуть ради того, чтобы вечный город спал тихим и спокойным сном. Огонь горел ровно, и ни одна искра не должна была вспыхнуть вне священной чаши.
Языки пламени играли на стенах палладиума, оживляя старинный барельеф. Ей казалось, что сама Минерва смотрит на нее, то с нежностью, то строго. Люциния сидела на шкуре гигантского тигра и смотрела на огонь. Она могла смотреть на него вечно. В тот день она услышала тихие, но твердые шаги. Шаги послышались из коридора, ведущего свои каменные своды к Регии[31]. Она подняла глаза. В темноте его лицо выглядело немного страшным. Но свет чаши не скрыл красоты его тоги.
«Кто он? Новый авгур[32]? – подумала она. – Но отчего Vestalis Maxima, их верховная жрица, не предупредила о появлении нового авгура? Нет, он не был похож на авгура…»
В полумраке мелькнуло и расплылось светлое пятно тоги, пахнуло незнакомым, мужскими ароматом. Он встал за толстую колонну, недалеко от того места, где возлежала Люциния. Девушка напряглась, ее тонкие ноздри втянули ночной воздух. Он стал иным. Кроме запаха огня и благовоний, в нем появилось нечто такое, отчего сердце Люцинии затрепетало, а голова пошла кругом. Она хотела было крикнуть, но он поднес палец к губам. Этот жест означал просьбу о молчании. Но, что за дерзость? И что за тайны? Здесь? А далее он махнул рукой в знак того, чтобы она следовала за ним. И она пошла. Зачем? Она сама не понимала. Они вышли из храма и спустились к длинному коридору портика. На свежем воздухе, в свете луны, она уже лучше рассмотрела его. Смутилась и присела в поклоне.
– Люциния! – раздался приятный мужской голос. – Отойдем дальше, по галерее.
Она сделала несколько робких шагов.
– Люциния, не бойся меня. Я был на вечерней трапезе у Понтифика. Все уснули, а я тайком пробрался к тебе.
– Ко мне? Кто ты?
– У меня сложное имя. Зови меня просто Антемиолом. Я из рода Квинтиев.
– Нет, я не имею права смотреть на тебя и говорить с тобой.
– О боги, как вы жестоки к смертным! Не гони меня, несравненная Люциния. Позволь мне побыть с тобой лишь несколько минут.
– Сюда может войти Максима.
– О нет, я проверил: в храме Весты мы сегодня одни. Максима уехала по заданию Понтифика, на Сицилию.
«Да, как я могла забыть! Максима говорила о своей поездке. Ее не будет здесь два месяца» – вспомнила Люциния, но промолчала.
– Люциния, сжалься надо мной. Я знаю, что могу навлечь на себя гнев всех богов и вольных граждан священного города. Но сила моей любви к тебе настолько велика, что даже если за один миг, пока мои глаза смотрят на тебя, я заплачу своей жизнью или буду обречен на вечные муки в царстве Плутона, я все равно не откажусь от того, чтобы видеть тебя, прекраснейшая.
– Что ты говоришь, безумец? Ты же знаешь, что весталкам запрещено любить ровно тридцать лет.
– Я все знаю! Но пусть сам Юпитер покарает меня за дерзость мою. И не посмею я у него испросить пощады. Но ты, священная, позволь лишь поцеловать тебе ноги, и я тут же удалюсь.
Он упал на колени и принялся целовать ее стопы, облаченные в сандалии. Потом, словно ловкий и сильный зверь, он поднялся во весь рост и подхватил ее на руки.
– Я сейчас кликну стражу.
– А я их угостил сонным вином. Они будут спать до самого восхода лучезарной Авроры. А твоей служанке Клодии я дал кошелек, полный серебряных сестерций.
– Ты подкупил Клодию?! Как неразумен ты и дерзок… Отпусти меня, – прошептала она, но ее карие глаза отчего-то прикрылись длинными ресницами.
Он поставил ее на ноги. Его могучая рука привлекла ее за талию, и он крепко и нежно поцеловал ее в губы. Люциния чуть не лишилась рассудка.
«О, это то, что все смертные зовут поцелуем. Я видела, как юноши целовали своих девушек в оливковых рощах и на набережной, возле Тибра. Его губы касались моих. И язык его ласкал мой язык. О боги, как кружится голова! Как вкусно пахнет от этого мужчины. Как душиста его борода… А может, он искуситель Приап? Или хитроумный Фавн?»
– Я впервые увидел тебя на форуме, еще весной. Твои слуги несли тебя на роскошных носилках. И тонкий палантин упал с твоих русых волос. С тех пор нет мне покоя. Я не могу забыть твой прекрасный лик, о Люциния!
– Разве ты не женат?
– Не скрою, я женат. И у меня четверо детей. Я служу у Цезаря вот уже год. А до этого я был центурионом и командовал когортой в тысячу человек.
– Женат? Так зачем тебе я? – гордо вскинулась она. – Даже под страхом позора и казни ты готов преступить закон?
– Готов, возлюбленная моя.
– Разве не понимаешь ты, что сойдясь с тобой ближе, я навлеку и на себя погибель?
– Нет, любимая. Мы обманем всех. Я украду тебя отсюда, когда буду готов. К октябрю я снаряжу три корабля. Через устье Тибра мы отправимся к морю. Мы все подготовим так, что стража нас не догонит. Я увезу тебя в другие края. Я готов покинуть родину, службу Цезарю, жену, детей. Потерять все, лишь бы обрести тебя.
– Ты еще не получил моей любви, а уже строишь дерзкие планы.
– Ты же видишь, чувствуешь, что мы созданы друг для друга. С первого взгляда на тебя я это понял. Люциния, я не мальчик. У меня было множество рабынь и рабов, наложниц и любовников. У меня даже есть возлюбленный юноша. Его зовут Константинус. И одним богам известно, как я любил этого юношу.
– Любил? Что же сейчас?
– Ты сразила меня светом своих прекрасных глаз. Твои волосы, перевитые цветами, снятся мне ночами. Я чувствовал их аромат, еще не касаясь тебя. Я знал, что они пахнут лилиями и фиалками. Вот уже более месяца, как я не могу быть ни с Константинусом, ни с кем иным. Одна ты, Люциния, не выходишь из моего сердца.
– Ты еще смеешь обвинять меня…
– Нет, возлюбленная! Я лишь говорю о том, чего уже не изменить. Не бойся, я все улажу. Мы будем вместе.
Он снова поцеловал ее. Его поцелуи осыпали ее щеки, шею и лоб, захватывали мягкие губы. Ей стало так хорошо и волнительно, что на короткое время она чуть не потеряла сознание.
– Любимая, я приду тайком к тебе завтра. Клодия меня проведет прямо в твою комнату.
– Нет, не приходи. Это запрещено.
– Любимая, мы не простим друг друга, если не сбережем наше счастье. Понтифик занят делами Цезаря эти дни. Максима на Сицилии. У нас есть время. Я все подготовлю и увезу тебя. Твое прекрасное лицо, тело и твои чресла не должны состариться в угоду Весте. Боги нас простят. А потом простит и сама Веста. Она простит нас, когда увидит, что смертные умеют любить не хуже богов.
Весь следующий день она не сомкнула глаз. Она не стала выяснять с Клодией того, что произошло ночью. А сама Клодия опускала глаза и молчала. Вечером Люциния приняла ванну, одела свежую палу и заплела в косы бутоны красных маков. Она легла в свою девичью постель одетая. И косы с маками разметались по изогнутому бронзовому изголовью дубовой lectus cubicularis[33] Но сон не шел к ней. Она прислушивалась к каждому звуку. Скрипнула входная дверь. Может, это Клодия? Но нет, это был ОН. Антемиол подошел к ней и упал на колени возле кровати. Она зажмурила крепко глаза, а когда открыла, то в свете луны, идущем из высокого окошка, она увидела то, как мужчина снял с себя претексту и положил ее рядом, на катедру[34]. Его торс походил на обнаженные торсы лучших атлетов, а кожа светилась в темноте. Он чуточку дрожал от волнения. О боги, рукой он прикрывал свой фаллос. Люциния увидела его огромные размеры и вскрикнула от удивления.
– Желанная, позволь тебя раздеть? Я хочу полюбоваться твоим совершенным сложением.
Она молчала. Тогда он присел рядом и развязал пояс на ее пале. Ткань распахнулась, и он увидел ее наготу.
– Встань, возлюбленная.
Она подчинилась. Но смущенно прикрыла лобок и груди.
– О, как прекрасны твои линии. Твоей талии позавидовала бы сама Венера. А груди с сосцами похожи на спелые яблоки. Не стесняйся меня, убери руки… Повернись…
Она смущенно повернулась к нему задом.
– О, этот роскошный зад достоин лишь того, чтобы быть высеченным из каррарского мрамора. Когда мы будем в других краях, я найму дюжину искусных скульпторов. И все они изваяют твой образ, любимая. Чтобы он прославился в веках. И наши дети будут знать, что у них самая прекрасная в мире мать.
Он подходил к ней вплотную и обнимал ее. Их голые тела соприкасались друг с другом. И не было огня сильнее, чем огонь зарождающейся страсти. Его сильные ладони нежно сжимали ее груди, и губы ласкали соски. Она замирала, слушая его волнительные речи.
– Ты – сама Венера! И было бы преступлением отдать это нежное тело на вечную службу Весте. Да будет прославлена она в веках. Но! Только великий и хитроумный Понтифик знает, какую жертву он принес Весте в твоем лице. Это тело создано для плотской любви, а Понтифик и граждане Рима обрекли его на вечное томление. Разве это справедливо? Я увезу тебя далеко-далеко, и вместе мы будем проводить долгие ночи любви. Первым ты родишь мне сына…
– Но у тебя уже есть сыновья. Любишь ли ты их?
– Я люблю своих детей. И твои вопросы больно ранят мне сердце. Я обеспечил их будущее. И мать их не знает нужды. Они богаты. Возможно, они поймут меня, когда станут старше. Но даже, если ни один человек в этом, и подземном мире, не оправдает моего поступка, я все равно совершу его, ибо нет силы на земле, сильнее чем ЛЮБОВЬ.
Она с жадностью вдыхала аромат, идущий от его тела, и уже не стеснялась своей наготы. Он перенес ее на кровать и целовал долгими поцелуями.
– Очнись, любимая. Скоро рассвет, я должен на время покинуть тебя. Я буду приходить к тебе каждую ночь.
Он исполнил свое намерение и посетил ее и в следующую ночь. Их ласки были безумны, она сама обхватывала его руками в сильных и жарких объятиях. В ней словно проснулся неведомый зверь плотского голода, который дремал до встречи с Антемиолом. Если бы не их встреча, этот зверь бы никогда не вышел из своей глубокой берлоги. Она сама не осознавала то, каким образом раздвигаются ее длинные ноги. Его пальцы, словно дельфины, ныряли в глубины ее естества.
Никто ранее не касался ее девичества. Она и сама не знала о тайнах своего тела. Нежные пальцы Антемиола ласкали трепетные губы на холме Венеры. О, каким опытным любовником был этот центурион. В какой-то момент она вскрикнула. Ее пронзила такая сладостная молния, что Люциния поняла – сам Купидон вогнал в нее свою волшебную стрелу. И это был знак свыше. Он прав, они созданы друг для друга.
– Любимый, возьми меня! Войди в мои ножны своим грозным мечом.
– Люциния, пока я не могу этого сделать.
– Почему?
– Я отвечаю теперь за нас двоих. Я скорее дал бы сжечь себя живьем, чем позволил бы подвергнуть тебя, любимая, опасности. И Понтифик и Максима могут в любое время проверить твою девственность.
– И что же, мы теперь будем ждать до октября, пока ты не заберешь меня отсюда?
– Нет, возлюбленная. Мы поступим иначе. Мы займемся с тобой иной формой любви. Здесь мы ее зовем «греческой». Хотя, эта форма больше применима для наших взаимоотношений с юношами.
– Я, кажется, догадываюсь, о чем ты говоришь. Но еще в детстве мне рассказывали о том, что это бывает больно.
– Кто тебе это рассказывал?
– Моя старшая сестра подглядела однажды, как этим занимался наш дядя со своими рабами. Они были почти мальчиками. И она слышала их крики.
– Это бывает лишь вначале, – улыбнулся Антемиол. – Люциния, я опытный любовник, и я буду очень нежным с тобой. У меня было множество юношей. Еще во время военных походов. Я искушен в этой науке. С помощью масла оливы и нескольких упражнений я сделаю все так, что тебе совсем не будет больно. Более того, тебе это понравится. Я обещаю. И даже, когда ты родишь, мы все равно будет любить друг друга разными способами. Боги создали твой зад таким совершенным, что с моей стороны было бы большим упущением не ворваться туда, – он поцеловал ее в губы, не давая ей высказать новые возражения.
И она познала радость плотской любви. С помощью нежности и оливкового масла, Антемиол любил Люцинию с задних врат. Люцинии только вначале было немного больно, но ее тело устроено было так, что она с легкостью, почти сразу, приняла его внушительный фаллос…
Сейчас она сидела на мраморной селле[35], а ее волосы расчесывали прислужницы. Они вплели ей в каждую из шести кос по маленькому цветку лилии. Поднесли легкую и белоснежную палу. Люциния подняла кверху длинные руки – ткань ласково коснулась упругого живота и ноющих сосков. Она стянула палу пояском на талии. Голову Люцинии украшало тонкое покрывало и венок. Она все время думала о своем возлюбленном. Да, за это короткое время она безумно полюбила его. Они стали тайными сообщниками. Они упивались страстной любовью, но тучи уже сгущались над их головами.
В этот день молитва с Великим Понтификом прошла как обычно. Все шесть весталок, шесть юных жриц, прислуживали верховному жрецу во время церемонии.
Crescam laude recens, dum Capitolium scandet cum tacita virgine pontifex[36]А после того, как на землю спустились густые сумерки, и таинственная Нокс[37] вошла в свои права, Люциния покинула толос, убегая прочь из храма Весты. Сегодня была не ее очередь охранять священный огонь. Но главным было иное. По Священной дороге, через форум, укрытый с головой плащом, чтобы не быть узнанным, короткими перебежками, к ней шел ее возлюбленный, Антемиол из рода Квинтиев.
Он немного запыхался, когда вошел к ней в комнату. Она снова возлежала на своем ложе и смотрела на огонь небольшого факела, привязанного к стене. Он скинул плащ, а после и претексту центуриона с пурпурной линией посередине. И остался стоять обнаженным.
Не прошло и несколько минут, как они бросились в объятия друг друга. Он ласкал ее большие и упругие груди, целовал красные соски. Она откидывала назад белую шею и раздвигала ноги.
– Возлюбленный мой, мое чрево истомилось в ожидании твоего фаллоса. Я хочу, чтобы семя твое упало в сосуд, откуда рождаются дети. И нет моих сил, терпеть эту муку: воздерживаться от желания самой природы.
– Потерпи, любимая. Ни один жрец, ни сама Максима не должны обнаружить твою порчу, если захотят тебя проверить. Осталось ждать совсем немного. Мои корабли уже почти готовы к отплытию. Скоро мы сбежим отсюда. И с наслаждением преодолею твою последнюю преграду, и семя мое вольется в твое плодоносное чрево. Я сделаю это прямо на корабле, как только мы окажемся в объятиях друг друга.
– А разве вид задних врат не выдает вторжение?
– Нет, не сразу. Очень долго этого не видно…
– А у твоего Константинуса уже видно?
– Да…
– Он страдает без твоей любви?
– Всем сердцем мне хотелось бы избавить его от страданий. Я даже знакомил его со своим другом. Но он убежал. Глупый мальчишка!
Она подвинулась к нему ближе.
– Возьми меня так, как ты это делал с Константинусом.
– Тебе будет больно, Люциния. Ты еще очень нежна. Я часто бывал жестким с моим патикусом. Он любит боль.
– Сделай и мне больно.
– Я не могу…
– Сделай. Меньше масла сегодня. Я хочу этой боли. Она напомнит мне ту, которую я жду…
Он ворвался в нее так, что она вскрикнула и застонала. Но он не мог уже остановиться. Он скользил и скользил в ней до тех пор, пока с уст обоих не сорвался животный крик.
– Тише, тише, моя возлюбленная. Сторожа все спят. Спит и твоя служанка. Я щедро ей плачу. Но стон твоей любви сейчас слышат сами боги.
Они целовали друг друга в губы, и не было на свете страсти сильнее, чем их страсть.
Уже подошло к концу лето. Максима вернулась из своей поездки на Сицилию. Однажды утром она сидела в таблинуме[38], за мраморным столом с Великим Понтификом, они завтракали и обсуждали дела Цезаря. Смеялись и немного шутили. Максима была сорокалетней женщиной, высокой и плотной. Её фигура более походила на фигуру мужчины – широкие плечи и полноватая талия переходили в узкий таз. Она была порывиста в движениях и очень решительна в поступках. Она сидела на высоком солиуме[39], сделанном из оливы и черного дерева, инкрустированном панцирем черепахи и слоновой костью. Чуть полноватые ноги с темными узлами вен, обутые в мягкие сандалии, опирались на скабелум[40], украшенный медью и янтарем. Максима уже позавтракала козьим сыром, оливками и лепешками. Теперь она пила вино, разбавленное водой. Серые, задумчивые глаза внимательно смотрели на Понтифика.
Великому Понтифику было около пятидесяти. Это был высокий, седовласый мужчина, не полный. Его бы можно было назвать красивым, если бы не наличие багрового шрама на щеке, делавшего его улыбку похожей на влажный оскал какого-то зверя. Скорее волка или койота. Он получил этот шрам, спасаясь от пожара, когда молния ударила в его дом. В этом пожаре он повредил и ногу и теперь немного хромал. Его уважал сам Цезарь, а многие весталки откровенно побаивались его строгого и хмурого выражения лица. Пурпурная полоса на его тоге была расшита золотыми знаками высокого жреческого отличия. Его солиум был еще выше и богаче, чем солиум Максимы. Ножки кресла были сделаны из бронзы в виде когтистых лап тигра. Тонкая резьба и золотой узор украшал мощные подлокотники. Поверх солиума была накинута шкура бурого медведя. Длинные и белые пальцы Понтифика перебирали острые когти на мертвой медвежьей лапе.
Слуга попросил разрешения сделать доклад.
– Входи.
– О, Великий Понтифик и священоликая Максима, к вам на прием просится какой-то молодой римлянин. Он утверждает, что у него есть важный государственный разговор.
– Пусть войдет.
Робко озираясь по сторонам, немного сутулясь, в зал вошел молодой мужчина. Максима сразу отметила про себя необычайную красоту этого юного римлянина. Он был высок и строен, почти худощав. Плавные, женственные движения, выдавали в нем патикуса. Кудрявые светлые локоны обрамляли прекрасный лик, похожий на лик самого Нарцисса. Нежный овал щек, свежий цвет лица, ярко синие глаза – все это, невольно приковывало взгляд.
«Да, это – патикус, – уже не сомневалась Максима. – Видимо, у него богатый любовник – юноша изнежен и дорого одет».
А Великий Понтифик, оглядев юношу с неприязнью, спросил:
– Кто ты? И зачем пришел?
– О, великий и могучий жрец, а также священоликая Максима, меня зовут Константинусом. Я из рода Ларциев. Я хочу сообщить вам о том, что одна из жриц священного культа Весты нарушила свою клятву.
– Что ты несешь, мальчишка? Чем докажешь свои слова? Causa justa?![41] – нервный тик свел обожженную щеку Понтифика, сделав его лицо страшным.
– Зачем доказывать то, в чем можно убедиться за одно мгновение? Corpus delicti[42] вы увидите сами, достаточно заставить весталку раздвинуть ноги.
– Как смеешь ты говорить подобное?
– Раз говорю, значит, знаю наверняка. Justitia regnōrum fundamentum[43].
– О ком ведешь ты речь?
– Я веду речь о весталке Люцинии. Она любодействовала в священном доме весталок. Я следил за ней и видел ее там вместе с любодеем.
– Как?! В самом храме? – Понтифик вскочил с деревянного кресла, покрытого шкурой медведя. – И кто этот преступник?!
– Имени преступника я не знаю. Похоже, он плебей и чужестранец, – чуть покраснев, отвечал юноша. – Они встречались не только в Храме, но и в шалаше у Тибра. Все лето.
Понтифик не верил своим ушам. Речь шла об одной из любимых им весталок. Он хорошо знал ее отца. Люциния была красива, словно Венера, умна и очень старательна. К тому же она была самой знатной и богатой среди других своих подруг.
– Dum casta.[44] – обронила Максима. – Я должна сама в этом убедиться.
Максима довольно быстро разыскала Люцинию.
– Как поживаешь, верная весталка? – начала она издалека.
– Все хорошо, матушка, – потупив очи, отвечала ей Люциния.
– Люциния, как проходят твои ночные бдения возле святого огня? Тебя никто не тревожит по ночам? Не прибегали ли шакалы или бездомные псы?
– Нет, матушка, все проходило хорошо… От бездомных псов у меня есть палка и факел огненный. И стража верная всегда со мной.
– А как ты спишь? Спокойно ли?
– Всегда спокойно. Сомн посылает мне прекрасные видения.
Люциния разговаривала с Максимой, но руки ее дрожали, а лицо внезапно сделалось такого же цвета, какой была ее пала.
– Здорова ли ты, Люциния? Я вижу бледность твоих черт.
– Я здорова, матушка, – Люциния опустила голову.
– Иди ко мне в комнату, разденься и ляг на кровать. Я должна тебя осмотреть.
«Ну, вот и все! – подумала Люциния со страхом. – Сейчас Максима обо всем догадается. Сейчас она увидит все…»
Она вошла в пустую комнату Максимы. Комната Верховной жрицы была обставлена скромно и со вкусом. Это было довольно большое помещение, стены которого украшали фрески с барельефами. На них изображалась церемония высечения священного огня и восхождение на Капитолий. Шесть колон поддерживали невысокий мраморный потолок. По потолку тоже шел затейливый рисунок. Небольшие окна плохо пропускали свет, поэтому даже в самые жаркие дни здесь было всегда немного прохладно. Был здесь и очаг для сохранения тепла зимними вечерами. На полках стояли чаши с благовониями. Охапки свежих роз и лилий покоились в пузатых глиняных вазах. В углу стояла широкая кровать из ливанского кедра, с изогнутым изголовьем и бронзовыми цветами на раме. Пятнистые шкуры белой рыси покрывали ее мягкую поверхность. Рядом лежало свернутое в рулон шерстяное синее покрывало.
Люциния подошла к кровати и остановилась в нерешительности. Позади себя она услышала шаги. В комнату вошла Максима.
– Ты еще не разделась, моя красавица?
Люциния стала медленно развязывать поясок на пале. Пала упала к ее ногам. Она переступила через нее и осталась стоять обнаженной перед Максимой.
«Как она хороша! – подумала жрица. – У нее такие налитые груди и красные сосцы. Я бы сама с удовольствием обняла ее и исцеловала всю… Скоро закончится моя служба, и я, наконец, смогу познать то, чего была лишена все эти годы. То, что я давно убивала в себе – тридцать лет, и еще три года службы в жрицах. Следующей весной я передам свои полномочия другой весталке. Довольно с меня».
– Ляг Люциния, на мою кровать и разведи широко ноги. Я должна осмотреть тебя и убедиться в твоей девственности.
Люциния сделала все, как приказала Максима. Она легла на мягкую шкуру рыси и развела ноги. Максима взяла факел и посветила на сердцевину ее девичества.
– Вставай, Люциния. Все в порядке. Ты все также чиста перед Вестой и гражданами Рима. Я прикажу наказать клеветника. Его будут судить.
Едва сдерживая негодование, Максима вошла к Понтифику.
– О, Великий жрец, мы должны наказать патикуса по имени Константинус, из рода Ларциев. Он – жалкий клеветник, и хотел опорочить лучшую из наших весталок.
– Ага, я так и знал! Стража, приведите ко мне Константинуса.
Когда юношу ввели в зал с завязанными руками, он не дрожал от страха. К удивлению Максимы, он смотрел твердо и с вызовом.
– Зачем ты решил клеветать на лучшую из наших весталок? Разве ты не знаешь, что подобное преступление карается смертью?
– Я не клеветник! Люциния невинна лишь спереди. Она совершала со своим любовником акт любви через анус, что еще больше отягчает ее вину и мерзость содеянного, – смело возразил он. – В доказательство – поговорите со служанкой Клодией. Она все видела, – он нагло хмыкнул. – Максима, кроме этого я посоветую вам купить самый толстый огурец на рынке, возле форума. И вы убедитесь, что он легко проскочит в анус вашей «нетронутой» весталки. Ибо… я видел в темноте, при свете факела, как огромен был фаллос этого плебея! – последние слова он почти выкрикнул, и его синие глаза заволокло слезами.
Совет жрецов с пристрастием допросил служанку Клодию, и она призналась в том, что много раз видела, как Люциния грешила в храме Весты. Клодию взяли под стражу. Максима не стала мучить Люцинию проверками ее плоти, хотя, кто-то из коварных жрецов предложил воспользоваться советом Константинуса и ввести в анус согрешившей самый толстый огурец. Максима видела, что Люциния итак еле жива от страха и просто пожалела несчастную. Тем паче, что после показаний Клодии, преступница тут же признала свою вину. Но наотрез отказалась назвать имя своего возлюбленного.
Слух о процессе над весталкой Люцинией распространился по всему Риму. К Верховному Понтифику прорвался отец девушки и молча посмотрел на жреца.
– Culpa lata[45]! – хмуро молвил седовласый, оскалившись.
– Кто он? Вы его поймали? Он должен понести суровое наказание.[46] Пусть приведут его в Комиций[47].
– Мы не нашли его. Ни Клодия, ни Константинус не знают его имени. Говорят, что он чужестранец. И он исчез, как в воду канул.
– Он должен поплатиться за позор моей дочери…
– Ad turpia nemo obligātur[48].
– Цезарь знает?
– Да, знает, – Понтифик вздохнул. – Ее казнят на этой неделе. Сейчас для нее строят погребальный склеп. У Коллинских ворот, на Квиринале, уже вырыта яма. Я велел облицевать ее изнутри желтым мрамором, он цвета солнца. Я приказал опустить туда стол с яствами. Я выбрал для Люцинии самый лучший виноград, тот, который она любит, я принес вино из погребов Цезаря и ячменные лепешки. В тот же день, с утра, ей зажарят лучшего молодого ягненка с овощами. Я все сделаю, как положено.
Отец Люцинии крепко сжал зубы и вышел из атриума.
В день казни Люцинию в последний раз омыли в терме. Служанки всхлипывали и прятали глаза. Люциния не осуждала их, она лишь гордо смотрела перед собой. Она почти не думала о казни, она думала о том, где сейчас ее Антемиол. Ей так хотелось обнять своего возлюбленного.
– Люциния, тебе принести розы или лилии для волос?
– Нет, принесите мне простые фиалки…
Её одели в новую палу, а в роскошные волосы вплели синие фиалки. Только вместо тонкого покрывала на ее голову легла толстая и плотная накидка, навсегда закрывшая от мира ее красивое лицо.
Стоял октябрь, первая его половина. Это был самый красивый месяц в Риме. Солнце светило по-летнему, играя огненными бликами на ярко желтой, красной, зеленой и пурпурной листве. Вечный город утопал в каком-то розовом, перламутровом свечении, будто сама Аврора не уходила в свои покои в течение всего дня. Воздух был свеж и напоен лучшими ароматами этой щедрой земли. Лавки городского базара ломились от осенних даров. Всеми цветами радуги горели гроздья винограда – сам Бахус постарался подобрать в своих владениях самые спелые плоды. Пузатые долии[49] были уже закопаны в землю и гулко плескались пахучим маслом оливы. Стройные, расписные амфоры полнились пенистым молодым вином. В плетеных корзинах блестели чешуей кефаль, мурена и треска.
Но форум молчал. Город скорбел от великой печали – в Риме казнили самую красивую весталку. Горожане знали, что это событие принесет свободным гражданам тяжелые последствия. Так бывало всегда. Веста не прощала поругания своей чистоты и посылала на людские головы мор и военные поражения.
Люцинию ввели на носильный одр и наглухо закрыли его. Потом процессия пошла вниз, по Священной дороге. Одр пронесли по большим улицам города, он постоял и на форуме. Толпа скорбно взирала на процессию. Местами слышался женский плач.
Среди толпы, завернувшись в плащ, стоял возлюбленный Люцинии, центурион по имени Антемиол, из рода Квинтиев. Он не проронил ни звука. В этот же день, к вечеру, он покинул свою семью, как и намеревался сделать ранее. Уже по дороге его догнал Константинус. Молодой человек бросился в ноги к любимому господину. Но Антемиол лишь с презрением оттолкнул его.
– Я бы убил тебя, но не стану этого делать. Ибо ты итак будешь проклят, если не мной, так богами. Прощай.
К вечеру следующего дня он был уже в Остии и вышел к берегу моря, где в небольшой бухте стояли три его корабля. Но Антемиол не взошел ни на один из них. Он отвязал от берега старый плот и поплыл на нем в открытое море. Он плыл долго, и когда берег совсем пропал из виду, Антемиол из рода Квинтиев прокричал имя своей возлюбленной и бросился в пучину Нептуна.
Днем ранее, его возлюбленная Люциния, сходя в склеп, уже знала, что скоро они будут вместе. Сквозь время и пространство она услышала его крик. Он кричал богам ее имя: ЛЮЦИНИЯ!
Земля упала на плечи тяжелым и сырым комом. Сверху раздался глухой треск. Рядом еще один. Склеп дрогнул. Зашатался стол с виноградом. Упал кувшин – кровавой лужей растеклось по мраморным плитам вино. Блюдо с ягненком и овощами припорошилось черными зернами грунта.
«Кто-то из работников плохо укрепил балки. Это даже лучше. Я умру гораздо быстрее…»
Ей стало душно. Еще чуть-чуть воздуха… Хоть один глоток. Как больно… Последний лучик солнца выхватил на полу желтоватые ромбики мраморной плитки. Она лишь успела сосчитать их перемычки: один-два-три, а четвертая треснута пополам…
* * *
Краевский и Людочка проснулись почти одновременно. Оба тяжело дышали.
– Я открою окно. В комнате очень душно, – прошептал он каким-то чужим, хриплым голосом и словно пьяный встал с кровати.
Людочка сидела вся растрепанная. Сердце гулко бухало в груди, сильно болела голова.
– Что с тобой, любимая?
– Меня закопали живьем…
– Кто? Когда?
– Люди из Рима. Верховный Понтифик.
– Милая, тебе просто приснился кошмар. Иди ко мне, – он обнял ее.
– Нет, это был не сон. Я жила там, в Риме. И там были вы, Анатолий Александрович.
– Как все странно. Я тоже видел какой-то долгий сон. Сначала он был прекрасен. А потом. Потом я захлебнулся в море. Да, я помню, как отвязал плот и поплыл. А потом я бросился в волны…
Они оба сидели молча. Неожиданно Людочка заплакала.
– Ну, перестань.
– У меня тяжело на душе.
– Мила, мы уснули под толстым пологом, в душной комнате. Я просто забыл открыть на ночь окно.
– Нет – нет. Это был не сон.
– А что же?
– Не зна-юю… – всхлипывала она.
– Ты знаешь, на востоке есть религия, ее называют Буддизмом. Так вот, согласно ей, мы проживаем множество жизней. Может, в этом сне мы оба побывали в одной из прошлых? Я же тебе и раньше говорил, что как увидел тебя, то не смог уже позабыть. Мне все время казалось, что я знаю тебя давно. Много дольше, чем то время, как мы познакомились.
Она смотрела на него сквозь темноту и внимательно слушала. В тот вечер он позабыл и о часе Х, который сам назначил накануне. Он почти не трогал Людочку, а только нежно целовал ей руки и лицо. Потом он принес холодного вина. Они выпили. И почти незаметно заново уснули, крепко обнявшись. Уже без сновидений.
* * *
– Любимая, просыпайся! Давай пить чай. Вчера мы скупили с тобой пол лавки сладостей. Ты забыла?
– Ах, правда! – приподнялась она, глядя на него сонными глазами.
– Правда… – передразнил ее ласково Анатоль. – Все это добро до сих пор лежит в моем кабинете. Принести?
– Да…
– Иди, умывайся.
– Мне надо убрать…
– Да, конечно, – спохватился он и почему-то покраснел.
Она чувствовала, что ее сон каким-то странным образом повлиял на него. Он все время прятал глаза, а если и смотрел пристально, то взгляд его серых глаз делался чуть влажным, а голос предательски дрожал. Он старался шутить в своей обычной манере, но у него отчего-то это плохо получалось.
– Мила, я много думал утром, пока ты еще спала, и знаешь… Словом, тот сон он не выходит из моей головы. Я все больше и больше вспоминаю его детали. Мистика заключена в том, что нам обоим приснилось почти одно и тоже. Я не сторонник метафизики, однако, понимаю, что есть на свете совершенно необъяснимые вещи.
– Да…
– Иди ко мне, моя девочка. Я сделаю это аккуратно.
Он снова подвел ее к краю кровати и наклонил чуточку вперед. Дрожащие пальцы задрали кверху батистовую сорочку.
– Мила, какая у тебя теплая и нежная кожа, – он поцеловал ее в поясницу.
Злополучная пробка вышла из нее почти свободно. Было видно, что он взволнован этим обстоятельством. Она ждала от него каких-то слов по поводу часа Х, но он отчего-то молчал.
– Я пойду умываться? – спросила она, выпрямившись.
– Да, да, иди…
Через четверть часа они сидели за столом и пили чай. Весь стол и комод были заполнены коробочками и кулечками с различными сладостями.
– Тебе нравится пастила?
– Да…, – улыбалась она, прихлебывая из чашки душистый чай.
– Попробуй и свои марципановые цветочки. По-моему, тоже ничего.
– Угу.
– Мила, ты такая же сладкоежка, как и моя младшая дочь.
Она вздрогнула.
– Сегодня после обеда я уеду. Дня на четыре. Мне надо навестить детей. Мы с тобой прогуляемся немного, заедем в ресторан, а после я посажу тебя в экипаж, и ты съездишь к маме. Мы хотели написать ей письмо, но выходит так, что ты сама к ней съездишь.
– К маме?! А можно? – оживилась она и даже отложила в сторону пастилу.
– Да. Конечно, можно. Забирай к ней все эти сладости. Я дам тебе еще денег. Все это отвези. Побудь дома до понедельника. Рано утром, в понедельник, я буду ждать тебя здесь. И если ты не приедешь, я умру… Ты слышишь?
– Я слышу…
Спустя короткое время Людочка уже крутилась у зеркала, примеряя новое платье. А Краевский смотрел на нее нежно, почти по-отечески.
– Анатолий Александрович, как вы думаете, мне надеть это розовое, с кружевами, или фисташковое с лентами?
– Ma chère, ты божественна во всем.
– Господи, у меня же есть и туфельки к этим платьям.
– Про шляпки и зонтик не забудь, – усмехнулся он.
Людочка нарядилась в роскошное фисташковое платье, отороченное по подолу атласными лентами и кружевами в тон, с овальным вырезом, едва открывающим ее высокий и нежный бюст. Она причесала волосы и заколола их шпильками. Шляпка и туфельки тоже смотрелись роскошно.
Граф сам сложил большую часть сладостей в огромную корзину. Достал из кошелька приличную стопку ассигнаций.
– Отвези деньги матери.
– Спасибо, Анатолий Александрович!
Неожиданно для самой себя она даже присела в небольшом книксене.
– Ну что ты делаешь? – покраснев, обронил он. – Ты еще благодаришь меня? Это я должен благодарить тебя за каждую минуту, проведенную с тобой. Мила, ты стоишь много больше, чем все эти презренные бумажки, – его глаза снова увлажнились. – Я люблю тебя, Мила!
– Я тоже вас люблю…
Они крепко обнялись.
– Возьми с собой все вещи и деньги. Сегодня мы уже не вернемся сюда.
– Могу я подняться на чердак, в свою комнату?
– Что ты там забыла? Старые тряпки?
– Но я уже давно там не была. Там мамина шаль и мои вещи…
– Ты же не навсегда уезжаешь. У нас еще полно времени до осени. Лишь к осени мы снимем тебе квартиру.
– Но я хотела… – Людочка замялась.
– Что?
– Я хотела повидаться с Еленой.
– Это лишнее. Забудь, ты более не горничная, а потому, тебе не стоит общаться с прислугой.
– Но, ведь мы были подругами.
– Были. Я не хочу, чтобы ты общалась с ней. И ни с кем иным. Отныне только я сам буду решать: с кем тебе водить дружбу.
– Но…?
– Мила, я отвечаю за тебя, и ты должна меня слушаться.
* * *
В этот день они немного прогулялись по городскому саду. Летний зной липовым медом растекался по воздуху почти с раннего утра, заполняя собой улочки старого города, делая горячими булыжники на мостовой. Казалось, даже птахи примолкли от июньского зноя. Людочка раскраснелась от жары, но шла легко, щурясь от сильных лучей. Тонкие пальцы вертели в руках зонтик. Краевский шествовал чуть позади, пропуская ее вперед. Он откровенно любовался походкой и статью своей молодой возлюбленной. Его волновало в ней все – и изгибы тонкой талии, которую он мог обхватить двумя ладонями, и прямая девичья спина, и мягкость плеч, и русый завиток, прилипший к вспотевшей впадинке на шее.
Мила не просто шла, она парила, притоптывая каблучками новых кожаных туфелек бежевого цвета с удивительными бантиками на боку. Ей нравилось останавливаться и, приподняв легкий подол, любоваться этими самыми туфельками.
– Мила, ты как ребенок. Ты даже не представляешь, какое для меня удовольствие – одевать тебя. Покупать тебе украшения. Ни одна светская львица, ни одна петербургская кокетка не в силах доставить мужчине такое наслаждение, какое он испытывает, делая подарки такой неискушенной девушке, как ты.
Она улыбалась, кокетливо запрокидывая голову. Он оглядывался по сторонам, не видит ли их кто из случайных прохожих, подходил близко, обнимал и принимался целовать ее губы долгим и волнительным поцелуем.
– Мне сегодня ехать, и тебя я вынужден отпустить… Твои сны, мои сны – я стал из-за тебя таким сентиментальным, моя нежная девочка, что даже допустил непростительную оплошность.
– Какую?
– Сегодня мы не были близки, а должны были… И я теперь буду безумно скучать, – он сильно сжал ее запястье и стал осыпать его поцелуями.
– Нас могут увидеть.
– Плевать… Сегодня ты увидишься с мамой. Ты что-нибудь ей скажешь?
– Нет…
– Да, так будет правильно. Не нужно пока. Потом я сумею с ней объясниться. Я найду слова. Но не сейчас.
– Хорошо.
– Моя нежная девочка, мы еще не расстались, а мое сердце уже сжимается от тоски.
– Мое тоже, – тихо отвечала она. Ей хотелось, чтобы он снова подхватил ее на руки, хотелось полностью отдаться во власть его души и тела. Подкашивались ноги. – У меня кружится голова, – прошептала она.
Ее чуть затуманенный от набежавших слез взгляд скользнул вдаль, по пустой аллее парка. Дорожка упиралась в стриженый кустарник акации, дальше кустарника высился толстый клен, щедро покрытый огромными резными листьями. Лучи солнца играли искрами на кончиках ее длинных ресниц. И вдруг, сквозь резную листву, проступила чернота. Это было темное, очень темное пятно. Оно расплылось, а потом сжалось. Она узнала этот, чуть лакированный черный цвет. Это был цвет роскошного фрака вчерашнего господина. Людочка вздрогнула и отпрянула от Краевского. Ее розовеющее лицо вмиг побледнело.
– Что с тобой?
– Анатоль, там снова он!
– Кто?
– Тот господин, что вчера следил за нами.
Краевский медленно обернулся. Аллея была пуста. Лишь вдалеке мелькнул силуэт какой-то полной и немолодой женщины в малиновом платье. Краевский прошел вдоль аллеи, до самого клена, повернул в сторону – вокруг не было ни души.
– Мила, иди сюда! – крикнул он. – Здесь никого нет! – он рассмеялся.
Она медленно подошла.
– Любимая, мне определенно не нравятся твои страхи. Если бы не беременность моей супруги, мы уже этим летом уехали бы с тобой на море. Там бы ты привела свои нервы в порядок, – сказал он и осекся.
Она отвернулась.
– Мила, прости меня, – он взял ее за руку. – Я невольно упомянул то, что тебе неприятно слышать. Поверь, у меня нет чувств к этой женщине.
– Однако она беременна от вас уже четвертым ребенком, – прошептала она.
– Мила, господи, обожди, все немного уляжется, пройдет время, и если ты захочешь, то…
– Захочу…
– Мила… Ну, что за глупое, бабское упрямство. Откуда? Ты сама еще ребенок. Позволь мне побаловать тебя. Время так быстротечно. Ты еще успеешь стать толстой и деловитой мамочкой.
– Я не стану толстой, – обиженно проговорила она.
– Все так говорят, – усмехнулся он.
– Ваша супруга же не растолстела.
– О, давай не будем о ней. Здесь особый случай… – он посмотрел на часы. – Мила, нам пора ехать в ресторан.
«Может, я сошла с ума? – думала она. – Отчего мне всюду мерещится этот господин в черном? И отчего мне так холодно, когда я думаю о нем?»
Они поехали обедать. На этот раз Краевский повез Людочку в другой ресторан, с виду похожий на трактир. Здесь было гораздо больше публики, и выглядела она не столь чопорно. Они заняли столик возле окна. Краевский в этот раз заказал раковый суп, расстегаев с олениной, гусиный паштет, соленых груздей и пирожное для Людочки. Он заказал еще графинчик Шустовской водки. После выпитой, третьей по счету рюмки, его глаза блестели хмельным блеском. Людочка уже ела десерт, наклоняя голову к тарелке. Милая кружевная шляпка лежала на соседнем стуле. Перед глазами Анатоля мелькал чистый пробор ее русых волос и небольшая «ракушка» на затылке.
– Ты знаешь, а тебе бы пошел венок из белоснежных лилий, – прошептал он.
Она вздрогнула, вспомнив обрывки того страшного сна.
– И маки я хотел бы видеть на твоей античной головке. И фиалки тоже… Но более всего я помню не цветы. Я помню то, как жарко ты мне отдавалась в той реальности. Ты сама насаживалась на мой член. Сама! Ты кричала от страсти, раскрывая судорожно свой маленький рот, когда он скользил в тебе. Сон это или другая жизнь – я, право, затрудняюсь ответить. Мне кажется, что сойдясь с тобой, я день ото дня делаюсь все больше сумасшедшим…
– Анатолий Александрович, вы просто опьянели. Может, нам пора уже ехать? – она покраснела.
– Ты итак скоро поедешь. К маме. А что стану делать я?
– Вы поедете к своей супруге.
– Перестань! – зло прошептал он. – Ты прекрасно знаешь, что вынуждает меня ехать к ней. Это – долг и дети. Дети – в первую очередь. Я просто должен их навестить, – он шумно вдохнул воздух.
– Я поняла…
– Ты иногда распаляешь меня этой своей кротостью и послушанием.
– Вы хотели бы видеть меня строптивою?
– Сейчас более всего я хотел бы тебя отшлепать так, чтобы твой алебастровый упругий зад покрылся красными полосами, а потом войти в него. Я ведь не сделал этого накануне. С твоими снами я весь исполнен сантиментов, будто истовый поклонник Ричардсона и Руссо.
– Вы сказали, что тоже видели этот сон.
– Видел, но не помню целиком. А вот ту часть, где мы с тобой предавались греху под покровом римских ночей, я помню отлично. До мелочей. Всё. Обед окончен. Увы, мне надобно ехать… Дома меня ждет экипаж для поездки в деревню.
Они вышли из ресторана, граф взял извозчика для Людочки, переложил в коляску корзину со сладостями, назвал извозчику адрес. Перед тем как отпустить, он отвел ее в сторону, оглянулся и поцеловал на прощание в податливые губы.
– Запомни, целомудренная весталка, если ты не вернешься через четыре дня, к десяти утра, твой сумасшедший центурион умрет от тоски. Иди! – почти крикнул он. Развернулся и пошел к своему экипажу.
* * *
Домой Людочка доехала довольно быстро. Мать поливала грядки на огороде, когда увидела крытый экипаж, вставший возле ее дома.
– Милка, ты!? – только и всплеснула она руками. – А я как раз сегодня видела во сне девочку маленькую. То к «диву» снится. Уж не чаяла, что ты вообще летом приедешь. Как отпустили-то тебя хозяева?
Они обнялись.
– Отпустили, мама.
– Так, стало быть, добрые они у тебя, хозяева-то? Поляк-то этот, Краевский? А?
Мать семенила вслед за Людочкой.
– Смотри-ка, и плотют, видать, тебе хорошо. Платье-то, платье это каких же деньжищ-то стоит? Это же из французского магазина…
Мила медленно прошла в дом. И села на стул в зале. Она огляделась вокруг. Вся обстановка ее дома, в котором прошло детство и юность, казавшаяся ранее милой и уютной, теперь выглядела настолько убогой и нищенской, что у Милы на глазах навернулись слезы. Давно небеленый, потрескавшийся потолок тяжелым грузом сдавливал плечи. После огромных и светлых покоев графского дома, в материнском доме все казалось до боли жалким, узким и тесным. Не дом, а конура… Она посмотрела на мать, севшую напротив. Как рано она постарела, как осунулись ее плечи. И это старое платье. Оно давно выцвело. Сколько лет она носит его, не снимая?
– Мама! – Людочкино лицо скривилось от плача. Она закрыла лицо руками.
– Людка, ну, чего ты! – мать обняла дочь и тоже заплакала. – Что же ты мне ни одного письма-то не написала? Я каждый день ждала-ждала…
– Мама, прости. Сначала было много работы. А потом… – Людочка покраснела.
– Что потом?
– Ох, не спрашивай, мама.
– Тебя что, кто замуж там зовет?
– Нет…
– А что же разодели-то тебя, как барыню. Нешто я не знаю, сколько все это может стоить. Да ни на одно жалование таких нарядов не купишь!
– Мама, не мучай меня. Я не могу тебе всего рассказать.
– Людка, признавайся, ты что, согрешила с кем-то?
– Нет, мама. Я чиста, ей богу! – дрожащей рукой она перекрестилась на икону. – Просто, не спрашивай пока меня ни о чем. Если богу угодно, то изменится скоро моя жизнь. А там, и тебе, и Кольке с Петькой, буду помогать. – Будто спохватившись, Людмила полезла в ридикюль и достала оттуда пачку ассигнаций. – Мама, возьми эти деньги и спрячь. Хорошо? И трать столько, сколько тебе надо. Купи обновки мальчишкам. И себе платье и занавески новые. И там еще полная корзинка сладостей. Вы ешьте.
– Я спрячу, только душа у меня что-то заболела… Откуда такие деньжищи? Рассказала бы ты лучше мне все как на духу. Уж не с лихими ли людьми ты связалась?
– Ну, что ты такое говоришь! Я работаю горничной, в доме у Краевских…
– Тебя что, сам Краевский охмуряет?
– Нет. Что ты!
– А кто? Признавайся!
– Мама, я не могу! Не пытай ты меня, не то я руки на себя наложу! – выкрикнула она в слезах.
– Ты что, одурела? Такое городишь! Свят, свят! Ладно, бог с тобой. Я молиться буду, чтобы господь уберег тебя от всякого лиха.
– Ты только завтра не щеголяй по двору в этом платье. Обзавидуются соседки. Сурочат еще. Надень старенькое. Хорошо?
– Хорошо. Ма-аа-аа-ма…
Людочка уронила голову на руки и разрыдалась так, что ослабла и валилась с ног.
– Иди, ляг. Я постель расстелила. Давай, помогу платье-то твое снять. Ух, какие кружева-то… Ни разу таких не видала.
Мать уложила Людочку в постель.
– Я тебе сейчас чаю с вареньем принесу. Я с крыжовником наварила. Нынче крыжовника много уродилось и малины. Я с утра наберу и к Викентьевне за молочком сбегаю. Ладно? А Колька с Петькой будут довольны гостинцам-то. Отродясь мы таких сладостей-то не пробовали. Жалко их сейчас нет. Они вот, только в прошлый выходной домой приезжали. Но я сберегу. Пойду, в подпол корзину-то спрячу. И деньги туда же, под бочку, в углу.
– Спасибо, мамочка.
Людочка напилась чаю с вареньем и сама не заметила, как уснула в своей девичьей постели. Она проснулась внезапно, среди ночи. Сон сняло словно рукой. В доме стояла тишина, только старые ходики назойливо тикали в соседней комнате, где спала ее мать. Людочке сделалось жарко под гнетом пухового одеяла. Она скинула его. Яркая луна освещала всю комнату. Ей казалось, что она слышит скрип половиц и чьи-то шаги. Она вглядывалась в сумрак комнаты, облитый лунным светом, но никого не видела. И тут ей почудилось, что она слышит его шепот:
– Мила, я пришел к тебе, возлюбленная моя.
– Кто тут?
– Это я, Анатоль.
– Анатолий Александрович, как вы здесь очутились? – она приподнялась на локтях. Темное пятно его высокой фигуры заполнило собой все пространство.
– Т-сс, тихо. Не спрашивай ничего. Иди ко мне… – он лег рядом. – Все объяснения потом.
Скрипнула старая кровать.
– Но как? Вдруг мама услышит?
– Тише! Мама спит. Она не услышит.
Он снял с нее ночную сорочку.
– Ты такая красивая, Мила! Я обожаю тебя. Я не могу прожить без тебя ни минуты. Ляг чуточку пониже и разведи ноги.
– Что вы делаете? Вы же не хотели?
– Зато ты давно хочешь, чтобы я вошел в тебя всюду. И в первую очередь, в твою… п*зду. Ты же так называла свое священное лоно… Именно этим словом. Оно тоже мне очень нравится. Ужасно нравится. И самому Александру Сергеевичу тоже нравилось… Он называл его «Богиня – п*зда». Люблю, когда твои губы произносят это слово. Только от этого мой фаллос взлетает до небес и становится каменным. Я мечтаю, чтобы ты первая и его назвала иначе.
– Как?
– Ты знаешь, как…
– Х*й? – смущенно произнесла она и зажмурилась. Ее голова метнулась по подушке.
– Именно… Х*й! Называй его так, моя девочка. И сейчас этот мерзавец, х*й, ворвется в тебя и вытянется во всю длину. Он раздвинет тебя широко и порвет все преграды. И будет двигаться в тебе до тех пор, пока мы оба не спустим.
– Но мне будет больно.
– Ты сама этого хотела. Терпи… – он сжал зубы. – Давай я поласкаю твой секель, чтобы ты вся промокла от влаги.
Его пальцы коснулись ее опухшего лона. Она сама, непроизвольно, раздвинула ноги.
– Тебя даже готовить не надо к этому священному акту. Ты давно готова. Ты вся скользишь и горяча, словно на печке полежала. Сейчас я войду в тебя. Громко не кричи. Я закрою твой рот поцелуем.
И он нацелил свой член на сердцевину ее девичества. Надавил. Она вскрикнула. Он начал ее целовать. Стон боли потушил крепкий поцелуй. Она стала рваться и кусать ему губы. Он снова надавил. И стал ритмично двигаться в ней. Отпустил губы, чтобы она глотнула воздуха. Она тоненько заплакала. Но при этом придвинулась к нему еще ближе.
– Тебе больно?
– Да… – выдохнула она.
– Тебе хорошо?
– Да… Да… Да…
– Перевернись на животик и встань на коленки… Выгнись спиной, и попу ближе.
– Но?
– Встань, – я тебе говорю. – Я войду в тебя сзади. Тихо… Тише… Еще на меня… Ближе. Так… О… Сильнее. Потерпи… Я буду снизу, рукой, ласкать твой секель. Смотри, как он распух… Все в крови и твоих соках. Я хочу, чтобы твой первый раз закончился оргазмом. Боль слилась с наслаждением.
Его рука нырнула к скользким и опухшим губам. Два пальца стали нажимать на клитор. Удары сзади, и эти безумные ласки… Боль… Боль… Наслаждение. Она вскрикнула. Его ладонь закрыла ее рот. Она сжимала и сжимала его член, в едином спазме…
– Как хорошо ты кончаешь. Ты обхватила х*й так сильно, будто зажала в кулак. У тебя самая лучшая в мире п*зда! А-аа-аа.
Он еще раз двинулся навстречу и, прорычав какое-то ругательство, упал на нее.
– Смотри, сколько крови… крови…крови…
* * *
– Мила, смотри, сколько крови, – послышался рядом голос матери. – Ты что же дочка, всю перину мне перепачкала…
Мила села. Сильно ныл низ живота. Она посмотрела на кровать. Под ней расплылось огромное кровавое пятно.
– Ну, что смотришь, сымай рубаху и белье, а перину я сама замою. Ты что, не знала, что у тебя месячные должны начаться?
– Нет, я забыла…
– Забыла она. Хоть бы тряпочку стелила. А я захожу, гляжу ты вся открытая. А на рубахе, прямо на заднице, пятно и на постели тоже. Ну, думаю: протекла девка. Иди в сени. Там таз с мылом. Помойся.
Мила встала. Дрожащие руки собирали испачканное белье.
«Значит, мне все это приснилось. Не было Анатоля. И я все еще девственница. Но, как хорош был этот сон. Господи… Что может быть слаще? Господи, я не могу без него…»
* * *
Краевский ехал в рессорной коляске в свое имение, в деревню. Он выехал ближе к вечеру, на что кучер пенял ему, что им придется ночевать в поле, если они не поспеют к постоялому двору купца Дятлова. Стоял конец июня. Вечера были длинные и теплые, а ночи короткие. «Ничего, – думал граф, – а и в поле заночуем. Лишь бы скорее добраться, а еще скорее вернуться назад. Я должен вернуться в понедельник утром».
Он не сказал Людочке о том, что накануне вечером получил с посыльным письмо от супруги. Руфина в свойственной ей манере жаловалась и упрекала мужа в невнимании к ней и детям. И требовала отложить все срочные дела в земской управе и навестить в ближайшие дни свое семейство.
За пыльным окошком мелькали деревья. Коляска ехала мимо березовых рощ. Солнце садилось в зеленых кронах, но светило все также ярко. В коляске было душно. Граф еще шире распахнул окно. Потянуло дорожной пылью и ароматами полевых цветов. Несколько дней не было дождей, и дорога выглядела сухой. Коляска ехала быстро.
«К ночи успеем к Дятлову. Переночуем у него. А на заре снова в путь», – подумал Краевский.
Это была его единственная отчетливая и правильная мысль в веренице безотчетных рассуждений, обрывков монологов и неясных образов. Он сам себе не мог признаться в том, что вся его душа привязана к душе той, молодой женщины, которую несколько часов назад он посадил в экипаж и отправил к матери. Он почти не видел пред собой чудного летнего вечера, не слышал чарующего пения птиц, и солнечный закат лишь навевал безумную тоску. Прошло только несколько часов с момента их расставания, но он, словно преданный пес, готов был сорваться с цепи и бежать назад, к любимой хозяйке.
«А если она не вернется? Она же не крепостная, и вольна поступать так, как ей хочется, – лихорадочно думал он. При этих мыслях его прошибал холодный пот. – А я бы хотел вернуть этот закон только ради нее одной. Я бы купил ее. И заставил быть рядом навсегда. Она хочет замуж. Глупая. Какое может быть замужество, когда есть я? Неужели она не понимает, что я скорее дам себе отрубить руку, чем кому-то ее отдам? А эти бредовые разговоры о детях? Неужели так рано кричит в ней инстинкт материнства? Нет, не думаю. Скорее – это порождение воспитания. Ненавижу всяческих классных дам, вкупе с проповедниками. Это все сухопарая Германовна. Садистка с видом благочинной матроны, – злился Краевский. – Это она вбивает из года в год в головы юным нимфам: муж, дети, семья. А сама рада бы сбежать с молодым любовником, да только никто не зовет. Лицемерка. Она же ненавидит своих учениц. Это не видно только слепому. Kinder, Küche, Kirche[50] – три „К“. Ну как же! А иначе не бывает? Неужели человек должен жить только по прописанным законам этого общества? Общество? Как смешно мне его лицемерие! Vita sine libertāte nihil.[51] А моя свобода заключена в любви. Да, я люблю эту наивную девушку. Мила, Мила, если бы ты знала, какова твоя сила надо мной…»
– Барин, кажись, и Дятлово вон показалось. Дорога хорошая. Успели дотемна, – раздался голос возницы.
Возница спешился за воротами обширного постоялого двора. Дальше двора шел основательный двухэтажный каменный дом с множеством хозяйственных построек. Это и был дом самого Дятлова. При нем существовала небольшая гостиница и трактир. Краевский рассеянно слушал распоряжения приказчика – лошадей распрягали и вели в крытый загон, на ночлег. Из широких, крашенный зеленой краской дверей, вышел сам Дятлов. Это был невысокий и полный мужчина, лет пятидесяти. Когда-то, в ранней молодости, он был крепостным у князя Веретьева, но сумел откупиться. О таких людях говорят, что сам «черт ему не брат». Все его дела шли в гору. Ни пожар, ни наводнение, ни лихие люди не причиняли ему ровно никаких убытков. Он был изворотлив и смекалист. И выигрывал там, где другие считали убытки. К пятидесяти годам он имел уже с дюжину постоялых дворов в разных губерниях. Кое-где ко дворам были пристроены трактиры и гостиницы. Деньги текли к нему рекой. Ближе к пятидесяти он женился на молодой шестнадцатилетней красавице, мещанке, которая за несколько лет успела нарожать ему троих сыновей и снова ходила непорожняя.
– Анатолий Александрович, граф, давно я вас не видел! – радушно заговорил хозяин.
– А в прошлый раз мы семейством проехали мимо, так как не было нужды. Выехали засветло… А тут дела у меня в городе были, припозднился. Возница мой уж переживал, как бы в поле не пришлось ночевать.
– Ну, как же, в поле… Я когда строил этот двор, так все рассчитал, что ежели выехал кто после обеда, так аккурат, к вечеру у меня, – хохотнул Дятлов. – А те, кто с той стороны, в город, тех еще больше ночует.
– А вы, значит, здесь обитаете? Не в Орловской губернии?
– А мы на лето чаще сюда с семейством перебираемся. Здесь речка недалеко, и Дарье моей эти леса больше нравятся. Грибов и ягод здесь видимо-невидимо.
Дятлов рассказывал Краевскому о том, сколько березовых заказов он умудрился прикупить во всей округе, хвастался новыми постройками, но Краевский лишь холодно улыбался и кивал в ответ. Он почти не слушал досужего купчишку.
– Анатолий Александрович, давайте я прикажу вам накрыть ужин в моей столовой? Вы у меня – гость особый. Жену попрошу накрыть.
– Да, не стоит. Я, по правде говоря, сегодня хорошо отобедал. До сих пор не проголодался, – рассеянно отвечал граф.
– Не обижайте отказом, Анатолий Александрович, – затараторил Дятлов. – Моя женушка испекла сладкий пирог с малиной. Испейте хоть чайку.
Краевский не стал долго отнекиваться. Он пошел в горницу к Дятлову более из любопытства: ему хотелось посмотреть на жену пронырливого купца. Так ли она хороша, как об этом говорили.
Уже пыхтел самовар, прислуга расставляла чашки, сливочник, блюдо с маковыми котелками, как в комнату вплыла беременная жена Дятлова. Краевский увидел ее не сразу. Он думал о чем-то своем и рассеянно смотрел на тулово начищенного до блеска, медного самовара. В нем отражалась часть стены, оклеенной немецкими полосатыми обоями и темный квадрат двери. Квадрат преобразился, родив пестрый цветок. Цветок колыхнулся вдалеке, скрипнули половицы, послышались легкие шаги – отражение стало четким. Цветок превратился в хорошенькую женщину. Граф быстро обернулся и увидел хозяйку. Она краснела от пристальных взглядов мужа и нового гостя. Круглый живот был еще не так велик. До сносей было далеко, однако широкий сарафан из голубого набивного ситца и тоненькая батистовая сорочка делали облик молодой женщины столь притягательным, что Краевский внутренне невольно ахнул. Она ступала тихо, неся перед собой серебряный поднос с кусками душистого пирога. Маленькая головка, увитая калачом толстой светлой косы, была чуть наклонена. Щечки алели, из-под длинных ресниц пробивался взгляд голубых, чистых и ярких глаз. Темные брови летели над глазами двумя легкими птичками. На полных губах играла трогательная и кроткая улыбка.
– Ой, ну что же ты сама-то? – делано захлопотал вокруг нее счастливый Дятлов. – Нешто некому принести? Зачем тяжести поднимать? – он перехватил у жены поднос.
Она смущенно опустила руки. Полные плечи распрямились, высокие тугие груди дрогнули и поднялись кверху. Тонкая ткань плохо скрывала выпуклости спелых сосков. Да, молодая жена Дятлова была его главным сокровищем. Пока гость вместе с хозяином пили чай с пирогом, Дарья сидела скромно, потупив очи, искоса и чуть настороженно поглядывая на графа. Но как теплел ее взор, когда она встречалась глазами с супругом. Краевский довольно быстро вник в эту тайную игру глаз. И его душой овладело чувство непрошеной, но острой, словно нож, зависти.
Уже после ужина, в комнате гостиницы, куда любезно проводил его Дятлов, он вспомнил о том, что его собственная жена Руфина тоже беременна. И тоже четвертым ребенком. Но от этой мысли Краевскому отчего-то становилось гадливо и холодно. Он вспоминал облик вечно злой и худой Руфины, ее впалые щеки с коричневыми пятнами пигмента и тощую грудь, которая почти не полнела даже во время беременности.
«Ну, почему?! Почему?! Неужто этот Дятлов хитрее и умнее меня? Как он умудрился остаться богатым и при этом счастливым? А я? Я так дешево отдал собственную жизнь и счастье. За эти жалкие бумажки… Деньги и долги… Долги и деньги… Отчего мне не может родить та, кого я люблю больше жизни? Отчего я трушу даже спать с ней, как всякий нормальный мужик? Порвать ее, как порвал Дятлов свою нежную женушку. Овладеть всецело? И владеть всю жизнь. Чтобы она подчинялась и любила. А сейчас, я как лакей, тащусь на зов той, которая вызывает во мне лишь жалость и отвращение. Раньше я умел отвлечься проститутками. „Катькой“, наконец. Кстати, давно от него не было писем…»
Он вспомнил о том, что «Катька», то есть князь Константин Николаевич С-кий, забросал его письмами в апреле и мае. Он писал, что сильно соскучился, что хотел снять виллу в Ницце и провести на ней хоть неделю в обществе Краевского. Анатоль не отвечал. Последнее письмо от князя пришло в начале июня. Он заставил себя прочитать его. Князь умолял о встрече, предлагал приехать к Анатолю прямо домой, тайно поселиться в гостинице. На что Краевский отписался холодно, что ему нынче некогда, и что скоро он едет с семейством в деревню. Краевский знал, что эта холодность только распалит желания изощренного любовника. Он знал, что тот будет рыдать и грустить в Ницце, сидя в кафе, на берегу моря. Но отчего-то эти мысли теперь не умиляли Анатоля, а вызывали скорее жалость и досаду. Те же чувства, что нынче он испытывал и к жене. Он просто отодвинул от себя «Катьку», как и отодвинул свою семью и Руфину, отодвинул весь мир ради одной. Ради Людочки.
Короткая летняя ночь показалась ему нескончаемо длинной. Было душно, он пил из графина теплую воду и падал лицом в высокие подушки. Сон охватывал голову на несколько минут, потом перед глазами всплывал образ возлюбленной. Он видел ее распущенные русые волосы. Казалось, она рядом, и на подушке он тоже видел ее волосы. Его пальцы путались в длинных прядях. То он слышал ее нежный смех. Он вскакивал, словно в горячке, и шептал ее имя.
Порой сон пропадал совсем. Он садился на кровать. Пальцы с силой обхватывали взлохмаченную голову.
«Она не вернется! Зачем я ей? Старый трусливый подкаблучник! Тряпка! У меня же за душой нет ни гроша собственных денег. Я же только хорохорюсь, а сам полностью завишу от миллионов семейства Фейербах! Как я жалок! Я лишь играю роль хозяина жизни, хотя, на самом деле, я вечный раб. Я даже хуже, чем „Катька“. У „Катьки“ есть свои миллионы, а у меня только ненавистная Руфина. Даже этот дурак Дятлов и тот спит с любимой женщиной. А я? Как все мерзко. Она не приедет в понедельник. Я пропал…»
– Ты давно, дружок, пропал… – шептал кто-то невидимый в темноте.
– Кто здесь? – Краевский таращил глаза в сумрачные углы гостиничной комнаты и прислушивался.
– Пропал… Пропал… – это ветка старого ясеня царапала открытые настежь окна. И ночная птица ухала в ночном лесу. – Пропал… Не приедет…
«Я схожу с ума» – думал он.
Забылся он лишь под утро.
И ему приснился сон.
* * *
Она вернулась, но взгляд ее карих глаз казался холодным и чужим, она отчего-то не смотрела ему в лицо. Решительной походкой Людмила прошла на середину комнаты и грациозно села на стул. На ней было новое платье и шляпка. Это было белое кружевное платье, словно у невесты. Она была ослепительно прекрасна в этом платье. Но это платье покупал не он. А кто же?
– Граф, нам надо поговорить.
– Я слушаю вас, мадемуазель, – отвечал он, волнуясь.
В ее голосе послышались незнакомые нотки, а его сердце затрепетало в предчувствии неминуемой гибели.
– Анатолий Александрович, нам надо расстаться.
– Отчего-с так? – спрашивал он хриплым и слабеющим голосом.
– Дело в том, что я выхожу замуж.
– Замуж? Вот как-с? Значит, вы меня бросаете?
– Вы, как ребенок, граф. Наши отношения были неправильны, порочны и, наконец, смешны.
– Смешны? А что же в них смешного?
– Граф, за все это время вы даже не осмелились сделать меня женщиной, – она встала и заходила по комнате.
– Но я не знал, что это для тебя так важно.
– Важно? – она зло рассмеялась. – Признаться, я очень вам благодарна за то… что вы меня пощадили. Как вы и предрекали, мне не придется обманывать мужа. Я осталась невинна.
– Невинна? Значит, ты невинна как мадонна?
– Ну, вы же сами хотели этого. А потому, довольно. Я выхожу замуж, и на этом точка.
Она развернулась и пошла ровной и прямой походкой к выходу.
– Мила, постой!
– Что еще?
– Кто он?
– Зачем вам это? Он тот, кто сделает меня женщиной и даст мне свою фамилию. У нас с ним будет много детей, – и она снова зло рассмеялась.
– Остановись, я никуда тебя не отпущу. Ты – моя. Ты была со мной, и я ласкал тебя.
– Не будьте смешны, граф. Я непорочна. И это вам подтвердит любая повитуха или любой эскулап. Прощайте!
– Ах, так! Тогда я воспользуюсь своим законным правом!
– Каким? У вас нет этого права.
– Правом твоего любовника. Первого и надеюсь, единственного. Правом твоего повелителя.
Он резво опередил ее возле самого выхода. Дрожащие пальцы сделали несколько оборотов ключом.
– Что вы делаете? Это глупо! – она начала смеяться. – Вы хотите, чтобы я закричала и разбудила всю прислугу и вашу жену?
И только тут Краевский заметил, что за окном царила летняя ночь, а хозяйка небосвода, круглая луна, освещала своим таинственным светом всю комнату так, словно это был летний день.
– Кричите столько, сколько вам будет угодно. Теперь-то мадемуазель, мне нечего терять и вам не будет пощады.
Довольно ловко он схватил ее за руку, но она выскользнула из его ладони. Тогда он не мешкая, поднял Людочку на руки. Она выгнулась, но он был сильнее. В нем проснулась какая-то неведомая, почти мистическая сила. Несколько минут прошли в легкой борьбе. Ее кружевная шляпка была сброшена на пол. Он выдернул несколько шпилек у нее на затылке, и длинные русые пряди разметались по подушке. Она закрутила головой и стала бить его по спине. Двумя руками он сжал ее маленькое лицо и впился в губы страстным поцелуем. Он целовал ее долго, то нежно лаская, то чуть покусывая губы. Он издала страстный стон и вся обмякла под ним. Он не стал снимать платье. Сильные руки задрали белоснежный подол, потом добрались до тонкого батиста панталон. Пальцы рванули нежную ткань. Сквозь клочья изодранного белья показалась матовая кожа бедер, круглого живота и темный мысок волос.
– Мы давно с тобой не были в салоне у Колетт. И евнух Хатидже давно не водил своей острой бритвой по твоему нежному лобку. Но сейчас мне это не помешает. Я войду в тебя и без этих изысков и лишних конвенансов[52], – раздался треск – он сорвал остатки ажурного белья.
Ловкие пальцы нырнули в горячее лоно девушки.
– А ты, оказывается, лгунья. Говоришь, что надо расстаться, а сама течешь…Ты течешь даже без моих ласк…
– Нет… Не трогайте меня… Пожалуйста! У меня жених.
– А мне плевать на твоего жениха! Ты моя… И этим все сказано.
Она захныкала и крепко сжала бедра.
– Вы негодяй…
– Да…
Он снова принялся целовать ее. Его пальцы двинулись глубже и принялись настойчиво тормошить и ласкать круговыми движениями горячий и возбужденный клитор. Анатоль почувствовал, что Людочка, повинуясь ужаснейшей плотской тяге, ослабила сопротивление, ее ноги стали податливыми и мягкими. Она уступала ему. Ее дыхание стало сбивчивым. Она сама потянулась к нему губами, а руки обхватили его голову.
– Анатолий Александрович, вы губите меня. Я хочу вас… безумно.
– Дурочка. Куда ты хотела сбежать? К какому жениху?
– Я-я-я… Ах, вы*би меня!
– Уличное воспитание… Проглядела матушка свою нежную гимназистку, раз девочка знает такие слова… Я вы*бу тебя, милая… Непременно вы*бу!
– Да-а-а! – закричала она, когда он сначала ввел в ее скользкое лоно два пальца, чуть растянув нежные лепестки плоти, а после решился войти полностью.
– Так?!
– Да… – чуть хныкала она, задыхаясь и двигаясь навстречу.
Она подняла ноги еще выше, согнув в коленях. Его бедра уже ритмично двигались над ее распластанным телом. С каждым ударом он будто доказывал ей, а заодно и самому себе, что только он имеет право быть ее единственным любовником.
Когда все закончилось, он упал рядом. Взгляд задержался на ее ногах. Она лишь устало опустила бедра, но колени все также оставались раздвинуты. Матовая кожа упругих ляжек, крахмальное полотно нижних юбок, подол кипенного кружевного платья, часть смятой простыни – все было перепачкано кровью. От крови и скользкой влаги слиплись все коротенькие волоски ее опушенного лона, которое ныне выглядело жалким и растерзанным. Даже тонкие пальцы длинных и изящных рук и те были в крови. По темным ресницам стекали слезы, оставляя узенькие бороздки на чуть припудренных висках.
– Не плачь. Я куплю тебе новое белое платье.
– Хорошо, – тихо ответила она.
– Можно я посмотрю?
Она не ответила. Он снова поднял ей ноги, чуть нажимая на внутреннюю поверхность бедер, и заглянул в то место, которое еще полчаса назад было устрично-розовым, девственным и невредимым. Его глазам предстала дикая и странная картина: в середине опухшего лона зияла огромная рваная рана, даже не рана, а целая дыра. Она темнела, словно страшный и бесконечный колодец. Он в страхе отпрянул.
– Неужели это я? – он заглянул Людочке в глаза. Но она отчего-то молчала. Теперь ее лицо казалось белым, словно у покойницы. Черты онемели и заострились. Он стал просить прощения и трясти ее за руки, но она не шевелилась.
Позади себя он услышал чей-то противный смех.
– Ты пропал… – снова прошептал невидимка.
Он оглянулся, но за спиной никого не было. Зато он услышал другое. За плотной дверью раздались торопливые шаги. По коридору кто-то быстро шел, почти бежал. Это были шаги нескольких человек, их было много. В дверь раздался стук. Множество ударов. Дверь задрожала. Ключ стал вертеться сам по себе, без помощи чьих-то рук. На ватных ногах он подошел к двери.
– Кто там?
Никто не ответил, но дверь задрожала еще сильнее.
– Мила, мне страшно, – едва выдавил он, и сам не узнал своего голоса.
Краевский повернул голову к кровати. Она была пуста. Людочки нигде не было. Он стал метаться по комнате и искать ее всюду: под кроватью, за шторами. Стук не ослабевал. Наконец дверь слетела с петель. Но пороге стояла его жена Руфина. Взгляд ее маленьких и колючих глаз казался зловещим. Она смотрела и смотрела туда, где на кровати ширилось и растекалось кровавое пятно. Кровь стекала струйками на пол, образовав и там отсвечивающую глянцем, темную лужицу. Краевский закричал от ужаса. И тут же проснулся.
* * *
За окном вовсю светило утреннее летнее солнце. Видимо, он долго проспал. А в дверь его комнаты кто-то стучал. Краевский встал и, пошатываясь, подошел к двери.
– Кто там?
– Ваше сиятельство? Вы здоровы?
Краевский открыл дверь. На пороге стоял сам Дятлов.
– Анатолий Александрович, вы просили вас разбудить в семь. Я подхожу уже трижды, но никак не могу вас добудиться. Верно, вы долго не могли заснуть? Ночи-то душные стоят…
– Да, – хрипло ответил Краевский. – Я уснул только под утро.
– Прикажете накрыть завтрак?
– Я не буду завтракать. Сделайте мне только кофе.
Через полчаса с тяжелым сердцем он покинул постоялый двор Дятлова. После кошмарной ночи его настроение окончательно испортилось.
«Она не вернется! – удрученно думал он. – Мать все поймет и не отпустит ее ко мне. Если я ее не увижу, я застрелюсь…»
Ближе к ночи он был в своем фамильном поместье. Дети уже спали. Жена встретила его сдержанно. Он поцеловал ее в холодную щеку, отметив про себя, что ее живот стал больше.
– Как ты себя чувствуешь, дорогая?
– Лучше, чем могла бы. Свежий воздух и парное молоко. Доктор говорит, что я должна пить его каждый день.
– Да, конечно, молоко очень полезно, – рассеянно ответил он.
– Конечно! Но меня все время тошнит от его запаха.
– Крепись, ma chère, осталось ведь совсем недолго…
– Анатоль, ты плохо выглядишь? Много работы?
– Да, ты знаешь, ma chère, наш начальник Грибовский совсем меня загонял последние дни. Встречи, разбор циркуляров, совещания… Даже поспать иной раз некогда.
– Ну, ты бы сказал ему, что у тебя беременная жена и дети.
– Ах, Руфина, у кого нынче нет беременных жен?
– Анатоль, по-моему, ты говоришь какие-то пошлости.
– Прости, душка, я что-то устал по дороге. Как дети? Здоровы?
– Здоровы, только Мари немного чихала. Бонна не подводит ее ко мне два дня.
– Бедная Мари! Ей должно быть скучно…
– Скучно? Бонна с ней разучивает отрывки из Писания.
– Руфина, ты слишком строга. Ведь на дворе лето. Девочкам хочется пошалить.
– Вот переезжай сюда и играй с детьми сам.
– Для этого мы наняли гувернанток. А ты их загружаешь вечными молебнами.
– Я знала, что ты безбожник, – с укором сказала жена. Ее глаза заметно покраснели.
– Ах, перестань, Руфина. Я не безбожник. Просто у нас с тобой слишком разное понимание бога. Я пошел спать.
Весь следующий день Краевский провел с детьми. Они вместе ходили в лес и на речку. Анатоль с удовольствием искупался в уютной купальне. Девочкам мать не разрешила купаться. Жалкие и притихшие они смотрели с берега на плавающего в полосатом купальном костюме отца. Руфина стояла рядом, в темном платье и кружевном чепце, и явно была недовольна фривольным поведением супруга. В этот раз он уклонялся от нудных расспросов и долгих разговоров. Ему было лень оправдываться перед истеричной супругой. Он словно бы игнорировал все ее мелкие упреки или делал вид, что почти не слышит их.
«Этим браком я не только загубил собственную душу. Я нанес непоправимый ущерб душам моих маленьких дочерей. Они с детства растут, словно несчастные монашки».
Особенно он жалел младшенькую, похожую на него Машеньку. Руфина Леопольдовна никогда не называла ее по-русски и не разрешала этого делать другим. Краевский лишь про себя или тихо, шепотом, называл свою любимицу Машей или Машенькой. Она всегда более своих сестер жалась к нему русой головкой, словно покинутый всеми воробышек. У Краевского от жалости наворачивались слезы. Детская головенка с чистым и прямым пробором пахла также, как пахла голова его возлюбленной Людочки. Он, втайне от супруги, ласкал Машеньку, гладя ее по волосам и целуя милое, подрумяненное солнцем личико.
Когда они шли с купальни на обед, перед самой террасой, мелькнул вдалеке белый передник незнакомой горничной. Краевский вздрогнул, увидев форменное платье – такое знакомое, некогда милое сердцу, а теперь сожженное им в печи. Людочка и здесь всюду мерещилась ему. То он слышал вдалеке ее смех, то звуки девичьих голосов сливались в одну, до боли знакомую тональность.
– Анатоль, ты не слышишь меня? – повысила голос супруга.
– Я? Да? Ты что-то сказала?
Он сидел за обеденным столом и почти ничего не ел.
– Ты не ешь суп? Ты часом не болен? – Руфина сделала круглые глаза.
– Нет, я просто задумался.
– За обедом надо есть. Для мечтаний и дум есть другое время, – проговорила она назидательно.
– Руфина, я понимаю особенности твоего положения, но не кажется ли тебе, что ты слишком злоупотребляешь своими воспитательными сентенциями? Ты забыла, с кем разговариваешь? – неожиданно жестко произнес он. – Я супруг твой, а не юный отрок на исповеди.
– Прости! – прошептала она и опустила голову.
Краевский стал есть, а Руфина, напротив, встала из-за стола и быстрыми шагами удалилась в свою комнату.
Вопреки обыкновению, он не бросился ее догонять и успокаивать. Они не виделись до самого ужина.
Руфина Леопольдовна понимала, что муж изменился за эти дни. Ей казалось, что он словно бы ускользал из ее цепких рук. А эта дерзость за столом, при детях? Она долго лежала в своей комнате, всхлипывая и прислушиваясь к звукам в коридоре. Прислуга массировала ей ноги и втирала пахучую соль в виски. Графиня приказала принести ей обед в комнату. Она долго ждала, когда в спальню распахнется дверь, и он войдет с виноватым видом и станет, по обыкновению, уговаривать ее и просить прощения. Но наступило время ужина, а Краевский так и не появился. Такое поведение неприятно поразило Руфину. И ей отчего-то впервые стало страшно. Не дожидаясь его извинений, она сама вышла вечером в гостиную. Супруг играл с девочками в жмурки. Девочки смеялись от счастья.
– Я забыла тебе сказать. От князя С-кого приходило два письма.
– Где они? – чуть настороженно поинтересовался Краевский.
– Они лежат на твоем столе, в кабинете.
– Хорошо. Я прочту чуть позже. Что, Николай не приезжал еще из Орла?
– Нет, он тоже прислал письмо. Все твои письма лежат на столе.
Спустя полчаса Краевский заперся в своем кабинете. Он бегло прочитал письмо приказчика Николая, который сообщал ему о торговых делах в Орловской губернии. Спрашивал совета по поводу покупки лошадей. Граф быстро отписал ему ответ. Затем он вскрыл запечатанные гербовыми печатями, письма князя. «Катька» в обычной своей манере, в высоком штиле, многословно и пылко объяснялся в любви по-русски и по-французски. Писал о том, как соскучился, угрожал тем, что забудет Анатоля и даже проклянет. Намекал на то, что у него хватает поклонников из представителей «голубых кровей», и что все они люди неглупые и приличного происхождения.
«Полно, князь, вы совсем сошли с ума. Где же ваша фамильная выдержка и достоинство? Неужто страсть сметает все пределы? И словно кровь, заливает вам глаза?»
Он знал, что сметает. Он знал, что представляет собой яд истинной любви, и какова его губительная сила. Придется отписать ему и пообещать встречу. Иначе он, чего доброго, наделает глупостей. Кстати, во втором письме Константин шантажировал Краевского тем, что если граф не сжалится, то он непременно застрелится.
«Анатоль, ты все поймешь только тогда, когда тебе сообщат о моей безвременной кончине. И ты не сможешь уже ничего изменить. Ничего!» – в истерике писал «Катька».
– Сумасброд и идиот! Туда же, к пистолетам! – произнес Краевский вслух и в порыве смял письмо Константина.
Он почти заставил себя сесть и написать князю небольшой ответ. Он уговаривал «Катьку» не сходить с ума, просил подождать до осени, когда супруга разрешится от бремени.
«Я приеду в столицу, как только родится ребенок. У меня есть все надежды, что это будет наконец-то наследник. Пока я совершенно не могу оставить Руфину, а заодно и свои дела в земской управе. Не скучай. Уже скоро.
Твой Анатоль».Руфина появилась в темном проеме.
– Я уложила детей. Анатоль, я соскучилась и хотела бы видеть тебя в своей спальне, – тихо произнесла она. – Прости меня за испорченный обед.
– Дорогая, ты взрослая женщина и мать. А я отец. Мы не можем вести себя столь легкомысленно. Я не сделаю ничего, что может повредить ребенку.
– Но доктор сказал, что на этом сроке вполне еще можно. И потом поза…
– Нет, нет и нет. Если я, мужчина, терплю свое положение и отвлекаю себя от гласа плоти, то тебе, женщине, сделать это много проще.
– Проще… – она опустила глаза.
– Кстати, завтра, на рассвете, я уеду.
– Но ты же пробыл с нами так мало!
– Дела. Рано утром, в понедельник, я должен быть на важном совещании. К слову сказать, я там председатель. И мне совершенно нельзя опаздывать. Мало ли какая будет дорога.
– Но ведь дождей не было.
– Не везде…
Она развернулась и тихо вышла.
Утром он тихонько поцеловал спящих дочерей и покинул поместье.
Всю дорогу его мучила совесть, но он старался заглушить ее глас. В нем будто заново проснулся дерзкий бунтарь, тот юный повеса, которым он помнил себя в молодости. За окошком мелькали поля, цветущие клевером и васильками. Уже вовсю поднялась зеленая пшеница. Знойное лето стояло в самом зените. Утренние птахи заливались звонкими трелями. Краевский старался не думать о том, вернется или нет Людмила.
«Если она не вернется, я сам ее разыщу. Я дам матери много денег. Я постараюсь найти нужные слова. Все будет так, как я хочу…»
В городской особняк он прибыл к полдню воскресного дня. Он браво ходил по комнатам, проверяя новую побелку. Отсчитал за нерадение дворника, приказал получше вымыть полы в том крыле, где они теперь тайно обитали с Людочкой, и заставил хромоногую Елену перестелить постельное белье.
Елена делала все быстро и аккуратно, искоса, с трепетом поглядывая на графа. Когда она прибралась в спальне и на этаже, он подозвал ее к себе в кабинет.
– Елена, я знаю, что вы были дружны с Людмилой Петровой. Это так?
– Да…
– Хорошо. Я вот что вам хотел еще раз напомнить: постарайтесь с ней больше не заговаривать в мое отсутствие. Если я еще раз услышу, что вы нарушили свое обещание, я тут же, без выяснения причин, рассчитаю вас. И даже не посмотрю на то, что ваш отец болен, и вы сами нуждаетесь в деньгах. Вы меня поняли?
– Да, Ваше сиятельство.
– Хорошо поняли?
– Да…
– Идите.
Весь вечер Краевский разбирал свои старые письма, жег ненужные бумаги и пил крепкий коньяк. Он с волнением ждал утра. На рассвете он побрился, тщательно привел себя в порядок, расчесал волнистые волосы, надушил бороду и надел новый английский костюм, светло серого оттенка. Выпил чашечку кофе. Затем он сел в кресло и принялся читать книгу. Уж в десятый раз его глаза рассматривали пожелтевшую страницу старого романа, но буквы прыгали перед глазами, а сердце гулко стучало в груди. Он ждал ее…
Когда часы пробили ровно десять, он подошел к высокому окну кабинета. Садовая дорожка за чистым стеклом выглядела безлюдной. Это было самое пустынное место на всей планете. Небо посерело, стал накрапывать дождь.
«Она не придет… Зачем я ее отпустил? Болван! Что теперь? Это смерть. Теперь я умру. Я умру без нее…»
Он метнулся назад и сел в кресло. Снова налил себе коньяку. И медленно подошел к окну. По стеклу побежали капли.
«Я застрелюсь…»
В слюдяном блеске водных струй, где-то на конце Вселенной, прямо из серой паутины дождевых капель, возник розовый, трепещущий шар. Он дрогнул, качнулся. Что это? Это был ее кружевной зонтик. ОНА! Она спешила по садовой тропинке, прямиком к крыльцу, спасаясь от потоков внезапного ливня. Она почти бежала. Он отпрянул от окна, закусил в волнении кулак и постарался унять дрожь во всем теле. То, что было в груди, рвалось с ужасающим уханьем наружу. Стало больно. Он расстегнул ворот плотной сорочки. Вздохнул. Губы почувствовали привкус горьких слез.
Через несколько мгновений послышался стук в дверь.
– Да, да, войдите! – стараясь говорить спокойнее, отвечал он.
– Я опоздала немного. Простите, Анатолий Александрович. У возницы сломалось колесо. Пришлось пересесть в другую пролетку. А тут дождь. Я, кажется, промокла, – покрасневшие пальцы смахнули капли с кружевной шляпки.
– Мила… – он смотрел на нее во все глаза.
Людмила вошла, робко задержавшись на пороге. Казалось, что за эти несколько дней она словно бы отвыкла от их сумасшедшего и неожиданного романа, и от ее нового положения в этом доме, и от самого графа – этого безумно красивого, умного и элегантного господина. Она будто заново смотрела на тяжелую ткань дорогих портьер, на потолочную лепнину, на блеск изящной мебели. Ноздри с удивительным наслаждением вдыхали аромат его дорогих английских сигар, одеколона, аромат головокружительной и богатой жизни графа Краевского. И снова она почувствовала себя жалкой горничной, маленькой и нищей, словно случайно попавшей на этот праздник жизни, который не принадлежал ей по праву рождения, а который она снова крала, как голодная и бесчестная татя.
– Ну здравствуй, Мила.
– Здравствуйте, Ваше Сиятельство.
– Что с тобой?
– Со мной все в порядке, – она сосредоточено нахмурилась и покраснела.
– Тогда откуда этот официоз?
– Граф, я много думала за эти дни. Нам надо расстаться.
– Молчи! – крикнул он. – Ты для этого сюда приехала, чтобы сообщить мне об этом?
Он сразу же вспомнил детали своего ночного кошмара, приснившегося в ту ночь, в гостинице Дятлова. И кровь бросилась ему в лицо.
– У тебя кто-то есть? – спросил он с замиранием в голосе, прищурив глаза.
– Кто?
– Ну, не знаю, может, матушка твоя хочет тебя выдать замуж? Кто он?
– Помилуйте, о чем вы?
Он подошел ближе и схватил ее за руку.
– Отчего ты захотела расстаться?
– Я не могу так… Я боюсь вашей супруги.
– Ах, это? Глупая! Ничего и никого не бойся. Ты слышишь? Глупая! Как ты меня напугала… – Он сжал ее в крепких объятиях и принялся обсыпать поцелуями ее лицо, шею, руки. Кружевная шляпка упала с Людочкиной головы прямо на пол. Он целовал ее, а она плакала. Он тряс ее за плечи, успокаивая и снова целуя.
– Глупая, я тебя никому не отдам! К черту всех мужей. Я буду твоим мужем! Я! Ты поняла?
– Но ведь вы женаты!
– Ничего. Один бог знает наши судьбы. Пусть я пока побуду двоеженцем. Если сие разрешено мусульманам, то почему нельзя мне?
– Вы грешите…
– Оставь эту церковную заумь. Скажи только одно: ты любишь меня?
– Да…
– Вот и молчи более. Ты – моя. И моя навсегда.
После он долго и страстно целовал ее в губы. Она обмякла под его руками.
– Пойдем в спальню. Здесь, в кабинете, не совсем удобно. Пойдем в наш тайный будуар. Они быстро перешли в ту комнату, где ночевали и даже обедали все последнее время. Людочка увидела свои вещи, аккуратно висевшие в шкафу, шляпные и обувные коробки. На трюмо лежала коробочка с ее милым и единственным украшением. Она не надела его к матери. В комнате было чисто, и хорошо проветрено. На небольшом столике стоял букет с розами.
– Ну вот, мы снова с тобой в нашей милой, тайной обители.
Она медленно подошла к розам и ткнула в них свой изящный носик, потом зажмурила глаза.
– Мила, как же я измучился. Иди ко мне.
Он быстро раздел ее. Она помогала ему. Было снято все белье и корсет. На ней осталась лишь коротенькая сорочка. Прямо в ней он отнес Людочку на кровать и разделся сам. Он подошел к окнам и сдвинул плотные портьеры. В комнате воцарился легкий полумрак, заполненный густым вишневым свечением. А после он принес початую бутылку коньяка и тарелку с печеньем.
– Ты завтракала?
– Да, немного. Мама мне сварила кашу…
– Кашу… – передразнил он. – Сейчас мы оба выпьем. Чуть-чуть. Нам надо расслабиться. Я безумно скучал и зверски тебя хочу…
Пахнуло терпким ароматом старого коньяка, жидкость тяжело булькнула в пузатую хрустальную рюмку. Людочка сделала несколько глотков и сморщилась.
– Закуси печеньем.
Они смеялись, отряхиваясь от крошек, и он снова поил ее коньяком.
– Ты знаешь, тот страшный сон, который приснился нам обоим, про Рим… Только из-за него на меня тогда нашла какая-то глупая нерешительность и меланхолия. Оставим сновидения для путаника-Морфея. А сейчас летний полдень. И дождь, кажется, почти закончился. Скоро выглянет солнце. Оно столь же горячо, сколь горяча моя страсть к тебе, милая моя весталка. В этой жизни мы намного свободнее, и никто, слышишь, никто нам не помешает.
Он потянулся рукой к тумбочке и взял новый альбом. Смеясь, открыл его. Там были еще более откровенные фотографии обнаженных женщин и мужчин, чем видела Людмила до того. И почти на всех были изображены анальные соития. Людочка смущалась, пряча глаза. Мелькнуло несколько фотографий, где двое мужчин занимались однополой любовью. Людочка удивленно вытаращила глаза.
– Это зачем они?
– Греческая любовь… Мы можем это пролистнуть.
– Нет, дайте я посмотрю. А разве так бывает?
– Бывает… – его тут же обожгли воспоминания о «Катьке».
На мгновение он подумал о том, что будь его воля, он поставил бы и Людочку и «Катьку» рядом и входил в них попеременно. Густая похоть заставила его сильнее сжать Людочкину грудь.
– Довольно нам разговоров. Мой член скоро совсем окаменеет. Послушай, Мила, мы все-таки повременим с лишением тебя девственности через естественные женские врата.
Она хотела было что-то возразить, но он снова крепко и страстно поцеловал ее в губы и жарко заговорил:
– Поверь, я ничего не боюсь. Мы скоро снимем тебе квартиру, и ты будешь жить отдельно. Никто, слышишь, никто не посмеет задрать тебе подол и проверить наличие девственности. Дело в ином. Ты молода, и мы не сумеем избежать твоей беременности. Многие пары ведут половую жизнь через анус. Сначала будет чуточку неприятно, но потом ты привыкнешь. И тебе понравится. Я лишь хочу на год-два оттянуть твое материнство. Я решу все финансовые дела. Обналичу векселя. Нам надо сделать так, чтобы у тебя на руках было больше наличных. Ты ни в чем не будешь нуждаться. А пока только попка, твоя милая попка станет моей отрадой.
И он снова перевернул несколько страниц альбома. На одной фотографии мужчина с огромным членом входил сзади в довольно хрупкую девушку. Девушка была совсем юная. Гораздо моложе Людочки. У нее были очень маленькие груди. На фото она морщилась, но принимала в себя огромного гостя.
– О, боже! – прошептала Людмила и закрыла глаза.
Эта фотография отчего-то сильно возбудила ее. Анатоль прикоснулся к ее лону, оно все было в скользкой влаге.
– Мила, ты прелесть. Нам не нужны даже масла. Но я все равно все хорошенько смажу. Я прошу тебя, не сжиматься. Ты должна расслабиться. Плохо, что я снова не ввел в тебя мою пробку. Но я устал долго ждать. Я лучше все обильно смажу и буду медленным и аккуратным. А ты не должна бояться. Слышишь?
– Да…
Он начал пальцами ласкать распухший клитор. Людочка изнывала от острого наслаждения. Он на минуту перестал ее ласкать и взял с тумбочки жестяную баночку с пахучим французским вазелином. Его пальцы обильно смазали ее маленькую дырочку.
– Да, она сузилась за эти дни… Черт, все у нас не так, как должно. Но, право, нет сил, терпеть. Сегодня и только сегодня я войду в тебя. Ты станешь по-настоящему моей.
Она почувствовала, как в нее проник сначала один, потом два пальца, резкая боль пришла в ответ на ожидание. Девушка вскрикнула.
– Тише… Не крути задом. Я уже вошел. Я в самом начале. Потерпи чуточку. Он остановил движение и снова стал ласкать ее клитор. От этих ласк она сама не заметила, как стала двигаться навстречу ему, помогая толстому гостю пробивать себе новый путь.
– Так, любимая, так! Двигайся навстречу. Ты моя необъезженная и молодая кобылица, я твой хозяин и я покоряю тебя. Я покрываю тебя, юная весталка, как покрывают жеребцы своих кобылиц.
Боль стала много тише, ей захотелось, чтобы он входил в нее сильнее. Его пальцы впивались в ее хрупкие плечи, надавливали, чтобы притянуть ближе. Она стонала и сама с силой отдавалась его напору. Он ликовал. Через несколько минут они оба испытали сильнейший оргазм, потрясший обоих. И он вливал и вливал свое семя в ее раскрытый задний бутон. Она в это время кричала и стонала, пальцы до побеления сжимали уголки одеяла. Горячий жгут, свернувший в тугой узел все ее естество, распрямился и острой молнией ударял и ударял в пах и еще какие-то внутренние части горящих огнем чресл. Потом они долго лежали без чувств.
Первой в себя пришла Людочка.
– Мне нужно… в уборную.
– Иди, там приготовлена ванна. Вода, возможно, остыла, но ты все равно ополоснись. Утром там был почти кипяток.
Через некоторое время она вернулась, влажная и душистая, и тихо легла рядом.
– Вот я и лишил тебя девственности. Пока только наполовину… Но я так давно этого хотел. Тебе понравилось?
– Мне было больно…
– Я знаю. А потом?
– Потом, да, – она смущенно отвернулась.
– Я сегодня буду долго тебя мучить… Кормить, купать и снова любить.
– Но?
– Молчи…
Обед им привезли из ресторана. Людмила почти не вставала с постели. Краевский был неуемен. В нем словно бы проснулся жадный зверь. До ночи он сблизился с ней еще три раза. Людочка задыхалась от горячего вожделения, охватившего все ее тело. Теперь она почти не чувствовала боли.
– О, боже. Как славно ты принимаешь его. Я знал, я знал! Это – особенности твоей анатомии. У многих женщин анус не менее восхитителен, чем вагина. Даже когда, спустя время, я буду входить в обе твои дырочки, то мы все равно, очень часто, будем любить друг друга именно так – по-гречески, – шептал он. – А иногда во время одного акта я буду входить попеременно туда и туда… Слышишь? Ты слышишь меня: туда и туда…
– Да, – отвечала она, закатывая глаза от истомы.
Сон пришел далеко за полночь. Спустя пару часов он снова разбудил ее.
– Мила, проснись! Я хочу снова. Но на этот раз встань на колени, прямо на пол.
– Ну-уу-уу… Я хочу спать…
– А я хочу тебя е**ть!
– Не надо!
– Становись! На колени! Приподними попку…
И тут неожиданно он шлепнул ее по упругой ягодице. Она вскрикнула. Посыпался град шлепков.
– Зачем?! – вскрикнула она.
– Я хочу наказать тебя за твое непослушание.
– Но я же слушаюсь.
– Ты должна с большей готовностью соглашаться на то, что я тебе предлагаю. Вернее, я приказываю. Расценивай все мои просьбы, как приказы…
То, что он говорил, казалось ей возмутительным. Но отчего-то эта строгость, власть и контроль, именно это, и возбуждало в ней безудержную волну похоти.
– Смотри, как твоя попка любит это наказание. Ты снова готова… Я обожаю тебя. И очень скоро я познакомлю тебя с несколькими плетками и даже тисками… У меня еще много игрушек в потайном сейфе. И все они будут к твоим услугам. У меня даже есть небольшой, но мягкий ошейник. Однажды я застегну его на твоей шейке и буду дергать всякий раз, чтобы ты всегда знала одно: ТЫ МОЯ!
Он снова вошел в нее. И двигался еще сильнее. Они оба стонали от острого, сводящего с ума наслаждения. А после она упала животом на ковер, почти без чувств. Он опустился рядом. И сон охватил обоих – мгновенно, словно их головы обвели мертвой рукой.
Проснулись они от холода – утренняя свежесть наполнила комнату – за окном брезжил новый рассвет. Краевский взял Людочку на руки и отнес в кровать.
На следующий день, с утра, по настоянию графа, они поехали в салон к мадам Колетт.
– И не спорь со мной. Тебе снова нужен туалет твоей маленькой раковины и ножек. Мы будем ездить туда каждую неделю. И к Нойману каждую неделю.
– Нет! Только не к Нойману! Пожалуйста!
– Мила, я понимаю, что эти визиты доставляют тебе некий дискомфорт, но все же… Они необходимы. Этого требуют правила элементарной гигиены. Ты должна быть вся чистая – снаружи и внутри… А потому, не спорь со мной.
К собственному удивлению, Людочка не чувствовала себя слишком скованно у Колетт. Конечно, ей было неприятно пребывание в этом странном заведении.
«Что же, раз этого хочет он, я не должна противиться…» – рассуждала она.
На этот раз ей снова завили красивые локоны и уложили их в небольшую прическу.
Когда она подошла к длинному зеркалу, то почти не узнала сама себя.
– Маньифик! – проворковала вульгарно накрашенная Колетт, услужливо заглядывая в глаза графу насурьмленными очами. – Ваша дама день ото дня становится все краше…
Краевский молча кивнул.
Потом Людмилу пригласили в кабинет к Хатидже. Она снова была внутренне удивлена собственной реакцией. Ранее ей казалось, что теперь, зная о том, что Хатидже на самом деле кастрированный мужчина, она не сможет более раздеться перед этим странным существом в женском платье. Но придя в комнату к мастеру, Людмила, напротив, почувствовала острое желание не только обнажиться перед евнухом, но ей почему-то захотелось, чтобы он смотрел на нее более пристально. Она чувствовала острую смесь любопытства, вожделения и даже наслаждения от мягких и прохладных касаний распаренных пальцев старого евнуха. Ей хотелось еще шире раздвинуть перед ним ноги. А когда легкая, словно птичье перо, острая сталь лезвий порхала по ее выпуклому лобку и припухшим губам, девственная раковина исторгала поток скользкой влаги, которая переливалась в свете ярких ламп.
«Ах ты, похотливая сучка! – думал про себя граф, сидя в потаенной комнате. – Сегодня я вы* бу тебя так, что ты не сможешь ходить! Но сначала я накажу тебя…»
Оптика Швабе отлично позволяла видеть все детали пикантного дамского туалета. Да, он видел, как Людочка периодически закатывала глаза. Как сбивалось ее дыхание, и темнели зрачки карих глаз. Как она закидывала назад голову с тяжелыми локонами новой высокой прически, делавшей ее похожей на римскую красавицу. Как напрягались ее длинные ноги, силясь раздвинуться шире, как ее розовый анус дрожал и судорожно сжимался от манипуляций Хатидже.
Девушка непроизвольно или от страха быть порезанной напрягала бедра и тянула носки узеньких стоп, но металлическая конструкция желобов хитроумного кресла не давала ей это сделать. Она закусывала нижнюю губу. Ее соски темнели и становились плотными, а светлый лоб покрывался легкой испариной.
Казалось, что Хатидже совсем не интересны все ее душевные и телесные страдания. Он подчеркнуто бесстрастно делал свою работу.
«Интересно, как у него ТАМ все устроено? – думала она. – Остался ли у него пенис? Да или нет? И как он мочится? Осталось ли у него желание овладеть женщиной?»
Когда Колетт вывела Людочку из тайного кабинета, Краевский ждал ее в маленькой прихожей. Людмиле показалось, что он был немного раздражен. Его взгляд стал строже и холоднее. Он сжал ее предплечье так сильно, что она удивленно посмотрела ему в глаза.
– Анатоль, что с вами? Я что-то сделала не так? – глаза Людочки потемнели от испуга.
– Колетт рассказала мне о том, что одна юная девушка плохо себя вела у Хатидже.
– Кто? Это вы обо мне?
– Конечно, о тебе! О ком же еще?
– Она лжет…
– Признайся, тебе было приятно от того, что на тебя пялился этот кастрат?
– Какие глупости! Это вам Колетт сказала? А ей кто? Хатидже? – лицо Людмилы стало почти багровым. – Он лжет! Я больше сюда никогда не пойду.
– Ты будешь сюда ходить столько раз, сколько я прикажу.
– Но, почему я должна терпеть эти гнусности? Мало того, что я их терплю, так они еще смеют меня осуждать.
– Они не смеют. Смею только я. Успокойтесь, мадемуазель. Я просто пошутил…
– Как пошутили?
– А что, я случайно угадал? – он иронично приподнял одну бровь.
– Нет. То есть… Господи, вы измучили меня… – она закрыла лицо руками, готовясь заплакать.
– Успокойся, Мила. Я просто пошутил, – он рассмеялся. – Послезавтра вечером мы поедем с тобой в театр. Я заказал ложу. Ты наденешь туда новое платье из синего бархата и сапфиры.
– Какой театр? – рассеянно проговорила Людмила. Она еще не отошла от неприятного разговора.
– В наш, местный театр. Его в прошлом году прилично отремонтировали. Супруга губернатора нашего постаралась. Конечно, это не Мариинка, и в нем нет красивой бутафории, и освещение не то, но все-таки, я полагаю, что этот поход нас развлечет немного. Завтра там дает спектакль столичная труппа. Будет даже парочка итальянцев…
– А что за спектакль? – чуть оживилась Людмила.
– По-моему, Оффенбах «Птички певчие».
– Это оперетта?
– Да… Похоже, нечто легкомысленное. Но должен же я тебя хоть понемногу выводить в свет. И потом твои сапфиры. Куда нам их надевать, пока мы не отправились в Ниццу?
– Сапфиры? – растерянно пролепетала Людмила.
– Да, а ты забыла про них?
– А платье?! У меня же не готово платье.
– Сегодня вечером оно должно быть готово. Мы заедем за ним в салон.
Людочка заулыбалась, глядя на своего возлюбленного и несравненного графа.
– А сейчас куда? Мы поедем обедать?
– Ты проголодалась?
– Да, жутко.
– Тебе придется чуточку потерпеть. И вообще я тебе сегодня много есть не дам…
– Да? А что же?
– Сейчас мы заедем к Нойману. Там я тебя оставлю на пару часов, а сам уеду по делам, в Управу.
– Не-ее-ет! Я не хочу снова к Нойману…
Он остановился и посмотрел на нее так, что она замолчала.
* * *
Граф взял извозчика, и через десять минут они были в знакомом дворике, заросшем густыми акациями и кленами. Граф вел Людочку за руку к торцу здания. Он позвонил в механический звонок. Скрипнули двери, на пороге появился доктор, облаченный в медицинский халат с засученными рукавами и белый фартук, заляпанный кровью. Людочка внутренне содрогнулась. Ей захотелось броситься наутек, подальше от этого неприятного немца и его ассистентки. Воспоминания о ласках немолодой Дарьи обожгли жгучим чувством стыда и вновь закипающей похоти.
– Артур Карлович, я вам посылал записку. Вы готовы нас принять?
– Да, только вам придется подождать в приемной минут десять. У меня с утра был пациент, но мы уже закончили, он скоро оденется. А моя ассистентка сегодня захворала. И я вынужден обходиться один.
Людочка облегченно вздохнула – хоть этой странной женщины не будет рядом, и то ладно.
– Хорошо. Мы немного подождем. Вернее, подождет Людмила Павловна. А я вынужден покинуть вас. У меня много дел в Управе.
Людочка смотрела на графа со стороны. Он казался ей таким строгим и невозмутимым, будто речь шла не о постыдных для нее процедурах, а о чем-то совершенно обыденном. Будто он оставлял ее не в ненавистной ей клинике, а где-то в кафе или кондитерской. Краевский ни единым жестом, не единым словом не желал выказывать и толики снисхождения к предстоящим ей мучениям. Но почему? Может, она, живя в бедной среде, далекой от света, не понимает, насколько все это важно и обыденно для всех дам? Может, она невоспитанная дуреха, никак не желающая стать аристократкой?
Ее душу раздирали эти ужасные вопросы, на которые она не находила ответа. Граф тем временем довольно холодно поцеловал ей руку и покинул клинику, пообещав вернуться через два часа.
Чего только стоила ему эта показная холодность – знал один он.
«Да, братец, Ричардсон и Руссо – явно не твои кумиры. Маркиз де Сад – вот, в чей компании ты с удовольствием и тонким смакованием провел бы пару-тройку вечеров. Только в качестве собеседника. Что уже – немало. Уж он-то бы наверняка смог, между прочими темами, расспросить писателя об особенностях своей собственной натуры. Возможно, нашлись бы аналогии…»
Он вновь покидал дом педантичного эскулапа Ноймана, отлично представляя себе все детали того действа, через которое уже дважды проходила его маленькая и покорная «птичка». От ее покорности и неискушенности он зверел. Как только он с важным видом закрывал за собой двери, его охватывало сладостное томление, граничащее с болью в области паха. Конечно, он не ехал ни по какой служебной надобности. Какая, к черту, надобность! Да разве мог он думать о чем-то ином, чем об ее обнаженной и преклоненной в унизительной позе фигурке? Разве мог он не думать о том, как Нойман разглядывает ее такой беззащитный и голый лобок? Разве он мог не думать о том, как в ее пугливый анус входят чистые, толстые наконечники, и льется вода, раздувая и округляя нежный живот?
В эти часы он ехал в отдельный кабинет ресторана и плотно закрывал двери. Он снова пил, щуря глаза. Под тонкими веками двигались его зрачки. Ноздри вдыхали аромат коньяка и сигары. Дрожали руки. Он снова и снова расстегивал брюки, освобождая набрякшие и тяжелые чресла. Он шел дальше в своем воображении. Он не только вливал в Людочку клистиры с водой. Одновременно он надевал ей распорки, из-за которых она не могла свести ног. На шею он цеплял ей ошейник с поводком. А далее… далее он тянул поводок к себе и заставлял ее открыть рот… Он с наслаждением думал о том, что все его видения – не сон. Что именно сейчас он поедет назад и заберет ее теплую, измученную и покорную. Он страдал вместе с ней. И желал длить это страдание как можно дольше.
Людочка сидела тихо, словно мышка, когда распахнулась боковая дверь, и из нее вышел довольно грузный джентльмен, маленького роста, одетый в клетчатый сюртук и светлую манишку. Он кивнул и небрежно посмотрел на нее сквозь пенсне. Пока доктор провожал его, Людмила думала о том, что не только дамы являются пациентками Ноймана.
– У вас сегодня новая прическа, – услышала она позади себя тихий голос немца. – Вам очень идет, в этой укладке есть что-то античное.
– Да, наверное… – пробормотала Людмила.
– Пойдемте…
По кафельному полу простучали каблучки Людочкиных туфелек. Ее взгляд задержался на этих желтоватых ромбах, так прочно засевших в ее сознание: от середины большой приемной до кушетки шла цепочка капелек крови. Людмила остановилась и беспомощно посмотрела на Артура Карловича. Он перехватил ее взгляд.
– Не бойтесь. Я сейчас вытру. Дарьи нет, я нынче все один делаю. Часом ранее я отворял кровь тому господину, что ушел перед вами, – спокойно пояснил он и засунул руки в карманы. Обожженная щека дернулась, открыв стянутую улыбку. – Вы небось вообразили, что я меж клистирами иногда душегубством занимаюсь?
– Нет…
– Нет? Я же вам, наверное, кажусь эдаким тираном?
Людочка молчала.
– Что же, медицина редко обходится без крови. Я ведь иногда и оперирую. За той дверью у меня операционная. Бывало, что и роды принимал. Врач должен уметь делать все. Вот, как и вам, например, обыкновенные клистиры.
– Обыкновенные? Доктор, скажите, а другие дамы часто приходят к вам за этим?
– В вашем городе нечасто. Человек десять, кроме вас. А что?
– Нет, ничего, – она снова покраснела. – Я просто думала, что это делают многие светские барышни…
– Ну, в этом городе и нет того «света», что есть в столице. В столице у меня было много клиентов, прибегающих к клистирам. Я и не один такой доктор был в Санкт-Петербурге, специализирующийся в этом направлении. Клистиры улучшают цвет лица, освежают дыхание. Избавляют тело от нечистот. А что вас так смущает?
– Ничего меня не смущает…
– Тогда приступим? Идите за ширму и раздевайтесь. Вы сможете сами снять корсет?
– Я сегодня без корсета. Анатолий Александрович сказал его не надевать. Мы утром ездили к парикмахеру.
– Вы так послушны?
– Не поняла?
– Я говорю, что вы всегда выполняете все прихоти вашего покровителя?
– Я… я… Я просто его люблю.
– Хорошо, раздевайтесь живее, нам надо управиться до прихода вашего господина.
Людмиле стало чуточку обидно. Зачем он назвал Анатоля моим господином? Я же не раба его. Или раба?
Как и в предыдущий раз, Людмила, дрожа от страха и стыда, вышла нагая из-за ширмы. На этот раз она не прикрывала ни грудь, ни голый лобок. Только ее веки были опущены. Она ужасно страдала от предвкушения всей унизительной и бесконечно долгой, полной жуткого срама, процедуры.
«Господи, как она хороша! И как она похожа на Елену. У Елены тогда, в последний раз, была именно такая прическа. О, боги! За что мне все это? Сейчас она встанет и я увижу: дефлорировал ли ее великосветский лев, Краевский?» – думал Нойман.
– Идите к кушетке и встаньте на колени, зад кверху. Как в прошлый раз. Я принесу штатив с клистиром.
«Может, пожалеть ее и взять наконечник потоньше? – рассуждал Нойман. Но его рука сама собой потянулась к довольно солидному экземпляру. Он вообще никогда не использовал эту новую, металлическую трубку с закругленным краем. Он получил ее совсем недавно, в посылке из Германии. – Что я делаю? – у него выступил холодный пот. – Не притворствуй, старый лекарь. Ты хочешь ее помучить, так и бери именно этот, толстенький экземпляр. Это шестерка или даже семерка… Ну и что? Поверь, то, что заходит в ее упругую попку, гораздо толще всех твоих наконечников…»
Когда он приблизился к ней, руки его снова предательски задрожали.
– Вы сильно сжались. Ноги пошире. Еще шире. Иначе я не введу наконечник. Как только он войдет, начинайте глубоко дышать животом, тогда раствор вольется быстрее.
«Да, она раздвинула ноги, как я хотел. Теперь я вижу все. Краевский до сих пор не испортил ее. Завидное самообладание. Спать с женщиной и не войти в нее как положено! Он либо импотент, либо жуткий развратник. Почему он ее не трогает? Боится беременности? Какие причины еще? Что за странный изыск?» – рассуждал Нойман.
Людочка почувствовала на себе холодные пальцы доктора. Он снова намазал ее густым вазелином и ввел наконечник. Тот проскользнул без особого сопротивления. Ей показалось, что доктор иначе задышал. А после пришлось дышать уже ей – вода вливалась в нее столь стремительно, что сразу заболел живот. Она тоненько запричитала…
В этот раз весь процесс не показался ей таким мучительным, как тогда, в первое посещение. Да и Нойман отчего-то не заставлял ее принимать разные позы. Все остальные клистиры он делал ей на боку. Когда все закончилось, он провел ее в теплую ванну и оставил там.
– Примите ванну, только не забудьте о своей прическе, – бесстрастно проговорил он и скрылся за дверью.
«Как хорошо окунуться после всего в теплую воду, – думала она, с наслаждением вытянув ноги. – Что ж, в этот раз все было не так уж и страшно. Неужели я стала привыкать?»
Ее ужасно клонило в сон. Она закрыла глаза и почти задремала.
Вдруг дверь ванной комнаты распахнулась. На пороге стоял Нойман. Его щека неприятно дергалась.
– Мне надо с вами поговорить, Людмила Павловна.
– О чем? – она села, послышался плеск воды, на полу появились две лужицы.
Его взгляд скользнул по ее длинной шее, чуть намокшим завиткам волос на затылке, по млечным плечам и упругим шарикам грудей с яркими ореолами расплывчатых от тепла сосков.
– О вас.
– Может, мы поговорим, когда я оденусь?
– Нет, будет поздно. Скоро должен вернуться ваш граф.
– Ну и поговорите при нем, – отчего-то надменно произнесла она.
– Господи, вы всегда так ему покорны? Для меня является загадкой именно такая женская преданность, как ваша. Конечно, мы живем в России, а не в просвещенной Европе, где женщины борются за равноправие с мужчинами. Но и все же! Ведь не по Домострою вас-то воспитывали. Откуда такая рабская послушность? Почему вы безоговорочно выполняете все его прихоти? Вы ведь даже не жена ему, – последние слова он произнес тише.
– Да, я не жена… И вряд ли ей когда-нибудь стану, – проговорила она.
На ее глазах навернулись слезы.
– Ради бога, не плачьте! Мы не сможем утаить ваших слез от Краевского.
– А, значит, и вы его боитесь?
– Нет, я ничего и никого не боюсь. Я лишь делаю свою работу и получаю за нее деньги.
– Так что же вам тогда угодно?
– Мне больно на вас смотреть.
– А делать мне больно вам нравится?
– Что вы такое говорите? Я же не нарочно. Это особенности процедуры, – пробормотал Нойман и покраснел. – В сущности, эти клистиры пойдут вам только на пользу. Поверьте, в них нет ничего худого, кроме небольшого стыда и физиологического неудобства, которое испытывает пациент. Но я – доктор, существо бесполое, меня не стоит стесняться. Тем более вам. У вас такие совершенные формы. Вы рождены красавицей. Боже, кого вам стыдиться? Если бы вы только видели те многие тела, с какими мне приходилось работать, физические уродства, у вас бы развеялся всякий стыд, и вы бы входили в мою приемную царственной походкой, со взором полным достоинства. Я и сам горел в пожаре, истекал кровью от ранения. От этого мое лицо и нога…
– Доктор, давайте я выйду из ванной, оденусь, и мы поговорим.
– Нет, это слишком долго…
Он подошел к ней и присел возле ванны. Бледная и жилистая рука его потянулась к ее руке. Он взял ее мокрую ладошку и принялся целовать долгим поцелуем.
– Людмила Павловна, я не могу более скрывать свои чувства. Я люблю вас. Очень…
Пахнуло карболкой, табаком и запахом чужого мужчины. Она одернула руку и прикрыла голую грудь.
– Артур Карлович, что вы себе позволяете? Дайте, я оденусь.
– Простите меня за мою дерзость. Но на любовь не стоит обижаться. Я ничего не требую взамен. Я лишь хочу, чтобы вы об этом знали. Знали о моих к вам чувствах. Они очень глубоки, поверьте. Сейчас вы уедете. И я совсем не знаю, сколько пройдет времени, но вы расстанетесь со своим графом.
– Позвольте…
– Молчите. Я просто прошу вас выслушать меня. Поверьте, он наиграется с вами, как с куклой и оставит вас. Я знаю таких людей. Они быстро загораются и быстро гаснут.
– А вам какое до этого дело? – с вызовом произнесла Людмила.
– Я просто хотел вам сказать, что если с вами случится нечто неприятное, или вы разочаруетесь в своем покровителе, то двери моего дома для вас всегда будут открыты, так же, как всегда будет открыто преданное вам сердце. Я – немолод и некрасив из-за шрама, но я – человек порядочный. И готов предоставить вам все, что у меня есть: честное имя и верную руку. Людочка, я человек небедный, вы не будете ни в чем знать нужды. Я хочу стать вашим мужем и отцом ваших детей.
– Прекратите! – она не выдержала и встала во весь рост.
Вода полилась на голову бедному лекарю. Он только протер очки, не обращая внимания на мокрые волосы и халат.
– Мне холодно. Дайте чем-нибудь вытереться.
– Возьмите, – он протянул ей большое мягкое полотенце.
Накинул его на Людочкины плечи, но не выдержал, притянул ее талию к себе и принялся целовать ее груди и живот.
– Отпустите! Вы сошли с ума!
– Я сошел с ума, да… Я безумно желаю ласкать вас всюду…
Она оттолкнула его и, ловко переступив длинными ногами, вылезла из объемной ванны. Но Нойман будто обезумел: он снова обнял ее так крепко, что она ойкнула, и принялся осыпать поцелуями.
– Позвольте, Артур Карлович, доктор, не смейте меня трогать. Оставьте… – задыхаясь, и упираясь руками в его неширокую грудь, – выкрикивала она.
Он отступил.
– Простите меня, я не мог сдержаться…
Он отошел в сторону и попытался взять себя в руки. Через несколько минут она была одета и выскочила в приемную ожидать Краевского. Спустя некоторое время дверь отворилась, в приемную вышел и Артур Карлович. Он успел причесаться и переодеть другой халат.
– Людмила Павловна, пока не приехал Краевский, позвольте еще пару слов?
Она молчала, надменно глядя в окно.
– Я прошу у вас прощения за мою дерзкую выходку. Простите меня, я мужчина, но со мной подобное случилось впервые. Как доктор, я никогда не позволяю себе ничего лишнего по отношению к пациенту, кроме того, что требует мой врачебный долг. Но с вами… Здесь особый случай. Я прошу лишь прощения за свои действия, но не за слова. Я хочу, чтобы вы знали: я всегда буду ждать вас. Знайте, всегда. Сколько бы для этого не потребовалось времени. И… Все мои предложения остаются в силе, – он кивнул и ушел в свой кабинет, плотно притворив за собой крашенную белой краской, тяжелую дверь.
Людочка сидела на кожаном диване и нервно теребила оборки на платье, когда с улицы раздался звонок. Она встрепенулась. Нойман с невозмутимым видом вышел в приемную и проследовал в коридор. Через несколько минут прозвучал знакомый до боли голос Краевского. Сквозь затуманенный взгляд она увидела и его самого. Граф вошел в приемную и внимательно посмотрел на нее. Она старалась отвлечься от недавнего разговора с Нойманом, но это у нее плохо получалось: глаза краснели от слез, выражение лица казалось растерянным и беспомощным.
– Ну-уу-уу, опять глаза на мокром месте. Измучили мою нежную девочку! Сатрапы – эскулапы. Все, все… – шептал он на ухо, обнимая ее и прижимая к себе. – Сейчас поедем кушать. Потом за платьем, а потом домой. Домой… Я скучал…
Он расплатился с доктором, и они вышли на улицу. Солнце палило во всю силу, и Людочка почувствовала себя более спокойно: рядом был ее любимый. А не этот сумасшедший лекарь со своим странным признанием. После полумрака его холодной каменной приемной, где даже в летнюю жару кафель и крашеные стены оставались ледяными, улица казалась ей милым и приветливым спасением. Она шла молча, вспоминая детали недавнего разговора с Нойманом. Она все еще чувствовала на себе его стальные объятия и привкус карболки на губах. А пальцы помнили неприятную плотность красного шрама на лице – она коснулась его нечаянно, когда сопротивлялась бурному натиску.
«Он говорил такие дерзости. Почему он так бесцеремонно указал мне на мое положение? А может, он прав? И оно, действительно, ужасно. Вдруг граф бросит меня? Куда я тогда пойду? К Нойману? – она даже фыркнула, задав себе последний вопрос. – Он мне противен. Уйти к этому лекарю, чтобы он замучил клистирами? Господи, что мне делать?»
Ее растерянность и молчание, Краевский принял за должное, за очередную обиду.
«Мила бунтует и капризничает от столь бесцеремонного с ней обращения. Ничего, сейчас я ее накормлю чем-нибудь вкусным, оплачу платье, куплю цветы, и она успокоится. Моя птичка снова начнет щебетать…»
* * *
Как только Нойман закрыл за ними дверь, с его губ сорвался протяжный, полный глухого отчаяния стон. С ним выходил из легких воздух, который распирал его грудь уже полчаса. Он прислонился спиной к холодной стене, откинул голову и зажмурил глаза. И снова выплюнул из себя полустон-полукрик. Он не мог унять сильную дрожь в теле. Крепко сжались кулаки, Нойман в злобном бессилии скатился по стене вниз и сел прямо на пол.
– Я так больше не могу! Впору застрелиться… – раздался в пустоте его голос.
В этот день у него не было больше записей.
«Если кто-то придет просто так, я не открою. Пусть идут к Циммерману, за два квартала. Сегодня меня нет ни для кого. Имеет право и Артур Карлович на отдых. Он тоже человек, а не марионетка, бесстрастно взирающая на обнаженную плоть красавиц…»
Он медленно встал и прихрамывая побрел в свой кабинет. Дошел до кушетки, на которой еще недавно лежала Людочка, и упал на нее, вдыхая частички ее аромата. На белой простыне остался один русый и длинный волос. Он бережно взял его в руки и положил на салфетку. Потом, будто вспомнив что-то важное, бросился в уборную. Там, возле деревянной скамьи, прямо на полу, валялось мокрое полотенце, которым вытиралась ОНА. Артур Карлович прислонил его к лицу и принялся судорожно вдыхать мокрую влагу. От полотенца не пахло Людочкой. Оно пахло стиральным мылом…
Он снова вернулся на кушетку. Лег на нее. Зажмурил глаза. Пальцы мысленно ощутили теплоту ее тугого и нежного тела, шелковую кожу гладких бедер и торчащих грудей.
«Femĭna nihil pestilentius![53] Господи, как я хочу эту женщину! Только бы этот негодяй не вошел в нее… Пусть насилует ее сзади, как пугливый гимназист юную прачку. Я буду первым ее мужчиной. Настоящим мужчиной. Мужем. Я войду в нее, как и должно. От меня она родит первенца! От меня… О боги, почему я не потрогал пальцами ее лобок? Какой он на ощупь? Там нет ни одного волоска, а кожа гладкая… Наверное, она мягкая, словно лепесток белой розы… Я бы никогда не заставил ее все сбривать. Зачем все это? Но мне нравится она в любом виде… Ну, почему я не потрогал ее там?»
Его пальцы снова сжались до побеления. Перед глазами снова возникла ее фигура, склоненная для клизмы. Розовая звездочка чистого ануса, алебастровые ягодицы… Раздвинутые для него…
«Я войду в нее также, сзади, в первый раз. Только в ее девственную вагину. Только бы этот негодяй ее не испортил!» – снова фантазировал Нойман.
Потом он резко сел, откинулась пола длинного халата, рука потянулась к пуговицам на штанах. Он расстегнул их и быстро снял брюки. Снял их полностью и бросил на стул. Взгляд задержался на собственных худых и бледных ногах, покрытых длинным волосом. Почти у самого паха белел еще один, неровный шрам – еще одно напоминание об генерале и Алешеньке.
«А если бы он попал на пару дюймов выше? Лучше бы он прострелил мне голову… – Нойман горько усмехнулся. – Я – не врач, я похотливое и порочное животное… – думал он. – Как некрасивы мужские ноги…»
Нойман плюхнулся на кушетку, ладонь потянулась к свинцовому от напряжения члену. Сжала до боли тестикулы. Он нарочно старался причинить себе боль, чтобы прогнать жестокое желание обладать тою, которая принадлежала не ему.
Он много раз мысленно входил в Людочку, раздвигая, надрывая узенькое и влажное колечко ее нетронутой вагины. Снова и снова проталкивал в нежное и горячее нутро своего распухшего от желания друга. В его мечтах она сначала брыкалась и хныкала. Но он был неумолим. Одной рукой он держал Людмилу за талию, другой буквально насаживал на себя. Текла кровь, пухлые капли покрывали собой все простыни и кафельную плитку на полу. Слишком много крови… О, я разворочу ей все… А потом… потом… Я как господин, как законный муж, войду и в ее анус. Его колечко плотно обхватит мой член. Она снова будет стонать. Ей это будет приятно… Но кончать я буду только в вагину. Ибо она должна быть всегда беременной. Всегда… И много рожать… Аа-аа-аа!
На желтоватые ромбики метлахского кафеля брызнули густые белые капли. Он не вытирал их. В этот день он много курил, пил чай и снова и снова онанировал, сидя на кушетке…
* * *
– Поедем обедать! Я сделал заказ в том, нашем ресторане, куда я водил тебя первое время. Там нам никто не будет мешать.
– Но там тот официант, – возразила она.
– И замечательно. Давай, снова его чем-нибудь поразим.
– Ну, нет…
Когда они вышли из экипажа, Людмила внезапно поежилась. Ею овладело странное, до боли знакомое чувство. Снова начало казаться, что на них кто-то смотрит. Она огляделась по сторонам, но не увидела ничего подозрительного. Справа от них остановился такой же экипаж, и какой-то седой джентльмен подавал руку совсем молоденькой, безвкусно одетой молодой особе. Та стреляла ярко подведенными глазами и, казалось, была немыслимо рада тому, что ее ведут в ресторан. На мгновение перед Людмилой нарисовалась четкая картина того действа, что непременно произойдет с этой парой в отдельном кабинете. И ей стало омерзительно. Она внутренне посочувствовала этой нелепо одетой девице – той, в отличие от нее, Людмилы, приходилось терпеть ласки неприятного старикашки.
Впереди атласными жилетами и пышными рукавами светлых рубах маячили два, гладко причесанных официанта – должно быть, они вышли на улицу покурить. Все это было не то… А что же? Внезапно похолодели руки, и взмок затылок – капелька пота заскользила по тонкой шее. Граф, напротив, чувствовал себя уверенно. Он вел ее под руку, не смотря по сторонам. Когда они почти взошли на крыльцо ресторана, Людмила увидела темный силуэт мужчины среди густых кустов сирени. Он промелькнул, словно призрак, и снова растворился в летнем тягучем зное. Она вздрогнула, гулко забилось сердце… Нога ступила на каменную лестницу, Людочка пыталась рассмотреть темный силуэт и запнулась.
– Осторожно, моя дорогая!
Он вел ее по длинному коридору, мимо отдельный кабинетов. По коридору летали официанты и половые мальчишки. «Два жульена в десятый номер! Одно шампанское в пятый» – кричал кто-то. Один из половых походил на ее младшего брата – она так и не повидалась с мальчиками, пока гостила у мамы. Тревожным взглядом она бегло и исподволь рассматривала лица официантов – среди них не было того, перед кем ее заставил обнажиться Краевский.
«Слава богу! – думала она. – Но кто, тот господин, в черном? Почему он преследует нас? Он хочет нас убить? Или меня одну? А может, это сам диавол пришел за моей душой?»
– Мила, отчего у тебя такие холодные руки? На улице жара, а пальчики твои холодны, словно лед. И ты вся дрожишь? – с участием спросил Краевский.
– Анатоль, мне нехорошо.
– Пойдем скорее. Тебе надо поесть горячего.
Они прошли в кабинет. Она устало опустилась на стул.
– Ну, что с тобой?
– Не знаю… Мне отчего-то очень тревожно.
– Ты стесняешься того официанта? Так если он и придет нас обслуживать, я могу его прогнать.
– Нет, то есть да… Я не хотела бы с ним встречаться. Но главное не в этом: я снова видела ЕГО.
– Кого?
– Того господина, в черном.
– Час от часу не легче. Мила, ну что тебе только в голову лезет? Что за глупые страхи? Отчего же я никого не вижу?
– А вы вообще никого не замечаете… Он снова стоял среди деревьев. Он хочет меня убить… – она побледнела и закатила глаза.
– Официант, принесите Гофманских капель[54]! – крикнул он в коридор.
Через несколько минут Людмила почувствовала, как ладони графа прикасаются к ее щекам, трут виски чем-то пахучим. К носу поднесли пузырек с солью, пропитанной эфиром. Зубы ударились о стакан с каплями. Через некоторое время она пришла в себя. Он сидел подле и целовал ее руки. Серые глаза с тревогой смотрели в лицо.
– Мила, прости меня, негодяя. Я измучил тебя… – в его глазах стояла мольба и раскаяние. – Нойман вел себя грубо с тобой? Скажи?
– Нет, – поспешно возразила она и слабо улыбнулась.
– Конечно, ты просто устала: салон Колетт, и Нойман – все в один день. Тебе надо отдохнуть. И на улице жара. И твои страхи… Это – просто нервы. Тебе надо срочно поехать на воды. Подожди немного, очень скоро я стану более свободным. Ты знаешь, почему… Пока мы не можем ехать, до октября. Потерпи, милая. Я увезу тебя к морю. Оно вернет тебе силы и развеет страхи. Мы часто будем жить за границей. Я все продумал. Я буду их лишь навещать. Понимаешь, я очень люблю своих девочек. И сейчас я не знаю, кто родиться. Иногда я всей душою желаю, чтобы это был мальчик, наследник. Но последние дни, признаюсь, мне отчего-то даже это стало безразлично. Все, понимаешь, все безразлично, кроме тебя и звериной жажды свободы. Vita sine libertāte nihil![55] Я люблю тебя, Мила…
«Такие как он, быстро загораются и быстро гаснут, – звучали в голове колючие слова Ноймана. – Он наиграется с вами, как с куклой, и бросит».
– Нет! – она мотнула головой.
– Что нет, любимая?
– Да, я люблю вас, Анатоль. Только… не бросайте меня, – ее лицо скривилось от плача.
– Девочка, моя светлая и нежная девочка! Как тебе могло прийти это в голову? Да я скорее брошу весь этот мир к твоим ногам и свою жизнь вместе с ним, чем оставлю тебя. Я люблю тебя, Мила… Понимаешь ли ты?
– Да…
В этот раз они отобедали достаточно быстро. Граф заставил Людочку поесть горячего супа с курицей и небольшую отбивную. Ее все время клонило в сон. Она сама не помнила, как они покинули ресторан и поехали в дом Краевского. Все было словно в тумане. Он помог ей раздеться. Она легла на кровать.
– А как же новое платье?
– Мы заберем его завтра, с утра. Спи, моя радость.
* * *
Она проснулась около полуночи – сильно захотелось в туалет. В комнате горела свеча. Граф не спал. Он сидел в кресле. Рядом с ним, на столике, стояла пузатая бутылка дорогого коньяка и дымилась толстая сигара.
– Как ты себя чувствуешь? – спросил он.
– Я? Вроде, неплохо…
– Сходи в уборную и прими ванну. Я велел нагреть воды.
Через четверть часа Людмила вышла к Краевскому душистая, чуть влажная и отдохнувшая.
– Ну вот, на дворе ночь, а я уже выспалась, – улыбнулась она. – Вечно мы с вами полуночничаем.
– А это хорошо, это очень хорошо, – ответил он и взял ее крепко за руку. – Иди, раздевайся и ложись на живот.
– Ну…
– Не нукай, живо, я тебе сказал. Я приказываю.
– Анатоль, вы пьяны, кажется? – засмеялась она.
– И что? Разве это что-то меняет? Да, я выпил, и потому, не будет вам, мадемуазель, пощады.
– Что это?
Она увидела в его руках несколько тонких аршинных веревок.
– А это… Я тебя сейчас привяжу.
– Зачем?
– Мне так хочется… Я люблю беспомощных женщин, – насмешливо отвечал он. – Хотя, и мужчин я тоже люблю связывать, – он хохотнул.
– Анатолий Александрович, вы и вправду сильно напились? Мне страшно! Вы же не пьяница?
– Я?! Я жуткий пьяница и развратник. Сейчас я предстану перед тобой во всей красоте своей порочной натуры. Живо иди и ложись на живот! – его голос прозвучал почти грубо.
– Давайте вы поспите, а завтра утром…
– Молчать! – перебил он. – Утром будут иные утехи. Ты и ночью не уснешь… Ты разве не выспалась? – он лукаво приподнял одну бровь. Я что, зря таскал тебя по салонам и лекарям? Ты должна подчиняться каждому моему слову.
Он сделал страшные глаза и жестом велел ей скинуть халат и лечь на кровать лицом в подушки. Потом он взял веревки и привязал сначала ее запястья к полированным кругляшам, венчающим изголовье и низ широкой деревянной кровати. После этого он таким же образом привязал и ее длинные и стройные ноги. Людочка была распластана, подобно морской звезде. Растяжка оказалась столь широкой, что распахнулись наружу все внутренности ее нетронутого девичества, упругие ягодицы приоткрылись розоватым и влажным зевом.
Людочка ойкнула и запричитала:
– Анатолий Александрович, вы что делаете? Зачем?!!!
Она попыталась дернуться всем телом, но напрасно – натяжение веревок было очень крепким.
– Не дергай руками, иначе поранишь себе всю кожу.
– Но… это ужасно!
– Тихо… тише. Мы лишь немного поиграем с тобой, – прошептал он ей в самое ухо. – Мила, мне очень нравится лицезреть твою беспомощность. Распустим твои волосы.
С этими словами он вытянул из ее головы несколько шпилек – русые локоны, завитые горячими щипцами в салоне Колетт, рассыпались по белоснежным плечам. Краевский взял гребень и тщательно их расчесал. Он прикасался к Людочкиным волосам с нескрываемым восторгом, вдыхая их душистый аромат.
– Как ты прекрасна! Твоя узкая спинка покрылась мурашками, – он повел по позвоночнику пальцами до самых ягодиц. Людмила вздрогнула и застонала от наслаждения и страха. – Тебе страшно?
– Да…
– Замечательно. В таком положении ты вся в моей власти. Мила, ты хорошая девочка, но я все равно должен тебя наказать… Немного… Сегодня лишь самую малость.
Краевский достал откуда-то шелковый платок и завязал им глаза девушки. Она громко ойкнула и снова напряглась.
– Если ты будешь громко кричать, мне придется надеть на тебя кляп.
– Какой кляп? Что это?! – со страхом спросила она.
– Сейчас я его принесу. Я схожу в кабинет и достану из сейфа знакомую тебе, китайскую коробочку. Еще я захвачу мягкую плетку. И кое-что еще…
– Плетку? Зачем? Я же ничего не сделала… – захныкала она. – Анатолий Александрович, снимите с меня повязку, мне ничего не видно.
– Так и должно быть. Жди меня…
Она услышала его удаляющиеся шаги, поворот ключа в замочной скважине, легкий скрип отворяемой двери. В висках гулкими толчками стучала кровь. Она почувствовала, как по спине и ягодицам заструился пот.
«Что он делает? – лихорадочно думала она. – Неужели он пьяный? А вдруг он не вернется? Вдруг он уснет где-нибудь? А я так и буду лежать с растянутыми в стороны ногами. А если его не будет слишком долго? И кто-нибудь найдет меня в этой комнате, в таком виде… Например, его супруга? А если зайдет тот, черный господин? И убьет меня ножом в спину? А если кто-то влезет в окно?»
От страха ей показалось, что стукнуло оконное стекло. Пот заструился еще сильнее. Несколько капель скатилось от затылка к подбородку и на грудь. Невыносимо зачесались соски. Она завозила лицом о подушку в надежде сдернуть тугую повязку, но все было тщетно. Она ничего не видела. От сильного напряжения ей захотелось помочиться. Страх сковывал все мышцы и входил раскаленным колом в самую сердцевину ее нутра. От пота сильно защипало в промежности. Она снова дернулась и вскрикнула от боли в запястьях и лодыжках. Заболела спина. Время тянулось невыносимо долго, а Краевский так и не возвращался. Она не понимала, сколько прошло минут – казалось, прошла целая вечность.
Анатоль стоял в коридоре. Он медлил нарочно. Он снова курил, прислонившись затылком к холодной стене, в темном коридоре. Дом давно спал, лишь в холле скрипели половицы старого паркета, словно ночные призраки вышли прогуляться по гулким и длинным коридорам графского дома. Он поднес ухо к двери и услышал тоненький плач Милы. Сердце сжалось от острой жалости, а член предательски напрягся.
«A posteriōri[56], долгое ожидание вызывает в женщине сначала негодование, а потом делает ее послушной, – усмехнулся он. – Когда у нас будет свой домик в Ницце или в Риме, я буду оставлять ее связанной на долгие часы… Я буду уходить из дома на прогулку, а она будет меня ждать, именно в таком виде. Долго. Вернувшись, я буду целовать ее мокрое от слез лицо, закрывать поцелуями рот и заставлять себя ласкать. О, господи, я схожу с ума от этой девочки…»
Он затушил сигару и вошел в комнату.
– Ты заждалась меня, Мила?
– Господи, Анатоль, где вы были? Развяжите меня! – всхлипывая, произнесла она.
– Привыкай, я не всегда буду с тобой нежным. Понимаешь, иногда небольшая боль служит острой приправой к столу, где главным блюдом называется «наслаждение». Я приучу тебя, кушать это блюдо с огромной радостью и ждать его вновь и вновь.
Он подошел ближе и провел рукой по ее промежности.
– Смотри, какая ты мокрая, Мила… Ты уже возбуждена.
– Я хочу в туалет.
– Ты там уже была.
– Я много выпила воды…
– Придется немного потерпеть. Поверь, ты так еще сильнее кончишь…
– Нет…
– Да… Сейчас я тебя немножко отхлещу плеткой. Тебе не будет очень больно, ибо плетка мягкая. Я хочу, чтобы твоя попочка расслабилась. Ты помнишь ту коробочку с пробками?
– Не-ее-ет!
– Да, Мила… Это ведь только самое начало. Ты помнишь, в этой коробке лежал еще один предмет? Вспоминай. Я напомню: там лежал искусственный дилдо. Китаец сделал его по моим размерам… Я разогрею тебя, как следует, и введу его.
Людмила почувствовала, как Анатоль наклонился и поцеловал ее в распахнутые ягодицы. Она попыталась их сжать, но ничего не вышло. Только еще сильнее потянуло в уборную.
«Господи, только бы не описаться прямо на кровать», – думала она, сгорая от стыда.
Она почувствовала, как он отошел в сторону и размахнулся. Концы плетки обожгли неожиданным ударом. Она вскрикнула.
– Бог мой, как нежна твоя кожа! Сразу же вспухают красные полосы… – прошептал он и снова ударил.
Людочка снова закричала. Ей не было больно, плетка не била, а скорее обжигала. Это было острое и ни с чем несравнимое чувство. Она сама не могла объяснить своего состояния. Ей показалось, что клитор ее распух и увеличился в размерах. Граф бил ее снова и снова. С каждым ударом ей хотелось, чтобы он вошел в нее всюду.
Краевский на минуту остановился и присел рядом. Его пальцы прошлись по возбужденной плоти покрасневших срамных губ.
– Боже, как ты течешь… А говоришь, что тебя не надо бить. Твоя попа обожает мою плетку. А сейчас ей станет еще приятнее.
Он отошел в сторону. Послышалось какое-то шуршание, и стук коробочки о деревянную поверхность стола. Через мгновение Людмила ощутила, как ее ягодиц коснулись пальцы Анатоля. Он старательно смазал флердоранжевым вазелином сжатый анус. И тут же ввел туда дилдо. Удивительно, но этот предмет вошел в нее довольно легко…
– Мила, я ввел его до конца, глубоко, по самые деревянные шары… Похоже, в тебя скоро войдут и более приличные экземпляры.
«Господи, теперь меня тянет в туалет и тут…» – лихорадочно думала она и тяжело дышала.
Вместе с этим ею овладевало немыслимое желание. Ужасно хотелось движения и разрядки.
– Я все вижу… Мила, это изысканная мука… Ты прелесть…
Плетка снова ударила ее. Теперь Краевский бил прицельно по заду и промежности. Людмиле казалось, что ее разорвет от немыслимого желания. Ее бедра двигался навстречу плетке. И она не переставала стонать.
– Любимая, ты так громко кричишь… Хоть стены у нас толстые, но во двор открыто окно. Не ровен час, мы разбудим всю прислугу. Мне придется воспользоваться кляпом.
Он подошел сзади, рука схватила ее за волосы и потянула голову назад. Людмила поморщилась. Сначала Краевский поправил повязку на глазах, затянув еще туже концы темного шелкового шарфа.
– Мила, ты хорошо дышишь носиком?
Не дожидаясь ответа, он приставил к ее губам что-то плотное, пахнущее обувной кожей.
– Открой рот.
– У-уу-уу, – мотнула она головой.
– Быстро, я не люблю повторять дважды!
Она облизала пухлые губы и чуть расслабила их. В этот момент он ввел ей в рот два пальца и надавил на язык. Она сама не заметила, как нечто объемное вошло в ее рот, заставив сильнее разжать зубы. Краевский проделал все это так быстро, что Людочка задохнулась от негодования, но кричать уже не могла. Он завязал тесемки на затылке, под копной густых волос.
Теперь она не только ничего не видела, но и не могла кричать. Рот тут же наполнился слюной. Она потекла мимо, увлажняя собой подушку. От острого и нестерпимого желания Мила только мычала. Он перестал хлестать ее плеткой. И принялся шлепать ладонью руки. Его удары приходились в самую сердцевину торчащего дилдо, сотрясая внутренности в немыслимом и тягучем наслаждении. Ей показалось, что она теряет сознание.
Сквозь туман она почувствовала, как спустя время он отвязал сначала ее ноги, а потом руки. Она почти не шевелилась. Словно безвольную куклу он взял ее на руки и посадил на поверхность небольшого столика. На этом столике у них обычно лежали книги и стояли свечи. Людочка почувствовала, как деревянный ствол еще сильнее уперся в ее внутренности. Она слабо промычала что-то нечленораздельное. Говорить все так же мешал кожаный кляп. А после ее сосков коснулись его пальцы, они сжимали и крутили их, доставляя Людмиле острую смесь боли и немыслимого наслаждения. Она почувствовала, как Анатоль обошел ее со спины. Прохладные ладони легли на плечи. О, боже! Он надавил на ее плечи. Это давление ощущалось немыслимым напряжением внутри. Казалось, что ее распирает нечто толстое, словно она сидела на колу, но при этом ей жутко захотелось двигаться. Она едва заметно заерзала.
– Потерпи любимая, сейчас ты взорвешься…
Он опустил руки ниже. Несколько пальцев правой руки легли на распухший от желания клитор. Ему понадобилось лишь три минуты легких движений, как все ее тело содрогнулось в сладчайшей судороге сильного спазма. Он сорвал с нее повязку. Людочкины глаза были мокры от слез. Она жмурилась от света свечей. И вместе с этим мычала, словно безумная. Еще ни разу за их недолгое общение ее оргазм не был столь сильным, как сейчас. К своему стыду она тут же обмочилась, чем вызвала неожиданную похвалу развратного графа.
– Так, так… сильнее, – почему-то кричал он. – Писай, мой девочка… Я давно мечтал на это посмотреть. Сильнее…
Спустя минуту он снял с нее злосчастный кляп и предоставил ей ласкать ртом е своего каменного друга.
Людочку не нужно было долго уговаривать. Она схватила его с жадностью и задвигала головой так, что через несколько минут Краевский победно застонал…
А после она принимала ванну, а он сидел рядом и целовал ее покрасневшие от веревок запястья.
– Мой бог, ты вся покрыта красными полосами! – вскричал он, когда она вышла из воды. – Мила, прости меня! Я негодяй. Иди, ляг. Я принесу один восточный бальзам от ран. Наутро все исчезнет.
Граф тщательно смазал бальзамом красные полосы на ее нежном теле. Она морщилась.
– Щиплет сильно!
– Потерпи, любимая. Да, вот в этом месте я был неаккуратен, плетка чуть-чуть рассекла кожу. Видимо, я несколько раз ударил по одному и тому же местечку… Прости, моя нежная пери.
Уснули они обнявшись. Но среди ночи он снова разбудил ее, заставил встать задом к нему и вошел в нее сам. В ту ночь он несколько раз использовал свое священное право. Людочка уже не сопротивлялась. Она лишь лежала на животе вся мокрая от влаги и семени своего любовника…
Если бы Краевского заставили позднее описать поэтически эту ночь, то, скорее всего, он выдал бы нечто подобное:
И лава жгучая лилась Из жерла по тропе Венеры… Никто б на свете не предрек, Куда вольется тот поток…Любовники, забыв об осторожности, которая накануне их бурного романа занимала все мысли графа, предавались изощренным ласкам до самого утра. Позднее Людмила вспоминала именно эту, беспечную ночь, раздумывая о том, откуда… А вот о чем раздумывала наша героиня, мы узнаем чуть позже.
* * *
На следующее утро они проснулись в объятиях друг друга. Июльское солнце радостно пробивалось сквозь узкую щелку плотно задернутых портьер. В комнате стоял малиновый полумрак, придающий обнаженным телам томную нежность. Анатоль обнимал свое юное сокровище, вдыхая аромат ее густых волос.
– Любимая, тебе вчера было страшно?
– Да… – жмурясь от счастья, тихо отвечала она. – Особенно, когда вы надели мне на глаза повязку и ушли. Я боялась, что вы не вернетесь.
– Глупенькая, как бы я оставил свое счастье?
– Но, почему вас не было так долго?
– Так было надо…
Воспоминания о вчерашнем заставляли Людмилу краснеть и заново возбуждаться.
– Нам надо ехать за твоим платьем. Ты помнишь, что завтра мы идем в театр?
Людмила приподнялась и обвела комнату глазами.
– Господи, Анатолий Александрович, какая я беспечная! Я так и уснула, не прибравшись в комнате.
Даже в полумраке прикрытых штор было заметно, что Людочка сильно разволновалась.
– А, ты об этом? – граф приподнялся на локтях.
Его взору предстал столик, на котором еще вчера восседала его растленная весталка, не ожидавшая от себя той же степени порочности, коей был давно захвачен он сам. Он живо вспомнил все детали этой развратной и жутко волнительной ночи. Он вспомнил выражение ее лица, когда тело скручивал неумолимый и прекрасный жгут наслаждения. Он вспомнил оскал ее ровных и влажных зубов и крик, рвущийся из горла…
Теперь же весь пол, блестящая поверхность стола – все было залито остатками мочи. Тут же валялся кляп, шелковый шарф, веревки, воск от оплывших свечей, пепел от его сигары и китайское дилдо.
– Тихо, тихо! – он удержал ее за руку. – Куда ты?
– Я хочу все вытереть и прибраться.
– Нет, все после.
– Когда же?
– Сейчас я на руках отнесу тебя в мой кабинет. Там есть небольшая уборная, кувшины с водой. Умоешься там. И я принесу твое платье, туфли и шляпку. Там мы и позавтракаем.
– Давайте, я сначала уберу?
– Нет, после…
– Но, как же? – растерянно бормотала она.
Анатоль не стал ее слушать. Он взял ее на руки и, аккуратно ступая, обошел весь беспорядок. Мимо Людочки мелькнули две двери и коридор. И она тут же очутилась на диване в его кабинете.
– Сиди здесь. Я распоряжусь насчет завтрака. Вчера послал прислугу в лавку, за ветчиной и сыром. К утру должны были испечь и булки. Жди меня и приводи себя в порядок. Я скоро. Сейчас принесу сюда твои вещи. Я закрою тебя на ключ.
Пока Людмила в полном неведении и легкой досаде от беспорядка, оставленного в комнате, умывалась и приводила себя в порядок, граф отыскал горничную Елену и пригласил ее в спальню. Краевский лишь посчитал необходимым, убрать до ее прихода шарф и кляп. Деревянный китайский дилдо он будто нарочно забыл на столике.
– Елена, попрошу вас навести здесь полный порядок: помыть полы, прибраться в уборной, сменить белье. Расставить все по местам. Все понятно?
Елена послушно кивнула.
– Я загляну сюда через четверть часа, заберу кое-какую одежду.
Когда он открыл свой кабинет, то увидел Людмилу умытую и свежую. Она стояла возле зеркала в одной сорочке и расчесывала длинные волосы.
– Анатоль, в спальне остались мои шпильки…
– Не волнуйся, я все принесу. Сейчас мы позавтракаем.
Вскоре он сам принес в комнату поднос со свежеиспеченными ванильными булочками, сливочником, веером нарезанной ветчины, паштетом и сыром. Потом он принес кофейник и вазочку с фруктами. И… букетик нежных фиалок в маленьком хрустальном бокале. Людочка прикрыла глаза от наслаждения. Она вдыхала свежий, едва уловимый аромат прохладных лиловых цветов. Краевский достал свежую газету, пробежал ее глазами и отложил в сторону. Людочка ела с аппетитом, думая о том, что здесь и сейчас этот их милый завтрак так похож на завтрак мужа и жены. Она мечтала о том, чтобы всю жизнь, каждое утро, они завтракали вместе. Граф, глядя на нее умильным взором, думал почти о том же.
«Моя дикая садовая птаха стала потихоньку осваиваться. Забралась на диван прямо с босыми ножками, – думал он и у него влажнели глаза. – Какие красивые пальчики, – восхищался он, украдкой рассматривая ее узкие стопы».
Поджав ноги, Людочка сидела на кабинетном диване и пила из чашки душистый кофе со сливками. Тонкая рука тянулась за конфетами в коробке. Ее довольная мордаха выражала крайнюю степень блаженства. Краевский же тем временем рассматривал полоску светлой кожи в кружевном вороте тонюсенькой батистовой сорочки. Ему безумно нравились и выпирающие холмики упругих грудей, увенчанные бусинами твердых сосков. Батист плохо скрывал контуры совершенного тела.
– Мила, ты настолько соблазнительна, что мне кажется, мы сегодня снова опоздаем к модисткам.
– Нет, я сейчас начну одеваться, – кокетливо произнесла она и села ровнее.
– Ладно, мне нужно отлучиться ненадолго. Я дам слугам распоряжения и принесу твои вещи. Ночью прошел дождь, а сейчас снова солнечно. Я принесу тебе изумрудное платье и шляпку. Хорошо?
– Хорошо…
Краевский вышел из кабинета и снова запер Людмилу на ключ. Сделав несколько шагов, он оказался у спальни, рука толкнула дубовую дверь. В комнате уже было чисто, Елена вымыла пол и навела порядок. Когда граф заглянул в комнату, он увидел, что горничная перестилала чистое белье на их с Людочкой постели.
– А ты расторопная девушка, молодец! – похвалил Елену граф.
В ответ на его слова она еще ниже опустила темноволосую голову в белом чепчике и улыбнулась уголками тонких губ. Граф сам не зная почему зашел в спальню и притворил за собой дверь.
– Не забудь проветрить.
– Я помню, – тихо ответила Елена и пошла к окну.
– Стой, иди сюда.
Елена остановилась и испуганно посмотрела на хозяина. Он подошел ближе.
– Куда ты дела деревянный уд?
– Я положила его на комод, – пролепетала она и покраснела.
– А ты помыла его?
– Нет… А надо было? – она хотела было метнуться и исполнить приказ.
– Стой, возьми его в руки.
– Что?
– Деревянный…
Она послушно взяла в руки дилдо и стояла, потупив глаза.
– Я тебе нравлюсь? – спросил с вызовом граф, приподняв пальцами ее подбородок.
– Да… – снова тихо отвечала горничная.
– Давно?
– Очень…
– Иди сюда, я покажу тебе тот экземпляр, с которого делали эту игрушку, – шутливо приказал он. – Ну, живее.
Елена, прихрамывая, подошла.
Он потянул ее за руку вниз, заставив присесть на край непокрытого простынею, полосатого матраса. Не говоря лишних слов, он расстегнул летние брюки и слегка приспустил их. Левая рука притянула девушку за затылок.
* * *
Когда Краевский через десять минут вышел из спальни, он не пошел в кабинет, где ждала его Людмила. Он спустился во двор и закурил сигару.
«Какого черта?! Мы, мужчины, все-таки настоящие животные, – чуть расстроено думал он. – Может, дать ей тройной расчет и указать на дверь? Нет, нехорошо… Черт! Я идиот… – терзался Краевский. – Как глупо…»
Он прошелся по заднему двору, посмотрел на разложенные для сушки перины и огромные пуховые подушки. Сделал вид, что его занимает натянутость веревок. Потом прошел к хозяйственному складу. Постоял и там.
«С другой стороны, случись это полвека назад, я бы даже не рассуждал о том, сколько раз какая-то из моих крепостных отдавалась мне. Господи, я бы спал с ними столько, сколько мне было надо. Моего деда не терзали муки совести, когда бабы из челяди рожали от него байстрюков. Он не давал им имени и наследства, но он и не обижал своих детей. Все были сыты, а бабы довольны. А сейчас дали им свободу. Черт, еще моя ушлая супруга вместе со своенравной маменькой, царство ей небесное, взялись всем под юбку глядеть! Нашлись целомудренные матроны!»
Он снова несколько раз чертыхнулся, а после рассмеялся и поспешил к Людочке.
«А Леночка-то эта… как старательно сосала… Рот горячий, глаза сумасшедшие. Будто ждала этого. Неужто правда влюблена?»
– Анатолий Александрович, ну где вы так долго ходите? Я уже устала ждать, – капризно произнесла Людмила.
«В любой бабе просыпается собственница, как только ты ей даешь понять, что любишь ее, – подумал он и внутренне усмехнулся. – Ничего, я заставлю тебя еще не раз трепетать от страха. Я люблю такие игры… От них вы становитесь шелковые и любите своих тиранов, словно кошки…»
Совсем некстати вспомнилось, как однажды на отдыхе в Баден Бадене, когда он был один, без супруги, к нему примчался на две недели Константин. Анатоль сначала был не в духе, его раздражала навязчивость «Катьки» и по-женски слезливые признания в вечной любви. Однажды он осерчал и заставил «Катьку» раздеться донага. Потом он отхлестал его плеткой, надел на несчастного собачий ошейник и привязал к железному кольцу, торчащему из старой стены, покрытой толстым слоем побелки. Вместе с «Катькой» они снимали домик у одной пожилой фрау, на берегу реки Ос. Сама фрау жила отдельно и не нарушала покой двух джентльменов из далекой России.
Ровно пять дней князь был привязан к кольцу этим крепким ошейником, и ровно пять дней он сидел без одежды и спал на овчинной шкуре. Предысторией этого жестокого поступка послужила их совместная экскурсия по средневековым руинам замка Schloss Hohenbaden. То ли мрачные крепостные стены, навевающие мысли о подвале с пленниками, вызвали в Анатоле столь экстравагантный порыв. То ли сам «Катька» напросился – он не помнил.
Князь не любил шумных компаний курортников, особенно сторонился общества своих соотечественников. Он ревновал Краевского ко всем смазливым барышням, а заодно и к юным нарциссам, фланирующим в поисках чувственной любви на заморском курорте. Поэтому пугливый и экзальтированный «Катька» таскал Анатоля по нехоженым тропам пригорода, римским развалинам и средневековым постройкам. «Катька» любил одиночество, но еще больше он любил своего несравненного Анатоля. Когда они оставались одни, он жался к Анатолю и страдающим голосом пенял последнему на его малейшие увлечения. Достаточно было небольшого кивка головы, шутливого тона или улыбки графа в сторону иной особы любого пола, как «Катька» менялся в лице, начинал терзать укорами, а иногда умудрялся закатить некрасивую истерику своему обожаемому визави. Единственной особой, к кому князь не ревновал Анатоля, была его законная супруга, Руфина. Анатоль помнил, как князь, увидев ее впервые, даже похохатывал от счастья, заглядывая в серые глаза своего любовника.
– Успокойся, mon cher, даже хитроумные греки использовали некрасивых самок только для продолжения рода, – подшучивал над Краевским Константин. – В твоем случае ты получил двойной профит: самку и ее деньги.
– Тебе легко говорить! – злился Анатоль. – Не называй ее так… Она, все же, моя жена. Но я как-то должен уговаривать «своего старого друга», чтобы он хоть изредка смотрел в ее сторону.
– Бедный мой, как я тебя понимаю, – ехидничал князь. Его глаза лучились от счастья.
Вернемся к старому Бадену.
Любовники прогуливались по мрачным развалинам Schloss Hohenbaden, когда Краевскому пришла в голову сумасшедшая идея заковать «Катьку» в кандалы. Возвратившись домой, в уютный и беленький фахверковый домик, Краевский случайно увидел в стене, на кухне, толстое чугунное кольцо. Для какой нужды оно здесь было, он точно не знал. Скорее всего, в старину, в холода, здесь иногда ночевала скотина. Верно, это кольцо и служило для привязи животных. Краевский метнулся в большой сарай. Там он и нашел старый собачий ошейник и длинную веревку.
Когда он раздевал Катьку, у того дрожали руки, он театрально хныкал, но был жутко рад новой игре. Его длинный, загнутый кверху член свидетельствовал о крайней степени возбуждения. Чего скрывать, князь Константин Николаевич С-кий очень любил подчинение в любовной игре.
– Погоди, ты рано радуешься, раб! Скоро ты будешь просить пощады! – пугал его любовник, делая страшные глаза. Его самого слегка потрясывало от волны жуткого возбуждения.
Но он сдержал себя. В этот же вечер он ушел из дома, закрыв «Катьку» под замок. Перед этим он дал ему поесть и сводил в уборную. А после… он связал несчастному руки.
– Это чтобы ты, дружок, не смог рукоблудствовать, – заявил пленнику Краевский и ухмыльнулся.
– Анатоль, это жестоко! Я умираю от желания. Куда ты идешь?
– Я иду развлекаться и заодно присмотрю тебе в какой-нибудь лавчонке пояс целомудрия. Из металла.
Ответом ему послужил такой истошный стон, что он поспешил быстрее на выход.
Краевский шел по узкой мостовой легкой походкой. В его кармане лежали ключи от немецкого домика. Он даже посмеивался от удовольствия и напевал себе под нос какую-то модную арию. Он был очень доволен собой. В этот день граф много пил хмельного пива, ел немецкие колбаски с чесноком, слушал песни гуляющих студентов. А под занавес посетил местный дом терпимости и провел остаток ночи и половину следующего дня в обществе двух роскошных молодых немочек.
Когда он вернулся домой, «Катька» лежал на овчине, отвернувшись носом к стене, и молчал.
– Как ты себя чувствуешь, mon cher? – беспечно спросил Анатоль. – Не бунтуешь? А то я могу накормить тебя ударами плетки. Кстати, я так развлекался, что позабыл купить тебе пояс верности. В следующий раз непременно куплю.
– Я тебя ненавижу, – прошептал «Катька».
– Милый мой, так я этого и добиваюсь… С тобой иначе нельзя. Мы играем в жестокую игру, и ты должен соблюдать les conditions.
– Я чуть не сошел с ума, пока ждал тебя! Ну, почему так долго? – с плачем возвестил любовник, – я хотел в уборную…
– Я же поставил рядом с тобой ведро.
– А ты пробовал мочиться без помощи рук?
– Я? Нет, не пробовал. Но, кабы пришла нужда…
– Я ненавижу тебя, Анатоль! Отвяжи меня, я уеду.
– Ну, уж нет… Я всегда полагал, что ты меня любишь…
Князь бросился Анатолю под ноги. Взгляд Краевского задержался на спутанных волосах несчастной жертвы. Анатоль взял «Катьку» за небритый подбородок и нежно поцеловал в лоб… В крепкой руке снова мелькнула плетка.
Все пять дней Анатоль играл в жестокого господина, оставляя в одиночестве своего раба, а когда приходил, то скудно кормил Константина, водил в уборную и стегал несчастного плеткой, снова и снова оставляя без малейшей ласки и плотского облегчения.
К концу пятого дня, когда он попытался надеть на князя хитроумный кованый пояс верности на застежках (он с трудом разыскал его в антикварной лавке и купил за приличную сумму), то обнаружил, что его друг уже близок к глубокому обмороку, а пояс верности не смыкается на раздутых от возбуждения тестикулах.
Он развязал «Катьку», отвел его в ванну, помыл, привел в чувства и позволил ему наконец-то, впервые за пять дней, кончить. Он еще не слышал, чтобы его любовник настолько сильно стонал, извергая густые порции застоявшегося семени. Потом была бурная ночь взаимных ласк.
Графа поразило то, с каким жаром «Катька» целовал в тот вечер его руки. В неистовых приливах крайней степени возбуждения он шептал слова любви, называя себя вечным рабом Краевского. А под утро огорошил графа неожиданным вопросом:
– Мы будем еще играть с тобой в эту игру? Мне… мне очень понравилось, – краснея, признался он. – И еще я хочу, чтобы ты надел мне в следующий раз пояс верности на все дни моего плена…
Еще никогда глаза Константина не светились таким счастьем, как в то утро.
– Иди, побрейся, горе мое луковое… Нас ждут сегодня на балу у местного бургомистра. Он спрашивал о тебе. Я соврал, что ты был болен.
– Да? – рассмеялся Константин. – А кто там будет из наших?
– Графиня Ли-ская со своей дочерью. Еще несколько светских клуш.
Константин скорчил смешную гримасу, близкую к отвращению.
– Что морщишься? Графиня Ли-ская дает за дочерью очень приличное состояние. Да и потом тебе давно пора жениться и завести парочку княжеских отпрысков на радость твоему папеньке. Старый князь измучил меня просьбами о твоем сватовстве.
– Анатоль, mon tendre amour, я никогда не участвовал в постановочных пьесах… Увы, у меня напрочь отсутствует талант к лицедейству, – серьезно отвечал князь, завязывая модный шейный платок поверх тончайшей французской рубашки.
– О чем это ты?
– Я о том, что только ты умеешь так искусно притворяться со своей Руфиной.
– Ах, если бы ты знал, чего мне порой стоит подобная игра…
Князь, одетый в модный фрак, высокий, чуть бледный от их недавних игрищ, с роскошной шевелюрой вьющихся до плеч волос и тонкими чертами лица, казался ныне настолько прекрасным, что Анатоль опустил голову и усмехнулся:
– Ты видел себя сейчас в зеркале?
– Нет еще…
– Посмотри. Ты разобьешь Ли-ской сердце. Она влюбиться в тебя и будет мучиться ночами от влажных фантазий.
– Ну и дура… Что поделать, если мое сердце давно занято, – он смотрел в глаза Анатолю чистым и прекрасным взором.
* * *
Краевский вспомнил об этом волнующем эпизоде с «Катькой», фантазируя о том, как в следующий раз привяжет Людочку, чтобы она сошла с ума от страсти…
– Анатолий Александрович, где вы так долго были? Вы снова закрыли меня на ключ.
– Не будь такой нетерпеливой. Я ходил по дому, делал распоряжения прислуге и мастерам. В детской еще идет ремонт.
– Простите…
– Ты уже собралась?
В этот день они посетили модный салон. Людочка примерила готовое платье из лилового бархата. Алансонское кружево изысканного узора, в тон к платью, украшало роскошный лиф. Тут же была отделка из шифона. Краевский любовался своей возлюбленной, в то время, как портнихи подгоняли платье по ее фигуре. Людочка крутилась возле зеркала и не верила своим глазам – из блестящего овала на нее смотрела светская красавица, тонкая, изящная и очень породистая. То ли жар любовных ночей, полных страсти и изысканной порочности, то ли водные промывания доктора Ноймана, а может, все вместе, произвели с нею такие метаморфозы, что взгляд карих глаз искрился теперь и на летнем солнце, и в полумраке, пропахшего духами модного салона. Юное лицо немного осунулось, утончились и без того тонкие черты.
Когда ей примеряли новое платье, одна из заколотых шпилек выскочила из высокой прически, на грудь упала тяжелая прядь русых волос. А затем рассыпалась и вся хитроумная конструкция. Людмила ойкнула и посмотрела на графа. Ему показалось, что перед ним стоит сама Афродита. Сквозь облако волос просвечивало солнце.
«С нее надо писать картины. Когда мы будем в Ницце, я приглашу художников. Они напишут ее обнаженной. Она прекрасна. Она – ангел», – думал он, и неожиданные слезы струились по его щекам.
В тот день они заказали еще пару роскошных туалетов, заехали в меховой салон и купили Людочке соболью накидку. Граф старался сжимать всякий раз ее предплечье или узкую кисть руки, когда прохлада темных вестибюлей и парадных на время отдаляла их от других людей.
В театр они приехали уже после третьего звонка. Людмила понимала, что, не смотря на всю видимую браваду, граф опасался, чтобы их не застукали вместе какие-нибудь знакомые или сослуживцы. Они зашли в боковую ложу очень тихо, когда в зале был погашен свет, и неслась бодрая мелодия увертюры.
– Мы почти опоздали, – прошептала она.
– Радость моя, привыкай к подобной маскировке и таинству. Наш союз пока осенен тайной. И ты знаешь, почему, – также шепотом ответил он. – Мы и уйдем отсюда чуть раньше, чем все остальные.
– К чему тогда это роскошное платье и сапфиры? Все равно меня никто не видит, – разочарованно протянула она.
– Мила, ты сама и все, что на тебе – только для меня. А ты, кокетка, мечтала бы, чтобы на тебя пялились все мужчины этого города? – он сильно сжал ее ладонь.
Она едва не вскрикнула.
– Дай время. Мы поедем с тобой в те города Европы, где редко бывают русские. И нас никто не узнает. Там мы всем будем представляться мужем и женой.
Она судорожно вздохнула. Ей показалось, что голову обожгло огнем: «Он сказал: мужем и женой… Господи, какое это счастье…»
Она понимала, что обещанное счастье мерцает где-то далеко, и огни его едва различимы, и что счастье это – незаконное и краденное. Но в душу ее вошла тихая радость. Она сидела и улыбалась. В темноте сияли его, любимые глаза. И не было в мире человека ближе и роднее, чем он.
На сцене уже вовсю шла оперетта, и какой-то старый и толстый мужчина в светлом трико исполнял арию. Это был лишь третий ее визит в театр. Первые два она бывала здесь вместе со своим классом. Казалось, что с тех пор, как она приходила сюда в форменном платье юной институтки, на которую шикала и делала страшные глаза классная дама, до этого времени, как она села в удобную боковую ложу, в роскошном платье, прошла целая вечность. Полно, она ли это была? В темноте зрительного зала слышался скрип кресел, легкое шевеление публики, шорох сложных туалетов напомаженных дам, костяное щелканье моноклей, вздохи, редкие покашливания и шепотки.
– Ты говоришь, что тебя здесь никто не видит?
– Да, здесь же темно…
– Не настолько, чтобы в свете софитов не разглядеть твой милый лик. Вон, смотри, из противоположной ложи тебя лорнирует какой-то шустрый ферлакур. И в бельэтаже двое тебя заметили… Черт побери, жаль я не захватил свой пистолет, – шутил он. – Вон тому рыжему, я бы точно зарядил меж глаз. И чего уставился?
Людочка тихо смеялась, отбиваясь от его тайных прикосновений. Тех прикосновений, которые никто не видел.
И вдруг ей отчего-то стало неуютно – будто холодная игла снова вошла в висок. С балкона второго этажа, через театральный бинокль, на них смотрел темный господин. Она узнала его. Он не был миражом, он не был фантомом ее больного воображения. Он стоял во весь рост и смотрел на них с Краевским. Людмила застыла. Граф не сразу заметил в ней перемену. Он продолжал, легко обнимая ее за талию, шептать разные непристойности, от которых еще минутой ранее кружилась ее голова.
– Что с тобой? – наконец прошептал он, почувствовав, как похолодели и затряслись ее руки. – Мила, что случилось?
– Здесь снова он.
– Кто?
– Тот темный господин, – она старалась еле шевелить губами, хотя они и без того одеревенели от липкого страха. – Тихо, не смотрите туда резко. Он стоит во весь рост и смотрит на нас в бинокль, с того балкона, что наискосок от нас.
Краевский с застывшей улыбкой последовал ее совету и очень медленно и непринужденно повернул голову.
– Мила, нам нужно срочно ехать на воды. Я опасаюсь за твой рассудок.
Людмила повернула голову в зрительный зал и медленно подняла глаза. На том месте, где еще недавно стоял этот незнакомый господин в черном, сидела какая-то тучная дама в нелепом малиновом берете с белым страусиным пером.
– Но он там был.
– Это уже не смешно. Тебя одолевает мания преследования. Это все твои страхи…
Как прошел сам спектакль, она уже не помнила. Ей казалось, что все звуки идут сквозь пелену ее сознания. Кто-то бегал по сцене. Перикола пела неплохим сопрано, хорош был и тенор, и все действующие лица этой французской оперетты. Зал неоднократно рукоплескал исполнителям. Они ушли задолго до конца третьего акта. В антракте он не водил ее в буфет. Они стояли почти рядом со входом в ложу, в полуоборота от гуляющей публики. Анатоль немного нервничал.
– Никаких приведений здесь нет. А вот несколько знакомых лиц, по-моему, промелькнуло. А впрочем, плевать. – Следующий поход в театр мы совершим уже за границей, – успокаивал он ее и себя заодно.
Настроение у обоих было испорчено. Ее глаза блестели от закипающих слез, а щеки были бледны, когда он взял ее за руку и, не дожидаясь конца, увел из театра. Они взяли извозчика и поехали в ресторан. Только в ресторане, после рюмки вина, Людмила чуточку пришла в себя. Успокоился и граф.
– Ну что ты все время плачешь? Я причинил тебе горе?
– Нет. Я просто боюсь.
– Кого?
– Его. Он хочет нас убить.
– Хочешь, я найму сыщика?
– Хочу… Наверное.
– Это все твои беспочвенные страхи.
– А как мне не бояться, если я каждую минуту жду, что приедет ваша супруга и сдаст меня в полицию.
– Куда? – рассмеялся он.
– В полицию… Как падшую женщину, разбойницу или воровку. Меня закуют в кандалы и отправят в Сибирь.
– Господи, ну что только у тебя в голове?
– Да! Да! Да! И вы ничем мне не поможете. Будет все слишком поздно! – выпалила она, глядя на него бессмысленным и опьяневшим взором.
– Падшая женщина, говоришь?
– Да.
– Господи, как ты сейчас красива. Твои глаза горят сильнее, чем эти сапфиры на твоей шейке. Все мужчины в этом зале косятся на тебя. Уж кто из нас первым и попадет на каторгу, так это буду я, – усмехнулся он. – Я поубиваю скоро всех тех, кто посмел облизать тебя жадным взором.
– Вы опять шутите…
– А хочешь, я отвезу тебя в одно заведение, где ты увидишь настоящих падших женщин?
– Но, разве это возможно?
– Да, мы прибудем туда инкогнито. Нас никто не увидит, зато мы с тобой будем лицезреть совсем иные спектакли. Это тебе не легкомысленный Оффенбах. Эти спектакли будут намного интереснее. Как раз сегодня там присутственный день, и ложи ждут нас! – он достал из фрачного жилета золотой брегет и посмотрел на циферблат. – Близится полночь. Едем?
В ответ она промолчала, беспомощно глядя ему в глаза.
– Ты доела свой галантир? Тогда вперед.
* * *
Они мчались в открытом экипаже по ночному городу. Лошади бежали быстро, цокая копытами по мостовой, рогатый месяц скользил вслед за повозкой. Свежий ночной ветер овевал Людочкино лицо, чуть растрепав выпавший из-под прически маленький завиток. Краевский обнимал ее за талию и нежно целовал в шею.
– Ma chérie, я только тебя попрошу об одном: что бы ты там не увидела, ты не должна бунтовать.
– То есть как? Я не поняла.
– Ты все потом поймешь. Туда, куда я тебя везу, открыт доступ не всем, а избранным. Можно сказать, что я приоткрываю тебе маленькую завесу темной стороны этого города. Я открываю тебе двери пиковой дамы. Туда, куда мы едем, нет входа случайным людям. Пойми. Днем это обычное заведение, вполне приличное. Почти. А ночью… Ночью здесь правит бал свобода. Полная свобода нравов. Именно то, что всякие высоконравственные клуши, типа твоей бывшей директрисы, Германовны, называют «сердцем порока и разврата» – он посмотрел на нее испытующе.
Она молчала. Слышен был лишь стук ее маленького сердца, который сливался с топотом лошадиных копыт.
– Так вот, если ты боишься, то лучше нам туда не ехать, – продолжил он таинственным голосом, – ибо маленьким девочкам там делать нечего.
– Анатоль, вы пугаете меня. Зачем? Там со мной ничего не случится?
– Нет, что ты! Я отвечаю за твою безопасность. И более того, я убью каждого, кто только посмеет причинить тебе худое. Речь идет о другом. Я отвечаю за сохранность твоего тела, но не души. Тот спектакль, который ты там увидишь, может безвозвратно повлиять именно на твою душу. Могу лишь обещать одно: скучно тебе там не будет.
– Господи, опять какие-то мистификации?
– Отнюдь, любимая, скорее я напускаю лишнего тумана. На самом деле все будет намного прозаичнее. Скажу только одно: если вдруг ты захочешь сбежать с этого спектакля, я не позволю тебе это сделать раньше того времени, как я сам захочу оттуда уйти. И это уже не просьба. Это – мой приказ. Ты поняла меня?
– Да, – тихо ответила она после небольшой паузы.
– Ну, вот и договорились.
Лошади пошли медленнее, повернув на одну из темных аллей. Качнулся экипаж, и лошади спешились. Краевский вышел из коляски и подал Людочке руку.
– Осторожно. В этой части города прошел дождь. Мостовая мокрая.
Людмила огляделась. Впереди поскрипывал высокий, немного тусклый газовый фонарь. Он освещал крыльцо темного, незнакомого здания. Людмила не сразу узнала это место. Ночь искажала все образы, делая знакомое чужим, легкое и понятное – тайным и даже зловещим.
Краевский приказал вознице ждать их чуть в стороне от входа.
– Жди нас здесь. Нас не будет примерно час, может два. Потом мы поедем на Ильинскую, к моему дому. Я расплачусь с тобой сполна. Жди.
– Где мы? – шепотом спросила Людмила, с опаской вглядываясь в темноту.
– А ты не узнаешь этот дом?
– Не-ее-ет…
Газовый фонарь скрипел от редких порывов ветра, освещая ступеньки маленького крыльца и деревянную дверь… желтого особняка со спящими львами. Людочка ступила на крыльцо. Взгляд упал под ноги. Ступени дома украшал знакомый узор плитки с шестиконечной звездой в середине.
– Анатоль, это же салон мадам Колетт! – горячо зашептала Людмила. – Зачем мы здесь, ночью?
– Разве не ты все время твердила мне о падших женщинах? Сейчас ты их увидишь.
– Но разве?.. Нет! Давай лучше уедем!
– Поздно, ma petite princesse. Ты правильно угадала этот дом. Это бывший дом Арона Гендлера. А ныне здесь располагается цирюльня и салон мадам Колетт. В правом крыле. А в левом Колетт держит «дом свиданий». Ах, не делай такие большие глаза! – усмехнулся Краевский. – Я полагаю, что если бы покойный Гендлер узнал о том, что в его благочинном еврейском доме когда-нибудь откроют бордель, он сделал бы точно такие же, круглые глаза, какими ты смотришь на меня.
Граф повернул круглую ручку механического звонка. В глубине дома раздалось утробное дребезжание. Через минуту стукнул затвор, и дверь отворилась на ширину металлической цепочки.
– Что вам угодно, сударь? – раздался немолодой, незнакомый Людмиле голос.
– А где мадам?
– Мадам у себя в кабинете.
– Передайте ей, что пришел Анатолий Александрович со своей спутницей.
Невидимая женщина скрылась.
– Понимаешь, мы сейчас зашли не с того входа, куда обычно проникают все посетители борделя, – пояснил он Людмиле. – Если обогнуть это здание, то там есть еще один вход. Туда постоянных посетителей пускают беспрепятственно. Он идет напрямую, в бордель мадам Колетт.
Через пару минут дверь широко распахнулась. На пороге стояла сама хозяйка, одетая в домашний халат.
– Анатолий Александрович, вы? Что не предупредили? – учтиво расспрашивала их Колетт, когда за ними закрылась входная дверь.
Она пригласила их в свой кабинет, который оказался с левой стороны от общего холла, за небольшим коридором. Кабинет был обставлен дорого, помпезно, но как показалось Людмиле, совсем безвкусно. Толстые портьеры, стулья, диван, кресло, мягкие пуфики – все это было выполнено из тканей яркого, розового оттенка. Всюду стояли фарфоровые статуэтки, мелкие и большие шкатулки, висели пышные веера. Массивный бронзовый подсвечник, в десяток свечей, хорошо освещал всю комнату, а ноги утопали в ворсе толстого персидского ковра. Колетт, улыбаясь, посматривала на них.
– Да я не собирался, по правде говоря. Все произошло стихийно. Я, собственно, хотел бы показать своей спутнице пару ваших спектаклей. Мы можем сейчас это сделать?
– Жаль, что вы не предупредили, – вытянув сизые губы, неестественным, сожалеющим тоном, произнесла старая сводня. – Я бы тогда обязательно постаралась подобрать что-то интересное, по интересующим вас темам…
– Забудем о моих темах, – решительно произнес граф. – Моя спутница еще слишком далека от тем, по-настоящему интересующих меня. Да это и к лучшему.
– Тогда чем я и мой дом может быть вам полезен именно сегодня? У меня нынче немного посетителей, к сожалению. Две сессии уже идут. А вот одна скоро начнется.
– У вас есть сегодня «одна плюс три».
– О, да. Только не три, а четыре, – хохотнула Колетт.
– Отлично!
– Только вам придется чуточку подождать. Идет подготовка, выбор девушки. Но недолго. Я пока препровожу вас в кресла. Кстати, через полчаса должна быть еще одна сессия с тематикой.
– Моей?
– Не совсем… – Колетт чуточку замялась, подошла к графу и шепнула что-то на ухо.
– О, это забавно. Но, на сегодня нам вполне достаточно и одной. В другой раз возможно…
Краевский достал толстый кошелек и расплатился с мадам.
У той при виде денег сделались масленые глаза, и тонкие губы расплылись в противной улыбочке.
Людмила почувствовала, что если бы не граф, то эта «милая тетя» обошлась с ней, с Людмилой, самым бесцеремонным образом. Когда она не смотрела с подобострастием на графа, и взгляд ее внимательных глаз вынужденно касался лица и фигуры Людмилы, то стареющее лицо кривилось от едва заметной усмешки. И в этой усмешке сквозило не только презрение. Людочка читала в нем нечто большее.
«Если Колетт держит здесь не только цирюльню, но и бордель, то как, должно быть, ей ненавистно мою пребывание рядом с графом. Она наверняка догадалась, что я не богатая дурочка, и что граф просто мною увлечен. Я думаю, что более всего на свете ей хотелось бы, чтобы он как можно скорее меня бросил. Тогда бы она с удовольствием приняла меня под крышу своего тайного дома. Или не приняла? Кто они, эти падшие женщины? Как они выглядят? Хотя, очень скоро она их увидит. Так обещал Анатоль».
– Пойдемте! Я провожу вас, – Колетт решительно поднялась из глубокого кресла.
Граф взял Людочку за руку и постарался легким пожатием руки успокоить ее. Они поспешили за хозяйкой. Та шла впереди, манерно виляя узкими бедрами, облаченными в шелк дорого домашнего халата. А может, это было такое платье? Людмиле было все равно. Она немного волновалась. Что за сюрприз приготовил ей Анатоль? Зная его тягу к эксцентричным выходкам, Людочка думала о том, какова именно ее роль в предстоящих спектаклях. И что еще за странный шифр «одна плюс три, четыре», о котором говорил граф с мадам.
Они миновали пару коридоров и очутились перед небольшой лестницей, ведущей вниз. По-видимому, там находился еще один, цокольный этаж. Колетт распахнула толстую дверь. Людмила услышала звуки фортепьяно. Они неслись издалека, но были отчетливо слышны всюду.
– У вас появился новый тапер? – спросил граф у Колетт.
– О, он у нас уже третий месяц работает. Ночью больше публики. Господа любят музыку. И вам будет приятней смотреть спектакль с музыкой.
– Да, я просто давно здесь не был, – улыбнулся Краевский.
– Да уж, граф. Я давно хотела вам попенять на это упущение, но не посмела.
Они миновали длинный коридор с множеством дверей. Одна из дверей распахнулась. Из нее выглянул пьяный полуобнаженный мужчина и крикнул в коридор: «Шампанского!»
– Сию минуту! – прозвучал из-за угла немолодой женский голос.
Пока они проходили мимо открытой двери, откуда кричал мужчина, Людочка краем глаза успела заметить кровать, расположенную прямо напротив входа. На кровати сидела… обнаженная молодая женщина. Людочку поразило то, что женщина эта была очень полной. Арбузные груди свисали почти до колен, облаченных в черные ажурные чулки. Короткие ноги переходили в удивительно маленькие ступни. Женщина была пьяна. На полу валялись две пустые бутылки.
– Ани, ну что вы распахнули двери? Прикройтесь. И, по-моему, Жану на сегодня достаточно вина, – скороговоркой произнесла Колетт и плотно прикрыла дверь, из-за которой раздался смех и женский визг.
Людмила не успевала обдумывать все те впечатления, которые свалились на нее за это короткое время. Ее лицо полыхало, руки немного дрожали.
Колет распахнула перед ними одну из дальних комнат. Эта комната была обставлена довольно скромно: синие обои в мелкую полоску. Пара картин с цветами, стол, мягкий диван. Больших окон в комнате не было. Сверху темным полукругом блеснуло лунным светом маленькое оконце цокольного этажа. Возле одной из боковых стен стояли два мягких кресла. Прямо перед ними висели коротенькие шторы. Что там за ними? Какое-то окно, но почему в боковой стене?
– Граф, я оставляю вас. Правила вы знаете. Задуйте свечи. Должна быть полная темнота.
– Участники знают, что на них могут смотреть?
– Да, все оговорено заранее. Эти знают.
– Вы можете идти, Колетт.
– Если я вам понадоблюсь, дернете за шнур. Может, принести вина или шампанского?
– Нет, пока не нужно. Если что, я вас позову.
Колетт кивнула и тихо удалилась. Людочка и Краевский остались одни.
– Иди ко мне… – он привлек ее за талию и поцеловал в губы.
– Анатоль, что все это значит?
– Ты помнишь мои альбомы?
– Да…
– Помнишь те сцены, которые были на фото? Только там все было застывшее. Мы же с тобой увидим все вживую. Так, словно на спектакле. Только гораздо ближе. Я прошу тебя, ты не должна ничему удивляться. Сейчас мы потушим свечи, и я распахну эти шторы на стене. Там находится окно. Да, обычное окно, только узенькое. Мы сядем в кресла и будем наблюдать за тем, что происходит в соседней комнате. Люди, участвующие в спектакле будут знать, что мы смотрим на них, но они не увидят наших лиц. Хочу предотвратить все твои возможные вопросы. Это – обычные молодые люди, часто студенты, официанты, подмастерья и мастера. Иногда солдаты или матросы. Они будут играть для нас с тобой, и одновременно получать свое удовольствие. Девушка, которая будет играть главную роль, обычная проститутка. Она живет у Колетт. Так называемая, «падшая женщина». У Колетт проживает около тридцати молодых женщин. Они часто меняются. Часть уходит, появляются новые пансионерки. У нее довольно дорогой бордель, здесь высокие цены. Сюда постоянно наведываются мужчины. Ты видела, сколько здесь кабинетов. Но этот, цокольный этаж, считается особым. Здесь чаще всего идут так называемые спектакли. Многие господа не желают участвовать в них лично, но им интересно все это лицезреть.
– Ваша знакомая говорила о каких-то цифрах. Что это?
– Во-первых, она не моя знакомая. Иметь знакомство с мамочкой из борделя – моветон. Увидь я ее в публичном месте, я бы не сделал в ее сторону и кивка головой. Это люди – низшего света. Обслуга.
– Даже Колетт?
– Помилуй, она бывшая гризетка, удачно вышедшая замуж за одного старого и богатого генерала. Генерал скончался, не прожив и года с темпераментной супругой. А Колетт достались приличные средства, на которые она купила этот особняк. Днем, как ты знаешь, здесь работает цирюльня и дамский зал… Хатидже… Ну, а вечерами и ночами – здесь иная жизнь. Ты главное, ничего не бойся. Я же с тобой. Тебе ничего не грозит. Самое большее – это мои ласки. А что касается цифр, ты сама все поймешь.
Людмила кивнула.
– Я уже сказал, что подобные сеансы стоят дорого. Я оплатил их удовольствие и наше… Во время подобных сессий приглашаются знакомые мужчины. Они отлично исполняют свои роли, зато получают бесплатную любовь. За все платит зритель. Я заплатил почти тройную цену. Поэтому, в цокольной части посетители довольно редки. Двое, трое толстосумов за вечер. Основная же публика ходит в то крыло здания. Там есть большой зал, где сидят девицы, а их выбирают кавалеры. Когда-нибудь мы сходим с тобой и туда. Если ты захочешь… Ну все, хватит болтать. Садись в кресло. Сейчас мы погасим свечи. Как только мы это сделаем, свечи зажгутся уже в той комнате.
Краевский подошел к подсвечнику, стоящему на столе, и задул три свечи. В темноте Людмила почувствовала, как он взял ее за талию и подвел к мягкому креслу. Она удобно села. Граф расположился рядом, в соседнем кресле. Послышался шорох ткани – он одернул маленькую шторку. Блеснуло невысокое, но довольно широкое стеклянное окошко, вставленное в раму, похожую на раму огромной картины. Но за окошком стояла кромешная тьма. Вдруг послышались довольно громкие аккорды тапера, и в темноте окошка мелькнул огонек свечи. Он дрогнул и, сделав дугу, оказался на едва заметном столе. Потом одна за другой зажглись еще несколько свечей, а после свечей заполыхал целый поток яркого огня. Похоже, это был свет нескольких газовых ламп с раструбами. Они работали, словно театральные софиты. Комната, где проходил спектакль, осветилась ярче, чем в самый яркий день. На небольшом постаменте, похожем на маленький театральный помост, на стуле с подлокотниками, сидела совсем юная девушка. Она была необыкновенно хороша. На вид ей было не более восемнадцати, а может и меньше. Одета она была в миленькое платье, в голубую полоску, отороченное небольшим кружевом. На лице девушки лежал слой розовой пудры, неестественным румянцем отливали юные щечки, а небольшую голову украшал светлый парик. Этот необычный вид усиливал ее сходство с театральной актрисой. Девушка выглядела, как кукла. Людочка испытала легкий укол ревности, ибо граф уставился сквозь окно на красавицу. Вырез небольшого декольте открывал маленькие, но выразительные холмики грудей. Она сидела на стуле, потупив глаза, и казалось, о чем-то думала. Вдруг распахнулась дверь, и в комнату зашли четверо молодых мужчин. Все они были одеты в форму матросов.
«Одна плюс четыре, – догадалась Людочка. – Девушка будет одна, а их четверо… Какой ужас! Но, что же дальше? – Людмилой овладело странное волнение».
Она посмотрела на Анатоля. Тот пристально наблюдал за происходящим.
Девушка театрально округлила глаза и схватилась за голову. Матросы стали показывать на нее пальцами и смеяться. Странным было то, что Людочка отчетливо слышала все их разговоры и смех. Оказалось, что звуки шли из верхней слуховой трубы. Они не просто были слышны рядом, они даже усиливались за счет хитроумной акустики.
Вот откуда так хорошо было слышно тапера. Он мог играть в любой комнате, но хозяйка направляла звуки в нужную ей комнату или во все сразу. Кстати, когда мужчины вошли, звуки фортепьяно сделались тише.
– Как тебя зовут, красотка? – спросил один из матросов.
– Меня зовут мадемуазель Мими, – со страхом отозвалась девица.
– Мими? Какое странное имя? У вас всем шлюхам дают такие имена?
– Господа, я не шлюха! – театрально воскликнула девушка. – Мне нужно идти домой.
Она встала со стула и направилась к выходу.
– Нет, Мими, ты никуда не уйдешь, – самый высокий мужчина преградил ей путь. – А шлюха ты или нет, это мы сейчас посмотрим. Раздеть ее! – говоривший был явно за главного.
Людочка взволнованно смотрела на эту сцену. Ей казалось, что она даже слышит, как у девушки от страха стучит сердце, ибо ее собственное тоже громко бухало в груди.
– Анатоль, они ее разденут? – прошептала она.
Граф положил руку на ее колено.
– Они не только ее разденут… Привыкай.
А дальше произошло то, о чем Людмила вспоминала много раз после… С громкими и непристойным смехом, грубыми шутками и даже оскорблениями матросы довольно быстро раздели несчастную. Людмила догадалась, что на барышне не было ни корсета, ни нижнего белья. Вся одежда довольно быстро и легко оказалась сложенной на соседнем стуле. Девица стояла обнаженной, посередине комнаты, прикрыв от стыда напомаженные щеки. Из одежды на ней остались лишь розовые туфли на небольшом каблучке и светлые чулки на резиновых подвязках.
Благодаря яркому свету, казалось, что обнаженная актриса, из самого непристойного театра, стоит в полуметре от глаз Людмилы и Анатоля. Белый, округлый живот пульсировал от страха, под ним красовался выпуклый и безволосый лобок. Пожалуй, он был слишком выпуклым для столь хрупкой девушки. Именно этот лобок назойливо лез в глаза.
У Людмилы заныл низ живота. Она почувствовала, как граф от волнения еще сильнее сжал ее колено. Людмила не мигая смотрела на девушку. Ей безумно хотелось, чтобы та как можно скорее раздвинула ноги. Она почти не уловила того момента, как все четверо матросов постепенно сбросили с себя всю одежду. Перед глазами мелькали подтянутые и стройные фигуры. Широкие и сильные плечи переходили в стройные торсы. Только сейчас Людмила заметила, что все они не только хорошо сложены, но и привлекательны лицом. Казалось, что все они сошли с картин античных художников. Ну и самым главным достоинством было то, что у всех четверых покачивались или смотрели чуть набок довольно длинные и толстые орудия страсти. Да, у всех четверых они были в полной боевой готовности.
Краевский покачал головой:
– Смотри, милая, что за славные жеребцы… – прошептал он. – Неловко признаться, но мне кажется, что мой, все же, чуточку меньше. Как ты думаешь?
Людмила только скользнула по его лицу непонимающим взглядом.
– Потрогай его… Он тоже стоит…
Он взял ее руку и прислонил к своему паху.
Меж тем на сцене, в соседней комнате, уже вовсю шло «представление». Людочка лишь порывисто дышала, с волнением рассматривая подробности.
Девушка снова сидела на стуле. Только теперь ее ноги были разведены широко в стороны. Один из матросов, обойдя стул, держал крепко ее бедра, выворачивая наружу пухлый лобок и все, что находилось под ним. Другой мужчина, повинуясь весьма дикому сценарию этого маленького спектакля, стоял почти рядом с тем, кто держал девицу за ноги. Этот второй ласкал пальцами трепетный розовый бутон распахнутой плоти. Было видно, что все, что он делал, было нарочито показательно и открыто. Участники пьесы были прекрасно осведомлены о том, что за ними наблюдают. И желали исполнить свои роли так, чтобы зрители остались довольны. Лишь поэтому оба сладострастника ласкали девушку напоказ, широко раздвигая все розоватые и сочные внутренности несчастной девицы. Двое других мужчин стояли чуть в стороне, поглаживая свои огромные члены.
– Ну что? Ты нам сказала, что непорочна? – нарочито громогласно осведомился самый высокий мужчина.
На что девушка только простонала в ответ. И стон этот звучал очень сладострастно. Людочка видела, насколько «актрисе» был приятен этот спектакль – мягкие и нежные складки были немилосердно мокры и будто увеличились в размере.
Низ живота самой Людмилы заныл еще сильнее. Она беспомощно посмотрела на графа. Он все понял. Его рука нырнула ей под юбки и потянула вниз батистовые панталоны. Она привстала, чтобы они чуть-чуть сползли вниз.
– Ты еще мокрее, чем она, ma petite princesse, – прошептал он.
Его пальцы развели в сторону ее собственные губы, скользнули влево и вправо и снова замерли. Она вся поддалась навстречу, раздвигая ноги. Мешали панталоны. Двумя движениями они сбросила их и села удобнее.
– Анатоль, прошу вас, не убирайте руку, – задыхаясь от страсти, шептала она.
Он снова коснулся ее горячей плоти и снова замер. Она сжала зубы и мотнула головой.
– Ну-уу-уу же! – почти выкрикнула она.
Казалось, что он не слышит ее, его глаза смотрели в стекло. В соседней комнате уже сменилась «мизансцена». Один из «морячков» уже активно совокуплялся с девицей. Девица стонала от неописуемого экстаза. Ее губы тянулись к обнаженному орудию другого. Чуть позднее Людочка увидела, что девушку развернули задом, и в нее вошел второй мужчина. Первый, судя по опавшему члену, завершил начатое совсем недавно. Стоны, шлепки, вздохи, все было совсем рядом, сводя Людмилу с ума. Она не думала, что ее возбуждение будет столь сильным при виде всего спектакля. Как ей хотелось оказаться на месте главной героини. О, боги, как ей этого хотелось!
– Анатоль, я больше не могу! Молю, войди в меня так, как входят в нее эти мужчины. Туда, в п**ду! Я очень этого хочу!
– Тихо, тихо, моя девочка, – Краевский испугался ее резонного требования. – Сейчас я все сделаю. Мы не будем пока портить тебя. Тем паче, здесь. Все впереди.
– Когда?! – стонала она, поддавая бедрами навстречу.
– Осенью, этой осенью… Потерпи… Пока только попочка… Ты и ей славно кончаешь… Иди ко мне.
Она снова посмотрела на «спектакль». Теперь девицу имели одновременно уже трое. Людочка впервые так близко увидела подобный ансамбль. Исполнительница главной роли стонала в полный голос, поощряя немилосердных любовников. Один из которых делал вслух глупейшие замечания, согласно идиотскому сценарию:
– Вот видишь, а ты говорила, что не шлюха. Ты – шлюха. И тебе приятно, когда мы тебя е**м. Так? Отвечай…
– Да-аа-аа, – отвечала, заклейменная позором жрица любви. – Е**те меня сильнее!
В ответ на ее просьбу, главный обвинитель разразился короткой матерной репликой и кончил, оросив живот девушки изрядным количеством семени.
Чуть испугавшись напора Людмилы, Краевский не стал мучить ее отложенным оргазмом. Он отлично знал эту хитроумную технику и часто применял ее на практике. Он боялся, что возбужденная девушка закатит ему чудовищную истерику. Она и была близка к ней. Слезы закипали в карих глазах, сбивалось дыхание, горячечные губы искали его губы.
«О, я разбудил настоящий вулкан, – думал он, не скрывая радости. – Моя лесная птаха превращается в настоящую Мессалину! Это тебе не непорочная весталка! Нельзя ее долго мучить. Надо заняться поиском квартиры. И быстрее за рубеж, на море. Я буду жить чаще с ней, нежели с семьей… Ее нельзя оставлять без присмотра. Решено».
– Тихо, тихо… Иди ко мне. Где мой нежный персик? Сейчас мы его приласкаем…
В этот раз он не убирал свою руку, лаская ее круговыми движениями нескольких пальцев. Он пошел дальше: очень аккуратно, ввел в нетронутую норку один мизинец, стимулируя там какую-то, одному ему известную острую точку. От этой новой ласки Людочка сначала сжалась, сосредоточив внимание, словно прислушиваясь к новым ощущениям, а потом бурно кончила, прокричав нечто гортанное на непонятном, сумбурном языке.
– О, господи, Мила! В твоей родне не было горцев? – с улыбкой спросил он.
– А? Что?
– Ничего… Ты так славно кончаешь.
Они оба посмотрели за стекло. Мизансцена в соседней комнате снова изменилась. Несчастная жрица любви теперь сидела на коленях у одного из «матросов», спиной к зрителям. Другой мужчина ритмичными движениями качался возле ее ануса. Иногда он полностью выходил из упругого кольца плоти, и Краевский с Людмилой видели слишком многие детали анатомии действующих лиц этой сцены. Людочку пугал вид багрового, растянутого тоннеля. Это выглядело пугающе, но в то же время – волнительно.
Одновременно с возрастанием градуса сего спектакля, усилились фортепьянные аккорды невидимого тапера. Все это казалось странным, если не сказать более. После спада всесокрушающего возбуждения, Людмила почувствовала не просто некую комичность музыкального сопровождения всей этой похабной вакханалии, но и сильное отвращение.
– Анатолий Александрович, я устала. Поехали домой? – пробормотала она, отворачиваясь от стеклянной панорамы стенного проема. Ее рука потянулась за упавшими на пол панталонами.
– Обожди, не торопись. Не надевай их. Пожалей меня. У меня нет сил, ждать до дому. Возьми его…
Он потянул ее за руку и заставил опуститься на колени.
– Ты хотела бы остаться с этими джентльменами, в матросских костюмах? – спросил он, возводя глаза от страсти. – Боже, я могу это представить… Как ты с тремя сразу…
Она негодующе мотнула головой. Ответить вслух не представлялось возможным. Ее склоненная голова двигалась возле его паха. Сильная ладонь графа давила на затылок, сжимая копну пушистых волос.
– Да, так, так… Обожди минуту. Иди сюда.
Он потянул ее за руку и толкнул к дивану.
– Встань задом. Я все-таки войду в твою нежную попочку.
Откинул ворох нижних юбок. В темноте забелели упругие девичьи ягодицы.
Стоя за плотной дверью, хозяйка борделя Колетт услышала, как комната огласилась длительным женским стоном. Одним, потом еще несколькими. А спустя несколько мгновений застонал и мужчина.
Старая сводня улыбнулась в презрительной улыбке:
– Ну ничего, красавица. Очень скоро он тебя бросит, и ты сама начнешь играть в моих спектаклях. Играть для него же, когда он приведет сюда свою очередную пассию, – она даже хохотнула от удовольствия.
* * *
Вернувшись домой почти под утро, оба усталые и от того молчаливые, любовники быстро разделись и крепко заснули.
Роман Людмилы Петровой и графа Анатолия Александровича Краевского продолжался все лето. Дни и ночи заговорщики предавались безудержным страстям. Людочка давно привыкла к изощренным ласкам графа. Казалось, что она уже не сможет без них жить. Краевский с удовлетворением отмечал в ней признаки сильнейшего темперамента. Иногда их совместные опыты в чувственных наслаждениях заходили столь далеко, что после оных оба долго приходили в чувства. Но силы восстанавливались, и заново манил порочный круг. Людмила стала меньше опасаться разоблачения. Казалось, что оба совершенно расслабились и потеряли всякий страх. Они не замечали, как пролетали дни, наполненные вкусными застольями, обильными возлияниями, походами по модным салонам, театрам. Еще трижды они побывали в салоне Колетт – и днем, и поздними вечерами. Расхрабрившись, Людмила сама однажды заказала тему очередной порносессии у Колетт. Она уже не отворачивала лица от стекла, где проходили оголтелые, чудовищно развратные спектакли. Еще вчерашняя курсистка настолько быстро втянулась в тайную жизнь своего обожаемого Краевского, что воспринимала ее как единственно верную и разумную. Ее искушенный любовник открывал перед ней все новые и новые двери в круто закрученном лабиринте чувственных познаний. Теперь она спокойно воспринимала походы к Нойману, оборвав все попытки последнего объясниться, одним продолжительным и насмешливым взглядом. Нойман все также был одержим мечтами о ней, но нынче он не позволял себе прежних откровений. Да и вездесущая Дарья теперь присутствовала на всех его процедурах, вызывая в нем глухое раздражение. Казалось, что Дарья что-то чувствует или о чем-то догадалась, а потому, повинуясь одной ей ведомой логике, старалась оградить своего доктора от пускания во все тяжкие.
Черный силуэт незнакомца больше не попадался Людочке на глаза. Казалось, призрак затаился или исчез, а вместе с его исчезновением пропал и липкий страх.
Наступил сентябрь, вторая половина. За это время граф ни разу не навестил свою семью. Он только писал жене письма, ссылаясь на сильную занятость по службе. И обещал забрать Руфину и детей к середине октября. В конце октября его супруга должна была родить. В деревне ее регулярно навещал доктор – беременность протекала без каких либо осложнений, если не считать приступов небольшой меланхолии женщины, ввиду отсутствия с ней супруга. От таких напастей доктор давал ей валериану и другие успокоительные сборы трав. Это была не первая беременность Руфины. А потому она отлично знала, что деликатное положение не делало ее ничуть привлекательнее в глазах ветреного супруга. Многие дамы расцветали во время беременности, но у несчастной Руфины все обстояло иначе. Черты её и без того некрасивого лица укрупнялись, делались тяжелее, тонкая кожа покрывалась множеством пигментных пятен. Зеркало не обманывало ее – она выглядела печально. Графиня Краевская всерьез опасалась, что супруг окончательно к ней охладеет, а потому не решалась что-либо изменить в своем положении. Она лишь смиренно ждала родов и старалась без особой нужды не показываться мужу на глаза. А потому ее письма Анатолю носили сдержанный характер. Она более не настаивала на его приезде.
* * *
– Сегодня, я ездил на Новослободскую, смотрел квартиры, – сообщил граф Людочке, когда они лежали после заказанного на дом обеда.
– Да?! – Людмила оживилась.
– Да, я нашел милую трехкомнатную квартирку. Сейчас там идет небольшая побелка. К середине октября ты переедешь туда. Я уже внес залог.
– Любимый, господи, какое это счастье! У нас будет с тобой свой маленький дом.
– Да…
Он целовал ее в раскрытые губы. С некоторых пор граф стал замечать, что груди его возлюбленный стали еще спелее, а сама фигура еще более соблазнительна.
– Любимая, ты хорошеешь день ото дня, – шептал он.
– Анатоль, не заказывай больше этот жирный бульон, – отчего-то попросила она. – Меня от него тошнит.
Она соскочила с кровати и побежала в уборную.
– Что с тобой? – он тревожно посмотрел ей в глаза, когда она вернулась.
– Не знаю, меня вырвало. Я не хочу больше этот куриный бульон с гренками. От него неприятно пахнет. Как-то иначе. Наверное, куры другие…
– Как скажешь, дорогая. В следующий раз я закажу рыбу, – беспечно отвечал он. – А поехали есть мороженное?
– Да!
Он заказывал ей пахучие шарики клубничного мороженного. Галантный официант приносил на подносе фарфоровые тарелочки со сливочным лакомством. Она ела его серебряной ложечкой, жмурясь от наслаждения. Он сидел напротив и любовался каждым ее жестом, мелкими жеманствами, девичьим кокетством и… острым красненьким язычком, который она периодически показывала ему сквозь ряд жемчужных зубов. И не было в мире людей счастливей, чем они. Этот шаловливый язычок сводил его с ума. Он сжимал в руках крахмальную салфетку. Вращал глазами и, стараясь выглядеть зловещим, шептал ей на ухо одним им понятные угрозы. Она хихикала, запрокидывая назад голову. Слышался удар туфельки об пол, обнаженная ножка, в одном чулке, гуляла по его сильным ногам, задерживаясь в области паха. Он начинал тяжело дышать. Мороженное доедалось в мгновение ока, и они быстро ехали домой.
В следующий раз Людочку вырвало после ракового супа.
– Ma puce, ну что с тобой? Надо вызвать доктора. Мне не нравится, как ведет себя твой желудок.
– Не надо доктора. Они все противные, – капризничала Людмила. – Я просто не люблю раков и курицы я тоже не хочу. Купите мне персиков или помидор. Или… А впрочем, ничего не нужно. Я хочу спать.
– Поспи немного. Сегодня вечером мы поедем с тобой в один тайный клуб. Я познакомлю тебя еще с одной моей страстью.
– Анатоль, вы снова меня пугаете. Что на этот раз?
– Ты сама все увидишь.
В этот же вечер он привез ее в центр города, к торговым и купеческим рядам. Здесь были всем известные модные магазины. Только в этот раз он провел ее мимо парадных входов и стеклянных витрин. Они свернули в арку и оказались на заднем дворе прямоугольного каменного «мешка». Краевский потянул ее в узкий проход между двумя, мрачного вида строениями. Их взору открылся еще один двор с едва приметной, небольшой дверью в одном из трехэтажных зданий. К двери вело довольно скромное крыльцо, вокруг которого высился пожелтевший кустарник. На улице уже смеркалось, стал накрапывать дождь.
– Погода совсем испортилась, – Людмила зябко ежилась.
Она была чертовски хороша в новом бархатном, темно шоколадном плаще, отороченном лисьим мехом. В тон к плащу была заказана элегантная шляпка с кружевной вуалеткой. Из-под длинной креповой юбки выглядывали острые носки кожаных темных ботинок, купленных в модном салоне. Маленькие кисти рук, облаченные в ажурные перчатки, держали мягкий ридикюль. Ему нравилось наряжать и баловать ее. За это короткое время он купил ей целый гардероб новой и модной одежды, множество золотых колец, сережек, браслетов и даже небольшое бриллиантовое колье. Людочка радовалась каждому подарку. Бывало, она хлопала от радости в ладоши, целовала его в кротком смущении. Он видел, что каждый подарок вызывает в ней не только море радости, но и откровенную признательность, доходящую до слез совершеннейшей, чистой благодарности. Ради этих улыбок и слез он и дарил ей все эти подарки.
«А она меняется, – подумал он. – От нее уходит юношеская робость и беспричинная пугливость. Она расцветает, подобно нежной и изысканной розе, источая тонкий аромат. Она все чаще шутит, кокетничает, непринужденно болтает по-французски, вспомнив все то, чему ее учили в гимназии. Ее взгляд стал смелее, а в постели… В постели в ней пробуждается богиня. И так ей хочется главного – чтобы я, наконец, сделал ее женщиной. Я знаю, она тут же родит. Ну и пусть… Я обожаю ее».
– Ничего, сейчас ты согреешься.
– Анатолий Александрович, куда мы пришли?
– Мы пришли к господину Ли.
– Кто это?
– Ли – держатель опиумного клуба. Сейчас ты увидишь и сам клуб. И еще мы немного покурим опиума. Это невредно в небольших количествах. У тебя снова появится аппетит.
Открыла им низенькая женщина, китаянка, одетая в смешную, канареечного цвета кофту и штаны. Она кивнула и посеменила вперед по темному и длинному коридору. Краевский шел вслед за ней, увлекая за собой Людмилу. Они свернули еще в один пассаж и оказались в огромном зале, перегороженном деревянными панелями и длинными разноцветными портьерами.
Всюду стояла странная тишина, наполненная тихим шепотом, шуршанием ткани, легким постукиванием, и редкими покашливаниями.
– Сейчас нас приведут в «цветочную лодку».
– Что это? – шепотом полюбопытствовала Людочка.
– Это такая комната, где мы проведем с тобой время до утра. Здесь есть общие комнаты и отдельные номера. Смотри, – он быстро отогнул одну из тяжелых портьер и поманил ее пальцем.
Людмила увидела несколько спящих или дремлющих человек. Все они лежали на небольших пестрых матрасах, расстеленных прямо на напольном ковре. Во рту у каждого были длинные курительные трубки. Рядом, на невысоких столиках, стояли странные металлические и стеклянные предметы. Горели небольшие керосиновые лампы, освещая спящие лица. В комнате находились трое мужчин и две женщины. Мужчины дымили трубками, лежа на боку. Их лиц Людмила не смогла толком разглядеть. Один был одет в распущенную из пояса рубашку. Двое других оставались в сюртуках. Одна из женщин, некрасиво раскрыв рот, крепко спала, разметав по подушке длинные черные волосы. По виду она была не из бедных. На ней было дорогое платье, пышный подол обнажал часть голых икр, худые щиколотки и красные туфли. В расслабленной руке лежала длинная трубка. Другая, совсем молоденькая и бледная, что-то бормотала, кривя бескровные губы в странной, неприятной улыбке. Зрачки темных глаз, прикрытые тонкими веками, закатились кверху.
– Почему они спят?
– Ты тоже, наверное, уснешь, – тихо отвечал он. – Не бойся, я буду рядом и буду держать тебя за руку.
Они вошли в дальний кабинет. Он отличался от тех, что они видели по дороге. Обстановка этого кабинета выглядела богаче. Восточные ковры покрывали не только пол, но и стены. Вместо напольных матрасов здесь стояли две невысокие деревянные кровати, без спинок. На них лежали шелковые подушки и одеяла, разрисованные китайскими иероглифами и цветами. Потолок и часть передней стены украшали деревянные барельефы в виде красных драконов. Всюду висели бумажные фонарики, веера и множество китайских сувениров. Пока Людмила разглядывала причудливую комнату, она услышала позади себя шорох.
– Здравствуйте, граф, – прозвучал мужской голос с непонятным, кукольным акцентом.
– Здравствуй, Ли.
Людочка обернулась и увидела перед собой пожилого китайца, одетого в национальный костюм. Черные, подернутые сединой волосы, были прилизаны и переходили в небольшую косичку, затянутую на затылке. Узкие глаза терялись в складках морщинистых щек. Китаец подобострастно улыбался графу.
– Чанду? Как всегда?
– Да, Ли. Ты все знаешь. И для дамы тоже. Она в первый раз. Ты понимаешь.
– Я понимаешь, – кивнул учтивый Ли. – Ложитесь, господа.
– Мила, снимай плащ, шляпку и ложись на ту кровать, я укрою тебе ножки. А сам лягу напротив, – ласково проговорил Краевский.
Она сняла верхнюю одежду и нерешительно присела на край кровати.
– Анатоль, мне все это непривычно.
– Ничего не бойся… Тебе понравится. Снимай и ботики. Я укрою тебя, – он мягко взял ее за талию, поцеловал в губы и наклонил плечи к подушкам. – Лежи. Сейчас тебе дадут трубку. Ты попробуешь ее курить. Ли покажет тебе, как это делается.
Людмила лежала на боку и внимательно следила за манипуляциями старого китайца. Возле каждой кровати размещался столик со специальным лотком. Китаец что-то старательно сыпал, растирал секретный порошок, поджигал лампу. Людмила не запомнила всех его движений. Диковинные приборы и металлические предметы напоминали ей нечто медицинское. Она совсем бы не удивилась, если бы подобный инструментарий оказался в руках Ноймана. Единственное отличие заключалось в яркости курительных предметов. Длинную трубку украшал красочный восточный орнамент. Такой же орнамент покрывал фарфоровые шашки и прозрачную лампу, которая светилась таинственным голубоватым светом.
Вначале Ли раскурил трубку для графа. Тот вдохнул опиумный дым и зажмурился. Людочка тоже вдохнула. И закашлялась.
– Не торопись. Делай так… – показывал ей граф.
Довольный Ли кивнул им и вышел, забрав с собой подсвечник со свечами. В комнате воцарился таинственный полумрак. Голубоватые лампы мерцали уютным, мягким светом, вгоняя посетителей в легкую дрему. Взор графа затуманился. Он все еще с обожанием смотрел на Людмилу, тихо рассказывая ей об особенностях «опиумной культуры». Она вдыхала дым неумело, но тоже почувствовала, как ее стало клонить ко сну.
Сквозь волны полузабытья, уколом тупой иглы в сердце вошел холодный страх. Ей стало страшно засыпать в комнате, где вместо двери весела плотная портьера, напоминающая шерстяной ковер.
«Сюда может проникнуть любой».
«Ну и что? Что с того? Засыпай» – словно баюкал кто-то.
На стене заплясали длинные тени. Граф блаженно улыбался и не походил сам на себя. Его красивая улыбка превратилась в незнакомый оскал, наполненный вычурным блаженством, близким к помешательству. Она силилась ему что-то сказать, но голова тяжелела и клонилась к шелковой подушке. Самыми тяжелыми оказались веки. Она старалась их открыть, но взгляд катился в сторону. Куда-то уплыли все мысли и желания, руки и ноги стали ватными. На самом пике борьбы со сном Людмила решила отступить и провалилась в пустоту.
Раздался сухой щелчок. Что-то свистнуло над самым ухом. Трубка упала из рук. И в этот самый момент она проснулась. Усилием воли она села, ее повело в сторону. Крик превратился в слабый, шипящий и хриплый стон, идущий из середины живота. В дверном проеме, где еще недавно плясали и затухали краски пестрого ковра, колеблясь от тонких лучей лампы, стоял высокий и темный силуэт. Его рука была направлена на нее и казалась неестественно длинной. И он… Он целился в нее… Из пистолета. Людочка снова крикнула. На этот раз крик оказался сильнее. Темный силуэт дрогнул. Опустил руку и растворился за тяжелым ковром. Даже сквозь толстый ворс она услышала быстрые шаги. Похоже, черный господин бежал. Вдалеке хлопнула дверь.
– Анатоль, там он, – шептала она онемевшими, деревянными губами.
Краевский проснулся не сразу.
– А? Что? Ты спи, – пробормотал он, закатывая глаза.
Проснулся он от тихого плача. Она судорожно трясла его за пуговицы жилета.
– Анатолий Александрови-ии-ич, проснитесь. В меня стреляли! – задыхалась она.
И пока он соображал о том, что произошло, в комнату вбежал старик Ли.
– Сто это?! Сто здесь было? Кто стрелять у меня в салоне?
Через пятнадцать минут, когда Краевский почти пришел в себя, этот же вопрос он задавал старому Ли.
– Это тебя я хочу спросить: что это? Черт побери!
– Ли не знать. Ли не виноват, – китаец тряс лакированной головой.
К аромату благовоний в «цветочной лодке» добавился легкий запах пороха. Именно это обстоятельство убедило Краевского в том, что его плачущая любовь ничего не придумала, и ей не показалось. Кто-то стрелял. Только в кого? Он не мог поверить в то, что целились в Людмилу. Это обстоятельство казалось ему абсурдным. К этому времени граф осветил свечами комнату и увидел в ковре, чуть выше подушки, дырку от выстрела. Он сдернул тяжелый ковер. В деревянной панели острыми краями зияла небольшая дыра. Недалеко от нее он нашел и пулю.
– Что это?! – в какой раз кричал граф на испуганного Ли.
– Ли не виноват…
– А кто виноват? Сейчас я позову полицию.
– Не надо полицию. Полиция есть закрывать Ли. И вас наказут. Вас тозе арестуют.
И только тут до рассвирепевшего графа дошло, что ему самому невыгодно вызывать полицию. Если бы он поступил подобным образом, то огласка его пребывания с любовницей в опиумном притоне стала бы очевидной. Он сел на кровать и обхватил руками голову. Людочка жалобно плакала, трясясь от страха.
– Я говорила вам. Говори-ии-ии-ла. Вы мне не верили…
– Мила, ты тут не причем. Это происки конкурентов господина Ли. Или покушение на кого-то другого. До нас здесь были другие господа. Я выясню кто. Тебя с кем-то спутали. Это очевидно. Успокойся. Мы больше никуда не пойдем. Зимой мы уедем за границу. Там тебя никто не обидит. Едем домой. Успокойся, это – глупая случайность. Ужасная случайность. Нелепая и страшная случайность.
Когда они вернулись домой, он выпил стакан коньяка и заставил выпить ее. Людочка долго всхлипывала в его объятиях, пока не заснула. Анатоль слишком долго не мог уснуть. В темноте он молился и благодарил бога за то, что он оставил ему возлюбленную. Он плакал и целовал ее русые волосы, боясь пошевелиться и ненароком разбудить ее.
Среди ночи он встал и снова выпил коньяку. Потом, будто спохватившись, полез в карман брюк. Он достал пулю и стал рассматривать ее на свету.
«Похоже, это Биттнер[57], судя по форме пули и калибру, – рассуждал Краевский. – Но кто это мог быть? Кому насолил узкоглазый Ли? Кто был в его притоне до нас?»
Мысль о том, что целились специально в Людочку, он отбросил, как самую абсурдную.
* * *
Он шел по коридору быстрым шагом, фалды длинного плаща развевались у него за спиной. Дежурная горничная, совершающая ночной обход коридоров, была едва не сбита этим странным господином, который около трех месяцев проживал в их гостинице. Этот господин был высок и строен. Красивое лицо с тонкими чертами обрамляли светло русые кудри, зачесанные назад. Голубые глаза были сосредоточены и печальны. Одевался этот господин чаще во все черное. Безупречный и дорогой фрак, темный плащ, высокий цилиндр, трость с костяным набалдашником, роскошный батист белоснежных рубашек, запах французских духов – все вместе выдавало в нем очень состоятельного человека. Ел он мало. Чаще обедал в ресторанах.
– Прочь с дороги! – злобно крикнул он.
«Надо же, какой грубиян, – подумала молодая женщина. – Столичный гость, такой красавец. Но зол… Отчего он постоянно зол? Может, проигрался? – расстроено думала она».
Горничная неоднократно слышала, как этот странный жилец за плотной дверью разговаривал сам собой, не спал ночами, ходил по уютному и просторному номеру, громко стуча каблуками. Она даже слышала, как он плакал. Да, плакал, словно женщина…
«Откуда он так поздно? Уже почти два часа ночи… Наверное, точно проигрался».
Управляющий гостиницы называл его за глаза «господином сочинителем», ибо видел у него на столе кучу исписанных листов. Истинное свое имя, титул и положение «сочинитель» не выдавал, предпочитая все три месяца оставаться инкогнито.
Он зашел в номер и заперся изнутри. Движением руки скинул с себя длинный плащ. Плащ упал с грохотом на пол.
«Божеее… – он поднял его и достал из кармана биттнеровский пистолет. – Надо было выбросить его в реку. Хотя, он может мне еще пригодиться. В следующий раз я не промахнусь».
Он лег на кровать в одежде и долго смотрел в потолок, пытаясь унять дрожь в руках.
«Черт! Черт! Как я мог промахнуться? – досадовал он. – Как? Хотя, там очень темно. Рука дрогнула. Это был узор на подушке, а не ее голова… Анатоль так и не проснулся. Он не видел меня».
Мужчина встал и принялся ходить по комнате.
«Ненавижу! Дрянь! Мерзкая дрянь! Беспородная плебейка, присосавшаяся к богатому графу. Если бы я попал… Ее кукольная мордашка лежала бы сейчас в луже крови. А потом? Убить Анатоля? О, господи! Что я несу?»
Он присел на кровать. Рука с тонкими и необыкновенно длинными, аристократическими пальцами потянулась к книге, лежащей на столе. Он распахнул пожелтевшие страницы. К ногам упал дагерротип, наклеенный на толстый картон. Он поднял его. На нем был запечатлен человек, без которого он, князь Константин Николаевич С-кий, не мог жить. Он дышать не мог без этого человека. Этот снимок был сделан возле окраины старого Бадена. Как им было тогда хорошо вместе.
«Ах, Анатоль! Я ненавижу и тебя! – он исступленно и безысходно взвыл, подобно тоскующему псу. – Я ненавижу и люблю тебя».
Вот уже три месяца, как князь Константин Николаевич С-кий проживал в ненавистной ему гостинице. Он приехал в этот город, чтобы следить за Краевским и его новой пассией. Он понимал, насколько абсурдно и мелко его поведение. Насколько он жалок и смешон в своих собственных глазах. Когда впервые он увидел их вместе, то испытал не только приступ мучительной ревности, но и своеобразное, жестокое наслаждение. Придя в номер, он грустил, вожделея ласки своего любовника. Грустил и забывался лишь сном. Он простил бы ему связь с любой женщиной, что часто случалось и ранее, если бы не взгляд Краевского. Тот взгляд, которым он смотрел на эту девицу. Константин не мог его ни с чем спутать. Во взгляде жила любовь. Нельзя было Анатолю смотреть на кого-либо вот таким взглядом. В ночных кошмарах его преследовал этот взгляд. Он много раз прокручивал варианты своего объяснения с Краевским. И полыхал от стыда и муки. Он много раз писал ему письма и даже стихи, но тут же рвал их, не отправляя. Сначала он хотел-таки встретиться с графом и обо всем поговорить. Но боялся. Он боялся и следил за ними. Эта слежка доставляла ему ни с чем несравнимое удовольствие, болезненное, мучительное и острое. Он без ножа вскрывал кровоточащую рану в своем сердце. И происходило это каждый день. Константин, как татя, крался за влюбленными. Он научился быть невидимым и ускользать внезапно и без следа. Ему казалось, что Людочка пару раз таки заметила его. А может, это ему лишь казалось?
С начала осени он измучился так, что не было сил вставать с кровати. Нервы были возведены, словно курок пистолета. Именно это сравнение и привело его к мысли об убийстве.
«Я должен ее убить, – понял он. – Она должна умереть. Пройдет время, и Анатоль вернется ко мне. Он всегда возвращался ко мне, ибо наша любовь навсегда…»
Князь не заметил, как тревожный сон охватил его голову.
* * *
«Какой кровавый закат! – подумал Константинус. – Как я ненавижу кровь. Но мои руки уже давно по локоть в крови. Завтра на рассвете будет показательное оскопление пленников. Понтифик давал воинам напутствие, не щадить своих врагов».
Его возлюбленный центурион Антемиол из рода Квинтиев сегодня ночует без него. Он ушел играть в кости со своими ближайшими друзьями. Вот уже ровно месяц, как он, Константинус, и Антемиол стали близки друг с другом. Они не афишировали свою связь, а лишь тайно наслаждались ею. Наслаждались, как два влюбленных безумца. Константинус знал, что боги создали его для любви. Для любви к Антемиолу.
Впервые он увидел его в Риме, на празднике во дворце у Цезаря. Антемиол поразил его своей красотой. Как только Константинус увидел широкие плечи этого патриция, его властный взгляд, высокую и статную фигуру, красивое мужественное лицо, то его сердце загорелось от огня любви. Он понял это с первых мгновений, как случайный взгляд центуриона скользнул по прекрасному лицу юноши, задержавшись на нем лишь на мгновение. Именно этого мгновения хватило Константинусу из и рода Ларциев, чтобы полюбить Антемиола навсегда.
Он приходил на собрания в Комиций, садился на мраморную скамью и смотрел издалека на знакомые черты центуриона. Белая претекста охватывала мощный торс мужчины. Константинус любовался сильными руками возлюбленного, его породистыми длинными пальцами. Претекста поднялась в движении, и Константинус замер, увидев его обнаженные и стройные ноги, с рельефными икрами, обутые в сандалии. Об Антемиоле ходили слухи, что однажды в военном походе он за одну ночь переспал с пятью девственницами и пятью юношами, взятыми в плен. Ему не было равных ни в бою, ни на любовном ложе.
Константинус выслеживал центуриона на пирах, стараясь присесть рядом. Ходил за ним на расстоянии десяти шагов по форуму. Старался следовать всюду, но Антемиол упрямо не замечал красивого юношу. В Риме много красивых молодых мужчин.
– Когда ты успокоишься? – спрашивал его дядя Марк, с которым он был близок не столько кровной связью, как привычками. – Разве мало в Риме достойных и сильных патрициев? Найди себе другого педикатора[58], – дядя подмигнул.
Его дядя даже не был ни разу женат из-за любви к своему патикусу.
– Ну как ты не поймешь, что сами боги показали мне Антемиола. И с тех самых пор я хожу сам не свой. Мне ячменные лепешки кажутся горькими, а вино кислым. Ночи для меня длины и мучительны, а ясный день наполнен пустотой. Мне легче сразу умереть, чем согласиться, что любимый никогда не прикоснется к моей руке.
– Горячий мальчишка, кому, как не мне понятны все твои страдания. Но твой центурион женат.
– Что с того? Когда жены мешали патрициям в поиске любви? У него уже был до меня урнинг, и не один.
– Я смотрю, твой центурион всеяден, – расхохотался Марк.
– Как и каждый достойный патриций.
– Trahit sua quemque voluptas.[59]
– Марк, что мне делать? Я всюду искал встречи с ним. Но он не замечает меня, будто я невидим.
– Сойдись с ним ближе на пиру у Цезаря.
– Поздно, через три дня он со своей центурией отправляется на подавление мятежа в одной из провинций. Зачинщики уже схвачены. Но предстоит зачистка от восставших в пяти селениях. Возможно бои.
– В Иудее?
– Да, на подступах к Hierosolyma.
– Но ведь осада пала?
– Мне сказали, что восставшими занято еще много селений. Понтифик приказал восстановить римские храмы на распаханной земле. Скоро в центральной части города встанет храм Юпитера.
– Каленым железом и серпами они собираются пресекать этих варваров?
– Да… Марк, ты знаешь, как мне противны темы войны, и тем паче наказания. Но аlea iacta est[60]. Я записался в центурию к Антемиолу.
– Ты сошел с ума. Ты изнеженный патикус. Твоя рука не приучена к мечу.
– Я умею держать оружие. Меня учили этому до пятнадцати лет.
– Может и учили. Однако наука та не пошла впрок. Suum cuique[61]
– Я не вынесу несколько месяцев, чтобы не видеть возлюбленного. Пусть я паду в кровавом бою, зато он увидит меня хоть напоследок.
– Ты точно обезумел, – вздохнул Марк. – Ладно, пошли выпьем вина. Когда еще мы встретимся с тобой? Пусть боги хранят тебя, мой мальчик. Не лезь, Константинус, вперед, на копья.
Константинуса хранили боги. Этот поход не был столь кровавым, как другие. Центурия Антемиола с легкостью занимала деревню за деревней. Восставшие сдавались после короткого боя. В распоряжении римского войска оставалось имущество восставших иудеев, а также красивые женщины и юноши. Центурион Антемиол вял себе в походный шатер одну юную и очень красивую иудейку, и не менее красивого юношу. Он собирался привезти узников в Рим и оставить их рабами в своем доме. Но все вышло иначе.
Константинус во время похода не раз пытался предстать пред очами обожаемого военачальника. Он снова искал множество поводов. Однажды центурион даже похвалил его за смелость в коротком бою. Но все это было не то. Как не старался, Константинус не сдвинулся ни на йоту в завоевании сердца Антемиола. Как часто вечерами он слышал смех юной иудейки или непонятный гортанный говор юноши. Центурион забавлялся со своими любовниками и ни от кого не таился. Каждый воин мог взять себе для развлечения любого пленника. Только Константинусу был нужен лишь один человек, лишь его Антемиол. Сколько ночей он сидел недалеко от шатра центуриона, жег костер вместе со стражниками и вслушивался в любовные стоны. Стражники одобрительно похохатывали, а он испытывал муки ревности и горел от нестерпимого желания.
Именно тогда в его голове созрел план, который должен был решить все разом. Перед самым рассветом, когда задремал весь лагерь, а Антемиол устал от любовных игр, Константинус приблизился к шатру. Стражник стоял один в карауле. Другой отлучился по своим делам. Константинус взял острый гладиус[62], подкрался сзади и перерезал горло. воину. Тот тяжелым мешком упал к ногам Константунуса, залив ему сандалии горячей кровью. Несчастный даже не успел вскрикнуть.
Константинус проник в шатер. Его поразило богатое убранство и роскошь мягких ковров. Антемиол спал за тонкой перегородкой. Сердце Константинуса стучало возле горла. Ему было очень страшно, но он знал, что обратной дороги у него нет. Осторожно, на цыпочках, он подкрался вначале к спящему юноше. Черные кудри разметались по подушке. В свете луны его лик был прекрасен. Шелковые ресницы чуть припухших век скрывали свет ярко синих огромных глаз. От ревности у Константинуса запылали щеки. Мальчик умер в глубоком сне. Он даже не шелохнулся, когда кинжал Константинуса перерезал его горло. Также тихо он подкрался и к спящей иудейке. О, боги, перед ним лежала восточная красавица с длинными волосами, тонкая газель со стройным и хрупким телом. Розовые лалы были вплетены в ее черные кудри, и словно лалы горели ее нежные губы. Безволосое тело казалось гладким, как морская галька. Маленькие острые груди вздымались от дыхания. Константинус занес меч и над ее тонким горлом. В этот момент девушка проснулась. Константинус еще долго помнил огромные и распахнутые от ужаса глаза этой восточной девочки…
Затем он уронил несколько горшков и другую посуду. Порезал себе руки и живот. Измазался кровью своих жертв и упал возле комнаты Антемиола. Центурион к тому времени проснулся, разбуженный громкой возней и нарочитыми криками Константинуса.
Его глазам предстала жуткая картина. Вся соседняя комната была залита кровью. В луже крови лежал один из его храбрых воинов, красавец Константинус, и почти не дышал. Позднее, «придя в себя», Константинус слабым голосом объяснил, что случайно шел мимо шатра Антемиола, как увидел, что двое человек из лагеря мятежников (он описал их внешний вид) напали ночью на шатер центуриона. И что он едва успел прогнать их, ранив одного. Он не успел спасти прекрасных ликом рабов Антемиола, но спас его самого.
Антемиол поверил сказкам Константинуса и приблизил его к себе, одарив множеством подарков. Но не подарки были нужны Константинусу из рода Ларциев. И тогда во время очередного застолья, когда Антемиол был во хмелю и оплакивал своих убитых любовников, Константинус упал к его ногам и принялся целовать сандалии.
– Выслушай меня, о храбрейший из воинов. Мне жаль, что враги убили твоих прекрасных рабов. Но разве свободолюбивый и почетный гражданин Рима должен всегда довольствоваться услугами покоренных варваров, чьи ласки фальшивы, как может быть фальшива любовь раба?
Антемиол внимательно посмотрел в голубые глаза юноши.
– Ты говоришь очень умные речи, – согласился он. – Встань же с колен.
– Антемиол, гордость, происхождение и воспитание не позволяют мне падать на колени перед равным. Но любовь моя позволяет мне сделать это. Вот уже скоро год, как я одержим жгучим пламенем страсти, и сердце мое разрывается от любви к тебе, мой прекрасный центурион. Ты оплакиваешь красивого раба. Он был совсем мальчиком. И ты, искушенный, ценишь лишь зеленые плоды. Но посмотри на меня, я еще совсем молод. Мне только исполнилось девятнадцать. И разве я хуже убитого иудея, над которым ты скорбишь? Дай свою руку и потрогай мое горячее сердце. Послушай его стук. Оно так стучит ради тебя. Любимый мой, если ты отвергнешь меня, я тут же покончу с собой. Ибо жизнь без тебя подобна смерти.
Антемиол не ответил Константинусу. Он подал ему руку и усадил рядом с собой. Его пальцы погладили матовую щеку юноши, прошлись по волосам. Он вспомнил этот взгляд. Он вспомнил, что эти глаза снились ему и ранее. Он вспомнил, что видел их всюду. Властной рукой Антемиол привлек к себе Константинуса и крепко поцеловал его.
– Ты был хоть раз с женщиной?
– Нет. Я рожден патикусом. Меня не тянет к женщинам. Их женщин я любил лишь свою мать, но она умерла, когда мне было три года. Меня воспитывал отец и дядя Марк.
– Хорошо, Константинус. Я тронут твоими речами. Оставайся в моем шатре. Отныне ты будешь жить со мной.
И потекли жаркие ночи любви. Константинус будто возродился вновь, когда ощутил всю любовь Антемиола. Чужая каменистая земля казалась ему раем неземным. Он мечтал, чтобы этот поход длился целую вечность.
«Какой кровавый закат! – подумал Константинус. – Как я ненавижу кровь. Но мои руки уже давно по локоть в крови. Завтра на рассвете будет показательное оскопление пленников. Понтифик давал воинам напутствие, не щадить своих врагов. Vae victis[63]».
Антемиол вернулся от своих друзей, где они играли в кости.
– Константинус, ты спишь? – шепотом спросил он.
– Нет, возлюбленный мой. С тех пор, как твоя любовь коснулась меня, я освещен счастьем. Сами боги могут позавидовать мне. Я самый счастливый человек, – по его щекам катились слезы.
Антемиол прилег рядом.
– Сокровище мое, не стоит плакать. Я тоже полюбил тебя всем сердцем. Я буду нежен с тобой.
– Твоя нежность для меня важнее, чем свет лучезарной Авроры. Но…
– Что?
– Я очень хотел бы, чтобы ты был ко мне иногда чуть жесток.
– Мой мальчик любит игры с болью?
– Да…
– Хорошо, завтра я привяжу тебя к скамье и угощу ударами плетки.
– Я почту это за честь, возлюбленный.
Антемиол увидел, как загорелись в темноте глаза Константинуса, а плоть его сделалась тверже камня…
– Завтра будет показательное оскопление, – проговорил Константинус спустя час.
– Я знаю. Я не люблю все это. Такие зрелища напоминают мне культ Изиды. Я давно перестал ходить в ее храм. Изида – богиня плебеев. Я радовался, когда Цезарь разрушал ее храмы. Но время доказывало, что египетская богиня сильнее Цезаря и консулов, – Антемиол немного помолчал в раздумьях. – Мне ненавистно всякое членовредительство. Даже если оно проводится в наказание или во славу богини. Если человек враг, я предпочту его убить без пытки. Мне противны мучения людей и животных. Я храбрый воин, но меня учили только убивать, но не мучить.
– Согласен с тобой, мой возлюбленный. И мне противны мучения несчастных. Едва ли все выживут после той процедуры. В прошлый раз из оскопленных пленников не выжил ни один.
– Да, я помню их стоны. На третий день мучений я приказал их всех умертвить, – признался Антемиол. – Но в этот раз с нами эскулап из стана иудеев. Им привычен уход за такими увечьями. Может, он и выходит кого-то.
По приказу Великого Понтифика во время римских походов должны были проводиться показательные пытки – оскопление и выкалывание глаз. Иногда Понтифик приказывал сотворять еще более страшные вещи. Многим воинам были не по душе эти кровавые обычаи, ведущие свое начало от Египетской Изиды, но они беспрекословно выполняли требования жрецов.
На рассвете уже звучали походные трубы, был готов жертвенный алтарь с набором отточенных серпов, блестящих на солнце своими зловещими лезвиями. Тут же дымился очаг с железным прутом, утолщенным на конце.
Пленников вывели обнаженными. Их было десять человек. Среди них не было старых мужчин. Все они казались совсем молодыми и полными сил, хоть их лица выглядели белее полотна от страха предстоящей муки. Возле них колдовал эскулап. Он перевязал им половые органы у основания какой-то веревкой.
– Что ты с ними сделал? К чему эти веревки? – поинтересовался Антемиол с плохо скрываемой досадой. Он хмурился и отворачивался от пленников.
– Ты же хочешь, центурион, чтобы Рим получил новых рабов на мраморных каменоломнях? Все они молоды и полны сил. К чему их убивать?
– Они и так мрут после этой пытки.
– Я попробую сделать так, что они не умрут, – захихикал лекарь. – Я уже много лет провожу кастрацию мужчин и женщин. Мне поручали делать евнухов для храмов и сералей. Я знаю, чем их поить и сколько кормить накануне. Я знаю, за сколько часов нужно убрать воду. Смотри, центурион, здесь у меня калится железо для прижигания раны. А это гусиные перья для отвода мочи. Ты наградишь меня, если большая часть пленников останется в живых?
Антемиол молча кивнул и удалился с места пытки. Палач занес свой серп…
Константинус же остался наблюдать за процессом. У него ныло в паху, и мутило от крови, уши едва выдерживали крики, глаза не хотели видеть куски отсеченной серпом плоти, ноздри не желали вдыхать дым от паленого мяса. Но он не сдвинулся с места.
В эту же ночь он скулил от боли, когда Антемиол сек его на лавке. Он скулил и благодарил богов за это острое наслаждение.
– Зачем ты остался на пытке? – спрашивал его центурион. – Тебя возбуждают страдания?
– Не-ее-ее! Да-аа-аа! – стонал Константинус.
А после были страстные и нежные ласки. Антемиол еще горячее брал своего любовника, а тот с жаром отдавался. Ближе к утру Антемиол сам смазал спину Константинусу лечебной мазью, настоянной на травах.
– Надо было меньше ударов, – досадовал он.
– Не щади меня и в следующий раз, – отвечал патикус. – Твоя рука для меня награда во всяком виде.
И он целовал руки своего любовника.
Иудейский лекарь исполнил свое обещание. Все десять пленников остались в живых. Не умер ни один. Всех их отправили в каменоломни, на добычу каррарского мрамора. А Антемиол брезгливо отсчитал эскулапу десять золотых монет.
Поход закончился, когда был полностью подавлен мятеж в иудейских поселениях. Центурия вернулась в Рим. Антемиол был щедро награжден Цезарем. За хорошую службу Цезарь пожаловал Антемиолу земли в нескольких провинциях.
Прошло два года. Сердце Антемиола все также было занято Константинусом. Юноша поселился в одном из домов своего обожаемого центуриона. Ночи напролет проводили любовники в изысканных и смелых ласках. Долгими ночами они лежали на огромном кедровом ложе (lectus genialis), покрытом персидским ковром и шкурой ягуара.
Константинус любил боль, а Антемиол стал получать удовольствие от причинения ее. Больше всего они оба вожделели тот момент, когда Константинус рыдал чистыми слезами от плетки и легких пыток. Тогда Антемиол отвязывал его от беломраморной скамьи (scamnum) и ласкал с жаром, неведомым обычным любовникам. Это была смесь острой жалости, тонкой игры и горячей, как лава, похоти.
– Твоя тактика оказалось верной, – похвалил Константинуса Марк.
– Ах дядя, если бы ты знал, на что я пошел ради этого, – задумчиво отвечал ему племянник.
– Ты все правильно рассчитал. Поле брани – лучшее место для покорения сердца воина. Он не охладел к тебе за это время?
– Нет, он все также страстен. Правда, несколько ночей в месяце он проводит с женой. Та уже три года не рожала. Надо делать наследников. Это – священный долг каждого гражданина, – усмехнулся патикус. – Я не ревную его к женщинам. Похоже, он равнодушен к самкам.
Но как ошибался Константинус. Случилось так, что Великий Понтифик пригласил Антемиола к себе на пир, в регию. Антемиол пришел к подножию Палатинского холма в самом хорошем расположении духа – веселый, праздный и беззаботный. А покинул это место, охваченный глубоким смятением и неведомым ранее страданием. Там, на торжественной церемонии, что состоялась до самого пиршества, впервые он увидел ту, что знал многие века до этой жизни. Ту, чей образ он узнал бы из тысячи других, живущих на этой земле. Ту, что была его второй половиной. Ту, что он любил, не зная. Ту, что звали Люциния. Коварство богов заключалось в том, что в этом воплощении его возлюбленная служила весталкой, чья непорочность считалась священной. И горе было бы тому, кто посмел покуситься на сакральную чистоту юной жрицы богини Весты. И Антемиол навсегда потерял мир и покой.
В тот же вечер он не смог сблизиться со своим любимым патикусом. Он уже не с кем не смог быть в близости. Дева с русыми волосами и венком из белоснежных лилий, дева с кротким взором карих глаз и нежным ликом – она одна заполнила его сердце и сковала волю. Она стала смыслом его жизни.
А что Константинус? Бедный юноша с опухшими от слез глазами, измученный ревностью и слежкой за Антемиолом и Люцинией, лежал теперь на каменной скамье и думал лишь об одном: «Я должен ее убить. Она должна умереть!»
И только полная и ясная луна слышала его в эти минуты. За окном пели цикады, а легкий ветерок приносил ночные ароматы вечного города.
* * *
«Я должен ее убить. Она должна умереть!» – шептал он, князь Константин Николаевич С-кий.
Как всегда он проснулся с головной болью. Долго смотрел в потолок гостиничного номера.
«Как я мог промахнуться? У меня был последний шанс. Теперь они вряд ли станут свободно посещать общественные места. Я – идиот!»
Он перевернулся на бок. Перед лицом стояла фотография Анатоля.
«Как неосторожен ты, мой друг. Ты гуляешь со своей плебейкой почти открыто. Неужто ты забыл даже о семье? А как же Руфина? Она же носит твоего ребенка…»
План созрел молниеносно. Князь поднялся с постели и позвонил в колокольчик.
– Принесите мне горячего чаю! – коротко приказал он горничной.
Ровно через неделю, также ранним утром, Константин Николаевич надел новый фрак, свежую рубашку и взял извозчика, заранее оплатив ему долгий путь.
Через два дня он входил в имение графа Краевского, в деревне, где жила Руфина и дети.
Осень позолотила уже часть деревьев, но зеленой листвы было больше. Под ногами лежал зеленый ковер, усеянный желтыми листьями и слегка прибитый первыми ночными заморозками. Константин любил раннюю осень с ее чистым и прозрачным воздухом, паутинками, покрытыми каплями росы. Как и великий классик, князь не любил летнюю жару с мухами и мошкарой.
Оказавшись за городом, ближе к природе, он словно бы очнулся от ночных кошмаров всех последних дней. Чья-то невидимая рука сняла с его сердца ужасный груз.
«Господи, благодарю тебя за тот промах. Если бы я не промахнулся, то меня бы всюду преследовала прострелянная голова этой глупой простолюдинки. Не самое лучшее зрелище для моих испорченных нервов. Ах, Анатоль, на что ты меня толкаешь?»
Он прошел небольшую рощицу, свернул по узкой тропинке. И тропинка эта привела его к самой усадьбе. Приятным было то, что беременная супруга Анатоля сидела на лавочке, возле клумбы с отцветающими синими и белыми астрами, и читала какую-то толстую книгу. Ее бледное лицо в темном капоре плаща казалось таким измученным, что князь невольно содрогнулся. Плащ плохо скрывал огромного размера живот.
«Как должно быть тяжело самкам вынашивать и рожать детей, – с жалостью подумал он. – Разве возможно любить это несчастное создание? Бедный Анатоль! – но вспомнив, что его возлюбленный не считает себя таковым, проводя большую часть времени с другой, вовремя осекся».
Руфина услышала шорох шагов и посмотрела в его сторону. По ее лицу пробежала волна жгучего смущения. Она резко встала, книга упала на землю. Она хотела ее поднять, но от беспомощности снова села.
Константин подбежал к ней и поднял. Это оказалась Библия. Ну, конечно.
– Здравствуйте, Руфина Леопольдовна! – князь поцеловал ей руку, облаченную в темную перчатку.
– Здравствуйте, князь! Как неожиданно, – она снова смутилась и порывисто поднесла руку к бледным губам.
Взгляд Константина успел ухватить впалость ее щек и темные пятна на лбу и верхней губе.
«Бедняжка», – снова подумал он.
– Простите дорогая, я не предупредил вас о визите. Я собственно ехал по делам, но проезжал ваше имение и отчего-то решил свернуть. Как ваше драгоценное здоровье?
– Спасибо, – улыбнулась Руфина. – Все хорошо.
Она старалась не смотреть на князя, прикрывая рот платком.
– Отчего вы не написали Анатолю? Он бы вас встретил, – оправдывалась она. – Если бы он знал, что вы будете проездом, то он бы приехал сюда из города.
– Ну, насколько я знаю, граф очень занят по службе. Я писал ему, и он пояснил мне, что у него дела…
– Да, он занят в Губернской управе. Мы с детьми даже летом видели его нечасто. Дочки скучают по нему. Но, служба есть служба.
Они шли по аллее к светлому двухэтажному дому. Князь чувствовал себя чуть неловко и думал о том, как уместнее начать разговор.
– Скоро обед. У нас по-простому, но смею ли я пригласить вас, Константин Николаевич, отобедать с нами?
– Да, с удовольствием, – отвечал Константин. – Я, по-правде говоря, не займу у вас много времени. Кучер ждет меня недалеко от дороги. Я заехал лишь случайно, наугад. Подумал, вдруг Анатоль освободился от служебных дел и заехал в родные пенаты?
– Увы, мой друг, – со вздохом отвечала Руфина. – Я думаю, что появится он здесь не раньше середины октября. Ровно тогда, когда мы и собирались отсюда уезжать.
– Ну да, да… А вы, графиня, сами не ездите в город? – полюбопытствовал князь.
– Нет, князь. Я не езжу одна, без Анатоля. У меня дети, много вещей. И потом мое положение… Оно не делает меня путешественницей.
За скромным обедом князь ел мало, сославшись на плохой аппетит. Однако похвалил утренний пирог с капустой. А к щам почти не притронулся. Руфина тоже стеснялась этого светского щеголя, а потому редко открывала рот, перебирая складки на скатерти. Дети обедали отдельно. Маленькие девочки кротко поздоровались с князем и, словно послушные монашки, удалились вслед за бонной.
«Господи, какая скука! И это отпрыски Анатоля? Мой бог…»
– Князь, мы тут привыкли к уединенности в глуши. Мне нечем вас развеселить, – бледные губы расползлись в натянутой улыбке.
Украдкой она рассматривала этого красавца. Запах его одеколона вызывал восхищение и нервную дрожь. Длинные пальцы с ухоженными ногтями, тонкий батист белой сорочки, тугой шейный платок, английские золотые булавки, запонки, дорогое сукно модного фрака, волнистые волосы, длинный нос. Господи, кому достанется этот красавец? Он словно бы выпал из иной, блестящей и возвышенной жизни, полной шумных балов, светских раутов, шампанского, огней, лоска столичной жизни. Где он, Санкт-Петербург, милый ее сердцу? Она даже в молодости никогда не блистала на балах. Но очень любила столицу. Любила прогуливаться по берегам серой Невы…
– Мой бог, Руфина Леопольдовна, полно, да неужто вы меня еще и развлекать должны? Меня, незваного гостя?
– Князь, вы всегда в нашем доме желанный и почетный гость. Просто мое нынешнее положение делает меня скучной и неловкой. Знаете ли, все мысли куда-то уходят перед важным событием…
– Я вас отлично понимаю, – он чуть лукаво улыбнулся. – Вернее, готов понять. До конца понять состояние матери, вынашивающей дитя, не в силах ни один мужчина. Я готов попенять на занятость Анатоля, что в столь ответственный период он не рядом с вами. Вам, как никогда, нужна его поддержка.
– Ах, я привыкла справляться сама. Мой муж часто занят… Почему вы совсем не едите? Может, заказать повару какое-нибудь другое блюдо? Вы скажите, я прикажу приготовить.
– Нет-нет. Что вы! К чему такие хлопоты? Я право, не так голоден…
– Князь, расскажите тогда о том, что нового в столице. Давно вы виделись с Добромысловыми? А как поживают Шнейдеры? Как княгиня Вильдт? И, кстати, как чувствует себя ваш папенька?
– Благодарю вас, папенька здоров и кланяется вам.
– Вы тоже передайте ему мой низкий поклон. А как ваша сестрица? Наверное, совсем взрослая?
– Да, сестра уже блистает на балах. Папаша ищет ей достойного жениха, – князь улыбнулся.
– Когда же вы, князь, порадуете нас своей женитьбой?
– Ох, верно, не скоро. Как сказал Сократ: «Женишься ты или нет – все равно раскаешься», – рассмеялся князь.
– Я узнаю ваши рассуждения, – улыбнулась графиня Краевская. – Ох, видно, не одной еще красавице вы сердце разобьете, прежде чем остепенитесь.
Они вспомнили еще несколько известных фамилий, обсудили и столичные новости. Руфина чуть развеселилась и почувствовала себя непринужденней.
«Ах, как он мил, – думала она, – недаром Анатоль так лелеет дружбу с князем».
– Расскажите, что еще нового в Петербурге? Признаюсь, ваши рассказы, как глоток чистого воздуха, – проговорила она и тут же смутилась. – Нет, вы не подумайте, я целыми днями занята детьми, их обучением, молитвами. Мне, в общем-то, некогда скучать…
– Ну, отчего же? Я готов вам рассказать один светский анекдот. Хотя, какой там анекдот… Так, лишь смешная и вздорная история. Стоит ли она внимания?
– Ах, расскажите. Мне, право, интересно. Здешняя жизнь полна лишь тихой рутины. Поэтому я вся во внимании, – улыбнулась графиня, добродушно прищурив близорукие глаза.
– С одним графом, а я не буду называть его фамилию по известным причинам, случился настоящий карамболь. Если не сказать более. Скандалец вышел на всю столицу.
– Да? Очень интересно. Расскажите… Вы такой прекрасный рассказчик, – серые глаза загорелись почти детским любопытством.
– Вы мне льстите, графиня. Однако я весь к вашим услугам. Итак, некий граф N. довольно часто изменял своей супруге. И так, ловкач, делал это хитро, что его бедная графиня ничегошеньки не замечала. Он умел быть настолько убедительным, что она верила ему даже тогда, когда его адюльтеры были известны всему свету, кроме несчастной и обманутой женщины. Да, в свете было много сплетен на этот счет. Но наш герой их игнорировал. Писались даже эпиграммы. Но все бестолку. Графине не раз намекали на неразборчивость супруга, но она не желала или не могла-с увидеть очевидное.
Улыбка исчезла с лица беременной Руфины. Она немного напряглась и вся поддалась вперед, олицетворяя собой полное внимание.
– Итак, наш жуир[64] прожигал собственную жизнь в полнейшей вседозволенности. Кроме того, что он волокитился за светскими цирцеями, не пропуская ни одной юбки мимо себя, он, страшно сказать, довольно часто опускался до общения с дамами полусвета, – в этом месте князь сделал страшные глаза и понизил голос. – Мне даже неловко говорить, но наш герой был постоянным посетителем борделей. Все столичные гризетки знали его в лицо и по имени. Вот, как прославился наш донжуан. И все бы шло у него гладко, если бы он не пустился в совершеннейше неприятный роман с собственной прислугой. Да-да! Каков курьез: он завел себе смазливую горничную и втихаря от супруги сошелся с ней. Да так сошелся, что покупал ей дорогие наряды, тратя свое состояние, украшения, поездки на курорты, квартиры… Горничной! – в этом месте князь неестественно рассмеялся, лукаво приподняв тонкие брови. – А как же бедная супруга, спросите вы. А супруга ни о чем не подозревала, ибо жила в это время в деревне. Да-с, граф ее отправил в деревню, с глаз долой, так сказать. А сам с полюбовницей проводил все дни и ночи. Да, где? В фамильном особняке. На супружеском ложе… Так-то. Что дальше? А дальше наша история имела известный итог. Эпилог ее был смешон. Добрые люди рассказали все графине. Она приехала тайно, рано утром, и застала любовников врасплох. В чем, вы спросите меня, заключен карамболь? А в том, что вся прислуга в доме видела, как наш бонвиван и любитель дерзких адюльтеров бегал от супруги по имению в одних подштанниках. А горничная что? Горничную заперли в подвале и высекли за нерадение и любодейские забавы. Да, кстати, потом ее сдали в полицию. Там ее продержали с месяц, а после выдали желтый билет и отправили в «дом терпимости», где ей и было самое место. Что еще взять с потаскухи? Ах, простите мне мой моветон.
Князь настолько увлекся своим бодрым, скоропалительным и наспех сляпанным рассказом, что даже не заметил, как графиня закрыла глаза и опустила голову. Руки ее дрожали…
– Что с вами, Руфина Леопольдовна? Вас чем-то расстроил мой рассказ? Помилуйте, я только хотел вас развеселить. Столичные сплетни, так сказать. Не более. Может, вам на воздух надо? В вашем положении…
– Спасибо, Константин Николаевич, – холодно прервала его Краевская. – Мне действительно что-то нехорошо. Простите, мне надо пойти прилечь.
– Конечно, конечно. Это вы меня простите. Мне давно пора ехать, – он достал из кармана золотой брегет. Посмотрел на блестящий циферблат. – Уже четвертый час. Разрешите откланяться. Передавайте Анатолю мой большой привет. Скажите, что я ему напишу. Прощайте, моя дорогая. Да хранит господь ваше почтенное семейство.
После этих слов он надел свой черный плащ и цилиндр, поклонился и быстро пошел по садовой дорожке, прочь из имения Краевских.
* * *
Прошло два часа с тех пор, как уехал князь. Графиня Краевская лежала в своей комнате и мысленно перебирала в памяти весь обеденный разговор. Слезы текли по ее впалым щекам.
«Надо все рассчитать таким образом, чтобы экипаж въехал в город на рассвете. Сегодня ехать уже поздно. Дети? Детей я пока оставлю здесь. Возьму с собой Капитолину, Марию и приказчика. Как бы ни растрясло меня в пути. Ну, ничего, как-нибудь».
В темноте забелело худое тело с оттопыренной на животе рубахой. Руфина встала на колени и принялась истово молиться. Живот мешал делать поклоны. Колени налились свинцовой тяжестью. Немилосердно болела голова и ныла грудь. Она с трудом поднялась на ноги.
«Если это правда, я убью ее, – мстительно думала она. – Я отведу ее в полицию и прикажу засечь до смерти. Или сейчас не секут? Нет, все не то… А он? Я прогоню его из дому. Будет скандал? Ну и пусть. Я лишу его даже карманных расходов. Мерзавец!»
Она снова плакала от обиды, размазывая по щекам горькие слезы.
«Я рожаю ему детей, а он… Жалкий безбожник, – всхлипывала несчастная. – А если это все не так? Если это совпадение? Вдруг я все надумала? Вдруг Анатоль невиновен? Может, он на самом деле занят по службе? А князь? А князь просто рассказал анекдот. Но зачем? Зачем?? Какой он странный… Нет, это был не просто анекдот…»[65]
Провидению было угодно, чтобы графиня Краевская перестала мучиться сомнениями. Судьба подготовила героям нашей пьесы еще один занятный сюрприз.
В дверь постучали. Графиня накинула халат.
– Войдите!
В комнату вошел дворецкий.
– Ваше сиятельство, вам передали письмо.
– Спасибо, голубчик. Можешь идти.
«Неужели это Анатоль?» – думала она с волнением, вертя в руках конверт.
Но письмо было не от Анатоля. Письмо было от… Марии Германовны Ульбрихт.
Мы приведем его полностью:
«Здравствуйте, дорогая Руфина Леопольдовна!
Пишет Вам Мария Германовна Ульбрихт. Вы должны помнить меня. Нас познакомил Ваш супруг, Анатолий Александрович, на балу у князя В-кого.
Руфина Леопольдовна, как Ваше драгоценное здоровье? Как чувствуют себя ваши детки?
Я не стала бы Вас беспокоить, если бы не находилась в довольно сильном душевном смятении. Дело в том, что в середине мая сего года, к Вам на службу, в имение, была распределена одна из моих выпускниц. Некто мещанка Петрова Людмила.
Меня, как ее бывшую директрису, интересует то, как успешно она трудится в вашем доме? Нет ли у нее нареканий? Добросовестно ли она выполняет свои обязанности? Я всегда беспокоюсь о доброй славе моих выпускниц и renommée нашей Alma mater.
А потому я и желаю поинтересоваться, довольны ли вы моей подопечной?
Что еще побудило меня написать Вам сие письмо. Дело в том, что пару недель назад, в модном салоне мадам Дюмаж, я покупала дамское белье для моих дочерей. Возле прилавка с самой дорогой коллекцией я увидела мою бывшую ученицу, мещанку Петрову. Она не видела меня, а я не стала с ней здороваться. И Вы знаете, графиня, меня поразило то, что туалеты Петровой не соответствовали ее материальному довольству и общественному статусу. Она была не в форменном платье горничной. Ее платье стоило огромных денег. Поверьте, уж я-то в этом разбираюсь. Рядом с Петровой, держа ее под руку, стоя мужчина приятной наружности.
И, если бы я не знала, что Ваш драгоценный супруг Анатолий Александрович Краевский находится рядом с Вами и семейством, я могла бы вообразить, что тот мужчина очень похож на графа. Просто его близнец.
Петрова и мужчина быстро удалились и сели в экипаж.
А я с тех пор нахожусь в полнейшем расстройстве и непонимании: отчего-с Петрова выглядела иначе, чем полагается ее статусу? Ведь она должна в это время трудиться у Вас. Но вместо этого я вижу ее праздно гуляющей, да еще и с кавалером.
Дорогая Руфина Леопольдовна, поясните, пожалуйста, что случилось с моей бывшей гимназисткой? Вы ее рассчитали или она сбежала?
Я не желаю скандалов, и падения малейшей тени на нашу безупречную репутацию.
За сим кланяюсь и жду от Вас письма с пояснениями.
Мария Германовна Ульбрихт, директриса гимназии».– Ну вот, теперь сомнений нет! – в глазах Руфины больше не было слез. – Я уничтожу их обоих…
* * *
– Моя радость, что ты сегодня хочешь? Может, заказать паштет или икры? У Севрюгова в магазине всегда отменная икра. Я закажу хоть полфунта.
– Нет, я не хочу, – капризничала Людочка. – Закажите мне лучше моченой антоновки. Я кисленького хочу. И прованской капусты с клюквой.
– Как скажешь, – улыбался граф. – Ты собери сегодня все оставшиеся вещи. Вчера я проверил нашу квартиру. Там тепло, чисто, топят прилично. Послезавтра, рано утром, я отвезу тебя туда.
– А те три чемодана с вещами?
– Я не распаковывал их. Оставил в прихожей. Когда ты переедешь, мы сразу наймем тебе горничную. Она займется твоими туалетами.
– Мне горничную? – она рассмеялась – Ну что вы, Анатолий Александрович, я и сама справлюсь.
– Мила, мы знакомы целую вечность, а ты все никак не научишься называть меня на «ты». И никак не приучишься к жизни светской дамы.
– Я постараюсь, – тихо ответила она. Её глаза лучились от неземной любви.
– Представь, что уже через два дня у нас будет с тобой новоселье. Моя девочка заживет в своей собственной квартире.
– А вы? То есть ты? Как часто ты будешь там со мной?
– Очень часто, любимая. Каждый свободный час и каждую минуту.
– Но, у тебя же скоро родится четвертый ребенок.
– Я помню… И пусть он родится. Я очень хотел бы сына.
Ее лицо вновь сделалось грустным.
– А наш ребенок? Смогу ли я когда-нибудь родить?
– Мила, тебе всего семнадцать. Куда ты торопишься?
Он обнял ее.
– У нас будут еще дети…
– Когда? Я хочу тоже родить тебе сына. И я хочу, наконец, стать женщиной в полном смысле этого слова.
Он посмотрел в ее глаза и крепко сжал ей руку.
– Хорошо, я обещаю своей весталке сделать ее женщиной ровно через два дня. Ровно через два дня я дефлорирую тебя в торжественной обстановке, словно жрец приапического культа. Я ворвусь в твое чрево своим приапом, и девственная кровь оросит нам священный алтарь.
Позднее он много раз вспоминал это свое обещание, и сердце сжималось от безвозвратной боли, немыслимой боли и отчаяния. От невозможности что-либо изменить. От невозможности возврата в ту самую точку, когда он пообещал ей это.
«Ну, почему? Почему я не сделал этого тогда же? Тотчас?»
Краевский немного лукавил, придавая особый драматизм несостоявшемуся таинству. Тому таинству, которое так ждала его возлюбленная. Чем, кроме страха, было вызвано небрежение к правильности формы основополагающего плотского инстинкта, он не мог дать ответ. Не тем ли, что его собственный первый опыт был связан не с женщиной? Не тем ли, что естественная связь с супругой не вызывала в нем ничего, кроме чувства долга? Увы, ответы на эти вопросы лежали в области непознанного. Непознанного и безвозвратного.
А ныне, Людмила, вдохновленная его обещанием, смущенно улыбалась, опустив голову. Волна сильного возбуждения скрутила низ живота.
– Ты зря улыбаешься. Тебе не будет никакой пощады. А когда у тебя все заживет, я буду часто входить в обе твои дырочки. Попеременно.
– О, господи…
– Иди сюда. Потрогай его, – он взял ее ладонь и притянул к своему паху. – Он снова стоит, словно кол. Сегодня мы поиграем с тобой еще в одну игру.
– Ты опять меня свяжешь?
– Да-аа-аа.
– Сегодня я буду долго ласкать твою жемчужину. Маленькую и нежную, которая распухнет от моих ласк. Долго…
Он начал целовать ее глубоким поцелуем, сжимая полные груди. Она лишь немного стонала. Последние дни ее тугая и крепкая грудь отчего-то стала болезненной. Когда он целовал яркие соски, она замирала от смеси боли и острого возбуждения.
Каждая их ночь была полна то нежных и невинных ласк, то бурных и страстных соитий, после которых оба слишком долго приходили в чувства. Довольно часто фантазии графа носили такой изощренный характер, что уже утром его терзали муки непрошеной совести. Но Людочка будто не замечала повышения накала страстей. Ее неопытность и неумение осмысливать поступки обожаемого Анатоля, и еще вернее, полное доверие к нему, заставляло принимать все его плотские изыски как должное. Словом, ей не с кем было посоветоваться. И не с кем сравнить. Она лишь слушала свое тело и шла навстречу всем причудам графа. А он ликовал в душе, что, наконец, ему встретилась та женщина, которая не осуждает его за смелые experiences, а готова на них сама, всей душой и телом.
После того случая у китайца Ли, в опиумном притоне, они три дня никуда не выезжали. Анатоль как мог, успокаивал Людмилу. Он не стал обращаться в полицию, рассудив, что они оба чуть не стали жертвами чудовищного недоразумения. Анатоль уже в сотый раз поблагодарил бога за чудесное спасение Людмилы. Он решил, что отныне без крайней необходимости они не станут появляться в общественных местах.
«Все наши выезды еще впереди. Когда мы будем за границей и отойдем от угара последних дней, мы все успеем наверстать».
Краевский исполнил свое обещание. Ближе к полуночи он принес веревку…
– Ложись на спину, – приказал он.
В запястье снова врезалась веревка, один из концов которой он привязал к кроватной спинке, тоже самое он проделал и со второй рукой. Наклонившись к животу, принялся целовать начало лобка. Людмила сжала ноги. Она знала, что это ненадолго, и скоро она сама раздвинет их широко.
– Сегодня я привяжу тебя иначе. Ты будешь раскрыта и беспомощна, словно лягушка на прозекторском столе.
– Анатоль, не пугай меня.
– Не больно-то ты боишься, если вся становишься мокрой, – он провел пальцами по влажной расщелине лобка.
Она почувствовала знакомый зуд и тяжесть. Лепестки розовой плоти налились кровью и сделались припухшими.
– Закрой глаза. Откроешь тогда, когда я разрешу, – командовал Анатоль.
Она почувствовала, что он схватил ее за щиколотки и согнул ноги в коленях.
– Лежи так! Не опускай ноги и не сдвигай.
Другой веревкой он обязал ее голени, пропустив веревку под коленями. Обошел кровать у изголовья и что есть силы, притянул каждую ногу к руке, закрепив концы у спинки кровати. Теперь Людмила действительно походила на разверзнутую лягушку или приготовленную к жарке дичь. Все ее нутро было вывернуто наружу. От полной беспомощности и стыда она застонала.
– Не кричи громко. Набегут слуги, – усмехнулся он. – Я шучу. Сюда не войдет ни один человек. Я не хочу надевать тебе кляп. Я должен слышать твои стоны. Так ты пролежишь несколько часов. И в таком положении я смогу делать с тобой все, что захочу.
– Анатоль, это нечестно.
– Честно… Именно так я свяжу тебя послезавтра, в нашей квартире, когда будет совершен священный акт дефлорации. A propos, я купил туда кровать с гораздо большими чугунными завитками и кольцами. Она так хороша для разного рода связываний. Открою тебе секрет: я даже заказал один интересный стул. Для тебя. Там есть желоба для твоих прелестных ножек. Словом, мы будем там много экспериментировать.
Людмила густо покраснела и закрыла глаза. Ей хотелось сдвинуть ноги, но она не смогла.
– Анатоль, я хочу в туалет, – решила немного схитрить она.
– Нет, уже поздно. Если что, я поднесу тебе тазик. Но несколько часов ты будешь лежать именно так. Сейчас я буду тебя ласкать по-разному. Это будет своеобразный эксперимент. И мы выясним, какие ласки тебя возбуждают больше всего. Жди меня, сейчас я принесу одну коробочку. Вернее две.
Граф сходил в свой кабинет и принес две коробки. Одну из них Людочка узнала. Это была знакомая китайская шкатулка с пробками. Другая была незнакома. Это была сафьяновая красная коробочка, чуть больше первой. Граф и раскрыл ее вперед. На бархате голубого оттенка лежали диковинные предметы, сделанные из тонкой кости, украшенные резьбой. Здесь были какие-то крючки, штыри, прищепки, бусины на веревке, и множество костяных палочек, концы которых венчали разного рода перышки, тонкие и толстые кисточки, щеточки, шелковые шнурки, зажимы и множество других, совсем непонятных бедному разуму Людочки предметов.
– Что это? – испуганно спросила она.
– Это – ларец удовольствий. Его мне тоже привезли с Востока. Он подходит и для мужчин, ибо есть в нем предметы для ласк уретры, и для женщин здесь тоже много приятных штучек. Постепенно я научу тебя, как приносить и мне радость с помощью этого ларца. Но сегодня мы весь вечер посвятим тебе. Твоему сокровищу.
Он посмотрел внутрь ларца и полюбовался его содержимым.
– Итак, с чего начать? Закрой глазки, для начала я приласкаю тебя перышками одной южной птички. Эти перышки дарят неземное блаженство.
Воспаленной от желания плоти коснулись легкие движения какого-то шелковистого предмета. Эти касания вызвали щекотку и острый спазм возбуждения. Людочка вздрогнула, по телу пробежали мурашки. Это было очень необычное чувство. Она вся выгнулась навстречу.
– Обожди, любимая… – таинственно прошептал он и подложил ей под зад приличного размера подушку. – Вот так-то будет лучше… О, боже, как ты струишься соками…
– Анатоль, не убирай руку…
– Подожди, я поглажу твою бусинку номером вторым. Это кисточка еще сильнее сведет тебя с ума.
В его руке появился другой предмет. И Людмила чуть не зарыдала от удовольствия. Его сменила и мягкая щеточка. Он гладил ее распахнутое лоно самыми хитроумными предметами. Она чувствовала, что вот-вот наступит мгновенная разрядка. На пике возбуждения он смазал маслом ее анус и быстро ввел в него одну из пробок первой коллекции. Одновременно продолжился головокружительный каскад стимуляции перьями. Людмила даже не могла себе представить, что ее организм способен получать подобное удовольствие. Это было неземное блаженство, близкое к помешательству. Она уже не стонала, а лишь тоненько скулила, закатив глаза. И была похожа на сумасшедшую.
– Только не убирай…
Но Анатоль пресек свои ласки и даже отошел в сторону, полюбоваться на беснующуюся от страсти девушку.
– Зачем ты отошел? Вернись. Не мучай меня. Я умоляю…
– Ты кончишь лишь тогда, когда я разрешу. О боги, если бы ты знала, каково это, чувствовать себя полным хозяином твоего оргазма. Мучить тебя отложением оного.
– Ты не можешь так, – задыхалась она, а все ее нутро пульсировало в смертельной муке.
– Представь, что после ряда тренировок, ты начнешь испытывать его, без моего касания, лишь с помощью работы внутренних мышц. О, это целая наука. Но она дается тебе слишком легко. Твоя кровь кипит от страсти. А розовый рот верхней норки алчет вторжения. Скоро… Скоро я войду в тебя, и земля улетит из под наших ног. Через два дня. У тебя там очень все узко. Будет больно… О, как я вожделею этот священный акт. Я зверею при мысли о покорении последнего форпоста твоего девичества.
Он снова присел рядом. Людочка вздохнула с облегчением. В эти минуты ей казалось, что мука ее вожделения настолько велика, что она быстрее даст себя убить, нежели лишится долгожданной разрядки.
Теперь его руки двигались сильнее. И приспособление ласкающее клитор, обжимало его с двух сторон, подобно маленькому насосу, вбирающему в себя нежную плоть. Наряду с этим новым ощущением появилась сильная вибрация в анусе – пальцы графа шевелили пробку. Все эти чувства слились в единую всесокрушающую лавину жгучего, доселе неведомого и погибельного оргазма. Людмила вскрикнула, поддалась навстречу и… потеряла сознание.
Через несколько минут граф привел ее в чувства. Он дал ей попить воды. Вынул из нее пробку и обтер промежность мягкой тканью.
– Любимый, иногда мне кажется, что я умру… – отрешенно проговорила она.
– Мила, это лишь начало… Мы будем наслаждаться друг другом долгие годы…
– Отвяжи меня. У меня болят руки и ноги. И груди болят…
– Отвяжу чуть позже… Полежи так еще четверть часа. Я поласкаю тебя иначе. Сейчас я познакомлю тебя прищепками и катетером. А после… – он зашептал ей что-то на ухо. Она застонала. – Тогда ты снова кончишь. Сегодня твоя плоть должна познать еще более тонкие и изысканные наслаждения.
В эту ночь он был неумолим и делал то, что обещал. Вторжения его собственной плоти в узкое колечко ануса воспринимались ею, как единственно правильные, возможные и желанные. Она уже не испытывала никаких болезненных ощущений. Ее тело довольно быстро привыкло именно к такой форме плотских наслаждений. Людочка не мыслила уже их близости без этих дерзких проникновений в «задние врата».
– Помнишь, я обещал тебе, что твоя попка привыкнет? Ты испытываешь такие сильные оргазмы, которые неведомы многим искушенным любительницам содомии. А скоро я буду входить в тебя всюду.
Позднее она вспоминала детали этой ночи, но так и не могла вычленить ее отдельные этапы. Он открывал в ее собственном естестве все новые и новые не точки, а целые острова наслаждения. Она не знала, как совладать с тем всесокрушающим стыдом, смятением и волнами безудержной похоти, в которую кидал ее развратный граф Краевский. И вместе с тем она безумно, без остатка, до последней клетки своего тела хотела принадлежать только ему. Он покорил не только ее тело, но и душу.
«Быть в полном подчинении, раствориться в любимом – не в этом ли величайшее наслаждение?»
– Ты сделал меня одержимой, – шептала она.
– Ты была такая всегда… Я лишь помог тебе вспомнить. Много жизней, много воплощений до этого… Мы оба… Мы сплетались в единый кокон чувственного познания. Мы изучали друг друга веками. Мы ждали друг друга, не зная. Мы верили, что где-то мы есть друг у друга. Мы вспоминали, увидев. Мы ликовали, обретя. Я люблю тебя Мила- Люциния!
Нежность и жажда любви стояли возле самого горла.
* * *
Бледное утреннее солнце озарило мужчину и женщину, спящих в объятиях друг друга. Они проснулись не от его скупых осенних лучей. Первой открыла глаза Людмила. Именно ее утренний сон нес в себе какой-то страшный и непредсказуемый финал. Ей снилось, что она катится с зимней горки прямо в раскрытую черным холодом полынью. И как только ноги коснулись ледяной воды, она вздрогнула и проснулась. Вслед за ней проснулся и граф.
Было настежь раскрыто окно. В теплоту спальни проникал холодный утренний воздух. Не смотря на его свежесть, в комнате пахло иначе, чем всегда. Это был далекий, острый и чужой запах, настоянный на старомодных духах и аромате ладана и мирры. Так пахла супруга Анатоля, Руфина Леопольдовна.
Людмила сначала именно почувствовала этот неприятный, полный опасности и немого ужаса запах. И лишь потом она увидела в кресле ту, о чьем существовании стала понемногу забывать.
В сером дорожном платье и теплом плаще, в чепце, украшенном лентами, с огромным животом, в кресле сидела графиня Руфина Леопольдовна Краевская, в девичестве Фон Фейербах и смотрела на двух спящих любовников и весь беспорядок, творившийся в комнате. Острым концом зонта она поддела одну из веревок, валяющихся на полу. От ее внимательного взгляда не ускользнула бутылка вина, пирожные, конфеты. И две раскрытые коробки с чудовищно бесстыдными пробками и перышками. С глазами полными немой брезгливости и отвращения, она рассматривала принадлежности «Ларца удовольствий».
И Людочка и граф уже оба не спали, с ужасом понимая, что любые оправдания будут бессмысленны и неуместны. Они чувствовали себя государственными преступниками, покусившимися на священную реликвию. Застуканными врасплох, на месте. Без всяческих смягчающих обстоятельств. Положение это казалось таким диким, что граф не выдержал напряжения и фыркнул. Фыркнул и коротко, нервно хохотнул.
Потом он медленно встал.
– Почему вы вошли сюда без стука? – холодно спросил он.
Та, кому был адресован этот вопрос, продолжала таращиться на всевозможные предметы для плотских утех. Она никак не могла отвести от них цепкого взгляда. Казалось, она не слышит вопроса мужа. Потом она будто очнулась.
– Что? Без стука? Зачем стучаться, когда у меня есть ключи от всех комнат? – спокойно возразила она. – Но вы, граф, были столь беспечны, что вообще забыли запереть дверь на ночь.
Щеки Людмилы стали бледнее полотна. Она лишь натягивала на себя одеяло и не шевелилась, бросая вопросительные взгляды на Краевского. Ей казалось, что ее позвоночник парализован жутким холодом, имя которому страх.
«Господи, как встать? Я ведь голая… – лихорадочно думала она. – Мне точно это не снится? Как мне взять в шкафу платье? Даже халат остался в уборной. А где сорочка? Зачем она так страшно смотрит на меня? Она сейчас меня ударит…»
Графиня встала и грузной походкой прошлась по комнате.
– Руфина, я прошу тебя выйти и дать нам одеться.
– Вам? – рассеянно переспросила она.
– Руфина, тебе не стоит волноваться. Выйди из комнаты. Нам нужно одеться. Через полчаса я буду в гостиной, и мы все обсудим.
Но Руфина не двигалась с места. Казалось, что и она находится в немом ступоре от увиденного.
Не обращая внимания на просьбы супруга, она снова плюхнулась в кресло и, не мигая уставилась на Людмилу.
Анатоль понял, что надо действовать иначе. Он взял из уборной халат и подал его Людмиле.
– Людмила Павловна, оденьтесь, – скомандовал он.
Людочка плохо соображала. Мелькнул розовый шелк халата. Им Анатоль постарался прикрыть Людочкину наготу. Он потянул ее за руку и вывел босую в коридор.
– Иди к себе в комнату. И там спокойно оденься. Я принесу тебе сейчас платье, плащ и ботики. Деньги у тебя есть, – шептал он. – Срочно беги на улицу, бери извозчика и едь на Новослободскую, дом восемь. Найдешь там владелицу доходного дома, генеральшу Татьяну Федоровну Гусову. Скажешь ей, что ты от Краевского. Она отведет тебя в нашу квартиру. Подожди меня там. Я приеду при первой же возможности. Все! – он коротко поцеловал ее в висок.
Когда Людмила уже была наверху, на чердаке, она услышала громкий и истошный вопль Руфины. Потом стала биться посуда, послышались удары каких-то предметов.
«Господи, надо скорее бежать» – думала Людмила, лихорадочно закалывая шпильками пряди русых волос.
Сердце билось возле самого горла. Она казнила себя за беспечность, а также за то, что не настояла о переезде чуть ранее.
«Где же Анатоль с платьем?» – волновалась она.
Но в комнату вошел не Анатоль. Дверь распахнулась, а на пороге стояла Елена. В ее руках лежал ворох Людочкиной одежды. Горничная подошла к Людмиле и молча бросила ее одежду на пол.
– Елена, зачем ты так? – жалобно проговорила Людочка.
– Одевайся и убирайся, пока тебя не схватили, – злобно обронила она.
– За что ты меня так возненавидела? За мою любовь к Анатолию Александровичу? Пойми, мы просто с ним любим друг друга. Давно.
– Ха-ха, ты вообразила себе какую-то любовь? Да ты ему уже давно не нужна. Побаловался и хватит. Твое время закончилось. Поедешь с позором к своей матушке. Кто теперь тебя возьмет хоть в один приличный дом? Выдадут желтый билет, и пойдешь на другую работу.
– Какую? – глупо поинтересовалась Людочка.
– Там тебе расскажут. Как раз по твоему призванию работа, – дерзко парировала красная от гнева горничная.
– Не понимаю, чем я тебя-то обидела? – тихо вопрошала Людмила, поднимая с пола корсет и платье.
– Я давно тебя возненавидела, – отозвалась бывшая подруга. – Ты посчитала, что одна достойна любви хозяина. Могу тебя разочаровать. Он спал здесь со многими. Он и меня любил…
– Как? Тут же работают одни девственницы.
В ответ девушка лишь насуплено молчала. Она даже не стала помогать Людочке с корсетом.
– А где сам Анатоль?
– Не слышишь? Ему не до тебя. Руфина Леопольдовна сейчас сдерет с него три шкуры. Одевайся быстрее и проваливай, цаца!
Холодный утренний ветер освежил Людочкины щеки. Быстрой походкой, с маленьким саквояжем в руках, она шла по дальней дорожке сада, прочь от имения Краевских.
«Еще немного, и я сяду в пролетку. Еще немного, и я буду на Новослободской. Туда и приедет потом Анатоль. Может, все к лучшему. И теперь Руфина подаст на развод», – думала Людмила, ускоряя шаги.
Но судьбе было угодно сделать иной, более коварный поворот. За несколько минут до Людочкиного бегства, графиня Краевская будто опомнилась. Она вышла в коридор и вызвала к себе приказчика и старшую горничную.
– Где мерзавка? – с шипением спросила она.
– В своей комнате. Одевается. Хочет уйти, – отвечала ей Капитолина.
– Как уйти? Поймать. Отвести в хозяйственный флигель и там запереть. До моего распоряжения.
– Хорошо, Ваше Сиятельство.
Когда Людмила уже была близка к кованому забору, позади себя, с двух сторон, она услышала быстрые шаги и чье-то сбивчивое дыхание.
– Стойте, барышня! – это был голос приказчика Николая Степановича.
Людмила оглянулась, но останавливаться не стала.
– Куда вы, гимназистка Людочка? – развязано процедил он. – Не надо так быстро бегать. Не ровен час запнетесь и упадете.
– Николай, обходи ее со стороны выхода, – крикнул кто-то. Это был дворник.
Людочка не успела оглянуться, как чья-то нога наступила на подол нового платья. Раздался треск. Часть присборенной юбки оторвалась от шва на талии. Людочка споткнулась и, неловко взмахнув руками, упала на колени. Саднящая боль пронзила обе ноги. Она попыталась встать. Могучий торс другого работника вырос прямо перед ней. Кулачки уперлись в тугую грудь.
– Пустите! – крикнула она. – Вы не имеете права! – она ударила мужчину по плечу.
В этот момент кто-то закрыл ей рот. Она почувствовала кислый запах махорки, во рту появился солоноватый привкус чужой грязной ладони. Этот человек так сжал ей лицо, что она чуть не задохнулась. Людмила мотнула головой и что есть силы крикнула. В тот же момент тяжелая ладонь отлепилась ото рта и ударила ее по лицу. В голове раздался звон. Она задохнулась от боли и потеряла сознание.
* * *
Людмила очнулась от холода – сильно озябли голые ступни. Саднило разбитые коленки. К горлу подступала тошнота. Она едва успела повернуть голову набок – жгучий спазм скрутил желудок. Ее вырвало чем-то кислым. Она вспомнила, что вчера ела моченую антоновку. Она никак не могла вспомнить, что с ней произошло, и где она? Попыталась поднять голову – тугая веревка больно врезалась в грудь. Руки и ноги тоже были крепко привязаны к узкой кровати. А где Анатоль? Что со мной? Она застонала.
Впереди мелькнуло пламя свечи, вырвав из темноты силуэт высокой и полной женщины.
– О, очнулась. Глянь, Машка, очнулась наша краля.
– Да, вижу. Смотри, Капа, ее рвет. Обрюхатил, видать, наш граф эту дуреху.
– Да, не похоже… Сегодня придет доктор и все скажет.
– Доктор?
– Да, Руфина приказала вначале ее осмотреть, как положено.
Только сейчас до Людочки стал доходить весь ужас того положения, в котором она оказалась.
– Анатоль! Где Анатоль? Позовите графа! – запричитала она.
– О, милая… Не услышит он тебя.
– Где он?
– С женой он, милая. С супругой любимой и детьми. Бросил он тебя. Отказался. Сказал, что ты ему неинтересна… Так-то. Даже просил наказать.
– Этого не может быть, – дернулась Людмила.
– Еще как может. Правда, Маша?
– Правда. У нас вон, в деревне, барин сожительствовал с девкой, пока она не понесла от него. А как понесла, он и прогнал ее с порога. Так та, курица, тоже все кричала: расскажите ему, что я здесь стою, у ворот. Не может быть, чтобы он разлюбил меня. А барин тем временем уже к другой крале подбирался. Горемычная до самых родов все кричала: не может быть… Так и померла сердешная в неверии, что бросил ее любовничек. Может, ешо как может. Жисть она подлая… Так и твой граф уже Руфине ручки и ножки цалует. Скоро она разродится сыночком. А про тебя, развратницу, он и не вспомнит. Лежи, покуда доктор тебя не осмотрел. А после поедешь в участок.
Забегая вперед, хотелось бы немного успокоить тебя, дорогой читатель. Не можем мы допустить, чтобы и ты подверг сомнению пылкую любовь графа Краевского к Людмиле Петровой.
Как только Анатоль передал с Еленой вещи для Людмилы, он тут же получил от хромой горничной заверения, что его возлюбленная села в экипаж и благополучно покинула имение. Да, да, Елена солгала графу по наущению Капитолины Ивановны. Коварно обманутый Краевский чуточку успокоился и решил на время закрыться в своем кабинете.
Он откупорил бутылку французского коньяка и принялся обдумывать свое нынешнее положение. Он прекрасно понимал, что все его оправдания и пылкие речи будут неуместны, если не смешны. Да, он был пойман на месте преступления. Причем, не смотря на всю скандальность и стыд положения, в которое он попал, сам себе он не казался преступником, и его не мучили муки совести. Ему лишь было чуточку жаль Руфину. Не более. Как ни странно, он был даже рад подобной развязке. Его душа была возле возлюбленной Людмилы. Он знал, что скоро буря утихнет, тогда он сможет более спокойно поговорить с супругой. Он предложит ей мирный договор и раздельное проживание при сохранении внешних условностей. Позор в свете не был нужен ни ему, ни ей.
Обдумывая детали разговора, Краевский сам не заметил, как захмелел. Он крикнул приказчика и велел принести ему из подвала еще одну бутылку коньяка. Перед самым кабинетом сия бутылка была перехвачена, вскрыта, и по приказу графини туда влили большую порцию снотворного.
– Ты зачем вскрыл бутылку, каналья? – поинтересовался он у Николая.
– Я подумал, вдруг у вас нет штопора.
– Все у меня есть. И принеси мне закусок втихаря от жены. Аппетит что-то разыгрался, – хохотнул неунывающий граф.
– Сию минуту, Ваше Сиятельство.
Но закуски ему уже не понадобились. Выпив еще несколько рюмок коньяка, граф вдруг обессилел, тяжелая голова упала на подушку. Краевский заснул прямо на диване, не снимая одежды.
* * *
– Ослабь нижние веревки, – проговорила Капитолина. Сюда спускается доктор. Надо раздвинуть ей ноги.
Надо бы напомнить, что в хозяйственном флигеле, где проживала сама Капитолина Ивановна, ее верная подруга Мария, приказчик Николай, дворник, садовник и еще несколько работников, существовал цокольный этаж. Это были полуподвальные помещения, в части которых хранились припасы на зиму, мука, картошка, тюки с бельем, бочки с салом и льняным маслом. И многое другое. Одну из таких темных и холодных комнат и приказала освободить Капитолина Ивановна, куда поставила старую кровать, покрытою простынею. В бессознательном состоянии сюда приволокли Людмилу, раздели ее до одной сорочки и привязали к кровати. С минуты на минуту ждали доктора. Его, сама не понимая для чего, велела пригласить Руфина Леопольдовна. Скорее для соблюдения всех внешних правил этого дома. А вне его правил, в закутке возле комнаты, Капитолина уже несколько часов вымачивала связку розог и готовила веревки и кнуты. Воображение старшей горничной подкидывало ей все более изощренные картинки мучений, которые она приготовила для молодой женщины.
Людочка уже давно не спала. Она лишь все время плакала, кусая в кровь губы.
«Почему я не успела сбежать? Где Анатоль? Что с ним? Неужели он и вправду отвернулся от меня? – лихорадочно думала она. – Нет, он спасет меня».
Послышались шаркающие шаги, пахнуло карболкой. На край кровати кто-то присел.
– Ну-с, дорогуша, я должен вас осмотреть. Раздвиньте пошире ноги.
Людмила открыла глаза. Рядом с ней сидел плешивый доктор, Илья Петрович.
– Оставьте меня в покое, – проговорила она. – Я не желаю вам показываться. Если мне будет надо, я навещу вас в вашей клинике. Меня обслуживают другие доктора, – гневно произнесла Людмила.
– Милочка, да сколько угодно других докторов пусть осматривают вас. Вы наняты в этот дом рабочей прислугой. У вас подписаны бумаги. И вы обязаны подчиняться внутреннему распорядку. А потому, не противьтесь, а лучше разведите ноги.
Людмила мотнула головой. В изголовье послышался шорох. Капитолина и Мария, вцепившись в ляжки крепкими пальцами, с силой развели ее колени и подняли их кверху. Их пальцы приносили ей острую боль, саднило под коленями. Доктор заглянул в растянутое стервятницами лоно.
– Капитолина Ивановна, посветите мне получше лампой, – скомандовал он. – Хм, странно…
– Что не так? Вы не удивляйтесь доктор, у потаскух сейчас модно брить лобки, словно у басурман в гаремах.
– Я не об этом.
– А о чем?
– Эта девушка девственна.
– Не может быть…
– Но факт – вещь упрямая.
Он еще долго ощупывал ее живот, нажимая на лобок, изучал соски и груди. Спрашивал об аппетите и вкусовых желаниях.
– А знаете ли вы, голубушка, что у вас беременность? Около трех месяцев, – в итоге изрек он.
– Как? – тут пришло время удивляться Людмиле.
– А так. Матка увеличена. Есть и ряд других явных признаков. Цвет гениталий, сосков. Видите ли, я уже сорок лет работаю женским доктором и еще ни разу не ошибался. Смущает меня лишь иное. Каким образом? Ведь гимен ваш цел и невредим. Признайтесь, вы имели анальные сношения? Да, я вижу, что это так. Сфинктер немного ослаблен… Ну что, я доложу обо всем вашей хозяйке. Мое дело маленькое. Я лишь ставлю диагнозы. А свой диагноз я уже озвучил.
Старенький доктор встал. В комнате царила тишина. Эта новость ошарашила Людмилу, как гром среди ясного неба.
«Но как? Как? Он же не вводил туда член, – лихорадочно думала она. – У меня будет ребенок. Ребенок Анатоля. Но как?»
– Да, мадам, такой казус редко, но встречается, – будто в ответ на ее мысли пояснил доктор. – Видите ли, секрет мужского спермия очень подвижен и может затекать в открытую вульву даже без проникновения. Немного беспечности, и вот результат. Я вас поздравляю.
Илья Петрович усмехнулся в усы.
– Вы бы отвязали женщину. Ей вредно лежать в таком положении и волноваться тоже нежелательно. А она у вас отчего-то вся в слезах, – последнее он адресовал Капитолине и Марии. – Рассчитайте ее и отпустили с богом. Что есть, то есть. Беременность уже не рассосется… Разрешите за сим откланяться. О своем диагнозе я доложу графине.
Доктор исполнил свою обязанность, ведь именно за это семейство Краевских платило ему деньги. Он рассказал Руфине все подробности нынешнего положения горничной Петровой, не упустив в докладе пикантной особенности того, что при наличии беременности, горничная до сих пор может считаться девой, ибо гимен ее не нарушен. Кровь бросилась в голову Руфине. Она сухо, но учтиво поблагодарила доктора за доклад, а после вызвала к себе Капитолину и приказчика.
– Приказываю бить розгами эту любодейку ровно до тех пор, пока она не скинет прижитое во грехе дитя. Об этом не должна знать ни одна душа.
Капитолина и Мария стянули с Людочки исподнюю рубаху. Та смотрела на двух немолодых женщин глазами полными немого ужаса. От этого взгляда двум старым лесбиянкам стало не по себе. Скорее для острастки каждая по три раза огрела Людочку по ногам, стараясь попасть мимо голого, чуть округлившегося живота и тугих торчащих грудей. Но даже от этих ударов Людочка кричала так истошно, что старшая горничная вынуждена была закрыть плотно все двери.
Когда Руфина спустилась в подвал, ее взору предстала ужасная картина: белокожее и прекрасное тело юной соперницы покрывали малиновые рубцы.
– Отчего вы били ее только по ногам? Я же сказала, что бить надо по животу, – распорядилась она.
В комнате нависла ужасающая тишина.
– Позовите сюда Николая.
Через несколько минут в маленькой подвальной комнатке, где на кровати мучилась привязанная Людочка, собрались трое: приказчик Николай, Капитолина Ивановна и ее верная Мария. Графиня Краевская достала увесистый кошелек и дрожащей рукой отсчитала каждому по несколько золотых монет.
– Слушайте меня внимательно. Перво-наперво – ни единая душа не должна знать, что эта мерзавка до сих пор находится здесь. Дворнику и остальной прислуге сообщить, что она рассчитана за грех и отправлена домой. Вам же такое задание: тридцать ударов розгами сначала. Потом ты, Николай, должен ее изнасиловать. Крепко. Я тебе хорошо заплатила, потому исполнишь. Если не исполнишь, я лично проткну ее черенком лопаты. После изнасилования снова бить. Бить до тех пор, пока она не скинет приплод. Всем ясно?
В немой тишине охнула худенькая Мария, но тут же зажала себе рот.
Руфина посмотрела на нее злобным взглядом маленьких красных глаз.
– А если Анатолий Александрович узнает? – поинтересовалась Капитолина осипшим от волнения голосом.
– Не узнает. Снаружи ничего не слышно. Потом он пьян и спит в своей комнате. Еще долго проспит, я полагаю… Нам надо управиться за двое суток.
– А если она помрет? – шепотом спросила Капитолина и перекрестилась.
– Это еще лучше. Тогда я вам всем дам вдвойне больше денег. Если опосля всего она останется жива, то ты, Николай, отвезешь ее в соседнюю губернию и сдашь в гарнизон к солдатам. Заплатишь хорошо, они ее не выпустят.
– О, господи, – вырвалось у Марии.
– Кто ослушается меня или выболтает лишнего, того со свету сживу. На каторгу сошлю. Вы поняли?
– Поняли… – раздался нестройный гул трех голосов.
– Приступайте, – скомандовала графиня. – Только дайте-ка я сама ее хорошенечко оприходую.
Графиня Краевская схватила розгу и со всего маху огрела несчастную Людочку. Одним ударом она рассекла ей часть подбородка, шею, грудь и живот. Удар был настолько сильным, что девушка закричала истошным криком, почти заверещала и захлебнулась от боли. Безумные глаза протекли потоком слез. Но графиня била еще и еще… Полетели брызги крови. По сомкнутым ляжкам Людочки заструилась моча.
Мария заткнула уши. А Капитолина Ивановна смотрела спокойно, правда лицо ее казалось бледнее обычного. Николай вознамерился выйти на воздух. Он расстегивал тугой ворот рубахи и хватал ртом воздух.
– Что, хорошо тебе было, любодейка, спать с моим мужем? Говори! Хорошо?! Сладко было? Получай, сука!
Через мгновение графиня пошатнулась и присела на пол. Потом выгнулась и застонала:
– Кажись, началось… – прошептала она спекшимися губами.
– Что? – не поняла, сбитая с толку старшая горничная.
– Рожаю… – отозвалась графиня, скривив от боли лицо. Длинная розга выпала из ее скрюченных пальцев.
– Николай! – кликнула приказчика Капитолина. – Быстро! Ее Сиятельство рожает. Беги за повитухой. Наверх, все наверх.
* * *
Через шесть часов графиня родила девочку. И пока рядом с ней суетились бабки-повитухи, Капитолина Ивановна позвала Марию и Николая в подвал.
– Что будем делать?
– Я вам не убивец и не насильник, – наотрез отказался приказчик.
– А ты? – Капитолина посмотрела на испуганную Марию.
– А что я?
– Порви ей целку…
– Я? Нет. На это я не согласная. Ежели по любви, то я могу приласкать хоть бабу, хоть мужика. А так… Я что? Нехристь какая? Если она не скинет дитя, так она у нее и сама во время родов порвется. Вот повитухам смеху-то будет. Непорочное зачатие… Беременная баба с нетронутой пи**ой. Не часто такое увидишь.
– Что делать-то будем? Графиня сейчас отойдет от родов, так спросит же с нас.
– Может, она подобреет, раз муку материнскую прошла.
– Не думаю… – протянула старшая горничная. – Она жестокосердная. Да и обида ее долго будет мучить. Как бы она и графа нашего не отравила. С нее станется. Опять же, девчонку родила. Вся во злобе даже сейчас лежит. Ей повитуха хотела дите дать к груди, так она отказалась. Нет… Надо что-то решать.
– Я придумал, что скажем.
Обе женщины посмотрели на приказчика. Скоро ночь. Мы потихонечку отнесем эту дуреху в наш экипаж и отвезем в монастырь, что за пятьдесят верст от города. Я сам сяду за извозчика. Об этой поездке не должна знать ни одна душа. Оставим Людмилу возле ворот. Там ее выходят. Может и родит. А Руфине скажем, что скончалась де Людка от побоев. И что мы ее завернули в простыни и повезли втихаря хоронить. Досмотреть ее она сейчас не сможет, потому, что сама слаба после родов. Бог нам в помощь. Хоть большого греха на душу не возьмем.
– А графу что скажем?
– А графу скажем, что сбежала его полюбовница.
На этом и порешили.
Еле живую Людочку, которую две тетки заботливо обмыли от крови и мочи, помазали мазью раны, кое-как одели и, завернув в простыни, вынесли к экипажу. Людочка старалась не всхлипывать от боли. Она понимала, что именно сейчас эти трое спасли жизнь ей и ее ребенку.
Когда экипаж доставил ее к воротам монастыря, Людочка поблагодарила приказчика:
– Спасибо вам, Николай Степанович. Если не трудно, через пару месяцев навестите, пожалуйста, мою матушку и намекните ей тихонечко, что я жива и скоро пришлю ей весточку. А граф? Не говорите ему ничего. Скажите, чтобы не искал меня…
* * *
Когда граф Анатолий Александрович Краевский проснулся после долгого сна, ему доложили, что у него родилась четвертая дочь. Граф зашел в покои супруги. Поцеловал ее в лоб, взглянул на дитя и уехал из дому.
Он ехал на Новослободскую, дом восемь. Он ехал к той, которую любил больше жизни. Страсть к которой была столь же остра и горяча, как и несколько дней назад.
«Сейчас она выбежит навстречу и обовьет мою голову своими горячими ручками. Сейчас она начнет упрекать меня в том, отчего я так долго не ехал. Сейчас будут слезы, поцелуи и упреки. Что поделать? Я напился и так долго проспал. Зато я скажу, что отныне я буду только с ней. Решено. Я никогда ее не оставлю» – думал влюбленный граф.
Он открыл дверь квартиры второй связкой ключей. В комнатах стояла непривычная тишина. Воздух казался нежилым и спертым. Неужели она не проветрила комнаты? Он шагнул в переднюю. Два нераспакованных чемодана так и стояли посередине коридора.
«Как? А где же Людочка?» – кровь бросилась ему в голову.
– Мила! Мила! Ты где, любимая? – прокричал он в пустоту квартиры.
Но ответом ему была полная тишина. Он обежал все комнаты. Заглянул в уборную. Квартира была пуста.
Краевский выскочил из подъезда и бросился во флигель к генеральше Гусовой. Но та заверила его, что никакая Людмила Петрова в ее доме не появлялась. Краевский снова взял извозчика и поехал в дом к Людочкиной матери. Испуганная женщина тоже не дала ему вразумительного ответа.
– Это вас, граф, я должна спрашивать, где теперь моя дочь? – отвечала она срывающимся на слезы голосом.
Обхватив в смятении голову, Краевский что-то бормотал, извинялся. Объяснял, что Людочка уехала на экипаже. Обещал ее разыскать. Заверял мать в том, что все будет в порядке.
Через час он пытал Николая Степановича и Капитолину Ивановну:
– Отвечайте, канальи, где Людмила?
– Что вы, Ваше Сиятельство, горничная Людмила Петрова в то же утро уехала на извозчике.
– Ее никто не останавливал?
– Нет. Да как же можно? – божились ему слуги.
Краевский бегал на горку, где обычно собирались извозчики. Но никто и ничего не слышал. Ни с одним из них не ехала барышня, приметы которой описывал граф. Краевский даже обратился в полицию. Те обещали поискать, но за отсутствием каких-либо улик или следов, закрыли это дело. Сбежала горничная, и бог с ней.
* * *
Прошло ровно шесть месяцев. В монастыре у Людочки родился мальчик. Повитуха и вправду была удивлена тем, что у молодой роженицы оказалось непорочное нутро. Об этом было доложено настоятельнице.
– Ты полагаешь, что я похвалю тебя за непорочность? – строго спросила ее высокая пожилая игуменья.
– Нет, матушка. Вы ведь прекрасно знаете, что я не дева Мария… Исповедуйте меня.
– К исповеди ты пока не готова. Молись, раба божья, и кайся, – черные, почти мужские глаза под сенью густых бровей смотрели испытующе. – Ладно, поживи здесь, пока сынок не окрепнет. А там видно будет.
– Благодарю вас, матушка. Я стану молиться за вас и вашу доброту, – покорно отвечала Людмила.
– Молись деве Марии. Это она спасла дитя твое.
Игуменья помолчала, вспоминая то, сколько дней провела в горячке эта несчастная, избитая розгами молодая женщина.
– Кстати, когда ты рожала, в монастырь приезжал какой-то господин. Немец, я полагаю. Откуда он узнал, что ты здесь, я не ведаю. Фамилия его Нойман. Сказал, что он доктор, и готов взять тебя к себе. Просил о встрече. О ребенке я ему не стала рассказывать. Сказала, что ты уехала на моление. Ты знаешь его?
– Знала когда-то, матушка. Я попрошу вас, если он еще раз приедет сюда, не принимайте его. Скажите ему, что я не желаю его видеть, и женой его никогда не стану. И еще: о моем сыне не должен знать никто. Если меня будут искать другие люди, скажите, что нет здесь такой послушницы. Поймите, матушка, речь идет о спасении моей жизни и жизни моего сына.
– Хорошо, дочь моя. Ступай…
* * *
Прошел еще год. Несчастный Краевский даже не догадывался о том, что где-то в монастыре родился его сын. Мало кто из знакомых узнавал теперь графа. Он поседел, поредела его шевелюра. Он резко состарился и обрюзг. Целыми днями он просиживал в своем кабинете и молча смотрел на горящий в камине огонь. Он почти ни с кем не разговаривал. Даже с супругой и дочерями. Лишь изредка он притягивал к себе дочь Машеньку, трепал ее по затылку, и со слезами вдыхал аромат ее детской головки. Он часто и помногу пил. А после спал до обеда. Службу в Губернской земской управе он тоже забросил.
Руфина Леопольдовна теперь редко разговаривала с супругом, предпочитая в общении холодное и презрительное молчание. Они не обедали вместе. Графу приносили еду прямо в кабинет.
Когда, спустя время, он наведался на чердак, чтобы отыскать хоть Людочкин платок или ленту для волос, комната встретила его ошеломительной чистотой. Здесь шел ремонт, и готовили к заселению новую горничную. Даже старую мебель из комнаты сломали и сожгли в печи.
Вечерами Краевский брал извозчика и ездил по тем улочкам, где они когда-то гуляли с Людмилой. Он подолгу всматривался в прохожих, ища среди них знакомый силуэт. Но все было тщетно. Иногда он заезжал в тот ресторан, где так часто они обедали вместе. В тот ресторан, где однажды он дерзко заставил ее обнажиться перед лакеем. Краска стыда заливала его щеки. Мысленно он молил у нее прощения. А перед его затуманенным водкой взором плыл легким миражом образ той, которая являлась ему нынче лишь во сне… В эти минуты графу казалось, что он чувствует аромат нежной фиалки и тихий Людочкин смех.
В полном одиночестве, с одной свечой на столе, он заказывал официанту тарелочку с Mille-feuille. Аккуратно, дрожащей рукой, он ставил ее напротив пустого стула и начинал мечтательно улыбаться. Официанты уже привыкли к причудам графа. Они слышали, как тот ведет сам с собой долгий ночной разговор… На рассвете они будили Его Сиятельство. К утру он обнаруживал себя спящим, прямо за столом ресторанного кабинета. Тарелочка с Mille-feuille оставалась нетронутой.
* * *
Однажды дворецкий принес ему письмо от князя Константина Николаевича С-кого. Анатоль нехотя распечатал конверт, подписанный витиеватым почерком князя, придавленным сургучной печатью с фамильным вензелем. Пахнуло знакомым одеколоном. В письме «Катька» не упрекал его в долгом молчании. Он лишь сообщал о том, что приехал в город Н. и ждет его, Краевского, к себе в гости на чашку чая.
Анатолю отчего-то остро захотелось встретиться со своим бывшим любовником. Рассказать ему о том, что творилось в его душе. Поплакаться о своем горе. В груди стоял тяжелый ком, давящий на сердце. А он не мог ни перед кем облегчить свою совесть. Князь мнился ему тем спасением, которого так долго ждала его душа.
Князь не пожелал более останавливаться в гостинице, а снимал нынче квартиру в одном из доходных домов. Он приветливо встретил своего давнего друга. Они обнялись. Константин Николаевич приказал накрыть стол к обеду. Оба немного выпили. И вдруг Краевский разрыдался. Он стал рассказывать другу о своей беде. Закончив долгое повествование словами:
– Костя, я схожу с ума. Прости, мой друг, я полюбил эту девушку больше жизни. Ты понимаешь, с самого первого мига я знал, что это была не первая наша встреча.
– Что ты имеешь в виду?
– Веришь ли ты в то, что мы живем на этой земле не одну жизнь? – граф смотрел на друга горящим взором.
– Да, иногда я думал об этом… Знаешь ли, Анатоль, я не склонен к мистицизму. Кажется, это учение буддистов?
– Понимаешь, я уже знал ее! – не унимался граф.
– Кого?
– Людочку. Мою любовь.
– А меня ты знал? – с легким укором спросил князь.
– Тебя? Наверняка… – рассеянно отвечал Краевский.
– И что теперь? Где она?
– Костя, в том то и дело, что ее нет нигде. Я обращался в полицию. Объехал все притоны, побывал в моргах, – Краевский вздрогнул. – Я даже посетил все дома терпимости. И объехал все монастыри. Нет ее нигде! Понимаешь? Она, словно в воду канула. И мать о ней ничего не знает. Я завозил на днях матери денег, но она прогнала меня… Как глупо все и ужасно. Если бы ты только знал, как я страдаю. Мне свет белый не мил.
«Катька» подсел рядом. Тонкая кисть легла на ногу графа.
– Анатоль, возьми себя в руки. Я понимаю, что ты огорчен. Но жизнь меж тем идет далее. Посмотри, как ты страдаешь. Ты так изменился. Где твой лоск? Ты даже перестал душиться и рубашка твоя не свежа… У тебя семья, дети. Я, наконец.
Он порывисто обнял графа и поцеловал его в губы. Граф не ответил ему на поцелуй. Он отвернул от любовника лицо.
– Я тоже живой человек, Анатоль. И я тоже смертельно страдаю, – горячо зашептал князь. – Если бы ты знал, как долго я скучал по твоей любви.
Настырная рука нырнула к паху Краевского. Тонкие пальцы пробежали по застежке штанов. Краевский напрягся. Как давно у него не было этого ни с кем. Он стиснул руку князя и крепко сжал зубы.
– Раздевайся, – коротко приказал он. – У тебя есть веревка?
– Да-аа-аа, – почти простонал счастливый «Катька». – У меня даже есть плетка.
Он обхватил бедра Краевского и заплакал.
– Молю тебя… Сначала накажи… Я так долго этого ждал.
Краевский медленно расстегивал пуговицы на рубашке, когда его взгляд случайно скользнул по полкам этажерки. На части полок стояли книги, лежала стопка писчих листов и чернила с перьями. Но на одной из них красовалась прямоугольная пистолетная коробка с вензелем оружейника Густава Биттнера. Краевский отстранился от пылких объятий князя и подошел к этажерке. Рука потянулась к деревянной коробке. Да, он не ошибся. В ней, в бархатном зеленом углублении, лежал пистолет Биттнера. Он вынул его и в задумчивости повертел в руках увесистый и холодный ствол.
– С каких это пор ты увлекся оружием? – рассеянно спросил он.
Князь отчего-то покраснел.
– Да, так… Купил по случаю в одной лавчонке. Ты же знаешь, мне приходится много ездить. Иногда по ночам…
«Пуля! – осенило Краевского. – Там была пуля именно от этого пистолета».
В его голове ожили краски той, незабываемой ночи, когда его возлюбленная была бледна и плакала от страха. Она долго уверяла его, что тот выстрел не был случайностью. Черный господин!
– Это ты? Ты стрелял в Людмилу? Не отпирайся. Я все понял. Ты следил за нами…
– Да, это был я, – упавшим голосом признался князь.
Краевскому стало трудно дышать. Он еще сильнее ослабил воротник. Ему казалось, что сердце вот-вот лопнет, не выдержав потрясения.
– Анатоль, прости меня! – умолял князь, стоя на коленях. – Прости, ибо тебе известен яд, по имени любовь. Что делать, я люблю тебя безумно. Я ревновал, как старый мавр. Я следил за вами. Прости меня… Ведь я столь же несчастен, как и ты.
– Где она? Ты убил ее?
– Нет- нет, что ты! С тех самых пор, как я промахнулся, я более не видел твоей Людочки.
– Промахнулся? – граф развернулся и с силой ударил обнаженного по пояс князя. Тот упал на пол, к ногам графа и зарыдал. Из носа Константина потекла кровь.
– Накажи меня. Накажи. Только не бросай. Я умоляю. Ну, на что тебе эта плебейка? Пройдет время, и ты забудешь о ней. Разве мало тебе моей любви?
Краевский сидел на кровати, обхватив руками голову. Спустя некоторое время он выпрямился.
– Раздевайся донага. Ты помнишь, ту нашу игру? Когда я оставлял тебя на весь день и приходил поздними вечерами?
– О, да… – ответил «Катька» с придыханием в голосе. Его член напрягся.
Краевский отвел остекленевший взгляд.
– Я привяжу тебя и уйду, – монотонно и бесстрастно проговорил он. – Я уйду надолго, но ты будешь меня ждать. И однажды я вернусь… И мы будем любить друг друга.
– О да, возлюбленный мой. Я буду ждать тебя столько, сколько надо, – синий взгляд распахнутых глаз выражал столько чувств, что Краевский снова отвел глаза.
Анатоль привязал «Катьку» за деревянный выступ подоконника.
– Жди меня… Я приду, – пообещал он и навсегда покинул своего патикуса.
* * *
Он плыл долго, и наконец, желанный берег показался вдали. Яркие лучи солнца золотили свежий улов. Синее море несло его легкий плот к берегу. А на берегу, в светлом хитоне и венке из белых лилий, ждала его та, кого он любил больше жизни. Рядом с ней стоял их сын, русоволосый мальчик, похожий на свою мать. Антемиол из рода Квинтиев прокричал имя своей возлюбленной: ЛЮЦИНИЯ!
И она ответила ему, помахав с берега рукой.
Примечания
1
Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или когда-либо жившими людьми случайно.
(обратно)2
Она очень милая – (франц.)
(обратно)3
Вакации – гулящая, праздная пора; в значении каникул или праздничных дней.
(обратно)4
Имеется в виду Константин Дмитриевич Ушинский – русский педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России (1824–1871) (Примеч. автора).
(обратно)5
Entrez – входите (франц.)
(обратно)6
Рекреационная зала – место отдыха учениц. Здесь они обычно прогуливались во время перерывов между уроками.
(обратно)7
Grisette – (франц.) устарелое слово. Молодая горожанка (швея, хористка, мастерица и т. п.), не очень строго придерживающаяся нравственных правил.
(обратно)8
Парвеню – от франц. parvenu – добившийся успеха, разбогатевший; выскочка – человек незнатного происхождения, добившийся доступа в аристократическую среду и подражающий аристократам в своем поведении, манерах; выскочка.
(обратно)9
Титешница – (устар. разг.) баба с большой грудью.
(обратно)10
Удаление волос шелковой нитью – распространенный способ эпиляции на Востоке. Для его применения нужен определенный навык. Это искусство берет свое начало с глубокой древности. (Примеч. автора.).
(обратно)11
Теодор (Федор) Швабе – родоначальник мастерской в Москве, а позднее Торгового дома по производству оптических приборов (биноклей всех видов, очков, увеличительных стекол, микроскопов и фототоваров). (Примеч. автора).
(обратно)12
Как и в Европе, гомосексуальные отношения в 19 веке шире всего были распространены в закрытых учебных заведениях – Пажеском корпусе, кадетских корпусах, юнкерских училищах, училище Правоведения и т. д. В последствие эти традиции плавно переходили и во взрослую жизнь (Примеч. автора)
(обратно)13
Мазочка – в закрытых мужских учебных заведениях существовали уродливые формы ухаживания (точь-в-точь как в женских институтах «обожание») за хорошенькими мальчиками, за «мазочками». – (Примеч. автора).
(обратно)14
Лоретка – женщина легкого поведения, проститутка, кокотка.
(обратно)15
Mille-feuille – дословно с французского переводится как «тысяча слоев». Это многослойный десерт из слоеного теста. Прослаивается различными кремами или ягодами.
(обратно)16
Aurum – латинское название золота.
(обратно)17
Auri sacra fames – Проклятая жажда золота. Вергилий, «Энеида».
(обратно)18
Клистир (Clyster) – Промывательное, впускаемое чрез задний проход, а также трубка, служащая для этого. Иными словами, клизма.
(обратно)19
Par contenance – (франц.) Для контенанса. Для приличия, для видимости, непринужденность в манере держать себя.
(обратно)20
В течение многих десятилетий с начала XIX века удаление клитора считалась нормальным хирургическим вмешательством, которое было способно привести к исцелению конкретного заболевания. Ведущим поборником медицинской клитородектомии был английский гинеколог Айзек Бейкер Браун, один из основателей Больницы Святой Девы Марии в Лондоне, в которой он и работал хирургом-гинекологом, имея безупречную репутацию. На многих его коллег, наблюдавших за его операциями, производили сильное впечатление его эрудиция и смелость при принятии решений. В 1858 году его слава была столь высока (как и его финансовые возможности), что он смог открыть частную клинику под названием «Лондонская клиника хирургических методов лечения женщин». В 1865 году его избрали президентом Лондонского медицинского общества, а в 1866 он опубликовал книгу под названием «Об излечении некоторых видов безумия, эпилепсии, каталепсии и истерии у женщин». Книга почти целиком представляла собой восторженный панегирик удалению клитора. (Примеч. автора).
(обратно)21
utérus et clitoris (латынь) – матка и клитор.
(обратно)22
В конце XIX века в Москве и Петербурге стала зарождаться мужская гомосексуальная субкультура. Состоятельных мужчин, испытывающих сексуальный интерес преимущественно к мужчинам, называли «тётками». Это слово было позаимствовано из французского. Аналогичное название – «tante» – использовалось в XIX в. во Франции для обозначения мужской проститутки, а к концу XIX столетия это слово стало использоваться во французской печати как обозначение гомосексуалистов вообще.
(обратно)23
Имеется в виду известный миф об однополой любви. Миф о похищении Ганимеда «прекраснейшего сына человеков», сына троянского царя Троса. Зевс, влюбившись в юношу, превратился в орла и похитил его.
(обратно)24
Урнинг – то же, что мужеложец или гомосексуал, андрофил. Уранизм – термин девятнадцатого столетия, изначально описывающий мужчин с «женской психикой в мужском теле», которых сексуально привлекают мужчины, а затем распространенный на понятие гомосексуальности в целом. Термин имеет происхождение в диалогах Платона, где Афродита Урания («небесная») объявлялась покровительницей любви двух мужчин. Традиционно считается, что в науке термин «уранизм» впервые предложил немецкий адвокат и общественный деятель Карл Генрих Ульрихс (сам гомосексуал) в серии книг «Исследование загадки любви между мужчинами» (Нем. Forschungen über das Räthsel der mannmännlichen Liebe), написанной в 1864–1865 г.г. Он разработал сложную, тройную классификацию, для понимания сексуального и гендерного поведения.
(обратно)25
Козел из Мендеса – Несколько классических авторов упоминают о совокуплениях между женщинами и животными в храмах во время ежегодных церемоний. Название мендесийского культа является синонимом скотства. В египетском городе Мендес поклонялись козлу, и его жители совершали религиозную церемонию, в ходе которой женщина совокуплялась с козлом. Вот, вкратце, что говорит Геродот по этому поводу: «В мои времена Мендес был свидетелем чуда: козел публично совокуплялся с женщиной, и об этом было известно всем горожанам».
(обратно)26
Весталка – (лат. virgo vestalis) – жрицы богини Весты в Древнем Риме, пользовавшиеся большим уважением и почётом. В обязанности весталок входило поддержание священного огня в в храме Весты, соблюдение чистоты храма, совершение жертвоприношений Весте и пенатам, охрана палладиума и других святынь. Весталки должны быть чисты и девственны. (Примеч. автора)
(обратно)27
Весталки заворачивались до пят в длинную, белого цвета ткань, именовавшуюся палой.
(обратно)28
Палладиум – палладий – священная статуя-оберег, изображавшая Афину-Палладу. В римском варианте – Минерву. Являлась святыней и талисманом города, в котором хранилась. Иногда это был барельеф с изображением богини.
(обратно)29
Претекста – (Praetexta) – тога. В Древнем Риме белая тога с пурпурной каймой по борту, носившаяся курульными магистратами, муниципальными и колониальными магистратами, а также некоторыми из числа жрецов (в основном авгурами), и была, за исключением первого случая, знаком отличия, присвоенным известной должности. Магистраты, исполнявшие курульные должности, и диктаторы, консулы, преторы, сенаторы имели право носить претексту на общественных празднествах и церемониях.
(обратно)30
Всё время служения весталки должны были сохранять целомудренный образ жизни, его нарушение строго каралось. Считалось, что Рим не может брать на себя такой грех, как казнь весталки, поэтому их наказывали погребением заживо (на Злодейском поле, лат. Campus Sceleratus, находившемся в черте города у Коллинских ворот на Квиринале) с небольшим запасом пищи, что формально не являлось смертной казнью. (Примеч. автора).
(обратно)31
Регия – (лат. Regia) – строение в Древнем Риме, располагавшееся на римском форуме. Согласно античным источникам, она была резиденцией царей Рима или, по крайней мере, их присутственным местом, а позднее – местопребыванием верховного понтифика, первосвященника римской религии. Здание находилось на Священной дороге, у подножия Палантинского холма, напротив храма Весты и Дома весталок, рядом с храмом Цезаря.
(обратно)32
Авгур (лат. augures) – член почётной римской жреческой коллегии, выполнявший официальные государственные гадания (главным образом ауспиции) для предсказания исхода тех или иных мероприятий по ряду природных признаков и поведению животных.
(обратно)33
lectus cubicularis – (латынь). Кровать.
(обратно)34
Катедра (cathedra) – лат. Сиденье, стул со спинкой.
(обратно)35
Селла – скамья.
(обратно)36
«Буду возрастать я славой, (вечно) молодой, покуда на Капитолий восходит жрец с безмолвной девой» – отрывок из оды «Exegi monumentum» Горация.
(обратно)37
Нокс – богиня ночи у древних римлян.
(обратно)38
Таблинум (лат. Tablinum, от tabulae – доска) – помещение в древнеримском жилище. Примыкало непосредственно к атриуму, от которого в некоторых случаях его отделяла ширма или деревянная перегородка. Помещение было по сути «кабинетом» главы семьи и предназначалось для деловых встреч и приемов, а также для хранения документов (табличек с записями). За таблинумом обычно следовал перистиль. Стены таблинума зачастую были расписаны фресками, а пол вымощен мозаичными плитами.
(обратно)39
Солиум (Solium) – почетный стул, кресло для глав аристократических семейств, которые имели свое постоянное место в храмах.
(обратно)40
Скабелум (Scabellum) – небольшая скамейка, скамеечка или низкая табуретка для ног.
(обратно)41
Causa justa – где законные обоснования?
(обратно)42
Corpus delicti – вещественные доказательства, улики или состав преступления.
(обратно)43
Justitia regnōrum fundamentum – правосудие превыше всего.
(обратно)44
Dum casta – пока непорочна.
(обратно)45
Culpa lata (лат.) – тяжелая вина.
(обратно)46
Согрешившего с весталкой, забивали до смерти розгами. (Примеч. автора).
(обратно)47
Комиций – (лат. comitio, от лат. comeo – схожусь, собираюсь) – народное собрание в Древнем Риме.
(обратно)48
Ad turpia nemo obligātur. – К постыдному никого не обязывают; никто не может заставить другого совершить безнравственный поступок (положение римского права).
(обратно)49
Долий – глиняный сосуд большого размера для хранения вина, оливкового масла, воды и зерна. Его часто закапывали в землю для лучшей сохранности продуктов.
(обратно)50
Киндер, кюхе, кирхе; с нем. – «дети, кухня, церковь»), или 3 K, – немецкое устойчивое выражение, описывающее основные представления о социальной роли женщины в германской консервативной системе ценностей.
(обратно)51
Vita sine libertāte nihil (лат.) – Жизнь без свободы – ничто.
(обратно)52
Конвенансы – франц. (convenances) Условность, приличия.
(обратно)53
Femĭna nihil pestilentius – (лат.) Нет ничего пагубнее женщины.(Гомер.)
(обратно)54
Гофманские капли – это лекарство впервые составленное Фридрихом Гофманом в 1606 г. из 2-х частей серного эфира и 3-х частей спирта. Употребляются при головокружениях, обмороках, икоте, тошноте, желудочных болях.
(обратно)55
Vita sine libertāte nihil. – (лат.) Жизнь без свободы – ничто.
(обратно)56
A posteriōri – (лат.) Исходя из опыта.
(обратно)57
Густав Биттнер – известный оружейник 19 века.
(обратно)58
Педикатор – активный партнёр в гомосексуальном половом контакте.
(обратно)59
Каждого влечет его страсть (Публий Вергилий Марон, «Буколики»).
(обратно)60
Аlea iacta est (с лат.) – Жребий брошен.
(обратно)61
Suum cuique (с лат.) – Каждому свое.
(обратно)62
Гладиус – или гладий – римский короткий меч (до 60 сантиметров). Предположительно был позаимствован и усовершенствован римлянами у древних жителей Пиренейского полуострова. Гладиус были обоюдоострыми для нанесения режущих ударов, и имел клиновидное острие с широкой режущей кромкой для нанесения мощных колющих ударов.
(обратно)63
Vae victis (с лат.) – Горе побежденным.
(обратно)64
Жуир (от франц. jouir – наслаждаться) (устар.) – весело и беззаботно живущий человек, ищущий в жизни только удовольствий.
(обратно)65
От франц. anecdote – краткий рассказ об интересном случае. Короткая смешная история. В России XVIII–XIX вв. (и в многочисленных языках мира до сих пор) слово «анекдот» имело несколько иное значение, чем сейчас – это могла быть просто занимательная история о каком-нибудь известном человеке или случае. (Примеч. автора).
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


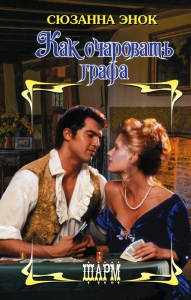



Комментарии к книге «Милкино счастье», Лана Ланитова
Всего 0 комментариев