Александр Прозоров Государева избранница
© Прозоров А., 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018
Часть первая. Царская воля
2 сентября 1616 года
Москва, Кремль
Полуденное солнце с легкостью пробивало три забранных слюдою окна Малой Думной палаты и ударяло в золотистую роспись стены, после чего растекалось по всей горнице, освещая чинно восседающих на лавках вдоль стен, под ликами святых старцев, знатных бояр.
Высокие бобровые шапки, собольи воротники, распахнутые парчовые шубы, песцовая опушка рукавов и подолов, обитые серебром и золотом высокие посохи, многие из которых венчались резным навершием из слоновой кости либо еще более драгоценным самоцветным. Пояса с накладками из янтаря и яхонтов, перстни с каменьями, золотые цепи и ожерелья на шеях.
Богатством, достоинством, золотом и самоцветами лучились наряды всех находящихся здесь людей, кроме двоих. Первым был одетый в длинный коричневый кафтан писарь, таящийся за пюпитром возле окна и старательно строчащий что-то на листочках рыхлой желтой бумаги. Вторым – пожилая круглолицая монахиня, облаченная в темно-синюю рясу и светло-серый апостольник[1], опирающаяся на высокий тонкий посох из красной вишни с широким крестообразным навершием из серебра.
Именно инокиня, стоя слева и чуть позади царского трона, сурово отчитывала упавшего пред государем на колени худощавого лысого боярина с тощей седой бородкой, тискающего в руках засаленную рысью шапку:
– Тебя, Агофен Листратыч, бояре чухломские губным старостой избрали, с тебя за них всех и спрос! Что за бесовство поганое они вдруг затеяли, на торгу подать не платить?! Мытаря царского погнали, да еще и поход разбойный к татарам своевольно учинили?! Без Разрядного приказа исполчения, без указа и доизволения? Да еще на смотр половина людей ратных не вышла! Это что же вы себе за дурь позорную позволяете? Али шляхта дикая вас покусала, что подобно ляхам поганым вести себя затеяли?! Али вы мухоморов каких в лесах своих дружно откушали?! Каковую сказку в оправдание затеи сей вымолвить посмеешь? Говори!
– Дык, государь… – жалобно взмолился старик, умоляюще глядя в глаза восседающего на позолоченном кресле бледного худосочного юношу, с легким пушком на подбородке и верхней губе вместо усов и бороды. – На басурман, знамо, бояре отлучались-то! Рази грех сие, нехристей всяких, сарацин нерусских пощипать маненько? И дуван взятый по обычаю атаман делит, да круг войсковой. Зачем нам мытарь?
– Да ты никак вовсе ума лишился, боярин Агофен?! – громко возмутилась монашка. – Где это ты обычаев таких набрался?! Откель вовсе повадки подобные в державе православной взяться могут?! У нас на Руси токмо закон все поступки людские определяет! Указы царские да приговор собора Земского! И без воли царской ни един боярин саблю из ножен вынимать права не имеет! Ни на басурман, ни на схизматиков, ни на православных людей тем паче! Коли от приказа Разрядного повеления не пришло, живи тихо, землю паши да жену люби! А в исполчение назначили, в тот же час в седло подняться должен, да в снаряжении полном на смотр явиться, в броне, с саблей и рогатиной, да с конем заводным. И от каждых пятидесяти десятин пашни своей по добротно снаряженному воину выставить!
– Ну так круг, он решит…
– Опять круг, Агофен?! – совсем уже взъярилась монашка. – Нет никаких кругов в царствии русском, боярин! На Руси есть токмо приказ Разрядный да воля царская! А коли не нравятся вам законы праведные, то вот вам бог, а вот порог: на Дон катитесь, к вольнице казачьей! Нам такие слуги не надобны!
Монашка снова стукнула посохом об пол и твердо объявила:
– Слушай волю царскую, Агофен Листратыч! Сим государь наш Михаил Федорович объявляет, что любой сын боярский, на смотр по велению Разрядного приказа не явившийся, либо по разумению своему в поход ушедший, из росписей в тот же час исключен будет, а поместье его в казну отписано! О сем избирателям своим и поведай. Все, ступай! Более тебя государь не задерживает!
– Благодарствую, государь… Благодарствую… Благодарствую… – С хорошо видимым облегчением губной староста из Чухломы поднялся с колен и, низко кланяясь, допятился до двери, шмыгнул наружу.
– Они так и останутся ненаказанными?! – изумились сразу трое думных бояр. – Учудили самовольный поход, мытарей прогнали, на смотр не явились… Да за любой из сих грехов боярина ссылать надобно и все земли изымать без оговорок! Детей же боярских в черный люд сразу списывать!
– Как бы нам не разбросаться боярами-то, Тихон Матвеевич, – ответила только одному из возмущенных князей монашка. – Во времена смутные многие земли токмо своим разумом жили, своим кругом все решали, про законы и указы за сии годы успели позабыть. Их всех к жизни правильной ни за день, ни за год уже не повернуть. В иных местах закон казачий селяне приняли, в иных под руку князей местных вернулись. Тут строгостью одной не обойтись, тут терпение надобно. Нет ныне сил у царя для всеобщей строгости. Однако же коли самых ретивых вольнодумцев на вольницу спроваживать, а на разумных опираться, то так, потихонечку, шаг за шагом, порядок и наведем.
– Так нам никакой жизни не хватит, матушка! – вздохнул думный боярин.
– А ты, Тихон Матвеевич, полагаешь, умнее твоих холопов на коней посадить, да их саблями чухломских помещиков к порядку приучить? В Чухломе дети боярские погибнут, в твоей дружине холопы погибнут. И какой от сего державе прибыток? Токмо ненависть у вас друг ко другу надолго в сердцах поселится, в жизни и в походах волками друг на друга смотреть станете, помогать друг другу не захотите. Станет ли от сего Русь и войско наше прочнее? – Монашка чуть выждала, словно бы ожидая ответа, и закончила свою речь: – Терпение, Тихон Матвеевич, терпение. Господь терпел и нам велел. Курочка по зернышку клюет и сыта бывает. Вот и нам ныне надобно земли все, уделы и детей боярских по зернышку собирать да привечать, в гнездо родное возвертая. А коли служивых бить по головам начнешь, так они после сего токмо еще дальше разбегутся.
Вставшие со своих мест князья склонили головы и вернулись на скамьи.
– Нынешний день оказался долгим, бояре, – решила монахиня. – Государь устал. Время обеденное, пора и отдохнуть. Господу помолиться, покушать, иными делами озаботиться.
Думные бояре опять поднялись, оперлись на посохи, склонились в поклонах. Последним поднялся с трона юноша, одетый в ферязь из аксамита[2] и в тафью[3] с золотым шитьем.
– Сынок, ты как? Все хорошо? Как себя чувствуешь?
– Все хорошо, матушка, – тихо ответил юный государь.
Его попытались поддержать двое рыжебородых слуг в парчовых кафтанах, но царь Михаил Федорович жестом их остановил и самостоятельно вышел в дверь за креслом.
Думные бояре распрямились и тоже двинулись к выходу.
За дверью же, что скрывалась за троном, монашка положила руку юному самодержцу на плечо:
– Ты выглядишь уставшим, Мишенька. Может статься, братья Салтыковы проводят тебя в опочивальню?
– Не нужно, матушка, – покачал головой царь всея Руси. – Я хорошо себя чувствую. Я вполне могу дойти до своих покоев сам!
Явное раздражение государя заставило отступить и братьев Михаила и Бориса, и инокиню Марфу, в девичестве – Ксению Ивановну Шестову.
– Хорошо, Мишенька, – не стала спорить монашка. – Ступай. Но после обеда обязательно полежи! Мне же ныне надобно в обитель. Увидимся вечером.
– Конечно, матушка…
Государь и монашка крепко обнялись, после чего скромная послушница, постукивая посохом, повернула к лестнице, а ее сын в сопровождении четырех рынд[4] – высоких, плечистых, одетых в белоснежные кафтаны, с топориками в руках – двинулся к своим покоям.
Такое уж оно, одиночество царя, – всегда в окружении охраны, советников или слуг.
Царские холопы встретили Михаила Федоровича в его личных покоях, пахнущих можжевельником и ладаном, обитых сукном, застеленных коврами, с расписным потолком и слюдяными окнами, сняли с правителя дорогую парадную одежду, одели в свежую шелковую рубаху и бархатную тафью, опоясали парчовым кушаком, проводили к накрытому столу, отодвинули обитое алым бархатом резное польское кресло, положили на колени вышитую салфетку…
Взойдя на трон целых три года назад, Михаил до сих пор никак не мог к этому привыкнуть: к тому, что слуги выполняли за него буквально все! Расправляли наряды, одевали, раздевали, укладывали в постель, взбивали подушки и накрывали одеялом, постоянно ходили следом, открывали для него двери, умывали перед едой и, конечно же, парили в бане; накладывали кушанья в тарелку и наливали питье в кубок. Мальчик, которого царские приставы пытались свести в могилу холодом и голодом, никак не мог себе представить, что спустя всего десять лет он сам станет повелителем всея Руси и что те же самые царские слуги, каковые добивались его гибели, теперь чуть ли не на руках станут носить его с утра до вечера и сдувать каждую пылинку при первой возможности.
В не самой длинной жизни Михаила Федоровича случилось многое: ссылка, голод, унижения, бегство, возвращение в материнские объятия – и снова скитания, бегство, осады, голод… Но испытание заботой оказалось самым тяжелым.
– Боря, я налью сам! – не выдержал государь, когда заботливая рука потянулась из-за его плеча за кувшином с вином. – Столько, сколько самому хочется!
– Не-не-не, царь-батюшка, ни в коем разе! – Остролицый паренек, голубоглазый, вихрастый и конопатый, одетый в вышитый кафтан и соболью шапочку, торопливо сцапал серебряную емкость с высоким тонким горлышком, покрытую витиеватой чеканкой и ярким эмалевым рисунком. – Кравчий и только кравчий должен заботиться о твоих кубках и тарелках! Вдруг отравят?
Юный слуга налил в небольшой стаканчик вино, опрокинул в рот, звучно почмокал:
– Какая вкуснятина! Даже не понимаю, отравлено или нет? Пожалуй, нужно проверить еще раз… – Паренек плеснул себе снова, выпил, после чего почти до краев наполнил царский кубок. – Советую начать с этого, царь-батюшка. Красное фряжское диво как кровь разгоняет. Его словно прямо в жилы наливаешь! Сразу и теплее становится, и бодрее, кожа розовее. Тебе, Михаил Федорович, это ныне надобно. Бледный ты сегодня, государь.
Слуга налил себе в стаканчик еще вина, подмигнул юному самодержцу и опрокинул драгоценное питье себе в рот.
Боярин Морозов, Борис сын Иванович, единственный во всей державе позволял себе с правителем всея Руси подобные вольности. Ведь свою службу паренек начинал не слугой, а воспитанником. Три года назад он попал в кремлевский дворец вместе с Михаилом – двенадцатилетним напуганным сиротой, взятым ко двору из христианской милости и ради заслуг почившего отца, служившего подьячим в Посольском приказе, однако в смутное время совершенно разорившегося.
Юный царь, тоже ощущавший себя в огромном дворце неуютно, взял мальчишку к себе в свиту, всячески его поддерживал и утешал, тем самым успокаиваясь и сам.
Под надежным крылом государя зашуганный нищий сиротка вырос слегка нахальным и веселым пареньком, бедовым, но весьма умным. Во время пиров и бесед с приказными дьяками, на которых он прислуживал, Бориска ухо держал востро и хорошо усваивал услышанное. Посему, получив первое пожалование в пять сотен десятин, он стал надолго исчезать из дворца, занимаясь какими-то личными затеями. Однако к службе всегда и неизменно успевал.
– Полагаю, царь-батюшка, тебе еще и грибков отпробовать хочется, и убоинки печеной, и буженины, и печени заячьей на вертеле, и холодца… – Кравчий торопливо наполнял золотое, с самоцветами по краю, блюдо угощениями. – Ан нет… Холодец не помещается. Его тебе захочется позднее.
Михаил Федорович, не в силах сердиться на своего воспитанника, улыбнулся, поднял со стола кубок и пригубил вино:
– Куда ты все время пропадаешь, Борис? Иногда мне сильно не хватает твоего задора.
– Бедному сиротке приходится самому заботиться о своем прибытке, царь-батюшка. Иначе придется сидеть голому и босому, холодному и голодному. – Паренек быстро и ловко уплетал набранное на блюдо угощение. – Никогда! Никогда, государь, не отказывайся от кравчего! Иначе очень хороший человек может остаться на улице с пустым желудком!
– Почему на улице? – удивился царь. – Тебя же никто не выгоняет!
– Сговорился после обедни с одним торговцем о вологодском поташе поболтать… – несмотря на суетливость и прожорливость, о своих обязанностях кравчий не забывал, и пока Михаил Федорович допивал вино, быстро и ловко положил ему на тарелку несколько ломтей уже отведанного мяса и два вертела с заячьими почками, добавил немного капусты, а вот грибы класть не стал. Наверное, чем-то не понравились.
– Боярин Третьяков тоже полагает английского посланника со товарищи после обедни ко мне привести. Монополии прежние торговые подтверждать. – Государь взялся за ножи, наколол ломтик буженины, отправил в рот. – Уж не тебя ли я там застану?
– Почто ты, царь-батюшка, с сей поганю вообще встречаешься? – перекладывая себе холодец, поинтересовался паренек. – Англичане ведь, известное дело, на всем белом свете самые главные воры, лгуны, нехристи и изменники! Ты знаешь, каковой у них доход для казны самый главный? Корабли они гышпанские грабят, да тем еще и гордятся! Самых удачливых из татей-душегубов морских в воеводы свои возвеличивают! Молятся они не Богу нашему Иисусу Христу, а королю своему, королев же вешают, ако татей подзаборных. Воры, обманщики, изменники, государь. Нечто, полагаешь, на Руси они иначе себя вести станут? Да точно так же! Воровать станут где токмо можно, таможню и казну обманывать и смуты затевать.
– Откель ты все сие ведаешь? – удивился Михаил Федорович.
– Так ведь Посольский приказ каждый месяц газету выпускает, «Куранты» названием, в каковой все события самые важные пересказывает, что в мире во всем случились. Для бояр думных, дьяков приказных, князей знатных. Нечто ты ее не смотришь, царь-батюшка? Чтиво зело интересное!
Повелитель всея Руси начал жевать медленнее, о чем-то задумавшись.
– Не на одном ворье свет клином сошелся, государь. – Кравчий подлил царю еще вина. Себя, разумеется, тоже не забыв. – Те же товары и у голландцев купить можно, и у немцев, и у французов. За наше железо и пеньку они платят больше, воруют меньше. А коли меж собой их стравить, чтобы за внимание твое боролись, так казне раза в три доход увеличить можно.
– Уж не в дьяки ли Посольского приказа ты метишь, Борис? – с интересом посмотрел на воспитанника Михаил Федорович.
– Куда мне, царь-батюшка? Коли бороды нет, то и места тоже, – красноречиво провел пальцами по голому подбородку паренек.
– И то верно… – покачал головой государь, тоже провел пальцами по подбородку, отодвинул тарелку, допил вино и встал:
– Ладно, Боря, беги! Крути свои поташные промыслы.
Его воспитанник не заставил просить себя дважды, низко поклонился, прижав ладонь к груди, и выскользнул за дверь.
Михаил Федорович отер губы и руки еще до того, как к нему подскочили слуги – проводили до опочивальни, раздели, откинули край одеяла на перине, позволили лечь и прикрыли одеялом. Спасибо хоть не уложили, как несмышленого младенца.
Тем не менее юный государь почти сразу заснул; крепко, словно убитый, без тревог и сновидений, через полтора часа поднявшись сам – хорошо отдохнувший, слегка голодный и терзаемый недобрыми мыслями.
Постельные слуги одели Михаила Федоровича, вывели его в горницу перед опочивальней, где повелителя уже дожидался дьяк Посольского приказа. Дородный, высокий и, наверное, плечистый – богатая московская шуба, крытая сине-золотой парчой, с высоким куньим воротником, богатой опушкой по всему краю одежды, несколькими самоцветами на плечах и груди, совершенно скрывала фигуру боярина, оставляя на виду токмо солидный живот. Под распахнутой шубой сверкала золотом дорогая ферязь, а также наборный пояс. Белая рыхлая кожа на лице, на удивление густые каштановые брови, широкая окладистая борода того же цвета. Посередине бородку украшали две косички с вплетенными в них узкими ленточками: синей и оранжевой. В общем, дьяк Посольского приказа олицетворял собою настоящую знатность и мужскую красоту.
– Мое почтение, государь, – поднявшись из кресла, поклонился боярин Третьяков.
– Рад тебя видеть, Петр Алексеевич. – Царь всея Руси жестом отослал слуг прочь. Дождался, пока створки закроются, и спросил: – Правду ли сказывают, боярин, что англичане повесили свою королеву?
Дьяк поджал губы, подумал, затем поправил:
– Отрубили голову.
– И ставят пиратов своими воеводами?
– Адмиралами… – опять уточнил посольский дьяк.
– И молятся своему королю?
– Они молятся Богу, Михаил Федорович. Короля же почитают за главу своей церкви.
– Воры, душегубы, изменники… – задумчиво повторил царь всея Руси. – Как же нас угораздило, Петр Алексеевич, связаться с этакими-то проходимцами?
– Дык… Давно было… – неуверенно ответил дьяк. – Связи старые, налаженные. Привычные…
– Ведомо мне, Петр Алексеевич, что Посольский приказ газету делает. «Куранты» называется. Сделай милость, пришли ее мне. Желаю почитать, – спокойно распорядился юный царь. – Вестимо, узнаю там еще много интересного.
– Да, государь, – поклонился боярин и вышел из горницы.
Бывалый дипломат не стал спрашивать государя о встрече с английским посланником – и без того все понял. И потому из большого Великокняжеского дворца он со всех ног поспешил в Вознесенский монастырь.
Боярин Третьяков сделал свою карьеру в трудное время и прекрасно разбирался в тонкостях властных механизмов. В далеком шестьсот пятом году он смог вовремя поклониться сыну Ивана Грозного Дмитрию Ивановичу – за что при невысоком своем происхождении получил доходное место дьяка Разрядного приказа. Спустя три года за прилежание в работе царь Дмитрий Иванович возвысил его до думных дьяков, а затем и в дьяки Посольского приказа. Десять лет службы при царском дворе, да еще и в смутное время, хорошо научили Петра Алексеевича отличать тех, кто царствует, от тех, кто правит. И он знал, кому именно нужно жаловаться на произвол государя всея Руси.
Боярин поспел в обитель аккурат к тому часу, когда монахиня встала из постели и вместе с верной наперсницей, инокиней Евникией, пила в трапезной пряный обжигающий сбитень, закусывая его ароматными медовыми пряниками.
Матушка Евникия, в миру княгиня Ирина Ивановна Салтыкова, ушла от сует по собственной воле после смерти супруга. И как знатная боярыня, постриглась в придворный, Вознесенский монастырь, стоящий в Кремле сразу за Фроловской башней.
Матушка Марфа поселилась здесь же, в соседней келье, немного позже – после избрания сына Михаила на царствие.
Женщин сблизило многое. Обе потеряли любимых мужей: ведь патриарх Филарет, супруг монахини Марфы, томился в заложниках у польского короля, и никакой надежды вернуть его пока не имелось. Обе имели взрослых сыновей, каковыми дорожили. И обе старались этим сыновьям всячески помогать – делясь опытом, связями, окружая заботой и любовью.
Неудивительно, что князья Михаил и Борис Салтыковы – дети Евникии – стали окольничими юного царя, его верными слугами, советниками и преданными телохранителями.
Подруги были почти неотличимы: в одинаковых серых подрясниках, круглолицые, разрумянившиеся, со спрятанными под платки волосами. И мелкие старческие морщинки на одинаково бледной коже тоже были у обеих. Вдобавок в большом помещении с низким сводчатым потолком оказалось сумеречно – и потому в первый миг дьяк Посольского приказа даже засомневался, к кому именно из послушниц надобно обращаться.
По счастью, матушка Марфа разрешила его сомнения, заговорив первой:
– Рада видеть тебя, Петр Алексеевич! Присаживайся к столу, раздели с нами хлеб-соль. Полина, принеси нашему гостю достойный корец.
– Да, матушка. – Верная и послушная спутница царской матери отошла к дальней стене трапезной, к стоящим там сундукам.
– С чем в неурочный час пожаловал, Петр Алексеевич? – поинтересовалась инокиня. – С вестями добрыми али нет?
– Государь не стал встречаться с английским посланником, матушка, – присел к столу гость и потянулся к золотому блюду с пряниками.
– Занедужил?! – тут же встревожилась монахиня.
– Не беспокойся, матушка, Михаил Федорович бодр и здоров, – тяжко вздохнул дьяк Посольского приказа. – Однако же он откуда-то прослышал про нрав недобрый сих островитян и теперь не желает о них мараться.
– Но как же так? – вскинулась монашка. – Мы же по договору торговому обо всем сговориться успели!
– Коли государь свою подпись не поставит, матушка, никто его исполнять не станет, – покачал головой боярин.
– Это я и сама понимаю, Петр Алексеевич, – отмахнулась инокиня. – Но как же он своею-то волей? Мы же обо всем сговорились!
– Михаил Федорович ведь о сем ничего не ведал! – вступился за юного царя боярин Третьяков. – Мы полагали, после беседы с торгашом английским и получения подарков от оного государь в хорошем настроении урядное соглашение подпишет, тем его заботы о сем вопросе и кончатся. Однако же ныне у него настроение такое, что беседы об островитянах лучше не затевать. Как бы ссоры вместо соглашения не получилось.
– Я с ним поговорю! – решилась инокиня Марфа и даже попыталась встать. Но ее руку неожиданно накрыла ладонью наперсница, инокиня Евникия.
– Не спеши, матушка, – тихо сказала она. – Мальчишки упрямы. Коли их волю ломать пытаешься, они токмо крепче на своем стоять начинают. Поверь мне, Марфушка, я ведь двоих вырастила и в люди вывела.
– Однако же соглашение нам ныне надобно! Коли торг затихнет, казне убыток великий приключиться может!
– Люди молодые чувством многое решают, а не разумом, матушка. Коли почуял Михаил Федорович, что с англичанами достойному человеку знаться позорно, ты его не переубедишь. Близко из сих еретиков никого не подпустит! Тем паче мальчишка! У них честь свою беречь в крови с самого рождения.
– Но казне царской соглашение сие крайне надобно, Евникия!
– Твой сын взрослеет, Марфушка. – Монашка убрала руку и поднесла к губам усыпанный самоцветами золотой ковшик. – Тебе бы радоваться, а ты серчаешь.
– Тем взрослеет, что соглашение сорвал?! – повысила голос инокиня.
– Тем взрослеет, что делами государевыми беспокоиться начал, матушка, – спокойно ответила инокиня Евникия.
– Беспокоится, да ничего в них не смыслит!
– Так молодость, матушка, молодость. Кровь кипит, сердце горит, страсть наружу рвется, – потянулась за пряником престарелая монахиня. – Ан ума да опыта еще не набралось. Оттого поруха за прорухой и случаются.
– Оно дело понятное, матушка. – Дьяк Посольского приказа, получив от послушницы серебряный ковшик, налил себе сбитень из пузатого, начищенного до зеркального блеска самовара, над которым вился слабый дымок. – Юность безрассудна. Да разве сие исправишь?
– Да к чему исправлять-то, боярин? – усмехнулась монашка. – Судьба человеческая господом определена, и не нам с волею всевышнего спорить. Юности надобно отдать юношево, а зрелости пожилое.
– О чем ты, Евникия? – не поняла наперсницы матушка Марфа.
– Коли сын твой взрослеет, женить его надобно. Женитьба, известное дело, первый шаг к мужскому остепенению. Пусть он страсть свою и помыслы на молодуху направит, на прелести девичьи и обустройство гнезда собственного. Тогда, глядишь, не до глупостей ему станет в хлопотах прочих. Вопросы же государственные ты сама да дьяки многоопытные спокойно и тихо решать сможете, царя попусту не тревожа…
– Чур меня, чур, Евникия! – обеими руками отмахнулась монашка. – Слабенький он еще! Болезненный после ссылки-то, ножками мается, бледный постоянно, задыхается.
– Двадцать лет парню, Марфа! – сурово возразила наперсница. – Куда уж дальше ждать-то? Слабый не слабый, ан мужчиной пора становиться! Годы идут, о детях пора подумать да о внуках для отца с матушкой. Скажи, Петр Алексеевич?! – неожиданно повернулась к дьяку монашка.
– Для спокойствия державы, матушка Марфа, престолу надобен наследник, – приосанившись, огладил бороду на груди боярин Третьяков. – Наличие прямого законного наследника есть твердая уверенность для всего света, что смуты новой более никогда не случится. Намучились люди православные за последние десять лет с избытком и теперича уверенности жаждут! Наследник трону надобен, и чем скорее, тем лучше. А без жены, известное дело, государю родить трудно…
– И ты туда же, боярин… – укоризненно покачала головой инокиня.
– Я дьяк Посольского приказа, матушка, – развел руками Петр Алексеевич. – По месту своему превыше всего об интересах державных пекусь. Царствию нашему надобен наследник, матушка. Прости.
– Эк вы слитно как речи ведете, – покачала головой монашка. – Нечто сговорились?
– Тут и сговариваться ни к чему, матушка, – чуть склонил голову боярин Третьяков. – Михаил Федорович Земским собором на трон возведен, дабы новую законную династию на Руси нашей утвердить, все споры прежние отринув. Планы сии самое время воплощать! А покуда государь сомнениями любовными томится… Мы, матушка, прочие заботы разрешить сможем.
Инокиня Марфа потянулась к самовару, наполнила свой ковшик ароматным, словно индийские пряности, сбитнем и надолго задумалась, прихлебывая горячий напиток. Когда ковшик опустел, взяла пряник, так же неспешно прожевала, снова наполнила ковш. И наконец произнесла:
– Но какая из княжон станет Мише лучшей женой?
– Помилуй, матушка! – опять пригладил бороду боярин Третьяков. – По исконному русскому обычаю государю для выбора жены положено невест на смотрины собирать!
– Про то мне хорошо ведомо, Петр Алексеевич, – согласно кивнула монахиня. – Смотрины невест мы, конечно же, проведем. Но сперва надобно решить, каковую из них мой сын себе изберет?
22 сентября 1616 года
Село Дмитровка, окрестности Коломны
День в усадьбе боярских детей Хлоповых тянулся так же, как всегда: холопы возили с дальних лугов сено, плотно забивая его под кровлю двух стоящих углом домов и хлева – так и в избах теплее, и скотину кормить проще, если вдруг из-за непогоды али дел каких неотложных корма подвезти не получится; дворовые девки мяли лен, пристукивая его между сточенными на угол бревнами, бабы постарше таскали воду, мелкая ребятня лущила горох. Кто-то нес на реку белье полоскать, кто-то колол дрова, кто-то буртовал за плетнем репу. В большом хозяйстве работы хватало на всех.
Боярская дочка помогала на кухне. Не столько трудилась, понятно, сколько за расходом присматривала. Как крупу закладывают, как сало режут, как хлеб замешивают. Будущей хозяйке надобно сызмальства к делу своему привыкать. Здесь, возле горячих печей и кипящих котлов, Мария перегрелась, зарумянилась, распустила ворот рубахи, сдвинула на затылок платок. И когда мальчишка-подворник кликнул ее в горницу – такой и побежала, с ходу распахнув створку.
– Звал, батюшка?
За столом, возле бочонка с хмельным медом и двумя мисками с квашеной капустой и солеными грибами сидели двое бояр. На стоящей у стены лавке развалился боярский сын Иван Хлопов – большеносый, крупногубый, бритый наголо и в бархатной тафье на макушке, в простеньком зеленом кафтане с каракулевым воротником поверх серой косоворотки из домотканого полотна. А вот у стола жадно пил из липового ковша смуглый и длинноносый боярин, с густыми рыжими бровями и длинной, узенькой русой бородкой.
Уже через миг девочка сообразила, что видит незнакомца, испуганно пискнула и шарахнулась обратно в коридор.
– Поздно, красавица, я тебя заметил! – громко засмеялись в горнице. – Выходи, не стесняйся, Мария свет Ивановна, покажись дядюшке своему любимому!
Девочка глубоко вздохнула, поправила платок, завязала ворот, одернула сарафан и вошла в горницу снова, уважительно поклонилась:
– Хлеб-соль вам, бояре, и дня хорошего! Звал меня, батюшка?
– Ай, хороша! Ай, красавица! – успевший осушить ковш боярин в расшитом цветной нитью кафтане поднялся из-за стола, сделал два шага вперед. Прищурился, разглядывая девушку: – Ай, лебедушка дивная у тебя, Ванька, выросла, просто глаз не отвести! Черноброва, кареока, ушки резные, лик точеный, шея лебединая, стройный стан…
– Батюшка? – насторожилась Мария, каковую рассматривали со всех сторон, словно скоморошьего медведя на торгу.
– Нечто ты меня вовсе не помнишь, девица? – Обойдя боярышню кругом, русобородый боярин вернулся к столу и зачерпнул ковшом еще меда. – Шесть лет тому назад на свадьбе Александра Григорьевича виделись, разве забыла?
– Это для тебя, Ваня, шесть лет недавно случилось, – вмешался с лавки боярин Хлопов. – А для Марии сие треть жизни. Ей тогда десять лет всего было. Она с детьми другими тогда играла, а не на дядек чужих таращилась.
– Шесть лет, – выпив меда, утер лицо и бороду гость. – Что же мы так долго не встречались-то, братишка?
Иван Иванович пожал плечами и развел руки:
– Выходит, нам лихо повезло, что у дочки твоей ныне возраст аккурат для замужества.
От таких слов Марии стало по-настоящему страшно. Она бросила взгляд на отца и жалобно взмолилась:
– Батюшка-а?!
– Да не пугайся ты так, ладушка наша, – засмеялся гость. – Не за меня тебя сватать станем, а за государя нашего Михаила Федоровича. А он собою хорош, юн да пригож. Со мною и не сравнить!
– Батюшка-а?! – на этот раз с изумлением простонала девица.
– Государь наш, доченька, объявил намедни, что жениться желает, – наконец поведал своему ребенку боярин Хлопов. – И для сего дела объявил в Москве смотр невест.
– Как о сем в столице объявили, так мы с Александром и вспомнили, что у нашего брата двоюродного доченька должна быть на выданье! – объявил гость. – Я поднялся в седло, дал шпоры своему Серому… И вот я здесь! И вижу, что скакал не зря. Ты очаровательна, как сама Купава! Так что собирайся!
– Батюшка? – в четвертый раз спросила отца Мария.
– Съездишь в Москву погостить, доченька, – улыбнулся боярин Хлопов, – с бабушкой познакомишься да с дядьками двоюродными, столицу посмотришь, по торгу погуляешь. Себя покажешь, на других посмотришь… Отчего бы и не прокатиться, коли повод хороший нашелся?
– С тобой, батюшка?
– Ты же знаешь, милая, до Юрьева дня из усадьбы не вырваться! – покачал головой ее отец. – Оброки собрать, подати отправить, закупы пересчитать, погреба заполнить. Одно продать, другое поменять, лишнее отделить. Нам с матушкой ныне не вырваться.
– Так давай тогда после Покрова поедем!
– После Покрова вы разве только на свадьбе государевой погулять поспеете, – мотнул головой гость. – На смотрины же вот прямо сейчас отправляться надобно!
– Нечто ты и вправду веришь, что я в царские невесты могу выбиться, дядюшка? – наконец-то обратилась к гостю девочка.
– Пока не попробуешь, не узнаешь, – пожал плечами боярин. – И потом, племянница, ты же не заставишь меня скакать полных два дня, с утра до вечера, безо всякого смысла?
– Так и не нужно…
– А я уже прискакал! – расхохотался гость и зачерпнул еще хмельного меда. – Так что оправдываться поздно. Ты едешь в Москву! – И столичный гость повторил: – Не впустую же я сотню верст мчался, с седла не слезая?
У боярина явно начинал заплетаться язык. Похоже, он и вправду здорово устал. А густой хмельной мед после долгой тяжелой дороги – не лучшее угощение.
– Ты поедешь не одна, доченька! – Боярин Хлопов поднялся, подошел к столу. Но потянулся не за ковшом, а за капустой; прихватил большую щепоть и положил в рот. С громким хрустом прожевал. – Чай не сиротинушка ты одинокая! Ты из семьи большой да дружной происходишь. Тебя проводит дядюшка Иван Григорьевич, встретит дядюшка Александр Григорьевич, о тебе станет заботиться бабушка Федора. Вся семья бояр Желябужских. Тебе не о чем беспокоиться. Познакомишься с родичами, посмотришь Москву, покажешься при дворе. Пред очами царскими предстанешь! Глядишь, и запомнит…
* * *
Собрать юную деву в дальний путь получилось не так уж и быстро. Требовалось уложить наряды и украшения, подарки для родственников. Свою постель – лишней мягкой перины в гостях может и не найтись, шитье, иконы, полотно. Сверх того, понятно, съестные припасы для хозяев и слуг, овес и сено для лошадей. Не покупать же в дороге или столице, коли своего в достатке имеется? И еще несколько возков с репой, огурцами, копченым мясом, вяленой рыбой, зерном, капустой. Частью – родичам в подарок. Частью – на московский торг. Отчего не воспользоваться такой возможностью, коли все едино обоз снаряжается? В столице, знамо, цену раза в полтора, а то и вдвое можно взять супротив окраинной. Еще надобно наставление от духовника получить – как же без этого? Службу в церкви отстоять, могилам дедовым поклониться, в бане вымыться…
Как ни спешили бояре Хлоповы, но обоз из шестнадцати высоко груженных телег выкатился из ворот усадьбы токмо двадцать девятого сентября. Никаких кибиток или колясок у бояр Хлоповых не имелось, и потому Мария, наряженная в сафьяновые сапожки и бархатный сарафан, поверх которого лежал парчовый охабень[5] с горностаевым воротом, с набитным ситцевым платком на волосах, который утепляла пушистая бобровая шапка, уселась на первой возок поверх мягкой перины, накрытой рогожей и с подушками в мешковине по бокам – оказавшись благодаря тому по высоте наравне с дядюшкой Иваном Григорьевичем.
Там, на верхотуре, девица и раскачивалась на пологих кочках все пять дней размеренной дороги – пока поздно вечером четвертого октября телеги наконец-то не въехали на подворье боярских детей Желябужских в Земляном городе, в проулке возле Чертольской улицы[6].
Путники приехали так поздно, что встречали их московские подворники с факелами и слюдяными фонарями, а коней слуги распрягали чуть ли не наощупь.
Впрочем, лошади были не девичьей заботой. Холопы помогли Марии спуститься, передали на руки незнакомых девок. Те увели гостью куда-то в глубину сумрачного в ночи дома, поставили перед узкоглазой и желтолицей бабкой с торчащими из-под темного платка розовыми патлами.
– Проголодалась с дороги, девочка? – прошамкала старуха, жутко похожая на ведьму из старой былины, и оценивающе провела пальцами по щеке Марии.
От испуга путница не смогла проронить ни слова.
Ведьма кивнула девкам, те отвели гостью по коридорам куда-то вниз, посадили за стол, поставили ковшик и блюдо с пирогом.
– Кушай… – плотоядно попросила ведьма и отступила во тьму.
Несмотря на страх, отказываться Мария не стала – уж очень желудок за день подвело. Съела три больших куска пирога с брусникой и яблоками, сдобренными цветочным медом, запила густым киселем – и девочку почти сразу сморило. Она сдалась усталости, опустив голову, вяло позволила отвести себя в другую светелку, раздеть, утопить в перине и накрыть одеялом…
Всю ночь ей чудился густой, дремучий лес, хватающий корявыми ветками за рубаху, за подол и ворот, снилось утробное уханье сов и полет над самыми кронами огромного трехголового змея, что охотился именно за ней, Марией, дабы спалить своим огнем. Она это знала совершенно точно и потому бежала, пряталась, залезала под лапник и большие листья ревеня – но крылатый змей не отставал и все кружил, кружил, кружил, громко щелкая зубастой пастью размером с целую избу…
– Вставай, милая… Просыпайся… В баньку пора, горячая уже…
Мария вздохнула, повернулась на спину, не без труда разлепила веки и улыбнулась:
– Бабушка Федора…
При свете дня глаза у старушки оказались не узкие, а с добрым приятным прищуром, лицо круглое и светлое, волосы седые, и голос вовсе не шамкающий, а глубокий, с приятной бархатистостью.
Все же темнота и красный свет масляных ламп меняют облик человека до неузнаваемости!
– Узнала, внученька? – протянула к ней руки престарелая боярыня, крепко обняла и поторопила: – Пойдем попаримся. Вечером-то не успели. Зато ныне и каменка раскалена, и воды вдосталь. Охабень на рубашку набрось, и пойдем!
В просторной бане они оказались вдвоем. Правда, хмельные запахи да лежащие местами березовые листья подсказывали, что женщины пришли сюда отнюдь не первыми. Ну да какая разница?
Бабушка Федора, настолько худенькая, что под тонкой морщинистой кожей проглядывали все кости, неожиданно крепкой рукой взяла гостью за плечо, вывела на светлое пятно под затянутым промасленным полотном окном, медленно повернула и улыбнулась:
– А ведь ты, Мария, хороша! Чиста, телом ладна да красива. Кто знает, может статься, и повезет? А уж коли еще и можжевеловым веником попарить, так и вовсе глаз будет не оторвать! Ладно, чего стоять? Пошли в парилку, погреемся.
Хорошо распарившись и трижды ополоснувшись, бабушка с внучкой перешли в трапезную, откушали щей и запили их горячим сбитнем, после чего боярыня Федора налила гостье серебряный стаканчик хлебного вина[7], прозрачного, как березовый сок, и едко пахнущего анисом:
– Пей! Для пущей красоты сие на пользу. Кожа розовее станет да лицо сочнее.
– Разве уже смотрины, бабушка?
– До них еще далеко! – отмахнулась старушка и решительно приказала: – Пей!
Девочка послушалась – и три дворовые девки, словно только и ждали этого момента, тут же кинулись на нее, быстро переодели из льняной рубахи в нечто невесомое, с французскими кружевами. Старательно расправив ткань, сверху облачили в темно-зеленый бархатный сарафан. В несколько рук расчесав волосы, заплели косу, на запястьях застегнули тяжелые серебряные браслеты с яркими окатыми самоцветами, на плечи опустили широкое плетеное оплечье.
– Откуда сие, бабушка? – шепотом удивилась Мария нежданным сокровищам.
– Поноси, от них не убудет, – ответила боярыня Федора.
Сапожки, платок, охабень. Незнакомая соболья шапка с пером и большущим яхонтом во лбу, несколько перстней на пальцы – девочка больше не спрашивала и не возражала. У нее шумело в голове, и она никак не могла собрать взгляд на каком-то отдельном предмете.
Впрочем, с этого часа Мария перестала быть девочкой. Служанки вплели ей в косу фиолетовую атласную ленту с жемчужным накосником. Это означало, что отныне боярышня являлась не просто красавицей, а красавицей на выданье. Мария стала девушкой.
Тем временем ее бабушка тоже нарядилась в вельветовый с парчовым поясом сарафан, сразу будто раздавшись в теле, застегнула горностаевую душегрейку, став еще шире, приняла на плечи рысью шубу, окончательно преобразившись из худенькой старушки в дородную боярскую дочь.
– Прошка! – повела она пальцем, и дворовая девка быстро наполнила стаканчики на столе хлебным вином. – Давай, племянница. Мне для храбрости, тебе для красоты.
В голове Марии зашумело еще сильнее. Теперь она помышляла токмо о том, чтобы не потерять равновесие и… И чтобы не стошнило.
По счастью, когда бабушка и внучка вышли на крыльцо, влажный холодный воздух, ударив в лицо и наполнив грудь, взбодрил девушку. Тошнота почти отпустила, голове стало легче. Но Мария все равно ощущала себя сильно не в порядке и потому всю дорогу смотрела только под ноги, на плотно подогнанные доски тесового настила, идущего вдоль улицы вплотную к стенам и заборам.
Сперва были доски-доски-доски, берегущие ноги горожан от вязкой размокшей глины внизу, затем мост, ворота – и дубовые плашки на всю ширину улицы. Еще примерно полчаса пути – снова мост, снова ворота. Бабушка с внучкой прошли еще две сотни шагов, боярская дочь Федора постучала в окованные медью двери:
– Бояре Хлоповы мы! На царские смотрины!
Девушка вздрогнула, подняла голову, но толком ничего рассмотреть не успела: двери открылись, гостьи вошли в просторные, но темные сени, тут же повернули на узкую лесенку, поднялись на второй этаж, опять повернули и оказались в просторной зале с резной колонной в центре. Здесь уже находилось с десяток девушек. Иные стояли обнаженными, иные неспешно одевались.
Марии стало не по себе – но бабушка твердо вела ее вперед, к собравшимся у края одного из столов монашкам.
– Да пребудет с вами милость господа, матушки, – чуть поклонилась старушка. – Хлоповы мы, дети боярские из Коломны. Мария вот у нас на выданье… Токмо вчера приехала.
– Пусть раздевается, коли так… – обернулись на новую невесту сразу несколько послушниц.
С помощью бабушки Федоры боярская дочь Хлопова избавилась от одежды. Стыдливо прикрывая руками грудь и низ живота, направилась к инокиням. Те тут же развели ее руки, стали смотреть и щупать за все места, заглянули в рот, в глаза, потыкали пальцами в зубы, больно и сильно дернули за косу.
– Вы чего делаете?! – не выдержав, вскрикнула девушка.
– Не блажи, – хмуро посоветовала из-за спины монашка. – Иные конский волос в косу для пущей пышности вплетают, иные чужую прикалывают. А ты…
Мария ощутила, как подергали еще, но уже не так сильно.
– Ты пригожа и без изъянов. Даром что худородна. Ну да то не нам решать. Одевайся.
– Так меня берут? – не поняла Мария.
– Да кто же сие знает? – усмехнулась другая послушница. – Вас много, а государь один. Сердцу не прикажешь. Кто же знает, кого он выберет?
– Пригожа, без изъянов… Пригожа, без изъянов… – радостно шепча, отвела ее в сторону бабушка Федора и стала расправлять нижнюю рубаху. – Ай, милая, ты гляди, как оно выходит! Пригожа, без изъянов… Не зря, выходит, ехала! Да ты одевайся, милая, чего стоишь? В следующий раз девок надобно с собою взять.
– Какой следующий раз? – не поняла Мария.
Ее многоопытная бабка только вздохнула и покачала головой.
* * *
В первый день после осмотра монашками и повитухами Мария до глубокой ночи мучилась животом и головной болью, но уже на рассвете снова стала бодра и весела. Посему неизменно деятельный дядюшка Иван Григорьевич позвал ее гулять и полдня показывал гостье Москву: сады замоскворечья, купола и стены древних монастырей, скомороший рай на Красной площади.
Москва сверкала чистой, даже девственной белизной. Ведь прошло всего три года после избавления от польской напасти! Во время осады и штурма ляхи полностью выжгли Китай-город, а царская армия князя Трубецкого разобрала много построек на осадные укрепления. Что-то оказалось порушено в боях, что-то – попорчено своими и польскими воинами, не особо ценящими чужое добро. Посему столица отстроилась заново почти целиком – и свежие постройки, новенькие тыны, только что срубленные дома и недавно набранные из осиновой дранки луковки возрожденных церквей белели влажной еще древесиной, пахли смолой и хвоей, восхищали своею чистотой.
Иван Григорьевич позволил племяннице вдосталь полетать на огромных качелях – под одобрительный посвист многих добрых молодцев; поесть куличей и пирогов, разносимых вездесущими юными девицами и крепкими коробейниками, запить это сбитнем и вином. Вернее, ковш ароматного вина выпил сам боярин, поделившись с племянницей только несколькими глотками.
Они заглянули в балаган, посмеялись над танцующим медведем, полюбовались красочными лубками, подивились на двугорбого верблюда – прокатиться на нем за две копейки девушка все-таки побоялась, после чего, уставшие и довольные, они вернулись на подворье.
В чужом доме дел у Марии не имелось, следующие два дня подряд она сидела у окна и вышивала цветным египетским бисером нарукавники. Свои. Ибо серебряных самоцветных, как у бабушки, у нее не имелось.
Окно, как водится, затягивала тонкая промасленная ткань. Свет и звуки она пропускала хорошо, а вот увидеть хоть что-то снаружи не позволяла. И распахнуть створки тоже никак нельзя – на улице каждую ночь подмораживало, так что тепло стоило поберечь.
В одиночестве девушка быстро заскучала. И потому, услышав утром третьего дня, что дядюшка Александр Григорьевич сбирается по делам в город, напросилась с ним.
Москва боярского сына Александра Желябужского – круглолицего и упитанного, с широкой и короткой окладистой бородой – оказалась совершенно непохожей на Москву его брата Ивана. По тихой набережной Москвы-реки, по берегам которой лежали вытащенные на зимовку струги, ладьи, лодки и ушкуи, вдоль пустых заиндевевших причалов Яузы, они дошли до сложенного из серых валунов Андронникова монастыря, с высоты Поклонной горы смотрящего на город черными жерлами пищалей и тюфяков через узкие пушечные бойницы.
В этой мрачной холодной твердыне Мария и Александр Григорьевич отстояли обедню, причастились и исповедались. Боярин оставил небольшой вклад на восстановление обители, после чего они вместе с девушкой отправились на местный торг, показавшийся гостье столь же мрачным, как нагорная обитель. Никаких скоморохов, качелей, лотошников – только прилавки с железом, котлами да всякой конской справой.
Здесь боярин затарился целым мешком гвоздей и скоб, двумя стамесками и молотом, с легкостью забросив полтора пуда товара себе за плечо, на углу молча купил брусок рыхлой синеватой халвы и сунул кулек с нею девушке, хмуро предложив: «Угощайся, племянница», после чего теми же тихими узкими проулками они отправились обратно на подворье.
Третью Москву Мария увидела спустя четыре дня, покинув подворье с бабушкой и двумя спешащими позади девками. Это оказался город маленьких церквушек, стоящих на перекрестках улиц. Боярская дочь Федора посетила сразу три – пахнущие внутри ладаном, гарью и воском, каждая размером всего лишь с избу-трехстенок. Эти храмы не имели иконостасов и смотрели на прихожан суровыми ликами икон, висящими прямо на грубо окоренных бревнах стен.
Помолившись понемногу в каждой, словно бы надеясь сложить воедино заступничество нескольких святых, и раздав на паперти по десять копеек мелкими новгородскими чешуйками, боярыня Федора направилась на торг. Шумный, тесный, пахнущий грушами, медом и пряностями. Здесь продавали курагу и изюм, финики и орехи, мед и сушеные яблоки, гвоздику, анис, корицу, мак, горчицу и хрен, пастилу, халву, цукаты, леваши, густую тягучую патоку…
В этот раз, просто спеша за бабушкой, Мария напробовалась сластей так, что рот перестал открываться, слипаясь от карамельной сладости. Девки же тяжело нагрузились берестяными коробами – хозяйка взяла немного того, немного другого, немного третьего. Пока прошли ряд до конца, корзины в руках служанок оказались полны до самых краев.
На долю девушки достался небольшой бочонок меда. Бабушка Федора взяла два – липовый и цветочный. Один доверила гостье, второй легко забросила себе на плечо. И хотя скоморохов и качелей в этом путешествии не встретилось, Мария вернулась на подворье очень довольная прогулкой. Правда, на будущее решила все же гулять только с Александром Григорьевичем. Но уже через день бабушка Федора запретила ей вставать с постели, принеся прямо в опочивальню графинчик с хлебным вином и ножку тушеного гуся с толстой прослойкой жира под шкурой:
– Вот выпей и поешь. Тебе к завтрему заплыть надобно, округлиться. Для красоты.
– Смотрины?! – приподнялась Мария.
– Почти. Всех отобранных повитухами девок матушка царская самолично осматривает. Грамотку вчера вестник принес. Ты выбрана, ты без изъянов. Лежи, стало быть. Я еще одно одеяло принести велю. Парься…
Этот день стал самым ужасным в жизни юной Марии Хлоповой. Все время от рассвета до заката, вставая токмо по нужде, она провела под двумя жаркими ватными одеялами, выпивая каждый час по стаканчику едкого и крепкого вина и заедая либо гусятиной, либо пропитавшейся жиром квашеной капустой, в которой он тушился. Девицу мутило, в голове стоял туман, но приходилось терпеть. Красота требует жертв.
После столь муторного дня красавица всю ночь ворочалась с боку на бок, так и не заснув, зато утром встала румяная, щекастая, с рыхлой розовой кожей. Что называется – кровь с молоком, настоящая прелестница. Есть на что посмотреть!
Вот только ощущала Мария себя так, словно ее саму набили ватой – как те одеяла, под которыми пришлось провести столько времени. Ноги двигались с трудом, плеч девица не ощущала, в ушах стоял постоянный гул, в голове кружилась пустота.
Так, почти не понимая происходящего вокруг, она и пришла второй раз в Вознесенский монастырь – снова оказавшись в трапезной в окружении обнаженных и полуодетых юных девиц. Но в этот раз обнаженных «невест» уводили куда-то по одной, набросив на плечи дорогие шубы.
Раздевшись и закутавшись в охабень, Мария ждала своей очереди, наверное, с час. Наконец бабушка взяла ее за плечи, подняла, повела – и вскоре девушка распрямилась перед двумя престарелыми инокинями, удивительно похожими друг на друга круглыми лицами, морщинистой кожей и гордой осанкой, весьма странной для скромных монашек.
– Боярская дочь Хлопова, – задумчиво проговорила одна. – Не помню…
– Коломенские мы, – торопливо сказала бабушка Федора. – Древнего рода, еще князю Дмитрию Долгорукому служили.
Монашки обошли Марию кругом, оглядывая и легонько трогая руками. Девушка зажмурилась в ожидании, но в этот раз за косу ее дергать не стали. Вестимо, всех, кто с этим хитрил, изгнали после первого же смотра.
– Хороша, прямо глаз отдыхает! – признала одна инокиня. – Не то что Аглая Трубецкая, криворотая и с бровями наискосок.
– Трубецкую отчислить нельзя, она племянница Спасителя Отечества! – возразила вторая послушница.
– Одна племянница, другая княжна, третья подруга. Мы красавиц выбираем али места за столом делим? Тут не на рода, тут на косы да на зубы смотреть надобно… Зубы покажи, – уже к Марии обратилась монашка. – Ты посмотри, Марфа, чистый жемчуг!
– Вот токмо благонравна ли сия красавица? – задумалась инокиня. – Ну-ка, девица, символ веры прочти!
– А? – растерялась Мария.
– Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, творца небу и земли, видимым же всем и невидимым… – подсказала монашка.
– Господи, спаси помилуй и сохрани грешную рабу твою… – торопливо перекрестилась боярская дочь.
– И какая из нее царская невеста, коли она даже веры православной не ведает? – повернулась монашка к подруге.
– И на что тебе ее вера, Марфушка, коли в царские жены ты один ляд Анастасию Мстиславскую назначила? – возразила вторая. – Зато дщерь сия вельми красива. Выйдет на смотрины, будет хоть на кого-то с радостью посмотреть, а не токмо на княжон криворылых. Ты, вон, у жемчугов веры не требуешь. Токмо радуешься, как красотою блестят. Вот пусть и она ожерельем округ Анастасии избранной поблестит. А что веры не ведает, так ведь помолчит немного, токмо и всего.
– Богохульница ты, Евникия, – тяжело вздохнула первая монашка. – Веры христовой вовсе не чтишь.
– Кабы болтала много, была бы богохульница. Но ведь я о материях сих великих больше молчу… – возразила матушка Евникия.
– Ступай, жемчужинка, – кивнула матушка Марфа. – Послезавтра к заутрене к Успенскому собору явись. Там посмотрим.
От разговора монашек по спине Марии пополз неприятный липкий холодок, в хмельной голове прояснилось. Она невольно распрямилась, неуверенно облизнула враз пересохшие губы.
«Как же так? Но ведь это бесчестно! Почему?!»
Правда, вслух все это она произнесла только за дверью кельи:
– Как же так, бабушка? – пробормотала Мария. – Они уже все порешили! Они выбрали царицей Анастасию Мстиславскую! Как это, почему? А смотрины? А царская воля? Это же бесчестно!
– Ну, внученька… – престарелая Федора заметно понурилась. – Так уж оно… Устроено…
– Зачем же тогда все это?! Зачем я сюда ехала? Зачем все эти мучения?
– Ну, внученька… – накинув на плечи девушки охабень, пожилая боярская дочка подбила его на плечах. – Все же ты лучшей из лучших оказалась. Красавица без изъянов. О том ведь слава по всему свету пойдет. Лучшие женихи после успеха такого к тебе свататься начнут, только выбирай. А иной раз случалось, прямо на смотринах половину красавиц князья знатные расхватывали. Разве тебе не хочется жениха завидного, знатного да богатого?
Но липкое, противное, похожее на пот ощущение уже расползлось по телу красавицы, и утешения бабушки совершенно прошли мимо ее сознания.
Остаток дня Мария провела в постели, терпеливо дожидаясь, пока из головы выветрятся остатки хмеля, и снова, раз за разом переживала услышанное.
Когда промасленное полотно в окне совершенно почернело, в опочивальню вошла худенькая хозяйка, одетая в одну лишь полотняную рубашку.
– Вставай, внученька. Банька протоплена. Для тебя ныне это аккурат то, что надобно.
– Я больше никогда не стану пить вина, бабушка, – ответила ей девушка. – Все это так мерзко…
– Послезавтра тебе надобно идти на смотрины, – тихо напомнила бабушка Федора.
– Царицей все равно станет княжна Мстиславская, – приподнялась девушка. – Чего ради стараться?
– На людей посмотреть, себя показать, – пожала плечами щуплая старушка. – Ты же первая красавица державы! Ее лучшая жемчужина! Грех от такой чести уклоняться.
– Но вина пить не стану! – решительно мотнула головой девушка и тут же поморщилась от приступа тошноты. Тихо закончила: – К чему мне за красотой гнаться, коли все едино не изберут?
– Однако на смотрины ты пойдешь? – осторожно переспросила старушка.
– В Кремль… Одной из избранных красавиц… – Мария слабо улыбнулась. – Знамо пойду! Не царицей, так хоть жемчужиной.
– Вот и умница, – облегченно перевела дух бабушка Федора. – А теперь в баньку. Кваску выпьешь, на полке пропаришься, сразу дух хмельной и отпустит.
* * *
Выстеленная поверх дубовых плашек от великокняжеского дворца до дверей Успенского собора длинная шерстяная дорожка алела ярким пурпуром. На кошму, предназначенную для самого государя, казна дорогой краски не пожалела.
Вдоль красной ленты с обеих сторон выстроились многие сотни людей. И это тоже была выставка роскоши и драгоценностей: бобровые и собольи шапки, песцовые и куньи воротники, крытые роскошной парчой шубы, усыпанные самоцветами широкие оплечья и толстые золотые цепи, браслеты, перстни…
Первые красавицы державы выстроились в первом ряду – в вышитых золотом опашнях[8], пушистых шапках, из-под которых сверкали височные кольца и серьги, на шеях переливались жемчужные ожерелья. Мария тоже стояла здесь, среди знатных красавиц, ловя на себе взгляды многих мужчин и женщин. Пусть и не самая роскошная, но тоже сверкающая самоцветами и серебром, тоже с родственниками за плечами, всегда готовыми защитить или поддержать, но на сей раз – бодрая и с ясным рассудком. А что розовощекая и жарко дышащая – так это просто от волнения.
– Государь, государь! – побежал по рядам тревожный шепоток.
Со стороны крыльца послышались шаги – и все стоящие возле пурпурного пути люди почтительно склонили головы.
Царская свита неспешно прошествовала мимо самых знатных людей великой державы. Мария, даром что стояла на самом лучшем месте, увидела только дорогие пояса, подолы шуб и зипунов и мелькающие под ними цветные сапоги. Хоть и оказался Михаил Федорович всего на удалении руки, а все равно что за каменной стеной прогулялся. Рук – и то не разглядела.
Государь вошел в собор, все остальные люди поспешили за ним. Князья, знатные бояре, дьяки и подьячие, воеводы и епископы – боярским детям нашлось место только у самых дверей, у дальней стены, откуда разглядеть происходящее у алтаря оказалось невозможно.
Марии стало от этого немного грустно – но не более. Невестой государя ей ведь все равно не стать, она с сим уже смирилась. Коломенской боярышне хотелось всего лишь побыть немного в царском окружении – когда еще худородной девице честь такая выпадет? Да еще Михаила Федоровича своими глазами увидеть. Но это так – обычное женское любопытство, не более. Повезет – хорошо. А нет – так и ладно. Посему весь молебен «царская невеста» простояла с полным смирением у самой дальней стены, не пытаясь пробиться вперед.
Служба закончилась. Свита вместе с государем покинула собор. Следом медленно потянулись к выходу знатные прихожане. Среди этого неспешного движения к дальней стене протолкалась пожилая монахиня и остановилась перед боярской дочерью Хлоповой. Слабо улыбнулась:
– Вижу, ты скромна, жемчужинка. Место свое понимаешь. Сие есть великое достоинство, ибо пустые скандалы нам всяко не нужны. Третьего ноября утром готова будь. За тобой приедут. Со всем почетом и уважением сюда отправишься. Все соседи увидят!
Не дожидаясь ответа, монашка развернулась, но отправилась не к распахнутым на улицу дверям, а к алтарю. Для сестры Божией дом был здесь.
– Убей меня кошка задом! – громко хмыкнул Иван Григорьевич и с силой подергал себя за тощую бородку. – Да ты, племянница, никак последние смотрины прошла! Теперь токмо к царю!
3 ноября 1616 года
Москва, улица Чертольская
– Едут, едут! – Выставленные еще на рассвете мальчишки из дворни со всех ног кинулись в проулок, застучали кулаками в ворота подворья боярских детей Желябужских. – Еду-у-ут!
По широкой улице, ведущей к Новодевичьему монастырю, ухоженной, чистой, выстеленной жердями и с тесовой пешеходной дорожкой по краям, – по этой улице проскакали два десятка рынд в белоснежных зипунах, с топориками в руках и саблями на золотых поясах, верхом на серых длинноногих туркестанцах. Седла были украшены бархатом и обиты золотыми гвоздиками, на уздечках позвякивали звонкие серебряные бубенчики. Все бояре были крепки и широкоплечи, с окладистыми бородками. Как-никак – личная царская стража! Один взгляд восхищение вызывает.
Государевы телохранители натянули поводья возле узкого проулка, с тесовой дорожкой в две доски и земляным, перемешанным с соломой проездом. Шестеро воинов спешились, остальные разъехались чуть по сторонам, зорко поглядывая на быстро сбегающихся зевак.
С небольшим опозданием сюда же подкатилась карета. Не колясочка крытая и не тесовая кибитка – а настоящая карета, с резным кузовом, позолоченными углами и дверцами, бархатными занавесками на больших окнах и запряженными цугом шестью серыми же лошадьми.
– Где здесь невеста царская?! – громко спросил один из гарцующих рынд.
– Здесь она, боярин! Ведем! – Со двора Желябужских первыми вышли братья Александр и Иван: в добротных рысьих шубах и горностаевых шапках, сверкающие перстнями на пальцах и золотыми цепями на шеях. Ради такого случая боярские дети нацепили на себя все ценное, что токмо имелось в доме.
Следом за ними вышагивала в парчовом опашне сама Мария, которую с одной стороны поддерживала под локоть бабушка Федора, а с другой – крепкая дворовая девка, ради такого случая тоже наряженная в зипун.
Вся семья торжественно прошествовала по проулку, поднялась в карету, расселась. Слуги захлопнули дверцу, убрали скамейку, запрыгнули на запятки. Рынды тоже поднялись в седла. Старший громогласно объявил:
– В Великокняжеский дворец!
Карета тронулась с места, с хрустом давя жерди окованными железной полосой колесами.
– Честь-то какая, Мария! – отодвинув занавеску и глядя на изумленных соседей, прошептала боярыня Федора. – Этакого в Москве никто не забудет. Оглядываться на тебя все станут, на улицах узнавать. Сваты завтра же в очередь соберутся. Ниже князя никого даже на порог не пустим!
Спустя четверть часа карета остановилась возле Грановитой палаты. Вышедшие первыми братья Желябужские встретили племянницу, подав ей руки каждый со своей стороны, затем помогли спуститься матушке, проводили царскую невесту наверх по парадному крыльцу, вошли все вместе в сверкающую золотом просторную залу с большими, забранными слюдой окнами.
Здесь уже собралось изрядное число народа. И все сплошь – знать, родовитые князья да бояре. Само присутствие здесь для боярских детей – великая честь и возвышение, на века записанное в Разрядную книгу. Многие будущие поколения благодаря сему случаю старше своих братьев по оружию и службе в приказах считаться станут.
Многие невесты уже находились здесь. Братья Желябужские обратили внимание, что они стоят лишь в сарафанах да шелковых или сатиновых платках – и стали торопливо разоблачать племянницу.
– Мария Ивановна? – поклонился им слуга в ярко-зеленой атласной рубахе, подпоясанный нарядным матерчатым пояском. – Пойдем, я тебе место назначенное укажу.
Само собой, Мария оказалась в самом дальнем, четвертом ряду, почти под окнами. Но на удивление – не крайней. Девиц, прошедших все три отбора, собралось два десятка, и теперь государевы холопы старательно выстраивали их по достоинству по пять красавиц в ряд. И в своем, четвертом, боярскую дочь Хлопову слуги поставили второй. Выходит – целых три «невесты» уступали ей знатностью!
Впрочем, утешение из этого выходило слабое. От стены разглядеть происходящее в палате получалось плохо. Даже услышать – ибо шелест одежды многих десятков людей и их тихое перешептывание поглощали слова, произносимые у трона или от входных дверей. Одно только было понятно: когда князья приходили в движение, резко замолкали или начинали гомонить – это означало, что что-то произошло.
Вот по собравшимся людям прокатилась очередная волна, в сияющей золотом палате наступила тишина. Затем впереди между рядов наметилось какое-то движение. В одну сторону, в другую… Там, между вторым и третьим рядами девушек двигался кто-то в золотой ферязи, в сопровождении еще двух бояр. Прошел до конца, обогнул крайнюю «невесту», оказался перед четвертым рядом. Задержался возле первой девушки. Сделал шаг к боярской дочери Хлоповой…
Не удержавшись, Мария чуть приподняла подбородок, исподлобья глянув на молодого царя. Тот оказался худощавым и светлым, словно ангел, юношей с ясным и чистым голубым взглядом, со слабой улыбкой на бледных губах. Из-под парчовой тафьи выглядывали русые вихры, тонкая шея пряталась за высоким стоячим воротом ферязи.
Взгляды «жениха» и «невесты» неожиданно встретились, отчего Марию резко бросило в краску, она торопливо опустила голову, потупила взгляд и одними губами прошептала:
– Прощения просим, государь…
Михаил Федорович немного задержался перед нею, потом двинулся дальше. Мария рискнула снова поднять голову и посмотреть ему вслед. Юный правитель всея Руси чуть приостановился перед третьей девицей. Сделал шаг дальше. Затем еще. А потом вдруг оглянулся – и его голубой взгляд буквально пронзил глаза Марии…
* * *
– Ситникова, Суева, Хлопова, Лишина, Зернова… Такарина, Шилова… – прокрутила свиток инокиня Марфа и бросила на стол. – Одни худородные у тебя средь избранниц остаются!
– Помилуй, матушка, токмо половина. – Евникия, стоя в просторной келье своей подруги, размашисто перекрестилась на висящую в углу икону.
Хотя, конечно, называть сию горницу кельей можно было с большим трудом. Скромная инокиня Марфа расположилась в Вознесенском монастыре сразу в пяти комнатах, имея свою опочивальню – с периной на постели, коврах на полу и кошмами на стенах; горницу для работы – с большим столом, полными книг сундуками и шкафами; людскую комнату для прислуги, в которой проживали верная Полина и еще две трудницы; свою отдельную трапезную и еще комнату для разных припасов.
Ради новой монашки матушке-настоятельнице пришлось изрядно потесниться, но куда денешься, коли твоя послушница является матерью русского царя и женою православного патриарха? И коли она постоянно делами державными занимается, принимая у себя дьяков, воевод, князей, а порою – и иноземных послов? Тут хочешь не хочешь, даже собственными покоями делиться приходится.
Глядя на подругу, матушка Марфа тоже перекрестилась и указала на свиток:
– Княжну Трубецкую ты все-таки вычеркнула?
– То не я, – продолжая кланяться иконе, отреклась от решения инокиня Евникия. – То повитуха отказала. Сказывает, бедра у нее узкие, рожать тяжело будет. По чадородию и отвела.
– Это какая такая повитуха? – прищурилась царская мать.
– Повитуха и повитуха, – пожала плечами ее подруга. – Кто же их всех упомнит-то?
– Княжна Оболенская… – снова потянулась к свитку инокиня Марфа.
– По возрасту, – кратко ответила монашка.
– Скопины… Пронские… Ты хочешь поссорить меня со всеми княжескими родами?!
– У нас же смотрины невест, матушка, а не родословных! Что люди скажут, коли в невестах кривобокие да косоглазые окажутся? Помыслят, девки ладные на Руси перевелись али повитухи честные?
– Ох, подведешь ты меня, Евникия, под монастырь… – снова просмотрела свиток царская мать.
– Куда-а?! – забыла про молитву ее подруга.
– Туда… – мрачно ответила инокиня Марфа. – Опять споры да жалобы начнутся.
– Пусть лучше про отборы жалуются, матушка, нежели на смотрины! А ну, прямо в соборе скандал какой учинят? Худородные девки место свое знают, избрание княжны Мстиславской примут со смирением, как должное. А Шуйские, Горчаковы али Волынские наверняка споры затеют, что не там поставили, неверно посмотрели, про сговор обязательно помянут… Оно тебе надобно?
– Ладно, сестра, будь по-твоему, – решилась царская мать, макнула перо в чернильницу и поставила размашистую подпись. – Анастасию в терем великокняжеский уже поселили?
– Крышу перестилают, – ответила инокиня Евникия. – Михаил сказывает, дожди затянулись. Вот ко сроку и не поспели. Но завтра ужо закончат. А твой Миша как? Ждет?
– В беспокойстве сыночек, – тепло улыбнулась монашка. – Про «Куранты» более и не поминает. Иным все помыслы заняты. Боюсь, ныне ночью и спать не сможет. Смотрин все ждет, не терпится ему…
* * *
Михаил и вправду не спал всю ночь в тревожном ожидании. Он волновался перед смотринами ничуть не меньше самих невест. Ведь та девушка, на которую он укажет, станет его женой на всю оставшуюся жизнь! Его половиной, матерью его детей. Той, каковая разделит его любовь навсегда. Навсегда – это очень страшное слово, если на выбор отводится всего несколько малых мгновений. Подойти, посмотреть. С первого взгляда оценить. И выбрать свою судьбу на остаток многих лет.
Поутру государь был сам не свой, отвечал слугам невпопад, а за завтраком Михаилу буквально кусок не лез в горло.
– Да не беспокойся ты так, царь-батюшка, – подливая шипучий квас, утешил его Бориска Морозов. – Человек предполагает, Господь располагает. За тебя уже повитухи да мамки с няньками все сделали, лучших девок царствия собрали. Тебе осталось токмо пальцем наугад в какую-нибудь ткнуть. Ты семгу кушать станешь? Нет? Ну, давай тогда я ее приберу да пескариков хрустящих тебе насыплю.
– Тебе хорошо говорить… – передернул плечами юный правитель. – Ты, вон, сам себе голова! Присмотреться можешь. Поболтать, встретиться. Ласковую да добронравную облюбовать. А мне их токмо на миг малый покажут, и все! А ну, злобные окажутся али скучные? По лицу ведь не угадаешь!
– Они, царь-батюшка, покуда в невестах, так все и ласковые, и добрые, – широко ухмыльнулся кравчий. – Норов истинный токмо после венчания открывается. Так что все мы в этом деле равны. Все в руках Божиих. Ты глаза закрой, покружись да пальцем и ткни. А там как повезет.
– Тебе, Боря, все хи-хи да ха-ха! А мне потом жить.
– Это мне с женою жить, царь-батюшка, у нас одна изба в четыре стенки на двоих. А тебе до женской половины полтора часа ходу. Пока дойдешь, забудешь, как выглядит! Каждый день как заново узнавать станешь…
Но тут дверь в царские покои распахнулась, и кравчий осекся, положил себе на тарелку немного заливного, отпробовал, после чего добавил безопасное кушанье на блюдо государю.
В горницу вошли скромная и тихая матушка Марфа, ее верная спутница инокиня Евникия, следом за ними – дородные и рыжебородые Михаил и Борис Салтыковы, одетые в дорогие ферязи и шубы.
– Как ты сегодня, чадо мое? Здоров ли, Мишенька? – первым делом поинтересовалась монашка.
– Благодарю, матушка, хорошо… – Государь поднялся, обнял пожилую женщину и трижды расцеловал.
– Одевайте его, – повелела слугам инокиня, сама же, перекрестившись, стала объяснять: – Княжна Мстиславская будет стоять третьей, Мишенька. Что справа, что слева, не ошибешься. Собою мила, телом чиста, зубы крепкие, коса толстая, бедра широкие, грудь большая. Для чадородия никаких изъянов. Но пуще всего важно, что она из рода Гедеминовичей исходит! Через нее ваши дети права на трон польско-литовский получат. Да и в русской державе ее родство место высокое имеет. Сие семье нашей зело на пользу пойдет… Ты меня слушаешь?
– Да, матушка, – кивнул царь Михаил Федорович, на котором холопы как раз застегивали крючки ферязи.
– Не перепутай, третья она в первом ряду! Но токмо сразу ей ленту не отдавай. Бо оскорбительно сие для всех прочих выйдет и обиды многие породит. Поперва всех невест до последней обойди. Чуток постой, как бы сомневаясь, к первому ряду вернись, на девиц посмотри, да опосля ленту Анастасии и отдавай.
– Какой Анастасии, какую ленту? – не понял Михаил Федорович, на которого как раз надевали оплечье.
– Княжне Анастасии Мстиславской, – терпеливо объяснила монашка. – А лента… Ты ведь знаешь, что девицы на выданье заплетают в косу одну ленту? А те, которые обручены, носят две? Подарив девице ленту, ты даешь ей знак, что она избрана и может вплетать ее себе в косу. Ты готов?
– Да, матушка, – вместо государя ответил царский холоп, увенчавший голову правителя густо вышитой золотом тафьей.
– Пойдем…
Монахиня вышла из царских покоев первой, и к ней сразу пристроились рынды, выступая по сторонам и чуть впереди. Следом за матушкой двигался сам государь, дальше – все остальные.
Вскоре Михаил Федорович взошел на трон в Золотой палате, а его ближняя свита заняла места по сторонам.
– Сегодня в нашей державе случился великий день, бояре. – Матушка Марфа сложила руки на животе. – Сегодня государь наш православный, следуя заветам Господа нашего, Иисуса Христа, завещавшего нам плодиться и размножаться, изберет себе достойную супругу. Сегодня мы узнаем, кто есть счастливица, каковой суждено продлить род государей российских, даровать детей супругу и наследников державного престола. Давайте помолимся все вместе, дабы Господь вразумил Михаила Федоровича, прояснил его взор и разум и позволил сделать выбор сей верным и достойным. Отец Иона…
Перед троном вышел седобородый бледноглазый старец, одетый в золотую мантию, со сверкающей самоцветами золотой митрой на голове, пристукнул об пол тяжелым от золота и яхонтов посохом, неожиданно низким и глубоким голосом напевно заговорил:
– Господу помо-о-о-олимся…
Митрополит Сарский и Подонский Иона Архангельский заведовал делами патриаршими на то время, пока сам патриарх Филарет томился в польской неволе и ныне являлся самым старшим из святителей Руси. Посему уж его-то молитву небеса обязаны были услышать, откликнуться и направить Божьей волею православного государя на верный выбор.
Поддержанный всеми присутствующими, Иона провел краткую службу, после чего повернулся к трону и осенил государя крестным знамением:
– Да пребудет с тобою милость Господа нашего, Иисуса Христа!
Царь поднялся, спустился с трона, приложился к его руке и получил еще одно благословение.
Боярин Борис Салтыков осторожно возложил Михаилу на руку золотистую шелковую ленточку и отступил в сторону, указав рукой на стоящих рядами, скромно потупив взоры, девушек.
Бархатные и парчовые сарафаны, жемчужные и самоцветные кокошники, височные кольца, серьги; яркие синие, карие и даже зеленые глаза, пухлые розовые щеки, густые соболиные брови, алые губы. Драгоценные ожерелья, оплечья, подвески на плечах, дорогие пояса…
Впрочем, за минувшие годы юный Михаил успел привыкнуть к блеску золота и сверканию самоцветов. Посему он замечал лишь лица, волосы, стать собранных в Грановитой палате невест.
Первая из девушек оказалась на диво щекастой и при том – с маленьким узким лбом. Зато коса из-под платка свисала ниже пояса и в руку толщиной. Вторая – просто круглолицая, с румяной, словно подкрашенной свеклой, кожей. Даже лоб – и тот красный.
На миг государь задержался перед назначенной ему княжной Анастасией – и вправду очень милой, румяной, невысокой и курносой. Однако, как и велела мать, Михаил двинулся дальше, внимательно вглядываясь в каждую из избранных красавиц.
Как ни странно, но самыми очаровательными оказались те, что стояли в третьем ряду, – лучше сложенные, с правильными чертами лиц, с толстыми тугими косами. Юный царь откровенно любовался каждой – однако позволял себе остановки лишь на пару мгновений. Каждой «невесте» надлежало уделить равное внимание и не затягивать смотрины надолго.
Четвертый ряд показался столь же милым. Стройная первая девушка, чуть более фигуристая вторая…
В тот миг, когда Михаил сделал шаг вперед, вторая красавица с чуть смугловатым, аккуратно очерченным лицом внезапно приподняла голову и буквально выстрелила в него ясным карим взглядом, от которого у царя по всему телу резко пробежал колючий холодок.
Девушка стремительно потупила взор, ее щеки тут же заметно зарумянились, губы что-то прошептали. Обаяние красавицы оказалось столь велико, что царь с трудом сдержал желание прикоснуться пальцами к покрытой еле заметным пушком щеке, погладить, ощутить идущее с губ дыхание.
Юный повелитель чуть передернул плечами, стряхивая наваждение, сделал шаг дальше, еще один, еще. И, не сдержавшись, оглянулся.
Взгляды молодых людей снова встретились – и Михаил опять ощутил по всему телу легкий озноб. Но теперь он знал, что означает это чувство. Оно означало разлуку. Вечную разлуку. Государь больше никогда, нигде, ни на единый миг не увидит этой девушки. Он никогда не сможет коснуться ее щеки, пригладить ее волосы, не услышит ее дыхания. Никогда не коснется своими губами этих губ. Как только он сделает шаг к первому ряду – эта неведомая желанная красавица исчезнет из его жизни навсегда.
Навсегда…
Так и не сумев справиться со своим колючим страхом – страхом расставания с желанной, страхом потерять возникшее в душе непонятное, но нежно-сладкое чувство, – государь всея Руси решительно подошел к девушке и не просто отдал ей ленту, а в несколько витков крепко привязал руку чаровницы к своей, громко объявив:
– Я выбираю тебя! – и двумя пальцами поднял подбородок неведомой красавицы, снова заглядывая в карие бездонные очи.
– Царь сделал выбор! Государь выбрал! У нас есть царица!
Вся золотая зала пришла в движение, и двое молодых людей внезапно оказались в центре широкого людского круга. А в стороне от толпы, возле трона, в полный голос закричала монашка:
– Нет! Это не она! Не смей!
По счастью, в общем движении на сие никто не обратил внимания. Князья, бояре, дьяки, знатные гостьи во все глаза смотрели на выбранную Михаилом Федоровичем прелестницу.
Вперед вышел одетый в золото митрополит Иона, пристукнул посохом:
– Назови свое имя, избранница!
– Мария… – неуверенно ответила девушка. – Дщерь боярская, дочь Ивана из рода Хлоповых.
– Готова ли ты, раба Божия Мария, поклясться в любви и верности рабу Божьему Михаилу и назвать его своим женихом? – спросил иерарх.
– Да, отче, – склонила голову девушка.
– Делаешь ли ты это по своей воле, без корысти и принуждения?
– Да, отче.
– Клянешься ли ты в этом пред лицом Господа нашего Иисуса Христа?
– Да, отче.
– А ты, раб Божий Михаил, клянешься ли ты…
В эти самые мгновения возле трона одна монашка удерживала другую, не давая вмешаться в обручение:
– Что же ты делаешь, Марфа?! Люди увидят… Позор случится, скандал!
– Это все из-за тебя! – внезапно обратила свой гнев на подругу инокиня. – Это ты ее привела! Это ты нагнала девок худородных на смотрины! Ты поклялась, что с ними никаких хлопот не случится!
– Так ведь не они учудили, Марфушка! – попыталась оправдаться Евникия. – Это сын твой ее выбрал, своею волей!
– Не бывать этой свадьбе! – вытянула руку в сторону молодых инокиня Марфа. – Не бывать! А ты… – Она скрипнула зубами. – Чтобы глаза мои больше тебя не видели!
Послушница развернулась и выбежала из золотой залы в тот самый миг, когда митрополит Иона закончил таинство обручения.
Отныне раб Божий Михаил и раба Божья Мария стали женихом и невестой пред Богом и людьми!
Боярин Михаил Салтыков осторожно размотал ленту, что скрепляла руки молодых, и почтительно, двумя руками протянул золотистую полоску девушке:
– Это принадлежит тебе, Мария Ивановна. Твой терем готов и ждет тебя, царская невеста. Позволь проводить тебя в твои покои.
– Сие невместно! – возмутились братья Желябужские, проталкиваясь вперед. – Мы племянницу в чужие руки не отдадим!
– Конечно, бояре, – не стал спорить окольничий. – В тереме хватит места для всех.
– Мария… – снова взял невесту за руку государь. – Моя Мария!
– Теперь мы вместе, Михаил Федорович, – сглотнув, ответно пожала руку девушка. – Навсегда.
– Но прежде всего невесте надобно переехать во дворец, – многозначительно повторил боярин Салтыков. – Позволь, Мария Ивановна, показать тебе свои покои.
– Увидимся… – пообещал юный царь и наконец-то рискнул разжать пальцы.
– Всегда твоя, мой государь, – склонила голову Мария, повернулась к окольничему и решительно приказала: – Веди!
Михаил Федорович проследил за ней взглядом, печально вздохнул – при сем, однако, чему-то улыбаясь, а затем медленно прошел через залу к дверям. Однако мечтательное его настроение длилось недолго. Стоило царю всея Руси перешагнуть порог своих покоев – как к нему стремительно ринулась раздраженная монахиня:
– Миша, ты что натворил?! Я же велела тебе выбрать княжну Мстиславскую!
– Мне понравилась Мария, мама… – растерянно улыбнулся Михаил.
– Но жениться ты должен на Анастасии Мстиславской! – оскалилась послушница и потребовала: – Немедленно пошли рынд в терем и вели худородке выметаться! Скажи, ты ошибся и княжну Мстиславскую выбираешь!
– Мама, мне нравится Мария, – терпеливо повторил государь.
– Блажь это пустая, сын! – повысила голос монашка. – Она тебе не ровня!
– Она мне нравится.
– Не глупи, сын. Отошли ее прочь! Тебе в жены назначена другая!
– Мне люба Мария, и я женюсь на ней! – перестал улыбаться царь всея Руси.
– Я тебе запрещаю! Не бывать этой свадьбе! Не позволю!
– В субботу мы с Марией отправляемся в паломничество, в Сергиеву лавру, – с неожиданной твердостью ответил юный царь. – С благодарственным молебном об обретении друг друга. Ты поедешь с нами, матушка али останешься отдохнуть?
Инокиня Марфа посерела лицом. У нее расширились крылья носа, дыхание стало шумным и горячим.
– Еще посмотрим… сынок… – скрипнула зубами она, обогнула царственного юношу и вышла из царских покоев, громко хлопнув за собою дверьми.
* * *
Расписные потолки, обитые цветной кошмой стены, пушистые ковры под ногами, прозрачные слюдяные окна. Кровати, похожие на ладьи с высокими бортами, глубокие нежные перины и резные столбы, поддерживавшие сатиновые и кружевные полога…
Терем великокняжеского дворца оказался не просто красив. Он был настолько прекрасен, что Марии стало даже страшно! Она боялась прикасаться ко всему этому, боялась сломать, испортить, запачкать…
– Это твоя опочивальня, избранница, – с широкой улыбкой развел руками рыжебородый царский окольничий князь Борис Салтыков. – По правую руку горница для твоей прислуги, по левую – светелка для рукоделия. Там ныне еще ничего нет, прости. Ремонт токмо вчера закончен, бисер, нити, иглы, наборы швейные доставить не успели.
– Мы, стало быть, в горнице расположимся, – решил из-за его спины боярский сын Иван Желябужский.
– Нет, боярин, – повернулся к нему окольничий. – Покои родственников невесты по ту сторону коридора, для каждого своя опочивальня с горницей для дворни. Негоже семье будущей царицы в людской общей ютиться, словно холопам безродным! И свиту Марии Ивановне надлежит собрать достойную. Постельничьи, стольники, кравчии, конюшии, сенные… Иных из которых вам самим хорошо бы позвать.
– Я сама за кравчую сойду, князь Борис Михайлович! – неожиданно объявила боярская дочь Федора. – Так оно выйдет спокойнее.
– Ты о чем, бабушка? – оглянулась на нее Мария.
– У царской невесты много недоброжелателей, внученька, – улыбнулась старушка. – Все хотят занять место счастливицы. Отравят – и глазом не моргнут. Посему отныне любое угощение я первая пробовать стану, а уж опосля тебе давать.
– Но так нельзя, бабушка! Я не хочу, чтобы ты умерла вместо меня!
– Не нужно так пугаться, милая, я свой век уже пожила, – покачала головой боярыня Федора. – Коли и отравлюсь, многого не потеряю. Опять же, людей, у которых кравчие имеются, не травят. Какой смысл, коли умрет не враг, а только его слуга? Посему большой опасности в сем ремесле не имеется.
– Насколько мне ведомо, Мария Ивановна, еще ни один кравчий при царском дворе от отравления не умирал, – подтвердил ее слова окольничий. – Это всего лишь очень важная предосторожность. Особенно для царской избранницы.
– Когда я увижу Михаила Федоровича? – тут же вспомнила о своем положении невеста. – Он придет на ужин?
– Прости, Мария Ивановна, но при дворе свои правила. Государь редко встречается за столом даже с супругой. Царица живет на женской половине, он на мужской. И сходятся оба токмо ради исполнения своего долга. Ты же покамест и вовсе всего лишь невеста… – Окольничий виновато вздохнул и перекрестился.
– Неужели мы не увидимся с ним до самой свадьбы?
– Ты стала избранницей всего полчаса назад, Мария Ивановна. Полагаю, ныне даже сам Михаил Федорович не сможет ответить на сей вопрос. Надобно немного подождать. Вы же пока располагайтесь в новом доме. Я велю слугам принести угощение.
Окольничий поклонился и покинул верхний терем.
– Какая роскошь! – остались осматриваться боярские дети Желябужские. – Какая красота! Интересно, каковы остальные покои?
Они разошлись по разным горницам, выбирая себе каждый собственные покои, пробуя на мягкость перины, пытаясь выглянуть в окна, поглаживая затянутые сукном стены.
Примерно через час в дверь терема постучали. Затем створки распахнулись, внутрь вошли царские холопы в ярких атласных косоворотках, с полными корзинами всяких яств: фруктами, копченой и заливной рыбой, тушеным и жареным мясом. Вел их окольничий Борис Михайлович, каковой с поклоном передал девушке бумажный свиток:
– Тебе письмо, Мария Ивановна!
– От кого? – встревожилась боярская дочь.
Она все еще не верила в случившееся чудо и постоянно ожидала какого подвоха, что низринет ее из сияющих райских кущ обратно к тесным и темным рубленым комнаткам, присыпанным соломой дворам, тесным кухням и хлевам под окном.
Князь Салтыков не ответил.
Мария взяла грамотку, пробежала глазами – и буквально на глазах расцвела.
– Бабушка, он называет меня ненаглядной! Ладушкой! Любимой! – громко крикнула девица. – Сердечком своим, душенькой! Михаил Федорович приглашает меня с собою в паломничество, в Сергиеву лавру! С благодарственным молебном о нашем с ним соединении!
– Теперь я могу ответить на твой вопрос, Мария Ивановна, – добродушно улыбнулся окольничий. – Вы увидитесь с государем послезавтра, незадолго до полудня.
5 ноября 1616 года
Ярославский тракт, село Тайницкое
Выезд царя Михаила Федоровича в Троице-Сергиеву лавру выглядел скромно. Все же он собрался молиться, а не на торжество какое-то али в ратный поход.
В паломничество отправились сам государь да охрана его личная – полторы сотни рынд; ну и свита царская: ближние помощники окольничьи братья Салтыковы да подьячие от каждого приказа, дабы при нужде поручение срочное передать; стряпчие Постельничьего приказа – за удобствами государя по дороге следить, да спальник за саму постель отвечать, да кравчий за столом ухаживать… Совсем малая свита, полсотни слуг. Ну и, понятно, возки с походной утварью, с постелью, со сменной одеждою, с палатками и тентами, дабы на отдых днем остановиться – перекусить там али просто размяться, да припасы съестные, ибо достойной государя еды в пути не купишь… Всего осьмнадцать полных возков, не считая колясок, в каковых княжны и боярыни путешествовали, да личных обозов знатных князей из свиты. И двух сотен городовых стрельцов, что за сим обозом присматривали.
Царская невеста тоже ехала скромно – в самой обычной коляске с плетеным верхом, крытым толстой сыромятной кожей, с медвежьим пологом, каковой прикрывал ноги девушки и ее бабушки.
Михаил Федорович скакал верхом, иногда выезжая немного вперед, иногда придерживая вороного туркестанца и оказываясь рядом с возком.
– Ты не устала, моя горлица? – спрашивал с седла юный царь. – Не укачало? Не проголодалась? Не замерзла?
– Все хорошо, мой суженый… – поднимала руку Мария. Михаил касался ее пальцев, крепко сжимал ладонь, ненадолго удерживал в своей, отпускал и уносился вперед, съезжал с ровной дороги на полянки, заставлял скакуна крутиться и гарцевать, высоко поднимая ноги, стремительно возвращался обратно.
От Москвы до Сергиевской лавры полста верст пути. Пусть и по широкому, хорошо накатанному тракту – все едино путь неблизкий. К вечеру первого дня царский поезд добрался токмо до села Тайницкого, где для сих случаев уже не первый век стоял небольшой путевой дворец: многоскатный сруб на каменной подклети и в три жилья высотой, с четырьмя печами, несколькими опочивальнями и просторными людскими. Дворец окружал просторный двор с несколькими сараями, навесами для лошадей и аккуратной домовой церквушкой с единственной луковкой и островерхой звонницей.
Для небольшого выезда места здесь хватило с избытком, свита разместилась со всеми удобствами. Однако путевой дворец – это не просторные кремлевские хоромы, ужинать паломникам пришлось всем вместе, в одной общей трапезной. Свита оказалась за большим столом, составленным буквой «П», а царь с невестой – за своим, стоящим наособицу на небольшом возвышении.
Мария и Михаил сидели друг напротив друга, и если бы вытянули руки – вполне могли их соединить, соприкоснуться пальцами. Им обоим очень хотелось это сделать – Михаил видел, как девушка, глядя ему в глаза и слабо улыбаясь, слегка выдвигает вперед ладони, как гладит подушечками пальцев стол, словно бы надеясь незаметно подкрасться. Он ощущал себя точно так же – и тоже царапал ногтями стол, не доставая до пальцев невесты считаных вершков.
Но что можно сделать, если рядом с топориками наготове стоят рынды, если стольники за спиной не отрывают глаз от своих хозяев, а сбоку суетятся кравчие, пробуя предназначенное для царя и его невесты вино, отрезая себе кусочки пирогов и расстегаев, копченой рыбы и мяса, ветчины и бледно-розовой семги?
Разумеется, рядом с царем крутился его веселый и верный воспитанник Борис Морозов, которому можно верить, который еще и прикроет, оправдает, если что. Но рядом с невестой стояла невысокая пожилая боярыня сурового вида. Под ее хмурым взглядом Михаил не решался ни слова лишнего произнести, ни руку девушки ладонью накрыть, ни тем более еще чего большего себе позволить. Да даже если бы не бабка – вся свита за соседним столом расселась!
Люди кругом, люди рядом, люди везде. Чужие глаза и уши. Не пошалишь, не забалуешь. Все, что мог позволить себе царь, так это смотреть с нежностью в карие глаза да иногда улыбаться. И все-таки… Он видел Марию, слышал, осознавал совсем рядом с собой! Ощущал ее желания, понимал ее взгляды. Уже ради одного этого стоило затеять случившееся паломничество! Ради таких вот ужинов, ради прикосновений во время дороги, ради тех слов, которыми удавалось обменяться во время пути.
Мария была его обрученной невестой. До свадьбы оставался всего месяц, а то и менее. И тогда между ними рухнут последние преграды, они станут принадлежать друг другу целиком и полностью! Оставалось совсем немного. Один месяц можно и потерпеть.
Однако это был всего лишь первый день пути, и самые первые случайные прикосновения…
* * *
Прошло всего лишь семь дней – и двенадцатого ноября село Тайницкое снова пришло в движение, закрутилось лихорадочной людной суетой.
Трапезная путевого дворца стремительно наполнялась светом по мере того, как несколько холопов зажигали со стремянок свечи на настенных бра и на свисающих над столами многорожковых люстрах. Они только-только успели убрать лестницы, как уже распахнулись широкие двустворчатые двери и помещение наполнилось шумной многоголосой толпой.
Первыми, взявшись за руки, прошли Михаил Федорович и его невеста, за ними остальная свита. Государь проводил Марию Ивановну до возвышения, дождался, пока она опустится в кресло, после этого обошел ее и сел напротив.
– Только не темное красное, царь-батюшка! – быстро подбежал к нему боярин Морозов. – После такой-то дороги оно как кирпич в живот ложится, и голова поутру словно из елового полена! Легкий шипучий сидр, вот что утолит жажду усталому путнику!
И, не дожидаясь ответа, кравчий быстро налил себе кубок, выпил, удовлетворенно вздохнул. Наполнил золотую с самоцветами чашу государя. Прижал ладонь к груди, кашлянул:
– Ой! Надо бы проверить еще раз… – боярин Морозов налил себе еще сидра, отпил, кивнул: – Нет-нет, все замечательно! Мария Ивановна, откушайте, очень освежает.
– Вина не хочется, – покачала головой царская избранница.
– А на донышко для любопытства?
– Тебе же сказали, баламут, она не желает! – отрезала бабушка Федора. – С мороза сбитень куда полезнее.
– Мария Иванова? – чуть вскинул брови кравчий.
– Сбитень, – кратко ответила невеста.
– А ведь и вправду освежает, горлица моя, – сделав пару глотков, царь всея Руси протянул руку и накрыл ладонь невесты своею.
И девушка тут же сдалась.
– Хорошо, – слабо улыбнулась она и протянула свой кубок.
– Я за двоих проверил… – быстро напомнил бабульке боярин Морозов и налил вина царской избраннице.
– Любо государю и его невесте! – вскинул свой бокал кто-то за столом свиты, и трапезная моментально откликнулась: – Любо! Любо!
– За тебя, моя ненаглядная! – поднял свою чашу царь всея Руси.
– За тебя, мой суженый, – ответила Михаилу невеста.
Паломничество многое изменило в отношениях молодых людей. Долгий путь рядом, ежедневные завтраки, обеды и ужины за одним столом, лицом к лицу, совместный молебен плечом к плечу у святых мощей чудотворца Сергия Радонежского – Михаил и Мария научились быть рядом, держаться за руки, разговаривать. Не столько научились сами, сколько приучили к этому царскую свиту и родню невесты, старательно сторожащую ее честь до дня бракосочетания. И хотя бабушка Федора считала, что жадные взгляды правителя и его прикосновения не столь уж и целомудренны, однако даже ее собственные сыновья воспринимали сие бурчание с усмешкой. В конце концов, Михаил Федорович жених, к тому же обрученный. Имеет право даже на настоящий поцелуй!
– Ветчина какая нежная, просто сказка! Так во рту и тает, – восхитился кравчий. – После тушеной капусты самое то…
– Ныне постный день! – хмуро напомнила бабушка Федора.
– Так ведь мы в дороге, боярыня! Нам можно!
– Не в дороге, а в паломничестве! – мотнула головой кравчая невесты.
– А я могу и за двоих отведать! – подмигнул избраннице Борис Морозов. – Положить?
– Спасибо, боярин, я сыта… – не смогла сдержать улыбки Мария и чуть наклонилась вперед, продвинула руку по столешнице. Государь придвинул в ответ свою, их пальцы соприкоснулись. – Увидимся завтра… Михаил…
– Увидимся утром, моя горлица, – кивнул ей юный государь.
14 ноября 1616 года
Москва, Кремль. Вознесенский монастырь
Дьяк Посольского приказа вышел из кельи царской матери, оставив монашку Марфу просматривать целую охапку грамот, и потому она не сразу заметила престарелую инокиню, бесшумно скользнувшую в открытую дверь. А когда подняла голову, вздрогнула от неожиданности. И тут же указала на дверь:
– Убирайся! Я же сказала, не желаю тебя видеть!
– Марфушка, мы же много лет как подруги, – тихо ответила матушка Евникия. – Не поступай так.
– Это все из-за тебя! – вскинулась инокиня. – Это ты притащила сию воровку на смотр! Из-за тебя Миша разума лишился, из-за тебя беспутным стал, меня не слушает, гадюку худородную под венец тянет!
– Ты бы хоть посмотрела на них, Марфа, – тихо и скромно попросила Евникия. – Ты посмотри, как сыночек твой счастлив, как душой оттаял, как радуется невестушке своей…
– Ведьма она! – оскалилась царская мать. – Ведьма, чародейством Мишку приворожила, колдовством глаза застилает! Вспомни, как она здесь, на этом самом месте, символ веры прочитать не смогла! А потому и не смогла, что ведьма черная и слова Христова не переносит! И ты, ты, – опять вытянула руку инокиня. – Это ты, Евникия, ведьму сию во дворец, в мой дом протащила! Гнать ее надо было, едва на молитве христианской оступилась, ан ты змеюку подлую собственными руками Мишеньке на грудь положила и в самое сердце ужалить позволила! Вот как притащила, так теперь и изгоняй! Что хочешь делай, но чтобы в Кремле ее больше не было! Не то саму тебя прокляну и детей твоих, и внуков, и весь род твой анафеме предам!
Матушка Евникия открыла было рот, но поняла, что спорить супротив гнева своей царственной подруги бесполезно, склонила голову и так же бесшумно скрылась за дверью.
Перейдя в свою комнатушку, послушница опустилась на колени пред ликом Пресвятой Богородицы и надолго погрузилась в бесшумные молитвы. Но затем все-таки решилась – поднялась, накинула поверх кашемировой рясы соболью шубу, крытую скромным темным сукном, спустилась вниз, покинула обитель, свернула в кремлевские ворота, миновала мост через ров, повернула налево и вскоре оказалась на Никольской улице, постучав в ворота подворья князей Салтыковых.
Ярыга, выглянув в окошко, тут же распахнул калитку и низко поклонился:
– Благослови меня, матушка, ибо я грешен.
Монашка мимоходом наградила его крестным знамением, прошла к крыльцу, уверенно распорядившись склоненной челяди:
– Ключника ко мне!
В сенях Евникия небрежно сбросила шубу, чуть выждала. Из глубины дома примчался мальчишка в полотняной косоворотке с пятирожковым подсвечником, посторонился. Монашка широким шагом двинулась по пахнущему свежей древесиной коридору, остановилась у одной из дверей.
– Бегу!!! – с громким топотом нагнал гостью низкорослый старик в суконной, с шитьем, ферязи без рукавов, с торчащей клочьями во все стороны рыжей бородой.
– Не суетись, Никифор, я не спешу, – успокоила его монашка. – Ты помнишь чашу индийскую, что я незадолго до смерти Бориски Годунова купила? Деревянную с золотом? Она не пропала?
Ключник промолчал, возясь с дверным замком.
– Не помнишь… – сделала вывод инокиня Евникия.
– Но никак не пропадала, матушка! – толкнул тесовую створку старик. – Все твои вещи в целости и сохранности лежат. Ни иголочки не унесли!
Все трое они вошли в темную кладовую, заставленную сундуками.
– Ничего, сказываешь, не трогал? – уточнила монашка.
– Токмо рухлядь четыре раза в году перебираю, проветриваю. Дабы моль не завелась.
– Я помню, ты завсегда был слугой прилежным… – Инокиня Евникия в сопровождении мальчишки прошла в глубину комнаты, указала на один из сундуков: – Открой.
Ключник отомкнул замок, поднял крышку. Свет свечей упал на сложенные в несколько рядов серебряные кубки, блюда, тарелки.
– Не то… – сразу отмахнулась монашка. – Вот этот отвори!
– Там одна медь, матушка, – забренчал ключами Никифор. – По праздникам на низ стола выставляю.
Инокиня промолчала, и потому холоп поднял крышку. Монашка мельком глянула внутрь и махнула рукой:
– Нет, среди посуды она быть не может… Вот этот открой.
В очередном сундуке оказалась утварь золотая, и матушка Евникия опять покачала головой:
– Не то-о… Где же она может быть? – Женщина задумалась, поглаживая ладонью подбородок, затем решительно указала на обитый медью сундук с красно-синими тесовыми стенками: – Этот посмотри!
Слуга послушался. Под поднятой крышкой блеснули вышитое бисером оплечье, несколько лежащих без окладов икон, березовые туески, лаковые шкатулки, какие-то бутылочки и короба.
– Ну слава богу, нашлась! – Наклонившись, монахиня раздвинула сваленные кучкой берестяные туески и вытянула из-под них деревянную чашку размером примерно на три полных горсти. Чистая и гладкая внутри, снаружи она была украшена гладкими овальными самоцветами и обита тонкими золотыми полосками, идущими по стенкам спиралью.
Инокиня Евникия подняла чашу перед собой. Покрутила, любуясь отблесками свечей на камнях. Глубоко вздохнула, перекрестилась:
– Никифор, вели подать в мои старые покои кувшин стоячего меда, какие-нибудь расстегаи и ветчину. Соскучилась я что-то по хорошей ветчине.
– Да, матушка, – поклонился ключник.
Монашка снова полюбовалась чашкой и вышла из кладовой, осторожно неся ее на ладони.
Она поднялась в свои покои, оставленные много лет назад, но ничуть не изменившиеся, встала перед слюдяным окном, выставив деревянную посудину на свет, еще раз старательно осмотрела. Заметила пыль, тихонько подула, осмотрела снова, вздохнула и отерла ее всю подолом рясы.
Без стука распахнулась дверь, дворовые девки на двух подносах внесли два серебряных кубка, расписной кувшин, поставили тарелки с нарезанными пирогами, семгой, салом и розовой бужениной.
– Почему два? – немного удивилась инокиня.
– Ключник так велел, – ответила холопка. – Полагал, ждешь ты кого-то, матушка.
– Почти угадал Никифор. – Монашка аккуратно опустила чашу на край столешницы, сама опустилась в кресло с высокими боковинами. – Я жду сыновей. Но вряд ли они захотят со мною пить.
– Еще что-нибудь желаешь, матушка? – Закончив накрывать стол, служанки остановились, сложив ладони на животе.
– Ступайте, – разрешила гостья и потянулась к кувшину…
Вечер был тихим и спокойным. Сладкий хмельной мед, пироги с рыбой, ветчина. Монашка отдыхала за трапезой, поглядывая на слюдяное окно, каковое становилось все темнее и темнее. Оно стало совсем черным, когда в дверь наконец-то постучали:
– Матушка, ты здесь? Дворня сказывала, ты решила нас навестить!
– Пусть поменяют свечи, – негромко распорядилась инокиня. – И принесут еще меда.
– Мама, как мы рады тебя видеть! – Братья Салтыковы, длиннобородые и плечистые, с солидными животиками, спрятанными под дорогую парчу, с двух сторон опустились возле кресла, обняли гостью и по очереди поцеловали в щеки. – Давно ты уже нас не навещала!
– Так ведь в Кремле видимся, мальчики мои, – обняла за плечи обоих женщина. – Нечто соскучились?
– Разве же это встречи, мама?
Дворня тем временем обновила стол, запалила свежие свечи, поставила еще два кубка и исчезла снаружи, притворив дверь.
– Как ни жаль, чада мои, но я ныне здесь по делу, – отпустила сыновей монашка. – Как там, поведайте, служба ваша? Как государь, как невеста?
– Да все не нарадуются молодые, матушка, души друг в друге не чают, – ответил один из рыжебородых князей. – Государь по три письма в день ей строчит, она пятью отвечает. К заутрене бегут, ровно утята к птичнице, дабы рядышком в церкви постоять.
– Михаил Федорович еще одно паломничество замышляет, желает снова вместе с Марией прокатиться, – добавил второй. – Зело ему предыдущее путешествие понравилось!
– Плохо сие, – покачала головой монахиня. – Все плохо. Прежде всего не следует жениху с невестой до свадьбы видеться. Надобно соскучиться, истосковаться. Не стоит им вдвоем к одной службе ходить, видеться и письма писать. Да и вообще…
– Что, мама? – не поняли братья.
– Матушка Марфа от свадьбы наступающей в бешенстве, – тихо сообщила инокиня Евникия. – Нелюба ей Мария. Ненавидит ее отчего-то матушка царская, терпеть не может. Ведьмой считает. Не желает она сей свадьбы. А коли не желает, то и не допустит!
– Как же она помешает, мама? – переглянулись окольничьи. – Слажено ведь все уже накрепко, выбор сделан, день назначен! Поместный приказ свадебный чин готовит.
– Вы недооцениваете матушку Марфу, мальчики мои, – покачала головой инокиня. – Она всегда добивается своего. Добивалась даже тогда, когда ей противостояли силы куда могущественнее наших. Если она сказала, что свадьбы не будет, значит, ее не будет.
– Что же она может сделать, мама? – Один из братьев поднялся и присел на край стола. – Не убийц же к невесте подошлет!
– Чур, тебя, чур! – торопливо перекрестилась монашка. – Скажешь тоже! Токмо душегубства нам не хватает… Но вот коли вдруг обнаружится, что по болезни невеста способность к чадородию утратила, то сию весть из ваших уст матушка Марфа несомненно сочтет за добрую.
– Но она здорова, мама!
– Чада мои наивные… – вздохнула инокиня Евникия. – Боренька, ты ныне кто? Ты окольничий, друг близкий царю, дьяк Бронного приказа. А ты кто, Мишенька? Ты дьяк Аптечного приказа, окольничий и близкий друг царя. Напомнить вам, как вы вознеслись до сих мест? Подняла вас при дворе матушка Марфа после того, как мы с нею сдружились и я доверие ее смогла заслужить. Ныне подруга моя во гневе и готова карать и истреблять всех, кто токмо девице Хлоповой в ее сближении с государем помогал. Поверьте мне, мальчики, скинуть вас в простые сотники моя подруга способна так же легко и быстро, как и подняла из обычных воевод в приказные дьяки. Наш государь, ее послушный сын, и ради вас ссориться с матерью не станет. Сами понимаете, у чад и родителей размолвки еще случаются, но вот настоящей вражды не бывает. Коли она попросит, Михаил Федорович хоть сейчас от вас откажется. Опять же, у супруги новой свои друзья и родичи имеются, так что места окольничих надолго не опустеют. Надобно вам сие али нет?
Братья переглянулись.
– Государь есть наш повелитель, помазанник божий, – кивнула инокиня Евникия. – Мы его чтим и уважаем. Но наша сила и опора, увы, не в нем, а в его матери. Каковой близость сердечная Михаила и Марии словно ножом по сердцу…
– Они такие счастливые, мама… – пробормотал Борис.
– Ваше счастье, дети мои, беспокоит меня куда сильнее… – Монахиня широко перекрестилась. – Да простит господь всемогущий великие мои прегрешения. Но Марфа зла сверх всякой меры и вполне способна сотворить что-нибудь недоброе. Как бы нам с вами на пути ее гнева не оказаться-то.
– Так и что нам делать?
– Умишком своим пораскинуть, мальчики, – посоветовала монашка. – Я вам поведала достаточно. Теперь ступайте. Я устала. Сегодня останусь здесь.
* * *
Около полудня нового дня по ступеням, ведущим в теремные палаты, поднялась скромная послушница, появление которой заставило телохранителей почтительно склонить головы:
– Благослови нас, матушка, ибо мы грешны.
– Я тоже не безупречна, служивые, – одарила каждого из них крестным знамением монашка. – Да пребудет с вами милость Господа нашего Иисуса Христа.
Рынды распахнули перед гостьей дверь, инокиня вошла внутрь, на мягкие ковры, выстилающие пол, прошла в глубину, тихонько постучала в одну из дверей:
– Здесь ли моя жемчужинка пребывает?
Створки почти сразу распахнулись, наружу выглянула светлая, сияющая счастьем девушка в легкой шелковой рубашке, поверх которой был надет бархатный сарафан без рукавов – зато с золотым шитьем на груди, животе и по подолу.
– Матушка, это ты?! – радостно воскликнула царская невеста и опустилась на колено, поцеловала монашке запястье: – Благодарю тебя, матушка!
– Вот видишь, жемчужинка, не зря я за тебя хлопотала, – погладила ее по голове монахиня. – Ты оказалась самой красивой.
– Всю жизнь за тебя молиться стану, матушка! – Поднявшись с колена, царская невеста перекрестилась и поклонилась гостье.
– И как тебе здесь живется, жемчужинка? – прошла дальше в покои гостья.
– Как в раю, матушка, – честно призналась невеста.
– Рада за тебя, красавица… – осмотрелась монашка. – Хорошо здесь получилось. Нарядно, уютно, светло.
– Да, матушка.
– До свадьбы, сказывают, всего две недели осталось?
– Девятнадцать дней, матушка.
– Скоро обретешь свое счастье, жемчужинка. Ты, главное, не испорти ничего.
– Ты о чем, матушка? – тут же забеспокоилась девушка.
– Невеста кисею свою токмо после таинства венчания поднимает, жемчужинка. Коли поспешишь и слишком рано сблизишься, чем мужа после свадьбы порадуешь? Какой тайной, каким сокровищем одаришь? – вкрадчиво произнесла монашка. – Чего ждать он станет с нетерпением, о чем мечтать, на что надеяться? Не зря люди сказывают, увидеть невесту до свадьбы плохая примета! Чем сильнее жажда, тем слаще глоток воды. Чем суровее разлука, тем ярче радость свидания. Тебе ныне лучше воздержаться от встреч близких с женихом своим. От служб совместных, от писем частых. Пусть настоящая разлука и настоящее ожидание сделает вашу свадьбу истинной долгожданной радостью.
– Мне нельзя встречаться с Михаилом Федоровичем? – облизнула губы враз погрустневшая девушка.
– Это царский двор, жемчужинка. Здесь много глаз, много ушей. Здесь все всё видят, ничего невозможно скрыть. Когда невеста что ни день с женихом своим рядом воркует, о чем люди подумают? Чистоту свою надобно беречь, милая! Слухи легко рождаются, от дурных намеков трудно отмыться. Лучше до всего этого не допускать.
– Благодарю за заботу, матушка…
– А я и забыла совсем! – словно бы встряхнулась гостья. – Я же с подарком!
Монашка вынула сверток, что все это время находился у нее под мышкой, развернула цветастый набивной платок и достала на свет деревянную чашу, обитую снаружи золотыми полосками и украшенную самоцветами.
– Матушка государя нашего, Михаила Федоровича, в знак своего благословения желает одарить невесту священным сосудом, выточенном из сандалового дерева, выросшего на берегах священной реки Иордан и там же намоленном. – Гостья протянула чашу девушке. – Пусть милость Господа нашего и покровительство царской матери через сию вещь перейдут на тебя и согреют твою душу.
– Какая красота! – восхищенно выдохнула избранница, принимая дар. – Спасибо! Спасибо большое! Передайте матушке Марфе мой нижайший поклон! Вот токмо не знаю, чем отдариться…
– Ты еще успеешь, милая, – пообещала гостья. – У тебя вся жизнь впереди.
Она уважительно поклонилась и отправилась к дверям.
Мария проводила гостью до самой лестницы, после чего стремглав кинулась к себе в покои:
– Бабушка, бабушка, смотри, какую красоту мне Мишина мама подарила! Настоящий сандал! Золото, самоцветы! С берегов реки Иордан!
Она вошла в светелку для вышивания, показала боярыне Федоре чашу и гордо заявила:
– Я хочу выпить кваса!
– Как скажешь, внученька, – не стала перечить старушка, взяла со столика кувшин, налила немного в серебряный стаканчик, отпробовала, после чего наполнила чашу.
Мария с видимым наслаждением, маленькими глоточками выпила и широко улыбнулась:
– Как вкусно, бабушка! Какой аромат! Вот что значит настоящий сандал!
* * *
Государь Михаил Федорович, стоя на просторном крыльце Грановитой палаты, взвесил саблю в руках, затем резко выдернул из ножен, рубанул ею воздух, быстро покрутил по сторонам от тела, резко остановился, поднес клинок к глазам.
Окольничий опасливо попятился, однако царь всея Руси с османским подарком более не играл. Провел подушечками пальцев вдоль лезвия, вернул в ножны и повернулся к князю Салтыкову:
– А что, Борис Михайлович, по силу ли нашим кузнецам такой же славный и красивый меч отковать?
– Да раз плюнуть, государь, – огладил окладистую, хорошо вычесанную рыжую бороду дьяк Бронного приказа. – Кузнецов, чтобы лучше русских оказались, нигде в мире не сыскать!
– Дамасский булат! – напомнил окольничему царь.
– Тот-то и оно, что дамасский, – презрительно дернул губой князь. – Наш булат на две головы лучше будет, без непроваров.
– Каких непроваров? – не понял Михаил Федорович.
– Коли мастер криворукий, государь, то слои железа переплетенного воедино не сливаются и трещинки мелкие на клинке возникают. Наши кузнецы за таковую поруху подмастерий порют, а басурмане сии грехи золотом затирают и за достоинство выдают.
Михаил Федорович приподнял брови, полувытянул саблю из ножен, посмотрел на золотую паутинку, бегущую по стали, хмыкнул, вогнал обратно и протянул окольничему:
– Отнеси в оружейную палату чудо османское. Пусть там сия красота сберегается, коли токмо для изящноства годится. – И тут же поинтересовался: – От Марии весточек нет?
– Нехорошо оно, государь, до свадьбы с невестой встречаться, – покачал головой князь. – Примета дурная. Себя надо бы чтить и к первой встрече настоящей взаправду готовиться.
– Да сговорились вы все, что ли?! – резко вскинулся царь всея Руси. – Вот и Мария мне то же самое чуть не слово в слово пишет! Что перед свадьбой надобно чувства свои разлукой усилить. Дабы встреча на свадьбе многократно слаще стала…
– Так ведь и верно пишет, государь, – согласно кивнул окольничий.
– Но до свадьбы еще две недели, княже! Что же нам теперь, до встречи столько терпеть?
– Зато какой долгожданной встреча получится, Михаил Федорович!
– Да она меня и завтра обрадовала бы, Борис Михайлович!
Окольничий в ответ лишь молча пожал плечами.
– Хорошо, княже, – решился юный царь. – Ступай, отнеси саблю. А на обратном пути в терем загляни, узнай, как оно там?.. Ты счастливый, тебя и туда и туда пускают. Мне же наверх путь заказан!
– Как прикажешь, государь, – поклонился окольничий и отправился вниз по ступеням.
Царь же, просмотрев со своего места на кровли дворца, только обреченно вздохнул и, сопровождаемый шестью рындами, вернулся в золотую залу.
Князь Борис Салтыков, отнеся подарок османских послов в сокровищницу, поднялся на самый верх дворца, в похожий на сказочную игрушку многоцветный терем, поклонился его хозяйке:
– В добром ли ты здравии, Мария свет Ивановна?
– Да уж не жалуюсь, Борис Михайлович, – одарила его сияющей улыбкой царская избранница. – Коли ты брата своего ищешь, то он за мастерами отправился. Не нравится Михаилу Михайловичу, как здешняя печь топится. Тепла, сказывает, мало дает. А по мне, так все хорошо.
– Он дьяк Аптечного приказа, боярыня. На нем забота о здоровье всей царской семьи, – заступился за брата князь Салтыков. – Вот и заботится. Но ведь я с поручением к тебе, избранница! Государь повелел грусть и тоску свою передать о разлуке случившейся. Скучает и встречи ждет в нетерпении.
– Передай, княже, я тоже в тоске глубокой! Передай, в сердце моем огонь разгорается все сильнее в ожидании нашей свадьбы! – задыхаясь, чуть ли не пропела девица. – Пусть и в нем пламя любовное тоже полыхнет со всею силой! Я жду, когда сей пожар заберет меня в свою власть навеки, и каждый день, каждый час считаю… – Мария подняла руки, словно собралась обнять царского гонца, но в последний миг лишь закружилась перед ним в своем бархатном с золотом сарафане.
– Все передам в точности, – низко поклонился князь, взмахнув рукой над самым ковром и отступил к дверям.
Спустя полчаса он уже отчитывался в государевых покоях:
– Она вся в нетерпении, Михаил Федорович. Сказывала, каждый час и каждую минутку до свадьбы считает. И горит вся от сладкого пламени и тебе так же полыхнуть желает.
– Что же это такое? – заметался от стены к стене юный правитель всея Руси. – Где справедливость? Она рядом, а я с ней ни увидеться, ни словом перемолвиться не могу!
– Близок локоть, да не укусишь, государь. Не терзайся ты так. До свадебки всего две недели осталось. Потерпи, Михаил Федорович. От страстного ожидания ваша встреча токмо слаще станет!
– Тебе хорошо сказывать, Борис Михайлович, тебя супруга дома ожидает. А я… Словно бы на привязи сижу! А теперь еще и видеться с любовью своей не в силах…
* * *
Новым утром царская невеста не вышла к утренней службе. Мария Ивановна крепко держала свое слово – она больше не показывалась жениху на глаза.
Однако вскорости князь Борис Михайлович уже спешил в верхний терем с вопросами государя о здоровье невесты и ее настроении…
Не вышла царская избранница и на второй день – и опять незадолго до полудня рыжебородый окольничий степенно отправился гонцом в ее палаты.
Здесь царила странная, тревожная суета. Бледные братья Желябужские то заходили в невестины палаты, то выходили. Боярыня Федора, не заметив князя, пробежала мимо него с ушатом, девки спешили внутрь с полотенцами.
Пока Борис Михайлович размышлял, как поступить, в тереме появился его брат, ведя за собою смуглого, как мореный дуб, и черноглазого араба Балсыря; вечно хмурого, в стеганом сером халате, со впалыми щеками и коротенькой, клинышком, бородкой. В руках самый известный лекарь Москвы нес свой неизменный лаковый сундучок с широкой медной ручкой на крышке.
Балсырь и князь Салтыков вместе скрылись в покоях царской невесты, однако окольничий вскоре вернулся и встал перед братом.
– Иди к матушке, – негромко сказал он. – Скажи, занедужила Мария Ивановна. Мутит ее, тошнит. И с животом неладно.
– Ты что-то сделал? – моментально вспомнил недавний разговор с матерью Борис Михайлович.
Князь Салтыков отрицательно покачал головой и широко перекрестился:
– Вот те крест, не я. Само собой так сложилось. Ступай, предупреди маму. Коли она первая инокине Марфе о сем передаст, то ссора их, вестимо, затихнет. Вести по Кремлю разбегаются быстро, надобно, чтобы мама раньше всех с сей весточкой пришла. Так что поспеши.
Борис Михайлович внимательно посмотрел на запертую дверь в покои царской невесты, пригладил бороду и широко зашагал к лестнице.
Когда князь Салтыков вернулся, его брат разговаривал уже с другим известным лекарем, немецким, что прижился при дворе еще со времен изгнания поляков, изрядно раздобрев и порозовев. Несмотря на прошедшие годы, иноземец по сей день одевался в чулки и бархатный колет и носил шляпу с большим петушиным пером.
Путая и коверкая слова, Валентин Бильс размахивал тонкой черной тростью и объяснял:
– Сие есть, княже, почечная желтуха! Надобно от сей напасти кушать воду с толченым мелом, настоянную на черном янтаре. Три раза! После пробуждения, в полдень и перед сном. Да творить сие десять дней, не кушая при том ничего жареного, ничего двуногого и ничего красного. И я есмь зубом клянусь, у девицы не останется никаких болестей!
– А чадородие? – спросил Борис Михайлович.
– Найн, ни-ихт, – замахал руками немчура. – Не есть пугайтесь, никакого ущерба чадородию сия болезнь не причиняет!
– Лекарство? – уточнил окольничий, давая лекарю мешочек с серебром.
– Лекарство я пришлю! – поклялся немец.
Когда он убежал, Борис Михайлович осторожно кашлянул и спросил:
– А что сказал араб?
– Балсырь вовсе никаких болезней не нашел, – ответил его брат. – Молвил, сластями девица объелась, через то желудку расстройство. Коли водою ключевой поить да кашей простой потчевать, через три дня никакого следа от недомогания не останется.
– А чадородие?
– Здорова Мария Ивановна, здорова! – повторил Михаил Михайлович. – Вестимо, и покушения никакого не случилось. Орешков в меду, может статься, переела, вот и вся болезнь. Меня от них тоже иногда пучит, коли сверх меры увлекусь.
– Наверное, нужно предупредить маму? – неуверенно пробормотал Борис Михайлович. – Ну, что избранница здорова… А то как бы неладного не случилось.
* * *
Однако же в эти самые минуты инокиня Евникия уже входила в келью царской матери.
– Это опять ты?! – вскинула голову сидящая за столом монахиня.
– Я бы не тревожила тебя, матушка, – смиренно потупила взор гостья, – но у меня важная, хотя и недобрая весть. Твоя невестка сильно занедужила, мучается животом и к чадородству, по мнению лекарей, совершенно не способна. Вестимо, родичи Марии Хлоповой скрывали важные сведения о ее здоровье.
– Что я говорила?! – вскочила со своего места монахиня и громко хлопнула ладонями по столу. – Ведьма она! Приворожила, заморочила, обманула! В Разбойный приказ всех без промедления! На дыбу крамольников!
– Матушка, матушка… – покачала головой Евникия. – Нехорошо сие, избранницу государеву да на дыбу. Все же звание высокое. Опять же, коли слухи о сем пройдут, Михаил Федорович прослышит и примчится обязательно… Сыск начнется, лекарей всяких чужих стряпчие звать начнут. А какие там лекаря? Палачи да знахарки… Болезни нутряной могут в Марии Ивановне и не заметить…
– Ты опять эту ведьму защищаешь?! – зло оскалилась инокиня Марфа.
– Второпях подобное решать, матушка, недолго и ошибиться, – понизила голос гостья. – Ныне мы все знаем в точности. Больная Мария Хлопова и бесплодная. А сыск начнется, каждый по-своему мыслить и говорить станет. Сколько людей, столько мнений. Государь, опять же, обязательно вмешается. Ибо до Разбойного приказа ему всего полчаса ходу.
Царская матушка поджала губы, надолго задумалась. Затем медленно кивнула:
– Ты права, моя верная подруга, искать нам в сем деле нечего. Мнение лекарей ведомо, виновные понятны. Шум лишний вовсе ни к чему. С глаз долой, с сердца вон! Убрать крамольников подальше, и все. Князя Бориса Репнина ко мне!
Инокиня Евникия, растянув губы в улыбке, поклонилась и вышла из кельи. Сходила к себе, накинула на плечи шубу, спустилась вниз – и уже на улице столкнулась с сыновьями.
– Матушка, мы к тебе! – встали на ее пути дородные князья, облаченные в собольи шубы и парчовые ферязи, с увесистыми посохами в руках. – Лекари сказывают, недуг царской невесты совсем слабый и на чадородие не влияет. Мария Ивановна скоро исцелится.
– Экие вы… – монахиня кашлянула, сглатывая слово, каковое хотела произнести на самом деле. – Борода длинна, а ум короток. Слушайте меня оба и запоминайте! Лекари вам сказали, что хворь у избранницы давняя и неизлечимая, понятно?! И детей она иметь не в силах. Понятно?!
– Но как же…
– Не ваша забота! – твердо перебила их матушка Евникия. – Лекари сказали вам, что Мария неизлечима и бесплодна! Запомнили? Теперь ступайте в Разбойный приказ. Поведайте стряпчим о сей беде и передайте, что дьяка тамошнего, боярина Репнина, инокиня Марфа пред очи свои немедля кличет!
* * *
Дьяк Разбойного приказа ждать себя долго не заставил, поднявшись по ступеням узкой каменной лестницы Вознесенского монастыря уже через полчаса. На плечах – широкая шуба с отложным бобровым воротником, на голове – высокая бобровая же шапка, в руках – толстый кленовый посох со множеством золотых гвоздиков и навершием из крупного яхонта. Князь Борис Александрович ступал нарочито величаво, медленно, громко дышал и постоянно морщился. Борода его, тщательно расчесанная, пушилась на груди, и по левой ее стороне поблескивали шелковыми ленточками три косицы, украшенные редкими, но крупными жемчужинками.
Особые старания князя Репнина по приданию себе пущей солидности становились понятны, если вспомнить, что средь прочих дьяков он уже довольно долго оставался самым молодым. Со своим местом ему страшно повезло – он вовремя примчался в Тушине поклониться вернувшемуся после излечения государю и подвернулся под руку в тот миг, когда оказалось, что среди переехавших к царю дьяков не оказалось начальника Разбойного приказа. На войне сие место никому из знатных людей доходным не показалось, зато благородное происхождение Бориса Александровича званию дьяка соответствовало – и государь Дмитрий Иванович лихо поставил безусого мальчишку разбираться со всякими воровскими делами.
С тех пор прошло несколько лет. Сын государя Ивана Васильевича отъехал из Тушина к Калуге, возле которой безвестно сгинул, царским двором еще три года правил князь Трубецкой, затем Земский собор избрал на трон Михаила Федоровича. А боярин Репнин, несмотря на молодость, продолжал успешно сидеть в Разбойном приказе, хотя на заседаниях Боярской думы и ловил на себе постоянно недовольные взгляды куда более заслуженных царских слуг. Хотя, может статься, ему просто мерещилось…
Пыхтя и слегка покачиваясь, устало вздыхая, Борис Александрович вошел в келью инокини Марфы, оперся обеими руками на посох, почтительно склонил голову:
– Рад видеть тебя в добром здравии, матушка!
– И я тебя, боярин. – Сидящая за столом монахиня подняла на него усталый взгляд, слегка кивнула. – Слышал ли ты о последних событиях? Боярская дочка Мария Хлопова занедужила намедни, и лучшие лекари московские нашли у нее застарелый недуг, каковой она с родичами до смотрин зело ловко скрывала. Бесплодная она, наследника зачать не способна. И так выходит, что крамольницей Мария оказалась. Весь наш царский род опасности подвергла, обманщица. Посему выдели самых надежных приставов, что у тебя под рукой имеются, да Машку Хлопову в ссылку без промедления отправь со всеми родичами вместе. Ведь это они обманщицу во грехе сем дружно покрывали.
– Царскую избранницу? – неуверенно уточнил дьяк Разбойного приказа, ощутив в животе неприятный холодок. – Государеву невесту?
– Больше не невесту! – решительно отрезала инокиня. – Разве ты не слышал? Она бесплодна и к брачному союзу непригодна!
– А что сказал о сем государь Михаил Федорович? – осторожно поинтересовался князь Репнин.
– Не стоит огорчать мальчика сим неприятным известием, – опустила глаза к бумагам престарелая инокиня. – Наказать крамольников, Борис Александрович, ты и своею волей вполне способен.
– Сослать царскую невесту без царского ведома? – Слова с таким трудом продирались через горло боярина, что он буквально засипел.
– Я сама расскажу сыну о сем событии, Борис Александрович, – пообещала инокиня. – Можешь не тревожиться. Просто прикажи схватить крамольников, посади на телегу и отправь с глаз моих подальше.
– Михаил Федорович прогневается… – осторожно напомнил дьяк Разбойного приказа. Ибо о пылкой любви юного царя к своей избраннице знал весь двор.
– А ведь это ты, Борис Александрович, крамолу обязан был распознать еще до того, как боярышню Хлопову во врата кремлевские впустили! – снова подняла голову монашка, и взгляд ее на этот раз стал холодным и колючим. – Уж нет ли в сей измене и твоего соучастия?!
Князь Репнин сглотнул. Он понял, что ему придется выбрать что-то одно. Либо преданность престарелой инокине, либо службу государю всея Руси. Выбирать требовалось прямо сейчас, без промедления, если он не хочет, чтобы о его промахе инокиня Марфа завтра же поведала Боярской думе.
Между тем царскую матушку Борис Александрович помнил еще по службе в Тушине. Уже тогда она хорошо знала всех знатных бояр царской свиты, была с ними дружна и пользовалась немалым уважением. Большинство тамошних князей и воевод по сей день сидели в Боярской думе. И стоит монашке назвать его, дьяка Разбойного приказа, изменником – сии Марфины соратники его не то что в ссылку, на эшафот не моргнув глазом отправят! Царской матери в Думе поверят куда охотнее, нежели ему. Да плюс к тому Марфа остается еще и женой патриарха, от его имени нередко высказывается, и местоблюститель, митрополит Ион, ее старшинство над собою признает. Выходит, что и иерархи церковные по слову старенькой монашки нарекут его крамольником без единого сомнения и именем Божиим проклянут вместе со всеми потомками!
Такова инокиня Марфа…
А кто такой царь?
Что он может?
Михаил Федорович – это всего лишь мальчик на троне…
Маменькин сынок.
Все это, вместе взятое, промелькнуло в голове князя Репнина в считаные мгновения… И дьяк Разбойного приказа задал всего лишь один вопрос:
– Куда отправить семью предателей, матушка?
– А какой у нас город самый дальний, Борис Александрович? – поинтересовалась монахиня.
– Тюмень, матушка!
– Вот туда их всех и загони! – Инокиня Марфа перекрестила посетителя и снова вернулась к делам.
Облегченно вздохнувший князь Репнин благодарно поклонился, развернулся и на диво быстрой молодой походкой выскочил из дверей.
* * *
Живот Марии постоянно скручивало болью, язык немел, горло пересыхало, голова кружилась, все тело ныло тупой болью. Девушку постоянно трясло от рвотных позывов, но ничего, кроме судорог, это не приносило.
– Что же с тобой, милая, творится? – сидящая рядом бабушка Федора погладила ее по голове. – Чем тебя так прихватило? Вот, испей водицы святой, в Сергиевом Посаде намоленной, целительной…
Престарелая боярыня уже привычно налила немножко воды из серебряной фляги в покрытый эмалью кубок, выпила сама и чуть выждала, почмокивая языком. Убедившись, что опасности лечебная влага не таит, наполнила ею иерусалимскую чашу, поднесла к губам девицы. Та сделала несколько глотков и снова в полном бессилии откинулась, застонала.
– Ох ты ж деточка моя несчастная… – Отставив чашу, бабушка Федора огладила потный лоб своей внучатой племянницы.
Снаружи послышался шум. Возмущенные крики. Престарелая боярыня удивленно подняла голову. Уже через миг от сильного удара распахнулась дверь в опочивальню. Внутрь вошел боярин в дорогой шубе, с тремя косичками в бороде, с тяжелым посохом в руках, вскинул перед собой туго скрученный свиток:
– Государева воля! Боярская дочь Хлопова, как к чадородию непригодная, из невест изгоняется, а за обман свой ссылается с царских глаз долой! Родичи ее, к крамоле соучастные, вместе с ней отправляются туда же! Телеги внизу. Собирайтесь!
– Да как же ж так? – растерялась боярыня. – Мы же… Но ведь государь… Ты посмотри, боярин, болеет она! На ноги встать не в силах!
– Телеги внизу, указ у меня, – опустил свиток суровый боярин. – До ста считаю, сие вам время на сборы. Сами не уложитесь, стрельцы как есть в телеги покидают! Р-раз!!! Два!
Не переставая считать, князь Репнин вышел из девичьей опочивальни.
При всей внешней суровости несчастную девочку Борис Александрович жалел и потому хватать ее и семью отправился лично, сразу дав изрядную поблажку: позволил собираться в ссылку самим.
Обычно приставы хватали крамольников без особой жалости: вязали как есть, кидали на сани, а все, что видели ценного, – распихивали по своим карманам. Чего изменника не ограбить-то? За него все едино никто не заступится! Посему даже самые знатные и богатые князья уезжали в ссылки голыми и нищими, зачастую босыми и в одном исподнем, несмотря на лютые морозы, под рогожей вместо мехового полога.
Но на сей раз дьяк Разбойного приказа слуг своих сразу предупредил, что крамольников брать будут в покоях царских, все добро там будет государево, а потому за любую прихваченную безделушку стряпчие и стража будут пороты без малейшей жалости!
Приказчики и слуги намек поняли и вели себя достаточно осторожно: никого не били, не пинали, перстней и цепей не обдирали, кубки и блюда не прихватывали. Только поглядывали хмуро, да рукояти сабель гладили.
Бабушка Федора наконец-то поняла, что пришла беда, и заметалась по светелкам, хватая гребни, сарафаны, царские подарки: нарукавники, бусы, височные кольца и платки, сваливая все в одну кучу на свой старый охабень, смахнула туда же посуду со стола, связала между собою углы подола, под его подсунула рукава, тоже связала. Повернулась к Марии, остановилась в нерешительности. И тут дверь распахнулась снова:
– Готовы?!
– Да как же так, боярин?! – развела руками старушка. – Не ходит же она совсем, невестушка. Ни встать, ни одеться…
Князь Репнин пожал плечами, посторонился и кивнул приставам:
– В одеяло ее заверните – и в возок!
– Ага. – Крепкие бородачи в коричневых суконных кафтанах кинулись вперед, без особых церемоний закатали стонущую девушку в постель, деловито перевязали в трех местах веревкой, понесли наружу.
– Я иду, иду! – предупредила боярыня Федора, подхватила с углового сундука шубу, набросила на плечи, взяла собранный узел и засеменила следом.
Три телеги стояли у заднего дворцового крыльца. Братьев Желябужских, тоже сообразивших собрать по узелку, посадили на один возок, холопа и двух девок из их челяди на другой, Марию Хлопову уложили на третий, бабка забралась рядом с ней. Шестеро приставов поднялись в седла, и маленький обоз тронулся в путь, прямо в черную ночь, подсвечивая дорогу факелами.
Дьяк Разбойного приказа хорошо понимал значение слов «без промедления». И как ни жалел он несчастную девочку, как ни огорчался по поводу разрушенной царской любви – самого себя Борис Александрович все-таки любил больше и высокого доходного места терять не собирался. А потому даже проводил маленький обоз до Нижегородских ворот, лично убедившись, что ссыльные прямо сейчас отправились в дальний путь.
Обоз катился по заледеневшей дороге всю ночь, а затем еще и весь день до поздней темноты, остановившись только поздним вечером в Рогожском яме[9]. Здесь измученных лошадей наконец-то распрягли, а ссыльным приставы позволили пойти в дом погреться.
Мария все еще не очень понимала, что с ней происходит, находясь в полудреме-полубреду и мучаясь от боли во всем теле. Бабушка Федора, приказав девкам перенести болящую в людскую и уложить на лавку, собственноручно напоила ее из треснутой глиняной плошки горячей ухой без гущи, дала пожевать хлебную мякоть, накрыла опашнем и осталась рядом сторожить сон несчастной, вскорости и сама задремав…
* * *
– Где мы, бабушка?
Девичий голос заставил боярыню Федору вздрогнуть, закрутить головой.
В просторной людской проезжего яма, плотно набитой людьми, разносились храп, стоны, мычание. Люди шевелились во сне, толкались, что-то бормотали. Судя по всему, на дворе сейчас стояла тихая глубокая ночь.
– Где мы, бабушка? – повторила свой вопрос Мария.
– Ты как, милая? – спохватилась боярыня Федора.
– Болит все, бабушка… И мутит…
– Ох ты ж, бедненькая… Попить дать?
– Где же мы, бабушка? – уже в третий раз спросила девица.
– На дворе постоялом… – призналась боярыня Федора. – В ссылку едем.
– В ссылку? – удивилась Мария. – Почему?
– Ну так заболела ты… – пожала плечами бабушка Федора. – Лекаря сказывают, бесплодная. Вот тебя из невест и списали. Сказывают, все мы с умыслом болезнь твою скрывали. За сию крамолу и сосланы.
– А Михаил? – приподнялась на локтях девица. – Как он сие позволил?!
– Так грамота государева, милая, – вздохнула бабушка.
– Как? – побледнела Мария. – Почему? Он же сказывал, любит!
– Ну, сказывал, – пожала плечами боярыня Федора. – Теперь вот сослал как больную. Ему жена здоровая надобна. Крепкая, чадородная.
– Но ведь… Он любит!
– А что любовь? Стерпится – слюбится. Были бы грудь большая да бедра широкие. Для жены главное детей здоровых рожать. А любовь… Любовь, это для Господа. Господа нашего любить надобно и молиться чаще.
Мария вздрогнула, резко повернулась и уткнулась лицом в сложенный под голову сарафан. Ее плач оказался почти не слышен, и только вздрагивающие плечи подсказывали, что именно происходит с отвергнутой Михаилом Федоровичем избранницей.
С рассветом ссыльных и их скромную челядь приказчики снова рассадили по телегам, и окованные железом колеса застучали по мерзлой земле Нижегородского тракта.
Около полудня в случайной деревеньке с колодцем охрана выдала путникам пареную репу, каковую пришлось запивать водой прямо из кадки. Ближе к вечеру так же скромно подкормили еще раз, и только поздно ночью в очередном яме угостили нормально: квашеной капустой и запеченной плотвой.
Как ни странно, но эта скромная пища отвергнутую изгнанницу взбодрила и освежила: боли в теле отпустили совершенно, тошнота прошла, колики в животе пропали. Девица порозовела щеками, дышала ровно, в беспамятство не впадала. А ввечеру в людской постоялого двора даже переоделась в нормальную одежду: три сатиновые исподние юбки и сарафан с душегрейкой. Охабень, понятное дело, в хорошо натопленной избе не требовался.
Но хотя болезнь и отпустила, Мария все равно оставалось смурной, неразговорчивой и совершенно не смотрела по сторонам, словно бы начисто отринулась от мира. Ну да веселья от ссыльной невесты никто и не ожидал.
Маленький обоз под крепкой стражей катился все дальше и дальше на восток. А в Нижнем Новгороде его нагнал гонец из столицы, передавший приставам новую подорожную и правильно переписанный государев указ, утвержденный Боярской думой и Земским собором: доставить крамольников в Тюмень и оставить там под строгим призором на вечное поселение.
Любовь девицы Марии и юного государя подлежала казни и полному забвению…
20 ноября 1616 года
Москва, Кремль
Одетый в парчовую мантию с драгоценным оплечьем государь вошел в Малую Думную палату, слегка поклонился склоненным боярам и опустился в стоящее на возвышении кресло. Опустил руки на подлокотники. Поскольку заседание было не торжественным, а обыденным, каждодневным – скипетра и державы юный царь не держал, равно как и голову его покрывала просто тафья, прошитая золотой нитью и слегка опушенная по краю соболем.
Вперед выступил князь Петр Алексеевич, еще раз поклонился государю, развернул свиток:
– Вести у меня, бояре разные: и радостные и тревожные, – начал он свой доклад. – Намедни дошли до нас слухи, что пана Лисовского, известного польского душегуба, ловкого и увертливого, отловили за разбоем стародубские мужики, да и забили на месте до смерти. Вчера же от двора королевского доставили сообщение, что в шайке тамошней ныне пан Станислав Чаплинский верховодит. Выходит, верны известия из Стародуба, наказали там аккурат того, кого надобно.
– Хорошо бы уточнить, кто именно разбойника прибил, да наградить достойно! – сказал со скамьи под стеной князь Троекуров. – Боярам бездельным в укор, всем прочим смердам для поощрения.
– Таковое поручение надобно приказу Разбойному давать, – ответил дьяк Посольского приказа. – Я же довожу до сведения Думы боярской, что король Сигизмунд гибелью своих разбойников не смущается и ныне новый поход к Москве затевает. Приказы коронным и литовским полкам уже отправлены, место сбора назначено. Надобно готовиться к обороне.
В зале повисла тяжелая тишина.
– Вестимо, перед угрозой таковой осаду Смоленска придется снимать, – произнес седовласый князь Лыков, худощавый, сидящий в коротком польском кафтане и собольей шапке вместо привычных для бояр шубы и бобровой папахи. – Припасами и пополнением армию главную надобно подкрепить и супротив супостата направить.
– И оставить русскую твердыню в лапах поганых схизматиков?! – воскликнула монахиня Марфа, привычно для всех стоящая за троном.
– Исполчать на землях русских давно некого, матушка, – со вздохом ответил бывалый воевода. – Смута недавняя и казну, и земли опустошила. Войны бояр лучших выбили, шайки польские и казачьи тут и там разбойничают, а их ведь тоже истреблять надобно, коли желаем покой на землю русскую вернуть. Да тут еще и со шведами воюем, и с поляками воюем. Где столько ратников найти, матушка?!
– От ляхов бед наголову больше, нежели от обычных разбойников, Борис Михайлович, – ответил воеводе вовсе престарелый, но зато многоопытный кабардинский князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский. – Посему, полагаю, отряды все, что ныне душегубов по лесам и дорогам ловят, надобно все же отозвать и собрать возле Москвы. Сверх того припасы воинские к Вязьме отправить, дабы полки уставшие подкрепить и при надобности в деле ратном использовать. Весной же ясно станет, нужна нам будет армия смоленская али так от супостата отобьемся.
– Верно, верно… – закивали остальные бояре. – Так и приговорим…
– Полагаю важным довести до вас, бояре, – свернул грамоту дьяк Посольского приказа. – Доверенные мои люди из королевства Шведского доносят, что за время долгой войны государство свейское разорено расходами сверх всякой меры и людей ратных слишком много по их меркам в походах потеряно. И хотя ныне они все еще хвалятся победами над нашими порубежниками, однако же мир им зело надобен и ради прекращения войны они согласятся на многие уступки.
– Слава богу, – облегченно перекрестилась инокиня Марфа. – Хоть одно доброе известие. Коли так, то свеев можно не опасаться и супротив одних токмо ляхов всей силой навалиться.
– У меня все, бояре, – поклонился дьяк и отошел к стене, сел на лавку на свободное место.
– Теперь у нас есть еще одно важное дело, бояре, – сделал шаг вперед митрополит Иона, в этот раз одетый в темно-серую суконную рясу и белый клобук, с большим нагрудным крестом, сверкающим золотом и самоцветами, и с посохом из черного дерева. – Государь наш Михаил Федорович холост. Холост. Державе же православной надобен наследник, а царю супруга. Посему прошу вас, бояре, скорейше объявить смотр невест, дабы Михаил Федорович смог выбрать достойную, православную, красивую и здоровую государыню.
– Постойте, какой смотр? – вздрогнув, вскинул голову царь вся Руси. – Он же уже был! Мария Ивановна из рода Хлоповых моя избранница. Нечто вы забыли? Али я во сне?
– Девица Мария из рода Хлоповых уличена в обмане, государь, – повернул голову к трону митрополит. – Приступ недуга хронического у нее три дня тому случился. По осмотру лучшими лекарями уличена она в бесплодии. За ту ложь она сама, а сверх того ее дядья и бабушка, принявшие соучастие в обмане, измене и крамоле, сосланы по решению Боярской думы в Тюмень на вечное поселение.
– Как сослана? – чуть наклонился вперед Михаил. – Как, когда, почему я о том не знаю? Нет, не может быть! Мария!!!
Сердце паренька словно бы оборвалось и рухнуло вниз, оставив в груди острую сосущую пустоту. Забыв про все, юный государь сорвался с трона, вылетел из залы через свою дверь, мелькнул через горницу, стремглав промчался через дворец, забежал по лестнице наверх. Остановился у верхнего терема. Толкнул дверь.
Внутри, в темных прохладных комнатах, было совершенно тихо. И от этой тишины душа Михаила сжалась в ледяной комок, в котором слабо-слабо трепыхалось словно бы наколотое на шип акации окровавленное сердце.
– Мария… – хрипло прошипел он, прокашлялся и крикнул уже во весь голос: – Мария-а-а!!!
Ответом стала тишина.
Царь кинулся вперед, заглянул в одну комнату, другую, третью. Но везде оказалось, конечно же, пусто.
Михаил вернулся обратно на лестницу и сел на ступени, в отчаянии охватив голову руками:
– Но как же так? Почему?!
– Государь? Ты цел, властитель? – наконец-то нагнали его телохранители.
– Нет, все плохо! – зарычал Михаил, вскочил, снова кинулся через весь дворец, влетел в Малую Думную палату. Однако и здесь было пусто, лишь двое холопов старательно выметали из-под лавок невидимую пыль. Царь всея Руси покрутился, выругался, снова выскочил в горницу за троном. Немного подумал, прикусив губу, и поспешил через коридоры.
– Дозволь слово молвить, государь! – выкрикнул ему вслед один из рынд.
– Что? – оглянулся юный правитель.
– Ты же в мантии и оплечье, Михаил Федорович! – выдохнул запыхавшийся телохранитель. – Не дай бог оступишься!
Это было верно – подбитая соболем мантия стелились по самому полу. Коли бегать, особенно по лестницам, недолго и на край ее наступить.
Царь колебался всего мгновение, повернул оплечье, расстегнул, скинул его и мантию на руки стражнику и, оставшись в шароварах и парчовой ферязи без рукавов, надетой поверх шелковой рубашки, побежал дальше. Рынды застучали сапогами следом.
– Сбавь шаг, государь! Несолидно!
Куда там! Михаил промчался до сеней, толкнул двери, сбежал по ступеням крыльца, по заснеженной улице промчался до Вознесенского монастыря, влетел в него, забежал по лестнице, ворвался в келью, крикнул инокине Марфе в лицо:
– Где она, мама?! Где Мария?!
– Ты о давешней крамольнице, сынок? – Монашка кивнула дьяку Посольского приказа, и князь Третьяков поспешил выйти из горницы. – Мария Хлопова решением Боярской думы отправлена в ссылку. За обман государя, обман бояр думных, обман всей державы православной. Она бесплодна. Таковая супруга царю русскому не нужна.
– Но я люблю ее, мама!
– Ты можешь любить кого угодно, сынок. Но русский царь обязан родить наследника! Поэтому мы созовем новые смотрины, и ты изберешь себе иную супругу. Здоровую.
– У меня есть венчанная невеста, мама! Никого другого я видеть подле себя не желаю! – задохнулся от ярости Михаил. – Верни ее немедленно!
– Решением Боярской думы Мария Хлопова из невест исключена, как к замужеству негодная, – размеренно повторила инокиня. – Сие есть приговор не токмо бояр, но и лучших лекарей московских, немца Валентина и араба Балсыря. Нечто ты полагаешь, что они ремесла своего не знают?
– Верни ее!
– Да пойми же ты, Миша. – Обогнув стол, монашка положила ладони сыну на плечи. – Сей приговор лекарский ни ты, ни я отменить не в силах. Мария не способна стать твоею женой. Смирись.
– Я люблю ее, мама! Верни Марию в Москву!
– Любовь, это славно, сынок, – обняла царя монашка. – Но не все в мире сем случается по желаниям нашим. Ты должен даровать державе наследника. Выбери себе другую жену, продли царский род. А там… Стерпится – слюбится.
– Я не хочу терпеть! Я хочу жениться на Марии!
– Забудь про нее, сынок, – погладила сына по щеке матушка Марфа. – Не судьба.
– Верни ее!
– Таков приговор Боярской думы. Она сослана за крамолу. В Сибирь. И я сего приговора изменить не могу.
– Ладно, я сам! – Юный царь развернулся, быстрым шагом вышел из кельи, спустился вниз.
На улице рында накинул ему на плечи синюю шубу. Не царскую, а кунью, крытую дешевеньким английским сукном. Вестимо, стражники схватили первую, что под руки попалась, дабы государь не замерз на зимней улице. Михаил Федорович, даже не заметив сей заботы, выскочил из Фроловских ворот, прошел по мосту, под удивленными взглядами москвичей миновал рынок.
Не так часто видели горожане, чтобы личные царские телохранители со всех ног спешили за просто одетым юношей. Обычно рынды чинно шествовали за сверкающим драгоценностями государем. Да и то – в Кремле. За ворота же токмо верхом выезжали, верхового же правителя сопровождая.
Возле Варваровских ворот Михаил Федорович вошел в двери Разбойного приказа, остановил первого же встречного стряпчего:
– Где сидит князь Репнин?
Молодой слуга с реденькой бородкой в потрепанном зипуне ненадолго запнулся, подумал, покосился на рынд и предпочел низко поклониться:
– Я провожу, боярин.
Все вместе они поднялись на третий этаж, прошли темными, пахнущими опилками коридорами, пока слуга не указал на тесовую дверь и не отступил в сторону.
Михаил решительно толкнул створки, оказавшись в заставленной сундуками горнице со светлыми бревенчатыми стенами, с кошмой на полу и столом посередине. Дьяк Разбойного приказа торопливо поднялся, поклонился, прижимая ладонью к спрятанному под парчу животу окладистую бороду с тремя косицами.
– Государь? Какая нужда привела тебя в сии стены?
– Верни Марию Хлопову в Москву!
– Я не могу, Михаил Федорович! Она по приговору Боярской думы сослана, моего самовольства тут нет.
– Ну так верни!
– Я не могу, государь. Ее приговор боярский туда послал.
– А я приказываю вернуть!
– Но, государь, у меня нет такового права.
– Я царь или не царь?! – скрипнул зубами Михаил Федорович и сжал кулаки. – Я приказываю! Такова моя воля!
– Твоя воля закон, государь, – пригладил бороду князь Репнин. – Но дабы меня самого в измене не обвинили, я прошу от тебя указ письменный, каковой я в свое оправдание смогу опосля боярам на следствии показать.
– Дай бумагу, я напишу!
– Написать мало, государь. На указе должна печать царская стоять.
– Печать?
– Она у печатника, государь. Боярин из твоей свиты.
Юный царь помолчал, тяжело дыша и медленно осознавая происходящее. Слегка скривился:
– Полагаю, либо у Боярской думы сей печатник появляется, либо возле моей матушки держится?
– Я твой слуга, государь, – опять склонился перед Михаилом князь Репнин. – Не моим умишком судьбу твоей печати решать.
– Ты отказываешься выполнять мой приказ, князь Борис Александрович?
– Я на сие место поставлен государевым указом, с утверждением Думой, указом с печатью и твоею подписью, Михаил Федорович, – ответил дьяк Разбойного приказа. – Посему и приказы должен исполнять токмо столь же должно составленные. Иначе какой же я слуга? Смутьян я тогда буду, а не слуга верный. Самодур бесчестный. Как приказ должный получу, сей же миг приму его к исполнению.
Юный царь постоял, покусывая губу и обдумывая услышанное. Повернулся к рынде, лет тридцати на вид, с аккуратной бородкой клинышком и ткнул ему пальцем в грудь:
– Как твое имя, боярин?
– Боярский сын Ушня, государь! Из рода Белкиных.
– Я приказываю тебе, Ушня, немедля скакать в Тюмень, найти там боярскую дочь Марию Хлопову и доставить пред мои очи!
– Прости, государь, но я давал клятву хранить тебя и оберегать и отлучиться от тебя не могу, – поклонился ему телохранитель.
– Но я приказываю тебе! Такова моя воля!
– Я твой слуга, государь. Я стану тебя оберегать и защищать, не жалея ни сил, ни живота своего.
– Ты отказываешься мне повиноваться?!
– Я обязан оберегать тебя и защищать, Михаил Федорович.
– Проклятие! – Царь всея Руси отпихнул телохранителя в сторону и вышел из горницы.
Спустя полтора часа, злой и уставший, он вошел в свои покои.
От окна к нему повернулся седобородый бледноглазый старец, одетый в золотую мантию, с черным посохом и большим нательным крестом на груди.
– Ты выглядишь нездоровым, государь, – встревожился митрополит Сарский и Подонский. – Все ли с тобой в порядке?
– Ты знаешь, где находится мой печатник, святитель? – ответил ему юный царь.
– Печать ставится на указы, составленные Думой, письма Посольского приказа, грамоты Разрядного и Поместного приказов… – ответил митрополит Иона. – Посему печати и ее хранителю не нужно находиться рядом с тобой. У него много работы.
– Моей печатью распоряжаются все, кроме меня, святитель?
– Все приказы, все дьяки и воеводы служат на твое благо, государь Михаил Федорович, – степенно ответил митрополит. – Они издают указы во исполнение твоей воли, и на них ставится твоя печать.
– Я хочу вернуть Марию Хлопову в Москву! Такова моя воля!
– Раба Божья Мария уличена в крамоле и потому решением Боярской думы отправлена в ссылку…
– Хватит! – хлопнул ладонью по столу правитель всея Руси. – Я слышал это сегодня уже двести раз! Я царь! Я требую ее вернуть!
– Она бесплодна, Михаил Федорович. Тебе надобно подумать о другой жене.
– Я не хочу другую! Я обручен с Марией, ты сам венчал нас, святитель!
– Она бесплодна, государь. Именем Господа нашего заклинаю тебя, раб Божий Михаил, – осенил юношу крестным знамением митрополит. – Во имя державы нашей и всего мира православного призываю тебя исполнить свой долг и выбрать себе здоровую супругу, каковая дарует Руси наследника.
– Обручена мне Господом невеста, святитель! – твердо отрезал государь. – И брать иной я не хочу и не стану!
– Но ты должен…
– Я царь! Я правитель всея Руси! – сорвался на крик православный самодержец. – Я требую исполнения моей воли! Я приказываю!
– Вестимо, говорить о семье ты еще не готов, – понял митрополит Иона. – Отдохни, чадо мое. Я приду позднее.
17 мая 1617 года
Москва, Кремль, Успенский собор
Солнце хорошо освещало храм через окна в стенах, через световые колодцы под куполами, через широко распахнутые двери – и потому от свечей, что горели на люстрах под потолком и на подставках перед иконами, особой пользы не имелось. Но свечи и лампады все равно чадили, распространяя запах воска, ладана и подгорелых пирожков.
В этот полуденный час собор был полон. Напротив врат, перед алтарем возвышался на пятиступенчатом пьедестале тяжелый позолоченный трон с непропорционально высокой спинкой. Здесь восседал царь всея Руси, сверху вниз наблюдая за ходом Земского собора. Слева от него стояли самые знатные из князей, справа – православные иерархи. А дальше, за их спинами, расположились многие и многие сотни людей из всех народов и сословий, верований и убеждений – выборные представители от всех земель и городов бескрайней русской державы.
В этот раз на Земский собор на суждение всего народа вынесли всего три вопроса.
Первый – о «четвертой пятине».
Смута и долгая война дочиста опустошили царскую казну. И хотя Посольскому приказу удалось сговориться о мире со Швецией, причем даже с возвращением многих потерянных из-за подлости князя Шуйского земель, сражения с ляхами все еще продолжались, и набегам польских и казачьих шаек не видно было конца. Требовалось снаряжать стрелецкие и боярские полки, нанимать своих казаков, восстанавливать крепости. А все это требовало золота…
Ради укрепления рубежей и избавления от польской напасти государь всея Руси и Боярская дума испрашивали у народа разрешения собрать еще один, дополнительный налог. И всенародный Земский собор, вняв объяснениям правителей русской земли, на сие лишнее тягло легко до изумления согласился.
Вторым вопросом стала просьба английского королевства дозволить далеким островитянам плавать по русским рекам в Персию и Индию и искать пути в Китай через Сибирь и реки тамошние – Обь, Каму, Енисей. Однако желание диких нехристей пробраться в глубину русских земель никому на соборе не понравилось, и потому на королевское письмо собор решил не отвечать.
И наконец, Земскому собору надлежало решить судьбу государя всея Руси, которому так и не удалось сыграть столь желанной свадьбы.
К ступеням перед троном вышел сам митрополит Иона, стукнул посохом, чуть поклонился и заговорил:
– К вам, люду православному, ныне обращаюсь, дабы услышать глас народный, узнать ответ всей земли русской. Минувшей осенью государь наш выбрал себе невесту, рабу Божью Марию, из рода боярских детей Хлоповых, и я самолично молодых людей сих пред ликом Господа обручил. Однако же вскорости занедужила невеста, и по той причине опытные лекари ее со всем тщанием осмотрели. И вот каковое решение вынесли…
Митрополит оглянулся, вперед выступили царские окольничьи, рыжебородые братья Салтыковы.
Михаил Михайлович широко перекрестился, поклонился на три стороны.
– Слушай меня, люд православный! Невесту царскую по моему вызову лечили два самых лучших и известных лекаря. Премудрый сарацин Балсырь, у лучших мудрецов таинства лекарские познававший, и схизматик немецкий Валентин, поляков много лет пользовавший. И оба сиих знатока нам с братом поведали, что животом Мария Ивановна страдает, потому как болезнь у нее нутряная хроническая, и через то понести она более уже никогда не сможет…
– Засим приговор Земского собора услышать хотим, – продолжил митрополит. – Допустимо ли государю нашему, следуя клятвам обручальным, жениться на бесплодной деве? Либо от клятвы, обманом полученной, Михаила Федоровича надобно освободить, дабы он смог крепкую и здоровую супругу себе подыскать и род царский продолжить!
По собору побежало шушуканье. Собравшиеся здесь бояре, стрельцы, крестьяне и священники переглядывались, шептались, пожимали плечами.
Дав собору примерно четверть часа на поиск ответа, митрополит Иона стукнул посохом об пол, сделал знак рукой. Стряпчий из Поместного приказа развернул свиток и прочитал:
– На усмотрение собора Земского таковой приговор предлагается! Снисходя к разумению лекарей опытных, признать, что Мария Хлопова к царской радости непрочна, от клятвы обручальной ее и Михаила Федоровича отпустить, учинить новый смотр невестам, каковой достойную супругу царю православному определит! – Стряпчий опустил заготовленный указ и осмотрел обширный храм. – Каково слово ваше будет, народ православный? Сей приговор утверждаем али иной станем составлять?
– Утверждаем, утверждаем… – побежал по храму людской гомон. – Чего там думать? Утверждаем! Здоровая супруга государю надобна! Освободить его, освободить… Пусть женится.
Митрополит Иона стукнул посохом, спросил:
– Есть у кого возражения супротив сего приговора?
Во всем огромном храме на его призыв не отозвался ни один выборщик.
– Стало быть, приговорили?!
– Приговорили… – прокатился гомон, и собравшиеся со всей Руси люди согласно склонили головы.
– Быть по сему! – облегченно ударил посохом митрополит.
– Теперь слушай меня, люд православный! – поднялся со своего трона безусый еще царь Михаил Федорович. – Сочетался я с рабой Марией по закону Божию, обручена мне царица, и, кроме нее, иную брать не хочу! Не будет вам никакой государыни, покуда любую мою мне из узилища не вернут!
С этими словами он спустился с пьедестала, при общем молчании прошел по постеленной до дверей дорожке, оглянулся, перекрестился на иконостас, а затем вышел на свет.
На том Земский собор свою работу и завершил.
* * *
После трудного дня государь изволил очиститься. Сиречь попариться в бане, ополоснуться чистой водой, снова попариться и отдохнуть: утолить жажду пряным шипучим квасом, а голод – копченой и соленой рыбой всякого вида, белой и красной, щукой и судаками, семгой и ряпушкой.
– Вроде и не постный день, царь-батюшка, – удивился кравчий, отрезая себе небольшие ломтики то того, то другого угощения. – Отчего такая скромность?
– Печалюсь, – вздохнул Михаил. – Я надеялся, Земский собор поддержит меня и церковное таинство. Но все твердят токмо одно, как заводные: «чадородие» да «чадородие», женись да женись…
– А чего, царь-батюшка? Жениться, это мысль хорошая! – налил себе из кувшина боярин Морозов. – Мне понравилось. Пожалуй, даже зело понравилось!
– Так ты небось на избраннице своей женился?
– А на ком же еще? – Кравчий сделал несколько глотков и поморщился. – Не, Михаил, репного кваса ты лучше не пей! Этакой ядреной жижей хорошо токмо кожи ослиные дубить! А вот хлебный ничего! Хотя сидр, конечно, был бы лучше.
– А мне на избраннице жениться запрещают.
– Да кто тебе что-то запретить способен?! – изумился кравчий. – Ты же царь!
– А ты где последние полгода витал, Боря? – не меньше своего слуги удивился царь всея Руси. – Ты что, ничего не знаешь?
– Извини, царь-батюшка, в хлопотах кручусь, – развел руками боярин Морозов. – Я ведь сирота, токмо на себя положиться могу. А дом и жена молодая серебро едят, как не в себя. Вот и бегаю. Вологодский поташ голландцам продаю, пеньку муромскую – англичанам, железо новгородское – арабам да французам, ревень – немцам, сало – тоже островитянам. Две мельницы на Мологе поставил, скобяные товары ковать. На прибыль рудников там же прикупил, дабы железо свое варилось. Шведы еще недавно приехали, просят научить их руду плавить. Тоже хотят в торг железный приткнуться. Может статься, я с ними в товарищество и войду…
Кравчий вдруг запнулся, кашлянул:
– Прости, государь, я все про себя да про себя…
– Я сам спросил, Борис, – осушил кубок царь всея Руси и придвинул воспитаннику: – Налей ядреного!
– Токмо не сказывай опосля, что я не предупреждал! – потянулся за кувшином кравчий.
– Марию помнишь, с которой в паломничество ходили?
– А как же! – напрягся боярин Морозов. – Слышал, занедужила она…
– Приболела… Дума Боярская ее чуть не в тот же день в ссылку отправила. Вроде как виновна в сокрытии хвори, и сие за крамолу сочли… – Государь выпил репного кваса и болезненно поморщился. – Мне токмо через три дня о сем поведали. Не попрощался, не увидел… Даже не знаю ничего!
– Так вели ее вернуть!
– Хорошая идея! – поднял к нему лицо Михаил. – Приказываю тебе, боярин Морозов, поехать в Тюмень и вернуть мою невесту из ссылки!
– Я? – растерялся его воспитанник. – Но ведь я кравчий, а не пристав! И как вернуть? Побег учинить? Сиречь коли она в ссылке, то стало быть, под надзором. Без бумаги из Разрядного приказа стражники ее не отдадут!
– Кабы ты сказал мне сие полгода назад, Борис, я повелел бы заковать тебя в кандалы за неповиновение, – тяжело вздохнул царь всея Руси. – Но за минувшие месяцы я сию отговорку слышал уже тысячу раз. Мне все клянутся в преданности, Борис, но никто во всем Кремле не исполняет моей воли. Вот так же, как ты… Сказывают, службу на месте своем исполняют и отлучаться не должны. Сказывают, приказ надобен с печатью. Сказывают, Дума так повелела, а не иначе. Сказывают, меня от крамолы берегут. Я полгода приказываю, требую вернуть мою Марию! Но слышу одни токмо отговорки. И клятвы верности. Клятвы и отговорки… Как там она? Хоть бы краешком глаза посмотреть… – Юный государь скрипнул зубами. – Хотел сам к ней поехать, так не пустили! Стража за мной скакала, пока конь не выдохся. И всех людей от меня отгоняли. Как бы защищали, значит. Меня – от людей, скакуна – от сена. Туркестанец свалился, а тем временем матушка приехала и следом шла, образумиться уговаривала. Когда устал, в возок сунули и назад привезли. И лекаря вызвали. Рассудок, сказывали, помутился. Хорошо хоть, вовсе безумцем не нарекли и в собственных покоях не заперли… – Царь мотнул головой и резко поднялся. – Ладно, пошли попаримся. Веника можжевелового к сему квасу не хватает. Дабы снаружи так же яро драло, как и изнутри!
Молодые люди перешли в парилку, кравчий плеснул на камни квасом, забрался на средний полок – на верхнем лежал сам государь. Спросил:
– Нечто даже весточки никакой от Марии нет?
Царь всея Руси перевернулся на живот и ничего не ответил.
Боярин Борис Иванович поднялся, плеснул еще кваса, достал из шайки распаренный можжевеловый веник, прогулялся им быстренько по государю от шеи к пяткам и обратно, наклонился вперед и шепнул правителю величайшей державы на ухо:
– Вернуть из ссылки твою невесту я, конечно же, не смогу. Но вот письмецо доставить, коли пожелаешь… Так это легко!
* * *
Самый быстрый путь, придуманный людьми, – это, знамо, на перекладных. Скачешь во весь опор целый час, а как лошадь задыхаться начинает и пеной кровавой исходить – на яме на свежую ее меняешь и снова во весь опор несешься. На перекладных от Москвы до Нижнего Новгорода за полтора дня долететь можно. Вот токмо стоить это будет, как полтора туркестанца. Если же к сему прибавить, что Нижний на дороге в Тюмень – это всего лишь пятая часть пути, становится понятно, что скачка окажется воистину золотой. И хотя дела у боярина Морозова шли неплохо, подобная роскошь ему была не по карману.
Посему, закончив насущные дела, дав надлежащие указания приказчикам и старостам, крепко расцеловав жену, Борис Иванович обыденно поднялся в седло крепкого ногайского жеребца, в повод взял заводного, навьючив ему на спину нехитрые дорожные припасы, и поскакал на восток, заранее набравшись терпения.
Восемь часов скачка, восемь часов – выпас коня на травке, али топтание у яслей с сеном на постоялом дворе, восемь часов отдыха себе и скакунам. Да еще – замена каждый день под седлом заводного и рабочего коня, дабы сильно не уставали. Таким отлаженным за века походным обычаем молодой кравчий домчался до Нижнего Новгорода всего за неделю. Здесь немного отдохнул, попарился, потолкался на торгу, узнав сложившиеся цены и самые ходовые товары, и снова поднялся в стремя.
Еще через неделю он был в Казани, еще через две добрался до Соликамска, надолго застряв здесь из-за зарядивших дождей. И только двадцатого июля смог двинуться дальше по знаменитому Бабинскому тракту, ведущему путников через Каменный пояс. Первого августа боярин Морозов наконец-то добрался до Верхнетурья, застряв в таможенно-рыночном городе еще на неделю.
Сухопутного пути дальше не имелось. И потому хочешь не хочешь, но лошадей пришлось оставить на постоялом дворе, а самому сплавляться по реке, пристроившись за две копейки попутчиком на груженный выше бортов мешками с солью ушкуй…
Тюмень поразила боярина Морозова размерами, многолюдностью и всеобщей безалаберностью. Просторные дворы на высоком берегу реки стояли на солидном удалении друг от друга, занимая площадь примерно в половину Москвы; прямо между тынами бегали курицы и поросята, горделиво вышагивали посреди широких улиц идущие от реки гуси.
Город не город, деревня не деревня. Где-то здесь среди построек имелся монастырь, однако московский гость не увидел нигде ни единой церкви. Где-то поблизости стояла и крепость, но ее стен среди толстых высоких частоколов путник тоже не разглядел. Похоже, здешние обитатели либо совершенно не опасались вражеских нападений и Божьего гнева, либо были всецело уверены в собственной силе.
Второе походило на правду куда больше, ибо люди по улицам в большинстве прогуливались нестарые и крепкие, в потрепанных кафтанах и сыромятных сапогах, с саблями на поясах, кистенями в рукавах, а иные – и с бердышами за спиной да пистолетами в подсумке. Сиречь таковых грабить придешь – сам стриженым вернешься.
Боярин Морозов, еще в пути расспросив корабельщиков, остановился на самом дорогом постоялом дворе. Хочешь познакомиться с зажиточными купцами – живи там же, где и они. Пару дней покрутился, осматриваясь, а затем в кабаке за трапезой обратился к трем обладающим завидными телесами и большими русыми растопыренными бородами гостям, одетым в кафтаны из солидного индийского сукна цвета молодой осоки:
– Простите, добрые люди, за любопытство. На дворе возки со слябами медными я заметил. Никак понять не могу, голландские они али английские? И странно сие, отчего металл в слитках, а не в изделиях? Не любят зело иноземцы слябы-то к нам возить! Готовые котелки, подсвечники да кубки норовят продать.
Купцы переглянулись и дружно захохотали:
– Ты откель таковой взялся, мил человек, коли вопросы подобные задаешь?!
– Вестимо, я точно чего-то не понимаю, православные, – не стал обижаться Борис Иванович и ненавязчиво распахнул кафтан, демонстрируя наборный пояс из серебряных пластин с янтарными вставками да поясную сумку с золотыми клепками, ножны, украшенные костяной резьбой; пригладил подбородок пальцами с тремя крупными перстнями, сверкнувшими индийскими самоцветами, и предложил: – Давайте, добрые люди, я вас медом стоячим угощу, а вы меня просветите?
– Чего там просвещать, мил человек? – хмыкнул один из купцов. – В Верхнетурье рудники медные уж не первый век мастера копают. Так что уж чего-чего, а меди немецкой нам тут не надобно. Своей в избытке!
– Коли в избытке, так в Москву везти надобно, – предложил боярин. – У меня в Дидилове три мельницы[10] плавильные стоят. Там ваши слябы можно хоть в котлы, хоть в стволы перелить, да тут же казне продать, благо рядом.
Торговые люди переглянулись. Снова оценивающе прищурились на незнакомца. Украшения на пальцах боярина стоили как три деревеньки в десять дворов, пояс ценою в городское подворье, сумка стоила как добротные хоромы, а каждый нож – как изба. Пожалуй, такой человек вполне способен владеть несколькими мельницами возле Москвы…
– Да ты садись, добрый молодец, в ногах правды нет! – чуть подвинулся один из толстяков. – Вот, настоечки клюквенной с нами отпробуй, покуда хозяева твой мед по погребам ищут.
– А я так полагал, отсель, окромя мехов, ничего не везут? – не стал отказываться от приглашения царский кравчий.
– Чего токмо отсюда не везут! – покачал головой другой купец. – Медь, солонину, мед, ревень, орехи, слоновую кость.
– Слоновую? – удивился Борис Иванович. – Хочешь сказать, рыбий клык?[11]
– Не-ет, – опять рассмеялись купцы. – Рыбий клык у нас в море добывают, а слоновую кость из земли копают.
– Это хорошо… – потер ладонями боярин. – На слоновую кость у меня покупатель найдется. И на медь. И на меха, кстати, тоже. С орехами, ревенем и медом не знаю. На цену смотреть надобно. Везти-то далеко!
– За цену завсегда поговорить можно, – один из купцов налил в поднесенную половым медную стопку чего-то розового и ароматного из медного кувшина. – Коли уж за одним столом оказались, надо бы и познакомиться. Мы вот с братьями Прокопием, Демидом и Агафоном из рода Антуфьевых происходим, купцы здешние. А ты из каких краев будешь?
– Вы, вестимо, и сами догадались, что из Москвы… – кивнул боярин. – Борисом меня зовут, из рода бояр Морозовых. На службе царской состою. За знакомство?
Они выпили, дружно крякнули – настойка оказалась крепенькой, и Прокопий Антуфьев резко мотнул головой, прежде чем спросить:
– Как же тебя сюда занесло, боярин?
– По служебной надобности, – пожал плечами Борис Иванович. – А коли уж занесло, я так полагаю, надо бы на обратный путь товару хорошего собрать. И если у вас тут даже медь имеется… Медь Пушкарский приказ брать станет без сомнения. Он аккурат сейчас на Яузе ствольную мельницу строит. Так что сколько металла привезу, столько и возьмет. Кого спросить, я знаю. А карманы у казны глубокие… – Боярин Морозов весело подмигнул купцам Антуфьевым.
Те переглянулись, и Прокопий снова разлил настойку по стопкам.
Беседа становилась все интереснее и интереснее…
* * *
Самый удачный разговор боярина Морозова с местными купцами случился, когда Борис Иванович сходил к здешнему воеводе, престарелому князю Ивану Куракину.
Сам Иван Семенович ничего не решал и делами интересовался мало. Известный своей службой изменнику Василию Шуйскому, он заслужил недобрую славу предателя даже среди крамольников из свиты московского душегуба, и потому был спроважен в Сибирь почти сразу после воцарения законного государя. Ссылкой его воеводство не называлось, но по сути именно таковым и являлось, ибо старика просто удалили от службы.
Однако московскому гостю от князя ничего и не требовалось. Он пришел к воеводе под своим именем – царского воспитанника и кравчего, был таковым принят и даже задержан на обед, дабы поведать о последних столичных новостях. После сего купцы поняли, что заезжий москвич их в своем звании не обманывает – и хорошо вложились в товары, каковые Борис Иванович брался реализовать в Москве ко всеобщей выгоде. А пока они суетились, молодой кравчий отправился к дому на окраине, в котором обитала сосланная царская невеста. Про этакую редкостную гостью хорошо знал весь город, и дорогу мог показать любой мальчишка.
Не желая привлекать особого внимания, боярин купил на торгу туесок кедровых орешков, с каковыми и встал возле самой ограды, окружающей небольшой огород, разбитый под окнами крестьянского сруба с крышей из дранки.
Раскусывать орешки и добывать из них пахучие мягкие зернышки оказалось занятием весьма сложным: положенные на зуб, они давились, а не кололись, и ядрышко приходилось выковыривать ногтями.
По счастью, мучиться кравчему пришлось не очень долго: перед полуднем из дома вышла кареглазая девица в полотняной рубахе, темном сарафане, с сатиновым платком на голове, полностью скрывающим волосы, и принялась разбрасывать курам какую-то требуху.
– Доброго тебе дня, боярыня Мария Ивановна! – Поставив на землю туесок, Борис Иванович оперся на слеги ограды.
Девица приподняла голову, слегка прищурилась и невозмутимо продолжила свое занятие.
– Нечто ты меня не узнаешь, Мария Ивановна? – развел руками боярин.
– Отчего не узнать, узнаю, – недружелюбно буркнула девица. – Тебя что, царь тоже сослал? Али надзирать приставил?
– Михаил Федорович тебя не ссылал!
– Ну да, конечно. Я сама по случайности веревкой обвязалась и в телегу свалилась, средь зимы в Сибирь едущую… – Девица перевернула опустевшую миску, встряхнула и направилась к крыльцу.
– Ты знаешь, в чем разница между тобой и царем Михаилом Федоровичем? – торопливо крикнул боярин.
– Он в Москве на троне, – оглянулась Мария, – а я в глухомани дикой, за простой чих сосланная. Да еще после всех клятв нежных и душещипательных!
– Разница лишь в том, что ты в клетке деревянной сидишь, а он в золотой! И золотые прутья, поверь, куда прочнее ивовых сделаны! Не ссылал тебя царь, Мария! Он тебя изо всех сил вернуть пытается! Да токмо сие ему никак не по силам!
– Царю? Не по силам? – уже на верхних ступенях остановилась девица. – Ты уж коли врешь, боярин, сказки-то получше сочиняй!
– А ты думаешь, как я, царский кравчий, здесь, на твоей околице, оказался?! – наклонился вперед через слегу Борис Иванович. – В трех месяцах пути от столицы? Думаешь, домой пошел да чутка заблудился?! Просто во всей Москве я единственный оказался, кто Михаила Федоровича слушается! Остальные его токмо сторожат да приказы его именем провозглашают! Причем про большинство своих указов царь даже и не ведает! Вон, воевода ваш гусей на Рождество тоже государевым именем требует. Полагаешь, сие Михаил Федорович такой приказ в Кремле всякий сентябрь отдает? Так же и во всем прочем получается!
– Почему сентябрь? – не поняла Мария.
– Потому, что царский указ еще доставить надобно, а путь неблизкий! – отмахнулся боярин и продолжил: – Михаил Федорович за тебя сражается, как может, а ты его же и проклинаешь!
– Я его не проклинала… – покачала головой девица.
– Да у тебя на лице все написано, Мария Ивановна! – чуть отступил назад царский кравчий. – Ты хоть знаешь, что весенний Земский собор особым своим постановлением приказал ему иную жену себе сыскать, а он прилюдно отказался?! Сказал, иной жены, кроме тебя, не желает! Его уже и мать уговаривала, и иерархи все по очереди, и воеводы, и дьяки, и вся Дума боярская, ан он все едино на своем стоит! Любит он тебя превыше трона своего и своей жизни и лучше в одиночестве умрет, нежели от тебя отречется!
– Правда? – неуверенно и совсем тихо спросила девушка.
– Ты можешь куриц своих заставить цветок с поля на крыльцо принести, Мария Ивановна? – поинтересовался царский кравчий. – Вот и государь наш ровно в том же ныне положении. Когда ищет, кому приказ свой отдать, так все слуги, ровно курицы от пса дворового, разбегаются: ни слышать ничего не хотят, ни понимать! Хотя вроде как и твои они, тебе принадлежат и во всем преданные. Вот токмо повиновение у них возникает, лишь когда требуху клевать надобно! А в прочее время не слышат ничего и не знают. Гонца с письмом к тебе послать, так и то цельную зиму верного человека искать пришлось!
– Я никакого письма не получала! – встревожилась Мария.
Борис Иванович в ответ сунул руку за пазуху, достал свиток и показал ссыльной девице.
Та бросила миску, пробежала через двор к ограде, схватила грамоту, порвала нить и развернула свиток. Стала читать, торопливо поворачивая из стороны в сторону всей головой. И щеки ее прямо на глазах начали розоветь, глаза открываться шире, губы растягиваться в улыбке.
– Неужели это правда?! – резко опустив свиток, выдохнула она.
– А как же?! – широко ухмыльнулся боярин Морозов.
– И что же теперь?
– Я бы рад забрать тебя домой, – с грустью признал Борис Иванович. – Да токмо, боюсь, на слово мне никто не поверит, что волю царскую исполняю. А Разбойный приказ вольную тебе не подписывает, на решение Боярской думы ссылаясь… Даже сам царь ему не указ! – обреченно развел кравчий руками. – Все, что в силах моих, так это письмо из рук в руки передать.
– Письмо? – эхом отозвалась Мария.
– Я здесь еще дней пять пробуду, – сказал боярин. – Так что пиши не торопясь, чего токмо не пожелаешь. Перед отъездом заберу. Ну, и из дыры этой… – Борис Иванович обвел взглядом крестьянский двор. – Из сей конуры в нормальный дом тебя переселить попробую.
15 октября 1617 года
Москва, Кремль, царские покои
Государя Михаила Федоровича уже начали разоблачать ко сну, когда в дверь вошел молодой еще, безбородый рында и с поклоном доложил:
– Прощения просим, государь, но к тебе боярский сын рвется. Сказывает, поручение твое важное исполнил и обязан доложить без промедления. Речет себя кравчим твоим, однако же я его нико…
– Зови! – перебил телохранителя правитель всея Руси и махнул рукой на слуг: – Оставьте нас с гостем!
Царские холопы послушались и отступили, оставив Михаила в исподней шелковой рубахе и вышитых войлочных сапожках.
– Доброго тебе вечера, царь-батюшка! – вошел в горницу конопатый и остролицый, загоревший до смуглости боярин, в котором царь не сразу признал своего воспитанника. За минувшие полгода тот несколько осунулся, русые вихры распрямились, вместо шитой одежды на нем висел великоватый и вдобавок поношенный зипун с каракулевым воротом, на ногах темнели засаленные суконные штаны и яловые сапоги. Однако смотрел боярин Морозов весело, походка у него была бодрая. – Надеюсь, ты еще не ужинал? Я бы сейчас от службы своей не отказался!
– Запомните сего боярина, служивые, – сказал ему за спину Михаил Федорович. – Сие есть мой кравчий, лучший и доверенный. Впускать его в любое время дня и ночи!
– Да, государь, – ответили от дверей рынды.
– Передайте холопам, пусть сидра и белорыбицы копченой принесут.
– Да! – вскинул большой палец Борис Иванович.
– Сей миг, государь…
Створки затворились. Кравчий оглянулся, затем вытянул из-за пазухи тугой сверток, перетянутый алой нитью, и передал Михаилу.
Юный царь спешно отошел к столу, на котором светил канделябр с тремя ароматными восковыми свечами, а кравчий нахально уселся на скамью – государев воспитанник издавна позволял себе вольности, за которые иные князья могли бы и в ссылку загреметь.
Открылись двери, холоп в зеленой атласной косоворотке поставил на стол поднос с кувшином, кубком и блюдом с нарезанной ломтями рыбой. Поклонился и вышел.
Кравчий тут же жадно потянулся за едой.
К тому времени, когда блюдо опустело, Михаил положил грамоту, мгновенно свернувшуюся обратно в свиток, и поднял глаза на слугу:
– И как она там?
– Не знаю, что Мария Ивановна тебе пишет и в чем признается, однако же на словах сказывает, что с участью своей смирилась и не ропщет. Бог дал, бог взял. Побыла половину месяца в невестах царских, за то и спасибо. Выглядит она совершенно здоровой, с лица чистой, спокойной и в теле, – стал рассказывать боярин Морозов. – Хотя, знамо, и грустит. Ну да, а кто не загрустит на ее месте? Живут они с дядьями и бабкой на крестьянском дворе, казна им на пожилое три копейки в день выделяет[12]. Не в порубе, знамо, сидит. Однако же под надзором.
– Как же ты пробрался?
– Так это я здесь царский кравчий, коему от ворот кланяются… – пожал плечами боярин и тут же уточнил: – Если узнают, конечно. А в Тюмени я просто человек проезжий, до которого никому и дела нет. Надзор за семьей не строгий. Лишь о том тревожатся, чтобы не сбежала. Зашел кто-то в избу и зашел. Мария меня знает, а остальные нет.
– Это хорошо… – задумчиво ответил государь.
– Я там покрутился немного, – продолжил Борис Иванович, – по делам да по людям… В общем, сговорился в Верхотурье подворье добротное отстроить. Коли ты собственноручно грамоту наместнику отпишешь, можно устроить так, чтобы в сии хоромы Марью Ивановну с родичами перевести. Там места захолустные, слово царское много весит. До печатей и думских утверждений, я так мыслю, докапываться не станут. А коли поспорить и захотят, так от них до Москвы три месяца пути. Пока решат, верить али нет, пока отпишутся, пока ответ привезут… Год пройдет, а то и не один. Красавица же твоя все сие время в достатке обитать станет.
– Это ты хорошо придумал, Боря, – согласился Михаил. – Ты с ней много дней провел? Как она? Чем занимается? Про меня спрашивала?
– Она полагала, женат ты уже давно. Другую полюбил и потому избавился. Ныне же… – Кравчий развел руками. – Ее изумление и восхищение таковым оказалось, что щеки, ако яблочки наливные заалели! Полгода верность хранишь вопреки всему! Твоя она всем сердцем, в преданности полной даже не сомневайся!
– Как раз сегодня митрополит Иона опять приходил, уговаривал, – поднес письмо любимой к губам царь всея Руси. – Сказывает, коли смотрины проводить не желаю, так Дума сама мне жену правильную назначит. Все равно кого, лишь бы наследник появился.
– А ты?
– Погнал его, понятное дело, – пожал плечами Михаил. – У меня невеста есть. На ней и женюсь! Пусть у меня не хватает власти вернуть Марию в Москву, но зато и они все, даже вместе взятые, женить меня супротив моей воли не в силах. А я лучше холостым умру, нежели с нелюбой в постель лягу!
– Ага, – согласно кивнул царский кравчий. – Значит, ты уже не полгода супротив всего мира за Марию держишься, а почти что полный год? Твоей волей, государь, в пору сваи под крепостные стены забивать! Прими мое искреннее уважение. И, кстати… У меня там теперь доверенные люди появились. Писать можешь хоть каждый день. Грамотку доставлю в целости.
– Лучше бы ее саму сюда возвернуть!
– Против твоей любви борется целый мир, государь, – пожал плечами кравчий. – В сей борьбе быстро не победить.
* * *
Боярин Морозов оказался прав. Упорство правителя всея Руси схлестнулось с упрямством Боярской думы и Земского собора и незримо стоящей за всеми ними тихой послушницы Марфы. И всего что вышло хорошего за несколько месяцев – так это то, что по личному повелению государя, хорошо сдобренному серебром, ссыльную девицу рабу Божью Марию приставы перевели отбывать наказание из совсем далекой Тюмени в более богатое и безопасное Верхотурье, в специально построенные для нее хоромы, особо о том в Разбойный приказ не хвастаясь.
Разумеется, доносы про самовольство местных стряпчих до Москвы добежали, однако князь Репнин решил по пустякам с молодым царем не ссориться и о сих донесениях просто-напросто «позабыл», как о слишком малозначительных. Зачем же тревожить царскую матушку подобными пустяками? Опальная девка по-прежнему в ссылке. На четыреста ли верст ближе, на четыреста дальше – какая на самом-то деле разница?
14 июня 1619 года
Литовский тракт близ реки Пресни
Широкая и хорошо утоптанная дорога оказалась перекрыта от края и до края многими десятками знатных бояр, стоящих здесь, несмотря на зной, во всем своем парадном одеянии: в тяжелых московских шубах – собольих, песцовых, крытых парчой и шелком, украшенных самоцветами и золотым шитьем; в высоких бобровых шапках, с тяжелыми дорогими посохами, с золотыми перстнями на пальцах.
Впереди их всех, на постеленном на песке ковре замер юноша – в золотой мантии, драгоценном оплечье и в шапке Мономаха на голове. Сия шапка наглядно показывала, кто именно не поленился выехать далеко за пределы городских стен и сколь торжественным считалось в Москве ожидаемое событие.
Государь и вся свита молча созерцали пустынную дорогу – наверняка полностью перекрытую где-то впереди. По сторонам шелестел ветер, небо белело от множества кучевых облаков, где-то в кустарнике пели птицы, среди короткого жнивья за обочиной громко стрекотали кузнечики. Все выглядело на удивление чинно и благостно.
– Едет! – крикнули рынды, сторожащие безопасность свиты на некотором удалении, среди полей. Они оставались верхом и потому видели намного дальше.
Царь поднял голову, свита зашевелилась.
На дороге показалась коляска, самая обычная: запряженная парой лошадей, со сшитым из тонкого теса кузовом и крытом сыромятной кожей верхом.
Возничий, ради жары одетый лишь в рубаху из домотканого полотна и такие же штаны, натянул поводья возле ковра. Из глубины коляски наклонился вперед пожилой и худосочный седобородый монах в поношенной серой рясе. Посмотрел на встречающих, затем поднялся и вышел наружу. Встал перед царем всея Руси, прищурился, слабо улыбнулся:
– Ты повзрослел, сынок…
Юный правитель сглотнул и кинулся вперед, крепко обняв освобожденного отца. Так они стояли довольно долго – и многие из князей утверждали, что видели слезы на глазах обоих. Наконец объятия разомкнулись, патриарх Филарет обвел взглядом всех остальных знатных князей, и все они один за другим опустились на колени:
– Благослови нас, святитель!
– Да пребудет с вами милость Господа нашего, Иисуса Христа, возлюбленные чада мои! – Патриарх трижды осенил знамением свиту: сперва стоящих посередь, затем левых и, наконец, правых. – Вместе мы вернем силу нашей державе и всему православному миру! Восемь лет я пребывал в аду, в лапах поганых нехристей. И теперь я знаю, ради чего нам надобно беречь истинную веру и нашу священную землю! Проводите меня домой, возлюбленные чада мои. Я так соскучился по родной Москве…
Оставшиеся до столицы пять верст государь всея Руси проехал в простенькой коляске своего отца – в сопровождении сияющей золотом свиты, под охраной одетых во все белое стражников.
В Кремле освобожденного патриарха ждала еще одна ковровая дорожка, на которой стояла одинокая темная фигура со смиренно опущенной головой.
Коляска остановилась, патриарх вышел, встал перед монашкой, протянул руку, коснулся подбородка женщины и поднял ее лицо:
– Я вернулся, любимая.
Инокиня Марфа всхлипнула и жадно кинулась мужу на шею…
– Я вернулся, моя ненаглядная. Вернулся, любимая, – крепко прижал ее к себе Филарет. – Теперь навсегда.
Взявшись за руки, патриарх и монашка вошли в Успенский собор, тут же грянувший над их головами праздничным колокольным звоном. Православная Русь наконец-то дождалась возвращения своего первосвятителя!
Остаток дня прошел в благодарственном молитвенном служении, а завершился первым за многие годы праздничным пиром.
Второй и третий дни возвращения патриарх провел наедине с супругой – вестимо, узнавая от нее о положении дел в державе и православной Церкви. На четвертый – явился на заседание Боярской думы, встав рядом с троном все в том же скромном, изношенном одеянии, в каковом вернулся из плена.
– Ты что-то желаешь нам поведать, святитель? – спросил отца царь Михаил Федорович.
– Да, желаю, – степенно кивнул Филарет и обеими руками оперся на посох. – Успел я узнать не все, но очень многое о напастях, с коими вам столько лет приходится сражаться. И вот что я должен вам поведать… Невозможно наполнить казну подаяниями, каковые вы выпрашиваете у Земского собора! Для наведения порядка надобно провести общую перепись земель и людей, ее населяющих. Тем вы избавите от лишних тягот черный люд, вынужденный платить подати и за себя, и за давно сгинувших соседей, и за пашни невозделанные, и ремесла позабытые. Вместо того налоги лягут на трудников, на новые места осевших, делом занятых, но в списках податных неизвестных. Не выходит у вас созывать войско поместное, ибо за время смутное бояре привыкли к вольнице и желают и далее жить по диким нравам польским и казацким. Ну а коли так, надобно создавать войско царское, по образцу стрелецкому, от капризов помещиков независимое и токмо государю послушное! Помещиков же взамен службы мы податью на сие войско обложим.
– Так ведь не по обычаю… – попытался возразить кто-то из бояр, но патриарх спокойно отрезал:
– Не по обычаю государю перечить! Недовольные пусть на Дон бегут, там вольнице самое место. А Русь наша держава православная. Один бог на небе, один царь на земле! Насмотрелся я вдосталь у ляхов на их дикие обычаи. Живут, ровно зверье лесное! Каждый что хочет, то и лает, службы никакой не знают, за копейку мать родную удавят, без войны внешней в стаи сбиваются и дома друг друга грызут. И на Руси нашей, за каковую я пред богом отвечаю, я подобного бесчинства безбожного не допущу!
Боярская дума после столь резкой отповеди притихла, и патриарх продолжил:
– Казна полнится трудом подданных царских! Посему надобно все товары иноземные, подобные тем, каковые наши мануфактуры и мельницы делать способны, податями двойными обложить! Тут и казне доход, и людям кусок хлеба, и благополучие в державе. Неспособен построить великую державу человек малограмотный. Посему все школы и училища, за время смуты забытые, скорейше надобно возродить и сверх того открыть заведения для наук особо сложных, передовых, в коих одаренных детей мудрости новой обучать[13]. И печатный двор надобно отстроить скорейшим образом! Иноземных купцов с рынков и рек наших гнать следует взашей! Нашим же купцам скидки даровать, и на путях торговых остроги новые рубить, дабы делом своим они занимались в безопасности, ремесла везде оживляли и доходы будущие для казны закладывали. Но первым делом надобно мзду во всех делах государевых запретить, дабы стряпчие не о своем прибытке, а о казенном доходе заботились! И дабы отбить привычку к подношениям, предлагаю ныне же приговорить о равном наказании не токмо для слуг, подарки берущим, но и для люда, каковой сии подарки приносит. Пусть тоже боятся с гусями да кошелями в приказные избы соваться! Сии решения самые важные и принять их надобно самыми первыми.
По Боярской думе пробежал вздох облегчения. Наконец-то в этой палате появился тот, кто имеет вразумительный план возрождения разоренной за время смуты державы. Тот, кто знает, что именно нужно делать, к чему стремиться и какие законы принимать – и имеет достаточно воли, дабы воплотить свои решения в жизнь.
После того как заседание закончилось и думные бояре разошлись, патриарх обратился к государю:
– Матушка сказывала, сынок, ты наотрез отказываешься жениться?
– Неправда, отец, – покачал головой царь всея Руси. – Я хочу венчаться. Искренне желаю скорейше обрести любимую супругу. У меня есть невеста, и я женюсь на ней, как только смогу ее вернуть.
– Мария Хлопова? – святитель кивнул. – Марфа рассказала о ней. Лекари признали ее бесплодной. Тебе нельзя жениться на хворой супруге, ты обязан продлить царский род!
– Она здорова, отец!
– Насколько мне ведомо, Михаил, самые лучшие лекари Москвы признали ее больной.
– Вот уже три года она живет в ссылке, отец, и по сей день у нее нет ни единого признака недомогания!
– Мы не можем рисковать благополучием царского дома, сынок. Слишком много горя и крови принесло нам всем бесплодие царицы Ирины, нельзя допустить повторения подобного. Твоя жена должна быть безупречна!
– Моя невеста безупречна, отец! Я знаю, я верю ей. И я ее люблю.
– Но лекари…
– Разве матушка не рассказала тебе, отец, как ломали меня все эти годы митрополиты, игумены, князья и дьяки, Боярская дума и Земский собор полным составом? – повысил голос молодой государь. – Что ни день, то кто-то один, то другой речи о сем заводили! Тебе трудно придумать отговорки, каковые я еще не успел услышать. Но я повторю тебе то же, что и им всем: рабе Божией Марии поклялся я в любви и верности и иную не приму! Не будет вам всем никакой государыни, покуда мне мою любую не вернут!
– Коли так уверен в правоте своей, сын, отчего сам ее за все эти годы не возвратил? Ты же царь!
– И ты туда же, отец… – откинув голову на спинку трона, тяжело вздохнул Михаил. – Я токмо зовусь правителем, хотя все вокруг мне в верности и клянутся. Однако же при всем при том мне никто не подчиняется! Самое большее, что я могу истребовать от слуг своих, так это вина перед сном али пирогов на завтрак. Но едва речь о делах более важных заходит, как все тут же на свой долг ссылаться начинают, на решения Думы, на заботу о делах державных али моем благополучии. Бормочут, бормочут нечто невнятное, однако же никогда ничего не исполняют!
– Ты царь всея Руси! Ты должен был проявить свою волю!
– Покажи мне, как сие делается, отец. Прикажи вернуть мою Марию в Москву!
Патриарх задумался. С горечью покачал головой:
– Прости, сынок. Вестимо, я погорячился.
– Ты о чем, святитель? – наклонился вперед Михаил.
– Увы, но правитель действительно способен приказывать токмо то, что его подданные готовы исполнять, – вздохнул Филарет. – Иначе царь ничего не добьется и лишь потеряет доверие своих слуг.
– Ты не станешь ее возвращать?
– Твоя невеста сослана решением Земского собора и Боярской думы, Михаил. Сослана по причине бесплодия. Все понимают, отчего сие сделано и зачем. Коли я, едва вернувшись из полона, внезапно пойду поперек общего мнения и стану отменять приговоры думные и соборные, то… – Патриарх огладил бородку. – То да, бояре сразу вспомнят, что я есть властитель церковный, а не мирской. И что направленные воеводам или дьякам указы должны иметь все потребные подписи и печати. Что к любой закорючке можно придраться. Правитель не должен отдавать приказы, которые слуги не захотят исполнять. Иначе потом они перестанут слушаться даже верных распоряжений.
– Тогда я останусь неженатым навсегда!
– Ты слишком прямолинеен, Мишенька, – покачал головой патриарх. – Если ты не в силах навязать свою волю прямо, следует идти к своей цели окружным путем. Так, чтобы каждый из твоих шагов не вызывал сопротивления, а конечный результат не показался слугам оскорбительным. Дай мне немного подумать. Мы вернем твою невесту, не потеряв ничьего достоинства.
– Ты не обманываешь меня, отец? – недоверчиво покачал головой Михаил.
– Иди ко мне, сынок, – крепко обнял царя всея Руси патриарх. – Ты не поверишь, но я тоже знаю, что такое любовь. Я не допущу, чтобы ты потерял свою.
* * *
До самой поздней осени патриарх Филарет помогал своему сыну привести в порядок денежные дела державы, поместные и разрядные книги, земельные пожалования и тарханы[14]. Он старательно изыскивал лишние траты и вычеркивал их из казенных расходов, урезал выплаты, сокращал число слуг. Избегая упреков, сам ходил в одной и той же рясе, в каковой вернулся из плена, посылал послушников на торг чинить свою изношенную обувь, ел с оловянной и деревянной посуды, причем мало и скромно.
«Хлеб да калачик на 4 или на 3 деньги, и на 2 деньги клюквы», – сказывали послушники про его трапезы.
Расходы падали, подати после переписи возрастали, казна наконец-то начала пополняться. Разбойный приказ по указанию Боярской думы стал искать не токмо татей, но и мздоимцев, заметно уменьшились жалобы по земельным спорам. Держава наконец-то вздохнула спокойно, и вскоре после Рождества патриарх Филарет решился обратиться к делам духовным. Он оставил хлопоты казенные на попечение юного государя, а сам отправился по исконным православным землям в пасторскую поездку.
Владимир, Муром, Нижний Новгород, Чебоксар, Казань, Лысьва, Соликамск, Тагил… Везде случались радостные встречи, раздача благословений, пышные молебны. Обсуждение мирских дел, судебные разбирательства, подарки и угощения. И снова – долгая дорога по крепко замерзшему льду сибирских рек через неведомые доселе патриарху земли.
Верхотурье оказалось могучей бревенчатой крепостью, стоящей на высоком берегу Туры. Здесь сидел воевода, стояла таможня, имелось множество постоялых дворов, возвышались десятки просторных амбаров, а по всему берегу реки лежали десятки вытянутых на зимовку ладей и стругов; от обрывов под бревенчатыми стенами в ледяной простор тянулось бесчисленное множество причалов – никак не меньше сотни. Сиречь город был портовый, с активным богатым торгом.
Посвятив первый день торжественному молебну, раздаче милостей и делам церковным, на второй патриарх поинтересовался, где томится обрученная невеста его сына? И вскорости в сопровождении изрядной свиты вошел на светлый, недавно выстроенный двор, стоящий примерно в полуверсте от крепости.
Тын высотой в рост человека, спрятанная под белым тесом земля. Хлев, сарай, рубленый дом без подклети в два жилья высотой. Это хозяйство явно предназначалось только для жилья: здесь не имелось ни амбаров для товара, ни сеновалов, ни загонов для скота, ни даже конюшни. Зато – ни мычания, ни блеяния, ни навозного духа. Только шелест ветра да потрескивание стволов близкого густого ельника. Отдыхать здесь было удобно и просторно. Если, конечно, семья не очень велика.
На крыльцо встречать высокого гостя вышли трое хозяев: смуглый, длинноносый и русобородый боярин в овчинном тулупе, наброшенном поверх полотняной рубахи, боярин в меховых шароварах и душегрейке – круглолицый с окладистой бородкой, и девица лет двадцати в дорогом охабне – фигуристая, кареглазая, с точеным личиком, густыми бровями, с длинной толстой косой.
Она была красива. Очень. Настолько, что даже у семидесятилетнего священника застучало сердце.
– Вот, значит, ты какова, Мария свет Ивановна… – проговорил патриарх. – Теперь я понимаю упорство своего сына.
– Благослови меня, отче, ибо я грешна, – склонила голову девушка.
– Давно ли ты была у причастия, раба Божья Мария?
– Ты желаешь меня исповедовать, святитель? – сразу поняла царская избранница. – Это ни к чему. Мне не в чем каяться. Я здорова. Я здорова ныне, была здорова во время смотрин и оставалась здорова до них. Я просто чем-то отравилась, святитель, и потому мучилась в Кремлевском тереме животом. Но все сие вскорости прошло.
– Как может отравиться тот, чью пищу пробует кравчая?
– Я не знаю, святитель. Но я здорова.
Патриарх Филарет подошел ближе и взял ее за руку. Подержал, глядя прямо в глаза, затем отступил и осенил широким крестным знамением.
– Да пребудет с тобою милость Господа нашего Иисуса Христа, раба Божья Мария. Его именем я отпускаю тебе все твои грехи. – Святитель поднял глаза и еще два раза перекрестил крыльцо. – Да пребудет с тобою милость Господа нашего раб Божий Александр, раб Божий Иван… – обратился он к хозяевам.
Затем повернулся, подошел к свите и достаточно громко сказал:
– Странно. Она выглядит вполне здоровой.
Новым утром обоз православного патриарха опять тронулся в путь и к апрелю наконец добрался до Тюмени. Святитель три дня отдыхал в просторном на диво Свято-Троицком монастыре, где строжайше наказал монахам построить наконец в святой обители церковь! И даже оставил на ее возведение вклад в полста рублей.
Затем отправился дальше, еще через неделю наконец-то добравшись до Тобольска, где торжественно провозгласил учреждение новой, Тобольской епархии, каковой надлежит нести слово Божие на земли Сибири – и далее, в новые просторы, всем обитающим в невежестве народам таинственного востока!
Там, в новой духовной столице, патриарха и его свиту застал ледоход. Путникам пришлось полные две недели ждать его окончания. А когда река очистилась, патриарх Филарет со свитой, оставив на кафедре новой епархии архиепископа Киприана, взошел на борт выстеленной коврами ладьи, тут же поднявшей алые паруса, и отправился в далекий обратный путь.
Одиннадцатого июня ладья подвалила к причалу под стенами Верхнетурья. Здесь, в Николаевском монастыре, святитель провел два дня в молитвах и отдыхе, а на третье утро снова заглянул на двор ссыльных поселенцев.
В этот раз царская избранница встретила его во дворе. Мария сидела за столом, перебирая гречневую крупу, и заметила патриарха задолго до того, как тот подошел к воротам:
– Благослови меня, святитель, ибо я грешна, – заученно произнесла девушка, встав и склонив голову.
– В прошлый раз, раба Божия, в тебе имелось куда меньше покаяния, нежели сейчас, – немного удивился патриарх.
– Я стараюсь быть смиренной, святитель, – призналась Мария. – Я говорю себе, что испытала свой глоток счастья, свой миг любви и возвышения и должна быть благодарна судьбе и не желать большего. Но порою… Порою меня охватывает гнев, горькая обида за несправедливые обвинения. В такие минуты я желаю зла… Многим… Я раскаиваюсь в этом, святитель. Я грешна и прошу искупления.
– Коли наказание свое ты несешь без преступления, то обида не является великим грехом. Трижды перед сном читай отче наш. Такой епитимии вполне достаточно. Я отпускаю тебе твои грехи, чадо. Теперь ты чиста пред Богом и людьми.
– Подожди, святитель! – вдруг спохватилась девушка, побежала в дом и вскоре вернулась с деревянной чашей, украшенной снаружи золотой спиралью и самоцветами. – Вот, святитель. Эту чашу сандалового дерева подарила мне матушка Михаила Федоровича, как своей невестке. В знак своего благословения. Но я… Я так и не стала той, кого она желала увидеть. Передай ее обратно матушке Марфе с моей благодарностью и поклоном. Я стану молиться за ее здоровье.
Мария вложила драгоценный сосуд в руки святителя, низко поклонилась и быстрым шагом ушла в дом, пряча от патриарха непрошеные слезы.
Святитель Филарет перекрестил ее спину, вернулся к свите, пожал плечами и снова удивленно произнес:
– Боярышня Хлопова выглядит совершенно здоровой!
В Верхотурье начинался ямской тракт, и потому дальше в Москву патриарх помчался стремительно, как птица, на перекладных лошадях, каковых меняли в его возке на придорожных ямах каждые тридцать верст. И уже первого августа Филарет ступил в свои патриаршие палаты в Чудовом монастыре.
Послушники, понятно, кинулись топить баню, трудники принесли уставшему с дороги первосвященнику хлеб, мед, квас и тонко нарезанную белорыбицу. А вскорости порог патриарших палат переступила и истомившаяся новой разлукой инокиня Марфа. Крепко обняла мужа, чмокнула в обе щеки:
– Наконец-то ты здесь, сердечный мой! Я в одиночестве ужо вся истосковалась. Клялся намедни более не расставаться, а сам тут же на полгода сгинул, ни весточки, ни привета!
– Разве же это «сгинул», Ксюшенька? – улыбнулся патриарх и крепко поцеловал супругу в губы. – Отлучился ненадолго. Чай, не в чужие земли катался, в свои, православные!
Обнимая жену, он отступил к столу, налил себе кваса, утолил жажду и вдруг вспомнил:
– Кстати, лебедушка моя, хочу вопрос один задать, каковой меня всю дорогу мучил. Тебе, насколько я понимаю, Мария Хлопова не по душе с самого начала была?
– Ведьма она, Филарет! – Тотчас блеснули жаром глаза монашки. – Истинно ведьма! Да еще и крамольница! Приворотом сердечко Мишино заморочила, змеюкой в семью нашу заползла. Хорошо хоть, вскрылся заговор сей вовремя…
– Она благодарность тебе прислала и поклон. Благодарность за твое благословение на брак ее и Михаила. И раз уж с семьей не сложилось, подарок твой возвращает…
Святитель Филарет взял со стола деревянную чашу с золотой спиралью и протянул жене.
– Что за чушь? – поморщилась монашка. – Не давала я этой ведьме никаких благословений! И подарков не дарила и вовсе ничего знать про нее не хочу!
– Вот и я подумал, что странно, – кивнул святитель. – На тебя сие непохоже, подарки своим недругам раздавать. Вот токмо откуда тогда взялась эта чаша? Сандаловое дерево, золото, самоцветы… Вещица дорогая, сама собой в руки боярской дочери свалиться не могла.
– Не знаю, милый. Но токмо деревяшку сию впервые вижу. Вспомни мой сердечный, у нас никогда ничего похожего даже до пострига не водилось! А уж после и подавно. Кто же в храме святом или обители христовой мисками деревянными пользоваться станет?
– Именно что так, – вернул чашу на столешницу патриарх. – Не из наших вещей. И не в твоем вкусе. Тогда откуда?
* * *
Третьего сентября первосвятитель Филарет поведал Земскому собору об утверждении новой, Тобольской митрополии и сверх того, вроде бы как вскользь, заметил:
– Будучи в Верхотурье, видел я невесту бывшую Михаила Федоровича. Девка она кровь с молоком, крепка и дородна, а сослана вроде как за хворобость, чему люд тамошний зело поражается. – Патриарх удивленно покачал головой, пригладил бороду и вдруг повысил голос: – Но пуще того позорно, что избранница царская, в семью государеву допущенная, в хоромах верхних проживавшая, в захолустье и скудости томится, ровно воровка рыночная! Как это выходит, что первая дева державы нашей чуть ли не побираться вынуждена при своем царицыном звании?! Нехорошо сие! Срам полный такому унижению! Посему прошу тебя, народ православный, приговорить ныне содержание невесте царской повысить до трех сотен рублей в год, дабы она звание свое высокое нищетой не позорила, да в Нижний Новгород ее перевести и новый сыск по крамоле ее учинить, ибо все странности сии с хворобами и пересылками прояснить желательно. Приговорили?
– Приговорили! – не стал спорить со святителем полный людей Успенский храм.
Патриарх пристукнул посохом и заговорил о печати бесплатных требников для сибирских церквей.
На самом соборе все прошло чинно и спокойно. Но вот сразу по его окончании в Чудов монастырь примчался встревоженный Михаил Федорович и поспешил в покои отца:
– Батюшка, что за новый сыск?! В чем еще ты желаешь Марию мою обвинить?
Патриарх, еще не успевший разоблачиться, жестом погнал послушников, подошел к сыну и на самое ухо прошептал:
– Во-первых, чадо мое любимое, с хлопотами любыми ты не сам должен бегать, а к себе слуг нерадивых для разъяснения вызывать. Ты же государь, а не холоп! Во-вторых, сыск завсегда не для обвинения затевается, а для прояснения истины. Невесту твою он может обвинить, но способен и оправдать. Она ведь, сам сказываешь, невинно оговорена, рази нет? Во-третьих же, коли ты сам сего не заметил, то знай, что по приговору Земского собора невеста твоя Мария Хлопова из ссылки ныне освобождена. И содержание у нее с сего дня не четыре копейки, ако у поломойки дворовой, а триста рублей, ровно у дьяка Земского приказа. Теперь понятно?
– А-а-а… Благодарствую, батюшка, – запоздало произнес царь всея Руси и попятился.
– Остановись, сынок! – вздохнул патриарх. – Я тебе должен задать еще один вопрос. На каковой ты сразу не отвечай, поперва подумай. Отныне с сего самого дня твоя избранница на содержании казенном ни в чем нужды знать не станет. Сладко есть будет, мягко спать, одеваться по-княжески. Все у нее теперича сложится хорошо. Посему коли тебя совесть мучила, что подвел ты ее, обманул, опозорил, то более можешь не тяготиться. Судьба твоей красавицы Марии отныне устроена благополучно. Может статься, во имя интересов державных ты все же согласишься взять себе иную супругу? Нелюбимую, но для связей иноземных полезную? Ступай, Миша, подумай. В сем важном вопросе я полностью полагаюсь на твое благомыслие, мой великий православный государь.
7 мая 1621 года
Москва, Кремль, царские покои
Патриарх Филарет, наконец-то сменивший совсем уж изношенную рясу польского пленника на более свежую, хотя тоже не новую, стоял спиной к окну, опершись на темный высокий посох с резным навершием из слоновой кости, и наблюдал, как царские холопы наряжают его сына к посольскому приему.
– Слышал я, Михаил, вчера ты получил письмо от невесты своей нареченной?
– Кто же это донес? – вскинулся молодой царь, подбородок и верхняя губа которого наконец-то потемнели от пробивающейся бородки и усов.
– Донесли бы, сынок, кабы ты с ссыльной переписывался. – Патриарх поправил нагрудный пасторский крест: тяжелый, золотой, усыпанный самоцветами и потому странно смотрящийся на подвытертом темно-синем сукне. – Ныне же раба Божия Мария из Сибири отпущена, обвинения с нее сняты, и скрывать переписки с нею тебе более незачем. Это всего лишь самое обычное письмо.
– Мария пишет, что добралась наконец до Нижнего Новгорода. Разместилась она там в богатейшем дворце покойного Козьмы Минина, купца тамошнего. Вся в восхищении покоями, опочивальней, угощениями и нарядами и поклон низкий шлет. Благодарность свою выражает, – пересказал послание государь. И добавил: – Спасибо тебе, отец.
– Я рад, что у нее ныне все хорошо, сынок, – степенно кивнул патриарх Филарет. – К сожалению, с державой нашей все не так благостно. Ляхи зубы точат, татары порубежье южное тревожат, казаки разбойничать не перестают. В сем деле нам бы хорошо единение схизматиков безбожных разрушить и королю польскому его планы нового нападения поломать. Ныне, как доносит Посольский приказ, в Дании и Литве принцессы на выданье имеются. Каковы собой неведомо, но ведь с лица не воду пить, не то в них важно. К чадородию пригодны, и ладно. Зато через сии брачные узы мы дворы королевские к себе привяжем и сделаем их к Польше враждебными.
– К чему ты ведешь эти речи, отец? – нахмурился Михаил.
– Ты любишь Марию, сынок, и это хорошо, – подошел ближе патриарх. – Любовь – это дар Божий. Это искра, раскрывающая нашу душу, пробуждающая в нас светлую частицу господа. Ты любишь ее, и ты за нее тревожишься, ты желаешь сделать ее счастливой. Отныне ты можешь быть спокоен. У нее все хорошо. Однако ты не просто смертный, ты помазанник Божий! Помыслы твои должны быть направлены не на свое счастье, а на благополучие державы. Державе же нашей потребен союз с Данией. Либо право на покровительство Литве, в каковой поганые схизматики веру христианскую огнем и мечом истребляют.
– Когда это брачные союзы мешали вражде между державами, отец? – тихо ответил Михаил. – В королевских домах во всех сплошь еретики сидят, о чести и справедливости они даже не ведают. Я лишусь любимой, пользы же царству православному от сего подвига не прибудет! Я много думал над твоими словами, отец. И понял, что супругою своею никого, кроме Марии ненаглядной, видеть не желаю.
– Упрям ты донельзя, сынок, – покачал головою патриарх. – Весь в мать! Что же… Тогда пошли к послам!
Слуги в последний раз оправили оплечье на шее государя, одернули мантию и разошлись, склонившись в глубоком поклоне.
* * *
По странному совпадению в этот же самый день многократный победитель шведов, воевода и окольничий князь Григорий Константинович Волконский, объезжая верхом свои обширные владения близ города Мещовска, что в Смоленской губернии, выехал к стерне, каковую еще только-только распахивал плечистый потный крестьянин, одетый в серую полотняную рубаху, перепоясанную одной лишь пеньковой веревкой, в полотняных же, но крашенных черникой штанах, с лыковыми лаптями на ногах.
Князь Волконский, дав шпоры коню, домчался до пахаря, поехал рядом:
– Бог в помощь, Лука!
– И тебе всех благ, Григорий Константинович, – поклонился от сохи мужик, не прекращая, однако же, работы.
Князь не обиделся, поехал рядом. Он понимал: весенний день целый год кормит, тут каждая минута на счету. Лишний шаг поднятой по весне пашни – это лишний куль хлеба осенью.
Мужчины были чем-то похожи. Оба примерно одного возраста – сильно за пятьдесят, оба желтозубые, с длинными русыми, с проседью бородами, оба смуглые и обветренные лицом, плечистые и высокие, с голубыми глазами и мясистыми носами. Вот токмо один ехал верхом, наряженный в парчовую ферязь, да на драгоценном туркестанце, а другой рыхлил сошником землю, одетый в домотканую посконь[15], и погонял старенькую, низкорослую пегую кобылку.
– За тобой недоимка, Лука, – напомнил князь. – Два возка капусты ты обещался привезти. Ныне уже весна, а оброку за тобою все нет и нет.
– Не уродилась о прошлом годе капуста, Григорий Константинович, – вздохнул пахарь. – Дождей по осени много лило, вот веса и не набрала.
– Ну так малых кочанов набери!
– Дык, Григорий Константинович, два возка большими кочанами, это с полста на возок. А малыми… Это ужо сотнями считать надобно. У меня столько не набралось.
– А ты огород-то шире запахивай! Лошадь у тебя, вижу, еле тянет, сошник местами прогнил. С такой справой, знамо, много не посадишь.
– А где же ее взять, справу-то? Лошадь да железо денег стоят, Григорий Константинович! На моем веку что ни год, то татары грабят, то ляхи грабят, то заморозки али засуха, дожди. Последние годы сплошной неурожай. Самозванцу Шуйскому тягло плати, государю Дмитрию Ивановичу тягло плати, да барщина сверх того, да еще оброк… Откель серебро, Григорий Константинович? Разор сплошной, куда ни посмотри! Простил бы ты мне сей оброк, княже… И без того с хлеба на квас перебиваемся, сами капусты сей зимой не видели. А я, княже, к тебе со всей душой…
Князь Волконский промолчал, смотря на низкие тучи и поглаживая плетью сапог. С одной стороны, пахарь вроде как говорил верно, польская саранча и вправду аккурат через эти земли проходила. С другой – случилось сие аж три года тому назад и на минувшем урожае сказаться никак не могло. Тут Лука явственно привирал.
Однако же сильно давить на крестьянина тоже нельзя. Смерды, они ведь такие… Чуть обиделся: соху и корыто в телегу кинул, бабу с детьми посадил, корову али козу сзади привязал – и укатился, ищи-свищи! Ни барщины тебе никакой, ни оброка. За смутное время многие разбежались. Кто в безопасное Заволочье, кто на плодородный юг, а кто и вовсе в казаки. Разбойничать, оно ведь куда легче, нежели землю пахать! А пашня – она сама по себе доход не приносит, токмо с работником. Каждый крестьянин на вес золота. Но и прощать недоимку себе дороже. Одного пожалеешь – все остальные тотчас того же потребуют.
Пока Григорий Константинович так тягостно размышлял, через уже черную, поднятую пашню пробежала девчушка в синем сарафане да с сереньким, полотняным платком на голове. В руке девочка держала узелок, каковой и протянула пахарю:
– Вот, батюшка! Мама покушать прислала… – и только после этого поклонилась князю: – Здрав будь, боярин!
– Твоя, Лука? – прищурился на девчушку Григорий Константинович. – У тебя ведь вроде как детей шестеро?
– Пятеро, – поправил князя пахарь. Он остановил соху и развернул на ней матерчатый узелок, словно бы случайно показывая землевладельцу свой обед: крынку кваса и пять клубней пареной репы. Однако князь Волконский смотрел на девчушку, перекинувшую вперед через плечо довольно толстую и длинную косу цвета спелого каштана. Юность прекрасна: личико крестьянки казалось очаровательным, глазки блестели, губки были тонко очерчены и имели нежный коралловый оттенок.
– Сколько тебе лет, прелестное дитя? – поинтересовался всадник.
– Это моя вторая, Евдокия, – вместо дочери ответил крестьянин. – Летом тринадцать исполнится.
– Да ты моей Ирине ровесница! – громко хмыкнул князь. – Хотя княжна вроде как повыше ростом уже давно.
– Дай ей бог здоровья, княже, – отпил кваса пахарь и впился крепкими зубами в одну из репок.
– Засиделась она у меня с няньками, Лука, – пропустил его слова мимо ушей Григорий Константинович. – Служанки они, может статься, и хорошие, вот токмо скучно с ними юной девице. Ни поболтать о своем, девчоночьем, ни поделиться, ни помечтать, ни игры веселой не затеять. Я уж давно мыслю, что Ире новая служанка нужна, ровесница. Дабы понимала, чего той хочется, да чего можется, да повеселиться за компанию могла… Однако же все руки не доходили али вспоминал не вовремя. Но девка Ирине в услужение нужна аккурат такая, как твоя Евдокия… – Князь Волконский с силой пристукнул плетью сапог. – Посему вот что я тебе, Лука, предлагаю. Отдай дочку в закуп! Я тебе за нее десять рублей серебром отсыплю да недоимки все разом спишу. Купишь себе коня нового да справу всю обновишь. Еще и на приданое прочим дочерям останется. Так что ты подумай, Лука. И дочерям добро сделаешь, и сам хорошо приподнимешься. Такое мое слово, Лука…
Князь тронул туркестанца пятками и отвернул к дороге.
– Ты ведь не продашь меня, батюшка? – жалобно спросила враз побледневшая девочка.
– Дура ты, Евдокия, – покачал головой пахарь, прихлебывая квас. – Что ждет тебя у меня на дворе? Курная изба еще три года, репа да капуста квашеная каждый день, простыня с наволочкой в приданое да навоз, что постоянно из хлева выгребаешь. Да кусок мяса два раза в месяц на праздники понюхать. Опосля выйдешь замуж за смерда из соседней деревни, переедешь к нему, и будет тебе та же капуста с репой, да навоз в хлеву, да курная изба, каковой ты уже хозяйкой станешь. В холопках же княжеских ты и мясца с рыбкой покушаешь, и бархат поносишь, и на перинках мягких поспишь. Навоз же с копотью токмо в кошмарах ночных вспоминать станешь. Так что даже и не сумневайся, милая моя. Я тебя продам. И Бога моли, чтобы князь про тебя часом не забыл и в служанки брать не передумал!
7 сентября 1622 года
Москва, Чудов монастырь
Гладко бритый, серокожий старик в оранжевой феске и в крытом шелком стеганном халате, сопровождаемый двумя плечистыми молодыми людьми, красочно одетыми в тапочки с высоко задранными носами, в переливчатые шаровары из шерсти с серебряной нитью, в войлочные жилетки и высокие чалмы, добрел наконец-то до дверей православной обители, постоял перед створками, пытаясь отдышаться, вскинул руку и приказал телохранителям:
– Обождите здесь!
После чего прошел вперед, толкнул тесовые двери.
– Мурза Регым Кули? – почтительно поклонился ему пожилой монах в черной рясе. – Святитель ждет тебя, сарацин. Ступай за мной.
По узкой лестнице гость поднялся на второй этаж, вошел в просторную горницу, выстеленную коврами, с обитыми кошмой стенами, со множеством шкафов и сундуков, с большим столом из красного дерева в самом центре. За столом сидел седобородый старец в потрепанной рясе и белом клобуке, занятый чтением каких-то бумаг.
– Гость прибыл, святитель, – поведал инок.
– Хорошо, отец Тихон, – поднял голову старец. – Ступай.
Монах поклонился, вышел наружу, затворил створки.
И губы патриарха тут же растянулись в широкой улыбке.
– Мурза Регым! – развел он руками.
– Боярин Федор! – в точности повторил его жест престарелый сарацин.
Святитель поднялся из-за стола, подошел к гостю и крепко его обнял:
– Сколько лет, сколько зим?!
– Четверть века как один день, боярин! – ответил гость.
– Не называй меня Федором, – отступив, попросил святитель. – Ныне я патриарх церковный, рекомый святителем Филаретом. Могли ли мы подумать тогда на Волге, что я стану главой православного христианства?
– Могли ли мы тогда подумать, друг мой, что я стану первым советником хана хивинского Авгана? – усмехнувшись, пожал плечами хивинский гость.
– Но в чем я точно уверен, дорогой мой мурза, – улыбнулся святитель, – так это в том, что ты все еще пьешь токмо хмельной мед и ничего более!
Патриарх подошел к одному из шкафов, открыл и достал высокую крынку.
– Вчера попросил принести и прибрал, – объяснил он. – Инокам не стоит знать, что православный святитель водит дружбу с сарацинскими правителями.
– С сарацинским послом, – поправил его гость.
– Да, кое-что все-таки остается прежним, – кивнул святитель. – Ты опять посол, я опять встречаю, и мы опять пьем хмельной мед из общей крынки.
Патриарх протянул гостю горшок. Тот принял и с видимым удовольствием сделал несколько больших глотков. Вернул угощение хозяину, и тот тоже выпил. Вместе они вернулись к столу.
– Ну, сказывай, дружище. Как живешь, как семья?
– Вроде неплохо, друг мой, – пожал плечами мурза. – У меня красивая жена, трое сыновей и две дочери. Авган верит мне, как самому себе, и возвысил до первого советника. Что еще нужно мирному человеку, чтобы благополучно встретить старость?
– Одна жена? – удивился святитель. – Разве Коран не дозволяет вам четырех?
– Любовь зла, друг мой. Моя ненаглядная Зульфия пообещала кастрировать меня, если я приведу в дом кого-то еще. И я очень опасаюсь, что мурза Зарив, ее отец, после этого еще и посадит меня на кол. Кочевники плохо понимают Коран, но зело чтут родственные связи.
Святитель рассмеялся, отпил меда, протянул крынку гостю. Тот отпил и поинтересовался:
– А как сложилась твоя судьба, друг мой?
– Если честно, то не знаю, Регым, – пожал плечами патриарх. – Мой сын царь, я глава церкви, моя жена живет в соседнем монастыре. Коли смотреть по месту, то выше, чем я ныне состою, невозможно подняться никому из смертных. Если по желанию… Возможно, если бы я мог спать со своей любимой супругой в одной постели, да рядом с детской, полной юных голосов, то чувствовал бы себя намного лучше. Но жизнь, друг мой, обратно не повернуть. Приходится довольствоваться тем, что есть.
– Сын сидит на троне, ты сам на другом, жена жива и здорова. – Хивинский посол укоризненно покачал головой. – Боюсь, Федор, мало кто в этом мире поймет твои терзания…
За разговором друзья осушили одну крынку, затем вторую, взялись за третью.
– Так зачем ты желал встретиться со мной, мурза Регым? – наконец-то вспомнил и о державных интересах патриарх.
– Смута у нас зреет, дружище, – развел руками сидящий на сундуке посол. – О делах таких напрямую не сказывают, боярин, однако же преданные люди доносят, что братья хана Авгана, Ибар и Абиш, подбивают кочевые племена на восстание и ссылаются на поддержку русского царя.
– Но это ложь!
– Я ответил так же, боярин, – развел руками сарацин. – Но что проку от моих слов?
– Я понял тебя, друг мой, – отставил опустевший кувшин святитель и в задумчивости пригладил бороду. – Если хивинцы не верят твоему слову… Тогда мы направим к хану Авгану царское посольство с заверениями в дружбе и обещаниями любой помощи в трудные годины. Надеюсь, после сего никто не усомнится, кому именно в ваших краях благоволит мой сын.
– Это станет весьма ясным знаком, друг мой, и хорошей поддержкой моему господину. Со своей стороны, в знак нашей благодарности, прошу принять в подарок ладью с лучшей кошмой из кладовых Хивинского ханства! Она уже стоит возле московского причала и ждет твоей воли. – Гость поднялся и с благодарным поклоном прижал ладонь к груди. – Я знал, что мы поймем друг друга, боярин!
– Тесная дружба с Хивинским ханством принесет пользу обеим державам, мурза Регым, – согласно кивнул патриарх.
Сарацин вздохнул:
– Кажется, мы заговорили, как посол и правитель, друг мой.
– Это потому, что мои запасы хмельного меда подошли к концу, мурза, – виновато улыбнулся первосвятитель. – Но я надеюсь, мы видимся не в последний раз?
– Я тоже очень на это надеюсь, друг мой. – Гость подошел ближе к столу и указал на деревянную чашу, обвитую золотой спиралью, уже давно прижившуюся на краю стола. Патриарх не первый год складывал в нее срезанные с грамот печати. – Скажи, боярин Федор, кто подарил тебе сей сосуд?
– Почему ты решил, что это подарок, мурза? – удивился патриарх.
– Потому что такие чаши сам себе никто и никогда не покупает… – Гость перевернул миску и вытряхнул содержимое на стол. Провел пальцем по внутренней стороне: – Ты видишь эти тонкие черные прожилки, боярин? Таковая древесина бывает токмо у одного материала. У анчара, мертвого дерева. Ты можешь его не знать, оно растет лишь в Индии и на юге Хивы. Но уж мы-то помним о нем всегда! Анчар очень ядовит. Листья, сок, яблоки – любые его плоды парализуют человека, коли он проглотил совсем чуть-чуть, и убивают, если съел слишком много. Даже просто попав на кожу, капли его сока оставляют глубокие ожоги. А если сделать из древесины анчара кубок, чашку или тарелку, то яд из этой посуды станет проникать в пищу и убивать своего владельца. Самое глубокое коварство подобных подарков в том, что искать отраву в пище бесполезно. Пища становится ядовитой токмо после того, как ее положат в чашу. Обычно никто даже не понимает, в чем дело. Все едят одно и то же, пьют одно и то же, а мучается животом токмо один. Отравление принимают за болезнь, и зачастую даже лекарство от оной наливают в ядовитый сосуд.
– Анчар… – одними губами прошептал святитель.
– Тебе повезло, что ты не стал из нее кушать, друг мой. Но твой недоброжелатель, раз уж ты уцелел, наверняка попытается найти иной способ лишить тебя жизни. Посему, боярин, вот тебе мой дружеский совет: обязательно вспомни, кто подарил тебе сию чашу и скорейше посади его на кол! Мне не хотелось бы потерять такого хорошего товарища…
С этими словами хивинский посол обнял патриарха, отступил, вежливо поклонился хозяину и покинул покои святителя.
– Анчар… – снова повторил святитель Филарет и медленно сжал кулак. Оглушительно рявкнул: – Ти-ихон!!! Дьяка Разбойного приказа ко мне!
* * *
Сводчатый подвал Чудова монастыря освещали пять масляных светильников и одна жаровня, в которой прогорали толстые дубовые ветки. Одетый в рясу палач, опоясанный кнутом, проверял, как двигается веревка дыбы, подбивая ногой солому. Свежую, желтенькую до нарядности солому, постеленную здесь, дабы впитывала кровь, не давая ей пачкать мощенный известковыми плитами пол.
За столом сидели патриарх Филарет, дьяк Борис Репнин и двое стряпчих, один из которых выставил на стол чернильницу и теперь раскладывал перья и листы бумаги.
– Нам надобно узнать, Борис Александрович, кто принес царской избраннице сию чашу! – поставил на стол злополучный сосуд патриарх. – И почему наши лекари, столь чудесные и всеведающие, не смогли отличить отравление от бесплодия? А еще узнать, кто все это затеял. Кто в нашем дворце есть столь хитрый отравитель и душегуб?!
– Найдем, святитель, не беспокойся.
Первым в подвал привели араба. Тощий смуглый лекарь выглядел спокойным, только легонько дергал головой. Впрочем, доставившие его приставы силу покамест не применяли, общались уважительно, с должным почтением. Мало ли, вдруг самим еще понадобится к Балсырю за помощью обращаться?
– Пиши, – кивнул стряпчему дьяк Разбойного приказа. – По повелению святителя Филарета и в его присутствии я, князь Борис Репнин, провожу сыск по поводу недуга боярской дочери Марии из рода Хлоповых. По делу сему испрашивается лекарь, оную дщерь осмотревший. – Дьяк немного выждал, давая слуге время записать слова, и обратился к подозреваемому: – Ведомо нам, лекарь Балсырь, что тебя первого пригласили для излечения царской избранницы и ты определил ее как неспособную к деторождению. По каковым признакам ты сделал таковой вывод?
Араб, до того с нервным любопытством смотревший на дыбу и на жаровню, резко повернулся и замахал руками:
– Не-ет, не-ет! Невеста царская здорова совершенно, чадородию ее порухи нет! Мыслю я, сластей она излишне наелась, и оттого рвота у нее случилась и боли живота. Кабы она просто воду пила и скоромную кашу кушала, за два дня болезнь закончилась бы, следа никакого не оставив.
Патриарх и дьяк переглянулись, и князь Репин удивленно переспросил:
– Ты нашел невесту здоровой, Балсырь?
– Не совсем здоровой, нет, – мотнул головой араб. – Но лечения никакого ей не надобно. Сиречь было не надобно, когда осматривал. Токмо покой, питье и пресная пища. Рис, пшено, греча.
– Кому ты о сем сказывал?
– Старшему боярину по болезням… – потер лоб лекарь. – С бородой рыжей…
– Князь Салтыков?
– Верно! – обрадовался араб. – Окольничий Михайло Салтыков!
Святитель и дьяк переглянулись снова.
– Ты записал? – спохватившись, спросил у стряпчего Борис Александрович.
– В точности, княже! – уверил тот.
– Благодарю за помощь, лекарь Балсырь, – поднялся святитель со своего места. – Мы просим тебя о сем разговоре никому ничего не сказывать. Вестимо, нам придется очную ставку проводить. Нехорошо выйдет, коли подозреваемый сможет к ней подготовиться.
– Я всегда рад помочь праведному суду, – с хорошо заметным облегчением поклонился араб.
Патриарх взял со стола чашу, подошел к нему.
– Анчар! – многоопытный лекарь понял все с первого взгляда. – Ее подарили невесте? Коварно… Тот, кто отправил избранницу в ссылку, спас ей жизнь.
– Почему?
– Анчар не убивает сразу, святитель. Такая чаша травит по чуть-чуть. Каждый раз в еду проникает совсем немножко яда. В горячую и жидкую больше, в холодную меньше. Нужна неделя али две, даже три, дабы накопить… Смертельное количество. Ссыльные не едят с золотой посуды. Как только девицу потащили на возок, она перестала получать яд.
– Благодарю тебя, Балсырь, – широко перекрестился патриарх. – Да пребудет с тобою милость Господа нашего, Иисуса Христа!
Араб вздрогнул, кашлянул, но предпочел промолчать.
– Проводите нашего гостя до его дома, – распорядился святитель и вернулся к столу.
– Балсырь сказал что-то еще? – поинтересовался Борис Александрович, заметивший перемену в настроении патриарха.
– Матушке Марфе очень не нравилась избранница моего сына, – опустился обратно за стол святитель Филарет. – Посему она поспешила сослать ее при первых же признаках хвори. И тем спасла… Выходит, моя жена про анчар ничего не ведала. Это не она!
Святитель поставил чашу на стол, еще раз облегченно вздохнул, перекрестился и приказал:
– Пусть позовут схизматика!
Похожий на одуванчика лекарь Валентин – тонкие ножки в суконных чулках и пухлое тело в коротком плаще, – увидев дыбу и жаровню, тут же побледнел и стал постоянно часто сглатывать.
– Ведомо нам, лекарь Валентин, что ты был приглашен для излечения царской избранницы и определил ее как неспособную к деторождению, – спокойно зачитал с листа князь Борис Александрович. – По каковым признакам ты сделал таковой вывод?
– Нихт, найн! – замотал головой немец. – Я есмь нашел печеночную желтуху! Немного лечения, и она исцелилась! Чадородие хорошо, желудочные болячки деторождению не мешают!
– Кому ты о сем поведал?
– Э-э-э… Князь Салтыков, Михаил! – торопливо погладил себя по животу лекарь. – Они есть… Заплатил и забрал лекарство!
Святитель подманил свободного стряпчего, указал на чашу. Служитель взял ее, отнес к немцу.
– Что?! – не понял тот.
Патриарх Филарет догадался, что немец не имеет об анчаре ни малейшего представления, и кивнул стряпчему, дабы тот вернул главную улику на место.
– Не рассказывай никому о сем допросе, лекарь Валентин. Ты понадобишься Разбойному приказу для очной ставки, – сказал ему князь Репнин и вытянул руку к приставам: – Проводите немца до его дома!
– Коли лекари не сговорились, – задумчиво проговорил святитель Филарет, – то ответ мы уже нашли. Вестимо, Балсырь и Валентин сказали Салтыкову, что раба Божья Мария почти здорова, хворь мала и скоро исчезнет. Но всем прочим боярам Михаил Михайлович отчего-то поведал, что невеста для чадородия непригодна. Выходит, он и есть главный заговорщик. Посылай за ним стражу. Посмотрим, признается али нет?
– Кабы он не солгал, святитель, Мария Ивановна осталась бы в тереме и продолжила кушать из этой чаши, – погладил лежащий перед ним опросник дьяк Разбойного приказа.
– Она бы пила лекарство из этого самого сосуда… – задумчиво согласился патриарх. – И могла умереть. Выходит, Михаил Салтыков тоже ничего не подозревал про ядовитую миску? Тогда у нас открывается сразу два заговора вместо одного. Отравление и измена. Что же, княже, давай разбираться…
* * *
Обстоятельный сыск не бывает быстрым.
Поперва вызванный на допрос князь Михаил Салтыков свою вину отрицал, но после очных ставок покаялся.
Однако же очные ставки выявили, что Борис Михайлович тоже знал об обмане – лекарь Валентин вспомнил, что сказывал о печеночной желтухе и ему.
Вызванный для допроса князь Борис Салтыков неожиданно взял всю вину на себя. Поведал дьяку Разбойного приказа и святителю о случившейся с боярским сыном Иваном Хлоповым ссоре, после которой он воспылал ко всей семье Хлоповых лютой ненавистью и решил изжить царскую избранницу.
Правда, старательно оговаривая себя и выгораживая родичей, он даже не подозревал, как именно на самом деле отравили Марию Ивановну. Несмотря на осторожные намеки следователей, взять на себя вину за появление в покоях невесты чаши из анчара князь Салтыков не догадался. Выходит, просто ничего о ней не знал.
На сем стало ясно, что вдвоем патриарху и князю Репнину с разбирательством не справиться, ибо многие свидетели и участники открывшегося заговора находились ныне в разных местах. Иван Хлопов сидел воеводой в Вологде. Бояре Желябужские находились под надзором в Нижнем Новгороде. Сторожившие терем рынды успели выслужиться в воеводы и теперь охраняли порубежье. Посему после предварительного доклада дьяка Разбойного приказа Боярская дума учредила следственную комиссию под рукой боярина Федора Ивановича Шереметева, каковая и повела сыскное дело далее…
* * *
Между тем жизнь текла своим чередом.
Верный своему слову, патриарх Филарет снарядил в Хиву большое посольство во главе с боярином Иваном Даниловичем Хохловым. Увы, оно опоздало. Вскорости из заволжских степей в Москву хлынули многие сотни беженцев, в числе которых оказался и сам хивинский хан Авган. Свергнутый братьями, беглец бил челом царю Михаилу Федоровичу и просил у Москвы ратных людей, дабы свергнуть заговорщиков. Взамен он обещал навсегда остаться со всем своим владением – Хивинским ханством – в российском подданстве.
Таковое обещание сильно прельстило как юного государя, так и Боярскую думу – расширение границ обещало быть великим, затраты же небольшими. Однако патриарх, не найдя среди беженцев своего друга, утратил к сему делу всякий интерес, и спасения свергнутого хана так и не случилось.
Государь Михаил Федорович наконец-то смог добиться своего: Посольский приказ начал доставлять ему новостную газету, «Вестовые письма», каковую стряпчие составляли теперь не когда придется, а каждую неделю.
Из сей газеты всему двору стало известно, что в странах западных бушует война всех против всех и непонятно ради чего[16], а Польша начала новую ратную кампанию против Османской империи, в каковой в ходе восстания янычар был убит молодой султан Осман; и еще много чего интересного.
Персидский шах ради поддержания дружбы с северным соседом прислал в Москву кусочек от ризы господней, каковую патриарх велел поместить в Успенском соборе на общее обозрение.
На патриаршем подворье наконец-то заработала новая типография, сотнями штук печатая правленые богослужебные книги и «месячные минеи». В Москве все эти книги продавались, в Сибирь отсылались бесплатно.
На Фроловской башне заместо старых, порченных поляками часов мастера установили новые, современные, на два циферблата и тринадцать колоколов.
Князь Волконский с семьей и челядью впервые после Смуты переехал в Москву, ставшую ныне спокойной и мирной, безопасной для своих обитателей. Переехал бы и раньше – но пришлось ждать целых два года, пока на месте разоренного в ходе осады подворья, находившегося в Земляном городе, каменщики сложат добротный кирпичный дом новомодного, сказочного вида. Раз уж все равно строиться приходилось, так нужно сделать сие достойно, богато, всем прочим родам на зависть!
Вместе с его младшей дочерью прибыла в столицу и дворовая девка Евдокия. Будучи в личных служанках княжны Ирины, она расчесывала пятнадцатилетней хозяйке волосы и заплетала косы, румянила и украшала, одевала ее и раздевала, спала в ногах или в соседней комнате, готовая примчаться по первому зову и дать попить воды, взбить подушку али вынести горшок. Перебирала наряды, дабы не слежались и не заплесневели, стелила постель, выслушивала капризы и жалобы, иногда их выполняя, а иногда просто терпя. Доедала объедки со стола, донашивала господские рубашки и сарафаны.
И тут старый Лука по прозвищу Стрешнев оказался прав. Объедки княжны были то бужениной, то заливным, то семгой, то белорыбицей; обноски – сплошь ситец тончайший, иной с заморскими кружевами, а порою и вовсе шелк. Платья – бархат да кашемир, парча и меха. Таковых яств Евдокия в доме своем отродясь не пробовала, таких нарядов отродясь не носила!
А что ради сего удовольствия приходилось крики хозяйские слушать да ночами в опочивальню прибегать – так оно всяко легче, нежели навоз из хлева морозными вечерами выгребать али по десятку ведер воды от колодца в избу носить. Посему холопка закупная ни на что и никогда не роптала, любые капризы хозяйки исполняла старательно, а несправедливые наказания принимала с полным христианским смирением…
20 октября 1623 года
Москва, Кремль, Малая Думная палата
Где-то в подклетях истопники именно в сей час прокалили печи, и от сделанных понизу вдоль самого пола продыхов слабо дрожащим маревом поднимался горячий воздух. Думные бояре, оказавшиеся аккурат над сими отверстиями в своих богатых шубах, надетых поверх опушенных соболями и песцами ферязей, в меховых папахах, недовольно ерзали и крутились, но сделать ничего не могли. Не убежишь же прочь со своего места, за которое не токмо сам, но еще и все предки несколько поколений боролись…
Между тем жар, поднимаясь от продыхов, забирался им под шубы, просачивался под подолы ферязей, в рукава, струился из-под воротников, шевелил волосы в бородах, и от нестерпимого зноя всегда хмурые, а в большинстве пожилые, морщинистые и бледные бояре буквально на глазах зарумянивались, распрямлялись, разворачивали плечи, широко раскрывали глаза, начинали дышать глубоко и часто, кожа на лицах расправлялась, свежела и покрывалась капельками пота.
Тем временем стоящий возле трона стряпчий продолжал и продолжал читать приговор следственной комиссии:
– …а слова князя Бориса о ссоре с боярским сыном Хлоповым подтверждения не нашли, а дщерь боярская Мария за давностью лет описать монашку сию не смогла и опознать не в силах, однако же рынды, терем сторожившие, окромя инокини Евникии, никого припомнить не смогли, из чего сыск учиненный к таковым выводам пришел… Салтыковы Борис и Михаил вкупе с матерью своей в постриге инокиней Евникией по своему желанию и разумению затеяли оболгать в бесплодии девицу Марию, невестой царской нареченною, и ради того неверные приговоры лекарей на суд Думы боярской и Земского собора представили! – стряпчий отпустил длинный свиток и наконец-то перевел дух.
– Исходя из сыска, проведенного боярином Федором Ивановичем со всем надлежащим тщанием, – выступил вперед патриарх Филарет, – предлагаю вам, бояре, таковой приговор… Братьев Салтыковых за учиненную ими измену, за наветы и обиды, царю и его избраннице причиненные, сослать обоих из Москвы в самые дальние вотчины без мест и имущества на вечное изгнание! Рабу Божию Марию по всем подозрениям, в коих она обвинялась, оправдать, признать здоровой и чадородной, пригодной для царского венца и вернуть в Москву! Что скажете, бояре?
– А как же Евникия? – спросил один из бояр.
– Евникия схимница, я ее своей волей в Суздальский монастырь отправил, на покаяние, – ответил святитель. – Так как, приговариваем, бояре? Салтыковых сослать, Хлопову оправдать? Али иные мысли у кого имеются?
– Нет других мыслей, святитель! – поднялся со своего места князь Григорий Волконский и быстро-быстро отошел от продыха. – Изменников в ссылку, страдалицу в Москву. Приговорили!
– Приговорили, приговорили! – вслед за ним поспешили подняться со скамей и выйти вперед остальные бояре. – Быть посему!
– Быть посему! – согласно пристукнул посохом патриарх, утверждая общий приговор.
Заседание окончилось, князья и дьяки потянулись к дверям, государь вышел в другую, дождался первосвятителя и кинулся к нему на шею:
– Спасибо, отец! Спасибо, спасибо, спасибо! Все, я побежал! Напишу Марии, чтобы возвращалась! Наконец-то мы сможем пожениться!
Забыв про всякую солидность, царь всея Руси промчался через коридоры, влетел в свои покои – и резко замер, увидев стоящую у окна монахиню:
– Матушка?
– Ты что же это, Мишенька, решил ведьму в мой дом возвернуть? – повернулась к нему мрачная, даже лицом почерневшая послушница.
– Какую ведьму, матушка? – растерялся государь.
– Машку Хлопову! – повысила голос инокиня. – Она ведьма, порчу на тебя напустила, разум запутала. Чародейством бесовским в семью царскую забраться захотела, худородка! Но не бывать такому, я не попущу! Проклятая девка останется проклятой, и в Москву ей ходу нет! – Глаза монашки горели, голос задрожал от ярости.
– Матушка, ее оправдали… – попытался объяснить Михаил, но инокиня его перебила:
– Ее от болячек телесных оправдали, а ведовство при ней навсегда останется!
– Нет никакого колдовства, матушка! Она просто девица – ласковая, добрая да пригожая…
– Голову она тебе заморочила! – Монашка ткнула пальцем царю в лицо. – Отравила, заворожила, запутала! Как она до тебя добралась, ты сам не свой стал. Я ведь тебе велела княжну Мстиславскую выбрать, а ты что натворил?! Про меня забыл, советов не испрашивал, дела государственные забросил, гулянья да веселье затевать начал!
– Какое веселье, мама?! – мотнул головой правитель державы.
– А кто в лавру катался и пиры устраивал?! Отец твой в неволе, у нехристей в лапах томился, а вы тут веселились да развлекались!
– Мы отправились в паломничество, молиться!
– С пирами да скачками?
– Но нам же нужно было кушать, мама!
– Во-от, во-от. – В этот раз палец уткнулся царю в грудь. – Ты опять ее защищаешь! Оправдываешь! Заморочила она тебя, запутала, отравила! Ведьма!
– Матушка, не выдумывай! Мария есмь самая-самая обычная девица. Я люблю ее и вскорости с нею обвенчаюсь.
– Даже думать забудь! – сжала кулаки монашка. – Я запрещаю тебе! Я тебя прокляну!
– Мама, ты меня слышишь?! – теряя терпение, повысил голос царь. – Я ее люблю! Я хочу на ней жениться! Она по всем подозрениям оправдана и совершенно чиста! Когда она вернется в Москву, мы сразу с ней обвенчаемся!
– Не смей! Даже думать не смей о подобном! Я тебя ведьме в лапы не отдам!
– Она не ведьма, мама!
– Подлая мерзкая худородная чародейка! – зло оскалилась монашка. – Коли ее нога в Кремль хоть один раз ступит, то Богом клянусь, я оставлю этот дом, этот город и из державы твоей сбегу напрочь! Лучше я в диких землях скитаться среди схизматиков пойду, подаяниями жить стану, в хлевах на соломе спать и милостыню просить, нежели во власти твоей проклятой останусь! Богом клянусь, коли ты меня и веру христову на ведьму променяешь, то уйду я и более ты меня до конца жизни не увидишь! И пусть послы твои королям объясняют, отчего царская мать на чужбине в нищете скитается! Таковое есть мое для тебя материнское слово!
Монашка вышла из царских покоев, громко хлопнув дверью и оставив правителя величайшей державы в некотором оцепенении.
Вошедший сюда спустя два часа святитель Филарет застал сына у стола, сидящим перед чистым листом бумаги с пером в руке.
– Я вижу, матушка здесь уже побывала… – покачал головой патриарх.
– За что она так ненавидит Марию, отец? – пробормотал Михаил. – Неужели только потому, что я выбрал ее, а не княжну Мстиславскую? Но ведь это сделал я, а не она!
– Чужая душа потемки, сынок, – вздохнул святитель.
– Поговори с нею, отец, объясни!
– Я уже пытался, сынок, – покачал головой патриарх. – Мне жаль, но Марфа твердо стоит на своем. Сказывает, коли ты женишься на Марии, она уйдет к ляхам нищенствовать и побираться.
– Но ведь ты первосвятитель, а она монашка! Прикажи ей!
– Ты недооцениваешь своей матушки, Михаил, – усмехнулся святитель. – Она умеет настоять на своем. За это я ее и полюбил. Не токмо за сие, конечно… Но да… Добиваться своего она умеет.
– Что ты хочешь этим сказать, отец?
– Насколько я ее знаю, сынок, свое обещание Ксения исполнит. Прости, Миша, но тебе придется выбирать между двумя любимыми женщинами. Между любимой матушкой и любимой невестой.
– Но почему, почему?! – бросил перо государь. – Зачем она так поступает?!
– Я никогда не мог предугадать ее поступков, – слабо улыбнулся патриарх, словно бы вспоминая что-то приятное. – Она умеет находить неожиданные… Пути…
– Можно приставить к ней стражу!
– Борис Годунов тоже так думал, – теперь уже открыто засмеялся святитель. – Приставы сгинули, Бориска вслед за ними. Сгинул со своею женой и всеми своими наследниками.
– Но ведь матушка не станет свергать своего собственного сына?!
– Но ведь и сын не станет брать под стражу родную мать, – пожал плечами святитель.
– Ты ее боишься, отец? – пристально посмотрел на отца царь всея Руси.
– Я ее люблю, Миша. Я ее люблю больше жизни, она для меня дороже злата, дороже свободы, дороже моего места и звания. Или ты полагаешь, я женился на твоей матушке из корысти али по принуждению? Не было за ней ничего, окромя ясных глаз, доброй улыбки да задорного характера! Любил, люблю и буду любить вечно.
– Я тоже люблю, отец!
– Я понимаю, сынок. – Святитель подошел ближе и погладил царя по голове. – Но я не могу выбирать между тобой и Марфой. Вы оба дороги мне одинаково. Посему я доверюсь тебе. Кого ты любишь сильнее, Михаил, свою невесту Марию или свою мать?
Молодой государь покрутил перо в руках, бросил на стол, оскалился и схватился руками за голову:
– Я не знаю, отец! Я не знаю! Может статься, нам стоит немного подождать? День, два или неделю. Глядишь, вскорости матушка остынет и ее удастся уговорить?
20 октября 1625 года
Москва, Кремль, царские покои
Государь Михаил Федорович сидел за столом перед чистым листом бумаги и в задумчивости крутил в пальцах гусиное перо. Одет он был по-домашнему: синяя шелковая рубашка, темные бархатные штаны. Тафья самая обычная, шерстяная с вышивкой, русая бородка стрижена на длину ладони, усы тоже подровнены.
За спиной царя всея Руси возвышался патриарх – в синей рясе, белом клобуке с золотыми образами на плечах, с золотым нательным крестом и темным посохом с резным навершием.
– Тебе тридцать лет, сын! Тридцать лет, а ты все еще не женат! – отчитывал царя всея Руси первосвятитель. – Сие больше не вопрос любви! Это вопрос безопасности державы. Царствию требуется наследник, наследник! Будущий царь, в праве которого на престол не усомнится ни один человек! Хватит уже с России смуты! Я не допущу повторения прежних напастей!
– Однако матушка до сих пор стоит на своем!
– И поэтому теперича выбирать придется мне! – громко отрезал патриарх Филарет. – Слушай меня внимательно, сынок. Ты соглашаешься на новые смотрины невест и выбираешь себе супругу, а я в утешение удвою содержание твоей ненаглядной Марии, и она проживет свой век в покое и достатке. Либо… Либо я прикажу постричь ее в монастырь, и она закончит свои годы в темной холодной келье захудалого монастыря!
– Почему, отец?! – поднялся и развернулся к святителю Михаил. – Почему она должна страдать из-за капризов моей матери?!
– Потому что ты думал слишком долго, мой сын! – наклонился вперед патриарх, глядя государю в глаза. – Ныне я ужо не совершаю выбора между своей любимой и твоей! Ныне я объявляю тебе Божью волю! Православной державе нужен наследник! Это значит, что царь должен жениться на молодой и здоровой супруге, способной к чадородию!
– Мария здорова!
– Была-а здорова, сын! – повысил голос святитель. – Была здорова десять лет назад! Но ты думал слишком долго. Тебе уже тридцать, ей скоро тоже исполнится столько же. Годы не делают женщин сильнее и здоровее. Ты ждал слишком долго…
Патриарх Филарет отошел к окну, развернулся и ударил посохом об пол:
– Ныне я говорю с тобою не как отец с сыном, а как первосвященник Господа нашего Иисуса Христа с помазанником православной державы. И именем Божьим я требую, чтобы ты избрал себе супругу! Во исполнение заветов Господа и на благо нашей державы!
– Я выбираю Марию!
– Если только ты сможешь вернуть ей юность, государь Михаил Федорович! – твердо отрезал патриарх. – Коли ты не способен сам принять на себя крест властителя Руси, я сделаю это за тебя и постригу Марию в монастырь, дабы избавить тебя от соблазнов! Мы больше не говорим о капризах твоей матери или твоих чувствах, мы говорим об интересах державы! Ты обязан жениться и родить наследника! Однако ты все еще можешь решить судьбу своей любимой. Ты как предпочитаешь, чтобы она прожила остаток дней? В миру и богатстве или в схиме и аскезе? Отвечай!
– Хорошо, отец… – сломался Михаил, тяжело сглотнул и опустил голову. – Я ее отпущу. Пусть живет в миру. Бог милостив, а судьба переменчива. Может статься…
Но на что он надеется, царь всея Руси так и не договорил.
– Вот и хорошо, – облегченно перекрестился первосвятитель. – Ты поступил правильно, сынок. Я сегодня же объявлю о новых невестиных смотринах!
Отец государя перекрестился еще раз и вышел из царских покоев.
* * *
Стряпчие всего за двое суток размножили указ патриарха Филарета, и уже через три дня во все концы необъятной Руси помчались стремительные гонцы с будоражащей юных девиц вестью: великий государь задумал жениться! Ищет невесту во всех православных землях! Чтобы здоровая была, молодая и красивая! Чтобы тело – без изъянов, и возраст – не старше восемнадцати. А отобрать среди местных красавиц самых лучших надлежало воеводам и повитухам. Избранниц в города уездные отослать, там лучших из лучших выбрать и ко двору царскому до Крещения доставить!
Закипели в городах и провинциях страсти – поди пойми, кто средь девок самая красивая, а кто просто хорошенькая! У каждого человека свой вкус – каковой вдобавок тяжелый кошелек с серебром запросто изменить способен.
Красавицы чернили глаза, малевали свеклою щеки, заплетали в косы конские волосы, подкладывали вату на грудь и войлок на бедра, а повитухи сии хитрости с легкостью отметали, ибо осматривали невест обнаженными и со всем тщанием. Крупные родинки – отчисляли, узкие бедра – отчисляли, коса тощая – отчисляли, зубы кривые или желтые – какая же ты невеста?!
Многие родичи пытались подкупать и знахарок, но что толку, коли с каждым шагом на всех ступенях отбора все новые, совсем другие повитухи появляются?
Из многих тысяч избранниц, пришедших в местные монастыри и приказные избы, в уездные города поехали всего несколько сотен, а из уездных городов в Москву – всего лишь сто двадцать красавиц, каковым надлежало пройти строгий отбор многоопытных монахинь Вознесенского монастыря…
9 февраля 1626 года
Москва, подворье князей Волконских
Высокий комод. Зеркало в роговой оправе, две лаковые шкатулки слева от нее, вышитый бисером кошель между поднятыми крышками. Справа – черепаховый гребень и несколько заколок в серебряном стакане, два серебряных подсвечника с высокими, но сейчас потушенными свечами и чашечка с ароматическим маслом, пахнущим можжевельником и лавандой.
В зеркале отражалось миловидное, румяное и щекастое лицо. Настолько щекастое, что голубые глаза буквально тонули в ямочках под густыми золотистыми бровями.
– Осторожно, дура! Руки-крюки, все волосы повырывала! – оскалившись, рявкнула красавица.
– Прощения просим, Ирина Григорьевна, – прошептала стоящая за ней тонкогубая синеглазая служанка. – Больше не повторится…
Евдокия не обижалась на хозяйку. Ведь княжне, бедненькой, пришлось сутки пролежать в перине под толстым ватным одеялом, кушая токмо жирную гусиную печень, и уже два дня постоянно выпивая по стопочке хлебного вина каждый час. Девичье тело порозовело и раздобрело, черты округлились – однако же за красоту княжне пришлось расплачиваться головной болью и тошнотой. Каждое движение приносило прелестнице неимоверное мучение, толчки и рывки – настоящую боль. Посему холопка лишь отдернула на миг руки, после чего снова продолжила плетение косы, осторожно закручивая в сиреневую ленту шелковый шнурок.
Маленькая, но безопасная хитрость: вместо добавления конских волос спрятать в волосы толстую ленту. Коса станет казаться пухлее – но и обмана вроде как нет.
– У меня коричневые соски… – пробормотала княжна. – А для красоты должны быть розовые. Или красные… Авдотья, у тебя какие?
Девушка пошевелила губами, затем тихо сказала:
– Свеклой поправить можно.
– Так рубашка сотрет!
– Перед осмотром подкрасить, княжна, – осторожно перекладывая пряди, предложила служанка. – Я могу с собою взять, в своем кошеле.
– Хорошо… – решила Ирина Григорьевна. – Возьми. Только маленькую, дабы не заметили!
– Как прикажешь, княжна… – закончила плетение холопка, сделала двойной бантик и вколола в него брошку с самоцветом.
– Неси… – Ирина Григорьевна медленно поднялась, вскинула руки.
Служанка надела на нее шелковую рубаху, сапожки, затем сарафан и опоясала наборной янтарной цепочкой под грудью, стараясь поднять тяжелые перси повыше.
– Сама спущусь, за свеклой беги, – махнула на нее рукой княжна, и холопка послушно сорвалась с места, не забыв, однако, по пути дернуть из-за сундука у двери синий с желтыми шнурами зипун, отданный ей после того, как на боку обнаружились крупные подпалины. Пришлось сделать туда заплаты из старых порток. Но заплаты получились аккуратные, ромбиками – ворот же и опушка зипуна остались куньими, дорогими. И выглядела в нем холопка богато, ако боярская дочка!
На улицу Евдокия поспела аккурат к тому моменту, когда к крыльцу подъехали сани. На сиденье степенно опустились княжна и ее дородная тетка Агриппина, служанка запрыгнула на облучок – и возок выкатил за ворота, через полчаса остановившись возле тянущегося за торгом рва. В Кремль верховых и ездовых, известное дело, не пускают – посему здесь Ирине Григорьевне и ее свите пришлось спешиться и пройти через мост во Фроловские ворота пешком…
Княжна Ирина Волконская, понятно, на деревенских и уездных выборах не показывалась: как девица знатная, московская, она явилась сразу на главные смотрины. Но дальше даже ей пришлось пробиваться на общих основаниях. Донага раздеваться в многолюдной трапезной, прятаться от соседок, позволяя холопке подкрашивать соски облизанной свеклой, и дожидаться, пока здешние монашки ее вызовут и уведут куда-то в темные коридоры.
Холопка, оставшаяся с вещами у стола, даже порадовалась, что ей все эти муки не грозят. Не нужно пить, не нужно валяться целыми днями под одеялом в жарко натопленной опочивальне и давиться гусиным жиром. Не нужно бегать голой по монастырю, красить соски и бояться, что не окажешься в числе избранниц… Хотя понятно, что среди такой толпы писаных красавиц простой княжне удостоиться царского взгляда никак невозможно. Ведь заметным благолепием Ирина не блистала. И грудь невелика, и живот впалый, и ножки тощие, и щеки незаметные. Не такие, знамо, как у самой холопки, но без водки и вовсе бы не округлились…
Ирина Григорьевна вернулась неожиданно быстро, поспешно накинула охабень – причем сама! Поежилась и спросила:
– Ты символ веры помнишь?
– А-а? – растерялась служанка.
– Да где тебе… – отмахнулась княжна и глубоко вздохнула. – Надеюсь, я ничего не перепутала… Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли… Верно, да? Только бы я не напутала!
– А соски не стерлись? – спросила холопка о более понятной вещи.
– Не, к ним не притронулись, – мотнула головой княжна. – Токмо посмотрели. И за косу дернули… Ведьмы… Больно!
Ирина Григорьевна вытянула шею, глядя в коридор:
– Чё-то тетка не идет… Ладно, давай одеваться!
Евдокия послушно развернула рубашку, встряхнула, стала натягивать ее на хозяйку. Рубашку, сарафан…
– Без изъянов! – выпалила тетка, подбежав неожиданной для своего возраста и веса трусцой. – Без изъянов, деточка, без изъянов!!!
– Да, да! – радостно воскликнула княжна и кинулась обниматься: с теткой, с холопкой, на радостях даже удостоив Евдокию поцелуем. Потом позволила себя опоясать, накинуть охабень и, гордо вскинув подбородок, направилась к выходу.
До царских смотрин оставалось еще шесть дней, но она уже попала в число избранниц!
Она почти что стала новой русской царицей!
До престола оставался всего один, совсем маленький шажок!
* * *
– Зачем ты спрашиваешь у всех девиц символ веры, матушка? – спросила в келье выше этажом инокиня Антония. – Они же не принимают постриг. Даже среди наших послушниц не все ведают про такие… сложности.
– Моему сыну не нужны безграмотные куклы! – отрезала инокиня Марфа. – Супруга православного государя должна быть тверда в вере. И к тому же… Ни одна чародейка не способна прочитать христианской молитвы. Один раз я ужо попустила ведьму к своему сыну. Больше сего я никому не позволю!
15 февраля 1626 года
Москва, подворье князей Волконских
Ради такого события отец заказал для княжны Ирины все новое, причем самое лучшее и дорогое. Новую шелковую рубашку, легкую, искрящуюся и шелестящую, каковую Евдокия с некоторым даже внутренним восторгом надела на голое тело… Не на свое, разумеется, – облачила в драгоценную ткань знатную хозяйку. Сама как была в сатиновом исподнем с обтрепанным подолом, так и осталась. Сверху осторожно опустила юбки столь же нового сарафана.
Оный для смотрин сшили у немецкого портного – из парчи, бархата и заморского вельвета. Наряд роскоши неописуемой: подол голубой, в цвет Ириных глаз, по поясу полоска рысьего меха, а выше до плеч – парча персидская, с золотой нитью и тончайшей вышивкой бабочками. Рукава тоже голубые, мелким рубчиком, с опушкой по самому краю. Шею красавицы окутывал соболий мех, под которым рассыпался крупный радужный жемчуг, нашитый прямо на ткань.
Помимо жемчуга, пришитого к платью, на шею княжны легло сразу несколько перламутровых ниток в ожерельях, и сверх того жемчужные серьги повисли на ушах, да еще длинный накосник из переливчатых шариков холопка вплела княжне в волосы: так и коса толще, и украшение яркое.
Кокошник надо лбом поднялся черепаховый, резной, с самоцветами и позолотой, да еще и с бисерными нитями по нижнему краю. Сверху упала почти невидимая небесно-голубая кисея.
И стала Ирина Григорьевна красавицей – просто глаз не отвести!
Холопка ее, кстати, замарашкой тоже не смотрелась. Евдокия носила прошлогодний сарафан хозяйки – тоже парчовый с бархатом да с собольей опушкой. Причем нигде не порченный – Ирине он просто надоел. Правда, ожерелья и кокошник холопки были бисерные, самодельные. Откуда простой девке самоцветами-то разжиться?
– Перстни! – вскинула ладони хозяйка, и служанка торопливо надела Ирине на пальцы последние украшения.
Княжна поднялась, покрутилась перед зеркалом и решительно кивнула:
– Едем!
В волнении перед царскими смотринами Ирина Григорьевна начисто забыла и про головную боль, и про тошноту – хотя два дня перед тем провалялась в постели, отпиваясь хлебным вином. Ведь вот-вот, совсем рядом с нею явственно просматривался трон величайшей державы. Она – одна из двадцати избранных красавиц! А стало быть, исполнение мечты вполне возможно…
– Свеклу с собою брать?
– Авдотья, ты дура совсем, что ли? – изумилась княжна. – Михаил Федорович не на голых же на нас смотреть станет! Царю главное лицом да сиськами приглянуться. А уж там…
Она поправила ладонями грудь и воровато посмотрела на служанку.
– Можно платочки подложить, – моментально поняла ее мысль холопка. – Рынды еще не появились…
– Раздевай! – скомандовала хозяйка.
Небольшое увеличение персей заняло примерно полчаса – и невеста со служанкой успели выйти на крыльцо еще до того, как на двор въехали одетые во все белое царские рынды.
В сопровождении государевых телохранителей коляска княжны Ирины благополучно въехала в Кремль и остановилась перед крыльцом Грановитой палаты. Князь Григорий Волконский спешился, поспешил к возку, но его дочь уже вышла, опираясь на руки холопки и тетушки.
Все вместе они поднялись по белым ступеням и вошли в сверкающую золотом залу. Здесь было уже тесно и шумно, пахло ладаном, гарью и воском, но пуще того – влажной затхлостью. Похоже, людей и шуб оказалось слишком много даже для столь большого помещения.
– Позволь помочь, Ирина Григорьевна… – холопка сняла с головы хозяйки белоснежный пуховый платок, приняла на руки охабень, расправила на кокошнике и волосах кисею и отступила к дальней стене, где собралось еще несколько таких же, как она, служанок с хозяйскими вещами.
Перед царскими смотринами раздевали токмо девушек, все прочие бояре оставались в своих шубах, так что особой толкучки возле лавок не случилось. Евдокия без труда нашла свободное место и положила одежду, с любопытством повернувшись к залу.
Царские холопы расставляли «невест» в четыре ряда, по местам согласно знатности. Служанка привстала на цыпочки и выглядела свою госпожу во второй линии. Похоже, самой родовитой среди красавиц княжна Волконская все-таки не была.
* * *
Царь всея Руси в это время все еще находился в своих покоях, дожидаясь, пока слуги застегнут петли ферязи на ароматные сандаловые палочки, нашитые вместо пуговиц. Скромно одетая во все серое, но с золотым крестиком на груди, матушка Марфа стояла рядом и тихо объясняла:
– Она в первом ряду крайняя, ближняя к трону. Княжна Пелагея Горенская из рода Оболенских, четырнадцатое колено Рюрика. Таковое родство нам превыше всех прочих надобно. Прямые потомки по мужской линии, княжеский род. Смотри, в этот раз не ошибись!
Правитель всея Руси внимательно посмотрел на мать, но ничего не ответил, только губы поджал и вышел в коридор, в стремительном шаге обгоняя своих телохранителей. И потому первым ступил в золотую залу.
Бояре и уже собранные для смотрин девицы склонили головы.
Михаил посмотрел на них, но поднялся на трон, величаво сел. Обозрел с высоты своего места переливающуюся золотом палату, сверкающих самоцветами подданных, выстроенных рядами розовощеких девиц, сбившихся у дальней стены рабынь, сторожащих хозяйские вещи.
Князья, дьяки и воеводы распрямились.
– Собрались мы здесь, бояре, дабы государь наш Михаил Федорович выбрал себе супругу, достойную для свершения таинства брака и продолжения рода царского… – речитативом заговорил патриарх Филарет. – Так давайте помолимся бояре, дабы Господь вразумил владетеля нашего раба Божьего Михаила на верный выбор. – И святитель, не останавливаясь, продолжил: – Дай, Господи, рабу Божьему Михаилу благодать разумения, чтобы распознавать приятное для тебя, и для державы православной полезное, и не только распознавать, но и совершать, чтобы не увлекаться и не прилепляться к пустому. Прилежно молим Тя, Иисус: Ты его днесь просвети, и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи…
Дождавшись конца молитвы, Михаил Федорович поднялся с трона, спустился по ступеням в зал, принял от князя Оболенского желтую шелковую ленту.
– Сперва всех надобно обойти, опосля выбрать, – негромко напомнил государю святитель. – Не обижай никого, их путь к тебе был тяжким.
– Я знаю, отец, – так же тихо ответил правитель всея Руси и направился к красавицам.
Медленно, шаг за шагом двинулся между рядами, останавливаясь перед каждой и заглядывая в глаза.
В памяти тут же всплыли карий взгляд Марии и ее смущенная улыбка, ее манящие губы и частое дыхание… И сердце Михаила остро защемило тоской и настоящей, острой болью.
Марии здесь не было…
Ее больше не было рядом с ним и никогда не будет…
Его любимой, желанной, единственной…
– Мария, Мария… Как же ты там, любая моя? – еле слышно прошептал царь всея Руси. – Почему же судьба наша оказалась столь жестока против нас?
Он в задумчивости вернулся обратно к трону, встал перед ним, смотря прямо перед собой.
– Княжна Пелагея… Левая, самая левая, – подобравшись ближе, зашептала сбоку инокиня Марфа. – Смотри, худородку какую опять не схвати!
Государь резко повернулся. Посмотрел на свою мать. Попятился на несколько шагов, крутанулся на пятках, пошел на собравшихся князей, быстро их всех растолкал, схватил одну из сторожащих вещи холопок, вытащил вперед, намотал обручальную ленту ей на руку и поднял высоко над головой:
– Сию девицу в жены себе выбираю! Смотрите все и запоминайте! Она отныне моя невеста и царица ваша грядущая!
Толпа знати оглушительно охнула. Монашка побелела:
– Ты с ума сошел, простолюдинку на трон?!
– Кто тут есть? – покрутил головой Михаил, указал пальцем на князя Горчакова. – Тебе избранницу свою поручаю, Семен Аркадьевич! В терем верхний ее проводи, стражу крепкую поставь и никого даже близко не подпускай! Ни монахов, ни родичей, ни подруг! Будь они хоть даже царской крови! Со своих рук корми, за слугами лично ходи, днем и ночью сторожи! За жизнь и здоровье ее головой отныне отвечаешь!
– Не бывать такому! Не позволю! – крикнула инокиня Марфа.
– Только попробуй, мама! – бросив невесту, подошел к ней вплотную царь всея Руси. – Истинно тогда побираться к схизматикам отправишься!
Он резко передернул плечами и вышел из золотой залы прочь.
– А ты чего молчишь, Федор?! – повернулась к мужу монашка.
– А ты, Марфа, нечто еще десять лет собралась за невесту спорить? – мрачно ответил патриарх. – Хватит, один раз ты уже взяла Мишину свадьбу в свои руки. Державе нужен наследник, а нашему сыну – жена. Коли таковую избрал, на то, стало быть, Божья воля!
Святитель обогнул застывшую инокиню, приблизился к холопке:
– Как твое имя, девица?
Несчастная, внезапно оказавшаяся в самом центре событий, под сотнями глаз, сглотнула, торопливо перекрестилась и низко поклонилась патриарху.
– Сие есть Евдокия Стрешнева, из мещовских бояр! – внезапно вскинул руку князь Волконский. – По отцу Лукьяновна, мне племянница!
Григорий Константинович протиснулся вперед, встал рядом с девицей и добавил:
– Дочери моей подруга.
– Что ты сказываешь, княже? – повернулась к нему холопка.
– Молчи и слушайся, – сквозь зубы быстро выдохнул ей в ухо князь Волконский. – Не то сожрут.
– Отойди от нее! – вытянул руку князь Горчаков и угрожающе поднял посох.
– Государь, дозволь мне возле племянницы оставаться! – торопливо поклонился патриарху Филарету Григорий Константинович и еле заметно ткнул девицу локтем: – Проси!
– Дозволь… Дядюшке… – растерянно пробормотала Евдокия.
– Я же за нее пред отцом отвечаю! – громко объявил князь Волконский, приложил ладонь к груди и искренне добавил: – Головой ручаюсь!
– Ну, слава Богу! – с огромным облегчением перекрестились многие из собравшихся. – Стало быть, девка не простолюдинка, княжья родственница.
– Слава Богу, из княгинь, – осенил себя крестным знамением патриарх Филарет. – Уберег Господь от позора.
– Молчи, Авдотья, и без моего совета ни в чем не признавайся… – тем временем шептал Григорий Константинович рядом с ухом своей холопки. – Тогда ты станешь царицей, а я царским дядюшкой. А проболтаешься, висеть тебе, милая, на дыбе за самозванство.
– Но ведь я ничего не сделала, княже! – испуганно сглотнула Евдокия.
– Какая разница? – саркастически скривился Григорий Константинович. – Кого ты думаешь, за царский каприз виновной назначат? Самого государя? Называй меня дядей и держи язык за зубами. Может статься, еще и повезет. Главное, молчи!
– Где твой отец, раба Божья Евдокия? – спросил девицу патриарх.
– Я его извещу! – торопливо ответил князь Волконский.
– Коли так… – Патриарх Филарет посмотрел на дверь, за которой уже скрылся его сын. – Коли так, ведите девицу в терем. Обручение послезавтра в Успенском соборе проведем. А венчание, когда ее родители приедут.
– Я привезу их самолично, святитель! – поклонился Григорий Константинович патриарху. – Хочу сам доставить родичам столь радостную весть!
1 апреля 1626 года
Поле возле города Мещовска
Весна выдалась неожиданно теплой, и березовые почки набухли еще в конце марта. А первые листья на березах, известное дело, к тому, что время поднимать пашню. Посему еще затемно Лука вывел из хлева свою караковую – коричневую с черными ногами – кобылку и отправился с нею за овраг, неся соху со сверкающим, хорошо наточенным насошником на плече. К рассвету он добрался до ровной поляны – вернее, до старого поля, уже два года простоявшего под паром, завел кобылу в упряжь и вонзил соху во влажную землю. Встал на колени, наклонился, поцеловал пожухлую прошлогоднюю траву, встал и размашисто перекрестился.
– Триглава, кормилица, смилуйся, не оставь без хлеба насущного… – Крестьянин тряхнул вожжами и навалился на рукояти сохи. – Ну, с Богом! Н-но, пошла!
До полудня Лука успел взрыхлить почти две трети поля за березняком. Примерно в это время на пашню и прискакал по-походному одетый князь в сопровождении четырех крепких холопов в стеганых халатах, беличьих шапках и меховых шароварах, с саблями на боках и щитами на луках седла.
– Бог в помощь, Лука! – натянул поводья Григорий Константинович. – Бросай это дело и поехали со мной. Дочь твоя замуж выходит, как бы к свадьбе не опоздать.
– За кого выходит, княже?
– За государя нашего, царя вся Руси Михаила Федоровича.
– Да ты что?! – Крестьянин, не оставляя работы, искренне, до слез, расхохотался. – Спасибо тебе, Григорий Константинович, порадовал! Первый раз, сколько себя помню, шутку настоящую от тебя услышал!
– Да не шутка сие, все взаправду.
– Вот и слава Богу, – кивнул пахарь. – Стало быть, Авдотья в достатке жить станет и сытости.
– Лука, бросай это дело и поехали. Опоздаем! Свадьба уже назначена, чин расписан, гости сбираются.
– Без меня, что ли, не повенчаются? – ковырнул очередной ком глины крестьянин. – Сам же видишь, княже, весна! Каждый миг на счету, пахать и пахать.
– Лука, у тебя дочка замуж выходит!
– Да даже коли и так, Григорий Константинович, – поправил соху на борозде пахарь, – тебе за то низкий поклон и благодарность, что о чаде моем позаботился и пустой до старости не оставил. Пусть честной бабой становится, я за Авдотьюшку рад. Вот токмо зубы нам на полку класть из-за сего не резон. Пока сухо и тепло, надобно три угла распахать, да бороновать и сеять, да грядки делать, да рассаду…
– В общем, так я и знал, что сим кончится, – смиренно кивнул князь и оглянулся на холопов: – Вяжи его, ребята, да через седло… Скотинку и соху прибрать не забудьте, пропадет.
– Как, почему?! – распрямился возмущенный смерд, к которому кинулись спешившиеся воины. – Вы чего творите?! За что-о?!
Однако крепкие молодцы знали свое дело: быстро скрутили работягу и опрокинули на спину его же собственной лошади.
– Полуян, – обратился к одному из слуг князь Волконский. – Скачи в деревню, жену его и детей тоже на возки грузите. Скотину по соседям раздайте, прочее барахло тоже. Скажете, хозяевам более не надобны.
– Слушаю, Григорий Константинович, – кивнул курчавый темноволосый холоп, запрыгнул в седло и дал шпоры коню.
– Что же ты творишь, княже?! – задергался Лука. – Ни за что, без суда! Мыслишь, я на тебя управы не найду?
– Повторяю снова, Лука, – вздохнул Григорий Константинович. – Твоя дочь за государя нашего, Михаила Федоровича, замуж выходит. А с ним не поспоришь. Коли царь велел родителей невесты на свадьбу доставить – надо доставить. И не после страды, а к середине апреля.
– Ты, верно, рассудком тронулся, князь?! Как моя дочь в царицы попасть может?
– Да я тебя уговаривать не собираюсь, Лука, – злорадно ухмыльнулся князь. – Потому слуг крепких с собою и прихватил. Ибо доставить тебя надобно ко сроку. Воля государя – закон. Посему, Лука, поедешь тюком до того часа, пока сие событие сердцем своим не примешь. Свое спасибо скажешь потом. Третьяк, бери его в повод, и поскакали!
– Ве-е-ерю-ю!!! – взмолился крестьянин. – Не сердцем, так животом. Пряжка под него попала, колется. Болит, зараза, мочи нет! Я лучше так поеду, развяжи.
– А ты не удерешь? – с подозрением спросил Григорий Константинович.
– С чего?
– А с того, что за безумца меня ныне принимаешь.
– Не, не сбегу. Вы же еще и семью мою схватили. Куда же я без своих?
– Ну, коли так, то ладно… Ребята посадите его, – приказал холопам князь Волконский. – Токмо пока не развязывайте. Мало ли что? И еще одно… Значится, так, Лука, запомни как отче наш и отвечай всем без запинки! Женат ты на моей сестре, княгине Анне Константиновне. Жену твою ведь Анной кличут, коли я ничего не напутал? Вот и запоминай: она моя сестра!
Пахарь закрыл глаза и старательно потряс головой, пытаясь проснуться.
– Да-а, дорога будет долгой, – засмеялся Григорий Константинович. – Значится, начнем с самого начала. Твоя дочь, Лука, вскорости выходит замуж за государя вся Руси…
15 апреля 1626 года
Москва, Фроловские ворота
Двое пожилых бояр спешились перед мостом и вошли в Кремль пешком. Оба были примерно одного возраста и сложения, оба одеты в шитые золотом ферязи с рукавами, в бобровые шапки с раздвоенным верхом, оба опоясаны ремнями с сумками и ножнами, украшенными костяными накладками.
– Будут спрашивать про службу, Лука, сказывай про Смоленский поход, – негромко учил князь Волконский. – Но про место свое молчи! Морщись, ругайся, сетуй, что зело тяжко о беде тогдашней вспоминать. Пусть все знают токмо, что ты воевал. А коли воевал, то выходит, человек служивый, из боярского рода[17]. А в остальном, сказывай, уделом своим занимался. Жену же называй «моей княгиней» или просто сказывай, что она моя сестра. Но самое главное, никогда и никому ее не показывай!!!
– Кто же поверит, чтобы княгиня за крестьянина просто могла выйти, Григорий Константинович?! – Лука поежился. В чужой одежде, пусть даже пришедшейся впору, он ощущал себя неуютно.
– За крестьянина не поверят, Лука. А вот за отца царской невесты, это совсем другое дело! Никто и не усомнится. Даже я сам и то уже немножечко верю, – усмехнулся князь Волконский и пригладил бороду.
– Не было у тебя никогда сестры Анны, Григорий Константинович, – буркнул пахарь.
– Да кто же его знает, Лука? – покосился на своего крепостного князь Волконский. – Земли мещерские от столицы далеко, за всем не уследишь. Коли люди сказывают, что была, стало быть, и была.
– Но зачем все сие, Григорий Константинович?! – внезапно резко остановился Стрешнев и размашисто перекрестился на огромную, под самые облака, колокольню Иван Великий. – К чему обман весь и прочие хитрости?
– Лука… – оглянувшись по сторонам, встал перед ним окольничий, тихо пояснил: – Лука, пойми: цари женятся на княжнах. Иногда на знатных и богатых боярынях. Изредка на девицах из детей боярских, но сие ужо за позор считается, и люди ропщут, а порою от такового государя собственная свита отворачивается. Коли пойдет слух, что на сей раз царь задумал обвенчаться с крестьянкой… – Григорий Константинович многозначительно покачал головой. – Не попустят такого при дворе. Сгинет дочка твоя. Не знаю как, но пропадет. В этом деле царедворцы, увы, зело изобретательны. Не она такая первая.
– Ты решил поступиться честью ради спасения моей дочери? – усомнился крестьянин.
– Ради государя, – поправил его Григорий Константинович. – Раз уж он выбрал в жены Авдотью, надобно было скорейше даровать ей родовитость. Я сие и сотворил. И честью ничуть не поступился. Стать родичем царской невесты, это разве урон? Сие есть изрядное возвышение при дворе и в местах по службе! А верят люди в сие али нет, какая разница? Раз государь мое слово признал, стало быть, оно верное и есть… И да, самое главное не забудь! Ты более не Лука! Ты отныне Лука Степанович! Лука Степанович из рода Стрешневых. Пошли!
Князь повернулся, широко зашагал по дубовым плашкам мостовой к Грановитой палате.
– А твоя Ирина как, княже? Дочка-то? – спросил его в спину крестьянин.
– В первый вечер чуть глаза не выцарапала, Лука, – оглянувшись через плечо, признался Григорий Константинович. – Но теперича остепенилась. Но в свиту царскую, уже трижды поклялась, ни за что не пойдет! Ну да ничего. Перебесится. Двоюродная сестра царицы – это тоже достойное звание.
Волшебные слова: «Отец государевой невесты прибыл!» – с легкостью открыли перед гостями все двери великокняжеского дворца. Князь Волконский и его крепостной поднялись в верхний терем, где Лука Стрешнев с огромным облегчением обнял свою доченьку, наряженную в парчу, меха и самоцветы, но все еще изрядно напуганную. Они посидели, поплакали – говорить почему-то оказалось не о чем. А затем в терем поднялся царский холоп и призвал боярина Лукьяна Степановича в Малую Думную палату.
– Увидимся еще, доченька, – вытер пальцами слезы на щеках Евдокии Лука. – И от матушки с малыми тебе поклон. У них все хорошо, и они тоже здесь.
– Пошли, царь ждать не любит, – потянул его за собой Григорий Константинович. И на ходу снова продолжил учебу: – Кланяйся низко! Так, чтобы рукой ковра мог достать. Но на колени не падай! И ничего не проси! Всем, кроме государя, просто кивай. В общем… В общем, делай все, как я…
В просторной горнице с тремя слюдяными окнами, выстеленным кошмою полом, расписанным облаками потолком и идущими по стенам апостолами и господними подвижниками, князю Волконскому и его крепостному пришлось подождать. Но дверь за троном в конце концов отворилась, и в палату вошел старец в синей рясе, с длинной вычесанной бородой, раздвоенной снизу, и золотым крестом под ней. Следом – мужчина в парчовой ферязи с собольей опушкой, голубоглазый и с окладистой бородкой в две ладони длиной, ровно постриженной снизу на полукруг.
– Благослови меня святитель, ибо я грешен, – тут же низко склонился Григорий Константинович, и Лука поспешно последовал его примеру.
– И меня благослови!
– Мое почтение, государь, – повернулся к мужчине князь, и Лука опять же повторил его жест и слова.
– Стало быть, это ты Лукьян Степанович из рода Стрешневых? – прищурился старец. – Вижу, крепок. Кость широкая.
– Уж какой есть, святитель, – по-крестьянски кашлянул в кулак Лука.
– Дети имеются?
– Из тех, что подрастают, пятеро. Четыре девицы и сын, Степка.
– И плодовит, – сделал вывод патриарх. – Кровь здоровая. Теперь признайся мне, как на духу, болезни за дочерью твоей Евдокией тебе известны?
– Нет, отче.
– Иные препятствия для таинства венчания христианского тебе за нею ведомы?
– Нет, отче.
– На кресте Божьем поклянись! – выставил нагрудное распятие святитель.
– Вот те крест! – размашисто обмахнулся Лука и поцеловал усыпанное самоцветами золото.
– А жена твоя, княгиня Анна, ныне в добром здравии?
– Да уж не жалуется! – распрямился крестьянин.
– Сколько ей лет?
– Пятый десяток разменяла, святитель.
– Славно… – патриарх Филарет повернулся к сыну и пожал плечами: – Может статься, сам Господь вел твоею рукою, Михаил Федорович? Наследственность у невесты хорошая, кровь в роду здоровая. Что до прочего… Ты не передумал?
– Даешь ли ты, Лукьян Степанович, отцовское благословение своей дочери на брак со мной, рабом Божиим Михаилом? – вышел вперед царь всея Руси.
– Я сегодня с Авдотьюшкой потолковал, – пригладил подбородок крестьянин. – Она там вроде как не против. А коли девка согласна, так чего я ее сердцу перечить стану? Бог с вами, чада мои. Благословляю!
– Вроде как не против, сказываешь? – впервые за время разговора улыбнулся царь. – Ну, слава богу, что не передумала!
– Так ведь она не на смотрины приходила, сынок, – не преминул напомнить патриарх. – Это ты сам ее из толпы к себе вытребовал. Посему тебе ее милостивое согласие и оправдывать!
– Я постараюсь, отец, – не стал спорить со святителем государь.
А тот вышел вперед, сунул руку в рукав и извлек на свет грамоту с печатью:
– Государь дарует тебе, Лукьян Семенович, как будущему своему тестю, двор и дом покойного князя Богдана Бельского, что стоит за великокняжеским дворцом на Житной улице. Дабы семьи наши родственные поблизости друг от друга обитали. Князь Григорий Константинович, я полагаю, сие место знает и тебе покажет. И да пребудет с вами милость Господа нашего, Иисуса Христа!
Патриарх и государь ушли за трон, а князь Волконский похлопал своего крестьянина по плечу. Цыкнул зубом и сказал:
– Вот это и называется быть царским родственником. Не успел приехать, ан ужо и дворцом целым одарили. Причем милости еще токмо начинаются, Лука! Пойдем, я покажу тебе твою новую избушку…
21 апреля 1626 года
Москва, Успенский собор
Незадолго до полудня к полному людей храму приехал на белом аргамаке царь всея Руси. И хотя путь от дворцового крыльца до врат собора составлял всего полторы сотни шагов по красной ковровой дорожке, конюшие не поленились ради такого случая оседлать повелителю величайшей державы самого лучшего из скакунов.
Спешившись у крыльца, царь в гордом одиночестве прошел через расступившуюся толпу к алтарю и склонил голову перед патриархом Филаретом:
– К тебе обращаюсь, отче, к первосвятителю веры православной, голосу Господа нашего Иисуса с нижайшей просьбою! Устал я жить в одиночестве и неприкаянности и посему молю Господа о даровании мне любящей и плодовитой супруги, каковая дарует мне радость, а державе русской – наследника.
– Господь милостив и внимает молитвам искренним чад своих, раб Божий Михаил! – ответил святитель. – В сей день и час давайте вместе помолимся о даровании государю нашему верной и достойной супруги!
Патриарх Филарет повернулся к иконостасу и громко, глубоким голосом заговорил:
– К тебе обращаемся, Господь наш Иисус, дарователь любви и жизни, и земли русской покровителю, к вам, святый преподобный Кирилле и святая преподобная Марие! Образ брака христианского яви Господь преславное житие ваше! Славно бо пожили есте в лета тяжкия для земли и народа православного и вся скорби и искушения мира сего претерпели есте единою плотию, сего ради прослави Господь нас и супружество наше! Тем же смиренно молим вас, препадающе пред святым образом вашим умолить Господа, во еже послати рабу Божьему Михаилу супругу христианскую. Весте бо, яко несть добро человеку единому быти, да исправит Господь стези его!
– Едут, едут!!! – послышалось снаружи.
В Успенском соборе все еще продолжали молиться о ниспослании государю супруги, а через распахнутые врата храма уже прошел распорядитель свадебных торжеств князь Иван Пожарский, по стопам которого князь Григорий Волконский и Лукьян Стрешнев вели укрытую накидкой девушку. К тому моменту, когда молитва закончилась, невеста оказалась за спиною государя.
Патриарх Филарет развернулся и спросил:
– Готов ли ты, раб Божий Михаил, ныне же принять дарованную тебе Господом нашим супругу?
– Да, святитель, – кивнул царь.
Служка тут же бросил перед алтарем белое полотенце, и государь без приглашения встал на него ногами.
– Готова ли ты, раба Божья Евдокия, стать супругой сужденного тебе мужа?
– Да, святитель, – прозвучал девичий голосок из-за спины властителя всея Руси.
– Тогда подойди к алтарю. Пусть сердца ваши отныне горят в любви общей огнем ярким и чистым, ако сии свечи…
Диаконы вложили в руки брачующихся зажженные восковые свечи.
– Пусть помыслы ваши будут чистыми, ако эта вода, – брызнул на них освященной водой святитель. – И на очистит вас от скверны сей дым и святая молитва…
Патриарх прошел вокруг брачующихся с кадилом, а затем встал перед алтарем, читая надлежащие заветы. Закончив, обернулся:
– Согласен ли ты, раб Божий Михаил, пред Богом и людьми взять в жены рабу Божью Евдокию?
– Да, святитель!
– Согласна ли ты, раба Божья Евдокия, пред Богом и людьми взять в мужья раба Божьего Михаила?
– Да, святитель!
– В знак этой клятвы, чада мои, обменяйтесь кольцами… – предложил патриарх.
Молодые подчинились.
– Свершая сие таинство, примите плоть и кровь Господа из моих рук… – Святитель дал обоим отпить из одной общей чаши немного вина, после чего связал руки полотенцем с алтаря и трижды обвел молодых вокруг аналоя. – Сим объявляю вас мужем и женой! Раб Божий Михаил, ты можешь поцеловать свою супругу.
Государь поднял покрывало, откинув его на спину девушке, и всмотрелся в ее лицо. Чуть заметно покачал головой:
– А ты, Евдокия, оказывается, красива! С тобой можно провести свою жизнь.
Он наклонился и крепко поцеловал жену в губы.
– Любо, любо! – закричали гости. – Совет да любовь!
В молодых полетели мелкие серебряные монетки и зерно, цветочные лепестки и ленточки:
– Совет да любовь! Долгие лета и детей поболее!!!
Царь с царицей вышли на крыльцо, и почти сразу во всех церквях Кремля ударили колокола, сообщая городу, что отныне у православного правителя наконец-то есть законная жена! Долгие годы одиночества Михаила Федоровича подошли к концу!
И начались гулянья на всех улицах и площадях! Звенели колокола церквей и звонниц, тут и там стояли для всех желающих столы с угощениями, везде пели и плясали скоморохи, водили хороводы девушки, а кататься на качелях, каруселях и гигантских шагах дозволялось бесплатно всем, кому хочется, без отказа. Веселись, земля православная, твой властитель наконец-то жену себе нашел!
В трапезной Великокняжеского тоже шумел богатый пир на тысячу гостей, вино и хмельной мед лились рекой, а слуги постоянно вносили блюда с целиком запеченными осетрами и кабанами, с заливным и холодцами, со сластями и солениями…
Отсидев положенные часы, молодые удалились в опочивальню, на ржаные снопы.
Вскорости покинул шумное празднество и Лукьян Степанович, не привыкший к такой роскоши, таким яствам и столь крепким винам.
Вскоре пропажу «родственника» заметил князь Волконский и сильно забеспокоился: как бы «свояк» спьяну ничего лишнего не сболтнул! Тоже поднялся из-за стола и пошел искать царского тестя.
Первым делом Григорий Константинович, понятно, заглянул на недалекий двор – на тот случай, если отец царицы просто отправился спать. Вошел в дом, поднялся наверх, сунулся в гостевую горницу, и…
Лука Стрешнев стоял здесь. Он был одет в посконную рубаху, истрепанные полотняные штаны и лапти, а в руках держал упертую в пол соху.
– Ты чего, Лука? – изумленно пробормотал князь. Он всерьез испугался, что от столь сильных переживаний и резких перемен крепостной мужик внезапно тронулся рассудком.
– Да вот, мыслю, Григорий Константинович, – не оглядываясь, вздохнул крестьянин. – Как, однако же, хитра бывает судьба. Два месяца тому был я простым смердом, пашущим ради куска хлеба тощую пашню. А ныне я знатный царедворец и тесть самого царя. Неждана зело, однако же, жизнь человеческая… Надо бы соху-то свою поберечь… Новая совсем еще, рабочая. А то ведь как бы оно все того… Вспять не перешло.
* * *
Князь Петр Долгоруков писал, что царский тесть, крестьянин Лука Стрешнев, так до самого конца жизни и держал у себя под рукой во дворце, прямо в своей горнице, соху и простецкую одежду, в которой его увезли с весенней пахоты на свадьбу государыни-дочери. Все боялся, что чудный сон рано или поздно внезапно оборвется и ему вновь понадобится идти в поле и поднимать под зерно после многолетнего отдыха черную парную дернину…
Часть вторая. Во власти любви
17 мая 1634 года
Москва, царские покои
Скромно накрытый стол – кулебяка, моченые яблоки, изюм с курагой и ревень с медом – стоял возле распахнутого окна, из которого открывался чудесный вид на цветущий Ириновский сад под крепостной стеной и такое же красочное, усыпанное разноцветными бутонами Замоскворечье[18]. У стола сидели Михаил Федорович и Евдокия Лукьяновна, попивающие горячий сбитень из тончайших чашек китайского фарфора, покрытых синим рисунком, изображающим растущие на камнях деревья. Оба были одеты в мягкие бархатные халаты, даже не опушенные мехом, на голове мужчины сидела мягкая войлочная тафья с вышитым на макушке крестиком, каштановые волосы женщины прятались за резным роговым кокошником и под шелковой кисеёй. Кабы не место, где сие происходило, их можно было б принять за обычную семью зажиточных крестьян, отдыхающих после напряженной страды…
В дверь постучали, и после небольшой заминки в горницу вошел статный, остролицый курчавый мужчина с короткой русой бородкой, стриженной на длину всего в три пальца. Одет он был в куцый кафтан немецкого покроя, темно-синие узкие шаровары и короткие сапожки из коричневой замши. Шапку гость держал в руке, взмахнув ею в поясном поклоне:
– Сколько лет, сколько зим, царь-батюшка! Рад узнать, что ты обо мне все еще помнишь!
– Именно, что «столько лет», Борис! Ты когда последний раз на службу являлся, прогульщик? – укоризненно покачал головой Михаил.
– Нижайше прощения прошу, царь-батюшка, – снова поклонился гость, как вдруг, отбросив шапку в сторону, метнулся вперед: – Что же вы делаете, всемилостивые?! А вдруг порченое оно, али невкусное, али отравленное?!
Кравчий подбежал к столу, закинул в рот полгорсти изюма, полгорсти кураги. Со всем тщанием прожевал, одобрительно кивнул:
– Сие угощение вкусное и полезное, зело советую. А вот это… – Он взял ломтик ревеня, макнул в мед и отправил в рот. Причмокнул, взял еще кусочек, съел. Потянулся за третьим: – Никак не распробую, все ли в нем хорошо…
– Помилуй, боярин! – спохватилась женщина. – Да ты тарелку себе возьми! Вон, две плошки пустые стоят!
– Не мешай ему, Авдотья, – посоветовал Михаил. – Он завсегда так за казенный счет отъедается.
– Наговариваешь, царь-батюшка! – возмутился гость, не преминув, однако, отрезать ломтик кулебяки. – Мы, кравчие, ради вас животом жертвуем, каженое кушанье на вкус проверяя!
– Что-то я не помню, Боря, чтобы при дворе хоть един кравчий от отравления скончался!
– Так живот у нас, царь-батюшка, не от отравлений, он от обжорства страдает. А куда денешься? Долг приказывает! – И гость отправил в рот кусок кулебяки.
– Ты сбитнем хотя бы запей, боярин, – присоветовала ему Евдокия Лукьяновна. – Чего в сухомятку мучиться?
– Благодарствую, матушка-царица, – в пояс поклонился ей гость. – Токмо от тебя жалость и ведаю!
– Может, ты просто голоден, боярин? – участливо поинтересовалась женщина.
– Самый богатый человек на Руси голоден? – вскинул брови государь. – Сильно сомневаюсь. Ты голоден, Боря?
– Скажешь тоже, Михаил Федорович! – покачал головой гость. – Однако же с царского стола угощения завсегда втрое слаще. Разве супротив такого соблазна устоишь?
Он развел руками и снова потянулся за ревенем.
– Вот сколько себя помню, таким он всегда и рос, – откинулся на спинку кресла царь всея Руси. – Хочу познакомить тебя, милая, с боярином Борисом Ивановичем Морозовым. Он мой воспитанник и полный сирота. Получил от меня двадцать лет тому назад триста десятин на жизнь. Это как кравчий. Да еще четыреста за оборону Москвы в восемнадцатом году. С таковым начинанием сумел он приумножить капитал многократно, устроил промысел поташный, солеварный и железный, масляный и канатный, завел торговлю с Францией, Голландией, Швецией и иными странами, откупил у казны пустующие после Смуты земли, после чего стал расселять на них беглый польский и литовский люд, картошку с подсолнухами[19] там сажать и к промыслам всяким отхожим крестьян тамошних приучать. Ныне же кирпичные заводы, насколько я ведаю, построил. Владетель самой большой библиотеки, покровитель архитекторов и живописцев…
– Ты меня нечто сватаешь, царь-батюшка? – прихлебнул налитого в миску сбитня гость. – Кабы Евдокия Лукьяновна не замужем была, я бы, вестимо, испугался!
– Вообще-то, Боря, я тебя и вправду сватаю, – ответил царь всея Руси. – Повидал я за свои годы очень многое, людей разных узнал и вот что понял… Я бы хотел, чтобы сын мой Алексей был похож не на самодовольных царедворцев, меня окружающих, и не на воевод, за места грызущихся, и не на святителей церковных, и даже не на меня, ибо по мягкости своей потерял я в жизни очень и очень многое. Я бы хотел, чтобы мой сын стал похож на тебя. Что скажешь, Евдокия?
Царица степенно кивнула, не преминув добавить:
– Полагаю, мед и ревень на прокорм сего воспитателя нас сильно не разорят.
– Вот и прозвучала, Борис, наша с супругой совместная царская воля, – сказал государь всея Руси. – Мы с супругой избрали тебя в дядьки для нашего сына. Готов ли ты принять на себя сей тяжкий крест?
– А из кравчих в царские воспитатели, это повышение али опала? – поинтересовался гость.
– Ты прогулял пятнадцать лет службы, Борис! – ответил ему Михаил Федорович. – Так что про места теперь лучше даже не поминай!
– У меня нет детей, духовника и московской шубы, – предупредил боярин Морозов.
– А отчего ты носишь наряды иноземного вида, Борис Иванович? – вдруг спросила Евдокия Лукьяновна.
– Русские одежды красивее, матушка-царица, – поклонился ей боярин, – однако же в делах немецкое платье удобнее. Полы короткие, по ногам не бьют. На лошадь запрыгнуть али соскочить, по лестницам бегать, через бревна перелезать. Опять же, коли в мастерских грязно, по полу подолы не метут, меньше пачкаются. А коли и испачкаются, так не жалко. Чай, сукно простое да ватин, а не парча с мехами и самоцветами. Сиречь для работы сии наряды удобнее. А опосля… – гость пожал плечами. – Привыкаешь.
– Раз ты согласен, Борис, то пойдем, – поднялся из-за стола государь и протянул руку супруге. Та вложила пальцы в ладонь Михаила Федоровича и тоже встала.
Боярин Борис Иванович отступил, поклонился. Вздохнул и последовал за правящей четой.
Детский терем возносился над Великокняжеским дворцом еще на два этажа: красный с резными белыми украшениями, колоннами, пилястрами и большими, светлыми слюдяными окнами. Внутри каждая комната отделана в свой цвет, стены сплошь расписные, полы ковровые, потолки сводчатые, на которых порхают птицы и ангелы.
Пятилетний царевич играл в синей горнице. Разложив кукол на персидском ковре с густым высоким ворсом, Алексей Михайлович двигал их по кругу, что-то тихонько бурча. На нем была парчовая золотистая мантия и остроконечная парчовая же шапочка с коричневой опушкой. А вокруг возле стен сидели аж пять престарелых нянек, не сводящих с драгоценного малыша своих глаз.
– Здравствуй, Алеша, – ласково улыбнулась царица.
Мальчик поднял на нее взгляд, но никак не ответил.
– Познакомься, Алексей, – сказал Михаил Федорович. – Это Борис Иванович, отныне он твой дядька.
Царевич опустил голову и снова занялся куклами.
Боярин подступил ближе, посмотрел на его занятие сверху вниз и еле заметно скривился.
– Сю-сю-сю да сю-сю-сю, – ехидно бросил бывший кравчий. – Бабье баловство! А еще царевич… Ты хоть с лука-то стрелять умеешь, Алексей?
Мальчик поднял голову.
– Научить? – заговорщицки подмигнув, поинтересовался боярин. – Тогда пошли!
Борис Иванович направился к дверям.
Царевич колебался всего пару мгновений, после чего вскочил и помчался следом.
17 мая 1644 года
Окрестности Коломны
Длиннорогий олень, перемахнув овражек, вломился вслед за косулями в заросли ивняка, и в тот же миг в ствол впилась длинная стрела с двойным гусиным оперением. Зверь шарахнулся в сторону – вторая стрела опять пронзила березу. Задрав голову и издав трубный глас, олень помчался дальше, пробивая грудью переплетение ветвей.
Позади зазвучали трубы, несколько всадников на тонконогих туркестанцах, в добротных зипунах, с саблями на боках и в меховых шапках во весь опор влетели в рощу, перескакивая через кусты, проносясь под ветвями, огибая деревья. Самым первым, сжимая лук, мчался паренек лет пятнадцати, управляя вороным скакуном одними лишь ногами и прижимаясь щекой к густой гриве. Он чуть приподнялся и, заметив впереди рога, стремительно натянул лук.
Стрела улетела вперед – и опять пронзила дерево, а стрелок – врезался лбом в низкий сук и, взмахнув руками, опрокинулся назад, вылетая из седла, закувыркался по бузине, ломая стволы и ветки.
– Царевич! – остальные всадники натянули поводья, останавливая коней, один даже кинулся было к пареньку, но старший мужчина, одетый в простенький немецкий кафтан, вдруг огрел его плетью по спине. Молодой боярин оскалился, выгибаясь от боли, однако промолчал.
Царевич поднялся сам, отряхнулся. Прихрамывая, добрел до лука, поднял. Затем прохромал к ушедшему вперед скакуну. Перехватил поводья, поставил ногу в стремя и поднялся в седло.
– Не ушибся, Алексей? – все же поинтересовался старший мужчина. – Может, домой?
– Ну нет, Борис Иванович! – мотнул головой паренек. – Уж теперь-то я его точно возьму!
Он потянул из колчана еще одну стрелу, перехватил вместе с луком правой рукой, а левой перехватил поводья:
– Вперед!
Охотники помчались дальше, не признавая препятствий: перепрыгивая поваленные деревья и кустарник, проскакивая под ветвями и сучьями, огибая самые крупные из стволов и сбивая более тонкие. Три версты гонки, и роща кончилась, а впереди открылось поле, зеленое от молодой травы. Олень и две лани уносились вперед большими прыжками.
Паренек, оказавшись на открытом месте, тут же вскинул лук, выстрелил.
Мимо!
– Поспешишь, людей насмешишь, – громко хмыкнул боярин Морозов.
Царевич быстро оглянулся на него, дернул из колчана еще стрелу и неожиданно для всех спрыгнул с коня, кувыркнулся через плечо, тут же встал и широко расставил ноги. Глядя вслед уносящимся оленям, сделал вдох, выдох, вдох. Чуть прищурился, ощупью накладывая прорезь древка на тетиву. Поднял оружие, выдохнул и резко вытянул левую руку, поднимая правую к самому уху.
Мгновение полной недвижимости – и Алексей Михайлович отпустил большой палец, украшенный боевым серебряным кольцом: шириной с вершок и с канавкой для тетивы посередине.
Коротко тренькнула тетива по черненому браслету на левом запястье – стрела коротким штрихом прорезала воздух и впилась глубоко в затылок стремительного рогатого зверя.
Тот мгновенно кувыркнулся, и все охотники одобрительно загудели:
– Вот это выстрел! С пятисот шагов! Вот это глаз! Вот это рука!
– Коня! – невозмутимо опустил лук Алексей Михайлович.
Один из телохранителей нагнал вороного скакуна, поймал за повод, привел обратно к хозяину.
Пятнадцатилетний царевич поднялся в седло, широким походным шагом проехал вперед, наклонился, подобрал добычу и перекинул поперек холки. И только в этот миг на губах паренька появилась слабая, но гордая улыбка.
– Молодец! – похвалил его дядька, остановивший аргамака в паре шагов. – Я бы в такую даль и вовсе стрелы не добросил.
– Ты скромничаешь, Борис Иванович, – покачал головой царевич. – Это ведь ты научил меня пользоваться луком!
– Лучше всего учить удается тому, чего сам не умеешь, – рассмеялся боярин Морозов. – Ну что, пора в лагерь? Мы в этой погоне верст десять отмахали. Теперь бы на уставших лошадях успеть затемно вернуться. Да еще хворосту надо бы собрать…
Царский дядька оказался прав – к месту привала охотники добрались лишь в сумерках. И если бы юный Алексей Михайлович быстро не наломал валежник голыми руками, костер пришлось бы разводить в темноте[20].
Боярская стража, правда, управилась с очагом куда быстрее, но сыну государя никто из них помогать не стал. У телохранителей свой костер и лагерь, у царевича и его воспитателя – свой.
Алексей Михайлович высек огонь на трут, раздул искры, подложил горящую бересту под хворост, отодвинулся. Расседлал скакуна, отвел на травяную поляну и спутал ноги. Расстелил потник, бросил седло, выдернул нож. Осмотрел добычу, быстрым круговым движением отсек задний окорок, снял с него шкуру, нарезал полосками. Кивнул дядьке:
– Угощайся…
Усевшись бок о бок, мужчины нанизали мясо на заточенные палки, протянули к разгоревшемуся огню, обжаривая в языках пламени.
– Скажи, Борис Иванович, а каковой подарок ты для моего отца приготовил? – спросил царевич, стараясь удерживать палку так, чтобы кровавый ломтик зарумянивался от жара, но не обгорал.
– Какой же это выйдет подарок, коли раньше времени рассказать? – улыбнулся боярин.
– Я не проболтаюсь, дядька!
– Для тебя сие тоже станет сюрпризом.
Царевич почесал в затылке, пожал плечами:
– Не, так быть не может. Я книги про приключения люблю, про сражения, про Рим допотопный, про миры заморские. А батюшке все сие неинтересно.
– Почему ты решил, что я книги подарю? – удивился Борис Иванович.
– Я намедни видел, боярин, как на твой двор обоз закатился. Там сундуки были с надписями немецкими. А ты обычно от немцев книги привозишь да вино. Но вино в сундуках не таскают.
– Ты почти угадал, Алексей. Продолжение римской сказки доставили. Сразу два тома. Я уже отдал толмачам. Как вернемся, начало сможешь почитать.
– А для отца чего?
– Не скажу.
– Экий ты, дядька!
– Не грусти. Вскорости узнаешь, – пообещал боярин Морозов.
– Или это вино? – задумчиво пробормотал царевич. – Немцы варят хорошее вино.
Он покрутил перед глазами покрывшееся корочкой мясо и вцепился в него крепкими жемчужными зубами.
– То, которое варят, полная дрянь, – ответил дядька. – Хорошее то, каковое настаивают. И чем южнее, тем лучше. Жаль, сарацины не делают вина. У них бы получалось самое драгоценное.
– Наверное, жаль… – не стал спорить Алексей Михайлович.
Царевич и его дядька отрезали и зажарили себе еще по три мясистых куска, после чего вытянулись на потниках по сторонам от догорающего костра, подсунули под голову седло.
– Дядька, а отчего ты только с немцами торгуешь? – вдруг спросил царевич. – Из Персии, Индии, Китая тоже, вон, товары редкостные привозят.
– Потому, что редкостные, – ответил боярин. – Редкую вещь один боярин купит. Пусть даже сто рублей переплатит, но сие есть токмо сто рублей. А ходовые товары берут все. С каждого кирпича прибытку копейка, но зато они уходят тысячами и завсегда покупатель имеется, даже искать не надобно. С вина копейка дохода, но его мужик выпьет и завтра снова свою копейку принесет. Посему копеечные товары самые прибыльные.
– Индусы ткани везут, специи, кашу сарацинскую, травы лекарские. Много. Разве сие товар не копеечный?
– Ты молодец, царевич, поймал меня, – признался боярин. – А персы что везут?
– Сласти сушеные, шелк, ковры.
– А китайцы?
– Фарфор… Шелк… – уже не так уверенно ответил царевич и тут же перешел во встречную атаку: – Так почему ты не торгуешь с купцами восточными, дядька?!
– Просто не повезло, Алексей, – пожал плечами Борис Иванович. – Моей первой продажей стал поташ, а его хорошо брали токмо голландцы. Как сейчас помню, тридцать пять рублей бочка! Я с Вологды по сотне бочек в год заказывал. Опосля стал искать, каковой товар им еще интересен. Оказалось, что железо, пенька, соль… Так одно за другим и закрутилось, связи наладились. А индусам с персами ни поташ, ни пенька не интересны. Им мои торговые связи ни к чему. Вот мы с ними и не сошлись.
Боярин сладко зевнул и закрыл глаза.
* * *
Когда Алексей Михайлович проснулся, костер уже вовсю полыхал. Борис Иванович знал чувство меры и не хотел, чтобы царевич ощутил себя его слугой. Правда, жарить мясо для завтрака и седлать скакуна будущему государю все-таки пришлось самому.
– Поехали через луга, дядька, – предложил царевич, когда они поднялись в стремя. – Может, повезет еще хотя бы пару зайцев спугнуть?
– Отчего бы и нет? – пожал плечами Борис Иванович. – Помчали по прямой!
Всадники перешли на рысь; понеслись, не разбирая дороги, что даже в полях было рискованным развлечением. На пути попадались где овражки, где ручьи, где разделяющие поля полосы кустарника. Так что лошади постоянно рисковали споткнуться, а всадники – вылететь из седла. Однако царевич держался крепко и даже поводьями особо не пользовался – для управления скакуном ему хватало пяток. Вот токмо с охотой Алексею Михайловичу никак не везло – не удалась выпугнуть ни единого зайца, а по трем рябчикам он промахнулся. Сбил, правда, дурную утку, да и та оказалась домашняя. Боярин из охраны оставил ее хозяевам, набросив монету за беспокойство.
После утки Алексей совсем расстроился, и отряд выехал на Коломенский тракт, скача переменным ходом: час рысью – час шагом, час рысью – час шагом. Выносливые туркестанцы позволяли мчаться так хоть целый день напролет – и тем же вечером охотники, ни разу за день не спешившись, уже влетели в ворота Москвы.
– Домой поскачешь али у меня заночуешь? – спросил у воспитанника боярин Морозов.
– К тебе! – тут же отозвался паренек. – Ты же мне книгу обещал!
– Если ее перевести успели… – поморщился Борис Иванович. – Впрочем, первые главы всяко готовы. А пока их смотришь, глядишь, и остальные допишут.
Вскоре путники въехали на просторный морозовский двор, бросив поводья уставших лошадей сбежавшимся слугам, поднялись по крыльцу.
– Баню и ужин, Борис Иванович? – почтительно поклонился пожилой ключник.
– И свежие бумаги, – добавил боярин, проходя в дом.
Воспитанник и дядька отправились в трапезную, на потолке которой вокруг Солнца крутились все шесть ярких планет[21], а небесное светило сияло золотом, подсвеченное люстрой на семь свечей.
Сели к столу. Слуги тут же принесли заливную щуку, балык, хлеб, квашеную капусту и курагу, квас – то, что не требовалось готовить. И сверх того возле боярина Морозова положили целую стопку бумаг, поставили чернильницу. Борис Иванович устроился в кресле полубоком и тут же начал просматривать документы, рассеянно прикусывая курагой и рыбой, и изредка делая пометки и приписки.
– Почему ты всегда читаешь эти писульки сам, дядька? – поинтересовался кушающий напротив царевич. – Нечто у тебя приказчиков нету?
– А ты и вправду полагаешь, Алексей, что кто-то другой способен лучше тебя знать, что тебе надобно? – поднял на него глаза боярин Морозов. – Что тебе вкуснее кушать, что тебе вкуснее пить? Что тебе теплее надевать?
– Ты сам нередко велишь, что именно мне носить или чем обедать!
– Всегда угадываю? – вопросительно вскинул брови дядька.
Царевич неопределенно пожал плечами.
– Вот видишь… А сие… – Боярин ткнул пальцем в бумаги. – Сие есть дело мое, доходы, судьба, хозяйство. Нечто ты полагаешь, что приказчик станет о прибыли твоей печься старательнее, нежели о своем жалованье? Что станет прибытки выискивать или о тратах печалиться? Так ведь все это хозяйство не его, ему не интересно! Ему главное, чтобы боярин не заругал да штрафа не наложил. А доходы-убытки для него есмь лишь цифирьки пустые. Хочешь что-то сделать хорошо, Алексей Михайлович, сделай это сам! На все времени не хватает, так хотя бы доглядывай с прилежанием. Опять не поспеваешь, следи за самым важным! Но на самотек ничего никогда не пускай! Леность слуг и блажь приказчиков тебя скорее разорят, нежели жизнь облегчат. Без хозяйского присмотра даже сарая добротного построить отродясь не получалось.
Борис Иванович опять вернулся к бумагам, временами макая перо в чернила и что-то помечая, а успевший подкрепиться Алексей поднялся и стал прогуливаться по трапезной, от нечего делать заглядывая в шкафы и двери…
– Ого, дядька, а это тут кто? – внезапно спросил он.
– Ты о чем? – не поднимая головы, спросил боярин.
– Кто эта женщина? У тебя тут никогда портрета не висело, а теперь есть. Аккурат напротив окна. Откуда это здесь и кто она?
– Никто…
– Борис Иванович, как же это может быть? С чего ты вдруг незнакомую девицу у себя в доме на стену вешаешь?
– Это и вправду никто, Алексей, – вздохнул дядька. – По памяти рисовали, с моих слов. Получилось ничуть не похоже. Но выбрасывать я все же пожалел. Пусть будет какая есть.
– Так кто это, Борис Иванович?
– Я надеялся вспомнить свою жену, – признался боярин Морозов. – Но годы ушли…
Он вздохнул и поднялся.
– Пойдем-ка мы в баню – и спать. Завтра родителям твоим выстрелом на пятьсот шагов похвастаемся. Пусть гордятся!
– А как же книга римская? – встрепенулся царевич.
– Вот перед сном и почитаешь!
* * *
Увы, в Кремле Алексею Михайловичу и его дядьке стало не до хвастовства. Они застали царя в постели, а его супругу – рядом, сидящую в изголовье. Государыня держала мужа за руку, тихонько поглаживая, а из глаз ее время от времени выкатывались слезы.
– Отец, что с тобою?! – Войдя в опочивальню, царевич кинулся к кровати, опустился на колени. – Как ты себя чувствуешь? Что болит?
– Да все так же, сынок, все так же. – Михаил Федорович провел ладонью по его щеке, усмехнулся. – Нечто тебе неведомо, что меня уже много лет по дворцу на носилках носят, ибо ноги совершенно держать перестали? Вестимо, срок мой приходит, постриг монашеский принимать и с Господом нашим встречаться.
– Нет-нет, отец, ты наговариваешь! – горячо возразил Алексей Михайлович. – На прошлой неделе я видел, как ты с матушкой по саду гулял. Вестимо, чувствовал себя хорошо! Кабы я знал, что тебе нездоровится, ни за что бы на охоту развлекаться не поехал!
– Ничего, сынок, ты поступаешь правильно. Моя слабость, мои извечные болячки пришли ведь не сами собой. Когда я был мальчишкой, приставы Бориса Годунова держали меня в порубе и кормили гнилой капустой. Потом добрые люди помогли мне сбежать, и я таился в небольшом подворье, опасаясь чужих глаз. Но даже вернувшись к матери, я проводил больше времени в ее любящих объятиях, нежели на свободе. Я слаб здоровьем со времен ссылки, и моя нынешняя хворь – это всего лишь продолжение захудалого детства. Не хочу, чтобы ты повторил мои невзгоды. Живи на воздухе, проводи юность в движении!
– Три дня тому Алексей Михайлович промчался верхом сто верст за один день, затем мы взяли на охоте четырех зайцев и двух куропаток, а оленя он снял стрелой с удаления пятьсот шагов, попав аккурат в основание черепа, – отчитался боярин Морозов. – После чего мы за день вернулись обратно, и вот он уже здесь, бодр и весел. Несмотря на то что половину ночи читал сочинение о походах Ганнибала.
– Да, именно этого, мой мальчик, я для тебя и желал, – проговорил Михаил Федорович. – Всего того, о чем мечтал, но что осталось для меня недоступно. Скачек, охоты, ловкости и здоровья. Книг, веселья, образования. Я рад, Алексей, что после меня, малограмотного, слабого и немощного, на трон взойдет мудрый и могучий красавец. Так что не извиняйся за свое здоровье и веселие. Для меня сие есть высшая радость…
– Царь-батюшка, твои речи вгоняют нас в печаль, – прокашлялся боярин Морозов. – Хочу напомнить, что ни один лекарь не нашел у тебя никакой болезни, а недуг связывают с общей слабостью, оставшейся после ссылки. По общему мнению целителей, ты проживешь еще много-много лет.
– Но он слаб, Борис Иванович! Он в постели! – вскинула голову царица.
– Сие случалось и ранее, матушка, – вежливо склонил голову боярин. – Но после некоторого отдыха Михаил Федорович неизменно поднимался на ноги. Полагаю, так получится и на сей раз. А чтобы ему было не так грустно… У меня есть подарок! Он пришел с нами и ждет возле охраны. Сейчас приведу…
Царский воспитанник и воспитатель царевича быстро вышел из опочивальни и вскорости вернулся, ведя за собой щекастого низкорослого иноземца в синем бархатном берете с огромным пером, в коричневом суконном камзоле, украшенном белыми рюшами спереди на шее, в рыжем плаще, в белых гольфах и в деревянных туфлях. Гость растерянно смотрел по сторонам и постоянно одергивал плащ.
– Кто сие, дядька? – не понял Алексей Михайлович.
– Немец, именем Иван Детерс, по ремеслу известный рисовальщик. – Боярин Морозов снял с гостя берет, сунул ему в руки и положил ладонь художнику на затылок, принудив низко поклониться. – Помнишь, государь, ты сказывал по поводу картин и портретов немецких, что они тебе по нраву и ты хотел бы свою любимую так же в красоте безмерной и в краске яркой запечатлеть? Так вот две из купленных мною и одобренных тобой картин принадлежат его кисти…
Борис Иванович снова нажал немцу на затылок, заставив низко поклониться.
– Теперь он здесь, к твоим услугам, и готов с радостью написать портрет Евдокии Лукьяновны. Наверное, для сего дела тебе необходим свет и воздух, Иван? – отпустил художника царевичев воспитатель. – Просторная горница с большими окнами, в каковой найдется место для мольберта, для беготни вокруг него, для кресла, в котором станет восседать матушка-царица?
– А-а… – открыл было рот немец. Однако боярин приподнял бровь, и иноземец тут же спохватился: – Да, безусловно! Просторная горница с большими окнами!
– И ты готов приступить без промедления?
– А-а… Да, боярин!
– Мы готовы начать твой портрет сей же час, матушка-царица! – поклонился Борис Иванович царице.
Михаил Федорович зашевелился, закряхтел, закашлялся:
– Нет, я должен сие увидеть! Авдотьюшка, милая. – Государь сжал пальцы супруги. – Вели подать одеваться!
– Но ты же болен, любимый!
– Мне стало легче…
Боярин Морозов довольно улыбнулся и похлопал художника по плечу:
– Беги за красками, Ваня. Сегодня ты должен доказать, что я не зря потратил на тебя свое серебро.
Немец поклонился и выскочил за дверь[22].
Любопытство и желание порадовать супругу заставили болезнь Михаила Федоровича отступить, и в ближайшие несколько месяцев обитатели Кремля с большим облегчением увидели, как прогулки царственной семьи по Кремлю возобновились. Один из портретов государыни Евдокии заморский рисовальщик сотворил внизу у реки, в цветущем Иринином саду.
Жизнь вернулась в свое спокойное обыденное русло…
13 июля 1645 года
Москва, Кремль, царские покои
– Не-е-ет!!! Нет, нет!!! – истошный крик поднял на ноги всех слуг и стражу, вынудив кинуться в опочивальню. Здесь холопы и стражи застали царицу рыдающей на постели, на груди своего мужа. – Нет, как же так?! Он же только что дышал! Он дышал! Я слышала, он дышал!
Вскоре в царские покои прибежали ближние бояре, явился патриарх Иосиф, сопровождаемый митрополитами Аффонием и Никоном. Царицу насилу успокоили и увели. Святители остались молиться за душу усопшего.
Только через два часа к отцу примчался вместе с дядькой старший сын, изумленно остановившись возле постели.
– Вот и кончилось твое детство, государь, – положил ладонь на плечо растерянного паренька боярин Морозов. – Отныне держава на тебе.
Шестнадцатилетний Алексей Михайлович опустился на колени, взял холодную руку отца и положил себе на лоб.
Борис Иванович, отступив, взял за локоть одного из суетящихся царских холопов, спросил:
– Отчего государь преставился? Что сказали лекари?
– Здоров сказали, боярин, – тихо ответил слуга. – Скончался от великой кручины.
– Вот те раз… – отпустил его Борис Иванович и с силой потер шею: – Как же оно все завсегда не вовремя происходит…
* * *
По счастью – если можно использовать подобные слова в столь трагические дни, – по счастью, еще два года тому назад после очередного обострения болезни Михаил Федорович представил царевича народу, объявив его наследником и соправителем, в качестве какового Алексей Михайлович был громогласно утвержден Земским собором. Посему ныне вопрос выбора нового государя перед православной Русью не стоял – законный царь уже находился на престоле. Однако же народ и князей, воевод и дьяков все едино требовалось приводить к присяге, составлять новые молитвы о здравии царственного дома, расставлять на важные посты преданных слуг и запрашивать отчеты со всех приказов, дабы понять, каковы дела в казне, армии, в стране и окружающем мире.
Своего дядьку Алексей Михайлович буквально в первый день поставил начальником сразу трех приказов: Большой Казны, Аптечного и Большого прихода[23], сам стал разбираться с делами приказов Стрелецкого, Поместного и Разрядного. Это заняло несколько недель, после которых…
* * *
Двери царской горницы открылись, в покои вошла княгиня Горчакова, а вслед за ней еще несколько женщин из царской свиты. Одна за другой они опустились на колени, низко склонив головы перед сидящим у стола плечистым юношей:
– Не вели казнить, государь, недоглядели. Твоя матушка только что преставилась…
– Как, почему?! – вскочил из кресла Алексей Михайлович. – Вы лжете! Она здорова!
– Не вели казнить…
– Но как, почему?! Так не должно быть!!! – Государь ударил кулаками по столешнице. – Я не хочу!!!
– Не вели казнить!
– Нет, не может быть! – Паренек сорвался со своего места, промчался коридорами дворца на женскую половину, упал на колени в опочивальне своей матери, уткнувшись лбом в ее холодную руку. – Как же так, мамочка? Почему? Зачем?
Постельничья царицы нагнала его только через несколько минут. Встала рядом возле постели усопшей и тихо поведала, поминутно смахивая слезы:
– Тосковала она сильно, государыня наша. Сказывала, нет ей жизни без любимого, свет в глазах погас, уста вкус потеряли, помыслов не осталось никаких более и желаний. Горевала сильно. Молилась много и почти не кушала, все Михаила Федоровича вспоминала. С горя великого в монастырь собиралась постричься. Сильно она по супругу суженому убивалась, и вот… Месяц всего прошел, и душу свою Господу отдала. К любимому своему Михаилу Федоровичу отправилась. Ныне они, вестимо, вместе уже в небесных кущах. За руки снова держатся, ако голубки. А для нас, так выходит, от тоски безмерной царица умерла. Как лебедушка без лебедя жить одна не захотела. Не смогла. Вот она какая, настоящая-то любовь…
* * *
Когда Борис Иванович вошел в царские покои, было темно. Несмотря на сумерки за окном, здесь не горело ни одной свечи, ни одной лампы. Боярин Морозов скорее догадался, нежели увидел своего воспитанника, подошел, положил ладонь на плечо.
– Скажи мне, дядька, что такое любовь? – спросил паренек.
– Любовь – это самая страшная беда, каковая токмо способна обрушиться на человека, Алексей. – Боярин Морозов глубоко вздохнул. – Любовь – это когда ты взглянешь на неприметную вроде бы девицу, и внезапно словно рука холодная сожмет твое сердце, и ты не способен более ни дышать, ни говорить, ни мыслить, когда единственный облик заполняет весь твой рассудок и рвет твою душу. Ты жаждешь видеть ее снова и снова, жаждешь коснуться ее, постоянно находиться рядом, желаешь заполнить собою все ее помыслы, ее будущее и самую плоть. Когда ты теряешь рассудок, стремясь добиться ее улыбки. Когда соглашаешься на любые капризы ее родителей, бросаешь место и карьеру, когда идешь на любой риск и любую авантюру. Когда переворачиваешь весь мир, когда добиваешься своего, несмотря ни на что, даже вопреки всему! И все-таки женишься на ней… А она вдруг вскорости умирает от каких-то дурацких колик в животе. И тогда в твоей жизни остается токмо одно-единственное желание: умереть. Но наложить на себя руки нельзя, ибо ты окажешься в аду и не сможешь узреть ее бесплотного духа даже после смерти. Любовь, Алексей, это самая невыносимая, нестерпимая мука, придуманная дьяволом для истязания наших душ и да хранит тебя Господь, мой мальчик, от этой злобной напасти!
– Если ты прав, дядюшка, то почему люди так мечтают о ней, ждут и ищут, сочиняют о ней песни, посвящают стихи?
– О любви, Алексей, мечтают только те, кто никогда ее не испытывал, – горько усмехнулся Борис Иванович. – Эти смертные даже не догадываются, какие они счастливчики!
– Постой, дядька! – встрепенулся юный царь. – Так вот чей портрет висит в твоем дворце? Вот почему ты за тридцать лет вдовства так никогда более не женился?
– Я стану молиться, мой мальчик, чтобы всемогущие небеса избавили тебя от сей мучительной казни, – ответил боярин Морозов. – И ты тоже свечку самую толстую поставь, чтобы эта чертова любовь никогда в жизни не коснулась твоего сердца своей ледяной когтистой лапой. Со всеми прочими бедами мы как-нибудь разберемся. Все остальное, Алексей, это уже сущие пустяки.
Он похлопал воспитанника по плечу и вышел из темных и тихих покоев.
19 июля 1647 года
Торговые ряды города Курска
Небо сгущалось тучами, тревожно кричали галки, все чаще и чаще налетали порывы холодного влажного ветра. Владельцы многочисленных лавок, стоящих по краю площади, спешно прятали товары, коробейники разбегались, пока их калачи, булочки и платочки не намокли под дождем, и только самые упрямые из торговок продолжали стоять за тесовыми лотками, надеясь выручить хоть какую-нибудь денежку до начала ливня.
– Эй, боярыня! – задорно крикнула румяная, крупнолицая и кареглазая селянка, в плаще с куньим воротом поверх полотняного сарафана и с набивным платком на голове. – Возьми грибочков к обеду! Все белые один к одному! Всего за три копейки дворню досыта накормишь, да еще и на завтрак останется! Постный день завтра, боярыня, аккурат грибы в него кушать полагается!
Однако одетая в добротный бархатный сарафан дородная сударыня, сопровождаемая двумя холопками, даже не повернула головы.
– Эй, хозяюшка! Грибы белые, отборные, корзина три копейки! Сегодня купишь, завтра насушишь, зимой на неделю супы варить хватит!
Горожанка в полотняном сарафане и душегрейке, с кокошником под платком голову повернула и даже шаг замедлила, но порыв ветра заставил ее поежиться и ускорить шаг.
– Эй, хозяин! – наметила новую жертву крикливая девка. – Подходи, посмотри! Еда сытная да дешевая! И дворню накормишь, и меня в щеку поцеловать позволю!
Купец в длинном зеленом кафтане замедлил шаг, явно заинтересовавшись предложением, однако в этот миг возле прилавка неожиданно возникла уже ушедшая с рынка боярыня:
– Я тут помыслила, милая, а ведь и вправду одной корзиной можно всю дворню досыта накормить. Две копейки, сказываешь?
– Две, – не стала спорить девица, уже ощущая на лице первые дождевые капли.
Боярыня, довольная удачной сделкой, кинула торговке две серебряные чешуйки, кивнула служанке. Та прибрала корзинку и поспешила вслед за госпожой. А молодая торговка побежала в другую сторону, аккурат к началу ливня заскочив в домик на краю торга.
– Привет, сластена! – улыбнулся ей молодой купец в длинной рубахе, перепоясанной атласным кушаком. – Чем сегодня платишь? Серебром али поцелуями?
– Когда это я тебе поцелуями платила?! – возмутилась девица.
– Но я на сию плату завсегда согласен!
– Ладно, я подумаю, – пообещала гостья. – Ну а пока…
Она покрутила между пальцами блестящую монетку.
Молодой купец улыбнулся, достал из-под прилавка и поставил перед собой горшочек.
– Гречишный… – кратко уточнил он.
Девушка прибрала покупку, развернулась, приоткрыла дверь, цыкнула зубом и оглянулась:
– Федя, можно дождь переждать?
Купец многозначительно улыбнулся.
Гостья вздохнула и вернулась, встав к купцу боком. Торговец наклонился вперед и старательно, затяжно и с причмокиванием поцеловал ее в щеку:
– Жди хоть до утра!
Девица предупреждающе поцокала языком и отрицательно покачала пальцем.
– Многое теряешь, боярыня, – предупредил торговец, на миг отвернулся к окну и неожиданно опустил на прилавок взятую невесть откуда берестяную коробочку с разномастными обрезками ревеня.
Девица засмеялась, доброжелательно подставила для поцелуя другую щеку, после чего водрузила перед собой горшочек, сняла с него полотняную крышку и принялась лакомиться, макая ядовито-кислые стебли в вяжуще-сладкий тягучий мед.
– Последние новости слышала, Мария? – поинтересовался купец. – Государь Алексей Михайлович жениться собирается, смотрины невестам объявил! Ты поедешь?
– Да я уж даже сундуки уложила, Федя! Коней запрягла, платье лучшее надела, – сказала селянка. – Вот токмо в последний миг гонец примчался из Москвы да сказал, что старых дев на смотрины не берут.
– Что, правда? – округлились глаза у молодого купца.
– Какой ты, Федька, наивный! – засмеялась гостья. – В каждую шутку веришь. Да ты сам подумай, какие смотрины, мне уже двадцать три исполнилось! А туда не младше четырнадцати и не старше восемнадцати призывают. Я в царицы русские зело припозднилась.
– Но про «старую деву», боярыня, ты все-таки перегнула, – облокотился на прилавок Федор. – Ты молодая еще и красивая.
– Федя, я четвертая дочка в семье! – зачерпнула ревенем мед девица. – На меня приданого не хватило. Кончилось. Все Ирине отдали ради княжеского венчания. А остальным… Токмо пыль по сундукам! В двадцать три замуж не вышла, значит, уже и не выскочишь. Вот ты, Федька, жену без приданого возьмешь?
– Если тебя, то возьму! – моментально вскинулся молодой купец.
– Врешь, Федька, не возьмешь, – вздохнула девица. – А коли сам умом тронешься, так все едино родители запретят. Вот потому-то я в старых девах и осталась.
Она пожала плечами, перебрала кусочки ревеня, выбрала самый длинный и снова полезла им в горшок с медовой сладостью. Никакой горечи в словах боярышни не звучало, своей печальной участью Мария уже давно не терзалась. Коли баба в двадцать три года не замужем, то и ждать, надеяться больше не на что. Да еще и бесприданница! Тут тревожить душу какими-то надеждами нет уже никакого смысла. Не судьба… Остается только смириться и радоваться маленьким радостям, каковые дарует жизнь простым смертным.
Девица покрутила стебель в янтарной густоте и сразу целиком отправила себе в рот, прожевала, подняла лицо к потолку и мечтательно закатила глаза:
– Вкуснотища-а!!!
* * *
В эти самые мгновения юная Евфимия Всеволожская, забежав по ступеням крыльца, кинулась на шею солидного боярина, одетого, несмотря на жару, по-старомосковски: в шитую золотом тяжелую ферязь без рукавов, из-под которой проглядывала шелковая рубаха, на ногах – украшенные самоцветами войлочные сапоги, на голове – высокая бобровая шапка.
– Без изъянов, батюшка! Без изъянов! – радостно закричала девица. – Меня выбрали, выбрали!
Боярыня и вправду выглядела истинной чаровницей: черные волосы под легкой кисеей, толстая длинная коса, высокий лоб; белое изящное лицо, словно вырезанное из слоновой кости – тонкие рубиновые губы, небольшой острый носик, большие сапфировые глаза, слегка изогнутые темные брови, изящные ушки, в длинных мочках которых покачивались рубиновые капельки, щеки с ямочками, вытянутый подбородок, лебединая шея, вырастающая из собольего меха. Если скрытое под вельветовым платьем тело было столь же прекрасным, как лицо, монашки Вознесенского монастыря безо всякого сомнения пришли в восторг от ее грации и стати.
– Неужели я стану царицей, батюшка? – расправив плечи, вскинула руки над ступенями юная красотка. – Настоящей государыней всея Руси!
Как и всякая девушка, Евфимия мечтала о замужестве. О знатном, молодом и красивом князе, каковой станет ее мужем. Но стать царицей – это было даже не мечтой. Это казалось невероятным чудом! Однако чудо надвигалось, неожиданно легко обещая превратиться в реальность.
Государь объявил смотр невест, и Евфимия подошла по возрасту, а подруги вовремя донесли до нее сие важное известие. И батюшка разрешил, не отказал, не вспомнил о прежних планах и обещаниях. Дозволил хотя бы попытаться! А уж там – как сложится.
И вот после первого смотра въедливые старушенции и монашки не нашли в ней никаких изъянов! Она избрана одной из первых красавиц всей православной Руси!
– Ты само совершенство, Евфимия, и я тобой горжусь! – подойдя сзади, взял дочку за плечи боярин Всеволожский. – Ты оказалась одной из двух сотен самых писаных прелестниц державы! Теперича сможешь гордится сим достижением всю свою жизнь и припоминать сие своему супругу. Но ты еще не невеста. Теперь тебе еще к Успенскому собору идти, где выберут лучших из лучших. А уж затем среди них государь выберет свою единственную!
– И это буду я! – крутанулась девушка и снова кинулась отцу на шею. – Я знаю, я чувствую! Это буду я!
* * *
А в пятистах верстах к югу от них уже закончился ливень, и по мокрой траве дщерь боярская Мария Милославская вскоре добралась домой, с нежностью неся в руках порядком облегчившийся горшочек. Здесь девица с удивлением остановилась в дверях, глядя, как холопы выносят из дома сундуки, мешки и лубяные кули, увязывая их на возки и распихивая по кибиткам. Обойдя двор по краю, боярышня поднялась на крыльцо, вошла в избу, осторожно окрикнула:
– Батюшка?! Что-то случилось?
– Это ты, сластена? – выглянул из кладовой рыжебородый Илья Данилович, одетый лишь в льняную рубашку и полотняные штаны. – Как прогулялась?
– А что на дворе происходит, батюшка?
– Так грузимся, Мария, – снова скрылся в кладовой боярский сын Милославский.
– Нечто случилось что-то?
– А разве ты не слышала?! – крикнул боярин из глубины комнаты. – Государь смотр невест объявил!
Мария ощутила, как у нее на миг остановилось и снова забилось сердце.
– И что? – просевшим голосом спросила она.
– Так свадьба будет, доченька! – отозвался Илья Данилович. – А я стольник царский! Может статься, не самый знатный из бояр, но и отнюдь не последний. Так отчего бы не погулять, не повеселиться? Себя показать, на других посмотреть. Коли повезет, знакомства завести. Многие ведь еще бояре приедут, со всех уездов!
– А, ну да, конечно… – выдохнула Мария. – Зачем же еще нам появляться в Москве?
И хотя дева хорошо понимала, что надеяться не на что, в душе ее все равно осталась едкая неприятная горчинка.
29 июля 1647 года
Москва, площадь перед Успенским собором
Евфимия попала в первый ряд стоящих перед дорожкой красавиц. Золоченый с жемчугом кокошник, шелковая кисея, сарафан из драгоценной парчи, самоцветное оплечье. Она была красива. Она была великолепна! Но вокруг находились еще две сотни таких же блистательных красавиц. И потому девица очень, очень волновалась.
Самым ужасающим стало то, что она не могла видеть ничего происходящего вокруг. «Невесте» полагалось вести себя с надлежащей скромностью: чуть опустить голову и потупить взор. Посему дщерь боярская Евфимия Всеволожская видела лишь ноги и полы ферязей. И знала лишь то, что очень многие из царской свиты задерживали перед нею шаг.
Когда государь вошел в храм, девушка с остальными невестами вошла следом, отстояла службу, а затем в сопровождении тетушки и дворовой девки отправилась домой.
* * *
А боярская дочь Мария Милославская в это время еще только проезжала Тулу, покачиваясь вместе с сестрами и матушкой в огромной просторной кибитке, выстеленной коврами и имеющей внутри даже два настоящих кресла с подлокотниками и небольшой стол.
Увы, во время езды на сем столе оказалось невозможно ни есть, ни пить. Даже шахматы – и те постоянно падали. Вышивать, понятно, тоже было совершенно невозможно. Посему Мария и Анна просто сидели сзади лицом к лицу, прижавшись спинами к бортам повозки и засунув босые ноги под юбки друг другу, и смотрели наружу по сторонам от скрученного в узел заднего полога. На медленно проплывающие мимо поля и луга, рощи и ельники, журчащие ручейки и округлые прудики для разведения рыбы…
– Как полагаешь, отец оставит меня в Москве? – негромко спросила Анна, заправляя на место выбившиеся из-под платка волосы. – В столице, вестимо, интереснее будет. Опять же у Ирины, наверное, дети должны наконец-то появиться.
– С чего бы батюшке тебя Ирине отдавать? – не поняла Мария.
– Так в тетки, – вздохнула сестра. – Хоть какая-то польза.
– А-а-а-а… – потянула Мария, и ее настроение сразу испортилось, словно забытый под лавкой огурец.
Анна была старше ее на семь лет. И тоже осталась несватанной. Но если Мария в свои двадцать три уже числилась «старой девой», то тридцатилетняя Анна уже прочно перешла в «сословие престарелых тетушек». Стать женщиной, хозяйкой, матерью ей было теперь не суждено, и потому пришло время выбирать: либо отправляться в монастырь, в божьи сестры, Богу себя посвятить, либо – к кому-нибудь в тетки прибиться, в чужом хозяйстве по мере сил помогать, чужих детей воспитывать. И Анна, вестимо, склонялась ко второму.
У Марии неожиданно защипало глаза. Она вдруг поняла, что очень скоро точно такой же выбор встанет и перед ней. Ведь ей тоже никогда в жизни не выйти замуж, не стать хозяйкой, не увидеть своих детей, не надеть убруса. Так навсегда и останется пустой, никому не нужной сухостоиной. От таких мыслей кисло стало еще и в носу – боярышня зафыркала, закрутила головой, сползла чуть ниже и, оказавшись полулежа, закрыла глаза. И перед внутренним взором внезапно возник круглолицый, веселый и упитанный Федька.
«Может, и правда?.. – внезапно закралась в ее душу предательская мысль. – Может, позволить? Хоть разок испытать, каково оно… Бабой-то настоящей побыть…»
А кибитка все раскачивалась и скрипела, переваливалась с кочки на кочку, поднималась то выше, то ниже, верста за верстой одолевая далекий однообразный путь.
Спустя три дня длинный обоз боярских детей Милославских миновал Серпухов и покатился дальше.
* * *
И в тот же вечер гонец доставил на подворье бояр Всеволожских письмо, в котором рабе Божией Евфимии предлагалось дождаться восьмого августа царских рынд, каковые проводят ее в Грановитую палату на смотрины невест.
Роскошные каменные хоромы бояр Всеволожских вздрогнули, ибо юная красавица не смогла сдержать оглушающего радостного крика! От царского трона редкостную красавицу отделял всего лишь один, самый крохотный, последний шаг!
8 августа 1647 года
Москва, Грановитая палата
Смотрины невест! Ради такого события в золотую залу собрались практически все знатные люди, каковые имели право входить в Великокняжеский дворец, – от дьяков и князей и до свободных от службы боярских детей из стражи. Многие из гостей были одеты по обычаям стародавним – в тяжелые собольи шубы с шелковыми вошвами, украшенными самоцветами, в бобровые шапки – и опирались на тяжелые посохи. Однако большая часть бояр сдалась жаре и обошлась ферязами без рукавов – нарядами тоже дорогими, из расшитого золотом индийского и бухарского сукна, или опушенной мехами парчи. Однако же сия одежда оставляла открытыми хотя бы рукава и грудь и позволяла носить легкую шапку.
Впрочем, чего там ферязи? Некоторые бояре, явно подражая царскому дядьке, заявились сюда и вовсе в немецких кафтанах! Причем сам боярин Морозов, уважая традиции, надел ферязь из драгоценного пурпура и такой же пурпурный берет.
Государь тоже предпочел облачиться в мантию, явно пряча под легкой накидкой из расшитого бархата тонкую шелковую рубашку и атласные шаровары. Правда, по обычаю к мантии прилагались оплечье с самоцветами и посох, но в жару лучше носить оплечье, нежели меха.
Царские холопы, следуя составленным стряпчими Разрядного приказа местам, развели девушек в четыре ряда.
Евфимия Всеволожская попала в третью пятерку, встала второй с левого края. Исподлобья осмотрелась и скромно потупила взор – как и полагается благовоспитанной девице.
Патриарх Иосиф отслужил положенную службу, благословил государя всея Руси на правильный выбор, после чего Алексей Михайлович в полном одиночестве двинулся к красавицам, мерно постукивая посохом.
Золотая палата замерла в бездыханном молчании…
Сердце Евфимии заколотилось так, что показалось, этот стук услышат все вокруг! В груди зародился нестерпимый жар и ощутимо выплеснулся на щеки, словно бы она сунула все лицо в топку раскаленной печи.
Юный царь прошел мимо первой линии красавиц. Остановился. Двинулся дальше, простучав посохом по полу перед вторым рядом «невест», перешел к третьему. Невероятно медленно добрел до конца. Постоял. Двинулся дальше. Евфимия всей спиной ощутила, как государь прошагал позади, и даже затаила дыхание.
Алексей Михайлович постоял в конце четвертого ряда, затем вернулся к трону, встал там спиной к красавицам. Надолго задумался, повернулся, сделал несколько шагов вперед, глядя вдоль стоящих в линии красавиц. Снова подумал, вернулся. Опять прошел вперед…
Внезапно Евфимия ощутила прикосновение теплого пальца к своему подбородку. Ее лицо поднялось, а взгляд встретился с пронзительным взглядом государя.
– Как твое имя, чаровница?
Девица попыталась ответить, но от волнения у нее перехватило дыхание. Так сперло горло, что даже голова закружилась.
– Как твое имя, лебедушка?
Не дождавшись ответа, царь всея Руси показал Евфимии золотистую шелковую ленту, широко улыбнулся, сверкнув жемчужными зубами и спросил:
– Возьмешь?
Боярышня часто-часто закивала.
Государь опустил свою ладонь на ее руку, чуть притянув к себе, и накинул ленту на запястье девушки, дважды его обмотав. А затем вывел Евфимию мимо остальных красавиц в центр зала, после чего громко объявил:
– Порадуйтесь за меня, бояре! Отныне у меня есть невеста! Ваша будущая покровительница и государыня!
* * *
В эти самые минуты обоз бояр Милославских въезжал в Серпуховские ворота. Всего за час путники миновали пахнущее сеном и индийскими пряностями Замоскворечье, по собранному из бревенчатых плотов наплавному мосту миновали Москву-реку, выкатились к Боровицким воротам, повернули налево, проехали четыре сотни саженей и наконец-то закатились в распахнутые ворота подворья князей Долгоруких, каковые после недавней свадьбы стали им родственниками.
Под руководством хозяйки слуги кинулись топить баню, служанки – собирать на стол, а двух старших сестер Ирина Ильинична провела наверх и показала им просторную светелку, одну стену которой занимала печь и дверь рядом с нею, вторая была затянута тонким бежевым сукном, а на полу лежал новенький ногайский набивной ковер – прямо от края и до края! Однако из мебели здесь имелись только столик у слюдяного окна, обитое красным бархатом резное кресло перед ним и три лавки в локоть шириной.
– Там за дверью моя опочивальня. – Хозяйка указала пальцем на печь. – А тут девичья. Служанок я пока в людскую отправлю, а вы можете располагаться здесь. Будем рядом, завсегда сойтись и поболтать сможем. В общем, скажите холопам, чтобы ваши сундуки тащили сюда.
– Вот это да-а-а… – восхищенно потянула Мария, крутя головой и рассматривая богато отделанную горницу. – Вот это красота-а!
* * *
Точно так же, но в немом восхищении боярышня Евфимия Всеволожская в это же самое время бродила по роскошным комнатам Теремного дворца, поражаясь росписи стен, большим светлым горницам, огромным окнам, вычурной мебели, коврам на полах и резьбой бесчисленных украшений.
Ее, как названую царскую невесту, сразу после смотрин слуги отвели в покои царицы – ждать и готовиться к свадьбе. Разумеется, вместе с отцом и тетушкой, каковые следили за честью и безопасностью своего прекрасного чада.
И вот теперь Евфимия ходила от дверей к дверям в полном восторге, поражаясь всему тому благолепию, что отныне станет составлять ее жизнь. Роспись, лепнина, золото, шелк, настенные бра, наборный пол, мозаичные окна…
Многие из находившихся здесь предметов девушка вообще видела впервые. Например, диваны на резных ножках с волнистыми спинками, с мягкими сиденьями и столь же мягкой обивкой для спины…
В хоромах боярской семьи Всеволожских люди как-то обходились скамьями, часть которых, предназначенная для лучших гостей, была обита кошмой.
Стулья – тоже изысканные, с шелковыми спинками и сидушками.
Евфимия, сколько себя помнила, пользовалась токмо скамейками и табуретами.
Столы во многих местах стояли низкие и столь изящные, что казалось, сядь случайно на них – тут же и развалятся.
Зачем делать столешницы тоньше двух пальцев, да еще и собирать на них рисунок из древесины разных цветов – девушка не поняла. Все едино ведь скатертью перед пирами накрывают! Но красивы они получились до невероятности!
Но пуще всего Евфимию изумило бюро: специальный шкафчик для письма и чтения, с опускающейся столешницей, множеством ящичков, в том числе и потайных, спрятанных под резьбой, – служанки их тут же показали, как особенную редкость. Здесь имелись специальные отделения для чернил, для бумаги, для писем, для грамот, для перьев, ножей и много еще чего хитрого, об истинном предназначении чего царская невеста пока не догадывалась.
В доме Всеволожских боярину хватало в работе с бумагами пюпитра и пары сундуков, да шкатулки с чернилами и перьями. Сама же Евфимия читала или валяясь на постели, или сидя на сундуке у окна. Что же до письма… Пару раз в год, взяв в руки перо, она обходилась собственными коленями и положенным на них псалтырем. А чаще и не требовалось.
Но что особенно удивительно: в Теремном дворце вовсе не имелось места для шитья! Правда, одна из служанок обмолвилась, что для этого есть особая большая мастерская где-то внизу и в особом крыле. И еще – несколько мануфактур. Однако в большой мастерской, да еще внизу с пяльцами у окна, понятно, не посидишь.
Но особенно изумительной здесь оказалась опочивальня! Изразцовая печь – в половину внутренней стены. Остальные стены обиты зеленым шелком с какой-то мягкой подложкой. На зеленом же расписном потолке распускались алые розы и тюльпаны, заплетенные стеблями лютика. Напротив печи – два небольших окна из разноцветных стеклышек. Лепнина по углам в виде алых орлов и золотых девичьих кос, резные цветы вокруг окон, светильники из хрусталя с разноцветными восковыми свечами. В центре комнаты стояла большущая постель с резными боковинами, полная лебяжьего пуха, и с тремя пухлыми мягкими подушками. Над кроватью возвышался балдахин с шелковыми боковинами, на которых танцевали изящные длинноклювые цапли. Саму же постель укрывал роскошный соболий полог.
– Я царица, царица, царица… – закружилась счастливая девушка, раскинула руки и, чуть подпрыгнув, упала на спину на кровать. – Царица!!!
* * *
Боярышня Мария Милославская в сей миг уже парилась в бане, смывая дорожную пыль. Она хорошенько прогревалась на верхнем полке, наслаждаясь щекоткой от ароматного березового веника и привкусом еще более ароматного ржаного хлебного кваса, каковым девица только что запивала в предбаннике жареный бекон и маринованные огурцы. После бани гостью из далекого Курска ждал невероятный сюрприз: розовый поросеночек на блюде в окружении листьев салата, ломтиков лимона и с печеным яблоком во рту.
Девицу посадили за стол и поставили блюдо перед ней, окружив и поглядывая на нее в ожидании. Мария напряглась, сразу почуяв что-то неладное, оглянулась на родственников. Вытянула маленький нож, предназначенный как раз для еды, и осторожно отрезала сбоку кусочек мяса… Которое внезапно оказалось смуглым и однородным!
Все родичи дружно напряглись.
Девица, решив ничего не спрашивать – ну не отравят же ее, в самом деле?! – положила ломтик в рот… И ее глаза в изумлении округлились:
– Оно медовое!!!
Все засмеялись, а княгиня Долгорукая наклонилась и поцеловала ее в щеку:
– Это специально для тебя, сластена! Угощайся!
– Но что это такое, Ирина?! – подняла глаза девушка.
– Марципан… – улыбнулась ей хозяйка, отломила кусочек от листа салата и забросила в рот.
После ужина сестры сделали в девичьей небольшую перестановку: составили скамьи рядышком, подперев снаружи сундуками, расстелили сверху набитый сеном тюфяк, вместо подушек скатали сарафаны. Улеглись, укрывшись кафтанами, и прижались друг к другу.
– Анечка, сегодня самый лучший день в моей жизни! – прошептала на ухо старшей сестре Мария. – Такой вкуснятины я не ела никогда в жизни! А еще мы в Москве, в роскошной опочивальне. Завтра пойдем в Кремль, увидим самые главные церкви Руси, новый царский дворец. Как же нам повезло!
– Ира сказывает, коли на свадебный пир попадем, там яства еще вкуснее и роскошнее! – ответила сестренке Анна. – На них любоваться – и то страшно, не то что кушать. Вот уж где насладишься! Конфетные деревья, сахарные крепости, ягодные пирамиды, царские пряники.
– Молчи, Аня, молчи! У меня от одних токмо рассказов твоих слюнки потекли! Давай лучше спать. Утро вечера мудренее…
Сестры обнялись и закрыли глаза.
А всего в версте от них с очень похожими мечтательными мыслями утонула в мягкой, как летнее озеро, перине царская избранница Евфимия Всеволожская, одетая лишь в батистовую сорочку и с костяным прабабушкином крестиком на груди.
Но даже закрыв глаза, она еще очень и очень долго никак не могла уснуть.
* * *
Новый день у сестер Милославских не задался. Мужчины накануне сильно запировались, и к тому часу, когда девицы встали, они только-только отправились спать. Знамо, отправиться в Кремль явственно не могли. Однако сестры не сильно огорчились и сбежали на торг.
В Кремль Аня, Ира, Мария и юная Катя соваться не стали: выйдя на набережную Неглинной, повернули налево по берегу, слегка ошарашенно разглядывая яркие, как зимние снегири, дома, стоящие вдоль набережной.
Выстроенные по последней московской моде подворья были не просто кирпичными. Вычурно уложенная кладка местами выпирала кирпичными ребрами, словно бы драконья чешуя, местами поднималась колоннами, где-то завивалась в полуспираль, иногда образовывала полочки или сверкала яркой разноцветной глазурью. Стены домов были серыми или розоватыми, колонны – белыми или синими, «чешуя» – красной, полочки или полоски между окон – зелеными, алыми, сиреневыми и блестящими от изразцов.
А уж кровли! Они были скатными, шатровыми, луковыми, прямыми, гранеными и закрученными и крытыми пластинками всех цветов радуги – где сложенными «шахматкой», где идущими спиралью, а где узкими полосками, наподобие летней радуги.
Гостьям из провинции, застроенной обыденными срубами, показалось, что они оказались внутри индийской раскладушки, полной чудесных рисунков и ярких узоров, а не на обычной городской улице.
Ощущение сказочности усиливалось благодаря гуляющим тут и там слонам и горбатым верблюдам, укрытым яркими попонами. Диковинных зверей вели в поводу усатые и безбородые темнолицые иноземцы в пухлых атласных шароварах и душегрейках на голое тело, в деревянных туфлях и с забавными чалмами на головах.
– Ай, красавицы, сюда идите, на чудо-юдо персидское посмотрите! – тут же метнулись к девицам зазывалы. – На спинах чудищ покатайтесь, с высоты неимоверной на людей посмотрите! Две копейки с человека за диковинное удовольствие! Трех прокатим, четвертую бесплатно посадим!
От такой нахрапистости чужих мужчин сестры, сбившись плотнее, только отпрянули, поспешили вперед. За Алевизовым рвом[24] они перемахнули по мосту Неглинную и оказались на просторном и шумном торгу, раскинувшемся между Кремлем и Китай-городом.
Здесь гостьи столицы заглянули поначалу в совсем близкий скомороший балаган. Посмеялись над несколькими глумами о приключениях медведя и пахаря, медведя и попа, медведя и девки, рассказанными под бренчание домры, звон бубнов и насвистывание жалеек. Развеселившись, девицы оставили музыкантам пару копеек и пошли гулять дальше.
Съели пару кренделей с вареньем, запили киселем, после чего долго качались на гигантских качелях и кружились на вертикальной карусели, то возносясь выше крыш, то падая обратно к земле. Натешившись, свернули в торговые ряды, прошли вдоль бесконечной череды лотков, прикупив два тончайших шелковых платка и нитку жемчуга, свернули в другой проулок, там угостились пряниками с черносливом, неожиданно для всех оказавшимися хмельными. Веселенькие, сестры вернулись на торг и оказались столь безрассудны, что за пять копеек на всех согласились прокатиться на слоне, ведомом персом в атласной чалме, войлочной жилетке, пышных шароварах и сверкающих от бисера тапочках с высоко загнутыми носками.
Вернувшись домой, сестрицы отужинали копченой рыбой с капустой и хлебом – на прочие изыски их уже не тянуло – и отправились почивать.
Новое утро принесло новую надежду: боярин Илья Милославский и князь Дмитрий Долгорукий хорошо отоспались, взбодрились еще до рассвета квасом и густым мясным студнем, а потому были готовы исполнить свое давешнее обещание.
Разумеется, обе семьи по такому случаю оделись в самые лучшие одежды. Князь Долгорукий – в соболью шапку, суконные штаны и лиловую косоворотку из китайского шелка, в украшенные бисером сапоги. На плечах его лежала бархатная ферязь, вышитая золотой нитью. Желтый рисунок складывался в стебли и листья, причем каждый из листиков украшала на кончике небольшая жемчужина. Боярин Милославский ограничился атласной рубашкой, добротными шерстяными штанами и яловыми сапогами, зато сверху накинул подбитый куницей плащ, позволяющий спрятать под хорошими мехами достаточно скромное одеяние.
Сестры Милославские нарядились в лучшие сарафаны: парчовый верх, бархатные юбки; спрятали волосы под вовремя купленными шелковыми платками. На их груди сверкали жемчужные и самоцветные ожерелья, в ушах поблескивали серьги, по рукавам змеилась бисерная вышивка, перста украшали золотые кольца. Сравниться с гуляющими в Кремле знатными княгинями провинциалкам было, понятно, не по силам, но выглядели боярышни вполне достойно.
Выпив для пущей бодрости по кубку вина, Долгорукие с Милославскими и отправились в Кремль – людей посмотреть да себя показать; в священном месте службу отстоять.
Главная твердыня Руси, как и сам Успенский собор, оказался на удивление полупустым. Москва огромна, ходить каждый день к заутрене в Кремль хватало терпения немногим. Тем паче в обычный будний день, к обыденной службе. На неделе государь редко заглядывал в храм, предпочитая молиться в своих покоях. А коли на службе нет царя всея Руси, зачем вставать затемно и отправляться в такую даль, коли можно сходить в домовую церковь или просто опуститься на колени перед иконой в красном углу?
Однако даже и в полупустом соборе за местами следовало следить со всем тщанием. Все же главный храм державы, предназначенный для самых знатных людей Руси. Встанешь слишком близко к алтарю – может случиться скандал с людьми из семей Мстиславских, Воротынских или Оболенских. Встанешь далеко – сам среди слуг и детей боярских окажешься, тоже позор. Ведь в будние дни в Успенский собор даже холопы дворцовые молиться приходят, держась, разумеется, у самой дальней стены. С ними рядом попасть – урон немалый для всей родовой чести!
Поэтому князь Дмитрий Долгорукий с супругой остановились примерно в пяти шагах от аналоя, сместившись немного влево. Бояре Милославские пристроились рядом с ними – не в силу родовитости, но как княжеские спутники. Тем паче что особо знатных людей, готовых оспорить у боярских детей таковое право, рядом и позади видно не было. Везде и всюду – самый обычный, простецкий служилый люд…
* * *
Боярин Борис Иванович вошел в покои государя вместе с патриархом и подьячими от Посольского и Конюшего приказов: боярами Алмазом Ивановым и Афанасием Матюшкиным. И застал Алексея Михайловича стоящим у распахнутого окна.
– Ты уже поднялся, государь?
– Я не могу заснуть, дядька, – покачал головой восемнадцатилетний властитель великой державы. – Всякие мысли постоянно в голову лезут, беспокойство. Вдруг я выбрал не ту? Вдруг иные были милее, но я просмотрел? Или лучше… Ведь я выбрал ее на всю жизнь! И сего выбора более уже никогда не изменить…
– Это у тебя предсвадебное волнение, государь, – улыбнулся боярин Морозов. – Это нормально. Все беспокоятся. А бабы еще и рыдают, горючими слезами обливаются. Хотя как раз они завсегда больше всех своей свадьбе и радуются! Однако же сегодня у нас есть беды куда тревожнее. Недавний учет показал, что нынешние расходы казны превосходят приход почти на двадцать тысяч рублей. Сверх того, Посольский приказ челом бьет об обновлении расписания, а Конюшеному приказу ввиду предстоящих торжеств недостает серебра для возникших нужд.
– Так, может, отложить? – вдруг предложил государь.
– Ты о чем, Алексей? – встревожился дядька.
– Отложить свадьбу. Коли уж в казне недодача… Мой отец, вон, в тридцать лет женился!
– Государь, это невозможно! – возмутился уже патриарх Иосиф. – Ты царь! Ты молод и здоров! Во благо державы и ради спокойствия наших потомков нам нужен наследник трона! Ты обязан скорейше родить сына!
– Я не уверен, что сделал правильный выбор, святитель.
– Боярышню Евфимию осматривали лучшие повитухи и лучшие медики! – напомнил боярин Морозов. – У нее широкие бедра и большая грудь, она полнокровна и не имеет изъянов. Она родит здоровых детей.
– Но разве токмо сие важно в близости супругов, святитель? – обратился к первосвященнику государь.
– А что же еще надобно, чадо мое? – удивился патриарх. – Господь сказал нам: «Плодитесь и размножайтесь!» – и во исполнение заветов Всевышнего каждый муж обязан скорейше найти себе супругу и зачать детей!
– Все равно с кем?
– Со здоровой благонравной женщиной!
– С любой?!
– Ты беспокоишь меня, государь… – перекрестился патриарх. – Молился ли ты сегодня?
– Это просто предсвадебное беспокойство, святитель! – вступился за воспитанника боярин Морозов.
– Тебе надобно обратиться к Господу с покаянной молитвой, мое возлюбленное чадо! – твердо потребовал патриарх Иосиф. – Я сам вместе с тобой стану молиться о твоем вразумлении и успокоении! Я приму твою исповедь и очищу твою душу. Когда умиротворится твоя душа, то успокоится и разум.
– Да, – согласился боярин Морозов. – Нам всем необходимо помолиться и успокоиться. Скоро соберется Боярская дума, и нам придется решить несколько сложных вопросов в денежных делах.
– Хорошо, давайте помолимся, – согласился Алексей Михайлович. – Здесь станем к Богу обращаться или пойдем к иконостасу за опочивальней?
– Если уж идти, то в храм Господень, – после короткого колебания решил патриарх. – К ризе Господа нашего, Иисуса Христа. Близость к Божьей благодати придаст новые силы нашим молитвам!
– В храм так в храм, – не стал противиться государь. – Позовите слуг, пусть подадут одеваться.
Спустя четверть часа государь со своей случайно сложившейся утренней свитой и восемью рындами спустился с крыльца Теремного дворца.
– Царь, царь идет!!! – известие заставило тревожно всколыхнуться всех немногочисленных прихожан. – Государь идет молиться! Сам Алексей Михайлович! И патриарх, первосвятитель Иосиф с ним!
Подданные склонились в поясных поклонах, на которые царь, его воспитатель и патриарх совершенно не обратили внимания, слишком занятые беседой.
– У нас в приказах слишком много стряпчих, – объяснял, шагая рядом с правителем, Борис Иванович. – Сии расходы легко сократить, поменяв тягло на пошлины. На Руси четыре миллиона смердов крестьянского сословия, и за каждой сохой и ловом учет потребен. Из сего выходит тысяча писарей, каковые все дворы да пашни переписывают. Солеваров же всего пара тысяч, за ними всеми и один подьячий уследит. Соль же надобна каждому хозяйству и каждой живой душе. Коли вместо тягла подушного пошлину соляную установить, то всех прочих учетчиков можно к делам полезным приставить и для казны до пятидесяти тысяч рублей каждый год сохранять…
– Окстись, Борис Иванович! – взмолился патриарх. – Ты же в храме Господнем пребываешь, из коего Иисус торговцев еще до вознесения изгнал! О Боге и о душе подумай, боярин!
Самый богатый человек державы, спохватившись, кашлянул, потупил взор и перекрестился.
– Иди сюда, – призвал государя патриарх, и они вместе встали перед алтарем, склонившись в молитве.
Свита затихла, первосвятитель негромким речитативом вознес молитву о ниспослании царю Алексею Михайловичу покоя и благоразумия.
Государь обращался к небесам, остальные прихожане во все глаза смотрели на него, затаив дыхание и забывая даже креститься. Не каждый день увидишь самого царя, великого государя всея Руси вот так, совсем рядом – не заслоненного от простых людей десятками спин придворной знати!
Закончив молитву, Алексей Михайлович исповедался, получил отпущение грехов и с явным облегчением направился к выходу, скользнув безразличным взглядом по прихожанам: по собольим шапкам и куньим воротникам, по самоцветным кокошникам и жемчужным ожерельям, по высоким лбам, вздернутым подбородкам, белым щекам, по коралловым губам и синим глазам.
По пронзительному карему взору.
Карему взору на прекрасном лице – румяном и тронутым слабой таинственной улыбкой…
Алексей внезапно ощутил, как резко остановилось в груди сердце, будто бы его вдруг сжала сильная холодная рука, и одновременно все тело высокого плечистого паренька бросило в жар. Царь замер. Затем повернулся и двинулся вперед, самим своим обликом раздвигая прихожан, словно порыв ветра раскидывал в стороны сухую осеннюю листву. Взял за руку незнакомку в бархатном сарафане, с жемчужным ожерельем на шее.
– Как твое имя, неведомая княжна, – вопросил он тихо, – и что за счастливый случай привел тебя в этот храм?
В соборе повисла гнетущая тишина всеобщего изумления. И потому даже негромкий ответ девушки прозвучал оглушительно, многократно отразившись от арочных сводов и каменных стен:
– Мария Милославская я, государь. Дщерь боярина Ильи Милославского.
– Кланяйся, кланяйся! – сразу с двух сторон зашипели княгиня Долгорукая и Илья Данилович, однако ни девушка, ни царь их словно бы не услышали, глядя друг другу прямо в глаза. И думали, похоже, об одном и том же. О том, что если сейчас, в этот самый миг, они разойдутся в стороны, то больше уже нигде и никогда в жизни друг друга больше не увидят.
– Идем со мной! – вдруг крепко сжал пальцы девицы государь и быстро потянул Марию за собой.
– Ты куда?! – растерянно выдохнул боярин Милославский.
– Ты куда? – не менее изумленно сглотнул патриарх.
– Куда?! – кинулся следом Борис Иванович.
Святитель Иосиф в своих одеждах и в силу возраста поспеть за остальной свитой не смог. Не стал даже и пытаться, просто осенив себя широким крестным знамением. Все остальные прихожане вперемежку со стражниками поспешили за царем и молодой девицей.
Алексей Михайлович почти выбежал из собора, не отпуская прекрасную девицу, поспешил к крыльцу. Однако юбки сарафана не позволяли боярышне поспевать за ним, и юному царю пришлось замедлить шаг.
– Алексей, стой! – выскочил вслед за воспитанником боярин Морозов. – Стой, не смей!
Бориса Ивановича почти нагнали князь Дмитрий Долгорукий и боярин Илья Милославский. Они бежали молча – не сразу сообразишь, что кричать, когда властелин открыто похищает твою дочь!
От ступеней Успенского собора до крыльца Теремного дворца всего полторы сотни шагов. Несмотря даже на юбку, путающую ноги Марии, боярин Морозов смог нагнать своего воспитанника только на ступенях. Не схватить – окликнуть:
– Что ты творишь, Алексей?! Ты же ее позоришь!
Юный царь оглянулся, и Борис Иванович крикнул снова:
– Стой, Алексей! Ты позоришь эту девицу! Ты украл ее у родителя и тащишь в свой дом! Это же полное бесчестье!
Эти слова заставили паренька остановиться. Однако он все равно спрятал Марию за спину и упрямо заявил:
– Я ее не отдам!
– Ты бесчестишь сию девицу, – громким шепотом повторил боярин Морозов, подходя ближе. – Подумай сперва о ней, Алексей! Еще шаг – и ты изувечишь ее судьбу!
– Я не могу с ней расстаться, дядька, – покачал головой юный царь. – Я не для того ее нашел, чтобы сразу потерять!
Борис Иванович повел плечами, сглотнул, подумал. Медленно кивнул.
– Ты не расстанешься, – пообещал он. – Но это делается не так.
– Что здесь творится?! – забежали на крыльцо князь Долгорукий и боярин Милославский. – Верни мою дочь!
– Государь Алексей Михайлович сказывает… – кашлянув, повернулся к ним боярин Морозов. – Государь полагает, что из твоей дочери получится хорошая наперсница для его сестер, Татьяны, Анны и Ирины! Они скучают в своих покоях, и им нужны подруги.
Князь и боярин переглянулись.
Борис Иванович повернулся к воспитаннику и с сильным нажимом сказал:
– Она станет жить во дворце вместе с царскими сестрами на женской половине, при многих глазах. В этом нет никакого бесчестья! – Дядька крутанулся обратно и добавил: – Наоборот, это достойное место в государевой свите!
Князь Дмитрий Алексеевич и боярин Илья Данилович распрямились, одновременно кашлянули. К ним стала возвращаться уверенность. И даже гордость, ибо дочери досталось место в свите царевен, это уже честь и возвышение, а вовсе не позор из-за похищения.
– Она станет играть с царевнами, в Теремном дворце! – еще раз повторил для юного государя боярин Морозов, повернул голову вниз, добавив для родичей: – С царевнами, на женской половине!
Никто не спорил. Царский воспитатель понял, что общая тревога наконец-то отпустила всех собравшихся мужчин и облегченно закончил:
– Сейчас мы все вместе проводим ее туда…
* * *
Мария даже не поняла, как это вдруг получилось… Она, конечно, надеялась увидеть в Кремле много всего интересного: великолепный царский дворец сказочного вида и убранства, величественные храмы, невероятную по высоте звонницу Ивана Великого, самых знатных князей из древних родов. Отправляясь обеими семьями к заутрене в Успенский собор, все втайне мечтали встретить там патриарха или государя. Им повезло – Алексей Михайлович и святитель действительно решили этим утром посетить храм. Пока двое самых знатных людей Руси молились, прихожане глазели на них, забыв обо всем на свете. А Мария настолько увлеклась, что не опустила взгляда, даже когда царская свита направилась к выходу. И на диво встретилась с государем взглядами!
Алексей Михайлович оказался красив и невероятно молод – совсем еще мальчишка! Безус, яркоглаз, с розовым юным лицом – но при всем том статен, высок, даже огромен, и невероятно широкоплеч. Настоящий витязь! Залюбуешься! У любой девицы от вида подобного удальца сердце дрогнет и душа затрепыхается… И словно бы в сладком сне сей витязь внезапно повернул к Марии, подошел, взял за пальцы и заглянул в самые глаза, позвав за собой.
И девушка, словно завороженная, двинулась следом. Сперва шагом, а затем побежала. Ничего не понимая, но с головой ныряя в омут нахлынувшего на нее незнакомого сладкого наваждения.
На крыльце их с витязем догнали, и Мария спряталась за спиной удальца, впервые в жизни испугавшись собственного отца, но еще более страшась проснуться в сей самый захватывающий миг в своей узкой светелке. Однако чарующий сон продолжался: Илья Данилович не стал отнимать дочку у лихого молодца. Наоборот, вместе с ним и дочерью поднялся по лестнице на широкое гульбище, окруженное каменными резными перилами.
С того гульбища наверх вела еще одна лестница, закругленная, которая вывела Марию и четверых мужчин на другую площадку, откуда они вошли в красный с белыми колоннами дворец; миновали несколько комнат, пока не оказались в застеленной пушистыми коврами и заваленной атласными подушками горнице.
Тут же пред гостями вскочили и поклонились в пояс несколько великовозрастных теток, а три девчонки лет десяти-пятнадцати на вид, в шелковых рубашках и парчовых сарафанах, кинулись к царю:
– Леша, Алексей!
– Танюша! Ира! – по очереди покружил девочек царственный паренек, а саму Марию отец в это время крепко взял за плечо.
– Ничего не бойся, доченька! – шепнул он. – Все будет хорошо!
– А я вам, кстати, подружку привел! – внезапно повернулся к Марии юный государь. – Няньки одни и те же небось надоели? Теперь хоть получится с кем поболтать…
Он приблизился к боярышне, опять взял ее за пальцы. Постоял, терзаемый какими-то внутренними муками. Наконец, глядя в глаза, пообещал:
– Скоро увидимся… – и вышел в распахнутые двери.
Бояре Морозов и Милославский, князь Долгорукий шагнули следом, и покрытые глянцевым лаком тяжелые резные створки медленно сомкнулись.
Мария поняла, что оказалась взаперти. Однако радоваться сему или пугаться, она еще не знала…
* * *
Вести по дворцу разносятся быстро. Еще до обеда холопки стали о чем-то шептаться, искоса поглядывая на Евфимию.
Девушка прислушалась…
– Царь-то, ты представляешь, другую невесту себе сегодня нашел! – достаточно громко шепнула одна служанка другой, и у избранницы от такой вести даже в голове загудело и замелькали перед глазами яркие радужные искорки.
Евфимия кинулась через коридор к отцу – тот, бледный как полотно, торопливо одевался, застегивая пояс с двумя ножами и сумкой поверх ферязи.
– Папа, ты уже слышал?
– Не беспокойся, доченька, я скоро вернусь! – Боярин Федор Родионович, тяжело ступая, прошел по коридору, скрылся за дверью.
Евфимия осталась внутри, уперевшись лбом в толстую и холодную резную створку. Ведь царскую избранницу берегли, ее холили и лелеяли, ее стерегли, таили от опасности! Посему выйти наружу, узнать, посмотреть, спросить она никак не могла. Ее уделом оставалось только стоять под дверью и молиться, надеясь, что дурной слух окажется всего лишь ошибкой.
Откуда, как у царя Алексея Михайловича может взяться еще одна невеста, коли государь выбрал Евфимию?! Выбрал сам, прилюдно, своею рукой вывел и сам же ленточкой заветной одарил!
Евфимия отвела руку назад, пощупала косу, в которой один над другим красовалось сразу два бантика, и покачала головой:
– Да нет, как же? Не может такого быть!
Но душа тревожилась и болела, и девушка, тиская руки, крутилась в коридоре, металась от стенки к стене в нетерпеливом ожидании батюшки.
Боярина Всеволожского не было, казалось, целую вечность. И вернулся он еще бледнее, нежели выходил.
– Что, батюшка, что?! – тут же кинулась к нему Евфимия.
– Сказывают… – вцепился правой рукой в бороду Федор Родионович. – Сказывают, увидел царь девку какую-то в церкви. Схватил, бают, за руку, да к сестрам своим на женскую половину увел.
– И что теперь будет? – мгновенно охрипла Евфимия. – А как же я? Что станется со мной?
Боярин крякнул, двинулся вперед, отстранив дочку, свернул в свою горницу и громко захлопнул дверь.
* * *
В это самое время в царских покоях на самом верху Теремного дворца кипел горячий спор.
– Что же ты делаешь, Алексей?! Что ты творишь? – схватившись за голову, отчитывал стоящего у окна царя всея Руси боярин Морозов. – Ты хоть на миг задумался, когда девицу ни в чем не повинную за руку схватил и за собою поволок? Ты понимаешь, что женщина, оказавшаяся наедине с чужим мужчиной, на всю жизнь остается покрыта позором? Тем паче схваченная со столь неприкрытыми намерениями!
– Я государь или не государь, дядька?! – повернулся к Борису Ивановичу юный правитель. – Разве я не могу делать все, что пожелаю?!
– Мой мальчик, – опустив руки, подошел к нему воспитатель. – Царь имеет право токмо на то, что позволяют ему его подданные! И токмо до тех пор, пока подданные веруют в него и сомнений в его чести и справедливости не испытывают! Коли ты желаешь, чтобы бояре и стрельцы по твоей воле на смерть в походы дальние шли, чтобы черный люд тягло безропотно платил, чтобы Дума и Земский собор указы твои утверждали, а не оспаривали, ты должен быть безупречен! Ты должен быть первым среди князей, первым среди святителей, первым среди работников! Вдвое честнее любого, вдвое справедливее! Али забыл, как Дума и Земский собор волю отца твоего ни во что ни ставили и вопреки желаниям его сами все решали?! Ты помазанник Божий, отец народа и опора православия! В сем никто и никогда не должен сомневаться! Отдаваясь в твою власть, на твой суд и твою волю, ни один смертный не должен бояться несправедливости! А ты что творишь?! – повысил голос дядька. – По капризу пустому девку хватаешь, о бесчестье для нее даже не задумавшись! У тебя до обручения всего три дня осталось, невеста что теперь думать должна? Что с ней теперь станется? С ее судьбой, ее честью? Она поверила твоему слову! Она отдалась в твое владение! Ты о ней подумал?!
– Это не каприз, – ответил Алексей Михайлович. – Я как Марию увидел, дядька, у меня внутри все словно перевернулось! У меня сердце замерло, у меня душа запела. У меня в глазах померкло, и, окромя нее, я ничего округ не видел более.
– И ты поэтому ее схватил и уволок, ровно волк невинного агнца?
– Я не могу без нее дядька, – сглотнул восемнадцатилетний паренек. Перевел дыхание и резко признался: – Я люблю ее! Люблю!
– Проклятущая любовь! – зло оскалился боярин Морозов. – Я же предупреждал тебя, Алексей, я же говорил! Любовь, это самое страшное наваждение, из-за которого самые лучшие и мудрые из мужчин превращаются в безумцев. Ты хочешь, чтобы тебя свергли?!
– Не говори ерунды Борис Иванович! Когда это народ из-за любви восставал?
– Князь Долгорукий! Боярин Милославский! – тут же напомнил воспитатель. – У них у всех есть родичи, да и друзей в достатке. Полагаешь, они бы не вступились за честь схваченной тобой Марии? Мыслишь, их порыв не встретил бы сочувствия? Да если бы я вовремя не придумал, как без позора все случившееся погасить, Алексей, бунт уже начался бы! Ты всего час как влюбился, а держава уже токмо чудом по грани новой смуты пройти успела! И это только начало! Ты властитель величайшей державы ойкумены, Алексей. Твой разум должен быть спокойным, а поступки обдуманными и правильными. Ты не имеешь права на любовь, ты не имеешь права на безумие! Ты обязан заботиться о благе державы!
Юный правитель только рассмеялся:
– Хватит пугать меня, дядька! Я не ведаю, что за страшная беда случилась в твоей жизни и отчего ты так возненавидел сие прекрасное чувство… Но любовь – это не трагедия! Это чудесный живой цветок, каковой внезапно распускается в твоей душе. При одной мысли о Марии мне сразу легче дышать, мне хочется улыбаться, петь, делать подарки, просто обнимать всех вокруг. Любовь делает меня счастливым, Борис Иванович! И теперь я начинаю понимать, отчего ей посвящают столько стихов и баллад, сказок и легенд. Почему она возвышает всех людей, от царей до пастухов!
– Вот только ты не пастушок, Алексей Михайлович, – покачал головой боярин Морозов. – Вспомни про Евфимию. В покоях царицы живет боярышня, каковую ты избрал своей невестой. Скажи, что ты сделаешь с ней? Что ты с ней сделаешь ради близости с Марией? Ты ее отравишь? Сошлешь? Пострижешь в монастырь? Просто изгонишь с позором? С девицей, которая положилась на твое слово и твою честь? – Борис Иванович хмыкнул и скривился. – Расскажешь мне о своем счастье, мой мальчик, когда твоя любовь сожрет твою совесть!
Воспитатель похлопал Алексея Михайловича по плечу и вышел из царских покоев.
В этот раз государь всея Руси задумался всерьез, поглаживая пальцем губу и подбородок. Глубоко вздохнул, оттолкнулся спиной от края оконного проема и вышел из покоев.
– Я хочу навестить своих сестер, – сказал он рындам, дабы бояре знали, куда следует его провожать, и зашагал к лестнице.
Еще задолго до покоев царевен Алексей услышал веселый смех, топот – и невольно начал улыбаться. Рынды поспешили вперед, распахнули двери, и государь увидел сестер, с громкими визгами убегающих от боярышни Милославской. Гостья медленно двигалась, широко расставив руки с растопыренными пальцами и переваливаясь с боку на бок; ее ожерелье уползло на плечо, платок сбился на затылок, глаза были завязаны.
Царь остановился – десятилетняя Татьяна, разгоряченная до красноты, подскочила к нему, громко захихикала, отскочила.
Гостья резко повернулась, сделала несколько быстрых шагов и ловко сгребла Алексея Михайловича в свои объятия:
– Попалась!!!
Удерживая жертву за плечо, Мария чуть отступила, пальцами второй ладони провела по ферязи, затем выше, скользнув ими по шее, подбородку… губам…
Алексей замер, испытывая от сих неожиданных ласк странное, непривычное удовольствие. Словно бы горячие солнечные лучи касались его лица, даруя душе некое возвышенное, весеннее настроение, а вовсе не рука женщины.
Между тем пальцы боярышни поднялись выше, ко лбу и волосам. Девица ойкнула, отдернула руку. Потом снова протянула вперед, нащупав второе плечо, оценила их ширину, охнула еще громче и отступила с поклоном:
– Прошу прощения, государь!
Она сдернула повязку, а девчонки уже бежали к Алексею Михайловичу:
– Угадала, угадала! Мария угадала, теперь ты водишь!
Ирина и Анна с хохотом завязали царю глаза, закружили и прыснули в стороны:
– Не поймаешь, не поймаешь!
Ни малейшего почтения к государю всея Руси они явно не испытывали. Впрочем, Алексей Михайлович не обиделся и двинулся по комнате, разведя руки. Мария же отошла к самой стене, глядя на резвящихся детей.
Именно так она себя и ощущала рядом со всей царской семьей: пожилой, умудренной жизнью тетушкой. Ведь Мария уже успела пережить и свое детское беззаботное веселье, и юность, и ожидание судьбы, когда заплела ленту в косу, готовая встречать женихов. И отчаяние, когда за несколько лет сваты так и не появились, а юность уходила, растворялась во времени, заканчивалась, испарялась, утекала сквозь пальцы… Потом тоску сменило ощущение безнадежности, а затем и смирение. И наконец, возвращение к жизни. К той, которую уготовила судьба. К умению радоваться тем мелочам, что остались на ее долю. Сластям, качелям, прогулкам по лесу. Красивым крепышам под березами и соснами: пузатым белым грибам и могучим боровикам.
Царевны же были всего лишь детьми. Просто детьми – и по возрасту, и по беззаботности. Как и сам государь – мальчишка неполных восемнадцати лет. На пять лет младше Марии.
Царь!
Боярышня усмехнулась, легонько толкнула ступней стенку.
Услышав стук, Алексей Михайлович резко повернулся к ней, сделал несколько быстрых шагов, широко расставив руки.
– Не поймаешь… – прошептала Мария. Достаточно громко, чтобы государь повернул на ее голос и схватил за руку.
– А это у нас кто?! – весело спросил он.
– А ты угадай! – ответила девица, прильнула и крепко поцеловала его в губы.
Паренек охнул и разжал ее руку, Мария со смехом отбежала.
Однако игра не получилась – Алексей Михайлович сорвал с себя повязку. И взгляд у него был такой… Обезумевший… Словно бы он отпил из ковша полный глоток едкого репового кваса, а на вкус тот оказался чистый сладкий мед!
Слегка пошалившая гостья улыбнулась – в деревенских играх развеселившиеся девицы позволяли себе такое сплошь и рядом, особенно слегка во хмелю. Ничего особенного, но паренек так и остался стоять с чумным взглядом.
– Алеша, так нечестно! Ты не поймал, она выскочила! – возмутились царевны.
– Простите, сестрицы, но мне надобно идти, – покачал головой государь. – Боярин Морозов с делами донимает. Я лишь желал узнать, в порядке ли вы. Смогли ли с гостьей нашей подружиться?
– Мария сказывает, на торгу персы всех желающих на слоне катают! – встрепенулась Татьяна, одетая в дорогую, но легкую шелковую рубашку и батистовый сарафан. Ростом девочка была государю едва по грудь, кокошник сбился, щеки горели краской. – Я тоже хочу на слоне! Алеша, дозволь и нам покататься!
Государь ничего не ответил, ибо того, чтобы царевны по торгу гуляли, отродясь не случалось. Какие уж тут слоны?!
– А если мы очень-очень попросим? – подошла ближе боярышня Милославская и положила обе ладони государю на грудь, жалобно заглянув в самые глаза.
– Я подумаю… – сглотнул царственный паренек, затем отступил, поклонился и выскочил за дверь.
И опять подобное случилось с ним впервые! Нежданный поцелуй встреченной в церкви девицы вызвал странное, непонятное ощущение во всем теле. Слабость, томление, жажду, озноб – и все это одновременно. И как ни странно, чувство это было невероятно приятное, сладостное, тягучее. Настолько приятное, что хотелось повторять его снова и снова. Пугающе приятное. И потому, поддавшись испугу, Алексей отступил, сбежал, скрылся у себя, тяжело дыша и борясь с желанием. С желанием вернуться, обнять, прижать к себе и целовать прекрасную боярышню снова и снова…
Но возвращаться обратно к сестрам – это показалось бы всем вокруг зело странным. Да и целовать Марию при рындах и няньках… То было и вовсе невозможно. Увести же… Как? И куда?
Вернувшись в покои, царь распахнул окно, подставил разгоряченное лицо вечерней свежести и закрыл глаза.
– Завтра… – решил он. – Я навещу сестер завтра.
– Алексей Михайлович! – окликнул государя всея Руси кто-то из вошедших князей. – Дума Боярская сегодня так и не случилась. На завтра собирать ее али как?
– Слон! – повернулся к величавым упитанным дьякам юный повелитель. – Мне интересно, а сюда привести зверя можно? Думается мне, царевен из Кремля выпускать все-таки не след…
Государь уже представлял, как завтра утром расскажет сестрам о возможности нового развлечения. Алексей Михайлович был уверен, что получит благодарный поцелуй. Разумеется, не от сестер.
* * *
Федор Родионович ненадолго уходил, возвращался мрачный и запирался в своей опочивальне наедине с вином и солеными огурцами, ни с кем не разговаривая. Посему юной Евфимии и ее тетушке приходилось довольствоваться лишь невнятными слухами, приносимыми служанками. Слухи же были тревожными, если не сказать – ужасающими.
Люди сказывали, что к новой своей избраннице, подселенной к сестрам, государь бегает по три раза на дню, что подарки дорогие делает. А намедни и вовсе невероятную штуку учудил, повелев слона в Кремль привезти и сестер своих на нем покатать. И пассию свою новую – тоже.
Запертая в роскошных, как драгоценная шкатулка, хоромах, Евфимия ходила из горницы в горницу, выглядывала в окна, холодила лоб об изразцы нетопленной с самой весны печки, не в силах ни есть, ни пить и уже никак не представляя своего будущего.
Ссылка? Постриг? Изгнание? А ведь всего несколько дней назад она считала, что попала в мечту!..
* * *
– Завтра в полдень у тебя обручение, государь. – Боярин Морозов встретил своего воспитанника на выходе с женской половины дворца.
Юный царь замер, словно наткнувшись на невидимое препятствие, опустил голову и негромко распорядился:
– Оставьте нас…
Рынды отошли в дальние концы коридора, полуотвернулись, как бы не глядя на повелителя, и Алексей Михайлович сказал:
– Я люблю другую, Борис Иванович.
– Я знаю, – пожал плечами боярин. – Поэтому и хочу напомнить. На тот случай, если ты забыл. Завтра после обедни у тебя обручение.
– Неужели нельзя… Как-то все это изменить? – вскинул подбородок паренек и громко сглотнул. – Я люблю другую, дядька! Люблю больше жизни, больше света, больше воздуха! Каждый взгляд на нее, словно глоток прохладной воды после долгого пути, словно лучик света после темной ночи! Я царь всея Руси, Борис Иванович, я самовластный властитель величайшей державы! Неужели я не могу всего лишь жениться по любви?
– Я хочу спросить тебя, государь всея Руси, – поднял свой взгляд на могучего воспитанника боярин Морозов. – Хочу спросить тебя, великий царь, по приказу которого воины идут животом своим на копья, веря, что отдают свою жизнь во славу отцов своих и во благо детей. Тебя, великий царь, которому отдают плоды трудов своих православные люди, веря, что сие серебро будет потрачено на благо общей державы. Тебя, великий царь, на суд которого отдаются люди, веря в твою честь и справедливость. Я хочу спросить тебя, великий царь, как надлежит поступить боярину, давшему невинной девице обещание на ней жениться? С девицей, каковая, доверившись сей клятве, переселилась в его дом и под его кров. Как ему надлежит поступить в тот час, когда пришло время исполнять свою клятву? Что ты скажешь мне, государь? Как ты решишь сей спор, главный судья православного мира?
Борис Иванович склонил голову набок и слегка прищурился на широкоплечего мальчишку.
– Великий царь желает посоветоваться со своим воспитателем, дядька, – отвел взгляд Алексей Михайлович. – Как надлежит поступить, если слово дал одной, но любишь, как вдруг оказалось, совсем другую?
– Ты можешь любить кого угодно, мой мальчик, – пожал плечами Борис Иванович. – Сердце, оно такое. Сердцу не прикажешь. Люби кого хочешь. Но ты происходишь из древнего боярского рода и поступать обязан не по сердечному капризу, а согласно боярской чести! Правитель величайшей державы ойкумены не имеет права на подлость! На вере в твою честь и справедливость, мой мальчик, держится вся крепость царской власти. Я понимаю, тебе сейчас больно. Очень больно. Но нельзя допустить, чтобы хоть кто-то в этом мире хотя бы на единый миг усомнился в твоей чести! Ты всегда обязан исполнять однажды данное тобой обещание. Ибо ты – царь! И завтра у тебя обручение с прилюдно избранной невестой рабой Божьей Евфимией.
– Ты ведь знаешь, что такое настоящая любовь, дядька… – шепотом ответил паренек. – Как ты можешь ее у меня отнимать?
– Из жалости, – так же шепотом ответил боярин Морозов. – Жить без любви намного легче, мой мальчик. Поверь мне, Алексей. Сделай это сейчас! Избавиться от любви выйдет намного легче, пока она не успела пустить своих ядовитых корней. Тебе тяжело уже сегодня. Но то, что ты ощущаешь… Это еще только самое начало. Потом станет только хуже!
– Ты потерял любовь сам, дядька, а теперь желаешь отобрать ее у меня!
– Тебе завидует весь мир, Алексей. Ты великий царь! – взял лицо воспитанника в свои ладони боярин Морозов и легонько встряхнул. – Но за все нужно платить. Ты не пастушок, в кусты с девкой не убежишь. Не мешай кипеть своему сердцу. Но помни о чести! Ты государь всея Руси! Ты обязан поступать правильно и справедливо!
– Лучше бы я был пастушком! – выдохнул царь, отодвинул боярина со своего пути и быстро зашагал к лестнице.
14 августа 1647 года
Москва, Теремный дворец, покои царицы
Пришедшие поутру служанки рассказали тетке, что государь уже с рассветом побежал к своей новой пассии. Тетка поспешила поделиться вестью с неспавшей всю ночь Евфимией, и обе женщины встали на колени перед иконостасом. Но едва они опустились на мягкий ковер и склонили головы в молитве, как в дверь постучали.
Поскольку боярин Всеволожский из своей светелки так и не выглядывал, дверь открыли царские холопы, посторонились. Боярин Морозов вместе с несколькими князьями вошел в покои царицы, миновал пустующие горницы, встал в дверях домовой часовенки:
– Ты все еще молишься, Евфимия Федоровна? До обряда обручения остается всего три часа! Пора бы и к венцу собираться.
– Но ведь царь у своей любовницы! – стоя на коленях, оглянулась на Бориса Ивановича заплаканная девица.
– У государя нет любовницы, – спокойно ответил боярин Морозов. – Он навещает своих сестер.
– А как же эта девица, Мария Милославская?! Которую он привел на женскую половину.
– Алексей Михайлович нашел веселую подругу для своих сестер, – невозмутимо пожал плечами Борис Иванович. – Ты уже слыхала про слона в Кремле? Это ее затея.
– Но люди сказывают…
– Ты чему веришь больше, Евфимия Федоровна, пустым слухам или моим словам? – чуть приподнял брови царский воспитатель. – Или ты сомневаешься в чести нашего государя? Алексей Михайлович прилюдно избрал тебя своей невестой и назвал будущей царицей! Ты полагаешь, православный царь способен нарушить свое слово?
Девушка не нашлась, что ответить, и только нервно облизнула губы.
– Слезы невесты дело обычное, – сказал Борис Иванович. – Но все же у алтаря она должна выглядеть… – Он замялся и усмехнулся. – Впрочем, тебе все равно полагается накидка. Но платье лучше переодеть! Поспеши, вся держава ждет тебя в Успенском соборе!
* * *
В эти самые мгновения Алексей Михайлович и вправду находился в покоях своих сестер. Он держал Марию за руки и пристально смотрел в карие глаза.
– Сегодня я должен обручиться, – признался он. – С Евфимией из рода Всеволожских. Я выбрал ее на смотринах и назвал своей невестой. Я дал свое слово, она переехала в мой дом.
– Я знаю, – вздохнула боярышня Милославская. – Ведь отец привез нас сюда на твою свадьбу.
Она ощущала себя очень странно. Перед ней стоял самодержавный правитель огромной великой России. И он же – растерянный юный мальчик, оказавшийся в беде, в ловушке и не знающий, как поступить? Могучий, широкоплечий, облеченный величайшей властью, но все равно всего лишь мальчишка. Обреченный на вечное одиночество круглый сирота.
Пять лет – это огромная разница в возрасте. Особенно при столь разных судьбах. Мария никогда не испытывала счастья материнства. Но сейчас… Сейчас в ее душе зародилось нечто очень похожее. Желание взрослой, умудренной жизнью женщины помочь несчастному ребенку.
– Я люблю тебя, Мария, – признался юный царь. – Я очень тебя люблю! Но я дал слово… Я прилюдно назвал ее своей невестой.
– Я знаю, – повторила девушка.
– Я люблю тебя… Но я не могу отречься от своей клятвы! – взмолился паренек.
– Я понимаю, – кивнула боярышня Милославская. – Я тоже тебя люблю.
Она обняла юного царя, а затем крепко, жадно, долго, искренне поцеловала его в губы. Отодвинулась и повторила:
– Я очень тебя люблю, мой повелитель. Прощай! – Она положила ладонь ему на грудь и отодвинула от себя.
Алексей Михайлович приоткрыл было рот, но Мария ничего не позволила ему сказать, положив палец на губы и отрицательно покачав головой:
– Не нужно. Молчи, мой повелитель. Ты государь. Ты связан клятвой. А значит, ступай и исполни свой долг!
Молодой царь поклонился, отступил еще на шаг, повернулся и вышел за дверь. Он испытывал огромное облегчение. Юноше больше не требовалось выбирать. Его любимая разрешила поступить правильно, и все сомнения остались позади.
Мария, как ни странно, тоже ощутила себя легко, радостно и спокойно. С царевнами ей было хорошо. Весело и беззаботно… И сладко: марципан, халва, пастилки, конфеты, фруктовый холодец[25], лукум, цукаты, вяленый инжир и финики…
Однако превыше всего, конечно, она наслаждалась любовью Алексея. Это было весьма лестно – узнать, что ты способна разжигать в мужчинах безумную страсть. И многократно приятнее осознавать, что от тебя потерял голову сам государь всея Руси! Но ничего большего, нежели уже случилось, Мария не ждала – и не искала. Ей всего лишь хотелось остаться здесь. Хотелось сохранить доброе отношение царя. Ей хотелось, чтобы у царевен появились качели и возможность гулять. Вот и все мечты.
Мария была взрослой женщиной и хорошо понимала, что в этом мире возможно, а что – никогда.
* * *
Евфимия находилась словно бы в полусне. Она надеялась, что все страхи наконец-то остались позади, что сегодня она обручится с царем всея Руси, и одновременно не верила в это, ожидала какого-то обмана, хитрости, подвоха! Ведь за все время пребывания избранницы во дворце Алексей Михайлович не прислал ей ни единой весточки, ни одного подарка или пожелания, не написал ни единого слова… Он все время находился с другой. С другой! И теперь титул царицы казался Евфимии еще более далеким, нежели в те дни, когда она только собиралась пойти на отбор, на смотрины…
Она верила – и не верила, готовилась – и сомневалась. Евфимия сидела перед зеркалом, плакала одновременно и от надежды, и от отчаяния, а две дворовые девки, тщательно перебирая пряди, заплетали ей косу с двумя яркими лентами, атласной и шелковой.
Затем служанки умыли ее лицо, отерли, подбелили, зарумянили, подкрасили губы и зачернили глаза, не забыв и про брови. Водрузили на лоб кокошник, закрепили заколками в волосах, затем накрыли легкой крапивной кисеей, а сверху еще одним шелковым покрывалом.
Послышались шаги, в зеркале за спиной боярышни Всеволожской отразился боярин Морозов.
– Нам пора, юное дитя. Карета заложена, колокола звонят, люди ждут.
– А государь? – одними губами спросила невеста.
– Полагаю, он тоже готовится к обряду.
– У сестер? – не удержалась Евфимия.
– Он получил их поздравления и благословение еще утром, – невозмутимо ответил Борис Иванович и подал свою руку: – Идем!
– Где мой отец, боярин?
– Боюсь, Федор Родионович не верит в возможность твоего обручения, дитя. Настолько, что пытается заглушить свою боль. И сейчас… – Борис Иванович замялся. – Сейчас ему лучше не показываться на людях. Но он доверил сию великую честь мне. Твою руку, Евфимия Федоровна!
Девица поднялась, оперлась на запястье первого боярина, и они вместе вышли из царских покоев на застеленное алой дорожкой крыльцо. Спустились к запряженной шестеркой цугом золотой карете, сели в нее и торжественно проехали полторы сотни шагов, дабы перед Успенским собором выйти к роскошно одетой толпе.
– Любо невесте! Любо избраннице! Слава прекрасной Евфимии!
Юная девица вышла из кареты, миновала короткий мощенный плашками промежуток, поднялась по ступеням крыльца и вошла в полутемный, пахнущий воском и ладаном, полный людей собор.
Она опасливо смотрела по сторонам, все еще пугаясь измены, мошенничества, предательства. Боялась, что по царскому капризу ее в чем-нибудь внезапно обвинят, что все эти люди вдруг бросятся на нее, схватят и растерзают…
Минувшие дни стали для Евфимии очень уж непростыми, а бессонная ночь с тяжелыми мыслями порождала самые дурные фантазии. Царь Алексей Михайлович любит другую, но ныне обручается с ней. Почему?! В чем ловушка, в чем хитрость? Где спрятан обман?!
Юный государь уже стоял возле алтаря, склонив голову перед патриархом Иосифом.
Боярин Морозов покинул невесту возле Алексея Михайловича и громко объявил:
– Благословения прошу, святитель, у Господа нашего Иисуса Христа в новом начинании, добром и православном!
– Господь всегда даст благословения православному делу, сын мой, – пристукнув посохом, ответил патриарх и сурово вопросил: – Поведай мне, людям и Господу, каковое начинание вы затеяли во славу его имени?
– Желаем мы, святитель, создать новую семью, скрепленную любовью и небесным таинством! Соединить клятвами любви и обещанием стать супругами раба Божьего Михаила и рабу Божью Евфимию.
– Намерения сии благословенны, коли чисты и свершаются от чистой души и по велению сердца! – хорошо поставленным голосом провозгласил первосвятитель. – Ибо завещано нам Господом небесным искать в сем смертном мире свои половинки и воссоединяться с ними во имя продолжения рода своего и к вящей славе Божией! Но выбор сей должен быть честным и бескорыстным. Посему ныне желаю спросить пред ликом Господа и его именем: согласен ли жених, раб Божий Алексей, принять в невесты рабу Божию Евфимию по своей воле и безо всякого принуждения?
Девица вся внутренне сжалась, ожидая, что вот сейчас, при всех, влюбленный царь от нее и отречется…
Но…
– Я согласен, святитель! – громко и твердо провозгласил государь, делая шаг вперед.
– А нет ли у тебя другой названой невесты, раб Божий Алексей? – вскинув подбородок, величественно спросил священник.
– У меня нет иной невесты, отче! – отчеканил Алексей Михайлович.
– Нет ли у тебя иных тайн, раб Божий Алексей, каковые могут препятствовать вашему браку с рабой Божьей Евфимией?
И опять желудок девушки скрутило от холодного ужаса, от страшного предчувствия. Вот сейчас, вот он и признается, отречется…
Но…
– У меня нет таковых тайн, отче! – во весь голос объявил царь всея Руси.
– Клянешься ли ты в том пред очами Господа нашего Иисуса в его храме?
– Клянусь! – выкрикнул государь, заставив сердце избранницы бешено забиться.
Неужели все эти рассказы про царскую любовницу, про его безумную страсть, про беготню к блудливой девке – все эти грязные, дурные слухи являлись всего лишь пустой ложью?!
– Протяни руку, раб Божий Алексей! – потребовал святитель. – Коли клятва твоя честна и беспорочна, сие кольцо обручальное окажется впору для твоего безымянного пальца!
Алексей Михайлович подчинился. Святитель взял с принесенной диаконом подушечки одно из колец, опустил на палец жениха и повернулся к девушке:
– А ты, раба Божия Евфимия, согласна ли ты принять в женихи раба Божия Алексея по своей воле и безо всякого принуждения?
«Свершилось!!! – поняла избранница. – Царь не обманул! Он принес клятву! Он назвал меня невестой и сделает своею царицей! Он выбрал меня!»
С девичьей души рухнула огромная, непереносимая тяжесть. Впервые за последние дни Евфимия избавилась от страха, отчаяния, обиды. Напряжение отпустило, словно бы развязались тысячи узелков, стягивающих судорогой каждый краешек, каждый уголок ее тела. Светлое, невесомое облегчение выскользнуло из уст боярышни нежным неслышным выдохом. И в ее теле осталась только слабость, закружившая разум и раскатившаяся по всем ее конечностям…
Невеста обмякла и в полном беспамятстве распласталась возле алтаря на белом льняном полотенце.
Огромный собор, полный людей, ахнул, как единое живое существо, и почти все прихожане встали на цыпочки в надежде хоть что-то рассмотреть.
– Евфимия!!! – Государь упал рядом с невестой на колено в искренней тревоге, откинул покрывало, наклонился к самому лицу, стараясь уловить дыхание. – Евфимия, что с тобой случилось?!
– Ей нужен воздух! – сообразил боярин Морозов.
– Да! – Могучий повелитель всея Руси легко подхватил девицу на руки, вынес из храма.
Стоящая снаружи толпа тоже ахнула – бояре даже забыли поклониться царю.
Алексей Михайлович остановился на ступенях, но класть беспамятную избранницу на землю не решился, пошел ко дворцу.
– Лекаря! – громко крикнул боярин Морозов, поспешая следом. – Кто-нибудь, позовите невесте лекаря!
Алексей Михайлович быстро прошел по ковровой дорожке до самого Теремного дворца и начал подниматься наверх по ступеням крыльца. Но тут Евфимия неожиданно очнулась: издала слабый стон, приподняла голову, повела по сторонам шальным взглядом:
– Где я, что со мной?.. – Она внезапно испуганно охнула, забилась в руках своего жениха: – Государь! Алексей Михайлович!
Успевший изрядно устать от своей ноши царь осторожно поставил Евфимию на ноги, придержал под локоть:
– Осторожнее, милая… Тебе стало дурно, вестимо из-за духоты. Поднимись наверх, полежи, отдохни. За лекарем уже послали.
– А что обручение? – вскинула руку ко лбу избранница.
– Мне жаль, но таинство так и не свершилось, – ответил стоящий на три ступени ниже Борис Иванович. – Ты не дала своего согласия, Евфимия Федоровна. Обряд пришлось прервать.
Невеста издала слабый стон, и государю пришлось ловить ее снова. Однако к сему моменту вокруг собралось уже изрядно дворни – несчастную приняли на руки сразу несколько слуг, спешно понесли наверх.
– Господи, господи, бедное дитя, – размашисто перекрестился боярин Морозов, поднялся на две ступени и шепнул воспитаннику на ухо: – Не вздумай сегодня сестренок навещать, коли не хочешь, чтобы на тебя подумали. И в ближайшие дни тоже…
– Но она просто сомлела, Борис Иванович! – громко возразил государь. – От духоты храмовой али от волнения.
– Разбойный приказ разберется, – пожал плечами его воспитатель.
– При чем тут Разбойный приказ, Борис Иванович?! Она же никакого душегубства не свершала! Просто ненадолго обеспамятовала!
– А что я могу сделать, государь? – развел руками боярин Морозов. – Она же прилюдно упала, такового от бояр не скрыть.
– Ну и что? Такое со многими случается!
– Со многими – пускай! – весомо ответил боярин Морозов. – Но царица в державе одна! И она должна быть безупречна! Коли девица сознание теряет, по какой бы причине сие не случилось, то она, стало быть, слаба. Нездорова. Детей может не доносить. А сие уже не твое дело, сие забота державная. По таким случаям Разбойный приказ следствие ведет, да Боярская дума с Земским собором волю свою объявляют. Хочешь казни меня, государь, хочешь милуй, но невесту свою ты, вестимо, потерял!
Царь всея Руси негромко ругнулся и побежал вверх по ступеням, явно стремясь нагнать больную. Его воспитатель остался на месте.
Размолвка государя и первого сановника не укрылась от глаз и ушей многочисленного служивого люда.
– Тревожится государь о горлице своей, – побежал шепоток среди князей и детей боярских. – Ишь как весь побледнел да вслед помчался! А старику Морозову хоть бы что! Не иначе как он голубку несчастную и извел, кровопивец бесчестный…
* * *
Алексея Михайловича в его утрате жалела вся православная держава. Бориса Морозова так же дружно хаяли. И от прямых обвинений царского воспитателя спасло токмо то, что сомлела невеста при большом стечении народа. Ибо даже самые лютые ненавистники богатого царедворца понимали – ядом подобного извращения не сотворить. Слишком уж хитро. Угадать, чтобы отрава аккурат у алтаря подействовала, невозможно. Сие больше всего на падучую болезнь похоже, что от сильного волнения случается. А падучая для государыни никак не допустима! Она ведь, падучая – и про то всем ведомо, – от родителей детям передается и никак не лечится! А царица всея Руси должна быть безупречной! И обликом, и здоровьем.
Только заступничество государя спасло семью Всеволожских от дыбы. Однако по сути дела приговор Боярской думы оказался суров: за великий обман царя всея Руси и сокрытие невестиных недугов – ссылка всей семье в Тюмень на вечное поселение!
Свадьбу отменить.
10 октября 1647 года
Москва, Теремный дворец
Заглянувший к сестрам государь по очереди обнял Анну, Ирину и Татьяну, а затем и их веселую подружку Марию.
Боярышня Милославская, равно как и царевны, прижалась к щеке Алексея Михайловича щекой и отошла с поклоном. И хотя при ее виде в душе государя сразу разливалось томительное тепло, а губы начинали пересыхать воспоминанием о минувших поцелуях, сделать паренек ничего не мог. Люди, люди кругом… Сестры, охрана.
Потому-то девицы и считались на женской половине дворца не утратившими чести, что здесь даже царь всея Руси зашалить никак не мог. Пару раз ему повезло, когда повод уважительный случался: прощание али шутка. Но просто так при встрече с боярышней целоваться… Они ведь даже не обручены!
– Прими мое сочувствие, Алексей Михайлович, – словно услышав его мысли, потупила взор девица. – До нас дошла весть, что Боярская дума сослала твою невесту. Понимаю, сколь тяжело тебе перенести сию разлуку.
– Сорок дней прошло, Мария, – тихо ответил юный государь. – Даже по покойнику траур после сего срока снимается. Дума сказывает, мне нужна супруга. Такова государственная необходимость.
– Стало быть, снова случатся невестины смотрины? – подняла взор боярышня.
– Смотрины не нужны. Самую желанную я уже нашел.
– Это кого? – шепотом поинтересовалась Мария.
– Тебя… – так же тихо ответил Алексей Михайлович. – Пойдешь за меня замуж, любимая?
– Не пойду, – покачала головой из стороны в сторону девица.
– Как? Почему?! – растерялся паренек. – Ты же сказывала, что любишь!
– Нехорошо как-то выйдет, Алексей Михайлович. Так получится, что счастье свое мы на горести невесты твоей сосланной, Евфимии, построим. Не по-доброму выйдет.
– Что же мне теперь, всю жизнь холостяком провести?! – развел руками царь.
– Почему?
– Так по мысли твоей, кого мне в жены ни выберут, любая на месте Евфимии окажется и на ее горестях возвысится. Вот и выходит, что вовсе мне жениться теперича нельзя!
– Ну… – повела плечами боярышня. – Это ты, Алексей Михайлович, знамо… перегибаешь…
– Выходит, можно? – улыбнулся юный государь.
– Пожалуй что, и можно… – неуверенно согласилась девица.
– А ты замуж за меня пойдешь?
– Не знаю, право, – покачала головой Мария. – Сомнительно сие. Сможем ли жить душа в душу, в счастии и благополучии?
– Да почему же не сможем?! – возмутился государь. – Разве меж нами хоть единая размолвка за минувшие дни случалась?
– Так ведь встречаемся редко и токмо по радостным поводам. А супружество – это не только веселье. Мужу с женой и горестями, и тяготами делиться приходится. Сможем ли мы сей крест вынести? Не рассоримся ли?
– Чем же я тебе не угодил, Мария, что ты меня в сем подозреваешь?
– Третий раз проси! – не выдержала Анна, вместе с сестрами подслушавшая разговор. – По русскому обычаю, коли чего всерьез желаешь, три раза кланяться положено!
Юный царь покосился на старшую из сестер, затем опустился на колено перед Марией и взял ее за руку:
– Драгоценная моя Мария Ильинишна! Видит бог, никогда в жизни своей не любил я никого так же сильно и искренне, как тебя, и любить, вестимо, не смогу! Посему спрашиваю тебя, моя единственная, моя ненаглядная, моя желанная. Пойдешь ли ты за меня замуж, душа моя Мария?
– Конечно пойду, любый мой, желанный! – опустилась перед ним на колени девица. – Нечто ты, мой ненаглядный, хоть на миг в этом сомневался?
Она обняла царя всея Руси и крепко его поцеловала.
Алексей Михайлович облегченно перевел дух, перекрестился и поднялся, удерживая избранницу за руку.
– Тогда пойдем?
– Куда?
– Как полагается, в покои царицы!
– А может, не нужно?! – мотнула головой невеста. – Можно я с сестрами твоими останусь? Нам с ними хорошо. Верно, девицы?
– Да, да! – подхватили ее просьбу царевны и подбежали к ним, окружили. – Оставь ее с нами! Алексей, не забирай!
– Не знаю… Вроде как не по обычаю.
– Все по обычаю! – тут же ответила Мария. – Я ведь переехала в твой дом, разве нет?
– Наверное, да, – признал государь.
– Значит, можно! – подала голос Татьяна. – Я хочу ее в бирюльки обыграть! Она все время выигрывает, так нечестно!
– Бирюльки? – вскинул брови Алексей Михайлович.
– Мы каждый день перед сном играем, – ответила за всех Мария. – Но я не всегда выигрываю. Ирина с палочками куда ловчее.
– Танечка тоже зря прибедняется, – мстительно добавила Анна.
– Да будет так! – решил государь всея Руси и снова крепко обнял свою невесту. – До свадьбы ты останешься здесь.
* * *
Выбор государя Дума приняла не сразу. Не то чтобы кто-то пытался его отвергнуть, но поначалу бояре пожелали вернуться к привычному обычаю. Сиречь: провести новые смотрины и выбрать Марию на них законным образом.
Однако тут же стало ясно, что боярышня Милославская отбора в невесты не пройдет – ни по возрасту, ни по облику. Старая дева с не самым изящным телом и множеством изъянов – родинками, грубыми руками, неправильными чертами лица – для конкурса явно не годилась. Монашкам и повитухам ведь всего потаенного не рассказать, и глаза на «старуху» закрыть не прикажешь. А коли невесту мимо них откровенно проводить, к чему вообще сия затея? Шила ведь в мешке не утаить!
По счастью, осмотр царской избранницы лекарями показал, что, несмотря на возраст, в остальном девица здорова и к деторождению пригодна. После чего Дума, патриарх и государь пришли к общему согласию на условиях полной скромности: смотрины не проводить, однако же и торжественного обручения тоже не устраивать. Посему пятого ноября раб Божий Алексей и раба Божия Мария скромно обменялись кольцами в церкви Спаса за золотой решеткой, что стоит на гульбище Теремного дворца. Без какого-либо празднества и вдали от посторонних глаз.
Теперь их чувствам надлежало пройти должное испытание временем и столкновением характеров… Впрочем, все сии искушения ограничились желанием боярышни Марии вывести царевен на торг, повеселиться: посмотреть скоморохов, покататься с огромной горки, покачаться на качелях, покрутиться на гигантских шагах…
Няньки и прочие царедворцы стояли горой против подобного позора. Самые знатные женщины державы – и вдруг окажутся среди простых смердов! Да еще в самой гуще осуждаемой православной верой еретической потехи! Однако юные царевны, наслушавшись подружки, рвались на волю, словно соколицы из клетки, так что их свита даже сторожила выходы и постоянно жаловалась на смутьянку в Думу и самому государю.
Но Алексею Михайловичу очень быстро удалось усмирить бунтарок. Его сестры согласились не покидать Кремля в Москве – в обмен на увеселительные поездки в село Коломенское, в котором государь успел отстроить новый дворец сказочного вида[26]. Там были горки, качели, скачки, снежные крепости и прочие развлечения. В столице же царевны посвящали себя токмо молитвам и учебе.
Шестнадцатого января тысяча шестьсот сорок восьмого года государь всея Руси издал донельзя странный указ, запретив в сей день «кощуны, бесовские играния, песни студные сопельные и трубное козлогласование». Следуя уговору о скромности, венчание царя Алексея Михайловича и боярышни Марии Ильиничны прошло без обычного для царской свадьбы шумного и разгульного торжества – лишь под церковные песнопения и с малым угощением для самых близких родственников. А вместо обычной в такие дни раздачи милостыни нищим избранница попросила милости для семьи отвергнутой невесты…
И оно было немедленно даровано: гонец с указом о полном прощении и помиловании всей семьи бояр Всеволожских и даже возвышении Федора Родионовича в верхнетурские воеводы умчался в Сибирь на перекладных, дабы передать ссыльным благую весть уже на следующей неделе.
Впрочем, для государя вся эта суета не имела особого значения. Ведь в этот день он на совершенно законных основаниях завел в свою опочивальню ту, о которой мечтал каждый вечер в последние полгода. Ту, губы которой манили его при каждой встрече. Ту, голос которой вызывал в его душе трепетное томление. Ту, в глаза которой он смотрел и никогда не мог наглядеться. Ту, которую успел полюбить, потерять и обрести снова. Ту, дороже которой для него не осталось никого на всем белом свете…
Высокие двери закрылись, снаружи встали дружки, охраняя покой новобрачных, – и самые смелые мальчишеские мечтания юного государя впервые воплотились в явь…
26 января 1648 года
Москва, подворье князей Долгоруких
У расписных тесовых ворот спешился всадник в русских меховых шароварах и валенках, но вместе с тем – в коротком немецком полушубке с рысьим воротом и в округлой собольей шапке с высоким пером. Гость постучал кулаком в калитку, вошел в торопливо распахнутую створку, предоставив дворне разбираться со скакуном, быстро взбежал по ступенькам, коротко поклонился вышедшему за порог хозяину дома.
– Доброго тебе утра, Дмитрий Алексеевич! – боярин приложил ладонь к груди. – Прости, что тревожу столь нежданно, но мне срочно нужна твоя супруга!
– Что ты сказал, Борис Иванович?! – От подобных слов хозяин дома, вызванный холопами на крыльцо прямо в домашних тапочках и стеганом халате, слегка опешил. Решил, что ослышался.
– Государь уже девять дней не покидает своих покоев, – повел плечами боярин Морозов. – Без его утверждения многие срочные указы и распоряжения не имеют силы. Мне надобно получить от него если не приказы, так хотя бы подписи! Мне надобно увидеться с ним хотя бы на час-другой, пусть даже на полчаса! Однако Алексей Михайлович не хочет тратить на меня своего времени. Может статься, хотя бы его супруга пожелает увидеть свою сестру? Женщины, сказывают, любят делиться с подружками своими радостями.
– Ты хочешь, чтобы я отпустил свою жену с чужим мужчиной? – недоуменно переспросил князь Долгорукий.
– Насколько я помню, в твоем доме ныне пребывают три сестры Милославские, – чуть приподнял брови гость. – Если твоя супруга отправится во дворец вместе со своей сестрой и в моем уважительном сопровождении, это не причинит ущерба твоей чести?
– И в моем! – потребовал князь.
– Разумеется, Дмитрий Алексеевич! Я с радостью возьму тебя с собой! Однако опасаюсь, в покои государя тебя не допустят. Если он не желает видеть даже меня, своего воспитателя… – Боярин Морозов нервно передернул плечами. – Очень надеюсь, мне удастся проскользнуть хотя бы с сестрами царицы. Но коли гостей окажется слишком много, нас точно не пригласят. И хотелось бы отправиться побыстрее.
– Третьяк, заложи коляску и седлайте серого! – крикнул с крыльца вниз хозяин дома и слегка поклонился гостю. – Прошу в дом, Борис Иванович. Выпей сбитня, отпробуй пирогов. Я велю жене одеваться и позвать с собой сестру. У нас вроде как ее старшая, Анна, в тетках прижилась.
– С твоего позволения я подожду здесь, Дмитрий Алексеевич, – покачал головой боярин Морозов. – Я сыт и в большой тревоге.
Князь Долгорукий не обманул ожиданий. Уже спустя час он вышел, одетый в зипун и заправленные в сапоги пухлые меховые штаны, опоясанный наборным поясом с янтарными пластинками, с украшенной костяными накладками поясной сумкой и двумя ножами. Сиречь платье вроде бы и не немецкое, не иноземное, однако же и не тяжелая московская шуба с бобровой шапкой, без которой по сей день не являлись ко двору многие знатные бояре. Вдобавок князь Дмитрий Алексеевич отправлялся в Кремль без посоха.
Женщины выглядели тоже достаточно скромно: бархатные сарафаны, каракулевые душегрейки, подбитые куницей меховые плащи, собольи муфты. И, разумеется, сверкающие ожерелья, серьги, кольца. У Ирины Ильиничны на голове возвышался роскошный убрус – жемчужный с каменьями, Анне Ильиничне пришлось обойтись платком: бесплодные старые тетки, никем не взятые в жены, украшать свою голову, как известно, права не имеют.
– Едем! – поклонился им боярин Морозов и первым сбежал по ступеням вниз.
Воспитателя государя и дьяка сразу трех главных приказов стражники пропустили во дворец без единого вопроса, так что уже через час гости стояли возле покоев государя.
Дружки жениха охраняли двери бок о бок с рындами. Караулили достаточно весело: со стоящими на полу бочонками хмельного меда, блюдами с пирогами и жареным лебедем. Рынды в белых кафтанах выглядели достаточно бодро – их как-никак на посту меняли. А вот юный боярин Хитрово и князь Черкасский, сбросив свои ферязи и шапки, сидели на застеленном цветастой кошмой полу, привалившись спинами к стене, и сонно распевали, покачиваясь из стороны в сторону…
– На заре юных ле-е-т ты погубишь е-е-е. Тяжело без любви-и-и под чинарой сиде-е-еть…
И это понятно. Обычно дружки сторожили покои молодых всего одну ночь, иногда пару дней. В конце концов после первой брачной ночи супруги всегда отправляются в баню – и это означает свободу для их сторожей.
Однако при строительстве Теремного дворца Михаил Федорович позаботился об особых удобствах для себя и супруги, распорядившись сделать купальню этажом ниже, под своей опочивальней, с отдельной лесенкой из мыльни прямо к постели. Посему ни ему, ни унаследовавшему царские покои Алексею Михайловичу не требовалось куда-то уходить, чтобы смыть усталость. Из-за чего дружки тяготились своим долгом уже ровно десять дней. Тут кто угодно свалится с ног и начнет распевать протяжные походные песни!
Однако одна лазейка в запретные светелки все-таки имелась. Царские холопы – каковые носили за заветную дверь питье и кушанье и выносившие объедки, меняющие постельное белье и сорочки.
Боярин Морозов положил руку на плечо одной из таких служанок и негромко сказал:
– Передай царице, ее сестры Анна и Ирина очень сильно с нею повидаться хотят.
Девушка повернула к царскому воспитателю лицо, кивнула и исчезла за дверью, унося в руках стопку свежего белья.
Ждать пришлось недолго. Дверь приоткрылась, недавняя служанка вышла, слегка поклонилась:
– Борис Иванович, Мария Ильинична с радостью увидит своих сестер.
– Отлично! – встрепенулся боярин Морозов, повернулся к дочерям боярина Ильи Даниловича и кивнул в сторону покоев: – Пойдем…
Государь Алексей Михайлович и государыня Мария Ильинична встретили гостей в халатах, накинутых поверх исподних рубашек из влажного батиста, и с мокрыми волосами. Похоже, они и вправду только что поднялись из купальни. Оба были улыбчивые, жаркие, розовощекие.
– Иришка! Анечка!!! – Царица, в небрежно накинутом на голову платке, кинулась к сестрам, крепко их обняла, отвела в сторону, по очереди поцеловала и оживленно заворковала о чем-то своем, женском.
Боярин Морозов торопливо потянул из-за пазухи толстый сверток из доброго десятка вставленных один в другой свитков.
– Без твоей подписи, Алексей, – чуть ли не зло прошипел он, – ни одно ведомство жалованья слугам выплатить не в силах! То ж ведь дело денежное, бояре своевольничать боятся. Я книги расходные сверил, указ особый подготовил, но все едино подпись твоя потребна…
Борис Иванович сунул царю один из свитков.
Тот посмотрел, быстрым шагом перешел в соседнюю комнату, опустил крышку резного французского бюро, взял из одной секции перо, макнул в чернильницу, стоящую в другой, размашисто подписал.
– Содержание двора… – тут же подсунул другой свиток боярин, а следом третий, четвертый. – Разряд порубежной стражи… Разряд московских стрельцов… Соляная подать… Ямское тягло… Расход посольский… Расход выездной…
Боярин Морозов облегченно перевел дух, помахал в воздухе двумя последними грамотами, дабы чернила быстрее просохли. Царь бросил гусиный срез в стаканчик к порченым перьям, поднял крышку бюро и повернулся к воспитателю:
– А ведь ты, дядька, меня обманул. Сказывал, любовь зла. А оказалось… – Паренек мотнул головой. – Оказалось, что нет на земле высшего наслаждения, нежели свою любимую, самую желанную обнять и целовать ее, и ласкать, и ощущать, как самое себя, и засыпать, ее обнимая, и в ее объятиях просыпаться! Истинно тебе говорю, дядька, рай небесный, Господом нам обещанный, не сравнится с нежностью той, о каковой ты мечтал и надеялся, и отрекался, и жаждал! Покуда рядом она, в руках твоих, в неге твоей, ничто более не интересно и не надобно!
– В том-то и беда, Алексей, что ничего тебе теперь более не надобно! – хмуро ответил боярин Морозов, скручивая и складывая одну в другую подписанные грамоты. – Пропал на полторы недели, ни ответа ни привета! А о том ты помнишь, что не пастушок ты деревенский, а державы православной властитель? Что воля твоя и подписи народу русскому каждый день надобны!
Юный царь всея Руси закинул голову, звонко расхохотался, а затем вдруг крепко, до хруста костей обнял своего воспитателя, сильно похлопав его по спине.
– Ох, дядька, дядька, что бы я без тебя делал?! – отпустил он боярина и окинул его взглядом. – Но вот что я тебе скажу, Борис Иванович. Жениться тебе надобно, дядька! Ты ведь, как я понимаю, лет тридцать женщины не касался? Так вот жениться тебе надобно! Может, хоть тогда ты поймешь, что помимо серебра и злата, доходов и расходов, мануфактур и мельниц в сей жизни еще и другие радости имеются! Что душой не токмо Бога, но и жену свою любить можно! И что счастье истинное, когда любимую свою ласкаешь, а не кошели полные в сундук забрасываешь. Тебе сколько сейчас лет, дядька? Пятьдесят с половиной? Ты ведь еще крепок, как вековой дуб! Еще пару детей родить и вырастить успеешь! Не упусти своего счастья, дядька. Жизнь коротка, а в раю счастья нет. В раю токмо покой и ангелы. Блаженство возможно токмо на земле получить, любимую женщину целуя. И в сем деле каждое мгновение потерять жалко. Я счастлив, дядька… Ты даже не представляешь, насколько я счастлив!
Царь крепко хлопнул своего воспитателя по плечу, после чего перешел в соседнюю комнату, подкрался сзади к своей жене, обнял за живот и поцеловал в шею. Мария с нежностью улыбнулась, вскинула руку, коснувшись пальцами мужниной щеки, подмигнула гостьям.
– Простите меня великодушно, сестрицы родные, но у меня дело ныне имеется крайне важное… – Она извернулась в объятиях мужа, оказавшись к нему лицом, закинула руки государю за шею и сладко поцеловала.
Сестры Милославские и боярин Морозов поспешили поклониться и выйти из царских покоев, оставив молодоженов наедине.
В коридоре рынды пили хмельной мед, по очереди черпая ковшом из бочонка. Видимо, готовились к смене. Дружки разделывали лебедя, соря по ковру белыми перьями. Царский воспитатель укоризненно покачал головой, но говорить ничего не стал. А вот боярышня Анна, вскинув ладони к лицу, внезапно кинулась бежать куда-то прочь. Ее спутники, не ожидавшие подобного конфуза, лишь проводили девицу взглядом.
– Куда это она? – после некоторой заминки спросила Ирина Ильинична.
– А ты не знаешь? – супруг взял ее за локоть.
Княгиня пожала плечами.
– Пожалуй… – Боярин Морозов посмотрел на хмельную стражу, на князя с супругой, снова на стражу, брезгливо поморщился и решил: – Вы ступайте, а я найду Анну Ильиничну и приведу на крыльцо.
Борис Иванович прошел по коридору до лестницы, прислушался. Посмотрел наверх, вниз, развернулся. Двинулся обратно, но уже медленнее, заглянул в одну дверь, в другую. Увидел в светелке холопку, вытирающую пыль, и громко спросил:
– Девица, ты боярышню Милославскую здесь видела?
Служанка склонилась в поклоне и покачала головой:
– Нет, боярин.
– А ты ее знаешь?
– Я вовсе никого не видела, боярин.
– А слышала?
Молодая холопка подумала и вытянула руку:
– Только что кто-то в сторону молельной пробежал.
– Умница! – похвалил ее царский воспитатель, отступил назад и быстро вернулся к лестнице, зашел за нее в уединенную светелку с напольными канделябрами, одна стена которой состояла из образов в несколько рядов, другая сверкала печными изразцами, а третью почти полностью занимало витражное окно, набранное из разноцветных стекол. Спрятаться здесь было совершенно негде, отчего боярин Морозов и замер на пороге, недоуменно почесывая в затылке. И вдруг различил еле слышное, сдавленное всхлипывание.
– Анна Ильинична? – Боярин сделал шаг вперед, заглянул за дверь.
И спрятавшаяся там тетушка, перестав сдерживаться, внезапно разразилась громкими рыданиями, размазывая по лицу крупные слезы. Резко отвернулась, пряча лицо в самый угол.
– Что с тобой, лебедушка?
Борис Иванович, поддавшись порыву сочувствия, взял девицу за плечи, повернул ее, привлек к себе и спрятал в объятиях, поглаживая по голове:
– Да что же вдруг случилось-то, Анна Ильинична? Кто тебя обидел?
– Никто… никто… – сотрясаясь и всхлипывая, плакала несчастная. – Никто-о-о…
– Но тогда… О чем рыдаешь, девица?
– Все… Все… Ирка замужем, счастливая-а-а-а… Машка замужем счастливая-а-а… Девка старая любовь нашла не нарадуется-а-а-а… Одна я карга дряхлая-а-а-а… Никому не нужная-а-а-а… Одна я в девках старых осталася-а-а-а… Рухлядь древняя-а-а-а…
– Да какая же ты старая, Анна Ильинична? – искренне удивился боярин Морозов. – Юна ты еще, вся жизнь впереди. И красивая, всех сестер краше.
– Мне три-и-идцать уже-е-е!!! – еще горше завыла девица. – Кому нужна такая старая-а-а-а?! Я не в девках старых уж осталася! Я в бабки ветхие записана-а-а… Я тоже счастия хочу бабьего-о-о-о! Я тоже заму-уж хочу-у-у… Я тоже любви хочу-у-у… Ласки и детей хочу-у-у… У-у-у-у…
Подрагивая плечами, несчастная девица еще глубже зарылась лицом боярину в шею, протиснув нос между его шеей и воротником.
Борис Иванович пригладил ее по голове, по платку, продолжая обнимать. Он отлично понимал, что Анна Ильинична права. Коли даже первая красавица до двадцати замуж не вышла – на сию деву люди начинают смотреть с большим опасением, подозревая некие скрытые недостатки, каковые замужеству в должном возрасте воспрепятствовали. В тридцать… В тридцать девицу не брали уже просто по возрасту. Трудно надеяться, что немолодая невеста станет крепкой и здоровой, чадородной матерью. Жизнь и надежды боярышни Анны Милославской остались где-то далеко-далеко в прошлом. Теперь ей приходилось токмо влачить оставшиеся годы, смиренно ожидая конца судьбы.
– Мыслила, с Марией вдвоем век куковать будем… – еще раз всхлипнула несчастная. – Ан и она, дева старая, замуж выскочила… А любит-то как крепко-то-о-о-о. Счастливая-а-а-а…
Анна Ильинична снова заревела в голос.
Несчастное дитя без будущего и надежд…
Сердце Бориса Ивановича сжалось от жалости. Он еще раз провел ладонью по голове девицы, совершенно смахнув с ее волос платок, но тут же подхватил его, расправил и накрыл голову боярышни Милославской, спрятав сразу и волосы, и заплаканное лицо. Обнял за плечо и потянул из молельной:
– Пошли… Я знаю, куда тебе сейчас надобно…
Он спустился на этаж, вывел Анну Ильиничну на заснеженное нижнее гульбище, прошел по нему до храма Спаса на Сенях, толкнул церковную дверь.
– Савватий! Ты здесь, протопоп?
– Да пребудет с тобою милость Господа нашего, Борис Иванович, – в углу поднялся с колен монах, широко перекрестился и низко поклонился алтарю.
– Коли хорошо молиться о нас будешь, протопоп, его милость нас не оставит.
Священник укоризненно покачал головой, однако на дерзость сию отвечать не стал. Повернулся к иконостасу, снова размашисто перекрестился и смиренно спросил:
– Что привело тебя в храм Господень в сей неурочный час, боярин?
– Я желаю обвенчаться, Савватий. Ты способен совершить сие таинство?
– Вот уж от кого не ожидал так не ожидал, Борис Иванович, – повернулся к прихожанину священник, оказавшийся совсем молодым мужчиной лет тридцати на вид. Смуглым, узколицым, со впалыми щеками, небольшой остроконечной бородкой и большими темными глазами. – С чего ты вдруг решил жениться на старости лет?
– Все вокруг женятся, все вокруг радуются, – пожал плечами боярин Морозов. – Почему бы тогда и мне не испробовать сию шалость?
– Как учит нас Священное Писание, жена добродетельная радует своего мужа и лета его исполняет миром, – кивнул монах. – Я одобряю твое желание, Борис Иванович. Когда ты полагаешь свершить сие таинство?
– Сейчас, – ответил боярин Морозов.
– А кто невеста?.. – вдруг прошептала боярышня Милославская, наконец-то перестав всхлипывать.
– Ты, – ответил царский воспитатель и поднял ее руку. Снял со своего мизинца перстень с изумрудом и примерил к безымянному пальцу девицы.
– Ты хочешь взять меня замуж? – Голос Анны Ильиничны вдруг стал глубоким, почти утробным.
– Да, – кивнул Борис Иванович. – Ты смотри, кольцо аккурат по размеру. Можно будет даже не менять.
– Почему ты вдруг решил на мне жениться? – сглотнула великовозрастная девица.
– Все вокруг счастливы, все вокруг радуются, – ответил боярин. – Так почему бы заодно не сделать счастливой и тебя? Ты сказывала, тебе для сего достаточно выйти замуж? А я уже тридцать лет как вдовец. Препятствий никаких.
– Ты не шутишь, боярин? – не поверила в подобный поворот заплаканная девица.
– Господь свел нашего царя с Марией вопреки их судьбам и всем нашим стараниям, Анна Ильинична, – снял перстень с безымянного пальца боярин Морозов. – Токмо своею Божьей волей. Сие вышло столь очевидно, что даже я начал верить в провидение. Оное провидение сегодня дало мне совет жениться и привело тебя в мои объятия. Посему я готов рискнуть. Но ты, Анна Ильинична, с сим провидением не знакома и можешь отказаться в любой миг во время венчания.
– Нет… – мотнула головой боярышня.
– Нет так нет. – С явным облегчением царский воспитатель зажал перстни в кулаке.
– «Нет», значит, не откажусь! – нежданная невеста обеими руками вцепилась в пояс боярина Морозова и не позволила ему отступить ни на вершок. – Я согласна! Согласна…
– Коли так… – Борис Иванович отвел руку в сторону и разжал кулак. – Это наши обручальные кольца, протопоп. Начинай!
* * *
Когда двери церкви распахнулись снова, боярин Морозов уже поднимал платок, открывая свету заплаканное лицо Анны Ильиничны, осененное широкой счастливой улыбкой.
– Мы устали ждать, Борис Иванович! – громко сообщил князь Долгорукий, пропуская свою супругу вперед. – Никак не ожидал, боярин, что ты оставишь нас мерзнуть на улице, а сам предашься молитвам… – Он запнулся, смотря на царского воспитателя и сестру своей жены, неуверенно огладил бороду и сурово спросил: – Что здесь происходит?!
– Ты же знаешь, Дмитрий Алексеевич, – слегка повернул к нему лицо боярин Морозов. – Женщин никогда, ни на одну минуту нельзя оставлять наедине с чужими мужчинами.
А затем Борис Иванович наклонился вперед и крепко поцеловал боярыню Анну Морозову в горячие соленые губы.
Часть третья. Последний поцелуй
7 февраля 1649 года
Москва, Кремль, Престольная палата Теремного дворца
Главная зала новых хором сияла золотом. Золотые стены, золотая лепнина, золотые своды, золотые лики святых, стоящих по кругу под самым потолком, покрытым сусальным золотом. И только три высоких сдвоенных окна переливались всеми цветами радуги, ибо были собраны из множества разноцветных стеклянных ромбиков.
В Престольной палате теснились вдоль стен множество бояр, иные из которых были одеты в драгоценные ферязи и даже шубы, иные – в немецкие кафтаны, а многие предпочли черные монашеские и расшитые святительские рясы. Так же разнообразно выглядели и женщины. Одни предпочитали носить самые обычные парчовые сарафаны, больше похожие на колокола, поверх которых были наброшены меховые охабни и шубы, другие одевались в платья с широкими пышными юбками и сильно приталенным верхом; с грудью, каковую не прятали под дорогими тканями, а приподнимали ими. Причем многие явственно, даже неестественно, перси свои преувеличивали. Дамы в немецких одеждах спасались от прохлады под подбитыми мехом плащами с собольей и бобровой оторочкой на вороте и по краям.
Сидели в этом зале только двое: сам государь Алексей Михайлович на высоком золотом троне и его возлюбленная царица Мария Ильинична, расположившаяся рядом с супругом, но на кресле примерно на три пальца ниже мужниного и со спинкой, сделанной ниже на три ладони.
В центре же залы напротив друг друга стояли двое мужчин: невысокий, но весьма упитанный пожилой монах с длинной седой бородой, одетый в серую суконную рясу и опирающийся на светло-коричневый посох из узловатого соснового корня. Перед иноком буквально приплясывал паренек лет двадцати в бархатном камзоле немецкого покроя, однако покрытом золотой вышивкой, в бархатном берете с пером и в высоких яловых сапогах.
– Вы слишком доверяете пустым фантазиям и пустой вере, отче, в то время как наука строится на фактах, и только фактах! – постоянно взмахивал руками с вытянутыми указательными пальцами паренек. Однако перстами он указывал либо на пол, либо на потолок, и потому оскорбленным себя никто из присутствующих не ощущал. – Какие вы способны предоставить доказательства фантазии о пребывании Солнца в центре нашего мира?
– Прежде всего, боярин Федор Михайлович, сии утверждения содержатся в трудах виднейших астрономов древности, – степенно ответил монах. – Таких, как великий Ариабхат или Абуль-Вада Бузджани…
– Я прошу прощения, отец Епифаний[27], – приложив руку к груди и уважительно поклонившись, перебил собеседника безусый и безбородый паренек. – Но не нужно запугивать нас великими именами! Достаточно назвать цифры, доказывающие вашу теорию!
– Пребывание Солнца в центре мира доказывается странными петлями, каковые описывают в небесах планеты. Они легко объясняются тем, что мы наблюдаем за ними со своего места, путешествующего вокруг Солнца по своей орбите.
– Но они же еще проще объясняются неравномерным движением самих планет по орбитам вокруг Земли, уважаемый Епифаний! – опять поклонился паренек. – Посему все сии примеры есть пустые умственные рассуждения. Токмо измеренные точными приборами величины являются критерием истины! А наблюдения за небом повествуют нам о том, что планеты неизменно обнаруживаются в местах, исчисленных согласно птолемеевским таблицам, помещающих Землю в центр мира, и никогда не попадают в точки, сосчитанные по кругам отца Коперника. Ошибки достигают пяти градусов, что недопустимо для действительно научной теории![28]
– Латинянский математик Иван Кеплер, используя учение отца Коперника, смог исчислить движение Марса, боярин, и оно совпадает с наблюдаемым в небе!
– Токмо одной планеты из шести, отец Епифаний! – В этот раз боярин вскинул палец к потолку. – Не потому ли, что орбиты прочих планет в учение польского священника никак не укладываются?
– Они просто не сосчитаны, Федор Михайлович!
– Если когда-нибудь и кому-нибудь удастся достоверно сосчитать движение планет по орбитам вокруг Солнца, то сию фантазию появится смысл обсуждать. Но до тех пор сии рассуждения остаются всего лишь пустыми домыслами! – Молодой боярин отскочил, развел руками и поклонился.
– Однако сию гипотезу вот уже много веков поддерживают самые уважаемые из ученых мужей! Астрономы, безусловно заслуживающие доверия!
– Вы опять ссылаетесь на авторитеты, отче! Требуете слепой веры в слова людей с громкими именами. Но разве мы говорим о вере, отец Епифаний? – размашисто перекрестился довольный собой паренек. – Мы обсуждаем науку. А наука опирается на факты!
– Достаточно! – вышел вперед боярин Морозов. – Я полагаю, мы в полной мере услышали оба мнения о строении звездного неба. Уважаемый отец Епифаний придерживается скорее философского взгляда на мир, изящного в своей простоте, а боярин Ртищев полагается на инструменты и расчет. Как полагаешь, Алексей Михайлович? – поклонился он молодому царю.
– Диспут получился крайне занимательным, – согласился государь. – Тебе понравилось, Мария?
– Да, – кратко кивнула государыня. – Но жаль, что нам так и не удалось услышать уверенного ответа. Лишь гадания, сомнения и недомолвки.
– Однако же боярин Федор Михайлович всяко доказал, что наукам многим он обучен, словом владеет уверенно, постижением знаний увлечен со всей искренностью, – снова поклонился своему воспитаннику боярин Морозов. – Посему полагаю, что его ходатайство об открытии нового университета для людей всех сословий достойно рассмотрения.
– Но нужно ли нам столько университетов, Борис Иванович? – усомнился юный государь. – Одно училище уже много лет в Чудовом монастыре детей боярских воспитывает, другое духовник мой открыть затевает вкупе с протопопом Аввакумом и митрополитом Никоном, теперича еще и боярин Ртищев о том же ходатайствует… Помню, еще и в Великом Новгороде об академии новой сказывали. Хватит ли у нас в державе учеников для столь многих просветителей?
– Боярин Морозов учению греческому не доверяет и науки латинянские в землях православных распространять желает! – тут же выступил вперед протопоп Савватий. – Хорошо ли сие выйдет, коли немцы-еретики начнут смущать неокрепшие умы риторикой поганых схизматиков? И без того язычество дикое в городах и весях наших повсеместно процветает!
– Каково твое мнение, святитель? – наклонившись вперед, обратился к патриарху Иосифу государь.
– Учения много не бывает, Алексей Михайлович, – слегка склонил голову первосвятитель. – О том дед твой, патриарх Филарет, не раз сказывал и дело просветительское мне вместе с посохом пастырским завещал. Пусть учит сей рьяный юноша рабов Божиих своим наукам, я его благословляю. Жизнь рассудит, каковые из сих знаний полезными окажутся, а каковые забудутся вскорости за ненадобностью.
– А ты что скажешь, лебедушка? – повернул голову к супруге государь.
– Скажу я, мой ненаглядный, – тяжело вздохнула заскучавшая на диспуте царица Мария Ильинична, – что, прогуливаясь с царевнами по твоей столице, видели мы помимо теремов разноцветных и красочных, помимо людей благочестивых и воспитанных еще и множество горожан сирых и убогих, бесприютно по улицам страдающих, без одежды на морозе синеющих, от голода скрюченных. Полагала я всю жизнь свою, Алексей Михайлович, что забота о сирых и убогих, о душах их и жизнях есть первый долг христианских монастырей и самих служителей Господа! Что ради сего благого дела вклады от мирян они получают, на то подаяния наши тратят и доходы с имущества церковного. Однако же вижу я, что сии земные материи архиереев наших заботят мало. Что важнее заботы о болящих, заблудших и умирающих для них справы книжные, да звезды небесные, да науки философские. Коли так выходит, государь, может статься, тебе самому надлежит позаботиться, чтобы доходы монастырские и церковные сирым и убогим пользу приносили, а не исчезали невесть где, среди звезд и философии?
По Престольной палате побежал шепоток – подобной суровой отповеди от вознесшийся на трон худородной женщины, не получившей должного образования, не ожидал никто.
– Браво, государыня! – первым отреагировал юный боярин Ртищев и склонился перед царицей в низком поклоне. – Пока мы смотрим в небеса, Мария Ильинична, ты зришь в самый корень! Токмо таковая искренняя, без принуждения забота и способна облегчить участь обездоленных, к виду каковых мы, грешные, привыкли и вовсе перестали замечать.
– Твоими устами глаголет истина, Мария Ильинична! – куда более уважительно обратился к царице боярин Морозов. – Витая в материях высоких, мы и вправду о делах мирских совсем позабыли. Поклон тебе за вразумение, государыня. Надеюсь, ты и впредь своими наставлениями нас не забудешь.
– Пригляд за подобными богоугодными начинаниями надобен от человека не назначенного, а искренне за сирых и увечных тревожащегося, – поддержал собеседников престарелый иеромонах Епифаний, все еще стоящий в середине залы. – Сие есть чувство любящей заботливой матушки, покровительницы всему православному народу. Прими мое почтение, Мария Ильинична… – И монах тоже склонил перед царственной женщиной свою седую голову.
– Коли на сей раз в словах своих все столь единодушны, то пусть каждый получит желаемое! – решил юный царь. – Тебе, боярин Федор Михайлович, даю свое дозволение на обустройство училища для детей всех сословий. Тебе, отец Савватий со товарищи, дозволяется свое училище сотворить, каковое верное и истинное христианское учение определит. Училище же Чудовское пусть и далее прежним порядком работает. Тебе, боярин Борис Иванович, повелеваю создать приказ Монастырский, каковой со всего церковного имущества доход собирать станет и особо проследит, чтобы сей доход бесследно не исчезал. Супруга же моя укажет, как достойным образом надлежит оберегать сирых и убогих от их тяжкой доли. А теперь, бояре, пора нам и о себе позаботиться, – поднялся со своего места царь всея Руси. – Приглашаю вас всех со мною хлеб насущный преломить, откушать за общим столом, чем бог послал!
Царь с супругой спустились с тронов, миновали низко склонившихся перед ними подданных и направились в трапезную. Бояре, чуть выждав, шумно устремились следом.
Никто из них даже не подозревал, что прямо сейчас присутствовал при одном из важнейших поворотов русской истории. Что созданный прямо при них государем Алексеем Михайловичем Монастырский приказ, поставивший Церковь под полный финансовый контроль государства, несмотря на активное противодействие и возмущение всех иерархов, просуществует до самой Октябрьской революции, до момента отделения Церкви от государства. Правда, в тысяча семьсот двадцать пятом году он будет переименован в Священный синод. Что царица Мария Ильинична, недовольная работой Церкви, создаст в Москве приюты и богадельни для старых и немощных и лазареты для больных, а после очередной польской войны организует госпитали для раненых и увечных. Ее сын царь Федор в тысяча шестьсот восемьдесят первом году распространит реформы матери на всю страну, и в конечном итоге – за триста пятьдесят без малого лет – начинание государыни Марии вырастет в современное Министерство труда и социальной защиты. Что боярин Федор Ртищев будет увековечен в памятнике «Тысячелетие России», как создатель первого на Руси университета европейского образца, а рядом с ним будет стоять патриарх Никон, активный участник «кружка Вонифатьева». Что «Кружок ревнителей благочестия», получив дозволение царя на реформу христианства, создаст сразу два «правильных православия»: «старообрядчество» протопопа Аввакума и «православие» патриарха Никона. Причем Никон своих друзей по кружку в рамках диспута о христианстве банально истребит, а некоторых даже прикажет сжечь живьем. После чего царь, изумленный подобным «благочестием», низложит Никона в простые монахи и сошлет в Ферапонтов монастырь.
Но никто из бояр и их жен обо всем этом зимой тысяча шестьсот сорок девятого года даже не догадывался. Гостей, приглашенных на диспут в Престольной палате, куда более занимали мысли о царских нарезных калачах и пирогах с фазанами и брусникой, о запеченных белугах и кабанах, о марципане и винной ягоде, о лотках с заливным и вертелах с заячьими почками. И именно вычурную красоту царских блюд в этот день они хвалили более всего.
* * *
Возлюбленная Алексея Михайловича оказалась на диво чадородной. Мария родила для государя одного за другим Дмитрия, Евдокию, Марфу. Беременная четвертым дитём, царица вопреки всем обычаям отправилась провожать мужа на войну: возвертать в лоно матушки России украденный ляхами в Смутное время Смоленск. Только на самой Смоленской дороге, при большом стечении людей, она все же рассталась с супругом, прилюдно его расцеловав и благословив, а также поклонилась собравшимся полкам, благословив их на победу от имени всех жен и матерей. И вскоре родила вполне здорового мальчика – Алексея.
Обновленная армия, в которой слитные, хорошо обученные драгунские и гусарские полки заменили рыхлое боярское поместное ополчение, а стрельцы поддерживались в ратном строю опытными немецкими рейтарами, – эта новая армия громила врага буквально в каждой схватке, шаг за шагом освобождая истерзанные схизматиками земли. Захватчикам очень быстро пришлось расстаться и со Смоленскими землями, и с малорусскими, и с частью балтийских.
Царица тоже честно исполняла свой долг, и вернувшийся с новой победой муж через некоторое время смог взять на руки новорожденную Анну, а после еще одного победного похода – крепенькую розовощекую Софью. Следом родились Екатерина и Мария, затем Федор и Феодосия.
Здоровье курской красавицы словно бы передавалось ее детям – вопреки обычному, из девяти малышей умерло во младенчестве только двое, остальные же бегали по Теремному дворцу, наполняя его топотом и веселыми голосами, счастьем и радостью.
В шестьдесят пятом году родился царевич Симеон, в шестьдесят шестом – царевич Иван.
Царица рожала много и благополучно, и потому Алексей Михайлович не особо забеспокоился, когда два года спустя она снова попала в руки повитух. Он даже отъехал с детьми и сестрами в Коломенское, дабы не докучать супруге в столь тяжелые дни. Как вдруг… В полдень второго марта в покои государя ввалился изможденный гонец и упал на колени:
– Прости, государь… Твоя жена умирает…
– Как, почему?! – поднял голову Алексей Михайлович, просматривающий в это время разрядные листы. Он даже не сразу понял, о чем идет речь.
– Спеши, государь… Можешь не застать…
– Коня!!! – отшвырнув грамоту, вскочил царь и побежал к дверям.
Уже поздней ночью на загнанном до полусмерти скакуне он влетел в ворота Кремля, спешился у крыльца, забежал по ступеням, затем на половину царицы.
– Ты здесь… – Мария протянула к нему руку, слабо пожала ладонь. – Ты здесь, мой любый. Дождалась…
– Все будет хорошо, лебедушка. Ты поправишься, я тебя не отпущу!
– Ты уже… Не отпустил… – улыбнулась ему Мария. – Спасибо тебе… Алексей… Ты подарил мне счастье.
Она облегченно вздохнула и опустила веки.
Больше Мария Ильинична не просыпалась.
Сердце царицы еще билось до самого рассвета. Однако с первыми лучами света тринадцатого марта тысяча шестьсот шестьдесят девятого года остановилось и оно.
Государь Алексей Михайлович остался в этом мире один.
16 октября 1670 года
Москва, Кремль, Престольная палата
В большом и гулком зале, переливающемся персидским сусальным золотом, находились только два человека. Государь Алексей Михайлович, сидящий за позолоченным столом на золотом троне, в вышитой золотом ферязи и золотой тафье, и дьяк Посольского приказа Артамон Сергеевич Матвеев – стройный, высокий, с острыми чертами лица, с короткой и остроконечной русой бородкой и русыми же кудрями. Он был полной противоположностью крупному и широкоплечему царю всея Руси, носящему окладистую бородку с проседью и успевшему совершенно поседеть, – хотя разница в возрасте у мужчин составляла всего четыре года. Причем именно Артамон Сергеевич был старше.
– Наставление послам русским в Польшу, дабы супротив Оттоманской Порты союз с ляхами держать и басурманам супротив друг друга не помогать… – положил на стол грамоту стройный боярин.
Государь мельком ее посмотрел, подписал.
– Челобитная подданных персидских о переходе в веру православную… – развернул следующий свиток дьяк, зачитал: – «Царю, государю и великому князю Алексею Михайловичю бьют челом Шаховой области арменья Стенка Моисеев, Гришка Матвеев, Сафарко Назаров, Богдашко Салтанов, Бабка Туресов с товарищи сорок человек… Будет пожалуешь великий государь нас иноземщов в церкви божие пускать с протчими християны и исповедывать и причещать в Астрахани и в Казани и ыных твоих великого государя городех и вели государь, чтоб без исповедывания и без причастия не умереть. Царь, государь смилуйся». Обещают о милости сей родичам поведать, и тогда они тоже к нам переезжать станут.
– И? – вопросительно вскинул брови государь.
– Купцы богатые, казне прибыток.
– Шах не обидится?
– Мы же его подданных к себе не зовем! Токмо послабление некое им делаем. А что они там сами удумают, за то с армян и спрос.
– Пусть будет так. Дозволяю… – размашисто начертал поверх челобитной правитель всея Руси.
– Живописец Богдан Салтанов из Оружейной палаты жалуется, что ему за работы художественные не заплатили.
– Почему тебе, а не в палату?
– Подданный персидский, – виновато развел руками дьяк.
– Послать от моего имени в приказ, пусть разберутся, – решил Алексей Михайлович.
– Благодарю, государь, – поклонился боярин, собрав бумаги. – На сем, государь, дозволь откланяться.
– Скажи, Артамон Сергеевич, каково девичье имя твоей супруги? – внезапно спросил царь всея Руси.
– Евдокия Григорьевна, веры православной, урожденная леди Гамильтон, – повернувшись к столу, признался боярин. – Я могу узнать, чем вызван сей интерес к моей жене, государь?
– Бродят при дворе таковые слухи, Артамон Сергеевич, – откинувшись на спинку трона, слабо улыбнулся Алексей Михайлович, – что в бытность свою на английском острове посланником ввязался ты в схватку между армией мятежников, короля тамошнего казнивших и сохранивших боярскую честь отважных воинов. И что в кровавой той схватке ты спас от злобных бесчестных извергов прекрасную знатную девицу, на каковой впоследствии и женился. Подробности сих твоих приключений весьма живописны и многими даже на бумагу записаны[29]. Выходит, все сие есть правда?
– Увы, государь, увы, – пряча улыбку, низко поклонился своему господину дьяк Посольского приказа. – Поскольку сии забавные слухи меня не позорят, я их не опровергаю. Но и признать их за правду не могу. Очень жаль огорчать тебя, Алексей Михайлович, но свою супругу я встретил на журфиксе. Там мы познакомились, там возникли и выросли наши чувства. Каковые честной свадьбой и закончились.
– Где-где ты ее встретил? – нахмурился правитель.
– На журфиксе, государь. В Шотландии есть такой забавный обычай, на один день в неделю открывать двери своего дома для всех желающих. Приглашения не требуется. В сей день каждый человек с добрыми намерениями и с желанием поддержать интересную беседу может прийти на сей двор в гости, будет встречен с радостью, приглашен к столу, и хозяйка нальет ему настоящего индийского чаю. В нашем доме журфикс объявлен в пятницу вечером. Сиречь завтра. Мы с супругой были бы очень рады увидеть у себя и твое величество, Алексей Михайлович. – Боярин приложил руку к груди.
– Благодарю, Артамон Сергеевич, но у меня слишком много хлопот, – покачал головой царь.
– Не сочти за дерзость, государь… – Дьяк Посольского приказа замялся, но все же продолжил: – Прошло уже два года, государь. Ты не охотишься, не веселишься на гуляньях, не пируешь. Может статься, пришла пора оставить траур?
– Зачем? – пожал плечами правитель всея Руси. – У меня трое сыновей. Продолжению династии ничто не угрожает, смуты не случится. Мне вовсе не обязательно искать новую жену.
– Однако хранить траур тоже нет необходимости, государь. Приходи завтра к нам на журфикс, Алексей Михайлович. Немного развеешься, увидишь новые лица.
– Нет настроения, Артамон Сергеевич.
– Ты своими глазами увидишь мою супругу, о которой в Москве ходит столько сказаний! – сделал самую высокую ставку дьяк Посольского приказа.
– Я верю тебе на слово, Артамон Сергеевич, Евдокия Григорьевна несомненно очаровательна.
– В эту пятницу у нас театр, государь. Тебе будет интересно.
– Театр? – впервые заинтересовался правитель всея Руси.
– Не совсем театр, государь. Хорошие музыканты сыграют творения самых именитых композиторов. Ты получишь удовольствие.
В этот раз отрицание не прозвучало – Алексей Михайлович колебался.
– Мы с супругой будем ждать тебя, государь. – Опытный дипломат понял, что уговаривать более нельзя, ибо собеседник может решить, что на него давят. Артамон Сергеевич поклонился и вышел из залы.
* * *
Новенькие хоромы боярина Артамона Матвеева вполне подходили званию дьяка Посольского приказа: имели размеры почти двести на двести шагов, стояли на высокой белокаменной подклети, а кладка отличалась невероятной вычурностью. Где-то кирпичи лежали плашмя, где-то боком, выпирая гранями, где-то лежали на боку, либо стояли вертикально, где-то собирались в своды, либо выпирали, превращаясь в карнизы и полочки, а местами перемежаясь с яркими глянцевыми изразцами. По углам дома возвышались башенки с остроконечными кровлями, сложенными «шахматкой» из синих, желтых, белых и зеленых пластин, в центре дом закрывался столь же многоцветным куполом, а по краю стояли резные обелиски – каменные, но словно бы свернутые из толстых канатов.
Многоцветная красочность дома, как бы сошедшего с лубочных картинок, мало уступала роскоши внутри: коридоры, оклеенные расписной бумагой по обычаям латинянским, горницы, обитые разноцветным шелком по обычаю персидскому и с расписными потолками по обычаю русскому. А еще – с полами, собранными в паркет из деревянных пластинок разного оттенка. Это уже исходя из обычаев шотландских.
Во многих местах стояли покрытые изразцами печи, причем везде глянцевая роспись совпадала цветом и рисунком с остальной отделкой комнат. Сверх того, тут и там висели картины. Иные – изображающие леса и моря, иные – с человеческими ликами.
В самой большой зале стоял длинный стол сразу с четырьмя самоварами, между которыми располагались китайские фарфоровые чашки на блюдцах, блюда с пирогами, калачами и пряниками, обычными и фруктовыми. Вопреки русским нравам – никаких кубков, никаких винных бочонков и кувшинов…
Однако впечатление о полном отсутствии хмельного было обманчиво. Ведь чернослив для фруктовых пряников, как известно, вымачивается в крепком хлебном вине, а курага – в вине обычном. И таких хитрых пирогов между самоварами имелось в достатке…
За столом сидели полтора десятка гостей – бояре и князья, боярыни и княгини. Все – одетые в немецкие одежды, у иных женщин даже плечи оказались обнаженными! Правда, оставить неприкрытыми волосы никто из русских дам не рискнул даже здесь. Все-таки это неисправимый позор. Да и разговор здесь шел боярский, обычный, осенний. Об урожае.
– Хлебный ныне год получился! – попивая горячий чай, похвастался молодой боярин Сергей Лопухин. – Весна выдалась дождливая, лето солнечное, осень сухая. Прямо на диво все сложилось! В полтора раза супротив обычного поля уродили. Прямо амбаров не хватает!
– Вот токмо репа и капуста по такому лету пересохли все, – мрачно ответил князь Борис Куракин, начисто бритое лицо которого сильно молодило сорокалетнего воеводу. – О прошлом годе со свеклой и репой хорошо получилось, с хлебом плохо. Ныне же все наоборот. Кабы наперед знать, все бы наоборот и посадил!
– А ты чего все молчишь, Иван Васильевич? – поинтересовался хозяин дома у князя Мещерского, на стародавний манер заплетшего правую сторону рыжей бороды в три косички с тонкими ленточками, причем в одной из них поблескивал синим огоньком крупный перстень.
– У меня две мельницы молотобойные на Мологе, железное болото у Весьегонска и три суконные мануфактуры на Суре, – гость с видимым удовольствием откусил кусок пряника с курагой. – Покуда течет вода и крутятся колеса, то и доход имеется. А хлеб да репу я на торгу закупаю по мере надобности.
– Боюсь сие скоро изменится, Иван Васильевич! – прихлебнул еще немного чая боярин Лопухин. – С дозволения государя Михаила Федоровича многие иноземные купцы мануфактуры железоплавильные у нас в стране купили, и Алексей Михайлович сие вторжение тоже одобряет. Теперь, тайну добычи металла выведав, шведы у себя в стране блауфены строят и свое собственное железо варить начали. А коли покупатели свой товар заимели, кто его у нас брать станет? Боюсь, твои кузнечные мельницы скоро встанут, княже. Хлеб же людям завсегда надобен, покуда они живыми остаются!
– Железо тот же хлеб, боярин, токмо для рук, – невозмутимо откусил еще пряника князь. – Ножи, косы, плуги, скобы, гвозди. Балки, пищали, молотки и пилы. Железа много не бывает…
В этот миг в комнату буквально ворвался явно перепуганный молодой слуга в малиновой атласной косоворотке и пеньковой веревкой вместо пояса, кинулся к столу, прямо через него выдохнул в лицо хозяина:
– Р-р-рынды!!!
– Евдокия, пойдем! – вскочил боярин Матвеев и поспешил к дверям.
Тем временем у ворот спешился новый гость. Одетый в синий зипун с шелковыми шнурами на швах, с каракулевым воротом и в каракулевую же шапку с рубином на лбу, в меховых шароварах и вышитых простым катурлином войлочных сапогах, он мог бы сойти за простого горожанина – кабы не стража из шести бояр в белых кафтанах, с саблями на боках и топориками за спиной.
«Втайне» выехавшего из Кремля немолодого боярина с ровно стриженной аккуратной бородкой сопровождали личные царские телохранители! Посему секрет одинокого гостя был шит белыми нитками. Хотя, с другой стороны, ничего постыдного Алексей Михайлович не совершал. Просто отказался от пышного выезда. Так что особо прятаться ему и не требовалось.
Выскочивший на улицу подворник перехватил поводья серого туркестанца, отвел его в сторону, а гость скромно вошел в калитку, на мощенный булыжником двор – даже в этом дьяк Посольского приказа предпочел шотландские обычаи русским.
Хозяин дома как раз спускался по нижним ступеням, а рядом с ним шагала темноглазая боярыня с черными волосами, собранными на затылке в два шарика и прикрытыми легкой газовой тканью с бирюзовым оттенком; с открытыми бледно-розовыми плечами, узкой до невозможности талией и широкой бархатной юбкой. Платье урожденной леди Гамильтон было однотонным и темно-синим и могло бы считаться скромным, кабы не открывало чужим взорам самые соблазнительные части женского тела и не подчеркивало остальные, скрытые под тканью дамские прелести.
В руках хозяйка держала небольшой золотой поднос с одной-единственной серебряной рюмкой в центре.
– Рад видеть тебя, Алексей Михайлович! – склонился в полупоклоне боярин.
– Мое почтение, государь, – чуть присела и поклонилась хозяйка.
Повелитель всея Руси чуть прищурился, глядя на ее вытянутое, чуть смугловатое лицо с острым носом и бледными губами, взял рюмку, одним движением опрокинул себе в рот, после чего по русскому обычаю поцеловал хозяйку.
– Прошу, Алексей Михайлович, – указал вверх по лестнице боярин и тут же первым пошел вперед.
Появление в просторной горнице правителя державы заставило гостей вскочить, шарахнуться от стола и склониться в поклоне.
– Садитесь, садитесь! – поспешил успокоить всех Артамон Сергеевич. – Алексей Михайлович всего лишь желает выпить чаю. Сегодня журфикс, и в нашем доме рады всем гостям!
Бояре и их дамы без особой уверенности вернулись к стульям, однако опуститься на свои места не рискнули.
– Садитесь, православные, – разрешил царь всея Руси. – Я здесь гость, а не повелитель.
– Чашечку чая, государь? – Евдокия Григорьевна взяла с одного самовара пузатый графинчик с синими цветами на боку, наполнила примерно на треть одну из пустых чашек, затем до краев долила кипяток.
– Благодарю, – кивнул государь.
– О чем мы говорили, бояре? – попытался вспомнить боярин Матвеев, приглашающе указывая на стол, и его гости наконец-то начали усаживаться обратно.
– Мужчины всегда говорят о делах да о политике, – усмехнулась хозяйка, возвращаясь во главу стола. – Вы говорили, что государь напрасно дозволяет иноземцам строить в наших землях железные фабрики. Через сие строительство наши знания и мастерство к ним утекают, и они сами наши товары у себя начинают ковать.
Бояре, сглотнув, затаили дыхание.
– Шила в мешке не утаишь, Евдокия Григорьевна, – спокойно ответил царственный гость. – Знание рано или поздно все едино утечет. Дабы первым быть, мудрость не таить надобно, а постоянно нечто новое создавать. В чем князь Мещерский, кстати, весьма преуспевает. Боюсь, вскорости у меня в стране рек для его мануфактур не хватит.
– Благодарю, государь, – поклонился правителю князь.
– Что до мельниц, на иноземное серебро поставленных, так ведь пусть они лучше в мою казну подати платят, а не в шведскую али голландскую. Разве не так? Именно потому пошлина у нас для купцов русских пять копеек с рубля, а для иноземных пятнадцать. Чтобы все иноземцы стремились в русские торговцы записаться, а не в заморские… – Алексей Михайлович сделал несколько глотков горячего напитка, вскинул брови, похвалил: – Ароматный, однако!
– И очень хорошо бодрит.
– Если иноземцы втрое меньше платить начинают, это же прямой убыток! – не понял хитрости боярин Лопухин.
– Пять копеек в моей казне всегда лучше, чем пятнадцать в немецкой, – усмехнулся царь всея Руси. – Где мануфактура, там и подати.
– Если у вас в Думе постоянно таковые разговоры идут, – вмешалась хозяйка дома, – то мне непонятно, отчего вы там от скуки не умираете. Я хотела бы показать вам сегодня нечто более интересное…
Она вскинула ладони, несколько раз хлопнула. В горницу забежали слуги, сложили стоящую в углу ширму, за которой обнаружились клавесин, арфа и несколько пустых пока стульев, обитых кошмой.
– Моя давняя подруга похвалила мне душеспасительное сочинение некого баварца Теофила Штатена, – поведала супруга дьяка Посольского приказа. – Именуется оно: «Священная поэма леса, или Вечная душа». После сего одобрения я попросила прислать музыкантов, его исполняющих, ко мне в Москву. И сегодня все мы сможем оценить сию фантазию.
Пока боярыня говорила, семеро музыкантов в белых чулках, коротких бархатных штанах и бархатных куртках заняли свои места: у клавесина, за арфой, на стульях со скрипками и свирелями, еще двое встали перед ними.
Евдокия Григорьевна снова дважды хлопнула в ладони – и зазвучала музыка.
Сперва заезжие скоморохи просто играли, затем двое из них начали петь, перешли на речитатив, снова запели…[30]
В пении иноземцы были не очень хороши – до церковных голосов сильно не дотягивали. Зато играли чудесно, то поддерживая одними инструментами другие, то догоняя мелодией, словно бы устраивая многозвучное эхо, то снова сливаясь в общую музыку. Алексей Михайлович так заслушался, что совсем забыл о чае. Спохватившись, выпил холодным, и заботливая хозяйка тут же наполнила его кружку снова. В этот раз, внимая инструментам, государь прихлебывал ароматный напиток маленькими глоточками.
Наконец выступление закончилось. Музыканты встали, низко поклонились и спешно удалились.
Все присутствующие ожидающе посмотрели на царя.
– Это было чудесно, – кивнул Алексей Михайлович.
– Да, великолепно! Изумительно! Какое мастерство! – тут же с облегчением стали нахваливать представление все остальные. – Евдокия Григорьевна знает толк в музыке!
– Еще чаю, Алексей Михайлович? – подошла к царю хозяйка.
– Да, – согласился государь. – Музыка была прекрасна. А вот о чем страдали певцы, я так и не понял.
– Они радовались тому, что могут спасти свою душу даже в окружении язычников, – пояснила хозяйка. – Очень богобоязненная композиция. Но сии певцы хвалились, что знают также наизусть музыкальную комедию Вирджилио Маццокки «Страждущий да надеется». Вестимо, после трудной недели она более способствовала бы отдохновению.
– Сие представление тоже оказалось забавным, хозяюшка, очень благодарен. – Государь поднялся: – Премного благодарен, хозяин!
– Помилуй, Алексей Михайлович, ты даже ни единого пирога не попробовал!
– Я приходил на журфикс, Артамон Сергеевич, а не на пироги, – улыбнулся государь. – Сие шотландское баловство мне понравилось. Каждую пятницу, сказываешь? Я запомню.
Гость, сопровождаемый дьяком Посольского приказа, вышел в коридор, и боярин Лопухин, облегченно выдохнув, размашисто перекрестился:
– Ну, слава Богу! А я все думал: нас вместе с литаврами и арфами сожгут али отдельно?
– Был бы на кафедре Никон, – потянулся за пряником с черносливом князь Куракин, – спалили бы вместе с домом. Но Господь нас от истинных ревнителей миловал, а Алексей Михайлович мудр и заботлив, к буйству не склонен. Даже если не понравилось, просто больше уже тут не покажется. Но карать за свое недовольство не станет. Недаром его Тишайшим в народе прозывают. Коли ты исправно трудишься и не буянишь, он не тронет.
– Полагаешь, не понравилось, княже? – встревожилась хозяйка.
– Не знаю, Евдокия Григорьевна, не знаю. Чужая душа потемки. Но коли он у тебя еще хоть раз появится, я себе тоже журфикс обязательно заведу! Ради этаких гостей не жалко.
* * *
Словно бы услышав угрозу князя Куракина, спустя неделю государь снова посетил журфикс боярина Матвеева.
В этот раз гости уже не так испугались его появления и даже продолжили беседу о происхождении ветров, решив в итоге, что они рождаются от махания платками. В шутку, разумеется.
Царственный гость опять выпил три чашки чая, не побрезговал калачами и с интересом просмотрел итальянскую постановку. На чем его визиты в дом дьяка Посольского приказа прекратились.
Похоже, из всех новомодных шотландских обычаев Алексея Михайловича заинтересовал только домашний театр.
28 ноября 1670 года
Москва, подворье боярина Матвеева
Стол в большой зале стоял придвинутым к самым окнам – так что между ним и стеной человек протискивался с большим трудом. Однако же почти все гости сидели именно там, любуясь молодыми парами, танцующими в свете свечей величавый полонез. Несмотря на приоткрытое окно, здесь пахло воском и легким дымком, чаем и пряностями и человеческим дыханием. Все же людей тут собралось весьма много для не самого большого помещения. Да еще – музыканты, да еще – пузатые горячие самовары.
На открывшуюся дверь и вошедшего внутрь нового гостя никто поначалу не обратил внимания, следя за движениями пар. Потом кто-то вдруг выдохнул:
– Ца-арь!!!
И всё пришло в смятение. Музыкальные инструменты заблеяли нечто несуразное и смолкли, танцующие пары отхлынули к дальней стене, прижавшись к изразцовой печи; гости, зажатые между окнами и столом, судорожно задергались, не в силах встать. Ближние люди, подпрыгнув, склонились в поясном поклоне.
В стремительно наступившей тишине неожиданно резко прозвучал хриплый голос дьяка Посольского приказа:
– Откуда ты здесь, Алексей Михайлович?!
Государь всея Руси немного помолчал. Огладил бороду и осторожно спросил:
– Может статься, я неверно толкую слово «журфикс»?
– Помилуй господи, любезнейший Алексей Михайлович! – спохватившись, кинулась к нему хозяйка. – К столу садись, пирогами угощайся, сейчас я чаю горячего налью! Очень, очень рады! Супруг мой лишь о том закручинился, что мы тебя на крыльце, как хотелось бы, не встретили!
– Ничто, я сам не ждал, – сел возле самовара государь. – Увидел с гульбища, что лед сегодня на реке встал. Помыслил, вдруг тут у вас о сем беседуют? И решил прокатиться.
– У нас сегодня танцы, Алексей Михайлович, – подливая заварку, рассказала Евдокия Григорьевна. – Бояре юные развлекаются.
– У немцев сие развлечение в большой чести… Вот я и подумал, что умение сие вельми полезно выйдет, коли с посольством отроки выезжать станут… – словно бы попытался оправдаться дьяк.
Хозяйка, повернувшись к музыкантам, сделала большие глаза, призывно помахала руками – и те заиграли снова.
Пары вернулись на паркет, неуклюже сходясь и расходясь в величавых фигурах и при сем часто сталкиваясь. Похоже, появление царственного зрителя привело их в изрядное замешательство.
– Выходит, про ледостав вы даже не знаете? – отпив чаю, посетовал государь.
– Так ведь давно его все ждут, государь! – отозвался Артамон Сергеевич. – Ладьи и ушкуи месяц как на берегах, снасти у рыбаков выбраны, ставни поправлены. Готово все у людей.
Разговор царственного гостя больше никто не поддержал – бояре старшие любовались боярами молодыми, предающимися искусству танца. Правитель всея Руси тоже смолк, допил первую чашку, повернул голову. И словно бы большая и холодная медвежья лапа сжала его сердце, вонзив глубоко в душу острые длинные когти…
Алексей Михайлович вздрогнул, резко отвернулся. Перевел дух.
Заботливая хозяйка налила ему еще чаю. Государь благодарно кивнул, взял один из калачей. Скушал, запивая, снова повернулся. И опять ощутил в груди когтистую лапу безжалостного зверя.
– Проводи меня, Артамон Сергеевич, – поднялся царь, вышел вместе с хозяином за дверь, самолично ее притворил и негромко поинтересовался: – Что за девица танцует второй, в платье из золотистой парчи и синего бархата? Высокая, статная, с темными глазами и высоким лбом. Та, что с коралловыми губами, звонким смехом и голосом мягким…
– Ты успел заметить так много? – удивился боярин. – Ты ведь даже не смотрел в их сторону, Алексей Михайлович!
– Ты ее не знаешь?
– Прости, государь, – спохватился боярин Матвеев. – Сие есть девица Наталья, дочь боярина Кирилла Нарышкина.
– Обручена? Просватана?
– Насколько я знаю, нет… Но почему ты спрашиваешь, государь?
– Выполни мою просьбу, Артамон Сергеевич. Узнай осторожно, согласится ли она выйти за меня замуж?
– Замуж?! – не поверил своим ушам боярин Матвеев. – Ты же ее первый раз видишь!
– Первого взгляда достаточно… – то ли улыбнулся, то ли оскалился государь и с силой потер подбородок. – Когда такое случилось со мною в прошлый раз, Артамон Сергеевич, я девицу прямо в церкви схватил и увлек за собою. И четверть века душа в душу с ней прожил. Сейчас, видишь, сперва спрашиваю. Наверное, постарел. Я так понимаю, она мне в дочери годится. Может не захотеть. Но у меня есть одно серьезное преимущество, боярин. Никто, кроме меня, не способен сделать ее царицей. Так что ты все-таки поинтересуйся.
– Воля твоя, государь, – склонил голову дьяк Посольского приказа.
– Не провожай меня, Артамон Сергеевич, – отпустил его властелин всея Руси. – Я хочу подышать свежестью. Что-то мне сегодня жарко.
* * *
Алексей Михайлович проснулся до рассвета и залеживаться не стал. Все же – суббота, государю всея Руси надобно показываться народу. Сиречь отстоять заутреню в Успенском соборе, доказывая свое здоровье и благонравие.
Поднявшись, самодержец накинул на плечи халат, вышел в горницу перед опочивальней… и замер, обнаружив вытянувшегося на лавке дьяка Посольского приказа.
– Артамон Сергеевич? – негромко окликнул он нежданного гостя.
– Прости, государь! – вскочил боярин.
– Что ты здесь делаешь?
– Она согласна.
– И ты поэтому ночевал у меня под дверью? – добродушно рассмеялся царь всея Руси.
– Она очень боялась, что ты передумаешь. Пришлось тебя догонять, Алексей Михайлович. Когда Наталье что-то приходит в голову, она превращается в таран. Проще уступить, нежели остановить. А то ведь могла и сама поскакать. Девчонка с характером.
– Но ведь ты, Артамон Сергеевич, обмолвился, что красавица сия есть дочь боярина Нарышкина! При чем здесь ты?
– Она моя воспитанница, государь, – опустив взор, признался дьяк. – С малых лет в нашем доме живет, – он тяжко вздохнул. – Почти как дочь. Уж прости.
Алексей Михайлович немного помолчал. Затем запахнул халат глубже и распорядился:
– Прикажи объявить по Москве, что государь желает провести смотрины невест. И не забудь привести на них свою воспитанницу.
15 января 1671 года
Москва, Кремль, Грановитая палата
В сияющим золотом зале было тесно от людей – и невероятно тихо. Многие десятки князей, бояр и священников, затаив дыхание, следили, как государь всея Руси, одетый в вышитую золотом мантию, в сверкающем самоцветами оплечье медленно проходит между рядами юных красавиц, держа в руках золотистую шелковую ленту.
Пройдя до самой крайней девицы, стоящей в заднем, четвертом ряду, государь сделал шаг назад, к третьей линии, взял одну из «невест» за руку, в три движения привязал к своей руке желтой ленточкой и вывел вперед:
– Вот ваша новая царица, бояре! – провозгласил он. – Прошу любить и жаловать!
– Как твое имя, раба Божия? – тяжело ступая, подошел к избраннице патриарх Иоасаф, одетый в дорогую зеленую мантию, тяжелую от золотого шитья.
– Наталья, святитель… – смиренно опустила голову девушка. – Дщерь раба Божьего Кирилла из рода Нарышкиных…
– Согласна ли ты стать невестой раба Божьего Алексея?
– Да, святитель…
– Не давала ли ты иных клятв, каковые сему браку могут воспрепятствовать?
– Нет, святитель.
– Не свершала ли ты поступков, способных запятнать благочестивость невесты?
– Нет, отче.
– Даешь ли ты согласие на брак добровольно, по чистой любви, без корысти и всякого принуждения?
– Да, отче.
– В таком случае властию, данной мне Господом нашим Иисусом Христом, нарекаю вас женихом и невестой!
* * *
Спустя семь дней, двадцать второго января тысяча шестьсот семьдесят первого года, после свершения таинства венчания, стоя у алтаря Успенского собора, государь Алексей Михайлович откинул кисею с лица юной супруги и с полным своим правом крепко поцеловал любимую в горячие сладкие губы.
И никто из кричащих новобрачным здравицы не ведал и не подозревал, что этот поцелуй станет последним настоящим поцелуем в истории русского царства. Что уже сын Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны, шестнадцатилетний Петр, будет обвенчан с Евдокией Лопухиной уже вовсе безо всяких чувств, смотрин и желаний – чисто ради сложившейся политической целесообразности.
Россия превращалась в империю, и вместе со звучным званием православного царства растворялась в далеком полулегендарном прошлом сказочная и таинственная эпоха великой любви. Эпоха, когда к брачному венцу и царскому трону мужчин и женщин вели искренние, глубокие чувства, а вовсе не сухой расчет дипломатов и экономистов.
В новом, стремительном и прогрессивном мире любовь становилась скучным и никому не интересным пережитком древности…
Россия XVII века. Опыт исторической реконструкции
Царь Михаил Романов
Государь Михаил Федорович является самой бесцветной, самой знаменитой и самой изруганной фигурой в русской истории. Самой знаменитой – потому как является первым представителем новой династии, самой бесцветной – потому что не отметился никакими свершениями, и изруганной – по той же самой причине.
В упрек Михаилу Федоровичу ставится в первую очередь то, что он не вернул в состав России территории, отданные князем Шуйским враждебным соседям; то, что не участвовал в военных походах; то, что он лично не отметился в освободительной войне, ни разу в жизни не обнажив сабли.
При этом обличители как-то забывают, что после ссылки Михаил оказался слаб здоровьем, у него болели ноги, а после тридцати лет его уже начали носить в носилках, поскольку сам он ходил с трудом. И умер первый из Романовых тоже отнюдь не старым – всего в 49 лет.
В очень похожем состоянии при первом Романове находилась и вся страна. После гражданской войны и отражения агрессии сразу двух сильнейших стран того времени Россия оказалась слишком слаба для активных боевых действий. Воевать «до последней капли крови» за Смоленск или за возвращение выхода к морю было для нее самоубийством. Особенно в условиях «полонизации» страны, когда многие районы державы, не зная, кто является законной властью, а кто нет, придерживались принципов местного самоуправления, а численность всякого рода разбойничьих шаек, называющих себя «казаками», перешла все мыслимые границы. Россия рисковала скатиться в состояние Дикого поля, превратиться во вторую Польшу. Для восстановления порядка и властной вертикали требовалось время.
Посему Михаил пожертвовал Смоленском вовсе не ради «возвращения любимого папочки», как хором поют его недоброжелатели, а ради мирного десятилетия, в котором страна остро нуждалась, ради восстановления порядка, наполнения казны и реформирования армии, набирать которую по старым правилам уже не получалось. России пришлось поневоле переходить на европейские правила жизни: от поместного ополчения – к регулярным частям.
В защиту Михаила Романова можно добавить еще и то, что его власть на троне была в достаточной степени номинальной. История царской любви к боярской дочери Марии Хлоповой наглядное тому подтверждение. Если, несмотря на восемь лет отчаянной и хорошо задокументированной борьбы за возможность жениться на своей избраннице, царь так и не смог добиться своего, что уж говорить обо всех остальных вопросах?
На всем протяжении правления Михаила Федоровича власть в России была скорее коллегиальной, демократической: властью Боярской думы и работающего почти непрерывно Земского собора. Посему и решение о необходимости мирного перерыва и реформ можно считать общенародным желанием. Михаил Романов в данной ситуации являлся лишь символом законности и порядка, но вовсе не его опорой.
Братья Салтыковы
Традиционная история считает братьев Салтыковых главными виновниками ссылки Марии Хлоповой, причем основываясь на их собственном признании.
Во время следствия об оговоре царской невесты Борис Салтыков показал, что как-то раз в Оружейной палате при осмотре некой турецкой сабли отец невесты Иван Хлопов предположил, что русские мастера такого клинка выковать не способны. Князь Салтыков, естественно, ответил, что сделать подобную его мастерам – раз плюнуть, они и лучше производят. На этой почве бояре разругались насмерть, братья Салтыковы затаили на Хлопова обиду и потому, из личной мести, при первой же возможности его дочку и оболгали.
При всей красоте этой версии имеется здесь одна противоречивая деталь. Дело в том, что в ссылку Мария Хлопова отправилась со своими московскими дядюшками. А вот ее отец в тот же год получил назначение воеводой в Вологду, в один из богатейших городов своего времени, на перекресток главных торговых путей Европы!
Весьма странная месть, когда наказываются непричастные и возвышаются те, к кому испытываешь ненависть!
Причем больше всего назначение Ивана Хлопова напоминает попытку властных структур откупиться от обиды, причиненной боярину. «Замять» скандал с поспешной ссылкой его дочери. То есть факты явственно противоречат показаниям подозреваемых.
Посему слова братьев Салтыковых, скорее всего, являются самооговором из желания прикрыть истинных виновников устранения избранной невесты. Причем имена настоящих организаторов ссылки лежат на поверхности: это покровительница всего рода Салтыковых инокиня Марфа, никогда не скрывавшая своей враждебности к худородной невестке, и инокиня Евникия – лучшая подруга царской матушки и родительница братьев.
Желание оградить от наказания свою мать – вполне весомый мотив для лжесвидетельства.
Об истинных устроителях заговора догадывались все, и потому в 1633 году, после смертей Филарета и Марии, царь Михаил Федорович братьев Салтыковых все-таки помиловал и вернул им отнятые звания. Сиречь мстить им за погубленную любовь государь не стал. А вот матушка Евникия до самой смерти осталась в ссылке, в Суздальском монастыре.
Чаша из анчара
Хитрость человеческая в деле убийства себе подобных не знает границ, и уловки в искусстве отравления зачастую вызывают настоящее восхищение. Придумать посуду, которая делает ядовитой пищу только своего владельца, не причиняя вреда окружающим – вот оно, истинное коварство! В деле Марии Хлоповой мы видим именно такую ситуацию: от явного отравления не пострадал никто, кроме нее самой, и проблема исчезла сразу, едва только девушка покинула дворец. По всем косвенным признакам покушение на невесту проводилось именно таким образом, через ядовитую посуду.
Могла ли подобная чаша попасть в Москву? В общем-то, с легкостью.
Отношения России с Индией стали тесными и стабильными начиная еще с далекого 1532 года, когда знаменитый Бабур, основатель империи Великих Моголов, направил в Москву к Великому князю посла с предложением дружбы. После этого быстро завязались торговые отношения между русскими и индийскими купцами. Из Индии в Россию поставлялись драгоценные камни, дорогие ткани, специи, лечебные травы и рис. Обратно шли меха, кожа, медь, лебяжий и гусиный пух, шерстяные ткани и такие западные товары, как зеркала, стекло, иголки, булавки и бумага.
К началу XVII века связи стали настолько крепкими, что в Саратове, Ярославле и Москве появились индийские дворы, а в 1615 году в Астрахани на индийском подворье с разрешения государя был даже построен настоящий языческий храм – храм бога Кришны!!!
В 1647 году царь Алексей Михайлович приказал астраханскому воеводе построить для индийских купцов новый двор. Кроме того, архивы Казенного приказа утверждают, что в 1648 году индийский купец Сутур получил от государя заем в четыре тысячи рублей, оставив в залог товаров на сумму в пять тысяч рублей.
Все это, вместе взятое, наглядно доказывает, что индийцев на Руси чужаками не считали. Между Россией и Индией установились дружба, тесные связи, взаимное доверие. Это для нас, в XXI веке, Индия кажется далекой и полусказочной неведомой страной, а для русского человека XVII века это был очень близкий и хорошо знакомый сосед.
С другими странами Востока отношения России того времени оставались не менее тесными и активными. Ежегодный оборот московско-персидской торговли составлял сумму более ста тысяч рублей. В 1667 году московское правительство заключило торговую конвенцию с компанией армянских купцов в Новой Джульфе. В задачи компании входил экспорт из Персии шелка-сырца и доставка его в Астрахань и Москву, где правительство и русские фабриканты имели преимущественное право на его покупку.
Со Средней Азией отношения складывались немного хуже по причине их внутренних проблем – смут, междоусобных войн, общего упадка. И тем не менее с 1613 по 1645 год из Бухары в Москву приехало двенадцать посольских миссий, и еще три в период с 1671 по 1678 год. Из Хивы прибыло двадцать пять посольств с 1613 по 1683 год.
При столь тесных отношениях между Россией и странами Востока неудивительно, что на Руси хорошо знали очень многие индийские и персидские уловки, в том числе и хитрости, связанные с использованием ядов.
Евдокия Стрешнева
История супруги первого русского царя изложена в книге в полном соответствии с ее официальной, «ортодоксальной» версией. Точно по учебнику. Однако есть две детали, которые заслуживают особого комментария и уточнения.
Во-первых, некоторые историки оспаривают правдивость истории ее отца, выдернутого на свадьбу дочери-царицы вместе с сохой прямо с пашни. Критики указывают, что смотрины и венчание случились в феврале, а в это время землю не пашут.
Однако сии ниспровергатели забывают, что между смотринами и венчанием прошло всего три дня. В XVII веке за это время не то что из Смоленской области – даже из Московской вызвать человека в Кремль было невозможно. А это значит, что либо за Лукой Стрешневым приехали сильно после свадьбы, либо в феврале случилось только обручение (оно ведь тоже считается «венчанием»), а сама свадьба состоялась уже весной.
По технологии «научного тыка» из двух равноценных вариантов для романа был выбран второй.
А кроме того, некоторые историки оспаривают крестьянское происхождение Луки, ссылаясь на то, что княгиня выйти замуж за крестьянина ну никак не могла! По этой версии Стрешнев просто обязан быть хоть каким-никаким, пусть чахлым и захудаленьким, но все-таки князем!
Однако сии ниспровергатели забывают, что мещанин Лука Стрешнев крестьянского сословия в документах существует – он платил тягло, ходил в походы, был записан обозником, и это есть непреложный достоверный исторический факт! А вот его жена, некая княжна Анна Волконская, – существо абсолютно мифическое и никому не известное. Что вполне простительно для неведомой крестьянки без фамилии и отчества, но просто невероятно для знатной дамы! Посему, увы и ах, но факты говорят о том, что царица Евдокия Стрешнева являлась урожденной крестьянкой, оказавшейся в холопках у княжны Ирины Волконской.
Кстати, последнего факта – пребывания Евдокии в служанках – не отрицает практически никто. Равно как не отрицается и то, что среди выбранных для смотрин «невест» Евдокия Стрешнева не значится. Михаил Романов целенаправленно выдернул ее откуда-то со стороны, причем исключительно с целью хорошенько разозлить свою мать. Ведь та, как известно, обвиняла Марию Хлопову в худородстве. Вот сын и отомстил инокине Марфе, ударив по ее самому больному месту: вместо отвергнутой боярской дочери выбрал в жены вообще безродную рабыню. Однако при столь низменных мотивах сей странный брак, по мнению очевидцев, все-таки оказался благополучным. Михаил не ждал от своей жены ничего особенного, крестьянка на троне была довольна своей участью, несмотря на все попытки свекрови испортить ей жизнь. Евдокия ни во что не вмешивалась и ничего не требовала. Просто любила мужа. Супруги дополняли друг друга, принося каждый своему спутнику только радость; родили многих детей, жили в любви и счастии и «умерли в один день».
Всего месяц разницы между кончинами одного и второго – это удивительно малый срок. Похоже, чувства Евдокии к царственному супругу были искренними и очень глубокими. Она не смогла пережить разлуки и угасла в считаные недели.
Боярин Морозов
Боярин Борис Иванович Морозов при своей малоизвестности является одной из важнейших, даже ключевых фигур в русской истории.
Начав свой путь царским воспитанником – хотя, судя по возрасту, он был скорее товарищем царю, нежели его «младшим братом», – боярин Морозов на десять лет стал кравчим, получив одно из высших мест при дворе, а затем… Затем он исчез из придворной хроники. И за время своего отсутствия сколотил невероятное по размерам состояние, став первым полноценным олигархом в истории России.
Начав с самой обычной продажи поташа, Борис Иванович быстро развернул посредническую торговлю, а затем начал строить собственные мануфактуры и мельницы, кирпичные заводы, расширять железоплавильное производство. Знаменитые Павловские заводы (в Павловской слободе Московской области) – это его детище. Он же начинал и металлургическое производство под Тулой.
Кроме того, боярин Морозов развивал кожевенное производство, рудное, мыльное, книжное, винокуренное, ткаческое, прудовое хозяйство. Скупая у казны пустующие после Смуты земли, боярин Морозов строил на них деревни и заселял беглыми польскими и литовскими крестьянами, превращая в доходные латифундии. Он брал казенные подряды на поставки хлеба и кожи, конской упряжи, оружия, промышлял ростовщичеством.
Наверное, проще сказать, чем он не занимался… Но эту область очень трудно найти.
В отличие от других богачей своего времени, боярин Морозов лично руководил своим огромным хозяйством. Он вел переписку с приказчиками, контролировал их деятельность, решал возникавшие внутренние споры, гасил конфликты, наказывал и жаловал, вмешивался в любую мелочь. В его колоссальных владениях действовала жесткая централизованная система управления, копировавшая вертикаль, существовавшую на уровне государства.
Звания царского воспитанника и государева кравчего, вне всякого сомнения, хорошо помогали Борису Ивановичу в его делах. Однако высших царедворцев было много, а «олигархом» стал только он один. И потому неудивительно, что именно своего воспитанника, показавшего себя столь энергичным и успешным человеком, царь Михаил Федорович выбрал в качестве воспитателя своему сыну, снова приблизив к престолу.
Разумеется, получив возможность влиять на государственную политику, Борис Иванович не преминул воспользоваться такой возможностью. Англичан, которые попытались проводить в России колониальную политику, боярин Морозов буквально вытравил из страны. Особенно этому поспособствовала казнь островитянами своего короля Карла I в 1649 году – об этом событии боярин составил для царя целую петицию, прочитанную на заседании Боярской думы. После чего русский рынок оказался закрыт для британцев целиком и полностью.
После реставрации в Англии монархии англичанам снова разрешили торговать с Россией, но исключительно в пределах Архангельского порта и без каких-либо льгот.
Боярин Морозов проводил протекционистскую политику в отношении русских купцов и предприятий, а также был яростным противникам появления в России европейского крепостного права. Не потому, что был гуманистом – для человека XVII века такие идеи весьма маловероятны. Предприимчивым боярином руководил голый расчет. Ведь крестьяне бежали от своих хозяев именно к боярину Морозову, в его земли и на его заводы. Имея основные доходы от торговли и фабричного производства, Борис Иванович не особенно утруждал своих крепостных оброками и барщиной, однако при этом охотно выдавал им кредиты. Каковые, как известно, закабаляют людей надежнее кандалов. Боярину-технократу наследственная привязка крестьян, особенно чужих, к земле оказалась банально невыгодна.
Остановить принятие уложения 1649 года Борис Иванович не смог, зато сумел его полностью выхолостить. В отличие от европейского законодательства, превратившего земледельцев в бесправных рабов своих землевладельцев, по российскому уложению помещик не имел над крестьянами абсолютно никакой юридической власти! Только требовать долг за земельную аренду – и все. Да и то с предельным сроком давности в десять лет.
В качестве основных торговых партнеров боярина Морозова были купцы голландские, французские, шведские, немецкие. Немудрено, что он оказался активным прозападником и настойчивым проводником западной культуры: приглашал в Россию иноземных художников и музыкантов, публиковал переводы иностранных книг, налаживал дипломатические контакты со странами-партнерами. Огромный культурный и научный всплеск, случившийся в XVII веке в русском царстве, в значительный степени является и его заслугой. А кроме того, реформы царской армии по европейскому образцу тоже не обошлись без его участия. Это боярин Морозов сумел вовремя перехватить освободившихся после Тридцатилетней войны немецких наемников и использовать их для усиления русских войск в войне с Польшей и Швецией.
При всем том семейная жизнь боярина Морозова оказалась печальной. Первая его женитьба, случившаяся в ранней юности, следов в истории не оставила – имя счастливицы и ее судьба неизвестны. Став дядькой юного царя, Борис Иванович жены не имел, только воспоминания об оной. Женитьба на Анне Милославской детей ему тоже не принесла.
После смерти Бориса Ивановича у него не осталось прямых наследников. Брат умер, а вскорости скончалась и супруга. И в результате гигантские богатства обрушились на некую малоизвестную на тот момент боярыню Феодосию Морозову.
Царские дьяки тут же хозяйственно обвинили тетку в пособничестве старообрядцам, и… Концовка истории всем хорошо известна по гениальной картине Василия Сурикова: боярыня, воздев два перста, едет в боровскую тюрьму, а наследство боярина Бориса Ивановича Морозова уходит в казну.
Шальные богатства, увы, никогда и никому удачи не приносили.
Евфимия Всеволожская и Мария Милославская
Официальная версия их взаимоотношений звучит примерно так.
Как-то раз на смотринах невест государь выбрал себе в жены красивую девицу Евфимию, боярскую дочь Всеволожскую. Но ближний царедворец, всесильный богатей, воспитатель царя и фактический правитель страны боярин Морозов испугался, что через эту женитьбу потеряет влияние на Алексея Михайловича, и подкупил подлого парикмахера, каковой заплел девице косу с такой силой, что на венчании Евфимия потеряла сознание. После сей гнусности боярин Морозов подсунул царю другую девицу, в которую Алексей Михайлович влюбился, а сам женился на ее сестре, дабы получить с царем родство и войти тем самым в число его доверенных помощников.
Чудесная легенда! Однако при попытке непредвзято ее пересказать тут же возникает целая череда неразрешимых противоречий.
Прежде всего боярин Морозов не был непроходимым кретином. Трудно заподозрить в слабоумии человека, собственными руками создавшего финансово-промышленную империю и занявшего в государстве первое место после царя! А если Борис Иванович не был дураком, то он, разумеется, позаботился о том, чтобы в число претенденток на руку царя не попали дамы, хоть чем-то для Морозова неприятные. Учитывая условия конкурса, когда из сотен лучших красавиц нужно отобрать два десятка самых-самых красавиц, отвести посторонних претенденток труда не составляет. Поди докажи, что к тебе придираются, если твою красоту признают, но говорят, что из-за пары родинок до звания безупречной царицы ты все-таки недотягиваешь! Таким образом боярышня Евфимия Всеволожская почти наверняка была одной из протеже боярина Морозова, а вовсе не наоборот.
Да и к тому же на кой леший воспитателю царя, дьяку нескольких приказов, первейшему из царедворцев и самому богатому человеку государства устраивать подобные головоломные построения просто ради получения звания свояка?! Чем это звание способно улучшить положение «дядьки», коего Алексей Михайлович и без того почитал практически за отца?
Однако если придерживаться версии, что царь влюбился в Марию Милославскую вопреки планам боярина Бориса Ивановича, все сразу встает на свои места. И попытки дядьки продолжить бракосочетание царя с запланированной невестой, и его странную выходку с женитьбой на царицыной сестре; и то, что отец Евфимии Всеволожский, поехав в Сибирь как бы в ссылку, через месяц получил там место воеводы Верхотурска – богатейшего на то время города, конечной точки ямского пути, ворот в Сибирь; крепости, в которой находилась таможня всех восточных земель.
Вестимо, таким образом боярин Морозов возместил боярину Рафу Всеволожскому случившуюся невольную обиду. Ведь обещал сделать его отцом царицы, а получилось, что оставил с пустыми руками! А так хотя бы место доходное подарил.
Анна Ильинична стала женой Бориса Ивановича на долгих тринадцать лет. Никаких сведений о семейной жизни Морозовых не сохранилось, но хочется верить, что эта дева, внезапно став женой богатейшего первого царедворца, все-таки обрела свое настоящее женское счастье. Ведь как уже отмечалось, звание свояка боярину Морозову никаких возвышений не сулило. Выше его положения представить уже невозможно. А значит, особой корысти в случившейся свадьбе ни с какой стороны не просматривается. Может быть, между Анной и Борисом тоже проскочила искра?
Алексей Михайлович по прозвищу Тишайший
Государю Алексею Михайловичу повезло. Он воспитывался одним из умнейших людей своего времени, он познал, что такое настоящая любовь, и дважды влюбившись, оба раза смог жениться на своих любимых. Он победил в начатых им войнах, расширил границы державы, смог дать своей стране новое дыхание, ощущение свободы и новой жизни.
Историки нередко утверждают, что прозвище Тишайший ему дали зря. Ведь его правление сопровождалось бунтами и реформами, войнами и эпидемией. Однако историки забывают, что люди не живут на войнах и в бунтах. Реформа или эпидемия – это вспышка событий между долгими годами обыденной жизни.
Так какова была обыденная жизнь в правление царя Алексея Тишайшего?
Дед Алексея Михайловича патриарх Филарет вернулся из плена ярым «еврофобом». Да и в остальной России после Смуты возникло отторжение всего западного, люди захотели вернуться к своим родным, исконным корням. И в культуре, и во внешности, и в обустройстве своих домов.
В результате в городах появились замечательные по красоте постройки затейливой, асимметричной, «сказочной» архитектуры в стиле «Русское узорочье». В тридцатых годах, прямо на глазах юного царя, на территории Кремля вырос спроектированный в таком стиле каменный Теремной дворец (архитекторы Бажен Огурцов, Антип Константинов, Трефил Шарутин, Ларион Ушаков), а в юности Алексей Михайлович уже сам построил Коломенский дворец, каковой, по отзывам современников, своей нарядностью напоминал «игрушечку, только что вынутую из шкатулки».
За царем тянулась состоятельная часть общества – и города стали потихоньку превращаться в дивную красоту, словно бы сошедшую из сказок и развлекательных картинок.
К середине века рождается новый, тоже чисто русский архитектурный стиль – «нарышкинское барокко». Хорошим образцом тогдашней строительной моды являются сохранившиеся по сей день каменные палаты Аверкия Кириллова в Москве. Тоже красочные и вычурные, но более скромные.
В живописи помимо «старой» иконописной традиции Андрея Рублева и Дионисия возникает новое художественное явление – «строгановская» школа. Их отличительная особенность – непревзойденное изящество и утонченная изысканность рисунка. Эти яркие рисунки люди видели в православных храмах, в росписях и иконах. Во дворцы же тем временем проникает западная живопись: как портретная, так и художественная.
С востока на «старую Русь» приходят все новые и новые известия о совершенных русскими первопроходцами открытиях: в 1639 году отряд Ивана Москвитина вышел к Тихому океану и открыл Охотское море; в 1640 году они отплыли на юг, достигнув устья Амура, и на обратном пути открыли Шантарские острова. В 1648 году Семеном Дежневым и Федотом Поповым был пройден пролив, соединяющий Северный Ледовитый океан с Тихим. На основании этих исследований в России публикуются прекрасные географические карты Семена Ремезова, Петра Годунова и Ерофея Хабарова.
В 1634 году в Москве печатается учебник патриаршего дьяка Василия Бурцева: «Букварь языка славенского, сиречь начало учения детям». Так появилась массовая азбука для самых маленьких, заменившая собою псалтырь, по которому учились грамоте ранее. Спустя некоторое время получает распространение почти неотличимый от современного учебника иллюстрированный «Букварь» Кариона Истомина, ставший лучшим учебным пособием своего времени.
Одновременно в научно-духовной сфере развиваются целых четыре (!) философских течения:
1) латинофильское учение Симеона Полоцкого, открывшего училище в Спасском монастыре;
2) византийско-русское учение, разработанное Федором Ртищевым. Его училище при Андреевском монастыре начиная с 1649 года обучало сотни учеников греческой, латинской и славянской грамматике, риторике, философии, физике и другим наукам;
3) византийское учение, разработанное монахами Сафронием и Иоанникием Лихудами для Славяно-греко-латинской академии, заменившей школу патриарха Филарета;
4) старообрядческо-начетническая школа протопопа Аввакума (которая, впрочем, долго не прожила).
И все эти университеты принимали к себе учеников всех сословий! По крайней мере, на словах.
В 1670 году царь Алексей Михайлович по прихоти молодой жены изволил создать первый театр, для которого сочиняются и ставятся на придворной сцене (уже на сцене, а не в углу горницы) первые пьесы. Правда, бродят слухи, что еще раньше, в 1665 году, Симеон Полоцкий организовал при своем училище в Спасском монастыре школьный театр, для которого написал драмы «О Новоходоносоре, о теле злате и о триех отроцех, в печи не сожженных» и «Комидия притчи о блуднем сыне».
В 1682 году архиепископ Афанасий строит в Холмогорах первую в истории обсерваторию с телескопом. Под его руководством ведутся обширные исследования в области химии, физики, других областей естествознания, строятся новые школы – как «высшие», так и церковно-приходские. Так что Ломоносов пришел в Москву именно из Холмогор не просто так.
В России публикуются первые серьезные научные работы: это монография «Скифская история» боярина Андрея Лызлова, книги Сильвестра Медведева «Созерцание краткое лет 7190, 91 и 92, в них же что содеяся в гражданстве» и «Иное сказание» Иннокентия Гизеля, «Книга о скудости и богатстве» первого русского экономиста Ивана Посошкова и знаменитая на весь мир «Арифметика Магнитского» из двух томов, на которой выросли многие десятки поколений школьников.
Кроме того, в стране издается огромное количество художественной литературы, ставится множество пьес, среди которых наиболее популярны комедии Козьмы Ларионова общим числом в три десятка пьес, книги и пьесы Исидора Сназина, комедия протопопа Максима.
Вот так стремительно, на глазах всего одного поколения, Россия с невероятной скоростью изменилась в лучшую сторону – стала красивее, свободнее, просторнее, умнее и сильнее. В ней становилось легче дышать, спокойнее жить, в ней открывались новые пути для развития человека. На любой вкус – хоть в науку, хоть к приключениям, хоть в торговлю.
Сам факт того, что царь всея Руси познакомился со своей второй супругой, будучи в гостях у одного из бояр, наглядно доказывает, насколько проще и свободнее стали в России нравы. Государь больше не сидел взаперти в кремлевских чертогах, подобно живому богу, а запросто посещал различные увеселительные мероприятия, проводимые своими подданными.
Царские дочери тоже не томились с шитьем у теремного окна, а открыто носили европейские платья и выходили в них в свет. И что немаловажно – светских развлечений в еще недавно патриархальной Москве уже имелось в достатке.
При Алексее Михайловиче случился невероятный взлет во всей духовной, научной и просто обывательской жизни страны. Немудрено, что он удостоился от народа «доброго», а не «злого» прозвища, и это несмотря на немалые напасти, которые пришлось пережить при нем государству.
Странная в итоге получается зависимость. Каждый раз, когда на престоле оказывается царь, искренне любящий свою жену, он обязательно становится или «Блаженным», или «Тишайшим», а держава при нем живет в счастии и благополучии, богатея и процветая, стремительно развиваясь. А если любви нет, государь превращается в Грозного, в Антихриста или просто в безликого никчемного анонима.
Наверное, этим миром все-таки должна править любовь.
Сноски
1
Апостольник – головной платок с вырезом для лица, ниспадающий на плечи и покрывающий равномерно грудь и спину. По длине может достигать живота. Обязательный предмет одеяния православной монахини.
(обратно)2
Аксамит – плотная ткань из шелка с золотой и серебряной нитью.
(обратно)3
Тафья – русский головной убор, похожий на тюбетейку.
(обратно)4
Рынды – оруженосцы и телохранители московских великих князей и царей.
(обратно)5
Охабень – длинная и широкая верхняя одежда.
(обратно)6
Ныне – ул. Пречистенка.
(обратно)7
Хлебное вино – по современным понятиям это самогон.
(обратно)8
Опашень – разновидность охабня; верхняя летняя одежда.
(обратно)9
Ныне город Ногинск.
(обратно)10
Вплоть до XIX века термин «мельница» был синонимом слова «мастерская», поскольку приводом от водяных колес запитывалось все: от кузнечных мехов и молотов до ткацких станков и типографий.
(обратно)11
Рыбий клык – моржовый бивень.
(обратно)12
Три копейки в XVII веке – это 50 яиц, или целая курица, или полведра пива, или полтора кило масла, свинины или осетрины. Не зашикуешь, но жить можно.
(обратно)13
Нет, это не современная коммунистическая пропаганда, это список реформ, проведенных патриархом Филаретом (перепись, протекционизм в торговле, книгопечатание, «полки иноземного покроя», первые университеты и т. д.). В основанной им «Патриаршей школе», впоследствии выросшей в Славяно-греко-латинскую академию, учились даже крестьянские дети. Например, Михайло Ломоносов, Леонтий Магницкий (автор знаменитой «Арифметики Магницкого»), Карион Истомин (автор первого «Букваря») и многие другие. А в рамках борьбы с пагубными привычками патриарх Филарет предлагал вырывать курильщикам ноздри.
(обратно)14
Тарханы – льготные налоговые грамоты, монастырские податные привилегии.
(обратно)15
Посконь – домотканый холст из волокна конопли.
(обратно)16
Тридцатилетняя война (1618–1648 гг.).
(обратно)17
Отца царицы Евдокии в 1614 году угораздило попасть в Разрядную книгу. Во время Смоленского похода он записан обозником, мещанином. Сиречь представителем крестьянского сословия. Поэтому княжескую родословную для царицы пришлось придумывать через ее мать.
(обратно)18
Государев сад в Замоскворечье сгорел в 1701 году.
(обратно)19
Сведения о распространении на Руси картошки и подсолнуха дошли до нас в оригинальной форме. В 1666 году патриарх Никон обрушил проклятия на всех, кто курит табак, лузгает семечки и употребляет в пищу «богопротивную картовь». А значит, к середине XVII века про эти продукты не просто знали – они успели очень многих изрядно «достать».
(обратно)20
А еще он давил пальцами грецкие орехи, а руками закатывал железную лопату в трубу. Силен был Алексей Михайлович, как сын Зевса! Увлекался борьбой, гимнастикой, шахматами, литературой, охотой с копьем на вепря и медведя, но больше всего, с самого детства, – стрельбой из лука.
(обратно)21
На то время ученые знали только 6 планет, каковые по сей день можно увидеть на потолке в столовой Коломенского дворца. Причина возникновения в XVII веке русской моды рисовать на потолках гелиоцентрическую систему неизвестна, но оная имелась и во дворце Алексея Тишайшего, и во дворце Софьи Алексеевны, и во многих других хоромах.
(обратно)22
Иоганн Детерс прижился в Москве, перевез сюда семью и младшего брата и основал художественную школу, оставив много учеников. Служил он в Оружейной палате вплоть до самой смерти в 1655 году.
(обратно)23
Приказ Большого прихода – налоговая служба.
(обратно)24
Оборонительный ров, прокопанный от реки Неглинной до Москвы-реки на месте современных трибун на Красной площади. Существовал до 1814 года. А сама Красная площадь по сути – это «сектор обстрела», оставленный незастроенным для удобства обороны крепости. В мирное время использовался как место торговли и гуляний.
(обратно)25
Фруктовый холодец – мармелад.
(обратно)26
Архитектурный стиль «Русское узорочье»: дома как в сказке с затейливыми формами, обилием декора, сложностью композиции и живописностью силуэта. Первые строения дворца в Коломенском датированы 1640 годом, в дальнейшем он больше полувека достраивался и расширялся. Восстановлен в 2010 году.
(обратно)27
Иеромонах Епифаний Славинецкий известен своим переводом трактата Иоганна Блеу «Зерцало всея Вселенныя», в котором изложено учение Коперника, а также многих других книг, переведенных в рамках реформы патриарха Никона.
(обратно)28
Современному человеку трудно поверить, но вплоть до XVIII века гелиоцентрическая система сильно врала в расчетах и именно поэтому не имела популярности.
(обратно)29
И бродят из одного исторического очерка в другой по сей день.
(обратно)30
Искусство оперы в это время еще только-только зарождалось и больше походило на скучную оперетту.
(обратно)




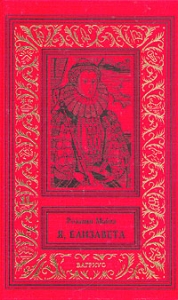

Комментарии к книге «Государева избранница», Александр Дмитриевич Прозоров
Всего 0 комментариев