Сидони-Габриель Колетт Ранние всходы
I
— Венка, ты идешь на рыбную ловлю?
Венка, Барвинок, с глазами цвета весеннего дождя, высокомерным наклоном головы ответила, что да, она идет. О чем свидетельствовали ее заштопанный свитер и сандалии с заскорузлыми подошвами. Как известно, ее клетчатая — синяя и зеленая клетка — юбка, которой было уже три года и из-под которой торчали коленки Барвинка, принадлежала креветкам и крабам. А разве не были принадлежностью рыбной ловли два сачка, перекинутые через плечо, и этот голубоватый, ощетинившийся шерстинками берет, похожий на чертополох на дюнах?
Она обогнала того, кто ее окликнул. Подпрыгивая, сбежала к скалам на своих тонких, ладных ногах цвета терракоты. Филипп смотрел, как она вышагивает, и сравнивал ее, нынешнюю, с тою, какой видел ее во время последних каникул. Перестала она расти или нет? Пора бы и остановиться. Она не нагуляла себе за это время жира. Ее короткие, золотистого цвета волосы, жесткие, как солома, рассыпались по плечам — она не стригла их уже четыре месяца, и их невозможно ни заплести в косу, ни завернуть в узел. Щеки и руки у нее почернели от загара, а шея под копной волос — молочной белизны; у Венка сдержанная улыбка, но вдруг она взрывается смехом, несуществующую грудь тесно обхватывают свитер и блузка; она поддергивает как можно выше панталоны и юбку, чтобы не замочить их в воде, с видом невозмутимо-безмятежным, точно у маленького мальчишки…
Ее приятель, который следит за ней взглядом, улегшись на дюне с длинными стеблями травы, погрузил в скрещенные руки подбородок с ямочкой посредине. Ему шестнадцать с половиной, а Венка — пятнадцать с половиной. Их детство спаяло их, а юность разлучает. Уже в прошлом году они обменивались колкостями и тумаками, теперь каждую минуту их разговор прерывается тяжелым молчанием, и они дуются друг на друга, не зная, как прервать его. Но хитрый Филипп, любящий от рождения выслеживать и вводить в заблуждение, облекает свой мутизм в оболочку тайны и превращает в свое оружие все, что его стесняет. Он разочарованно машет рукой, он осмеливается даже на: «К чему?.. Тебе не понять…», а Венка только и может, что молчать и страдать оттого, что молчит, а ей так хотелось бы понять, но она лишь сжимается от преждевременного властного желания все отдать, от страха, что Филипп, меняющийся ото дня ко дню, от часа к часу, порвет тонкую веревочку, которая приводит его каждый год с июля по октябрь в лохматый лес, сбегающий к морю, на скалы, обросшие черным фукусом. У него уже появилась неприятная привычка пристально смотреть на свою подружку, не видя ее, словно Венка прозрачная, струящаяся, не заслуживающая внимания…
Может, в будущем году она уверится в себе и скажет ему по-женски: «Фил! Не надо злиться… Я люблю тебя, Фил, делай со мной, что захочешь… Говори со мною, Фил…» Но в этом году она хранит еще колючее детское достоинство, она сопротивляется, и Филу не нравится этот отпор.
Он смотрел на грациозную, бесплотную девочку, что спускалась в этот час к морю. Ему не хотелось ее ласкать, скорее уж побить, но он хотел бы видеть ее доверчивой и чтоб она была обещанием ему одному и никому не принадлежала, как эти сокровища, которые волновали его: длинные лепестки, агатовые шарики, раковины и зерна, картинки, маленькие серебряные часы…
— Подожди меня, Венка! Я иду с тобой! — крикнул он.
Она замедлила шаг, но не обернулась. Он в несколько прыжков догнал ее и завладел одним из сачков.
— Зачем тебе два?
— Я взяла тот, что поменьше, для узких щелей, и мой всегдашний.
Он погрузил в ее голубые глаза более нежный, чем у нее, взгляд темных своих глаз.
— Так это, значит, не для меня?
Тут он протянул ей руку, чтобы помочь пролезть между камнями, щеки ее заалели от прилившей к ним крови. Она смешалась от непривычного для нее жеста, от непривычного взгляда.
Вчера они бок о бок лазали по скалам, исследовали расщелины — каждый на свой страх и риск… Такая же ловкая и гибкая, как он, она и не думала взывать к нему о помощи…
— Ты не можешь быть чуточку мягче? — взмолился он, когда она резко отдернула руку. — Ты что-нибудь имеешь против меня?
Она закусила губы, все в трещинах от ежедневных купаний в море, и продолжала карабкаться на скалы, сплошь покрытые моллюсками. Она думала, она была полна сомнений. Какой же он на самом деле? Вот он, предупредительный, галантный, предлагает ей руку, как даме… Она медленно опустила сачок в расщелину, где под неподвижной морской водой росли водоросли, вырисовывались голотурии, «волки», разные рыбы с огромными головами и плавниками, черные крабы с красной оторочкой, креветки… Тень от Филиппа упала на залитую солнцем воду.
— Отойди! Твоя тень распугает мне креветок, и потом, эта расщелина моя!
Он не настаивал, и она продолжала ловлю одна, нетерпеливая, не такая ловкая, как всегда. Она так резко опустила сачок, что из-под него ускользнуло десять креветок, даже двадцать, они забились в щели и оттуда тонкими бородками осторожно пробовали воду и всем своим видом показывали, что им не страшно это орудие их ловли…
— Фил! Фил! Иди сюда! Тут полно креветок, но они не даются!
Он, не торопясь подошел, наклонился над этой маленькой, кишащей разной живностью пропастью.
— Еще бы! Ты не умеешь…
— Нет, умею, — сердито выкрикнула Венка, — мне только не хватает терпения.
Фил погрузил в воду сачок и подержал его, стараясь не сдвигать с места.
— Вот в той щели, — прошептала, склонившись над его плечом, Венка, — и до чего они хороши, просто прелесть… Не видишь рожки?
— Нет. Да это и не важно. Они сейчас вылезут.
— Да?
— Конечно. Глянь-ка.
Она наклонилась еще ниже, и ее волосы, словно короткое, плененное крыло, коснулись щеки ее приятеля. Она отступила, потом неприметным движением вернулась на прежнее место, потом снова отступила. Он, казалось, не заметил этого, однако свободной рукой потянул к себе голую, загорелую, соленую руку Венка.
— Погляди, Венка. Вот выползла самая красивая.
Венка попыталась высвободить руку, и она скользнула до запястья в руке Шила, как в браслете, потому что Шил не сжимал ее.
— Тебе ее не поймать, Шил, она уползает… Чтобы лучше видеть игру креветок, Венка снова опустила свою руку до локтя в полуразжатую ладонь Шила.
В зеленой воде длинная серая, как агат, креветка ощупывала кончиком лапки и бородки край сачка. Взмах руки — и… Но ловец опоздал, может, оттого, что наслаждался близостью неподвижной, покорной в его руке ее руки, замерев под тяжестью ее головы с густыми волосами, которая на миг, побежденная, опустилась на его плечо, но тут же непокорно отпрянула…
— Фил, скорей, скорей поднимай!.. Ах, она ушла! Как ты мог ее упустить?
Фил вздохнул, бросил на свою подружку удивленный, презирающий победу взгляд, в котором светилась гордость, освободил ее тонкую руку, не требовавшую свободы, и взбаламутил сачком светлую воду в луже.
— О! Она вернется… надо только подождать…
II
Они плавали, держась друг друга, она, подвязанная голубым платочком, загорелая загаром блондинки. У него кожа более белая, а круглая голова с мокрыми волосами — черная. Ежедневные купания, тихая, полная радость сообщали им в этом их трудном возрасте умиротворенность, детскую беззаботность — и то и другое подвергавшееся опасности. Венка легла на волну и выпустила изо рта струю воды, словно маленький тюлень. Завязанный узлом платок открывал ее тонкого рисунка розовые уши, которые днем прятались под волосами, и небольшие участки белой кожи на висках, освещенные дневным светом лишь во время купания. Она улыбнулась Филиппу; под полуденным солнцем, соперничая с переливами моря, позеленела нежная голубизна ее глаз. Ее друг внезапно нырнул, схватил Венка за ногу и потащил в глубину моря. Они вместе глотнули воды, выплыли, отплевываясь, тяжело дыша и смеясь, будто позабыв — она о своих пятнадцати годах, истомленная любовью к ее другу детства, он — о своих уже познавших власть шестнадцати, о своем высокомерии красивого юноши, раньше времени требующего повиновения.
— К скале! — крикнул он, рассекая телом воду.
Но Венка не последовала за ним, а поплыла к песчаной косе.
— Ты уже уходишь?
Она сорвала с себя свой головной убор, как если бы снимала скальп, и встряхнула своими жесткими золотистыми волосами.
— К нам приезжает к обеду один человек! Папа велел одеться!
И она бросилась бежать, вся мокрая, еще не сформировавшаяся, длинненькая, тоненькая, с небольшими буграми продолговатых мускулов.
— Ты одеваешься, а я? — крикнул Филипп ей вдогонку, и она остановилась. — Не могу же я идти на обед в открытой рубашке. А?
— Но почему, Фил? Ради бога! Кстати, открытая тебе больше идет.
И тотчас на мокром загорелом лице с глазами цвета барвинка отразились тревога, мольба, страстное желание оправдаться.
Он высокомерно замолчал, и Венка побежала по прибрежному лугу, покрытому цветущей скабиозой.
Филипп, оставленный своей подругой, что-то проворчал, барахтаясь в воде. Он не заботился о том, чтобы оказывать Венка знаки внимания. «Я достаточно красив для нее… Но в этом году она все время чем-то недовольна!»
Видимая противоречивость двух суждений заставила его улыбнуться. Он перевернулся на волне, в его уши набралась соленая вода, и они наполнились гулкой тишиной. Маленькое облачко затмило высокое солнце. Фил открыл глаза и увидел над собой проплывающие большие заостренные клювы, темные животы и скрюченные в полете лапки пары куликов.
* * *
«Странная мысль, — думал Филипп. — И что ее так проняло? У нее вид одетой обезьяны. Или мулатки, которая собирается причаститься…»
Рядом с Венка сидела за столом, положив на скатерть по обе стороны тарелки кулачки, как хорошо воспитанный ребенок, ее младшая сестра, довольно похожая на нее, с голубыми глазами на круглом, обожженном солнцем личике, с золотистыми, жесткими, как солома, волосами. Старшая и младшая одеты в одинаковые белые из органди платья, с воланами, отутюженные, накрахмаленные.
«Воскресенье на Таити, — хмыкнул про себя Филипп. — Я никогда не видел ее такой безобразной».
Мать Венка, отец Венка, тетка Венка, Фил и его родители, остановившийся тут проездом парижанин, в зеленых свитерах, в полосатых безрукавках и жакетах из легкой ткани, кольцом окружали стол. Виллу вот уже много лет снимали два дружественных семейства, сегодня здесь пахло теплыми булочками и мастикой. Среди этих пестро одетых купальщиков и купальщиц, среди их смуглых отпрысков восседал приехавший из Парижа седоватый человек, бледный, деликатный и хорошо одетый.
— Как ты изменилась, малютка! — сказал он Венка.
— Есть о чем говорить, — раздраженно проворчал Филипп.
Гость склонился к матери Венка и шепнул ей:
— Она становится восхитительной! Восхитительной! Через два года… вы ее не узнаете!
Венка услышала, бросила на гостя быстрый, чисто женский взгляд и улыбнулась. Пурпурные губы обнажили полоску белых зубов, голубые, как цветок, чье имя она носила, глаза прикрылись золотистыми ресницами, и все это поразило даже Фила. «Гм… что с ней такое?»
В зале, где стояла мебель в чехлах, Венка подавала кофе. Она двигалась легко, бесшумно, с изяществом акробатки. Под порывом ветра задрожал неустойчивый стол, Венка ногой удержала падающий стул, подбородком кружевную салфетку, готовую улететь, продолжая в то же время наливать, не расплескивая, кофе.
— Вы только поглядите на нее! — не унимался гость.
Он назвал ее «танагрской статуэткой», заставил пригубить шартреза и спросил, как зовут ее безутешных поклонников из канкальского казино…
— Ха! Казино! Но в Канкале нет казино!
Она смеялась, показывая полукружие своих зубов, и вертелась, как балерина на беленьких пуантах. Она была кокетливой и в то же время лукавой; Филипп, которого она не удостаивала взглядом, мрачно следил за ней из-за пианино и большого куста чертополоха, водруженного в медное ведро.
«Я заблуждался, — признался он себе. — Она очень красивая. Вот новость!»
И когда завели патефон и гость предложил Венка обучить его новому танцу, Филипп бросился вон из дома, добежал до пляжа и тяжело упал в яму под дюной, потом сел и уронил голову на руки, а руки на колени. Новая Венка, полная сладострастного бесстыдства, неустанно возникала перед его закрытыми глазами. Венка кокетливая, раздражающая, вдруг обросшая плотью. Венка злая и как нельзя более строптивая.
— Фил! Мой Фил! Я искала тебя… Что с тобой?
Обольстительница, запыхавшаяся, была подле него и тянула его за волосы, чтобы он поднял к ней лицо.
— Со мной ничего, — хрипло произнес он.
Он со страхом открыл глаза. Она опустилась на колени и, смяв все свои сборки на юбке из органди, ползала по песку.
— Фил, прощу тебя, не сердись… Ты обиделся, Фил, ты же знаешь, я люблю тебя больше всех на свете. Скажи что-нибудь, Фил.
Он искал на ней следы улетучившегося великолепия, которое так ему не понравилось. Но перед ним была всего лишь Венка — опечаленная, озабоченный подросток, смиренный, неловкий, угрюмый, добивающийся, чтобы его по-настоящему любили…
Он вырвал у нее руку, которую она покрывала поцелуями.
— Оставь меня! Ты не понимаешь, ты все время ничего не понимаешь!.. Поднимись же!
И, приглаживая смятое платье, завязывая на нем пояс, усмиряя жесткие волосы, разметавшиеся на ветру, он тщился воссоздать образ увиденного мельком маленького идола…
III
— Каникул еще осталось полтора месяца, так что…
— Всего месяц, — сказала Венка. — Ты же знаешь, что двадцатого сентября я должна быть в Париже.
— Почему? Ведь твой отец свободен до первого октября, так всегда было.
— Да, но у мамы, Лизетты и у меня пропасть разных осенних дел, от двадцатого сентября до четвертого октября не так уж много времени, а надо успеть купить школьное платье, пальто и шляпу для меня, то же самое — для Лизетты… Понимаешь, я хочу сказать, что нам, женщинам…
Фил, лежа на спине, подбрасывал в воздух пригоршни песку.
— Ах, господи!.. «Нам, женщинам…» Вы сами делаете из этого трудности.
— Но ведь надо… Вот ты, например, для тебя всегда лежит на кровати готовый костюм. Ты занимаешься только обувью, потому что покупаешь ее у продавца, к которому ходить тебе не запрещают. Остальное получается само собой. Вы, мужчины, умеете устраиваться!..
Филипп резким движением поднялся, готовый ответить на иронию. Но Венка не насмешничала. Она обшивала розовым фестоном холщовое платье того же голубого цвета, что и ее глаза. Ее золотистые волосы, подстриженные под Жанну д'Арк, немного подросли. Иногда она разделяла их на две пряди и перевязывала эти пшеничные метелки, ниспадавшие на щеки, голубыми лентами. После обеда она потеряла одну из лент, и половина ее копны закрывала часть лица и билась о него, словно развернутый полог.
Филипп нахмурил брови:
— Как ты плохо причесана, Венка!
На лице ее под легким загаром проступила краска, она бросила на него робкий взгляд и откинула прядь за ухо.
— Я сама знаю… Я буду плохо причесана, пока мои волосы не отрастут. Это пока такая прическа…
— А то, что ты безобразна, хоть и временно, тебе все равно, — жестко сказал он.
— Клянусь, Фил, это не так, — с нежностью произнесла она.
Устыдившись, он замолчал, и она подняла на него удивленные глаза, так как совершенно не ожидала от него снисхождения. Он и сам понял, что этот порыв чувствительности временный, и приготовился к детским упрекам, сарказму, к тому, что он называл «собачьим нравом» у своей подружки. Но она мечтательно улыбнулась, и ее блуждающая улыбка предназначалась спокойному морю, небу, по которому гулял ветер, обрисовывая перистость облаков.
— Наоборот, я очень хочу быть красивой, уверяю тебя. Мама говорит, что я могу еще стать красавицей, надо только набраться терпения.
Ее быстро бегущие пятнадцать лет, гордые и неловкие, пропитанные солью, заскорузлые, ничтожные и значительные, делали ее часто похожей на прут, который бьет и ломается, но ее удивительной голубизны глаза, ее просто очерченный, говорящий о здоровье рот были законченными творениями женского изящества.
— Терпение, терпение…
Фил поднялся, поскреб носком сандалии сухой песок, усеянный перламутровыми пустыми раковинами. Ненавистное слово отравило ему сейчас счастливую сиесту лицеиста на каникулах, его крепко сложенное шестнадцатилетие наслаждалось праздностью, бездвижной истомой, но протестовало против ожидания, против пассивности, замедленного течения жизни. Он сжал кулаки, расправил полуголую грудь — он бросал вызов всему сущему:
— Терпеть! У вас у всех на устах только это слово! У тебя, у моего отца, моих учителей… Но, черт возьми…
Венка перестала шить и с восхищением смотрела на своего ладно скроенного дружка, которого не портили его малые годы. Темноволосый, белокожий, среднего роста, он рос медленно и начиная с четырнадцати лет уже был настоящим мужчиной, который только каждый год прибавлял в росте.
— А что же делать, Фил? Так надо. Ты все время думаешь, что достаточно размахивать руками, достаточно сказать свое «черт возьми» — и все изменится само собой. Но тут ты не умнее других. Ты сдашь экзамены на бакалавра и, если тебе повезет, будешь принят…
— Замолчи! — закричал он. — Ты говоришь то же, что и моя мать!
— А ты как ребенок! На что ты с твоим нетерпением рассчитываешь, мой бедный малыш?
Черные глаза Филиппа ненавидяще глядели на нее: она назвала его «мой бедный малыш».
— Я ни на что не рассчитываю! — трагически произнес он. — Я не рассчитываю даже на то, что ты поймешь меня. Ты вся тут, с твоими розовыми фестончиками, твоей школой, твоим новым учебным годом, твоей неторопливостью… Одна мысль о том, что мне скоро исполнится шестнадцать с половиной…
Барвинок, чьи глаза наполнились слезами от оскорбительных выпадов, через силу рассмеялась:
— Ах вот что? Ты чувствуешь себя королем вселенной, раз тебе шестнадцать лет, не так ли? Насмотрелся кино, вот и выставляешься.
Он взял ее за плечи и властно тряхнул.
— Я приказываю тебе молчать! Ты открываешь рот, только чтобы сказать очередную глупость… Я с ума схожу, слышишь, с ума схожу, оттого что мне только шестнадцать лет! Все эти годы, годы экзаменов в лицее, экзаменов на бакалавра, приобретения профессии, годы, когда идешь, примериваясь и запинаясь, когда надо начинать сначала, если что-то не задалось, и пережевывать по два раза то, что не переварилось, или если провалился… Годы, когда надо делать вид перед папой и мамой, что тебе нравится выбранный путь, а иначе они станут сокрушаться, когда чувствуешь, что они из кожи вон лезут, чтобы казаться несгибаемыми, когда они знают обо мне не больше, чем я сам… Ах, Венка, Венка, я ненавижу эту свою жизнь! И почему мне не может быть двадцать пять сегодня же?
Его мучило нетерпение и глубокое отчаяние. Желание поскорее состариться, небрежение той порой, когда душа и тело в расцвете сил, превращали это дитя мелкого парижского промышленника в романтического героя. Он бросился на песок у ног Венка и продолжал жаловаться:
— Столько лет еще, Венка, я буду всего лишь наполовину мужчиной, наполовину свободным, наполовину влюбленным!
Она положила руку выше своих колен на его черные волосы, которые трепал ветер, и сказала то, что подсказывала ей женская мудрость: «Наполовину влюбленным? Разве можно быть наполовину влюбленным?..»
Фил резко повернулся к своей подруге.
— А ты, ты, которая выносит все это, что ты собираешься делать?
Под взглядом его черных глаз в лице у нее опять появилась неуверенность.
— Да то же самое, Фил… Я не буду сдавать на бакалавра.
— А кем ты будешь? Что ты выбрала? Завод, аптеку?
— Мама сказала…
Он взвился от ярости, похожий на жеребенка, потом проговорил:
— «Мама сказала»!.. Какое рабское повиновение! Ну и что же она сказала, твоя мама?
— Она сказала, — покорно повторила Венка, — что у нее ревматизм, что Лизетте только восемь лет и что не надо ходить далеко, у нас дома есть чем заняться, скоро я стану хозяйкой в доме, мне придется наставлять Лизетту, управляться с прислугой до тех пор, пока…
— Пока что? Что, черт возьми?
— …Пока я не выйду замуж…
Она покраснела, ее рука перестала трепать волосы Филиппа, казалось, она ждала, что он произнесет заветное слово, но он не произнес.
— Но и до того, как я выйду замуж, у меня тоже есть чем заняться…
Он повернулся, смерил ее презрительным взглядом.
— И тебе этого достаточно? Тебе этого хватит, скажем… на пять, шесть лет или больше?
Голубые глаза моргнули, но не потупились.
— Да, Фил, а пока… Раз нам только пятнадцать и шестнадцать… Раз мы вынуждены ждать…
Ненавистное слово ударило по нему, он сразу обессилел. И, разочарованный, снова онемел перед простодушием своей подружки, покорностью, в которой она осмеливалась признаться, этой женской привычкой почитать старых, скромных богов домашнего очага, и в то же время боль его странным образом улеглась. Он бы, наверное, не принял Венка неспокойную, обращенную к приключениям и топчущуюся, как кобылица в путах, перед длинным и жестоким переходом от детства к взрослости…
Он прижался головой к платью подруги своего детства. Тонкие коленки вздрогнули и сжались, а Филипп подумал — в каком-то внезапном порыве, — что у этих коленок прекрасная форма. Но он закрыл глаза, всей тяжестью своей головы доверчиво приникнув к ней, и замер в ожидании…
IV
Филипп первым достиг дороги — две песчаные сухие колеи — песок подвижен, как волна, — бегущие по откосу с редкой, изъеденной солью травой, — по ней приезжают на тележках за морскими водорослями, оставленными приливом. Он опирался на ручки сачков и нес через плечо две корзины с креветками; Венка он оставил два тонких крюка с наживленной на них сырою рыбой и одежду для рыбной ловли, бесценную безрукавную тряпку. Себе он устроил отдых — он его заслужил, — согласился подождать свою неуемную подружку, брошенную им в пустыне скал, среди расщелин и водорослей, прятавшихся под водой во время высоких августовских приливов. Прежде чем пуститься в путь, он поискал ее глазами. Внизу покатого пляжа, меж сверкающих огней водных зеркальц, в которых отражалось солнце, маячил синий шерстяной берет, такой же выгоревший, как и чертополох на дюнах, отмечая местонахождение Венка, упорно искавшей креветок и розовых крабов.
«Раз это ее так занимает!..» — сказал про себя Филипп.
Он съехал вниз по откосу, слегка касаясь обнаженным торсом прохладного песка. У своего уха, в корзине, он услышал влажное перешептывание креветок и осмысленное поскребывание о крышку корзины большого краба…
Фил вздохнул: его заливало необъяснимое, ничем не замутненное счастье, куда привносили свою долю приятная усталость, подергивание еще напряженных после прогулки мышц, краски и послеполуденное бретонское тепло, от которого шел солоноватый дух. Филипп уселся на песик; молочное небо, на которое он смотрел, слепило глаза, он с удивлением отметил, что его руки и ноги покрылись свежим бронзовым загаром — руки и ноги шестнадцатилетнего мальчишки, тонкие, но хорошей формы, с сухими, еще твердыми мышцами, — такими могла бы гордиться и девушка. Кистью руки он вытер кровь на оцарапанной лодыжке и лизнул руку, она была соленая и от крови, и от морской воды.
Дующий с материка ветер приносил запах скошенной травы, хлева, притоптанной мяты; царящая с утра безукоризненная голубизна по линии горизонта мало-помалу вытеснялась пыльной розоватостью. Филипп мог бы сказать себе: «В жизни немного выдается таких часов, когда удовлетворенное тело, насытившийся взгляд и легкое, звенящее, почти ничем не занятое сердце получают одновременно все, чем они могут полниться, и я буду помнить об этом миге», однако достаточно было надтреснутого колокольчика и блеянья козы, от которого колокольчик раскачивался у нее на шее, чтобы уголки губ Фила дрогнули в тревоге и радость омыла слезами его глаза. Он не повернул головы в сторону скал, где блуждала его подружка, имя ее не сорвалось у него с губ от прилива чистых чувств: шестнадцатилетний подросток, вероятно, не догадывался, что можно позвать, чтобы разделить с ним нежданное блаженство, другого подростка, быть может, обремененного тем же…
— Эй, малыш!
Голос, окликнувший его, был молодой, властный. Филипп обернулся, но не встал навстречу молодой даме, одетой во все белое, — она стояла в десяти шагах от него, воткнув в песок, покрытый водорослями, свою трость и погрузив в него высокие белые каблуки.
— Скажи-ка, малыш, здесь, по этой дороге, можно проехать на машине?
Филипп из вежливости поднялся, подошел к ней и вдруг покраснел, почувствовав на себе взгляд дамы, скользнувший по его голому торсу, овеваемому свежим ветром; она улыбнулась и переменила тон:
— Простите, месье… мне кажется, мой шофер сбился с пути. А я предупреждала его… Ведь эта дорога оканчивается тропинкой, сбегающей к морю?
— Да, мадам. Это дорога водорослей.
— Водоросль? А далеко отсюда эта Водоросль?
Фил не смог удержаться от смеха, и дама в белом из вежливости улыбнулась:
— Я сказала что-то смешное? Берегитесь, я начну говорить вам «ты»: когда вы смеетесь, вам можно дать не больше двенадцати.
Однако она смотрела ему в глаза, как смотрят на взрослого мужчину.
— Мадам, я сказал: водорослей, а не Водоросль, дорога водорослей.
— Прекрасное объяснение, — одобрительно проговорила дама в белом, — я вам премного обязана.
Она смеялась по-мужски, снисходительным смехом, в котором читалось то же, что и в ее спокойном взгляде, и Филипп вдруг ощутил себя уставшим, слабым и уязвимым, его сковало чувство какой-то женской расслабленности, часто нападающей на юношу в присутствии взрослой женщины.
— Надеюсь, вы хорошо поохотились, месье?
— Нет, мадам, не очень… То есть… У Венка больше креветок, чем у меня.
— А кто такая Венка? Ваша сестра?
— Нет, мадам, приятельница.
— Венка — иностранное имя?
— Нет… То есть… Это означает Барвинок.
— А она вашего возраста?
— Ей пятнадцать, а мне шестнадцать.
— Шестнадцать… — повторила дама в белом.
Она не объяснила, что хотела этим сказать, но спустя минуту добавила:
— У вас песок на щеке.
Он стал яростно тереть щеку, чуть ли не сдирая кожу, потом рука его снова упала.
«Я не чувствую больше своих рук, — подумал он. — Мне сейчас сделается дурно…»
Дама в белом отвела от Филиппа взгляд своих спокойных глаз и улыбнулась.
— А вот и Венка, — сказала она, указывая на дорогу, — на повороте показалась Венка, она тащила за собой сеть в деревянном ободке и куртку Филиппа. — Что ж, до свидания, месье?
— Фил, — машинально ответил он.
Она не подала ему руки, а лишь кивнула два или три раза, как женщина, отвечающая на какую-то свою сокровенную мысль словами да, да». Она еще находилась в поле зрения, когда прибежала Венка.
— Фил? Что это за дама?
Движением плеч и всем своим видом он показал, что не знает.
— Как, ты ее не знаешь? Почему же тогда ты разговаривал с ней?
Филипп смерил свою подружку взглядом, в котором вновь сквозило лукавство и озорство. Он с радостью думал об их возрасте, их дружбе, уже поколебленной, о своем собственном деспотизме и горячей преданности Венка. Она была вся мокрая, из-под платья выглядывали разбитые в кровь коленки, как у святого Себастьяна, и, несмотря на израненную кожу, они были великолепны; руки, как у помощника садовника или у юнги; шею ее охватывал зеленый платок, от блузки пахло сырыми раковинами. Цвет ее старого ворсистого берета не контрастировал с голубизной глаз, и, если б не ее беспокойный, ревнивый, красноречивый взгляд, она походила, бы на ученика коллежа, одевшегося для шарады. Фил расхохотался, а Венка топнула ногой и бросила ему в лицо куртку.
— Так ты скажешь наконец?
Он небрежно просунул голые руки в проймы куртки.
— Дуреха! Это дама с машиной, она сбилась с пути. Машина здесь увязла. Я ей все объяснил.
— А…
Венка села и вытряхнула сандалии, откуда посыпались мокрые камушки.
— А почему она так быстро ретировалась, именно когда появилась я?
Филипп помедлил с ответом. Он втайне вновь смаковал свое впечатление от уверенности, скупости жестов, твердого взгляда незнакомки, ее рассеянной улыбки. Он вспомнил, что она всерьез назвала его «месье». Однако он вспомнил также, как коротко произнесла она «Венка», слишком фамильярно и даже немного обидно. Он нахмурил брови, он брал под защиту свою безалаберную подружку, ее невинность. Он немного подумал и нашел двойственный ответ, удовлетворявший одновременно и его вкус к романтической тайне, и ханжескую стыдливость юного буржуа.
— В общем, она хорошо сделала, — ответил он.
V
Он попытался уговорить ее:
— Венка! Посмотри на меня! Дай мне руку… Думай о чем-нибудь другом!
Она отвернулась к окну и тихонько высвободила руку.
— Оставь меня. Я не знаю, что делать.
Августовский прилив принес с собой дожди, и они затопили окно. Земля кончалась там, у кромки песчаной лужайки. Еще один порыв ветра, еще немного подняться серой морской равнине, изборожденной волнами, — и дом поплывет, как ковчег… Но Фил и Венка знали, что такое августовский прилив и его монотонный грохот и что такое сентябрьский прилив с его растрепанной белой гривой. Они знали, что там, где луг спускался к морю, пройти было невозможно, и все годы их детства бросали вызов пенистым валам, лениво извивавшимся на изъеденном берегу, где кончалось царство людей.
Фил открыл застекленную дверь, снова с силой захлопнул ее, подставил голову ветру, лоб его оросил мелкий дождь, который нагнала буря, — теплый морской дождь, немного соленый, плававший в воздухе, как дым. Он подобрал на террасе стальные шары, обитые гвоздями, самшитового поросенка, резиновый мячик. Он положил на свое место игрушки, уже больше не занимавшие его, — так укладывают маскарадные принадлежности, которым еще долго предстоит служить. В окне за ним следили глаза Барвинка, и казалось, что капли дождя, струившиеся по стеклу, — слезы, бегущие из ее беспокойных глаз яркого-голубого цвета, который оставался таким, несмотря ни на олово неба, ни на свинцовую зелень моря.
Фил сложил деревянные стулья, перевернул тростниковый стол. Он не улыбался своей подружке. Им уже давно не надо было улыбаться, чтобы нравиться друг другу, а сегодня к тому же ничто не приглашало их радоваться.
«Еще несколько дней, три недели», — подумал Фил. Он вытер руки, на которых был песок, пучком мокрого тимьяна, отягощенного мелкими цветами и оцепеневшими от дождя шершнями, ожидавшими будущего солнечного луча. Он понюхал свои ладони — от них исходил свежий, какой-то целомудренный запах, — и ему стоило труда не поддаться нахлынувшей было на него волне слабости, мягкосердечия и детской грусти, какая бывает в десять лет. Но он посмотрел на стекло и увидел между длинными струями дождя и цветками взъерошенных вьюнков лицо Венка, это женское лицо, которое она показывала только ему и прятала ото всех, притворяясь благоразумной и веселой девочкой.
Дождь на мгновение задержался в облаке, на небе появился просвет, и над горизонтом приоткрылось светящееся зияние, откуда вырвался печально белый, перевернутый сноп лучей. Душа Филиппа рванулась навстречу этому свету, ища покоя, отдыха, которого по наивности жаждало его измученное шестнадцатилетие. Но, повернувшись к морю, он почувствовал за своей спиной Венка, приникшую к стеклу затворенного окна.
«Еще несколько дней — и мы расстанемся. Что делать?» Он даже не подумал о том, что в прошлом году конец каникул стал для него, молоденького паренька, несчастьем, которое потом улеглось по возвращении в Париж, в экстернат, и покорно приняло утешение от воскресных прогулок. В прошлом году Филиппу было пятнадцать. Каждая годовщина относит в смутное и презренное прошлое все, что не есть Венка и он. Что он, так любит ее? — спросил он себя и, не найдя другого слова, как слово «любовь», с ожесточением отбросил со лба волосы.
«Может, я ее не так уж и люблю, но она моя. Вот».
Он обернулся и крикнул навстречу ветру:
— Венка! Венка! Дождь перестал.
Она открыла дверь и, боязливым жестом подняв одно плечо к уху, похожая на больную, вышла на порог.
— Иди же сюда! Море отступает, оно унесет дождь!
Она подвязала волосы белым платком, стянув концы на затылке, и стала походить на раненую.
— Давай пойдем к Носу — под скалой сухо.
Не говоря ни слова, она последовала за ним по тропинке, бегущей у края скалы, образовывающей над морем карниз. Они мяли ногами пряную душицу и последние цветы остро пахнущего донника. Под ними, словно развернутое полотнище, билось море и сладко лизало камни. Оно с силой ударялось о скалы и взметывало вверх теплые фонтаны, пропитанные запахом ракушек и земли, залегшей в расщелинах, куда ветер и птицы, пролетая, бросают зерна.
Они дошли до своего убежища: это была укрытая выступом скалы сухая площадка без закраин, откуда будто устремляешься в открытое море. Филипп сел рядом с Венка, и она уткнулась головой в его плечо. Она сидела с закрытыми глазами, казалось, силы ее совсем иссякли. Ее загорелые, с румянцем круглые щеки, испещренные рыжими песчинками, с бархатным налетом короткого нежного пушка, побледнели с утра, так же как и ее свежий рот, всегда немного приоткрытый, напоминающий фрукт, надкушенный дневным зноем.
После обеда, вместо того чтобы противопоставить жалобам «возлюбленного детства» свой обычный здравый смысл умной мещаночки, одновременно и упрямой, и нежной, она разразилась слезами, упреками, она горько сетовала на то, как беспомощна молодость, недостижимо будущее, невозможно бегство, неприемлема покорность… Она кричала: «Я люблю тебя!», как кричат: «Прощай!» и «Я не могу больше жить без тебя!» Ее глаза были полны ужаса. Любовь, выросшая прежде, чем они, придала очарование их детству и сберегла их отрочество от двусмысленных привязанностей. Менее несведущий в любви, чем Дафнис, Филипп был по-братски почтителен и суров с Венка, но в то же время нежно любил ее, словно они были, на восточный лад, обещаны друг другу с колыбели…
Венка вздохнула, вскинула на него глаза, однако головы не подняла:
— Я тебе не надоела, Фил?
Он отрицательно покачал головой, радуясь тому, что рядом с его глазами моргали золотистые ресницы ее голубых глаз, которые были все милее и милее его сердцу.
— Видишь, — сказал он, — шторм затихает. Правда, в четыре утра море снова будет бушевать… Но мы удержим хорошую погоду и вечером увидим луну во всей ее красе.
Интуиция подсказывала ему, что надо говорить о хорошей погоде, о покое, что надо вызвать у Венка светлые образы. Но она промолчала.
— Ты завтра придешь к Жаллонам играть в теннис?
Она отрицательно мотнула головой и с какой-то яростью снова закрыла глаза, словно отказывалась навсегда есть, пить, жить…
— Венка! — строго сказал Филипп. — Надо пойти. Пойдем.
Она приоткрыла рот, обвела взглядом осужденного морскую ширь.
— Что ж, пойдем, — повторила она за ним. — Почему не пойти? И зачем идти? Ничто ничего не изменит.
Они одновременно подумали о саде Жаллонов, о теннисе и закуске. Они, эти чистые и одержимые любовники, подумали еще, что завтра во время игры в теннис они предстанут перед всеми в ином свете, просто как два озорных подростка, и усталость навалилась на них.
«Через несколько дней мы будем разлучены, — думал Филипп. — Мы больше не проснемся под одной крышей, я увижу Венка только в воскресенье, у ее отца, у моего или в кино. И мне шестнадцать лет. Шестнадцать и пять месяцев. Сотни, сотни дней… Несколько месяцев каникул, да, конечно, но конец их ужасен… Но она моя… Она моя…»
Тут он заметил, что голова Венка соскользнула с его плеча. С закрытыми глазами Венка мягко, едва заметно, раскованно скользила вниз по склону, такому короткому, что ноги девушки уже висели над пропастью… Он увидел это, но не содрогнулся. Он взвесил, насколько серьезно то, что замышляла его подруга, и обвил рукой талию Венка, чтобы не отделяться от нее. Крепко сжимая девушку в объятиях, он ощутил эту трепетную жизнь, силу и совершенство ее тела, готового повиноваться ему как в жизни, так и в смерти, куда она его увлекала. «Умереть? Но почему?.. Нет, не сейчас. Уйти в другой мир, не владея полностью тем, что рождено для меня?»
Здесь, на этом склоне, он мечтал об обладании, как может мечтать об этом и робкий юноша, но и взрослый, требовательный мужчина, наследник, принявший жесткое решение насладиться благами, которые ему предоставляет время и человеческие законы. Первый раз в жизни он один должен был решить их судьбу: он мог или бросить ее в морскую пучину, или приковать к выступу скалы, зацепившись за него, как упрямое растение, которое, удовольствовавшись малым, цвело на ней…
Сжав кольцом руки, он поднял гибкое тело, ставшее теперь тяжелым, и коротко позвал свою подругу:
— Венка! Идем!
Она снизу вверх смотрела на него, нетерпеливо склонившегося над ней с решительным лицом; она поняла, что час смерти минул. Одновременно возмущенная и восхищенная, она увидела, как в черных глазах Филиппа играет закатный луч, увидела его растрепанные волосы, его рот и тень, как два крыла, которую отбрасывал на его губы пушок — свидетельство его мужественности, и она выкрикнула:
— Ты мало меня любишь, Фил, ты мало любишь меня!
Он хотел что-то сказать, но промолчал, ибо не собирался делать ей благородное признание. Он покраснел и опустил голову, сознавая себя виновным в том, что, пока она скользила туда, где любовь не мучает больше свои жертвы, он думал о своей подружке, как о драгоценной, спрятанной под семью замками вещи, чья тайна только и имеет значение, и потому отказал ей в смерти.
VI
Вот уже несколько дней, утрами, к морю спускался запах осени.
В эти августовские утра от зари до того часа, когда свежее дыхание моря отталкивает менее густой запах разогретой земли, обнаженные борозды скошенных хлебов, дымящиеся удобрения пахли осенью. Упрямая роса сверкала в живых изгородях, и если Венка в полдень подбирала с земли осиновый лист, созревший и упавший до времени, белая оборотная сторона еще зеленого листочка была мокрой и сияла, как алмаз. Из земли выскакивали влажные грибы, пауки, разгуливающие по саду, к ночи, когда бывало свежо, возвращались в кладовку, где хранились игрушки, и благоразумно устраивались на потолке.
Однако середина дня освобождалась от пут осеннего тумана, от нитей бабьего лета, натянутых на кустах созревшей ежевики, и казалось, осень повернула вспять и сейчас на дворе июль. В небе палило солнце и слизывало росу, омывало светом только что родившийся шампиньон, осыпало осами виноград, уже состарившийся, с чахлыми лозами, и Венка с Лизеттой одинаковым движением сбрасывали с себя трикотажные спенсеры, укрывавшие с самого завтрака их голые руки, черные от загара, выделявшиеся на фоне белого платья. Такие застывшие, безветренные, безоблачные, если не считать нескольких молочных «барашков», появлявшихся к полудню и тут же исчезавших, дни следовали чередой и были божественно похожи один на другой, так что умиротворенным Венка и Филиппу верилось, что год в мягких путах бесконечно длившегося августа остановился на своем самом сладостном миге.
Охваченные чисто физическим блаженством, они меньше думали о предстоящей сентябрьской разлуке и перестали унывать и драматизировать расставание двух уже состарившихся от преждевременной любви пятнадцати- и шестнадцатилетнего подростков, объятых тишиной, горечью и тайной повторявшихся все время разлук.
Некоторые из их молодых соседей, их товарищей по теннису и рыбной ловле, покинули море и устремились в Турень; соседние виллы закрывались; Филипп и Венка оставались одни на берегу и в большом опустевшем доме, где большая гостиная с навощенным полом напоминала корабль. Они наслаждались великолепным одиночеством, хоть и сталкивались нос к носу с родственниками, которых они почти не замечали. Однако Венка, занятая всецело Филиппом, продолжала выполнять все обязанности молодой девушки, собирала в саду для стола калину и пушистый ломонос, а в огороде — первые груши и последние ягоды черной смородины; она подавала кофе, протягивала зажженную спичку своему отцу и отцу Филиппа, кроила и шила платьица для Лизетты и жила своей особой жизнью на глазах у родственников-призраков, которых она почти не видела и не слышала. Она словно наполовину оглохла и ослепла, и это было приятное состояние, что-то близкое к обмороку. Ее сестренка Лизетта, еще не настигнутая общим уделом, сияла чистотой и правдивостью. Впрочем, Лизетта походила на сестру, как маленький шампиньон похож на большой.
— Если умру я, — говорила Венка Филиппу, — у тебя останется Лизетта…
Но Филипп пожимал плечами и хмурился: ведь шестнадцатилетние любовники не признают ни перемен, ни болезней, ни неверности и смерть приемлют лишь как вознаграждение или как уготованную судьбой развязку, потому что они не придумали другой.
Как-то прекрасным августовским утром Филипп и Венка решили оставить родителей одних за столом и, взяв с собой корзину, где лежала провизия и купальники, отправились к морю, прихватив заодно и Лизетту. Им случалось и прежде обедать в одиночку, после того как они облазают все расщелины в скалах, — уже поизносившееся удовольствие, испорченное беспокойными мыслями и сомнениями. Но помолодевшее прекрасное утро августа обновляло души и этих заблудших детей, время от времени жалобно оборачивавшихся к невидимой двери, через которую они вышли из своего детства. Филипп шел впереди по тропе, ведущей к таможне, он нес сачки для рыбной послеполуденной ловли и сумку, где позвякивала литровая бутылка с пенистым сидром и бутылка с минеральной водой. Лизетта в свитере и купальнике болтала рукой с теплым хлебом, завязанным в салфетку, Венка, одетая в голубой свитер и белые брюки, нагруженная корзинами, как африканский осел, замыкала шествие. На опасных поворотах Филипп, не оборачиваясь, кричал:
— Постой, я возьму у тебя одну корзинку!
— Да не стоит, — отвечала Венка.
Ей еще удавалось показывать дорогу Лизетте, когда маленькую головку с копной жестких золотистых волос скрывал высокий папоротник.
Они облюбовали небольшую бухту, впадину между двумя скалами, на которой приливы вымыли мелкий песок и которая спускалась к морю наподобие рога изобилия. Лизетта сбросила сандалии и принялась играть пустыми ракушками. Венка закатала на загорелых ногах брюки и сделала лунку во влажном песке под скалой, чтобы поставленные туда бутылки хранили прохладу.
— Хочешь, я помогу тебе? — кротко предложил Филипп.
Она ничего не ответила и только посмотрела на него с улыбкой. Ее редкой голубизны глаза, ее потемневшие, как кора деревьев, от жаркого румянца щеки, изогнутое лезвие ее зубов на миг вспыхнули, и их окраска была столь густа и невыразима, что Филипп почувствовал укол в сердце. Но она повернулась лицом к нему и стала без тени смущения ходить взад-вперед, грациозно наклоняться, раскованная, раздетая, похожая на мальчишку.
— Мы знаем, что ты с собой принес — только рот, чтобы есть! — крикнула Венка. — Ох уж эти мужчины!
Шестнадцатилетний «мужчина» принял эту дань уважения и эту шутку. Когда стол был накрыт, он строго подозвал Лизетту, съел сандвичи с маслом, которые приготовила ему его подруга, выпил сидра, посолил салат и кусочки швейцарского сыра, слизнул с пальцев влагу от сочных груш. Венка, с голубой повязкой на лбу, следила за всем, как молодой виночерпий. Для Лизетты она освободила от костей сардины, налила сколько нужно питья, очистила фрукты, а потом сама принялась за еду, сверкая своими прекрасными, правильной формы зубами. В нескольких метрах что-то нашептывало тихое отступившее море, наверху, на берегу, тарахтела молотилка, из скалы, поросшей травой в желтых цветочках, сочилась и плескалась у их ног вода, несоленая, пахнущая землей…
Филипп потянулся, заложив руку за голову.
— Как хорошо, — вздохнул он.
Венка, стоя вытиравшая ножи и вилки, бросила на него голубой луч своего взгляда. Он не шелохнулся, пряча удовольствие, которое испытывал, когда его подруга восхищалась им. Щеки его пылали, губы блестели, черные волосы в гармоничном беспорядке спустились на лоб — он понимал, что сейчас он красив.
Венка, не говоря ни слова, похожая на маленькую индианку, снова принялась за работу, а Филипп, убаюкиваемый плеском волн, далеким полуденным звоном колокола, тихим пением Лизетты, закрыл глаза. На него опустился тихий и быстрый сон послеполуденной сиесты, нарушаемый малейшим шумом, и вместе с тем этот шум упорно вызывал одно и то же сновидение: он был Фил, лежащий после трапезы, устроенной детьми, на белом берегу, очень древний и нелюдимый, всего лишенный и одновременно необычайно довольный, потому что обладал женщиной…
Громкий крик заставил его приподнять веки: у моря, с которого из-за сияния дня и вертикального света сошли все краски, сидела Венка и, склонившись над Лизеттой, вынимала занозу из царапины на ее доверчиво протянутой к ней руке… Это видение не спугнуло сна Филиппа, он снова закрыл глаза: «Ребенок… Правильно, у нас есть ребенок…»
Его грезы, навеянные мужественностью, где любовь, опережая возраст любви, сама устремлялась к своему великодушному, простому финалу, к одиночеству, чьим повелителем он был. Он миновал грот — провисший гамак из тонкой ткани, вместилище обнаженной формы, красноватый огонь, бившийся где-то на уровне земли, — вдруг потерял способность угадывать и лететь, перевернулся и коснулся мягкого дна самого глубокого покоя.
VII
— Просто невероятно, как быстро становятся короткими дни!
— Почему невероятно? Вы говорите об этом каждый год в одно и то же время. Если кто и изменит что-нибудь в положении светил, это будете не вы, Марта.
— А кто говорит о положении светил? Я не требую от них ничего, от этих светил, пусть и они мне ответят тем же.
— Неспособность женщин усваивать некоторые знания весьма любопытна. Вот, например, этой я двадцать раз объяснял, как происходят приливы, и от нее все — как от стенки горох!
— Огюст, хоть вы мне и зять, я не собираюсь слушать вас больше других…
— Бог ты мой! Меня теперь не удивляет, что вы не замужем, Марта. Жена, будь добра, подай мне пепельницу.
— А куда будет стряхивать пепел со своей трубки Одбер?
— Не беспокойтесь, мадам Ферре, дети разбросали эти раковины по всем столам.
— Все по вашей вине, Одбер. В тот день, когда вы им сказали: «Раковины — это красиво, из них получатся великолепные пепельницы», вы превратили их шатанье по горам в миссию доверия. Не так ли, Фил?
— Да, месье Ферре.
— Именно ради этой миссии, Ферре, ваша дочь оставила свое первое коммерческое предприятие.
— А знаете, что придумала Венка? Она договорилась с первым торговцем птиц и корма для них Карбонье, что будет поставлять ему кости, об которые чижи оттачивают клюв в клетке. Венка, я правду говорю?
— Да, месье Одбер.
— Эта плутовка больше смыслит в делах, чем вы о ней думаете. Я ругаю себя, что когда-то…
— О! Огюст, ты опять за свое!
— Да, за свое, потому что прав. Эту девочку ты хочешь удержать дома. Что ж, ладно. А какую пищу можешь ты ей предложить, чтобы она росла активной и физически, и нравственно?
— Ту же, что и себе. Я полагаю, ты не часто видишь меня без дела? И потом, я выдам ее замуж. Поставить точку — это самое главное.
— Моя сестра придерживается прежних традиций.
— Если кто на это и жалуется, то не мужья.
— Хорошо сказано, мадам Ферре. Будущее девочки… Я знаю, что пока ничто не торопит вас. Пятнадцать лет… У Венка еще есть время, чтобы определить свое призвание. Слышишь, Венка? Обвиняемая, что вы имеете сказать в свое оправдание?
— Ничего, месье Одбер.
— «Ничего, месье Одбер»! Вы только послушайте ее! Наши дети просто плюют на нас, Ферре! Они сейчас совершенно спокойны!
— Они вели бездумную жизнь.
— У Венка на штанах весь зад, извините за выражение, протерся.
— Марта!
— Что Марта? Уж и про штаны нельзя сказать? Мы ведь не в Англии!
— В присутствии молодого человека!
— Это не молодой человек, это Фил. Что ты там рисуешь, старик?
— Турбину, месье Ферре.
— Мои поздравления будущему инженеру!.. Одбер, вы видели луну над Груэном? Я вот уже пятнадцать лет вижу, как поднимается в августовские вечера луна над морем, и не устаю восхищаться. А ведь пятнадцать лет назад Груэн был пустынен, здесь гулял лишь ветер, разнося по округе семена…
— Вы рассказываете об этом, словно вы турист, Ферре! Пятнадцать лет назад я искал пристанище на берегу, где можно было бы проесть мои первые шесть сотен сэкономленных франков…
— Уже пятнадцать лет! И впрямь у Филиппа была надежная опора… Жена, погляди, какая луна, я хочу тебя спросить, ты видела что-нибудь подобное за эти пятнадцать лет, такой цвет, а? Она… ей-богу, она зеленая, совершенно зеленая!
Филипп поднял на Венка испытующий взгляд Он хотел пробудить в ее памяти воспоминание о том времени, когда она была невидима для всех и в то же время полна жизни… Впрочем, у него в памяти не сохранилось точного образа того времени, когда они вместе топтали этот белый песок их каникул: прежняя форма — белый муслин и загорелая кожа — растворилась. Но когда его сердце говорило: «Венка!», то это имя, неотделимое от его подружки, вызывало к жизни воспоминание о мелком песке, который грел коленки и, захваченный в ладошку, сыпался оттуда…
Голубые глаза Барвинка встретились с глазами Филиппа и, бесстрастные, как и они, тотчас же отвернулись.
— Венка, тебе не пора спать?
— Не сейчас, мама, пожалуйста. Я хочу покончить вот с этой большой оборкой на купальном костюмчике Лизетты.
Она говорила тихим голосом, отбросив далеко от себя и Филиппа бледные, почти не существующие тени их близких. Нарисовав турбину, винт самолета, механизм молочного сепаратора, Фил нарисовал еще на лопасти большие, обведенные темными кругами глаза, которые видишь на оперении павлина, хрупкие лапки и усики. Потом вывел большое В и с помощью голубого карандаша придал ему форму глаза с длинными ресницами, напоминающего глаз Венка.
— Посмотри, Венка.
Она склонилась к рисунку, положила на бумагу свою руку дикарки, темную, как кора дерева, и улыбнулась:
— Глупости какие-то.
— Что он там еще натворил? — крикнул месье Одбер.
Молодые люди с немного высокомерным и удивленным видом обернулись на крик.
— Ничего, папа, — сказал Филипп. — Так, глупости. Я пририсовал лапы к турбине, чтобы ей лучше работалось.
— Ах, я перекрещусь, когда он повзрослеет и станет благоразумным! Можно подумать, что ему не шестнадцать, а шесть лет!
Венка и Филипп вежливо улыбнулись, их настоящее еще раз прогнало от себя смутные образы этих людей, один из которых играл в карты рядом с ними, другие вышивали. Они услышали еще, словно сквозь журчание воды, какие-то шутки насчет призвания Филиппа, насчет его склонности к механике, его успехов по части электричества и насчет будущего замужества Венка — излюбленная тема всего семейства.
За столом поднялся смех: кому-то пришло в голову соединить Венка и Филиппа…
— Ну нет! Это все равно что соединить брата и сестру! Они слишком хорошо знают друг друга.
— Любовь, мадам Ферре, любит неожиданность, блеск молнии!
— Любовь — дитя, дитя свободы…
— Марта, не пойте! Ну, слава богу, вы дождались наконец норд-веста и хорошей погоды!
…Ему жениться на Венка? Филипп улыбнулся, полный снисходительной жалости к ним. Жениться на Венка… Зачем? Венка принадлежала ему, как он принадлежал ей. Они уже предусмотрительно учли, насколько их будущая официальная помолвка потревожит их долго длящуюся любовь. Они предвидели и ежедневные шутки, и невыносимые смешки, и недоверчивость…
Не сговариваясь, молодые люди вместе закрыли потайное окошко, через которое они, отрезанные любовью от остального мира, иногда общались с ним. Вместе с тем они завидовали детской непосредственности своих родственников, той легкости, с какой они шутили, их вере в спокойное будущее.
«Как они веселы!» — думал Филипп.
На обрамленном сединой лбу отца Филипп искал следы божественного света или хотя бы ожога.
«О! — высокомерно заключил он, — да этот бедняга никогда не любил…»
Венка пришлось сделать усилие, чтобы представить себе то время, когда ее мать, молоденькая девушка, возможно, страдала от любви, от вынужденного молчания. Она увидела лишь ее преждевременно побелевшие волосы, золоченое пенсне на носу и худобу, которая делала мадам Ферре такой элегантной…
Венка покраснела, оставив только для себя способность стыдиться любви, мучиться душой и телом, она перестала вызывать к жизни ненужные Тени и присоединилась к Филиппу на том пути, где они прятали от всех свои следы и где они чувствовали, что могут погибнуть под тяжестью слишком дорогой и слишком рано отвоеванной ноши.
VIII
На повороте дороги Филипп спрыгнул с велосипеда, отбросил его в сторону, сам отпрянул в другую и очутился на откосе, покрытом белесоватой травой.
Ну, довольно, довольно, с ума можно сойти! И почему я предложил свои услуги и согласился отвезти телеграмму?»
Одиннадцать километров пути, от виллы до Сен-Мало, не показались ему тяжелыми. Ветерок, дувший с моря, подталкивал его в спину, потревоженный свежий воздух, когда он спускался один, потом другой раз, овевал его полуобнаженную грудь. Но обратный путь вызвал у него отвращение к лету, к велосипеду, к бремени забот. Август подходил к концу, он полыхал красками. Филипп погрузил обе ступни в желтую траву и слизнул с губ пыль, поднимавшуюся от кремнистой дороги. Он упал на спину и раскинул руки. Кровь прилила к глазам, как у боксера на ринге, и они потемнели; бронзовые ноги, выглядывавшие из-под коротких спортивных штанов, были покрыты белыми шрамами, засохшими и свежими царапинами и являли собой свидетельство того, что он провел не одну неделю каникул, рыбача на скалистом берегу моря.
«Надо было бы взять с собой Венка, — подумал он, ухмыльнувшись. — Да, черт возьми!»
Но другой Филипп, живший в нем, Филипп, влюбленный в Венка, Филипп, замкнутый в своей преждевременной любви, как осиротевший принц в слишком большом для него дворце, возразил Филиппу злому: «Ты бы дотащил ее на спине до виллы, если б она только пожелала…»
«Это еще неизвестно…» — запротестовал злой Филипп. И Филипп влюбленный не стал на этот раз возражать…
Он лежал у подножья стены, увенчанной кронами голубых елей и белых осин. Филипп прекрасно знал берег, не зря он прошел его пешком и проехал на велосипеде. «Это Кер-Анна. Слышно, как работает динамо, которое подает электричество. Однако кто же снял там дачу на это лето?» Звук мотора, работавшего по ту сторону стены, был похож на шумное дыхание запыхавшейся собаки; по серебристым осиновым листьям, словно по воде ручья, пробегала от ветра легкая рябь.
Умиротворенный, Филипп закрыл глаза.
— Мне кажется, вы заслужили стакан оранжада, месье Фил, — сказал спокойный голос.
Фил открыл глаза и увидел перевернутое, как в зеркальной глади воды, женское лицо, склонившееся над ним.
В таком ракурсе был виден немного тяжеловатый подбородок, накрашенные губы, нижняя часть носа с втянутыми ноздрями — признак легковозбудимой натуры, — два темных глаза, снизу они казались похожими на два рогалика. Лицо цвета светлого янтаря улыбалось с фамильярностью отнюдь не дружеской. Филипп узнал даму в белом, застрявшую в автомобиле на дороге водорослей, даму, которая обратилась к нему сначала со словами: «Эй, малыш!», а потом сказала «месье»… Он вскочил и как можно приветливее поздоровался с ней. На ней было белое платье, она скрестила на груди руки, не прикрытые рукавами, и, как в первый раз, мерила его с ног до головы взглядом.
— Месье, — важно спросила она, — это случайно или по особой наклонности вы не носите одежды или так мало на себе носите?
Освеженная отдыхом кровь горячей волной прихлынула к ушам и щекам Филиппа, и они запылали.
— Нет, мадам, — резко ответил он, — дело в том, что я должен был отвезти на почту телеграмму папы одному его клиенту: в доме никого подходящего, кроме меня, не нашлось. Нельзя же было посылать Венка или Лизетту в такую пору!
— Не устраивайте мне сцен, — сказала дама в белом. — Я крайне впечатлительна. Я могу заплакать из-за пустяка.
Ее слова и бесстрастный взгляд, за которым скрывалась улыбка, ранили Филиппа. Он схватился за руль велосипеда, как хватают за руку упавшего ребенка, и хотел уже сесть в седло.
— Вам надо выпить стаканчик оранжаду, месье Фил. Уверяю вас.
Он услышал, как скрипнула калитка в углу стены, и его попытка бежать окончилась тем, что он очутился как раз напротив открытой двери, напротив аллеи розовых, апоплексического вида гортензий и напротив дамы в белом.
— Меня зовут мадам Даллерей, — сказала она.
— Филипп Одбер, — быстро проговорил Фил.
Она как-то безразлично махнула рукой и протянула: «A-а!», как бы говоря: «Меня это не интересует».
Она пошла рядом с ним, солнце припекало ей голову с черными волосами, гладко причесанными и блестящими, но она даже бровью не повела. У Филиппа разболелась голова, ему показалось, что у него будет солнечный удар; идя подле мадам Даллерей, он с надеждой подумал: а вдруг он шлепнется сейчас в обморок и освободится от необходимости выбирать, повиноваться?
— Тотот! Оранжаду! — приказала мадам Даллерей.
Фил вздрогнул, словно пробудился ото сна. Стена рядом, — подумал он. — Она не слишком высока. Я прыгну — и…» Он не додумал до конца своей мысли, а она означала: «…и я спасен». Пока он поднимался за белым платьем на сверкающее крыльцо, он уговаривал себя держаться смелее: ведь ему шестнадцать. «Ну и что тут такого? Не съест же она меня!.. Раз она так настаивает на этом оранжаде…»
Он вошел в темную комнату, куда не проникал ни солнечный луч, ни мушка, и ему снова показалось, что он вот-вот упадет. От низкой температуры, которая держалась благодаря затворенным ставням и спущенным занавескам, у него перехватило дыхание. Он споткнулся обо что-то мягкое и упал на пуф под демонический смех, раздавшийся внезапно непонятно в каком конце комнаты; Фил чуть было не расплакался от досады. Его руки коснулось холодное стекло.
— Быстро не глотайте, — сказал голос мадам Даллерей. — Тотот, зачем ты положила льду? Ты что, с ума сошла? В погребе и так достаточно холодно.
Белая рука погрузила в стакан три пальца и тут же вытащила. Вспыхнул огонь бриллианта, отраженный ледышкой, которую сжимали три пальца. Закрыв глаза, задыхаясь, Филипп сделал два глотка и даже не почувствовал кисловатого вкуса апельсина; когда же он поднял ресницы, его глаза, привыкшие к темноте, различили красные и белые цвета обивки, черный и приглушенно-золотистый цвет занавесей. Тотот, которую он так и не видел, исчезла, унеся с собой поднос. Красно-голубой попугай, сидевший на жердочке, распустил крылья, взмахнул ими, словно веером, и открыл свою подмышку розовато-телесного цвета.
— А он красив, — хриплым голосом сказал Фил.
— Он нем и оттого еще красивее, — ответила мадам Даллерей.
Она села довольно далеко от Филиппа, и в разделявшем их пространстве повеяло запахом камеди и герани, поднимавшимся над бокалом, словно дымок от сигареты. Филипп положил свои голые ноги одна на другую, и дама в белом улыбнулась, отчего усилилось впечатление, будто он во власти какого-то разгулявшегося кошмара, что его незаконно арестовали, что его похитили и он оказался в двусмысленном положении, и это лишало Филиппа всегдашнего хладнокровия.
— Ваши родители каждый год приезжают на этот берег? — спросила наконец своим мягким баритоном мадам Даллерей.
— Да, — удрученно вздохнул он.
— А здесь, между прочим, прелестно, я совсем не знала этого края. Бретань с не очень характерными, не ярко выраженными признаками, но умиротворяющая, а цвет моря — он несравненный.
Филипп промолчал. Он чувствовал, что силы постепенно покидают его, он силился сохранить остатки здравого смысла и ждал, когда услышит, как на ковер будут равномерно и приглушенно падать капли его крови, отхлынувшей от сердца.
— Ведь вы любите, не так ли?
— Кого? — подпрыгнул он.
— Это побережье.
— Да…
— Месье Фил, вам дурно? Нет? Ну и прекрасно. Впрочем, я хорошая сиделка… Но вы тысячу раз правы: при такой погоде лучше посидеть молча. Помолчим.
— Я этого не говорил…
С тех пор как они вошли в эту темную комнату, женщина не сделала ни одного лишнего движения, не проронила ни одного небанального слова. Однако звук ее голоса каждый раз, как она что-то произносила, вселял в Филиппа невыразимую тревогу, и он с ужасом выслушал ее грозное предложение помолчать. Его желание бежать было властным и полным отчаяния. Он задел стаканом о маленький столик, едва различимый в темноте, попробовал что-то сказать, чего не было слышно, встал и направился к двери, рассекая тяжелые волны мрака и обходя невидимые препятствия; он задыхался, когда наконец очутился на свету.
— Ах!.. — вполголоса проговорил он. И патетическим жестом сжал то место на груди, где, как мы полагаем, бьется наше сердце.
Затем к нему внезапно вернулось ощущение реальности, он засмеялся глупым смехом, вежливо потряс руку мадам Даллерей, взял велосипед и укатил. Наверху, на тропе, он встретил обеспокоенную Венка — она поджидала его.
— Что ты так долго делал, Фил?
Он поцеловал опущенные голубые веки, которые скрывали прелестные синие глаза его подружки, и возбужденно ответил:
— Что я делал? Да все! На меня напали на повороте, заперли в погребе, оглушили мощными наркотиками, привязали голого к столбу, исполосовали всего, подвергли пытке!..
Венка, уткнувшись в его плечо, весело смеялась, а Филипп, мотая головой, чтобы стряхнуть с ресниц слезы волнения, думал:
«Если б она только знала, что то, что я ей рассказываю, — чистая правда…»
IX
После того как Филипп выпил предложенный ему мадам Даллерей стакан ледяного оранжада, он почувствовал как бы ожог на своих губах и в горле. Он сказал себе, что никогда не пил такого горького оранжада и впредь, кажется, пить не будет.
«Однако в ту минуту, когда я его пил, я не почувствовал его вкуса… А только позже… значительно позже…» Этот визит, о котором он умолчал в разговоре с Венка, оставил в его памяти ощутимый след — точно в его мозгу бился какой-то нерв и он, по своему усмотрению, или ускорял, или останавливал его горячечное, дарящее благо биение.
Жизнь Филиппа по-прежнему принадлежала Венка, подруге его сердца, родившейся где-то рядом с ним, спустя год, привязанной к нему, как близнец, и беспокойной, как женщина, которая вот-вот потеряет своего возлюбленного. Но ни грезы, ни кошмарные воспоминания не зависят от реальной жизни. Тревожные воспоминания, наполненные тенями и холодом, приглушенным красным, черным бархатом и золотом, давили на жизнь Фила, уменьшая, омрачая дневные часы с тех пор, как он побывал в особняке Кер-Анна в душный полдень, когда выпил стакан оранжаду, налитого властной и важной дамой в белом. Игра бриллианта на ребре стакана… кусочки льда, сверкавшего меж бледных пальцев… Красно-голубой попутай, сидевший на жердочке и все время молчавший, его крылья, подбитые белым с розоватым, как плоть креветок, оперением… Фил не верил своей памяти, воссоединявшей эти образы, жарко и неестественно окрашенные, возможно, они — лишь привидевшаяся ему во сне декорация, на которой зеленая окраска листвы переходит в голубизну и которая придает некоторым оттенкам глубину чувства…
Визит его не обрадовал. Некоторое время воспоминание о плававшей в воздухе дымке отнимало у него аппетит, вызывало в воспаленном мозгу аберрации.
— Венка, тебе не кажется, что сегодня креветки пахнут ладаном?
Испытал ли он радость в этой закрытой зале, где он пробирался на ощупь и все время натыкался на мягкие, одетые в бархат предметы? Или когда он так неловко бежал и солнце внезапно накинуло свою мантию на его плечи? Нет и нет, все это не походило на радость, а скорее на тоску, на муки долга…
Я должен отплатить ей за вежливость, — однажды утром сказал себе Филипп. — Почему я должен быть невежей? Надо принести цветов к ее двери, а уж после я больше не буду об этом думать. Да, но какие цветы?»
Маргаритки, росшие в саду, и бархатистый львиный зев показались ему недостойными ее. Завершающий свой бег август отнял цветы у жимолости и дикой розы, обвившей стволы осин. Но меж дюн, спускавшихся от виллы к морю, в изобилии рос чертополох, и голубизна его цветов и сиреневость ломких стеблей могли бы называться зеркалом глаз Вейка».
«Голубой чертополох… Я видел его в медной вазе у мадам Даллерей… А дарят чертополох? Я прицеплю цветы к решетке ограды… Но в дом не войду…»
Он подождал, с находчивостью своих шестнадцати лет, того дня, когда Венка немного нездоровилось, она была усталая, разнеженная, вокруг ее голубых глаз появились сиреневые круги, и она улеглась в тени, предпочтя ее прогулке и купанию. В тайне от всех он нарвал и собрал в букет самые красивые цветы чертополоха, сильно поранив руки его, словно из железа, листьями. И пустился в путь на своем велосипеде; стояла прекрасная, теплая бретонская погода, землю заволокло туманом, а море окутала какая-то нематериальная молочная дымка. Движения Фила, катящегося на велосипеде, несколько сковывали куртка из толстого джерси, самая красивая, какая у него была, и белые полотняные брюки; так он доехал до Кер-Анны, потом, пригнувшись, прокрался к решетке и хотел бросить в сад свой букет, словно намеревался избавиться от мешавшей ему вещи. Он подумал и направился к тому месту, где ограда почти касалась стены дома, вытянул руку, словно собирался запустить пращу, — и букет полетел через ограду. Филипп услышал крик — кто-то шел по гравию, — и потом голос, задыхавшийся от гнева, который он, однако, узнал, произнес:
— Ну, попадись мне только идиот, который это сделал!..
Фил был оскорблен, а потому не бросился бежать, он подошел ближе к решетке, где его и увидела дама в белом. Когда она поняла, что это Фил, лицо ее изменило выражение, сомкнутые брови раздвинулись, она пожала плечами.
— Я должна была бы сама догадаться, — сказала она. — Это не слишком хорошо придумано.
Она ждала от него извинений, но извинений не последовало: Фил был занят тем, что разглядывал даму в белом и мысленно благодарил ее, поскольку она была в том же наряде и ее лицо некричаще оживляла краска помады на губах, а вокруг глаз залегла та же тень. Она поднесла руку к щеке:
— Смотрите-ка, кровь!
— У меня тоже, — жестко сказал Филипп.
Он протянул свои пораненные руки. Она наклонилась к нему и раздавила пальцем капельку крови на его ладони.
— Вы их собирали для меня? — небрежно спросила она.
Он отрицательно покачал головой, наслаждаясь тем, что вел себя с любезной, воспитанной дамой как неотесанный мужлан. Но она не показалась ни раздосадованной, ни удивленной.
— Может, зайдете на минуту?
Он опять отрицательно покачал головой, и волосы у него при этом разлетелись, его лицо вдруг похорошело, стало строгим и лишенным всякого другого выражения.
— Они голубые… невероятно голубые… Я поставлю их в медную вазу.
Лицо Филиппа немного смягчилось.
— Я подумал об этом. Или в горшок из серой керамики.
— Да, конечно… В серый горшок.
Мягкость, появившаяся в голосе мадам Даллерей, восхитила Филиппа. Она заметила это, посмотрела ему в глаза, опять улыбнулась своей благожелательной, немного мужской улыбкой и переменила тон:
— Скажите, месье Фил… Один вопрос… Один простой вопрос… Эти голубые цветы, вы их собирали для меня? Чтобы доставить мне удовольствие?
— Да…
— Прекрасно. Чтобы доставить мне удовольствие. Но вы должны были бы скорее подумать о том, что мне они, может быть, не доставят того удовольствия — поймите меня правильно, — которое испытали вы, собирая их, чтобы поднести мне.
Он плохо ее слушал и смотрел на нее как глухонемой, словно завороженный формой ее рта и ее мигающими ресницами. Он ничего не понял и ответил первое, что пришло на ум:
— Я подумал, что вам будет приятно… И потом, ведь предложили же вы мне оранжаду…
Она отняла свою руку, лежавшую на руке Фила, и широко распахнула до того полузакрытую створку решетчатой двери.
— Хорошо, малыш. Но вы должны уехать и никогда больше не возвращаться сюда.
— То есть как?
— Никто не просил вас быть мне приятным. И не трудитесь больше забрасывать меня голубыми цветами, как вы сделали сегодня. До свиданья, месье Фил. Разве только…
Она стояла, прижавшись своим открытым лбом к решетке вновь затворенной двери, и взглядом мерила Филиппа, застывшего на тропинке по другую сторону двери.
— Разве только в один прекрасный день вы придете сюда, чтобы отплатить мне за оранжад не букетом цветов, а по-другому…
— По-другому…
— Как ваш голос похож на мой, месье Фил! И тогда мы увидим, о чьем удовольствии речь, о вашем или моем. Я люблю только нищих и голодных, месье Фил. Если вы вернетесь, возвращайтесь с протянутой рукой… Ну, идите, идите же, месье Фил!..
Она отошла от решетки, и Филиппу ничего не оставалось, как уйти. И хотя его выпроводили, даже прогнали, он не испытывал другого чувства, кроме чувства мужской гордости, и, когда вспоминал об этом, его взору являлось прижавшееся к затейливой черной решетке женское лицо, похожее на ветку калины, с каплями свежей крови на нем.
X
— Погоди, Венка. Ты упадешь — у тебя развязалась сандалия…
Фил быстро наклонился, подхватил две белые шерстяные ленты и обвязал ими в лодыжке тонкую, сухую, вздрагивающую ногу, ногу чуткого животного, рожденного для бега и прыжков. Ее изящество не портили ни огрубевшая кожа, ни множество царапин. На легком, почти бесплотном костяке мышц было ровно столько, сколько надо, чтобы получилась округлая линия; ноги Венка не возбуждали желания, но вызывали восторг перед чистотой формы.
— Да погоди же ты! Не суетись, дай завязать тесемки!
— Нет, оставь!
Голая нога, обутая в полотняные туфли, скользнула меж рук, придерживавших ее, и переступила, точно в полете, через голову коленопреклоненного Фила. Ему в нос ударил запах лаванды, свежевыглаженного белья и морских водорослей, запах Венка, которая уже стояла в трех шагах от него. Она смотрела на Фила сверху вниз, и на него лился потемневший, беспокойный свет ее глаз, чья голубизна не менялась от переливчатых красок моря.
— Какая муха тебя укусила? Что это еще за капризы? Ты что, не доверяешь мне свою сандалию? Нет, Венка, ты становишься невозможной!
Рыцарская поза Фила плохо вязалась с оскорбленным выражением его лица античного бога — позлащенного солнцем, увенчанного черной шевелюрой, — чью грацию почти не портила тень будущих усов, которые сегодня еще были мягким пушком, а завтра станут жесткой щетиной.
Венка все не подходила к нему. Она казалась удивленной и с трудом дышала, словно бежала от Фила.
— Да что с тобой? Я сделал тебе больно? У тебя заноза?
Она отрицательно мотнула головой, но смягчилась, села между цветами шалфея и розового спорника и натянула край платья на самые щиколотки. Она все делала быстро, с угловатой приятностью, с чувством равновесия, таким же нечастым, как хореографические способности. Ее дружба с Филиппом, нежная, редкая, приспособила ее для мальчишеских игр, для спортивного соперничества, не отступающего перед любовью и, однако, родившегося вместе с ней. Несмотря на силу чувства, с каждым днем все возраставшую, в них постепенно убывала доверчивая нежность, мягкость — любовь изменила субстанцию их нежности, как меняется цвет роз от воды, которую они пьют, — они иногда забывали о своей любви.
Филипп не выдержал взгляда Венка, хотя в потемневшей лазури ее глаз не читалось никакого упрека. Она казалась только удивленной и дышала быстро-быстро, как козочка, которую застиг в лесу гуляющий человек и которая стоит трепеща, вместо того чтобы броситься бежать. Она прислушивалась к голосу интуиции и не слышала голоса стоявшего на коленях молодого человека, чьей руки она избегала, она знала, что повинуется недоверчивости, чему-то, что ее отталкивало от него, но не стыдливости. Рядом с такой любовью о стыдливости и речи быть не могло.
Однако Венка с ее неусыпной чистотой смутно ощущала присутствие другой женщины рядом с Филиппом. Она даже понюхала воздух вокруг него, как если бы ее друг тайно курил или ел землянику. Их болтовню она прерывала молчанием, таким же внезапным, как толчок, взглядом, тяжелым и властным, как удар. Она высвободила руку из руки друга, более мелкой, но менее тонкой, чем ее, хотя во время утренней прогулки они шли по дороге рука в руке.
Третий, четвертый визиты к мадам Даллерей Фил без труда скрыл от Венка. Но что значат расстояния и стены против невидимого тока, который вырывается из любящей души, нащупывает, распознает трещину и отступает перед ней?.. Вонзавшая свои когти в их большую тайну, неприметная тайна Филиппа отравляла ему жизнь, хотя на самом деле была невинной. Теперь он был нежен с Венка, хотя должен был бы проявить свой деспотизм влюбленного и обращаться с ней, как с рабыней. Из его глаз струилась ласковость неверных мужей, и это казалось подозрительным.
Обругав про себя странный нрав Венка, Филипп на этот раз напустил на себя суровость и не побежал по дороге к вилле, а пошел. Удастся ли ему через час сесть за стол в Кер-Анне, как просила его мадам Даллерей? Просила… эта умела только приказывать и вести себя со скрытой жестокостью с теми, кого возводила в ранг нищих и голодных. Несмирившийся нищий, мятежный, думающий без всякой признательности о той — вдали от нее, — что наливала свежий напиток, что очищала фрукты и чьи белые руки заботливо ухаживали за маленьким стройным новобранцем. Однако правильно ли называть новобранцем юношу, которого любовь с самого детства посвятила в мужчины и оставила чистым? Там, где мадам Даллерей нашла бы легкую жертву, с восторгом покорившуюся ей, она встретила противника, ослепленного и осторожного. С искривившимся ртом, с протянутыми руками нищий не казался побежденным. «Он будет защищаться, — думала она. — Он бережет себя…» Она еще не решалась сказать себе: «Это она его бережет».
Венка осталась на песчаном лужке, а Филипп вернулся домой и крикнул оттуда:
— Я еду за корреспонденцией! У тебя никаких поручений?
Она отрицательно замотала головой, и ее подстриженные в кружок волосы образовали вокруг головы сияющий нимб; Филипп бросился к велосипеду.
Мадам Даллерей читала и как будто даже не ждала его. Но узнанный им полумрак, почти невидимый стол, откуда поднимались запахи рыбы свежего улова, красной кипрской дыни, разрезанной на куски в виде полумесяца, и черного кофе с кубиками льда, сказали обратное.
Мадам Даллерей оставила книгу и, не поднимаясь, протянула ему руку. В темноте он видел белое платье, белую руку, она непривычно медленно подняла на него свои черные глаза, замкнутые в темно-бурое окружье.
— Вы не спали? — осведомился Филипп, силясь быть светски вежливым.
— Нет… конечно, нет. Как на дворе, тепло? Вы не голодны?
— Не знаю…
Фил вздохнул — он действительно не знал, что делать: с одной стороны, войдя в Кер-Анну, он почувствовал что-то вроде жажды, а запахи съестного как будто даже возбудили в нем аппетит, но, с другой стороны, он находился во власти безымянной тревоги, от которой у него сжималось горло. Однако хозяйка предложила ему на маленьком серебряном подносе дыню, посыпанную сахаром и слегка пропитанную спиртным с запахом аниса.
— Как поживают ваши родители, месье Фил?
Удивленный вопросом, он взглянул на нее. Она казалась рассеянной и как будто не слышала собственного голоса. Краем рукава он задел ложку, и та, издав слабый звук колокольчика, упала на ковер.
— Какой неловкий!.. Погодите…
Одной рукой она перехватила его запястье, а другой засучила до локтя рукав его рубашки и в своей теплой руке задержала с настойчивостью оголенную руку Фила.
— Пустите меня! — пронзительно крикнул Фил.
Он с силой попытался выдернуть руку. У его ног разбилось блюдце. В ушах у Фила стояло какое-то жужжанье, и сквозь него он слышал эхом отдававшийся крик Венка: «Пусти!..», он обратил к мадам Даллерей вопрошающий гневный взгляд. Она не шелохнулась, ее рука, которую он отбросил, лежала у нее на коленях, словно открытая раковина. В течение нескольких долгих минут Фил оценивал значение этой неподвижности. Он опустил голову, перед его мысленным взором пронеслись два-три не связанных между собой, неотвратимых образа, точно в каком-то полете — так летают во сне, словно упав с высоты, — точно в падении — так ныряют в воду, и складки волн набегают на ваше опрокинутое лицо, — затем без волнения, с рассчитанной медлительностью, с продуманной отвагой он вложил свою оголенную руку в открытую ладонь женщины.
XI
Когда Филипп вышел из дому женщины в белом, было примерно половина второго ночи.
Ему пришлось подождать, пока погаснут все огни и затихнут все шумы на родительской вилле. Застекленная дверь была заперта на задвижку — препятствие, которое он преодолел, навалившись на него всей своей тяжестью, — а там дорога, свобода… Свобода? Он шел к даче Кер-Анна, весь будто чем-то спутанный, иногда останавливался, чтоб передохнуть, положив левую руку на сердце, то опуская, то поднимая голову, как собака, которая воет на луну. Наверху, на скале, он обернулся, чтобы еще раз увидеть стоявший на взгорке дом, где спали его родители, а также родители Венка — и сама Венка… Третье окно, маленький деревянный балкон… За этими затворенными ставнями она, должно быть, спала. Она, должно быть, спала, повернувшись немного на бок и положив на руку голову с распущенными в виде веера подстриженными в кружок волосами, упавшими с затылка к щеке, — так закрывает лицо рукой ребенок, который вот-вот расплачется.
Страх разбудить ее вскоре заставил Филиппа повернуть к дороге, молочной белизны от лившегося на нее света ущербного месяца, направляющего шаги юноши. Он чувствовал истомившую его неусыпную тревогу, любовь, пронизавшие до самой глубины это его полузабытье.
Их тяжесть гораздо больше, чем холод, леденящий душу шестнадцатилетнего юноши, когда он пускается в свою первую авантюру, не превращала ли ее эта тяжесть в обузу, в горячечный бред, в бессильное любопытство?.. Однако он недолго колебался и отправился в дорогу, задыхаясь и поднимая к луне голову. Фил шел по скалистому склону, который на обратном пути намеревался пройти медленнее.
Пробили часы в деревне. Филипп прислушался. «Два часа», — сказал он. В воздухе, в соленом и теплом тумане, звенел хрусталь четырех четвертей, мягко плыли два важных часа. И Фил добавил, согласуясь с заведенным в природе порядком: «Ветер изменил направление, звон доносится со стороны церкви, это к перемене погоды…», и звук такой обычной фразы достиг до него как бы издалека, из той жизни, что была уже завершена… Он сел на поросший травой край куртины неподалеку от виллы, выплакался, но устыдился вдруг своих слез, однако плакал, как он осознал, с удовольствием.
Кто-то рядом с ним глубоко вздохнул — на покрытой песком аллее посапывала неразличимая во тьме собака сторожа. Фил наклонился, погладил жесткую шерсть животного, потрепал его за сухой нос, собака не залаяла.
— Фанфар… старина Фанфар…
Но собака, которой было уже много лет и у которой был бретонский характер, поднялась, отошла в сторону и, словно старый мешок, плюхнулась на траву.
Низкая вода, заснувшая в тумане у края луга, время от времени посылала на берег слабую истомленную волну, которая негромко хлопала, точно мокрое белье. Птицы все спали, только одна сова бодрствовала, иногда, словно кошка, насмешливо вскрикивая то на верхушке осины, белевшей в тумане, то на живой изгороди из бересклета.
Мысль Филиппа медленно воссоздавала незнакомую для него, но обычную для каждой ночи картину. Этот ночной покой, обезоруживающий человека, предлагал ему убежище, служил как бы обязательным переходом от прежней жизни, от его всегда тихой летней жизни, к тому месту, той обстановке, где он попадал в царство буйных красок, запахов, света, чей скрытый источник то выбрасывал острое жало, то раскидывал небольшое, но яркого цвета покрывало. Казалось, что цветы и предметы меблировки потеряли равновесие и демонстрировали — одни тыльную мягкую сторону своих листьев, колыхавшихся на несгибаемых, стоящих в чистой воде стеблях, а другие свои худые козлиные ножки. Место, обстановка — предатели, где женская рука и женский рот взрывали, когда им этого хотелось, спокойствие вселенной, развязывали катаклизм, который благословила, подобная радуге, что выступает на небе после грозы, изогнутая оголенная рука…
Но эту муку, только что пережитую им, ему удалось оставить позади. Его сопровождала лишь усталость пловца, смутная удовлетворенность потерпевшего кораблекрушение, который коснулся ногами земли. Находясь в более благоприятном положении, чем молодые люди, часто раздираемые на части своими же мыслями, у кого длительная тревога, взращенная бессонными мечтами, сменилась радостью, которая будет все время ставить предел их мечтам, он, отяжелевший от естественной оцепенелости, сохранял здравый рассудок, подобно тому, кто пьет досыта и чувствует, как колеблется в нем, когда он шевелится, остывшее вино, откуда улетучился легкий, обжигающий дух.
День был еще далеко, но уже та половина ночи, что была светлее другой, поделила небо надвое. Какое-то маленькое животное, то ли еж, то ли крыса, на бегу скребло землю. Первое дуновение раннего ветерка взметнуло и прокатило по аллее несколько лепестков, но потом бросило их и ослабело, и все застыло в неподвижности. Далекие часы мечтательно отбили три удара, первый близкий, тягучий, два других — приглушенные порывом ветра. Над Филиппом пролетела пара куликов, но так низко, что он услышал хлопанье, как у паруса, их расправленных крыльев, а их крик на море влился в незащищенную, все приемлющую память юноши, проникнув в глубину целомудренных шестнадцати лет, связанных с белым берегом, с девочкой, которая росла рядом с ним, неся, словно то был колос ржи, свою непокорную светловолосую голову.
Он поднялся, ему пришлось сделать чисто физическое усилие, чтобы вновь обрести самого себя, чтобы вынудить того, кто только что отдыхал возле этой преграды, возле белой спящей собаки, быть таким, каким он был накануне, когда в страхе шел в Кер-Анну, и эта преграда, эта белая спящая собака, чью шерсть он рассеянно теребил, служила ему подспорьем. Но он не смог.
Он провел по лицу своими теплыми руками, которые показались ему мягче, чем всегда, — они были пропитаны запахом, улетучивающимся тотчас же, так что он не успевал удержать его в ноздрях, но запах этот веял вокруг, как запахи некоторых сильно пахнущих растений с хрупкими листьями. В это время в щели между ставнями комнаты Венка вспыхнул огонек от лампы, однако быстро потух.
«Она не спит. Она только что смотрела на часы. Почему она не спит?»
Он через стены видел, как Венка, протянув руку к лампе, зажгла свет, посмотрела на маленькие часики, висевшие на медной кровати, и, потушив лампу, откинулась на постели, положив на подушку голову с пышной шевелюрой, пахнувшей ухоженным ребенком и лавандой. Он видел, как из-за ночной духоты она не прикрыла одеялом загоревшие плечи с белой полоской в том месте, где бретелька купальника закрывала их от солнца, он увидел очертания ее длинного сильного тела — такого привычного, но каждый год по-новому красивого жданной красотой, и оцепенение охватило его.
Что было общего между этим телом, между тем, во что его могла превратить любовь с ее неизбежным концом, и предопределением другого женского тела, предназначенного для изысканного наслаждения, наделенного гением хищника, неумолимостью страсти, очарованием и лицемерием учителя?
— Никогда! — громко сказал он.
Еще вчера он прикидывал со спокойным сердцем, когда ему сможет принадлежать Венка. Сегодня же, бледный от опыта, который вызывал дрожь во всем теле, Филипп, испытывая истому от своего падения, отшатывался от самого себя, видя перед собой образ безумия…
— Никогда!
Наступал быстрый рассвет. Но не было ни малейшего ветерка, который разогнал бы соленый туман, разрываемый полотнищами красной зари. Филипп переступил порог дома, бесшумно поднялся в свою комнату, еще заполненную душным мраком, и с поспешностью открыл ставни, чтобы встретить в зеркале свое новое лицо — лицо мужчины…
Он увидел лицо, похудевшее от утомления, темные глаза, ставшие большими из-за окружавших их теней, губы со следами краски на них от губной помады, в беспорядке спадавшие на лоб черные волосы — жалкий вид, более подходящий уставшей молоденькой девушке, чем взрослому мужчине.
XII
Когда Филипп заснул, уже кричали щеглы, возвещая о том, что наступило утро и Венка раздает им корм, который она бросала большими пригоршнями. Крики птиц были негромкими, но они тревожили неглубокий сон Филиппа, эти крики вонзались в его полузабытье, как металлическая круглая стружка, вырванная из обруча, мучительно сжимавшего его череп. Когда он проснулся окончательно, на дворе стоял прекрасный день — слышалось квохтанье кур-несушек, жужжание пчел, стук молотилки; зеленело море, взлохмаченное свежим норд-вестом; Венка, стоя у окна, одетая во все белое, смеялась:
— Что это с ним? Да что это с ним? Эй, Фил? У тебя сонная болезнь?
И Тени родственников, ставшие почти невидимыми, как старое пятно на стене, как плющ, как лишайник, Тени, не удостаиваемые вниманием обоих молодых людей, повторяли следом за ней:
— Что это с ним? Да что это с ним? Не наелся ли он маку?
А он смотрел на них сверху, из своего окна. Он стоял с приоткрытым ртом, на его чертах запечатлелся ужас неведения и такая бледность разлилась по лицу, что Венка перестала смеяться, перестали смеяться и другие, и она спросила:
— Ты что? Ты болен?
Он отпрянул от окна, словно Венка кинула в него камень.
— Болен? Сейчас ты увидишь, болен ли я. Прежде всего, который час?
Снизу снова раздались смешки:
— Без четверти одиннадцать, лежебока! Иди купаться!
Он утвердительно кивнул головой, закрыл окно, и задернутые занавески на окнах вновь отбросили его в ночную бездну, где завертелся водоворот воспоминаний, черный, липкий, с яркими вспышками, тянувшими свои языки к дневному свету и принимавшими оттенки то золота, то человеческой кожи, то влажного глаза, то кольца или ногтя…
Фил сбросил пижаму, стремительно надел на себя купальник и, вместо того чтобы в таком виде спуститься вниз, как он это делал всегда, тщательно завязал тесемки халата.
Венка ждала его на прибрежном лужку и преспокойно гладила на солнце свои длинные ноги и тонкие руки того рыжевато-коричневого цвета, какой бывает у корочки деревенского хлеба. Несравненная голубизна ее глаз под выцветшим голубым платком вызвала у Филиппа желание окунуться в прохладную воду, омыться в соленой волне на морском ветру. И в то же время он не мог оторвать глаз от сильного тела, с каждым днем становившегося все женственней, от изящно выточенных твердых колен, от бедер с продолговатыми мускулами, от гордых грудей.
«Какая она вся ладная!» — с неким подобием страха подумал Филипп.
Они поплыли вместе, и в то время, как Венка радостно била по спокойной волне руками и ногами и, напевая, отфыркивалась, Филипп, бледный, со стиснутыми зубами, боролся со своей дрожью. Когда же Венка сжала лодыжку Фила своими голыми ногами, он перестал плыть, нырнул и только через несколько секунд показался на поверхности. Он не отплатил тем же Венка, он отказался от заведенного обычая, от веселых криков, схваток на воде, тюленьих ныряний — от всего, что превращало для них время купания в лучшее время суток.
Теплый песок был к их услугам, и они добросовестно натерлись им. Венка, вооруженная камнем, нацелилась на маленький рогатый риф, попала в него, и Филипп недоверчиво восхитился, забыв, что это он же и научил свою подружку мальчишеским играм. Он испытывал чувство нежности, он поднялся над самим собой, над своим полуобморочным состоянием, и ничто в нем не выдавало мужской гордости за то, что он ночью покинул дом своего детства, чтобы пуститься в свое первое любовное приключение.
— Полдень! Фил! Ты слышишь, церковные часы пробили двенадцать?
Венка, стоя, потрясла мокрыми концами своих ровно подстриженных волос. Она направилась к вилле, и под ее ногами, словно орех, хрустнул маленький краб, Филиппа всего передернуло.
— Что такое? — спросила Венка.
— Ты раздавила краба.
Она обернулась, подставив солнцу свои персиковые щеки, свои глаза густого голубого цвета, свои белые зубы и красное нёбо.
— Ну и что? Это первый, что ли? А когда ты разрезанным крабом приманиваешь креветок?
Она побежала впереди Филиппа и одним прыжком перескочила яму между дюнами. В течение секунды, оторвавшись от земли, она висела в воздухе, со скрещенными ступнями, слегка наклонившаяся, округлив руки, словно ловила воздух.
«Мне казалось, она мягче», — подумал Фил.
Обед помешал ему предаться ночным воспоминаниям, заглушенным новым днем в разгаре и едва шевелящимся в глубине своего темного обиталища. Он выслушал комплименты насчет своей романтической бледности и критику по поводу молчаливости и плохого аппетита. Венка истребляла все подчистую и сияла ранящей веселостью. Фил недружелюбно наблюдал за ней, отметив про себя силу ее рук, раздирающих омара, гордое движение шеей, отбрасывающее назад волосы.
«Я должен бы радоваться, — думал он. — Она ни о чем не подозревает». Но в то же время он страдал от этой неисчерпаемой безмятежности и требовал в глубине души, чтобы Венка задрожала, как колосья на ветру, опечаленная этим предательством, которое она должна была бы почувствовать, чей дух кружил, как летняя гроза, над бретонским заливом.
«Она сказала, что любит меня. Она меня любит. И, однако, прежде она не была такой спокойной.
После обеда Венка с Лизеттой танцевали под звуки фонографа. Она потребовала, чтобы Филипп танцевал тоже. Она сверилась с календарем относительно приливов — в четыре часа будет отлив, — она приготовила сачки, оглушила Филиппа и всю виллу криками, как озорной мальчишка, приказала приготовить для нее просмоленную веревку, старый карманный нож и распространила вокруг себя запах своего предназначенного специально для рыбной ловли дырявого свитера, пахнувшего йодом и водорослями. На Филиппа, утомленного ночным похождением, напала сонливость — спутница катастроф и очень большого счастья, и он следил за Венка ненавидящим взглядом и нервно сжимал руки в кулаки.
«Достаточно сказать ей три слова, и она замолчит!..» Но он знал, что не скажет этих трех слов, и изнемогал от желания заснуть где-нибудь на теплом песке, положив голову на колени Венка…
Они шли вдоль берега, и им попадались креветки, триглы, которые развертывали, чтобы отпугнуть обидчиков, веер своих плавников и раздували радужное горло. Но Фил смотрел без интереса на ту живность, что копошилась между скал и которую выкидывала волна. Ему резало глаза солнце, отражавшееся в лужах и скользившее, как юнга, по мокрой шевелюре морской травы. Они полонили омара, и Венка безжалостно разрушила «гнездо», где мог прятаться угорь.
— Не видишь, что ли, он там! — кричала она, показывая Филу конец железного крюка, обагренный розовой кровью.
Фил побледнел и закрыл глаза.
— Оставь в покое животное, — задыхаясь, сказал он.
— Ну вот еще! Даю гарантию, что я его поймаю… Да что с тобой?
— Ничего.
Он, как только мог, скрывал боль, природу которой не понимал. Что он завоевал ночью в благоухающем сумраке, в руках той, кто жаждала сделать из него мужчину, победителя? Право страдать? Право потерять присутствие духа перед этим невинным и суровым ребенком? Право необъяснимым образом дрожать при виде беззащитных животных и сочившейся из них крови?..
Он, задыхаясь, глотнул воздух, поднес руки к лицу и разрыдался. Он так сильно плакал, что вынужден был сесть, а Венка стояла рядом, вооруженная испачканной кровью железной палкой, и была похожа на палача. Она склонилась к нему, ни о чем не спрашивая, словно музыкант, вслушиваясь в звук, модуляцию, хоть и новую, но постижимую, его рыданий. Она протянула руку ко лбу Филиппа, но, прежде чем коснуться лба, убрала ее. Удивление сошло с ее лица, уступив место строгости, гримасе огорчения и печали, у которых не было возраста, и презрению сильной к подозрительной слабости мальчика, который плакал. Потом она взяла сачок, плетенную из листьев пальмы корзину, где прыгали рыбы, засунула железную палку, словно шпагу, за пояс и твердым шагом, не оглядываясь, пошла прочь.
XIII
Он увидел ее вновь лишь незадолго до ужина. Она сменила одежду, предназначенную для рыбной ловли, на голубое платье под цвет глаз, отделанное розовыми фестонами. Он обратил внимание на белые чулки и замшевые туфли, в которые она была обута, и эти воскресные приготовления привели его в замешательство.
— У нас кто-нибудь будет к ужину? — спросил он у одной из семейных Теней.
— Сосчитай приборы, — ответила Тень, пожав плечами.
Август кончался, и ужинали уже при свете ламп, через открытые двери был виден зеленоватый закат, в котором еще плавали медно-розовые отсветы. Пустынное море, голубовато-черное, как ласточкино крыло, спало, и, когда те, кто сидел за ужином, умолкали, слышен был утомленный, все время повторяющийся плеск набегавшей на берег дремотной воды. Филипп поискал среди Теней глаза Венка, чтобы испытать силу той невидимой нити, что связывала их столько лет и спасла их, влюбленных и чистых, от грусти, сопровождающей конец трапез, конец сезона, конец дня. Но она смотрела в тарелку; в свете лампы блестели ее выпуклые веки, ее круглые загорелые щеки, ее маленький подбородок. Он почувствовал себя покинутым и стал искать глазами — по ту сторону полуострова, в форме вытянувшегося льва, с тремя дрожащими звездами над ним, — дорогу, белую в ночи, ведущую в Кер-Анну. Еще несколько часов, еще немного голубого пепла на небе, разрисованном заходящим солнцем, еще несколько ритуальных фраз. «Эге, да уже десять часов. Дети, вы словно и не подозреваете, что здесь ложатся в десять?» — «Да я как будто ничего особенного не сделал, мадам Одбер, ну ладно, я что-то устал…» Недолгое позвякивание посуды, жесткий стук костяшек домино по освободившемуся от еды столу, еще один протестующий вопль Лизетты, которая уже валилась со стула, но идти спать отказывалась… Еще одна попытка обратить на себя взгляд Венка, вызвать ее легкую улыбку, вернуть доверие втайне оскорбленной девушки; скоро пробьет тот час, который вчера был свидетелем стремительного бегства Филиппа… Он подумал об этом, не испытывая определенного желания, не обдумывая плана спастись, в пику Венка, в другом убежище, на другом нежном плече, вдохнуть согревающее тепло, так необходимое этому юноше, излечившемуся от страсти, но убитому гневной враждебностью другого юного существа…
Один за другим был выполнен весь ритуал: служанка унесла хныкающую Лизетту, а мадам Ферре поставила на сверкающий чистотой стол дубль-шесть.
— Ты выйдешь, Венка? От этих бабочек, которые тычутся во все лампы, можно с ума сойти.
Она молча последовала за ним, и возле моря они еще застали полоску света, которая, несмотря на сумерки, долго держалась.
— Может, принести тебе шарф?
— Нет, спасибо.
Они шли, окутанные легким голубым маревом, поднимавшимся с прибрежного луга и пахнувшим тимьяном. Филипп поостерегся взять за руку свою подружку и содрогнулся от этой боязни.
«Боже ты мой, что же произошло между нами? Неужели мы потеряны друг для друга? Ведь она не знает, что было там, мне надо только забыть это, и мы опять станем счастливыми, как прежде, несчастными, как прежде, соединенными, как прежде».
Но его желание не подкрепилось гипнотической верой, так как Венка ступала рядом с ним холодная и тихая, словно ее большая любовь ушла от нее и словно она не замечала тревоги своего спутника. А Фил уже чувствовал приближение часа и страдал от горячечной дрожи, которая била его на следующий день после того, как он, покрытый царапинами, ощутил в своей раненой руке жжение от нахлынувшей на него волны.
Он остановился, вытер лоб.
— Я задыхаюсь. Мне что-то неважно, Венка.
— Действительно неважно, — как эхо откликнулась она.
Ему показалось, что настало перемирие, и он взволнованно сказал, прижав руку к груди:
— Какая ты славная! Милая!..
— Нет, — прервала его голос Венка, — я вовсе не милая.
По-детски произнесенная фраза оставила надежду Филиппу, он схватил свою подругу за обнаженную кисть руки.
— Я знаю, ты сердишься, что я сегодня плакал, как женщина…
— Нет, не как женщина…
В темноте было не видно, как он покраснел, он попытался объяснить ей:
— Понимаешь, этот угорь, которого ты мучила в его укрытии… Кровь этого животного на крюке… У меня вдруг защемило сердце…
— А! Действительно сердце… защемило…
По звуку ее голоса Филипп понял, что она догадывается, — он испугался, у него перехватило дыхание. «Она все знает». Он ждал разоблачающего рассказа, рыдания, упреков. Но Венка молчала, и спустя довольно долгое время, словно после затишья, которое следует за грозой, он рискнул робко спросить:
— И этой слабости достаточно для того, чтобы ты перестала меня любить?
Венка повернула к нему лицо, туманным пятном светившееся в темноте, обрамленное прямыми прядями ее волос.
— Ах, Фил! Я тебя всегда люблю. К несчастью, тут ничего не меняется.
Сердце у него подпрыгнуло, казалось, оно стучит в горле.
— Да? Значит, ты прощаешь мне, что я был таким ребенком, таким смешным?
Она с секунду колебалась.
— Конечно. Я прощу тебя, Фил. Но это тоже ничего не меняет.
— В чем?
— В нас, Фил.
Она говорила мягко-загадочно, и он не осмелился расспрашивать ее дальше и не осмелился поверить в эту мягкость. Венка, без сомнения, последовала за ним по извилистому пути его раздумий, ибо она сказала внезапно:
— Ты помнишь сцены, которые ты мне закатывал и я тебе тоже — с тех пор прошло всего три недели, — из-за того, что у нас не хватит терпения ждать четыре-пять лет, чтобы мы могли пожениться?.. Бедный мой Фил, мне кажется, сегодня я была бы рада вернуться назад и опять стать ребенком.
Он ждал, чтобы она объяснила, остановилась на этом скользком, этом ненавистном «сегодня», маячившем перед ним в чистой, голубой августовской ночи. Но Венка уже научилась вооружаться молчанием. Однако он настаивал:
— Ну, так ты на меня не сердишься? Завтра мы будем… мы будем Венка и Фил, как всегда? Навсегда?
— Навсегда, если ты так хочешь… Слушай, Фил, давай вернемся. Свежо.
Она не повторила за ним «как всегда». Но он удовольствовался этой неполной клятвой и пожатием холодной маленькой руки, задержавшейся на минуту в его. В это время послышалось позвякивание раскручивавшейся цепи и пустого ведра на закраине колодца, скрежет в открытом окне передвигаемых вдоль металлического прута колец, на которых держались занавески, и эти привычные последние шумы уходящего дня знаменовали для Филиппа наступление того часа, которого он выждал накануне, чтобы открыть дверь виллы и незаметно скрыться… Да! Приглушенный красный свет в незнакомой комнате… Да! Черное счастье, постепенное умирание, жизнь, которую возвращают медленные взмахи крыла…
Он словно бы ожидал со вчерашнего дня чего-то вроде оправдания со стороны Венка, двойного оправдания, которое она даровала ему с такой ясностью в голосе, с такой сдержанностью в словах, и он внезапно оценил, как истинный мужчина, значение дара, который преподнесла ему наделенная властью прекрасная фея.
XIV
— День вашего отъезда в Париж уже назначен? — спросила мадам Даллерей.
— Мы должны вернуться двадцать пятого сентября, — ответил Филипп. — Иногда в зависимости от того, на какой день приходится воскресенье, мы выезжаем двадцать третьего или двадцать четвертого, иногда и двадцать шестого. В общем, плюс-минус два дня.
— А… Одним словом, вы уезжаете через две недели. Через две недели в этот самый час…
Филипп отвел глаза от моря, спокойного и белого возле песчаного берега, а вдали под низкими облаками цвета спинки тунца, и удивленно повернулся к мадам Даллерей. Она была закутана в белую, свободно ниспадающую ткань, наподобие женщин Таити, гладко причесана, напудрена телесного цвета пудрой и важно курила, ничто в ней не говорило о том, что этот молодой человек, сидящий неподалеку от нее, красивый и темноволосый, как и она сама, был ей вовсе не младшим братом, а представлял собой нечто совсем иное.
— Итак, через две недели в этот самый час вы будете… где?
— Я буду в лесу, на озере. Или на теннисе в Булони с… с моими друзьями.
У него с губ едва не сорвалось имя Венка, и он покраснел, а мадам Даллерей улыбнулась своей мужской улыбкой, что придавало ей сходство с красивым мальчиком. Филипп, желая скрыть от нее свое лицо, на котором появилось злое выражение, словно то был маленький рассерженный бог, отвернулся к морю. Твердая бархатистая рука легла на его руку. Он продолжал смотреть на тусклое море, однако его разомкнувшийся рот искривился в какой-то блаженной агонии, которая отразилась в черных глазах, вспыхнувших белым пламенем, тотчас потухшим между ресницами…
— Не надо грустить, — тихо сказала мадам Даллерей.
— Я не грущу, — живо произнес Филипп. — Вам трудно понять…
Она наклонила голову с блестящими волосами.
— Да, конечно, мне трудно понять. Некоторые вещи.
— О…
Филипп благоговейно и недоверчиво взглянул на женщину, освобождавшую его от необходимости делиться опасной тайной. Раздавался ли еще в маленьких покрасневших ушках тихий, приглушенный крик, походивший на крик человека, которому перерезают горло? Эти руки со множеством чуть выступающих мышц унесли его, легкого, задыхающегося, от этого мира в другой мир; этот рот, такой скупой на слова, наклонялся над ним, чтобы передать его рту одно всемогущее слово и чтобы едва различимо нашептывать напев, который, словно слабое эхо, вырывался из глубины, где жизнь — это страшная конвульсия… Она знала все…
— Некоторые вещи… — повторила она, как если бы молчание Филиппа означало, что он ищет ответа. — Но вы не любите, когда я задаю вам вопросы. Я иногда бываю нескромной…
«Как молния, да, именно, — подумал Филипп, — как зигзаг молнии во время грозы — ясный день вынужден отдавать ей то, что он прячет в тени…»
— Я хотела бы только знать, с радостью ли вы меня покидаете.
Молодой человек опустил глаза и посмотрел на свои обнаженные ступни. Небрежная одежда из шелковой вышитой ткани делала его похожим на восточного принца и очень его красила.
— А вы? — неловко спросил он.
Пепел от сигареты, которую держала между пальцами мадам Даллерей, упал на ковер.
— Обо мне не может быть речи. Речь идет о Филиппе Одбере, а не о Камил Даллерей.
Он поднял на нее глаза с удивлением, на этот раз вызванным ее необычным именем. «Камил… Ну да, ее зовут Камил. Она могла бы не называть мне его. Я про себя зову ее мадам Даллерей, дама в белом или просто Она…»
Она не спеша покуривала, созерцая море. Молодая? Ну конечно, лет тридцати — тридцати двух. Непроницаемая, как все спокойные люди, максимум внешних проявлений не превосходит умеренности иронии, улыбки, серьезности. Не отводя взгляда от морского простора, где назревала гроза, она опять положила свою руку на руку Филиппа и сжала ее, не считаясь с его желанием, только для собственного удовольствия. Пожатие этой маленькой сильной руки и заставило его заговорить, но он с трудом выдавливал из себя слова — так выступает сок из фрукта, если его сжать в руке.
— Да, мне будет грустно. Но, надеюсь, я не буду несчастлив.
— Да? А почему вы так думаете?
Он слабо улыбнулся и был трогателен, неловок — одним словом, был таким, каким он ей втайне нравился.
— Потому что, — ответил он, — я надеюсь, вы что-нибудь придумаете… Ну да, вы же придумаете что-нибудь?
Она пожала плечом, подняла свои персидские брови. Ей пришлось сделать усилие, чтобы придать своей улыбке обычную безмятежность и высокомерие.
— Что-нибудь… — повторила она. — То есть, если я вас правильно понимаю, мне надлежит пригласить вас к себе, как я делаю сейчас, пока мне это нравится, а вам останется только встретиться со мной в тот час, когда вы будете свободны от своих обязанностей, школьных и… семейных.
Ее тон удивил его, но он выдержал взгляд мадам Даллерей.
— Да, — ответил он. — А что я еще могу? Вы меня упрекаете за это? Я ведь не бродяжка, свободный от вся и всех. И мне только шестнадцать с половиной лет.
Она стала медленно заливаться краской.
— Я ни в чем вас не упрекаю. Но разве вам не приходит в голову, что какая-нибудь женщина… другая, не я, конечно, могла бы быть обижена, если б поняла, что вы хотите просто уединиться с ней на часок — только этого, только этого?
Фил, внимая ей с послушным видом школьника, вперил свои широко распахнутые глаза в этот скрытный рот, в эти ревнивые, однако ничего от него не требующие глаза.
— Нет, — не колеблясь, сказал он. — Я не понимаю, почему вы могли бы обидеться. «Только это»? О… только это…
Он замолчал: на него опять напала слабость, и он почувствовал ту же блаженную печаль, а спокойная смелость Камил Даллерей поколебалась: Камил почувствовала уважение к своему творению.
Словно оглушенный, Филипп уронил на грудь голову, и это движение, эта покорность на миг окрылили завоевательницу.
— Вы любите меня? — низким голосом спросила она.
Он вздрогнул, испуганно посмотрел на нее.
— Почему… почему вы об этом спрашиваете?
К ней снова вернулось хладнокровие, и она улыбнулась своей ставящей все под сомнение улыбкой.
— Шутки ради, Филипп…
Но глаза его продолжали вопрошать ее, упрекая за скупость в словах.
«Взрослый мужчина, — размышляла она, — сказал бы мне «да». Но этот ребенок, если я буду настаивать, расплачется и будет кричать, целуя и плача, что не любит меня. Так что ж, настаивать? Я должна выгнать его или с замиранием сердца выслушать и узнать из его собственных уст, до каких пределов простирается моя власть».
Она почувствовала, как у нее тяжело сжалось сердце, небрежно поднялась и направилась к открытому окну, словно забыв о присутствии Фила. Запах маленьких голубых ракушек у подножия скал, не прикрытых отхлынувшей с четырех часов морской водой, но вымытых ею, входил вместе с густым запахом словно кипящей бузины, который распространяла отцветающая бирючина.
Облокотившись о подоконник, с виду безразличная, мадам Даллерей всем своим существом чувствовала позади себя присутствие распростертого на полу юноши и изнемогала под бременем не покидавшего ее желания.
«Он ждет меня. Он прикидывает, какое удовольствие может получить от меня. То, чего я добилась от него, могла бы иметь любая другая. Этот маленький боязливый буржуа начинает дичиться, когда я расспрашиваю его о семье, манерничает, говоря о коллеже, и замыкается в своей крепости молчания и стыдливости, когда речь заходит о Венка… Он выучился у меня самому легкому… Самому легкому… Он приносит сюда, складывает к моим ногам и забирает так же, как свою одежду, эту… этот…»
Она отметила, что колеблется, не решается произнести слово «любовь», и отошла от окна. Филипп жадно следил за ней. Она положила ему руки на плечи и грубоватым жестом захватила его темную голову обнаженной рукой. И поспешила под его тяжестью к узкому темному царству, где ее гордость могла поверить, что его стон — признание в тоске, и где попрошайки вроде нее вкушают иллюзорную щедрость.
XV
Легкий дождь, шедший несколько часов ночью, сбрызнул шалфей, отлакировал бирючину и неподвижные листья магнолии и усеял жемчугом, не разорвав, легкую дымку, надежно окутавшую на сосне гнездо вылезавших одна за другой гусениц. Ветер не терзал больше моря, но стенал в подворотне слабым голосом искусителя, напоминая о том, что лето прошло и тайно заявляло об этом жареными каштанами и спелыми яблоками…
По его наущению Филипп опять надел на себя темно-голубой свитер, а поверх холщовую куртку, позавтракал последним, что часто случалось с ним с тех пор, как его сон стал менее чистым и менее спокойным и одолевал его только поздно ночью. Он побежал искать Венка, миновал тень от стены, освещенную террасу. Но девушки не было ни в холле, где от сырости вновь пахло деревянной лакированной обшивкой и полотняными чехлами, ни на террасе. Неощутимая дымка от дождя, словно благовонные курения, висела в воздухе и проникала к коже, оставляя ее сухой. Желтый осиновый лист, оторвавшийся от дерева, качался, словно с обдуманной грацией, перед глазами Филиппа, затем перевернулся и упал на землю, негнущийся, непонятно тяжелый. Фил напряг слух, услышал в кухне зимний шум: это бросали уголь в печь. В комнате пронзительно кричала малютка Лизетта, потом заплакала.
— Лизетта! — позвал Филипп. — Где твоя сестра?
— Не знаю! — прохныкал гнусавый от слез голосок.
Налетевший вдруг порыв ветра сорвал черепицу с крыши и бросил осколки ее к ногам Филиппа, тот оторопело посмотрел на них, словно это судьба разбила перед ним зеркало, что предвещает семь лет несчастья… Он почувствовал себя маленьким мальчиком, очень далеким от счастья. Но у него не возникло ни малейшего желания позвать ту, что жила на вилле, затененной соснами, там, по другую сторону мыса, вытянувшегося, как лев, и любила видеть его малодушным, ищущим поддержки у женского существа неукротимой энергии… Он обошел дом, нигде не обнаружил ни золотистой головки, ни голубого, как чертополох, платья, ни белого, как молодой шампиньон, холщового платья своей подруги. Длинные загорелые ноги с точеными сухими коленками не спешили ему навстречу, нигде перед ним не расцвели ее синие, с сиреневым отливом глаза, ничто не утолило его жажды.
— Венка! Где ты, Венка?
— Да здесь я, — ответил рядом с ним спокойный голос.
— В сарае?
— В сарае.
Согнувшись в три погибели, в холодном свете убежища без окон, куда день проникает лишь через отворенную дверь, она перебирала какие-то тряпки, разложенные на старой простыне.
— Что ты делаешь?
— Не видишь, что ли? Я навожу порядок. Сортирую. Скоро ведь уезжать, и вот… Мама мне велела…
Она взглянула на Филиппа, на время оторвалась от работы и скрестила на согнутых коленях руки. Он нашел, что у нее жалкий, усталый вид, и возмутился.
— Это ведь не так уж срочно! И почему ты делаешь это сама?
— А кто же будет делать? Если за это примется мама, у нее опять разыграется ревмокардит.
— А горничная?
Венка пожала плечами и снова принялась за работу, она тихонько разговаривала сама с собой, как делают настоящие работницы, все время негромко гудящие, похожие на озабоченных пчел.
— Это купальники Лизетты… зеленый… голубой… полосатый… Их только выбросить. А это мое платье с розовой отделкой… Его можно еще раз простирнуть… Пара, две, три пары моих сандалий… А эти — Фила. Еще пара Фила… Две клетчатые рубашки Фила… Рукава обтрепались, но перед вполне хороший… — Она разгладила ветхую ткань, увидела две дырки и поморщилась. Филипп смотрел на нее без всякой признательности, и на лице его было написано страдание и враждебность. Он страдал оттого, что на дворе утро, что под крышей из черепицы серое освещение, он страдал просто от любого дела. Сравнение, которое раньше не возникало, когда он втайне предавался любви там, в Кер-Анне, началось здесь, но еще не связывалось с личностью Венка: Венка — культ их детства, Венка, почтительно оставленная им, чтобы он мог насладиться опьянением, таким ему необходимым и таким драматическим, первого любовного приключения.
Сравнение началось здесь, среди этих тряпок, разбросанных на старой простыне, среди этих стен из неоштукатуренного кирпича, перед этим ребенком в сиреневатой блузе, выцветшей на плечах. Она работала, стоя на коленях, ей пришлось на миг остановиться, чтобы отбросить назад ровно подстриженные волосы, которые от ежедневного купания и пропитанного солью воздуха стали влажными и мягкими на ощупь. Вот уже две недели она ходила не такая веселая, как прежде, но более спокойная, и упрямая ее ровность тревожила Филиппа. Неужели эта юная хозяюшка с прической Жанны д'Арк предпочла бы скорее умереть вместе с ним, чем дожидаться того времени, когда можно будет любить друг друга открыто? Нахмурив брови, юноша мысленно взвешивал эту перемену, но, глядя на Венка, он почти не думал о ней. Она была здесь, и опасность потерять ее больше не мучила его, ее не нужно было завоевывать вновь. Однако, поскольку она была здесь, начались сравнения. Новая способность чувствовать, неизвестно отчего страдать, мука, которую он недавно вынес из-за прекрасной пиратки, возгорались в нем при малейшем поводе, кроме того, эта прямодушная несправедливость, это все возрастающее сознание превосходства, суть которого в том, чтобы упрекать посредственность за то, что она посредственна, упрекать за то, что у нее такой взгляд на вещи… Он открыл не только мир чувств, который с легкостью называют физическим, но еще и необходимость приукрасить, чисто материально, алтарь, где неярким пламенем горит совершенство, но совершенство неполное. Его рука, ухо, глаза познали голодное томление, томление по бархатистости, по знакомой музыке голоса, запахам. Он не ставил себе этого в упрек, потому что чувствовал, что становится лучше от прикосновения к этому пьянящему избытку и что восточные шелковые одежды, накинутые в темноте, и тайна Кер-Анны облагораживают его душу.
Он неловко склонился перед великодушно нарисованным им неопределенным образом. Пренебрегая желанием признаться самому себе, что ему хочется видеть Венка несравненную, прихорошившуюся, надушенную, он ограничился тем, что выказал печаль, какую испытывал, видя ее коленопреклоненную, по-детски подурневшую. С его губ сорвалось несколько жестких слов, но Венка не обратила на них внимания. Это ожесточило его, тогда она ответила ему, но так, что он обругал ее, сам устыдившись своей несдержанности. Ему потребовалось несколько минут, чтобы овладеть собой, он извинился с неубедительной сокрушенностью и почувствовал облегчение. Однако Венка продолжала терпеливо соединять разрозненные пары сандалий, выворачивать карманы поношенных свитеров, полные розовых ракушек и засохших морских коньков…
— Ну что ж, как хочешь, — заключил Филипп. — Ты молчишь… А я все говорю и говорю. Ты ведешь себя скверно. Почему?
Она окинула его взглядом умудренной жизненным опытом женщины, созревшей на уступках и уловках большой любви.
— Ты меня мучаешь, — сказала она, — но, по крайней мере, ты здесь.
XVI
«Этот год мы закончим тут, — мрачно думал Филипп, глядя на море. — Венка и я, в прошлом сплавленные в одно существо и, значит, вдвойне счастливые, существо, которое было Фил-и-Венка, в этом году умрет, умрет здесь. Разве это не ужасно? Разве не в моих силах этому помещать? Я ведь тут… Но сегодня вечером, после десяти, я, возможно, в последний раз за эти каникулы пойду к мадам Даллерей…»
Он наклонил голову, и его черные волосы поникли, как ветви плакучего дерева.
«Если б пришлось к ней идти сейчас, я бы отказался. Но почему?»
Белая под мутным, зажатым меж двух грозовых туч солнцем дорога, ведущая в Кер-Анну, вилась вдоль холма, поднималась, потом терялась вдалеке, поросшая жестким можжевельником, серым от пыли. Филипп отвел от дороги взгляд, к горлу подступила знакомая тошнота. «Да… Но сегодня вечером…»
После трех завтраков в Кер-Анне он отказался от дневных визитов, боясь, как бы не стали беспокоиться его родные и не заподозрила чего-нибудь Венка. Впрочем, его крайняя молодость быстро изобретала алиби. Он остерегался также сильного смолистого запаха, характерного для Кер-Анны и того тела, которое он видел и обнаженным, и прикрытым одеждами; и ту, кому оно принадлежало, он тихонько, с гордостью маленького беспутного мальчишки или с печальными угрызениями совести супруга, обманувшего дорогую его сердцу жену, называл своей любовницей, а иногда своей повелительницей…
«Буду ли я уличен или нет, с этим надо кончать здесь. Но почему?»
Ни одна книга среди всех, которые он читал открыто, положив локти на песок, или укрывшись в своей комнате скорее из чувства целомудрия, чем от страха, не учила тому, что кто-то должен непременно погибнуть в таком обыкновенном кораблекрушении.
В романе сотни страниц или даже больше заполнены описанием приготовлений к любви физической, само же это событие занимает пятнадцать строк, и Филипп тщательно пытался отыскать в своей памяти книгу, где было бы описано, как молодой человек, один раз оступившись, не расстается с детством и целомудрием, но продолжает оставаться в них, увлекаемый глубокими, как бы подземными, течениями еще много-много лет…
Филипп поднялся и пошел вдоль берега, изъеденного, истаявшего из-за сильных морских приливов. Над пляжем склонился вновь зацветший куст терновника, питающийся и держащийся лишь за счет немногочисленных сплетений своих корней. «Когда я был маленький, — подумал Филипп, — этот куст терновника не склонялся над пляжем. Море съело берег — по крайней мере, метр его, — пока я рос… А Венка уверяет, что это куст терновника подрос…»
Недалеко от терновника зияла та самая круглая ложбина с ковром синего чертополоха, который все из-за голубизны называли «глазами Венка». Именно там в один прекрасный день Фил тайком нарвал голубого чертополоха — эту колючую дань любви — и перебросил его через стену Кер-Анны… Сегодня цветы на склонах были сухи, обожжены солнцем… Филипп остановился на минуту; он был еще слишком молод, чтобы улыбнуться таинственному значению, которое любовь придает увядшему цветку, раненой птице, сломанному кольцу, и он оттолкнул свое несчастье, расправил плечи, отбросил назад привычным, гордым движением волосы и мысленно сделал себе выговор, что не умалило важности любовного романа для только что причастившегося его таинства.
«Итак, довольно быть слабым! Я по справедливости могу сказать себе, что в этом году стал мужчиной. А мое будущее…»
Он устыдился своих мыслей и покраснел. Его будущее? Месяцем раньше он еще размышлял над этим. Месяцем раньше эти будущее рисовалось его мальчишескому воображению на широком, хоть и не вполне ясном ему, фоне все, до мельчайших подробностей; будущее с его экзаменами, с попыткой сдать на бакалавра, с работой, неблагодарной, но принимаемой почти без горечи, ведь «так надо, не правда ли?»; будущее и Венка, будущее, наполненное ею; будущее, проклятое или благословленное именем Венка.
«В начале каникул мне все не хватало времени, — думал Филипп. — А теперь…» Его улыбка, его взгляд были улыбкой и взглядом несчастного мужчины. Его верхняя губа с каждым днем все больше покрывалась черным пушком, и от этих тонких, мягких волосков, которые так же похожи на усы, как лесная трава на жесткое жнивье, его рот делался немного полнее, как у обиженно надувшегося малыша. И от этого рта отворачивался, а то неприметно возвращался к нему мстительный взгляд Камил Даллерей.
«Мое будущее, хм, мое будущее… Все очень просто… Если я не буду доктором права, то ведь есть магазин папы, холодильники для гостиниц, замков, фары, отдельные детали и всякие жестянки для автомобилей. Степень бакалавра, а потом, сразу же, клиенты, разного рода корреспонденции… Папа не так много зарабатывает, у него нет даже своего автомобиля. О, еще ведь есть военная служба… Так что же тут думать?.. Мы говорим, что после моих экзаменов на бакалавра…»
Его воображение иссякло, на него напали невыносимая тоска, глубокое безразличие ко всему, что скрывало его будущее, лишенное, впрочем, всякой таинственности. «Если ты будешь служить где-нибудь в окрестностях Парижа, то я в это время…» В памяти Филиппа любящий голосок Венка нашептывал тысячу проектов, чей отсчет начинался уже с этого лета, — теперь они были никому не нужны, бесцветные, вырезанные из бумаги, которой не хватало красок.
Самым радужным мечтам предавался он в конце дня, в час ужина и игры в шахматы с Венка или Лизеттой — скорее даже с Лизеттой, чьи восемь задорных лет, острый глаз, раняя смекалка давали передышку Филиппу от груза его чувств, — и наконец час, когда он шел предаваться утехам любви… «А кроме того, — думал Филипп, — я, может, и не пойду туда. Да. Ведь я в своем уме, я не считаю минуты, я не поворачиваюсь лицом к Кер-Анне, как подсолнух к солнцу, я могу потребовать от себя быть самим собой — продолжать жить, снова почувствовать вкус к той жизни, которой я жил прежде…»
Ему не приходило в голову, что, употребляя это жесткое слово, он разделял им свою жизнь на две половины. Он не знал еще, сколько времени придется всем событиям его жизни ударяться об эту веху, это препятствие, чудесное и банальное одновременно: «Ах да, это было прежде… Я помню: это было позже…» С чувством превосходства и зависти подумал он о товарищах по экстернату, дрожавших от нетерпения на презренном пороге, который они переступали, посвистывая, — лжецы, бескровные от потери вкуса к жизни, и к тому же бахвалы. Потом он перестал думать об этом, потом опять мысленно возвращался к ученью, в которое вклинивались игры, подпольные курения, дискуссии о политике и спорте. «В то время как я… Это Ее вина, Ее, если я уже ничего не хочу, даже Ее…»
«Пробка» тумана, наплывавшего с моря, закупорила часть берега. Над морем висела лишь негустая завеса, перемещающаяся все время, не способная скрыть весь скалистый остров. Порыв ветра подхватил ее, перетряс и в головокружительном вихре перенес ее на залив, беспросветную, плотную. В один миг Филипп, окутанный туманом, увидел, как исчезли море, пляж и дом, и закашлялся, словно в парной бане. Он привык к неожиданностям морского климата и стал ждать, пока другой порыв ветра не развеет этого пара; Фил попытался приноровиться к этим хлопьям, к этой символической слепоте, в чьей глубине вырисовывались спокойное лицо, выступающее из ореола волос, как ясная луна, и праздные руки, почти не делавшие никаких движений. «Она бездвижна… но она должна вернуть мне ощущение времени, его спешку, нетерпение, любопытство… Нет, это не то… Это не то… Я просто сердит на нее…»
Он попытался взбунтоваться, вызвать в себе чувство неблагодарности к ней. Ребенок шестнадцати с половиной лет не знает, что незыблемый порядок ставит на пути тех, чья любовь заслуживает, чтобы они стали любовниками, спешащими жить и жаждущими умереть, своих посланцев, отяжеленных грузом плоти, останавливающей время, усыпляющей и парализующей душу и подающей совет дать ей дозреть.
Внезапно туман рассеялся, превратившись в воздух, — так убирают простыню с земли, оставляющую на травинках лишь капли готовой улетучиться влаги, лишь жемчужную росу на ворсистых листьях и мокрый блеск на гладких.
Сентябрьское солнце пролило на море, голубое вдали и зеленоватое у берега от затопленного песка, желтый свет, чистый и помолодевший.
Филипп глубоко вздохнул, выйдя из полосы морского тумана, и почувствовал радость оттого, что после этого душного убежища он оказался на ярком свету, омываемый свежим воздухом. Он повернулся к горам и увидел в расщелинах скал струящееся золото утесника, но тут он вздрогнул, обнаружив позади себя, словно дух, принесенный и забытый туманом, маленького молчаливого мальчика.
— Тебе чего, малыш? Ты не сын канкалезки, у которой мы покупаем рыбу?
— Да, — сказал малыш.
— Что, на кухне никого нет? Ты ищешь кого-нибудь?
Мальчик тряхнул рыжими волосами.
— Мне сказала дама…
— Какая дама?
— Она сказала: «Ты скажешь месье Филу, что я уехала».
— Какая дама?
— Не знаю. Она сказала: «Ты скажешь месье Филу, что мне нужно ехать сегодня».
— Где она тебе это сказала? На дороге?
— Да… В своем автомобиле.
— А, в своем автомобиле…
Филипп закрыл глаза, провел рукой по лбу и напыщенно проговорил:
— Ох… ох… В своем автомобиле… Прекрасно. Ох… ох…
Открыв глаза, он огляделся, ища посланца, но того и след простыл, и Филиппу показалось, что все было коротким сном, которым ошарашивает и который грубо изгоняет послеполуденная сиеста. Однако на тропинке, вьющейся по склону холма, он увидел удалявшегося злосчастного мальчишку, сверкавшего золотом волос и голубоватой квадратной заплатой на штанах.
Филипп придал своему лицу глуповатое и самоуверенное выражение, словно мальчик из Канкаля мог его еще видеть.
«Ну и ладно… невелика важность, уехала так уехала. Днем раньше, днем позже… все равно она должна была уехать!»
Но где-то внутри у него шевельнулось странное ощущение боли, почти физической. Фил позволил этой боли расти и склонил голову, словно прислушиваясь к тайному совету.
«Может, на велосипеде… А если она не одна? Я забыл спросить мальчишку, одна она или нет…»
Далеко-далеко вынырнул на дороге автомобиль. От его важного и продолжительного гудка боль на некоторое время утихла, но затем вцепилась в него снова, сводя его всего судорогой, словно от удара ниже живота.
«По крайней мере, не нужно больше спрашивать разрешения прийти к ней вечером…»
Филипп вдруг представил себе запертую виллу Кер-Анна, на которую льет свой свет луна, серые ставни, черную решетку, плененную герань и вздрогнул. Он лег в углубление на сухую траву и стал кататься, как молодая охотничья собака, которая страдает от блох, и скрести методичным движением обеих ступней песок. Он закрыл глаза — бег увесистых облаков, их густая, вздувшаяся белизна вызывали у него приступ легкой тошноты. Он мерно скреб ногой по песку и в такт этому движению напевал какой-то мотив. Так женщина, которая никак не может произвести на свет младенца, начинает уговаривать его, а потом стонать, все громче и громче, пока стон не перейдет в душераздирающий крик.
Филипп удивленно открыл глаза, попытался собраться с мыслями.
«Однако… В чем дело? Я ведь знал, что она должна была уехать раньше нас. У меня есть ее парижский адрес, номер телефона… и потом, что произошло? Ну, уехала. Это моя любовница, это не любовь моя… Я могу жить без нее». Он сел и стал нанизывать на травинки четки улиток-ползуний, которыми любят лакомиться коровы. Он попробовал утишить боль смехом и грубостью.
«Она уехала, очень хорошо. Она не одна, эта женщина… Она не удостоила меня чести рассказать о своих делах, так… Хорошо. Одна или не одна, она уехала. Я потерял… что? Будущую ночь. Ночь перед моим отъездом. Ночь, но я даже не уверен, нужна ли она мне сейчас. Я думал лишь о Венка… Обойдемся без одной приятной ночи… вот».
Но что-то вроде дуновения пронеслось в его мозгу, изгнало оттуда фальшь, ложную уверенность, внутреннюю усмешку и оставило только чистую, холодную субстанцию, ясное осознание того, что представлял собой отъезд Камил Даллерей.
«А… она уехала… уехала и теперь вне пределов досягаемости, эта женщина, которая одарила меня… одарила… как называется то, чем она меня одарила? Имени нет. Одарила… С того самого времени, как я перестал быть ребенком и верить в Дедушку Мороза, она единственная одарила меня. Она одна могла это отнять и отняла…»
Его темное лицо залила краска, соленая вода омочила глаза. Он расстегнул на груди одежду, взлохматил всеми десятью пальцами шевелюру, отчего стал похож на бесноватого, который только что бился на кулаках, и крикнул, задыхаясь, осипшим детским голосом: «Именно этой ночи я дожидался, именно!»
И всем телом, лицом, взглядом потянулся к невидимой Кер-Анне; гряда облаков, двигавшаяся с юга, уже скрывала верхушку пустынного холма, и Филипп подумал, что некое коварное всемогущее существо стерло с лица земли все, что могло напоминать Камил Даллерей.
Кто-то кашлянул в нескольких шагах от него, внизу на песчаной тропинке, упирающейся в лестницу из плоских камней и бревен. Филипп увидел, как наверх медленно поднималась седеющая голова. Филипп мгновенно, как все дети, желающие утаить свои истинные чувства, привел себя в порядок, глубоко спрятал свою ярость обманутого мужчины и со спокойным видом стал молчаливо ждать, когда появится отец.
— Вот ты где, малыш.
— Да, папа.
— Ты один? А где Венка?
— Не знаю, папа.
Филиппу почти не стоило труда удержать на лице маску приветливого, бойкого мальчишки. Его отец, стоявший перед ним, был похож на отца каждодневного: приятная внешность, вид немного помятый, расплывшаяся фигура, в общем, такой, как все земные существа, которых не звали ни Филиппом, ни Венка, ни Камил Даллерей. Фил терпеливо ждал, пока отец отдышится.
— Ты не был на рыбной ловле, папа?
— Ну вот еще! Я просто гулял. А Лекерек поймал осьминога… Вот, видишь трость? Так у него такой длины щупальца… Замечательный осьминог. Лизетта будет в восторге. Все-таки будьте внимательней, когда купаетесь.
— Папа! Да ведь это же не опасно!
Филипп почувствовал, как фальшиво-звонко прозвучал его голос, словно у маленького мальчика. Серые навыкате глаза отца вопросительно смотрели на него; он не смог вынести ясного, ничем не замутненного взгляда, выражавшего покровительственность и разобщенность с детьми, которые, живя среди родственников, скрывали свои истинные помыслы.
— Тебе не хочется уезжать, малыш?
— Уезжать?.. Но, папа…
— Да. Если ты устроен, как я, тебе будет не хотеться всегда. Этот край, этот дом. И потом, Ферре. Ты поймешь, как редко бывает, чтобы друзья, проводящие вместе лето, не надоели друг другу… Наслаждайся тем, что еще осталось, малыш. Еще два дня хорошей погоды. Есть люди более несчастливые, чем ты…
Он еще говорил, но уже возвращался к Теням, откуда его на время извлекли взгляд, слова с подтекстом. Филипп подал ему руку, помог одолеть скользкий склон, выказывая ту холодную, жалостливую предупредительность, которая свойственна сыну по отношению к отцу, если отец человек зрелый, спокойный, а сын — суетящийся молодой человек, выдумавший любовь, муки плоти и гордость оттого, что один среди всего мира страдает, не прося помощи.
Приближаясь к плоской, узкой террасе, где располагалась вилла, Филипп выпустил руку отца, намереваясь спуститься к пляжу, к выбранному менее часа назад месту, в тот уголок, где людей не бывало.
— Ты куда, малыш?
— Туда, папа… вниз…
— Это так спешно? Подожди немного. Я хотел тебе кое-что сказать насчет виллы. Знаешь, мы решили с Ферре купить ее. Впрочем, ты должен это знать, ведь разговоры об этом давно ведутся при вас, детях.
Фил не ответил, не решаясь ни лгать, ни признаться в той гудящей глухоте, которая отрезала его от мира семейных разговоров.
— Слушай, я тебе сейчас объясню. Прежде всего я решил, с согласия Ферре, расширить виллу, пристроив два двухэтажных крыла, над ними будут две террасы, а на втором этаже комнаты… Представляешь себе?
Фил с умным видом кивнул и честно попытался вслушаться. Но, как он ни старался, в голове у него вертелось одно слово «тупик», мысленно он спускался по склону до того места, где злополучный мальчишка сказал ему… «Тупик… тупик… Я в тупике». Однако он кивал головой, и его взгляд, полный сыновнего внимания, переходил с лица папаши на швейцарскую крышу виллы, с крыши на руку месье Одбера, которая в воздухе рисовала план новой виллы. «Тупик…»
— Понимаешь? Мы так и сделаем, Ферре и я. Или уже это ты договоришься с малюткой Ферре… Ведь трудно сказать, кто умрет, а кто останется…
«А, старая песня!» — внутренне воскликнул Филипп, передернув плечами, словно отряхиваясь от чего-то.
— Тебе смешно? Смеяться не над чем. Вы, молодые, не верите в смерть.
— Да нет, папа…
«Смерть… Наконец-то обычное, понятное слово… Каждодневное слово…»
— Конечно, есть все основания предполагать, что ты женишься на Венка со временем… По крайней мере, так утверждает твоя мать. Но есть также все основания предполагать, что ты на ней не женишься. Чему ты улыбаешься?
— Тому, что ты говоришь, папа…
«Что ты говоришь, и все так просто у родных, у людей зрелых, у тех, кто, как они говорят, пожил, и их простодушие, и смущающая ясность мысли…»
— Я не требую, чтобы ты ответил сейчас же. Если ты скажешь: «Я хочу жениться на Венка для меня это будет означать то же самое, как если бы ты сказал: «Я не хочу жениться на Венка».
— Да?
— Да. Ты еще не достиг зрелости. Ты очень мил, но…
Серые навыкате глаза еще раз подернулись дымкой смущения, он смерил Филиппа с ног до головы взглядом и сказал:
— Надо подождать. Приданое маленькой Ферре не слишком потянет. Так что же? Первое время прекрасно обходятся без бархата, шелков и золота…
«Бархат, шелк и золото… A-а… бархат, шелк, золото… красное, черное, белое, красное, черное, белое — и кусочек льда, сверкающий, как алмаз, в стакане с водой… Мой бархат, моя роскошь, моя любовница и мой повелитель… Ах, как от всего этого отказаться…»
— …Работа… Поначалу все трудно… Серьезно… нужно время, чтобы подумать… время, в какое мы живем…
«Мне плохо. Где-то здесь, над желудком. И я испытываю ужас при виде этой фиолетовой скалы на темно-красном фоне, а в глубине себя я вижу белое и черное…»
— Семейная жизнь… изнеженность… Ей-богу! Первый кусок белого хлеба… Малыш… Что такое?.. Что такое?
Голос, прерывистые слова потухли в тихом шелесте нахлынувшей воды. Филипп не почувствовал ничего, кроме слабого удара в плечо и щекотания сухой травинки у себя на щеке. Потом снова возник шум множества голосов, видение множества колючек, равномерный и приятный рев воды, и Фил открыл глаза. Его голова лежала на коленях у матери, а все Тени стояли кружком и склоняли к нему участливые лица. Его ноздрей коснулся платок, смоченный в лавандовом одеколоне, и он улыбнулся Венка, которая протиснулась к нему между Тенями, вся золотистая, розово-загорелая и кристально-голубая.
— Бедный мальчик!
— Я же говорила ему, я говорила, что он плохо выглядит!
— Мы разговаривали с ним, он стоял здесь, напротив меня, и вдруг — бах!..
— Он как все дети его возраста, они не следят за своим желудком, карманы вечно набиты фруктами…
— А первые выкуренные папиросы — про это вы забыли?
— Дорогой мой мальчик!.. У него глаза полны слез…
— Естественно! Это реакция…
— Впрочем, это было всего полминуты, ровно столько, сколько потребовалось, чтобы вас позвать. Говорю вам, он стоял здесь, мы разговаривали, а потом…
Фил легко поднялся, щеки у него были холодные.
— Не двигайся!
— Обопрись на меня, мой маленький…
Но Фил держал руку Венка и бессмысленно улыбался.
— Ничего, ничего! Спасибо, мама. Ничего, ничего!
— А тебе не хочется прилечь?
— Да нет! Я предпочитаю остаться на свежем воздухе.
— Нет, вы только взгляните на Венка! Да не умер твой Фил! Уведи его. Но только подольше оставайтесь на террасе!
Тени удалялись, как медленно катящийся клубок, они в дружеском участии взмахивали руками, подбадривали Фила словами; еще раз вспыхнул тревогой материнский взгляд, и Филипп остался наедине с Венка, она не улыбалась. Движением губ, ободряющим кивком головы он приглашал ее повеселиться, посмеяться, но она таким же движением ответила «нет» и продолжала разглядывать Филиппа, до того бледного, что под темным загаром он даже слегка позеленел, в его черных глазах играл рыжий солнечный луч, рот был приоткрыт, так что были видны мелкие, но частые зубы… «Как ты прекрасен… Как мне грустно!» — говорили голубые глаза Венка… Но он не прочел в них жалости, а ее твердая рука, привыкшая ловить рыбу и играть в теннис, лежала в его руке, словно набалдашник трости.
— Послушай, — тихо попросил Филипп. — Я объясню тебе… Ничего особенного. Пойдем куда-нибудь, где поспокойнее.
Она повиновалась, и они с важным видом пошли выбирать спокойное тайное укрытие, они нашли место в скалах, куда иной раз добиралось море во время приливов и куда оно нанесло быстро высыхавшего крупного песка. Они считали, что тайна не может быть доверена обивке из светлого кретона, сосновым стенам с музыкальным резонансом, которые от комнаты к комнате передавали новость, если один из обитателей виллы щелкал выключателем, кашлял или ронял ключ. Эти двое парижских детей, на свой лад независимые, бежали нескромности человеческого жилья и находили безопасные для своей идиллии и своих драм места то на открытом лугу, то на скалистом берегу, то во впадине, вымытой приливом.
— Четыре часа, — сказал Филипп, определив время по солнцу. — Хочешь, прежде чем устроимся, я принесу тебе что-нибудь поесть?
— Я не голодна, — ответила Венка. — А ты не хочешь закусить?
— Нет, спасибо. У меня после обморока пропал аппетит. Сядь поглубже, а мне лучше остаться с краю.
Они вели незамысловатую беседу, и оба понимали, что могут быть сказаны и значительные слова, и даже молчание между ними таило в себе глубину.
Сентябрьское солнце сверкало на отполированных, загорелых ногах Венка, на которые она натянула свое белое платье. Под ними море слегка зыбилось, туман, пробежав над ним, слизнул и смягчил эту рябь, и теперь море играло красками, какие у него бывали в хорошую погоду. Кричали чайки, друг за другом потянулись барки с развернутыми парусами — они покидали сумрак Менги и выходили в открытое море. Послышалось пронзительное пение — дрожащий детский голос прорезал дуновение легкого морского ветерка: на верху самой высокой скалы стоял увенчанный короной рыжих волос, одетый в голубоватые штаны тот самый мальчишка…
Венка проследила за взглядом Филиппа.
— Да, — сказала она, — это мальчик поет.
Фил овладел собой.
— Ты говоришь о сыне торговки рыбой?
Венка покачала головой.
— Я говорю о мальчике, с которым ты только что говорил.
— С которым…
— Мальчик, который сообщил тебе об отъезде этой дамы.
Филипп возненавидел вдруг ясную погоду, песок на груди, и совсем не сильный ветер обжег его щеку.
— О чем… о чем ты говоришь, Венка?
Она не унизилась до ответа и продолжала:
— Мальчик искал тебя, но наткнулся на меня и мне первой сообщил. Впрочем…
Она оборвала себя обреченным жестом. Фил глубоко вздохнул, почувствовав некоторое облегчение.
— А… стало быть, ты знала… Но что ты знала?
— Кое-что о тебе… Не так давно. То, что мне известно, я узнала это недавно… Три-четыре дня назад, но я думала…
Она замолчала, и Филипп заметил под голубыми глазами на свежей детской щеке своей подруги перламутровый след ночных слез и бессонницы, этот серебристый, лунного цвета отблеск, который можно увидеть на веках только тех женщин, что обречены молча страдать.
— Хорошо, — сказал Филипп. — Значит, мы можем говорить, если только ты не предпочитаешь молчать… Я сделаю, как ты захочешь.
У нее слегка вздрогнули уголки губ, но она подавила слезы.
— Нет, давай поговорим. Я думаю, так лучше.
Они испытали одновременно горькое удовлетворение, отделив с первых же слов беседы то, что в их споре могло бы обернуться ложью. Только герои, артисты и дети умеют держаться свободно, когда речь идет о вещах возвышенных. Эти дети безумно надеялись, что из любви может родиться благородная скорбь.
— Слушай, Венка, когда я впервые встретил…
— Нет-нет, — поспешила оборвать его Венка. — Только не это. Я тебя не спрашиваю об этом. Я знаю. Там, на дороге водорослей. Ты думаешь, я забыла?
— Но, — запротестовал Филипп, — в тот день нечего было забывать или помнить, потому что…
— Постой! Постой! Ты думаешь, я привела тебя сюда, чтобы посудачить с тобой о ней?
По тому, с какой горечью и как просто говорила Венка, он понял, что его собственному тону не хватает естественности и раскаяния.
— Ты собираешься рассказать мне о ваших любовных делах, да? Не трудись. В эту среду, когда ты вернулся, я встала, не зажигая света… Я видела тебя… ты крался, как вор… Было уже почти светло. И у тебя было такое лицо… Тогда я постаралась разузнать. А как ты думаешь? На берегу все всё знают. Только одни наши родственники ни о чем не догадываются…
Филипп был неприятно поражен, он нахмурился. Низменное, животное чувство, разбуженное в Венка женской ревностью, шокировало Филиппа. Он рассчитывал в этом найденном ими убежище на мягкую доверчивость, слезы, на долгие признания… Но он не принимал эту неприкрытую агрессивность, эту жестокость, это проворство — все это уничтожало нарисованные им и льстящие ему живописные картины и обращалось в… а в самом деле, во что?
«Она теперь захочет умереть, — подумал он. — Она однажды уже хотела умереть, вот тут… Она и сейчас захочет умереть…»
— Венка, ты должна мне обещать…
Она подалась к нему легким движением, не глядя на него, — вся воплощенная ирония и независимость.
— Да, Венка… Ты должна мне обещать, что ни здесь, ни в каком-либо другом месте ты… ты не будешь стремиться расстаться с жизнью…
Она ослепила его, бросив ему в лицо голубой луч своих широко открытых в быстром и твердом взгляде синих глаз.
— Как ты сказал? Расстаться… расстаться с жизнью?
Он положил руки на плечи Венка, наклонил тяжелую от многоопытности голову.
— Милая, я знаю тебя. Ты хотела тогда соскользнуть отсюда вниз и без всяких причин — тому полтора месяца, а теперь…
И пока он громко разглагольствовал, она сидела словно в оцепенении и полукружия ее бровей были высоко вздернуты над ее глазами.
— Теперь?.. Умереть?.. Почему?..
Когда Венка произнесла это последнее слово, он покраснел, и она сочла краску стыда за ответ.
— Из-за нее? — закричала Венка. — Да ты в своем уме?
Фил раздраженно выдернул несколько пучков хилой травы и внезапно помолодел лет на пять.
— Мы всегда не в своем уме, сами пытаемся доискаться до того, чего хочет женщина, и когда воображаем, что она знает, чего ей хочется…
— Но я-то знаю, Фил. Я очень хорошо знаю. Знаю, чего хочу. Можешь не волноваться, я не убью себя из-за этой женщины. Полтора месяца назад… Да, я стала сползать туда, вниз, и потащила тебя за собой. Но тогда это ради тебя я хотела умереть и ради себя… ради себя…
Она закрыла глаза, запрокинула голову, голос ее смягчился, когда она произносила последние слова, и она стала похожа на всех женщин, которые запрокидывают голову и закрывают глаза, дойдя до высшей точки счастья. Впервые Филипп узнал в Венка сестру той, что с закрытыми глазами, с опущенной головой отдалялась от него именно тогда, когда он полагал, что крепче всего держит ее в своих объятиях…
— Венка! Послушай, Венка!
Она открыла глаза, встала.
— Что?
— Не уходи же вот так! Ты, того глядишь, упадешь в обморок.
— Не упаду. Это больше подходит тебе: флакон с солью, одеколон и вся эта суета!
Время от времени между ними проскальзывало нечто вроде сострадальной детской жестокости. Они черпали в ней силы, закалку, былую ясность, но потом их снова охватывало безумие, безумие тех, кто прожил больше, чем они…
— Я ухожу, — сказал Филипп. — Ты причиняешь мне боль.
На Венку напал приступ смеха. Смех был отрывистый, слышать его было неприятно, она хохотала, как любая женщина на ее месте, жестоко обиженная.
— Прелестно! Оказывается, это тебе причиняет боль!
— Ну да.
У нее вырвался пронзительный крик раненой птицы, Филипп от неожиданности вздрогнул.
— Что с тобой?
Она оперлась на тыльную сторону рук и стояла почти на всех четырех конечностях, как животное. Он увидел, что она покраснела от ярости. Два крыла ее волос свесились и почти сошлись на склоненном лице, оставив видимыми лишь алый пересохший рот, короткий нос с раздувающимися от гнева ноздрями и два глаза, метавших голубые молнии.
— Замолчи, Фил! Замолчи! Я причиняю тебе боль! Ты жалуешься, ты говоришь о боли, а сам обманул меня, ты лжец, лжец, ты бросил меня ради другой женщины! У тебя нет ни стыда, ни здравомыслия, ни жалости! Ты привел меня сюда только для того, чтобы рассказать — и кому? мне, мне! — что ты делал с другой женщиной! Скажи, что это не так. Скажи, что не так. Скажешь?
Она кричала, как буревестник во время бури, испытывая наслаждение от этой ярости — ярости женщины. Внезапно она села, начала ощупывать вокруг себя землю, нашла камень и запустила им далеко в море с такой силой, что Филипп удивился.
— Замолчи, Венка…
— Нет, я не буду молчать! Во-первых, мы тут одни, а во-вторых, мне хочется кричать! И я думаю, есть о чем кричать. Ты привел меня сюда, потому что хотел рассказать, пережить снова то, что делал с ней, ради удовольствия слышать себя, слышать слова… говорить о ней, произносить ее имя, да, ее имя… и, может быть…
Она вдруг ударила его кулаком по лицу, так неожиданно и так по-мальчишески, что он чуть было не набросился на нее, не начал ее тузить. Слова, которые она только что выкрикнула, удержали его, и его мужское врожденное чувство чести отступило перед тем, что поняла Венка и давала понять без обиняков.
«Она думает, она воображает, что я стал бы рассказывать ей об этих наслаждениях… И это Венка! Так вот какие мысли у нее в голове…»
Она замолчала, кашлянула, покраснев до корней волос Две слезинки скатились из ее глаз, но она еще не смягчилась настолько, чтобы плакать и молчать.
«Я, значит, никогда и не знал, что у нее в голове, — подумал Филипп. — Все, что она сказала, так же удивительно, как та сила, с какой — я часто видел это — она плавает, прыгает, бросает камни…»
Он не знал, чего еще ждать от Венка, и зорко следил за ней. Сияние ее кожи, ее глаза, тонкая линия тела, складка на белом платье, натянутом на длинные ноги, отодвинули на задний план почти сладостное страдание, которое заставило его неподвижно лежать на траве…
Он воспользовался передышкой, чтобы выказать свое превосходство, свое хладнокровие.
— Я не побил тебя, Венка. Твои слова заслуживают этого еще больше, чем твои выходки. Но мне не хотелось бить тебя. Это первый раз в жизни я позволил бы себе…
— Еще бы, — прервала она его хриплым голосом. — Прежде чем побить меня, ты бы побил другую. Я ни в чем не первая!
Эта ее ненасытность в ревности успокоила его, он чуть было не улыбнулся, но мстительный взгляд Венка заставил его поостеречься и не шутить пока. Они молчали, солнце спустилось за Менгу, и розовое пятно, искривленное, как лепесток, танцевало на гребне волн.
Наверху, на скале, позванивали колокольчики на коровах. На том месте, где только что пел злополучный мальчишка, появилась черная рогатая коза и заблеяла.
— Венка, дорогая… — вздохнул Филипп.
Она возмущенно взглянула на него.
— Ты осмеливаешься так называть меня? — Она наклонила голову.
— Венка, дорогая… — вздохнул он.
Она закусила губы, собрала все силы, чувствуя, как подступают к глазам слезы, у нее перехватило дыхание, и она не решилась заговорить. Филипп, уперевшись затылком в скалу, окаймленную невысокой сиреневатой пеной, смотрел на море, но, по всей вероятности, не видел его. Потому что он был утомлен, потому что была прекрасная погода, потому что этот час с его ароматом и его грустью требовали этого, и Филипп вздохнул: «Венка, дорогая…» Так он сказал бы: «Ах, какое счастье!» — или: «Как я страдаю!..» Его новая скорбь требовала слов стародавних, первых слов, родившихся на его губах, так старый солдат, если падает на поле битвы, со стоном произносит имя матери, которую он забыл.
— Молчи, несчастный, молчи… Что ты со мной сделал!.. Что ты сделал со мной!..
Она показала ему на слезы, которые катились по ее бархатным щекам, не оставляя следа. Солнце играло в ее глазах, откуда лились слезы, ее зрачки расширились, утонув в голубизне глаз. Верхняя часть лица Венка сияла великолепием любящей женщины, глубоко раненной, но готовой все простить, но ее рот кривился, подбородок дрожал, и она выглядела подростком, отчаявшимся и немного комичным.
Продолжая опираться на жесткую подушку, Филипп взглянул на Венка своими черными глазами, смягчившимися и выражавшими томление и призыв. Распалившаяся от гнева девочка превратилась в златоволосую женщину, от которой исходил женский запах, похожий на аромат, испускаемый розовым цветком бычьей травы или раздавленного в ладонях зерна неспелой ржи; этот бодрящий, терпкий запах дополнял впечатление Филиппа от всех полных жизни и силы жестов Венка. Однако Венка плакала и бормотала сквозь слезы: «Что ты со мной сделал…» Она хотела остановить поток слез и укусила руку, на которой выступило красное полукружие от ее молодых зубов.
— Дикарка… — сказал Фил вполголоса, ласково и благодушно, как сказал бы незнакомке.
— Больше, чем ты думаешь, — в тон ему ответила Венка.
— Не говори мне этого! — вскричал Филипп. — В каждом твоем слове угроза!
— Раньше ты бы сказал — обещание, Фил.
— Это одно и то же! — горячо запротестовал он.
— Почему?
— Потому что.
Он прикусил травинку, решив быть осторожным; он не мог бы выразить словами то глухое требование свободы, права на дающую силы и учтивую ложь, которые рождали в нем его возраст и его первое любовное приключение.
— Я спрашиваю себя, Фил, как же потом ты будешь меня предавать…
Она казалась огорченной и растерявшейся от отсутствия убедительных доводов. Но Филипп уже знал, как она может вдруг взбунтоваться и непостижимым образом вновь обрести силу.
— Не спрашивай себя об этом, — коротко попросил он.
«Позже… позже… Да, и будущее тоже присвоено ею себе… Ей хорошо, она может представить себе сейчас цвет этого будущего. В ней говорит желание посадить на цепь… Она далека от мысли умереть…»
В своей ненависти он не понимал этой высокой женской миссии длить, этого интуитивного желания приспособиться к несчастью и сделать из него богатую ценными минералами жилу. Час уже был поздний, Фил устал, он был измучен натиском этого разбушевавшегося ребенка, который боролся самым примитивным способом за спасение их двоих. Мысленно он вырвался из-под ее власти и побежал следом за мчащейся машиной, вздымавшей горизонтальное облако пыли, и, как нищий на дороге, подскочил к стеклу, за которым виднелась голова, склонившаяся под тюрбаном из белого газа… Он вновь увидел ее всю, до мельчайших подробностей: черные ресницы, черную родинку у губы, трепещущие втянутые ноздри — эти черты, которые он разглядывал в такой близости от себя. В такой близости!.. С блуждающим взглядом, испуганный, вскочил он в страхе оттого, что опять будет страдать, и в удивлении оттого, что, пока разговаривал с Венка, он перестал страдать…
— Венка!
— Что с тобой?
— Я… мне кажется, я сейчас упаду…
Властная рука сжала его руку, заставила его упасть подальше от крутого спуска — он уже зашатался на краю пропасти. Он был убит, он больше не сопротивлялся, он только сказал:
— Это было бы лучшим выходом, быть может…
— О-ля-ля!..
Она удовольствовалась этим тривиальным возгласом и не стала искать других слов. Она припала к телу обессиленного юноши и прижала его темноволосую голову к своей груди, которая круглилась под молодой нежной кожей. Филипп дал овладеть собой недавней нехорошей привычке к пассивности, к которой его приучили мягкие руки, но хотя он испытывал непереносимую горечь, оттого что не мог вдохнуть смолистый запах, прильнуть к такой доступной груди другой женщины, он не переставал повторять, слегка постанывая: «Венка, дорогая… Венка, дорогая…»
Она стала укачивать его, сомкнув вокруг него руки и сжав колени, как это делают женщины всей нашей планеты. Она проклинала его за то, что он так несчастен и так раскис. Она желала ему потерять рассудок и забыть в бреду имя женщины. Она мысленно обращалась к нему: «Ну… ну… Ты научишься узнавать меня… Я заставлю тебя увидеть…» И в то же время она отодвигала черную прядь с его лба, похожую на рассекшую мрамор тонкую трещину. Она по-новому воспринимала теперь близость, тяжесть этого юного тела, которое еще вчера она, подпрыгивая и хохоча, носила на закорках. Когда Филипп, приоткрыв глаза, встретил ее взгляд, умоляя ее глазами вернуть ему то, что он потерял, она ударила свободной рукой по песку и воскликнула про себя, как восклицают героини извечной драмы: «Ах, зачем ты только родился на свет!»
Между тем, боковым зрением она наблюдала за подступами к далекой вилле; она, как матрос, определяла, насколько опустилось солнце: «Теперь уже седьмой час»; она отметила, как прошла от пляжа к дому Лизетта, в своем белом раздувающемся платье похожая на голубя. Она думала: «Нам нельзя здесь оставаться больше четверти часа, иначе нас обыщутся. Надо как следует умыться…» Душа и тело ее все еще трепетали от любви, ревности, от ярости, которая все никак не могла утихнуть. Она мысленно воссоздавала облик убежищ, таких же первобытных и неудобных, как это гнездо в скалах…
— Поднимайся, — очень тихо сказала она.
Филипп захныкал, как-то сразу отяжелел. Она догадалась, что он прибегает к жалобам, к бездействию, чтобы уйти от упреков и вопросов. Ее руки, только что почти материнские, оттолкнули его повинную голову, теплый торс, и это тело, которое недавно лежало в объятиях, стало просто юношей, чужим и лживым, способным предать, обласканным женскими руками, так его изменившими…
«Его следует, как черного козла, привязать к двухметровой веревке… Заточить его в комнате, в моей комнате… Жить бы в другой стране, где не будет других женщин, кроме меня… Или чтобы я была такой красивой, такой красивой… или чтобы он был таким больным, что я должна была бы ухаживать за ним…» Движущиеся тени ее мыслей пробегали по ее лицу.
— Что ты собираешься делать? — спросил Филипп.
Она спокойно разглядывала его черты, которые со временем станут чертами лица черноволосого, банально приятного мужчины, а пока, на пороге семнадцатилетия, за малостью лет, они были еще по сю сторону мужественности. Она удивлялась, как это ужасный, выдающий мужчин признак не отметил его нежный подбородок, его правильный нос, способный выражать гнев. «Но эти черные глаза, этот мягкий взгляд, бледно-голубые белки… Конечно, ни одна женщина не устоит перед этим…» Она покачала головой:
— Что я собираюсь делать? Готовиться к ужину. Так же, как и ты.
— И все?
Она поднялась, поправила платье, затянула шелковый эластичный пояс и поспешно обвела взглядом Филиппа, дом, море, которое уже засыпало, серое, похолодевшее, и отказывалось принимать участие в закатном сиянии.
— Да, все… если только ты не выкинешь чего-нибудь.
— Что ты имеешь в виду?
— Ну… убежать разыскивать эту даму. Решить, что именно ее-то ты и любишь… Объявить об этом твоим родителям…
Она говорила по-детски строго, одергивая все время платье, словно хотела раздавить себе грудь.
«У нее груди как морские ракушки… или как конические взгорки на японских акварелях…»
Она покраснела, потому что он отчетливо произнес слово «груди», и он обвинил себя в недостаточной к ней почтительности.
— Я не совершу ни одной из этих глупостей, Венка, — поспешно ответил он. — Но мне хотелось бы знать, что сделаешь ты, раз я оказался способен на все это или хотя бы на половину этого?
Она широко открыла глаза, поголубевшие от слез, но он ничего в них не прочел.
— Я? Я не стану жить по-другому.
Она лгала, она бросала ему вызов, но за лживостью взгляда он видел, он ощущал упрямство, не знающее ни устали, ни сомнений, постоянство, которое не дает сломиться возлюбленной и привязывает ее к предмету своей любви и к жизни, как только она узнает, что у нее есть соперница.
— Ты ведешь себя более благоразумно, чем можно было от тебя ожидать, Венка.
— А ты странно. Ты разве не заметил, что мне сейчас хотелось умереть? Умереть из-за авантюры месье!
И она указала на него, повернув ладонь кверху, как это делают дети, когда с кем-нибудь спорят.
— Авантюра… — повторил следом за ней Филипп, одновременно и задетый, и польщенный. — Черт возьми! Все молодые люди моего возраста…
— Я должна еще привыкнуть, — прервала его Венка, — к тому, что ты и впрямь всего-навсего молодой человек твоего возраста.
— Венка, дорогая, клянусь тебе, что девушка не может говорить и не должна слушать…
Он опустил глаза, с самодовольным видом прикусил губу и добавил:
— Можешь мне поверить.
Он подал Венка руку и помог ей перебраться через сланцевые нагромождения, которые преграждали вход в их убежище, и низкие заросли терновника, отделяющие их от тропинки таможни. В трехстах метрах от них, на приморском лугу, вертелась на пятке похожая на белый вьюнок Лизетта, вся в белом, и ее маленькие загорелые руки подавали им сигналы: «Скорее! Вы опаздываете!» Венка помахала, но, прежде чем начать спуск, она еще раз повернулась к Филиппу:
— Фил, я действительно не могу тебе поверить. Или все наше существование до сегодняшнего дня было не чем иным, как одной из этих пошлых историек, какие описывают в нелюбимых нами книгах. Ты говоришь мне: «Молодой человек… девушка…», имея в виду и нас. Ты говоришь: «Авантюра, как у всех молодых людей моего возраста…» Но, Фил, ты все-таки не прав… видишь, я говорю с тобой спокойно…
Он довольно нетерпеливо слушал ее, смущенный тем, что искал в эту самую минуту разбросанные уголья и тернии своего большого горя, но ему не удавалось собрать их воедино. Крайняя, заметная растерянность Венка, хоть держалась она и уверенно, еще больше подсыпала этих колючек, а тут еще внезапным порывом налетел вечерний недобрый ветер.
— Пошли! Ну что такое?
— Ты все-таки не прав, Фил, потому что ты должен был бы у меня спросить…
У него пропали все желания, он был утомлен и жаждал остаться один, и, однако, приближения длинной ночи он ждал с опаской. У нее вырвался крик возмущения, ею овладела смутная неприязнь к нему; он смерил ее взглядом с головы до ног, сощурив глаза, и сказал:
— Бедняжка!.. «Спросить»… Прекрасно. Спросить разрешения, что ли?
Он понял, что оскорбил ее, она потеряла дар речи, кровь бросилась ей в голову, оставив пурпурный след на щеках, на загорелой коже груди. Он обнял Венка за плечи и, прижав к себе, пошел по тропинке.
— Венка, дорогая, ты говоришь глупости! Глупости молоденькой, ничего, слава богу, не ведающей девушки.
— Славить бога надо за другое, Фил. Ведь ты не думаешь, что я знаю столько же, сколько первая женщина, которую создал бог?
Она не отстранилась от него и смотрела на него сбоку, не поворачивая головы, потом она взглянула на неровную дорогу, потом снова на Филиппа, чье внимание было приковано к этому углу глаза, который движение зрачка делало то голубым, как барвинок, то белым, как перламутр раковины.
— Скажи, Фил, тебе не кажется, что я знаю столько…
— Молчи, Венка! Ты не знаешь. Ты ничего не знаешь.
На повороте тропинки они остановились. Лазурь исчезла с поверхности моря, она была как металл, плотная, серая, не взбудораженная волнами; потухшее солнце оставило на горизонте красный печальный след, поверх которого разлились бледные зеленые, более светлые, чем заря, блики, меж которых сияла влажная первая звезда. Одной рукой Филипп сжимал плечи Венка, другую вытянул в сторону моря.
— Молчи, Венка! Ты не знаешь ничего. Это… такая тайна… Такая большая…
— Я тоже большая…
— Нет, ты не понимаешь, что я хочу тебе сказать.
— Понимаю, и очень хорошо. Ты поступаешь, как мальчик Жалонов, который по воскресеньям поет в церковном хоре. Чтобы придать себе важности, он говорит: «Латынь! Вы знаете, латынь очень трудна!» Но он не знает ни слова по-латыни.
Внезапно она рассмеялась, подняв к Филиппу голову, и ему не понравилось, что она так быстро и так естественно перешла от драматического к смешному, от огорчения к иронии. Может, потому, что наступала ночь, он захотел покоя, пожираемоего огнем сладострастия, тишины, во время которой кровь, словно нетерпеливый дождь, стучит в висках; его тянуло к опасностям, к полному неизведанного и почти немому закабалению, согнувшему его на пороге, который другие юноши переступали, спотыкаясь, но богохульствуя.
— Слушай, замолчи. Не будь злюкой и грубиянкой. Если бы ты знала…
— Но я только этого и хочу: знать!
Голос ее звучал фальшиво, она смеялась смехом плохой комедиантки, чтобы утаить дрожь, бившую ее, и не показать, что она печалится, как все обиженные дети, которые ищут в рискованной затее возможность страдать немного больше, и еще больше, и все больше и больше, пока не наступит возмездие…
— Я прошу тебя, Венка! Ты меня огорчаешь… Это так на тебя не похоже!
Он отпустил плечо Венка и стал еще быстрее спускаться к вилле. Венка бежала за ним, подпрыгивая, когда тропинка становилась крутой, перескакивала через валики скошенной травы, смоченной росой, она уже приготовила выражение лица специально для Теней и обращалась к Филиппу, повторяя вполголоса:
— Не похоже? Не похоже? Вот этого-то как раз ты и не знаешь, Фил, хотя знаешь много всего другого…
За столом они сидели достойные самих себя и своей тайны. Филипп смеялся над своими обмороками, требовал, чтобы о нем заботились, всячески привлекая к себе внимание: он боялся, как бы кто-нибудь не заметил блеска в глазах Венка — с темно-розовыми тенями под ними, — прятавшихся под густой челкой над бровями, а Венка играла в ребенка, перед супом потребовала шампанского:
— Чтобы поднять настроение Фила, мама! — и одним духом опорожнила бокал.
— Венка! — укоризненно сказала Тень…
— Пустое, — снисходительно сказала другая Тень, — ничего ей не сделается.
К концу ужина Венка заметила, что Филипп ищет глазами не видимую отсюда за ночным морем Мешу, белую дорогу, растворившуюся в ночном сумраке, оцепеневший в пыли дороги можжевельник…
— Лизетта! — крикнула она. — Ущипни Фила, а то он сейчас заснет.
— Она ущипнула меня до крови! — застонал Филипп. — У, злючка! У меня слезы на глазах выступили.
— И правда, и правда! — громко закричала Венка. — У тебя слезы на глазах!
Она смеялась, а он под рукавом куртки из белой фланели потирал руку, но на щеках Венка и в ее глазах он видел пламя, загоревшееся от выпитого пенистого вина, и сдерживаемое безумство, которое беспокоило его.
Немного позже где-то очень далеко на черном зыбящемся море завыла сирена, и одна из Теней перестала двигать по игральному столику фишки домино.
— Туман на море…
— Только что Гранвильский маяк ворошил эти хлопья, — сказала другая Тень.
Но голос сирены напомнил Филу воющий гудок автомобиля, бегущего по кремнистой дороге, и он подскочил.
— Как взволновался! — усмехнулась Венка.
Ловко прячась от Теней, она повернулась к ним спиной и умоляющим взглядом посмотрела на Филиппа.
— Нисколько, — сказал Филипп. — Но я больше не могу, я прошу отпустить меня спать… До свидания, мама, до свидания, отец… До свидания, мадам Ферре… До свидания…
— Ты сегодня освобождаешься от всех вечерних обязанностей, мой мальчик.
— Ты не хочешь выпить чашечку легкого настоя ромашки?
— Не забудь открыть окно!
— Венка, ты отнесла Филу флакон с солью?
Дружеские, опекающие голоса Теней, нанизанные друг на друга, провожали его до самых дверей, немного поблекшие, с нежным, слабым запахом сушеных трав. Они обменялись с Венка поцелуем, как это делали всегда, он поцеловал ее упругую щеку, потом ухо, шею, покрытый пушком уголок рта. Дверь за ним закрылась, благожелательная нанизь голосов тут же оборвалась, и он остался один.
Его комната с открытым окном, глядящим в безлунную ночь, приняла его плохо. Стоя под лампой с абажуром из желтого муслина, он вдыхал враждебный и тонкий запах, который Венка называла «запахом мальчишки»: книги классиков, кожаный чемодан, приготовленный для послезавтрашнего отъезда, ботинки с резиновыми подошвами, мыло с нежным ароматом, одеколон.
Он особенно не страдал. Он испытывал то чувство изгнанности и общей усталости, которое не требует другого лекарства, кроме забытья. Он быстро лег, погасил лампу и инстинктивно нашел место у стенки, где его мальчишеские горести, его горячка взрослеющего юноши утихали под покровом ночи, в уюте хорошо подоткнутой под матрац простыни, ярких обоев, о которые разбивались сны, навеянные полнолунием, морскими приливами или июльскими грозами. Он тотчас уснул, но во сне его обступили самые невыносимые картины его жизни и самые привычные. У Камил Даллерей было лицо Венка, а Венка, словно фокусник, властная, помыкала им с отталкивающей холодностью. Но ни Камил Даллерей, ни Венка в его грезах не хотели вспомнить, что Филипп — всего-навсего маленький изнеженный мальчик, которому хочется только уронить голову на чье-нибудь плечо, маленький десятилетний мальчик…
Он проснулся, увидел, что часы показывают без четверти двенадцать и что он проведет зряшную горячечную ночь среди родных в заснувшем доме, он надел сандалии, обвязался шнуром от купального халата и спустился вниз.
Месяц первой четверти скашивал скалу. Кривой и красноватый, он не заливал своим светом округу, и казалось, его сияние потухает от красного или зеленого огня вращающегося Гранвильского маяка. Но благодаря ему ночь не затопляла зелень трав и кустарников и белая штукатурка виллы меж выступающих балок как будто слабо фосфоресцировала. Филипп оставил открытой застекленную дверь и шагнул в эту тихую ночь, как входят в надежное и печальное убежище. Он сел прямо на пол террасы, не поддающейся сырости, истоптанной и загроможденной шестнадцатью годами каникул. Лизетта извлекала иногда из-под досок старую, заржавевшую игрушку, лежавшую там десять, двенадцать, пятнадцать лет…
Он чувствовал себя опустошенным, свободным от всего и благоразумным. «Может, это и называется «стать мужчиной», — подумал он. Бессознательное желание поделиться с кем-нибудь своей печалью, своей обретенной мудростью мучило его, не находя избытия, как у всех добросовестных маленьких атеистов, которым светское воспитание отказало в попечительстве Бога.
— Фил, это ты?
Голос спустился к нему, точно прибитый ветром лист. Он поднялся, бесшумно шагнул к окну с деревянным балконом.
— Да, — выдохнул он. — Ты, значит, еще не спишь?
— Конечно, нет. Я сейчас спущусь.
Она подошла к нему так тихо, что он даже не заметил. Он увидел возле себя только светлое лицо, возвышающееся над смутным силуэтом, почти растворившимся в ночи.
— Ты замерзнешь.
— Нет. Я набросила на себя голубое кимоно. А впрочем, погода теплая. Уйдем отсюда.
— Почему ты не спишь?
— Не спится. Я думаю. Уйдем отсюда, а то разбудим кого-нибудь.
— Я не хочу, чтобы в такое время ты пошла на пляж — можно схватить насморк.
— Я не схватываю так быстро насморка. И потом, я совершенно не рвусь на пляж. Наоборот, давай лучше поднимемся наверх.
Она говорила чуть слышно, но Филипп не пропустил ни одного слова. Отсутствие окраски в ее голосе доставляло ему несказанное удовольствие. Это уже не было голосом Венка или другой женщины. Незаметное ее присутствие, почти невидимой, обычный тон — незаметное присутствие, безобидное, без определенного намерения — только прогулка, только спокойное ночное бдение — навевали покой.
Он обо что-то споткнулся, и Венка придержала его за руку.
— Это горшки с геранью, разве ты не видишь?
— Нет.
— Я тоже. Но я различаю их, как различают предметы слепые, я знаю, что они здесь… Осторожно, рядом должен быть ящик.
— Откуда ты знаешь?
— Догадалась. От него будет шум, как от лопаты для угля… Бум!.. А что я тебе говорила?
Это озорное перешептывание приводило Филиппа в восторг. Он готов был расплакаться от радости, оттого, что спало напряжение, оттого, что Венка такая кроткая, похожая в сумраке на Венка прежнюю, когда ей было двенадцать лет и она вот так же шептала, склонившись над мокрым песком, а полная луна плясала на брюшках рыб, пойманных во время полночного лова…
— А помнишь, Венка, ту ночь, когда мы выловили самую большую камбалу?..
— А ты схватил бронхит. Из-за этого нам строго-настрого запретили ловить ночью… Слушай!.. Ты закрыл стеклянную дверь?
— Нет…
— Ты слышишь, что поднимается ветер, а дверь хлопает? Ах, обо всем-то я должна помнить!..
Она исчезла и вернулась так неслышно — словно это сильф ступал своими легкими стопами, — что Фил догадался о ее возвращении лишь по запаху, который гнал перед собой ветер…
— Чем от тебя пахнет, Венка? Как ты надушилась!
— Говори тише. Мне было жарко, и, прежде чем спуститься, я протерлась дезодорантом.
Он промолчал, но его разбуженное внимание отметило, что Венка действительно обо всем помнила.
— Иди, Фил, я держу дверь. Не наступи на салат.
Поднимавшийся от возделанной земли запах огорода заставлял забыть, что море по соседству. Перелезая через низкую плотную стенку из тимьяна, Филипп поцарапал себе ноги, ему попались под руку несколько пушистых рыльц львиного зева.
— А знаешь, Венка, в огород из-за рощицы не доносятся звуки из дома.
— Да в доме все тихо. Мы тоже тише воды.
Она подобрала с земли преждевременно созревшую небольшую грушу, источенную изнутри червем. Он услышал, как она вонзила в плод зубы, а потом отшвырнула его.
— Ты что? Ешь?
— Это желтая груша. Но она плохая, и я тебе не предложила ее.
Такая свобода в их отношениях не развеяла совсем смутной тревоги Филиппа. Ему показалось, что Венка немного слишком кротка и ясна, как дух, и он вдруг подумал об этой странной веселости, словно выпорхнувшей из могилы, об этой бездумной теплоте, которая слышится в смехе монашек. «Хорошо бы увидеть ее лицо», — пришло ему на ум. Он вздрогнул, представив себе, что этот голос, лишенный окраски, эти слова играющей девочки могли исходить от скривившейся маски, брызжущей гневом и сверкающей яркими красками, который противостоял полыханию его ярости там, в скалах.
— Слушай, Венка!.. Давай вернемся.
— Как хочешь. Подожди еще минутку. Еще минутку. Мне хорошо. А тебе? Нам обоим хорошо. Как ночью легко живется! Но не в комнате. О! Я ненавижу вот уже несколько дней свою комнату. Здесь мне не страшно… Светлячок! Так поздно, осенью! Нет, не надо его брать… Глупый, ну чего ты вздрогнул? Это всего-навсего кошка пробежала. Ночью кошки ловят полевых мышей…
Послышался тихий смех, рука Венка обвила его талию. Он прислушивался к каждому вздоху, к каждому хрусту, но, несмотря на беспокойство, он был рад этому непрекращающемуся, с разными оттенками перешептыванию. Венка не боялась темноты и вела себя в ней как в знакомой, дружеской стране и все объясняла Филиппу, оказывала ему полночные почести и вела его за собой, словно поводырь.
— Венка, дорогая, вернись…
Она издала звук, похожий на лягушачье кваканье.
— Ты назвал меня дорогой! Ах, почему ночь не все время! Ты сейчас не тот, кто обманул меня, а я не та, которая так страдала… Ах, Фил! Давай пока не будем возвращаться, позволь мне немного побыть счастливой, немного влюбленной, уверенной в тебе, какой я была в своих мечтах, Фил… Фил, ты не знаешь меня.
— Может быть, дорогая…
Они споткнулись обо что-то на сухой траве, которая хрустнула у них под ногами.
— Это побитая гречиха, — сказала Венка. — Они сегодня били ее цепами.
— Откуда ты знаешь?
— А когда мы с тобой спорили, ты не слышал ударов цепов? Я слышала. Сядь, Фил.
«Она, она слышала… Она была в ярости, ударила меня по лицу, без конца говорила мне разные слова, но при этом слышала удары цепов…»
Он невольно сравнил с этой неусыпностью всех женских чувств воспоминание о другой женской умелости…
— Фил, не уходи! Я не была злой, я не плакала, не упрекала…
Круглая головка Венка с шелковистыми, ровно подстриженными волосами склонилась на плечо Филиппа, и теплота щеки девушки согрела его щеку.
— Обними меня, Фил, умоляю тебя, умоляю…
Он обнял ее, примешав к своему удовольствию беспощадность юности, которая думает лишь об удовлетворении собственных желаний, и слишком сильное воспоминание о другом поцелуе, который у него взяли, не спросясь его. Но он узнал очертания губ Венка, прижавшихся к его губам, вкус, который хранили ее губы, вкус надкушенного ею плода, почувствовал готовность, с какой приоткрылся этот рот, обнаружив и без остатка отдав свою тайну, — и он покачнулся во тьме. «Ну, все, — подумал он, — мы погибли. Ах, скорей бы уж, раз так надо и потому что она не захочет больше никогда, чтобы было по-другому… Бог ты мой, какой у нее рот, глубокий, неотвратимый и умелый с самого начала… Мы погибаем, скорее, скорее!..»
Но обладание — это чудо, достающееся с трудом. Яростная рука, которую ему не удавалось отвести, крепко сжимала затылок Филиппа. Он тряхнул головой, чтобы освободиться от этой руки, но Венка, подумав, что Филипп хочет прервать их поцелуй, еще теснее прижалась к нему. Наконец он схватил ее за напрягшееся запястье и отбросил Венка на ложе из гречихи. Она издала короткий стон и лежала, не шевелясь, но, когда он пристыженно склонился над ней, она снова привлекла его к себе и вытянулась. Наступила сладостная передышка, почти братская, каждый из них испытывал к другому немного жалости и теплоты, смирение подвергнутых испытанию любовников. Венка, невидимая, лежала на повернутой вверх ладонью руке Филиппа, а другая его рука гладила ее кожу, чью нежность он знал так же, как и рельефные следы, оставленные шипом цветка или неровностями скалы. Она попыталась засмеяться, попросив его тихо:
— Не трогай мои роскошные ссадины… Ах, какой мягкой кажется гречиха…
Но он слышал, как дрожит ее голос, и сам дрожал. Он все время искал в ней то, что знал меньше всего, — ее рот. Пока они переводили дух, он решил вскочить на ноги и опрометью броситься домой. Но, отодвинувшись от Венка, он почувствовал себя физически опустошенным, его охватил ужас от свежего воздуха и от своих пустых рук, и он вернулся к ней с тем порывом, которому поддалась и она и который переплел их ноги. Он нашел в себе силы назвать ее «Венка, дорогая» с покорной и в то же время умоляющей интонацией, призывая ее одновременно благословить его и забыть о том, чего он пытался добиться от нее. Она поняла и обнаружила лишь изнемогшее молчаливое отчаяние, поспешность, о которую она сама ранила себя. Он услышал короткий возмущенный стон, выдержал невольную атаку, но тело, которое он оскорблял, не отпрянуло от него и отказалось от помилования.
XVII
Он спал мало, но глубоко, а когда встал, ему показалось, что весь дом вымер. Но внизу он увидел сторожа с его молчаливой собакой, рыболовные снасти, а на втором этаже услышал, как всегда, кашель отца. Он спрятался между живой изгородью из бересклета и стеной террасы и стал наблюдать за окнами Венка. Сильный морской ветер разгонял облака, от его дыхания они таяли. Повернувшись, Фил заметил канкалезские паруса, лежавшие на морской зыби. В доме все еще спали: окна была закрыты.
«Но она, она спит еще? Говорят, что после этого они плачут. Может, и Венка сейчас плачет. Вот теперь бы она отдыхала на моей руке, как это было там на песке. И тогда я сказал бы ей: «Это все неправда. Ничего не произошло! Ты моя Венка, такая же, как всегда. Ты не подарила мне это удовольствие, которое и не было слишком большим удовольствием. Ничто не правда, даже этот вздох и эта начатая и тут же прерванная песня, которые сделали тебя вдруг тяжелой и непомерно длинной в моих руках, словно ты была мертва. Все неправда. Если сегодня вечером я исчезну на белой дороге, что ведет в Кер-Анну, и если я вернусь один на заре, я спрячу это так хорошо, что ты не узнаешь… Пойдем гулять по берегу и возьмем с собой Лизетту».
Он не понимал, что радость, которую ты не изведал, потому что тебе ее неохотно подарили, придет потом. Благородство юности склоняло его к спасению того, чему нельзя было дать погибнуть: пятнадцать лет восхитительной жизни, пятнадцать лет нежных забот, пятнадцатилетие чистых и влюбленных близнецов.
«Я скажу ей: «Ты думаешь, что наша любовь, любовь Фила и Венка, кончилась не там, не на этом ложе из гречихи, ощетинившейся колючими соломинками. Кончилась не в постели твоей или моей. Это очевидно, это наверняка. Верь мне! Есть женщина, которую я плохо знаю, но которая дала мне такую большую радость, что еще и сегодня, далеко от нее, я трепещу, как сердце угря, вынутое у него живьем; чего не сделает для нас наша любовь? Это очевидно, это наверняка… А если я ошибаюсь, ты не должна знать, что я ошибаюсь…»
«Я скажу ей: «Это преждевременная мечта, это бред, пытка, когда ты кусала свою руку, моя бедная подружка, мужественный помощник в моих жестоких неурядицах. Для тебя это было мечтой, возможно несбыточной, для меня унижением — наслаждением менее глубоким, чем каверзы одиночества. Но ничего еще не потеряно, ты только забудь, и я тоже сотру из памяти воспоминание, на которое ночь уже сострадательно накинула свой покров… Нет, я не сжимал твои гибкие ноги меж своих колен, лучше посади меня к себе на плечи и побежим по песку…»
Когда он услышал, как скользят занавески по пруту, он призвал на помощь все свое мужество и не отвернулся от окна…
Между отворенными, прижатыми к стене ставнями показалась Венка. Она несколько раз старательно зажмурилась и пристально, хоть и равнодушно, посмотрела прямо перед собой.
Потом она погрузила руки в гущину своих спутанных волос и вытащила оттуда сухую соломинку… Когда же она высунулась из окна и наклонилась, высматривая, без сомнения, Фила, ее лицо меж разбросанных в беспорядке волос залила краска и одновременно осветила улыбка. Оживленная, она взяла в комнате глиняный, покрытый глазурью кувшин и стала тщательно поливать пурпурную фуксию, украшавшую деревянный балкон. Она взглянула на небо, ясное и голубое, обещавшее хорошую погоду, и начала напевать песенку, которую она напевала каждый день. Филипп наблюдал за ней из зарослей бересклета, как человек, собирающийся совершить нападение.
«Она поет… Нет, действительно, я могу доверять своим глазам и своим ушам. Она поет! И только что поливала фуксию».
Ему ни на секунду не пришло на ум, что он сам хотел этого и это должно было бы обрадовать его. Но он ощутил лишь разочарование и, как человек, не искушенный в самоанализе, попытался сравнить свое чувство с чем-нибудь ему известным.
«Ночью я приходил под это окно и убивался, потому что меня озарило: как велика разница между моим детством и моей нынешней жизнью! А она поет, она поет…»
Цветом своих лазоревых глаз Венка соперничала с утренним морем. Она расчесывала волосы, продолжая напевать с закрытым ртом все тот же мотивчик, и смутная улыбка блуждала по ее лицу.
«Она поет… Она будет красивой за обедом. Она крикнет: «Лизетта, ущипни его до крови!» Ни большого счастья, ни большого несчастья… Она все такая же…»
Он увидел, как Венка, опершись грудью на перила деревянного балкона, наклонилась, чтобы заглянуть в комнату Фила.
«Я могу высунуться из соседнего окна или перешагнуть через балконную решетку и подойти к Венка, и она бросится мне на шею…
О ты, кого я называл «моим повелителем», почему ты показалась мне некогда более пылкой, чем эта маленькая, неопытная девочка, которая держится столь естественно? Ты уехала, не сказав мне ничего. Если тебя привязывала ко мне только гордость дарителя, сегодня ты бы в первый раз пожалела меня…»
Из пустого окна доносился слабый, счастливый напев, но Филиппа это не трогало. Он не думал и о том, что через несколько недель дитя, которое сейчас пело, может быть, заплачет в этом самом окне, ошеломленное, услышавшее свой приговор. Он спрятал лицо в сгибе согнутой руки и мысленно измерил всю свою ничтожность, свое падение, свою мягкотелость. «Ни герой, ни палач… Немного горя, немного радости… Вот и все, что я ей дал… вот и все».
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.




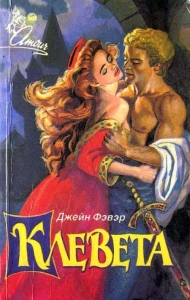
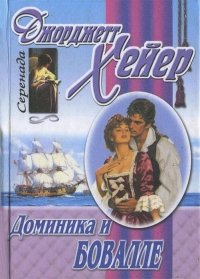
Комментарии к книге «Ранние всходы», Сидони-Габриель Колетт
Всего 0 комментариев