Фред Стюарт Титан
Посвящаю свою десятую книгу жене Джоан, горячо любимой мною
Хочется выразить признательность моим верным, прекрасным редакторам Патрисии Солиман и Майклу Корда за их помощь и советы в работе над этой книгой. Я благодарю также Джона Вайтца, оказавшего существенную помощь в написании глав, касающихся Германии 20-30-х годов.
«Титан» — художественное произведение. Тем не менее роман основан на исторических фактах. События, происходившие в тюрьме «Фульсбюттель» и описанные в книге, не придуманы мною, а излагались со слов реальных жертв гестаповских зверств того времени. Редкий писатель, включая и меня, способен сравниться в изобретении садистских пыток с нацистской тайной полицией.
Ф. Стюарт
Arma vigumque cano
VirgilПРОЛОГ Смерть титана 1963
Убийца стоял на тунисском пляже и следил в бинокль за самой большой в мире частной яхтой. Ее владелец — «легендарный», как его часто называли в прессе, — Ник Флеминг находился в своей роскошной каюте. Часы показывали только половину восьмого утра, но на сверкающей, 190-футовой «Сизпрей» уже можно было видеть двух занятых делом членов команды: один драил тиковые доски палубы, другой протирал полированные поверхности. Убийце было известно, что яхта содержится в безупречной чистоте.
Он не мог понять, почему ему отвалили такой большой гонорар за убийство старика, которому далеко за семьдесят? В самом деле, долго ли Ник Флеминг протянул бы и сам? Впрочем, двадцать пять тысяч долларов уже были помещены на номерной[1] счет убийцы в швейцарском банке, и ради таких деньжищ он предпочитал воздерживаться от бессмысленных вопросов.
Убить Ника Флеминга будет непросто. Пока хозяин находился на борту яхты, двое вооруженных охранников безотлучно торчали на палубе. И днем и ночью. Словно чувствуя, что призрак насильственной смерти постоянно бродит возле него, Ник Флеминг ездил только в лимузинах с пуленепробиваемыми стеклами, а летал на своем личном самолете. Все пять его резиденций были оснащены новейшей охранной сигнализацией.
В мире нашлось бы немало тех, кто предпочел бы видеть Ника Флеминга мертвым. Но разве добрая доля его миллиардной империи сложилась не благодаря насильственной гибели людей? Один пламенный критик Флеминга подсчитал — возможно, больше апеллируя к своему злорадству, а не к достоверности, — что семнадцать процентов от общего количества всех жертв второй мировой войны расстались с жизнью от пуль или под бомбами, выпущенными с конвейеров «Рамсчайлд армс компани», президентом и основным держателем акций которой являлся Ник Флеминг. Итак, семнадцать процентов… Это очень много.
В течение многих лет его называли в прессе «Титаном смерти».
С другой стороны, убийца прекрасно отдавал себе отчет в том, что его жертву тоже найдется кому оплакать. «Флеминг фаундейшн», обладая почти миллиардными активами, вкладывала деньги в медицинские и научные исследования, миллионами долларов субсидировала балетные труппы и симфонические оркестры. Скептикам это могло показаться отмыванием денег, но общественность действительно много выигрывала от благотворительности Флеминга.
Флеминг был лишь наполовину евреем и никогда не относился к сионистам, но тем не менее выделял миллионы на строительство больниц в Израиле. Евреи, конечно, будут скорбеть о его гибели. Будут опечалены и владельцы аукционов и дельцы от искусства: коллекция современной живописи и скульптуры Ника Флеминга была одной из самых лучших в мире, а что касается его сорока двух полотен старых мастеров и ценнейшего частного собрания Вермера Делфтского, то это оценивалось в пятьдесят миллионов.
Глаза бы не остались сухи у поставщиков провизии и цветочников, ведь шеф-повар Ника обучался в парижском «Ле Гран Вефур», а свои приемы Флеминг привык украшать цветами из личной оранжереи.
Безутешными были бы богатые торговцы Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Хоуб-саунда и Беверли-хиллз, ибо Флеминг жил по-царски и каждый день его жизни обходился в немыслимую сумму — десять тысяч долларов.
Заливались бы слезами женщины, молоденькие и уже пожилые: десятилетиями светские газетные хроникеры не давали остыть своим печатным машинкам, расписывая любовные похождения Ника Флеминга.
Убийцу никогда не нанимали убивать рядовых граждан, но сейчас он был особенно горд и возбужден. Еще бы! Ник Флеминг был его самым знатным «клиентом». Проявляя профессиональный интерес к некрологам, убийца прикинул, что некролог о Флеминге займет не меньше двух полос в «Нью-Йорк таймс», а его похороны почтят присутствием вице-президент Соединенных Штатов и какой-нибудь не слишком юный член английской королевской фамилии. «Возможно, — подумал убийца, — это вершина моей карьеры».
Однако сначала нужно убить Флеминга.
Убийца настроил окуляры бинокля на корму яхты, где в шезлонге с журналом в руке отдыхал один из телохранителей старика. «Ствол» небрежно лежал у него на коленях. Если план удастся, этот день также и для парня станет последним в жизни.
Убийца медленно повел биноклем вдоль борта «Сизпрей», подмечая и запоминая каждую деталь внешнего вида великолепной яхты, этого почти надменного символа монументального финансового величия.
Вдруг взгляд его замер. На палубе появилась женщина. Это была высокая блондинка с великолепной — очевидно, под контролем строгой диеты — фигурой. На ней были элегантный голубой костюм и широкополая шляпа. Нелегко было определить ее возраст. Лицо красиво, но несколько неестественно, словно после косметической подтяжки. Впрочем, ей наверняка было за пятьдесят. Убийца знал, что это миссис Флеминг и что она оставляет своего мужа в исключительно редких случаях. В тот день намечался как раз такой случай.
Объявившись у крохотной Джербы вблизи тунисско-ливийской границы, яхта Ника Флеминга взбудоражила весь этот сонный островок. Убийца держал ухо востро. Немалые чаевые консьержу из отеля позволили ему получить информацию о том, что у миссис Флеминг заболели зубы и что в течение часа она вылетит на вертолете в Тунис, оттуда личным самолетом отправится в Рим, где ее уже ждет доктор Джанфранко Спада, дантист, обслуживающий супербогачей. «Нет, вы только на это полюбуйтесь! — мысленно изумился убийца. — Лететь в Рим за пустячной пломбой! Впрочем, ей даже повезло: зубная боль спасет ей жизнь».
Миссис Флеминг подошла к перилам борта яхты и оперлась на них, наслаждаясь прелестью утра. Убийца не сводил с нее бинокля. Вдруг он понял, что она тоже смотрит на него. Она выпрямилась и, обернувшись назад, сказала что-то матросу, который сразу же исчез с палубы. Не прошло и минуты, как он вернулся и протянул миссис Флеминг кожаный футляр. Она извлекла бинокль и направила его на убийцу.
«Спокойно, — сказал он себе, опустив бинокль. Она меня не знает. Тем не менее лучше поскорее убраться отсюда».
Не теряя времени, он пошел с берега к своему отелю.
Но убийца ошибался, думая, что его не узнали. Ошибался, по крайней мере, наполовину. Миссис Флеминг успела разглядеть его лицо настолько, чтобы понять: оно ей знакомо.
Она была уверена, что видела этого человека раньше.
Джерба — удаленный на небольшое расстояние от тунисского побережья островок, безмятежно греющийся под лучами южного средиземноморского солнца. В нескольких сотнях километров от Джербы, посреди маленького пустынного городка Эль-Джем, возвышается второй в мире по величине Колизей. Его ярусы и арки неплохо сохранились в сухом климате пустыни. Это строение напоминает о том, что в свое время Тунис был одной из житниц Римской империи. В 1881 году Франция «оккупировала» Тунис, взяв на себя долги продажных турецких беев[2], и даже спустя годы после обретения Тунисом независимости французский язык остался там повсеместно распространенным. Оливки, фосфаты и дары моря вносят свой вклад в экономику страны, но основной ее статьей доходов является туризм. Застройщики этих мест уже поговаривают о Джербе как о втором Солнечном береге.
Причина того, что яхта Ника Флеминга бросила якорь у Джербы, заключалась в том, что «Титан смерти» серьезно подумывал построить на этом тунисском островке курортный отель.
За преступления хорошо платят: убийца много работал и благодаря этому стал богатым человеком. Он всегда был с иголочки одет и ездил только первым классом. Причем делал это не только потому, что очень любил красиво пожить. Просто он знал, что большинство людей ошибочно считают, что профессиональный убийца не может себе позволить ни сорочки от «Торнбулл энд Ассер», ни номер в парижском «Ритце» или в лондонском «Конноте». А в мире, который бредит только деньгами, даже кажущееся благополучие способно создать вокруг человека ореол респектабельности. И считается, что хоть богача могут убить, сам он никогда не пойдет на убийство.
Убийца остановился в лучшем отеле острова. Несмотря на то, что он родился в Дюссельдорфе, в семье армейского капитана, в 1925 году, теперь в его кармане лежал швейцарский паспорт, а с персоналом отеля он объяснялся по-французски. Он выдавал себя за некоего Луи Арно, текстильного дельца, приехавшего из Женевы. Цель приезда — отдых. Его комната с куполообразным потолком имела собственную террасу, выходившую на пляж, по которому тем утром ему довелось прошагать пару миль, встретив по пути лишь тунисца-рыбака и бедуина-погонщика скота. Кухня в отеле была превосходная, но с наступлением вечера он не пошел обедать, а остался у себя в номере. Прежде чем загнуть, он установил будильник на своих ручных часах на одиннадцать. Когда сигнал разбудил его, он скинул с себя все вплоть до плавок и в течение сорока минут ломал свое тело упражнениями, специально составленными для него одним австрийским гимнастом.
Приняв душ, он отыскал свой чемодан из верблюжьей кожи и достал оттуда квадратный прорезиненный сверток. В следующую минуту из этого свертка появился на свет черный водолазный костюм, который он и натянул на себя. Ласты, маску, специальные присоски и водонепроницаемую кобуру с автоматическим браунингом 22 калибра и глушителем он решил донести до пляжа в руках.
В тех случаях, когда предстояла «большая» работа, как сегодня, он не использовал редких типов оружия, которые легче выслеживала полиция. Для поражения с близкой дистанции пушка 22 калибра вполне годилась. При попадании в лоб пуля не выходит через затылок, а рикошетит внутри, быстро превращая человеческие мозги в собачьи консервы.
Убийца уже знал, что к десяти вечера в отеле становится пустынно: после обеда на Джербе нечего делать, кроме как ложиться в постель и заниматься любовью.
Он выключил у себя свет, вышел из комнаты, спустился в пустой сад во дворе и пошел в сторону пляжа. На улице стояло самое начало марта, и поэтому ночь была прохладной. Но ветра не было, и мелкие средиземноморские волны лениво набегали на песок. Облака наползали на луну, похожую на отрезанный кусок дыни. Редкие лампы ночного освещения отеля и удаленные бортовые огни яхты были скудными источниками света.
Убийца натянул ласты, приладил маску и вошел в воду. Когда стало выше колен, он оттолкнулся от дна и поплыл к «Сизпрей». До яхты было около пятидесяти ярдов.
Старик вяло ковырял вилкой салат в столовой своей яхты. Ник Флеминг никогда в жизни не убивал времени, но само время убивало его, и ему это было хорошо известно. Однако о смерти он думал без раздражения. Семьдесят пять лет жизни на этой планете — срок более чем достаточный. Напротив, он скорее ждал смерти как акта, способного удовлетворить любопытство. Крайнее любопытство. Если это будет просто забытье, как он был убежден более чем вполовину, то смерть явится квинтэссенцией всех земных удовольствий. Если же правы ортодоксальные религии и эта минута станет началом отчета за земные дела… Что ж, «разбирательство» в отношении него обещает быть интересным. Но телесная слабость в нем, живом человеке, вызывала обиду. Ему все еще приносил наслаждение секс. Правда, после перенесенного недавно легкого сердечного приступа врачи посоветовали ему «потише двигаться», а ведь соблюдение этой рекомендации отнимало значительную часть удовольствия от любовных утех. Секс — не такая уж веселая шутка, если тебе известно, что он может отправить тебя в могилу. Об этом Ник очень сожалел, потому что любил свою третью жену так же пылко, как и первую. Он всегда любил с той же страстью, с какой жил.
В одиннадцать он лег в двуспальную постель в своей хозяйской каюте. Некоторое время он пробовал читать, потом погасил свет и постарался уснуть. Ему очень недоставало сейчас присутствия жены. Его мысли обратились к прошлому, к истории их любви. Он стал вспоминать свою жизнь, которая была переполнена — в сравнении с жизнью среднего человека — минутами волнений и опасности. Именно благодаря винтовкам, патронам и танкам, выпускавшимся его компанией, он оказывался в самом центре великих событий и потрясений XX века. Именно им он был обязан своим богатством и могуществом.
Две мировые войны, корейская, теперь еще эта роковая ошибка — вьетнамская… Причем с каждой новой войной роль, которую играл в них Флеминг, все возрастала. Он был знаком со многими первыми фигурами XX столетия, находился в центре самых глобальных в историческом масштабе событий века.
Воспоминания утратили четкость. События смешались в его стареющем мозгу, словно ингредиенты в густом вареве, которое зовется Временем. Но на самом дне этой чаши одно воспоминание осталось нерастворенным в общей массе: то холодное ноябрьское утро на рубеже века, когда мать взяла его с собой в запретный викторианский особняк в Пенсильвании. В тот мрачный дом, который хранил тайну начала его жизни.
Это воспоминание никогда не потускнеет.
Последние десять ярдов до яхты убийца преодолел под водой и вынырнул на поверхность только под нависающей кормой «Сизпрей». Глянув в небо, он едва не разразился проклятиями: облака отплыли от лунного серпа в сторону, сведя на нет всю его маскировку. Убийца перестал быть невидимкой. Но по-прежнему все было спокойно, и с палубы его не было видно.
Нащупав на поясе небольшой мешочек, он вытащил из него четыре присоски, две из которых закрепил на коленях, а остальные две на руках. Прилепившись к белому корпусу яхты, он медленно и неслышно стал тянуть себя наверх. Словно муха по стеклу. Он поднимался по диагонали, чтобы обогнуть нависающую корму. Наконец его голова сровнялась с палубой и он осмотрелся вокруг.
Один из вооруженных телохранителей-греков стоял на корме и курил сигарету.
Одной рукой убийца покрепче ухватился за край палубы, прочно зафиксировал себя в этом положении, а другой рукой стал доставать пистолет. Он прицелился охраннику в левый глаз. Благодаря глушителю при выстреле раздался лишь слабый хлопок. Охранник повалился на палубу.
Рывком поднявшись на палубу, убийца снял ласты. Затем, босоногий, он устремился вперед. Еще наблюдая в бинокль с берега за передвижениями матросов и миссис Флеминг, он уяснил себе, что хозяйская каюта располагается в носовой части, на основной палубе. Открыв нужную дверь, скользнул в узкий коридор, освещенный ночными бра. Коридор вывел в салон, а затем в хозяйскую каюту. Убийца неслышно опустил вниз ручку двери.
Она оказалась не заперта. Попав в кабинет Ника, он быстро пересек его в темноте в сторону спальни. Левой рукой неслышно открыл дверь, крепко держа пистолет в правой. Комната была погружена во мрак, впрочем, лунного света, проникавшего через иллюминаторы, было достаточно для того, чтобы разглядеть лежавшего в постели человека. Старик выглядел слабым и болезненным.
Для убийцы Ник Флеминг был сейчас не более чем куском мяса.
Он подошел к кровати, остановился от нее футах в четырех и стал медленно поднимать браунинг.
Он прицелился спящему старику в голову.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ «ЭНИГМЫ» 1900–1918
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Двенадцатилетний мальчик был красив: густые черные волосы, голубые глаза, словно льдинки, тонкий острый нос, четко очерченный рот, бледная чистая кожа, порозовевшая на осеннем ветру. Он выглядел жалко в своих залатанных плисовых брючках, черном шерстяном пальтишке, рваных варежках и длинном вязаном шарфе красного цвета, обернутом вокруг шеи. Он был очень смущен, если не сказать напуган, тем что мама вела его сейчас за руку по каменной дорожке, упиравшейся в особняк Флемингов.
— Мама, зачем мы туда идем? — спросил Николас Томпсон по-русски, как и всегда в разговорах с матерью, полурусской-полуеврейкой Анной Нелидовой-Томпсон.
— Увидишь, — резко ответила она.
Пятнадцать лет назад, в 1885 году, эта женщина покинула родной Киев и эмигрировала в США. Сейчас ей было тридцать шесть. Годы замужества за Крэгом Томпсоном, уэльским шахтером, и бедняцкая жизнь притупили когда-то яркую красоту Анны. Ее темные волосы раньше времени поседели, кожа, некогда такая же нежная, как и у сына, начинала покрываться морщинами. Но даже в поношенном пальто и дешевой шляпке из соломки она оставалась женщиной, на которую оборачивались мужчины. Правда, сейчас, когда она тянула своего сына вверх по каменным ступеням крыльца особняка, в ее глазах сверкали такая решимость и такой гнев, что от нее в страхе убежал бы любой повеса.
— Мама, мне страшно!
— Тебе нечего бояться, — ответила она, остановившись перед двустворчатой дверью из стекла со свинцовой сеткой внутри. Это был порог самого большого дома во всем Флемингтоне, штат Пенсильвания. Она дернула за шнурок звонка. Тяжелые облака застилали небо, северный ветер завывал в трубах этого кирпичного особняка, являвшего собой пик викторианского уродства. В это холодное ноябрьское утро 1900 года все здесь — и высокие кирпичные стены, и огромные витражные стекла окна слева от ворот, и крыша мансарды, выложенная сварочной сталью с орнаментом, — олицетворяло в глазах мальчика малопонятное ему колоссальное могущество, власть первой семьи в городе, семьи Флемингов.
Парадная дверь открылась, и показался злой лакей-негр, который устремил на мать Ника свирепый взгляд.
— Вы что же, шнурок оборвать собрались? — рявкнул он. — А то, что в доме больной человек, вам, конечно, не известно? Какого черта вам здесь надо?
— Повидать этого больного, — заявила Анна по-английски с характерным русским акцентом.
Негр с усмешкой оглядел бедно одетых посетителей.
— Я не позволю, чтобы такие оборванцы беспокоили капитана Флеминга. А теперь проваливайте.
Он начал было уже закрывать дверь, как вдруг Анна оттолкнула его и устремилась в огромный холл-прихожую.
— Эй! Ты что делаешь? Тебе туда нельзя. А ну стой!
Но Анна уже была на середине резной деревянной лестницы и тянула за собой сына. Потрясенный лакей закрыл входную дверь и бросился догонять непрошеных гостей.
— Я вызову полицию! — орал он. — Клянусь, вызову!
Анна была уже на уровне первого пролета. Там в золотой раме висел портрет капитана Винсента Карлайла Флеминга, хозяина этого дома и председателя правления «Угольной компании Флемингов». Картина была выполнена десять лет назад, когда этому человеку было пятьдесят и он был в расцвете сил. На портрете был изображен в полный рост высокий, очень красивый мужчина с темными волосами и густой бородой. Он был в строгом сюртуке и лакированных туфлях. Его левая рука царственно упиралась в бедро. Ник загляделся было на портрет, но мать уже тащила его дальше.
— Кто это? — задыхаясь от бега, спросил он.
— Твой отец, — последовал мрачный ответ.
Нику стало страшно: уж не сошла ли его мама с ума?
Когда лестница осталась позади, Анна без тени колебаний повернула влево и устремилась по обитому темным деревом коридору к тяжелой двери, которая виднелась в самом его конце. Ник — его детское сознание потеряло всякие ориентиры в горячечной пляске разыгравшихся на его глазах драматических событий — со страхом оглянулся, ожидая увидеть нагоняющего их негра-лакея.
«Он сейчас убьет нас! — подумал он. Ник уже привык думать по-английски. — Черный лакей сейчас убьет нас. О Боже, что же это? Мой отец? Но моим отцом был Крэг Томпсон…»
Ворвавшись в спальню, они остановились. Здесь было царство покоя и тишины. Широко раскрытыми голубыми глазами Ник осматривался. Это была большая с высоким потолком комната, по стенам висели невзрачные пейзажи с пасущимися коровами и картины на исторические сюжеты. Темно-зеленые бархатные шторы на окнах были задернуты. Лампы, работавшие на лампадном масле, бросали неровный свет на восточные ковры и бургундские шелковые обои. У дальней стены стояла старинная, обитая медью кровать. На ней полулежал, опираясь на подоткнутые под голову пухлые подушки, человек в ночной сорочке. В нем Ник признал мужчину, изображенного на том портрете на лестнице. Правда, такое сравнение сразу напоминало «Портрет Дориана Грея». Борода из темной превратилась в седую, лицо запало и напоминало лицо покойника, могущество, лучившееся с портрета, в жизни поистерлось с годами и из-за болезни. В комнате пахло лекарствами.
Старик вяло разглядывал нарушивших его покой пришельцев.
— Говорят, ты умираешь, — скрипуче произнесла Анна. — Говорят, твое сердце уже ни к черту. Рада слышать, сукин сын, что ты скоро подохнешь. Мой муж умер в одной из твоих вонючих угольных шахт. Я надеюсь, что ты тоже будешь сильно страдать! Но прежде чем ты умрешь, я покажу тебе твоего сына.
Она отпустила руку Ника и подтолкнула его вперед.
— Иди к кровати, — сказала она по-русски. — Пусть он на тебя посмотрит.
Ник замешкался. Он вдруг осознал, что в этой комнате смерти находятся еще трое. Дородная сиделка, стоявшая у изголовья кровати. Вторжение Томпсонов явно потрясло ее. Пожилой мужчина в черном сюртуке, видимо, врач, и высокая, элегантная молодая женщина. Она стояла в ногах у умирающего и не сводила пристального взгляда с мальчика.
— Я пытался их вышвырнуть, миссис Флеминг, — раздался виноватый вскрик негра-лакея, появившегося в дверях.
— Хорошо, Чарльз, успокойтесь, — ответила молодая женщина, продолжая смотреть своими серыми глазами на Ника.
Ее светлые волосы были собраны на затылке. На ней были черная крепдешиновая блузка и черная юбка. К блузке была приколота камея овальной формы, оправленная мелкими бриллиантами. У нее было миловидное лицо. Ник был очарован ее полной достоинства осанкой и тихим голосом, не лишенным, правда, строгих властных интонаций.
— Как тебя зовут? — спросила она.
— Николас Томпсон.
Она кивнула в сторону Анны.
— А это твоя мать?
— А это его отец, — вмешалась Анна, показав рукой на больного. — Одно время я работала здесь. На кухне. Этот паршивый кобель соблазнил меня. Теперь он умирает и должен что-нибудь оставить своему сыну.
Молчание.
Ник и умирающий смотрели друг на друга. Потом старик слабо кивнул сиделке, и та, наклонившись, подставила свое ухо к его губам. Ник расслышал прерывающийся шепот, затем сиделка выпрямилась.
— Капитан Флеминг, — объявила она, — говорит, что эта женщина лжет.
— Я говорю правду! — крикнула Анна.
Она отодвинула своего сына и сама подошла к кровати.
— Чтоб ты в аду сгорел! — сказала она Винсенту Флемингу.
После этих слов она плюнула умирающему в лицо.
Не обратив внимания на вскрик сиделки, она схватила сына за руку и потащила его к двери. Перед тем как выйти из комнаты, она обернулась и смерила всех присутствующих взглядом крайнего презрения.
— Я ничего и не ждала от вас, кровопийцы, — прошипела она. — Но не думайте, что Анна Томпсон от вас отступилась. Я найду адвоката. И сукину сыну все же придется выложить Нику то, что ему причитается.
С этими словами она с Ником вышла из спальни.
Последнее, что запомнилось мальчику, были серые глаза миссис Флеминг, все еще обращенные на него.
Флемингтон находился в тридцати милях южнее Питтсбурга в Аппалачах. В 1804 году прадед Винсента Флеминга купил в горах ферму с участком в двести акров, а спустя два года обнаружил, что его земля богата угольными пластами. В течение почти целого столетия «Угольная компания Флемингов» истощала эти пласты, одновременно обогащая семью хозяев. Первоначально на угольных разработках были заняты местные рабочие, потомки шотландских и ирландских поселенцев, пришедших в горы в XVIII веке. Но после Гражданской войны вместе с волной европейской эмиграции в страну хлынула дешевая рабочая сила. Уэльсцы вроде Крэга Томпсона у себя на родине копали уголь в условиях дичайшей эксплуатации, здесь же их наняли за жалованье, небольшое по американским стандартам, но приличное в сравнении с тем, что они получали дома.
Большинство шахтеров жили за пределами Флемингтона в грубых, крытых белой жестью лачугах, которые сдавались им «Угольной компанией». Флемингтон, этот сонный городок с населением в пять тысяч человек, жил за счет «Угольной компании». Понятно, что она в нем и господствовала. Викторианское здание суда размещалось посреди городской площади. Перед входом возвышалась статуя Правосудия, вся белая от голубиного помета. На лавочках возле статуи собирались ветераны Гражданской войны, чтобы сразиться в шашки и посплетничать. Единственной мощеной улицей города была Шерман-стрит, застроенная добротными белыми домами, большинство из которых имели крыльцо с козырьком. Флемингтон встретил XX век в состоянии полудремы и не выразил большого интереса к тому, что происходило за его пределами. На недавних выборах город голосовал за Мак-Кинли, да и то лишь благодаря республиканской привычке. Что же касается вице-президента Теодора Рузвельта, то это имя было известно лишь немногим жителям Флемингтона.
Когда в 1896 году в результате взрыва в шахте погиб Крэг Томпсон, его вдова и восьмилетний сын были выселены из лачуги, которая принадлежала «Угольной компании». Впрочем, Анна не особенно переживала. Она всем сердцем ненавидела свое убогое жилище, состоявшее из двух комнат, которые страшно стыли зимой и превращались в настоящую баню летом. И все же это был какой-никакой дом. Теперь ей некуда было податься, а все ее состояние насчитывало пятьсот долларов страховки.
Но она отличалась находчивостью. В двух кварталах от здания суда она нашла кафе, хозяин которого перебирался в Аризону в надежде залечить свой туберкулез. Анна взяла забегаловку в аренду, заново выкрасила это убожество внутри и снаружи, отдраила закоптившуюся кухню, наняла пухленькую официантку Клару и вновь открыла заведение, назвав его просто: кафе «У Анны». В арендный договор были включены также и две комнаты, располагавшиеся над кафе, куда Анна и переехала с сыном. В их прежнем жилище тоже было две комнаты, но зато здесь имелся туалет и ванная, «ровесница каменного века», что само по себе было шагом вперед по сравнению с «удобствами» на дворе шахтерской лачуги. Ник познакомился с новым для него понятием: туалетная бумага.
В городе была еще одна закусочная — кафе «Кортхаус». Оно располагалось прямо перед зданием суда. Анна попробовала там несколько блюд, для того чтобы определить, по каким направлениям вести конкуренцию. Как и следовало ожидать от кафе из маленького городка в Пенсильвании, еда там была примитивная и малоаппетитная. Но кафе «Кортхаус» уже давно оживленно продавало ленчи местным бизнесменам. Анна замыслила переманить их к себе. Будучи отличной поварихой, она составила меню, в которое включила несколько блюд русской кухни, любимых ею с детства.
Но бизнес не пошел. Анна недооценила провинциализм местных флемингтонских предпринимателей. Им нравилась примитивная пища, и они уже приросли к табуреткам в кафе «Кортхаус». Более того, они не доверяли иностранцам, в особенности евреям. Анна имела несчастье быть единственной еврейкой во всем Флемингтоне. Люди проходили мимо, и спустя два месяца после своего открытия кафе «У Анны» практически готово было вылететь в трубу.
Кроме всего прочего, к вдове Томпсон захаживали мужчины. Репутация Анны в среде шахтеров никак не походила на репутацию святой: она была уже беременна, выходя замуж за Крэга Томпсона, и ходили упорные слухи о том, что новобрачный вовсе не является отцом ребенка. Вскоре после того как она открыла свое кафе, к ней по ночам стали пробираться мужчины. Ник спал в соседней комнате, но стенки были тонкие, и ему частенько не давали заснуть приглушенные шепотки и тихие стоны. Большинство мальчишек маленьких американских городков того времени не имели никакого понятия об интимных сторонах жизни. Ник, быстро усваивавший школьный материал, скоро усвоил и представление о сексе. Он обожал свою маму и говорил себе, что она никогда не будет заниматься плохими делами. И когда некоторые из его однокашников стали позволять себе скользкие замечания по адресу Анны — правда, они и сами толком не понимали, над чем смеются, — Ник стал беситься. Он был худой, но жилистый и выносливый. В честной драке Ник мог справиться с любым из класса, но о честных драках и речи не было: на него наваливалось всегда не меньше трех ребят.
В тот день ему особенно досталось. Он пришел из школы домой, в кафе, с многочисленными ссадинами, ушибами и шатающимся зубом. Встревоженная мать спросила:
— Что случилось?
Но Ник не хотел раскрывать правды.
— Упал с лестницы.
Анна знала, что он скрывает истину, и догадывалась какую. Но она не могла закрыть свои двери перед мужчинами.
Анна очень нуждалась в деньгах.
Вечером того же дня, когда она водила сына в дом Флеминга, в кафе, где находилось четверо посетителей, вошел шериф с двумя своими помощниками.
— Миссис Томпсон?
Незадолго перед этим она вынуждена была рассчитать Клару и теперь сама обслуживала столики. Она бросила на тучного шерифа подозрительный взгляд:
— Да.
— Вы арестованы.
— За что?!
— Проституция.
Она закричала и стала сопротивляться. Им пришлось надевать на нее наручники прямо в зале. Ник, мывший посуду на кухне, услышал шум и кинулся в зал.
— Мама!
— Ник, найди мне адвоката! — успела крикнуть она, прежде чем ее вытолкали из дверей на улицу.
Мальчик бросился через весь зал к дверям, выбежал наружу — уже опустились сумерки — и увидел, как помощник шерифа запирает заднюю дверцу «воронка». Он бросился к шерифу.
— Что вы с ней делаете?! — крикнул он.
Шериф посмотрел на него сверху вниз:
— Прости, малыш, но твоя мама — шлюха.
Ледяная бесстрастность этих слов способна была убить души многих двенадцатилетних подростков, и она едва не убила Ника. Он смотрел, как удаляется по улице «воронок», и чувствовал, как что-то неприятное ползет у него вверх в животе. Он переломился пополам, и его вырвало прямо на землю. Затем, скрючившись рядом с этой лужицей, он схватился за голову руками и дал волю слезам. Хуже всего было то, что он знал: шериф сказал правду.
Затем на смену стыду и обиде пришла ненависть. Он понимал, что арест матери вечером того же дня, когда они вместе ходили в особняк Флемингов, нельзя назвать совпадением. Должно быть, этот умирающий старик — отец! — просто позвонил шерифу и приказал ему взять Анну. Неужели отец может быть так жесток? Или он настолько испугался угроз матери? Его отец… Капитан Флеминг… «Я его плоть и кровь! Будь он проклят!»
Все еще обливаясь слезами, он бросился в направлении Шерман-стрит, в конце которой, на самом лучшем и большом в городе участке, стоял дом Флемингов.
«Я убью его! Я убью старого ублюдка! О Боже… ведь это меня должны называть ублюдком!.. И все же я убью его! Убью!!!»
Позднее, уже будучи взрослым человеком, в разговорах с наиболее близкими людьми, которым он рассказывал о своем детстве, Ник говорил, что, скорее всего, не убил бы старика Флеминга, что эта мысль была просто результатом увиденного им в кафе: как арестовали мать, надели на нее наручники. Эти впечатления смешались с гневом и чисто мальчишеской бравадой. Однако в глубине души он понимал, что грешит против истины. Он отлично помнил свое бешеное состояние и чувствовал, что вполне мог убить собственного отца.
Как бы то ни было, но, когда он, задыхаясь, добежал до особняка и стал колотить в дверь кулаками, появился все тот же негр-лакей, который сообщил Нику, что его отец умер двумя часами раньше.
Ник, пораженный, уставился на него.
— Тогда покажите мне его тело! — потребовал он наконец.
— Пошел отсюда! Сегодня утром ты и эта дрянь, твоя мамаша, и так уже доставили здесь всем хлопот! Может, из-за вас сердце капитана и не выдержало! А ну пошел! Вон, я сказал!
С этими словами он захлопнул дверь.
Ник заковылял домой, в кафе, гнев его стал иссякать, и одновременно с этим он начал осознавать, что ему некуда податься.
Ему было всего двенадцать лет, и он остался совершенно один. Ему было стыдно и жалко себя. Он любил свою маму, но мысль о том, что она проститутка и что теперь об этом узнают все, была невыносима. Его стыд за мать усугублялся осознанием того, что он незаконнорожденный. Это оставило глубокий шрам в его душе. Когда он стал взрослым, клеветники стали обвинять его в неслыханном лицемерии: он-де укладывает к себе в постель красивых женщин, а свою семью держит в почти викторианской строгости. На самом деле разгадку этого следовало искать в том ужасном ноябрьском дне его детства.
Для взрослого Ника семья стояла на первом месте в жизни, потому что у мальчика Томпсона ее практически не было.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Угроза Анны относительно ее обращения к закону против капитана Флеминга была чистой фантазией. На наем адвокатов не было денег. Судья, который был другом старика, выдвинул обвинение против нее самой. Итог: два года в окружной тюрьме. Это было максимальное наказание за проституцию, а поскольку ранее к Анне полиция никогда не привязывалась, Ник понял, что судья просто выполнил приказ Флеминга — убрать Анну из города. Его ярость на неправедный суд была сравнима лишь с яростью от осознания того, что он ничего не в силах изменить. Та жестокость и даже жадность, в которых его обвиняли много позже, дала свои первые ростки из чувства обреченной беспомощности, которое он сполна испытал в тот день в зале суда Флемингтона. Закон существовал для богатых и могущественных, а отнюдь не для бедных и слабых. Правосудие оказалось так же загажено дерьмом, как и его скульптурное изваяние на городской площади.
Шестнадцатого ноября 1900 года Ник был отправлен судом в окружной сиротский приют для мальчиков — учреждение, которое принимало в свои стены не только сирот, но и, как объяснил Нику судья, «лиц, находящихся под опекой государства».
Приют оказался трехэтажным кирпичным домом, построенным в 1856 году. Он размещался на ферме с участком в пятьдесят акров: летом воспитанники приюта работали здесь, выращивая овощи для своих потребностей и для нужд тюремно-исправительной системы штата. Проводником Ника оказался один из помощников шерифа, который ввел мальчика в двери приюта и затем в холл с высоким потолком, в дальнем конце которого виднелась деревянная лестница.
— Жди здесь, — приказал он, указав Нику на скамейку.
Мальчик сел, положил рядом узелок с одеждой, а помощник шерифа скрылся за дверью какого-то кабинета. Ник стал осматриваться. Стены с потрескавшейся штукатуркой явно нуждались в покраске. Над старой батареей отопления на стене было размазано пятно грязи и чьей-то рукой были нарисованы губы сердечком. На стене висела в деревянной раме фотография президента Мак-Кинли, а в углу — изъеденный молью национальной американский флаг.
— Зайди, — сказал показавшийся в дверях помощник шерифа.
Ник поднялся со скамейки и вошел в кабинет. Это была большая комната с высокими окнами, выходившими на вспаханную лужайку. Вдоль всех стен тянулись высоченные застекленные книжные шкафы, заставленные тяжелыми фолиантами. Дерево, казалось, стонало под тяжестью и от скучности этих трудов: «Официальная история округа Ван-Бурен», «Словарь детских болезней», «Уголовный кодекс штата Пенсильвания». За письменным столом, на котором царил форменный беспорядок, сидел мужчина, которому Ник на глаз дал лет сорок. Он был худощав, опрятно одет, обладал песочного цвета волосами и приятным лицом. Посмотрев на вошедшего Ника, он улыбнулся.
— Добро пожаловать в наш приют, — произнес он весело, словно бы и не понимал всей мрачной иронии этой фразы. — Меня зовут доктор Хилтон Трусдейл, я являюсь директором этого учреждения. Пожалуйста, присаживайся.
Ник опустился на деревянный стул, что стоял около письменного стола. Доктор Трусдейл раскрыл папку и с минуту изучал бумаги. Затем он вновь поднял глаза на Ника и заговорил своим негромким четким голосом:
— Твоя мать была осуждена за проституцию. Ты понимаешь, что это такое?
Ник нервно повел плечами. Ему стало не по себе.
— Да, — ответил он.
— Да, сэр, — поправил его доктор.
— Да, сэр.
— Ты знал, чем занимается твоя мать?
— Я знал… что мужчины приходили повидать ее.
— А знал ли ты, что они платили ей деньги за использование ее тела в аморальных и отвратительных целях?
Ник весь набычился.
— Пожалуйста, ответь мне на поставленный вопрос, Томпсон.
— Я догадывался… Я знал.
— Так все-таки догадывался или знал?
— Знал.
— Да, сэр, я знал.
— Да, сэр, я знал, но там не было ничего аморального! Моя мама хорошая!
Холодная улыбка скривила тонкие губы доктора Трусдейла.
— Уверен, что ты искренне так думаешь о ней, Томпсон. К сожалению, общество иного мнения. Ты должен понять, что на мне лежит ответственность за всех воспитанников приюта. А вас здесь восемьдесят четыре подростка! Скажу больше: восемьдесят четыре невинных подростка. Мой прямой долг: защитить всех несчастных детей как физически, так и морально. Вот почему я вынужден задавать тебе некоторые неприятные вопросы. Скажи, тебе когда-нибудь приходилось наблюдать собственными глазами, чем занимается твоя мама с ее… ну, скажем, клиентами?
Ник залился краской:
— Нет.
— Нет, сэр. Но ты ведь знаешь, как это бывает? Ты понимаешь, за что именно ей платили?
— Да, сэр.
— Так выходит, ты понимаешь эту сторону жизни? То, что порядочные люди называют животной стороной человеческой природы?
— Да, сэр.
— Скажи, твоя мама… она когда-нибудь ласкала тебя?
Ник с изумлением взглянул на доктора:
— Она меня целовала.
— Это понятно, но делала ли она что-нибудь более… э-э… ну, что ли, более откровенное?
— Я… не знаю, о чем вы?
— Это очень просто, Томпсон. Твоя мать — проститутка. Эти женщины с испорченной нравственностью часто предаются извращениям для того, чтобы удовлетворить свою похоть. Мне известно несколько случаев, когда проститутки занимались любовью с маленькими мальчиками. Даже более того: совершали кровосмешение со своими собственными детьми.
Ник был так потрясен услышанным, что с трудом мог говорить.
— Мама… — прошептал он. — Мама никогда бы такого не сделала!
Доктор Трусдейл поднялся из-за стола.
— Как бы то ни было, а опасность того, что твоя мать была носительницей отвратительной социальной болезни, реально существует. А если принять во внимание ту бедность, в которой ты проживал со своей матерью, и, я бы сказал, вынужденную интимность, то не следует отбрасывать возможность того, что она заразила тебя. Ради безопасности наших воспитанников мне придется тебя осмотреть. — Он подошел к окну, которое располагалось как раз за его столом, и опустил темную шторку. — Пожалуйста, Томпсон, разденься.
— Раздеться?
— Да. Совсем. Донага.
Он включил настольную лампу и занавесил остальные окна. Ник почувствовал, что происходит нечто странное, но не знал, что еще остается делать, кроме как повиноваться Он встал со своего стула и начал раздеваться.
— Ботинки тоже? — спросил он, чувствуя, что покрывается холодной испариной.
— Если тебе не трудно, — раздался ответ.
Когда Ник был готов, доктор Трусдейл приблизился к нему и стал осматривать с ног до головы.
— Мм… Я вижу, ты вполне уже созрел, Томпсон. Ты занимаешься мастурбацией?
Пот тонкой струйкой пробежал у Ника между лопаток.
— Чем я занимаюсь?
— Ты играешься с ним? Ты, как это вульгарно называется, «дрочишь»?
— Н-нет…
— Нет, сэр. А ты не мастер заливать. В моем учреждении нет ни одного подростка, который бы не предавался по временам этому пороку. А теперь спокойно. Я осмотрю твои органы на предмет обнаружения поражений сифилитического характера. Не нервничай, больно не будет.
Ник весь напрягся, пока доктор Трусдейл, сев возле него на корточки, ощупывал его пенис и яички. У мальчика на миг перехватило дух, когда доктор чуть сдавил их. Наконец осмотр закончился и доктор выпрямился.
— Хорошо, Томпсон, кажется, все чисто. Но учти, что болезнь может дремать в организме годами. Я буду время от времени осматривать тебя так же, как сегодня. Для твоего же блага и, конечно, для безопасности всех наших воспитанников. — Он улыбнулся и положил свои руки Нику на плечи. — Не пугайся. Мне хочется, чтобы ты считал меня своим другом. — Он заглянул в наполненные ужасом глаза мальчика и мягко произнес: — Ты очень красивый юноша, Томпсон. — Доктор вернулся к своему столу. — Ты можешь одеться.
Натягивая на себя одежду, дрожащий от страха Ник сознавал, что, если ему доведется провести в этом приюте долгое время, с ним непременно случится что-то ужасное. Что конкретно, он не знал, но знал другое: доктор Трусдейл ему не друг.
— Это не тюрьма, — продолжил доктор, сев за стол. — С другой стороны, это, понятно, не частная школа для богатых детей. Ребята у нас много работают и мало играют. Если их отношение к жизни измеряется категориями взаимопомощи, христианской любви к ближнему, такие воспитанники живут хорошо. Если же кому-нибудь становится непонятной ценность сотрудничества с окружающими, таких ожидает наказание. Те воспитанники, которые предпочитают сотрудничать лично со мной, э-э… пользуются некоторыми привилегиями. — Он еще раз улыбнулся Нику. — Надеюсь, ты будешь сотрудничать со мной, Томпсон.
Ник как раз заканчивал застегивать рубашку, но от этих слов кровь застыла у него в жилах. Этот новый кошмар, увенчавший собой целую пирамиду прочих потрясений, выпавших на последние дни, был страшен. Помимо смутных угроз доктора Трусдейла, одно обвинение в том, что он когда-либо мог иметь сексуальный контакт с матерью, чего стоило!
Слово «кровосмешение» на всю жизнь стало для Ника Флеминга самым отвратительным.
— Обед в полпервого, ужин в шесть, — сообщил главный надзиратель Сайкс, провожая Ника вверх по деревянной лестнице на второй этаж. — Приготовление домашнего задания с семи до девяти. Отбой в полдесятого. Подъем в шесть пятнадцать. Завтрак — в семь утра. Уроки и работа — с восьми. В субботу и воскресенье — свободен, как голубь, правда, в воскресенье еще церковь.
«Боже, помоги мне отсюда выбраться! — отчаянно думал Ник. — Боже, ну что тебе стоит?»
— Вопросы?
— Нет, сэр.
— Здесь не так плохо, как кажется. Привыкнешь и ты.
Они наконец дошли до конца лестницы и вступили в длинный коридор, который разделял собой пополам весь второй этаж приюта.
— На этаже четыре спальных отделения: А, Б, В и Г. По двадцать ребят в каждом. Тебе идти в «Г». Три года назад удобства еще были на дворе, тебе повезло: государство построило туалет в здании. У нас даже душевые есть, правда, с горячей водой небольшие перебои. Но вообще доктор Трусдейл поставил сюда самое современное оборудование. Все ребята меняют белье через день…
Грузный надзиратель болтал без умолку до тех пор, пока они не добрались до конца коридора, где была дверь с табличкой «Г». Он втолкнул Ника в большую унылую комнату, в которой было двадцать железных коек. В ногах у каждой стояло по тумбочке. С потолка на длинных проводах свешивались голые лампочки. Ни картин на стенах, ни ковра на полу. Ничего. Вполне возможно, что приют не был тюрьмой, как говорил доктор Трусдейл, но уж больно он на нее смахивал.
— Запомни: твоя койка под номером «4», — сказал толстый надзиратель. — Тебе придется аккуратно заправлять ее каждое утро до завтрака. Хейнс — это староста твоего спального отделения — покажет тебе, как это делается. Кстати, мой совет: слушайся Хейнса. А это твоя тумбочка. Все твои шмотки должны храниться в ней.
Он достал из кармана золотые часики и сверился с ними.
— Через двадцать минут обед. Столовая внизу, в задней части дома. Найдешь там меня, я покажу тебе твое кольцо для полотенца в умывальнике и стол, за которым ты будешь всегда есть. Жрать-то охота?
— Да, сэр, — честно признался Ник.
— У нас очень питательная еда, — невесело сказал Сайкс. — Доктор Трусдейл изучал диетологию. — Он доверительно понизил голос: — Да видать маленько переучился.
При этом его толстощекое лицо страдальчески скривилось. Затем Сайкс ушел из спальни, закрыв за собой дверь.
Оставшись один, Ник присел на краешек своей койки.
«Нужно выбираться отсюда, — думал он. — Но куда я пойду?» На какую-то минуту он опять было пустил слезу, но потом рассудил иначе: «К черту! Слезами делу не поможешь. Надо придумать, как отсюда сбежать».
И тогда он увидел пожарную дверь в стене в дальнем конце спальни. Встав с койки и подхватив свои пожитки, он прошел туда, открыл дверь и выглянул наружу. Внизу была лужайка. Все, что ему нужно было сделать, это спуститься по лесенке на землю и уйти на свободу.
«К черту стирку белья через день и диетологию! К черту этого странного доктора Трусдейла», — думал Ник, выбираясь на пожарную лесенку.
И пока он спускался вниз, он понял, куда ему идти.
Эдит Филлипс Флеминг была дочерью президента «Огайо сентрал рэлроуд», небольшого транспортного агентства со Среднего Запада, которое в течение многих лет закупало уголь у «Угольной компании Флемингов». Все это время отец Эдит Том Филлипс и капитан Флеминг были приятелями, если не сказать закадычными друзьями, так что, когда в 1892 году недавно овдовевший Флеминг попросил Эдит стать его женой, двадцатитрехлетняя девушка согласилась без особых колебаний. Винсент Флеминг по возрасту годился жене в отцы и имел уже троих детей от первого брака. Но Винсент был красив и богат, к тому же обладал тем редким характером и волей, которые сметали все препятствия на пути. Жених был приятен Эдит, отец одобрил выбор дочери, поэтому свадьба не заставила себя ждать. Ее сыграли в Янгстоуне, штат Огайо, с большой помпой. Винсент отправился с молодой женой провести медовый месяц сначала в Лондон, затем в Париж, а когда, спустя три месяца, молодые вернулись во Флемингтон, Эдит считала, что счастливее ее и быть никого не может.
Проблемы начались позже.
Старший сын Винсента, двадцативосьмилетний Барри Флеминг, который на свадьбе показался Эдит весьма обходительным молодым человеком, вдруг начал проявлять признаки своего враждебного отношения к мачехе. Барри, который был женат и имел двух сыновей, занимал второе после отца положение в компании. Эдит решила, что симпатичный отпрыск рода Флемингов просто боялся, что ему расстроят планы на будущее. Было совершенно очевидно, что его отец без ума от своей новой жены и вполне еще способен произвести на свет еще наследника от Эдит. Эдит не имела стремления портить Барри будущее и поэтому была с ним очень любезна. Однако, казалось, она ничем не может тому угодить. Во время семейных обедов Барри едва утруждался быть с ней вежливым. А спустя два года ситуация настолько обострилась, что Эдит начала подумывать о том, что ее замужество было ошибкой.
Вот тогда-то с капитаном Флемингом и произошел первый из серии сердечных ударов, которые к концу его дней превратили его в инвалида. Старика, постоянно прикованного к постели и, очевидно, уже не способного оплодотворить жену, можно было не опасаться. В результате враждебность Барри испарилась, и скоро Эдит увидела, к своей радости, что враг превратился в друга. Годы тянулись от приступа к приступу: уродливый викторианский особняк становился все более похожим на больницу, и Эдит обнаружила, что с нетерпением теперь ждет каждого визита Барри. Сначала он являлся всегда с женой, но потом стал приходить один. Эдит убеждала себя в том, что Барри приятен ей лишь как человек, с которым можно поговорить, ведь она была, в сущности, одинока и ее окружали только доктора и сиделки. Но с течением времени она призналась себе в том, что дорожит Барри не только как собеседником. Присутствие старшего сына Винсента возбуждало Эдит физически!
Больше того: она поняла, что и сама возбуждает Барри.
За восемь месяцев до кончины Винсента его сын сделал попытку уложить в постель свою мачеху. К ужасу Эдит, она едва не уступила.
И вот спустя три дня после похорон старика Флеминга Барри стоял в гостиной дома, который принадлежал теперь вдове.
— Я разведусь с Барбарой, — повторял он снова и снова.
Эдит, очаровательно выглядевшая в траурном платье, сидела на диване, набитом конским волосом, перед инкрустированным мраморным камином.
— Барри, не говори таких вещей! — воскликнула она. — Это невозможно, и ты это сам знаешь. Будет такое… — Она в отчаянии всплеснула руками. — Город никогда нам этого не простит.
— К черту город! — взорвался он, подсаживаясь к ней и взяв ее за руку. — Он и так весь наш. Что нам могут сделать? Милая, ты даже не понимаешь, каково мне было находиться рядом с тобой все эти годы, желать тебя и не сметь даже прикоснуться к тебе! И вот теперь…
Он вдруг обнял ее, прижал к себе и стал горячо целовать. Первые секунды она даже не оказывала сопротивления. Между ними существовало взаимное и сильное физическое влечение, к тому же Эдит не была с мужчиной к тому времени уже шесть лет. И снова она едва не поддалась соблазну. И снова ее остановила мысль об ужасных последствиях этой мимолетной слабости.
Она резко оттолкнула его.
— Нет! — задыхаясь, прошептала она. — Это немыслимо! Это совершенно немыслимо!
— Но я не понимаю тебя! Мы любим друг друга!
— При чем здесь наша любовь?! — воскликнула Эдит, поднимаясь с дивана. — Ты уверен, что люди поверят в нашу любовь? А знаешь, что они скажут? Что сын Винсента Флеминга был любовником его жены в течение всех тех лет, пока отец был инвалидом! А твои дети? Что они подумают обо мне? Что они будут думать о тебе, ты хоть немного себе представляешь? Нет, это немыслимо, и мы обязаны положить этому конец сами, пока не стало поздно.
— Это все деньги, не так ли? — тихо спросил Барри.
Она изумленно посмотрела на него:
— Деньги? О чем ты?
— Согласно завещанию ты унаследовала половину отцовского состояния, то есть два миллиона долларов. Ты думаешь, что я липну к тебе из-за этих денег, рассчитывая на то, что женитьба на тебе вернет эти миллионы в семью Флемингов?
— Бред!
— Я хочу, чтобы мы заключили соглашение. Пусть все деньги останутся на твое имя.
— Барри, замолчи же! — почти закричала она. — Я больше не хочу об этом слышать! Наверное, это моя вина. Похоже, я поощряла тебя, по крайней мере, не остановила это тогда, когда следовало. Но я остановлю сейчас!
Он встал с дивана и подошел к ней. Они вдвоем стояли у камина.
— Сокрытие истины до добра не доведет, — сказал он. — Мы любим друг друга. Что бы ты ни решила, утром я встречаюсь со своим адвокатом и начинаю бракоразводный процесс.
— Барри, не надо. Это будет несправедливо по отношению к Барбаре.
— Не надо щеголять своим благородством. Все равно тебе не остановить меня.
Он пересек комнату и вышел в двустворчатые двери. Эдит простонала:
— Идиот!
Она была очень достойной женщиной, но в тот момент впервые не могла о себе этого сказать.
Через сорок минут после этого тяжелого разговора она сидела в одиночестве в похожей на грот столовой, обитой ореховым деревом и с окном, в нише которого стояла декоративная пальма. И как раз в тот момент, когда она сделала первый глоток своего крепкого бульона, в столовой появился ее лакей Чарльз.
— Миссис Флеминг, — сказал он. — Прошу прощения, но на крыльце стоит парень, который сказал, что не уйдет, не повидавшись с вами.
— Парень?
— Вы помните, в тот день, когда преставился капитан, какой спектакль устроила здесь эта дрянь Томпсон? Она еще притащила с собой сына. Вот это тот парень и есть. Я по-всякому кричал на него, грозился вызвать полицию, но он уселся на дорожке, ведущей от крыльца, и сказал, что не уйдет, пока вы не примете его. Позвольте позвать шерифа?
Эдит вспомнила Ника.
— Нет, Чарльз, впусти его в дом.
Лицо лакея удивленно вытянулось.
— В дом? Сомневаюсь, что этот паршивец за последний месяц хоть раз мылся!
— В дом, Чарльз.
— Что ж, мэм… как скажете.
Неодобрительно качая головой, Чарльз вышел из столовой. Спустя несколько минут появился Ник, держа в руке кепку. Он глянул на элегантную молодую женщину, сидевшую у дальнего конца длинного, до блеска отполированного стола. Мальчик чувствовал, что наступает один из самых значительных моментов в его жизни.
— Ты хотел меня видеть? — спросила Эдит.
— Да, мэм. Это правда, что капитан Флеминг был моим отцом?
Эдит опустила поднятую было руку с ложкой.
— Я не знаю, — ответила она. — Пожалуйста, садись.
С этими словами она показала рукой на стул слева от себя. Ник несмело прошел вперед и сел.
— У тебя голодный вид, — заметила она. — Хочешь поесть?
Он не ответил, но ей все было и так видно. Она позвонила в маленький серебряный колокольчик. Тут же явился Чарльз. Его глаза округлились, когда он увидел, что Ник сидит за столом.
— Принеси мистеру Томпсону чего-нибудь перекусить, — распорядилась Эдит. — Скажем, баранину, которая была вчера на ужин.
— Слушаюсь, мэм, — ответил Чарльз и опять покачал головой.
— Я сказала, что не знаю, — продолжила Эдит, — но, естественно, не буду отрицать, что мой муж имел репутацию женолюба. Вполне возможно, что он является твоим отцом. Она внимательно посмотрела на Ника. — Да… Твои глаза… Да, определенно, в глазах между тобой и Винсентом есть сходство.
Она сказала, что не знает, но на деле была почти уверена в том, что притязания мальчика справедливы.
— Вам известно, что сделали с моей мамой? — спросил Ник.
Эдит слегка нахмурилась:
— Да, мне это известно.
— Это правда, что об ее аресте распорядился капитан Флеминг?
Так, выходит, он знает! Эдит ощутила, как чувство большой вины охватывает ее.
— Не буду этого отрицать, — сказала она тихо. — Я пыталась отговорить его, но он настаивал. Как можно отказать умирающему? Но я понимаю: то, что произошло, — ужасно. Я действительно это понимаю. Сможешь ли ты когда-нибудь простить нашу семью?
— Я не обвиняю вас, миссис Флеминг, — искренне ответил Ник. Он видел, что молодая женщина терзается чувством вины.
— А ты? Что с тобой? — спросила она. — Где… — Она сделала неопределенный жест рукой, не решаясь спросить прямо.
— Меня отвезли в окружной сиротский приют, но я убежал оттуда. Я умный, миссис Флеминг. Я могу стать человеком, если мне дадут шанс. Я знаю, что смогу! Но мне нужно уехать из этого города. Я хочу получить образование. Он замолчал, сдерживая волнение. Переведя дух, продолжил: — Если я действительно сын капитана Флеминга, то отец обязан был мне хоть что-нибудь оставить. Не подумайте, что я хочу просить у вас или у других его детей денег. Но, пожалуйста, дайте мне в долг столько, сколько необходимо для получения образования! Я верну долг позже, честно, верну. С выгодой. Я буду учиться, и вы все сможете гордиться мной. Я знаю, что могу быть настоящим человеком. Но мне нужна помощь в самом начале.
Она, не отрываясь, смотрела на мальчика.
«Может, это и есть выход, — думала она. — Может, это и есть путь остановить Барри… Но разве я хочу его останавливать? Да, я должна. То, чего он хочет, просто невозможно. Кстати, не будь я дурой, я бы сама давно уже уехала отсюда. У меня здесь только неприятности. И, Бог свидетель, мы действительно кое-что должны этому бедняжке. Может, это реальный выход из положения для нас обоих».
— Хотел бы ты поехать со мной в Нью-Йорк? — спокойно предложила она.
Лицо Ника вытянулось.
— Нью-Йорк? Почему в Нью-Йорк?
— Подыскать тебе хорошую школу. Видишь ли, самые хорошие школы находятся на востоке страны. А Нью-Йорк — чудесный город. Он тебе понравится.
— Вы хотите сказать… что собираетесь в Нью-Йорк?
— Да, я переезжаю. А этот дом выставлю на продажу. Это мрачное место, в нем меня ждут только неприятные воспоминания. Нью-Йорк — это как раз то, что мне нужно.
Ник ушам своим не верил.
— Когда вы решили это? — спросил он.
— Только что, — засмеялась она. — Лучшие решения всегда принимаются под влиянием минуты. Я верю в это правило. Ну так что ты скажешь? Да или…
— Да! Да!!! — Ему не потребовалось дважды предоставлять шанс на будущее.
— Ну что ж, я думаю, это прекрасно. У нас ведь начинается совершенно другая жизнь, а?
Ник широко улыбнулся.
— Я знал, что произойдет что-то хорошее, если я приду еще раз в этот дом! — воскликнул он. — Я знал, что вы поступите по справедливости.
— Тем лучше для нас обоих.
«Прощай, Барри, — подумала она. — Только что я обрела нечто новое в жизни. Сына».
* * *
Он не верил своим глазам, видя, как она постарела. Прошло чуть больше года, а мать превратилась в старуху. Она лежала на кушетке тюремной больницы и знала, что умирает: простуда, которую она подхватила в плохо отапливаемой камере, быстро развилась в воспаление легких. Но, увидев сына, который подрос на целый дюйм со времени их последней встречи, она заставила себя подавить страх смерти.
— Значит, миссис Флеминг добра к тебе? — прошептала она.
— О, что ты, она сказочно добра ко мне! — воскликнул он. — Знаешь, мама, в Нью-Йорке она купила такой красивый дом. И у меня есть собственная комната на третьем этаже… и ванная только для меня одного.
— Ванная… — эхом отозвалась Анна, пытаясь удержать в себе остатки покидающих ее жизненных сил. — Хорошо. Она устроила тебя в частную школу?
— Да, в школу Святого Николая.
— Католическая? — спросила она и закашлялась.
— Нет, в основном епископальная и пресвитерианская.
— Там, наверное, все дети из богатых семей?
— Почти все.
— Задираются?
— Пусть только попробуют, — горделиво ухмыльнулся Ник. — Они боятся меня, потому что знают, что я их побью.
Она в изнеможении прикрыла глаза.
— Не будь забиякой, — прошептала она. — Но вообще… Это хорошо, когда есть люди, которые тебя боятся. Жизнь — это… — Она хотела сказать «штука трудная», но ее губы только чуть скривились и застыли.
— Мам? Мам, не спи, пока я тут. Мама?
Он сделал шаг вперед и коснулся ее руки. Вдруг он все понял.
— Сестра! — крикнул он, медленно поднялся с кушетки и потрясенно уставился на безжизненное тело своей матери. Лицо Анны впервые показалось сыну спокойным и безмятежным.
К тому времени, как подоспела тюремная медсестра, забияка из школы Святого Николая беззвучно рыдал. Да, Анна была приговоренной проституткой, о которой Эдит Флеминг предпочитала не вспоминать, но Ник любил ее со всей неистовой страстью русской души. Той души, которую преподаватели школы и Эдит изо всех сил стремились американизировать.
Футбольный мяч пронесся в свежем осеннем воздухе и был подхвачен крайним нападения Принстона, которому удалось пробежать с ним пятнадцать ярдов, но затем дорогу ему преградил здоровый парень, защитник йельской команды. Вдоль кромки поля расположилось более тысячи хорошо одетых болельщиков — студенты, родители, знакомые и подружки, — которые подбадривали игроков с бьющим через край темпераментом. Принстонская половина аплодировала удачному пасу, йельская — перехвату у противника мяча. На дворе стоял 1908 год, и счет во второй половине матча Йель — Принстон пока оставался нулевым. Впрочем, принстонская команда прорвалась-таки в двенадцатиярдовую зону противника и, казалось, серьезно вознамерилась открыть счет в игре. Эдит Флеминг, смотревшаяся просто по-королевски в своей круглой шляпке и подбитой норкой шубе, с интересом наблюдала за перипетиями игры с той стороны, где расположились болельщики Принстона. Эдит стала горячей поклонницей футбола с того самого дня, когда второкурсника Ника приняли в университетскую сборную. В этом матче Ник пока сидел запасным. Нападающий Принстона, опрокинутый здоровяком из йельской команды, поднялся на ноги при помощи своих товарищей, и к нему через все поле устремился врач, придерживая рукой котелок на голове. Все ясно: нападающий повредил лодыжку. Чувствуя, как сердце ее наполняется восторгом, Эдит увидела своего Ника, появившегося на поле, чтобы заменить травмированного товарища по команде. Она принялась отчаянно аплодировать.
Вдруг что-то заставило ее остановиться.
Она поняла, что является единственным болельщиком из всей толпы принстонцев, приветствующим выход Ника.
Хуже того: кто-то из болельщиков Принстона, за который выступал Ник, возмущенно засвистел!
* * *
— Но я не могу этого понять! — воскликнула она вечером того же дня, сидя напротив Ника за столиком ресторанчика близ Нассо-холл. — Почему они освистали тебя?
К двадцати годам Ник вырос в высокого и удивительно красивого юношу с черными как смоль волосами. Сейчас, тыкая вилкой в картофельное пюре, он только пожал плечами.
— Ладно, мать, не обращай на них внимания, — сказал он хмуро. С годами он приучился звать Эдит «матерью», ибо относился к ней с большой привязанностью.
— Но как же я могу не обращать на это внимание? Это настолько… настолько несправедливо по отношению к тебе! В конце концов ведь это ты забил йельцам гол!
— Ну после гола-то мне хлопали, это я видел.
— Ты уходишь от сути проблемы. Мне совершенно ясно, что что-то случилось. Что?
Ник положил свою вилку. Он не хотел говорить на эту тему, которая была нелегка для него самого, да и Эдит не желал огорчать. Но она проявляла настойчивость.
— Ты помнишь Арнольда Флеминга? — спросил он.
— Конечно. Старший сын Барри. В этом году он поступил к вам в Принстон.
— Не только поступил, но, поступив, рассказал всем в университете о моем прошлом. Сделал акцент на моей матери и на том, кем она была. У нас здесь полно снобов, которым я не нравлюсь только из-за того, что у меня нет «правильного» нью-йоркского произношения и «правильных» знакомств. Но я на это не обращал внимания до появления Арнольда… — Он говорил небрежным тоном, пытаясь скрыть за ним свою острую обиду. — Теперь у нас есть много тех, кто считает недостойным, что на футбольном поле Принстон представляет… сын осужденной проститутки.
Наступило тягостное молчание. Эдит ошарашенно смотрела на Ника.
— Не могу поверить! — наконец произнесла она сдавленно. — Неужели люди еще бывают такими ограниченными?
— У нас бывают. Но я прошу тебя: не волнуйся. Будучи ребенком, я при каждой возможности ввязывался в драку за свою мать, но теперь я вырос. Мне просто наплевать на них.
Она уже знала его настолько хорошо, что была уверена, что Ник просто скрывает свое отчаяние под фасадом внешней холодности и безразличия. Эдит почти физически чувствовала его обиду. Кроме того, как член семьи Флемингов она никогда не переставала чувствовать себя виноватой перед Ником. Все это заставило Эдит принять решение, о котором она уже думала некоторое время. Она знала, что любовь к ней Барри Флеминга обернулась желчной неприязнью и обидой, когда она бросила его, уехав с Ником в Нью-Йорк. Если травлей Ника Барри задумал отомстить ей, этому необходимо положить конец.
— Чем бы ни занималась твоя мать, — начала Эдит, — она делала это только для того, чтобы хоть как-то прожить и позаботиться о тебе. Конечно, я не могу одобрить то, чем она зарабатывала деньги, но могу понять, что ее подтолкнули на это обстоятельства. Во всяком случае, ни Барри Флеминг, ни кто-либо другой из Флемингов не имеет ни малейшего права разрушать тебе жизнь из-за того, что имело место много лет назад. — Она сделала паузу. — Ни на одну секунду я не пожалела, что взяла тебя тогда с собой в Нью-Йорк, Ник. Ты стал мне очень дорог. Я считаю тебя сыном, хоть в тебе нет моей крови. Я готова сделать все для твоего блага, для того чтобы помочь тебе. Я хочу дать тебе чувство безопасности, чувство принадлежности к семье. И если эти тупицы, твои однокашники, думают, что ты хуже их… Что ж, мы покажем им, что они ошибаются.
Ник смущенно смотрел на Эдит.
— Что ты имеешь в виду?
— Я дам тебе столько денег, сколько нужно, чтобы чувствовать себя ровней им. У тебя будут лучшие костюмы. Лучше, чем у кого бы то ни было. А поскольку ты намного симпатичнее, чем твои ровесники, то почему бы тебе не начать присматриваться к хорошеньким и состоятельным нью-йоркским наследницам? Мы им еще покажем, мой милый Ник. Я не позволю всяким там прыщавым снобам воротить носы от моего сына! — Улыбнувшись, она перегнулась через стол и коснулась его руки. — Вот кем ты станешь в первую очередь: моим сыном. Я хочу усыновить тебя, Ник, как положено по закону. Я уже довольно долго думала над этим и теперь вижу, что время подошло. Мы заткнем Флемингам рты! Они не посмеют больше говорить о тебе плохие вещи, ведь ты станешь Флемингом тоже! Но и без этого я приняла бы свое решение. Просто ты стал моим сыном, милый Ник, уже давно. Пришло время дать тебе мою фамилию.
Несостоявшийся в прошлом воспитанник сиротского приюта ошеломленно смотрел на женщину, которую он успел полюбить за эти годы. К нему пришло смутное осознание того, что она сейчас преподносит ему на серебряном блюде весь мир!
— Ну? — произнесла она, улыбаясь. — Ты позволишь мне быть твоей мамой?
— Конечно, — взволнованно проговорил он. — Ты и так моя мама. Я хотел сказать, что всегда думал о тебе в этом роде… И, знаешь… спасибо. Конечно, это дежурное словечко, но я, правда, от всего сердца благодарю тебя!
— Только есть одно условие, — сказала она. — Ты всегда должен быть таким, чтобы я могла тобой гордиться.
Со слезами благодарности и радости в глазах он проговорил:
— Да лучше мне сгореть на этом месте, чем совершить когда-нибудь недостойный поступок!
Эдит Флеминг переживала самый счастливый миг в своей жизни.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
В ветреный и снежный мартовский день 1912 года у красивого, каменного, в стиле Bella epoque дома на восточной стороне 64-й улицы Манхэттена остановился лимузин марки «пирс эрроу», и шофер в желтой форменной куртке и лакированных башмаках выскочил из машины и бросился открывать заднюю дверцу. Придерживая рукой шляпку с перьями, чтобы ее не сорвало порывистым ветром, из машины вышла Эдит Флеминг и стала подниматься по ступенькам крыльца своего городского дома. Она позвонила, и через пару секунд слуга-англичанин Глэдвин отворил тяжелые двери, украшенные богатой резьбой, и хозяйка проскользнула в мраморное фойе, увлекая за собой целый вихрь снежинок.
— Сын дома? — спросила она Глэдвина, принимавшего ее соболью шубу.
— Да, мадам. Он наверху, в своей комнате.
— Передайте ему, что я хочу его немедленно видеть. Я буду в библиотеке.
— Очень хорошо, мадам.
Глэдвин заметил, что миссис Флеминг в скверном расположении духа.
Эдит приобрела этот четырехэтажный городской особняк в 1901 году вскоре после переезда и Нью-Йорк, заплатив девяносто пять тысяч долларов за то, что считалось одним из самых красивых домов в верхнем Ист-сайде.
Она зашла в библиотеку и прикрыла за собой дверь. На ней были отлично сшитый серый костюм и белая шелковая блузка. Она прошла к своему с толу и взяла из малахитовой шкатулки турецкую сигаретку. На людях еще никто не видел Эдит Флеминг курящей, но дома она себе это позволяла, когда бывала чем-нибудь рассержена. А сейчас Эдит была очень рассержена.
Вошел Ник.
— Ты хотела меня видеть, мать? — спросил он. На нем был сшитый на заказ темно-сини костюм. Двадцатичетырехлетний Ник Флеминг был не только одним из самых красивых молодых людей В Нью-Йорке, но И одним из самых известных щеголей.
— Я только что от Макса Флитвуда, своего адвоката, — объявила Эдит. — Ты знаком с девушкой по имени Мира Стилсон?
«Плохо дело», — подумал Ник.
— Да. Мы познакомились на одной вечеринке несколько месяцев назад.
— В таком случае, надеюсь, с этого дня ты будешь предпочитать приличные вечера подозрительным «вечеринкам». Эта самая мисс Стилсон, которая, я уверена, вертится где-нибудь около кинематографа, заявила моему адвокату, что беременна от тебя. И добавила, что ты обещал на ней жениться.
— Это ложь.
— Может быть, но она говорит, что если не получит от тебя пяти тысяч долларов, то обратится в суд и начнет против тебя дело о нарушении данного обещания. Так все-таки она говорит правду?
— М-м… Я переспал с ней как-то, но то же самое делали и другие ребята. Думаю, ей не удастся доказать, что я являюсь отцом.
Эдит затушила окурок в малахитовой пепельнице.
— Как ты думаешь, для чего я давала тебе деньги? Для того, чтобы ты получил образование или валялся в постели с дешевыми актерками? Я очень хорошо помню молодого человека, который обещал трудиться и учиться, делать все, чтобы я могла им гордиться. Только бы ему дали шанс. Ну так что ж, Ник, ты получил шанс. Да что там шанс! Я дала тебе все самое лучшее, а чем ты меня отблагодарил? Ты стал равнодушным к делу брокером на Уолл-стрит, который умеет делать долги, за которые я расплачиваюсь, который шатается по Нью-Йорку в компании молодых людей с самыми подозрительными репутациями, который не придерживается никаких нравственных установок в отношениях с женщинами, который, наконец, сделал беременной бедняжку, у которой закружилась голова от красивых слов. И этим ты предлагаешь мне гордиться, Ник?
— Нет, — проговорил Ник.
Она тяжело вздохнула и села в кресло.
— Мне кажется, я слишком много с тобой возилась, — сказала она. — Я тебя избаловала, теперь мне это ясно. Я завалила тебя деньгами и сама же просила, чтобы ты расшвыривал их направо и налево. Чтобы твои приятели не смели воротить от тебя нос. Все это укоренилось в тебе. Видит Бог, что я сержусь на тебя, но я также сержусь и на себя!
Он подошел к ней, положил свою руку ей на плечо и поцеловал в щеку.
— Не сердись, — сказал он мягко. — Просто ты хотела помочь мне, что показывает тебя с самой лучшей стороны. Я знаю, что разочаровал тебя. Я сам в себе разочаровался, но у меня есть хорошие новости…
— Не уходи в сторону от темы разговора, — прервала она его. — Давай вернемся к этой твоей девчонке Стилсон. Я заплачу ей пять тысяч, потому что не хочу, чтобы твое или мое имя появилось в газетах в связи с какой-то грязной склокой. Но это будет последний раз, когда я помогаю тебе. С этого дня ты находишься с финансовой точки зрения на самообслуживании. Пока ты совсем не испортился, я прекращаю тебя субсидировать. Отныне тебе за все придется расплачиваться из собственного кошелька, может быть, это поможет тебе наконец обрести характер. Конечно, ты будешь и впредь жить в нашем доме, но за одежду и все остальное станешь платить сам. И учти: больше никаких актерок!
Он выпрямился, засунул руки в карманы и подошел к одному из двух окон, выходящих на 64-ю улицу. Он знал, что решительно всем в своей жизни обязан Эдит.
— Ты права, — сказал он. — Начиная с сегодняшнего дня, я буду жить самостоятельно. Как думаешь, сколько примерно ты потратила на меня за все эти двенадцать лет?
— Не в этом дело.
— И в этом тоже. — Он отвернулся от окна и посмотрел на нее. — Я просил у тебя эти деньги в долг и говорил, что обязуюсь вернуть их с выгодой. Итак, ты была в отношении меня на редкость щедра, а я брал и брал… Похоже, предаваясь удовольствиям, я просто пытался забыть, кем был. А удовольствий новая жизнь дарила мне много. Возможно, даже чересчур много.
— Я не жалею о деньгах, Ник. Я хочу, чтобы ты наслаждался жизнью. Но мне также хочется гордиться тобой, и, думаю, я имею на это право.
— Конечно имеешь. А все-таки что касается денег, то в течение трех лет я обязуюсь вернуть долг.
— О, Ник, не будь ребенком! — сердито воскликнула она. — Я вовсе не требую от тебя денег, это во-первых, и не нужно делать таких диких заявлений, это во-вторых. Я не желаю, чтобы ты выкинул какую-нибудь глупость на Уолл-стрит, ввязывался в азартные игры ради большой прибыли.
— Я покидаю Уолл-стрит.
— Что?
— Тебе когда-нибудь приходилось слышать о «Рамсчайлд армс компани»?
— Конечно. Это где-то в Коннектикуте.
— Так вот, Альфред Рамсчайлд — один из клиентов моей фирмы, и мне удалось дать ему несколько советов насчет акций, на которых он неплохо заработал. Это к вопросу о том, что я полный неудачник. Альфреду понравилась моя голова, и он предлагает работу. Отличная работа — торговый агент в его компании. Пять тысяч в год плюс комиссионные за сделки. Это гораздо больше того, что я имею на Уолл-стрит.
— Но ведь ты же ничего не понимаешь в оружии.
— Я подучусь. К тому же это избавит меня от Нью-Йорка, — с улыбкой сказал он. — Ты была права, когда сказала, что у меня нет характера. Но в этом городе становления характера никогда не произойдет.
— Тебе необходимо все тщательно обдумать. Это очень важный шаг.
Он засмеялся и снова подошел к ней.
— Я очень даже хорошо помню одну милую молодую леди, которая как-то говорила мне, что лучшие решения принимаются под влиянием минуты. — Он обнял ее и нежно поцеловал в щеку. — Ты, конечно, будешь очень удивлена, если увидишь, что в этом деле я преуспел, не так ли?
Она посмотрела на него, закусив губы.
— Черт возьми! — сказала она, вынимая из кармашка блузки кружевной носовой платок.
— Что ты? — встревожился Ник. — Что случилось?
Она улыбнулась, вытирая влажные глаза:
— Я вроде бы должна вздохнуть с облегчением, узнав, что твоим похождениям пришел конец, но… я буду сильно скучать по тебе.
— Ничего, я еще намозолю тебе глаза. Вот увидишь, вернусь, как фальшивая монетка из сказки. — Он снова поцеловал ее. — Я тоже буду скучать. Ты — лучшее из всего, что у меня было в жизни.
Эдит Флеминг знала, что он не лукавит. Она была сегодня сердита на своего милого сына, но его открытая любовь к ней с лихвой компенсировала все разочарования, которые он ей принес.
— А знаешь… — проговорила она, чувствуя, как к ней возвращается чувство юмора, — это неплохая мысль.
— Вот именно! Кстати… Если человек решает стать продавцом в крупной компании, без машины ему никак не обойтись…
— О, Ник! — вздохнула Эдит. — А я-то уже было поверила в то, что ты образумился!
— Мне не нужен шикарный лимузин. Сойдет и модель «Т».
Она подняла на него глаза, но не выдержала, покачала головой и рассмеялась:
— Господи, тебе так легко меня одурачить! Когда я научусь извлекать уроки? Хорошо. Я куплю тебе машину. Но не забудь вернуть долг, когда станешь военным воротилой.
— А думаешь, я им не стану?
Ник, конечно, даже не подозревал о том, что удачнее времени для того, чтобы окунуться в военный бизнес, и быть не могло. Всего через два с лишним года после того, как он пришел в компанию Альфреда Рамсчайлда, в Сараево оборвалась жизнь эрцгерцога Франца Фердинанда и его морганатической жены Софьи. Европа была ввергнута в первую из двух великих войн, которым суждено было изменить мир. Это, естественно, не значит, что конвейеры заводов компании Рамсчайлдов простаивали в мирное время. Альфред Рамсчайлд кормился колониальными войнами. В 1901 году Альфред заключил миллионную сделку по продаже своих винтовок А-16 армии турецкого султана. Устойчивый спрос всегда существовал и на охотничьи ружья. Компания, основанная во время Гражданской войны отцом Альфреда, в любое время приносила стабильный доход. Но мировая война сделала из Альфреда Рамсчайлда мультимиллионера.
Казалось странным, что такой человек, как Альфред, стал королем оружейного бизнеса. Он терпеть не мог кровавые виды спорта и запретил охоту на восьмидесятиакровой лесистой территории своего поместья близ Фермаунта, штат Коннектикут, несмотря на то что там водилось очень много дичи. Само понятие «война» вызывало в нем отвращение. Совесть свою он успокаивал словами, которые поминал, может быть, излишне часто: если бы он не производил оружия, этим занимался бы кто-нибудь другой. Да и, в конце концов, кто ему может запретить зарабатывать деньги законным путем? В жизни у него были две подлинные страсти: живопись и салонная музыка. Альфред был скверным художником, но хорошим пианистом. В его тридцатикомнатном особняке, выстроенном в псевдотюдорском стиле, размещались не только два фортепиано «Стейнвей», но и клавесин, орган и коллекция блестящих струнных инструментов, включая творения Амати и Страдивари.
Представления Альфреда о хорошем вечере складывались из щедрого обеда и двухчасового прослушивания Бетховена: все рассаживались в просторной «музыкальной» зале с низким потолком, где трио — Альфред со скрипачом и виолончелистом — играло немецкого классика. Гости частенько клевали носом и даже всхрапывали, но Альфред был счастлив. Забываясь в музыке, он избавлялся от видений кровавых полей битв, ужасных ран, ампутаций и гангрен, он забывал о смертях, вызванных пулями, которые его компания выпускала миллионами.
Ник работал на Рамсчайлда не за страх, а за совесть. Хорошо подвешенный язык и неотразимое обаяние сделали его удачливым торговым агентом. К тому же у него было страстное желание добиться успеха после неудачной карьеры брокера. Ему нравился новый образ жизни. По сравнению с сидением в тесном офисе брокерской фирмы на Уолл-стрит, поездки по стране на модели «Т» с продажей дробовиков и охотничьих ружей казались просто забавой. В апреле 1916 года Ник заработал две тысячи комиссионных — достижение, которое очень пришлось по душе Альфреду Рамсчайлду.
Альфред весьма симпатизировал Нику, а тот со своей стороны делал все, чтобы только снискать расположение шефа. Прознав о страсти Альфреда к салонной музыке, Ник даже серьезно стал подумывать о том, чтобы брать уроки игры на скрипке. Этим он надеялся заслужить приглашение в Грейстоун — поместье Рамсчайлдов, чтобы поиграть там в составе трио или квартета. Однако несмотря на теплое отношение к нему Альфреда, приглашения все не было. Других подчиненных приглашали даже часто, а Ника ни разу.
Наконец в июне 1916 года Альфред вызвал Ника к себе в кабинет и сказал:
— Завтра вечером мы с женой даем небольшой обед. У нас. И нам бы очень хотелось, Ник, чтобы ты пришел. Сможешь?
Ник посмотрел на этого большого бородатого человека, которого однажды кто-то назвал «толстеньким братом кузнеца», и усилием воли подавил в себе желание взвыть от радости.
— Да, сэр. С удовольствием.
— Хорошо. Подъезжай к семи. Да, кстати, Ник… — Альфред вдруг стал суетлив. — Жена может показаться тебе э-э… немного официальной. Не обращай внимания, если тебе сначала покажется, что она с тобой холодна. Уверен, она изменится, как только познакомится с тобой поближе.
Это было странное предупреждение. От сплетников Нику приходилось слышать, что миссис Рамсчайлд грешит снобизмом. Но он знал цену своему обаянию и был уверен в себе, полагая, что проблем не возникнет. С другой стороны, он знал, что Альфред Рамсчайлд зря словами не бросается.
— И еще, — продолжал Альфред, — там будет моя дочь. Она как раз окончила колледж в Вассаре. Очень хочу познакомить ее с восходящей звездой нашей компании.
Ник снимал две клетушки в меблированных комнатах в Фермаунте, ибо более удобного жилища во всем городке не нашлось. На следующий вечер он надел свой вечерний костюм, пригладил волосы, посмотрелся в зеркало и улыбнулся самоуверенной улыбкой молодого и красивого мужчины. «Я очарую престарелую миссис Рамсчайлд, — подумал он. — И если сам папаша проявил заинтересованность в моем знакомстве со своей дочкой… Что ж, кто знает…»
Дорога в Грейстоун пролегала мимо приземистых и уродливых кирпичных корпусов фабрики Рамсчайлдов, расположенных на западном берегу реки Коннектикут, в трех милях выше того места, где она впадала в Айленд-саунд. Ник знал, что фабрика выбрасывает тонны отходов в реку, а ее высокие трубы загрязняют воздух. Ему это не нравилось, хотя ничего поделать с этим он, понятно, не мог. Однако, когда фабрика осталась позади, Нику открылись милые сельские пейзажи с хорошенькими фермерскими усадьбами, выстроенными в колониальном стиле. Красные амбары, сараи, гумна и гравюрные отары овец голштейнской породы заставляли время крутиться вспять, перенося Ника в доиндустриальную эпоху. На расстоянии двадцати миль от Фермаунта показались тяжелые каменно-железные ворота и приткнувшаяся к ним каменная сторожка. Это был неприветливый форпост для посетителя, вознамерившегося заглянуть в то, что публицист из пацифистского либерального журнал «Массы» назвал «домом, который отстроила Смерть». Альфред Рамсчайлд попытался было добиться увольнения с работы этого человека, но безуспешно.
Еще примерно полмили Нику пришлось ехать по изогнутой дороге, ведшей от ворот, мимо рощи, которая в этот июньский вечер кипела живностью, начиная от лани и белок и заканчивая мошкарой и комарами. Наконец дорога сделала последний изгиб, лес уступил место лужайкам и цветочным клумбам, и Нику открылся величественный Грейстоун во всей массивности псевдотюдорского стиля. Альфред построил дом в 1897 году, дав указания архитектору «изобразить что-нибудь, что понравилось бы Генриху Восьмому». Результатом и явился домище, утыканный изощренными елизаветинскими печными трубами из кирпича, деревянным и отштукатуренным основным фасадом и кирпичными крыльями и, наконец, огромными окнами с витражами. Понравилось ли бы это Генриху Восьмому — еще вопрос, но Альфреду Рамсчайлду другого и не надо было.
А значит и Нику.
Припарковав свой «форд-Т» среди роскошных машин, Ник направился к резному деревянному крыльцу, где его встретил лакей. Миновав истукана в средневековых рыцарских доспехах, Ник прошел в главную залу с высоким потолком и огромным каменным очагом. Альфред вышел к нему навстречу, приветствуя его широкой улыбкой. Но когда Ника представляли Арабелле Рамсчайлд, он понял, что такие слова, как «официальная» или «прохладная», слишком бледно характеризовали эту айсберг-женщину. Миссис Рамсчайлд была высока ростом, статна, прекрасно одета и весьма привлекательна. Она протянула Нику руку и почти обиженно проговорила: «Добрый вечер». Словно перед ней стоял прокаженный.
«Какого черта я ей сделал?» — думал Ник, которого Альфред поспешил увести от своей жены и стал знакомить с другими гостями.
— А вот и моя дочь Диана.
Перед Ником стояла девушка, которая являлась более мягкой копией своей матери и настоящей красавицей. Ник имел шесть футов и два дюйма роста, а Диана была ниже его всего на четыре дюйма. Она явно пошла в свою высокую мать. У нее были медового оттенка белокурые волосы, уложенные по-гречески, как тогда было модно, замечательные зеленые глаза и безупречной формы нос. На ней было белое платье с розовым пояском из шелка.
«Передо мной сейчас не только целое состояние, но и настоящая красавица», — подумал Ник.
— Итак, наконец-то я познакомилась со знаменитым Ником Флемингом, сказала Диана, когда после обеда они прогуливались по одной из террас.
— Я и не знал, что знаменит.
— О, мой отец столько о вас рассказывал! Он говорит, что вы талантливы и целеустремленны и что собираетесь далеко пойти.
— Мне кажется, что я уже сейчас кое-что из себя представляю.
— О? Скромность — имя твое, Флеминг[3]?
— Ваша мама, между прочим, невысокого обо мне мнения. Во время обеда я ловил на себе ее взгляды, и знаете, если бы взглядом можно было убить, я был бы сейчас уже у гробовщика.
Диана остановилась у каменной кадки с розовой геранью:
— Я прошу у вас извинения за маму. Она очень мила и обходительна во всем, кроме одной вещи… в отношении которой она непреклонна и неразумна.
— Какой же?
Диана ответила не сразу.
— Мама — страшная антисемитка. Когда папа сообщил ей, что вы наполовину еврей — ему не следовало этого делать, — она заявила, что не хочет вас видеть у себя в доме. Папа боролся за вас в течение нескольких месяцев, пока мама наконец не сдалась. Но я видела, что она вела себя просто ужасно по отношению к вам, и мне за нее стыдно. Вы примете мои извинения?
— Ваши извинения я приму, — сказал он после паузы, сделав ударение на первом слове. — Но наступит миг, когда я сделаю так, что она сама извинится передо мной.
— Надеюсь, что так и будет, только… что-то не верится.
— Хотите пари? Ставлю десять долларов за то, что я ей понравлюсь. Или, по крайней мере, она поговорит со мной еще до окончания вечера. Уверен, что я самый обаятельный еврей-полукровка из всех, что когда-либо рождались на свет.
Она рассмеялась:
— Да вы действительно большой скромник. Ну хорошо, считайте, что мы поспорили. И я искренне хочу проиграть это пари!
— В таком случае поспешим вернуться в дом, чтобы я смог приступить.
Она взяла его за руку, и они вернулись в залу вместе.
Диана Рамсчайлд решила, что ей очень понравился «знаменитый» Ник Флеминг. А его стройная, широкоплечая фигура и смуглое красивое лицо взволновали ее даже больше, чем она хотела бы себе в этом признаться.
Гости занимали свои места в «музыкальной» зале, Альфред уже открыл крышку своего «Стейнвея» и ждал, пока настроят инструменты его партнеры по игре. Ник направился к дивану, на котором, как на троне, восседала миссис Рамсчайлд. Она встретила его приближение холодным взглядом. Он сел рядом. Ее глаза сверкали яростью, а он отвечал на это улыбкой.
— Хотел сделать комплимент по поводу вашего десерта, миссис Рамсчайлд, — начал он. — Это было бесспорно лучшее желе из всех, что мне когда-либо приходилось пробовать. Его можно сравнить, пожалуй, только с тем, чем меня угощала миссис Вандербилт.
Ее ресницы чуть дрогнули при упоминании этого имени.
— О какой миссис Вандербилт вы говорите? — живо спросила она.
— Мать Рэгги, — последовал небрежный ответ. — Мы поигрывали с Рэгги в покер у Кэнфилда, пока я не переехал сюда. Знаете, сегодня был просто изумительный обед.
— Благодарю.
— Мистер Рамсчайлд сообщил, что сегодня они будут играть Моцарта. Я очень люблю сочинения этого композитора. Мой сосед по комнате в общежитии колледжа Байярд Фиппс частенько, бывало, исполнял Моцарта. Конечно, у него это получалось далеко не блестяще, но все-таки…
И снова заинтересованность во взгляде.
— Вы жили в одной комнате с Байярдом Фиппсом? — спросила она.
— Да, в Принстоне. — Он оглядел залу. — Мне очень нравится ваш дом. Здесь так уютно. Никакой гигантомании и показухи, как, например, у Брейкеров.
— Вы бывали у Брейкеров?
— Да, с Рэгги. Но мне там не понравилось. Слишком уж все громоздкое. В Ньюпорте все дома такие. Но ваш особняк — просто совершенство. А ваш вкус, если судить по мебели, весьма изыскан.
Он улыбнулся ей.
К его восторгу, она тоже не удержалась от легкой улыбки.
— Как вам это удалось?! — прошептала Диана, передавая ему на террасе проигранные десять долларов. — Я наблюдала за вами и мамой… Думаю, вы действительно ей понравились.
— Я накидал ей кучу имен людей из общества, с которыми никогда на самом деле даже не виделся, — ответил Ник, широко улыбаясь. — И, конечно, я ей льстил. Довольно грубо, но это действует безотказно.
— Вы чудовище! — рассмеялась она.
— К концу лета я уже буду болтать с ней на идиш.
— С вас станется!
— Как насчет того, чтобы завтра нам вместе пообедать?
— Я вижу, вы довольно шустрый.
— Это не ответ на вопрос.
Она внимательно посмотрела на его лицо, освещенное луной.
«Смазлив, — подумала она. — И остроумен. И вообще очарователен, как сам дьявол!»
— Ну хорошо. Но не советую слишком торопиться, мистер Флеминг. Мне это в мужчинах не нравится.
— О, в таком случае, — невинно ответил он, — я буду с вами эдаким неуклюжим увальнем Флемингом. Кстати, друзья зовут меня Ником.
— Хорошо… Ник, — улыбнулась она.
Что-то подсказало ей, что этот самоуверенный молодой человек оказывает на нее влияние, с которым приходится считаться.
Любовные похождения Ника во фривольном Манхэттене отличались активностью, граничащей с противозаконной. Но переезд в Коннектикут положил этому конец. Новая жизнь заставила его «формировать характер», хотел он того или нет. К тому же маленькие американские города, по которым разъезжал торговый агент, никак не походили на рассадники порока. Словом, все свои любовные победы Ник мог сосчитать на пальцах одной руки: гостиничная горничная здесь, официантка там. В сексе Ник был так же неистов, как и в своем честолюбии. Он находился в постоянной готовности добиваться цели. Так что в то время, когда разум подсказывал ему, что Диана Рамсчайлд не относится к числу тех простушек, которых можно соблазнить, внутренний голос твердил обнадеживающее: «Кто знает…»
На следующий вечер он заехал за ней в Грейстоун.
Пока машина выезжала с территории поместья, он спросил:
— Ты сказала матери, что проведешь сегодня время со мной?
— Да.
— Ей это пришлось не по сердцу, конечно?
— М-м… немного.
— Понятно, — сказал Ник, вытащил из кармана пиджака десятидолларовую бумажку и передал ее девушке.
— Возвращаю тебе твои деньги, — сказал он. — В конечном счете проиграл пари я. Я недооценил твою мать. Она слишком умна, чтобы поддаться моей лести. Конечно, она слегка растаяла вчера, но все еще не полюбила меня.
— Ты должен дать ей шанс.
— Не сомневайся, я дам ей шанс. Я сделаю все, чтобы заслужить ее расположение, но… ничего из этого не выйдет. Я чувствую.
Диана решила, что чем меньше они будут говорить о ее матери, тем лучше.
Он отвез ее к берегу Коннектикута, где был один неплохой ресторанчик даров моря, откуда открывался хороший вид на пролив. Им показали столик на веранде. Ник заказал омаров, приготовленных на пару, и бутылку муската. До июньского заката оставалось не меньше часа, и пролив с его рыбачьими лодками живо напоминал морские пейзажи Будена.
— Расскажи мне все о себе, попросил он, пристально вглядываясь в ее прекрасные зеленые глаза. — У тебя есть парень?
— А, — отмахнулась она, — целая куча, но ничего особенного.
— В таком случае у меня есть надежда.
— Ах, ах, не так шустро.
— Времени у меня — целое лето.
Целое лето. Ей вдруг показалось, что это сочетание двух слов — самое красивое в языке. Она уже собиралась сказать ему, что уезжает на июль и август с матерью на «Виноградник Марты», но теперь передумала. И даже сама не понимала почему.
— Завидую мужчинам, — сказала она, прервав паузу, которая уже немного смущала их обоих.
— Почему?
— О, вам столько разного доступно! Например, бизнес. Мне кажется, что это страшно интересно. Я бы хотела оказаться на вашем месте. Или на месте отца. Я бы с удовольствием вела дела такой компании, как «Рамсчайлд армс».
Он мало обращал внимания на то, что она говорит, и просто любовался ею. Ему представлялось, как он занимается с ней любовью. Но в этот раз было и что-то иное.
— В самом деле? Продавать оружие интереснее, чем страховку, но и вообще сам процесс продажи — вещь забавная. Слушай, я знаю, что слишком скор, но скажи, я тебе нравлюсь?
Она удивилась:
— М-м… в общем, да. А что?
— А то, что я готов пойти на все, лишь бы понравиться тебе еще больше.
— А зачем?
— Я знаю, ты скажешь, что я идиот, но мне кажется, что я влюбился в тебя.
Она сама удивилась тому, насколько взволновали ее эти слова.
— Но ты не мог влюбиться в меня! Мы только-только познакомились!
— Именно так все и бывает.
— В романах и на сцене театра.
— Нет, в жизни! Люди встречаются и влюбляются друг в друга. Тебе не кажется, что любовь — самая важная вещь в жизни?
Она была застигнута врасплох его напором. Пронзительностью его взгляда. Никогда ей еще не приходилось встречаться с теми, кого хотя бы отдаленно можно было сравнить с Ником Флемингом.
— Я… я думаю, что это возможно, если речь идет о действительно большой любви. Настоящее чувство — большое везение. Но мне кажется, что лишь единицы способны когда-либо переживать подобное. Я думаю, большинство людей всего лишь… — она замолчала, внезапно смутившись, всего лишь женятся или выходят замуж.
— Если бы я поверил в то, что твои слова — правда, у меня не было бы стимула к дальнейшей жизни.
— А вот сейчас ты действительно говоришь глупости.
— Это такая же глупость, как и утверждение, что у человека только раз бывает юность. Но ведь это истина. Я молод и хочу испытать в жизни все. В особенности — любовь. И кажется, я уже начинаю ее испытывать. — Он улыбнулся, и никогда еще Диана не видела такой очаровательной улыбки. — Я самый счастливый человек в мире.
Вдруг счастье посетило и ее.
* * *
— Мама, кажется, у меня нет желания отправляться в этом году на «Виноградник Марты».
Арабелла Рамсчайлд поставила на стол бокал с апельсиновым соком и посмотрела на дочь. Они сидели в залитой солнцем малой столовой Грейстоуна и завтракали.
— И куда же у тебя есть желание отправиться?
— Никуда. Я хочу сказать, что мне лучше остаться здесь и позаниматься французским.
— Но ты спокойно можешь заниматься им на «Винограднике Марты».
— Нет, мне там будет очень трудно настроиться на работу.
Арабелла перевела взгляд на мужа. Альфред только пожал плечами. Тогда Арабелла вновь посмотрела на дочь.
— Это ведь все из-за этого мальчишки Флеминга, не так ли? — спросила она. — Диана, я надеюсь, ты не воспринимаешь его всерьез?
— Я сказала, что хотела бы позаниматься французским! — В ответе ее неожиданно прозвучал такой вызов, что мать решила вести себя осторожнее. Она знала, что дочь будет бороться за свое решение.
— Ты вполне могла бы позаниматься французским на «Винограднике Марты»! Диана, не испытывай моего терпения.
— Хорошо, а что, если и вправду Ник?
— Могу я полюбопытствовать, что у тебя с ним происходит?
— Ничего у нас не происходит! Но, мама, он и вправду замечательный человек. Ты сама отметила его обаяние.
— Я отметила бойкость его языка. Я не поверила и половине из того, что он мне наплел. Надеюсь, и ты станешь более трезво относиться к его словам.
— Но он так убежден в том, что чувствует! Я никогда еще не встречала человека, который был бы так полон жизни, как он!
— Действительно, он полон, только не жизни, а лести. Не собираюсь указывать тебе, что ты должна или не должна делать. Если надумала остаться на лето дома — твое дело. Но помни: Ник Флеминг — еврей. И если уж кого и стоит подозревать в корысти, так именно его! Не будь же настолько слепа, чтобы не видеть, что он положил глаз на деньги твоего отца!
Диана резко швырнула свою салфетку на стол и поднялась.
— Мама! Когда-нибудь ты меня доведешь! — Она повернулась и выбежала из комнаты.
— Арабелла, — подал голос Альфред. — Ты несправедлива. Ник — один из лучших молодых людей, которые мне когда-либо встречались.
— Уж не хочешь ли ты заполучить его в зятья?! — выпалила она.
— Хочу, — холодно ответил Альфред.
Не в силах поверить услышанному, Арабелла только покачала головой.
Ник полюбил со всей страстью наполовину русской души, которая превратилась было в лед в течение всех лет ограничений, насаждавшихся в его сознании усилиями многочисленных англофилов из числа учителей и профессоров лучших учебных заведений, куда отдавала его Эдит Флеминг. Да, из него сделали образованного человека и привили ему манеры, которые только усилили его природное обаяние. Но теперь он полюбил, полюбил впервые в жизни, и все остальное казалось ему банальным. Диана полностью захватила его, без нее жизнь выглядела серой. Он даже потерял интерес к деланию денег, а для такого честолюбивого молодого человека, каким был Ник, это был серьезный симптом.
Они стали проводить вместе все вечера. Поначалу Диана ходила на свидания во многом только для того, чтобы позлить этим мать. Но к концу первой же недели, испытывая почти головокружительный восторг, она поняла, что дело тут совсем не в матери. Просто она влюбилась в Ника точно так же, как и он в нее.
Приступая к покорению Дианы, Ник решил не особенно торопиться в смысле интимных отношений, ибо догадывался, что Диана девственна. Однако на третьем свидании, когда он впервые поцеловал ее, то был несказанно изумлен тем, с какой пылкостью она ответила на поцелуй. Очевидно было, что за фасадом холодности полыхал столь же сильный пожар любви, как и у Ника.
Свой первый выходной день они провели, гуляя босиком по берегу пролива.
— Завтра мама уезжает на «Виноградник Марты», — сказала она, — и я с ней не собираюсь.
— Если бы ты уехала, я последовал бы за тобой, — ответил он.
— Верю.
— Твоя мама бесится из-за меня?
— Она думает, что тебе нужны наши деньги, — вырвалось у Дианы. «Спокойно», — приказала она себе, а вслух небрежно спросила: — Это правда?
— Прежде чем я познакомился с тобой, я, не скрою, подумывал над тем, как неплохо было бы захомутать дочку босса. На моем месте любой думал бы так же, если не лицемер. Но теперь, когда я узнал тебя, мне абсолютно все равно, какие за тобой стоят деньги, миллионы или монетка в пять центов.
Она остановилась, обхватила его шею руками и поцеловала.
— Я надеялась именно на такие слова! — воскликнула она радостно. — О, Ник, ты был прав: любовь — самая важная вещь на земле! Ты научил меня этому, и за это я люблю тебя!
Она впервые произнесла вслух то слово, и оно прозвучало очень нежно.
— Я люблю тебя, — прошептал он. — Нам придется испытать на себе ту большую любовь, на которую, как ты говорила, способны лишь редкие счастливцы.
Он поцеловал ее со всей страстью, на которую вдохновляла его душа, а Диане в те мгновения впервые стал понятен смысл слова «экстаз».
— Мы избранники, — шептала она в перерыве между поцелуями. — Мы счастливые избранники! О, Ник, ты мне желаннее самой жизни!
Мужской инстинкт подсказал ему, что настало самое время… Взяв ее за руку, он сказал:
— Пошли.
С этими словами он бросился бегом вдоль пляжа.
— Куда мы бежим? — задыхаясь и смеясь, воскликнула она.
— Увидишь. Сюрприз.
Для самого Ника это сюрпризом не являлось. Он уже давно приглядел это место и ждал только удобного случая воспользоваться им. Это был большой, с крышей из кровельного железа дом, выходящий окнами на пролив. Вот уже полгода как он был выставлен на продажу. Когда они подбежали К закрытому козырьком крыльцу, Диана, откинув со лба прядь своих золотистых волос, спросила:
— Чей это дом?
— Престарелого господина по имени Герсон. Он умер прошлой зимой. Дом продается, но, видимо, без большого успеха. Я обратил на него внимание пару недель назад.
Он спрыгнул с крыльца И подошел к одному из окон. Пошарив рукой за ставнями, он извлек из тайника ключ и показал его Диане.
— Как видишь, агент, который занимается продажей дома, не большой хитрец.
Она смотрела, как он открывает дверь. Затем, опустив ключ в карман брюк, он протянул к ней руки.
— Пойдем, — шепнул он.
Она уже поняла, что происходит. Она подала ему руку, и они вошли в дом. Внутри не было никакой обстановки — сплошь голые стены. В воздухе стоял характерный запах запустения. Он провел ее в одну из комнат, запыленные окна которой выходили на берег пролива. Он обнял ее и стал нежно целовать.
— Я люблю тебя, Диана, — повторял Ник.
На ней была шерстяная кофта на пуговицах, которую он снял с нее.
— Я люблю тебя, Ник, — шептала она, пока он расстегивал ее белую блузку. Для нее все это было впервые, и она сама удивлялась тому, что не испытывает и тени стыда. Она жаждала Ника с такой силой, которая делала просто смешными те добродетельные манеры, которые вбивались ей в голову в течение всей жизни. Взращенная в традициях епископальной церкви, в эти минуты Диана с восторгом чувствовала себя язычницей.
Когда они оба были раздеты, он прямо на полу соорудил из своей одежды нечто вроде ложа, опустился на него и посмотрел на нее снизу вверх. У Дианы было восхитительное созревшее тело, крепкая грудь с большими нежными сосками. И снова он протянул к ней руки.
— Мы счастливые избранники, — прошептал он. — Это наша особенная любовь. Она будет длиться вечно.
— Вечно, — повторяла она, подавая ему руки и опускаясь рядом с ним. Она слегка вздрогнула, почувствовав прикосновение к себе его крепкого и горячего тела. Он мягко водил руками по ее спине, целовал повсюду: щеки, шею, плечи, груди… Она не удержалась от легкого стона, когда он прикоснулся губами к ее соскам. Она чувствовала его руки на своих бедрах, и ее сердце готово было выпрыгнуть из груди.
— Ник, Ник, — шептала она тихо. — Любовь моя… вечная.
Он уложил ее на пол. Одежда уже вся смялась, и Диана почувствовала, что лежит спиной на холодном пыльном деревянном полу, но ей было все равно: шершавая поверхность казалась ковром из мягкого клевера. В комнате было темно, но она почувствовала, как испарина выступила на его коже, когда он стал входить в нее. Внезапно Диана тихо вскрикнула: Ник порвал ей девственную плеву.
— О Боже! Боже… — задыхаясь, шептала она, чувствуя толчки Ника внутри себя. В голове завертелась мысль о том, что у Ника, возможно, было до нее множество женщин, но Диану это не волновало. Она вся отдалась его нежной страсти, которая воспламеняла ее тело, наполняла ее ощущениями, о существовании которых она раньше и не подозревала. Она даже не думала о том, что может в результате забеременеть: Диана верила, что Ник все сделает правильно. Их любовь будет длиться вечно.
Она не замечала, что стонет и мечется, как животное. Его ногти впились в ее плоть.
— Кончаю! — прохрипел он, и она не поняла его, пока не ощутила разлившееся внутри себя тепло. И тогда Диана, испытав первое в своей жизни наслаждение, вскрикнула.
После они лежали на том же месте, крепко обнявшись, и смотрели, как за пыльными стеклами окон заходит над проливом вечернее солнце.
— Это было так красиво, — шептала она, целуя его в щеку. — Сам Господь одарил тебя способностью делать это красиво.
Он нежно провел рукой по ее лицу, волосам. Потом сел на полу и, улыбнувшись, сказал:
— Нам нужно иметь какой-нибудь секретный символ или знак.
— О чем ты?
— Ты ведь знаешь, как не любит меня твоя мать. Так что, имея определенный, только нам понятный сигнал, мы смогли бы при помощи него вовремя оповещать друг друга о приближении опасности: пожилой леди с боевым топором в руке.
— Ник!
— Ну хорошо: знак, который всегда напоминал бы нам о нашей вечной любви. Что-нибудь в этом роде.
С этими словами он поднял правую руку и скрестил пальцы.
— Сделай так же, — попросил он.
Она подняла свою правую руку и тоже скрестила пальцы.
— Так?
— Правильно. Когда мы скрещиваем пальцы, никто кроме нас не догадывается о назначении этого символа. А он означает нашу с тобой любовь. Вечную любовь.
Эта мысль показалась ей такой же прекрасной, как и сам Ник.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Диана не уставала изумляться полноте своего счастья и дивилась тому, насколько пуста была ее жизнь без Ника. Не могла отказать себе в удовольствии подразнить немного свою мать-антисемитку, говоря ей время от времени, что всерьез думает о переходе из христианства в иудаизм. Это было глупо, если учесть, что в этом вопросе Арабелле хронически недоставало чувства юмора. Она приходила в ужас, наблюдая страсть своей дочери к человеку, которого сама она начала люто ненавидеть.
Между тем Ник и Диана, находясь вместе, почти не размыкали объятий, настолько велика была сила физического притяжения между ними. На свое десятое свидание они отправились смотреть «Кармен» Тэда Бара, вышедшую на экраны одновременно с «Кармен» Джеральдин Фаррар, где в течение всего просмотра беззастенчиво ласкались. Покинув зал по окончании сеанса, они, взявшись за руки, вернулись к машине Ника.
— Каков мой рейтинг у твоей матери в последнее время? — поинтересовался Ник.
Диана не сразу нашлась с ответом.
— М-м… Похоже, ты все-таки начинаешь ей нравиться, — солгала она.
Ник рассмеялся:
— Это означает, что при случае она задушит меня быстро, без мучений. Думаю, придется упредить ее и повергнуть в немалое потрясение.
— Как?
— Мы поженимся.
Они остановились перед его машиной. Диана повернулась к Нику:
— Я… я даже не стану делать вид, что мне надо подумать над этим. Да. Да!
И снова они поцеловались. Затем Ник достал из кармана своей куртки спортивного покроя черную коробочку и вложил ее в руку Дианы.
— Эта вещица почти превратила мой банковский счет в листок чистой белой бумаги, — сказал он.
Она открыла коробочку. Внутри оказалось кольцо с сапфиром и бриллиантами.
— О, Ник!
— Позволь, я сам его надену, — сказал он. — Это кольцо является залогом моей вечной любви, Диана.
— И моей, Ник.
Они поцеловались.
Следующий день выдался убийственно жарким. С самого утра Ник все собирался с духом, чтобы пойти в кабинет к боссу и объявить о помолвке с его дочерью. Каково же было его удивление, когда Альфред Рамсчайлд сам пожелал его видеть.
Окна в кабинете Альфреда выходили на речной поток Коннектикута. На обшитых деревом стенах висели многочисленные фотографии изделий, производимых компанией, на специальном демонстрационном пюпитре лежал открытый ящик с образцами стрелкового и холодного оружия, начиная с 1862 года. Над каминной доской висел в искусно выполненной золотой раме портрет отца Альфреда, основателя компании. Этот джентльмен с элегантными бачками неподвижно уставился в вечность. В кабинете, разгоняя влажную духоту, гудели два электровентилятора.
— Отслеживаешь то, что происходит сейчас в России? — спросил Альфред, плюхнувшись всей своей вспотевшей массой во вращающееся кресло.
— По газетам, — ответил Ник. — У меня такое впечатление, что всей страной заправляет этот безумный Распутин.
— Отчасти это верно. Кстати, он не монах. По информации, которую я имею, царь находится под влиянием царицы, а та в свою очередь вся во власти Распутина. Любовница ли она ему или нет — не знаю. Ходят слухи, что у цесаревича обнаружена какая-то странная болезнь, которую может лечить только Распутин. Так или иначе, но в стране нет порядка, государственная власть расстроена, армия несет поражения от австрияков, а теперь еще и от немцев. Потери русских исчисляются миллионами, во всяком случае, мне так говорили. Наконец, считается, что в ближайшее время можно ожидать чего-то вроде coup d’état[4]… Теперь слушай. Четыре месяца назад агент царя поместил у нас заказ на сто тысяч наших винтовок Р-15 и десять миллионов патронов к ним. Спустя месяц то же лицо заказало у нас тысячу пулеметов и два миллиона патронов к ним. Совокупный заказ составил восемнадцать миллионов долларов. Половину царь оплатил нам вперед, переведя золото со своего личного счета в «Английском банке» на наш в лондонском банке «Братья Саксмундхэм». Мы удовлетворили заказ, и сейчас товар грузится в Сан-Франциско на корабль, который готов доставить его во Владивосток. Однако теперь агент царя говорит, что оставшиеся девять миллионов нам придется согласиться получить в русских государственных облигациях, потому, видите ли, что царь уже исчерпал весь свой золотой запас. А, между прочим, никто сейчас не примет русскую валюту, потому что всем известно: там у них печатают рубли без остановки, чтобы успевать финансировать свою войну. Инфляция в России скачет галопом.
Альфред подался всем телом вперед:
— Ник, мне не нужны эти чертовы русские облигации на сумму в девять миллионов долларов, когда все говорят, что царское правительство не протянет и полугода. Русские бумажки не выдержат конкуренции даже с туалетной бумагой, их никому не удастся спихнуть дороже чем за полцены. С другой стороны, у меня с русскими контракт, и мне не хотелось бы обманывать их. Им позарез нужны мои стволы. Поэтому передо мной дилемма. Стоимостью в девять миллионов долларов. И решение этой дилеммы — ты.
Ник изумился.
— Я? Но почему?
— Мне нужен посыльный в Петроград, который переговорил бы там с военным министром. Мне нужен человек, который сможет обеспечить мои девять миллионов хоть чем-нибудь стоящим. Все равно, что это будет: золотые монеты, произведения искусства, пускай даже ювелирные изделия. Только в этом случае я отправляю товар. Я уверен, что в России денег — куры не клюют. Царь — один из самых богатых людей мира, если не самый богатый. И если они хотят получить наши винтовки, пусть раскошеливаются. Я хочу, чтобы в России меня представлял ты, Ник. Я доверяю твоему уму и сноровке, к тому же ты говоришь по-русски, что само по себе может помочь делу. Не буду скрывать от тебя: путешествие может выдаться опасным. Уже сама дорога в Россию — не увеселительная прогулка. А что тебя будет ожидать там — один Бог ведает. Не знаю, в каком виде и каким способом ты раздобудешь мне девять миллионов. Думай сам. Но если ты достанешь деньги, Ник, я заплачу тебе пять процентов комиссионных от всего восемнадцатимиллионного заказа. Это сделает тебя богатым человеком. Кроме того, я выдвину тебя в вице-президенты компании по торговле. — Альфред откинулся на спинку стула. — У тебя есть немного времени на размышления, но ответ мне нужен сегодня днем.
У Ника кружилась голова.
«Пять процентов — это девятьсот тысяч! Пост вице-президента!»
— Нечего и думать, я еду, мистер Рамсчайлд. С удовольствием. Но перед этим я хотел бы жениться на Диане.
Альфред не удивился.
— Так значит, у вас все зашло так далеко?
— Да, сэр, мы без ума друг от друга.
— Заметно. Ну что ж, Ник, мне эта затея по душе. Поездка в Россию в финансовом отношении сделает тебя независимым, что, в свою очередь, изменит к тебе отношение жены. Скажу откровенно: отчасти я и выбрал для этой миссии именно тебя, потому что и сам питал надежды на то, что ты и Диана соединитесь. Но до поездки вы не успеете пожениться. Арабелла будет настаивать на соблюдении всех формальностей и церемоний, к которым нужно долго готовиться. Короче, в сентябре можно будет закатить неплохую свадьбу. К этому времени ты уже должен будешь вернуться.
Ждать до сентября было очень долго, но Ник видел, что Альфред прав. К тому же очень важно угодить, по возможности, Арабелле.
— Хорошо, сэр. Я предпочел бы жениться сейчас, но можно и подождать.
— Отлично. Я рассчитывал, что договорюсь с тобой, поэтому заранее сделал все транспортные приготовления.
Он выдвинул один из ящиков своего стола и извлек оттуда плотный конверт.
— Здесь билет первого класса на аргентинский лайнер «Святая Тереза», который отплывает из Сан-Франциско во Владивосток через восемь дней. Из Владивостока ты доберешься до Петрограда по железной дороге транссибирским экспрессом. Три тысячи тебе на расходы и еще кредит на десять тысяч — это если придется совать кому-нибудь взятку. — Альфред кинул конверт Нику. — А теперь тебе лучше отправиться домой и начать собираться в дорогу. Для того чтобы поймать поезд на Сан-Франциско, тебе нужно быть в Нью-Йорке уже утром. И еще, Ник…
— Да, сэр?
— Постарайся сделать так, чтобы тебя там не убили. Нам будет тебя недоставать.
— Мне самому будет себя недоставать. Могу я им угрожать? Сказать, например, что мы перепродадим заказ в другие руки, если Россия его не оплатит?
— Запросто можешь. Я хоть завтра могу продать товар англичанам или французам на двадцать миллионов дороже. И пусть уяснят себе, что при случае я это сделаю. Но это на крайний случай. Пусти в ход свое обаяние. И учти: общаться тебе придется с великим князем Кириллом. Это двоюродный брат царя, так что некрасиво было бы задирать его слишком сильно. Вот тебе рекомендательное письмо к нашему новому послу в России Дэвиду Фрэнсису. В свое время он был губернатором Миссури. Говорят, этот деревенщина богат и великий князь его презирает. Если бы ты был деревенщиной, я тебя на такое дело и не послал бы. И наконец: мне пришло в голову, что нелишне было бы попользоваться кодовыми именами в твоих сообщениях из России. В случае перехвата русским не сразу все станет понятно. Я тут придумал клички для царя, царицы, великого князя Кирилла, Распутина и еще для некоторых крупных деятелей. Вот они все, на этой карточке. Советую заучить наизусть. Вчера я слушал вариации на тему «Энигмы» Эльгара и решил, что тебе лучше называться «Энигмой», согласен?
— Энигма, — задумчиво произнес Ник. — А что, неплохо.
Альфред встал из-за стола и шел пожать Нику руку, тот поднялся ему навстречу.
— Удачи, — пожелал Альфред. — Тебе она понадобится.
После смерти капитана Флеминга его вдова не исключала возможности вновь выйти замуж. А переехав в Нью-Йорк, ей пришлось столкнуться, как она сама выражалась, «с несколькими джентльменскими визитами». Эдит все еще была молода и красива, благодаря поистине строжайшей диете она сумела сохранить свою фигуру. Часто бывала в обществе, но все же любовь пришла к ней только спустя почти десять лет. Но когда это случилось, Эдит решила, что Ван Нуис де Курси Клермонт достоин многолетнего ожидания.
Ему было сорок семь, он отличался высоким ростом, худощавым телосложением, тонко развитой чуткостью к окружающим и был настолько близорук, что носил в очках стекла в четверть дюйма толщиной. Бросалась в глаза его вьющаяся огненно-рыжая шевелюра. Он владел сетью из двадцати девяти газет, выходивших в самых разных городах от Портсмута, Нью-Хэмпшира до Майами. Спустя три недели после первого «джентльменского визита» Клермонта к вдове Флеминг, воспламенившаяся Эдит стала любовницей Вана. Богатая вдова и влиятельный либеральный издатель были без ума друг от друга, но возникла одна проблема. Ван был ревностным католиком и имел жену, которая пребывала в добром здравии. Эдит понимала, что не сможет открыто жить с человеком, которого любит, но, исповедуя прагматизм, она примирилась с этой ситуацией. Она знала, что в таком большом городе, как Нью-Йорк, не так уж и трудно любить скрытно. Более того, она считала, что сам факт секретности придает ее с Ваном отношениям пикантный характер, делая их любовь более насыщенной, чего не было бы, если бы они были мужем и женой.
Однажды Эдит рассказала про Вана Нику. Она понимала, конечно, что ее тайная любовная связь несколько компрометирует ее как мать, но, с другой стороны, она не могла держать Вана «в шкафу» годами и к тому же искренне хотела, чтобы ее мужчины понравились друг дугу.
К сожалению, этого не произошло.
Ван, являвшийся автором некоторых наиболее яростных и пламенных редакционных статей в своих газетах, был строг в душе — за что враги называли его «невыносимым лицемером и педантом», — а потому скептически отзывался о характере Ника и распекал Эдит за то, что та испортила его. Эдит не могла этого отрицать.
Ник, вовремя осознавший, что даже его обаяние не оказывает воздействия на любовника его матери, благоразумно решил избегать встреч с ним. Его отъезд в Коннектикут несколько улучшил ситуацию. Ван неохотно признавал в разговорах с Эдит, что, «возможно», Ник изменится к лучшему. Но сама Эдит хорошо видела, что ее любимый мужчина по-прежнему не жалует любимого сына.
Жена Вана Уинифред жила с дочерью в большой квартире на Парк-авеню. Она годами не обменивалась с мужем ни единым словом, но никогда не забывала отсылать свои новые счета в Клермонт-билдинг, уродливое семиэтажное здание в двух кварталах от Сити-холл, в котором располагалась штаб-квартира всей газетной сети и редакции нью-йоркской газеты Вана «Графика». Исправно оплачивая счета, Ван с удивительной моральной гибкостью «забывал» свою вину — ведь это он бросил Уинифред! — и не терзался угрызениями совести, которые наводят только скуку. Ван занимал огромные апартаменты на Риверсайд-драйв с великолепным видом на Гудзон. В Сэндс-пойнте он имел также летний домик с окнами на пролив Лонг-Айленд, где в тот жаркий июньский день 1916 года как раз заканчивал свой пятый круг в бассейне, когда увидел, что через лужайку к нему спешит Эдит.
— Ник едет в Россию! — крикнула она еще издали.
Упершись руками о края бассейна, Ван рывком выбросил тело из воды. В свое время он был питчером в гарвардской бейсбольной команде — выпуск 1886 года — и гордился тем, что с тех пор не нажил ни унции жира. Он поддерживал форму ежедневными физическими упражнениями: либо играл в мяч или в теннис, либо плавал в бассейне. Он был также воинствующий противник табака и не употреблял никакого спиртного, кроме стаканчика вина иногда за обедом. Подчиненные считали, что в нем недостает человечности, но Эдит знала, что в постели Вану ничто человеческое не чуждо. А отменное здоровье делало его сказочным любовником.
Он слепо шарил рукой в поисках очков, оставленных на упругой доске для прыжков в воду.
— Чего он там забыл, в России?
— Он только что звонил. Какая-то там сделка с оружием. Как ты думаешь, он там будет в безопасности?
— Думаю, что да. Но поголодать ему придется. Мой петроградский корреспондент Бэд Тернер сообщает, что даже представители высших слоев русского общества в последнее время испытывают проблемы с добыванием продуктов питания. — Он наконец отыскал свои очки, водрузил их на нос и, взяв полотенце, стал сушить волосы.
— Значит, ты полагаешь, что мне не стоит волноваться за него? — не унималась Эдит.
— Я телеграфирую Бэду, попрошу его приглядеть за ним там.
Эдит улыбнулась и поцеловала Вана.
— Ты добрый человек, Ван Клермонт, — прошептала она. — Ничего удивительного, что я без ума от тебя. — Затем тревога снова отразилась у нее на лице. — Ты ведь знаешь, что Ник тоже добрый.
— Да ну? — Тон, каким это было сказано, ясно говорил об истинном отношении к Нику Флемингу.
— Но мы хотим пожениться сейчас! — гневно воскликнула Диана, обращаясь к своим родителям.
Они находились в одной из гостиных Грейстоуна.
— Диана, Ник уезжает уже утром, — терпеливо объяснил Альфред. — Не будь ребенком…
— Это обман! — прервала она отца и повернулась к матери: — Вы придумали эту поездку в Россию для того, чтобы отнять у меня Ника!
— Не неси чепухи, — сказала Арабелла. — Не закатывай сцен. Ты ведешь себя сейчас, как третьесортная оперная певичка.
— Но Ник может пострадать в России! Его даже могут убить там! — Она повернулась к Нику, который стоял рядом. — Милый, прошу тебя, не уезжай!
Он обнял ее, чтобы успокоить:
— Диана, теперь уже поздно отказываться. Эта миссия очень важна для твоего отца и для нас с тобой. Она займет всего пару месяцев, и со мной ничего не случится, вот увидишь.
Она дрожала всем телом от гнева и страха за Ника. Ожидался новый эмоциональный взрыв. Инстинктивно она обняла Ника и прижала его к себе.
— Если я тебя когда-нибудь потеряю… — в отчаянии шептала она, сжимая кулачки.
Вдруг она отпустила Ника и бросила на родителей гневный взгляд.
— Если с ним что-нибудь случится в России, это будет ваша вина! — крикнула она. — И вы будете помнить, об этом до конца жизни! Я вам это устрою!
— Знаешь, Диана, — заметила Арабелла, — ты сейчас мало похожа на леди.
Диана взяла Ника за руку и сжала ее:
— Когда дело касается безопасности Ника, я не забочусь о том, чтобы выглядеть леди.
Было ясно, что она говорит серьезно.
Ник слегка потянул ее за руку. Она опустила глаза и увидела его скрещенные пальцы.
Вздохнув, она повторила знак. Их секретный знак. Их вечная любовь, которая переживет и поездку в Россию.
«Святая Тереза» оказалась грузовым судном с каютами, рассчитанными на двадцать пассажиров. Поднимаясь по сходням и разглядывая исполосованный ржавыми подтеками белый корпус посудины, Ник понял, что его девятнадцатидневное плавание до Владивостока может быть каким угодно, только не роскошным. Стюард-аргентинец в грязно-белой форменной куртке провел Ника к приготовленной ему каюте № 9, располагавшейся по левому борту. Раздвижная дверь, два иллюминатора и огромный таракан, которого стюард небрежно раздавил каблуком…
— Капитан Родригес приглашать вас обед сегодня вечер за свой стола, — ухмыляясь, сообщил стюард и подцепил таракана с пола куском туалетной бумаги.
Ник не рвался на этот обед. И вообще он решил, что плавание на этом тараканьем лайнере будет располагать к посту. К тому же он уже сильно скучал без Дианы. Поездка в Россию со всеми ее опасностями обещала быть захватывающим предприятием. Нику предстояло увидеть мир, и он пребывал в радостном предвкушении этого. Но его не отпускали мысли о зеленоглазой богине, которая пробудила в нем столь сильную страсть и потом ответила на нее взаимностью. Он лежал на своей койке и от воспоминаний о том, как они занимались любовью, вдруг необыкновенно возбудился. Он жаждал вновь заключить ее в свои объятия, тосковал по нежному аромату ее кожи… Ничего! Всего через пару месяцев они снова будут вместе, и, если все обернется удачно, он станет богатым человеком. Эта мысль также возбуждала его.
И когда «Святая Тереза» вышла в бухту Сан-Франциско, мысли Ника Флеминга были обращены не к деньгам и военной сделке, не к великим князьям и военным министрам. Все его мысли были о Диане.
Пассажирский список «Святой Терезы» привел бы в восторг Уильяма Сомерсета Моэма. Здесь была симпатичная и обладавшая пышным телом женщина, которую звали сеньора Гонзага. Она путешествовала со своим якобы «дядей» сеньором Альба. Это был смуглый шестидесятилетний мужчина, который утверждал, что является фермером и держит скотоводческое хозяйство, но смахивал больше на работорговца. Непробиваемо чопорная английская леди, направлявшаяся в Токио для заступления на должность гувернантки одного из членов императорской фамилии. Полненький и декадентски выглядевший господинчик, назвавшийся графом Разумовским, с прядью седины в черных волосах, моноклем и постоянной елейной улыбочкой на своих толстых губах. Парочка американцев-новобрачных, направлявшихся в Манилу, где муж получил работу в контингенте армии США. Два японских бизнесмена, перуанский винодел, две мексиканские пары и, наконец, средних лет разведенная американка, следовавшая в Гонолулу. Едва появившись на корабле, она сразу же заказала себе коктейль с джином и к столу капитана появилась, уже порядочно напившись.
— Этот ваш корабль просто ржавый черпак, — невнятно провозгласила эта леди, усаживаясь по правую руку от капитана. — Моя каюта настоящий рассадник клопов.
Капитан Родригес, смахивавший на пирата, надевшего мундир офицера флота только для маскировки, игнорировал эти упреки, которые явно наводили на него скуку.
— Меня зовут граф Разумовский, — сообщил русский, находя себе местечко рядом с Ником.
— А меня Ник Флеминг.
Ник как-то слышал от Альфреда Рамсчайлда о каких-то связях между Разумовскими и Бетховеном. Он спросил:
— Вы случайно не из той семьи, что помогла однажды Бетховену?
На лице графа сейчас же отразилось удовольствие.
— Вот это да! Потрясен! Действительно, один из моих предков служил русским посланником в Вене и был покровителем Бетховена. Нам нравится считать Людвига членом нашей семьи… правда, слегка невоспитанным членом. Вы американец?
— Да.
— А куда путь держите?
— В Петроград.
— О, в таком случае нам просто необходимо стать друзьями! Я тоже направляюсь в Петроград. Боюсь, нам предстоит долгое путешествие. Девятнадцать суток на этом coi-disant[5] лайнере, затем еще пару недель на транссибирском экспрессе. Но что, позвольте полюбопытствовать, влечет молодого американца в Петроград в столь тяжкие времена?
Ник еще дома заготовил себе «легенду».
— Я представляю «Синер сьюинг мэчин компани», — ответил он.
— О, торговый агент?
— Совершенно правильно.
Граф снял свой монокль для того, чтобы протереть его салфеткой.
— Я дам вам мою визитку. В Петрограде я знаю всех. Абсолютно всех. Большие связи при дворе. Евгений Николаевич Разумовский поможет вам продать сотни швейных машинок.
— Очень любезно с вашей стороны, граф.
— Этот ваш суп, — объявила во всеуслышание напившаяся американка, — просто отвратителен!
Капитан Родригес только пожал плечами.
Граф Разумовский вновь нацепил свой монокль. На нем был хорошо сшитый вечерний костюм, как и на остальных мужчинах, сидевших за столом, кроме капитана, который и на обед явился в своей короткой белой форменной куртке.
— Вам, наверное, приходилось слышать, — продолжал Разумовский, — что императрица Александра Федоровна — германская шпионка. Это бред. Да, по рождению она немка и имеет множество родственников в Германии, включая и родного брата в кайзеровской армии, но я отказываюсь верить тому, что она шпионка. А в то же время, — он драматически поднял вверх наманикюренный палец и ухмыльнулся, она любовница Распутина. В этом я уверен. У них во дворце закатываются оргии, а Распутин еще сносится с мертвецами!
Нику пришло в голову, что он едет в интересную страну.
Догадываясь о том, что поездка в Россию может быть небезопасной, Ник захватил в путешествие небольшой автоматический пистолет 22 калибра производства «Рамсчайлд армс», который носил в кожаной кобуре под пиджаком. На второй день плавания представилась возможность пустить его в ход.
Возвращаясь в свою каюту после получасовой прогулки по палубе — таким образом Ник пытался хоть немного развеять скуку и размяться, — он вдруг услышал шум изнутри. Насторожившись, он вынул пистолет из кобуры и тихо отворил дверь.
Граф Разумовский шарил в ящиках его бюро.
— Хотите позаимствовать мою зубную щетку? — спросил Ник, внутренне радуясь своей предусмотрительности: бумаги он носил при себе.
Вызывающе аккуратненький в своем белом костюме и белой шляпе, граф обернулся и выпрямился, тут же явив свою дежурную елейную улыбочку.
— Мой дорогой Флеминг, — сказал он, — поздравляю: вы взяли меня с поличным! Тысячу извинений! Надеюсь, это не повредит нашей зарождающейся дружбе?
— Это ее, безусловно, не упрочит. Что вы здесь искали?
— Люблю совать свой нос в чужие дела. В этом я неисправим. И профессия у меня подходящая: я работаю в Охранном отделении, то бишь в царской тайной полиции.
Его рука потянулась к карману.
— Руку назад, дорогой граф, — сказал Ник и чуть повел дулом пистолета, одновременно громким щелчком сияв его с предохранителя.
Лицо графа удивленно вытянулось.
— Друг мой, я всего лишь хотел достать кошелек, чтобы доказать вам мое раскаяние.
— Где-то я вам верю, но скажите, с чего это вдруг царское правительство заинтересовалось скромным американским торговым агентом, который плавает по своим делам на аргентинской ржавой посудине?
— Флеминг, какую бы вы ни вели игру, вы остаетесь в ней любителем. Офис вашей ненаглядной «Синер сьюинг мэчин компани» закрылся в Петрограде в 1915 году. Учитывая это обстоятельство, царское правительство и заинтересовалось вами. И заинтересовалось всерьез. Зачем вы мне лгали про швейные машинки?
Не сразу Ник ответил:
— Не вижу причин говорить вам все как на духу.
— И имеете на это полное право, — согласился граф. — Я самостоятельно намерен выяснить правду, и вам не помешать этому. Ладно, время обедать. Не присоединитесь ли ко мне в баре на стаканчик бренди с содовой? За мой счет, естественно. Буду считать это частичной компенсацией за ущерб, причиненный моим гнусным вторжением в вашу личную жизнь. Мы не доверяем друг другу, но это не повод для ссоры. В России дружба всегда основана на толике здорового взаимного недоверия.
Ник спрятал пистолет обратно в кобуру. Граф Разумовский был одной из самых louche[6] личностей, которые когда-либо встречались ему. Но он также вызывал в нем восторг. К тому же Ник переживал смертельную скуку.
Елейная улыбочка графа стала еще шире, когда он увидел, что Ник убрал пистолет.
— Играете в покер? — как ни в чем не бывало спросил граф у Ника, когда они вместе вышли из каюты последнего. — Научился во время моего пребывания в Штатах. Может, перекинемся? Все равно здесь больше нечем заняться. Либо карты, либо пьянство.
— Либо обыски в каютах пассажиров.
— Верно, — сказал граф, усмехаясь и поправляя монокль. — Но это я уже попробовал.
* * *
В течение последующих двух недель, пока «Святая Тереза» неспешно тащилась под жарким солнцем Тихого океана, Ник играл в покер с графом, сеньором Альбой, лейтенантом Перкинсом и другими пассажирами, которые подсаживались к столу. Выяснилось, что граф Разумовский отвратительно играл в покер, но был остроумным собеседником. Из него так и сыпались шуточки и сплетни. К тому же, похоже, он был одержим Распутиным, о котором знал десятки разных историй, от которых волосы поднимались дыбом. Он утверждал даже, что лично знаком со старцем, одно время, мол, служил в том отделении, которое отвечало за личную безопасность — и заодно следило за всеми передвижениями — фаворита императрицы. В квартире Распутина, которая располагалась по адресу: Гороховая, 63–64 — прямо напротив департамента полиции, по словам Разумовского, толпились представители всех классов русского общества, добиваясь благосклонного взора человека, который имел такое сильное влияние на императрицу, а через нее и на императора. По словам графа — а эти вещи он рассказал с особой охотой, — светские женщины добиваются Распутина как сексуального партнера.
— Это величайший любовник всех времен и народов! — исступленно шипел Разумовский, потирая руки. — Многие женщины признавались мне, что он переносил их в астральный мир экстаза. Они говорили, что это было нечто большее, чем просто секс, некое религиозное таинство.
Остальные игроки в покер высмеивали эти рассказы, но Разумовский настаивал на том, что это правда.
Ник полагал, что на самом деле граф обычные сплетни выдает за факты, а о самих фактах имеет лишь самое отдаленное представление. Граф пил с утра и до вечера, вроде бы не пьянея. Впрочем, водка и коньяк развязывали ему язык. Граф слишком уж небрежно указывал на свою принадлежность к Охранному отделению. Это навело Ника на подозрения в том, что, может быть, и это неправда.
Конечно, легче легкого было увидеть в этом русском всего лишь хвастливого и любящего выпивку вруна. Но Ник считал, что за этим фасадом скрывается то, что граф предпочитает не выставлять на всеобщее обозрение. Внешне он был добродушным, но внутри у него таилось нечто зловещее. Ник пытался сдерживать свое воображение, тем более что — кроме того инцидента в каюте — Разумовский больше не делал ничего подозрительного. Даже проиграв в покер свыше тысячи долларов, он отнесся к этому легко.
И все-таки Ник был не в силах избавиться от ощущения, что Разумовский опасен.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Наконец «Святая Тереза» причалила к большой в четыре квадратные мили — гавани Владивостока. Там уже стояли два русских крейсера. Ника посетило странное чувство, когда он спускался по сходням на берег той страны, где родилась его мать. Несмотря на чистую русскую речь, Ник чувствовал себя стопроцентным американцем и знал о России так же мало, как и большинство его сверстников в Штатах. Правда, порой в его памяти смутно всплывали звуки русских народных песен, которые ему пела мать, аромат русских блюд, которые она иногда готовила: блины, пирожки…
Все это вкупе и создавало странное ощущение, как определил его сам Ник, «возвращения домой».
Таможенные власти относились к своим обязанностям удивительно небрежно, принимая во внимание военное время. Видимо, это являлось отражением ослабленности царского режима. Но все равно у Ника почти не было времени на осмотр достопримечательностей Владивостока, так как уже через час транссибирский экспресс отправлялся в свой путь до Москвы длиной в шесть тысяч миль.
Ник имел билеты в вагон первого класса. Купе, доставшееся ему в поезде, выглядело комфортабельным: обитые красным деревом стены, красивая отделка бронзой, шикарная драпировка, наконец, красные бархатные занавески на окне. Точно в пять часов пополудни паровоз, работавший на древесном топливе, вытянул восемь вагонов поезда со станции, и путешествие началось. Ник наблюдал в окно за уплывавшими назад унылыми пригородами. Потом появились сельские пейзажи. Поезд взял курс на северо-запад, в сторону Маньчжурии.
В половине седьмого в его дверь постучали.
— Войдите.
Это был как всегда улыбающийся граф Разумовский.
— Флеминг, дружище, я иду обедать, присоединяйтесь.
Ник был уже сыт по горло обществом графа.
— Нет, спасибо.
— Погодите отказываться. В соседнем со мной купе едет совершенно очаровательная женщина, муж которой был процветающим коммерсантом во Владивостоке. Она обедает со мной. Уверен, останетесь довольны ее обществом. Он понизил голос. — Она, как говорят французы, disponible[7] Способна существенно скрасить наше путешествие. Он пошло подмигнул.
— Спасибо еще раз и еще раз нет.
Ник уже еле сдерживался, но графа, похоже, невозможно было бы оскорбить.
— Ладно, юноша, но если передумаете… Уверяю, в этой даме есть чем соблазниться.
Привычно ухмыляясь, он вышел из купе и прикрыл за собой дверь.
Дорога была одноколейная и очень тряская; поезд мотало из стороны в сторону, несмотря на то что скорость была всего двадцать пять миль в час. Хуже того: каждые два часа состав останавливался для того, чтобы пассажиры второго класса могли справить нужду: в их плацкартных деревянных вагонах не было туалетных комнат. Впрочем, эти неудобства отчасти компенсировались. Пожилой проводник вагона, где ехал Ник, держал постоянно кипящим медный самовар с крышкой-луковицей и латунным краном. За чаем можно было обращаться в любое время.
Вагон-ресторан был просто роскошным: кожаные сиденья, зеркала, медная лампа с красным шелковым абажуром на каждом столе. Обслуживание было прекрасное. Искрящееся стекло бокалов, серебряные приборы и ослепительно белые скатерти. Несмотря на нехватку продуктов в Петрограде, про которую слышал Ник, в вагоне-ресторане яства сыпались как из рога изобилия: наваристый борщ, тушеное мясо, свежие осетры, жаркое, икра, клюквенный пирог. Перечень спиртного был на удивление большим. Для Ника сесть за один из столиков и, смакуя крымское «Пино Гри», обозревать в окно уплывающие вдаль гигантские просторы Маньчжурии значило не просто получить удовольствие, но и открыть для себя новое. Он довольно насмотрелся на восточную часть Соединенных Штатов, разъезжая по городам в роли торгового агента, но маньчжурская земля была гораздо красивее и просторнее, казалась загадочным краем, оторванным от всего остального мира.
На второй вечер, когда как раз проехали Харбин, столицу Маньчжурии, в вагоне-ресторане появился граф Разумовский в обществе удивительно привлекательной женщины. Она была одного роста с графом, а атласная шляпка без полей, оттенявшая ее черные волосы, делала ее еще выше. На ней было голубое платье, подчеркивавшее ее превосходную фигуру, красивые длинные ноги были дерзко открыты, по меньшей мере, на шесть дюймов. Две нитки розового жемчуга гармонировали с цветом ее лица. Граф, одетый в вечерний костюм, подвел ее к столу Ника.
— Вот он, сказал он по-русски, полюбуйся. Наш франтоватый юный американец. После этих слов он перешел на английский. — Флеминг, с удовольствием представляю вам Надежду Ивановну, самую ослепительную вдовушку во всем Владивостоке. Надежда Ивановна, это Ник Флеминг.
Ник поднялся из-за стола, чтобы поцеловать даме руку. Он ожидал, что обещанная Разумовским вдова окажется средних лет женщиной, но этой с трудом можно было дать тридцать.
— Счастлив познакомиться, — сказал он по-английски. — Вы с графом присоединитесь ко мне?
— Увы, неважно себя чувствую, — проговорил Разумовский. — Боюсь, перепил водки. Не смогу составить вам компанию, но Надежда Ивановна с радостью отобедает с вами. Оставлю вас в прекрасном обществе, — сказал он вдове и прибавил по-русски: — Узнай, что ему нужно в Петрограде.
Ник был рад, что ни разу не дал графу понять, что знает русский язык.
— Вы давно знакомы с графом? — спросил у нее Ник, когда официант подал первое.
— О нет. Я познакомилась с ним только вчера вечером в поезде.
«Врешь», — подумал Ник. Он был удивлен тем, как чисто она говорит по-английски.
— С ним очень интересно, — продолжала она. — Кстати, о вас он весьма высокого мнения.
— Удивлен. На корабле я выиграл у него триста долларов.
— Деньги не имеют для него значения. Он очень богат, вы, наверное, уже знаете?
— Нет, не знал. А откуда вы узнали, если познакомились с ним только вчера?
Она обратила на него невинный взгляд.
— Разумовские — одна из знатнейших фамилий в России. У них огромные поместья.
Официант вновь наполнил их бокалы. Она пригубила и сказала:
— Удивительно все-таки, что может погнать американца в такую пору в Петроград. Вы едете туда по делам?
— Я бы сказал, по государственным делам.
— О?
— Я везу послание от президента Вильсона царю.
Он едва удержался от смеха, видя, с каким трудом она пытается скрыть свое волнение.
— В самом деле? Как интересно! Значит, вы очень важная персона.
— Стараюсь держаться как можно скромнее. Но послание, похоже, действительно важное.
Она стала смотреть в окно, пытаясь казаться равнодушной. Но он почти слышал лихорадочную работу ее мозга, заглушающую металлический перестук колес поезда.
Тем же вечером, в одиннадцать часов, она постучалась к нему в купе. Когда он открыл дверь и увидел ее, стоящую в коридоре вагона в одном пальто, накинутом на атласную ночную рубашку, удивляться не стал.
— Хотела попросить у вас сигарету, — сказала она. — А то у меня все вышли.
— Сожалею, но я не курю, — кратко ответил Ник.
Он закрыл дверь прямо перед ее изумленным лицом и, сев на свою постель, улыбнулся. Мадам Надежда Ивановна смешна в своей откровенности. Бесспорно, вдова из Владивостока была очаровательна, но он не собирался изменять своей зеленоглазой богине. Ник настолько сильно любил Диану Рамсчайлд, что впервые в жизни намерен был показать свою верность.
Какую бы игру ни вели Разумовский и эта женщина, они вели ее вместе вплоть до конца путешествия. Когда Ник встречал их в вагоне-ресторане, она ему вежливо и холодно улыбалась, как будто ничего не произошло, а граф расплывался в своей так надоевшей Нику слащавой улыбке. Ник рассудил, что если граф действительно является сотрудником Охранного отделения, то он так или иначе узнает об истинной миссии Флеминга от своего начальства. Если же нет, то чем меньше он будет знать о сделке «Рамсчайлд армс», тем лучше.
А пока Ник любовался природой Сибири, огромными пшеничными полями, тайгой, изредка попадавшимися маленькими деревушками, озером Байкал, которое выглядело совсем как море. В Иркутске была пересадка на другой, более скорый поезд, на котором они перевалили через Урал и въехали в европейскую часть России. И вот, наконец, Москва. Там Ник пересел на петроградский экспресс, который довез его до столицы за двенадцать часов.
Стоила теплая августовская ночь. Ему захотелось поскорее увидеть красоты диковинного города, но он взял извозчика сразу до гостиницы, решив совершить экскурсию утром.
Гостиница «Европейская», размещавшаяся на главной магистрали города — Невском проспекте, представляла собой огромное, уродливое здание XIX века. Ник въехал в двухкомнатные апартаменты на третьем этаже, богато обставленные резной мебелью, увитой деревянными виноградными лозами и барельефными животными, включая двух сидевших на корточках и подпиравших массивный письменный стол медведей. Ник рухнул на двуспальную кровать и через минуту уже крепко спал.
Последняя мысль, перед тем как уснуть, была о том, каким образом ему удастся раздобыть девять миллионов долларов в России, на противоположной от Америки стороне земного шара.
Его разбудил телефонный звонок.
— Доброе утро, — раздался в трубке резкий дребезжащий голос. — Мое имя Бэд Тернер, я являюсь русским корреспондентом газет сети Клермонта. Ван Клермонт телеграфировал мне с просьбой помочь вам разобраться в местной обстановке и все такое. Сейчас я нахожусь внизу, в вестибюле. Как насчет завтрака? Здесь в ресторане неплохие блины.
— Спущусь через десять минут.
Бэд Тернер оказался сорокалетним худощавым и щеголеватым субъектом с модной прической. Прикурив свою шестую за это утро сигарету, он спросил:
— Что вам хотелось бы узнать о России?
— Как бы мне устроить аудиенцию у военного министра? — спросил Ник, пробуя вкусные блинчики с земляничной начинкой.
— У великого князя Кирилла? Лучше устроить встречу через американское посольство. Я могу помочь. Мистер Клермонт сказал что вы будете представлять «Рамсчайлд армс». Выходит, вы здесь станете продавать оружие?
— Что-то вроде этого, — уклонился от прямого ответа Ник. — Кстати, вы знакомы с графом Разумовским?
— Нет, но кое-что о нем знаю. Большой человек. Один из первых богатеев в России. На днях закатил шумную пирушку в своем дворце на Фонтанке. Все шишки туда съехались.
Ник изумленно посмотрел на Бэда:
— Но это невозможно!
— Почему?
— Он ехал со мной в одном поезде!
— Может быть, с вами ехал какой-нибудь другой граф Разумовский.
— Как выглядит ваш граф?
— Ну, ему около семидесяти. Седая борода…
Ник расхохотался.
— Что тут смешного? — спросил Бэд.
— Меня надул самый ловкий лжеграф в России! — воскликнул Ник, а про себя подумал: «Так что же ему было от меня нужно?»
Встреча Ника с великим князем Кириллом была назначена на следующее утро в десять часов, поэтому остаток дня Флеминг решил посвятить осмотру города, заложенного Петром Великим в 1703 году. Бэд Тернер вызвался быть его гидом, и Ник не пожалел об этом: уроженец Нью-Йорка, Тернер хорошо знал и сам Петроград, и его историю. Петр Великий построил город, который он назвал Санкт-Петербургом, на болотах, заставив своих крепостных мужиков притащить миллионы тонн гранита к пойме Невы. Гранит этот лег в основание будущей русской столицы. На строительных работах умерло двести тысяч мужиков, но город медленно рос, раскинувшись на площади девятнадцати островов и став настоящей Северной Венецией. На протяжении последующих двух столетий были возведены огромные дворцы в стиле барокко и многочисленные правительственные здания, спроектированные итальянскими архитекторами. Ник подолгу не мог оторваться от этих украшенных красивой резьбой и лепниной фасадов, переливавшихся множеством цветов: голубым, желтым, зеленым, белым… Они с Бэдом осмотрели Адмиралтейство, Зимний дворец, расположенный на южном берегу Невы, мрачную Петропавловскую крепость, эту царскую тюрьму, расположенную на северном берегу реки, очаровательный Летний сад, огромный собор Казанской Божьей Матери, красивые набережные и широкие бульвары.
Нику город показался безмятежным, но Бэд Тернер предупредил его о ложности этого впечатления.
— Петроград подобен пороховой бочке, которая в любую минуту может взорваться.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Великий князь Кирилл Владимирович оказался настоящим гигантом — по меньшей мере, на четыре дюйма выше Ника — и одной из самых ярких личностей, с которыми до сих пор жизнь сталкивала молодого американца. Безупречно одетый, статный, с военной выправкой, аккуратно подстриженной седой бородкой, красивым умным лицом, начальственной осанкой и одновременно изящными манерами. Как и все представители русской знати, он отлично говорил по-английски. Молодой американец подробно объяснил цель своей миссии, а когда упомянул о девяти миллионах долларов, слушавший его великий князь чуть нахмурился. Он был осторожен и не высказывал пока своего личного мнения.
— Сегодня днем я увижусь с его величеством, — сказал он, — и мы обсудим с ним этот вопрос. Благоволите прийти ко мне завтра утром… — После некоторого колебания он вдруг сказал: — Нет, лучше сделаем иначе. Вы свободны сегодня вечером?
— Да, сэр.
— Жена устраивает небольшой вечер для дочери. Приходите. У вас будет возможность поближе познакомиться с петербургской жизнью, и я дам вам ответ его величества. Не буду скрывать; нам крайне необходим этот корабль с оружием. Поэтому медлить с решением вопроса не будем.
Ник поднялся со своего места:
— Благодарю вас, сэр. С удовольствием приду. Где вы живете?
Великий князь удивленно посмотрел на американца, словно хотел сказать этим, что каждый знает, где он живет.
— На Мойке. Спросите любого извозчика. Не думаю, что вы будете испытывать трудности в поисках моего дома.
Действительно, дом великого князя Кирилла трудно было бы не заметить. Он был расположен на красивой набережной реки Мойки, рядом с юсуповским дворцом. Его бледно-желтый фасад со стройным рядом палладийских колонн был гораздо менее цветистым, чем многие другие здания, виденные Ником, построенные в стиле барокко или рококо. Он подъехал на извозчике и окинул восторженным взглядом этот четырехэтажный, освещенный вечерним летним солнцем дворец, в сравнении с которым особняк Альфреда Рамсчайлда походил просто на уборную во дворе. Ник взошел на крыльцо и позвонил. Он был встречен лакеем в парике и шелковых гетрах. Этот слуга словно перенесся сюда из XVIII века.
Впечатление это осталось, когда Ника повели вверх по огромной мраморной лестнице, которая была точной копией знаменитой Королевской лестницы Версаля. Дворец, выстроенный в 1719 году, был призван вызывать восторг и восхищение. Стены лестницы взмывали вверх футов на шестьдесят к величественному расписному потолку, где боги и богини сплелись в мифологических танцах на фоне лазоревого райского неба. С потолка свешивалась самая большая хрустальная люстра из всех, когда-либо виденных Ником. Поднявшись по лестнице вместе с Ником, лакей провел его в красную гостиную, потолок которой был украшен искусно выполненным неопомпейским рисунком на золотом листе; в самом центре сверкающего, отражающего свет пола был выложен красивый и замысловатый, круглый по форме рисунок в лучших традициях инкрустации по дереву. Высокие дверные коробки сами по себе были небольшими мраморными произведениями искусства, с маленькими колоннами и фронтонами. На стенах, обтянутых красным шелком, висели творения итальянских мастеров XVII века. Глаза Ника становились все шире и шире по мере того, как лакей распахивал перед ним двери очередной гостиной, которая была больше и роскошней предыдущей, и каждая была заполнена такой мебелью и такими предметами искусства, ради которых любой музейный хранитель, не задумываясь, пошел бы на убийство. Везде на изящно инкрустированных столах из дерева, на флорентийских столиках pietra dura были разложены и расставлены ониксы, жадеиты, малахиты, драгоценные брелоки и усыпанные камнями табакерки, очаровательные шкатулки и картинные рамы Фаберже. Ник увидел даже блюдо из слоновой кости, наполненное неограненными алмазами и рубинами. Это великолепие потрясало и, учитывая ситуацию в Петрограде, было просто вызывающим.
Проходя через огромную ротонду, в середине которой стояла обнаженная Диана работы скульптора Кановы, Ник услышал приглушенный звук фонографа. Музыка была современной. Джазовый оркестр играл «Александр рэгтайм бэнд». Ник едва удержался от радостного возгласа: за полмира от Нью-Йорка — знакомая мелодия! Лакей повел его по длинному коридору, вдоль стен которого стояли скульптуры, и музыка звучала отчетливее и громче. Проходя мимо одной из открытых дверей, Ник остановился и спросил лакея по-русски:
— Что это?
— Театр, сэр.
Ник заглянул внутрь и действительно увидел самый настоящий театр: позолоченные балконы с херувимами, в полную величину сцена, окруженная позолоченным бордюром, обитые шелком кресла для оркестра на сто пятьдесят человек. Домашний театр, эта прихоть какого-нибудь предка великого князя, жившего в начале XIX века, был настолько экстравагантным явлением, что у Ника просто не было слов.
— Перед войной, — как ни в чем не бывало говорил лакей, — мы давали по нескольку представлений в неделю.
Онемевший Ник только кивнул. Они двинулись по коридору дальше.
Теперь «Александр рэгтайм бэнд» был заменен другой записью, медленным меланхолическим вальсом, который был Нику незнаком. Дойдя до конца коридора, лакей отворил двустворчатые двери, белые с позолотой, и провел американца в большой зал. К этой минуте понятия «экстравагантность», «великолепие», «роскошь» уже потеряли свое значение, и Ника, казалось, уже ничем нельзя было удивить. Но вид этого зала все-таки потряс его до глубины души. Изящный, изгибающийся аркой потолок был украшен золотистыми гирляндами. Зал был огромен, по меньшей мере, в сто футов длиной, и освещался четырьмя золотыми люстрами в русском стиле. Вдоль стен тянулись бело-золотые дорические пилястры. Между ними были золотые и хрустальные подсвечники. Между пилястрами и потолочным сводом была лепнина в виде золотой пшеницы и полевых цветов. Под грустную, медленную музыку на зеркальном паркете вальсировало около десятка молодых людей и девушек. На бело-золотом столе времен Людовика Шестнадцатого была установлена фонограф-виктрола.
Великий князь Кирилл, в вечернем костюме, стоял в углу зала и беседовал с несколькими господами примерно его возраста. Увидев вошедшего в зал Ника, он тотчас покинул своих гостей и, подойдя к американцу, пожал ему руку:
— Мистер Флеминг. Рад, что смогли прийти.
Прохаживаясь с Ником по залу, он негромко говорил:
— Сегодня я разговаривал с его императорским величеством по вашему вопросу. Наше посольство в Париже договаривается с французским правительством о предоставлении заема на сумму в восемьсот миллионов рублей. Или сто миллионов американских долларов. Его величество поручили мне довести до вашего сведения, что девять миллионов долларов будут выплачены банку Саксмундхэмов в Лондоне к концу этой недели. В долларах. Полагаю, такое решение проблемы вас удовлетворит?
Ник вместе с участившимся сердцебиением ощутил, что только что стал богатым человеком.
— Да, сэр. Вполне удовлетворит. Утром я телеграфирую об этом мистеру Рамсчайлду.
— Нам бы очень хотелось, чтобы корабль с товаром покинул порт Сан-Франциско как можно скорее. До конца недели еще четыре дня, а если вдруг в оплате произойдет задержка, что маловероятно, товар еще можно будет задержать на Гавайях.
Ник почувствовал, что рано обрадовался.
— Я попрошу об этом в телеграмме. Мистер Рамсчайлд может с этим согласиться.
— Прошу вас, объясните ему, что каждый выигранный день имеет для нас неоценимое значение. Не думайте, мистер Флеминг, что мы здесь все дураки. Нам прекрасно известно отношение мирового финансового сообщества к нашей платежеспособности. Если совсем откровенно, то мы испытывали трудности, пытаясь закупить оружие у других фирм. Наши союзники с большой неохотой ссужают нам очередные суммы. Впрочем, это понятно: и Франция и Великобритания сами сейчас находятся в затруднительном финансовом положении. Но нам удалось убедить французские власти в том, что они просто обязаны помочь нам сейчас.
Война обходится России в миллионы жертв. Если мы не будем сковывать военными действиями Германию на востоке, она в союзе с Австрией обрушится на запад, на Францию, которую, по моему мнению, сметет с лица земли в несколько недель. Поэтому французы В конце концов дали согласие поддерживать нас и впредь. Весьма сожалею, что вам пришлось проделать столь длительное путешествие, но, с другой стороны, по-моему, американцу полезно собственными глазами посмотреть на то, что здесь у нас происходит. А вот и моя жена. Дорогая, это тот юный американец, о котором я тебе рассказывал.
Ник был представлен великой княгине Ксении, внешность которой не говорила ни о величии, ни о высоком титуле. Перед Ником стояла невысокая, пухленькая женщина с домашним лицом и вьющимися седыми волосами. Она была старомодно одета и вообще не производила впечатления. Ник внутренне изумился: какие же скрытые достоинства имела эта женщина, раз привлекла и пленила своего красивого и аристократического мужа? Впрочем, она оказалась умна и к тому же живо интересовалась жизнью Америки. Она спросила Ника, что американцы думают о России.
— Сказать честно, мэм, им не очень по душе царский самодержавный режим.
— Вот! — воскликнула великая княгиня, повернувшись к присутствующим. — Именно это я и говорю все последнее время! Ники следует отречься. Он наделал слишком много ошибок, и всем нам прекрасно известно, что англичане нас уже не любят. Нам нужна мировая поддержка, которой не будет, пока мы не откажемся от нашей средневековой формы государственного управления!
Ник был изумлен тем, как спокойно присутствующие согласились с этим мнением, высказанным женой военного министра и члена царской фамилии, с мнением, которое следовало рассматривать как еретическое, если не революционное. И тем не менее гости, включая, кажется, и самого великого князя, выразили свое согласие с этим мнением. Ник рассудил, что Петроград действительно похож на пороховую бочку, если даже придворная аристократия готова покинуть царя.
Великий князь представил Ника гостям из числа своих ровесников. Однако вскоре по залу распространился слух, что присутствует американец, и Ника обступила молодежь. Но их интересовала уже не политика.
— Вы умеете танцевать «Медведя»? — спросила Ника миловидная невысокая девушка в белом платье, которой он дал на глаз лет восемнадцать.
— Конечно, — ответил он, польщенный тем, что является центром всеобщего внимания. — Но в Нью-Йорке это уже старо.
— А что теперь в моде? — раздались одновременно сразу несколько голосов, и Ник вдруг с сочувствием осознал, как оторваны от мира эти милые молодые люди.
— Ну что ж… Могу предложить вариацию «Замка Уок» под названием «Замок Гавот». Хотите, покажу?
— Да!!! — хором ответили ему.
— Не откажетесь быть моей партнершей? — спросил Ник у девушки в белом, взяв ее за руку.
— С удовольствием, — сказала она. — Папа, познакомь нас.
Великий князь Кирилл сказал:
— Мистер Флеминг, позвольте представить вам мою дочь великую княжну Татьяну.
Только после этих слов Ник уловил между этой девочкой и ее старомодной матерью сходство. К счастью, дочь кое-что унаследовала и от отца. Не рост, конечно, и не яркую красоту. Но она была привлекательна, а ее вьющиеся светлые волосы и живые голубые глаза, по мнению Ника, делали ее больше похожей на американку, чем на русскую.
— Поставьте «Александр рэгтайм бэнд», — распорядился Ник, выводя свою даму в центр зала. Как только из фонографа полилась музыка, он стал показывать девушке быстрые движения джазового танца. — Сначала мы оба наклоняемся вперед, вы на правой ноге, я — на левой, — объяснял он, разводя ее руки в стороны. — Затем мы отклоняемся назад на другую ногу. Затем мы отворачиваемся друг от друга и делаем оборот… Затем мы приближаемся друг к другу и делаем вот такие два шажка…
Татьяна все схватывала на лету. Через десять минут остальные молодые гости уже вовсю пробовали себя в новом танце.
— Чудесно! — восторженно воскликнула юная великая княжна. — Это в самом деле чудесно. Я так рада, что вы приехали в Петроград, мистер Флеминг!
— Я тоже рад. Урок танцев великой княжне я ни на что не променяю!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Ему так понравилось танцевать, что он остался там надолго и ушел уже после полуночи. Попрощавшись с хозяевами и поблагодарив их, он покинул дворец, а поскольку ночь стояла чудесная, он решил вернуться в гостиницу пешком. Ник был в прекрасном настроении. Благодаря везению и удачному моменту, его миссия, похоже, завершилась вполне успешно. Он уже почти ощущал девятьсот тысяч комиссионных у себя в кармане. Запрокинув голову, он стал смотреть на усыпанное звездами петроградское небо. Ему вспомнился его детский бессильный гнев в день ареста матери и в день ее смерти в одиночестве, ему вспомнилась та горечь, которую он испытал во время той пародии на правосудие.
«Больше я никогда не буду беспомощным, — решительно думал он. — Никогда! Я богат и собираюсь быть еще богаче. Мир скоро услышит о Нике Флеминге».
Он был настолько захвачен своими мыслями, что не слышал, как за ним по улице медленно едет черный четырехместный автомобиль. Когда машина почти поравнялась с Ником, задние дверцы открылись и на улицу выскочили двое. Ник услышал за собой быстрые шаги и стал оборачиваться, чтобы узнать, в чем дело. Но в то же мгновение его чем-то сильно ударили по голове. Искры посыпались у него из глаз. Он потерял сознание.
Придя в чувство, он обнаружил, что сидит привязанным к деревянному стулу в центре небольшой тускло освещенной комнаты. Руки его были прикручены веревкой к спинке стула, а ноги — к его передним ножкам. Рот был заткнут отвратительно пахнувшей тряпкой. Голова раскалывалась. Он начал сильно нервничать.
Стены комнаты были покрыты потрескавшейся штукатуркой. Кроме стула, к которому он был привязан, в комнате имелся еще низкий стол, на котором стояла лампа под зеленым абажуром. Если дворец великого князя на Мойке был фантазией XVIII века, то эта комната являлась воплощением кошмара века XX. Проклиная свое давешнее бахвальство насчет того, что он никогда больше не будет беспомощным, Ник со всей отчетливостью осознал: сейчас он находится полностью во власти своих похитителей. Но кто они, черт возьми? И какого дьявола им от него нужно?
В комнате было всего одно окно, да и то задернули темной занавеской. Ник понятия не имел о том, сколько было времени. Минуты тянулись долгими часами, во всяком случае, ему так казалось. Он приказывал себе сохранять спокойствие: его оставили в одиночестве специально для того, чтобы психологически подавить. И все же он не мог бороться с нараставшим страхом. Веревки, туго стянувшие его руки и ноги, нарушали нормальное кровообращение, и скоро Ник чувствовал уже, как в его ноющие конечности впились тысячи мелких игл.
Наконец он услышал за дверью голоса. Дверь открылась, и в комнату вошел лжеграф Разумовский в сопровождении неуклюжего на вид молодого крепыша в рабочей одежде и картузе. Граф уже не изображал из себя веселого и добродушного толстяка. Не было ни монокля, ни красивого дорогого костюма. На носу покачивались очки без оправы, на плечах висел дешевый пиджачок, придававший Разумовскому вид мелкого чиновника. Молодой человек закрыл за собой дверь, а Разумовский подошел к Флемингу и встал напротив него.
— Вынь у него кляп, — приказал он по-русски молодому человеку, затем обратился к Флемингу на английском: — Позвольте представить вам своею коллегу. Родион Григорьевич Селиванов. Разумеется, это не настоящее его имя. Полагаю, теперь вы уже догадались, что и я не являюсь графом Разумовским. Зовите меня просто — Радикс. Этим псевдонимом я подписываю статьи в подпольной газете «Правда», которую мы издаем. «Радикс» — латинское слово, которое переводится как «корень». От него происходит и английское слово «радикальный». А я, доложу вам, Флеминг, весьма и весьма радикален.
Родион Григорьевич вынул изо рта американца кляп. Переведя дух, Ник сказал по-русски:
— Нельзя ли немного ослабить веревки? У меня затекли руки.
Радикс усмехнулся и закурил сигарету.
— Так вы говорите по-русски, Флеминг? Мне нужно было быть более осмотрительным. Ну, кто же без греха? Ладно, к делу, друг мой. Буду краток. Нам известно, для чего вы прибыли в Петроград, нам известно, что царь согласился выплатить недостающие девять миллионов для того, чтобы заполучить себе корабль с оружием «Рамсчайлд армс».
— Откуда вы это узнали?
— Скажем так, у нас есть свои источники информации во дворце. Мы похитили вас с целью воспрепятствовать таким образом передаче корабля с оружием Николаю Второму.
— Зачем вам это понадобилось?
— Мы революционеры, посвятившие свою жизнь делу свержения существующего режима. По нашему мнению, эта война — великий наш союзник. Царь ее проигрывает, и русский народ начинает его за это ненавидеть. В России не осталось ни одной деревни, в которой бы кто-нибудь не потерял сына, мужа или брата. В наших интересах сорвать военные усилия самодержавия. Поэтому мы и не хотим, чтобы Рамсчайлд передавал России свой товар.
— А с чего вы взяли, что мое похищение сорвет сделку?
— Все просто. Мы уже направили в американское посольство депешу на имя Альфреда Рамсчайлда, в которой он уведомляется, что если все-таки надумает продать царю оружие, Ник Флеминг будет убит. — Он сделал небольшую паузу, давая время американцу осмыслить сказанное. — Рад, Флеминг, что вы не заканючили стереотипное: «Вы не посмеете!» Потому что мы, конечно же, посмеем. Не исключена возможность того, что Альфред Рамсчайлд больше все же оценит свою выгоду, чем вашу жизнь, и не изменит решения послать в Россию свой товар. Что ж, в этом случае мы проигрываем оба. Но я не думаю, что так случится. Особенно учитывая то обстоятельство, что американский газетный король Ван Нуис Клермонт, беспокоясь о вашем благополучии, прислал даже к вам в гостиницу своего здешнего корреспондента, чтобы тот приглядывал за вами.
— А это как вы пронюхали? Будете говорить о своих источниках в гостинице?
— Именно. Не думаю, что Альфред Рамсчайлд будет рисковать своей репутацией в глазах общественного мнения, которое формируется, как известно, прессой, и променяет жизнь симпатичного и молодого торгового агента на поставку оружия деспотическому и исключительно непопулярному русскому царю. Поэтому я довольно высоко оцениваю шансы на успех нашего скромного проекта.
Во всем этом деле вы предстаете в роли этакого невинного простофили. Появилась возможность использовать вас в качестве инструмента для достижения цели, и я эту возможность не упущу. Я не имею намерения причинить вам какой-либо вред и буду избегать этого по мере возможности. Сотрудничайте с нами, и ваше пребывание здесь может стать даже в некотором смысле приятным. Вашим главным сторожем будет Родион. Вы выглядите как несомненно крепкий и сильный молодой человек, но уверяю вас: Родион сильнее. Сегодня ночью вас доставят в избушку, которая находится в нескольких сотнях верст от Петрограда. Там вы и будете содержаться. Если даже вам и удастся совершить побег — что, конечно, маловероятно, — то вам никогда не найти обратной дороги к цивилизации. Поэтому мой совет: смиритесь со случившимся и рассматривайте будущие несколько недель или месяцев в качестве удачной возможности предаться философским размышлениям. Если вы не дурак, то поймете, что помогаете в одной из важнейших в истории человечества акции: свержении царского самодержавия. Будем надеяться, что это станет первым шагом к мировой революции. Какие-нибудь вопросы?
— И немало. Что вы делали в Америке?
— Искал финансовую поддержку. Вы удивились бы, узнав о том, как много людей в вашей капиталистической стране симпатизируют нам.
— А кто была эта Надежда Ивановна?
— А, ну, скажем, коллега. А теперь, дорогой друг, вынужден покинуть вас. И, Флеминг… — опять эта невыносимая ухмылочка, — надеюсь, вы на меня не в обиде?
Он вышел из комнаты.
* * *
Даже если бы Эдит Флеминг и не устроила истерику, узнав новости из России, Ван Клермонт все равно вынес бы похищение Ника Флеминга на первые полосы своих газет. У него был развит репортерский нюх на сенсации. Все двадцать девять его изданий первыми вышли с заголовками: «Молодой американец похищен врагами царя!»
Уведомление о похищении Флеминга, поступившее в американское посольство в Петрограде, было загадочно подписано «Комитетом шестерых». Поэтому никто не знал наверняка, что же это за похитители. Ван Клермонт написал редакционную статью, в которой выдвинул предположение, что похитители — «несомненно, часть радикального подполья» российских политиков либо анархического, либо большевистского толка. Эти два слова способны были напугать даже такого либерала, как Ван.
Городской дом Эдит Флеминг был осажден армией репортеров, но, поскольку врач уложил ее в постель, дав сильного успокоительного, слуга прогнал всех. Через день после того, как эта история попала на страницы газет, Эдит уже успокоилась настолько, что смогла ответить на телефонный звонок из Белого дома. Ее немного приободрили слова президента Вильсона, которого русский посол заверил в том, что «все меры принимаются».
И все же временами ее охватывала сильная тревога при мысли о том, что на другом конце земного шара в любую минуту может оборваться жизнь ее сына. Страшнее всего была мысль о том, что, возможно, Ника уже нет в живых.
Если Эдит Флеминг, узнав горькие новости, попросила себе успокоительного, то Диану Рамсчайлд просто обуяла ярость.
— Я так и знала! — кричала она на своего отца. — Я знала, что, если он уедет в Россию, я его потеряю!
— Диана, не спеши с выводами. Нам еще ничего не известно…
— Он похищен террористами, что тебе еще нужно знать?!
Она упала на диван и разрыдалась. Смущенный и терзаемый чувством вины отец стоял рядом. Он знал, что сердце его дочери разбито и что именно он за это в ответе.
— Диана, мне ужасно жаль… — бормотал он неуклюжие извинения.
Он подошел к ней и мягко положил свою руку ей на плечо, но она ее с себя сбросила, поднялась, убежала к себе в спальню, хлопнула дверью и упала на постель. Она смотрела на подаренное им обручальное кольцо, вспоминала, как он к ней прикасался, видела перед собой его лицо и убеждала себя в том, что это просто невозможно, что она может больше никогда его не увидеть, никогда не дотронуться до него… Невозможно!
Она перевернулась на постели и обняла себя за плечи, мучимая страхом за Ника и сжигаемая желанием любви, которую теперь у нее отняли.
Она терзалась тревогой не только за Ника. За три дня до этого она была у врача и выяснила то, о чем догадывалась: она носила под сердцем их с Ником ребенка.
В золоченых салонах петроградской знати, равно как и в домах среднего класса, известие о похищении «американца» стало еще одним удобным поводом лягнуть становящуюся с каждым днем все более непопулярной императорскую семью и бездеятельное русское правительство.
— Почему ты не дал ему охраны? — спрашивала великая княжна Татьяна великого князя Кирилла, своего отца. И военный министр России вынужден был признать, что не считал это необходимым. Звучало это неубедительно.
Даже в самой известной в России комнате — розово-лиловом будуаре русской императрицы — похищение американца вызвало тревогу. Императорская чета узнала о случившемся, находясь в стокомнатном Александровском дворце в Царском Селе.
— У Третьего отделения нет никаких зацепок относительно того, где он может быть, — воскликнул с чувством царь, меряющий шагами эту удивительную комнату, в которой даже мебель была розово-лиловая. Николай Второй был утонченно красивым человеком и с женой всегда говорил по-английски. Он остановился, чтобы погасить окурок сигареты. — Ни одной зацепки! А самое неприятное то, что нам как воздух нужны эти винтовки и патроны!
— Я говорила с Нашим Другом, — тихо сказала императрица, золотоволосая внучка королевы Виктории. Она покачивалась в шезлонге. Над ее головой висел портрет женщины, перед которой она преклонялась, — Марии-Антуанетты. «Нашим Другом» она называла Распутина. — Наш Друг говорит, что нам не следует волноваться.
— К черту Распутина! — рявкнул царь. Хотя старцу, похоже, действительно удавалось спасать от смерти его сына в моменты обострения гемофилии, временами Николай Второй искренне жалел, что пустил однажды во дворец этого дурно пахнувшего крестьянина, который так очаровал его жену.
Императрица была потрясена последними словами своего мужа.
— Ники, мы не должны позволять себе говорить в таком тоне о Григории! Это божий человек!
Царь нетерпеливо закурил вторую сигарету. Он искренне верил в Господа, но в последнее время казалось, что Господь не очень-то верит в него.
— Шах и мат.
Родион улыбнулся. Он продвинул своего белого слона на три клеточки, и черный король Ника был повержен. Впрочем, Ник и не возлагал больших надежд на эту партию против своего главного охранника. Родион оказался столь же умным, сколь и физически крепким. За те четыре месяца, что они уже играли в шахматы, русский выиграл восемьдесят процентов всех партий.
— Дьявол, — буркнул Ник.
— Еще партию?
Почему ты не хочешь, чтобы я научил тебя играть в покер? Мне уже надоели шахматы. К тому же мне надоело постоянно проигрывать.
— Э, друг мой… Покер — игра капиталистов. Поэтому он мне неинтересен. Но шахматы! Шахматы — это как дивная музыка. Шахматы полезны не только для развития ума, они полезны для развития души.
Ник поднялся из-за грубо сколоченного деревянного стола, потянулся и подошел к окну, чтобы полюбоваться на искрящийся снежный ковер на дворе. Четыре месяца в этой берлоге на востоке от солнца и на западе от луны. Четыре месяца! Сторожа обращались с ним на удивление любезно. Родион даже начал нравиться ему. Эдакий симпатяга-медведь. Симпатяга — это если его не сердить.
И все же Ник начинал уже сходить с ума.
От его дыхания стекло окна стало запотевать, а он продолжал смотреть на двор. Снежинки падали на землю как-то вяло, устало, словно не прекращавшийся в течение сорока восьми часов снегопад утомил их. Ник думал о том, удастся ли ему вообще когда-нибудь выбраться из этой Богом забытой избушки, которую он уже успел возненавидеть. Сторожа отличались дружелюбием, но изба оставалась тюрьмой.
Хуже всего было то, что он совершенно не имел информации о том, что происходит во внешнем мире. Охрана намеренно держала его в неведении. Ник даже перестал докучать им вопросами. Единственные «новости», которые почерпнул Ник за эти четыре месяца, состояли в том, что Родион родом из Москвы, имеет университетское образование, по специальности он металлург и может без конца скучным голосом цитировать Маркса.
В миллионный раз Ник думал о побеге. Но Радикс оказался прав: эта избушка действительно находилась где-то в самой глуши нескончаемого леса. Охранники давали ему возможность размяться и выводили на длинные прогулки. Он понимал, что если и сумеет ускользнуть от них, то безнадежно заблудится или замерзнет. На дворе уже стояла зима.
— Хватит там торчать, Коль, иди сюда, — позвал Родион. Русский называл его уменьшительно-ласкательно, словно Ник был членом его семьи. Впрочем, похоже, что так и было. — Я расставил новую партию.
— Я уже сказал тебе, что мне надоели шахматы.
— Можешь предложить что-нибудь получше?
Ник вздохнул и вернулся к доске. Его страсть к Диане все еще кипела, только подогреваемая его вынужденным монашеским затворничеством. Но этими долгими зимними днями тюремного заключения он думал также о компании Альфреда Рамсчайлда и вообще о военном бизнесе. Как-то в разговоре с Дианой он сопоставил продажу оружия с продажей страховых полисов, но такие вещи, конечно же, были несравнимы. Военно-промышленное производство — становой хребет мощи любого государства, любой нации. Ник хорошо знал, что нынешняя война, как и вся германская агрессивная внешняя политика последних пятидесяти лет, напрямую связана с ростом мощнейшей военной фирмы Круппа. Это именно Альфред Крупп, этот «пушечный король», дал возможность не одному кайзеру прошлого столетия превратить маленькую, сельскую и не очень богатую Пруссию в огромную, мощную в индустриальном отношении Германскую империю.
Даже причина того, что он сидит сейчас в заточении у русских, крылась в военном бизнесе. Кто контролирует производство оружия, тот автоматически приобретает власть и способность вести дела с сильными мира сего.
Это была соблазнительная мысль.
Эдит Флеминг стояла у окна в библиотеке своего городского дома и наблюдала за вихрями снежинок, опускавшимися на Манхэттен. В миллионный раз она твердила себе, что ее приемный сын должен быть жив, но сердце говорило обратное. Впервые она почувствовала это, когда Альфред Рамсчайлд сообщил ей, что собирается перепродать оружие Англии. Альфред убеждал ее, что перепродажа оружия другой стране — это лучший способ добиться скорейшего освобождения Ника, так как его похитили на самом деле для того, чтобы сорвать сделку с царем. Когда похитители узнают о том, что оружие продано Англии, у них отпадет необходимость держать его у себя. Эдит нервно согласилась с рассуждениями Альфреда, и тот заключил сделку с Англией.
Этот разговор состоялся в ноябре. Сейчас уже был февраль. Ник не только не получил свободу, но и от его похитителей ничего не было слышно. Эдит была убеждена в том, что его убили. Либо из мести, либо из страха, что, оказавшись на свободе, Ник выдаст царю этот «Комитет шестерых».
Она часто теперь вспоминала того красивого мальчика, которого приняла в свое сердце столько лет назад во Флемингтоне. Мальчика, которого она усыновила, которого любила, несмотря на все его недостатки, как если бы это был ее собственный ребенок.
Она услышала, как открывается дверь, и повернулась от окна. В библиотеку вошел Ван Клермонт. На нем был строгий темно-синий костюм, а стекла очков запотели с мороза.
— Ван! — воскликнула она, удивленная тем, что он пришел к ней днем.
Пересекая комнату, он снял очки и стал протирать стекла носовым платком.
— Уинифред умерла, — сказал он просто. — Около часа назад. Врач сказал, что даже если бы она перенесла этот удар, то до конца дней оставалась бы парализованной. Так что, может, так для нее и лучше.
— Соболезную, — печально произнесла Эдит.
Он снова нацепил на нос очки, положил носовой платок в нагрудный карман, затем обнял ее за плечи.
— Ты знаешь, что это значит? — спросил он. — Я свободен.
Она молча принимала его объятия и поцелуи.
— Мы подождем неделю после похорон, — шепнул он. — Затем отправимся в Хот-Спрингс и поженимся. Я обожаю тебя, Эдит. Я был бы лицемером, если бы стал говорить, что сильно расстроен из-за Уинифред.
«Если бы только здесь был Ник!» — подумала она.
— Ты выйдешь за меня замуж? — спросил он.
Она улыбнулась:
— Почту за честь.
Ван расплылся в улыбке, как школьник.
— Что бы тебе хотелось получить в качестве свадебного подарка?
— Моего сына.
Несмотря на то, что ему самому Ник не нравился, Ван видел, как остро Эдит переживает его гибель.
— Я могу только сожалеть о том, что не в силах вернуть тебе его, — был его ответ.
* * *
Маленькая комнатка в лесной избушке, в которой Ник провел так много длинных, скучных и холодных ночей, имела всего одно окошко, заколоченное досками еще до того, как его сюда привезли. Бесчисленное число раз Ник пытался расшатать доски, но они были толстенные, намертво прибитые десятидюймовыми гвоздями. Без молотка к ним нечего было и подступаться.
Ник твердил себе, что побег невозможен, но упрямо продолжал мечтать о нем. Однажды ему пришла в голову мысль обратить внимание на доски пола. Самым тщательным образом он начал исследовать их одну за другой, помня о том, что избушка была без фундамента — это он подметил на одной из прогулок — и под ней было пустое пространство, в которое можно было протиснуться человеку. На вторую ночь поисков ему удалось обнаружить слабо прибитую доску прямо под своей кроватью.
Он отодвинул кровать в сторону и отодрал доску. Спальня и без того плохо отапливалась, но из-под дома, как он сразу почувствовал, тянуло настоящим морозом. Он работал в темноте, так как узнику не положено было иметь лампу. Он принялся взламывать соседние доски.
Когда уже три доски валялись рядом с ним, в полу зачернела дыра, в которую он мог бы пролезть. Вопрос был в другом: а хочет ли он туда лезть? У него были меховое пальто, варежки и крепкие ботинки, но как долго сможет он протянуть на воздухе в такую стужу? У него не было ни пищи, ни оружия, не было и представления о том, где он находится. Вполне вероятно, что, проплутав несколько часов, он вконец заблудится и замерзнет до смерти.
И все же он должен попытаться. Заточение сводило с ума. Надев пальто и варежки, Ник проскользнул в дыру и упал на окаменевшую от холода землю. Продвигаясь вперед по-пластунски, он вскоре выполз из-под дома и смог подняться на ноги.
Стояла ясная, студеная ночь, освещенная четвертушкой луны. Это давало достаточно света, чтобы осмотреться вокруг. Время для побега не хуже любого другого. Обмотав вокруг головы шарф, чтобы не мерзли уши, он зашагал вперед по снегу.
Вскоре он разглядел на земле следы санных полозьев, и его сердце радостно забилось. Ну конечно! Дважды в неделю в избушку привозили на санях еду и прочие припасы. Вопрос: откуда? Из ближайшего города или деревни. Надо только идти по следу, который и выведет его из леса.
Он бросился по следу бегом, сгорая от желания заорать во все горло от облегчения — свобода! Он бежал минут пять, потом, начав задыхаться, перешел на шаг. Легкие заглатывали ледяной воздух, холод жег горло и ноздри. Он продолжал тащиться вперед по нескончаемому лесу. Лунный свет мелькал между облепленными снегом разлапистыми высокими елями. Какая стояла тишина! Было тихо и морозно. Лес был красив, но эта красота несла с собой смерть.
Он услышал отдаленный вой волков, и ледяной ужас охватил его, сковав кровь в жилах. В его мозгу стали всплывать видения, основанные на страшных историях, прочтенных в детстве. Историях о пионерах дикого Запада, преследуемых волками, медведями и индейцами. Ник был на диком востоке, где не могло быть индейцев, но волки-то были! Было еще не поздно повернуть назад. Но он продолжал идти. Он перевязал шарф так, чтобы ему закрывало рот и нос, и продолжал идти…
Его нашли на следующее утро в бессознательном состоянии, лежавшего в снегу и замерзшего почти до смерти. Он успел уйти на три мили от избушки. Его вернули обратно, и Родион стал выхаживать его горячим бульоном.
— Ты оказался большим дураком, Коля, — ворчал этот русский медведь. — Едва не помер. Мы знали, что рано или поздно ты попытаешься драпануть, но это же бесполезно. Понимаешь? Абсолютно бесполезно.
Ник онемело кивнул. Он убедился в этом, выбрав для проверки самый тяжелый способ.
И все же он попытался.
Он понял, что что-то случилось, когда появились новые надзиратели.
Его заперли в его маленькой комнате. Он сидел на постели, грубой крестьянской кровати с толстыми веревками вместо пружин, набитым соломой матрацем, на кровати, на которой он спал уже более полугода. Он прислушивался к голосам за дверью, гадая над тем, что же творится. Вдруг дверь отворилась и вошел Родион.
— Мы покидаем тебя, Коля, — сказал он, подходя к кровати. — Я пришел проститься.
Он протянул руку. Ник встал и пожал ее.
— Что случилось? Почему вы уходите?
— Надеюсь, ты согласишься с тем, что мы с тобой обращались по-людски? По возможности…
— Вы обращались со мной хорошо, но что здесь происходит, черт возьми?
К его удивлению, этот русский медведь обнял его.
— Мы с тобой друзья, Колька. Что бы ни случилось. Мы с тобой друзья, правда?
— На что ты намекаешь? Как это: «Что бы ни случилось»?!
Родион отпустил его и улыбнулся.
— Не бойся, — сказал он.
С этими словами он направился к двери.
— Не бойся? Чего не бояться-то?! — крикнул Ник.
Родион открыл дверь и вышел из комнаты. Ник бросился за ним.
— Родион, ради Бога, ты можешь сказать, что происходит?!
Дверь закрылась, и с внешней стороны задвинули деревянный засов.
Ник забарабанил по двери кулаком, крича:
— Дьявол! Да кто-нибудь может мне сказать?! Эй! Хоть что-нибудь!
Он орал и бился в дверь минуту-две. Затем прекратил. Бесполезно. Он вернулся к кровати и бессильно опустился на нее, вперив взгляд в дощатый пол.
Он гадал, убьют ли его сейчас, и если да, то как?
Ник молил Бога, чтобы все произошло быстро.
В этой одинокой тишине минуло полчаса. Затем ему послышалось ржание лошади. Он вскочил, подошел к двери и приложился к ней ухом.
Кто-то вошел в избу. Звуки шагов стали приближаться к его комнате. Затем отодвинули засов на двери.
Не спуская с нее глаз, Ник отскочил назад.
«Господи! Только не показывай им своего страха! — лихорадочно думал он. — Умри как мужчина. Иначе эти сукины дети будут еще потешаться над твоим телом…»
Когда дверь стала открываться, он попытался представить себе, больно ли получить пулю в сердце…
На пороге появился старик с большой седой бородой и в мохнатой шапке.
— Тебя, что ли, везти в Питер? — проворчал он каким-то крестьянским говорком.
— Что? — смутившись, переспросил Ник.
— Мне заплатили пятьдесят рублей за то, чтобы я отвез в Питер американца. Ты и будешь тот американец?
— Д-да, но… кто тебе заплатил?
Старик пожал плечами:
— Он только сказал, что играл с тобой в эти, как их… Шахматы. Сказал, что найду тебя в дальней комнате.
Ник стал смеяться:
— Ты хочешь сказать, что я свободен?
— Я сказал, что мне уже заплатили. Готов ехать, нет? Сани на дворе.
Испустив крик радости, Ник бросился к старику и крепко обнял его.
— Сейчас все с ума посходили, — проворчал крестьянин. — Как царя не стало, так весь мир тронулся.
— А что с ним случилось?
Старик уставился на него:
— С царем-то? Аль не слыхал?
— Ничего я не слыхал! Что случилось?
— На прошлой неделе в Питере восстание было. Отрекся царь-батюшка наш! Вона как! Говорят, Россия теперь — республика!
Ник только что не упал.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
В один из непогожих и дождливых позднемартовских дней 1917 года Ник Флеминг звонил в дверь особняка бывшего великого князя Кирилла и бывшего царского военного министра, гадая, зачем он ему вдруг понадобился? Первые дни после возвращения Ника в Петроград местная пресса уделяла ему определенное внимание, но недолго. Главная тема была иная. После отречения царя от престола журналисты зашлись в форменной антимонархической истерии. Все газетные полосы были отданы под громкие разоблачения государыни императрицы и ее супруга, которые содержались теперь под домашним арестом в их царскосельском дворце. Карикатуры с изображением императрицы, сидящей в ванне, наполненной кровью революционеров, помещались рядом с описаниями диких оргий, якобы происходивших во дворце до революции.
Распутин, изуверским способом умерщвленный в прошлом декабре, изображался теперь не иначе как сексуальный маньяк, который был не только любовником императрицы, но и якобы «совратил» еще и четырех ее дочерей. Избавленная от цензуры пресса просто взбесилась, а весь город кипел ненавистью. Нику неоднократно довелось видеть марширующих по улицам красногвардейцев с красными ленточками на папахах, которые открыто задирали полицию и войска временного правительства. После трех столетий самодержавия Романовых Россия переживала страшный революционный смерч. И омытый дождем дворец бывшего великого князя Кирилла казался Нику уже обреченным.
Дверь ему открыл молодой человек в одежде рабочего, с открытым грязным воротом рубахи под поношенным пиджачком. Ни парика, ни шелковых гетр, ни романтического ощущения благородной старины, которые видел здесь Ник всего семь месяцев назад, не было и в помине.
— Вы американец? — спросил Ника молодой человек тоном если и не хамским, то уж во всяком случае неприветливым.
— Да, — ответил Ник. — Великий князь позвонил мне в гостиницу.
— Великих князей больше нет. Человек, который здесь пока еще живет, зовется гражданином Романовым. Входите, гражданин, только вытрите ноги.
Ник вошел в мраморный холл, снял плащ-дождевик, который одолжил ему Бэд Тернер, и протянул его молодому человеку, которого посчитал, несмотря на его грубость, слугой. Тот кивнул в угол холла:
— Киньте его там вместе с вашим зонтиком.
— Насколько я понял, — сказал Ник, делая то, что ему сказали, — революция вместе с царем свергла и хорошие манеры?
— В новой России больше не будет лакеев. Каждый человек отныне обслуживает себя сам. Семья Романова находится в Красной гостиной.
— Не трудитесь меня провожать, я дорогу знаю.
— Я и не собирался провожать вас, гражданин.
— Я так и думал.
Ник стал подниматься по величественной дворцовой лестнице. Он понимал, что старый режим, беспомощный и отживший свое, должен был уйти. Но если таков будет новый мир… то тут мало приятного. Бэд Тернер сказал ему, что в городе власть захватили советы, которые теперь призывают коммунистическое правительство и хотят провозгласить «диктатуру пролетариата». Нет, конечно, это было Нику не по вкусу.
Поднявшись по лестнице, он прошел в Красную гостиную, где и нашел великого князя, его жену и дочь. Кирилл все еще выглядел величественно, стоя рядом с сидящей женой, но вид самой великой княгини Ксении и ее милой дочери Татьяны просто потряс Ника. Куда подевалась их осанка? Видимо, разрушение их сверкающего мира вызвало у них крайнюю растерянность и наполнило сердца ужасом. Они были лишены величия и княжеских титулов, из-под них выбили устои многовековых традиций, привилегий и власти. Кем же они стали теперь? Ник мог понять ярость восставшей толпы, но ему было жаль и Татьяну, которая выглядела просто испуганным ребенком. История уже смела ее своей грозной метлой в мусорную кучу, но ведь эта девочка едва ли была повинна в преступлениях русского самодержавия.
Подойдя, Ник пожал руку бывшего великого князя, который встретил американца очень тепло и поздравил с освобождением. Ксения налила ему чаю, Ник присел на диван и начал рассказывать о своем семимесячном заточении. Радикс, настоящее имя которого было Валериан Иванович Сазанов, «всплыл» после революции в качестве одного из лидеров большевиков, близкого соратника Ленина и одного из первых ораторов и интеллектуалов партии. Ник узнал об этом по прибытии в Петроград из уст Бэда Тернера. Теперь же великий князь Кирилл несколько расширил знания Ника о Сазанове.
— Его отец был преуспевающим коммерсантом в Нижнем Новгороде, — сказал он. — Сазанов был блестящим студентом и мечтал стать актером и драматургом. Ему довелось учиться у Станиславского в Москве. Пьесы его не имели успеха, но зато он получил известность как актер, специализирующийся на сатирическом изображении представителей знати в салонных комедиях.
— Охотно в это верю, — сказал Ник. — Наверно, поэтому он и выступал на корабле в роли графа Разумовского. У меня все время было ощущение, что в этом графе есть что-то сценическое.
— Несомненно, — сказал Кирилл. — Он всегда был плохим актером. В Москве он увлекся радикальной идеологией, стал писать революционные статьи и воззвания в подпольных газетах и, наконец, был арестован Третьим отделением. Насколько я помню, это было лет пять назад. Ему повезло сбежать из тюрьмы, затем он жил два года в Швейцарии с Лениным, потом вернулся в Россию для издания «Правды». Третье отделение не смогло найти его, что говорит не в пользу нашей полиции. Не советую вам пытаться привлечь его по суду за ваше похищение. Временное правительство слишком боится большевиков, чтобы предъявить обвинение одному из самых заметных их лидеров.
— Знаю, — сказал Ник. — И вовсе не собираюсь никого привлекать к ответственности. Я хочу только одного: как можно скорее выбраться из России.
— Насколько я понял, завтра вы отбываете в Стокгольм?
— Совершенно верно. Оттуда на шведском корабле доберусь до Лондона.
Жена и дочь бывшего великого князя до сих пор, большей частью, молчали, лишь изредка прерывая рассказ Ника вопросами. Но вот — словно об этом уговаривались заранее — великая княгиня поднялась и сказала:
— Надеюсь, вы нас извините, мистер Флеминг. Мне и дочери нужно сходить проверить белье, замоченное для стирки. Одним из первых удовольствий, подаренных нам новым режимом, явилась необходимость мне и Татьяне научиться стирать. Вскоре, я думаю, мы сможем смело открывать прачечную.
Она говорила сухо, но Ник видел, что эта женщина изо всех сил старается приспособиться к новым условиям. Он поцеловал ей руку, затем пожал Татьянину. Девушка застенчиво улыбнулась и просто сказала:
— Я никогда не забуду, как танцевала с вами, мистер Флеминг.
Все. Эти две женщины уходили из его жизни. Ник провожал их глазами и думал, что слова Татьяны были одними из самых прекрасных — а принимая во внимание обстоятельства, и одними из самых горьких, — какие Нику когда-либо приходилось слышать.
Когда они ушли, великий князь подсел к Нику и, понизив голос, сказал:
— Могу я быть с вами откровенным, мистер Флеминг?
— Конечно.
— Являясь членом бывшей императорской фамилии, я думаю, не нужно иметь большой проницательности, чтобы говорить о том, что моя безопасность, равно как и безопасность жены и дочери — какое бы слово подобрать, — суть вещи весьма проблематичные. Большевики шумно призывают к тому, что они называют «народным правосудием», а это означает истребление целого класса. Керенский пока сдерживает их, но интуиция подсказывает мне не особенно полагаться на это. Только последний дурак не проведет параллели между тем, что сейчас происходит в России, и тем, что в свое время происходило во Франции. Сейчас у руля умеренные, но так ли уж далек восход террора? Поэтому я решился действовать, пока еще обладаю какой-никакой свободой… Вы, должно быть, заметили, что нас покинула вся челядь. За исключением Миши. Это молодой человек, с которым вы, наверно, встретились внизу. Раньше он был у нас при конюшне, но теперь сам себя произвел в мажордомы. Миша — большевик, и я уверен, что его приставили сюда для слежки за нами. Самое печальное, что я ничего не в силах с ним поделать. По закону этот дом — пока еще моя собственность, но что такое закон в нынешней России? Пустое место.
Он пригубил свой чай и продолжил:
— Я чувствую, что могу довериться вам, мистер Флеминг. Во-первых, потому что вы американец, во-вторых, потому что вы пострадали от этого Сазанова и, стало быть, не можете быть другом большевиков. Я скажу вам — сугубо конфиденциально, конечно, — что совершаю некоторые приготовления к тому, чтобы вывезти семью из России. Примерно через неделю мы отправляемся в Крым, а если выяснится, что это слишком рискованно, мы попробуем перебраться в Китай через Сибирь. К сожалению, все мое состояние находится здесь в России. Сейчас война, и поэтому нет никакой возможности переправить мой ликвидный капитал за границу. Даже если бы Керенский и позволил мне это сделать, а он конечно не позволит. Мое имение и этот дом со всем, что в нем есть… — Великий князь оглянулся вокруг, и на секунду Нику показалось, что глаза этого сдержанного человека увлажнились, — нетранспортабельны. Один Бог знает, что со всем этим сделают.
Его взгляд вернулся к Нику.
— У моей жены есть большая коллекция драгоценностей. Все, что можно было, мы зашили в подкладку нашей одежды. Вывезем ли мы на себе это или нет, Бог ведает. Возможно, нас схватят, и камешками придется выторговывать сохранение нам жизни.
Он говорил совершенно спокойно, но смысл его слов был страшен.
— Я долго искал способ, с помощью которого смог бы, так сказать, подстраховаться, — продолжал великий князь. — И вот решил пойти на риск и надеюсь, что вы мне поможете.
— Все, что в моих силах, сэр, я с радостью сделаю для вас.
Великий князь облегченно вздохнул.
— Хорошо, — сказал он. — Ценю это. Прошу вас, подождите, я вернусь через минуту.
Он вышел, но скоро вернулся. Он вынул из кармана небольшой замшевый кисет и подал Нику.
— В этом кисете драгоценные камни, — сказал он. — В основном бриллианты, но есть и бурмесский рубин, подаренный моему прадеду царем Александром Первым во время войны с Наполеоном. Этот рубин хорошо известен в кругу ювелиров и коллекционеров. Его зовут «Кровавой луной». В XVIII веке он был взят английским солдатом из одного индийского храма, а позже продан царскому агенту. Его вес — восемнадцать каратов, и мне говорили, что это один из красивейших рубинов в мире. В наши времена трудно оценивать драгоценные камни, но я уверен, что в Нью-Йорке за один этот рубин дадут тысяч сто в долларах. Взгляните.
Ник распустил шнурок на кисете и увидел каменья. Он вынул большой круглый бриллиант и поднял его на руке. Уже стемнело, и великий князь зажег электричество. Бриллиант вспыхнул бело-голубым пламенем.
— Мистер Флеминг, — вновь заговорил великий князь. — Я предлагаю вам «Кровавую луну» за то, что вы возьмете с собой завтра этот кисет и поместите камни в «Английский банк». Когда — или, вернее, если — мне и моей семье удастся выехать из России, я попрошу вас вернуть их мне. «Кровавая луна» останется у вас в качестве… комиссионных, что ли. В этом случае, если мы даже лишимся тех драгоценностей, что жена зашила в одежду, у нас будет с чего начать жизнь на чужбине. Не согласитесь ли вы оказать мне эту услугу?
Ник вернул круглый бриллиант и кисет, отыскал большой рубин и повернул его на свет. Камень имел чистейший ярко-красный, действительно кровавый оттенок.
— Я бы оказал вам ее и без рубина, — ответил он, потом взглянул на великого князя и улыбнулся: — Но лучше окажу с рубином.
Впервые за этот день великий князь тоже улыбнулся.
— Я знал, что молодой американский бизнесмен оценит это деловое предложение, — сказал он и встал. — Так вы согласны?
Ник тоже встал, и они обменялись рукопожатием.
— По рукам. Но не следует ли мне положить камни на ваше имя?
— Нет. Англичане могут их конфисковать. Лучше поместите на свое имя. Вам я доверяю больше, чем английскому правительству.
— Польщен, сэр.
— А теперь вам, думаю, лучше идти. Мише кисет, разумеется, не показывайте. Не думаю, что из-за него у вас будут неприятности, но кто знает?
Ник опустил кисет в правый карман брюк. Драгоценности заметно выпирали, но он надеялся, что сумеет скрыть это от Миши, а потом наденет плащ, под которым ничего не будет заметно.
— Желаю вам и вашей семье удачи, сэр, — сказал он.
Великий князь огляделся вокруг.
— Я жил в удивительно красивом мире. Но теперь красоте не осталось здесь места. — Он развел руками и добавил: — Сейчас не самое удачное время для того, чтобы быть русским великим князем.
Ник спускался по лестнице и гадал, доведется ли ему когда-нибудь еще увидеть сказочный дворец? Когда он достиг холла, из тени под мраморной лестницей выступил Миша. В руке он держал револьвер.
— Гражданин Романов держит меня за дурака, — прошептал он. — Но мне известно, для чего он пригласил вас к себе. Он вам передал что-то, что вы должны увезти с собой в Америку, не так ли?
Ник сунул руки в карманы и напустил на себя вид холодного равнодушия.
— Нет, — ответил он и как ни в чем не бывало направился к своему плащу и зонту, которые лежали на полу.
— Все, что находится в этом дворце, принадлежит народу России, — сказал Миша, повысив голос. — Я настаиваю на том, чтобы вы дали себя обыскать.
Ник повернулся к нему лицом, вынул руку из карманов и развел их в стороны. Замшевый кисет был зажат у него в правом кулаке.
— Обыскивайте, — сказал он.
Миша был не готов к такому ответу. Он стал приближаться к Нику, все еще направляя на него револьвер. Правда, оружие подрагивало у него в руке: юный революционер нервничал.
— Гражданин Романов — враг народа! — с вызовом проговорил он. — Все Романовы — враги народа!
— Я знаю. Не могли бы вы поторопиться? Я должен вернуться в гостиницу.
— Что там у вас в правой руке?
— Детская игрушка.
Миша остановился напротив Ника, уткнув дуло револьвера американцу в живот.
— Дайте сюда, — потребовал он, протягивая руку. Сделав короткий взмах, Ник засадил кулаком, в котором был зажат кисет, Мише в челюсть. Одновременно он вышиб левой рукой револьвер, и он отлетел к стене. Миша взвыл от боли и отступил на шаг. Используя кисет в качестве кастета, Ник ударил Мишу в нос. Послышался характерный хруст. Миша упал на колени, закрывая обеими руками лицо, и завыл. Кровь сочилась у него между пальцами. Ник бросился сначала за револьвером, потом за плащом и зонтом. Миша смотрел на него залитыми слезами глазами и все не мог отнять рук от лица. Ник прицелился ему в голову.
«И я его сейчас убью? — подумал он. — Если нет, то тем самым поставлю в трудное положение великого князя. Но, Боже мой, это ведь почти ребенок… Я не могу убить мальчишку, даже если он один из этих паршивых большевиков… А великому князю придется позаботиться о себе самостоятельно. Я и так делаю все, что в моих силах для него…»
Не отводя револьвера от Миши, в глазах которого застыл ужас, Ник стал пятиться к входной двери. Открыв дверь, Ник подмигнул Мише и сказал:
— Счастливой революции.
С этими словами он выбежал под дождь.
Телеграмма от Альфреда Рамсчайлда, полученная Ником накануне, гласила:
«Глубоко взволнован и обрадован твоим освобождением. Обо всем уведомил твою мать. Корабль с оружием продан Англии, но комиссионные для тебя сохранены как признание высокой услуги, оказанной тобой нашей компании. Поезжай в Лондон через Стокгольм. Пятнадцатого в воскресенье увидимся в отеле “Савой”».
Семь долгих месяцев, проведенных им в лесной избушке, в плену у большевиков, неплохо окупились. Он не только имел в банке девятьсот тысяч долларов, положенных Рамсчайлдом на его имя, но еще и рубин, который стоил не меньше ста тысяч. Он бежал по набережной Мойки под дождем и думал о том, что, когда крушатся империи, умный и ловкий всегда сумеет даже уличный булыжник обратить в целое состояние.
Его беспокоило: в телеграмме не было ни слова о Диане.
— С ней что-нибудь случилось? — задал он вопрос Альфреду, когда они сели за столик в гриль-баре лондонского отеля «Савой».
Альфреда этот вопрос явно смутил.
— С чего ты взял?
— С того, что вы ни слова не сказали о ней в своей телеграмме. С ней все в порядке?
Альфред глотнул воды из стакана.
— Нет, — сказал он. — Но врачи говорят, что скоро она поправится.
— Врачи?! Так, выходит, она заболела?
— Физически она в порядке. — Он понизил голос и оглядел заполненный людьми зал, словно подозревая, что их все подслушивают здесь. — Мы с Арабеллой понятия не имели о том, что вы с Дианой… — Он сделал паузу, словно правда причиняла ему невыносимую боль, — что вы уже были близки. Если верить Диане, то всего несколько раз, но без всяких мер предосторожности. Это было глупо, Ник. Не буду читать тебе мораль, тем более что ты такое перенес…
— Так у нее ребенок?! — радостно воскликнул он, с восторгом думая о том, что стал отцом.
— Тс! Не надо так громко.
— Мистер Рамсчайлд, нас никто не подслушивает. Я все равно женюсь на ней сейчас, так что ребенок будет законным. И никто не посмеет в чем-либо обвинять нас…
— Никакого ребенка нет, — прервал его Альфред. — Арабелла уговорила Диану поехать на Кубу и сделать аборт.
Ник содрогнулся:
— Аборт?! Боже, зачем?!
— Я не собираюсь оправдывать жену. Я тоже считаю, что она поступила неправильно, но Арабелле была невыносима мысль о том, что ребенок будет незаконнорожденным. Учти: мы не знали, жив ты или мертв.
— Проклятье! Вы убили моего ребенка! У вас не было на это никакого права!
Альфред сделал успокаивающий жест рукой:
— Это уже сделано, Ник. Правильно или неправильно, но это уже сделано. Сейчас не об этом тревога. Теперь надо думать о последствиях.
— Каких последствиях?
— Диана… Она очень эмоциональна. Она была просто убита твоим похищением, а тут еще аборт… В общем, не буду ничего скрывать. С ней случился нервный припадок. Очень серьезный. Вот уже пятый месяц она в Хартфордской лечебнице.
Ник пораженно уставился на него.
— Вы хотите сказать, — прошептал он, — что она сошла с ума?!
— Нет, нет, ну что ты! Просто серьезное нервное потрясение. Сейчас ей гораздо лучше. Доктор Сидни говорит, что через несколько недель, максимум через месяц, она уже сможет вернуться домой. Но теперь мы должны быть очень осторожны. Малейшее волнение может вернуть ее в прежнее состояние. Поэтому доктор не хочет ей сообщать сейчас о тебе. До тех пор, пока он не будет до конца уверен в том, что она спокойно сможет воспринять новость.
— Но… — Ник был смущен. — В каком она сейчас состоянии?
— Поначалу у нее были галлюцинации, а после она впала в глубокую депрессию. Но, как я уже сказал, сейчас все это позади. При известной осторожности мы можем надеяться, что припадок не повторится. Ты веришь, что мы сделаем все, как надо?
— Прошу прощения за резкость, но до сих пор у вас это, похоже, плохо получалось.
Альфред кивнул:
— Думаю, что я заслужил твои упреки. Я сам очень тяжело переживал происшедшее. Да, я чувствую свою вину, но хочу загладить ее, Ник, и в качестве первого шага я передаю тебе заработанные тобой комиссионные — девятьсот тысяч долларов. Я сделаю тебя вице-президентом по торговле, как и обещал.
Ник не ответил. Он думал о своей зеленоглазой богине, которая в эти самые минуты находилась в психиатрической лечебнице. Он думал о мертвом ребенке.
— А ребенок… он… — Он не договорил.
— Мальчик.
«Сын».
Его и Дианы сын. Он вспомнил тот ужасный ноябрьский день шестнадцать лет назад, когда впервые узнал, что является незаконнорожденным, когда за проституцию арестовали его мать. Что, если бы его мать тоже сделала аборт? Его жизнь была бы вырезана ножом, не начавшись. Теперь именно это случилось с его сыном.
Ник с трудом сдерживал горечь и гнев.
— Мне бы следовало послать вас с вашим вице-президентством куда подальше, но я понимаю, что это не ваша вина. Только не думайте, что я буду любезен с вашей женой! Насколько я понял, она убила моего сына только для того, чтобы избежать нежелательных слухов. Плюс к этому она спровадила Диану в психиатрическую лечебницу. Ваша жена никогда меня не любила, мистер Рамсчайлд. Но, видит Бог, она добилась взаимности!
— Ник, я могу понять твои чувства. Я всеми силами стараюсь водворить между всеми нами мир. Ну хорошо, давай-ка перекусим, а когда успокоишься, поговорим о делах.
— Господи, говорите сейчас! Надеюсь, вы не собираетесь послать меня снова в Сибирь?
— Нет. По крайней мере, в ближайшее время ты останешься в Лондоне. Ты ведь знаешь, наверно, что Америка тоже вступила в войну?
— Да.
— У меня теперь завод работает круглые сутки без перерыва, так как поступают миллионные заказы. Мы теперь удовлетворяем нужды не только французов и англичан, но и военного ведомства в Вашингтоне. Я мог бы использовать тебя на работе в Лондоне в течение месяца или около того. Работы много. Ты останешься, и это даст мне возможность вернуться в свою компанию. Согласен, Ник? Я не собираюсь просить тебя об одолжении, но ты очень мне поможешь. Я заказал тебе здесь хороший номер. В «Савое». Конечно, компания оплатит любые твои расходы.
Ник поморщился:
— Мистер Рамсчайлд, к чему эта комедия? Вы ведь уже заказали номер.
— Да… я… Давай поговорим о твоей зарплате, Ник. Кстати, зови меня Альфредом.
— Я мог бы твоего внука назвать Альфредом. И прежде чем мы будем говорить еще о чем-либо, я хочу поехать домой и увидеться с Дианой.
— Но тебе нельзя! Я же сказал, что она в лечебнице.
— Может, она там до сих пор только из-за того, что считает меня убитым. Альфред, я нужен ей! Я просто обязан поехать к ней. Я хочу поехать, черт возьми! Я хочу видеть Диану! Я сидел в России семь месяцев и теперь желаю видеть любимую женщину!
— Ник, об этом не может быть и речи. Поверь мне: врач не пустит тебя к Диане. Для ее же блага. Неужели ты не понимаешь, что второго потрясения ей не пережить?
— Я думаю, ты ошибаешься… — сказал хмурый Ник, нетерпеливо барабанивший пальцами по столу.
— Я не ошибаюсь, — возразил Альфред. — Как только наступит время, когда Диана будет готова увидеться с тобой, ты сейчас же вернешься к ней. Ждать ведь недолго: какой-нибудь месяц! А пока работай здесь, помогай мне. Я уже договорился о твоей встрече с лордом Саксмундхэмом. Он обещал помочь свести тебя с одним молодым человеком. Думаю, он тебе понравится.
— Кто еще? — вяло спросил Ник, думая только о Диане и их мертвом ребенке.
— Уинстон Черчилль.
Глаза Ника потеплели, и в них появился проблеск интереса.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Она был внучкой герцога в то время, когда английские герцоги еще вызывали в людях благоговейный трепет. Ее дед по матери был девятым герцогом Дорсетским, предок которого получил герцогство за то, что являлся незаконнорожденным сыном Чарльза Второго. Девятый герцог имел восемьдесят семь тысяч акров земли и Дорсетский замок, мрачную псевдоготическую крепость, выстроенную на острове Парбик и выходящую окнами на Ла-Манш.
Ее матерью была леди Леттис. Одна из королев красоты 90-х годов прошлого века, принадлежавшая к кружку высокорожденных псевдоинтеллектуалов «Души».
Ее отец, второй виконт Саксмундхэм, был одним из богатейших и влиятельнейших банкиров во всей Англии.
Ей самой недавно исполнилось двадцать один, она была красавицей и невестой лорда Роксэйвиджа, одного из самых блестящих женихов во всей стране. Он теперь сражался во Франции. Мало нашлось бы охотников поспорить с тем утверждением, что светлейшая Эдвина Тракс-Фаркуар родилась, имея с первого дня почти все, о чем только может мечтать человек. Многие называли ее дикой, необузданной и упрямой. Другие — сумасшедшей.
Помимо прочего богатства, лорд Саксмундхэм имел впечатляющий особняк в Белгравии, замок XVI века в Шотландии и, наконец, то, что считалось настоящей жемчужиной: поместье XVIII века, расположенное в Чилтерн-хиллз и названное Тракс-холлом. У Тракс-холла была интересная история. Первоначально это было аббатство, сожженное и разграбленное Генрихом Восьмым. Потом король подарил его одному из самых своих преданных военачальников полковнику сэру Мэривейлу Траксу. Вместе с восемьюстами акров. Сэр Мэривейл был хорошим солдатом, но подхватил сифилис — хоть в семье это и отрицали, — предаваясь зоофилии. Умер полковник буйно помешанным. Собственность перешла по наследству к племяннику Мэривейла, однако ни сам он, ни его потомки не проявляли никакого интереса к развалинам свыше двух сотен лет.
В 70-х годах XVIII века генерал сэр Адриан Тракс, сколотивший огромное состояние в Индии, решил, что пришло время потрясти мир своим богатством. Преклоняясь перед французским стилем, он выписал себе из Парижа архитектора, который и отстроил на фундаменте бывшего аббатства величественный 80-комнатный дворец. Каменные стены и изящные фронтоны нового дома выглядели более французскими, нежели английскими, но красота дворца, фасад, отражавшийся в стодвадцатифутовом бассейне с шестидесятифутовым фонтаном, заставили замолчать критиков-франкофобов того времени.
Сэр Адриан имел дочь Эриэл, которая вышла замуж за Роберта Фаркуара, молодого и предприимчивого охотника за богатством. Роберт и основал процветающий банк Саксмундхэмов, названный в честь его родного города в графстве Суффолк. Сэр Адриан умер от подагры, и Роберт, ловко видоизменивший свою фамилию с Фаркуара на Тракс-Фаркуара, унаследовал собственность. Эриэл умерла при родах, и собственность переходила из рук в руки в четырех поколениях семьи, пока не попала к Морису, второму виконту Саксмундхэму и отцу Эдвины.
После того как на вечере по случаю ее помолвки с лордом Роксэйвиджем в июне 1917 года Эдвина выпила слишком много шампанского и обнаженной посреди ночи отправилась купаться в бассейн перед домом, с быстротой молнии распространили слух о том, что она унаследовала «безумие» Траксов. Припомнили не только безумного сэра Мэривейла Тракса, но и других странных представителей этого рода, включая леди Летицию Тракс, которая в 1832 году вообразила себя птицей и прыгнула с крыши Тракс-холла. Эдвина, преклонявшаяся перед историей своей семьи, не обиделась на сравнение ее с предками и даже назвала его «восхитительным».
У нее были мягкие золотисто-каштановые волосы, классический английский цвет лица, большие голубые глаза и профиль, названный одним восторженным поклонником «греческим», хотя на самом деле был типично англосаксонским. Бывая в Тракс-холле, она каждое утро совершала верховые прогулки. Вот и в то субботнее утро 1917 года в девять часов она спешилась перед крыльцом Тракс-холла, кинула поводья груму и легко взбежала по каменным ступеням дома. Войдя в холл, она дружелюбно посмотрела на стоящего там красивого молодого человека в темном костюме.
— Здравствуйте, — сказала она, закрывая за собой массивные двери. — Вы кто?
— Меня зовут Ник Флеминг.
Она заметила у него наручные часы, которые были едва ли не единственным мирным изобретением времен первой мировой.
— Ах да! Папа рассказывал о вас. Боюсь, вы не сможете мне понравиться.
— Отчего же?
— Папа говорит, что вы зарабатываете деньги, продавая правительству оружие, а я считаю, что того, кто наживается на этой ужасной войне, самого нужно пристрелить. И желательно его же собственным оружием.
— Ваш папа сам наживается на этой ужасной войне.
— А я и его не одобряю. Банковское дело — это тоже грязный бизнес. Все эти скучные процентные ставки и ссуды… У вас сегодня выходной?
— Да.
— Не думайте, что я буду вас развлекать. К тому же мне не нравятся американцы. У вас у всех жуткий акцент и патологическая одержимость деньгами. Впрочем, если на это не обращать внимания, вы очень и очень симпатичны.
— Это про вас говорят, что вы сумасшедшая?
— О, что вы! Просто самая настоящая сумасбродка! Это у меня наследственное. Наше семейное древо увешано маньяками.
— Не думаю, что вы сумасшедшая. Вы просто невоспитанны и страдаете идиотским самомнением.
Она улыбнулась:
— Вы абсолютно правы. Я невежда и себялюбка. Страшная! Вы любите кататься верхом?
— Нет. Ненавижу лошадей.
— Сразу видно настоящего мужчину. Что же вам тогда по душе?
— Немного играю в теннис.
— За конюшнями есть корт. Встретимся там через полчаса. Джером, наш лакей, даст вам ракетку.
Она устремилась вверх по лестнице.
— Но через десять минут у меня разговор с вашим папой!
— К черту этого содомита! О, простите, я забыла, что вы американец. Как же, как же — дело превыше всего!
Он нахмурился. Ее это позабавило.
— Я буду на корте через тридцать минут, — сказал он твердо.
Она уловила сердитые нотки в его голосе: «Отлично, — подумала она. — Он меня уже терпеть не может!»
Улыбаясь, она побежала по лестнице.
* * *
Эдвина и не догадывалась о значении слова «содомит», но видела, что это слово шокирует людей. Эдвина обожала шокировать окружающих и делала это при всякой возможности. Она уже привыкла к выражениям, типа: «Мой папа — настоящий содомит» или «Он просто страшный содомит». Если бы кто-нибудь сказал ей, что она обвиняет своего родителя в акте содомии, она невинно попросила бы объяснить ей слово «содомия». Эдвина была гораздо менее зрелой, чем ей казалось. «Зрелость» образца 1917 года означала то, что девушки должны красить себе губы. Губной помадой Эдвина активно пользовалась, несмотря на протесты ее матери леди Леттис.
Она появилась на корте, намеренно заставив Ника прождать ее десять лишних минут, и выиграла первую подачу.
— Вы случайно не придерживаетесь ошибочного мнения насчет того, что мужчины автоматически являются более спортивными, чем женщины? — спросила она.
— В зависимости от вида спорта. В бейсболе, например, это так и есть.
— Такая глупая скучная игра!
Ник только пожал плечами и приготовился принять ее мяч.
Она взяла гейм, а потом и весь первый сет по счетам шесть — один. Ник молчал.
— Достаточно? — спросила она, подходя к сетке.
— Я сыграл бы еще сет.
— О, в таком случае признаю, что вы умеете проигрывать.
— Благодарю.
— Не обижайтесь, но вы ведь только начинающий игрок. Я поступаю с вами нечестно. Не хочу сказать, что я прямо какой-нибудь мастер, но просто играю уже много лет. Я начинаю тревожиться за вашу мужскую гордость.
— Мне говорили, что лучший способ совершенствоваться в игре — играть с более сильными.
— О, это правда.
— Тогда, если вам не надоело, сыграем еще сет.
— Ну что ж…
— А чтобы подбодрить мои усилия, не поставить ли нам на кон деньги? Скажем, двадцать фунтов?
Она колебалась.
— По-моему, это будет нечестно.
— Вы думаете, что отнимете пресловутую конфетку у ребенка, но ведь я американец, патологически одержимый деньгами. Мне действительно нужен стимул. Денежная ставка заставит меня собраться. — Он улыбнулся. — А если произойдет чудо и я выиграю, то вложу деньги в фонд мира, о’кей?
— Ну хорошо.
Он разгромил ее со счетом шесть — ноль. Она была взбешена.
— Ты обманщик! — кричала она. — Ты хам, животное, ты… содомит! Ты же хорошо играешь!
Он рассмеялся, и ей захотелось запустить в него ракеткой.
Ник договорился с лордом Саксмундхэмом перенести их встречу на вечер. Было еще рано, и поэтому Ник пошел прогуляться по окрестностям поместья. Он решил, что Тракс-холл ему нравится так же сильно, как не нравится Эдвина, которую он пренебрежительно прозвал про себя «избалованной девчонкой». Он был погружен в размышления. Уже прошло несколько месяцев с того дня, когда Альфред оставил его в Лондоне, уплыв домой на нейтральном греческом судне. О Диане до сих пор не было никаких известий. Проникаясь с каждым новым днем растущим раздражением, Ник забрасывал Альфреда телеграммами с требованием сдвинуть дело с мертвой точки, но ответы приходили всегда одни и те же. Диана поправляется, но врачи все еще не успокоились. Это так бесило, что Ник уже начал подумывать о том, что, возможно, это еще одна гадкая затея Арабеллы Рамсчайлд для того, чтобы не дать ему увидеться с ее дочерью. Он убеждал себя в том, что это бред, что ни одна мать не может быть такой мстительной. Но потом он вспоминал про аборт и понимал, что, возможно, не такой уж это и бред.
Умерщвление ребенка не давало покоя. Его сжигала ненависть к матери Дианы и презрение к отцу. Чем больше он об этом думал, тем сильнее это накладывало отпечаток на его отношение к самой Диане. Ведь, в конце концов, она реализовала то, о чем ее просила мать. Ник знал, что до сих пор незамужние матери испытывают на себе сильное социальное давление. Но ведь она не думала об этом в том пляжном домике. Значит, когда речь шла о наслаждении, ее не волновало, «что скажут люди», а когда пришла пора взять на себя ответственность материнства — другое дело, так что ли? Возможно, она и противилась уговорам матери, но ведь в конечном итоге уступила!
Прогуливаясь вдоль кромки красивого бассейна, в воде которого отражался Тракс-холл, Ник размышлял о том, что же все-таки за женщина Диана Рамсчайлд.
Конечно, он любил ее, в этом не было и тени сомнения, а любить — значит прощать. Он жалел ее и даже думал, что, возможно, излишне разгорячился из-за аборта. И все же… теперь он видел свою зеленоглазую богиню в несколько ином, потускневшем свете.
И в ту минуту увидел Эдвину, выходившую из дома. Она остановилась на каменных ступенях крыльца, легкий ветерок трепал ее твидовую юбку.
Конечно, она была избалованной девчонкой, но Ник не мог не восхититься сейчас ее необычайной красотой!
Лорд Морис Саксмундхэм, второй виконт и председатель правления Саксмундхэмского банка, не унаследовал фамильного «безумия». Красивый даже в пожилом возрасте, с седой головой и седыми усами, лорд Саксмундхэм имел лишь одну сентиментальную прихоть — коллекционирование первых изданий. Его собрание было одним из самых лучших во всей Англии. У него было первое издание — чрезвычайно высоко ценимое знатоками — «Памелы» Ричардсона, полное собрание «Уэверли новелс» с автографом Скотта, творения Бальзака, Стендаля, Троллопа и Диккенса, редчайшее первое издание «Принцессы Клевской» и экземпляр «Падения дома Эшеров» Эдгара По, лично принадлежавший автору. Он держал коллекцию в красивой библиотеке Тракс-холла, где тома десятками лет лежали нетронутыми на полках с особой защитной бронзовой решеткой и очень редко вынимались оттуда своим гордым обладателем. Лорд Саксмундхэм — так его звали все, кроме членов семьи и близких друзей, — покупал книги для того, чтобы ими владеть, а отнюдь не читать. Он был похож в этом на коллекционера вин, который ни разу в жизни не пригублял спиртного.
Закончив Итонский колледж и Оксфордский университет, лорд Саксмундхэм заделался рьяным империалистом и стойким поборником идеологии тори. Его политические взгляды ровнехонько укладывались в русло политики, проводимой два десятка лет назад архиконсерватором премьером маркизом Сэйлсбери. Впрочем, на словах лорд Саксмундхэм больше других хвалил премьера лорда Мельбурна. Либеральная политика, которая стала проводиться в Англии перед войной, бесила его, а введение подоходного налога он назвал преступлением против природы. И каким образом столь убежденный викторианский консерватор мог родить дочь, которая симпатизировала сторонникам равноправия женщин… Этот курьез в своей жизни лорд Саксмундхэм никогда не мог объяснить даже самому себе. Но странно, имея двух дочерей, Эдвину он любил больше ее сестры. Поэтому-то, когда спустя час после игры с Ником в теннис девушка ворвалась в библиотеку, где отец просматривал «Таймс», он, выглянув из-за газетного листа, только улыбнулся.
— Доброе утро, моя дорогая, — сказал он голосом, который многие сравнивали со стаканчиком отменной мальвазии. — Мистер Флеминг сказал, что насладился игрой в теннис с тобой.
На Эдвине были твидовая юбка и большой вязаный свитер, но сейчас ей больше подошли бы боевые доспехи. Она быстро подошла к отцу и села на подлокотник его кресла. Бледное ноябрьское солнце, заглянувшее в высокие окна библиотеки, расцветило ее золотисто-каштановые волосы.
— Мистер Флеминг обманул меня на двадцать фунтов, — сказала она холодно. — Он не джентльмен. Я думаю, ты должен сказать ему, чтобы он собирал свои вещи и убирался из нашего дома!
Отец положил газету на колени:
— Обманул тебя? Каким образом?
— Сначала он прикинулся, что не умеет играть, а когда мы поставили на кон деньги, он выиграл! Он достоин презрения, и я поражена тем, что мой отец еще может иметь с таким человеком какие-то общие дела.
— Мне ничего не известно о том, какой этики придерживается мистер Флеминг в теннисе, но я знаю, что он добросовестно взаимодействует с нашим правительством, и советую тебе иметь это в виду. Его компания держит в моем банке более полумиллиона фунтов, это тебе тоже на заметку. II потом молодой человек мне просто симпатичен. Он умен, напорист и полон энергии.
— Пробивной американец, — фыркнула она.
— Очень возможно. Но он мой гость, с которым, я надеюсь, ты будешь любезна.
— О, хорошо! Я буду с ним любезной! — сказала с чувством Эдвина, поднимаясь с кресла. — Я буду с ним до отвращения любезной!
Она пошла к двери. Отец недоверчиво смотрел ей вслед.
— Эдвина, — сказал он. — Пожалуйста, обойдемся без твоих фокусов, если не возражаешь.
— О! — невинно воскликнула она. — Какие фокусы? Я и не думала об этом!
Лорд Саксмундхэм выглядел встревоженным.
Первоначальное мнение Эдвины об «американце» было явно не в его пользу, но тем же вечером он сумел дважды произвести на нее сильнейшее впечатление.
Во-первых, она поняла, что он обладает властью. Вслух Эдвина легкомысленно критиковала отца за его профессию, но втайне она получала удовольствие от осознания того, что отец обладает реальной властью в империи; она с удовольствием общалась с могущественными людьми, которых он приглашал к себе на выходные в Тракс-холл. Например, в тот вечер в гостях у лорда Саксмундхэма был, как знала Эдвина, одни из самых влиятельных политиков в Англии, который до сих пор оставался, несмотря на разгром англичан в Дарданелльской операции двумя годами раньше, одним из самых интересных и обсуждаемых членов либерального правительства. К тому же Уинстон Черчилль имел с Эдвиной кое-какие общие черты. Он также являлся внуком герцога, седьмого герцога Мальборо, и родился во дворце Блэнгейм, который занимал территорию аж в семь акров. Как и сэр Мэривейл Траке, отец Уинстона лорд Рэндольф Черчилль умер от сифилиса. Правда, последний подхватил его вовсе не из-за зоофилии. Обучаясь в молодости в Оксфорде, лорд Рэндольф пал невинной жертвой одной из самых жестоких студенческих шалостей в истории. Во время вечеринки приятели подсыпали ему в шампанское снотворное, и наутро юноша проснулся в объятиях беззубой и уродливой проститутки. Вот что понималось под веселой шуткой у его друзей. Охваченный ужасом студент бросился к врачу, но было поздно: спирохеты уже были в его крови. Викторианская медицина не знала эффективных средств борьбы с сифилисом, и в течение последующих двадцати лет болезнь, неуклонно прогрессируя, разрушала его здоровье, психику, его короткую, но яркую политическую карьеру и наконец погубила его. Его сын Уинстон дал обет стать таким же талантливым политиком, каким был его отец. По-другому он не мог отомстить за его смерть.
Для достижения цели Уинстон хватался за каждую возможность показать себя широкой публике. Его мать, красавица-американка Дженни Джером, имела множество влиятельных любовников, среди которых был и принц Уэльский, ставший в 1901 году королем Эдвардом Седьмым. Уинстон изводил мать просьбами употребить все свое влияние ради продвижения его карьеры. Дерзкий побег из лагеря для военнопленных во время англо-бурской войны, который он описал в английских журналах, снискал ему лавры популярного в народе героя. Свою известность он использовал как трамплин для прыжка в парламент, где он выдвинулся благодаря своему уму и живой энергии. Он стал самым молодым министром внутренних дел за всю английскую историю, а в 1911 году — самым молодым первым лордом Адмиралтейства. Накануне войны, в 1914 году, его назначили командующим британским флотом, этой первой линии обороны империи.
Ему было сорок.
Однако эта карьера, подобная комете, оказалась короткой. В 1915 году в качестве ответа на бездействие застрявших в своих окопах французов Черчилль предпринял морскую атаку в Дарданеллах. Турция вступила в войну на стороне Германии. Если бы удалось очистить от турков пролив, то по нему можно было бы через Черное море на кораблях переправить оружие, в котором остро нуждалась союзница Англии Россия, русский хлеб, в котором так нуждалась Англия, был бы доставлен тем же путем. Турция, этот «больной зуб Европы», вышла бы из войны. Тогда союзники смогли бы с тыла подобраться к Австро-Венгрии и Германии вплоть до Данюба.
Идея и план были просто блестящими, но их претворение в жизнь провалилось. Атака англичан и австралийцев в районе Галлипольского полуострова захлебнулась в результате умелых действий турок, которыми командовал молодой и одаренный полководец полковник Мустафа Кемаль. Потери союзники понесли ужасные, и вся вина за поражение была взвалена на первого лорда Уинстона Черчилля. Его «попросили» из Адмиралтейства, народная популярность обернулась народным презрением, и все говорили, что звезда Черчилля на политическом небосклоне окончательно закатилась.
Однако ошиблись те, кто скинул тогда Черчилля со счетов. После непродолжительной военной службы в Бельгии и Франции, где он выдвинулся благодаря своей известной энергии и несомненной смелости, Черчилль был отозван в Лондон, чтобы принять министерство военного имущества в первом правительстве Ллойда Джорджа. Из своего офиса, расположенного в фешенебельном отеле «Метрополь» на Нортумберленд-авеню близ Трафальгар-сквер, Черчилль отдавал распоряжения двенадцати тысячам гражданских чиновников из пятидесяти департаментов. Под его ответственность были отданы вооружение, боеприпасы и военное снаряжение, железные дороги, авиация и танки. Что касается последних, то крестным отцом этого изобретения сам Черчилль и являлся. Черчилль здорово встряхнул сонное министерство. А то, что оно было сонным в то самое время, когда английских солдат убивали сотнями и тысячами во Франции, красноречиво свидетельствовало о бестолковости высшего военного командования Великобритании.
Зная обо всем этом, Эдвина поняла, что ее отец отнюдь не случайно одновременно пригласил к себе Черчилля с его миловидной женой-шотландкой Клементиной и этого молодого американца, торговца оружием.
Определенно что-то намечалось. Больше всего ее удивил сначала Черчилль, когда вечером они все собрались в поистине царской столовой Тракс-холла. Черчилль, этот балабол, снискавший себе на этом дурную славу, сегодня был не похож сам на себя. Он обратил все внимание на Флеминга и, казалось, вот-вот начнет ухаживать за ним, как за барышней.
— Конечно, характер войны изменился после того, как эти чертовы большевики взяли власть в России, — говорил он за супом громоподобным голосом, словно кто-то нажимал на басовую педаль органа в кафедральном соборе. — Ведь что они делают?! Выводят Россию из войны! Гинденбург теперь имеет возможность двинуть свои восточные армии на Западный фронт, а для нас это означает приближение катастрофы! Катастрофы! — Он в отчаянии качал головой. — Наша единственная теперь надежда — это вы, американцы, Флеминг. Наша единственная надежда! Кстати, вы ведь на своей шкуре узнали, что такое большевики, да? Разве это не у них вы сидели в заложниках не так давно? Конечно, президент Вильсон приветствовал падение самодержавия, но ведь теперь, когда у власти Ленин, он должен, уверяю вас, просто должен переосмыслить ситуацию. Им нельзя доверять! Я печенкой чувствую: Ленин — это угроза. Вот запомните мои слова: настанет день — и Николай Второй со всеми его ошибками будет смотреться хорошо в сравнении с ним!
Ник, помня о мрачных предчувствиях обычно невозмутимого великого князя Кирилла и тихое отчаяние его жены и дочери, мог только согласиться с Черчиллем. Интересно, удалось ли семье великого князя покинуть Россию, и если удалось, то что с ними сталось? Насколько он знал, никто пока не заявлял свои права на кисет с бриллиантами, который он поместил в «Английском банке».
Черчилль развивал свой монолог, оплакивая сложившуюся военную обстановку и одновременно отдавая должное вину «Шато Латур’07», которое выставил лорд Саксмундхэм специально для гостей. Когда наконец в разговоре случилась пауза, Ник затронул предмет, ради которого, собственно, он и сел за этот стол.
— На мой взгляд, — начал он, — главной ошибкой высшего военного командования Великобритании является то, что они недооценили возможности пулемета.
— Именно! — проревел Черчилль. — Они подумали, что это так, детская игрушка! Эти чертовы дураки мой танк тоже считали игрушкой, пока я не показал им его в деле во Франции.
— Мне говорили, — продолжал Ник, — что восемьдесят процентов своих потерь союзники понесли из-за того, что противник активно применял пулеметы.
— Истинно так.
— Мне говорили, что трое немцев, вооруженных пулеметом, способны сдерживать натиск батальона англичан и французов.
— Охотно верю.
— А теперь, мистер Черчилль, — продолжил Ник, несколько повысив голос (Эдвина подумала, что американец и сам имеет вкус к театральным эффектам, которыми славился Черчилль), — что бы вы сказали, к примеру, о ручных пулеметах? А? Пулемет настолько легкий, что способен заменить собой винтовку в руках пехотинца, а?
Ник выдержал паузу, давая возможность Черчиллю «переварить» сказанное.
Министр нахмурился.
— Неужели подобное возможно? — спросил он негромко.
Ник понял, что у него клюет.
— В современных боевых действиях, — сказал он, избегая давать прямой ответ до поры, — каждый солдат несет на себе семьдесят фунтов снаряжения. Это лишает его возможности быстрого индивидуального маневра — вещи в бою незаменимой. Он тащит штык, который в этой войне становится просто бесполезным, поскольку солдат не может сблизиться с противником на расстояние, на котором смог бы пустить его в ход. Винтовка солдата бессильна против пулемета. В тот момент, когда солдат поднимается из окопа в атаку, пулеметный огонь вжимает его обратно в землю. Но что, если в руках у солдата не винтовка, а ручной пулемет, попросту автомат? Автомат, вес которого составляет всего семь фунтов? Автомат, способный выстрелить тысячу пятьсот патронов в минуту? Солдат получает возможность маневрировать, а огневая мощь его сравнивается с огневой мощью противника. Что, если тысячи и тысячи ваших солдат будут обладать подобным оружием? У немцев не останется шансов.
И снова он сделал паузу. Клементина Черчилль, леди Леттис, Эдвина и Уинстон напряженно и потрясенно смотрели на Ника. Лорд Саксмундхэм поглаживал свои усы.
— Повторяю, — произнес Черчилль, неужели подобное возможно?
На лице Ника появилась легкая улыбка.
— Руководитель КБ компании Рамсчайлдов разработал опытный образец. Он у меня наверху в комнате. Мы можем поставить автоматы на конвейер через полгода. По прикидкам стоимость одного автомата не будет превышать сто фунтов.
Черчилль грохнул кулаком по столу.
— Шельма! — проревел он. — Несите же ваш автомат! Почему же мне сразу не сказали?! Покажите мне его! Покажите!
Ник, смеясь, поднялся из-за стола.
— Интрига — секрет не только политики, но и торговли, мистер Черчилль, — сказал он и, к изумлению Эдвины, игриво подмигнул ей, выходя из столовой. Даже лорд Саксмундхэм улыбался. Эдвина поняла, что ее отец посвящен в тайну американца.
В столовую вошли два лакея, они приблизились к дальнему углу комнаты и стали отодвигать в сторону парчовые шторы синего цвета, которые закрывали собой застекленные двери, ведущие на террасу. Были включены прожекторы, которые, как поняла Эдвина, были приготовлены специально для «представления».
А в воздухе пахло именно представлением.
На лужайке перед террасой стояли шестеро германских солдат, целившихся из своих винтовок в открытые застекленные двери, а значит, прямо в лица пораженных гостей и хозяев дома. Леди Леттис вскрикнула и едва не сползла под стол, но муж вовремя сказал ей:
— Успокойся, дорогая, это манекены.
На террасе появился Ник. В руках у него было странное по виду оружие с круглым диском наверху. Он прицелился в германских пехотинцев и выстрелил… Сухой дробный звук стрельбы из первого в мире автомата наполнил окрестности английской усадьбы. Завороженным взглядом Эдвина наблюдала за тем, как в несколько секунд все шестеро немцев были рассеяны, пережеваны и смяты. Меньше чем через минуту не осталось ничего, кроме деревянных подпорок, к которым они были прислонены.
Затем, все еще не выпуская из рук дымящийся автомат, Ник медленно, эффектно повернулся к гостям и прицелился в Черчилля, который, захваченный зрелищем, поднялся со стула. Стройный, красивый в вечернем костюме, освещенный лучами прожекторов и с удивительным новым оружием в руках. Ник был похож на самого дьявола. На секунду Эдвине представилось, что он сейчас выстрелит…
Еще по их утренней игре в теннис она знала, что он обманщик и плут. Помня то внимание, которое проявил к нему Черчилль, она поняла, что он также обладает властью.
Последним открытием для нее явилось осознание того, что Ник оказался способен взволновать ее сердце.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Эдвина всегда считала Англию лучшей страной в мире, а себя, внучку английского герцога, рассматривала как личность, принадлежащую к кругу избранных мира сего. Она поклонялась прошлому, в особенности XVIII веку. Была воспитана няней миссис Филпоттс, которую обожала и к которой была во многом гораздо ближе, чем к «мамочке» леди Леттис. Жизнь в имении на лоне природы представлялась ей единственно приятной, а лошади и собаки были для нее много важнее иных людей. Она была довольно приличным стрелком — на шестнадцатилетие дочери отец подарил ей ружье, — любила завтраки у охотничьего костра и балы-маскарады. Она обожала Беатрис Поттер, Питера Пена, бульдога Драммонда и Красную Шапочку. Ей уже исполнился двадцать один год, но она все еще спала с плюшевым медвежонком.
Несмотря на то, что Эдвина была типичной представительницей своего класса, элиты общества, она была все же достаточно свободна в своем поведении, чтобы заинтересоваться таким человеком, как Ник Флеминг, который вроде бы был частью совершенно незнакомого ей человеческого пласта. Он словно бы нарочно олицетворял собой все то, что ей было противно. Во-первых, американец, хуже того — торговец, еще хуже — торговец оружием. И все же, прижимая той ночью к своей груди плюшевую игрушку, находясь в своей наполненной игрушками спальне на втором этаже Тракс-холла, Эдвина проводила трезвый анализ.
В конце концов, кто-то же должен снабжать оружием правительство, чтобы победить немцев, которые кажутся почти непобедимыми. У Эдвины было много родственников, друзей и знакомых, которые погибли в самом расцвете сил и молодости: отдаленные кузены лорд Элко и его младший брат Иво Чартерис, их шурин и сын бывшего премьер-министра Раймонд Аскит, Руперт Брук, которого Эдвина никогда не видела и не знала, но обожала его стихи. Милые молодые люди, цвет нации, убиты в расцвете молодости и во имя чего? Казалось, никто уже этого не знает, а бессмысленная война все идет, этот трагический кошмар все продолжается, погружая в оцепенение всю Англию. И если это странное оружие Ника Флеминга способно приблизить конец войны, то американец достоин только восхищения. Было видно, что на мистера Черчилля поистине вагнеровская демонстрация произвела такое же сильное впечатление, как и на нее. Да, Ник Флеминг — американец, а американцы любят бизнес. И все-таки есть что-то волнующее во всем этом загадочном мире международной торговли оружием, в котором живут такие люди, как, например, Василий Захаров, который родился в трущобах Константинополя и все детство провел в турецких публичных домах. Эдвина слышала, что именно Захаров управляет ходом всей войны. В этом было нечто притягивающее к себе, обращающее на себя внимание.
Вот и сейчас ей было интересно, как велико могущество лично Ника Флеминга.
Когда наконец ее сморил сон, ей приснился стройный красивый мужчина, держащий в руках странной формы оружие, из ствола которого вьется дымок.
Диана Рамсчайлд вышла из машины отца, взглянула на псевдотюдорские стены Грейстоуна, и слезы покатились у нее по щекам: наконец она вновь дома. Потом она увидела своих родителей, встревоженно смотревших на нее издали, и заставила себя прекратить плакать. Боль была уже позади, теперь ей необходимо быть сильной. «Сильной, иначе они меня отправят обратно, иначе они решат, что я еще не до конца “поправилась”».
— Вот ты и дома, дочь, — сказала мама, улыбаясь и взяв ее за руку. — Я немного переделала твою комнату, пока тебя не было. Надеюсь, тебе понравятся новые обои.
«Обои? — думала Диана, поднимаясь по ступеням к двери дома. — Какие могут быть обои, когда убили мою любовь, убили моего сына?..»
В лечебнице она потеряла двадцать фунтов веса, но теперь аппетит понемногу возвращался. Слуга подал жаркое и «божоле». Первая за многие месяцы доза спиртного подействовала успокаивающе. После того как был подан десерт, Альфред и Арабелла переглянулись, жена кивнула и тогда отец сказал:
— Диана, а у нас есть для тебя хорошие новости. Доктор Сидней сказал, что теперь уже можно сказать тебе.
— Хорошие новости? — сухо переспросила она. — Что ж, хоть какое-то разнообразие. Я слушаю, в чем дело?
— Ник в Лондоне.
Диана уставилась на отца.
— Ник? — только и смогла произнести она.
— Да. Несколько месяцев назад он был освобожден. Он в хорошей форме и рвется к тебе. Мы хотели, чтобы это было нашим родительским подарком к твоему возвращению домой.
«Ник жив!»
Она опустила глаза на обручальное кольцо, которое никогда не снимала с руки. «Не плачь, — говорил ей внутренний голос. — Не закатывай сцены. Сохраняй спокойствие».
— Когда ты привезешь его домой? — спросила она у отца.
— Не в самое ближайшее время, — ответила за Альфреда Арабелла. — Доктор Сидней советовал нам оградить тебя от всего, что может спровоцировать эмоциональный взрыв.
— Эмоциональный взрыв? — воскликнула Диана. — Неужели ему непонятно, что я люблю Ника и что быть с ним в разлуке — сильнейший эмоциональный взрыв для меня?
— Диана, тебе необходимо держать себя в руках, иначе мы будем вынуждены вновь отправить тебя в лечебницу.
— Это угроза?
— Конечно нет, дорогая. Мы с отцом никогда не позволили бы угрожать тебе чем-нибудь. Но твое здоровье для нас превыше всего. Даже превыше твоих желаний. Кроме того, на наш взгляд, пришло время более трезво посмотреть на Ника Флеминга. По моему настоянию твой отец нанял частного детектива для того, чтобы выяснить некоторые обстоятельства жизни Флеминга. Оказывается, он не совсем тот, за кого себя выдает.
— Что ты имеешь в виду? — тихо спросила Диана.
— Он говорил тебе о том, что его мать — Эдит Флеминг Клермонт?
— Да…
— Это справедливо только отчасти. Миссис Клермонт усыновила его. Его настоящей матерью была некая Анна Томпсон, русская еврейка, окончившая свои дни в тюрьме.
— В тюрьме?!
— Да. Она отбывала срок за проституцию. — Арабелла сделала паузу, чтобы сказанное осело в сознании дочери. Теперь в свете этого и в свете того факта, что твой Ник не имел мужества и честности рассказать об этих значительных обстоятельствах его жизни, не кажется ли тебе, что пришло время пересмотреть вопрос о помолвке? Мне известно, что его не любили однокашники по Принстону, и знаешь почему? Они считали, что он не джентльмен. Он ни с кем из них не общался. Ник Флеминг — не тот человек, за которого я хотела бы выдать свою дочь. Впрочем, честности ради признаю, что отец не разделяет моего мнения.
— Мне все равно, кем была его мать…
— Она была шлюхой! — резко прервала ее Арабелла. — Самой заурядной шлюхой!
Диана была потрясена этой характеристикой, но упрямо не принимала ее.
— И тем не менее мне все равно. Я люблю Ника всем сердцем.
«Очень хорошо, — подумала Арабелла. — Попробуем по-другому».
* * *
— Я так рада, что вы мне позвонили, — сказала Эдит, разливая чай в гостиной своего нью-йоркского городского дома, куда перебрался и Ван после их свадьбы. — Ник писал мне о Диане. Если верить его письмам, то она просто очаровательная девушка. Я сгораю от желания познакомиться с ней.
— Пока это невозможно, — холодно сказала Арабелла. На ней был перламутрово-серый костюм. — Врач Дианы категорически требует для нее полного покоя и отдыха на ближайшее время.
— О да, конечно, — сказал Эдит, несколько задетая холодностью Арабеллы. Улыбнувшись, она поставила перед ней чашку с чаем. — Значит, если нет возможности познакомиться с самой Дианой, не менее приятным для меня событием является знакомство с ее матерью. Нам следовало, по-моему, узнать друг друга раньше.
— Миссис Клермонт, мне очень не хотелось бы, чтобы вы неправильно поняли причину моего визита к вам. Я не в восторге от вашего приемного сына. Если хотите знать, я пришла только для того, чтобы уговорить вас помочь мне расторгнуть эту помолвку, которая и так уже многого стоила Диане.
Эдит изумленно смотрела на Арабеллу.
— Да вы, как я вижу, не выбираете слов. Но объясните, почему мы с вами должны пытаться расторгнуть помолвку?
— Ваш сын неизмеримо более искушен в житейских делах, чем Диана. Не стану утверждать, что дочь совершенно не виновата в том, что произошло. Но девушка более опытная не так близко к сердцу приняла бы чисто нью-йоркское ухаживание вашего сына. Я уверена, что Ник будет более счастлив с девушкой… ну что ли, более городской.
Эдит вообще перестала что-либо понимать.
— Насколько я поняла, Диана показала себя достаточно городской девушкой, раз позволила себе быть соблазненной, — возмущенно проговорила она. — У меня нет намерений вмешиваться в помолвку сына. Я читала его письма и вынесла из них ощущение того, что они очень любят друг друга.
— Можно назвать это любовью, а можно и вожделением.
— Одно другому не мешает.
Арабелла поставила чашку на стол и поднялась.
— Не вижу смысла в продолжении нашего разговора, — заявила она. — Как выяснилось, вы исповедуете те же моральные принципы, что и ваш сын. Что ж, это неудивительно. Мне прекрасно известно, какие у вас были отношения с Ван Нуисом Клермонтом до того дня, как вы стали мужем и женой. Теперь больше чем когда-либо я настроена не допустить вхождения моей дочери в вашу одиозную семейку.
Эдит тоже поднялась из-за стола. У нее было каменное выражение лица.
— Вы несносная женщина, — сказала она спокойно. — Слуга укажет вам выход.
Покидая дом Флемингов, Арабелла улыбалась. «Если даже это не расторгнет помолвки — ничто не расторгнет, — думала она. — Теперь-то уж Эдит Флеминг из кожи вон вылезет, но не допустит своего сына в мою одиозную семейку!..»
Когда Ник получил письмо от Эдит, его обуял такой лютый гнев, что окажись вдруг Арабелла Рамсчайлд в ту минуту в его номере отеля, он избил бы ее. Оскорбить его мать! Женщину, которая дала ему все в этой жизни. Женщину, чья невиданная доброта и великодушие так круто однажды повернули его судьбу. Арабелла открыто встала на путь вражды, и этот ее визит к Эдит Флеминг взбесил Ника даже больше, чем известие об аборте. Меряя шагами гостиную в своем номере, окна которой выходили на Темзу, Ник пытался придумать способ сосуществования с этой женщиной. Бесполезно. Теперь он ненавидел ее точно так же, как и она его.
Если он женится на Диане, то с условием, что она будет держать свою мать от него подальше. Арабелла не была бы тещей из анекдотов, она была бы тещей из кошмаров.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Ник нежился в ванне в своем номере «Савоя» и читал «Таймс», когда услышал телефонный звонок. Накинув ворсистый халат, он прошлепал босыми ногами в комнату и снял трубку.
— Слушаю.
— В вестибюле находится молодая леди, которая хотела бы увидеться с вами, мистер Флеминг, — раздался в трубке голос портье. — Светлейшая Эдвина Траке, сэр. Можно ее пропустить к вам.
— Дайте мне десять минут, чтобы одеться, — сказал Ник и положил трубку, гадая, что может быть нужно от него этой светлейшей испорченной девчонке.
Со времени уик-энда в Тракс-холле прошло уже четыре дня. Уинстон Черчилль в это самое время воевал в кабинете министров по поводу помещения заказа на производство и поставку американских автоматов, но, к неудовольствию Ника, встречал упорное сопротивление. Несмотря на успех танков во Франции, ни Ллойд Джордж, ни генштаб, казалось, не желали проявить интерес к затее Черчилля с очередным «чудо-оружием». Для Ника это выглядело лишним доказательством того, что войну ведут люди с обывательским мышлением. Единственным из встречавшихся ему в лагере союзников человеком, который обладал интеллектом высшей пробы, был Черчилль. И он был в опале и, возможно, полностью отстранен от власти. Во всем этом был один печальный урок: миром по-прежнему заправляют посредственности.
Одеваясь, Ник все же думал об Эдвине гораздо больше, чем об автоматическом оружии. Ее неожиданное появление в «Савое» заинтриговало его. Надменная девчонка не нравилась ему настолько же сильно, насколько он сам, как казалось, не нравился ей. С другой стороны, он заметил, что вроде бы произвел на нее впечатление во время того обеда и очаровал своей бравурной демонстрацией возможностей автомата.
Когда он открыл ей дверь, то заметил, что она нервничает. Это из-за того, решил он, что она пришла к нему без сопровождающей пожилой дамы.
— Я хочу извиниться, — сказала она, не утруждая себя приветствием.
— За что?
— Я была с тобой неучтива там на корте, и потом… — ответила она, снимая свой макинтош. — Я вела себя по-ребячьи, а мне не следовало этого делать. Потом я поняла, что ты вовсе не такой гадкий, как мне поначалу показалось. Я даже думаю сейчас, что ты что-то вроде героя.
— Я? Герой? — Он рассмеялся. — Что ты, у меня нет шансов. Я слишком заурядный для героя. Кстати, я сейчас собирался заказать завтрак. Присоединяйся.
— Попила бы чаю с удовольствием. Мне нравится у тебя. Хороший номер, наверно, дорого стоит.
— Действительно дорого, — согласился он, вызывая звонком гостиничную прислугу. — Но почему ты решила, что я герой?
Она стояла у окна и смотрела на Темзу.
— Потому что в твоих силах приблизить конец этой ужасной войны. Вернее, это в силах твоих автоматов.
— Если только Уинстону удастся убедить военный департамент закупить их у нас, что, похоже, маловероятно.
Она повернулась и заглянула ему в глаза.
— Ты хочешь сказать, что им не нужны автоматы? — спросила она пораженно. — Не могу поверить в то, что они настолько глупы!
Вдруг, к его изумлению, на ее глазах появились слезы. Она упала в кресло и зарыдала. Ник, думавший до этого момента, что у этой высокомерной девчонки кусок льда вместо сердца, был поражен.
— Что случилось? — обеспокоенно сказал он, подходя к ней.
Она замотала головой.
— Могу я чем-нибудь помочь? — спросил он.
Она снова покачала головой отрицательно. В дверь постучали. Ник, уже начинавший чувствовать смущение наедине с ней, бросился открывать дверь официанту. Его смутили загадочные слезы Эдвины.
— Доброе утро, сэр, — произнес слуга, удивленно косясь на рыдающую девушку. — Завтрак?
— Да. Два яйца-пашот, бекон, тост и кофе. И чай для леди.
— Отлично, сэр.
Ник закрыл дверь за ним и вернулся к Эдвине. Та вытирала заплаканное лицо.
— Джорджа убили во Франции, — проговорила она. — Мы узнали об этом вчера вечером.
— Прости, но кто такой Джордж?
— Мой жених, лорд Роксэйвидж. Он был молод, симпатичен. Не так умен, конечно, но… — Она вздохнула. — Он погиб. Это потеря для меня. Это нелепая и страшная утрата. — Она подняла глаза на Ника. — Я его очень, очень любила! По крайней мере, мне так казалось. А теперь его нет. Я не могу примириться с тем, что его больше нет, что я его больше никогда не увижу. Его убили из пулемета. Поэтому я подумала о тебе. Может быть, если бы у него был один из твоих автоматов, он выжил бы.
— Может быть.
— Поэтому я и пришла извиниться перед тобой. — Она заколебалась. — Нет, это ложь. Просто я снова хотела повидать тебя.
— Зачем?
— Не знаю, честно. Но первый человек, о котором я подумала после известия о Джордже, был ты. Странно, да?
Он впервые разглядел в ней человека.
— Мне очень приятно это слышать, — сказал он негромко.
И ему действительно было приятно.
— Что теперь будешь делать? — спросил он ее, намазывая маслом тост. Она сидела на противоположном конце красиво сервированного стола, пригубляя чай в гробовом молчании.
— Не знаю, — ответила она. — Но мне хочется чем-нибудь заняться. Я даже думала поехать в районы боевых действий. Может, в качестве медсестры. Хотя я даже представить себе не могу, как буду смотреть на раненых… Это только внешне, наверно, я выгляжу сильной, но… не выношу вида крови! Но мне на самом деле хочется чем-нибудь заняться.
Она поставила чашку на стол и вызывающе вздернула подбородок.
— Нет, это все вранье, — сказала она. Глаза ее вызывали его на разговор. — Я пришла сюда потому, что не вынесла одиночества и хотела забыться у тебя. Это правда, и… мне все равно, что ты обо мне подумаешь.
Он продолжал есть тост, не спуская с нее заинтересованного взгляда.
— Ты думаешь, наверное, что я что-то вроде женщины-вамп? — продолжала она. — Английская Тэда Бара?
— Э-э… не знаю. Что у тебя на уме? Чего ты хочешь?
— Заниматься любовью, конечно. Надеюсь, ты не думаешь, что я девственница? — Она произнесла слово «девственница» так, словно речь шла о проказе. — Мы с Джорджем занимались этим, как собаки в жаркую погоду. Перед его отъездом во Францию. И, если честно, мне этого теперь страшно недостает! Что-то подсказывает мне, что ты очень хорош в постели. — Она сделала паузу, глядя на него. — Ну что? Хочешь, чтобы я ушла? Или чтобы я прошла в спальню и предстала перед тобой во всей своей прекрасной наготе?
Он налил себе кофе.
— Прежде чем я приму подобное потрясающее решение, — сказал он спокойно, — думаю, тебе следует знать, что я помолвлен и скоро женюсь.
— О! — Она сначала изумилась, а потом как-то сникла. — Ты любишь ее?
— Да, — сказал он, а сам подумал: «Люблю ли?» Эта мысль пронеслась у него в голове в тот момент, когда он смотрел на эту несомненно соблазнительную девочку.
— Это же надо! Какой я себя выставила дурой, а все зря! Ты хоть папе не скажешь?
— Слово чести. Но скажи, ты все это серьезно? Тебе правда хотелось лечь со мной в постель?
Она внимательно взглянула на него и внезапно показалась Нику очень незащищенной.
— Да, я все это серьезно, — просто ответила она. — Может, это все из-за войны. Жизнь вдруг так обесценилась. Кто знает, кому из нас суждено дожить до завтра? Я вспомнила, как ты замечательно выглядел тогда вечером в столовой. И подумала: «Да, я хочу переспать с ним. Хоть раз». Это плохо с моей стороны, да? — Она нервно посмотрела на него. Он пожирал ее глазами.
— Знаешь, что я тебе скажу? Мне кажется, что ты именно девственница.
Она изумленно вскинула на него глаза, залилась краской, потом утвердительно кивнула.
Он сдержал смешок. Да, она была забавна, но и умна… К своему крайнему удивлению, он понял, что она ему нравится. Он не мог отвести от нее глаз. Ему стало стыдно за то, что он изменяет тем самым Диане. Пусть даже в мыслях. Но затем он вспомнил, что Диана сама изменила ему, убив их сына. Он вспомнил оголтелый антисемитизм Арабеллы, ее жуткое посещение его матери. Была ли Диана на самом деле той женщиной, которую он желал? Да, он влюбился в нее, но это было давно, и это была всего лишь его первая любовь… Можно ли доверять первой любви? И если уж на то пошло, существует ли в принципе вечная любовь?
— Ты должен думать обо мне как о последней идиотке, — сказала она, поднимаясь из-за стола. — Я прошу прощения и больше не буду отнимать у тебя время.
Она некоторое время выжидательно смотрела на него, потом быстро направилась к двери.
— Нет, — сказал он. — Не уходи.
Она остановилась на полдороге. Затем медленно обернулась.
Он поднялся и подошел к ней.
— Наверное, это ошибка и с моей и с твоей стороны, — сказал он тихо. — Но у меня такое чувство, что мы не будем жалеть о ней.
Он обнял ее и поцеловал. Как и в случае с Дианой, он почувствовал желание в ее упругом теле. Вдруг она оттолкнула его.
— О Боже, я не могу! — крикнула она. — Я не могу, как же я…
Она так стремительно подскочила к двери и скрылась за ней, что он не удержался от смеха.
Потом вдруг он перестал смеяться и понял, что желает светлейшую Эдвину Тракс каждой клеточкой своего тела.
— Но почему? — кричала, заламывая руки, Диана Рамсчайлд. — Почему он должен ждать там еще две недели?
— Диана, он же объясняет все в телеграмме! — воскликнул ее отец. — Кабинет министров еще не принял решения по автоматическому оружию. Речь идет о миллионном контракте…
— Мне плевать на автоматическое оружие и на контракты тоже! Мне нужен Ник!
Она ударилась в слезы, закрыв лицо руками. Альфред и Арабелла обменялись обеспокоенными взглядами. Телеграмма, полученная в семье несколько минут назад, была подобна удару молнии.
— Диана, всего только две недели, — умолял отец. — Не будь же ребенком, прошу тебя. Война уносит миллионы жизней, и если это соглашение сократит ее хотя бы на сутки, это уже будет стоить всех усилий Ника.
Диана выпрямилась и вытерла залитое слезами лицо салфеткой. Она вновь успокоилась. Но это было пугающее спокойствие.
— Война тут ни при чем, — сказала она тихо. — Что-то случилось. Уже две недели он мне не пишет. Он встретил другую.
Арабелла тут же воспрянула духом.
— Ты думаешь, что у него теперь другая женщина? — произнесла она, принимая на себя озабоченный вид.
— Прошел уже год со времени нашей последней встречи. Я теряю его. Я чувствую это. — Она взглянула на своего отца. — Папа, на следующей неделе ты собираешься в Лондон. Я еду с тобой.
— Не глупи! — воскликнула мать. — Доктор Сидней никогда не даст разрешения на это. И потом ведь это опасно! Немецкие торпеды…
— Мы поплывем на нейтральном судне. Тебе не остановить меня, мама. И доктору Сиднею тоже. Я еду в Лондон, чтобы спасти свою любовь.
Она положила салфетку на стол, встала и вышла из комнаты.
«Ах, если бы только она была права, — думала Арабелла. — Если бы только была другая!»
Время делало то, что Арабелла безуспешно подготавливала при помощи всех своих ухищрений.
Получив телеграмму, извещающую о скором приезде Дианы, Ник испытал душевное потрясение. Теперь он уже до конца разобрался в своих чувствах: та страстная любовь, которую он испытывал однажды к Диане, была обращена теперь на Эдвину. Цепь событий убила в нем чувство к Диане: долгая разлука, потом аборт, выходки Арабеллы… А может, все это не имеет отношения к делу? Может, все из-за того, что его просто пленила Эдвина?
В то же время он не хотел причинить Диане боль.
— Боже, ну что… что я скажу ей? — восклицал он, когда они гуляли с Эдвиной по набережной Темзы под моросящим ноябрьским дождем.
— Я думаю, что нужно будет просто сказать ей правду: что ты ее больше не любишь.
Ник застонал. Капли дождя барабанили по полям его шляпы.
— Да, тебе это кажется таким простым и легким. Но я чувствую, что она не пожелает принять мои слова с той же простотой и легкостью.
— Но ведь помолвки расторгаются на каждом шагу.
— При этом разбиваются сердца. Это разобьет ей сердце. А я не хочу этого. С другой стороны… не вижу иного выхода.
Эдвина взяла его за руку.
— Ты правда не хочешь причинить ей боль, да? — нежно спросила она. — По-моему, это благородно. Большинство мужчин кинули бы ей пару ласковых на прощанье и тут же смылись бы. А ты не такой, раз хочешь защитить ее от страданий.
— Защитить ее от себя. Проблема именно во мне.
— Нет, во мне! — сказала Эдвина, стиснув его руку.
В течение последних нескольких недель они все время были вместе. Ник возил ее по самым лучшим в Лондоне ресторанам. По мере того как их отношения приобретали все более интимный характер, они стали целоваться и ласкаться. Ник, по его мнению, умно не шел дальше. Он прекрасно помнил ту сцену, которую закатила ему Эдвина во время их первого любовного свидания у него в отеле. Но их бешено тянуло друг к другу. Та девушка, которую он поначалу называл про себя испорченным ребенком, казалась ему теперь и милой и волнующей. Оба они любили позабавиться, читая друг о друге в английской прессе. Ника журналисты называли «этим молодым американцем, торгующим снаряжением и оружием», ее — «одной из первых красавиц своего времени». С этим утверждением Ник был полностью согласен. Что касается Эдвины, то она думала о Нике днем и ночью.
— Если бы ты меня не встретил, — говорила она, — ты бы до сих пор любил Диану, так что оставь ей право ненавидеть меня. А вот я совершенно не чувствую себя виноватой в том, что отбила тебя у нее. Я вообще большая бесстыдница, если вспомнить тот мой визит к тебе.
Он посмотрел на нее и улыбнулся.
— Ты мне больше нравишься такой бесстыдницей.
— Милый, постарайся не переживать так из-за Дианы. Я знаю, что ты чувствуешь, но жизнь — это джунгли, в которых мне как охотнице повезло больше. Я завалила своего тигра!
Снова она прижалась к нему. «Биг Бэн» над ними пробил три часа.
«Да, жизнь — это джунгли», — подумал он, по-прежнему со страхом ожидая встречи с Дианой.
Он встретил Альфреда и Диану, когда они сходили по трапу с корабля в Саутгэмптоне. Он был вежлив, и самый придирчивый наблюдатель не подметил бы в сцене встречи чего-нибудь подозрительного, но Диана сразу все поняла. Поняла тогда, когда он поцеловал ее: это не был поцелуй возлюбленного, в нем не было чувства. Пока поезд шел до Лондона, Ник разговаривал с Альфредом о делах, а Диана молча сидела рядом с отцом и боролась со своей тревогой и страхами.
Когда наконец они остались одни в его гостиничном номере, она взяла его за руку.
— Ты рад меня видеть? — спросила она тихо.
— Конечно рад. — Ник избегал встречаться с ней глазами.
— Что случилось, Ник? Я чувствую, что-то случилось! Посмотри на меня.
Только теперь он прямо посмотрел на нее:
— Мне следовало послать тебе телеграмму по этому поводу, хотя… я представляю себе, что не так уж и легко было бы читать это на бумаге. Не легче будет и сказать, впрочем. Я встретил другую, Диана.
Она зажмурила глаза и вся напряглась.
— Кого? — прошептала она.
— Она англичанка. Ее зовут Эдвина.
— Дочь лорда Саксмундхэма?
— Да, я влюбился в нее. Очень сильно.
Она открыла глаза:
— Насколько я помню, ты очень сильно любил меня.
— Да, я знаю. Прости, Диана. Мне очень жаль. Правда. Знаю, что бы я сейчас ни сказал, я все равно не смогу…
— Это из-за аборта? — прервала она. — Ник, у меня не было выбора! Они меня заставили это сделать. Отец и мама. Они застращали меня. Они говорили, что, если ты погиб, мне никогда не найти мужа. Прошу тебя, милый, прости меня. Я прошла через ад! Я люблю тебя, Ник. Всем сердцем. Я хочу тебя. Я нуждаюсь в тебе. О Боже! Милый, прости мне аборт, я умоляю! Я… не оставляй меня без любви!
На нее было жалко смотреть. Его сердце разрывалось.
— Я давно простил тебе аборт, — сказал он. — Когда мне рассказали о нем, я был взбешен, но потом понял: наверно, ты сделала то, что следовало. Дело в другом… — Он беспомощно развел руками. — Я полюбил другую.
Ее изумрудные глаза сверкнули огнем.
— Мы помолвлены, если ты еще не забыл.
— Я не забыл. Вынужден просить тебя освободить меня от супружеского обещания.
— Боже, о Боже! — воскликнула она. — Так значит мама была права в отношении тебя! Что случилось с нашей любовью? С нашей вечной любовью? «О, Диана, мы избранники любви!» Я хорошо помню, как ты говорил эти слова, а я, дура, слушала и верила! Но стоит показаться первой же смазливой мордашке, и бедную Диану — вон? Разве не так, Ник?
— Слушай, я вовсе не говорю, что поступаю хорошо…
— Хорошо?! Да ты поступаешь как мерзавец! Как подлец! Как сын шлюхи! — Он весь напрягся. — О, ты никогда не утруждался рассказать мне об этом, не так ли? Ты никогда не смел сказать мне правду! — Она перешла на исступленный крик. — Сын шлюхи! О, ты поступил именно так! Я ненавижу тебя, ненавижу тебя, ненавижу! — Она ударилась в слезы. — Ты ответишь мне за это. Ты никогда обо мне не забудешь! Молись, чтобы ты больше никогда не попался на глаза Диане Рамсчайлд! Я отдала тебе себя, я отдала тебе свою любовь, я верила тебе… дрянь! Ты, сын шлюхи!
— Диана…
— Замолчи! — взвизгнула она. — Не смей больше раскрывать своего рта при мне! Я не хочу больше слышать твой лживый голос! Но обещаю: ты никогда не забудешь про меня! Я обещаю это тебе, Ник Флеминг. Я буду преследовать тебя до твоей могилы!
Она перестала рыдать. Внезапно она совершенно успокоилась. Все ее чувства спрессовались в ледяной ненависти. Она подошла к двери, открыла ее, затем бросила на Ника последний взгляд.
— Я навсегда запомню это лицо, — сказала она надтреснутым голосом. — Как я любила его! Я думала, что это самое прекрасное лицо в мире. Теперь оно мне омерзительно!
Она сняла с руки обручальное кольцо и швырнула его на пол. Затем вышла из номера, оставив дверь открытой.
Ник поднял с пола кольцо и посмотрел на него.
«Сын шлюхи!» Эти два слова до сих пор звенели у него в ушах.
Он причинил ей сильную боль, но и она сделала ему больно.
— Как ты посмел так с ней обращаться?! — орал Альфред Рамсчайлд, ворвавшийся в номер Ника спустя десять минут. Его жирное лицо было красным от гнева. — Ты же знал, что она была в больнице! Она вернулась ко мне в номер в истерике! Я вынужден был вызвать врача, чтобы он дал ей успокоительного. Как ты посмел?!
— Альфред, я пытался быть осторожным…
— Я напоминаю тебе, Флеминг, о данном тобой обещании! Ты помолвлен с моей дочерью, и отвернуть в сторону теперь не удастся!
— Пошел к дьяволу! — заорал Ник, будучи больше не в силах сдерживать свой гнев.
— Если уклонишься от женитьбы, ты — уволен.
— Немного опоздал, Альфред. Я сам ухожу от тебя.
— Я сделал тебя богатым человеком…
— Что? Постой, постой… Когда тебе потребовалось вернуть свои паршивые деньги, ты не долго думая решил рискнуть моей головой и послал меня в Россию! Как насчет тех семи месяцев, что я провел в заточении, а? Меня запросто могли убить, придавить, как таракана! Поэтому не закатывай мне этих сцен, Альфред. Ты мне нравился как босс, а твою дочь я любил… Мне очень жаль Диану. Я знаю, что причинил ей боль, и понимаю, что в ответе за это. Я, как она несколько раз назвала меня, сын шлюхи. Я не джентльмен, я дерьмо и что там еще?! Но все кончено, у меня другие планы.
— Какие это, интересно?
— Не твоего ума дело!
Щеки старика покраснели еще гуще. Внезапно голова его откинулась назад, и он начал давиться. Схватившись обеими руками за виски, он стал сдавливать свою голову.
— Альфред…
Ник бросился к нему, чтобы поддержать, ибо старик уже начал шататься.
— Голова, — хрипел он. — Что-то… в моей голове…
— Сиди здесь, я за врачом!
Он подтащил его к креслу. Лицо Альфреда теперь было белым.
— Врач у Дианы… — хрипел он.
— Я быстро!
К тому времени, когда Ник вернулся в свой номер с врачом, Альфред лежал возле кресла на полу.
Смерть наступила от кровоизлияния в мозг.
Ник тяжело переживал смерть Альфреда. Чувствовал отчасти свою вину, ведь гнев босса, ставший причиной смертельного приступа, был обращен на него, Ника. Он искал способ вновь переговорить с Дианой, утешить ее, он не хотел, чтобы их расставание было наполнено такой горечью. Однако она отказывалась от встречи. Портье сообщил, что она держится только успокоительными средствами и что сейчас совершаются приготовления для перевозки тела Альфреда морем домой для похорон.
Всю следующую неделю Ник был преимущественно один, совершая длинные прогулки по Лондону и постоянно анализируя события своей жизни. Поначалу он чувствовал себя весьма подавленно, терзаясь чувством вины и тревоги за Диану, терзаясь в целом своей вовлеченностью в жизнь семьи Рамсчайлдов. Но время шло, и природный оптимизм стал постепенно возвращаться к нему. Может быть, все сложилось даже к лучшему. Во всяком случае, для него. Он был еще молод и к тому же стал миллионером. Он полюбил. С прошлым было покончено, и будущее уже начинало рисоваться ему в розовых тонах.
На следующий день после того, как Диана выехала из «Савоя» и отплыла в Америку, Ник прибыл в Тракс-холл, где у него была назначена встреча с лордом Саксмундхэмом. Остановив свою машину у крыльца этого величественного особняка XVIII века, он увидел выходившую из дома Эдвину. Она бросилась по засыпанной гравием дорожке к нему и обняла его.
— Я скучаю без тебя, — сказала она. — Папа мне все рассказал о мистере Рамсчайлде. Мне очень жаль… Но скажи скорее, как у тебя прошло с Дианой.
— Хуже некуда. Теперь она меня ненавидит. И, похоже, имеет на это полное право. Не знаю…
— А что у тебя сегодня за разговор с папой?
— Деловое предложение. Потом мне надо будет поговорить и с тобой.
— Я буду в Красной комнате.
Красная комната была названа в честь устилавшего ее замечательного красного ковра Савоннери. Она была одной из четырех главных гостиных Тракс-холла и считалась одной из самых красивых комнат Англии. Когда спустя три четверти часа туда вошел Ник, Эдвина, свернувшись калачиком в кресле, листала номер «Кантри лайф». На взгляд Ника, в ней было что-то детское. Частично именно этим она и пленила его.
Он подошел к ней сзади, взял ее лицо в ладони и поцеловал в губы.
— М-м… — проговорила она. — Спасибо, мне понравилось. Что же это за загадочное деловое предложение, которое ты сделал моему папе?
Он взял стул и сел напротив нее.
— Я решил начать в Нью-Йорке собственное дело. На собственные деньги. Привлекая к различным сделкам разных партнеров. Я подумал, что твой отец может этим заинтересоваться, и он в самом деле заинтересовался.
— Какие сделки?
— Недвижимость. Акции. В Нью-Йорке сейчас есть куда вложить деньги.
— Неплохо.
— Конечно, это будет не так интересно, как военный бизнес, но зато не так кроваво. Я также поговорил с ним о тебе.
Она изумленно уставилась на него:
— Ты поговорил обо мне?
— Ага. Я сказал ему, что собираюсь сделать тебе предложение. Я рассказал ему все о себе, без прикрас… На тот случай, если свершится чудо и ты согласишься, чтобы не воевать с ним потом лишний раз. Оказалось, что я пришелся ему по душе.
— А почему бы тебе и не нравиться ему?
— По многим причинам. Так или иначе, теперь речь о тебе и обо мне. Ты как?
— О, никогда еще не приходилось слышать столь прозаичных предложений руки и сердца! Ты должен был пасть предо мной на колени, говорить романтично о том, как сильно ты меня любишь, как ты не можешь без меня жить, как ты бросишься головой вниз в Темзу, если я отвергну тебя!
— Отлично.
Он опустился перед ней на колени и прижал руки к сердцу.
— О прекрасная Эдвина, первая красавица своего времени, дочь старинного и знатного дома! Ты покорила мое сердце и пробудила в нем любовь! Ответишь ли ты согласием на предложение несчастного американского крестьянина?
Эдвина засмеялась:
— Встань же, о славный и самоуверенный Ник! Хоть ты и американец, хоть ты и высмеиваешь меня, я согласна, ибо без ума от тебя!
Он вскочил на ноги, обнял и поцеловал ее.
— И я без ума от тебя, — прошептал он совершенно искренне.
На секунду перед его мысленным взором возникло лицо Дианы, но тут же растаяло.
Его первая любовь канула в Лету.
Они обвенчались спустя три недели в храме Святой Маргариты, вестминстерской приходской церкви палаты общин. На свадьбу было приглашено четыре сотни гостей, среди которых было много друзей и родственников со стороны Эдвины. Эдит специально ради такого события прибыла из Нью-Йорка. Она была в восторге от своей невестки. Жених подарил своей избраннице на свадьбу бриллиантовое ожерелье с Кровавой луной в центре. Среди почетных гостей были Уинстон и Клементина Черчилль, почти половина Кабинета, боссы финансового сообщества, три герцога, четырнадцать маркизов, двадцать графов, множество виконтов и баронов. Среди подружек невесты была ее младшая сестра Луиза и пять дочерей аристократических семей. Эдвина смотрелась в своем подвенечном белом платье просто потрясающе. В руках у нее был букет оранжевых цветов.
Торжество проходило в городском доме лорда и леди Саксмундхэм на Уилтон-креснт. Уставшими от войны гостями было выпито пятьдесят ящиков «Луи Редерер кристал». Единодушно было признано, что это была свадьба года.
Медовый месяц они решили провести в Нью-Йорке и той же ночью отплыли из Саутгэмптона на шведском лайнере «Густав Адольф». Корабль отвалил от причала в десять часов вечера, когда был сильный шторм, а к моменту наступления первой брачной ночи его уже вовсю трясло и мотало из стороны в сторону.
— Не хотелось бы мне испытать на себе морскую болезнь во время брачной ночи, — заявила Эдвина, уходя в ванную, чтобы переодеться.
— Надеюсь, этого не будет, — ответил Ник.
Он сел на кровать и стал снимать туфли. Затем он разделся и, взобравшись на высокую постель, сел и стал наблюдать за дверью ванной комнаты, фантазируя о том, что сейчас будет, и предвкушая появление новобрачной.
Наконец она вышла из ванной в белом пеньюаре.
— Сбрось этот чертов саван, — прошептал Ник. — Я хочу тебя видеть.
— А ты, оказывается, не только романтик, но и нахал. Пеньюар мне дала мама и сказала, что мужчины любят, когда их соблазняют.
— Я уже соблазнен. Давай снимай его.
Она подошла к кровати и расстегнула пеньюар. Она сняла его в плеч, и он соскользнул вниз по ее шелковистому телу. Ник сидел на кровати и смотрел, как она приближается к нему. Он любовался ее длинными ногами, стройными мальчишескими бедрами, литым животом и восхитительной грудью. Ее кожа была цвета девонширского крема.
— Ты очаровательна, — прошептал он.
Она, не спуская завороженного взгляда с его безволосой груди, опустилась рядом с ним на постель. Ее взгляд начал опускаться, скользнул по мускулистому животу Ника. Чуть ниже пупка начиналась тонкая полоска черных волос, которая вела к тому, чего Эдвина никогда раньше не видела.
— Так вот он какой? — прошептала она завороженно. — Какой большой и… некрасивый. Можно потрогать?
Ник, у которого уже наступила полная эрекция, согласно кивнул головой. Она протянула руку и нежно поласкала его.
Он прерывисто вздохнул, заключил ее в свои объятия и стал страстно целовать. Она упивалась теплом, исходящим от его крепкого тела, проводя руками по широким плечам, мускулистым рукам и спине.
Она почувствовала, как он вошел в нее. Это было странное ощущение, и она была далеко не уверена, что позже получит от этого удовольствие. Но ей были приятны его горячие поцелуи, аромат его тела. В нем было сейчас что-то от животного, и это пробуждало в ней неведомые до сих пор ей самой инстинкты. Джордж… лорд Роксэйвидж тоже был животным, красивым и сильным животным, по крайней мере на вид, но он был слишком цивилизованным, чтобы пробудить в ней этот дивный и сумасшедший восторг физических ощущений.
Вдруг она перестала слышать шум ветра за окном, удары волн в корпус корабля. В те мгновения она воспринимала только присутствие его, своего мужа, ее возлюбленного, который своей страстью будил в ней миллионы ощущений.
Теперь он целовал ее грудь, проводил горячим языком по соскам, которые набухли от его ласк и затвердели. Он поднялся поцелуями до ее шеи, вновь и вновь касаясь своим мускулистым животом ее нежного живота, словно в каком-то ритмическом медленном танце.
— Боже! — стонала она. — О, Ник, как хорошо!..
Он вновь накрыл ее рот поцелуем, проникая в него трепетавшим языком. Ей хотелось покрыть поцелуями все его тело.
Потом все мысли уступили место желанию. Ей казалось, что тело выворачивается наизнанку от страсти, и ничто не волновало ее до тех пор, пока наконец не произошло то, чего так страстно желало ее тело. В то мгновение она вонзила свои ногти в его ягодицы и издала крик наслаждения.
— О Боже, — шептала она, задыхаясь, когда он отпустил ее. — Это даже лучше, чем заварной крем.
Когда она сказала это, их обоих разобрал веселый и неудержимый смех. Они смеялись, как парочка счастливых обнаженных античных купидонов.
Фантазии претворились в жизнь.
— Наступит день, когда придет расплата, — сказала Диана Рамсчайлд. Лица обеих женщин были закрыты траурными черными вуалями. Они возвращались в Грейстоун после похорон Альфреда в семейном склепе. — Сначала он обманул и унизил меня, потом убил отца. — Она говорила тихо, но ее кулачки в черных перчатках были крепко сжаты. — Я ему отплачу, даже если придется посвятить этому всю жизнь.
— Еврей. — И это было все, что сказала ее мать.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ КИНО, БЕЗУМИЕ, ЗЛОДЕЙСТВО 1922
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
То, что Эдвина Тракс, дочь одного из самых богатых и влиятельных в Англии аристократических родов, вышла замуж за молодого американца, не обладающего ни титулом, ни особыми заслугами и известностью, многих удивило. Считалось приличным для английских лордов выбирать себе в жены богатых американских наследниц пример тому: мать Черчилля, которая была американкой, но вот замужество англичанки-аристократки за безродным американцем было явлением новым. Что касается лорда Саксмундхэма, то он не только любил своего зятя и восхищался им, но еще и рассчитывал сделать из него нью-йоркского агента своего Саксмундхэмского банка, как предложил ему сам Ник. К 1917 году для каждого английского банкира, не страдающего близорукостью и шовинизмом, стало очевидно, что Нью-Йорк перехватил у Лондона право именоваться финансовой столицей мира. План, разработанный Ником и его тестем, заключался в следующем: американец будет действовать из своего небольшого нью-йоркского офиса, подыскивая выгодные сферы приложения капитала в Америке, финансируя их из своих личных средств и за счет Саксмундхэмского банка. В течение последующих пяти лет этот план стал активно претворяться в жизнь.
Имея деньги, трудно не делать на них еще большие деньги, но зато очень легко обанкротиться.
Следовало отдать должное ловкости Ника: на инвестициях в недвижимость, гостиничное дело, акции радиокомпаний он не только заработал миллионы для банка своего тестя, но и одновременно в четыре раза увеличил собственное состояние.
В то же время Ник и Эдвина стали известны как одна из самых популярных в Нью-Йорке молодых супружеских пар. Ник снял просторные апартаменты на Парк-авеню, где они с Эдвиной устраивали веселые вечеринки. Красота Эдвины и ее мейферский акцент открыли молодой чете двери нью-йоркской общины англофилов, а репутация Ника как очень удачливого бизнесмена, равно как и его доступ к многомиллионным инвестиционным фондам престижного Саксмундхэмского банка, привлекали публику с Уолл-стрит, которая слеталась к нему голодными стаями. Эдвина, которая еще так недавно презрительно относилась к «обалдевшим от денег» американцам, с головой окунулась в пеструю, волнующую жизнь послевоенного Нью-Йорка и полюбила его так же пылко, как и своего красавца-мужа.
Первые четыре года их семейной жизни казались одним непрекращающимся праздником, прерывавшимся на короткое время тремя беременностями. В 1919 году у них родился первенец, сын Чарльз. В 1920 году вместе с «сухим» законом и голосованием за права женщин появилась дочь Сильвия. Наконец в 1921 году с завидной регулярностью прошли еще одни роды, и на свет появился второй сын Эдвард.
Как и большинство людей того времени, Эдвина пристрастилась к кинематографу. У нее даже появилась мысль самой попробовать свои силы в съемках. Ник только посмеивался над этим, не замечая, что жена с каждым днем все серьезнее и серьезнее думает об этом. Поэтому когда в 1922 году Ник невзначай предложил ей прокатиться с ним до Калифорнии, ее сердце радостно забилось. Ник собирался посмотреть на долину Напа, может быть, купить виноградник, он планировал также заехать в Лос-Анджелес и обещал показать жене киностудию, что привело ее в восторг.
Спустя неделю после роскошной поездки на поезде через всю страну до Сан-Франциско они пересели во взятую напрокат машину, и шофер отвез их на север, в долину Напа, где у Ника была назначена встреча с пожилым итальянцем, неким Сальваторе Гаспартелли. Тот уже ждал их возле своего помятого «форда-Т» на вершине холма. Ник и Эдвина были поражены буйной красотой долины, раскинувшейся у них под ногами и — благодаря необычно дождливой зиме — покрытой сочной зеленью.
— К июню земля будет бурой, — сказал Гаспартелли. — С апреля до октября капли с неба не дождетесь. Земля высохнет и побуреет. Но для винограда это как раз хорошо. Это делает его сильным.
Ник рассеянно кивал. На нем были отлично сшитый шотландского сукна костюм и великолепная панама, которой он оправданно гордился. Эдвина, давно оставившая стиль «крестьянки в твиде» ради того, чтобы стать одной из самых роскошно одевающихся женщин мира, на сей раз выглядела обворожительно в костюме от мадам Шанель и широкополой черной шляпе из соломки.
— Сколько акров площади? — спросил Ник.
— Семьдесят пять, — ответил Сальваторе Гаспартелли.
Ему было шестьдесят три и проживал он в Калифорнии с 80-х годов прошлого века, куда переехал специально для того, чтобы выращивать свой любимый виноград. Его бизнес процветал вплоть до того момента, как три года назад был провозглашен злосчастный «сухой» закон. И теперь Гаспартелли, как и большинство остальных калифорнийских виноделов, был банкротом, вынужденным продать по бросовой цене землю, которую он возделывал с любовью и тщанием.
— Лучший виноград растет на холмах, как у меня, — продолжал старик, стараясь хоть немного набить цену. — В долинах у винограда нет врагов, ему ничто не мешает расти. Поэтому виноградники в долинах слабые и ягоды дают слабые, ленивые. Здесь же очень трудно вырастить виноград, но зато он как следует наливается, крепнет и дает лучшие плоды.
— Виноделы в долине утверждают противоположное, — заметила Эдвина.
— Да что они знают? — взорвался Сальваторе. — Я знаю виноград и повторяю: лучший урожай у меня.
Ник взглянул на виноградники, все аккуратно подстриженные, взбегающие по крутому холму к вершине и низкому небосводу. Ник достаточно изучал специальную литературу, чтобы чувствовать, что итальянец, видимо, прав. К тому же он знал, что земля Гаспартелли одна из самых плодородных в долине Напа, что его виноград сортов каберне, совиньон и шардонне используется для производства лучшего в Калифорнии вина, наконец, что Гаспартелли задолжал банку в Сан-Франциско шесть тысяч долларов, которые был не в состоянии самостоятельно выплатить. За свои семьдесят пять акров виноградников он просил всего тридцать тысяч долларов, что являлось грабежом среди бела дня. Грабежом со стороны Ника, который знал, что старик согласился бы в конце концов и на меньшую сумму.
Не надо было быть гением, чтобы понять, что политика «сухого» закона обречена. Наступит день, когда эти виноградники вновь нальются ягодами, а земля будет стоить целое состояние. Ник заглядывал в будущее.
В течение следующего часа он гулял в сопровождении Сальваторе по виноградникам, а Эдвина сидела в «роллсе» и листала журнал «Мировой кинематограф». Наконец Ник вернулся и приказал шоферу ехать обратно в Сан-Франциско. Он пожал Сальваторе руку и сел на заднее сиденье «роллса» рядом с женой. Огромная и тяжелая машина загромыхала по пыльной дороге, поднимая за собой целое облако пыли. Эдвина спросила:
— Ну как? Ты купил виноградник?
— Все еще думаю.
— Не понимаю, с чего ты вдруг решил покупать виноградники, ведь производство вина сейчас запрещено.
— Не куплю сегодня за цент, завтра не куплю и за доллар.
— Да кому оно нужно сейчас, калифорнийское вино? Лучше бы купил шато во Франции.
— Возможно, позже. А сейчас меня интересует Калифорния.
Эдвина, которую совершенно не занимала тема виноградников, вновь вернулась к своему журналу. Она вообще мало обращала внимания на те сделки, которые постоянно заключал ее муж. Бизнес оставался для нее тайной за семью печатями. Ее интересовали дети, покупки, званые вечера, кино и любовь. Ее могли бы обвинить в безнадежной поверхностности ее образа жизни, но она была молода, и, в конце концов — почему бы и нет? — жизнь представлялась Эдвине постоянным приключением. Как и Ник, она хотела попробовать в жизни все. Именно за это он ее и любил.
Они уже были на полдороге к Сан-Франциско, когда Ник небрежно обронил:
— Что ты скажешь на то, что мы с твоим отцом выделили двести тысяч на приобретение киностудии «Метрополитен пикчерз»?
Она отложила журнал и подняла на него глаза. Несмотря на четыре года семейной жизни и троих детей, она все еще жаждала его в сексуальном отношении, хотя в их семье, как и во всех нормальных семьях, случались ссоры. Ник, как установила она, был сильно — да просто ужасно! — ревнив. И хотя это ей где-то было приятно, с другой стороны, ограничивало свободу и являлось причиной многих размолвок. Но в ту минуту он был прекрасен!
— О, Ник, милый! — воскликнула она, обхватив его руками за шею и неистово целуя. — Ты сумасшедший! Почему ты раньше молчал?
— Это мой подарок тебе на день рождения. Сюрприз. Поздравляю.
— Господи, лучшего подарка и придумать нельзя! Спасибо! А ты разрешишь мне сняться в фильме?
— Вряд ли я осмелюсь отказать жене владельца студии.
Она была просто ослеплена.
— Кинозвезда! — прошептала она. — Как это будет здорово, если я стану кинозвездой! О, Ник, я знаю, у меня получится! Я чувствую, что смогу стать прекрасной актрисой! Меня уже и так все знают, Ник. Одному только Богу, наверно, известно, сколько нас уже рекламировали! И потом: внучки герцогов снимаются в кино не каждый день. О, Ник, я знаю, это будет так весело! Я обожаю тебя! — Она снова бросилась целовать его.
— Знаешь, я решил все-таки купить виноградник.
— Что? Ах да, виноградник. Конечно покупай, мне все равно. Господи, кинематограф! — Она томно повела глазами и приняла величественную позу кинозвезды а-ля Назимова. — Все мужчины мира будут у моих ног! Это будет здорово! Вульгарно? Да! Но я хочу этого!
— А если твои фильмы провалятся под фанфары, это будет еще и расточительно.
Она показала ему язык. Он рассмеялся. Глядя на них в ту минуту, любой беспристрастный наблюдатель не испытывал бы и тени сомнения в том, что Флеминги горячо любят друг друга.
Было бы неестественно, если бы такой человек, как Ник Флеминг, с его честолюбием, страстью к наживе и приключениям, с его деньгами и финансовыми связями, не проявил бы никакого интереса к Голливуду. Ибо к 1922 году стало ясно, что Голливуд является столицей мирового кинематографа. Здесь вершился большой бизнес. Еще несколько лет назад ничего этого не было. Перед первой мировой войной Голливуд был всего лишь рядовым киноцентром, конкурировавшим с подобными ему в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Берлине, Лондоне, Париже, Риме и Стокгольме. Недостаток солнечного света и увиливания от заключения трастового патента заставили закрыться киностудии восточного побережья. Война положила конец европейскому кинематографу. После перемирия вдруг выяснилось, что у Голливуда почти нет конкурентов и что весь мир поклонников кино жаждет скрыться в волшебном мире Великого Немого, который был в равной степени любим и понятен в Шанхае и Нью-Дели, Москве и Паданге. Пикфорд, Чаплин и Фэрбенкс стали живыми богами, зарабатывали миллионы долларов и жили просто по-царски. Даже истинная аристократка Эдвина была ослеплена приемом, данным недавно поженившимися Мэри и Дугом, когда они приехали в Англию в 1920 году. Обычно спокойные и сдержанные, во время приема в саду Челси англичане просто обезумели и едва не разорвали все платье Малышки Мэри на клочки. Пришлось даже вмешаться полиции. Это совсем не было похоже на благоговейное низкопоклонство, выказываемое членам королевской фамилии. Это было что-то иное, новое, дикое, необузданное, необыкновенно волнующее!
Эдвина начала серьезно «доставать» Ника, прося помочь ей оказаться перед кинокамерой. Поначалу она встречала с его стороны сопротивление. Ник говорил ей, что она ничего не понимает в искусстве актерского мастерства, и это было истиной. Но со временем идея стала ему импонировать. Ник жаждал покорения все новых пространств. А узнав о том, что капиталовложения в киноиндустрию возрастают ежегодно на полтора миллиарда долларов, он и сам стал разделять мечту Эдвины о славе кинозвезды. Он считал, что лавровый венок королевы Голливуда явится лучшим подарком красавице-жене и лучшим доказательством его любви к ней. А какое приключение это будет для него самого?! Какая возможность заработать новые миллионы!..
Когда он узнал, что студия «Метрополитен пикчерз» выставляется на продажу по цене в четверть миллиона долларов, он сразу же телеграфировал своему тестю в Лондон и предложил выделить на это дело двести тысяч, пятьдесят из которых он обязывался выплатить наличными, а остальные должны были быть обеспечены Саксмундхэмским банком. Со времени окончания войны Ник успел учетверить свое состояние, и все же пятьдесят тысяч являлось крупной суммой для 1922 года. Понимая это, лорд Саксмундхэм увидел, что кинематограф для Ника не шалость и не забава, а дело серьезное. С другой стороны, старик почти ничего не знал о фильмах и кинобизнесе. «Голдвин и Майер тоже ничего об этом не знали», — телеграфировал в ответ Ник. И это было правдой. Вспомнив лишний раз то драматическое представление с автоматами, лорд Саксмундхэм решил, что его зять имеет бесспорный вкус к театральности. Он согласился на сделку.
«Метрополитен пикчерз» специализировалась на вестернах, выпускала авантюрные сериалы и временами фильмы ужасов. Скуповатый владелец студии, в прошлом венгерский меховщик, которого звали Александр Петёфи, сколотил на ней состояние, но умер от инфаркта. Через три месяца его вдова, робкая женщина, которая мало интересовалась бизнесом, выставила студию на бульваре Санта Моника на продажу. Площадь студии была восемь акров, имелось два крытых павильона, но цена была заломлена слишком высокая. Кроме того, и время для продажи было выбрано неудачно. Недавний скандал, связанный с Толстяком Арбаклом, повредил киностудиям по всей стране. Акции «Парамаунт» упали с девяноста до сорока пунктов. Охотников купить второразрядную киностудию не было. И тут появился Ник. Его предложение поступило первым, и миссис Петёфи, которая была рада поскорее избавиться от навалившейся на нее заботы, дала свое согласие. Таким образом Флеминг попал в кинобизнес.
Известие о сделанной покупке Ника Флеминга было встречено в кругу дельцов киномира в лучшем случае равнодушно, в худшем — насмешками.
— Флеминг дилетант и прожектер, — говорил владелец одной студии, который подцепил эти словечки от какого-то своего сценариста. — Он не протянет и полугода.
Восхитительные волны Schadenfreude[8] накатились на колонию киноиндустрии, правила в которой были таковы, что достижение успеха понималось не только как твое личное счастье, но и как одновременное банкротство всех твоих коллег по кинобизнесу. Ник прекрасно был осведомлен о том, что говорят его критики, когда входил в железные ворота в испанском стиле, за которыми начиналась «Метрополитен пикчерз». Взглянул на жалкого вида оштукатуренный домишко, который только что купил… Ему было плевать на критиков. Ник Флеминг знал, что делает. И, как всегда, держал в рукаве свой козырь.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Террасы величественного беломраморного султанского дворца тянулись вдоль берега красивейшего Босфорского пролива на европейской стороне Константинополя на полмили в длину. Входя в ворота дворца, Диана Рамсчайлд думала о деньгах, власти, продажности и, в не меньшей степени, о мести Нику Флемингу. Годы, прошедшие со времени смерти Альфреда, были тяжелыми для Дианы и едва не обернулись полной катастрофой для «Рамсчайлд армс компани». Альфред готовил Ника в свои преемники, так что смерть босса и предательство Флеминга нанесли фирме двойной удар. Управление ею было дезорганизовано. Наследовали Альфреду его вдова и дочь; они вдвоем держали на руках пятьдесят семь процентов всех акций компании. Арабелла полагала, что во время выборов нового главы компании Диана будет голосовать за вице-президента Арнольда Хастингса. Однако, к ее удивлению, дочь оспорила эту кандидатуру. Арнольду было шестьдесят три года, близилось время ухода на пенсию, да и потом сам он был в лучшем случае одаренным бухгалтером. Компания нуждалась в молодом и энергичном руководителе…
— В таком, как я, — смело заявила Диана.
— Ты? — удивилась мать. — Диана, сейчас не время шутить.
Но ее дочь не шутила. Двойной шок, который она пережила из-за смерти отца и из-за Ника, который, как она считала, ее предал, сильно встряхнул ее. Она чувствовала, что отныне ее миссия — идеи по стопам своего отца. В конце концов, у нее высшее образование. Почему бы женщине и не возглавить оружейное производство? Ну может женщина, но крайней мере, попробовать?
Ей удалось все-таки склонить мать к компромиссу. Они договорились, что Диана становится вице-президентом и начинает постигать тайны бизнеса. Затем через два года, когда Арнольду Хастингсу подойдет пора идти на пенсию, если у нее все еще будет желание возглавить компанию и если совет директоров сочтет ее достойной этого поста, она его получит. Диана приняла условие и с такой энергией окунулась в работу и учебу, что даже Хастингс, который поначалу имел глубокое предубеждение против нее, вскоре стал ее ближайшим соратником и учителем. Диана обладала уравновешенностью, была умна и красива — это всем было известно. Но, кроме того, она, как оказалось, унаследовала от отца и деда поразительную твердость. Вскоре она прослыла в компании «железной девой», хотя в глаза никто так называть ее не осмеливался. В 1920 году Арнольд подал в отставку, и совет директоров единогласно избрал Диану его преемницей. Клеветники ехидничали, что, мол, у директоров не было выбора, так как Диана и ее мать держали контрольный пакет акций. Но директора на самом деле поверили в Диану. Она показала себя настоящим деловым человеком и жестким администратором. А дела стало вести трудно. Перемирие принесло покой на истоптанную войной планету, но одновременно поставило на грань краха военную промышленность. Акции компании Рамсчайлдов упали со 126 пунктов в 1917 году до 30 в 1920 году. Заказы составляли теперь лишь одну пятнадцатую от той цифры, которая была в годы военного бума. Диана сократила штат служащих, снизила зарплату, включая и свою собственную, и отключила почти треть всех производственных мощностей. Она решила, что является потенциально лучшим торговым агентом компании, и начала поиски «горячих точек» на планете, где были вероятные покупатели продукции «Рамсчайлд армс».
Вот поэтому она и была сейчас в Турции.
Громадный султанский дворец, в который вошла Диана, был выстроен в 40-х годах XIX века при султане Абдуле Меджиде, который предавался излишествам в сексе, имея большой гарем. Все закончилось импотенцией, а как следствие этого — алкоголизмом. Абдул Меджид возжелал иметь «самый большой в мире дворец», и он получил его. Во времена, когда Турция не имела практически никакой собственной промышленности, кроме производства ковров, и именовалась «больным зубом Европы», ее султан не пожалел четырнадцати тонн золота на отделку своего дворца, выстроенного в стиле крикливого, безумного рококо. Турция словно несла на себе какое-то проклятье: на протяжении столетий страной управляли невероятно глупые властители. Это был ее крест. Развращенность последних двадцати пяти полновластных султанов Османской империи превосходила все, что только видел мир со времен самых неразумных императоров Рима. Лень, пьянство, массовые убийства, всевозможные извращения, геноцид, пытки, братоубийства, женоубийства, детоубийства, обжорство — все эти пороки несли в себе султаны и халифы, каждый из которых официально именовался «тенью аллаха на земле». Тем временем обширная Османская империя с населением в тридцать миллионов душ все уменьшалась, отщипываемая по куску жадными европейскими державами.
В 1908 году трещавшая по швам империя перенесла революцию, когда группа так называемых младотурок свергла последнего полновластного султана Абдула Хамида Проклятого и, возведя на трон его брата, провозгласила конституционную монархию. Новый султан Магомет Пятый был почти полным идиотом и гордился тем, что не прочитал за двадцать лет ни одной газеты. К несчастью для младотурок, предводителем которых был убийца с лицом младенца Энвер-паша, они выступили на стороне Германии в первой мировой, что было их ошибкой. В 1915 году, пока талантливый молодой полковник Мустафа Кемаль сдерживал английские военно-морские силы в районе Галлипольского полуострова, Энвер-паша и его соратники организовали геноцид армян. По примерным подсчетам, было истреблено шестьсот тысяч человек. Не щадили и малых детей, разбивая им головы о каменные стены домов. Позднее убийцы еще пытались собрать с британских страховых компаний страховку за убиенных!
Энвер-паша, погрязший по уши в коррупции, встав перед лицом катастрофического для себя итога войны, бежал из страны вместе со своими приспешниками, бросив на произвол судьбы — а вернее, на милость победителей — тридцать шестого султана Магомета Шестого (умалишенный Магомет Пятый был низложен в 1915 году), который фактически стал пленником англичан и французов. Именно тогда британский премьер Ллойд Джордж, активно подстрекаемый министром иностранных дел лордом Керзоном, совершил одну из самых грубых промашек во всей британской истории.
В целях привлечения греков на сторону союзников в войне — греческий царь Константин был женат на сестре кайзера и занимал прогерманскую позицию, — греческому премьеру Элеутериосу Веницелосу был обещан город Смирна на средиземноморском побережье Турции. В 1919 году Веницелос уступил просьбе союзников и послал им долговую расписку. Ллойд Джордж и лорд Керзон презирали турок, кроме того им грезилась романтическая Греция Гомера, являвшаяся колыбелью демократии. Они поддержали Веницелоса. Без султана, который находился в заложниках у союзников в Константинополе, и без жизнеспособного национального правительства Турция была беспомощна. Веницелос послал вперед греческую армию и штурмом взял Смирну, которая еще с 1453 года официально считалась турецкой — тогда султан Магомет Второй покорил Константинополь, — несмотря на то, что там была крупная греческая община. Жители Смирны из числа турок подверглись грабежам, женщины — изнасилованиям. Не гнушались солдаты-греки и убийствами.
Вот тогда-то Диана Рамсчайлд и рассудила, что турецкий султан купит у нее партию товара, производимого ее компанией. Для встречи с «тенью аллаха на земле» она надела нарядное зеленое платье от Шармез — она сделала это с умыслом: зеленый цвет был цветом знамени ислама, — гармонирующий с платьем и подбитый мехом плащ, белые перчатки и белую шляпку с вуалью. Весь свой гардероб она купила в Париже по дороге в Константинополь. Диана любила хорошо одеться: в Восточном экспрессе с ней путешествовали шесть больших чемоданов. Она остановилась в роскошном отеле «Пера-палас» в европейском квартале. Ей удалось договориться о встрече с султаном, для чего потребовалось всучить военному министру тысячедолларовую взятку. Ни английские, ни французские власти не докучали ей своим вниманием. Диана решила, что им просто неизвестно, кто она такая, однако она ошибалась. Им это прекрасно было известно. Им было известно также, что она здесь только потеряет время.
По огромным залам трехсоткомнатного дворца ее провожал мажордом, одетый в стамбульский костюм. Дворец произвел на нее сильное впечатление, хотя она понимала, что в отделке комнат много показухи и крикливости, а тяжелая, покрытая позолотой французская мебель и высокие окна, выходившие на Босфор, говорили больше о вульгарности, чем о величии. Еще совсем недавно годичное содержание этого дворца со всеми его атрибутами, включая сотни евнухов, слуг, одалисок, обходилось ни много ни мало в два миллиона английских фунтов стерлингов. Теперь же здание казалось пустынным, и в этом было что-то жуткое. Диана гадала: куда они все делись?
Наконец ее ввели в зал с высокими потолками, у одного из окон которого стоял низенький человечек в сюртуке. Мажордом представил гостью по-французски. Диана не знала почти ни слова на турецком, но зато у нее была беглая французская речь, и она хорошо знала, что почти все образованные турки говорят по-французски. Когда мажордом вышел, коротышка повернулся и зашагал к Диане.
— Добро пожаловать, мадемуазель Рамсчайлд, — сказал этот человек, у которого были усики а-ля Чарли Чаплин. Он поцеловал ей руку и улыбнулся: — Меня зовут Бабур-паша, я являюсь советником его превосходительства господина военного министра.
— Очень приятно с вами познакомиться, ответила Диана тоже по-французски.
— К несчастью, его величество сегодня почувствовал недомогание. Но велел передать вам, что в настоящий момент наше правительство не заинтересовано в покупке оружия.
Диана изумилась:
— Но министр дал мне понять, что его величество как раз очень хочет обсудить эту сделку.
Улыбка на лице советника даже не дрогнула.
— К несчастью, в настоящий момент в нашем бюджете не найдется требуемых для такой покупки средств.
Лицо Дианы ожгло гневом.
— Ясно! И министр знал это вчера, когда брал из моих рук взятку!
— Взятка — грубое слово, мадемуазель. Правда, если вы сочтете для себя возможным внести свой посильный финансовый вклад в благотворительный фонд, который я представляю, фонд больных и раненых ветеранов в Скутари… может быть, его величество после этого уговорят все-таки принять вас. Скажем… тысяча американских долларов?
Она взглянула в маленькие темные глазки, блестевшие от жадности.
— Идите вы к черту! — сказала она, резко повернулась и вышла из зала.
Каблучки ее туфель гневно простучали по паркету. Она была в ярости и больше всего проклинала себя за то, что связалась с этими продажными бюрократами.
«Отлично! — зло думала она. — Если этот больной султан оказался банкротом, я предложу услуги другой стороне».
Она намеревалась выйти вовсе не на греков: те закупали оружие у итальянцев. Она думала о герое операции на Галлипольском полуострове, человеке, который торпедировал карьеру Черчилля, человеке, который возглавлял теперь революционную армию в Анатолийских горах и собирал отовсюду турок для защиты родины от греческих захватчиков. Она держала в голове Мустафу Кемаля, Гази, Победителя христиан.
Султан не может заплатить жалованье даже своим слугам, а у Кемаля, как она слышала, водились денежки, и он нуждался в оружии, при помощи которого смог бы изгнать греков из Турции. Более того, Кемаль в последнее время все больше начинал походить на победителя, а Диане нравились победители.
Но перед ней встала проблема: как добраться до Мустафы Кемаля?
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Козырем, который Ник держал в рукаве, вступая в кинобизнес, являлся его отчим Ван Нуис Клермонт, который питал к кинематографу почти юношескую страсть и газеты которого подробно освещали и рекламировали кино, начиная с 1915 года, когда на экраны вышла картина «Рождение нации». После войны Ван начал избавляться от нерентабельных изданий на Востоке, одновременно расширяя свою газетную империю в направлении Среднего Запада, купив ежедневные издания в Сент-Луисе, Омахе, Канзас-сити, Тулсе и Дес-Мойнсе, проникнув даже на Дальний Запад приобретением двух газет в Калифорнии. Пламенный либерализм, который был у Вана перед войной, сменился теперь более правыми взглядами. Его политическую позицию резко повернула вправо русская революция и то, что он теперь называл «большевистской угрозой».
Коммерческая хватка Вана, только усиливавшаяся с годами, и его профессиональный нюх помогли ему учуять популярные темы. В результате статьи о тяжелом положении трудящихся были заменены статьями о моде, быте, советами о том, как обставить и украсить свой дом, колонкой «хороших манер», «советами садовода» и «советами кулинара». Последнюю колонку вела Ронда Ривс. Повинуясь какому-то внутреннему наитию, Ван взял к себе бывшую актрису, отравленную романтикой новеллистку Хэррит Спарроу из Глен-Риджа, штат Нью-Джерси. Это была пухленькая и миловидная двадцатисемилетняя девушка, красившая свои волосы в огненно-красный цвет, носившая крикливые ситцевые платья и вычурные шляпки. У нее был ненасытный аппетит на всякого рода сплетни, и она беззаветно верила в Любовь с большой буквы. Она начала работать у Вана с 1918 года: писала светскую хронику о Бродвее. Ее вульгарно-красочный стиль вызывал приступы смеха у людей, искушенных в журналистике, но Хэррит Спарроу все равно читали, потому что она «собирала улики» на знаменитостей. С 1920 года она стала включать в свою колонку материалы из мира кино, и Ван начал печатать эти статейки по всей стране.
К 1922 году, когда появился этот материал, аудитория Хэррит Спарроу, по подсчетам Вана, уже превышала двадцать миллионов американцев:
ВОРОБЬИНЫЕ ТРЕЛИ[9]
Хэррит Спарроу
Ну что, ребята, вот я и снова в Голливуде, в этой волшебной столице мирового кинематографа. Самой крупной новостью под небом солнечной Калифорнии стали студия «Метрополитен пикчерз», ее энергичный и молодой владелец Ник Флеминг, а также красавица-актриса, которая совершенно случайно оказалась его женой, очаровательная Эдвина Флеминг!
Эти двое в Голливуде все-то пару месяцев, а уже только о них в городе и говорят. Я их знаю еще по Нью-Йорку и часто писала о них. Однако каково же было мое потрясение, когда я поняла, что они ударились в кинобизнес, да еще с такой решимостью. И одновременно они закатывают такие обалденные пирушки, что тут все уже давно с ума посходили!
Я взяла у Ника интервью в его студии на бульваре Санта-Моника, — представьте: по самой середине там проложена железная дорогая! Что вам сказать? Он все такой же красавчик и сердцеед, каким был в Нью-Йорке. У него появился загар, который ему очень к лицу. Его офис переделан в тюдорском стиле с укрепленным балками потолком и здоровенным английским бюро. Ник сообщил мне, что Эдвина, которая является внучкой герцога Дорсетского и имеет самую голубую кровь во всей старой доброй Англии, обставляет студию сама, так как хочет, чтобы хоть что-нибудь напоминало ей Англию. Нику это очень нравится.
Ник сообщил, что у него в плане стоят пять картин, но главной он считает ту, о которой уже говорит весь город, — «Юность в огне». Все мы читали этот роман в прошлом году, а я чуть не падала в обморок от знойных любовных сцен, которые преподносит там каждая страница! Ну что ж, весь этот жар теперь переносится на экран. И что-то подсказывает мне, что в кинотеатрах по всей Америке температура будет стоять — дай Бог! Вы, конечно, умираете от желания узнать, кто же будет играть роль Бэка Рэндольфа, этого героя футбольных полей, чья любовная история едва не развалила на части маленький городок Шенди в Новой Англии, штат Коннектикут? Держитесь, девочки, за свои шляпки! Вы угадали — это Род Норман, Американская мечта! О, я сгораю от нетерпения увидеть бесподобного Рода в тех любовных сценах! А сказать, кто играет роль Лоры Харди, милашки-студентки, чья репутация почти полностью подорвана Бэком Рэндольфом? Это роль, за которую любая актриса без колебаний пошла бы на убийство! Ладно уж, не буду заставлять вас терзаться догадками: Ник отдал роль своей жене! Да, дебют Эдвины Флеминг в кино может вознести ее сразу же на самую вершину голливудского Олимпа!
Я спросила Ника, не будет ли он чувствовать себя немного не в своей тарелке, когда увидит, что его жена занимается любовью с самим Родом Норманом, пусть даже в киноимитации? Он одарил меня своей неотразимой улыбкой и сказал только: «Я доверяю Эдвине». О, если бы вы могли видеть их вместе! Они так влюблены друг в друга, что все вокруг озаряется светом!
А вот я видела их вместе в тот же вечер, ибо Ник, который всегда такой милый и радушный, пригласил меня к себе в «Каса энкантада», где закатил один из своих ослепительных приемов. «Каса энкантада» — здоровенное поместье, которое Ник купил в Голливуд-хиллз. Оно было построено десять лет назад королем апельсинового сока Уолтером Фицхью. Дом окружен самыми красивыми садами и пальмовыми деревьями, которые мне когда-либо приходилось видеть. Здесь есть два теннисных корта и огромный плавательный бассейн с водопадом и даже каноэ! Это ли не здорово?
«Каса эпкантада» переводится с испанского как «заколдованный дом», и когда вы входите в него через большие двустворчатые двери, вы и вправду ощущаете присутствие колдовства! О, это счастливый дом. Любовь царит здесь в каждом квадратном дюйме площади. Все здесь, естественно, в испанском стиле. Нельзя не полюбить трех малышей Ника и Эдвины: маленького Чарльза, которому три года и который просто очарователен; его маленькую сестренку Сильвию, которая просто куколка, и совсем малютку Эдварда. Флеминги держат няню-англичанку, миссис Драммонд, которая сказала мне, что ей не нравится в Калифорнии только одно: «эти кишащие повсюду насекомые». И, конечно, бросается в глаза любовь Ника и Эдвины друг к другу. Они на самом деле «не разлей вода». Это ли не прекрасно?
На приеме кого только не было! Дуг и Мэри, Чарли Чаплин, Сэм Голдвин, Клара Кимбэлл Янг, Кинг и Флоренс Видор, Лилиан Гиш, Глория Свенсон, Род Норман и его милая одаренная жена Норма Норман. Воистину парад звезд! Не забудем и титулованных европейцев! Лорд и леди Тремейн, очаровательная герцогиня Сан-Стефанская, румынский принц Карл и учтивый красавец маркиз де ля Тур д’Оберж. Я, девчонка из маленького городка, была настолько ослеплена, что впору было надевать светозащитные очки!
Да, о Нике и Эдвине говорит весь Голливуд! Но что-то подсказывает мне, что о «Юности в огне» будет говорить вся Америка!
Конечно, прочитав эту белиберду, Ник и Эдвина взвыли. Однако Ник знал, что этим своим чириканьем Хэррит Спарроу только что продала тысячи и тысячи билетов на будущий фильм.
* * *
Род Норман вломился в киномир с громким заявлением о том, что именно он является истинным ковбоем, так как, мол, вырос на скотоводческом ранчо своего отца в Вайоминге. На этом основании он стал сниматься в самых крутых вестернах. Правда же заключалась в том, что вырос он на овечьей ферме и с детства так боялся лошадей, что, только прилично глотнув крепкого виски, он мог заставить себя усесться в седло. Неудивительно поэтому, что скоро он превратился в пьяницу, которого не вылечил и «сухой закон». Род доставал свою дозу спиртного у торговца контрабандными напитками, некоего Марти Сигла, который обслуживал исключительно киноактеров. Настоящей звездой Род стал в 1921 году, когда плюнул на ковбойский имидж и снялся в военной картине «На фронт» в роли рядового Дирка Дина. Женщинам, которые редко ходили на вестерны и поэтому до сих пор не лицезрели Рода Нормана, стоило бросить лишь взгляд на это суровое лицо и широкие плечи, чтобы прийти в коллективный экстаз. Фэн-клубы Рода Нормана выросли как грибы по всей стране, и скоро этот сын вайомингского судьи стал получать пятнадцать тысяч писем в неделю.
К такой головокружительной и мгновенной славе Род был не готов. Он превратился в маньяка. Будучи убежденным в том, что все без исключения американские женщины жаждут его мускулистого литого тела грудь Род брил перед съемками, так как волосатость производила отталкивающее впечатление на зрителей, Род счел себя обязанным соблазнять всякую привлекательную женщину, которая попадалась на его пути. Эдвина же была не только одной из самых красивых женщин, которые когда-либо ему встречались, но являлась также и женой продюсера картины «Юность в огне». Отравленный алкоголем мозг Рода подсказывал ему, что это вызов, который он просто обязан принять. Когда же он прочел искрометный сценарий «Юности в огне», то подумал о том, что, принимая во внимание «плотность» множества любовных сцен с участием Бэка Рэндольфа и Лоры Харди, будь он даже горбуном из «Собора Парижской Богоматери», он не упустит свой шанс.
В первый же день основных съемок на первой съемочной площадке Род взялся за осуществление своего плана с присущей ему «тонкостью».
— Тебе нравится заниматься сексом? — спросил он Эдвину, пока они ждали установки декораций для первой сцены.
Она удивленно посмотрела на него.
— Да, нравится. Я считаю, что это прекрасно, — ответила она. — Мой муж очень хорош в постели. К тому же он невыносимо ревнив. Если ты станешь приставать ко мне, то я не удивлюсь, если он вышибет из тебя мозги. Знаешь, он постоянно носит с собой пистолет. Еще с войны. И потом он отличный стрелок. — С этими словами она очаровательно улыбнулась.
Род Норман с трудом сглотнул, думая о том, что, может быть, ему стоит пересмотреть свои ближайшие планы относительно любовных интриг.
Режиссером картины «Юность в огне» был бывший военный летчик Рэкс Симпсон. Рэкс и Род были собутыльниками и в тот вечер как раз посасывали контрабандное виски в подвале у Рэкса.
— У Флеминга ничего не выйдет с этой картиной, — кисло заметил Род.
— Почему это? — спросил Рэкс.
— Потому что она вся о сексе, а сексуальности в Эдвине Флеминг столько же, сколько в бревне.
Рэкс, трепавший свои усы, сделал удивленное лицо.
— А по мне она сексуальна, — сказал он. — Стоит мне лишь взглянуть на нее, и я уже готов. И грудь у нее будь здоров.
— Да, но это все только снаружи. Внутри в ней нет сексуальности. Может быть, это ее английское воспитание. Не знаю. Но если с такой партнершей мне-таки удастся сыграть мистера Жаркого Любовника, я буду считать, что достиг вершин актерского мастерства. Кстати, не знаешь, говорят, Флеминг все время таскает с собой пистолет?
— Я слышал об этом. В семнадцатом его чуть не угрохали в России. Думаю, это заставило его вооружиться.
— А что, будто бы он ревнив сильно?
— Говорят, что так.
— Ладно, у него не будет повода ревновать ко мне, — пьяным голосом кисло сказал Американская мечта. — Она меня сегодня полностью расхолодила. Конечно, мне не стоило, наверно, говорить такие вещи сразу.
— А что ты сказал?
— Я только спросил ее, нравится ли ей секс.
Рэкс Симпсон даже застонал.
— О Боже, идиот! Такие вещи не говорятся внучкам герцогов, неужели не ясно?!
— Да, теперь я тоже так думаю.
— Это ведь тебе не костюмерша!
Рэкс Симпсон был «приходящим-и-уходящим» режиссером, но «Юность в огне» была первой его крупной картиной. Он не мог допустить, чтобы она сорвалась.
Он решил, что лучше переговорить насчет Рода с Ником Флемингом.
В 1921 году в «Нью-Йорк таймс» появилась статья, в которой подтверждалась информация из России о том, что бывший военный министр последнего русского царя великий князь Кирилл зверски убит большевиками вместе со своей женой и дочерью великой княжной Татьяной. Это произошло летом 1918 года, на следующей неделе после убийства царской семьи в Екатеринбурге, когда почти все не успевшие покинуть страну родственники Романова были истреблены с поистине варварской жестокостью. Когда Ник прочитал об этом, он вспомнил симпатичную юную девушку, с которой познакомился в Петрограде, и проникся острой жалостью к ее печальной судьбе. Но перед ним возникла проблема: что делать с бриллиантами, некогда врученными ему великим князем, которые до сих пор лежали на счету Флеминга в сейфах «Английского банка»? Ник обратился за консультацией по этому поводу к сэру Десмонду Торникрофту, который являлся адвокатом его отчима. Сэр Десмонд сказал, что, поскольку русская революция отвергла царскую юридическую систему и сняла с себя ответственность за царские долги, бриллианты великого князя теперь по праву принадлежат ему, Нику Флемингу. Более того, если вдруг будут объявлены розыски оставшихся в живых родственников великого князя, нахлынет целая армия самозванцев, Ника затаскают по судам. А если и найдется действительный наследник, то по закону он будет иметь прав на бриллианты не больше, чем сам Ник.
Отбросив всю словесную шелуху адвоката, Ник понял, что настоящий наследник будет иметь, по крайней мере, моральное право на тот кисет с камнями. В Европе находилось очень много родственников Романова, сбежавших от революции, которые теперь были заняты тем, что торговались между собой из-за пресловутого состояния, которое царь вроде бы положил в «Английский банк», но которое до сих пор не было обнаружено. Поэтому Ник не сомневался в том, что, узнай они про бриллианты, ему от них будет не отбиться. Он мог либо разделить драгоценности между десятками двоюродных и троюродных братьев и племянников последнего русского императора, чтобы они прогуляли их на юге Франции, но он мог и оставить их при себе в качестве военного трофея. Он отдал их на оценку в «Гаррард и К°» и скоро узнал, что они стоят шестьсот тысяч фунтов, или три миллиона долларов.
Он медлил с окончательным решением до тех пор, пока не купил «Метрополитен пикчерз». Обстоятельства приняли это решение вместо него: производство фильмов стоило очень дорого, равно как и богемный образ жизни. Ник продал бриллианты в «Гаррард и К°» и поместил три миллиона в «Американский банк» в Лос-Анджелесе. И как раз вовремя: потребовалось сорок тысяч долларов на то, чтобы выкупить права на кинопостановку бестселлера «Юность в огне». Хэррит Спарроу заблуждалась: он не купил «Каса энкантада», а арендовал за три тысячи долларов в месяц, что являлось по тем временам ошеломляющей суммой. Содержание восьми слуг и садовников, оплата диких счетов Эдвины на ее гардероб, устройство нескольких приемов в неделю, чтобы лишний раз потрясти столицу мирового кинематографа, — на все это требовалось немало наличных. Самому себе как руководителю студии Ник платил тысячу в месяц, но делал огромные капиталовложения в студию, от которой ждал успеха. Никто лучше Ника не знал, насколько важно было для «Юности в огне» стать хитом.
Поэтому когда Рэкс Симпсон позвонил сказать ему, что Род Норман чувствует себя «отвергнутым» Эдвиной, что, в свою очередь, грозило правдоподобности любовных сцен в картине, реакция Ника была мгновенной и резкой. Он повесил трубку и стал подниматься по лестнице, размышляя над уникальной ситуацией, в которой он как муж сейчас оказался: надо будет убедить жену вести себя так, чтобы понравиться другому мужчине.
«Каса энкантада» действительно была выстроена в испанском стиле. Лестницы были оборудованы резными железными перилами, с потолка в холле свисал тяжеленный фонарь из железа и стекла, купленный у одного антиквара из Мехико, утверждавшего, что когда-то этот фонарь висел во дворце самого вице-короля. Ник поднялся до конца лестницы и вошел в длинный темный коридор, по стенам которого тут и там висели фотографии, изображавшие мадридскую жизнь в XIX веке, было также несколько картин, написанных маслом и изображавших бой быков. В конце коридора была деревянная дверь, богато украшенная инкрустацией в мексиканской манере, за которой располагалась хозяйская спальня. На окнах спальни были украшенные тонкой резьбой железные решетки, словно архитектор дома хотел уберечь жену Ника от любившего взбираться по виноградным лозам Зорро. Эдвина в обтягивающем черном трико как раз занималась пластическими и хореографическими упражнениями, составленными для нее ее сценической наставницей Вильгельминой ван Дейк, голландкой, бывшей актрисой, которая как-то снялась в одной картине с Бернхардтом. Она приехала в Голливуд уже в преклонном возрасте с целью сорвать с таких одержимых киноновичков, как Эдвина, столько денег, сколько сможет.
— Рэкс звонил только что, — начал Ник, прикрывая за собой дверь. — Он говорит, что Род с горя напился, когда ты отшила его сегодня на съемках. Что там у вас стряслось?
Она прекратила свои упражнения.
— Он позволил себе пошлость, и я предупредила, что, если он посмеет приставать ко мне, ты из него душу вытрясешь. Ты ведь это сделаешь при случае, правда?
— Послушай, это Голливуд, а не Виндзорский замок.
— Да, это заметно.
— Актеры — нетвердые люди. Им приходится немного запугивать женщин.
Эдвина рассмеялась:
— Он? Запугивать? О, милый, я знаю что он — Американская мечта, но это на экране, а в жизни это — взрослый ребенок. Ему нечем меня запугать. Если честно, я никак не пойму, что эти миллионы простушек нашли в нем!
В Нике поднялось смешанное чувство облегчения и досады.
— Так, выходит, ты не находишь его привлекательным?
— Нет, почему же? Он, кстати, внешне похож на тебя, а ты знаешь, что я считаю тебя самым красивым мужчиной в мире. Но Род никогда не заставит меня прерывисто дышать от желания, как заставляешь ты.
— Но тебе так или иначе придется делать вид, что ты прерывисто дышишь.
— Знаю, глупый! Это и называется актерским мастерством. В любовных сценах я буду на высоте, вот увидишь. — Она перешла на бег на месте.
— Да можешь ты постоять спокойно?! — заорал он.
Она остановилась и изумленно посмотрела на него.
— Милый, ты бесишься. Что случилось?
— Мы поставили на этот фильм очень много. Мы оба. Пойми, это серьезный бизнес.
— Я знаю.
— Мужчина не может заниматься любовью с женщиной, если он не чувствует в ней ответного желания. Я знаю, что это всего лишь фильм, но даже Джон Бэрримор не смог бы убедительно показать постельную сцену с куском айсберга, а Род — не Джон Бэрримор.
— Что ты мне пытаешься втолковать?
Он раздраженно всплеснул руками:
— Я пытаюсь тебе втолковать, что ты должна пробудить в нем надежду! Чуть-чуть. Будь с ним поласковей. Пококетничай, в конце концов! Пусть он поверит в тебя.
Она пожала плечами.
— Ладно, если ты считаешь, что это так важно. Но это будет такая скука! — Она с минуту молчала, над чем-то размышляя, потом рассмеялась: — Знаю! Я буду представлять себе, что он — это ты!
— Вот-вот! Представляй, что это я. — Он обнял ее и поцеловал. — Тогда мы получим самые знойные любовные сцены в истории кинематографа!
— Самонадеянный кривляка, — засмеялась она, легонько укусила его за ухо и шепнула: — Но ты прав!
На следующий день снимали сцену с гимназией города Шенди, штат Коннектикут, где герой фильма Бэк Рэндольф впервые встретился с Лорой Харди. Рэкс Симпсон из кожи вон лез, лишь бы сделать каждый кадр картины максимально приближенным к реальности: съемочная площадка превратилась в настоящий актовый зал. Правда, казалось маловероятным, что какая-то там школа из маленького городка в Новой Англии могла позволить себе пригласить оркестр из двенадцати человек, которым руководил молодой дирижер в щегольском смокинге. Все юноши-старшеклассники были в вечерних костюмах, что было еще меньше похоже на правду, но зато создавало «классическую» атмосферу, согласно желаниям Ника. Всякая связь с реальной жизнью была окончательно утеряна, когда из гримерной на съемочную площадку вышла Эдвина. На ней была белая накидка из песца, которая одна стоила, наверное, всего бюджета такого городка, как Шенди. Но Ника не волновала правдоподобность, ему важно было представить свою жену публике во всем ее великолепии. Для этого он нанял самого дорогого в Голливуде костюмера, который разодел главную героиню фильма в пух и прах.
В Голливуде тогда фильмы делали быстро, но даже при этом подготовка к съемке сцены, в которой было занято более пятидесяти статистов, требовала времени. Поэтому Эдвине пришлось ждать минимум полчаса, пока ее допустят к камере. Ник подошел к ней и ободряюще стиснул ей руку. Поцеловать жену он не мог, так как мог испортить ее грим-макияж.
— Ты выглядишь сказочно, — сказал он. — Они все сдохнут от восхищения.
— Сомневаюсь, что многие школьницы могут позволить себе такое одеяние. Но выглядит оно действительно ослепительно, правда? Знаешь, а я совсем не так сильно волнуюсь, как думала. Наверное, это плохой признак.
— Вовсе нет.
— А вот и Род. Ну что, мне идти к нему и быть милой?
— Именно, малыш.
Она стала продираться через толпу статистов, техников и декораторов, переступая через толстые электрические шнуры, которые расползались повсюду. Род сидел в шезлонге. Американская мечта маленькими глотками пил черный кофе.
— Доброе утро, — весело сказала она, садясь рядом с ним в свое кресло. — Как ты сегодня?
— Перебрал вчера, — прохрипел Род, и Эдвина увидела обращенные на нее налитые кровью глаза. — Слава Богу, утром не будет крупных планов. Ну и рожа у меня сейчас, да?
— Совсем нет! Ты очень красив сегодня.
Лицо Рода вытянулось от удивления.
— Э-э… спасибо. А я скажу, если ты, конечно, не возражаешь, что ты выглядишь просто обалденно! Только не думай, что я пристаю, — поспешно добавил он.
Она мягко улыбнулась:
— Вчера я была с тобой немного резка. Хочу попросить прощения. Надеюсь, ты не будешь дуться на меня за это?
— О нет, что ты!
— Я так жду, когда мы появимся на площадке вдвоем! У тебя гораздо больше опыта, чем у меня… Ты ведь подскажешь мне, если я начну делать что-нибудь не так, ладно?
Несмотря на похмелье, Род Норман просто просиял.
— По правде, я и сам боюсь, что начну делать что-нибудь не так, — сказал он, и они вместе рассмеялись.
От него здорово разило. Представив себе их любовные сцены, она внутренне содрогнулась.
Ник провел тот день в бегах между своим офисом и съемочной площадкой. Несмотря на то, что Вильгельмина ван Дейк всячески уверяла его в том, что у Эдвины врожденный актерский талант, несмотря на то, что жена выглядела бесподобно в первых кинопробах, Ник очень волновался: так много было поставлено на совершенно новое дело. Но к середине дня, когда отсняли первый крупный план с участием Бэка и Лоры, всем присутствующим стало ясно, что на площадке происходит нечто небывалое, нечто волшебное. Согласно сценарию, Бэк должен был танцевать с Лорой, потом прижать ее к себе и поцеловать, что по тем временам было равноценно изнасилованию. Лора должна была дать ему пощечину.
Первые два дубля были не совсем удачными, и вовсе не из-за того, что от Рода разило: перед съемкой он догадался-таки прополоскать рот. Но в третьем дубле поцелуй выглядел настолько страстным, что у Ника в глазах потемнело от ревности, несмотря на то что он постоянно успокаивал себя тем, что, мол, Эдвина представляет себе, что целуется со споим мужем. Потом Лора оттолкнула Бэка и отвесила ему пощечину. Искры летели от поцелуя и от пощечины. Когда Рэкс крикнул в мегафон: «Снято» — павильон взорвался аплодисментами.
Ник аплодировал вместе со всеми, но одновременно думал: а только ли игра это?
Игра или нет, но он понял, что ненавидит Рода Нормана. «Сукин сын занимается любовью с моей женой, а я еще плачу ему за это!»
Но более всех присутствующих в павильоне изумлена была сама Эдвина. Страстный поцелуй Рода Нормана взволновал ее!
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Понимая, что оказалась слишком наивной относительно степени коррумпированности турецкого правительства и мало информированной о состоянии финансов у султана, Диана решила впредь быть предусмотрительней и постараться узнать как можно больше о Мустафе Кемале, прежде чем устраивать с ним встречу. Однако она обнаружила, что, несмотря на его стремительно растущую популярность, в прессе информации о нем было немного. Объяснялось это желанием правительства явно к своей выгоде принизить подвиги Кемаля.
Мустафа родился сорок один год тому назад в Салониках. Его родителями были никуда не годный таможенный чиновник Али Реза и неграмотная, но волевая македонка по имени Зубейда. Его отец умер во время эпидемии тифа, когда Мустафе исполнилось всего десять лет. Мать с мальчиком переехали в крестьянское хозяйство его дяди. Зубейда хотела видеть сына ходжой или священником, но тот, наслушавшись в детстве сказок о завоеваниях своих легендарных предков турок-османов, твердо решил стать солдатом. В учебе ему не было равных, особенно в математике. Мустафа был зачислен в турецкий кадетский корпус, где изумлял преподавателей своей энергией и неиссякаемой жаждой знаний. Он проглатывал учебники по военной стратегии, увлекался Клаузевицем, Мольтке, читал биографии Наполеона. Несмотря на то что в четырнадцатилетнем возрасте он пристрастился одновременно к спиртному, табаку и противоположному полу, старшекурсники прозвали его Кемалем, что в переводе с турецкого означает «Совершенный».
После окончания корпуса и поступления на службу в турецкую армию он воевал и отличился в различных боевых операциях. Он заигрывал также с радикальными политиками, что в итоге обернулось для него трехмесячным заключением в печально известной константинопольской Красной тюрьме. Когда младотурки свергли султана Абдула Хамида Проклятого, Мустафа был направлен в качестве военного атташе в Софию, где самостоятельно изучил французский, постоянно вращался в высшем обществе, играл в азартные игры, превратился в денди, подхватил почечную болезнь, пил ракию и мягкий румынский коньяк «пуика» в непомерных количествах, и еще, если верить слухам, пару раз занимался любовью с мальчиками.
Одновременно он неистово жаждал славы и возмущался отсталостью своей любимой родины. Война принесла ему славу героя Галлипольской операции, но она также принесла постыдное поражение всей Турции. Когда греческая армия вторглась в Смирну, а англичане с французами оккупировали Константинополь, всю остальную часть страны охватили беспорядки. Султан, почувствовав, как зашатался под ним его трон, решил послать кого-нибудь для усмирения подданных, рассчитывая тем самым восстановить свою власть. Его выбор пал на Кемаля. Когда советники наконец втолковали султану, что он пригрел у своего сердца змею, было уже поздно: Кемаль находился на борту корабля в Черном море, который направлялся на восток в турецкий порт Самсун, где 19 мая 1919 года Мустафа сошел на берег. Он незамедлительно приступил к формированию своей независимой от султана армии и нового демократического правительства в Ангоре. Преодолевая на этом пути невероятные трудности, он сумел добиться своего и еще бросил султану вызов. Султан снарядил карательную экспедицию, которую назвали «армией халифа» и которая призвана была рассеять кемалистов. И ужас гражданской войны добавился к кошмару иноземной оккупации. Авангард армии халифа перехватил в небольшом городке Конья группу офицеров-кемалистов. Несчастных забили камнями и ногами до потери сознания, а потом привели в чувство водой. Их связали, вырвали ногти на руках и ногах и ослепили раскаленными на огне саблями. Вскоре Кемалю представилась возможность отомстить за своих людей: были пойманы офицеры султана. Их изрубили, а трупы привязали к лошадям и проволокли по улицам города. Для того чтобы добиться нужных им сведений, кемалисты пороли пленных, а потом казнили их. Султанские палачи били пойманных кемалистов палками по пяткам, подвешивали за разные части тела, ослепляли и даже распинали. С цепи были спущены самые бешеные псы войны.
Главным преимуществом султана было поддерживающее его духовенство. С каждого минарета в Турции ежедневно муллы призывали правоверных встать на сторону султана-халифа, главы ислама. Преимущество Кемаля заключалось в том, что он был одаренным полководцем, достойным Наполеона, обладал железной волей и блестящими ораторскими способностями, активно применяя которые, он переманивал турок на свою сторону. Постепенно он обратил армию халифа в бегство. Нанеся поражение грекам в двух крупных сражениях, он удостоился восхищения всего мира.
Однако Смирна все еще оставалась в руках греческой армии.
Таким был человек, которому Диана решила продать свой товар. Но сначала до него нужно было добраться. Кемаль имел штаб в другом конце Турции, на загородной вилле близ Ангоры — в Чанкайе. Между ними была греческая армия, многочисленные шайки бандитов и наконец двести миль суровых Анатолийских гор.
Но Диана была дитя своего времени. Во время трехдневного посещения султанского дворца она отыскала молодого турецкого летчика по имени Кадри, в распоряжении которого был военный итальянский биплан и который брался за четыреста американских долларов переправить Диану над головами греческих солдат в Ангору. Взяв с собой всего лишь один чемодан, но уложив в него все самое лучшее из одежды — Диане удалось узнать, что Кемаля приводят в восхищение модно одетые женщины, — она встретилась с Кадри, как и было условлено, на открытом поле в трех милях от Константинополя в восемь часов утра. Бросив подозрительный взгляд на покосившийся биплан, она надела защитный шлем и взобралась в открытую кабину, которая располагалась позади кабины пилота.
Через пять минут самолет разбежался по полю, оторвался от земли, на какую-то страшную секунду клюнул носом, затем медленно стал взбираться в голубое небо Турции и взял курс на восток, к вершинам далеких гор.
Свидетельством популярности торговцев оружием у потенциальных покупателей можно было считать то, что спустя уже два часа после посадки на пустынном поле вблизи Ангоры Диана получила приглашение на ленч в Чанкайю. На виллу она была доставлена на стареньком «бенце» с открытым верхом ближайшим другом Кемаля полковником Арифом. Общение с ним было предельно ограничено, так как он не говорил ни по-французски, ни по-английски. Всю дорогу Диане оставалось только любоваться замечательными пейзажами. Несмотря на то, что на дворе стоял июль и Константинополь задыхался от зноя, здесь, на Анатолийском плато, расположенном на высоте четырех тысяч футов над уровнем моря, погода была приятно теплая, а воздух чист и свеж. Вдали, над покрытыми лесами горными вершинами, зависли кудрявые темные тучи. В нескольких милях вперед на пологих склонах виднелись красные крыши небольшого городка Ангора, который Кемаль провозгласил новой столицей Турции и уже планировал переименовать в Анкару. Чанкайя находилась в двадцати минутах езды от столицы. Когда «бенц» притормозил перед виллой, Диана была захвачена красотой окрестностей и сливового сада, окружавшего дом, который сам по себе впечатления не производил. Вилла была построена левантийским купцом. Это было двухэтажное здание, сложенное из местного камня, с уродливым резным крыльцом и нависшим над ним балконом. Все здесь было выкрашено в странный цвет бычьей крови. Коническая крыша была крыта шифером. Зато все это с лихвой компенсировалось дивной красотой склона гор, который вдали переходил в степь.
Полковник Ариф, симпатичный молодой человек, проводил ее к крыльцу виллы, где по обеим сторонам двери неподвижно стояли два телохранителя Кемаля. По национальности это были лазы[10]. Высокого роста, широкоплечие дикие горцы с южного побережья Черного моря, они были одеты в свои национальные одежды: черные длинные бурки из шерсти и высокие узкие сапоги. Они козырнули Арифу, и Диана заметила, что они вооружены германскими винтовками.
Ариф провел ее в большой холл, посреди которого красовался фонтанчик, украшенный орнаментами. Здесь же был диван из красной кожи, на котором посетители ожидали, пока гази примет их в своем рабочем кабинете. Сердце Дианы билось от волнения, любопытства и даже мрачных предчувствий: человек, с которым она намеревалась познакомиться, славился беспримерной жестокостью. Он повесил двух поставщиков оружия за утаивание части прибыли. Лично застрелил двух своих офицеров за тайное хранение сигарет. Здесь, в Анатолийских горах, в тысячах миль от безопасного и родного Коннектикута, олицетворением закона, верховным главнокомандующим и самодержавным властелином был Мустафа Кемаль-паша. Ей пришла в голову неприятная мысль о том, что, прилетев сюда, она, пожалуй, подвергла свою жизнь смертельной опасности.
Полковник Ариф провел ее в кабинет, средних размеров комнату с львиными шкурами на стенах, небольшим пианино и столом в центре, за которым, по слухам, Кемаль любил «толкать речи» во время ночных попоек. Сейчас гази стоял около стола и изучал карту. Когда хлопнула дверь, он поднял на вошедших глаза. Первое, на что обратила внимание Диана, были его глаза. В романах она часто читала о героях с «пронзительными» глазами. Здесь этого определения было не избежать: сине-стальные глаза Кемаля действительно были пронзительными, и их пристальный взгляд даже пугал. У нее появилось ощущение того, что Кемаль не просто любуется ею, но и пытается проникнуть в ее мысли. Потом он выпрямился и улыбнулся. Кемаль был среднего роста, стройный и жилистый. Удивительно, но его волосы и усы были почти светлыми. Он не был красив в общепринятом значении этого слова, но его лицо тем не менее было очень привлекательным. У него были высокие скулы и тонкий нервный рот. Кемаль был кадровый военный, но сейчас он был в хорошо сшитом сером деловом костюме.
— Без сомнения, передо мной стоит самый очаровательный торговец оружием из всех, с кем мне приходилось когда-либо иметь дело, — сказал он по-французски, обходя вокруг стола и целуя ей руку. — Наверное, это почти удовольствие: быть застреленным из какой-нибудь вашей винтовки?
— Надеюсь, ваше превосходительство, никому из нас не доведется испытать подобного удовольствия.
Полковник Ариф все еще стоял в дверях. Вдруг рядом с ним появилась очень хорошенькая молодая женщина, вся в черном. Она с интересом принялась рассматривать Диану.
— А, Фикри, — сказал Кемаль. — Это мадемуазель Рамсчайлд из Америки. Фикри моя двоюродная сестра. — «И любовница», — мысленно добавила Диана, которой приходилось слышать об этой турчанке. Гази быстро сказал что-то Фикри по-турецки, потом вновь обратился к Диане: — Я обратил ее внимание на ваше одеяние, поскольку вы, как я вижу, имеете хороший вкус. Это платье, если не ошибаюсь, сшито у знаменитой Шанель?
— Совершенно верно, ваше превосходительство, я удивлена вашей осведомленностью в таких вещах.
— Женская одежда интересует меня почти так же, как сами женщины. Я говорю о европейской женской одежде. Моя страна очень отсталая, мадемуазель. Еще не прошло двух лет с тех пор, как Фикри сняла чадру. Я стремлюсь к тому, чтобы моя страна совершила прыжок из XVII столетия в XX как можно скорее. Причем во всех отношениях, включая и моду. — Он повернулся к Фикри и снова что-то сказал ей. Она вышла из кабинета и увела с собой Арифа. — Фикри принесет нам кофе, потом мы поговорим об оружии. Я всегда говорил, что больше всего ценю в женщинах доступность. Но вы имеете то, что я ценю еще больше: оружие. Кстати, во всей Ангоре не найдется ни одного отеля, который было бы не стыдно предложить такой женщине, как вы. Смею надеяться, что вы удостоите меня чести быть сегодня вечером моей гостьей.
— Это как раз я почту за честь.
— Хорошо, тогда решено. Пожалуйста, садитесь. Насколько я понимаю, несколько дней назад вы были во дворце? Пытались продать свой товар султану?
— Откуда вы это знаете? — спросила Диана. Она села в кожаное кресло напротив Кемаля. Их разделял только небольшой восьмиугольный столик.
— Моя дорогая мадемуазель Рамсчайлд, практически все значительные константинопольские новости доходят до меня. Визиты во дворец, очевидно, не обошлись для вас без дачи взяток?
— Тысячу долларов. Бабур-паша просил еще тысячу. Знаете, я бы и ему заплатила, но у меня было подозрение, что это только начало. Я не прочь иногда «подмаслить» кого нужно. В моем деле без этого не обойтись. Но всему есть предел.
Кемаль улыбнулся:
— Хорошо. Мне это нравится. Весь двор султана коррумпирован невообразимо. Коррумпирована вся система. Султан приговорил меня к смертной казни. Но это все равно как если бы заключенный осудил начальника тюрьмы. Для того чтобы иметь дело со мной, вам не придется расточать взятки, мадемуазель. Лгать я вам тоже не стану. В оружии я нуждаюсь. Репутация вашей фирмы мне известна. Мы можем заключить сделку. Думаю, эта поездка обернется для вас выгодой. Кстати, мне никогда не приходилось летать на самолете. Страшно?
— И не говорите, — улыбнулась она. — Но мне жутко понравилось.
Его глаза стали шире.
— Вы мне нравитесь, мадемуазель, — сказал он негромко. — При вас ум, при вас мужество. И все это в такой восхитительной оболочке. Весьма рад, что вы у меня в Чанкайе.
В кабинет вернулась Фикри. В руках у нее был эмалированный поднос, на котором стояли две изящные кофейные чашки, красиво расписанный кофейник, пиала с розовым медом и тарелка со сдобными булочками. Она молча поставила поднос на стол, быстро взглянула на Диану и затем вышла из кабинета.
Фикри прекрасно знала, к чему все идет.
— Значит, вы не были еще замужем, мадемуазель, — сказал Кемаль тем вечером, когда они ужинали вдвоем у него в кабинете. Комната была освещена масляными светильниками, и приятный ветерок залетал в раскрытые окна. За столом им прислуживала Фикри. Кемаль уже выпил очень приличную дозу жгучей ракии, но пока что ее воздействие никак не проявилось. — Вы когда-нибудь любили?
— Однажды, — ответила Диана, разрезая ножом превосходную баранину. — Я любила человека, которого теперь ненавижу.
— Вы восхищаете меня. Я тоже умею ненавидеть. Ненависть, как и любовь, может быть прекрасной. Но почему вы его ненавидите?
— Он соблазнил меня, сделал предложение, а в итоге женился на другой.
— Это серьезная причина для ненависти.
— К тому же из-за него умер мой отец.
— Эта причина еще серьезнее. Он убил его?
— Можно сказать и так. Он спровоцировал у отца вспышку гнева, которая стала причиной смертельного приступа. Я поклялась отомстить и когда-нибудь отомщу.
— Но к чему ждать? За все то, что этот человек сделал с вами, он заслужил смерть. Каждый лишний день его жизни — это надругательство над памятью вашего отца.
Она внимательно посмотрела на него. Кемаль чистил персик.
— М-м… но я не имела в виду, что собираюсь убить его.
— Всякое другое наказание было бы неадекватным. Смерть за смерть. Я убил многих людей. Порой сделать это нелегко, но необходимо. Когда вы узнаете войну так хорошо, как узнал ее я, мадемуазель, вы поймете, насколько дешево стоит человеческая жизнь.
— Да, но… помимо всего прочего в Америке нельзя просто прийти к обидчику и заколоть его кинжалом. У нас есть электрический стул, садиться на который у меня нет никакого желания.
— Дорогая мадемуазель, вы рассуждаете по-дилетантски, — сказал он терпеливо, словно объясняя ребенку какие-то прописные истины. — Для такой работы вы нанимаете профессионального убийцу. В Константинополе, в этом продажном городе, проживают десятки наемников, адреса которых я мог бы вам дать. Если вы оплатите стоимость их проезда до Америки и назначите приличное вознаграждение, они с радостью убьют этого человека. Кстати, как его имя?
— Флеминг, — задумчиво ответила Диана. — Ник Флеминг. Теперь он живет в Голливуде. Купил киностудию.
— Голливуд! — воскликнул Кемаль-паша и расхохотался. — Да ради одной только возможности побывать в Голливуде эти ребята убьют вам его бесплатно!
Он наполнил свой стакан еще одной порцией ракии, выпил одним духом и поднялся из-за стола.
— Я здорово напился, — объявил он. — Мне нужно отправляться в постель. Подумайте над тем, о чем я вам говорил. Великая истина жизни заключается в том, что либо вы управляете ею, либо она управляет вами. — Он обогнул стол, приблизился к ней и взглянул на нее сверху вниз. — Сегодня я купил у вас приличную партию оружия, мадемуазель. Я оказался хорошим покупателем. Я никогда не спал с американкой. Буду счастлив, если вы пожелаете прийти ко мне в спальню. Она находится наверху, в конце коридора.
Он поднес ее руку к своим губам и поцеловал не спуская с нее своих синих глаз. Затем он отпустил ее руку и вышел из кабинета.
Спустя минуту вошла Фикри и молча стала убирать со стола. Она взглянула на Диану, и той стало не по себе.
Ей стало интересно, о чем думает сейчас эта красивая молодая турчанка в черном.
Мустафа Кемаль-паша, один из самых влиятельных и могущественных людей в Турции, сидел обнаженный на краешке своей кровати и гадал, придет ли к нему американка. Америка была для него мифом и загадкой. Он люто ненавидел Вудро Вильсона, который на Версальской конференции после войны проявился как враг Турции. Но Кемаль от души смеялся над комедиями Чарли Чаплина. Диана Рамсчайлд ему понравилась. Она была не только умна и красива… Она умела ненавидеть. Он склонялся к тому, что она умела и любить.
В дверь тихо постучали.
— Входите, — сказал он по-французски.
Дверь открылась. Диана вошла в спальню. На ней был пеньюар из белого газа, сквозь прозрачную ткань которого при мягком свете лампы Кемалю было видно ее изумительное тело. Она закрыла за собой дверь и взглянула на его наготу. Он протянул к ней руки, и она приблизилась, расстегнув пеньюар и бросив его на стул у кровати. Спальня была обставлена просто: грубая деревянная мебель, старомодная медная кровать, над которой на стене висела фотография матери Кемаля. Женщина в крестьянской одежде сидела перед фотокамерой, прямо и сурово глядя в объектив. Застекленная дверь выводила на балкон, нависавший над крыльцом дома, где несли караул лазы-телохранители.
Кемаль положил руки ей на бедра и уткнулся лицом в ее мягкий живот, целуя нежную кожу. Сильные пальцы сжимали ее ягодицы. Она поцеловала его в голову, наслаждаясь лаской его сильных рук. Затем он мягко положил ее на кровать рядом с собой.
— Ханум, — прошептал он, лаская ее грудь. — Это значит, что ты моя душа, моя любовь. Скажи: ханум.
— Ханум, — прошептала она, и это красивое, ароматное, как жасмин, слово вдруг наполнило все ее мысли. Мустафа Кемаль был одним из самых интересных мужчин, которые ей когда-либо встречались. Это был первый после Ника человек, которым она увлеклась. Его власть, цинизм, безжалостность волновали. Они были похожи. Да, она его душа, а он ее душа.
Когда они насытились любовью, она прошептала:
— Я хочу знать адрес самого лучшего наемного убийцы, которого ты знаешь.
Он рассмеялся и поцеловал ее в щеку.
— Я знал, что ты спросишь об этом, — сказал он. — Я не был уверен, придешь ты ко мне в спальню или нет, но знал наверняка, что ты спросишь об убийце. Потому что ты сама, как и я, в душе убийца.
Эти слова должны были вроде оскорбить ее. Но нет, она только почувствовала, как мурашки пробежали по телу от удовольствия.
В последующие несколько дней ощущение счастья только нарастало. Она рассталась с Ником вот уже шесть лет назад, но до сих пор ей все не удавалось до конца избавиться от страсти, которую она питала к нему. Ей часто снились Коннектикут и тот пляжный домик, где она впервые познала любовь. Но теперь на глазах Кемаля ее страстная любовь переросла в равную по страсти ненависть. Ее охватила жажда мщения за то, что Ник отверг ее. Кемаль убедил ее в том, что единственным логичным и достойным наказанием за все, что принес Ник семье Рамсчайлдов, будет смерть.
По окончании переговоров с Кемалем о покупке оружия она улетела обратно в Константинополь, чтобы сделать необходимые приготовления относительно транспортировки товара. После этого она обещала своему новому возлюбленному вернуться. В Константинополе она снова остановилась в отеле «Пера-палас» и в первый же день взяла такси, попросив отвезти ее в один из самых древних кварталов города. Она ехала по адресу, который ей дал Кемаль, сказав, что по нему проживает некий Лысый Али.
— Его отец и дед были палачами у султанов, — говорил Кемаль. — Эта семья из поколения в поколение растит наемных убийц. Для них это только бизнес. Если им хорошо платят, они гарантируют результат. Как только ты сговоришься с Лысым Али, можешь считать, что твой враг уже мертв.
Улочка была узкой и грязной, по ней катили телеги, запряженные ослами, толкались прохожие, уличные торговцы, дети. Она велела таксисту подождать ее и направилась к деревянной двери какого-то бесформенного старого дома. Позвонила. Дверь открыла сгорбленная старуха, лицо которой было закрыто чадрой. Лет ей было, наверно, не меньше чем дому. Старуха с подозрением оглядела изящно одетую американку. Диана вручила ей письмо, которым ее снабдил Кемаль. Старуха прошамкала что-то по-турецки и захлопнула дверь. Спустя несколько минут дверь вновь отворилась, и старуха кивнула Диане, чтобы та вошла в дом.
Она оказалась в комнате, убранной в типичной и древней турецкой манере. Великолепный красочный ковер, оттоманки и повсюду разбросанные цветастые подушки. Несмотря на то, что дом находился отнюдь не в фешенебельном квартале города, было сразу видно, что деньги у наемника водились. Следуя за старухой, Диана прошла еще две комнаты, а при приближении к кухне до нее долетел аромат приготовляемой баранины. Наконец в четвертой комнате старуха оставила Диану. На диване сидел невероятно толстый и совершенно лысый человек. На нем был халат с кушаком и туфли из красного бархата. Он курил сигарету, закрепленную на кончике длинного и черного лакированного мундштука. Он некоторое время молча изучал Диану своими маленькими поросячьими глазками, затем вынул мундштук изо рта и, не вставая, сказал по-французски:
— Меня зовут Лысый Али. Добро пожаловать в мой дом. У вас есть фотокарточка этого человека, Флеминга?
Все эти годы Диана аккуратно вырезала все, что попадалось о Нике в прессе. Она раскрыла свою сумочку, вытащила из нее вырезку из «Нью-Йорк таймс» и протянула ее Лысому Али.
Тот изучил ее, попыхивая мундштуком. Потом вновь поднял глаза на Диану:
— Мустафа Кемаль указал в своем письме примерную цену, но она слишком мала. Моя цифра такая: тысяча фунтов стерлингов плюс текущие расходы. Торговаться я не буду.
— Какие у меня будут гарантии?
— Мое слово, мадам, и репутация моей семьи.
Диана не сразу задала следующий вопрос:
— Как… это будет сделано?
— Вам незачем это знать. Главное: этот человек будет мертв. По рукам?
Диана вспомнила переживания своей первой любви, тот экстаз, который дарили ей поцелуи Ника, свою агонию в лечебнице в дни кризиса, свой гнев и свою ненависть. Она вспомнила тот свой последний взгляд, который бросила на него в номере «Савоя» в тот день, когда умер ее отец.
— По рукам, — сказала она.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВОРОБЬИНЫЕ ТРЕЛИ
Хэррит Спарроу
Весь Голливуд только и говорит что о знойных любовных сценах, отснятых на студии «Метрополитен пикчерз» для картины «Юность в огне»! Говорят, что даже линзы камер, используемых при крупных планах с Родом Норманом и Эдвиной Флеминг, женой Ника Флеминга, запотевали! Норма Норман и Ник Флеминг смеются над предположениями о том, что это нечто большее, чем просто игра актеров. Но сдается мне, что дыма без огня не бывает.
Эдит Клермонт отшвырнула от себя газету и сказала мужу:
— Ван, как ты мог напечатать такую галиматью?
Ван отставил в сторону чашку с кофе. Они сидели в столовой своего дома в Сэндс-пойнте и завтракали.
— О какой галиматье ты говоришь?
— О колонке Хэррит Спарроу. Она уже до того дошла, что пишет, будто бы у Эдвины есть что-то с Родом Норманом! И ты это напечатал! Подумай о том, что будет чувствовать Ник, не говоря уже об Эдвине!
— Это называется рекламой, Эдит. Ник, возможно, сейчас отплясывает джигу. Всякое упоминание о картине в материалах Хэррит Спарроу — это дополнительно проданные билеты.
Эдит было уже пятьдесят три, и ее волосы подернулись сединой. Слова мужа ее не убедили.
— По-моему, это верх цинизма, Ван, — сказала она.
— Кинобизнес — циничное занятие. И потом твой Ник уже не бойскаут.
— Эта твоя реклама просто непристойна! — продолжала Эдит. Она вздохнула. — Наверное, я несовременна. Я все время говорила, что тебе пора бросить журналистику.
— К счастью, мои тиражи сейчас таковы, что твои уговоры звучат неубедительно.
Она помолчала, а потом, понизив голос, спросила:
— Ван, а как ты думаешь, это правда?
Ее муж пожал плечами.
— Лучше не спрашивай, — попросил он.
Но об этом спрашивала уже вся Америка.
Дуглас Фэрбенкс и Мэри Пикфорд зарабатывали по двадцать тысяч долларов в неделю на каждого. Глория Свенсон получала за тот же срок семь тысяч. Род Норман, хотя еще и не считался достигшим их уровня, обходился Нику в пять тысяч долларов в неделю, а поскольку налоги были невелики, Род чувствовал себя богачом, чем и хвастался постоянно перед друзьями во время попоек. Год назад он купил дом, выстроенный в стиле французского шато и находившийся меньше чем в миле от «Каса энкантада». Шато насчитывал тридцать комнат, включая две круглые, располагавшиеся в двух крайних башнях. Род и Норма использовали круглые комнаты как спальни. Перед домом были теннисный корт и плавательный бассейн, как это и заведено у богатых людей. Род оборудовал в подвале также тренажерный зал, чтобы постоянно поддерживать в форме свое мускулистое тело, которое, как он хорошо знал, добывало ему хлеб насущный. В его распоряжении были туристский автомобиль «гиспано-сюиза» с плетеными бортами, синяя спортивная машина «бугатти» и цвета слоновой кости «изотта-фрасчини». Двадцать семь костюмов, сшитых на заказ, пятьдесят две пары обуви, а свои сорочки, надев только один раз, он отдавал благотворительным организациям, экономя таким образом на прачечной, как он всегда шутил. Обо всем этом, затаив дыхание, рассказывали кино-журналы. Эта информация подавалась как необычайно важная для жизни страны, и фэны носились с ней, словно это была манна небесная. Один фэн-клуб из Таксона прислал Роду письмо, подписанное пятьюдесятью шестью девушками, в котором высказывалась просьба прислать им локон его волос… с лобка.
Норма Норман, которая была на шесть лет старше своего знаменитого мужа и работала высокооплачиваемым костюмером на «Парамаунт пикчерз», была не из тех женщин, которые долго выбирают слова.
— Так ты отделал ее или пока не успел? — спросила она, спустившись в его тренировочный зал, где он как раз подтягивался на перекладине.
— Кого?
— Эдвину Флеминг, кого же еще? Это в сегодняшней статейке Хэррит Спарроу… Как твоя жена я проявила к этому легкий интерес. Знаешь, если еще хоть один недоносок у нас на «Парамаунте» спросит меня о тебе и о ней, меня вырвет.
Отец Нормы Норман был банкиром из Канзас-сити. Она приехала в Голливуд в 1915 году, чтобы стать актрисой. Лицо и фигура к этому располагали: хрупкое сложение, пять футов восемь дюймов роста, ослепительно белая кожа, черные с блестящим отливом волосы. Но, увы, слишком мало актерского таланта. Она познакомилась с Родом на съемках одного вестерна, где им обоим достались эпизодические роли. Они поженились. Норма оставила съемки, чтобы стать костюмером. Скоро она обнаружила, что в выборе профессии не ошиблась. Пока Род пытался пробиться в различные картины, они жили на ее зарплату. Он отблагодарил ее за это скандальными изменами. Любовь Нормы обратилась в горечь, а горечь в презрение. Она не ушла от него до сих пор только потому, что ей было выгодно оставаться «миссис Норман». Близость их отношений характеризовалась ярче всего их отдельными спальнями, которые располагались в двух башнях в противоположных концах дома.
Род спрыгнул с турника и вытер лицо полотенцем.
— Ну так как? — спросила опять Норма. — Ответишь мне или нет? Мне хочется это узнать, чтобы сделать еще одну запись в книге твоих побед.
На ней был цветастый комбинезон, что выдавало ее претензию на художественный вкус. Черные с отливом волосы держались розовой атласной лентой, которая, как считалось, снимала головную боль.
Род вытер свою бритую грудь и сказал:
— Естественно, у меня ничего с Эдвиной нет.
— Так сразу и поверила.
— Эдвина — леди, впрочем, тебе это слово незнакомо. К примеру, она никогда бы не позволила себе сказать «отделал». Порой мне кажется, что я женился на портовом грузчике.
— Ах ты дерьмо! Я буду рада, когда закончатся съемки этого гнусного фильма! Я имею в виду нашу семейную жизнь. Надоело играть роль бедной жены, которой постоянно изменяют! — Она бросила на него исполненный презрения взгляд и стала подниматься по лестнице. — Если б не твоя внешность, тебя взяли бы разве что в мусорщики!
— Спасибо.
— Не за что, милый!
Когда за год до этого был опубликован роман «Юность в огне», он стал общеамериканской сенсацией и, являясь лишь чуть завуалированной порнографией, разошелся тиражом в миллион экземпляров. Американские женщины только-только получили все права, и образ Лоры Харди, которая страстно полюбила, возжелала Бэка Рэндольфа, обращавшегося с ней, прямо скажем, не по-джентльменски, задел за живую струну. Лора Харди неистово цепляется за свою добродетель, но потом все равно отдается страсти. Именно это воспитывала джазовая эпоха, эпоха «смелой, лишенной условностей молодой женщины 20-х». Кульминационная сцена книги развивается в борделе под Хартфордом, куда Бэк пришел для того, чтобы снять сексуальное напряжение. Лора узнает о местонахождении Бэка, и ее охватывает благородное желание спасти любимого от «судьбы, которая хуже смерти». Бесстрашная девственница бросается в этот бордель, чтобы вытащить оттуда Бэка. Пьяный и раздетый Бэк шляется вокруг борделя, убивая время в обществе тамошних девочек и не в настроении выслушивать нотации Лоры. Завидев ее, он сначала жестоко унижает девушку, а потом пытается изнасиловать. Честь Лоры спасена лишь благодаря вмешательству одной из шлюх, у которой оказалось золотое сердце.
Для 1922 года это было круто. Именно поэтому «бордельная сцена», как ее назвали, стала гвоздем всей кинопостановки. Обычно Род с нетерпением ждал съемок в подобных сценах хотя бы потому, что это давало ему возможность показать перед камерой как можно больше своего обнаженного тела. Из тысяч и тысяч писем своих фэнов он знал, что именно этого от него ждут женщины. Однако в тот день, примчавшись к шести утра на киностудию в своей гигантской «гиспано-сюизе», он был как-то скован и терзался нехорошими предчувствиями.
Дело было в том, что до сих пор, несмотря на все сплетни, Род вел себя с партнершей по съемкам как истый джентльмен, а Эдвина вела себя как истая леди. Однако, когда нужно было целоваться с ней, Род чувствовал, что она возбуждается, и понимал, что это не просто актерская игра Род обладал слабым зрением, но был чванлив и не желал носить очки. В результате на съемочной площадке резкий свет прожекторов фирмы «Клиг», которыми тогда пользовались киностудии, почти полностью ослеплял его. Единственное, что он мог рассмотреть хорошо, были женщины, которых он целовал в крупных планах. А его широко раскрытые якобы от любви, а на самом деле от слабого зрения глаза только добавляли ему успеха. Держа в своих объятиях и целуя Эдвину, он чувствовал поднимающееся в себе сексуальное возбуждение, которое также не было просто игрой. Недавние постановления цензурного комитета предписывали ограничивать киношные поцелуи десятью футами пленки, но эти десять футов неизбежно получались знойными. День ото дня влечение Рода и Эдвины друг к другу возрастало, а ледяные взгляды, которые бросал в их сторону Ник Флеминг, вызывали на лбу Бэка Рэндольфа преждевременную испарину. Он считал, что у Ника хватит ума не пристреливать его. И все же он нисколько не сомневался, что бывший делец в области военного бизнеса с оружием на «ты». Род не хотел рисковать и потому решил и впредь на съемках оставаться джентльменом с Эдвиной.
Несмотря на его мрачные предчувствия, съемки знойной бордельной сцены прошли гладко. По их окончании Эдвина сказала Роду:
— Кстати, Ник просит тебя заскочить к нам домой, если сможешь.
— Конечно, а когда?
— Когда сможешь. Да хоть после съемок.
— Не знаешь, о чем пойдем разговор?
Она очаровательно улыбнулась.
— Понятия не имею. — И ушла в свою гримерную.
Род нервно подумал о пистолете Ника, но тут же попытался убедить себя в том, что опасаться нечего. Вел он себя очень прилично, как джентльмен.
Однако, подъехав к крыльцу этого большого испанского дома, он почувствовал, что тревога вновь вернулась к нему. Что-то ему здесь было не по себе. Успокаивая себя мыслью о том, что у него попросту разыгралось воображение, он вышел из машины, поднялся на крыльцо и позвонил.
Дверь открыла Эдвина. На ней был синий атласный домашний халат.
— У слуги сегодня выходной, — сказала она, улыбаясь. — Заходи.
Род прошел в большой холл с тяжелым светильником, свисавшим с потолка.
— Где Ник? — спросил он.
Эдвина закрыла за ним дверь.
— В Санта-Барбаре, — ответила она. — По поводу виноградника, который он купил. До завтра не вернется.
Лицо Рода изумленно вытянулось.
— Что за шутки?
— Миссис Драммонд взяла детей на празднование дня рождения у соседей, а слуг я отпустила отдыхать. Кроме нас тут никого нет.
Испарина выступила у Рода на лбу.
— Послушай, Эдвина, мне кажется, что ты затеяла что-то не то…
Она подошла к нему и накрыла его рот рукой.
— Я люблю своего мужа и никогда ему не изменяла. Но эти любовные сцепы с тобой сводят меня с ума. Я хочу сделать это раз. Только один раз. Чтобы успокоиться в отношении тебя. Никто никогда не узнает.
— Никто никогда не занимался этим один раз…
— Я буду первой. Поверь мне и не заставляй упрашивать тебя.
И снова он подумал о пистолете Флеминга. Потом вздохнул.
— Ладно, я и сам ждал этой минуты несколько недель. — С этими словами он обнял и поцеловал ее.
— Наверх, — прошептала она. — В гостиную.
Они стали подниматься по большой лестнице.
Съемки «Юности в огне» были окончены 3 августа 1922 года, и Рэкс Симпсон сразу же приступил к решению многотрудной проблемы монтажа картины с тем, чтобы ее пропустила в прокат цензурная комиссия. В полном виде фильм мог выйти на экраны Европы и Южной Америки, где цензурный кодекс не действовал. Забота о целомудрии проявлялась лишь в отношении американского зрителя. Род взял недельный отпуск и отправился на озеро Тахо, а после явился к Фоксу, чтобы взяться за новую работу в фильме «Неприятности на Самоа». У него не было никаких известий от Эдвины, и он уже начал думать о том, что, возможно, она на самом деле говорила серьезно насчет «одного раза». В постели с ней он получил, как и ожидал, огромное наслаждение. Вспоминая начало их знакомства, когда она показалась ему холодной рыбиной, он теперь только смеялся над собой. Ему хотелось повторить то удовольствие, но сам он инициативы не проявлял, так как все еще боялся пистолета Ника. Но зато он думал о том, что будет делать, если инициативу проявит она.
Но она все не проявляла. Не проявляла вплоть до Дня Труда — первый понедельник сентября, когда позвонила ему в гримерную.
— Род, это Эдвина.
У него участилось сердцебиение.
— Привет. — Таков был вялый ответ Американской мечты.
— Сегодня вечером ты должен прийти к нам. Случилось нечто ужасное.
— Что?
— Это не телефонный разговор.
— Где Ник?
— Сегодня он допоздна на студии. Просматривает с Рэксом окончательный вариант. Будь у нас в восемь. Прислугу я отпущу.
Она повесила трубку.
Ветер, налетевший со стороны Санта-Аны, превратил Лос-Анджелес в сущий ад. Род гнал свою «изотту-фрасчини» в Голливуд-хиллз. Вдоль дороги росли перцовые деревья, завядшие от зноя. По крыше и капоту барабанили срываемые ветром стручки. Уютные бунгало Лос-Анджелеса словно съежились перед лицом бури. В Голливуд-хиллз, когда начались дома киношников, Роду показалось, что будто бы стало прохладнее… Или это были его мрачные предчувствия? Десятки возможных развитий сюжета проносились у него в мозгу, но самым страшным был тот, где возникает конфликт с взбешенным Ником Флемингом, который поднимает пистолет и целится Роду в голову…
«Нет, — говорил он себе. — Этого не будет. Так не бывает!»
Но он прекрасно знал, что бывает.
Полгода назад в кабинете своей квартиры, что на Альварадо-стрит, в самом тихом лос-анджелесском районе Вест-лэйк, был застрелен кинорежиссер Уильям Десмонд Тейлор. Убийство, которое так и не было раскрыто, оборвало жизнь и карьеру Мейбел Норманд и Мэри Майлс Минтер. Скандальное происшествие замешали на сексе и наркотиках, а сосед сообщил, что будто бы видел мужчину «с женской походкой», вышедшего из квартиры как раз после того, как в ней прозвучали роковые выстрелы. Реальная жизнь Голливуда могла быть более трагичной, чем сюжеты фильмов, которые снимались здесь.
Солнце начало садиться, когда Род притормозил перед крыльцом «Каса энкантада». Длинные тени пальмовых деревьев ползли по лужайкам, саду и окунались в огромный бассейн. Род поднялся на крыльцо. Дверь ему открыла Эдвина. Только теперь вся ее английская красота дышала холодом.
— Спасибо, что пришел, — сказала она, пропуская его в дом и закрыв за ним дверь. — Пойдем в библиотеку.
— Что стряслось-то? — спросил он, следуя за ней по выстеленному синей плиткой холлу.
— Говори тихо. Миссис Драммонд наверху с детьми. Я не хочу, чтобы она знала, что ты был у меня.
Она открыла дверь в библиотеку и вошла внутрь. Это была небольшая уютная комната с круглым, в мексиканском стиле, камином в углу. На террасу вели высокие застекленные двери. Эдвина первым делом задернула их тяжелыми шторами из красного бархата. Затем она включила свет.
— Прости мне мою мелодраматичность, — начала она. — Но я считаю, что ты должен об этом знать. Я беременна. От тебя.
Он упал в кожаное кресло.
— От меня?! Но ведь всего один раз! Хватит заливать!
— Милый, это мог быть только ты или Ник. А Ник после рождения Эдварда пользуется презервативом, так как мы решили, что пока детей нам хватит. Я беременна от тебя, Род.
— Боже… мне надо выпить.
— Конечно. Я тебе налью. Виски?
— Да, бурбон и воду. Ник уже знает?
В библиотеке был большой книжный шкаф. Эдвина нажала какую-то кнопку, и открылся зеркальный бар. Она приготовила ему виски с водой.
— Да, — сказала она. — Я все рассказала ему прошлой ночью. Он пришел в такую ярость!.. Я была потрясена, можешь мне поверить.
— Ты сказала ему, что это… от меня?
— Он сам догадался. А мне глупо было отрицать, посуди сам.
Род застонал:
— Вот спасибо! Теперь он пристрелит меня.
— Не будь дураком, милый.
— Дураком? Это ведь ты говорила, что, если я начну к тебе приставать, он вышибет из меня мозги!
— Я преувеличивала. На, выпей.
Он взял стакан и выпил его залпом.
— Позже он немного успокоился, — продолжала она. — Он понял, что в наших с ним интересах держать всю историю в секрете. Вспомни, что болтали о нас, когда шли съемки любовных сцен. Если выяснится, что мы и вправду занимались любовью, цензурный комитет взбесится.
— Ну хорошо, и что ты собираешься делать? Надеюсь, аборт?
Она посуровела:
— Вовсе нет! Я никогда не убью собственного ребенка! Нет, мы с Ником договорились, что я рожу, а он будет воспитывать его как своего. Но я настояла на том, чтобы ты тоже знал. Думаю, так будет только справедливо по отношению к тебе.
Род достал из кармана носовой платок и протер им влажный лоб.
— Слушай, может, ты впустишь сюда хоть немного свежего воздуха?
— А, прости. Здесь душно, да?
Она отдернула шторы и открыла двери на террасу, впуская в комнату легкий ветерок.
— Ну что же, я рад, что ты сказала мне, — проговорил Род. — По крайней мере, мне кажется, что я рад. И еще мне кажется, что вы придумали самый удобный способ выхода из ситуации, только…
В двери библиотеки постучали.
— Черт, — пробормотала Эдвина. Она подошла к двери и чуть приоткрыла ее. — Да?
Род расслышал тонкий женский голос с английским произношением и понял, что это няня.
— Чарльз опять начал кашлять, — говорила она. — Я измерила температуру. У него небольшой жар. Может, позвать доктора Треверса?
— Сначала я сама поднимусь и посмотрю.
Она прикрыла дверь и прошептала Роду:
— Оставайся здесь. Я сейчас вернусь.
С этими словами она вышла из библиотеки. Род закурил сигарету, налил еще виски, затем подошел к дверям, ведущим на террасу, чтобы полюбоваться небом, окрашенным в оранжевые и красные цвета заходящим солнцем.
Эдвина и миссис Драммонд уже поднялись наверх, когда вдруг услышали выстрелы. Три быстрых выстрела, после которых наступила тишина.
— О Боже! — воскликнула Эдвина.
Крикнув миссис Драммонд, чтобы та оставалась на месте, Эдвина бросилась по лестнице вниз, перебежала холл и распахнула дверь библиотеки.
Род лежал на боку перед дверями, ведущими на террасу, к Эдвине спиной. Она бросилась к нему, опустилась на колени и замерла, боясь дотронуться до него.
— Род…
Молчание.
Она поднялась и переступила через него. Только теперь она увидела кровь на его рубашке, которая вытекала из дырки во лбу.
— Он мертв, — прошептала она самой себе, все еще не будучи в силах поверить в случившееся.
Вдруг она подумала о том, что убийца может стоять прямо у нее за спиной. Похолодев, она повернулась лицом к террасе. Вечернего света было еще достаточно для того, чтобы разглядеть, что терраса пуста.
И тогда ей пришла в голову страшная мысль: неужели это сделал Ник?
ВОРОБЬИНЫЕ ТРЕЛИ
Хэррит Спарроу
Голливуд, который уже претерпел за этот год несколько диких скандалов, теперь потрясен еще одним. Новый скандал может затмить собой убийство режиссера Уильяма Десмонда Тейлора и, как принято считать, изнасилование и убийство комиком Толстяком Арбаклом талантливой молодой актрисы Вирджинии Рапп. Вчера вечером в доме продюсера и владельца студии «Метрополитен пикчерз» Ника Флеминга был застрелен Американская мечта Род Норман. Ваш корреспондент, будучи оперативно оповещенной лос-анджелесской полицией, прибыла на место преступления немногим позже половины десятого. «Каса энкантада», этот испанский особняк босса студии Флеминга, был битком набит полисменами и репортерами. Эдвина Флеминг, очаровательная жена-англичанка Ника Флеминга и партнерша Рода Нормана по еще не вышедшему на экраны, но уже нашумевшему фильму «Юность в огне», находилась наверху в своей спальне и ни с кем не общалась. Очевидно, прелюдией к драме стало приглашение Эдвины к Роду навестить ее в «Каса энкантада». Что послужило причиной приглашения — пока неизвестно. Они как раз находились в библиотеке, когда Эдвину позвала наверх няня. Поднимаясь по лестнице, женщины услышали три выстрела. Эдвина бросилась обратно в библиотеку, где и обнаружила тело Рода на полу. Видимо, убийца заранее пробрался в сад или на террасу, где и ждал своего часа. Однако пока полиция не представляет себе, кто это был и какие у него были мотивы для совершения столь жестокого преступления. Ник, который находился в то самое время в монтажной своей студии вместе с Рэксом Симпсоном, сообщил только, что он потрясен убийством, которое кажется ему «абсолютно бессмысленным». Вдову Рода красавицу Норму Норман отыскать для интервью не удалось.
— Зачем ты его сюда позвала? — кричал Ник уже, наверное, в десятый раз. Было четыре часа утра. Полиция наконец оставила их в покое, тело убрали, судебные фотографы отщелкали свои последние снимки, и впервые за много часов «Каса энкантада» вновь стал похожим на дом, а не на проходной двор.
Ник находился с женой в их спальне. Эдвина лежала на покрытой шелковым покрывалом кровати и рыдала. Ник в красном атласном халате ходил взад-вперед у изголовья кровати. Он допрашивал свою впавшую в истерику жену вот уже полчаса.
— А зачем ты убил его? — крикнула в ответ Эдвина.
Ник застыл на месте и уставился на нее:
— Я?! Так ты думаешь, что это я его убил? Я был в миле от нашего дома, сидел в студии вместе с Рэксом Симпсоном!
— Откуда я знаю, что ты не лжешь?
— Спроси Рэкса! С какой стати мне было убивать Рода Нормана?
— Потому что ты ревновал! — истерично вскрикнула Эдвина и вновь ударилась в слезы. Обычно уравновешенная и холодная, теперь Эдвина потеряла над собой контроль. Лицо актрисы было залито слезами, и под глазами набухли мешки. Тесемка ее ночной рубашки слезла и оголила плечо. Она свернулась калачиком в самом центре постели, словно загнанное животное.
Ник подошел к кровати и крепко схватил ее за руку.
— Он был твоим любовником? — прошептал он. — У меня была реальная причина для ревности?
Она не ответила. Ник сел рядом и сильно встряхнул ее.
— Он был твоим любовником? — повторил он.
Молчание.
— Какого черта он делал здесь вчера вечером? — кричал Ник, тормоша жену за плечи.
— Хорошо! Я скажу тебе правду.
Она решительно оттолкнула его, села на кровати и вытерла слезы.
— Я позвала его, чтобы сказать, что ношу его ребенка!
— О Иисус! — простонал Ник. — Значит, это правда…
— Всего один раз! Я спала с ним только один раз, Ник! Клянусь! Это все из-за репетиций, от которых я просто чуть с ума не сошла. Словом, недели четыре или пять назад, когда ты уехал в Санта-Барбару, я позвала его сюда. Он был страшно испуган, боялся, что ты пристрелишь его, но в конце концов… я ему тоже нравилась. Мы сделали это, и, не буду лгать, я получила удовольствие. Но только потому, что он так похож на тебя, Ник! Только ты гораздо лучше!
— Спасибо за комплимент.
— Это правда, Ник. По крайней мере, я успокоилась насчет него. Сняла напряжение.
— Ты говоришь об измене так, словно это клизма.
— Возможно! Беда в том, что одного раза хватило для того, чтобы забеременеть.
— И ты думаешь, я в это поверю?
— Но это правда! Вчера вечером, когда я сказала Роду о беременности, он же поверил! — Она стала массировать пальцами виски. — О Боже, что я наделала! Я лгала тебе, лгала ему…
— Но ты сказала только что, что открыла ему всю правду?
— Я открыла ему лишь полправды. Я сказала еще, что ты все знаешь, что мы договорились с тобой иметь этого ребенка, которого ты будешь воспитывать как своего собственного!
— Эдвина, ты меня изумляешь! Зачем ты ему это наговорила?
— Потому что я была в отчаянии! Я боялась рассказать тебе всю правду и сначала хотела опробовать ее на Роде… О, Ник, прошу, прости меня! Я знаю, что поступила отвратительно, но на съемках я испытывала такое напряжение, пытаясь сделать все для успеха картины! Я же знала, как он для тебя важен, этот фильм. И для меня. Прошу, прости. Пожалуйста!
— Ага, значит, чтобы сиять напряжение, ты решила лечь в постель с партнером?
— Это было ошибкой! Я признаю это! Я никогда не претендовала на совершенство. Но ведь, в конце концов, это ты приклеил меня к нему! Если любишь — простишь.
Он смотрел на нее, и ярость и отвращение боролись в нем с настоящей любовью к ней. До сих пор он старался верить ей. Но она предала эту веру, и ему было обидно. В Голливуде супружеская измена давно стала образом жизни, но у Ника были свои, старомодные представления о семье. Он считал, что его жена должна быть не такой, как все здесь, его жена должна сохранять ему верность. Он знал, что простит ее, ведь фактически у него не было другого выбора. Если между ним и Эдвиной возникнет конфликт, пресса и все остальные тут же скажут, что его жена была любовницей Рода. Он ее простит, но прежней веры уже не будет.
— Хорошо, — сказал он устало. — Я простил тебя.
— О Ник, милый!
Она бросилась ему на шею и стала страстно целовать.
Он чуть отстранил ее.
— Что с этим… с ребенком? — спросил он.
— Я рожу его, хорошо? Никто и знать ничего не будет, ведь Род-то мертв!
— Пожалуй, ты права. Это бред, но другого выхода я что-то не вижу. — Ник вспомнил своего первого сына, который так и не появился на свет из-за того, что Диана сделала аборт. Он вспомнил свой гнев и горечь по этому поводу. Нет, никогда в жизни он не согласится на убийство еще одного ребенка, пусть и чужого. Эдвина родит малыша, и он, Ник, будет воспитывать его как своего.
— Никто не должен знать, что это не мой ребенок, — продолжал Ник. — Я буду его отцом, а не Род. Согласна?
Она ответила не сразу.
— А что же сам ребенок? Мы должны будем рано или поздно сказать ему, да?
— Нет! — сурово ответил Ник. На скулах его загуляли крутые желваки. Он вспомнил сейчас свою мать, свой ужас и стыд, когда он узнал, что является незаконнорожденным. Он решил, что никогда не даст испытать ребенку то, что испытал сам. Для внешнего мира семья Флемингов будет счастливой и единой, без малейшего намека на скандал. В детстве Ник не знал поддержки и защиты семьи. Ребенок Рода будет иметь всемерную поддержку и защиту.
Эдвина была не в том положении, чтобы спорить.
— Хорошо, — кротко согласилась она и снова поцеловала его.
— Но… — Он хотел что-то сказать, но замолчал.
— Что «но», милый?
— Но кто же убил Рода Нормана? И за что?
Она отстранилась, поправила волосы и проговорила:
— Думаешь, Норма?
ВОРОБЬИНЫЕ ТРЕЛИ
Хэррит Спарроу
Сегодня весь Голливуд оплакивает Рода Нормана. Тысячи обожающих его поклонников выстроились вдоль бульвара для прощания с величайшим кинолюбовником. Многие из них открыто рыдали, и это, возможно, лучший способ воздать дань любви дорогому актеру. Вся знать кинематографа пришла в Дельскую церковь, чтобы отдать дань уважения Роду, чье убийство три дня назад до сих пор является загадкой для полиции. Здесь были Чарли Чаплин, Дуг и Мэри, Глория Свенсон, Анна К. Нильссон, Руди Валентино, Констанция Талмедж, Род ла Рок, Назимова, Пола Нэгри — все пришли опечаленные и подавленные смертью, которая вырвала из их рядов одного из самых популярных актеров столицы кино в самом расцвете его сил и молодости. Вдова Рода, очаровательная и талантливая художница Норма Норман, показалась из лимузина с закрытым вуалью лицом. Эта вуаль скрыла от всех нас тяжкое горе вдовы. Все были восхищены мужеством, с каким она держалась. Были здесь и Флеминги, Ник и Эдвина, печальные и торжественно молчаливые. О, как бы мне хотелось проникнуть в их мысли! «Юность в огне» войдет отныне в историю как последний фильм Рода.
Симпатичная и маленькая Дельская церковь утопала в цветах! Это последние почести киномира человеку, который воплотил на экране так много романтических мечтаний. А в глубине храма, перед алтарем, в изящном белом гробу лежал сам Американская мечта. Я бросила прощальный взгляд на Рода. Как красив он был в своем прекрасно сшитом темно-синем костюме! В его застывших руках маленькая Библия. Его лицо — один из служащих похоронного бюро умело замаскировал пулевое отверстие во лбу — упокоилось в вечном сне, оно безмятежно, и на нем лежит печать суровой мужской красоты… Когда я вспомнила, как много минут счастья подарил он всем нам своими работами, я не смогла сдержать слез.
Снаружи мягко светило солнце в лазоревом небе, словно Господь лично открывал врата своей вечной обители ушедшему от нас великому актеру.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Они обрушились вниз с Анатолийских гор словно ураган.
В августе 1922 года долгожданное наступление кемалистских полупартизанских формирований на греческую армию наконец-то началось. Как и Кутузов, блестящий русский военачальник времен наполеоновских войн, Мустафа Кемаль-паша считал, что одним из главных его союзников является время. Он долго ждал, пока греческие солдаты заскучают и их боевой настрой сойдет на нет. Парадоксально, но огромную помощь Кемалю оказал командующий греческими войсками, толстяк и щеголь генерал Гаджанести, который как раз в то время — что было очень подходяще — стал сходить с ума. Пока его солдаты страдали то от холода, то от зноя, от пыли, недостатка в пищевом довольствии и вонючей питьевой воды, генерал заваливался в многочисленные кафе города Смирны, где напивался до беспамятства. Однажды ему почудилось, что он сделан из стекла. Проспав в постели ровно сутки, он боялся вставать, думая, что его ноги тут же разобьются на мелкие осколки. Имея столь тупое руководство, греческая армия очень быстро деморализовывалась, и в этом не было ничего удивительного. Когда греки увидели спускающихся на них с гор турок, они, плюнув на дисциплину, бросая по дороге оружие и технику, все без оглядки помчались в Смирну.
Кемаль не дал им возможности перегруппироваться. Он лично возглавлял свое войско, скакал на коне перед цепями наступающих турок, подбадривая их и крича до хрипоты:
— Нас ждет Средиземное море!
Это хорошо действовало. Начинавшие уставать турки обрели второе дыхание. В течение десяти дней отступление греческой армии превратилось в форменное бегство. За восемь дней бегущие греки преодолели расстояние в сто шестьдесят миль от Ушака до Смирны и моря и по истечении этого срока ворвались в этот средиземноморский порт. На пути своего отступления они повсюду сеяли смерть. Мстительные греки убивали подряд всех турок-крестьян. Турки платили им тем же. Кемаль своими глазами видел распятого на двери одной деревенской хижины греческого солдата. Его тело бессильно повисло на гвоздях, которыми были прибиты к двери его руки и ноги, и штыке, воткнутом в живот. Лицо бедняги было изрублено до неузнаваемости. Нелегко было смотреть на это, но Кемаль спокойно заметил сопровождавшему его полковнику Арифу:
— Правильно. Труп врага всегда хорошо пахнет.
Он пришпорил коня и галопом помчался дальше к морю.
В обозе турецкой армии на потрепанном с открытым верхом «бенце», за рулем которого сидел сержант-турок, за Кемалем следовали «женщины гази», как их прозвали солдаты: темноволосая красавица Фикри в неизменном черном одеянии и белокурая Диана Рамсчайлд, которая участвовала в этой войне в туфлях, купленных в Париже в «Гермесе», брюках от Миллера из Нью-Йорка, белой, с открытым воротом блузке от Сакса из того же Нью-Йорка и тропической панаме, защищающей от солнца, которую Диана приобрела в магазине «Генри Хит» на Оксфорд-стрит в Лондоне. Диана считала, что неплохо проводит время. Ей приятно было сознавать, что отчасти это и ее война. Ведь у солдат Кемаля было десять тысяч винтовок ее компании, которые она сначала переправила в Бейрут, а оттуда на трех рыбачьих баркасах контрабандно в южную Турцию. Одна эта сделка подняла акции Рамсчайлдов на пять пунктов.
Но важнее для нее было сознавать, что она любит Кемаля, который был ее ханум, ее душой. Его победы были ее победами. Несмотря на пыль и грязь, несмотря на жару и невыносимое зловоние горелой и разлагающейся плоти, несмотря на ужасающий вид изуродованных тел, валявшихся повсюду, Диана восхищалась Кемалем так же, как им восхищались его солдаты. Он пробудил в ней способность, о наличии которой у себя она раньше и не подозревала: способность поклоняться герою, как идолу. Он не мог из-за боевых действий достаточно времени уделять «своим женщинам». Даже зарекся пить до тех пор, пока Смирна вновь не станет турецкой, что для такого любителя выпить, каким был Кемаль, было большим шагом. Диана довольствовалась ролью «походно-полевой наложницы», как она сама себя называла. С радостью она думала о том, что, пожалуй, немногие люди ее круга, немногие ее однокашники по колледжу могут похвастаться тем, что ведут столь романтический образ жизни. О таком она и мечтать не могла бы, став обычной американской домохозяйкой. Даже жизнь главы «Рамсчайлд армс» беднее этой жизни. Она дорожила своим нынешним положением, дорожила каждой новой минутой этого похода. Холодный цинизм Кемаля, его упрощение жизни до формулы «сильный подавляет слабого» серьезно изменили и мораль Дианы. Кемаль был прав, сказав однажды, что у них у обоих душа убийцы.
Удивление у Дианы вызывала Фикри. Вначале американка думала, что Фикри говорит только по-турецки. Однако оказалось, что она все-таки владеет ломаным французским, а ее прежнее молчание объяснялось скорее ее робостью, чем языковыми проблемами. Диана также предполагала, что турчанка будет испытывать к ней неприязнь или даже ненависть за то, что она, Диана, стала делить ложе с Кемалем. Но и это было не так. По возвращении Дианы на виллу Чанкайя за два дня до начала наступления Кемаля Фикри впервые заговорила с американкой по-французски, и скоро стало ясно, что «загадочная» женщина, каковой ее считала Диана, стала раскрываться перед ней как добрая подруга. Поначалу это сбивало Диану с толку, так как она чувствовала, что Фикри питает к Кемалю такую же страсть, как и она сама. Но со временем к ней стало приходить понимание: Фикри воспринимала флирт Кемаля с Дианой как нечто совершенно нормальное. Кемаль сдернул с турчанок чадру и попытался улучшить их положение, но традиции института гаремов все еще оставались в сознании многих турчанок. Диана решила, что Фикри просто считает себя и ее наложницами Кемаля. Эта мысль ее весьма позабавила.
Они жили кочевой жизнью. На каждую ночь полковник Ариф подыскивал крестьянский домик или господскую виллу для гази и его свиты. Диана привыкла спать на соломенных матрасах, а однажды делила ночлег на сеновале с двумя коровами и летучей мышью. Водопроводной системы, как правило, не было, и Диане приходилось довольствоваться родниками и ручьями. Но какими бы примитивными ни были условия жизни, она не жаловалась. Быть рядом с гази — о другом Диане и не думала.
Каждый день Кемаль проводил в седле и нечеловечески уставал, однако внутренние энергетические резервы помогали ему идти с войсками дальше. Словно он чувствовал, что переживает лучшую пору своей жизни. В течение всей первой недели кампании он едва ли перекинулся парой слов с Фикри и Дианой. За столом он по необходимости говорил только на военные темы. Однако на восьмой вечер, когда до Смирны было уже рукой подать, после ужина он прогнал от себя всех, кроме Дианы.
В тот раз они остановились на ночлег на вилле торговца коврами близ Сардиса. В доме было уютно и прохладно, окна выходили на открытую веранду, и, кроме этого, имелось еще просто неслыханное удобство: старая цинковая ванна. Фикри и Диана помылись и потерли друг другу спины. Женщины хохотали и плескались, словно школьницы, возможность принять ванну пьянила их, как шампанское. Потом Диана надела чистое платье и тщательно накрасилась. Словно бы предчувствовала, что гази призовет ее к себе в ту ночь. То ли она была права в своих предположениях, то ли замена брюк, в которых она была неделю, на платье сыграло роль — ей это было не важно. Важно было то, что она наконец-то осталась наедине со своим гази.
— Ты выглядишь сегодня прекрасно, ханум, — обратился он к ней на турецкий манер, как иногда предпочитал делать.
— Фикри-ханум и я нашли здесь ванну, — сказала она, улыбаясь. — Это было наше первое купание за неделю! Просто восхитительно!
— Я знаю, что тебе нелегко приходится. Именно тебе, американке, привыкшей к роскоши. Но ведь тебе хорошо?
— Хорошо? Я никогда еще не была так счастлива! Знаешь, мне кажется теперь, что если бы я была мужчиной, то избрала бы военную профессию, как ты. И, если я не ошибаюсь, ты тоже никогда не был более счастлив, чем в эти дни.
Он улыбнулся ей, а она в ту минуту любовалась им.
— Ты умная женщина, моя Диана. Пойдем, я покажу тебе кое-что замечательное.
Он поднялся из-за стола и подошел к ней. Она встала, он обнял и поцеловал ее.
— Мой милый, — прошептала она. Я так по тебе соскучилась!
— Сегодня мы будем заниматься любовью. Но сначала ты должна увидеть кое-что из того, за что я воюю.
Они вместе вышли из столовой с низким потолком, прошли гостиную, обставленную дешевой викторианской мебелью поразительного уродства, вышли на веранду, где Фикри, полковник Ариф и с полдюжины высших офицеров армии Кемаля отдыхали и курили. Кемаль подвел ее к своему запыленному «бенцу» и распахнул для нее дверцу.
— Здесь совсем близко, — сказал он, устраиваясь за рулем.
Ключи зажигания всегда были на месте, ибо никому из турок в здравом уме просто не могла прийти в голову мысль угнать автомобиль гази. Он завел двигатель, и машина поехала. Стоял прохладный вечер, в небе висела почти полная луна и в чистом воздухе Анатолийских гор мерцали звезды.
— Видишь Млечный Путь? — спросила она, показывая рукой в небо. — Разве это не красиво?
— Так же красиво, как твоя кожа, моя Диана, — ответил он с улыбкой.
Лишь в устах немногих мужчин этот грубоватый комплимент не прозвучал бы смешно. В устах Мустафы Кемаля-паши с его мягким, низким голосом эта фраза прозвучала волшебно.
Спустя минут двадцать он остановил машину возле развалин древнего греческого храма Артемиды в Сардисе. В бледном лунном свете расколотые мраморные колонны светились особенным, загадочным светом.
— Вот тебе и причина того, что греки считают часть Анатолии принадлежащей им по праву, — сказал он, выходя из машины и обходя ее кругом. — Когда они построили этот храм в третьем веке до нашей эры, это действительно была часть греческой империи. Но рассуждения греков смешны так же, как смешны заявления синьора Муссолини о том, что Анатолия и Англия принадлежат Италии на том основании, что когда-то это тоже были провинции Римской империи. Да, греки построили здесь свой храм, но теперь это наше, турецкое наследие. Я просто хотел, чтобы ты посмотрела на это.
Он помог ей выйти из машины и в течение следующего получаса водил по освещенным луной развалинам, восхищая своим знанием древней истории и греческой архитектуры. Когда он остановился, чтобы закурить, она сказала:
— Ты удивляешь меня. И с каждой минутой все больше.
— Почему? — спросил он, выпуская дым. — Потому что я могу хладнокровно убивать и одновременно ценить красоту?
— Да, примерно так.
— Каждая личность или, вернее, каждая интересная личность многогранна. Это похоже на то, как если бы в одном человеке жило сразу несколько разных людей. Во мне, например, есть что-то от женщины. По временам эта женщина побеждает во мне мужчину. Я даже занимался любовью с мальчиками. Это тебя шокирует, не так ли?
— Это меня возбуждает.
— Но когда я с тобой, ханум, я до мозга костей мужчина.
Он бросил окурок на мозаичный пол храма, придавил огонек ботинком, обнял Диану и стал ее целовать.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Следующее утро принесло с собой известия, которых Кемаль ждал. Война окончилась. Генерал Гаджанести со своим штабом сбежал в Афины, бессердечно бросив своих солдат в Турции на произвол судьбы. Грабежи и убийства захлестнули древний греческий квартал Смирны. Наступило время Кемалю триумфально въехать в город, принимая аплодисменты соотечественников и всего мира.
Он ликовал. Взбежал на второй этаж виллы и ворвался в спальню Дианы. Она сидела на кровати и читала лондонскую «Таймс» трехдневной давности, доставленную курьером из Смирны.
— Свершилось! — воскликнул он, подходя к кровати и садясь возле Дианы. Он был настолько возбужден, что даже забыл снять с головы свою темно-серую шерстяную феску. — С греками покончено! Завтра утром я въезжаю в Смирну!
Еще несколько минут назад, узнав обо всем, Диана радовалась бы не меньше Кемаля, но теперь что-то ее настолько шокировало, что ей пришлось искусственно выражать свой восторг.
— Это… прекрасно, милый.
Кемаль был слишком счастлив, чтобы обратить внимание на ее тон.
— Ты и Фикри останетесь пока здесь. До тех пор, пока я не устрою в Смирне свой штаб. В эти несколько дней в городе небезопасно — грабежи уже начались, так что мне будет спокойнее, если ты пока останешься здесь. Но когда в Смирне будет водворен порядок, я приеду за тобой, и мы организуем самое торжественное празднество в турецкой истории! И я даю тебе обет: напьюсь, как английский лорд! — Он счастливо засмеялся и сжал ее в своих объятиях. — Моя американская красавица станет королевой Смирны!
— Кемаль, — прошептала она ему на ухо, — только что я прочитала в лондонской «Таймс» статью, которая наполнила меня… тревогой.
Он отпустил ее и уже серьезно посмотрел ей в глаза:
— Что такое?
— Четыре дня назад в Голливуде был убит американский киноактер Род Норман.
— И что?
— Он был застрелен в библиотеке дома Ника Флеминга. Этот Род… Он был похож на Ника.
Кемаль нахмурился:
— И что же?
— У меня ужасное предчувствие, что Лысый Али убил не того человека.
С минуту Кемаль изумленно смотрел на Диану, потом вскинул голову и захохотал, хлопая себя по бедрам.
— Это не смешно! — воскликнула она.
— Нет, это именно смешно! Это самая забавная штука, которую мне когда-либо приходилось слышать! Лысый Али, старый мошенник, пристрелил не того! Это великолепно, восхитительно! Но ты-то что волнуешься? Он убьет твоего Флеминга рано или поздно. Он обязан это сделать. На карту поставлена его профессиональная репутация.
Его реакция на ее сообщение возмутила Диану.
— Я убила невинного человека! — крикнула она в гневе. — Это преступление, которое останется на моей совести! Но это и твоя вина! Это ты подговорил меня!
Она мгновенно поняла, что допустила страшную ошибку. Улыбка моментально исчезла с его лица, а глаза сверкнули такой лютой злобой, которую Диане никогда раньше ни у кого видеть не приходилось. Он отвесил ей такую сильную оплеуху, что она отлетела назад на подушки.
— Шлюха! — крикнул он. — Не смей обвинять меня в своем преступлении! — Он снова ударил ее. — У Мустафы Кемаля нет совести, а те, кого он удостоит чести приблизить к себе, должны ублажать его, а не обвинять! Как ты посмела, наглая потаскуха?! Знаешь, у меня сейчас вертится соблазнительная мысль: а может, тебя вывести сейчас во двор и пристрелить? А американскому послу и всему миру я сообщу, что Мустафа Кемаль всего лишь свершил правосудие над шлюхой и торговкой смертью, которая наняла убийцу, чтобы тот умертвил того американского актера, как бишь его?!
Тяжело и хрипло дыша, он поднялся с кровати, все еще не спуская с нее своих горящих глаз.
— Шлюха, — презрительно повторил он, затем резко развернулся и вышел из спальни, оглушительно грохнув дверью.
Диана слезла с кровати, подбежала к маленькому деревянному столику, и в следующую секунду ее вырвало в фарфоровый таз для умывания.
Смирна была одним из самых благодатных городов во всей Малой Азии. Здесь был целительный климат. С моря город окаймляла красивая, в форме полумесяца гавань, на которую были обращены внушительные фасады двухэтажных домов. На некотором удалении от прибрежной полосы начиналась богатая и плодородная почва, на которой росли деревья, увешанные плодами. Воздух был напоен ароматами мимозы и олеандра. В Смирне жило многонациональное сообщество в своей массе обеспеченных людей: турки, евреи, армяне, греки и другие европейцы. Каждая община имела свой отдельный квартал. На улицах наблюдалось воистину вавилонское столпотворение, смешение национальных костюмов, отчего казалось, что в городе не прекращается карнавал. Этот морской порт, торговый оборот которого превышал константинопольский, славился своими азартными играми, красивыми женщинами, плавучими домами, золотом и скачками, клубами и ресторанами. Большинство жителей Смирны свободно владело тремя-четырьмя языками.
Но воскресным утром 10 сентября 1922 года этот город был страшен. Вот уже много дней между греками и армянами ходили слухи о том, что «турки идут». Теперь турки пришли. Зная, что они славятся своей жестокостью, армяне и греки стали спешно эвакуироваться. Красивая гавань была забита кораблями: грузовые суда, пассажирские лайнеры, турецкие шлюпки и двадцать два военных судна. Два британских линкора, три эскадренных миноносца под американским флагом, три французских крейсера и итальянские крейсер и миноносец возвышались в группе других, более мелких судов. Четыре названных державы прислали сюда эту армаду для защиты соотечественников, оставшихся в Смирне. Этим участие иностранных государств в том, что рассматривалось как внутренний турецкий конфликт, решено было ограничить. Впрочем, в то утро весь мир все равно пристально наблюдал за Смирной.
Мустафа Кемаль появился в городе на французском автомобиле с открытым верхом и был встречен как герой ликующей, грохочущей толпой турок. Гази улыбался, приветственно помахивал рукой. Питая склонность к драматическим эффектам, он отказался украсить свою форму какими бы то ни было знаками различия. В первый день Мустафа Кемаль отдыхал. В тот вечер он отправился в самый лучший ресторан города, чтобы впервые за две недели военной кампании выпить ракии. Ко всеобщему изумлению, не признавший Кемаля метрдотель сказал, что свободных мест нет. Тогда Кемаль повернулся к столику, за которым сидели богатые изрядно перепуганные греки — уж они-то его узнали! — и спросил:
— Скажите, сюда когда-нибудь приходил царь Константин, чтобы выпить стаканчик ракии?
Греки отрицательно замотали головами.
— Тогда зачем же ему понадобилось завоевывать Смирну? — спросил он, и все засмеялись.
В Смирне сразу же заговорили о том, что, возможно, Мустафа Кемаль-паша отнюдь не такой зверь, каким его представляли.
Оставшаяся на вилле близ Сардиса Диана Рамсчайлд стояла на веранде, опираясь спиной о перила, и безразлично смотрела в пол. На ней было простое белое платье и коричнево-белые туфли. На ней не было шляпки, а золотисто-белокурые волосы нуждались в гребенке.
— С ним такое бывает, — сказала Фикри, которая сидела тут же на деревянном стуле. Был вечер вторника, на вилле никого не было, кроме этих двух женщин, ожидавших вестей от Кемаля. — Он умеет любить и быть ласковым, но также умеет быть невероятно жестоким. Его отношение к ближнему очень переменчиво.
— Я вела себя как дура, — спокойно сказала Диана. — Думаю, я заслужила те слова, которые он обрушил на меня. Если бы у меня было хоть немножко здравого смысла, я тотчас уехала бы домой.
— Но у тебя нет здравого смысла, потому что ты любишь его.
— Да, я люблю его, — вздохнула Диана. — Но начинаю думать, что у меня это плохо получается.
— Я тоже его люблю, — своим тихим голосом сказала Фикри.
Диана посмотрела на турчанку, и у нее появилось ощущение своей вины перед ней. До сих пор она не задумывалась о переживаниях Фикри. Собственно, ей казалось даже, что турчанки вообще бесчувственны и, стало быть, их чувства невозможно оскорбить.
— Мне жаль нас обеих, — сказала она.
На дороге показалась машина, которая остановилась перед виллой. Из нее вышел полковник Ариф и живо стал подниматься по лестнице. Кивнув Диане, он заговорил с Фикри по-турецки.
Фикри улыбнулась и поднялась со стула.
— Он послал за нами, — сказал она Диане. — Ариф отвезет нас в Смирну.
Диане захотелось заплакать от облегчения.
Спустя три часа они затормозили перед красивой белой виллой в богатом квартале Бурнава, который раскинулся на холмах над всем городом. Диана с Фикри вышли из машины, а Ариф жестом приказал одному из лазов-телохранителей забрать их багаж. Несмотря на то что была уже почти полночь, в комнатах горел яркий свет. Диана поднялась вслед за Фикри на крыльцо, но там немного задержалась, чтобы привести себя в порядок.
— Может быть, уже слишком поздно что-либо изменить, — сказала она Фикри, печально улыбнувшись. — Но я все равно должна выглядеть как следует, даже на эшафоте.
Фикри, казалось, не оценила этой шутки.
Они вошли в дом, который был богато обставлен французской антикварной мебелью. Кемаль сидел за письменным столом в большой гостиной с великолепным видом на гавань. Он читал телеграммы и курил. Ворот мундира был расстегнут, открывая гладкую безволосую грудь. Он поднял глаза на вошедших женщин и что-то быстро сказал по-турецки. Фикри вышла из комнаты. Тогда Кемаль посмотрел на Диану. У него было каменное выражение лица. Обычно он был с ней весьма галантен, но теперь она даже не обратила внимания на то, что он не предложил ей сесть.
— Я думаю жениться, — сказал он. — Это тебя удивляет?
— Это зависит от того, кто твоя избранница.
— Ее зовут Латифи. Она дочь владельца этой виллы, богатого судопромышленника. Он сейчас со своей женой в Биарице. Латифи красива, истинная патриотка и имеет европейское образование. Она мне очень подходит в качестве жены.
— Поздравляю, — проговорила Диана, стараясь не показывать ему своих чувств. Она знала, что он изо всех сил старается причинить ей боль.
Он собрал в кулак пачку лежавших перед ним телеграмм:
— Мне прислали приветственные послания руководители многих государств мира, так что едва ли я нуждаюсь еще в твоих поздравлениях. Вот смотри: президент Франции, канцлер Германии, король Испании Альфонсо, Муссолини. Даже ваш президент Хардинг. Они знают, что с таким человеком, как я, приходится считаться. Они видят мое величие.
— Может, ты не удержался и послал поздравительную телеграмму самому себе?
Положив телеграммы, он слегка улыбнулся:
— Спасаешься юмором, как истая янки. Понимаю. Поскольку уже поздно, я разрешаю тебе провести эту ночь здесь. А завтра ты покинешь этот дом. Я заказал тебе комнату в «Восточном клубе». Это самый лучший клуб во всем городе. В четверг в Марсель отплывает французский лайнер «Виль де Пари». Я заказал тебе каюту. Ты можешь рассматривать себя в качестве гостьи нового турецкого правительства, которое оплачивает все твои расходы. Было очень приятно с вами познакомиться, мадемуазель. Доброй ночи.
С этими словами он с силой вдавил окурок сигареты в уже почти полную пепельницу.
— Все? — тихо спросила она.
— О чем еще говорить?
— Ты был моим возлюбленным.
С минуту он молча изучал ее своими замечательными синими глазами.
— Вечная романтическая любовь — это то, о чем пишут в дешевых книжках. Боюсь, я не способен на такое чувство.
— Тогда что ты во мне нашел?
Он закупил еще одну сигарету, выдохнул дым и сказал:
— Я никогда до тебя не спал с американками. Это было приятно, за что я тебя и хочу поблагодарить.
— Ты хладнокровный мерзавец! — сказала она, чеканя каждое слово. — Мне жаль Турцию.
Он смотрел ей вслед, когда она уходила.
Ее душила ярость. Уже второй раз в жизни она влюблялась в человека, который затем предавал ее, унижал. Она вышла в холл и увидела висящий на стене кривой ятаган — древнее оружие турок. В слепом гневе она потянулась за ним, чтобы вернуться в комнату и зарезать Кемаля. А почему бы и нет? Не он ли научил ее тому, что человеческая жизнь ничего не стоит? Не он ли подговорил ее нанять Лысого Али для убийства Ника? Но вдруг она увидела в конце холла одного из телохранителей Кемаля, который наблюдал за ней. Диана поняла, что, даже если ей и удастся покончить с Кемалем, эти лазы не выпустят ее с виллы живой.
«Нет, держи себя в руках, — приказала она себе мысленно, поднимаясь по лестнице. — Не устраивай сцен».
Большую часть ночи она пролежала в кровати без сна, слезами вытравливая из себя ханум…
Утром Диану на машине отвезли в «Восточный клуб», компаунд[11], обнесенный высотой в шесть футов белой оштукатуренной стеной. Клуб был расположен в европейском квартале, недалеко от французского консульства, этакий маленький островок роскоши и отличной европейской кухни, с плавательным бассейном, теннисным кортом и казино. Управляющим здесь служил элегантный француз месье Дюваль, который приветствовал Диану нарочито уважительно.
— Вы гостья Мустафы Кемаля, — говорил он, провожая ее в отведенную ей комнату на втором этаже. — Вы оказываете нам большую честь своим посещением, мадемуазель.
Диана молчала, храня при себе мнение о Мустафе Кемале, которое было диаметрально противоположным мнению месье Дюваля. Номер оказался просторным и красивым и был обставлен белой плетеной мебелью. С потолка свешивались монотонно гудевшие два вентилятора. Балкон выходил на плавательный бассейн. Когда носильщики доставили в номер два больших чемодана Дианы, месье Дюваль сказал ей:
— Я бы очень советовал прекрасной мадемуазель не выходить сегодня за территорию нашего компаунда. Здесь вы находитесь в безопасности. У нас высокая стена и собственная охрана. Но на улицах сейчас тревожно. Весьма сожалею, но вынужден сказать, что турки ведут себя отвратительно! Мустафа Кемаль издал декрет, запрещающий турецким солдатам под страхом смертной казни причинять вред грекам и армянам, но сегодня утром я собственными глазами видел, как два турецких офицера задержали какого-то иностранного коммерсанта. Это произошло прямо напротив нас через улицу. Мне кажется, что турки не очень-то собираются следовать предписаниям своего гази.
— К вашему сведению, месье Дюваль, — не выдержала Диана, — сам гази на редкость отвратительная личность.
Лицо Дюваля вытянулось.
— Как бы там ни было, а до нас доходят страшные истории! Не хотелось бы пугать вас, но просто советую: не выходите за территорию клуба.
— Благодарю вас, месье, — ответила Диана. — У меня нет намерения выходить куда-либо. Единственное, чего я хотела бы, так это поскорее вернуться домой.
Территориально турецкий квартал Смирны располагался в самой южной части города. Далее к северу находились: еврейский, армянский, греческий и, наконец, европейский кварталы. Всякий в Смирне прекрасно знал, что ежедневно, с полудня до двух часов, на город налетает местный ветер, который здесь называли «имбат» и который дул с юго-запада на северо-восток. Вскоре после полудня в среду 13 сентября 1922 года в южной части армянского квартала одновременно вспыхнули четыре пожара. «Имбат» подхватил пламя и понес его на север прочь от турецкого квартала, зато прямехонько в направлении греческого. Вскоре запылали другие пожары. И все к северу от турецких домов. К двум часам дня весь армянский квартал превратился в преисподнюю.
Диана как раз обедала около бассейна в полумиле к северу от пожаров, когда увидела, как вдалеке к небу поднимается клубящийся дым. Она спросила официанта, что происходит.
— Говорят, в армянском квартале вспыхнули пожары, мадемуазель, — ответил тот, вновь наполняя ее бокал превосходным розовым турецким вином. — Говорят, это сделали турки для того, чтобы истребить всех армян и греков. Если это правда, то я не удивлен.
Диана встревожилась:
— Но неужели пожары нельзя остановить? О чем думает пожарная охрана?
Официант усмехнулся и пожал плечами:
— В пожарной охране работают турки, мадемуазель.
Он вернул бутылку в ведерко со льдом и перешел к следующему столику, за которым сидел французский консул с женой.
Диана вернулась к еде, но в душе уже поселилась тревога. Почти все столики вокруг бассейна были заполнены хорошо одетыми европейцами. Все выглядело как обычно.
Однако спустя всего пятнадцать минут, когда Диана пила кофе по-турецки, появился месье Дюваль. Он явно нервничал. Подошел к французскому консулу и что-то прошептал ему на ухо. Французский консул тут же забеспокоился и подозвал официанта, чтобы расплатиться.
В половине третьего, когда Диана приготовилась помыть в ванной голову, она почуяла запах дыма. Выбежав на балкон, она увидела, что дым уже стелется над бассейном. Высокая стена оказалась не в состоянии защитить клуб от бедствия.
В дверь номера постучали. Она вернулась в комнату, накинула халат и пошла открывать. Это был месье Дюваль. Он был сильно встревожен.
— Сожалею, мадемуазель, но мы вынуждены просить всех покинуть компаунд. Это необходимая мера предосторожности, так как ветер задувает огонь в нашу сторону. Это опасно.
— Да, но куда я пойду?
— Мустафа Кемаль прислал за вами машину. Она ждет вас во дворе. Так я минут через десять пришлю к вам носильщиков?
— Да, через десять минут.
Месье Дюваль откланялся и торопливо ушел.
Во дворе Диану ждал длинный черный французский автомобиль с двумя маленькими турецкими государственными флажками на крыльях. Машина принадлежала местному турецкому губернатору и была реквизирована Кемалем. Носильщики крепко привязали чемоданы Дианы к багажной полке сзади. Она поблагодарила Дюваля за гостеприимство и хлопоты. Тот нервно поцеловал ей руку. Она села в машину на заднее сиденье.
В машине ее ждала Фикри. Красивое лицо турчанки теперь было как-то неприятно искажено, а большие карие глаза горели недобрым огнем. Диана не думала застать ее в машине.
— Кемаль-паша велел мне отвезти тебя в порт, — сказала Фикри. Шофер завел машину и стал выруливать по круглой подъездной дорожке к воротам компаунда. — Он сказал, что на корабле ты будешь в большей безопасности. Нас ждет баркас, который готов доставить тебя на «Биль де Пари».
— Фикри, почему он не распорядился остановить пожар? Ведь еще немного — и сгорит весь город!
— Кемаль-паша сказал, что огонь — это очищение. Он избавит Смирну от нечестивых свиней.
Диана была шокирована. До этой минуты она была уверена, что Фикри полностью аполитична.
— Но ведь погибнут люди! А за ленчем я слышала, что турецкие солдаты занимаются в городе грабежами… Какие бы ни были недостатки у Кемаля — а мне о них хорошо известно, — я не могу поверить, что он хочет начать свое правление с такой бойни!
Фикри повернулась к Диане и сверкнула на нее очами:
— Что ты знаешь о Турции? Как смеешь ты советовать нам, как лучше управлять нашей страной? Ты приехала сюда для того, чтобы продать оружие моему паше, затем занималась любовью с моим пашой, а потом посмела критиковать моего пашу! Убирайся в Америку и оставь нас в покое!
Этот всплеск ярости поверг Диану в тяжелое молчание. Неужели только теперь она увидела настоящую Фикри? Женщину, которая лишь притворялась подругой, а на самом деле люто ее ненавидела?.. И эти слова «мой паша»… Прежде Диана никогда не слышала их от Фикри. Они на многое открывали глаза.
Машина выехала за железные ворота компаунда, и глазам Дианы предстало то, что творилось за пределами ее островка роскоши. Магазин, находившийся через дорогу, был не только разграблен, но и разрушен. Это была лавка скобяных товаров. Витрина была высажена, а товар выброшен прямо на улицу, которая вся усеяна молотками, отвертками… Улица была совершенно пустынна, если не считать грязного мальчишки, который мочился на стену кирпичного дома. Увидев машину, выруливавшую из «Восточного клуба», он, видимо, сильно испугался государственных флажков на крыльях, потому что бросился бежать по тротуару и скрылся за углом. Однако ближайший перекресток, откуда шла дорога в порт, как увидела Диана в лобовое стекло машины, уже был запружен народом. Машина подъехала к перекрестку. Давя безостановочно на клаксон, шофер сделал правый поворот, и автомобиль влился в испуганное людское море.
Многие были в европейской одежде, но большинство — в греческих и армянских национальных костюмах. Люди тащили на себе узлы с добром. Кто нес в руках, кто на голове, кто и в руках и на голове. Здесь были тысячи и тысячи. Глаза Дианы выхватывали из общей кучи отдельные странные картинки: старик несет пузатую железную печку, другой взвалил на себя два деревянных гроба, явно пустых и привязанных у него к спине.
— Сегодня утром вскрыли американскую могилу на кладбище, — сказала Фикри. Она сидела в углу и спокойно наблюдала за тем, что происходило за окном. — Вытащили из гроба труп и разорвали его на куски.
Диана отвела глаза от лобового стекла и посмотрела на турчанку. Фикри, как и всегда, была в черной парандже, а сегодня надела еще и сетчатый чачван. Диана заметила, что на коленях у нее лежит европейская кожаная сумочка, которой раньше у нее никогда не было. Она крепко сжимала сумочку обеими руками.
Диана хотела было спросить у Фикри, зачем туркам понадобилось надругаться над американскими могилами, но ответ ей самой был очевиден. В первой мировой войне Турция и Штаты были противниками, а ныне ксенофобия захлестывала город точно так же, как и пожар. Поэтому Диана промолчала и снова перевела взгляд на улицу.
Им понадобилось не меньше часа, чтобы добраться до порта. К этому времени пожар уже перекинулся из армянского квартала в прилегающий к нему греческий, и народ оттуда хлынул на улицы, двигаясь в направлении гавани.
Эрнест Хемингуэй, репортер торонтовской газеты «Стар», наблюдал за происходящим в бинокль, находясь в полной безопасности на мостике британского линкора «Железный герцог», стоявшего на якоре в гавани.
— Черт возьми, весь город охвачен огнем! — сказал он британскому морскому офицеру, стоявшему рядом с ним. — Смотрите на эти клубы дыма! Они поднялись в небо по меньшей мере на сотню футов! Порт забит людскими пробками… Скажите, неужели вы и впрямь не собираетесь спасти хотя бы часть этих бедняг?
— Исключительно британских подданных, — ответил офицер. — У нас есть строгое распоряжение Адмиралтейства: не вмешиваться!
— Но откуда вы знаете, что в той толпе нет британских подданных?
Офицер не ответил.
Машина наконец достигла того места, откуда уже невозможно было продвигаться вперед. Территория порта вдоль всей красивой, в форме полумесяца гавани была забита народом — ни автомобиль, ни телега не пробились бы здесь. Фикри что-то сказала шоферу, потом повернулась к Диане:
— Тебе придется сойти здесь. Вперед на машине уже не проехать.
— Здесь?! Но где баркас?
— Тебе придется найти его самой.
Диана глянула в боковые окна, затем в заднее. Со всех сторон машину обступила толпа, многие люди были охвачены паникой, раздавались истерические крики. Диана обернулась к Фикри:
— Это просто смешно, я не смогу здесь выйти! Я не смогу пробраться через эту толпу! Если ты не можешь доставить меня к баркасу, то отвези в американское консульство.
Фикри раскрыла свою кожаную черную сумочку, достала оттуда маленький пистолет и направила его на Диану.
— Тебе здесь сходить, — сказала она. — Здесь!
Диана смотрела на направленное в ее сторону стальное дуло и понимала, что теперь она наконец-то видит настоящую Фикри.
— Но меня могут… убить, — запинаясь, проговорила она.
Фикри усмехнулась и повела плечами.
— Тем хуже для тебя, — ответила она.
Шофер выбрался из машины, протолкался к задней дверце со стороны Дианы и стал там оттеснять людей. Потом он открыл дверцу, схватил Диану за руку и стал выволакивать ее наружу. Диана закричала и вцепилась свободной рукой в кожаный ремешок на спинке переднего сиденья. Шофер стал осыпать ее бранью по-турецки, а Фикри ударила рукояткой пистолета по пальцам Дианы. Она охнула и выпала из машины. Она упала на спину прямо под подножкой. Шофер захлопнул над ней дверцу, вернулся на свое место и стал подавать машину назад. Надрывно запищал клаксон.
Рыдая от ужаса, Диана заползла под машину, спасаясь не только от колес, которые запросто могли ее переехать, но и не видя иного выхода. Толпа плотно обступила машину, и вылезти было невозможно. Она не могла поверить, что этот кошмар на самом деле происходит с ней, она не могла поверить, что ненависть Фикри могла оказаться столь дикой. А только ли в одной Фикри дело? Может, это Кемаль наказал ей так поступить с американкой, которая оскорбила его? Кемаль, который сам признался в том, что он — убийца. Кемаль, который с гордостью заявлял, что у него нет совести. Кемаль, который, может, и приказал поджечь город и отослал ее в «Восточный клуб», зная, что клуб стоит на пути распространения пожара.
Над ее головой медленно осаживала назад машина. Диана осознала, что лучший и, наверное, единственный шанс сохранить жизнь, это все время оставаться под машиной. Она медленно поползла по пыльным булыжникам мостовой. Ее лицо едва не задевало о шершавые камни, находясь всего в нескольких дюймах над мостовой. Было больно, но, похоже, эта тактика срабатывала, поскольку машина, пробиваясь через толпу, не могла набрать скорость, и Диана пока не отставала. Так продолжалось минут двадцать. И вдруг, когда у нее появилась было реальная надежда на спасение, машина остановилась. Пожар продолжал распространяться с удивительной быстротой в направлении гавани, рев обезумевшей, охваченной паникой толпы стал оглушающим. Воздух был отравлен дымом, люди стонали, кашляли, выдавливая из легких едкую вонь. И все же через весь этот грохот Диана расслышала крик шофера машины. Затем зазвучали выстрелы. Панические вопли. Она попыталась определить, что происходит, но ей были видны лишь ноги и лодыжки людей, целое море обуви.
А потом она увидела сапоги военных. Ее схватили за ноги и стали тянуть из-под машины. Она закричала, стала лягаться, но ее держали крепко. Она поняла, что ее тактика была разоблачена Фикри или шофером и они позвали помощь. Ее подтащили к задней части машины, подхватили под руки два турецких офицера и вздернули вверх. Только тут она увидела, что продвинулась с машиной довольно далеко, к красивым богатым виллам, подступавшим к порту. Она продолжала кричать, а ее тащили в толпе к ближайшему дому. Обернувшись назад, она увидела, что машина Кемаля наконец выбралась из давящей массы людей и свернула в боковую улочку. Господи, еще бы пару минут под машиной, и она была бы спасена.
Рядом с ней было всего четверо турок. Один из них ногой распахнул дверь дома, и Диану втолкнули внутрь. Вилла, обставленная богато, но безвкусно, явно пустовала — хозяева бежали. Ее затащили в гостиную, где на стене, как раз над пианино, висела большая фотография милостивой королевы Виктории. Четверо офицеров, смеясь и возбужденно переговариваясь на турецком, стали срывать с Дианы одежду. Крича от ужаса, она отбивалась кулачками, но они только смеялись. Сначала разорвали в клочья ее платье от Шанель, потом полетела на пол кружевная, сделанная на заказ нижняя рубашка, лифчик, трусики… Она уже находилась в такой истерике, что едва ли осознавала происходящее.
Самый молодой из офицеров стал расстегивать френч. Остальные трое грубо схватили ее и подтащили к пианино, клавиши из слоновой кости больно давили на ее обнаженные ягодицы. Молодой офицер бросил френч на кресло, спинка которого была закрыта салфеткой. Потом он расстегнул брюки, и они свалились с него. Его плечи и грудь были покрыты курчавыми черными волосами. Диана кричала:
— Нет, нет, пожалуйста, не надо…
Он стал приближаться к ней как-то по утиному: мешали свалившиеся на лодыжки штаны. Пока он насиловал ее, остальные трое его подбадривали.
Когда он кончил, к ней подступились его товарищи. Для разнообразия ее валили то в кресло, то на диван. Наконец на пол. Когда все закончилось, Диана в полубессознательном состоянии, распростертая, лежала посередине комнаты. До ее слуха едва доносились их смех и болтовня. Потом она услышала, как что-то расплескивается по полу. Завоняло бензином. Потом стали лить и на нее! Ледяная жидкость и сильный запах привели ее в чувство. Она с трудом приняла сидячее положение. Увидела, как турки вышли из комнаты в холл. В руках у одного из них была двухлитровая жестяная канистра.
Они ушли.
Диана поднялась на ноги. На мокрый уже ковер с нее закапал бензин. Она закашлялась, отравленная едкой вонью. На нетвердых ногах двинулась к двери.
Вдруг что-то, разбив окно, влетело в комнату, которую мгновенно объяло пламя. А потом… Диана Рамсчайлд, выпускница Вассара 1916 года, президент «Рамсчайлд армс компани» из Фермаунта, штат Коннектикут, вспыхнула и превратилась в огненный факел.
Когда спустя три дня пожар в Смирне унялся сам по себе, было подсчитано, что утонуло, сгорело или было задавлено не меньше ста тысяч людей.
Так рождалась современная Турция.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Премьера «Юности в огне» должна была состояться 26 октября 1922 года в кинотеатре «Египетский театр Громана». Ник Флеминг сделал все от него зависящее, чтобы это событие отозвалось как можно более громким эхом. Огни прожекторов шарили в лос-анджелесском небе, и пятьдесят специально нанятых полицейских сдерживали напор тысяч фэнов, визжавших от дикого восторга при виде своих любимцев, выходивших из лимузинов. Ник боялся, что смерть Рода Нормана может повредить признанию картины, но случилось прямо противоположное. Кровавая трагедия, послужившая мрачной рекламой фильму, только увеличила общественный интерес к последней работе Рода. Предварительные показы картины в Пасадене и Санта-Барбаре убедили Ника в том, что он держит в руках настоящий хит. Зрителям фильм очень понравился, а что касается любовных сцен, то даже после скрупулезного монтажа, что было сделано в угоду цензурному комитету, они оказались именно такими знойными, как и предсказывала Хэррит Спарроу.
По случаю такого праздника Ник купил Эдвине восхитительную горностаевую шубу, отделанную песцом, который тянулся вверх по телу от черных вечерних туфель с пряжками из горного хрусталя, образуя сзади высокий стоячий воротник. Стоило Эдвине показаться в этом наряде из их новой машины, которая сама по себе приковывала к себе восторженные взгляды, как фэны просто взвыли от восхищения. И это при том, что большинству людей из той толпы, которая сдерживалась цепочкой полицейских, эта актриса была незнакома. Пока.
— После просмотра ты станешь знаменитой, — сказал Ник, идя с ней по красной ковровой дорожке к двустворчатым бронзовым дверям кинотеатра.
— Боже, кинозвезда! — проговорила Эдвина с улыбкой. — Я просила тебя об этом, и ты сделал меня кинозвездой. Так стоит ли удивляться тому, что я тебя так обожаю?
«Юность в огне» имела огромный успех. Затраты на съемки составили шестьсот пятьдесят тысяч долларов, но за три недели проката фильм принес Флемингу четыре миллиона! На какое-то время Ник и Эдвина стали королем и королевой Голливуда.
Через три недели секретарь Ника мисс Роулинс ввела к нему в офис детектива Арлана Маршалла из лос-анджелесского департамента полиции. Детектив Маршалл, коротышка, прятавший свою лысину под котелком, занимался расследованием убийства Рода Нормана. Пожав Нику руку, он сел напротив большого антикварного письменного стола.
— Мистер Флеминг, — начал он, — вы были когда-нибудь знакомы с некой Дианой Рамсчайлд?
— Да, конечно. Несколько лет назад я был даже обручен с ней.
— Вам известно, что она была убита в сентябре в Турции во время поджога Смирны?
— Убита?!
Ник был еще достаточно молод для того, чтобы испытывать потрясение при известии о гибели ровесников. Но эта смерть потрясла его как никакая другая. Пока детектив монотонным голосом распространялся о ее отношениях с Кемалем, мысли Ника унесли его на шесть лет назад в то время, когда он страстно любил Диану. Ему вспомнилось это стремительно вспыхнувшее в его сердце чувство, которое, исчезнув, оставило в нем столь горький след… Он вспомнил свою зеленоглазую богиню, чья наружная красота была столь холодна, а внутренняя физическая сущность столь пламенна, что стало для него открытием в том заброшенном пляжном домике, где она стала женщиной. А теперь она мертва, так же мертва, как и их не родившийся сын. Правильно ли он поступил? Справедливо ли по отношению к ней? Дианы больше нет? Он не мог в это поверить.
Внимание Ника вновь переключилось на детектива, который как раз раскуривал сигару.
— Вчера приключилось нечто весьма любопытное, — сказал он, выпустив клуб вонючего дыма. — Мне позвонил по телефону турецкий консул и пригласил меня отобедать с ним в отеле «Амбассадор». Я понятия не имел, что турку было нужно от меня, но упускать бесплатный обед я не собирался, поэтому пошел. Он был очень уклончив. В течение первой четверти часа я вообще не мог понять, куда он клонит. Наконец он сообщил, что получил распоряжение из весьма высоких турецких правительственных кругов — уточнить не пожелал — войти со мной в контакт по поводу дела Нормана.
Так вот, стоило мне услышать имя Рода Нормана, как я весь превратился в слух. Короче, суть его предположения сводится к тому, что будто бы в Константинополе — это ж надо! — был нанят профессиональный убийца, который приехал в Лос-Анджелес, чтобы застрелить вас. Рода Нормана он убил по ошибке.
— Чтобы застрелить меня?! На кой черт я сдался этому турку?
— Консул намекнул, что убийца был нанят этой вашей Дианой Рамсчайлд.
Ник округлившимися глазами уставился на детектива, потом поднялся из-за стола и подошел к большому разноцветному окну, выходившему на территорию киностудии. «Возможно ли такое? — думал он. — Неужели она ненавидела меня столь сильно?»
— Как думаете, это похоже на правду? — не спуская с Ника пристального взгляда, спросил детектив.
Ник повернулся к нему с улыбкой на лице.
— Это самая нелепая вещь из всех, которые мне когда-либо приходилось слышать! — воскликнул он. — Диана Рамсчайлд была все-таки леди и закончила Вассар. Выпускники этого колледжа не пользуются услугами наемных убийц. Господи, это же ясно!
Детектив почесал подбородок.
— Мне это тоже показалось немного э-э… диковатым. Но с другой стороны, для чего бы официальный представитель турецкого правительства стал мне вешать лапшу на уши? И ведь она действительно в то время была в Турции.
Ник пожал плечами.
— Не спрашивайте меня, — произнес он. — Я не детектив, а кинопродюсер. — Он рассмеялся. — Подумаешь о том, что вы тут наговорили, и, ей-богу, засядешь за сценарий.
Да, это была дикая история, но в душе Ник в нее поверил. Детективу он солгал в стремлении хотя бы посмертно спасти репутацию Дианы. Как же сильна была ее любовь, если обернулась такой лютой ненавистью! Лютой настолько, чтобы даже пытаться убить его! Он восхитился первобытной силой ее чувства и одновременно покрылся холодной испариной при мысли о том, что только внешнее сходство между ним и Родом Норманом уберегло его от пули. Ник не верил в потусторонние силы, но сейчас он почти физически ощущал нити любви и ненависти Дианы, которые протянулись к нему из могильной глубины.
Диана, Диана… И эти дивные зеленые глаза теперь, выходит, закрылись навечно? Он должен построить ей памятник. Каким образом?
Вдруг в его памяти всплыли ее давние слова: «Я завидую мужчинам… Я бы очень хотела управлять такой компанией, как «Рамсчайлд армс».
Что же, ей представилась такая возможность, она воспользовалась ею, и это стоило ей жизни. Но, может быть, это были самые счастливые ее годы?
Он отверг Диану ради Эдвины и считал себя ее должником. Может быть, этот долг заключается в том, чтобы купить «Рамсчайлд армс» и привести ее к успеху? В память о Диане. И в память о старике Альфреде тоже. Военный бизнес находился в крайнем упадке, и покупка компании являлась серьезным риском. Но Ник, зная человеческую природу, сильно сомневался в том, что после последней войны мир воцарился навечно. Германия разгромлена и пребывает в состоянии, близком к анархии. Но не стоит недооценивать немцев…
Да, он купит компанию Альфреда, и это будет его памятником Диане. Он чувствовал, что должен хоть этим вернуть ей свой долг.
А возможно, удастся еще и подзаработать на этом.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ВИДЕНИЕ ЗЛА 1927
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Замок возвышался над верхушками деревьев немецкого леса, силуэты его зубчатых стен и башен ярко высвечивались вспышками молний, достаточно сильными, чтобы удовлетворить барона Франкенштейна. Злой ветер этой осенней бури гнул к земле вековые стволы, хлестал ветви, вздымал в воздух целые вихри опавшей листвы, которая кружила темными облаками в небе, заслоняя молодую луну. Немилосердный ливень хлестал по древним каменным стенам замка Винтерфельдт, расположенного в шестидесяти километрах к юго-востоку от Мюнхена близ городка Бад-Рейхенхал и австрийской границы. Однако если снаружи бушевала поистине вагнеровская стихия, внутри, в высоком шестьдесят футов от пола до потолка — Рыцарском зале было тихо и спокойно. Владелец замка граф Александр Георг Йозеф фон Винтерфельдт угощал своих десятерых гостей роскошным обедом.
Ник Флеминг сидел по правую руку от хозяйки графини Софии фон Винтерфельдт и вежливо, но рассеянно слушал ее монотонные разглагольствования о недавно объявившемся и популярном в Мюнхене «застольном политике» Адольфе Гитлере. Было видно, что эта тучная и седовласая графиня воротит от Гитлера нос. Она называла его «мелкобуржуазным гангстером», который-де «грызет ногти и дурно одевается».
Ник читал о Гитлере и знал, что его национал-социалистическая партия насчитывает около пятидесяти тысяч членов, большинство из которых были вовлечены в нее из-за ее оголтелой антисемитской ориентации. Это было тревожным симптомом. Но в данный момент Ника более интересовала красавица-итальянка, сидевшая на некотором расстоянии от него за этим длинным обеденным столом из ореха, к тому же на противоположной его стороне. Черноволосая и белокожая, с длинным прямым носом, придававшим ее профилю изящно-хищнический вид, графиня Паола Альгаротти выстреливала в Ника томными, слегка заинтересованными взглядами, которые не ускользали от внимания Эдвины, сидевшей по правую руку от хозяина замка. К этому времени Эдвина уже привыкла к флирту своего мужа, который правильнее было бы назвать супружеской неверностью, с течением времени все небрежнее скрываемой. Она отвечала на это по-своему, уделяя повышенное внимание удивительно красивому молодому человеку, сидевшему справа от нее. Это был сын владельца замка, молодой граф Рудольф фон Винтерфельдт. Руди, выпускник Оксфорда, представлял собой совершенный образец арийца: светлые, будто нарочно выбеленные волосы, ослепительно голубые глаза и правильные, точеные черты лица вождя викингов. Руди было двадцать три года, и до сих пор ему не приходилось сиживать рядом с кинозвездой. И хотя его род уходил корнями в прошлое на семь столетий, несмотря на то что Руди был родственником бывших баварских королей Виттельсбахов и австрийских Габсбургов, обычно сдержанный молодой человек сейчас был явно опьянен теми знаками внимания, которые ему оказывала одна из голливудских богинь любви.
— К сожалению, я очень мало знаю кинематограф, — говорил он смущенно на своем превосходном английском, — но несколько лет назад в Лондоне я получил большое удовольствие от одного из ваших фильмов. «Горящая юность», кажется.
Эдвина, на руке которой было три толстых бриллиантовых браслета в стиле арт деко, наклонялась к молодому человеку так, что в низком вырезе ее вечернего платья ему стала видна — Эдвина была без лифчика — ее красивая грудь.
— «Юность в огне», — поправила она его. — Это было сто лет назад! В 1922 году! Мой первый фильм. Жаль, что вы не видели других. — Она томно опустила подведенные тушью ресницы. — Вы просто должны приехать в Берлин на премьеру моей новой картины «Бесплодная любовь». Впрочем, ваш отец, наверно, уже пригласил вас. Говорят, это будет фильм года в Германии.
Граф Алекс Винтерфельдт, являвшийся министром культуры в веймарском правительстве, устроил гала-премьеру фильма в берлинском кинотеатре «Глория-паласт», стремясь тем самым начать германо-американский обмен кинофильмами. Эдвина одарила Руди своей самой очаровательной улыбкой, одновременно бросив уничтожающий взгляд в сторону мужа. К ее изумлению, Ник больше не ел глазами итальянскую графиню. Вместо этого он внимательно наблюдал за одним из четырех слуг, прислуживавших за столом. Они как раз вносили сейчас серебряные подносы с олениной и диким кабанчиком. Гром небывалой силы потряс весь замок, ливень продолжал хлестать в высокое окно Рыцарского зала, разделенное сложной рамой на двенадцать разноцветных квадратов стекла, на которых был изображен герб рода Винтерфельдтов. Было уговорено, что все гости останутся в замке на ночь, и это было очень кстати, принимая во внимание погоду. Эдвине замок казался мрачным, словно сошедшим с экрана фильма ужасов, и она была настроена уехать отсюда утром как можно раньше.
— Да, я приглашен, — смущенно ответил Руди, — но, боюсь, не смогу быть в Берлине. Работаю над диссертацией.
— О? — сказала Эдвина, тут же утеряв интерес к разговору, который не касался ее самой. — А о чем у вас будет диссертация?
— Политология. Видите ли, со времени поражения в войне Германия переживает период политической неразберихи…
— Но ведь уличных боев сейчас нет. Из того, что мне приходилось читать дома о Германии, я поняла, что ваша страна сейчас вновь обрела стабильность и процветает…
— Это верно, что за последние два года положение у нас очень улучшилось. Но Германия не будет стабильной до тех пор, пока не будут изменены положения Версальского договора.
Она еле сдержала зевок:
— Мой милый граф, вы слишком серьезны для своего возраста! И слишком красивы для того, чтобы посвящать себя политике. Вас должны волновать вопросы любви и романтики! У вас наверняка есть возлюбленная. Ну расскажите же мне о ней.
Руди окончательно смутился:
— Нет, у меня никого нет… Пока.
«Он боится меня, — подумала она. — Как интересно!»
Тут она увидела, как ее муж бросился на слугу-официанта. Затем прозвучал раскат грома и вслед за ним — крики… Тут же стало ясно, что это был никакой не гром: слуга выстрелил в воздух из пистолета. Гости повскакали со своих мест. Ник в это время опрокинул слугу и прижал его к каменному полу. Граф фон Винтерфельдт звал на помощь своих людей. Раздался еще выстрел и после него — снова крики. Наконец Нику помогли окончательно справиться со стрелявшим, и все закончилось так же быстро, как и началось.
— Врача! — закричал кто-то из гостей-немцев. — Быстрее врача!
Эдвина увидела, как поднимается на ноги ее муж. Со лба его ручейком стекала кровь.
— Ник! — вскрикнула она и бросилась вдоль стола к мужу.
Когда он флиртовал, ярость бушевала в ней, но стоило ей увидеть его раненым, как любовь вернулась, накатила всепрощающей волной.
— В него стреляли! — истерично кричала Эдвина. — О Ник, милый!
Ник приложил носовой платок ко лбу.
— Кость не задета, — пробормотал он. — Все будет нормально.
С этими словами он как стоял, так и рухнул лицом вниз прямо на стол, разбив при этом два винных стакана.
Его отнесли в прилегавшую к Рыцарскому залу библиотеку, обшитую темным деревом комнату с оленьими рогами под потолком, и положили на кожаный диван. Распоряжалась графиня фон Винтерфельдт, которая во время войны была сестрой милосердия. С удивительным для Эдвины спокойствием она потребовала смоченных в горячей воде полотенец и промыла ими рану.
— Вашему мужу повезло, мадам, — сказала она. — Пуля прошла над самой головой, содрав только кожу. Небольшой пороховой ожог и царапина. С ним все будет в полном порядке, разве что останется на память легкий рубец. Принеси, пожалуйста, коньяку, Руди, — обратилась она к сыну.
Все еще не уняв в себе дрожи, Эдвина бессильно опустилась в уродливое кожаное кресло эпохи Возрождения, которое скрипнуло под ее тяжестью.
— Но что это было? — спросила она. — Кто этот слуга, который стрелял в Ника?
— Боюсь, — спокойно сказал граф, — он хотел убить меня.
— Его зовут Миша, — рассказывал Ник, спустя три четверти часа после того, как врач наложил на его рану повязку. — Он большевик, а познакомился я с ним в семнадцатом во дворце великого князя Кирилла. Когда он появился здесь с подносом, мне показалось, что я знаю этого человека. Затем и он узнал меня и, думаю, решил, что я тоже его вспомнил. Когда я увидел, как он полез рукой к себе под пиджак, я решил не рисковать и атаковал. Как только он вынул пистолет, я схватил его за руку.
— Спасибо вам за это, — сказал граф.
Они все сидели в библиотеке и пили кофе с ликерами.
— Вы, без сомнения, спасли мне жизнь, и я признателен вам за это, герр Флеминг. Лично я абсолютно уверен, что этот Миша окажется агентом Коминтерна.
Его жена графиня София поморщилась.
— Ах эти ужасные безбожники большевики! — воскликнула она. — Они стоят за многими политическими убийствами в Европе. Хотят распространить эту свою чудовищную революцию по всему свету! Но… странно, что они вдруг задумали убить мужа. Ведь, в конце концов, Алекс всего лишь министр культуры. В правительстве много других, более опасных для них деятелей.
Она замолчала и повернулась к мужу, ожидая от него разъяснений.
Ник поднялся с дивана.
— Немного утомился, — сказал он. — Если не возражаете, я отправлюсь спать.
— О Господи, дорогой наш Флеминг, конечно! — горячо воскликнул хозяин дома, подходя к Нику. — Позвольте мне еще раз выразить вам свою признательность за смелый поступок. Я никогда этого не забуду. Никогда. — С этими словами он положил свою руку Нику на плечо.
— М-м… — чуть задумался Ник. — Я хотел бы кое-что обсудить с вами утром. Скажем, перед завтраком?
Они с графом переглянулись. Тот попытался прочесть мысли Ника, потом сказал:
— Я буду в полном вашем распоряжении. В восемь часов, устроит? Здесь, в библиотеке?
Эдвина хотела понять, что задумал ее муж. Зная его уже десять лет, она видела, что на шахматной доске жизни Ник видит, по меньшей мере, на три хода вперед. Его ум неизменно вызывал у нее восхищение. Понять его можно было, только наблюдая за его действиями. А точнее, за результатами его действий. И только потом, уже задним числом можно было восстановить всю цепочку его мысленных ходов.
Поднимаясь по высокой каменной лестнице замка на второй этаж, она спрашивала себя: а не было ли какого-нибудь подтекста в той драматической сцене, свидетельницей которой она стала вместе со всеми за обедом?
Их спальня помещалась на втором этаже замка. Здесь были высокие каменные стены с гобеленами, огромный каменный камин, источавший уютное тепло, и изрядно попорченные молью тяжелые красные шторы на двустворчатых окнах. Гигантская кровать с четырьмя шишечками на ножках и красным плисовым балдахином, на котором еще сотню лет назад был вышит герб Винтерфельдтов. Постель была застелена толстым пледом.
Раздеваясь возле туалетного столика, сделанного в псевдостиле Людовика Шестнадцатого, Эдвина сказала:
— Почему это, интересно, у меня такое странное ощущение, что ты от меня что-то скрываешь, а?
Ник сидел на стуле с высокой спинкой и тканым рисунком на сиденье и снимал лакированные туфли.
— Что ты имеешь в виду?
— Не строй из себя мистера Саму Невинность, — сказала она, — наше присутствие на берлинской премьере вовсе не было таким уж необходимым. Мне известно, что ты, как ненормальный, перетряс весь наш график пребывания здесь только для того, чтобы попасть сегодня вечером в это Богом забытое место. Ты что-то задумал, да?
Ник встал со стула, снял свой пиджак от вечернего костюма и подошел к жене, чтобы она расстегнула ему запонки на манжетах, сделанные из лазурита и золота.
— Я могу тебе довериться? — спросил он.
— Естественно, я же твоя жена.
Ник внимательно смотрел на Эдвину, пока она возилась с его запонками. Да, он ей верил. Несмотря на ее «загул» пятилетней давности с Родом Норманом и откровенное кокетничанье с другими, как, например, с молодым графом Руди. Ник видел, как она строила ему глазки. В сущности, она как раз и хотела, чтобы он это увидел. Несмотря на все это, он знал, что Эдвина все еще сильно любит его и верна ему. У них были любопытные отношения: Эдвина иногда чувствовала необходимость казаться неверной.
Он не сомневался в ее верности еще и потому, что все последние пять лет она практически проходила беременной, произведя на свет еще троих маленьких Флемингов уже после рождения Файны, дочери Рода Нормана, которую Ник, к своему же удивлению, любил нисколько не меньше других детей. Постоянная беременность Эдвины вредила ее карьере в кино и поэтому становилась причиной крупных ссор между супругами. Впрочем, она стоически переносила каждые роды. Скоро дом Флемингов стал походить на детский сад. Эдвина любила и лелеяла свое потомство, хоть и продолжала ругать Ника за то, что он все увеличивает его и увеличивает. Та энергия и неутомимость, с которой он это делал, видимо, отчасти объяснялась последствиями давнего потрясения от аборта, сделанного Дианой. К тому же не исчезли в нем до конца и психологические шрамы безрадостного детства.
Он восхищался своей женой точно так же, как она восхищалась им. И он доверял ей.
— Ну хорошо, — сказал он. — Сегодняшнего убийцу действительно зовут Миша, и он действительно русский. Но это не тот Миша, которого я видел в Петрограде десять лет назад, и он не большевик. В сущности, он и покинул Россию в 1919-ом из-за того, что ненавидит большевиков не меньше меня.
Эдвина потрясенно смотрела на него.
— Тогда кто же он? — спросила она.
— Миша Бронский — безработный голливудский актер.
Она фыркнула:
— Поверить не могу! Актер? Тогда что же его понесло в Германию к графу Винтерфельдту? И почему он хотел убить графа?
— Он и не хотел. Ведь это сам граф предположил, что Миша хотел его убить. Подозрения его укрепились, когда я сказал, что Миша большевик. Мы разыграли спектакль. Два месяца назад мы с Мишей репетировали его в Голливуде. Правда, должен сказать, что пуля сценарием не была предусмотрена. Но правдоподобности она, думаю, добавила.
— Ты хочешь сказать, что разыграл все это?!
Он улыбнулся:
— Именно. Я заплатил Мише за его роль двадцать пять тысяч наличными. И обещал задействовать его в каком-нибудь своем фильме.
Она рассмеялась.
— Я должна была сама догадаться! О Господи, это же смех! Я другого такого розыгрыша не помню! Ты ненормальный? Но… — Она перестала смеяться. — Ведь для Миши все это кончится тюрьмой, да?
Ник развязывал свою «бабочку».
— Ему дадут полгода. Веймарская республика громче всех кричит и шумит по поводу коварного заговора большевиков и Коминтерна распространить их революцию на весь мир, но на деле же она старается не огорчать Сталина и русское правительство. Вот если бы Миша действительно убил графа фон Винтерфельдта, тогда — другое дело. Но поскольку он даже не успел напасть на него, что я засвидетельствую, у следствия почти ничего не останется. Мишу упекут в камеру всего на несколько месяцев. За попытку нападения или за незаконное ношение оружия. Потом его выдворят из страны. Билл Парди работает сейчас над сценарием «Контрразведчика», и я уже вижу там хорошую роль для Миши. К началу съемок, я думаю, его уже отпустят и он вернется в Голливуд.
Он подал ей заколку для галстука, и она положила ее вместе с отстегнутыми запонками в шкатулку, где хранились ее драгоценности.
— Все это какая-то бессмыслица, — сказала Эдвина. — Ну, во-первых, с какой это стати Веймарская республика не хочет огорчать Сталина?
— Ты и большинство людей на планете даже не догадываются, а мне это известно совершенно точно, что эти чертовы русские в секретном порядке перевооружают германскую армию, что запрещено Версальским мирным договором. Немцам нужны винтовки и танки, а русским большевикам, несмотря на их не умирающую веру в коммунизм, нужны немецкие марки. Это хорошая сделка для обеих сторон.
И снова она пораженно смотрела на него, пытаясь уяснить то, что он сказал.
— Ну хорошо, — проговорила она. — Если ты так говоришь, значит, все так и есть. Но это не объясняет смысла того концерта, который ты закатил со своим Мишей перед всеми нами!
— Все просто, — улыбаясь, сказал он. — Мне необходимо было, чтобы какой-нибудь влиятельный член германского правительства считал себя обязанным мне жизнью. — Он наклонился к ней и поцеловал. — Похоже, эта кровать не использовалась по назначению со времен Бисмарка, — шепнул он. — Пожалуй, надо устроить ей проверку, а?
— Ах ты, византийская змея! — воскликнула Эдвина и чмокнула мужа в самый кончик носа. — Я чувствую, что какой-нибудь твой очередной безумный план будет предусматривать покушение уже на нас обоих! Мне давно следовало бросить тебя. Но знаешь, почему я до сих пор этого не сделала?
— Конечно знаю, — засмеялся он, — потому что ты обожаешь меня.
— Ты прав, негодник! Пошли в постель.
Она поднялась, и он снова поцеловал ее, только уже всерьез. Вдруг она оттолкнула его.
— Нет, постой, — прошептала она. — Надеюсь, ты не собираешься продавать немцам оружие? Неужели ты все затеял именно с этой целью?
— Конечно нет, — ответил он уклончивым тоном.
— Ник, ты грязный лжец! Ну конечно же, именно это у тебя на уме! Ибо какая другая цель заставила бы тебя отвалить двадцать пять тысяч на это представление? Скажи мне правду: ты собрался продавать им оружие?
Он не ответил, выражение его лица стало каменным.
— О Боже, ты не посмеешь! Или ты уже забыл ту войну, которую они развязали тринадцать лет назад? Милый, ну в самом деле… Да и потом это ведь противозаконно, не так ли? Ведь насколько я знаю, американским военным компаниям запрещено сотрудничать с Германией, разве нет?
— Да.
— А ты собираешься все равно продавать?
И снова он не ответил. Отвращение сменило на ее лице ту любовь, которой оно светилось еще минуту назад. Она отвернулась от него и молча пошла к постели.
— Я не в настроении для секса, — сказала она, ложась. — К тому же из-за этой проклятой бури у меня разболелась голова.
Она потушила лампу-ночник и стала думать о Раймонде Аските и лорде Роксэйвидже, об Иво Чартерисе и миллионах других молодых людей, чьи жизни были загублены первой мировой. Когда пять лет назад Ник стал подбираться к покупке «Рамсчайлд армс», ему пришлось столкнуться с решительным сопротивлением Арабеллы Рамсчайлд, чья ненависть к «этому еврею», как она презрительно про себя именовала Ника, превратилась после смерти мужа, а затем дочери в какую-то исступленную одержимость. И хотя остальные держатели акций с удовольствием соблазнились на предложение Ника купить их доли на пятнадцать долларов за акцию дороже рыночной цены — тем более что компания несла тогда страшные потери, — Арабелла отказывалась, громогласно заявляя, что она никогда не продаст свою долю Флемингу. Затем Арабелла очень кстати умерла, а ее наследники с радостью согласились на цену, предложенную мистером Флемингом. К концу 1923 года Ник — а также Саксмундхэмский банк: отец Эдвины согласился финансировать это дело — наконец держал под контролем всю «Рамсчайлд армс компани».
Она услышала, как он лег с другой стороны скрипучей кровати, потом почувствовала его руку на своем бедре. Она резко оттолкнула ее.
— Отвали, — прошипела она.
— Ты не справедлива, милая. Просто я не могу сказать тебе, что задумал…
Она села на кровати:
— Ник, я не хочу об этом разговаривать! Ты знаешь, что я не хотела, чтобы ты и отец покупали эту треклятую военную компанию. Вы только посмотрите на него! В то время когда человечество, еще не оправившись от прошлой войны, с ужасом предчувствует новую, мой муж из всего прочего предпочитает приобрести фирму по производству оружия! Ты что, газет не читаешь? Тебе что, не известно, как называют таких, как ты? Торговцы смертью! О, я знаю, что это преувеличение, но все же тебе не следовало покупать эту компанию, а что до меня, то я ее просто ненавижу!
— Я даю тебе слово, что и в мыслях не держу продажу оружия немцам.
Она внимательно посмотрела на него. После десяти лет семейной жизни ей все еще доставляло удовольствие любоваться мужем.
— Это правда?
— Да.
— Ты говоришь это только для того, чтобы я заткнулась?
— Ради всего святого, Эдвина, не отказывай ты мне в порядочности! Я не преследую целей начинать войну. Мы с твоим отцом купили компанию Рамсчайлдов вовсе не для того, чтобы становиться торговцами смертью. Мы купили ее потому, что это было хорошее вложение капитала, как оказалось. Из собственного опыта в прошлой войне я знаю к тому же, что оставаться в стороне от военного бизнеса — это не самый лучший способ предотвращать войны. Являясь владельцем компании Рамсчайлдов, я имею уникальную возможность точно знать, что происходит в мире. И если тебе так хочется знать правду, именно поэтому я и прибыл сейчас в Германию.
Она смотрела на него смущенно, находясь под сильным впечатлением от всего услышанного.
— Ну хорошо, мне все равно непонятно, что ты задумал, но я беру назад свои слова насчет того, что ты собрался продавать им оружие.
Он опять положил свою руку ей на бедро:
— Тогда как с этим?
Ее гнев улегся, и она рассмеялась:
— О Ник, я все время проигрываю тебе! Ты всегда знаешь, как добиться своего. Наверно, поэтому я и люблю тебя. Я не в силах одолеть тебя, поэтому остается только любить.
Она с улыбкой развела руками, а его рука скользнула по ее животу.
— Ты не жалеешь об этом? Я имею в виду нашу женитьбу и все эти годы?
— Что ты! Это были восхитительные годы! Даже ссоры.
— Так не жалеешь?
— Если бы у тебя еще было чуть-чуть больше супружеской верности… Я прекрасно видела, как сегодня за ужином ты раздевал глазами эту итальянскую графиню, как бишь ее…
— А я заметил, что ты клеишься к сыну графа.
— Просто чтобы оставаться в форме. Мой рейтинг верности намного выше твоего, милый. Если верить хотя бы половине всех слухов, которые ходят о тебе в Голливуде, то ты неплохо проводишь время на том кожаном диванчике, который я, дура, купила для твоего офиса.
— Не верь тому, что обо мне болтают. О шефах киностудий всегда сплетничают.
Она нежно взглянула на него:
— О Ник, ты не понимаешь. Я вовсе и не жду от тебя образцовой верности. Это, наверно, потому, что я не имею привычки безумно ревновать, в отличие от некоторых. Я же знаю, что тебе почти ежедневно приходится встречаться с десятками длинноногих красоток, которые тебя соблазняют. И ты соблазняешься. Да мне было бы скучно с тобой, если бы ты не обращал внимания на женщин. Я даже не возражаю, если ты дашь слабину… иногда! Меня, однако, раздражает, что мне ты вообще никакой свободы не даешь.
Он нахмурился:
— Ты жена и мать…
— О да! Имея семерых детей, еще бы я не была матерью! Не надо мне напоминать об этом. Но я еще женщина и просто человек. У меня нет любовника, я не ищу его, но если бы вдруг появился кто-нибудь… кто мне понравился бы, ты же не примиришься с этим, разве нет? Ты ведь никогда не скажешь мне то, что я тебе говорю: «Не возражаю, если иной раз расслабишься».
Он думал всего секунду.
— Не скажу.
— Вот видишь! Таков американский двойной стандарт!
— В Англии, конечно, все иначе?
— Да, иначе. По крайней мере, в высших слоях общества. И ты это знаешь. В Англии все гуляют на стороне, как дворняги, и никто не возражает, пока это делается без шума. Это гораздо более цивилизованный подход.
— Я позволил тебе одного любовника. Рода Нормана.
— И тебе потребовались долгие годы, чтобы ты смог забыть и простить меня! Кстати, если по правде, я до сих нор не уверена, что ты простил. А ведь сказано: поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. Так нет же!
Он раздраженно поморщился:
— Но я люблю тебя. Ты моя.
— И я люблю тебя. И ты мой.
Они посмотрели друг на друга.
— Ну ладно, черт с тобой, — сдался он. — Если когда-нибудь тебе встретится человек, с которым тебе захочется переспать, скажи сначала мне. Я обдумаю.
— Ха! Так я тебе и поверила.
— Нет, честно. Ты в чем-то права. Мне это не нравится, но я признаю, что в чем-то ты права. Только не заводи себе любовника за моей спиной.
— А тебе, значит, можно заводить любовниц за моей спиной?
Молчание.
— Ну что, мы будем заниматься любовью или спорить дальше?
Она поцеловала его.
— Будем заниматься любовью, — сказала она. — Но подумай над тем, что я говорила.
Буря начала утихать к пяти часам утра, а к половине восьмого, когда Ник спустился вниз, она утихла окончательно и сменилась тонкой дымкой тумана, который придал лесу, окружавшему замок Винтерфельдт, сказочный вид. Нику сразу припомнились древние тевтонские легенды о Зигфриде, драконах и троллях, скрывавшихся в герсинианских лесах задолго до того, как Германия стала сторожевой заставой Римской империи.
В холле Ник обратил внимание на забранный в золотую раму портрет кайзера Вильгельма Второго — в полный рост, в белом военном кителе и шлеме с плюмажем. С минуту Ник изучал портрет бывшего правителя Германии, живущего ныне в голландской ссылке. Наличие этого портрета здесь весьма недвусмысленно указывало на политические симпатии графа фон Винтерфельдта. Как и большинство представителей немецкой знати, он был сторонником старой династии. Эта идеология пока что имела в Германии определенное влияние. Реставрация Гогенцоллернов была, в принципе, еще возможна. Германия, издревле привыкшая к самодержавной монархии, в рамках демократии чувствовала себя еще весьма неуверенно, и обширные слои немецкого общества тосковали по лидеру нации, по фюреру.
Ник пересек каменный пол холла и вошел в библиотеку, где был встречен графом фон Винтерфельдтом, одетым с утра в серый двубортный костюм. Граф был высоким подтянутым человеком с военной выправкой и безупречными манерами, что напомнило Нику великого князя Кирилла. У довоенного военного сословия, несмотря на все недостатки, все-таки были общие отличительные черты, которыми можно было только восхищаться. В сравнении с марширующими по улицам нацистскими головорезами, о которых Нику приходилось читать в газетах, граф очень много выигрывал.
— Герр Флеминг, — сказал он, направляясь к Нику, чтобы пожать его руку. — Доброе утро, как ваша голова?
— Саднит немного, но все оказалось не так серьезно, как я боялся.
— Вот и отлично. Прошу вас садиться. Я переговорил с герром Халбахом, начальником местной полиции. Он сообщил мне, что этого нашего официанта зовут Миша Бронский. К нашему удивлению, оказалось, что у него американский паспорт.
Ник присел на краешек кожаного дивана, на котором его вчера приводили в чувство.
— В самом деле? Я слышал о том, что у Коминтерна много своих агентов в Штатах.
— Может быть, но все равно кажется немного странным, что они подсылают сюда своего агента из Америки, в то время когда гораздо проще было бы прислать его из России. С другой стороны, разве можно понять большевиков, правда? Кстати, Халбах интересуется: не согласитесь ли вы дать свидетельские показания?
— Конечно.
— Отлично. — Граф сел рядом с Ником. За большим письменным столом из дуба было высокое окно, и сквозь него видно было, как туман окружает замок своими липкими объятиями. — Вы хотели меня видеть. Полагаю, у вас есть святое право просить меня об услугах. Поскольку я обязан вам жизнью, то помогу с радостью и всемерно.
«Это мне и было нужно», — подумал Ник.
— Я хотел бы продавать Германии оружие, — сказал он. — Не смогли бы вы помочь мне увидеться с нужными людьми?
«Смотри, как вспыхнули его глаза. Он сам идет к тебе в ловушку. Великолепно!»
— Почту за честь помочь вам в этом, герр Флеминг, — негромко сказал граф. — Но уверен, вы согласитесь со мной: в таком деле необходима осторожность. Большая осторожность.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Если верить утверждению о том, что природа определяет характер человека, то у Руди фон Винтерфельдта должна была быть просто ангельская душа, ибо вырос он в одном из самых живописных уголков Европы. В тот день он выехал на своем спортивном автомобиле «бугатти» из замка Винтерфельдт в направлении Мюнхена. Миновав баварские Альпы, откуда открываются великолепные, захватывающие дух виды на Оберзальцбург, он ехал мимо милых и обширных зеленых полей с разбросанными тут и там деревеньками и церквами в стиле барокко, мимо спокойного озера, посреди которого на острове безумный король Баварии Людвиг воздвиг последний и незаконченный памятник своей экстравагантности: копию версальского дворца XIX века, стоимость которой оказалась так велика, что Людвигу пришлось из-за этого даже распрощаться с троном. На поросшей елью и пихтой горе, будто в сказке, возвышались башни и стены замка Нойшванштайн. И везде, где ни проезжал Руди, на холмистых полях щипали сочную зеленую траву коровы и козы.
Утренний туман рассеялся, и над головой было совершенно ясное небо. Было не по сезону тепло, поздненоябрьская золотая осень после грозы. Когда Руди приходилось ехать в своем открытом автомобиле под уклон, живой ветерок трепал его белокурые волосы, и душа юноши восторженно отзывалась на красоту природы, хотя все это были привычные ему ландшафты. Это была его природа, и ее пышность и цветение никогда не уставали восхищать его. При виде этой красы в Руди просыпался, с одной стороны, художник, с другой — мечтатель. Он умел любить красоту и ненавидеть уродство.
Поэтому ему не нравился Мюнхен. Нет, конечно, в баварской столице были свои красивые дворцы и музеи. Почти целое столетие назад король Людвиг Первый истратил целое состояние на украшение города, правда, завершить начатое не успел: сначала отдал сердце Лоле Монтез, а затем трон — революции 1848 года. А Мюнхен остался, и в нем, как во всяком другом городе, были и трущобы, и заводы. У Руди всегда несколько портилось настроение, когда восхитительная сельская местность по сторонам от дороги сменялась мрачными мюнхенскими задворками.
Теперь он повернул на Тьерштрассе — темноватую и ничем не примечательную улочку в квартале бедной части среднего класса — и остановился перед серым обшарпанным домом. Роскошный спортивный автомобиль был вызывающе неуместен в этом бедном квартале. Руди благоразумно поднял верх, чтобы запереть машину: он перехватил завистливые взгляды грязных мальчишек, игравших на тротуаре. Но Руди знал, что тот человек, к которому он сейчас шел, всегда испытывал почти извращенное удовольствие при виде роскошной машины, припаркованной у его жалкой квартирки.
Руди вошел в подъезд и позвонил. Через несколько секунд из-за занавески выглянула толстая седовласая экономка в черном старомодном платье из тафты с длинной юбкой. Потом она отперла дверь и заулыбалась.
— Добрый день, мой господин, — сказала она по-немецки, впуская его в узкую прихожую, оклеенную грязнорозовыми обоями. В доме пахло жареной капустой. — Его сейчас нет, но скоро должен вернуться. Если хотите, подождите в его комнате.
— Благодарю, фрау Райхерт, — с оттенком снисходительности ответил Руди.
Фрау Райхерт, как и большинство пожилых немцев, все еще крепко держалась за свои предвоенные представления о сословной субординации: она воспринимала молодого графа именно как графа.
Руди стал подниматься по прогнутой деревянной лестнице мимо закопченных стеклянных газовых ламп на второй этаж. Вошел в коридор, стены которого были увешаны дешевыми репродукциями в темных деревянных рамках. Прошел мимо видавшего виды пианино и уродливой витрины, заставленной вышедшими из моды сентиментальными романами. В конце коридора Руди открыл деревянную дверь, сильно нуждавшуюся в полировке, и вошел в узенькую комнату не более десяти футов в ширину. Единственное в комнате окно выходило на задний двор. У окна стояла медная кровать. Она была заправлена, но смята: кто-то сидел или лежал на ней. Напротив кровати к стене были привинчены книжные полки.
От нечего делать Руди стал всматриваться в корешки книг. На верхних полках стояли толстые тома по германской истории, мировой войне, «О войне» Клаузевица, история Фридриха Великого, биография Вагнера, написанная Хью Стюартом Чемберленом, собрание героических мифов и мемуары Свена Гедина. На нижних полках теснились старомодные романы и «История эротического искусства». Пол был покрыт дешевым желтым линолеумом, которому было, по меньшей мере, лет двадцать. Во многих местах линолеум потрескался и горбился.
— Руди, — раздался негромкий голос, — я так рад тебя видеть!
Руди обернулся. В дверях стоял стройный молодой человек в плаще. Он говорил с легким австрийским акцентом, весьма близким к баварскому немецкому и все же заметным для Руди. Он вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Глаза его горели возбуждением, когда он подошел к Руди и взял обе его руки в свои. Его усики а-ля Чарли Чаплин, равно как и бедная одежда, придавали ему несколько комичный вид, и все же в нем ощущалась какая-то внушительность.
— Рудерль, мой любимый, — прошептал он. — Я так по тебе соскучился!
С этими словами Адольф Гитлер поцеловал графа фон Вингерфельдта в губы.
Гитлер со всей тщательностью скрывал от посторонних глаз свою сексуальную ориентацию. Поэтому чтобы не возбуждать подозрений фрау Райхерт — доброй женщине был по душе ее постоялец, которого она называла «благопристойным богемным господином», — Руди и Дольф, так молодой Винтерфельдт звал Гитлера, отправились на машине на виллу Швабинг, которая принадлежала капитану Вальдемару фон Манфреди. Во время войны Манфреди был командиром Гитлера, сейчас же он стал новообращенным рьяным нацистом, убежденным в том, что бывший ефрейтор будет спасителем Германии. Манфреди и сам был гомосексуалистом, во время войны даже имел несколько контактов с Дольфом, так что теперь он с готовностью предоставил Гитлеру небольшой коттедж, находившийся в саду рядом с его обнесенной стеной виллой, для его тайных любовных утех. Вообще узкий круг руководства нацистской партии справедливо был прозван итальянским диктатором Муссолини, нарочитым гетеросексуалом, «кладезем извращений». И хотя Гитлер надеялся, что застрахован от такого к себе отношения, почти во всех кабаре и пивных Мюнхена ходили приукрашенные легенды об искаженном либидо фюрера, и усилиями германских интеллектуалов и умников Гитлер награждался такими извращениями, до которых не додумались бы ни маркиз де Сад, ни барон Мазох!
Вилла, окруженная высокой стеной, располагалась в хорошо озелененном квартале, где жили представители лучшей части среднего класса. Просторные дома в своем большинстве были построены в начале века, а что касается архитектурного стиля, то здесь преобладала немецкая версия французского Belle epoque. Вилла капитана фон Манфреди оказалась красивым трехэтажным домом с красной черепичной крышей, а обнесенные стеной двор и сад были ухожены с такой же тщательностью, как и у соседей. Руди отворил тяжелые железные ворота, вернулся в машину и въехал во двор по короткой подъездной аллее. Затем он закрыл ворота и пошел за Гитлером вокруг дома, туда, где в дальней части сада, под ивой виднелся аккуратный, почти игрушечный коттедж с красной дверью. Здесь работала некогда мать фон Манфреди, детская писательница, пользовавшаяся до войны огромным успехом. Главным героем большинства ее самых нашумевших книг был до отвращения сообразительный симпатичный кролик по имени Пупи. Урсула, а именно так звали писательницу, построила этот коттедж в 1906 году специально для того, чтобы обретать в нем художественное вдохновение. Когда в 1920 году Урсула умерла, ее сын стал использовать эту писательскую мастерскую в иных, менее невинных целях. Гитлер открыл дверь, и они вошли. В домике было три комнаты: большой рабочий кабинет, маленькая спальня и совсем крохотная кухонька, помещавшаяся в задней части. Кресла и диваны были в чехлах из вылинявшего ситца, что выдавало англоманию немцев предвоенной эпохи. На грубых стенах в рамках висели изображения Пупи — иллюстрации из детских книг, сделанные в духе Артура Ракхама. Руди закрыл дверь и обернулся на Гитлера, который, морщась, разглядывал изображения Пупи.
— Терпеть не могу кроликов, — проворчал он, потом обернулся к Руди и улыбнулся, воскликнув: — О, мой красивый Зигфрид! Как я люблю смотреть на тебя!
На Руди был твидовый костюм. Пока он снимал его, Гитлер подошел к шкафу и достал оттуда черную гладстоновскую сумку. Положив ее на рабочий стол Урсулы фон Манфреди, где писательница изобрела кучу увлекательных приключений своего любимца Пупи, Гитлер расстегнул молнию и стал доставать из сумки странные предметы. Здесь был и кожаный собачий ошейник, и две пары стальных наручников, и кожаный конский кнут, и отличная венгерская треххвостка. Гитлера охватила дрожь, когда он любовно повел рукой по всей длине конского кнута.
— Прошло уже десять дней, — сказал он. — Мне показалось, что целая вечность! Я не могу без тебя жить, Рудерль, мой милый.
Руди, раздевшийся донага, подошел к столу, выхватил конский кнут у Гитлера из рук и с силой хлестнул им своего фюрера по плечу. Тот охнул от боли и упал на колени.
— Кто?! — гневно выкрикнул Руди.
Гитлер посмотрел на него снизу вверх, в глазах его блестели слезы.
— Ты мой хозяин, — проговорил он. — Принц Зигфрид, ослепительно красивый белокурый сверхчеловек. В твоих жилах течет чистейшая арийская кровь.
— А кто ты?!
— О, принц Зигфрид, я представитель низшей расы темноволосых, подонков общества. Возможно, что я осквернен и отравлен жидовской кровью.
Руди подступил к нему, поднял свою правую ногу и поднес ее почти что к самому лицу Гитлера.
— Я тебя унижу, раб, оскверненный жидовской кровью! — сказал он. — Я тебе приказываю лизать мою пятку!
— Слушаюсь, хозяин.
Гитлер высунул язык и стал усердно лизать пятку Руди. Спустя минуту Руди рявкнул:
— Хватит! А теперь раздевайся, раб, оскверненный жидовской кровью!
— Слушаюсь, хозяин.
Торопливо, постанывая от наслаждения, Гитлер стал стягивать с себя свой дешевый костюм, кидая одежду не глядя на зачехленные ситцем стулья. Раздевшись, он встал на четвереньки, как настоящий пес. У него было костлявое тело, но широкие, почти женские бедра.
Руди бросил конский кнут обратно на стол, взял оттуда собачий ошейник:
— Кто ты, раб, оскверненный жидовской кровью?
— Я жидовский пес.
— Правильно!
Руди наклонился и закрепил на шее Гитлера ошейник. Сначала он затянул его настолько сильно, что тот стал давиться. Тогда Руди не спеша ослабил натяжение и застегнул ошейник.
— Залай, жидовский пес! — громко приказал Руди.
Гитлер залаял.
Руди вернулся к столу и взял с него наручники.
— Ну-ка, вытяни свои передние лапы, пес!
Гитлер повиновался.
Руди замкнул на руках Гитлера наручники.
— Повернись, жидовский пес!
Гитлер повернулся на левый бок, и Руди сковал ему лодыжки. Затем он подошел к столу и взял оттуда грозную треххвостку. Пару раз он устрашающе рассек ею воздух, затем вернулся, улыбаясь, к закованному Гитлеру.
— Ты боишься своего белокожего арийского хозяина, не так ли?
Весь дрожа и обильно потея, Гитлер поднял глаза на молодого графа.
— Я боюсь своего хозяина, — произнес он. — Но я также люблю его, потому что мой хозяин — высший человек! Я мечтаю, что когда-нибудь мой арийский хозяин будет править землей и искоренит все зло!
— А что есть зло?
— Я, жид и подонок.
— Правильно, раб. А теперь приготовься принять наказание!
С трудом Гитлер вновь встал на четвереньки. Руди взмахнул треххвосткой и ударил ею Гитлера по ягодицам.
— Жид!!! — рыкнул Руди в ответ на вскрик боли со стороны Гитлера.
— Еврей!!! — орал Руди, всякий раз опуская плеть на тело Гитлера.
— О! — кричал тот. — Хорошо, хозяин! Еще! Еще!!!
Руди совсем распалился и изо всех сил лупил будущего канцлера Германии до тех пор, пока тот не кончил, забрызгав спермой деревянный пол.
Тяжело дыша и смахивая со лба пот, Руди швырнул плеть обратно на стол и без сил повалился на диван.
— Теперь моя очередь, Дольф, — произнес он через некоторое время.
Молодой граф фон Винтерфельдт вырос среди дивной и ласковой природы, но его душа была совсем другая.
— Прошлым вечером в замке отца случилось странное происшествие, — сказал Руди тем вечером, когда они с Гитлером сидели в угловой кабинке кафе «Ноймайер», старомодном заведении между мюнхенской Питерплац и Виктуалиен-маркт.
На деревянных лавках лежали подушки, что было очень кстати для обоих любовников, так как их задницы все еще горели после хорошей порки. Гитлер любил роль хозяина так же, как и роль раба в своих с Руди патологических сексуальных играх.
Стены протяженного зала были обшиты деревянными панелями. Именно здесь по понедельникам вечером Гитлер собирал ближайших друзей и сторонников, перед которыми с пафосом высказывал свои последние измышления по политическим вопросам. В тот вечер был не понедельник, и шумевшая в зале публика была преимущественно аполитичной. Однако многие узнали Гитлера, который прихлебывал чечевичную похлебку, одно из самых своих любимых блюд.
— Что именно? — холодно спросил Гитлер: он старался на людях не показывать своих чувств к молодому графу.
— Тебе приходилось когда-нибудь слышать о таком заведении, как «Рамсчайлд армс компани»?
— Разумеется.
— Так вот, одним из вчерашних гостей моего отца был владелец этой фирмы, некий Ник Флеминг.
— Я слышал о нем. Мне даже нравятся некоторые из его фильмов. Вроде бы он еврей? Там у них в Голливуде среди киношников, считай, все жиды. Они всегда стремятся захватить средства массовой информации. Например, печать. Они контролируют всю мировую печать!
— Флеминг, говорят, лишь наполовину еврей, — поспешно заверил друга Руди. Он хотел загасить в зародыше очередную невыносимую тираду Гитлера против евреев. Руди сам был последовательным антисемитом, но даже ему трудно было иной раз выдержать монологи Дольфа. — Как бы там ни было, а мы сидели и спокойно обедали, как вдруг один из слуг, кажется, выхватил пистолет или начал вытаскивать его… Я говорю «кажется», потому что сам не видел этого. Так вот, Флеминг бросился на него и отобрал оружие.
Гитлер явно заинтересовался услышанным.
— Зачем слуге нужно было вытаскивать пистолет?
— Отец решил, что слуга пытался совершить на него покушение.
— Зачем?
— Слуга оказался русским, и было высказано предположение, что он подослан Коминтерном. Но странное дело: у него нашли американский паспорт.
По мере своего восхождения в политике Гитлер стал учиться хорошим манерам, в частности, умению вести себя за столом. Он изящно вытер губы салфеткой.
— Какая-то бессмыслица, — сказал он. — Во-первых, зачем Коминтерну понадобилось убивать твоего отца, который не является ключевой фигурой в правительстве? Во-вторых, к чему задействовать в этой акции именно американского агента? И, наконец, зачем устраивать убийство во время обеда? Гораздо проще и надежнее сделать это… ну, скажем, в машине.
— Именно об этом я и подумал. Все выглядело в высшей степени странно. Сегодня рано утром Флеминг встретился с отцом с глазу на глаз. А потом они вместе уехали в Берлин. Мне это тоже показалось странным. Интуиция подсказывает мне, что произошло нечто, ускользнувшее от моего внимания… В связи с этим вспомнил о том, что Флеминг — владелец крупного военного производства. Это показательный факт.
Некоторое время Гитлер молча доедал свой суп и напряженно размышлял.
— Флеминг остановился в «Адлоне»? — наконец спросил он.
— Да.
— Привяжу к нему хвост. Посмотрим, чего он хочет.
Две голые лампочки висели над двустворчатыми дверьми, которые вели в обыкновенный кирпичный дом вблизи Курфюрстендамм и, ярко мигая, освещали надпись: КАФЕ «БЕРЛИН». В германской столице для туриста кроме низких цен было еще много чего притягательного. Например, роскошные отели-люкс «Адлон» и «Бристоль». Великолепные собрания произведений искусства, прелестные экспонаты Пергамон-музея, хорошая опера. Ряды домов, выстроенных в осужденной архитектурной манере времен империи. Зрелище смягчалось тысячами каштанов и лип, высаженных вдоль кромок широких улиц, на которых тренькающие трамваи, черные таксомоторы с золотистой полоской на бортах и разноцветные автобусы оспаривали друг у друга место на дороге под присмотром конных полицейских в жемчужно-серых кителях. Наконец, лесной покой Тиргартена и Ванзее. К услугам туристов со «сниженным» вкусом предлагались тысячи проституток и трансвестистов, которые сидели в придорожных кафе и выставляли напоказ свои волосатые ляжки, задирая юбки. А в клубе «Фемина» ночи напролет под музыку негритянского джаз-банда танцевали пропахшие потом и дешевыми духами лесбиянки.
И все же главной столичной достопримечательностью для туристов являлось кафе «Берлин». И не только потому, что это было место работы самых красивых и богатых шлюх, но в основном из-за того, что здесь по ночам пела звезда эстрады Магда Байройт.
— Разумеется, это не настоящее ее имя, — рассказывал о Магде своим гостям Нику и Эдвине Флеминг граф Алекс фон Винтерфельдт, пока они сидели за столиком, покрытым белой скатертью, в ожидании начала шоу. — На самом деле она — Ульрика Химмельфарт… Теперь понимаете, надеюсь, почему она сменила имя? Отец у нее был водопроводчиком, а мать вроде бы проституткой. Как и те две леди за соседним столиком. Кстати, как вы сами можете видеть, каждый столик снабжен телефонным аппаратом. Если вам вдруг пожелается иметь дело с кем-нибудь в этом зале, вы просто набираете соответствующий номер столика и voila!
— Я всегда слышала, что немцы весьма изобретательны, — заметила Эдвина, которая, несмотря на свою тевтонофобию времен войны, нашла Берлин восхитительным.
— Так вот о Магде… Она, несомненно, является самой красивой женщиной в Германии, исключая, конечно, присутствующих дам. Моя София не одобряет пение Магды, поэтому и не присоединилась к нам сегодня, но вам, я очень надеюсь, оно понравится.
— С нетерпением жду начала, — сказал Ник.
— Неужели я единственная в этом зале женщина — не проститутка? — спросила Эдвина, с интересом обводя взглядом большое, затянутое сигаретным дымом кафе.
— Возможно, — улыбнулся Алекс.
Несмотря на общую вульгарную обстановку, на всех присутствовавших в зале мужчинах были вечерние костюмы, а на женщинах элегантные вечерние платья. Правда, большинство шлюх были излишне накрашены и вместо драгоценностей были увешаны дешевой бижутерией. Вдоль стен тянулись полукруглые мягкие диваны из кожи, разделенные изящными перегородками из узорного стекла. В конце зала помещалась небольшая сцена с красно-золотистым занавесом. Оркестр, состоявший из шестерых музыкантов, настраивал инструменты. Наконец прозвучал громкий аккорд и занавес раздвинулся. На сцену из-за кулис вышла высокая блондинка в белой летней форме германского морского офицера. Руки она держала в карманах клешей, пилотка была залихватски заломлена назад, а между тонких алых губ покачивалась сигаретка. Являясь кинопродюсером, Ник перевидал много красавиц, но — то ли из-за того, что Магда была по-особенному очаровательна в мужской военной одежде, то ли из-за снисходительно-презрительного выражения ее красивого лица, то ли из-за того и другого вместе — он внезапно понял, что никогда еще в жизни не видел женщины пленительнее Магды Байройт!
Она пела тихим, хрипловато-прокуренным голосом, который обволакивал огромный зал кафе каждым своим звуком и манил, манил, манил! Она пела об удовольствиях и страданиях любви и желания. Она пела, почти не сходя с места и гипнотизируя зал в течение получаса. Едва занавес закрылся, зал обезумел! Ник вскочил из-за столика, изо всех сил аплодируя и во весь голос выражая свой восторг.
— О, это богиня! — кричал он, перекрывая общий шум. — Фантастика!
— Хотите с ней познакомиться? — крикнул в ответ граф Алекс.
— Да!
«О Боже мой, — подумала Эдвина. — Начинается!»
Костюмерная Магды была явно не достойна такой большой актрисы. Это была заурядная комната с выставленными, словно напоказ, трубами водопровода по углам и дряхлым железным радиатором, который, казалось, производил больше шума, чем тепла. Магда встретила посетителей в простеньком, не совсем чистом халатике. Алекс поцеловал ей руку и сказал:
— Хочу представить вам двух моих американских друзей: мистера и миссис Флеминг.
— Боже, да ведь я же одна из ваших самых преданных поклонниц! — воскликнула она. — Я смотрела все ваши фильмы по нескольку раз, а в эти выходные как раз собираюсь попасть на «Бесплодную любовь»!
— А я с сегодняшнего вечера стала вашей поклонницей, — холодно улыбаясь, сказала Эдвина. — Мне страшно понравилось, как вы поете.
Магда обернулась к Нику:
— Надеюсь, ваше посещение спасет меня от множества хлопот.
— В каком смысле? — спросил Ник.
— Я хотела бы попробоваться в кино. Как и у многих других артистов эстрады, у меня загораются глаза, когда я думаю о Голливуде. И вот хочу спросить, как по-вашему, может ли на что-нибудь рассчитывать немецкая актриса в американском кинематографе?
— Скажу честно, просто не верится, что вы можете играть на том же уровне, как вы поете!
— Мне пришлось уже сниматься в четырех фильмах немецкой студии «UFA». Ничего особенного. Это были совсем крохотные роли, правда, но мне кажется, что у меня неплохо получилось. Я обожаю кино!
Ник переглянулся с женой и увидел, как сузились ее глаза. Затем он вновь улыбнулся Магде:
— Почему бы нам завтра не позавтракать в «Адлоне»? Там и поговорим.
— О, как это любезно с вашей стороны, — промурлыкала Магда. — В час дня вам будет удобно?
— «О, как это любезно с вашей стороны», — ехидно передразнила Эдвина спустя десять минут в такси. — «В час дня вам будет удобно?» — Она со злорадством пародировала немецкий акцент Магды.
— Ты тоже приглашена, — невозмутимо сказал Ник, садясь рядом. Машина помчалась в «Адлон», располагавшийся по адресу: Унтер-ден-Линден, 1.
— Зачем я там буду нужна? Чтобы стеснять тебя? Нет, спасибо.
— Эдвина, я делаю фильмы! Искать новые таланты — это часть моей работы. Может, из этой Магды получится вторая Гарбо!
— О Ник, избавь меня от этого бреда! Тебя винить трудно: она действительно красавица. Я просто думала, что в присутствии жены можно вести себя несколько скромнее.
Она мрачно нахмурилась. Он взял было ее руку, но она ее выдернула.
— Но запомни, — сказала она. — В Германии немало симпатичных мужчин. Мое дело — предупредить. Ты просил, если что, доложить сначала тебе? Будь готов, вполне возможно, что тебе не придется долго ждать.
Вот теперь уже настала его очередь дуться и хмуриться.
В девять часов следующим утром к Нику Флемингу, ожидавшему в вестибюле «Адлона», подошел гостиничный бой и сообщил:
— Машина ждет у подъезда, мистер Флеминг.
Ник дал ему на чай и направился к стеклянной двери-вертушке. У крыльца отеля стоял наготове скромного вида четырехместный «седан» — автомобиль с закрытым кузовом — черного цвета. За рулем сидел мужчина в черном котелке и с моноклем в правом глазу. Ник подошел к машине и открыл дверцу.
— Генерал фон Тресков? — спросил он.
— Да. А вы мистер Флеминг?
— Точно.
— Прошу садиться.
Ник устроился на переднем сиденье рядом с водителем. На генерале, худощавом человеке небольшого роста с песочного цвета волосами, был темно-синий костюм. Он пожал Нику руку со словами:
— Граф фон Винтерфельдт говорил о вас в восторженном тоне, мистер Флеминг. Мы, понятно, весьма рады иметь американца, скажем так, на нашей стороне.
— Каждая страна должна содержать армию для своей защиты, — ответил на это Ник. — В Америке много тех, кто, как и я, считает, что Версальский договор был ошибкой.
— Превосходно! — улыбаясь, воскликнул генерал. Он завел машину, и они поехали по Унтер-ден-Линден.
— Мы с Алексом фон Винтерфельдтом старые друзья, — доверительно сообщил генерал. — Наши семьи жили бок о бок в течение многих поколений. Вот почему я очень переживаю за Алекса и за его супругу.
— Переживаете? Они нездоровы?
— О нет, что вы. В полном здравии. Дело касается их сына Рудольфа. Вам, конечно, неоткуда было узнать об этом до сих пор. Руди — нацист. Причем один из самых пламенных и последовательных. Его родители ненавидят Гитлера и все то, за что тот ратует. Такое же мнение, могу добавить, преобладает и в генеральном штабе. Поэтому, сами понимаете, каково им было узнать, что их сын состоит в этой партии, даже более того: является интимным другом Гитлера. Это было для них тяжелым ударом. Они пытаются делать вид, что ничего не случилось, но об этом всем известно. Это трагедия, которая, боюсь, может стать очень распространенным явлением, если не пристрелить этого психа. Лично я даже не понял, чего он собственно хочет.
— Вам доводилось слышать его речи?
— Да, однажды в Мюнхене. Похоже, он из тех, кто умеет расшевелить толпу, но лично я никогда не любил крикунов. А Гитлер не просто кричит, он орет!
— Тогда понятно.
— Алекс сообщил вам, куда я вас отвезу?
— Нет. Вообще он все дело окутал большой завесой секретности. Сказал только, чтобы я был готов к девяти часам утра, так как в это время вы заедете за мной.
— Хорошо. То, что вы сейчас увидите, известно лишь очень узкому кругу немцев, а также нескольким шведам.
— Компания «Бофорс»?
— Именно.
— Мне приходилось слышать в кругах деловых людей, занимающихся военным бизнесом, что тайным владельцем этой фирмы является герр Крупп, так ли это?
Генерал фон Тресков повернул за угол.
— Если официально, то я скажу вам, что вы ошибаетесь. Если неофициально, то я скажу вам, что вы располагаете очень хорошими источниками информации.
— Можно один прямой вопрос?
— Пожалуйста.
— Почему вы доверяете мне?
— Ответ прост, герр Флеминг. Вы нужны нам. Вот мы и приехали: Потсдамерплац, 4.
Он припарковал машину у самого обычного на вид делового здания.
— Нам нужно на десятый этаж, — сообщил генерал. — К сожалению, лифта не будет. Придется взбираться пешком.
Они вошли в этот дом, выстроенный в самом начале века, и стали подниматься по лестнице. Поднявшись, тяжело дыша, до десятого этажа, они вошли в коридор. Генерал подвел Ника к двери в самом его конце.
— Буква «Е» означает немецкое слово «Entwicklung», — сказал фон Тресков и позвонил в дверь. — То есть «Развитие».
Дверь открылась. Они прошли небольшую приемную и оказались в просторной комнате, уставленной чертежными столами. Здесь работало около двух десятков человек. Когда они вошли, из-за ближайшего стола поднялся человек и пожал генералу руку.
— Это Хуго Пфайфер, руководитель проекта, — сказал генерал. — А это герр Флеминг, владелец американской компании «Рамсчайлд армс». Хуго покажет вам кое-что из того, над чем мы здесь работаем.
Круглолицый Хуго более походил на медбрата, чем на конструктора машин смерти. Он повел Ника по залу, показывая работу. Нику довелось увидеть, среди прочего, чертеж сверхмодернизированного танка, грубо замаскированного под сельскохозяйственный трактор. Но этот «трактор» был оснащен семидесятипятимиллиметровой пушкой! Здесь были чертежи восьми различных образцов тяжелой артиллерии, гаубиц, легких полевых орудий и нового мобильного двухсотдесятимиллиметрового миномета.
Ник был потрясен и оглушен. Ему стало ясно, что армия, оснащенная таким вооружением, будет иметь превосходство над любой армией мира.
— Это отделение фирмы Круппа, — сказал генерал, когда осмотр подошел к концу. — И все чертежи, которые вам были показаны, это чертежи Круппа. Как вам известно, условиями Версальского мирного договора возможности Круппа в производстве оружия весьма ограничены. А эти чертежи и другие, которых вы пока не видели, являются проектами будущего. Впрочем, если быть откровенным, герр Флеминг, производство некоторых видов этого вооружения уже скрытно ведется в Эссене. И компания «Бофорс», находящаяся в Швеции и не зависящая от версальских удавок, конечно, тоже в работе… Едва Алекс сообщил мне, что вы порываетесь продавать германской армии оружие, я сразу понял, в каком смысле вы были бы нам полезны. Если бы вы вдруг взялись за производство на своих американских конвейерах кое-чего из показанного вам здесь, то, я думаю, это можно было бы назвать, как у вас, американцев, говорят, неплохой сделкой для обеих сторон.
— Понимаю, о чем вы, — задумчиво проговорил Ник. — Но для меня это будет большим риском.
— За риск мы готовы прилично заплатить, герр Флеминг. К счастью, нас на удивление хорошо финансируют.
Ник еще раз осмотрелся.
— Мне придется подумать над вашим предложением, — сказал он.
— Конечно. Надеюсь, вы не откажетесь со мной позавтракать?
— К сожалению, или вернее, к счастью, я сегодня завтракаю с Магдой Байройт.
Генерал рассмеялся:
— Мне говорили о вашей стремительности в таких делах. Мои источники информации, как видите, не хуже ваших.
На ней был креповый костюм, который подчеркивал все преимущества ее великолепной фигуры. Стоило ей появиться в ресторанном зале «Адлона» вместе с Ником, как тут же на нее были обращены все взгляды переполненного зала. Мужчины рассматривали ее всю, поднимаясь глазами от черно-белых туфелек от Шанель к ее восхитительным ножкам и далее, к черно-белой шляпке, закрывавшей белокурую головку. На нее смотрели с желанием, восторгом и завистью. Явление Магды Байройт стало целым событием. Оскар, метрдотель ресторана, поцеловал ей руку, не переставая маслено улыбаться. Даже излишне маслено.
— С каждым днем вы становитесь все краше, фрейлейн, — говорил он. — Герр Флеминг, ваш столик у окна.
Он подвел их к окну, откуда открывался вид на Унтер-ден-Линден, спрятав по дороге бумажку в сто марок, незаметно врученную ему Ником.
— У нас есть восхитительная ирландская семга! — сказал он, когда они сели.
— Я на диете, — сообщила Магда с томной улыбкой. — Ничего, кроме икры и шампанского.
— Дорогостоящая диета, — сухо заметил Ник.
— Для меня нет. Может, для вас?
Он рассмеялся.
— Когда я завтракаю одна, — продолжала Магда, — я съедаю только два крекера и порцию салата латук. Но меня не каждый день приглашают на завтрак голливудские продюсеры.
Она положила свою миниатюрную черную сумочку на стол и скрестила ноги так, чтобы их мог видеть весь зал.
«Восхитительно, — оценил Ник. — Наверно, репетировала каждое движение перед зеркалом».
— Итак, мистер Флеминг, — сказала она после того, как шампанское было налито в изящные хрустальные бокалы. — Я слышала, что «Джазовый певец» пользуется большим успехом в Нью-Йорке. Не означает ли это начало эры звукового кинематографа?
— В Голливуде об этом судят весьма противоречиво. Кое-кто говорит, что это всего лишь причуда.
— А что вы говорите?
— Я переоборудую сейчас свою студию для съемок со звуком.
— Сразу видно в вас человека действия, который не боится принимать решения. Меня восхищает эта черточка в мужчинах. — Несколько секунд она молчала, поразительно откровенно изучая его лицо. — Выходит, немке с ее произношением никогда не удастся завоевать свое место под голливудским солнцем?
— Если честно, то не знаю. Я думаю, что когда зритель вдруг узнает, что у его любимой актрисы плохой акцент или хриплый голос, это может дурно сказаться на ее дальнейшей карьере. С другой стороны, ваше произношение может заинтриговать американцев. К тому же по-английски вы говорите хорошо. Хотите попробоваться у меня на потсдамской студии «UFA»?
— О, конечно! Конечно хочу!
К столику подошел Оскар.
— Прошу прощения, герр Флеминг, — сказал он. — Вас к телефону. Мистер Артур Хардинг.
— Благодарю, — ответил Ник, поднимаясь из-за стола. — Вы извините меня, фрейлейн?
— Пожалуйста, зовите меня Магда.
На секунду его взгляд упал на ее великолепные ноги, но затем он вспомнил об Эдвине.
— Хорошо, Магда.
Он ушел. Магда закурила сигарету.
Она уже узнала кое-что интересное.
Он был чуть выше пяти футов, а весил немногим больше ее ста фунтов. В детстве он страдал детским параличом, в результате чего на всю жизнь осталась деформированной нога. Это избавило его от мобилизации во время мировой войны. Из университета Мюнхена он перевелся в Гейдельберг, который окончил в 1921 году, получив степень доктора литературы. В течение последующих нескольких лет был занят тем, что писал романтическую автобиографию, озаглавленную «Михель», а также лирические стихи и драмы. Но на хлеб насущный зарабатывал уборщиком на кельнской бирже и домашним учителем. Претерпев в юношестве страстное увлечение марксизмом, после встречи с Гитлером Йозеф Геббельс решил, что наконец нашел героя, которого искал всю жизнь.
«Радость великая! — писал он в своем дневнике. — Он приветствует меня как старого друга! Как я люблю его! А эти большие голубые глаза? Как звезды! Он всегда рад видеть меня! Я на небесах!»
Геббельс прекрасно умел писать пропагандистские передовицы, хоть и был третьесортным литератором. Такой человек был нужен Гитлеру, поэтому карьера Геббельса в партии по своей стремительности была подобна комете. Всего год назад он прибыл в Берлин, чтобы быть здесь личным представителем Гитлера. Несмотря на свою прямо-таки телячью нежность к фюреру, Геббельс имел здоровые представления о половой жизни и зарекомендовал себя истинным охотником за юбками. Самой блистательной его победой стала Магда Байройт.
В шесть часов вечера он поднялся в лифте на третий этаж ее богатого дома на Грюнвальд и был встречен Магдой в ее квартире, обставленной в стиле арт деко. Магда была почти на восемь дюймов выше его, поэтому ей пришлось наклониться, чтобы Геббельс смог поцеловать ее в губы.
— Магда, Магда! Моя прекрасная, моя любимая! — восклицал он, тискал ее ягодицы через юбку. — У меня уже стоит! — Затем создатель техники пропаганды XX столетия полез рукой ей под юбку и стал ее там щупать.
— Йозеф! Где твоя культура? — резко проговорила она, отталкивая его. — Давай сначала хоть коктейль сделаем. К тому же у меня есть для тебя новости.
— Ты завтракала с Флемингом?
— Да. Он очень обаятелен и, кстати, красив.
Она прошла по белому меховому ковру, разостланному на середине ее богатой комнаты, и открыла в стене черный хрустальный бар.
— Ты спала с ним? — спросил Геббельс, сгорая от эротического любопытства.
— Нет. Он даже не намекал на это. Пока. Но во время завтрака его позвали к телефону. И знаешь, кто звонил?
— Кто?
— Артур Хардинг.
— Что? Но, интересно, какого чер… — Он стал торопливо расхаживать по комнате. — Постой… Да! Ну конечно! О, я начинаю кое-что понимать. Хардинг — берлинский корреспондент газетной сети Клермонта.
— А ты говорил как-то, что Ван Нуис Клермонт женат на матери Флеминга.
— Именно! О мой Боже… — Он остановился и побелел лицом. — Мой человек в «Адлоне» сообщил, что сегодня утром за Флемингом заехал генерал фон Тресков и отвез его на Потсдамерплац!
Он потрясенно смотрел на Магду, а потом неожиданно расхохотался.
— Что тут смешного? — спросила она, подавая ему стакан с мартини.
— Дураки! Идиоты! Они не понимают, что он задумал. А я понял!
— Кто «они»?
— Генштаб. Эти краснорожие недоумки! — Он перестал смеяться и пригубил из своего стакана. — Этот Флеминг, — с уважением в голосе заметил он, — должно быть, очень умен. И для Германии опасен. Его необходимо остановить.
— Йозеф, нельзя ли немного яснее? Скажи мне, что ты про него понял?
— Мне кажется, что он каким-то образом убедил Трескова и прочих остолопов в том, что будет с ними сотрудничать. Скажем, продавать им оружие. На самом же деле его целью является разоблачение тайного перевооружения германской армии перед всем миром! Разоблачение! Мне абсолютно наплевать на Трескова и остальных лошадиных задниц из генштаба. Но эта армия станет нашей. Что с ней будет? Да, Флеминга необходимо остановить.
Он подошел к серебряному телефонному аппарату Магды и снял трубку.
Они занимались любовью в черной кровати хозяйки квартиры. Потом Магда села на постели, закурила и, выпустив дым, сказала:
— Йозеф, ты должен поговорить с фюрером. До меня доходят абсолютно все берлинские сплетни. И знаешь, сейчас все говорят о Руди фон Винтерфельдте. Это становится похожим на скандал и может сильно повредить как фюреру, так и всей партии.
Геббельс тоже сел на постели. Он встревожился.
— Я знаю, — сказал он спокойно, — что фюрер великий человек, который стоит выше любой человеческой слабости. А этот молодой человек… — Геббельс покачал головой. — Он словно демон искушающий. — Он вздохнул. — Я, конечно, поговорю с фюрером, только это будет неприятный разговор. Что-то подсказывает мне, что фюреру мои слова очень не понравятся.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
— Это сенсация! — восклицал Ван Клермонт, лежа со своей женой в постели их дома в Сэндс-пойнте. — Сенсация! Сегодня днем я получил из Берлина первую тысячу слов от Артура Хардинга. Я тебе гарантирую: когда мы опубликуем материал, каждое словечко растащат на заголовки газеты всего мира! Нику удалось вскрыть секретные планы Круппа относительно германской армии. Они сами признались, что на заводе Эссена уже ведется производство! Плюс компания «Бофорс» в Швеции, которая тайно принадлежит Круппу. Она тоже производит оружие для немцев! Это не материал, а настоящая бомба!
Эдит мурлыкала от удовольствия.
— Ну хоть теперь ты признаешь, что Ник вовсе не так уж плох, а? Который уже год ты только и твердишь, что он жадный и хитрый.
— Я и сейчас скажу, что он жадный и хитрый, — прервал жену Ван Клермонт, надевая свой вечерний костюм по случаю приема, который они сегодня давали. — Но эту хитрость я использую в своих интересах. Делая это дело, он, согласен, проявляет завидное мужество, но не думай, Эдит, что я последний дурак и не понимаю, во имя чего он все это делает. И ты тоже это понимаешь.
Эдит, сидя перед зеркалом туалетного столика, пробежалась рукой по своим поседевшим волосам. Потом поднялась и обернулась к мужу.
— Да, я понимаю, — сказала она, — и не стыжусь признать это. Он мой сын, и я хочу, чтобы он что-нибудь унаследовал после меня.
Ван закончил завязывать свой черный галстук.
— Насколько я могу догадываться, это «что-нибудь» называется моей газетной сетью, не так ли?
— Ну и что в этом плохого? Ты сам признавал не раз, что он удачливый бизнесмен. Он добился успеха в Голливуде, когда все пророчили ему банкротство. Акции Рамсчайлдов повысились в цене почти вдвое с тех пор, как он приобрел компанию. Да, я знаю, что ему хотелось бы иметь еще и твои газеты. Кому бы не захотелось? Права на это наследство может оспаривать только твоя дочь, но не станешь же ты мне говорить, что она лучше Ника распорядится газетами? Да она и сама не захочет! Куда ей издавать газету, если она и прочитать-то ее едва сможет?
Ван поморщился. Алкоголизм его единственной дочери был его больным местом. Эдит подошла к мужу и поцеловала его.
— Прости, милый, — сказала она. — С моей стороны это было жестоко.
— Да что там, ты права, — вздохнул он. — И насчет Ника ты, пожалуй, тоже права. Возможно, из него выйдет неплохой издатель. И он твой сын. — Он поцеловал ее.
— Так ты подумаешь об этом? — тут же спросила Эдит.
Он рассмеялся:
— Ты уже три года пристаешь ко мне с тем, чтобы я включил Ника в свое завещание, так неужели же ты полагаешь, что я до сих пор ни разу об этом не задумывался? Я скажу тебе вот что: когда Ник вернется из Европы, я поговорю с ним, и если выяснится, что он настроен серьезно, начну обучать его издательскому делу.
Эдит бросилась обнимать мужа.
— Ты самый лучший мужчина! — воскликнула она.
Ван некоторое время молча разглядывал ее из-под толстых стекол очков.
— Интересно, — сказал он, — полюбишь ли ты меня когда-нибудь так же пылко, как любишь Ника?
— Ван! Как ты можешь так говорить?!
— Нет, не пойми меня неправильно. Я ни на что такое не намекаю. Просто мне кажется, он поразил тебя своим обаянием еще тогда, много лет назад, когда явился в твой дом в Пенсильвании грязным и бедным ребенком.
Эдит на минуту задумалась.
— Ты, наверное, прав, — сказала она. — Он тогда заинтриговал меня. И позже тоже.
— Он всегда вызывал в тебе восхищение.
— И злил порой. Не думай, Ван, что я слепа к его недостаткам. Но я чувствовала, у него в душе что-то хорошее. Я думаю, лишним подтверждением этому является его нынешняя поездка в Берлин.
— Да, только вряд ли им руководит альтруизм.
— Я знаю. И все-таки он вроде героя. По крайней мере, для меня.
Ван улыбнулся:
— Да уж. Такая мама «отмажет» его от чего угодно. Даже от убийства.
Отто Райнеке, бой из «Адлона» и один из людей Геббельса, торопливо устремился через вестибюль отеля к креслу, где сидел Ник и листал французский журнал.
— Машина подана, герр Флеминг, — сообщил он и по-актерски козырнул, приложив руку к козырьку своей фуражки, которая закрывала его светлые волосы и крепилась эластичным ремешком под подбородком.
— Благодарю, Отто, — сказал Ник, вытаскивая из кармана и передавая бою монету в десять марок.
Он пересек заполненный людьми вестибюль и вышел на улицу, гадая, почему это генерал фон Тресков приехал сегодня на другой машине. Когда же швейцар открыл ему дверцу и он заглянул в салон, то увидел, что за рулем сидит вовсе не генерал. Он увидел молодого человека в коричневом костюме и коричневой шляпе. У него был свернут на сторону нос.
— Генерал послал меня заехать за вами, — сказал он на отвратительном английском.
— А где он сам? — спросил Ник.
— На Потсдамерплац.
Ник знал, что на сегодня была назначена его встреча с офицерами генштаба в том же здании, где он побывал с генералом, на Потсдамерплац. Даже в той же самой комнате номер 4 с табличкой «Развитие». На десятом этаже. Поэтому он сел в машину, водитель повернул ключ зажигания, и они поехали на Унтер-ден-Линден.
Только спустя минут пять Ник понял, что они едут не туда.
— Эта дорога не приведет нас на Потсдамерплац, — сказал он.
— Здесь объезд, — объяснил шофер. — На одной из улиц затеяли ремонт. — С этими словами он повернул вправо на узкую улочку. Скорость на счетчике была семьдесят километров в час. Покрышки при повороте завизжали.
Ник достал из кармана пистолет и приставил дулом к виску шофера.
— Остановите машину, — потребовал он.
Тот и глазом не моргнул.
— Я сказал: остановите машину! — крикнул Ник и надавил дулом пистолета на висок шоферу.
Тот сбавил скорость, повернул на глухую аллею и там остановил машину. Аллею перегораживал грузовик, рядом с которым стояли трое мужчин в видавших виды костюмах. В руках у них Ник заметил оружие.
Тишина. Если не считать шума все еще не выключенного двигателя. Стрелки на часах показывали чуть больше девяти утра, но в аллее не было ни души, кроме этих вооруженных бродяг. Окна домов были наглухо заперты ставнями. Ник понял, что здесь — место казни. Кто-то разгадал его игру и решил теперь наказать. Испарина выступила у него на лбу. Изо всех сил он ударил шофера кулаком в живот. Тот согнулся пополам. Ник перегнулся через его скрюченное тело, распахнул дверцу и выпихнул шофера наружу. В это время по нему открыли огонь. Ник пригнулся, перевел машину на задний ход и нажал на газ. Машина стала выезжать из аллеи, но тут разлетелось лобовое стекло. Высунув в дыру руку с пистолетом, Ник начал стрелять вслепую. Наконец машина выехала из аллеи на улицу. Ник стал разворачиваться. Со всех сторон завизжали клаксоны. Ник даже не пытался управлять машиной, а только давил на газ. Раздался резкий скрип тормозов, вслед за которым последовал сильный удар сзади. Машину Ника здорово тряхнуло, и она остановилась. Слышалась немецкая брань.
Ник выбрался из машины и, когда огибал ее, увидел, что в нее врезался таксомотор, водитель которого вылезал из него с разъяренным лицом. Вокруг собиралась толпа. Ник увидел, как с аллеи вырулил тот грузовик. Из его окон вновь открыли пальбу. Ник рухнул на тротуар. Послышались крики разбегающихся в разные стороны прохожих. Шофер такси упал рядом с Ником. Пуля вошла ему в голову через левый глаз, превратив его в кровоточащую дырку.
На этом все кончилось.
— Вы упустили его?! — кричал Йозеф Геббельс в телефонную трубку. Он стоял в гостиной скромно обставленного дома, известного под названием Вахенфельд. Гитлер купил эту виллу недавно. Она располагалась вблизи Оберзальцбурга. В Берлине стояло еще бабье лето, а здесь, в баварских Альпах, уже падал легкий снежок. — Вы идиоты! Как он мог уйти?! Вас там было четверо! — Геббельс, морщась, слушал объяснения, а потом проговорил: — Вам эта промашка запомнится!
И бросил трубку.
Некоторое время он молча оглядывал просто обставленную комнату и размышлял. За дверью была веранда, расписанная грубоватым баварским орнаментом и выходившая на присыпанный снегом сад. Геббельс попросил встречи с Гитлером в его любимой резиденции в горах для того, чтобы поговорить на щекотливую тему о Руди фон Винтерфельдте. И вот теперь еще плохие новости!
Последними словами Геббельс проклинал нерадивость наемных убийц из нацистской партии. Когда Геббельс поделился с Гитлером своими соображениями по поводу действительных намерений Ника Флеминга, фюрер согласился с тем, что «этот американский жиденок», как он называл Ника, непременно должен быть устранен. Гитлер считал, что время на его стороне и что, несмотря на временные задержки, в течение ближайших пяти лет он встанет во главе Германии. Мечтая о покорении восточной Европы, ключевую роль в этом он отводил германской армии и, подобно Геббельсу, уже рассматривал ее в качестве собственности своей нацистской партии. Как и Геббельс, он быстро осознал всю опасность разоблачения в мировой прессе секретного перевооружения армии. Как и Геббельс, он возмущался глупостью генштаба, доверившегося Нику.
И теперь Геббельс вынужден будет признаться фюреру в том, что его головорезы на сей раз опростоволосились. Собравшись с духом, он зашагал через приемную с низким потолком к двери кабинета Гитлера. Он постучался.
— Входи.
Открыв дверь, Геббельс вошел в небольшую комнату, из окна которой открывался прекрасный вид отдаленного Зальцбурга. У окна стоял письменный стол, за которым сидел Гитлер и что-то писал. Геббельс прошел мимо книжного шкафа, из которого выглядывали корешки вестернов Карла Мэя, популярного детского писателя, которого Гитлер, к удивлению Геббельса, очень любил.
Гитлер отложил перо и повернулся.
— Мой фюрер, — нервно начал Геббельс. — У меня неприятные новости. Покушение на Флеминга, организованное моими людьми, потерпело неудачу.
Гитлер поморщился. Но, к изумлению Геббельса, разноса не последовало. После паузы он сказал только:
— Итак, сорвалось. Что ж… По крайней мере, мы попытались. К несчастью, в данное время мы не в силах наказать этого американского жиденка, но придет день… — Он прервался и стал грызть ногти. — Возможно, наши дорожки вновь пересекутся. И тогда герр Флеминг узнает, что у меня исключительно хорошая память! Ладно, Йозеф, для чего ты хотел меня видеть?
Геббельс откашлялся. С Флемингом пронесло, пронесет ли с графом?
— Мой фюрер, я хотел поговорить о графе фон Винтерфельдте. О молодом графе.
Увидев, как исказилось от гнева лицо Гитлера, Геббельс понял, что на этот раз неприятностей не миновать.
В Коннектикуте был сочельник 1927 года. Снег толстым слоем накрыл всю Новую Англию. Тяжелым грузом лежал на ветвях сосен и гнул хрупкие белые березки к земле так, что казалось, они вот-вот сломаются. По десятиакровому гринвичскому поместью Ника бродил голодный белозадый олень, выискивая съедобную, но редко встречавшуюся кору. Впрочем, в этом году, году мира и процветания, олени были, наверно, единственными голодными обитателями Америки.
Стояла свежая студеная ночь. Термометр показывал ниже двадцати градусов мороза. Над крышей каменно-кирпичного особняка, выстроенного в якобинском стиле и купленного Ником два года тому назад — дела все чаще заставляли его надолго оставаться на востоке страны, и этот дом стал его восточной резиденцией, — в чистом небе сверкал полный зимний набор созвездий. Каменистый берег пролива Лонг-Айленд беспрерывно полировался мелкими зыбкими волнами. На высоте пятидесяти футов над уровнем моря, на заснеженной, чуть покатой лужайке волшебно светились двойные окна двухэтажного дома, освещая мягким и теплым светом свеженаметенные сугробы на каменной балюстраде главной террасы. Перед домом росла высокая ель, которая была украшена крохотными электрическими лампочками. Другая светящаяся гирлянда висела на двери главного крыльца. Из всех четырех труб на крыше дома курился дымок, и даже если бы здесь появился ангел, вряд ли он смог бы своим присутствием прибавить покоя, красоты и веселья общей картине.
Внутри двадцатичетырехкомнатного дома в дальнем конце холла высотой в два этажа была установлена домашняя рождественская елка высотой в двадцать футов. Семья Флемингов собралась у елки для того, чтобы сделать семейную фотографию.
— Улыбочку! — попросил фотограф, которому Нику пришлось отвалить дополнительные сто долларов за то, чтобы тот работал в сочельник. Но Ник заплатил, не раздумывая. В делах он преуспевал, настроение потому было отличное, в семье все были здоровы и веселы. Это было самое счастливое Рождество в его жизни, и он хотел запечатлеть его для потомков.
Прямо перед елкой, которая ломилась от всевозможных лампочек, шариков и игрушек, сидел Ник в черном галстуке. Рядом сидела Эдвина в красном платье с блестками и множеством бриллиантов. На коленях у Ника сидела самая младшая в семье годовалая Виктория. У Эдвины на коленях ворочался двухлетний Хью. Позади Ника стояла четырехлетняя Файна, восхитительный ребенок с темными волосами, дочь Рода Нормана. Рядом с ней стоял восьмилетний брат Чарльз, старший ребенок в семье, унаследовавший от отца его смуглую красоту. За спиной Эдвины стояла семилетняя Сильвия, она родилась совсем светленькой, но с годами ее волосы стали темнеть и все больше напоминать светло-каштановые волосы матери. Группу детей замыкали трехлетний Морис, названный так в честь своего деда по материнской линии лорда Саксмундхэма, и шестилетний Эдвард. На флангах улыбались в объектив фотокамеры Эдит и Ван Клермонт.
«Вылетела птичка», фотограф сделал снимок, и в следующее мгновение дети, толкаясь и шумя, будто маленькие обезьянки, бросились к заветному месту возле елки, где высилась горка с рождественскими подарками.
После неудавшегося нацистского покушения на жизнь Ника американские официальные представители в Берлине посоветовали ему поскорее уезжать из страны, так как они не могли гарантировать его безопасность. Понимая, что его миссия в Берлине все равно уже выполнена, он выехал с Эдвиной из отеля. Только в поезде, который вез их в Париж, Ник рассказал жене об истинной цели своего посещения Германии. Поначалу она скептически восприняла этот рассказ, но после появления в печати статей Артура Хардинга, породивших настоящую бурю в Лиге наций и большинстве европейских столиц, сдержанность Эдвины переросла в горячее преклонение перед героическим поступком мужа. Ник, будучи восприимчивым к похвалам, как любой мужчина, только что не мурлыкал от удовольствия. А когда по возвращении в Штаты Ван сообщил, что серьезно подумывает сделать его своим наследником, счастью Ника и вовсе не стало предела.
Впервые за свою карьеру он стал выглядеть, по крайней мере, для своей семьи, как выразилась Эдит, «чем-то вроде героя».
Ник как раз показывал Вану и Эдит два своих новых приобретения — работы Пикассо и Ренуара, — когда вдруг услышал крики. Обернувшись к елке, он увидел своих старших детей, Чарльза и Сильвию, которые тянули каждый к себе большой пакет в подарочной обертке.
— Это мое! — кричала Сильвия. — Видишь, там написано мое имя!
— Ты поменяла карточки с именами! — в ответ кричал Чарльз. — Я проверял сегодня днем! Это мое!
— Эй, дети, — воскликнул Ник, спеша через огромную комнату к елке. — Не драться! Сегодня же сочельник!
Не обратив на отца ни малейшего внимания, Чарльз вдруг так сильно ударил сестру, что все присутствовавшие притихли. Девочка ударилась в слезы, а Чарльз спокойно отобрал у нее пакет с подарком и стал его развязывать.
— Чарльз, негодный мальчишка! — воскликнула в возмущении его мать, подходя к нему и отнимая подарок. — Как тебе не стыдно так обращаться с Сильвией?! Ты извинишься перед ней.
Чарльз вызывающе глянул на мать.
— Нет, — сказал он. — Это мой подарок.
— Это не дает тебе права распускать руки! Тем более по отношению к родной сестре! А теперь проси прощения.
— Не буду.
— В таком случае возвращайся в свою комнату.
Красивое лицо юного Флеминга словно окаменело.
— Не пойду.
Эдвина повернулась к мужу:
— Милый, ты сам все видел. Отведи его в комнату и вздуй как следует!
Ник посмотрел на старшего сына, которого просто обожал. Чарльз знал об этом.
— Папа, — сказал он, — правда, мне можно остаться? Ведь сочельник.
Сильвия все еще ревела у елки.
— Ты сможешь остаться, если извинишься перед сестрой, — сказал Ник.
— Но это мой подарок! — крикнул Чарльз. — Она пыталась его украсть!
— Он врет! — отозвалась всхлипывающая Сильвия. — Чарли хулиган!
— В пакете коньки! — крикнул Чарльз, в гневе оборачиваясь на сестру. — Я видел, как мама их заворачивала! У девчонок не бывает коньков. Они мои!
— Ты шпионил за мной, когда я заворачивала подарки? — воскликнула потрясенная Эдвина.
— Да.
— Чарльз, джентльмены не подглядывают! Они не бьют девочек! Отправляйся сейчас же наверх. Ты уже достаточно испортил всем нам праздник.
— Подожди, — вмешался Ник. — Чарльз не знает, что для Сильвии мы тоже приготовили коньки. Надо просто открыть этот злосчастный пакет и посмотреть на кого коньки: на мальчика или на девочку. Потом мы отыщем второй пакет.
Пока Ник развязывал пакет, Эдвина изумленно смотрела на него.
— Милый, неужели ты не понимаешь, что дело совсем не в коньках! — воскликнула она. — Чарльз повел себя как звереныш, и он должен быть наказан!
— Эдвина, не забывай, что сегодня праздник. Детей не стоит наказывать в сочельник. Чарльз, иди сюда, посмотри, подходят ли тебе эти коньки.
Возмущенно качая головой, Эдвина отошла к своей свекрови.
— Ник испортит мальчишку, — прошептала она Эдит на ухо.
— Просто он слишком хорошо помнит собственное детство, — ответила та. — Тогда у него ничего не было. Да, он балует детей. Просто не может отказать себе в этом удовольствии…
— Но ведь так он может превратить Чарльза в кого угодно!
Она вновь повернулась к елке. Победно усмехаясь и держа в руках коньки, на нее смотрел Чарльз.
Человек с наложенным на лицо густым слоем белил и ярко накрашенными красными губами стоял на небольшой сцене берлинского «Брассери Седан» и довольно фальшиво исполнял песню Фреда Астера «Белый галстук, фрак, цилиндр», являвшуюся последним бродвейским хитом того года. В кабаре на Бисмаркштрассе толпились в основном мужчины, хотя было и несколько женщин весьма неопределенных сексуальных ориентаций. Публика отчаянно дымила сигаретами и глядела на Вилли Кляйнбурга, бисексуала и местного певца, который двигался взад-вперед по сцене, по временам приподнимая свой цилиндр и отбивая ритм тросточкой с позолоченным набалдашником.
В дверях кабаре появился мужчина в черном костюме и шляпе и стал осматриваться, не обращая внимания на представление. Наконец его взгляд остановился на белокуром молодом человеке в вечернем костюме, который сидел в одном из темных уголков затянутого дымом зала. Мужчина стал проталкиваться сквозь толпу к Руди фон Винтерфельдту.
— Вас хочет видеть фюрер, — шепнул он ему. — Немедленно.
Удивленный Руди последовал за этим человеком на улицу.
— Фюрер в Берлине? — спросил он, когда они вышли на тротуар.
— Да. Здесь проходит конференция промышленников, и он выступает на ней. Вам, кажется, советовали не показываться в таких местах, как это кабаре?
— В Мюнхене, да. Но здесь, в Берлине, меня никто не знает. А мне давно хотелось послушать Вилли Кляйнбурга.
— Садитесь.
Мужчина в черном костюме открыл дверцу небольшого двухместного крытого автомобиля, и Руди сел туда. Мужчина захлопнул за ним дверцу и пошел на свое место за рулем. Машина тронулась и поехала по Бисмаркштрассе.
— Где остановился фюрер? — спросил Руди.
— На вилле доктора Геббельса около Ванзее.
В течение двадцати минут они ехали на юго-запад и сохраняли молчание. Потом показалось большое и красивое озеро Ванзее. Здесь, а также на лесистых участках возле Далема и Грюнвальда нувориши понастроили пригородные виллы. В летние сезоны Ванзее, равно как и другие озера вокруг Берлина, было посещаемо тысячами отдыхающих берлинцев, которые устраивали здесь веселые пикники, купались, катались на лодках.
Машина повернула с дороги к массивным воротам и въехала на темную и длинную подъездную дорожку. Руди, знакомый почти со всеми партийными слухами и сплетнями, знал, что официально Геббельс корчит из себя главу приличного семейства с доброй и милой женой Магдой и целым выводком детей, в то время как на самом деле тайно живет с певичкой Магдой Байройт, да и другими любовницами. Собственная садомазохистская связь с Гитлером не мешала молодому графу высмеивать бьющее через край лицемерие Геббельса.
До сих пор ему не доводилось бывать на этой вилле, и теперь было очень интересно посмотреть, на что же уходят деньги партии. У Геринга и Геббельса была репутация людей, привыкших жить на широкую ногу. Этим они отличались от своего более скромного фюрера.
Но машина не остановилась у виллы. Шофер свернул на служебную дорожку к озеру, где стоял маленький, но симпатичный деревянный домик — эллинг для прогулочных лодок.
— Фюрер остановился здесь, — сказал шофер, выходя из машины.
Руди пошел за ним к эллингу, второй этаж которого имел две комнаты для гостей. Шофер открыл дверь, и Руди оказался в прохладной гостиной, которая была хорошо обставлена и на стенах которой висели картины с изображением парусников. Шофер закрыл дверь, и Руди оглянулся на него.
— Фюрер, — начал этот человек, доставая из кармана пиджака пистолет, — сказал, что ради достижения его мечты в отношении Германии он вынужден побороть свои личные слабости. Вы — его последняя личная слабость. — С этими словами он дважды выстрелил Руди в сердце.
Он вынес труп из эллинга и опустил его в моторную лодку. Заведя движок и отъехав на середину озера, он привязал к ногам жертвы груз и перевалил тело Руди фон Винтерфельдта через борт лодки в холодные черные воды озера Ванзее.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ 1930–1934
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Длинный черный «мерседес» с пуленепробиваемыми стеклами, двойной стальной броней кузова и двумя государственными флажками Турции на крыльях выехал из пригородов Стамбула и помчал в сторону Скутари. Автомобиль сопровождал эскорт полицейских на мотоциклах, которые пронзительными сиренами заставляли прочие машины освобождать проезд. Нищие, уличные торговцы и прохожие, вжимаясь в обочину дороги, пялили глаза на президентский лимузин и приветственно махали руками. На заднем сиденье лимузина в величественном одиночестве сидел президент Турции Кемаль Ататюрк[12], бывший еще несколько лет назад просто Мустафой Кемаль-пашой.
За восемь лет, прошедших после пожара в Смирне, теперь переименованной в Измир, Кемаль пинками и тычками затолкал Турцию в XX век, снял с женщин чадру, уничтожил сначала институт султаната, а потом к ужасу духовенства — институт халифата, заставил взять за основу турецкой письменности латинский алфавит. Вскормив демократические устои, он одновременно сохранял свою личную власть такой же самодержавной, какая была и у султанов. Дело не обошлось без жертв. На заклание был отдан некогда ближайший друг и сподвижник Кемаля полковник Ариф. Раздраженный диктаторской властью Кемаля, Ариф выступил против него, приняв участие в подготовке государственного переворота. Кемаль арестовал Арифа и подписал ему смертный приговор, даже глазом не моргнув, задержавшись лишь для того, чтобы погасить окурок сигареты в пепельнице. Ариф был уверен, что в самую последнюю минуту приговор отменят. Он пошел на виселицу убежденным в том, что произошла какая-то ошибка, что старый друг не мог так поступить с ним.
И все же даже самые отчаянные критики Кемаля признавали, что, невзирая ни на какие помехи, он создал новую, современную Турцию из той страны, которая всего за десять лет до того находилась, в сущности, на краю пропасти.
Через двадцать минут езды процессия завернула во двор уродливого четырехэтажного здания из красного кирпича, которое было построено семьдесят пять лет назад, во время Крымской войны, как госпиталь. Со временем там разместилась государственная психиатрическая лечебница. Недавно эта больница, как и многие другие государственные учреждения Турции, стала носить имя Кемаля Ататюрка. Доктор Мендур Халави, лысый, средних лет человек, являвшийся директором лечебницы для душевнобольных имени Кемаля Ататюрка, нервно переминался с ноги на ногу на крыльце. Процессия остановилась. Из лимузина выскочил один из телохранителей и распахнул заднюю дверцу, откуда на ослепительное сентябрьское солнце вышел президент Турции.
— Ваше превосходительство! — срывающимся от волнения голосом воскликнул доктор Халави и склонил голову перед Кемалем. — Какая честь для нас!
Кемаль пожал руку директору больницы, который представил ему троих сотрудников медперсонала, стоявших тут же. Затем доктор Халави проводил президента в свой кабинет, расположенный на первом этаже, где уже был подан кофе.
Когда они остались одни, Кемаль сказал:
— Ваша история кажется мне невероятной. Расскажите ее в подробностях еще раз.
— О, конечно, ваше превосходительство! Эта женщина поступила к нам семь лет назад из Смирны, о, пардон, из Измира. Она явилась одной из жертв великого пожара: обширные участки тела и лицо сильно пострадали от огня. Если совсем откровенно, то мы не могли понять, как она еще осталась жива! Впрочем, измирские врачи очень хорошо над ней потрудились. К тому же ей повезло еще и в том, что те врачи владели техникой операций, которая была разработана во время войны специально для ожоговых раненых. Возможно, это и спасло ей жизнь. Хотя внешне она осталась сильно обезображенной. И потом она пребывала в состоянии нервно-психического расстройства. Не говорила. Было совершенно ясно, что ужасы, пережитые ею, серьезно повредили ее рассудок. Настолько серьезно, что мы боялись: даже заговорив, она не сможет припомнить, кто она такая. Поскольку нам не удалось установить личность этой больной, мы назвали ее Софи и поместили в третью палату. В течение почти целых семи лет Софи была одним из самых послушных членов нашей маленькой общины. Ей поручили несложную работу по уборке помещений, а поскольку ни один из наших методов лечения явно не находил в ней отклика, мы решили, что тайна ее личности так и останется нераскрытой до конца ее дней.
И вдруг полтора месяца назад она заговорила! Я был просто изумлен, хотя, разумеется, медицине известны случаи, когда по истечении довольно длительного периода человеческий мозг своими силами справлялся с тяжелой психической травмой. Очевидно, Софи и есть один из таких случаев. Но я был поражен еще больше, когда выяснилось, что она совсем не знает турецкого языка, а говорит либо по-английски, либо по-французски! Я знаю французский, поэтому стал ежедневно видеться с ней, пытаясь помочь ей восстановить память. Поначалу она рассказывала только об Америке. Оказалось, что по национальности она, видимо, американка. Она рассказывала о своем детстве, проведенном в Коннектикуте, о своей семье, которая, по ее словам, была весьма обеспеченной. По мере того, как она собиралась с душевными силами, в своих рассказах она стала постепенно приближаться ко времени той страшной трагедии, которая так травмировала ее. Я имею в виду пожар в Измире. Наконец две недели назад она оказалась в силах рассказать непосредственно о том кошмаре, который приключился с ней. Во время рассказа с ней случилась истерика, и я уже испугался, что она может снова впасть в состояние психического расстройства. Но она показала себя сильной женщиной. Помешательство явилось следствием не только сильной боли от ожогов, но и осознания того, что перед этим она была изуверски изнасилована четырьмя турецкими военными…
Нахмуренный Кемаль закурил.
— Дальше, — сказал он, выпуская колечко дыма.
— И тогда она впервые назвала свое имя: Диана Рамсчайлд. Она стала умолять меня связаться с вами. Говорила, что вы обязательно поможете ей, потому что однажды она была вашей ханум, вашей женщиной. Поначалу я, естественно, подумал, что это всего лишь одна из фантазий нездорового сознания. Но изо дня в день она не переставала просить меня о том, чтобы я связался с вами, и я из жалости направил письмо вашему советнику. Я хотел как лучше, ваше превосходительство. Прошу прощения, если сделал что не так.
Кемаль был погружен в свои мысли.
— Вы все сделали правильно, доктор, — сказал он наконец и поднялся из-за стола. — Проводите меня к ней.
— Я мог бы послать за ней, ваше превосходительство, чтобы она сама явилась.
— Нет, я хочу посмотреть на то, как она жила все эти семь лет.
Кемаль загасил окурок и последовал за доктором Халави из кабинета. Весь персонал лечебницы до единого человека жадно, с благоговением и восторгом вглядывался в почитаемого отца турок. Кемаль и доктор Халави поднялись по отдраенной каменной лестнице на третий этаж здания.
В честь прибытия в лечебницу высокого гостя все стены были выбелены, голые электрические лампочки, висевшие под сводчатым потолком на длинных черных шнурах, были протерты от пыли, а перегоревшие заменены. В воздухе стоял свежий, приторно-сладкий запах дезинфекционных растворов. Кемаль и доктор Халави шли по центральному проходу третьей палаты. Пациентки следили за ними своими безумными глазами, одна из них что-то несвязно бормотала. Кровати были опрятно заправлены. Босоногие пациентки стояли у своих кроватей в белых больничных халатах. Высокие окна были распахнуты, чтобы поступал свежий воздух с улицы, и все же было душновато. Палата была вся вымыта и протерта, но все равно было мрачно. Особенно это ощущение усиливалось, когда с четвертого этажа из палаты буйных время от времени доносился чей-то крик. Невольно вспоминался Диккенс.
Она стояла, как и все, возле своей койки в середине палаты. Ее медового оттенка белокурые волосы подернулись сединой на висках, а обнаженные ноги, руки, шея и нижняя половина лица были покрыты сплошными рубцами. Нетронутыми остались только ее благородный античный нос, удивительные зеленые глаза и алебастровый лоб… В остальном же Диана Рамсчайлд походила на исчадие ада.
Кемаль невольно содрогнулся. Даже Кемаль Ататюрк оказался способен на такое чувство, как жалость. Ему было жаль эту развалину, которая некогда была красивой женщиной. На него произвело большое впечатление то, что она без смущения смотрела на него. Пламя Смирны не истребило ее гордости и мужества.
— Ты пришел, — сказала она негромко. — Благодарю тебя.
Он сделал шаг вперед и обнял ее.
— Если бы я только знал…
И в этот момент гордость оставила ее. На нее нахлынула волна воспоминаний, которые на долгие семь лет были вычеркнуты из ее памяти травмированным сознанием. Она рыдала в его объятиях, а он гладил ее волосы.
— Я сделаю все от меня зависящее, — шептал он, — чтобы вернуть тебя к человеческой жизни.
Он повернулся к доктору Халави.
— Мисс Рамсчайлд, — сказал Кемаль, — возвращается со мной в Стамбул.
Он предоставил в ее распоряжение целые апартаменты в султанском дворце — в том самом дворце, где восемь лет назад она отказалась дать взятку Бабур-паше, — и строго-настрого наказал слугам относиться к ней как к султанше. Из Стамбула он выписал лучшую портниху, мадам Розу, которой приказал сшить Диане новый гардероб, который бы скрывал ее шрамы.
— Я снял чадру с турчанок, — говорил он ей, — но надену на тебя.
Он обращался с ней совершенно так же, как во времена их прежней любви, и по падкому на всякие сплетни городу поползли слушки о том, что якобы Ататюрк полюбил «чудище». Этот слух подбавил «перчинки» к его и без того легендарным любовным похождениям.
И на самом деле он любил Диану, только если раньше его привлекала ее американская свежая красота, теперь его привлекали в чем-то ее шрамы. Хотя одновременно и отталкивали. Поскольку физическая любовь была между ними теперь невозможна, Кемаль стал вести себя как древний рыцарь, ухаживающий за недоступной принцессой. В их взаимоотношениях была романтика, которой так не хватало Кемалю в его отношениях с женщинами Стамбула и Анкары, каждая из которых с радостью шла к нему в постель. Правда, эта романтика имела неприятный привкус жалости и ощущения вины за тех солдат, которые изнасиловали ее. Он уверил ее в том, что не имел никакого отношения к тому, что приключилось с ней в порту Смирны. Он высказал предположение, что это, может быть, Фикри подговорила солдат на это злодеяние. О судьбе самой турчанки в черном он сказал только, что однажды она так довела его своей болезненной ревностью, что он был вынужден отослать ее в психиатрическую лечебницу в Германии.
Диана поверила Кемалю. Ей очень хотелось верить ему, потому что этот человек олицетворял собой все, что осталось у нее от жизни. Она когда-то страстно любила этого человека, и теперь ей казалось, что она снова полюбила его, даже сильнее, чем прежде.
Только на третий вечер ее пребывания во дворце, когда Кемаль пришел отужинать с ней в ее комнатах, Диана поняла, как много она навсегда потеряла в этой жизни и как мало в ней для нее осталось. На ней было длинное до пят светло-голубое платье из шифона, которое днем передала ей мадам Роза. Это было первое платье Дианы за почти восемь лет, поэтому радость ее была неописуемой! А дальше шли изящные «шоры», которые ей суждено было носить до конца дней: длинные до локтей перчатки для того, чтобы прикрыть шрамы на руках, и вуаль, закрывавшая нижнюю часть ее лица. Кемаль выписал из отеля «Пера-палас» лучшего парикмахера, чтобы тот красиво причесал подернутые сединой волосы Дианы. Тоже впервые за много лет.
Появившись в ее комнате, Ататюрк был просто потрясен.
— Вуаль, — произнес он тихо. — Вуаль снова сделала тебя красивой. — С этими словами он поцеловал ее обтянутые перчатками руки.
— Я буду носить ее до конца жизни, — сказала она в ответ. — Я буду Дамой под вуалью, и если правы те, кто говорит, что красота — это наполовину иллюзия, то я действительно смогу считаться красивой… Я благодарна тебе, мой паша, за все, что ты для меня сделал.
Он подвел ее к одному из диванов с золотистой обивкой и сел рядом, будучи не в силах оторвать от нее глаз. Он знал, что за этой вуалью кроется страшное уродство, и это интриговало его.
— У меня для тебя плохие новости, — сказал он после паузы. — Сегодня днем я получил телеграмму от моего посла в Вашингтоне. Твоя мать умерла семь лет назад.
Она молчала.
— Я сердцем чувствовала это, — прошептала она наконец. — Когда память вернулась ко мне и я осознала, сколько прошло лет, мне вдруг что-то подсказало, что мамы уже нет. — Она внимательно посмотрела на него. — Кто же унаследовал компанию?
— Никто. И поскольку ты официально считаешься погибшей, боюсь, у тебя нет ни одного шанса затребовать назад свои акции.
Она была в недоумении.
— Не понимаю. Как это «никто»? У меня есть двоюродные братья и сестры, которым, как я полагала, мама завещала все наши акции.
— Правильно, она так и сделала. Но они продали это состояние торговцу, имя которого ты, наверное, еще не забыла.
Ее зеленые глаза округлились.
— Нику Флемингу?!
Кемаль утвердительно кинул.
Диана Рамсчайлд испустила крик ярости, который разорвался в тишине дворца, будто удар грома. Она вскочила с дивана, перебежала на противоположную сторону комнаты и стала отчаянно бить кулачками в стену, украшенную деревянным резным орнаментом. Вдруг замерла, медленно повернулась к Кемалю и обратила на него горящий взгляд.
— Моя жизнь вновь приобрела смысл, — сказала она.
— Месть? — спросил он с легкой улыбкой.
— Я его уничтожу! Если есть Господь, то я клянусь ему, что уничтожу Ника Флеминга! Он будет страдать так же, как страдала я! Он будет завидовать мертвым! И все это сделаю я сама! Наемников больше не будет!
Он встал, подошел к ней по сверкающему паркету и взял ее за руки.
— Ты прекрасна! — с улыбкой сказал он. — Я когда-то говорил тебе, что ненависть так же сильна и пленительна, как и любовь, и я оказался прав. Как ты собираешься разделаться с ним?
— Еще не знаю, — ответила она тихо. — Но время придет. Я смогу вполне насладиться своей местью.
— Ты прекрасна, — повторил он, целуя ее руки через перчатки. — Странно, но теперь ты возбуждаешь меня больше, чем прежде.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
На мир и процветание на планете незаметно стала наползать зловещая тень депрессии. Как и миллионы американцев, Ник Флеминг почувствовал на себе ее сильное давление, хотя это и не заставило его переквалифицироваться в продавцы яблок. В конце концов, он был мультимиллионером. Он, конечно, понес потери в связи с крахом на Уолл-стрит, но поскольку он никогда особенно не полагался на биржевые сделки, полученные им раны оказались не смертельными. К тому же кинобизнес продолжал процветать, пусть и не так равномерно, как раньше. «Метрополитен» продолжала приносить доход. С другой стороны, карьера Эдвины на время прервалась, и ее имя уже не мелькало на афишах, как в 20-х годах. В 1929 году она снялась в своем последнем фильме «Дело на Мадагаскаре», который, несмотря на рекламу «знойных сцен страсти», полностью провалился. Скрывая искреннюю обиду, Эдвина заявила, что кино было ее капризом и она с ним расстается, как и полагается расставаться с капризом. Ник, на глазах которого прошла вся череда ее фильмов, от блистательных до неудачных, позволил себе втайне облегченно вздохнуть. Съемки Эдвины приносили ей значительный доход, который теперь пришлось исключить из семейного бюджета. Те деньги, которые раньше Ник платил ей, теперь нужно было отдавать другим актрисам. Но все равно Ник был рад ее уходу из кино.
И все же основой «империи Флеминга» — появление этого термина в прессе весьма польстило Нику — являлась «Рамсчайлд армс». В 20-х годах Нику удалось вдохнуть жизнь в компанию в основном за счет значительных продаж оружия в Южную и Центральную Америку. Но к началу 30-х годов распространившаяся на весь мир депрессия нанесла удар и по военному бизнесу. До сих пор Ник всегда делал щедрые взносы в казну республиканской партии, но с наступлением депрессии и нарастанием непопулярности Гувера в самых широких слоях общества Ник, будучи абсолютно аморальным в политике, стал делать взносы в казну демократов. Когда же в 1932 году демократы одержали полную победу на выборах, для Ника открылись «важные двери» в Вашингтоне. В особенности дверь нового сенатора-демократа от Коннектикута Гаррисона Уорда. Уорд, яркий и молодой политик из поколения «новых деловых людей», был заинтересован в наиболее полном использовании компании Рамсчайлдов. И именно Уорд устроил Нику возможность выступить перед группой влиятельных сенаторов в феврале 1933 года в вашингтонском клубе «Метрополитен».
— Со времен мировой войны, — говорил Ник с кафедры, — политика правительства Соединенных Штатов была направлена на то, чтобы иметь, как я это называю, «минимальную армию». Эта политика основывалась на таких аргументах: мол, мировая война была последней крупной войной на суше, и любая будущая война — главным образом, война с Японской империей — будет вестись в открытом море. Я спорил с этой точкой зрения не один год, а последние события в Европе заставляют меня спорить с ней еще сильнее. Да, я промышленник в области вооружений, и продавать оружие и боеприпасы армии Соединенных Штатов мне выгодно. Но, джентльмены, три недели назад Адольф Гитлер стал канцлером Германии! Я на собственном опыте испытал методы нацистов и могу вас уверить в том, что Гитлер будет отныне делать все, что в его власти — а власть теперь у него немалая, — для того чтобы милитаризовать Германию. И если мы, американцы, не станем делать сейчас то же самое — особенно учитывая, что наша армия по силе стоит лишь на двенадцатом месте в мире, — то придет день, когда мы все горько пожалеем об этом.
Сенаторы одарили Ника вялыми аплодисментами. Человек шесть в зале благополучно дремали.
Время Ника истекло.
Если не считать поджога рейхстага, первые несколько месяцев пребывания Гитлера у власти не были отмечены серьезными событиями. Канцлер, выступая перед народом, пока особенно не давил на него. Мировая пресса и многие правительства всерьез решили, что с приходом к власти Гитлер станет респектабельнее.
Но у Ника, который хорошо запомнил то нацистское покушение на его жизнь, имелось на этот счет иное мнение.
Две полные женщины с заплетенными косами в немодных вечерних платьях сидели за клавишами двух прислоненных одно к другому фортепиано фирмы «Бехштейн» и исполняли «Прогулку валькирий». А в это время большинство работающих или живущих в Стамбуле иностранцев и дипломатов смешались в главной гостиной бывшего посольства Германской империи — теперь это называлось германским консульством, а посольство переехало вместе с турецким правительством в новую столицу, скучную Анкару. Дипломатам этот переезд был весьма не по душе. Богатые турчанки, питавшие неумеренную страсть к большим бриллиантам и рубинам, были увешаны сверкающими драгоценностями. Мужчины были в белых галстуках и в орденах. Разноцветные шелковые ленты по диагонали пересекали их накрахмаленные белые сорочки. Британский посол был одет в форменный дипломатический китель, богато расшитый золотыми листьями. Прием давался в честь нового германского военного атташе в Турции генерала Эрнста фон Трескова. Низенький, с песочными волосами и моноклем в глазу, генерал был переведен в Турцию, потому что был одним из тех членов германского генштаба, которым Гитлер не доверял. Генерал как раз пил «Луис Редерер кристал» и разговаривал с германским послом бароном Ульрихом фон Греймом, когда объявили о прибытии Ататюрка. Барон с баронессой пошли к дверям приветствовать президента, а потом представили ему виновника торжества.
Спустя два часа, когда Ататюрк уже порядочно приложился к своей любимой ракии, он отозвал генерала фон Трескова в сторону и негромко сказал ему:
— После приема вы будете моим гостем на ужине. Я хочу, чтобы вы познакомились с самой восхитительной женщиной во всей Турции.
Тресков отметил, что президент Турции уже прилично напился. Впрочем, склонность Ататюрка к алкоголю была хорошо известна в дипломатических и правительственных кругах. Но отказать самому Кемалю Ататюрку было просто немыслимо.
Спустя три четверти часа президентский лимузин уже остановился перед виллой с красивой террасой на восточном берегу Босфора. В машине находились Ататюрк, барон фон Грейм и генерал фон Тресков.
— Я зову это место нашим неофициальным отелем для приема государственных гостей, — с улыбкой сказал Ататюрк, выходя из огромного «мерседеса». — Барон фон Грейм уже бывал здесь, и ему очень понравилось, не так ли, барон?
Он игриво подмигнул германскому дипломату, этому шестидесятилетнему толстячку — он весил почти триста фунтов, — который сразу сильно смутился.
Чернокожий лакей, одетый в белые шаровары древних турок-османов и короткую жилетку, накинутую на мускулистые обнаженные плечи, ожидал прибывших возле двустворчатой красиво инкрустированной двери.
— Добро пожаловать в Дом вуали, — нараспев произнес он и низко поклонился гостям.
Генерал фон Тресков всякой экзотики навидался еще в Берлине, но это было как преддверие в мир арабских сказок Шехерезады.
Посреди восьмиугольного холла, отделанного белым мрамором, возвышалась огромная статуя обнаженной женщины. Из сосков ее грудей били фонтанчики воды. Оглядываясь на это изваяние, генерал фон Тресков последовал за черным слугой, который провел гостей в оранжерею со стеклянным потолком, наполненную папоротниковыми и фруктовыми деревьями и экзотическими птицами. Затем они оказались в большом зале, обставленном великолепной французской мебелью. Посредине зала на мраморном столике мозаичной работы стояла огромная золотая ваза с дынями, грушами, апельсинами и крупным ароматным виноградом. По обе стороны от столика стояли две редкой красоты девушки. На них были гаремные шаровары из тончайшего газа и такие же, как у лакея, безрукавки из узорного шелка, под которыми, почти не скрываясь, выпирали полные груди. Девушки были босоногие. На лодыжках и обнаженных руках у них были закреплены золотые обручи и браслеты. Десятки браслетов. В соседней комнате заиграли на арфе, девушки низко поклонились гостям и в один голос сказали:
— Добро пожаловать в Дом вуали.
Они повели гостей в следующую комнату, а черный лакей дальше не пошел.
В этом зале у генерала фон Трескова упал монокль.
В помещении стоял аромат восточных благовоний. Стены здесь были обшиты золотыми листами, пол из розового мрамора, застекленные двери вели на террасу, выходившую на залитый лунным светом Босфор. На десяти диванах, обтянутых голубым шелком с золотой ниткой, возлежали совершенно обнаженные юные красавицы. В углу зала за арфой сидела еще одна обнаженная нимфа. Сцена походила на не прошедший цензуру кадр из фильма Басби Беркли.
В центре комнаты стояла Диана Рамсчайлд. На ней были платье до пят из светло-зеленого шифона, длинные белые перчатки и вуаль, закрывавшая нижнюю часть лица.
Ататюрк подошел к ней и поцеловал ее руку, обтянутую перчаткой.
— Добрый вечер, моя прекрасная Дама под вуалью, — сказал он. — Я решил сегодня приобщить к познанию турецкой красоты нового германского военного атташе. Барона фон Грейма вы, конечно, знаете. А это генерал Эрнст фон Тресков.
Немцы поочередно прикоснулись губами к белой перчатке Дамы под вуалью.
— Добро пожаловать, джентльмены, — сказала Диана.
— Вилла принадлежала брату султана Абдула Хамида, — сказал Ататюрк. — Мы конфисковали ее в пользу государства, когда султанская семья покинула Турцию. Я сдал ее в аренду моему дорогому другу, мисс Рамсчайлд. А уж она обернула эту красоту в весьма прибыльный бизнес.
— Рамсчайлд? — переспросил Тресков. — Это не часто встречающаяся фамилия. Не имеете ли вы случайно какого-либо отношения к семье, которая владела компанией «Рамсчайлд армс» в Соединенных Штатах?
— Эту компанию основал мой дед.
— В таком случае вы должны быть знакомы с Ником Флемингом?
Ататюрк кашлянул.
— Это имя не принято упоминать в присутствии Дианы, — сказал он.
— Ничего, — ответила она быстро. — Насколько я понимаю, вы его знаете?
— Да. Шесть лет назад я познакомился с ним в Берлине. Он весьма ловко прикинулся, что заинтересован продавать германской армии оружие, и мы простодушно ему доверились. Оказалось, что его интерес состоял в том, чтобы предать широчайшей огласке все наши секретные планы. Фюрер так и не простил мне той ошибки.
В зале показались черные слуги, одетые точно так же, как и лакей в дверях. Они несли серебряные подносы с шампанским и икрой.
— В таком случае мы с вами товарищи по несчастью, — сказала Диана генералу. — Нас обоих обманул Ник Флеминг. Прошу вас, чувствуйте себя здесь как дома, генерал. Позднее мы, может быть, еще поговорим о мистере Флеминге.
Тресков не мог отвести глаз от нимф, полулежавших на диванах.
— Жаль, что в Берлине нет ничего подобного, — пробормотал он с сожалением.
— Возможно, я открою там свой филиал, — заметила Диана.
Ататюрк рассмеялся.
— Если вы серьезно, — заговорил барон фон Грейм, — то я с великим удовольствием познакомил бы вас с нужными людьми. Уверен, что фельдмаршал Геринг будет счастлив иметь что-либо подобное в Берлине!
Она внимательно посмотрела на этого жирного, с красным лицом германского дипломата.
— Возможно, серьезно, — негромко сказала Диана.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Эдвине давно уже было за тридцать, она была неугомонна и одновременно скучала. В то жаркое лето 1934 года многие женщины отдали бы все, чтобы быть Эдвиной Флеминг. И хотя ее кинокарьера уже закончилась, она продолжала оставаться кинозвездой, знаменитой, красивой и богатой. Она одевалась у Вайонета, Чиапарелли и Молино, имела дома в Гринвич-виллидж и в Беверли-хиллз, двенадцатикомнатную квартиру на Парк-авеню, в ее распоряжении находился гараж с шестью автомобилями, она могла купаться в драгоценностях и мехах, ее окружали красивые дети и любящий муж.
Однако стиль ее прошлой жизни — бесконечные покупки, приемы, неугомонное веселье и забавы — стал уже надоедать. Она восхищалась тогдашней «первой леди» Элеонорой Рузвельт, которая искренне озаботилась проблемой бедных. Эдвина и сама тратила деньги и время на «дельные» благотворительные проекты, но все равно ее нельзя было назвать социально активной. Она хотела посвятить свою жизнь чему-то более важному, чем наряды и меха. Помощь в организации бесплатных столовых для нуждающихся? Но это лицемерие! Вот если бы она захотела добровольно расстаться со всем своим богатством… Но она не хотела. Эдвина считала, что больше всего ей подошла бы роль Норы из «Кукольного дома» Ибсена. Более полувека назад в этой пьесе Нора ушла от мужа. Но этот ее вызов, вне зависимости от того, насколько жарко обсуждался он театралами, похоже, мало отразился на незыблемости института брака. Эдвина не хотела уходить от Ника и тем более бросать детей. Но идея «вызова» Нику привлекала ее так же сильно, как и ее ночные купания обнаженной в бассейне Тракс-холла в 1917 году.
Впереди маячил тридцать восьмой в ее жизни день рождения, и в этом возрасте Эдвине захотелось наконец «взбрыкнуть». Только вот каким образом? Пока она этого не знала.
Эдвина занималась составлением меню для приема, назначенного на следующую субботу по случаю 4 Июля[13], когда раздался звонок в дверь. Спустя минуту к ней вошел их английский слуга Шерман.
— Это мистер Хилл, мадам, — сказал он. — Мистер Флеминг послал его за какими-то бумагами.
— Кто это, мистер Хилл?
— Он работает у вашего мужа.
— А…
Она встала из-за стола и прошла в холл. Там она увидела молодого человека в сером костюме, который восхищенно оглядывался по сторонам. Когда он повернулся к Эдвине лицом… она чуть не вскрикнула.
— Что-то случилось? — спросил он.
— Нет, простите… О, простите меня, это просто… — Она провела рукой по волосам, пытаясь унять свое волнение. В ушах звенело. — Мне на какую-то секунду показалось, что вы — тот человек, которого я однажды видела. Вы сильно на него похожи. Я даже испугалась.
Молодой человек улыбнулся:
— Надеюсь, я похож на человека, который вам нравился?
— Он был моих женихом. Англичанин. Лорд Роксэйвидж. Его убили на войне.
Улыбка на губах молодого человека поблекла.
— О, простите.
Она снова вгляделась в его лицо. Сходство было просто удивительное! На какую-то минуту на нее нахлынули воспоминания, но она их тут же отогнала.
— Я миссис Флеминг. Вы работаете на моего мужа?
— Да. Меня зовут Честер Хилл, я являюсь одним из его вице-президентов. Разве он никогда не упоминал моего имени?
— Нет, но это вполне нормально, так как я не вмешиваюсь в дела мужа. По крайней мере, в его военные дела. Мне этот бизнес не по душе.
Его лицо удивленно вытянулось.
— Не по душе? Но ведь это самый замечательный вид бизнеса!
— Может быть. Для вас. Кстати, что-то вы слишком молоды для должности вице-президента.
— Наверно, но, думаю, что неплохо справляюсь с ней.
— А чем вы занимаетесь?
— Я проектирую образцы того оружия, которое вам не по душе. Поэтому, собственно, и зашел. Мистер Флеминг оставил дома кое-какие чертежи, которые я дал ему вчера. Они очень важны, поэтому он и послал меня за ними. Они лежат в сейфе. Он сказал, что вам известна комбинация цифр, открывающая замок.
— Да, она мне известна. Но поскольку я вас совсем не знаю, мне придется сначала связаться с мужем. Почему бы не допустить, что вы являетесь шпионом, подосланным конкурирующей фирмой, а?
Хилл рассмеялся:
— Скажите лучше: вражеский агент.
Раздался телефонный звонок. Хилл кивнул в ту сторону и сказал:
— Это, должно быть, сам мистер Флеминг. Он собирался предупредить вас. Ну что, хороший из меня получился шпион?
Она еще раз оглядела его. Он был выше шести футов, темноволосый, стройный и одновременно крепкий, что всегда ей нравилось в мужчинах.
— Не знаю, какой вы шпион, но с такой смазливой мордашкой вы могли бы сниматься в кино, если бы другой работы не нашлось.
— Кстати, вы сами ведь были киноактрисой, не так ли? Еще до звуковых фильмов…
— О, я снималась и со звуком.
— Точно, вспомнил! «Дело на Мадагаскаре»! Дрянь-вещица.
— Спасибо за комплимент, мистер Хилл, — сказала она, тут же охладев к нему.
— О Боже, я обидел вас!
— И еще как. Что, Шерман?
— Это мистер Флеминг, мадам.
— Прошу прощения, мистер Хилл.
Она вышла из холла. Честер Хилл потер щеку и задумался. «Ты осел! Обидеть жену босса! Хороший задел для дальнейшего продвижения по службе. А она холодна… и красива. Интересно, надо извиняться? Нет, лучше больше не возвращаться к этому. Похоже, кино — ее любимая мозоль».
Спустя минут пять Эдвина вернулась в холл, но уже с конвертом в руках.
— Вам, кажется, это нужно?
Она протянула ему конверт. Хилл вытащил чертежи, глянул на них мельком и положил обратно.
— Да. Это новая пушка. Мы сейчас как раз работаем над ней. Надеемся, что от армии поступит солидный заказ.
— Мистер Хилл, — сказала она, — вы были правы насчет «Дела на Мадагаскаре». Это была действительно дрянь-вещица.
Они переглянулись. Она рассмеялась:
— Просто меня всегда коробит, когда кто-либо слишком прямо выражается относительно моей карьеры в кино. У меня ведь были и хорошие фильмы. Правда, давно.
— Почему вы бросили кино?
— Гордость, наверно. Когда побываешь на самой вершине, как-то ужасно неприятно сознавать, что начинаешь сползать вниз по скользкой доске, как сказал бы Дизраэли. Словом, не обижайтесь на мою холодность минуту назад.
Наступила неловкая пауза. Они смотрели друг на друга.
— Почему вы ни разу не были на нашем заводе? — спросил он наконец.
— А что я там забыла? Заводы — это вообще грязные места, а военный завод, наверное, просто сущий ад.
— Какое заблуждение! Хотите совершить экскурсию? Я вам все покажу.
Она удивленно посмотрела на него. Сначала хотела решительно отказаться, но потом, к своему изумлению, передумала.
— Прекрасная идея! — Она улыбнулась. — Подождите, я оденусь.
«За каким дьяволом я согласилась идти с ним?» — думала она, отпирая шкаф с верхней одеждой.
Но на самом деле она знала, почему согласилась.
«Эдвина, негодница! Уж не задумала ли ты какую-нибудь глупость?»
Завод «Рамсчайлд армс компани» находился более чем в двух часах езды от гринвичского дома. Преодолевать такое расстояние ежедневно было бы нелегко. Но Ник нечасто показывался на работе. Он и так крутился как белка в колесе. Еженедельные поездки в Нью-Йорк, к Вану Клермонту, который решил-таки сделать пасынка своим наследником. Поездки в Вашингтон для «обработки» военного департамента. Поездки на побережье для того, чтобы не выпускать из своих рук контроля за деятельностью «Метрополитен пикчерз». Наконец, довольно частые поездки за рубеж для заключения сделок по продаже оружия. Весь распорядок работы Ника Флеминга составлялся его умелой секретаршей Фридой Готчелк. У Ника почти не оставалось времени на посещение завода. В сущности, вел дела в компании вице-президент Эдгар Флинт. Ника не интересовали вопросы менеджмента, и это считалось его основной слабостью как бизнесмена. Но Флеминг был прирожденным торговцем, он не мыслил себя вне волнения и драматических поворотов заключения очередной сделки. А поскольку клиентами его компании являлись правительства разных стран, приходилось много разъезжать по свету.
Ник редко обсуждал свои дела с женой, и Эдвине никогда даже в голову не приходило побывать на заводе. А теперь то, что Честер Хилл с таким воодушевлением зовет ее туда, волновало ее.
Когда Честер припарковал свой «бьюик» с закрытым кузовом на стоянке перед огромными уродливыми корпусами из красного кирпича, она почти физически ощутила ту власть, которую они олицетворяли: власть над жизнью и смертью.
— Интересно, сколько людей погибло по вине той продукции, которая здесь выпускается? — спросила она, следуя за Хиллом в административное крыло здания.
— Как я и думал, у вас насчет военного бизнеса имеются сентиментальные либеральные представления. Что ж, могу понять. Поверьте, я мог бы проектировать автомобили, холодильники или даже тару для кока-колы вместо гаубиц. И если бы в один прекрасный день все военные компании мира прекратили свое производство, я был бы счастлив! Но это «если» никогда не наступит. Во всяком случае, в обозримом будущем. Критики утверждают, что короли вооружений, такие, как мистер Флеминг, подталкивают мировые правительства к войнам ради получения своих прибылей. Но лично я считаю, что во всех этих утверждениях весьма мало правды. А она состоит в том, что войны затеваются самими правительствами, и если бы частные компании не вооружали правительства, последние вооружались бы сами. И потом, самое печальное, на мой взгляд, заключается в том, что людям нравится воевать. Это, конечно, бессмыслица, но люди любят быть патриотами. Нужен только повод! И тогда человек выходит из себя, заводится и наконец доказывает свою человеческую природу на поле брани, убивая себе подобных.
— Подождите, — прервала его Эдвина. — Вы говорите: люди. Скажите: мужчины — и я с вами полностью соглашусь. Именно мужчинам нужно постоянно доказывать свое геройство. У женщин чуть больше здравого смысла.
— Хорошо, согласен.
— Если бы мужчины хоть немного подросли и перестали походить на мальчишек, играющих в солдатики, мир был бы гораздо лучше. Жить стало бы спокойнее.
— Но пока кто-то все равно должен производить оружие. Вот мы и пришли. Добро пожаловать в Царство тьмы.
Он открыл дверь, провел ее в холл мимо двух охранников, открыл другую дверь, и они вступили на территорию завода. С гордостью Хилл показал Эдвине громадный — мощностью в пятнадцать тысяч тонн и высотой в двадцать пять футов — пресс. Здесь делались стволы пушек. Он показал ей топки и продувные горны, станки для нарезки стволов, конвейеры, предназначенные для массового производства боеприпасов. Тысячи гильз и готовых пуль ползли по ленте. Хилл проводил Эдвину в цех, где изготовлялись взрывчатые вещества, порох, тол. Потом отвел ее в свое собственное маленькое царство — проектно-конструкторское бюро, где на десятках чертежных столов творились усовершенствования уже и без того смертоносных видов оружия.
Экскурсия заняла у них больше часа, и, когда она подошла к концу, Эдвина пребывала в состоянии ликования, но одновременно была явно подавлена увиденным. Это место оказалось именно таким уродливым, вонючим и жарким, как она и предполагала. Всюду здесь пахло смертью. И все же он в чем-то был прав. Кто-то должен выпускать оружие. А вид огромных стволов просто не мог не взволновать ее. Да, часть его воодушевления передалась и ей.
— Ну как? — спросил он, провожая ее обратно в административный корпус. — Что вы обо всем этом думаете?
— Я все еще считаю, что лучше бы моему мужу делать велосипеды, но должна признать — впечатляет! Спасибо за экскурсию.
— Мне до сих пор не верится, что вы здесь раньше не бывали. Если бы я был женой Ника Флеминга, я умолял бы его дать мне здесь какую-нибудь работу.
— Если бы вы были женой Ника Флеминга, думаю, никто бы вас не нанял на работу.
Выражение его лица было столь смущенным, что она не удержалась от смеха.
— Вы забавный человек, мистер Хилл. Но, наверное, это хорошо, что вы так одержимы своей работой. А теперь, если вы пожелаете показать мне дорогу в кабинет мужа, я попрошу его отвезти меня домой.
— Я и сам мог бы…
— Нет, это было бы глупо. Слишком далеко. А вы живете, очевидно, где-нибудь поблизости?
— Да, в Олд-Лайме.
Он повел ее вверх по лестнице мимо вырезанных из «Гарперс уикли» репродукций с изображениями батальных эпизодов времен Гражданской войны.
— Вы женаты?
— Был женат. Я развелся в прошлом году.
— Сожалею.
— А я нет.
Он сказал это таким тоном, что она поняла: развод был горькой страницей в его жизни.
Поднявшись по лестнице, она последовала за Хиллом по длинному коридору, по обеим сторонам которого тянулись двери из узорчатого стекла с табличками: «Мистер P. М. Уэллис, вице-президент по торговле», «Мистер Артур Тэн Эк, вице-президент по кадрам»… В самом конце коридора была современная и массивная дверь из ореха с латунной табличкой: «Мистер Н. Флеминг, президент».
Эдвине вдруг страшно захотелось увидеть офис мужа, сердце его разветвленной империи. Ей пришло в голову, что она поступала неправильно, ни разу не заглянув к нему сюда. Может быть, оттого он до сих пор и казался ей загадочным и непредсказуемым, что она никогда не видела его в родной стихии. А что-то подсказывало ей, что именно здесь ему было хорошо. Лучше, чем в гринвичском особняке, или в квартире на Парк-авеню, или в «Каса энкантада». Бизнес занимал очень большое место в жизни ее мужа.
Честер Хилл открыл дверь приемной, а ею в ту секунду овладела даже легкая ревность. Вдруг ей вспомнилось детство, английская церковь и строчка из красивого гимна Уильяма Блейка «Иерусалим»: «И был построен здесь Иерусалим / Средь этих черных сатанинских мельниц!»
Этот завод был воплощенным образом «сатанинской мельницы». Неужели ее муж построил свой Иерусалим на берегу Коннектикута, на фабрике смерти?
Приемная, полностью переделанная Ником в 1928 году, была теперь просторной комнатой в лощеном стиле арт деко, лишь отдаленно напоминая надуто-напыщенный стиль времен Альфреда Рамсчайлда. Стены были обшиты деревом цвета липового меда с горизонтальной полосой более темного дерева с инкрустацией на уровне пояса. Под самым потолком — мозаичный греческий рисунок. Эдвина встречалась с Фридой Готчелк неоднократно в Гринвич-виллидж и Нью-Йорке и хорошо знала, что грузная Фрида ей не соперница.
Фрида подняла глаза от своего стола и открыла от изумления рот.
— Миссис Флеминг? — воскликнула она. — Что вы здесь делаете? Что-то случилось?
— Вовсе нет, Фрида. Просто мистер Хилл убедил меня в том, что подошло время познакомиться с заводом. Муж у себя?
— Он сейчас разговаривает с Лондоном. Я доложу ему о том, что вы пришли.
Она живо вскочила и заспешила к тяжелой двери в кабинет босса. Эдвина тем временем подошла к окну и стала смотреть на завод сверху вниз. Восьмидесятифутовые трубы распыляли дым над водами Коннектикута. Почти сразу же после вступления во владение компанией Ник поставил в трубах очистительные фильтры.
«Неужели обладание этими закопченными мрачными коробками дает власть?» — размышляла Эдвина.
Ник бесспорно имеет власть. Могущество. Эдвина тоже одно время имела эфемерное могущество: когда снималась в фильмах и была знаменитой кинозвездой. Теперь оно ушло. Так, может, именно могущества не хватает ей в жизни? Нет, нет… Во всяком случае, ее не привлекало могущество Ника. Нет, Эдвина никогда не хотела заниматься бизнесом — это казалось ей скучным. Она была даже возмущена могуществом Ника! Ведь ее независимость юности, все ее «заскоки», одним из которых следовало считать ее карьеру кинозвезды, вся ее жизнь, похоже, ограничились в конце концов исполнением роли жены и матери, которая живет в роскоши, но находится в тени своего мужа. Постоянно в тени. Она всего лишь планета, а он светило, и она существует в сфере его притяжения. Многим женщинам это показалось бы достаточным, но было ли это достаточно для нее? Для Эдвины, которая несколько лет назад, будучи кинозвездой, зарабатывала большие деньги?
А если раскрыть карты? Что важнее для Ника: жена или работа? Это была опасная мысль, но именно в ней крылось существо вопроса. Может, этот красавчик Честер Хилл как раз и нужен ей сейчас? И тут Эдвине стало ясно, как именно ей хочется «взбрыкнуть». Она обернулась к Хиллу и увидела, что он смотрит на не.
— Мистер Хилл, — проговорила она, — мы с мужем затеяли провести пикник 4 июля. Нажарим побольше хотдогов. Устроим фейерверк. Ну и вообще. Будет весело. Приходите.
Он сильно удивился. Ник редко приглашал к себе даже самых высокопоставленных своих подчиненных. Всем было хорошо известно, что Флеминг гостеприимно принимает у себя и всячески развлекает только тех людей, которых он пытается подтолкнуть к заключению сделки. Подчиненных же он держит на приличной дистанции.
— Я э-э…
— Там будут интересные гости, — добавила Эдвина. — Включая нашего старого знакомого из Германии графа фон Винтерфельдта, министра культуры. Мне кажется, вам у нас понравится. Или у вас уже другие планы на ту субботу?
— О нет! У меня нет никаких планов.
— Тогда придете? — Она очаровательно улыбнулась.
«Что происходит? — думал он. — Черт возьми, что происходит?»
— О да, с удовольствием! С удовольствием приду. Спасибо.
— Вот и хорошо. Приезжайте к полудню. И не забудьте захватить купальный костюм. Предсказывают жаркую погоду, и вы, конечно, захотите искупаться в бассейне.
«Не важно, буду я с ним спать или нет, — думала она. — Важна будет реакция Ника, когда я скажу ему, что хочу спать с Хиллом».
— Что ты сделала? — в изумлении воскликнул Ник часом позже, когда они сидели на заднем сиденье «кадиллака» и ехали обратно в Гринвич-виллидж.
— Я пригласила Честера Хилла на наш субботний пикник, — небрежно отозвалась Эдвина.
— За каким дьяволом ты это сделала? Ты ведь отлично знаешь, какие у меня отношения с подчиненными!
— Не нервничай, милый. Все очень просто. Помнишь, несколько лет назад в Германии я сказала тебе, что ненавижу двойной стандарт применительно к семейной жизни? Помнишь, мы договорились, что если мне попадется человек, с которым я хотела бы переспать, я скажу сначала тебе? Ну так вот, я нашла такого человека. Я хочу переспать с Честером Хиллом.
У Ника был такой вид, будто его хватил апоплексический удар.
— Эдвина, не дурачься. Не забывай, что, помимо всего прочего, этот человек на меня работает! Он один из моих вице-президентов, черт возьми!
— Я знаю. Мне кажется, что это делает его в моих глазах еще интереснее.
— Дьявол! Не знаю, что за дурь влезла тебе в голову, но ты можешь забыть об этом. Я категорически запрещаю!
— Да?! Так, значит, те твои слова были просто болтовней? Значит, ты занимаешься любовью с молодыми актрисами — которые тоже, между прочим, на тебя работают, — а мне нельзя разочек переспать с одним из твоих вице-президентов?
— Идиотское сравнение.
— Тебе оно, может, и кажется идиотским. А мне нет.
— Между прочим, я тебе не изменял.
— Так я и поверила.
— А я тебе говорю! Послушай, Эдвина, у тебя могут быть какие угодно представления о семейной жизни, но у всей Америки они такие: жена не должна гулять на стороне!
— Не говори глупостей. Лично я знакома со множеством жен, включая жен наших друзей, которые преспокойно гуляют на стороне. Хочешь имена? Салли Уинстон, которая спит с Пайпингом Роком, с одним теннисистом-профессионалом. Эльвира Несбит, которая — это ж надо! — спит со своим адвокатом. Дороти Данлоп, которая перебрала уже половину мужского населения Палм-бич. Агнес де Вит…
— Да мне плевать на них. Меня интересует наша жизнь. Ты и я. И наши дети.
— Я вовсе не говорю о том, что собираюсь рушить нашу семью. То, что я говорю, не имеет никакого отношения к моей любви к тебе. Это дело принципа. Я считаю, что у меня есть право на временного любовника, если я хочу его иметь. И если ты меня хоть немного уважаешь как человека, а не только как жену, ты должен предоставить мне это право. То самое право, которое я предоставила тебе уже давно. Одному только Богу, наверное, известно, сколько раз я могла крутить хвостом у тебя за спиной! Но я уважаю тебя и не занимаюсь этим. Я хочу заниматься любовью с другим мужчиной с твоего ведома. И одобрения.
— Если все это шутка, то довольно дурацкая.
— Это не шутка. Я серьезна как никогда.
— Ну что ж, мой ответ — нет. Другого не будет. И предупреждаю, Эдвина, если ты будешь строить глазки Честеру, я его уволю. И учти, этим ты не просто испортишь карьеру молодому человеку, но и нанесешь существенный вред нашей обороноспособности, потому что Честер как раз сейчас работает над одним очень важным проектом.
— Даже интересы государства приплел! — перебила его Эдвина. — Но скажи, что тебе важнее: права твоей жены или какое-то паршивое оружие для армии?
— Я бы сказал: какое-то паршивое оружие для армии! Тут и вопроса нет.
— О, хорошо! Значит, мы с тобой во многом расходимся. О Ник, я знала, что все этим кончится! Я знала, что, если только заикнусь об этом, ты так или иначе, но обязательно вывернешься. Ты апеллируешь к национальной обороноспособности? Что ж, оригинально, по крайней мере.
Она отвернулась от него и стала смотреть в окно.
— Ну? — спросил он после паузы. — Что ты собираешься делать?
— Там видно будет.
— Эдвина, я люблю тебя. До сих пор мы так хорошо жили. Ну давай же не будем все это разрушать во имя какого-то там твоего сиюминутного и бредового плана!
— Это не бред. И, как я уже сказала тебе, это не имеет никакого отношения к нашему семейному счастью.
— Ничего себе, не имеет!
Последние слова он произнес негромко. Она знала, что, когда он говорит тихо, это хуже всего. Она вновь повернулась к нему. В глазах у нее блестели слезы.
— Эх ты, Ник, — сказала она. — Меня больше всего раздражает то, что ты отказываешься понять, насколько это все для меня важно!
— Настолько важно, что ты спокойно рискуешь ради этого моей к тебе любовью?
Она молча посмотрела на него, потом вновь отвернулась к окну.
Она не знала ответа на этот вопрос. Не знала и того, насколько далеко ей самой хочется зайти.
За четыре тысячи миль от Коннектикута, в два часа утра канцлер германского рейха Адольф Гитлер, кутаясь в кожаный плащ, поднялся по трапу в трехмоторный «Юнкерс-52», пилотируемый его любимым летчиком Гансом Бауром.
Самолет взлетел с аэродрома в Бад-Годесберге, взял курс на Мюнхен и приземлился в условиях дождя на военном аэродроме в Обервизенфельде. У трапа фюрера встречали несколько нацистов и армейских офицеров. Гитлер находился в сквернейшем расположении духа, он оглядел встречавших и зло бросил:
— Это самый черный день в моей жизни. Но я поеду в Бад-Висзее и свершу правосудие.
Бад-Висзее был курортом, расположенным на берегах красивейшего Тегернзее, озера у подножия Альп в сорока километрах к югу от Мюнхена. Именно в этом уютном местечке в данное время и находился Эрнст Рем, один из старейших и ближайших сподвижников Гитлера, шеф штурмабтайлунга, то есть службы СА, коричневорубашечников. Вместе с некоторыми высшими офицерами СА он находился в Бад-Висзее на отдыхе и профилактическом лечении.
В течение последних недель по Германии упорно циркулировали слухи о том, что готовятся столкновения между головорезами из СА и солдатами германской армии или даже путч Рема против Гитлера. Изначально коричневорубашечники появились как «персональная армия» Гитлера. Своими изуверскими акциями они вызвали ненависть к себе не только у немецких евреев, но и просто у многих немцев. Бандиты из СА называли себя элитой, движущей силой чистого национал-социализма. Они считали, что Гитлер решил предать их, чтобы добиться поддержки вермахта. Несмотря на смутные угрозы со стороны Гитлера, Гесса, Геринга и Геббельса, Рем безмятежно отдыхал на курорте. Накануне вечером он играл в тарок[14], затем принял кое-какие врачебные процедуры и отправился спать. И хотя он слыл известным гомосексуалистом, на этот раз он спал один.
В шесть утра у берега озера появились две черные машины. Они въехали на территорию Бад-Висзее и остановились перед входом в пансион «Хансельбауэр». В первой машине, которую вел личный шофер Гитлера Эрик Кемпке, находился сам фюрер. Говорили, что его сопровождало меньше десятка человек.
Над озером поднимался утренний туман. Начинался восход солнца.
Гитлер прошел во главе своей команды в пансион. На первом этаже никого, кроме хозяйки, не было. Она была до крайности изумлена тем, что ее почтил своим посещением сам фюрер.
— Где сейчас рейхсляйтер Рем? — рявкнул Гитлер.
— Наверху, — пролепетала хозяйка пансиона. — Комната номер 3…
Вся компания отправилась на второй этаж. Лестница содрогалась под зловещим стуком кованых сапог. Гитлер стал стучать в дверь указанной комнаты. В руке у него был пистолет. Когда зевающий Рем появился перед ним, фюрер сказал:
— Эрнст, ты арестован. Ты предал меня и изменил рейху. Одевайся.
— Но…
— Одевайся!!! — заорал Гитлер. — Или я пристрелю тебя на месте, как бешеную собаку.
— А затем все сотрудники СА, находившиеся в то время в пансионе, были окружены и взяты на мушку, — рассказывал граф Алекс фон Винтерфельдт, спустя четыре дня после описываемых событий.
Они с Ником сидели перед бассейном его гринвичского дома за столиком под тентом вдали от всех: беседа была приватная. В это время дети Флеминга и три десятка приглашенных на пикник плескались в бассейне под знойным июльским солнцем или гуляли среди деревьев парка и на лужайках этого красивого поместья.
— Многих офицеров СА застали в постелях с их же шоферами, — продолжал граф, понизив голос. — Что за гнилая компания! Вся Германия знала, чем они занимались! Всех под конвоем и в наручниках отвезли в Мюнхен, где быстро приговорили к смерти и казнили. Что касается Рема, то, я думаю, Гитлер оставил ему возможность покончить жизнь самоубийством. Во всяком случае, он тоже мертв. Мои друзья звонили мне из Мюнхена и Берлина, и если верить их сообщениям, то, по меньшей мере, двести человек были умерщвлены без суда. Все, герр Флеминг, это была последняя репетиция. Гитлер развязал себе руки для массовых убийств. Герр Флеминг, Германией правят уголовники.
Ник посасывал через соломинку кубинское вино.
— Но это открытие не удивило вас, ведь так? — спросил он.
Граф покачал головой:
— Да, вы правы. Я уверен, что именно Гитлер убил моего сына семь лет назад, хотя правду об этом я так никогда, наверно, и не узнаю. Для меня удивительно вовсе не то, что Гитлер — аморальное чудовище, а то, что он совершенно законно был избран канцлером Германии и что теперь он будет убивать, не стесняясь всего мира. Вот и скажите, станет ли теперь хоть одно государство сотрудничать с нашей бедной Германией?
— Германия сотрудничает с Россией. Что же касается Сталина, то, судя по всему, он угробил гораздо больше душ, чем Гитлер. Муссолини тоже не брезгует убийствами. Простите, но ваше отношение к этому выдает в вас удивительно наивного человека.
Граф вздохнул:
— Может быть, но не вы являетесь немцем, а я. У меня вызывает отвращение мысль о том, что наше правительство, в которое я, между прочим, вхожу, может управлять такими методами. Вот поэтому я и захотел встретиться с вами.
Ник увидел, как к ним через лужайку направляется Эдвина, выглядевшая очаровательно в своем зеленом купальнике, и остановил графа:
— Поговорим позже.
— Милый, стол уже накрыт, — сказала она. — Ты сможешь вытащить детей из бассейна?
* * *
Честер Хилл был четвертым сыном известного, но бедного епископального священника. Хиллы жили в очаровательном городке Сэйлсбери на северо-западе Коннектикута, начиная с сороковых годов XVIII века. Честер вырос на полуразвалившейся ферме, которая была построена его отдаленными предками и вплоть до 1921 года не имела ни электрического освещения, ни водопровода, ни центрального отопления. Воспоминания о том, как он ребенком частенько мерз в туалете на дворе, все еще были живы в памяти Честера. Своими успехами в учебе он добился того, что ему платили стипендию сначала в общеобразовательной школе, затем в Йельском университете, где вешалки с енотовыми шубами в вестибюле и огромные и бесцельные денежные траты его богатых однокашников угнетали Честера и создали в нем комплекс нищеты, с одной стороны, и безумную жажду денег и обогащения — с другой. Он был воспитан в доме, где перед обедом всегда воздавали хвалу Богу, а отец каждый вечер в течение получаса читал детям Библию. Будучи второкурсником Йельского университета, Честер стал атеистом. Он решил, что кратчайшим путем достичь материального благополучия можно, используя свою привлекательность, и стал активно ухаживать за сестрами своих богатых однокашников. К несчастью, донжуанство зашло слишком далеко и Честер случайно оплодотворил дочь своего преподавателя по физике. Честеру предложили решить самому, что лучше: как порядочному человеку жениться на ней или вылететь из Йеля без стипендии. Ему пришлось жениться и мучиться сознанием того, что жена почти так же бедна, как и он сам. Пять лет семейной жизни запомнились рождением двух детей, бесконечными скандалами и под конец разводом, который влетел ему в копеечку.
Вылезая из бассейна, чтобы обсушиться перед ленчем, Честер бросил взгляд на внушительный особняк, теннисный корт вдали, красивые окрестности и… проникся жгучей завистью к своему боссу. Иррациональный внутренний голос требовал от него каким-нибудь образом испортить все это великолепие. Соблазнить жену Флеминга, поджечь дом, похитить кого-нибудь из детей… Но Честер был рациональным человеком, и ему хватило ума вспомнить о том, что Ник Флеминг все-таки является хорошим боссом, что он, Честер Хилл, любит свою работу, что зарабатывает семнадцать тысяч в год, а это, по меркам 1934 года, совсем неплохо.
Словом, когда он натянул тенниску и отправился к столу, он был похож на пороховую бочку, готовую взорваться.
Пикник обещал выдаться на сто процентов американским, хотя ясно было, что далеко не все сто процентов американцев смогли бы позволить себе такое богатое празднество. Шеф-повар жарил хот-доги и гамбургеры на кирпичной жаровне. За длинным открытым буфетом трое слуг в белых костюмах предлагали гостям салаты, фрукты, маринады, яйца под острым соусом и домашнее клубничное мороженое. Гости, больше половины которых составляли малолетние друзья и подружки детей Флеминга, особенно приветствовали мороженое. Дети выстроились вдоль стойки буфета в своих купальниках, оживленно переговаривались, смеялись и совершенно не обращали внимания на взрослых.
Но когда Честер подошел к стойке, он заметил, что одна девочка не болтает с подружками, а молча смотрит прямо на него. Это была Сильвия Флеминг, старшая дочь Ника, которой теперь было четырнадцать и которая выросла из маленькой плаксы в темноволосую красавицу. Взгляд, который она устремила на Честера, был настолько пронзительным и настолько уже взрослым, что тому пришлось отвернуться, чтобы не смутиться.
И тогда ему пришла в голову одна мысль.
Эдвина также заметила этот взгляд Сильвии и с ужасом поняла, что она здесь не единственная женщина, заинтересовавшаяся Честером Хиллом. Вот уже в течение нескольких месяцев Эдвина наблюдала за своей дочерью и заметила, что та проявляет такой же живой интерес к противоположному полу, какой проявляла и она сама в юности. Эдвина всегда считала себя современной женщиной, свободной от дурацких предрассудков своих родителей, поэтому она была безмерно удивлена, когда поняла, как сильно задело ее кокетство Сильвии — если это слабое словечко вообще хоть сколько-нибудь соотносилось с теми дикими взглядами, которые дочь бросала на Честера. Инстинкт матери подсказывал ей, что она должна сейчас же затащить Сильвию в дом и хорошенько ее отшлепать. Но ощущение какой-то вины останавливало ее. Ведь она же сама строила планы соблазнения Честера.
И только тогда ей открылась истина в отношении самой себя. Несмотря на свои попытки производить на окружающих впечатление взбалмошной сумасбродки, несмотря на все «безумие» рода Трансов, несмотря на ее «подколы» Ника разговорами о том, что она якобы имеет право завести любовника, если захочет, несмотря на всю логику приводимых ею аргументов, было ясно, что она просто не в силах привести свои угрозы в исполнение. Дело заключалось в том, что она обожала своего мужа и своих детей и ни за что на свете не стала бы рисковать семьей ради человека, к которому почувствовала на минуту физическое влечение.
«О Боже! — думала она, едва удерживаясь от того, чтобы не рассмеяться вслух. — Выходит, я самая обычная баба!»
— Когда семь лет назад я понял, что вы нас обманули, — говорил граф Алекс фон Винтерфельдт, — я был в ярости. Кстати, правда, что тот так называемый официант-большевик на самом деле был голливудским актером?
— Да, — рассмеялся Ник. — Сейчас он успешно снимается в вестернах.
Собеседники находились на борту шестидесятифутового катера «Си нимф», принадлежавшего Флемингу. Команда состояла всего из двух человек. Катер курсировал вдоль побережья Лонг-Айленда прямо напротив поместья Флеминга.
— Разумеется, правительство и генштаб обезумели, когда в печати появились те материалы, — продолжал граф. — Но теперь, оглядываясь на все это с высоты минувших лет, я восхищаюсь тем, что вы сделали. Мы даже мысли в то время не могли допустить, что германская армия окажется послушным орудием в руках этого безумца! У меня не хватит воображения, герр Флеминг, чтобы описать вам все изменения, происшедшие за последнее время в Германии. Впрочем, надо отдать Гитлеру должное: он вывел страну из депрессии. По материальному благосостоянию Германия сейчас впереди Соединенных Штатов. Но ценой процветания стала гражданская свобода. Вам, наверно, уже приходилось читать о концлагерях? Ну так вот, сегодня вся Германия представляет собой один большой концлагерь. Гитлера необходимо остановить!
— Согласен, — ответил Ник, — но я не представляю себе, кому под силу окажется эта миссия.
— Мне, — ответил граф.
Ник удивленно посмотрел на него.
Фон Винтерфельдт нервно оглянулся на мостик, где стояли два члена команды катера.
— Они не могут нас слышать, — сказал Ник. — Шум машин перекрывает наши голоса.
Граф вновь обернулся к Нику:
— Не знаю, что вам приходилось слышать о моем сыне тогда, в 1927 году…
— Я слышал о том, что он убежденный нацист и интимный партнер Гитлера.
На аристократическом лице графа отразилась боль.
— «Интимный партнер» — это слишком мягко, — сказал он. — Мой сын был любовником Гитлера. Этот псих сумел обворожить Руди, как он сумел обворожить сегодня всю Германию. Мне точно не известно, когда они стали любовниками, да, признаться, я и не хочу это знать. Суть в том, что быстро распространявшиеся слухи обещали сильно повредить политической карьере Гитлера. Я убежден, что именно по этой причине он и убил Руди.
— Расследование проводилось?
Граф пожал плечами:
— Да, но ничего не нашли. Я ведь до сих пор не знаю, где он похоронен, если вообще похоронен. Вы должны понимать, что даже тогда у Гитлера имелись весьма влиятельные друзья в Германии. Тогда ему сошло с рук это одиночное убийство точно так же, как ныне сходят с рук уже массовые убийства. А я так думаю, герр Флеминг: око за око! Вот почему я настроен отплатить Гитлеру за то, что он сделал с сыном.
— Прошу прощения, граф, но есть одна вещь, которую я не понимаю. Если уж вы такой ненавистник Гитлера, как получилось, что в прошлом году он оставил вас на посту министра культуры? И почему вы вступили в нацистскую партию?
— Вы должны попытаться понять психологию Гитлера. Он по-своему любил моего сына. Я думаю, что решение об убийстве далось ему нелегко. Сейчас, чувствуя свою вину, он и оставил меня на посту министра.
— Для того вдобавок, чтобы заткнуть вам рот?
— Да, и это тоже. А что касается моего членства в нацистской партии, то для министра это необходимо. Кстати, у нас есть очень много членов партии, которые не верят в фашизм. А в нацисты записываются, чтобы не утратить социальную активность, защитить себя. Мое членство в партии и министерский пост оставляют мне некоторую свободу действий и обеспечивают относительную безопасность. Впрочем, я вовлечен сейчас в исключительно опасное предприятие, нечего и говорить.
— В какое именно?
— Я не единственный, кто считает, что Гитлер — бедствие для Германии и что он должен быть смещен. За фюрера горой стоят многие промышленники, например, Крупп и Тиссен, но есть и такие, которые против фюрера. Еще важнее то, что антигитлеровские позиции занимают многие представители высшего офицерства.
— Но почему? — удивился Ник. — Он ведь увеличивает расходы на военное производство и укрепляет вашу армию.
— А для чего он это делает, как не для развязывания новой страшной войны? О, я прекрасно знаю, что на людях он говорит о мире. В узком же кругу он ведет совсем иные речи. Но каждый ответственный за судьбу своей страны немец отлично понимает, что новая война ввергнет Германию в величайшую катастрофу! Поэтому группа патриотов, которую я представляю, полагает, что Гитлер должен быть остановлен именно сейчас, пока президент фон Гинденбург еще жив. Гинденбург — последнее препятствие на пути Гитлера к достижению тотальной власти. Но президент уже старик, он долго не протянет. Поэтому мы должны поднять восстание сейчас. Гинденбург сплотит нацию и станет осуществлять управление до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.
— Так вы, значит, готовите путч?
— Именно. Мы опираемся на армейскую верхушку. Будут проведены аресты Гитлера и его ближайших сподвижников. Их возьмут любой ценой, живыми или мертвыми. Затем будут проведены общенациональные выборы.
Ник присвистнул.
— Дерзкие планы. Что, если они провалятся?
— Тогда нас всех можно будет считать трупами, герр Флеминг.
— М-да, восхищаюсь вашим мужеством, граф. И, конечно, желаю вам всяческих успехов. Но при чем тут я, не пойму?
— Нам нужно оружие, герр Флеминг. Оружие из-за пределов Германии. В нашем распоряжении находятся военные гарнизоны или отдельные полки во всех крупных городах — Берлине, Гамбурге, Франкфурте, Мюнхене. Они находятся под нашим полным контролем и будут ударной силой во время переворота. Но наши силы — это только часть всей армии. Конечно, мы рассчитываем на то, что после смещения с постов высших нацистов армия перейдет на нашу сторону, но мы не можем быть до конца уверенными в этом. Для того, чтобы поддержать верные нам войска, мы по всей стране тайно формируем добровольческие отряды. Нам нужно их вооружить. Тайно. Мы решили, что наилучшим способом будет поместить заказы на оружие за границей. Я вспомнил вашу изобретательность и посоветовал обратиться к вам. Здесь свою роль сыграла и репутация вашей компании как производителя лучшего в мире товара. Для оформления заказа на оружие и боеприпасы мы располагаем тремя миллионами долларов. И я очень надеюсь, что вы примете наш заказ.
— Ну конечно! Это представляет для меня несомненный интерес. Но как я смогу передать вам товар, минуя нацистские власти?
— Вы доставите оружие в Данию, а остальное — наша забота.
Ник глянул на темные облака, которые собирались на западе. Было четыре часа дня, и июльская жара все не спадала. Но казалось, что вот-вот разразится дождь. Ник поднялся из-за стола и пошел на мостик.
— Не пора ли возвращаться на берег? — сказал он Тому Райделу, своему тридцатилетнему шкиперу.
— Хорошо, мистер Флеминг.
Ник вернулся к графу фон Винтерфельдту и вновь сел на белую холщовую подушку, лежащую на стуле.
— Не могли бы вы назвать мне тех высших офицеров, которые вместе с вами вовлечены в заговор? — спросил он.
— Зачем вам это знать?
— Дело в том, что, как правило, моими клиентами являются законные правительства государств. Впрочем, я не буду отрицать, что снабжал оружием и некоторые антиправительственные группировки в Южной Америке. Страны называть не стану. Но основная часть моих сделок, повторяю, легитимна, и я хочу, чтобы так продолжалось и впредь. Если я заключу сделку с вами — а с точки зрения моего правительства она будет незаконной, — я хочу прежде узнать, с кем имею дело. Не подумайте, что я не доверяю вам, граф, но не пытайтесь продать мне кота в мешке.
Граф выпрямился:
— Дорогой Флеминг, если уж кому и не доверять здесь, так это вам! Семь лет назад вы надули и меня, и весь наш генштаб! Подумайте: зачем мне вам врать? Неужели вы не понимаете, что узнай об этом Гитлер, как уже через полчаса я буду стоять у стенки перед взводом автоматчиков?
— Не обижайтесь, граф. Просто я привык в своем бизнесе соблюдать осторожность. Я должен знать, с кем имею дело.
— Я не вправе назвать их без их согласия. Впрочем, если вы найдете для себя возможным прибыть в Берлин, я, пожалуй, смог бы устроить вам встречи с некоторыми главными лицами.
— Поездка будет небезопасной, не так ли?
— Только не для вас. У вас американский паспорт. Ваша поездка будет небезопасной для нас, но мы очень осторожны. Да, так или иначе ваш визит в Берлин — это наилучший вариант. Мы не сможем держать с вами связь из Германии. Даже азбука Морзе вызовет у них подозрения. Приезжайте. На месте обсудим все детали. Как скоро вы сможете удовлетворить наш заказ?
— После получения аванса заказ будет выполнен через месяц. Аванс — пятьдесят процентов.
— Прекрасно. Значит, по рукам?
Катер мягко уткнулся в берег со стороны Ника.
— Мне необходимо подумать, — сказал Ник, поднимаясь. — Я дам вам ответ утром.
— Но, герр Флеминг, неужели вы сможете нам отказать?! Ведь это именно вы в прошлом году в вашингтонском клубе «Метрополитен» дали всем ясно понять, что Гитлер является большой угрозой всему миру!
— Правильно, граф. Но вы занимаете пост министра в правительстве Гитлера, а в кармане пиджака носите нацистский партбилет. Вы расписали передо мной план переворота, который, на мой взгляд, имеет весьма малые шансы на успех. Вот почему я хотел бы встретиться с другими организаторами заговора и все обдумать. Пойдемте в дом. Надеюсь, дождь не испортит нам сегодня фейерверка.
Он помог графу сойти на берег. Ник сейчас думал о том, что он предпочел не высказывать перед графом: он был склонен верить этому старику, потому что тот мстил за сына. Он хорошо понимал, какому гигантскому риску подвергают себя граф и его соратники, но месть… Это чувство Ник не мог понять.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Угроза ливня так и не воплотилась в жизнь, а температура стояла выше тридцати градусов. Жарило вплоть до захода солнца, поэтому гости оставались в купальниках и постоянно окунались в шестидесятифутовый бассейн для того, чтобы освежиться. Едва солнце скрылось за горизонтом, как тут же были включены наружные фонари, которые привлекли к себе целое облако мошкары. Взрослые гости, заправившиеся днем пивом, вином и ликерами, а также не растратившие еще свою энергию дети продолжали плескаться в бассейне, пока в девять часов вечера Ник не объявил о начале фейерверка. Честер Хилл, осознавший, что он позволил себе на этом празднике слишком много ромового пунша, в последний раз окунулся, чтобы протрезветь, затем вылез из воды, обсушился и направился по лужайке к берегу реки, где должно было проходить представление. Почти все гости уже расселись на траве, уничтожая на себе многочисленных мошек. Честер приземлился позади всех.
Не прошло и полминуты, как рядом с ним на траву опустилась Сильвия Флеминг.
Ссс-бббаннн…
Первая ракета взметнулась в небо и разорвалась там белыми и синими брызгами. Дети взревели от восторга и огласили вечернюю лужайку громом аплодисментов. Сильвия не проронила ни звука.
— Белый и синий — это цвета Йеля, — заметил Честер Хилл. Он смотрел на воду, но каждым своим нервом чувствовал близость девочки. На ней был облегающий белый купальник, подчеркивавший каждую линию ее юного тела, не вполне еще сформировавшиеся грудки… Он скосил глаза направо и посмотрел на ее длинные и стройные ноги, вытянувшиеся на траве возле него. Всего четырнадцать, а ноги взрослой женщины! Спиртное ударило ему в голову, и он с трудом подавил в себе желание протянуть руку и провести ладонью по одной из этих прелестных ножек.
— Вы заканчивали Йель? — спросила она.
— Да, выпуск 1928 года.
— Вы занимались атлетикой? У вас очень… мускулистое тело.
Ссс-бббаннн…
Вверх унеслась еще ракета, рассыпавшись дождем красных искр. И снова крики, аплодисменты. И снова Сильвия сохраняла молчание.
— Да, я играл в бейсбол и еще плавал.
— А я играю в хоккей на траве. На вашей спине сидит комар.
Он почувствовал, как его правой лопатки коснулась ее рука, смахнув комара, которого он не ощущал.
«Это безумие! — подумал он. — Черт возьми, ей всего четырнадцать!» Тем не менее он ощутил растущее напряжение в своих плавках. Это его смутило.
Ффф-ззз…
Завертелось колесо, утыканное бенгальскими огнями. Во все стороны посыпались разноцветные искры.
Ссс-бббаннн…
Еще ракета. Дети завопили от удовольствия и захлопали в ладоши.
— Папа просил передать вам, что вы остаетесь у нас ночевать, — сказала Сильвия. — У нас много пустующих комнат, и было бы просто глупо возвращаться в Олд-Лайм на ночь глядя.
— М-м… Но я не захватил зубной щетки.
— У нас целая куча зубных щеток. После фейерверка я покажу вам вашу комнату.
Он весь напрягся, когда почувствовал, как повернутая вверх ладонь Сильвии проникла ему под ляжку. Ее пальцы легонько помассировали его ляжку, потом Сильвия убрала руку.
«Господи Боже!» — обалдело думал Честер Хилл. По животу стекал пот, а плавки готовы были взорваться.
Ссс-бббаннн…
«Но ведь ей только четырнадцать!»
Идея, которая пришла ему в голову еще днем, была достаточно проста. Сильвия была красива. Определенно, она заинтересовалась им. Если он сумеет правильно разыграть свои карты, то, возможно, лет через шесть-семь ему удастся на ней жениться и стать зятем самого Ника Флеминга! Может, Сильвия как раз и является той богатой наследницей, о которой он мечтал в Пеле.
Но Сильвия что-то уж очень торопит события…
— Мой брат Чарльз — избалованное отродье, — тоном констатации факта сказала Сильвия часом позже. Фейерверк благополучно завершился, и гости стали разъезжаться по домам. Сильвия вела Честера Хилла по лестнице на второй этаж. Вдоль всей лестницы на стене висели картины. Оба все еще были в купальных костюмах.
— По-моему, некрасиво говорить подобные вещи о родном брате, — сказал Честер, который чувствовал скованность оттого, что приходилось сдерживать свое возбуждение. Сильвия поднималась первой, Честер шел за ней и не мог оторвать глаз от ее маленькой попки. Мысленно он приказывал себе: «Берегись! Ты на минном поле!» Но ничего поделать с собой не мог.
— Чарльз плохой брат, — ответила она.
— А мне он, наоборот, показался очень милым.
— Да, на людях он всегда пай-мальчик. А по-моему, он потенциальный убийца.
Она прыснула, а Честер подумал, что у девочки своеобразное чувство юмора.
Исполненный эротических мыслей, Честер никак не мог отвести глаз от упругих ягодиц Сильвии, чтобы посмотреть на картины, висевшие на лестнице и в коридоре второго этажа. Честер достаточно знал об искусстве, чтобы понимать: несмотря на то что большинство миллионеров все еще продолжали собирать старых мастеров, умный человек тот, кто вкладывает деньги в современную живопись. Ник был умным человеком. На стенах в золотых рамах висели одни из самых раздражающих традиционный вкус полотен, какие когда-либо приходилось видеть Честеру: Кокошка, Де Чирико, Кандинский, Леже, Дали… Он не знал, сколько сейчас стоит эта мазня, но был совершенно уверен в том, что с каждым новым оборотом стрелки часов их стоимость возрастает.
«Когда-нибудь ты сможешь жениться на всем этом. Лишь бы эта четырнадцатилетняя секс-бомба не разорвалась раньше времени. Но Господи Боже, какая попка!»
В конце коридора она открыла одну из дверей и завела Честера в симпатичную комнату со стенами, оклеенными желтыми обоями в цветочек Она включила свет, затем подошла к окнам и задернула шторы.
— Не делай этого, — попросил он. — Я люблю спать с открытыми окнами.
Она обернулась к нему.
— Закрой дверь, — приказала она.
Чувствуя, что снова начинает потеть, он повиновался. Она подошла к нему.
— Мне кажется, что я в тебя влюбилась, — тихо сказала Сильвия.
— Не говори глупостей. Мы едва знакомы…
— Это неважно. Любовь приходит быстро. Как только я тебя сегодня увидела, сразу поняла, что нам суждено быть вместе.
— Сильвия, ты видела это в плохом фильме.
— Эта фраза была в одной из маминых картин.
— Вот видишь.
Она подошла к нему вплотную и закрыла глаза.
— Поцелуй меня, — шепнула она.
Он не мог понять, что это: детская игра или нечто серьезное? Наверное, и того и другого понемножку. Но так или иначе, а девчонка была невероятно соблазнительна.
— Поцелуй меня, — повторила она. — А то я скажу папе, что ты пытался соблазнить меня, и он тебя уволит.
Он весь взмок, но скорее от мрачных предчувствий, чем от жары. «Я же говорил: минное поле, минное поле!..»
Он обнял ее и осторожно поцеловал. Она ответила ему с бешеной страстью, гладя руками его спину. Интуиция подсказывала ему, что она уже не девочка, но ее страсть все равно ошеломила. Он был потрясен еще больше, когда почувствовал, что она начинает стягивать с него плавки.
Он оттолкнул ее руки.
— Для четырнадцатилетней девочки у тебя слишком вольные замашки.
Она с вызовом посмотрела на него.
— Я занималась любовью уже десять раз, — сказала она. — Я считала.
— С кем это?
— Это мое дело.
— Хорошо, — сказал он, вытирая пот со лба. — Советую тебе уйти отсюда, пока ты не навлекла на нас обоих большие неприятности.
— Ты боишься моего отца.
— Черт возьми, ты права, боюсь.
Она улыбнулась, завела руки за спину и стала расстегивать свой купальник.
— Если ты не ляжешь со мной в постель, я подниму крик, — сказала она. — Тогда все в доме узнают, что ты пытался со мной сделать.
Он ошеломленно посмотрел на нее.
«Ладно, отдери ее по-быстрому, — думал он. — Может быть, так будет лучше всего».
Дверь в комнату неслышно открылась.
— Сильвия, — раздался голос ее брата Чарльза, — иди спать.
Раздосадованная Сильвия вынуждена была вновь застегнуться. Чарльз вошел в комнату и, холодно глядя на сестру, взял ее за руку. Затем он молча потащил ее к двери.
— Прошу прощения, мистер Хилл, — абсолютно серьезно сказал Чарльз. — С ней такое бывало и раньше. Полная луна и вообще… Спокойной ночи, сэр.
Он вытолкнул Сильвию из комнаты, вышел сам и мягко прикрыл дверь.
«Что за дети! — думал Честер Хилл. — Ненормальные!» А в глубине души он жалел, что Чарльз прервал их.
Когда все гости разъехались, Ник и Эдвина в последний раз за день окунулись в бассейне.
— Ты знаешь, я послал Сильвию сказать Честеру, чтобы он остался у нас на ночь, — сообщил Ник, рассекая руками воду рядом с женой.
— Нашел кого послать.
— А что?
— Так ты ничего не заметил? Да ведь она в течение всего дня откровенно строила ему глазки! Это выглядело со стороны просто непристойно!
— Какие глазки? Ей ведь всего четырнадцать! — воскликнул в изумлении Ник.
— Я знаю. Когда мне самой было четырнадцать, у меня уже были такие гадкие мысли про мужчин, ты себе даже представить не можешь! Похоже, Сильвия пошла в мамочку.
Ник был озадачен.
— И что, у тебя до сих пор «гадкие» мысли про мужчин? Я имею в виду, по крайней мере, одного мужчину.
Она подплыла к нему и обняла.
— Да. Про тебя у меня самые гадкие мысли!
— А как насчет Честера Хилла?
— Ах этот. — Она поморщилась. — Глуп как пробка, на мой взгляд. Он интересуется только своим оружием. Спать с ним — все равно что спать с гаубицей.
— Совсем недавно ты думала иначе.
— Знаю, но я передумала. Я решила, что у меня замечательный муж, что я и так вполне счастлива. Иногда угроза завести любовника — это гораздо забавнее, чем сам любовник.
Он взглянул на нее и улыбнулся:
— Знаешь, что я тебе скажу? Ты ненормальная.
— О, все обстоит намного серьезнее. Самое печальное заключается как раз в том, что я до отвращения нормальная. — Она пожала плечами и вздохнула. — Эдвина Флеминг, заурядная домохозяйка, которая настолько любит своего мужа, что даже обмануть его хоть раз не в состоянии. Это ли не омерзительно?
Он чмокнул ее в кончик мокрого носа.
— А по-моему, это здорово, — негромко и нежно сказал он. — Пошли в спальню.
Они подплыли к кромке бассейна, вылезли из воды и пошли к дому, держась за руки, словно влюбленные подростки.
— Ты только что занималась любовью с человеком, — говорил он ей спустя час, когда они лежали вместе в своей огромной супружеской постели, в изголовье которой висела одна из картин Моне, изображавшая кувшинки в Гиверни, — который, возможно, приложит руку к отстранению Адольфа Гитлера от власти.
Она села на постели, включила ночник и взглянула на мужа:
— Что ты имеешь в виду? Значит, для этого граф Алекс к нам и пожаловал?
Ник утвердительно кивнул:
— Он сообщил мне, что в Германии в кругах генералитета зреет заговор, целью которого является низложение Гитлера. Они хотят, чтобы я вооружил их.
— И ты дал на это согласие?
— Я попросил время подумать, но я соглашусь, ты права. Я, конечно, не альтруист, но если с моей помощью избавятся от этого сумасшедшего антисемита… Знаешь, я буду собой гордиться.
— Это опасно? — спросила она не сразу.
— Конечно, определенный риск имеется. На следующей неделе мне придется отправиться в Берлин. Но я приму соответствующие меры предосторожности.
— Милый, ты уверен, что твоих мер будет достаточно?
— Уверен. Не волнуйся, все будет отлично.
Она наклонилась и поцеловала его.
— Знаешь, я очень горжусь тем, что являюсь твоей женой, — сказала она совершенно искренне.
Восстание Эдвины закончилось, не начавшись.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
В 1934 году «Нормандия» и «Куин Мэри» еще только снаряжались в свое первое плавание, так что в «большую тройку» трансокеанских лайнеров тогда входили «Беренгария», «Аквитания» и «Мавритания». Сочинители рекламы поэтически расписывали красоту и общественный престиж каждого из этих судов. Считалось, что на «Мавритании» предпочитает путешествовать молодежь. «Беренгария» предназначалась для миллионеров мирового масштаба. А что же «Аквитания»? Выпущенный трансагентством буклет высокомерно сообщал, что «домашняя обстановка на «Аквитании» может привлечь влиятельных людей, людей титулованных, людей, отличившихся как происхождением, так и достижениями».
Эдвина научилась «целоваться с бешеным самоотречением» с некоторыми из своих партнеров в самых знойных любовных фильмах, но мейферский акцент был до сих пор при ней, как и сознание того, что она является внучкой герцога. Поэтому, когда в следующую среду супруги Флеминг решили отправиться в Саутгэмптон, они выбрали именно «Аквитанию». Фрида Готчелк заказала на лайнере престижные апартаменты, в которых была не только репродукция «Синего мальчика», но и отдельная столовая. С Ником и Эдвиной в дорогу собрались все их семеро детей, так как было решено, что им лучше провести каникулы в гостях у английских деда и бабки — лорда и леди Саксмундхэм. На корабль погрузили двадцать чемоданов багажа. С Флемингами отправились в плавание няня и двое слуг. Стоимость этого шестидневного путешествия составила четыре тысячи «депрессивных долларов», но для Ника и Эдвины, которые привыкли путешествовать с комфортом, это не показалось дорогой ценой. Лайнер был чудесным, а английская команда учтива и расторопна. Удобства на «Аквитании» были неслыханными: огромный плавательный бассейн, турецкие бани, окруженный решетчатой оградой «сад отдыха», где завтракали и пили чай, обшитая деревом курительная, про которую, расставив все точки над «і», один рекламный агент сказал: «Даже наименее эрудированный пассажир прочувствует все преимущества курительной на “Аквитании”». Несмотря на то что лайнер задумывался как «замок вкуса вообще и англосаксонского искусства в особенности», первоклассная столовая была обставлена в версальской манере. «Сам дворец виделся вдали за увитыми цветами дорическими колоннами…»
Ник, Эдвина и все семеро детей появились здесь в первый же вечер. Одетый во фрак метрдотель отвел все семейство за уже сервированный серебром и фарфором стол. Ник был честолюбив, как всякий миллионер, который «сделал сам себя», поэтому ему было очень приятно перехватывать взгляды, которые привлекала его семья со стороны хорошо одетой публики. А Эдвина, выглядевшая просто сказочно в своем белом вечернем платье от Вайонетта, с сережками из бриллиантов и рубинов, такой же брошью и четырьмя бриллиантовыми браслетами, была рада тому, что ее узнавали здесь как киноактрису. По залу шептались:
— Это Эдвина Флеминг! Это сама Эдвина Флеминг!
Четырехтрубный лайнер мягко скользил по июльской глади Атлантики. Над ним было черное небо, усыпанное звездами. Словно взорвалась машина с попкорном…
За стол Флемингов подали ростбиф, штилтонский сыр и какие-то ужасные, пропитанные вином и залитые взбитыми сливками бисквиты, от которых все воротили носы, кроме Эдвины.
В такой обстановке немудрено было позабыть о двенадцати миллионах американцев, перебивающихся одним пособием по безработице. Флеминги и забыли о них на минуту-другую.
Но Ник не забыл о графе Алексе фон Винтерфельдте, который в те минуты плыл в Гамбург на борту «Бремена».
Ник не забыл и об Адольфе Гитлере.
Англия задыхалась и изнемогала в условиях тридцатиградусной жары, которая для этой страны казалась тропической. У Эдвины за плечами были годы, прожитые в Калифорнии, так что она привыкла к такой погоде. Отец послал два «роллс-ройса» в порт Саутгэмптон, чтобы они доставили в Тракс-холл всю семью, и теперь, когда обе машины затормозили перед домом, Эдвина ощутила сильный прилив волнения и ностальгии.
— О Ник, как здесь красиво! — воскликнула она, взяв его за руку. — Ну разве наша Англия не прекрасна? Только сейчас понимаю, как я соскучилась по этому дому.
Лорд Саксмундхэм — его, казалось, совершенно не волновала дикая жара, и в своем белом костюме он выглядел очень представительно — спустился по каменным ступенькам крыльца и пошел встречать семью своей дочери. Депрессия жестоко измотала Англию, в Индии босоногий Ганди поставил Англию на колени, но, глядя на виконта Мориса Саксмундхэма, во все это просто не верилось. Он был все еще сказочно богат, сумел подняться над первыми штормами XX столетия, выглядел знатным вельможей, семидесятилетие которого не за горами. Глядя на него, можно было подумать, что королева Виктория до сих пор на троне и что дела в империи идут хорошо.
Поприветствовав Ника, Эдвину и своих многочисленных внуков, лорд Саксмундхэм сделал знак лакеям вытащить из машин багаж, а сам повел всех к дому. Леди Саксмундхэм была на втором этаже в своей спальне. Она слегла из-за жары, но к обеду обещала спуститься.
— Пойдем прогуляемся, — предложил Чарльз своей сестре Сильвии. Они вышли из дома через главное крыльцо и по огромной лужайке направились к видневшимся вдали деревьям, которые плотной стеной окружали почти все поместье.
— А ты переспала бы с Честером Хиллом, да? — спросил Чарльз, когда они вошли в лес.
— О Чарли, может быть, ты все-таки заткнешься на эту тему? — поморщилась Сильвия. — Сколько уже дней ты меня достаешь этим! И потом это не твое дело.
— Что, если об этом узнают мама и папа, а? Они ведь тебя живьем съедят.
— Я ничего такого не делала.
— Но ты думала об этом! Знаешь, мне кажется, что ты вырастешь настоящей шлюхой.
— Может, наконец успокоишься?
— Что, если я обо всем скажу маме и папе?
— Ты этого не сделаешь.
— Кто знает…
Она гневно посмотрела на брата:
— Я повторяю, что ничего такого не делала.
— А с Эдди Клинтоном? Делала, делала. Не пытайся это отрицать. Я следил за тобой.
— Подглядывай за кем-нибудь другим.
Некоторое время они шли молча.
Чарльз, который любил Тракс-холл и знал здесь все, как свои пять пальцев, шел сейчас на просто куда глаза глядят. У него засела в голове одна мысль. Через десять минут они вышли наконец туда, куда он и вел сестру. Это был очаровательный небольшой пруд, окруженный по берегам буйной растительностью.
— Смотри, олень! — прошептала Сильвия, показывая пальцем на противоположный берег, где склонилась к воде молоденькая самочка оленя. Почуяв человека, она унеслась в лес.
— Давай искупаемся, освежимся, — предложил Чарльз и стал развязывать галстук.
— Но у нас нет купальников, — возразила Сильвия.
— Ну и что? Можно подумать, мы друг друга никогда голыми не видели!
— Да, но сейчас мы уже выросли…
— Твое дело, а я окунусь.
С минуту она наблюдала за ним, потом тоже стала снимать платье.
Раздевшись догола, они стали изучающе смотреть друг на друга.
— А ты красивая, — тихо произнес Чарльз.
— И ты.
Он смотрел на ее юные груди, нежный живот, гладкую кожу, черный треугольник волос внизу… Затем он повернулся и с разбегу прыгнул в воду. Она взобралась на большой камень и прыгнула вслед за ним. Ее юное тело грациозно взмыло в воздух, затем мягко скользнуло в прохладную воду. Некоторое время она плыла под водой, наслаждаясь ее прохладой, затем вынырнула рядом с братом.
— О, это здорово! — радостно воскликнула она.
Он не ответил и только смотрел на нее.
Несколько минут они плескались в воде, затем Чарльз выбрался на берег и остановился, потягиваясь. Она смотрела на его гибкое, безволосое тело и вдруг испугалась собственных мыслей.
— Как мы будем сушиться? — крикнула она.
Он не ответил.
Она подплыла к берегу, вышла из воды и стала выжимать свои густые каштановые волосы. Чарльз, стоявший всего в нескольких футах от нее, неотрывно смотрел на Сильвию. Она увидела, как он стал возбуждаться.
— Ты отвратителен! — прошептала она. — Наверное, ты любишь играться с ним в кустиках.
— Нет, — ответил он, подступая к ней.
Они стояли теперь на расстоянии нескольких дюймов друг от друга, встретившись глазами.
— Чарли, — прошептала она. — Мы не можем…
Он взял ее руки в свои.
— Никто, кроме нас, и знать не будет, — сказал он тихо. — Это будет нашей маленькой красивой тайной.
Его правая рука скользнула по ее груди, затем вниз по животу. Он поласкал ее волосы на лобке.
— Я так давно этого хотел, — прошептал он.
Он обнял ее, прижал к себе и стал целовать. Затем мягко уложил ее на ковер из опавшей листвы. Она не оказывала ни малейшего сопротивления. Ее поразило то, что, оказывается, она сама страстно жаждет своего старшего брата!.. Ее приводила в ужас мысль о том, что она сейчас делает, но она не имела в себе сил, да и не хотела остановиться.
Он опустился на нее сверху.
— Никто никогда не будет об этом знать, кроме нас, — повторил он, входя в нее.
Сильвия была в ужасе, но одновременно сознавала, что никогда еще в жизни не испытывала такого сильного сексуального возбуждения. «Табу, табу!» — проносилось в голове у нее, когда он ее целовал.
Но именно «табу» и вызывало такую страсть.
Некоторое время за двумя обнаженными белыми телами с ближайшего дерева наблюдала белка. С любопытством она смотрела на ритмично покачивавшийся узкий таз Чарльза.
Затем белка скрылась в листве.
— Ну, как тебе это нравится? — спросил двумя днями позже Ник жену, помогая ей выйти с заднего сиденья одного из «роллсов» ее отца.
Эдвина стала рассматривать дом в форме буквы «L» с тростниковой крышей. Более длинное крыло дома было деревянным и окрашенным в белое — это был трехэтажный образчик тюдоровского стиля, — короткое крыло было отстроено из мягкого розового кирпича. Окон было много, и все они были освинцованы, на крыше возвышались пять труб, искусно выложенных из кирпича. Перед домом рос сад, яркий от летнего цветения.
— О, я люблю это место и всегда любила! — воскликнула Эдвина. — Это Одли-плэйс. Я играла здесь в детстве. Мама сказала, что леди Одли умерла в прошлом месяце.
— Да. Угадай, кто купил этот дом?
— Даже не представляю.
— Его купили мы с тобой.
Она изумленно взглянула на него, а он взял ее за руку и повел к каменной дорожке, разделявшей сад надвое.
— Я тут недавно спросил твоего отца, нет ли здесь поблизости какого-нибудь симпатичного местечка на продажу, и он посоветовал Одли-плэйс. Сказал, что поместье только что выставили на продажу и дорого за него не спросят. Вчера я сюда приехал на осмотр и, знаешь, просто влюбился в это место! У старика Альфреда Рамсчайлда из Коннектикута был псевдотюдорский стиль, а это — настоящий. Дом был построен в 1556 году! Я сам видел строительный подряд.
Она недоуменно посмотрела на него:
— Но, Ник, нам ведь не нужен еще один дом.
— Правильно, не нужен. Но я видел, как счастлива ты была вернуться на родину, и решил, что у нас и здесь, в Англии, должен быть дом. Конечно, здесь еще нужно изрядно поработать: замена электропроводки, центральное отопление, новые ванные комнаты и остальное. Но я думал, что, пока буду в Берлине, ты начнешь искать архитектора и рабочих.
Они уже подходили к главному крыльцу. Эдвина еще раз осмотрела дом.
— Тут чуть меньше пятидесяти акров, — продолжал Ник. — И мы можем купить их в свободное владение. Наш участок захватывает и пятьсот футов берега Эйвона. Право на рыбную ловлю? Пожалуйста! А вот и мельница XVIII века. Вполне сможем перестроить ее в коттедж для гостей. Конечно, если тебе здесь не нравится, не поздно и отступиться. Я еще ничего не подписал.
— Нет, мне нравится… Просто, как и обычно, ты застал меня врасплох. Сколько он стоит?
— Двадцать тысяч фунтов.
— Да, не скажешь, что тебе его отдают даром.
Они подошли к парадной двери. Ник повернул жену за плечи так, чтобы смотреть ей прямо в глаза.
— Я просто хотел, чтобы ты находилась поблизости от родителей на тот случай, если со мной что-нибудь стрясется, — негромко сказал он.
Ее глаза округлились.
— Ник, ты же говорил, что нет никакой опасности! — прошептала она.
Он взял ее за руки.
— Я не хочу, чтобы ты волновалась, — сказал он. — Хотя небольшая опасность есть. В нынешней Германии с человеком может случиться все, что угодно.
Она взглянула на него со страхом.
— Тогда не езди! — воскликнула она. — Пожалуйста, Ник, не езди!
— Я должен.
— Почему?
— Ты знаешь. Это реальная возможность избавить мир от Гитлера.
Он толкнул тяжелую дверь, которая скрипнула на старых петлях.
— В 1803 году в этом доме случилось убийство. Владелец Одли-плэйс повредился рассудком и удавил жену. Затем и сам повесился на кухне. — Он подмигнул жене. — Говорят, его дух до сих пор бродит здесь.
С этими словами они вошли в дом.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
С графом фон Винтерфельдтом было уговорено, что Ник прилетит в Берлин, остановится в «Адлоне» и будет там ждать человека, который назовет ему пароль по-немецки: «Летнее вино». На что Ник должен будет ответить тоже по-немецки: «Зимнее вино».
Все это казалось таким примитивным, что не удостоилось бы внимания сочинителя шпионских романов. Но граф сказал, что чем проще конспирация, тем она надежнее. И Ник был склонен с этим согласиться.
На следующий день Ник отправился в аэропорт «Кройдон» в окрестностях Лондона, сел в самолет, который приземлился в аэропорту «Темпельхов» в Берлине, въехал в роскошный номер «Адлона» и, устроившись, спустился в ресторан, чтобы позавтракать. Вестибюль отеля, как и всегда, был заполнен иностранцами. Было много бизнесменов, несколько офицеров германской армии, несколько эффектных женщин, несколько женщин не таких уж и эффектных. Ник прошел в ресторан. Метрдотель узнал его и посадил за угловой столик. Ник заказал жареную рыбу и полбутылки муската. Откинувшись на спинку стула, он небрежно оглядывался по сторонам и гадал: подойдет ли сейчас к нему кто-нибудь с условленным паролем?
Спустя минут двадцать в зале показалась Магда Байройт. Нику было известно, что за последние годы Магде удалось подняться на самую вершину германского кинематографического Олимпа. Знал он и то, что этим она была обязана не только своей редкой красоте, но и протекции доктора Геббельса, который день ото дня становился все более влиятельным. В этот раз ее появление в ресторане «Адлона» было типичным появлением кинозвезды. В отличие от Англии, в Берлине стояла сырая промозглая погода. Но в наряде Магды была все та же цветовая гамма: белое с черным. На этот раз на ней были роскошный белый костюм, черные длинные лайковые перчатки и черный берет с двумя белыми перышками, тянувшимися по диагонали. Ее ноги — чудо природы! — были обуты в белые туфли с черным шнурком. На груди сверкала брошь из большого бриллианта и рубина-кабошон.
Взгляды всего зала были прикованы к ней, пока метрдотель провожал ее к столику. Проходя мимо Ника, она узнала его и остановилась. Она посмотрела на него томно-сексуально и улыбнулась все так же зазывающе-откровенно, как и семь лет назад.
Ник поднялся.
— Мистер Флеминг? — сказала она. — Как видите, у меня отличная память. Вы завтракаете в одиночестве?
— Да.
— Позволите мне присоединиться к вам?
— Буду счастлив.
Метрдотель выдвинул для нее стул.
— Я тоже с вашего разрешения похвастаюсь своей памятью, — сказал Ник. — Вы все еще сидите на своей оригинальной диете из шампанского и икры?
— Да, в икре много витаминов.
Это замечание, в любых других обстоятельствах лишенное всякого смысла, благодаря ее зазывающему голосу показалось чуть ли не приглашением в постель. Ник снова был ослеплен ею. Он сделал заказ. Она сказала:
— Вообще-то я должна была бы не заметить вас сейчас. Семь лет назад в этом же зале вы предложили мне кинопробы, а затем — пуф! Испарились из Берлина. Вы со всеми девушками так поступаете?
— Я был неожиданно вызван по делам. Прошу прощения.
Она улыбнулась:
— О этот загадочный мистер Флеминг! Король военного бизнеса! Мультимиллионер, который заключает тайные сделки с руководителями всех государств мира! Я нахожу это восхитительным. Кстати, что привело вас в Берлин на сей раз?
— Приехал отдохнуть.
Она звонко рассмеялась:
— О да, разумеется! Этот полусонный спокойный Берлин! Удивительно удачно выбранное место для отдыха! Ну раз уж вы на отдыхе, почему бы вам не отдохнуть вместе со мной? Сегодня я даю небольшую вечеринку на вилле самой фрау Хублер в Ванзее! Знаете, это самый интересный дом в Берлине. Владелица виллы — это та женщина, с которой вам непременно нужно познакомиться! Вы придете? Многие из моих гостей — люди киномира. Допускаю, что вы даже узнаете некоторых. Я уверена, что вам очень понравится.
Ник был сама осторожность, но он ничего не имел против того, чтобы немного расслабиться в обществе этой ослепительной женщины. К тому же Магда, бывшая любимой киноактрисой Гитлера — если не считать актеров, сыгравших в «Кинг-Конге», — обеспечивала бы Нику надежное прикрытие на время пребывания в Берлине.
— Спасибо за приглашение, — сказал он. — С удовольствием приду.
— Браво! Я заеду за вами сюда в отель сегодня в девять вечера. У нас будет небольшой ужин и затем… развлечения.
Тон, каким она произнесла последнее слово, обещал и в самом деле большое разнообразие событий на предстоящий вечер.
Он страстно любил Эдвину, но все ее рассуждения насчет двойного стандарта в семейной жизни никогда не производили на него большого впечатления.
Вилла фрау Хублер, расположенная в самом центре чудесного двухакрового сада, была построена шесть лет назад в ныне опальном стиле бохаус. Одной из первых официальных акций Гитлера после его прихода к власти был разгон группы «Бохаус», основанной после мировой войны Вальтером Гропиусом. Двухэтажная, из известняка, вилла была современной и сильно контрастировала с какими-то неровными линиями вильгельминовского стиля, в котором было построено большинство домов в Берлине.
Белый «бенц» Магды затормозил перед крыльцом виллы в половине десятого вечера. Шофер в светлом кителе выскочил из автомобиля, распахнул дверцу, и оттуда показалась Магда в черном вечернем платье и белом боа. За ней из машины вышел Ник в строгом вечернем костюме.
— Фрау Хублер сильно пострадала от огня во время одного несчастного случая много лет назад, — говорила Магда, пока они шли к крыльцу. — Поэтому ей приходится носить вуаль, чтобы скрыть свои шрамы. В Берлине и в других городах она известна как «Дама под вуалью». Вы говорите по-французски?
— Не очень.
— Отлично. По-английски она вообще не понимает.
— А что это, собственно говоря, за заведение?
Она улыбнулась:
— Как, вы не понимаете? Это же дом свиданий, как говорят французы. Но не простой, а самый лучший во всем Берлине. Сам фельдмаршал Геринг здесь частый гость, правда, это держится в большом секрете.
Дверь им открыл мускулистый негр в тесном смокинге. Он тут же отступил на шаг назад, чтобы пропустить гостей. В холле все было очень строго и не было ничего, если не считать низкого столика из стекла и стали, на котором стояла китайская ваза с белыми гладиолусами, и торшера от пола до потолка, который представлял собой пирамиду стальных чашечек, поставленных одна на другую и дающих оригинальное освещение. Магда провела Ника под открытой аркой в большую гостиную, окна которой выходили на озеро. Комната была обставлена по последнему крику моды: современная мебель белого, желтого и стального оттенков. Особое очарование придавал холодный металлический блеск. Застекленные двери, выходившие на террасу, были распахнуты. В дверях спиной к Магде и Нику стояла женщина в воздушном белом платье из шифона. На ней была белая вуаль, а на руках белые лайковые перчатки до локтей.
Больше в гостиной никого не было.
— Фрау Хублер, — сказала Магда по-французски. — Это мой друг Ник Флеминг.
Женщина медленно повернулась к вошедшим. Несмотря на то что тонкая ткань вуали закрывала все ее лицо, Ник чувствовал, что она вглядывается в него. Почему-то ему вдруг стало не по себе.
Примерно с минуту она молчала. Затем Дама под вуалью сказала низким голосом по-французски:
— Я в восторге.
Она еще несколько секунд смотрела на Ника, затем молча повернулась и исчезла на террасе.
— Странная леди, — сухо заметил Ник, повернувшись к Магде. — Так тепла и гостеприимна! А где остальные гости?
Магда улыбнулась и положила свои руки ему на плечи.
— А других не будет. После нашего сегодняшнего завтрака я позвонила фрау Хублер и попросила ее предоставить на вечер эту виллу нам двоим. Как поется в одной очаровательной американской песенке: «Я в настроении любить!»
Она взмахнула правой рукой, и комната погрузилась в интимный полумрак. В гостиной появился черный слуга в смокинге. Он принес поднос с шампанским.
— Немножко выпьем, а потом поднимемся в Комнату вуали, — прошептала Магда и добавила: — Ты в настроении любить?
Ник улыбнулся:
— Меня нетрудно уговорить. Впрочем, похоже, это уже не требуется.
И они взяли с подноса по бокалу шампанского.
* * *
Комната вуали производила впечатление. Это была средних размеров квадратная комната с высоким потолком и белыми газовыми занавесками. Окна были открыты, и с озера тянул легкий ветерок. Занавески сонно колыхались, вызывая тем самым какой-то сюрреалистический эффект. В комнате стояла большая кровать под газовым балдахином. Другой мебели не было, а мягкий свет поступал из ниш в полу, тоже закрытых газовыми вуалями. Зеркальный потолок отражал лежащий на полу красивый марокканский ковер.
— Это моя любимая комната, — призналась Магда, небрежно бросив на пол свое боа. — Геринг тоже ее любит.
— Не порть настроение, — попросил Ник.
Улыбнувшись, она подошла к кровати, отодвинула в сторону закрывавшую ее газовую ткань и села на краешек.
— Не стоит недооценивать Германа, — сказала она, скрестив ноги и снимая туфли. — Он хитер, как лиса, и свиреп, как волк. Это чудесная комбинация качеств в мужчинах.
Глядя на то, как она снимает свои туфли на высоком каблуке, а затем скатывает шелковые чулки, он мгновенно выбросил Геринга из головы.
«Разумеется, каждое движение тщательно отрепетировано, — подумал Ник. — Но как превосходно играет! И какие ноги!»
Когда чулки были сняты, Магда поднялась с постели, не спуская с Ника глаз, и стала медленно расстегивать на спине платье. Затем томным движением профессиональной исполнительницы стриптиза она скинула с плеч бретельки и дала платью свободно соскользнуть с ее тела на пол. Ник пожирал ее глазами, одновременно снимая с себя вечерний костюм, опуская подтяжки и принимаясь за ширинку.
Магда тем временем стягивала белые атласные трусики со своих очаровательных литых бедер. В последнюю очередь — атласный лифчик. Она скинула его на пол и, улыбаясь, повернулась к Нику. Нагая и пленительная, как Венера Боттичелли. Ник едва сдерживался.
Магда отодвинула газовую вуаль, закрывавшую кровать, и легла на нее, скрыв свое ослепительное тело от жадных взоров Ника за дымкой тончайшей ткани.
Ник торопливо освободился от нижнего белья. Раздевшись донага, он подошел к кровати, откинул тонкую ткань и взглянул на Магду. Она в вольной позе лежала на постели, одна рука небрежно касалась подушек, левая нога в полусогнутом положении. Ее бело-розовая кожа в мягком свете была совершенством. Красотой своего тела она была обязана диете, упражнениям и, конечно же, природе.
Ник сгорал от желания.
В своей карьере кинопродюсера ему приходилось любоваться многими красавицами, в том числе и жемчужинами Голливуда, однако никогда еще не видел он такой женщины. Магда олицетворяла собой совершенный образец женской чувственности. Он встал на постель коленями, наклонился к ней и принял ее широко распахнутые объятия.
— Боже, ты красавица, — шептал он.
— Неоригинально, — улыбаясь, отвечала она, — но думаю, что от чистого сердца.
Он поцеловал ее в губы. Ее дыхание было ароматным, а кожа и волосы источали тонкий запах дивных духов. Сердце Ника разрывалось: никогда за последние годы он не испытывал такого возбуждения. Он стал нежно ласкать ее груди, соски, вызывая этим в ней легкое постанывание. Он ласкал ее языком, спускаясь от грудей к животу, наслаждаясь вкусом и запахом ее кожи. Лаская внутренние стороны ее бедер, он ощущал жар ее лона.
— Твой язык, — шептала Магда. — Я люблю твой язык!
Вдруг он услышал шум открываемой двери, затем торопливый стук шагов, приближающихся к кровати. Он поднял глаза и увидел, как тонкая вуаль резко отодвинулась рукой фрау Хублер… Но что это! На ней не было вуали! Вся нижняя часть лица — сплошная рубцовая масса. А верхняя часть странно знакома… Ее зеленые глаза торжествующе сверкнули, когда появились четверо молодчиков в форме СД, схватили Ника за руки и за ноги и грубо столкнули с кровати на пол. Ник взревел и попытался сопротивляться, но его прижали к полу, а в левую ягодицу шприцем ввели какую-то жидкость. Затем, держа за руки и за ноги, его подняли и кричащего унесли из комнаты.
Магда Байройт сошла с кровати, поправила волосы.
— Дорогая, — сказала она Диане Рамсчайлд по-английски, — что вам стоило побеспокоить нас несколькими минутами позже? Он невероятно хорош в постели!
Диана вновь закрыла лицо вуалью.
— Вы полагаете, — сказала она, — что я позволила бы этому недоноску до конца насладиться?
Она пошла было к двери, но заметив на полу белье Флеминга, подняла его и с остервенением разорвала в клочья.
— Я не завидую Нику Флемингу, — зло проговорила она, швырнув разорванное белье обратно на пол.
Затем она вышла из комнаты.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Он пришел в себя и обнаружил, что лежит распластанным на низкой железной кушетке животом вниз. Руки и ноги наручниками были прикованы к ножкам кушетки. Он был голым, а голова все еще ныла от того наркотика, которым его накачали гестаповцы шесть часов назад. Придя в сознание и припомнив обстоятельства его неожиданного захвата гестаповцами, он почувствовал, как его начинает охватывать паника. Вытягивая шею, Ник попытался определить, где он находится. Это была тюремная камера десяти футов в длину и пяти футов в ширину, со старыми кирпичными грязными стенами и массивной железной дверью без глазка. В углу стояла отвратительная параша. На высоте примерно семи футов над парашей помещалось крохотное, зарешеченное окошко с разбитым стеклом, сквозь которое в камеру пробивался солнечный свет. Английский зной достиг Германии, и здесь было невыносимо душно. Железо кушетки жгло живот и бедра, пот капал на каменный пол. Обычно чистоплотного Ника сейчас мутило от собственного запаха.
Он попытался понять, что произошло. Очевидно, Магда Байройт была подослана к нему для того, чтобы его соблазнить и заманить на виллу фрау Хублер, которая оказалась ловушкой. Но к чему его нужно было затаскивать в ловушку? И кто была эта безобразная фрау? Как Германия посмела совершить такое с американским гражданином! С влиятельным американцем, каким был он, Ник Флеминг! Как?! Нацисты, конечно, бандиты, но до сих пор по отношению к внешнему миру они вели себя цивилизованно. С ума они, что ли, все посходили?! Когда он выберется отсюда, Ван Клермонт пропечатает эту наглую выходку в газетных заголовках по всей Америке!
Вдруг его пронзила мысль: «А меня ведь отсюда никто и не станет выпускать…»
Когда восемнадцать лет назад его похитили русские революционеры, то те были лицами вне закона. По крайней мере, до свержения царя. Теперь же его арестовало законно избранное правительство. Пока он находится в их руках, он беззащитен. Ник не был трусом, но считал, что бесстрашие героев — это все бред.
Он был напуган.
Шло время. Через окно снаружи до него время от времени долетали отдельные выкрики на немецком. По его ноге, затем по ягодицам, по спине и, наконец, по лицу прополз огромный таракан. Ника едва не стошнило. Он мысленно приказывал себе не кричать: «Им только это и надо».
Но под конец не выдержал:
— Выпустите меня! Я американский гражданин, черт возьми! Выпустите меня!
Ответом ему было эхо.
Они пришли в тот день в три часа.
Сначала он слышал стук их кованых сапог по коридору, затем несколько дразнящих ударов резиновыми дубинками по стальной двери его камеры, наконец скрежет ключа в замке. Он выгнул шею, чтобы следить за дверью. Она была открыта прыщавым светловолосым молодчиком в форме дивизии «Мертвая голова». За ним еще трое таких же. Самый первый ухмыльнулся и сказал:
— Летнее вино!
После этого все четверо заржали.
Они ввалились в камеру и разомкнули его наручники. Ник почти не знал по-немецки, но сумел крикнуть:
— Я американец! Вы меня понимаете?! Американец!!!
Прыщавый сказал:
— Ты американский жид!
И они снова заржали. Ему грубо сковали руки за спиной. Два ближайших немца схватили Ника под локти, выволокли из камеры в коридор и потащили вперед мимо безликих стальных дверей справа и слева. Остановились в конце коридора перед решеткой. Один из них отпер ее своим ключом. Его потащили по коридору дальше. Потом они поднялись на этаж выше и в очередном коридоре остановились перед стальной дверью, на которой было выведено зловеще слово «Fragenzimmer»[15]. Они открыли дверь и втолкнули Ника в выбеленную комнату площадью примерно в двадцать квадратных футов с большим зарешеченным окном из узорчатого стекла. С потолка свисали четыре лампочки в зеленых абажурах. Вдоль стен тянулись железные стулья. Раковина в углу. В середине комнаты стоял стальной операционный стол с кожаными ремнями для того, чтобы привязывать руки и ноги. Ника стали толкать к этому столу. Охваченный ужасом, он попытался стряхнуть с себя немцев. Тогда один из них нанес ему несколько крепких ударов в плечи и грудь. Ник прекратил сопротивление. Это было бесполезно.
Его расковали, заставили лечь спиной на стол и стянули ремнями конечности. Прыщавый подошел к медицинскому шкафчику, выдвинул один из ящиков и достал оттуда кожаную затычку. Вернувшись к Нику, он заткнул ему рот. После этого они все ушли, издевательски помахав ему руками на прощание и говоря:
— До свидания! Пока!
Стальная дверь захлопнулась, и он остался один.
Спустя минут двадцать охранник открыл дверь и в комнату вошла Дама под вуалью. Ник с ужасом смотрел на эту женщину. Охранник вышел из комнаты и закрыл за собой дверь.
Она подошла к столу и посмотрела на Ника сверху вниз смертельно холодным взглядом своих красивых зеленых глаз. В руках, обтянутых перчатками, она сжимала маленькую черную сумочку.
— Ты, конечно, не догадываешься, кто я такая? — спросила она по-английски.
На лбу у него выступил пот. Он отрицательно покачал головой.
— Я Диана Рамсчайлд.
Волна воспоминаний нахлынула на него. Диана? Это невозможно! С другой стороны, эти зеленые глаза… Зеленые глаза его богини, которую он любил так много лет назад…
— Я знаю, о чем ты думаешь, — продолжала она спокойно, хотя душа у нее бурлила. — Официально я считаюсь погибшей. Но я не умерла тогда в Смирне. Я была сильно обожжена… Очень сильно, как ты сам можешь видеть, но врачам удалось спасти мою жизнь, и я…
Она запнулась, будучи не в силах продолжать. Настал кульминационный момент ее мести, момент, которого она ждала много лет, ради которого только и жила… Но происходило все совсем не так, как она думала. Она не только не имела в себе желания торжествовать над унижением Ника, но начинала уже жалеть его.
А потом она увидела, что он поднял правую руку, насколько позволяли ремни, и скрестил пальцы.
Незначительный жест, любому на планете показавшийся бы бессмысленным, оказал на Диану эффект разорвавшейся бомбы! Внезапно мрачная обстановка этой комнаты сменилась тем пустующим домом на пляже пролива Лонг-Айленд, где в то волшебное лето много лет назад она впервые познала любовь в объятиях Ника. Она забыла о ненависти и вспомнила любовь. Ту первую и самую сильную.
Это нагое тело, беспомощно распятое на страшном столе палача, когда-то было предметом ее самых сильных желаний. Да, за время пребывания в Турции Диана привыкла к физическому насилию и жестокости, но теперь зрелище, представшее ее глазам в этой комнате, потрясло Диану так же, как изнасилование в тот роковой день в Смирне… Тогда из-за бесчеловечной людской жестокости чуть не прервалась ее жизнь, так неужели она действительно хочет, чтобы то же самое произошло с человеком, которого она когда-то страстно любила?
И вдруг она постигла всю глубину своего заблуждения. Всю глубину заблуждения Мустафы Кемаля. Ненависть не может быть сильнее любви. Эти скрещенные пальцы — независимо от того, как поступил с ней Ник в прошлом, — символизировали самую счастливую пору в ее жизни. Что он с ней сделал? Бросил ради другой. Чем она отплатила? Сначала наняла для него убийцу, а вот теперь помогла гестапо арестовать его. Преступление и наказание оказались чудовищно несопоставимы!
Господи, неужели она сошла с ума?!
— О Боже, Ник, — прошептала она. — Что я натворила?!
Ее охватила паника. Они выделили ей только пять минут для того, чтобы увидеть его. Для того, чтобы насладиться свершившейся местью. Затем придет капитан Шмидт, самый известный гестаповский палач. У него, как он сам выразился, — «назначено свидание». О, она знала, что они будут делать с Ником!..
— Слушай, у меня всего несколько минут… — торопливо несвязно заговорила она. — Им все известно о заговоре. Мне рассказывал сам Геринг. Зря ты стал сотрудничать с Винтерфельдтом. Нацисты ему не доверяли с самого начала. Его арестовали сразу же, как он только прибыл на прошлой неделе в Гамбург. Он здесь и ждет казни. О мой Боже, я ненавидела тебя, но не должна была так поступать с тобой! Я вытащу тебя отсюда, Ник… Я окажу все свое влияние на Ататюрка! Нацисты не будут с ним ссориться. О Господи, это все я виновата! Я хотела сделать тебе больно, потому что ты сам сделал мне больно! О, я так страдала, Ник…
Она разрыдалась, не выдержав натиска бурных чувств. Она оплакивала сейчас покалеченную любовь, впустую прожитые годы. Как же все-таки плохо она знала свое собственное сердце! Да, они и так планировали его арест, но ведь это именно она упросила Геринга устроить весь тот спектакль… Это она послала Магду Байройт в «Адлон», зная, что Ник не устоит перед ее броской красотой. Это она устроила так, что гестаповцы явились прямо в момент полового акта… Она вела себя как одержимая, но она и на самом деле была одержимой.
Диана услышала, как за ее спиной открылась дверь, и обернулась. В комнату вошли два охранника. У одного в руках был тяжелый черный чемоданчик, у другого — переносная виктрола и несколько пластинок к ней. Он поставил граммофон на медицинский шкафчик.
— Время вышло, фрейлейн, — вежливо сказал по-немецки один из охранников.
Она вновь повернулась к Нику. Того всего била дрожь от ужаса, лицо было мокрым от пота.
— Я вытащу тебя отсюда, — сказала она по-английски и вышла.
Спустя минуту после того как ушли охранники, в комнате появился человек в черной форме с эмблемой «Мертвой головы». Войдя, он закрыл за собой дверь. Подойдя к операционному столу, он снял фуражку и кинул ее на ближайший стул. Потом посмотрел на Ника. На вид ему было лет тридцать пять. Редкие белокурые волосы, очень длинное, чисто немецкое лицо с высокими скулами и маленькими близко посаженными глазами. Он напомнил Нику борзую.
— Меня зовут капитан Шмидт, — сказал он на превосходном английском с британским произношением. — Вам вменяется в вину совершение тяжкого преступления: содействие в подготовке мятежа против рейха.
Он стал стягивать с рук перчатки. Ник подивился этим характерным движениям, которые палача Шмидта делали похожим на зубного врача. Шмидт положил перчатки на шкафчик рядом с виктролой, затем вернулся к Нику и вытащил кляп у него изо рта.
Ник, который еще не до конца оправился от шока после встречи с Дианой, все не понимал, что, несмотря на ее участие в его аресте, она олицетворяет собой самый надежный шанс на спасение. Впрочем, он и сам решил защищаться по мере возможности.
— Господин капитан, — сказал он как можно более спокойно. — Я являюсь американским бизнесменом с действительным паспортом. Я настаиваю на встрече с нашим послом.
Шмидт удивленно покосился на Ника.
— Друг мой, вы не в том положении, чтобы на чем-либо настаивать. Вы заключенный.
— Но я ничего не совершал! — крикнул Ник, давая волю долго сдерживаемому гневу.
Шмидт ударил Ника кулаком в солнечное сплетение, да так сильно, что того чуть не вырвало.
— Не смей орать! — взвизгнул Шмидт. — Я научу тебя вежливости! Будешь подавать голос, когда тебе прикажут, понял? Ты понял меня, жидовское дерьмо?! — С этими словами он так сильно сжал мошонку Ника, что тот взвыл от боли. После этого Шмидт отпустил Ника и заговорил уже нормально: — Нам с самого начала было известно, что граф фон Винтерфельдт является подонком и изменником, но до поры мы держали его на длинном поводке, чтобы он вывел нас на остальных. Нам известно, что он навещал вас в вашем доме в Америке. Нам известно, что вы прибыли в Берлин для того, чтобы устроить продажу ему партии вашего товара. Вопрос в том, мой друг, согласитесь ли вы с нами сотрудничать? Если вы расскажете все, что вам известно о заговоре, то отделаетесь сравнительно легким испугом — двадцать лет тюрьмы. В противном случае — казнь. Вы меня понимаете?
Ник бросил на него ошалелый взгляд:
— Да.
— Сотрудничество?
— Вам уже известно все, что я знаю.
— Это не ответ! — крикнул Шмидт.
— Но это так! Я затем и приехал в Берлин, чтобы узнать подробности!
— Кто из генералитета вовлечен в заговор?
— Я не знаю. Винтерфельдт не сказал мне, когда я просил его.
Шмидт окатил Ника ледяным взглядом.
— Отлично, — сказал он спокойно, — ты выбрал тернистый путь. — Он подошел к шкафчику. — Тебе нравится Кол Портер?
Вопрос настолько не вязался с обстановкой, что Нику стало казаться, что либо он, либо немец, либо они оба сошли с ума.
— Ну?
— Что?
— Я спросил, нравится ли тебе Кол Портер? «День и ночь» — одна из моих любимых песенок. У нас еще будет возможность познакомиться друг с другом поближе, времени будет хоть отбавляй, друг мой. Лично я обожаю американскую музыку. Я даже люблю Гершвина и Ирвина Берлина, хотя они и жидовские подонки. Давай-ка посмотрим, что тут у нас имеется. — Он стал перебирать пластинки. — Ага! Ноэл Ковард! Прелестно изнеженный декадент, впрочем, как и все англичане. Я занимался английской литературой с 1928 по 1931 годы в Оксфорде, и частенько мы ездили в Лондон, чтобы поглазеть на шоу Коварда. Ага! «Бешеные псы и англичане». Прекрасно!
Он завел граммофон, и зазвучал мелодичный голос Коварда под аккомпанемент рояля:
Есть в тропиках такое время дня, Когда одежды хочется сорвать, Когда тебя — хоть выжимай…Издевательски ухмыляясь, Шмидт вернулся к столу.
— Музычка как раз для испытаний, а? — весело проговорил он и повернул в основании стола какой-то рычаг. Стол повернулся так, что привязанный Ник принял вертикальное положение. Шмидт открыл черный чемоданчик. Ник совсем упал духом, когда увидел, как из чемоданчика появляется целая коллекция кнутов и плетей. Шмидт выбрал один короткий кнут, подошел с ним к раковине и, отвернув кран, подставил под струю воды.
На полуденное солнце Не хотят идти японцы, А китайцы — те не смеют, И только бешеные псы и англичане…Шмидт вернулся к Нику.
— Мокрая кожа бьет больней, — сказал он, усмехаясь.
Раздался короткий свист, и лицо Ника ожгло, как огнем. Затем плечи, грудь, живот, пах — после этого удара боль ослепила Ника, — бедра, ноги. Шмидт обезумел и был похож на взбесившегося зверя. Ник кричал от боли, которая была запредельной.
От двенадцати до часу — Спит индус и аргентинец, Но своих глаз не смыкают Англичане…— Кто еще в заговоре? — орал Шмидт. — Мне нужны имена!
— Я не знаю! — стонал Ник. — Поверьте, я не знаю!
И снова кнут рассекал воздух с ноющим звуком. Затем удар — и новая волна боли, захлестывающая мозг. Шмидт стал метить в горло, потом опять бил в грудь, уже по ранам.
В мангровом болоте, Где живет питон, С полудня до двух — Мертвый сон. От безделья карибу Валится с копыт…Затем по животу, снова в пах, снова по бедрам, по ногам. Кровь текла из десятка ран. Ник, почти потеряв сознание, провис в ремнях. Тело его было покрыто потом и кровью.
— Жид!!! — орал Шмидт. — Мне нужна правда!
Полдень… Палят из пушки в той стране, Гонконг бьет в гонг И только бешеные псы и англичане Гуляют по жаре.— Я не знаю, не знаю, — задыхаясь, кричал Ник.
— Очень хорошо, друг мой, попробуем еще разок, а? Сначала по бедрам, затем мы развернем тебя и — по почкам. Три года потом кровью ссать будешь!
Он стал полосовать Ника. Один раз, второй, третий, четвертый… На десятый удар хлынула кровь. Боль извергалась вулканом в мозгу.
Впервые в жизни Ник молил Бога о смерти. Перед его мысленным взором пронеслись образы Эдвины, детей… Затем Ник потерял сознание.
Последнее, что он запомнил, были веселая музыка и крики Шмидта:
— Жид!
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
Роскошный черный «роллс-ройс» въехал в правые решетчатые ворота Букингемского дворца, обогнул его и повернул во внутренний двор. Слуга открыл дверцу, и из машины показалась Эдвина в черном костюме и черной шляпке. Она выглядела бледной. Рядом шел лорд Саксмундхэм. На нем были черный костюм и котелок, и он нес в руке туго свернутый черный зонт. Конюший провел их во дворец, они поднялись по высокой, покрытой красным ковром лестнице. Со стен, с огромных портретов, в вечность взирали целые поколения английских монархов в горностаевых королевских мантиях. Каждый камень дворца дышал историей. Эдвина, которой уже приходилось бывать здесь, когда ее представляли Ко двору, на минуту забыла о своей тревоге и испытала гордость за то, что она англичанка.
Конюший вел их длинными коридорами до тех пор, пока они не подошли к кабинету короля. Когда их ввели внутрь, король Георг Пятый поднялся из-за письменного стола и пошел им навстречу. Делая реверанс, Эдвина отметила, что в жизни король выглядит гораздо старше и более усталым, чем на фотографиях.
Поприветствовав своих гостей, король предложил им сесть напротив него.
— Премьер ввел меня в курс дела, — заговорил он. — Я потрясен и разгневан, миссис Флеминг, арестом вашего мужа. Кайзер, когда еще был на троне, тоже допускал много глупостей, но даже он, уверен, не позволил бы себе таких отступлений от общепринятых норм.
— Благодарю вас, ваше величество, за вашу заботу, — сказала Эдвина. — Удалось ли узнать премьеру, где содержат моего мужа?
— Да. Он находится в тюрьме концентрационного лагеря «Фулсбюттель», на северной окраине Гамбурга, недалеко от аэропорта. Это очень старая тюрьма, и ее уже хотели было снести, когда вдруг нацисты пришли к власти. Но поскольку ныне надобность в подобных учреждениях у них резко возросла, нацисты превратили ее в концлагерь. Мне докладывали, что там сейчас содержатся сотни коммунистов и евреев. — Он сделал небольшую паузу. — Я знаю, зачем ваш муж отправился в Германию, но неужели же он не понимал, насколько это опасно?
— Да, — вступил в разговор лорд Саксмундхэм. — Перед его поездкой я предупреждал о том, что он подвергает себя страшному риску. Он заверил меня, что отдает себе в этом отчет. Но он считал, что поскольку есть возможность отстранить Гитлера от власти, он непременно должен оказать помощь людям, готовившим переворот. Он просил меня не говорить о реальной степени риска моей дочери, чтобы не огорчать ее. Но сам он все понимал, ваше величество.
— Что ж, я восхищаюсь мистером Флемингом, — сказал король. — Во время войны он оказал огромную услугу Англии, а если бы ему удалось вместе с другими низложить Гитлера, тем самым он оказал бы еще большую услугу. Я хочу, чтобы вы знали, что мы с королевой относимся к вам с безграничной симпатией, почему я и пригласил вас сегодня во дворец. И, разумеется, мое правительство сделает все возможное для спасения мистера Флеминга.
— Какие шансы на успех, сир? — спокойно спросила Эдвина.
— Ваш муж является американским гражданином и, как вы сами знаете, у него есть связи во влиятельных политических кругах Вашингтона. Американский посол рассказал мне вчера, что Вашингтон заявил властям Берлина решительный протест. Сработает это или нет, говорить пока рано. Согласно германской позиции, ваш муж обвиняется как соучастник в подготовке внутреннего мятежа, и поскольку это правда, похоже, они вправе судить его.
— Хорошо, но есть ли у него адвокат? Можем ли мы позаботиться об этом?
— Германские власти заверяют, что, когда дело дойдет до суда, они сами предоставят вашему мужу адвоката.
— С таким же успехом они могли бы ему предоставить в качестве адвоката самого Гитлера! — с горечью произнесла Эдвина. — Значит, надежды никакой?
— Надежда есть всегда, — дипломатично ответил король.
Это была пресловутая соломинка утопающему, но Эдвина была сейчас готова ухватиться и за соломинку.
Каждую ночь в течение четырех суток его приковывали наручниками к железной кушетке лицом вниз, обнаженного. Долгие часы неподвижности были для Ника так же невыносимы, как и частые избиения капитаном Шмидтом. Кормили его всего лишь миской баланды из гнилой картошки и кусочком заплесневелого хлеба в день, так что нечеловеческий голод добавлялся к постоянной боли во всех членах от кнута и плетей Шмидта. Ник находился в самом расцвете сил, обладал отменным здоровьем, но он все чаще задумывался над тем, сколь долго еще сможет протянуть в этих условиях даже его крепкий организм? Ему не раз решали умываться, а поскольку в камере не было туалетной бумаги, Ник дышал смрадом собственных испражнений.
До сих пор он не видел ничего, кроме своей камеры, комнаты допросов и длинных безликих коридоров между ними. Хотя он подозревал, что тюрьма переполнена заключенными, до сих пор ему не довелось увидеть никого из них. Однако он слышал, как несчастных осыпали бранью охранники во дворе.
К общему кошмару обстановки добавлялись и некоторые «забавы» тюремной охраны: эти головорезы любили ни с того ни с сего палить из автоматов по окнам камер. Поэтому в камере Ника в окне уже давно не было стекол. Ему приходилось много читать о нацистах и их тюрьмах. Но реальность оказалась настолько дикой и страшной, что застала Ника врасплох. В этой тюрьме, похоже, не было никакого распорядка. Все происходило спонтанно, неожиданно, и Ник не знал, что на него обрушится в следующую минуту. Состояние неопределенности усугубляло его страх. Среди ночи его вдруг могли выволочь из камеры и жестоко избить во время допроса. С другой стороны, прошлая ночь миновала спокойно. Вот уже двадцать часов его не трогали, охрана приходила только затем, чтобы принести баланду, расковать или вновь приковать его к кушетке.
Хуже всего было то, что он не имел никакой связи с внешним миром. Такое с ним уже случалось, когда он был пленником в России, но там, по крайней мере, с ним обращались по-человечески. Здесь же, в этом преддверии ада, ощущение было такое, что неведомая сила унесла его далеко-далеко от планеты Земля. Он не знал, делается ли что-нибудь для его спасения. Состояние, в котором он находился, было для него хуже смерти.
На пятое утро он услышал стук кованых сапог по коридору и удары резиновыми дубинками по дверям камер. Затем позвякивание ключей и лязг открываемого замка. Четверо немцев вошли в камеру и расковали Ника. Он сел, радуясь уже тому, что получил возможность пошевелиться. И тут он увидел в дверях капитана Шмидта. Странно, раньше он не приходил к Флемингу. В руках у него были грязные рваные штаны.
— Ты назначен в похоронную команду, — сказал он, швырнув штаны Нику. — Надевай.
Он вышел из камеры в коридор. Ника сдернули с кушетки и заставили влезть в эти штаны, которые были ему велики по меньшей мере размера на четыре и к тому же были без ремня. Его схватили за руки и потащили из камеры. Спотыкаясь, он отчаянно пытался удержать спадавшие штаны. Тогда-то он и увидел впервые других заключенных. Их тоже выталкивали из камер, очевидно, также назначенных в похоронную команду. Они выглядели ходячими мертвецами, еще хуже, чем он сам, а Ник знал, что выглядит он отвратительно: все лицо и тело представляли собой какой-то сплошной сюрреалистический узор из ссадин и кровоподтеков.
Их всех вытолкали в большой внутренний двор тюрьмы, и Ник впервые смог рассмотреть ее снаружи. О том, что тюрьма находится на окраине Гамбурга, он и не подозревал.
Здание тюрьмы, как он и ожидал, было на редкость некрасивым, состояло из четырех огромных кирпичных блоков с камерами. Каждый блок имел в высоту четыре этажа и был окружен голым двором. Тюрьма была обнесена высокой кирпичной стеной с несколькими вышками. С внутренней стороны к стене подступал забор из колючей проволоки, на котором висели таблички с надписью на четырех языках: «Внимание! По колючей проволоке пропущен ток! Смертельно!»
Хрупкие надежды Ника на побег моментально разбились и сменились безысходным отчаянием. Низко в небе пролетел самолет, заходивший на посадку на гамбургский аэродром. Прищурившись, Ник наблюдал за ним. Господи, как он близок, внешний мир!.. И одновременно как недосягаемо далек!
На дворе собралось два десятка заключенных и десять человек охраны. Всем беднягам были розданы лопаты и было дано задание выкопать могилу шести футов в длину и столько же в глубину. Эту работу вполне могли бы выполнить двое мужчин, но нацисты специально согнали сюда двадцать человек для того, чтобы они бесполезно толкались, мешали друг другу, создавали неразбериху, что послужило бы оправданием для охранников выкрикивать оскорбления и пускать в ход свои резиновые дубинки, колотя ими по головам и спинам несчастных. Утомившись, охранники принимались горланить антисемитскую песенку:
Когда жидовская кровь бьет струей под ножом, Это хорошо! Это хорошо!и:
Бедняжка-еврей Кон, жиденок Кон, У тебя больше нет дома…Ник стоял в самом центре группы заключенных и пытался одной рукой копать, а другой держать спадающие штаны. Неожиданно в эту кучу людей ворвались два охранника, стали орать на Ника и обрушили ему на голову свои резиновые дубинки.
— Я не говорю по-немецки! — кричал в ответ Ник. — Я не говорю по-немецки!
— Они приказывают вам обеими руками взяться за лопату, — сказал Нику один заключенный с печальными глазами, стоявший к нему ближе других.
— Но я не могу! С меня спадут эти штаны!
Старик перевел слова Ника охранникам, те снова стали что-то орать по-немецки.
— Они сказали, что будут бить вас, если вы не возьметесь руками за лопату… Но они будут также бить вас в том случае, если с вас спадут штаны.
— Скажите им, что их мамаши зачали от кабанов! — процедил Ник.
— Нет, друг, я не переведу ваших слов, так как они убьют вас. Но я с вами согласен.
Капитан Шмидт тоже называл Ника «другом», но делалось это с издевкой, а в устах этого незнакомого старика слово «друг» прозвучало дивной музыкой. Ник понял, что все заключенные являются его друзьями и что он тоже для них друг. А ведь он даже не был ни с кем из них знаком.
Ник весь скрючился, удерживая штаны локтями, взялся за лопату и пытался так копать. Выглядело это со стороны смешно и нелепо, конечно. Вскоре охранники отстали, но легче от этого Нику не стало. Солнце немилосердно жгло ему затылок, а из-за того, что ему приходилось стоять, низко согнувшись, пыль от земли летела ему в лицо и он начал задыхаться. Но если он был жалок, то остальные заключенные выглядели еще хуже. Большинству из них на вид было больше пятидесяти, а кое-кому и за семьдесят, как, например, тому старику, который переводил для Ника слова немцев. Работа с лопатой в таких невыносимых условиях была, конечно, не для них.
Рытье могилы отняло почти целый час. Охранники поднимали из вырытой могилы всех по одному. Ник оказался последним. Когда ему удалось выбраться из ямы, неимоверными усилиями одновременно поддерживая злосчастные штаны, он услышал барабанный бой. Охранники всем приказали заткнуться и смотреть. Из здания тюрьмы показалось четверо немцев с двумя носилками. Они поднесли носилки к краю могилы и вывалили трупы на землю у самого края ямы. Ник поморщился, увидев, что у одного из трупов — это был худой мужчина среднего возраста с бородкой — были раздавлены половые органы. Смерть его была ужасной: лицо убитого было искажено страданием, широко раскрытый рот замер в последнем беззвучном крике.
Второй труп был весь изрешечен пулевыми отверстиями. Ник вздрогнул, когда взглянул на лицо убитого: это был граф Александр фон Винтерфельдт.
Вместе с двумя барабанщиками из тюрьмы быстро вышел капитан Шмидт. Барабанная дробь оборвалась. Шмидт подошел к группе заключенных.
— Этот человек, — начал он, указывая на того из убитых, у кого были изуродованы гениталии, — точнее, этот жид был расовым осквернителем! Он совершил одно из самых гнусных преступлений, которое только возможно в нашей стране сегодня. Он занимался любовью с немецкой девушкой, с арийской девушкой, в жилах которой текла самая чистая кровь! Девушка забеременела от этого жида, но, к счастью, ублюдок был уничтожен в зародыше. Вчера этот, жид заплатил сполна за свое тяжкое преступление — осквернение расы! Как вы все сами видите, его гениталии были превращены в фарш, и жид умер.
Шмидт сначала сказал это по-английски специально для Ника, а потом повторил по-немецки для остальных. Вновь повернувшись к Нику и показав на тело графа фон Винтерфельдта, он сказал:
— Мне кажется, вы знакомы с этим человеком, друг мой. Вам известно и его преступление. Он изменил фюреру. Вы сами видите, какое он понес наказание. Сегодня вы помогли вырыть для него могилу. Кстати, мое терпение в отношении вас, друг мой, уже истощается. Если вы так и не пожелаете сотрудничать с нами, то, боюсь, в самом скором будущем могилу выроют уже для вас. А теперь скиньте тело изменника в яму.
Ник перевел потрясенный взгляд на труп графа. Он никогда до конца не верил Винтерфельдту. Главным образом потому, что граф присоединился к партии нацистов. Ник рискнул помочь ему только из-за того, что верил: граф действительно хочет сместить Гитлера, отомстив ему тем самым за смерть сына. Теперь же доказательство чести графа лежало перед ним на раскаленной от солнца земле. Он был настоящим немцем, аристократом, погибшим при попытке сохранить ту Германию, которой он мог бы гордиться.
Ник медленно приблизился к мертвому графу и опустился перед ним на колени. На секунду он коснулся рукой лица графа, как бы принося этим свои извинения за то, что не вполне доверял погибшему при его жизни, и одновременно отдавая ему последнюю почесть. Затем он мягко перевалил тело через край ямы и смотрел, как оно упало на ее дно.
— Это очень скоро может произойти и с вами, — сказал Шмидт, который напряженно наблюдал за Ником. — Не отходить от могилы! — вдруг приказал он и затем стал кричать что-то по-немецки, обращаясь к остальным заключенным. К удивлению Ника, они стали неуверенно подходить к краю могилы, где он все еще стоял. Охранники столкнули в яму и второе тело. Шмидт подошел к Нику и остановился напротив него. На его вытянутом лице играла издевательская ухмылка, когда он сказал:
— Я сказал этим бедолагам, что выбрал тебя для принятия наказания, которое первоначально предназначалось для них.
— Наказание?
— Наказание для всех жидов, обвиняющихся в расовом осквернении. Оно состоит в следующем: сейчас ты сбросишь эти дурацкие штаны и кончишь на этих двух подонков. Делая это, ты будешь громко говорить: «Я осквернитель арийской расы!» Понял?
Ник смотрел на Шмидта округлившимися от потрясения глазами и отказывался верить своим ушам.
— Понимаешь, я сказал им, — продолжал Шмидт, — что у тебя, жида, в свое время хватило наглости жениться на английской аристократке. Ты осквернил ее, породив семерых ублюдков. Это преступление не повлекло за собой наказания в Англии и Америке, которые являются изнеженными демократиями, но это не останется безнаказанным здесь, в Германии. Итак, либо ты сам это сделаешь, либо я заставлю это сделать всех этих заключенных. А ты сам видишь: многие из них — дряхлые старики. Выбор за тобой.
На секунду глаза этих двух мужчин, палача и жертвы, встретились. Взгляд Ника источал гнев и ненависть, Шмидт весь светился торжеством и возбуждением: он гордился своей выдумкой. Немец отступил в сторону, оставив Ника у могилы одного. Ник колебался. Потом он перестал придерживать штаны, и те упали.
— Говори, — приказал Шмидт. — Говори: «Я осквернитель арийской расы!»
Ник зажмурился:
— Я осквернитель арийской расы…
— Громче!
— Я осквернитель арийской расы.
— Уже лучше. Теперь дрочи. Ну давай-давай! Дрочи в могилу!
Медленно Ник опустил правую руку.
Возможно, герой рождается только для того, чтобы противостоять злодею. Не будь Адольфа Гитлера, Уинстон Черчилль, возможно, так и умер бы политиком-неудачником, личностью, которую удостоили бы только редкой пояснительной сноской на полях, а не десятков биографий и жизнеописаний. Не будь Адольфа Гитлера, Франклин Рузвельт, возможно, только тем бы и запомнился, что отбыл на посту президента два срока и не смог остановить депрессию своим хвастливо разрекламированным «новым курсом». Не будь Адольфа Гитлера, Ник Флеминг, возможно, так и остался бы еще одним миллионером, который «сделал сам себя».
Но стоя сейчас на краю могилы и повторяя снова и снова: «Я осквернитель арийской расы», — чувствуя свое запредельное унижение, он одновременно рождал в душе своей, раскаленной ненавистью, нечто новое.
«Если мне когда-нибудь удастся выйти отсюда живым, — думал он, — я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы избавить мир от этого чудовищного кошмара! И клянусь Господом, сил у меня хватит! Я клянусь перед Богом, что буду уничтожать этих нацистских ублюдков!.. Я уничтожу их!!! Я заставлю мировую прессу продрать глаза на это зло! Я буду снабжать оружием те правительства, которые поведут борьбу против нацизма… Если мне когда-нибудь удастся вырваться отсюда, эти мерзавцы заплатят за то, что творят сейчас. Они заплатят за все зло!»
Когда несколько капель его семени наконец сорвались на дно могилы, охранники дружно загоготали и зааплодировали. Затем двое из них подскочили к Нику и спихнули его в яму. Он упал прямо на трупы. Затем, к его ужасу, Шмидт отдал какой-то приказ, и заключенные стали кидать в могилу землю. Тяжелые комья стали падать Нику на голову и плечи. Он вскочил на ноги.
«Спокойно! — мысленно приказывал он себе, призывая на помощь все свое самообладание. — Они не похоронят меня заживо. Хотят просто припугнуть… Сохраняй спокойствие!»
Он вскарабкался наверх, и то, что охранники не стали сталкивать его обратно, подтвердило его догадку. Они действительно хотели как следует напугать его. Он лежал на земле у края могилы, ощущая нечеловеческую усталость и вновь переживая свое унижение.
Но несмотря на внешнюю слабость, из могилы Ник Флеминг вылез уже другим человеком. И духовно новый Ник был гораздо сильнее прежнего.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Если Адольф Гитлер был гением злой политики, а Йозеф Геббельс — гением злой пропаганды, то Герман Геринг был гением зла как такового. Его отец был судьей и рейхскомиссаром по Юго-Западной Африке. Будучи седьмым ребенком в семье, Герман не проявлял в школьные годы интереса к наукам. Однако 1914-й год, ознаменовавшийся началом войны, дал юноше шанс доказать, что он является человеком действия. Он был красив и энергичен, сделал карьеру воздушного аса и стал последним командиром «Рихтгофен» — прославленного «летающего цирка». За выполнение боевых задач на этом самолете он был награжден высшей военной наградой «За заслуги».
После войны он стал летать на шведских авиалиниях и вскоре обручился с дочерью одного шведского аристократа. Однако стремление помочь смыть версальский позор и стыд поражения заставило его вернуться в Германию, где он поступил в мюнхенский университет. Там же в 1922 году он познакомился с Гитлером на партийной сходке в кафе «Нойман». В своих воспоминаниях Геринг приводил слова, будто бы сказанные в тот день Гитлером: «Нам нужен штык, дабы подкрепить им наши угрозы». Далее Геринг описывал свои ощущения: «Вот! Наконец прозвучало то, что я уже так давно жаждал услышать! Он хотел построить партию, которая смогла бы сделать Германию сильной и сокрушить Версальский договор! И тогда я сказал себе: Герман! Эта партия как раз для тебя! К черту Версальский договор! К черту его! Версальский договор — это моя добыча!»
Минуло двенадцать лет, прибавилось сто пятьдесят лишних фунтов веса, и красавец-летчик превратился в тучного хвастуна, второго человека в Германии, в человека, который нажил себе состояние и собрал большую коллекцию произведений искусства, отняв их у евреев, которых он подвергал нещадным гонениям. Герман Геринг превратился в человека, руки которого были обагрены кровью тысяч невинных жертв.
В тот вечер, когда Ник Флеминг претерпел невиданное унижение у могилы графа фон Винтерфельдта, фельдмаршал Геринг, блистая в белом летнем кителе, сшитом по его собственным эскизам, вылез из «мерседеса» и, тяжело переваливаясь, взошел на крыльцо виллы Хублер. В дверях его встречала сама хозяйка Дама под вуалью. Он поцеловал ее руку через перчатку и прошел вслед за ней в главную гостиную, где с диванов Герингу мило улыбались обнаженные феи. Улыбаясь в ответ, фельдмаршал заметил Диане:
— Фюрер выразил надежду, что у вас не изменятся планы посетить завтра вечером Канцелярию, где состоится прием в честь вашего друга президента Ататюрка.
— Конечно, герр фельдмаршал. Я ни за что на свете не упущу возможности побывать там.
Он повернулся к ней:
— Сегодня у меня, пожалуй, настроение на Гутрун.
— Она сочтет ваш выбор за большую честь.
Она сделала знак одной из девушек, а в это время подошел черный слуга с шампанским на подносе. Геринг и Диана чокнулись.
— За укрепление германо-турецких связей! — провозгласил Геринг. — Фюрер с нетерпением и радостью ожидает начала государственного визита президента Ататюрка в Германию и передает вам благодарность за то, что вы оказали содействие в организации этого визита.
— Вы переоцениваете мое влияние на Кемаля.
— Нет, вовсе нет. Но мы также не склонны недооценивать его. Вы вернетесь с ним в Стамбул?
— Да, моя работа в Берлине пока завершена.
Геринг пригубил вино и неожиданно хихикнул.
— Сегодня днем мне позвонил из «Фулсбюттель» Шмидт. Он говорит, что весело проводит время с вашим другом Ником Флемингом. Например, сегодня утром он заставил его онанировать в могилу Винтерфельдта перед целой шайкой своих приятелей-жидов. Высокопоставленный и могущественный герр Флеминг, очевидно, получил от этого немалое удовольствие!
Диана была потрясена.
— Онанировать?! — воскликнула она.
— Именно! Мы используем эту выдумку в некоторых лагерях. Называем это сексуальным унижением. И знаете — весьма эффективная штука! Конечно, у Флеминга и понятия нет, чего ради мы с ним забавляемся. Нам известно, что он почти ничего не знает о заговоре Винтерфельдта, но продолжаем его обрабатывать. Вы поймите, весь смысл работы с заключенным состоит в том, чтобы постоянными унижениями и физическими испытаниями в конце концов довести его до такого состояния, в котором он уже потерял бы всякую надежду на спасение и согласился на все, что ему ни предложат. Полагаю, Флеминг уже на грани этого состояния.
— Не совсем понимаю, ваше превосходительство. Что же вам от него нужно, как не информация о заговоре Винтерфельдта?
— Милая фрейлейн, как вы думаете, насколько часто нам удается заполучить в руки владельца транснациональной военной компании? У Флеминга в распоряжении есть блестящий конструктор Честер Хилл, который работает на него на заводе Рамсчайлдов в Коннектикуте.
Недавно Хилл разработал принципиально новую гаубицу, которую нам очень хотелось бы прибрать к рукам. Кроме того, согласно данным нашей разведки, в настоящее время Хилл работает над совершенно новым типом танка для армии Соединенных Штатов. Через несколько дней капитан Шмидт сделает Флемингу официальное предложение, на которое тот с радостью согласится. Если он раздобудет нам эти чертежи, мы вернем ему свободу.
— А что, если он не согласится?
Допив шампанское, Геринг пожал плечами.
— В таком случае он просидит у нас под замком до 1954 года. Правда, доживет ли он до того времени — другой вопрос. — Он расхохотался.
— Вы отдаете себе отчет в том, что с вами сделают за это в американской прессе? — спросила Диана, которую тревога за Ника заставила позабыть об осторожности. — Ведь отчимом Ника Флеминга является не кто иной, как Ван Клермонт.
Геринг сердито посмотрел на нее:
— Нам это известно. Вы полагаете, нас так уж волнует, что он там болтает в своих газетках? Он и без того нас поносит постоянно.
— Да! А почему? Потому что вы творите ужасные вещи! Знаете, кем вас считают в мире? Бандой головорезов! Было бы гораздо умнее отпустить Ника…
Фельдмаршал отвесил Диане крепкую пощечину своей пухлой рукой.
— Как ты смеешь так говорить со мной?! — взревел он. — Как ты смеешь называть меня головорезом?! По-моему, именно ты хотела, чтобы мы обработали Флеминга?!
— Я ошибалась, — прошептала Диана, прикладывая руку к горящей щеке. — Я все время ошибалась и сама того не сознавала.
Лицо Геринга побагровело, его маленькие свинячьи глазки блестели гневом.
— Фрейлейн, — сказал он, — не будь вы другом Кемаля Ататюрка, то сегодня же оказались бы в тюрьме рядом с вашим ненаглядным герром Флемингом! Спокойной ночи! Что-то у меня пропало сегодня настроение для развлечений.
Он резко повернулся и, тяжело переваливаясь, вышел из комнаты.
— Одевайся, — сказала Диана девушке. — Сегодня ничего не будет.
Она вышла на террасу, облокотилась на перила и стала смотреть на отражающие лунный свет воды красивого Ванзее.
Как и большинство иностранцев в Германии, Диана долгое время была слепа ко все резче обозначающейся уродливости нацистского режима. Но теперь она наконец поняла — и это явилось для нее настоящим потрясением, — что Геринг и, конечно же, Гитлер готовят войну. Иначе зачем творить такие зверства ради получения американских военных секретов.
У Дианы к этому времени была уже целая сеть рентабельных экзотических борделей — в Стамбуле, Риме, Будапеште и Берлине, — и она планировала открыть еще один в Париже. Ее «ночные клубы», как она сама их называла, сделали ее богатой женщиной. Бизнес ей нравился, а среди клиентов было несколько человек из ряда самых влиятельных в Европе людей. Несмотря на свой внешний космополитизм, в душе она оставалась американкой. Что американка будет делать в Европе, если разразится война? Может, следует наконец вернуться домой? Но где теперь ее дом? Вряд ли в Штатах. Прошлое осталось в прошлом. Странно, но от прошлого остался только Ник Флеминг.
Она изумилась своей любви, которая все еще была у нее в сердце, а в гестаповской тюрьме вспыхнула с новой силой. Ну как… как она может еще испытывать нежность к этому человеку?! И все же она переживала его боль, которую он, как она знала, испытывает. Наверное, не стоило злить Геринга, но Диана не жалела о своем поступке. Она знала, как повлиять на Ататюрка. Когда он прибудет со своим государственным визитом, у нее обязательно будет время убедить его поговорить о Нике с Гитлером. Однако до тех пор Нику придется все еще томиться в «Фулсбюттель».
Стоя на террасе и глядя на луну, она думала о том, чего больше всего на свете хочет… Чтобы Ник снова полюбил ее, чтобы она снова познала любовь в его объятиях… Но потом она прикоснулась пальцами к своим шрамам на лице и горько застонала.
Когда-то он сказал ей, что важнее любви нет ничего в жизни, и оказался прав. Трагедия Дианы состояла в том, что, несмотря на все свое богатство, она не могла себе позволить самого важного — любви.
В 20-х годах XIX века столовая Тракс-холла была оформлена в очень модном тогда неоготическом стиле, и в течение целого столетия ничего в ней не менялось, если не считать косметических ремонтов. Потолок взмывал вверх, образуя свод как в соборе, вся его поверхность была покрыта изящной лепниной. Смотрелось красиво. Особенный эффект создавал контраст голубых стен и потолка с белым ажурным узором. Высокие окна наполняли комнату унылым светом.
Лорд и леди Саксмундхэм, Эдвина и все семь ее детей завтракали. Столовая Тракс-холла была ослепительно красивой, но настроение сидевших за столом было таким же пасмурным, как и погода за окном, где шел сильный дождь.
Чарльз Флеминг, который обычно отличался большой самоуверенностью, теперь находился в растерянности и терзался сомнениями. Он всегда рассматривал своего отца как человека, обладающего большой властью и могуществом, и осознание того, что этот богоподобный родитель вдруг угодил в тюрьму и может там остаться навечно, на корню подорвало самоуверенность Чарльза. Он никогда не отличался большой совестливостью, но временами нервно думал: уж не является ли эта семейная трагедия божьим наказанием за тот грех, который он совершил со своей сестрой? В семье не обсуждали происшедшее несчастье. Дед, бабка и мать, как могли, таили свои переживания за плотно сжатыми губами. Одно слово — англичане. Но дети знали, что их мама плачет у себя в спальне. Глаза у нее теперь были постоянно красные, опухшие. Они знали свою маму как очень спокойную и всегда уравновешенную женщину, поэтому ее теперешнее состояние говорило им о серьезности случившегося несчастья лучше любых слов. Страхи Эдвины оказались заразной болезнью.
Чарльз всегда думал о том, что, когда он вырастет, империя отца перейдет ему по наследству. Теперь же, доедая бульон, он со страхом думал: а сохранится ли вообще эта империя? Он всегда, сколько себя помнил, эксплуатировал отцовскую любовь к нему, но это не значило, что сам не любил отца по-своему. Он спрашивал себя: а доведется ли ему еще хоть раз увидеть отца?
Сильвию мучило ощущение вины больше брата. Она тоже спрашивала себя: уж не Бог ли наказал отца за ее с Чарльзом грех кровосмешения? Насколько любовь Чарльза к отцу была холодной, настолько же любовь Сильвии была пылкой. Сама мысль о том, что это она в ответе за то, что случилось с отцом, вызывала у нее физическое недомогание. «Неужели это возможно, — спрашивала она себя снова и снова, — что за грехи детей отвечают родители?»
Эдвина терзалась чувством вины не меньше своей дочери. Она часто перебирала в памяти все события их долгой совместной жизни. Вспоминала, как часто она высказывала Нику недовольство его бизнесом, вспоминала свою измену с Родом Норманом, многочисленные ссоры и скандалы. Эдвина укоряла теперь себя даже за свою ревность к власти и могуществу мужа. Да, он ей изменял, но, несмотря на это, в конечном счете, она всегда могла на него положиться. Он давал ей все, чего бы она ни попросила, включая карьеру кинозвезды. Он баловал ее подарками и, самое главное, любил ее. Как критически она всегда подходила к его недостаткам и как слепа была к его достоинствам! Она настолько была избалована им, настолько кичилась своей свободой и настолько занята собой, что, кажется, совсем не показывала ему, что она действительно очень-очень любит его!
Ник терпел пытки и унижения в злосчастном застенке «Фулсбюттель», но его семья, несмотря на милую обстановку Тракс-холла, тоже мучилась и страдала.
Две младшие дочери Флеминга — Викки восьми лет и Файна одиннадцати — всегда были вместе, что было неудивительно, учитывая то, что их окружали почти одни братья. Они обе искренне любили отца и были убиты его заключением не меньше других членов семьи. Файна росла похожей на отца, Рода Нормана, но, поскольку последний имел поразительное сходство с Ником, можно было не сомневаться в том, что девочку никогда никто не спросит о ее настоящем отце. Чего всегда и хотел Ник. Эдвина же думала с некоторых пор иначе. Она отдавала себе отчет в том, что, скажи она дочери, которая еще так мала, что тот человек, которого она всегда любила и почитала как отца, на самом деле отцом не является, это может возыметь неприятные последствия. Но с другой стороны, Файна была девочкой серьезной, с характером. Все последнее время Эдвина была убеждена в том, что дочь имеет право узнать о своем настоящем отце. Теперь, когда на семью навалилось такое горе, Эдвина решила, что настал момент открыть дочери правду относительно ее рождения. Она боялась себе в этом признаться, но считала, что, открыв Файне правду, она тем самым искупит перед Ником часть свой вины за тот мимолетный роман с Родом.
Теперь Род был уже полузабытой легендой. Америка, с энтузиазмом встретившая звук в кино, повернулась спиной к эре Великого немого, которая казалась такой же далекой, как и автомобиль «форд-Т».
Но Эдвина хранила память о Роде. Она считала себя обязанной и перед ним тоже сказать дочери правду. Поэтому на следующее утро после бессонной ночи, полной переживаний, Эдвина попросила Файну прогуляться с ней. Дождь кончился, сквозь облака проглядывало солнышко, дул свежий ветер. Зеленые лужайки перед домом, по которым они шли, еще не успели просохнуть. Эдвина молчала, размышляя, как преподнести дочери сообщение так, чтобы ей было наименее больно.
— Ты когда-нибудь слышала о таком киноактере как Род Норман? — наконец спросила она.
— Нет, — ответила Файна. — А кто это?
— Он был очень популярен во времена немого кино. Очень красив. Миллионы женщин по всему свету были в него влюблены. Один раз я снималась вместе с ним. Фильм назывался «Юность в огне».
— А, да! Одна из картин папы. Можно мне ее как-нибудь посмотреть?
Эдвина остановилась. «Ну конечно! Как же еще познакомить ее с настоящим отцом, как не показать его живого на экране?!»
— Похоже, я знаю, где можно найти пленку. В Лондоне. Если я все устрою сегодня, ты будешь смотреть?
— Конечно буду.
Эдвина обняла ее.
— Ты знаешь, как я тебя люблю, — нежно произнесла она. — И отец тоже.
— Я знаю. Я так по нему скучаю!
— Я тоже, девочка. Я тоже.
Она позвонила лондонскому представителю «Метрополитен пикчерз» Сэму Баррону, который сообщил, что действительно есть пленка того фильма. Она была в тот же день отправлена в Тракс-холл, где вечером Эдвина показала ее детям. Старшие, Чарльз и Сильвия, видели прежде некоторые из фильмов матери, но поскольку сама Эдвина никогда не восхищалась большинством своих работ, ей ни разу не приходило в голову организовать семейный «фестиваль» своих фильмов. Теперь же, слыша смешки детей над наиболее наивными сценами старой картины, она поклялась себе, что никогда и не станет устраивать этот фестиваль. Фильму всего-то было двенадцать лет, но как же нелепо он смотрелся в 1934 году! То, что казалось знойным и дерзким в 1922 году, сейчас выглядело просто смешным. И все же притягательная сила фильма была такова, что дети не могли оторвать глаз от экрана до самых последних кадров.
После просмотра дети стали расходиться по своим комнатам, а Эдвина отвела Файну в библиотеку и закрыла дверь.
— Ну и что ты думаешь о Роде Нормане? — спросила она, садясь рядом с дочерью на огромный обитый красным бархатом диван.
— Какой-то мечтательный, — ответила Файна. — Трудно сказать по этому старому фильму, хорошим ли он был актером. Где он сейчас?
— Он умер. Двенадцать лет назад его застрелили, и убийцу так и не нашли.
Глаза Файны округлились.
— Убили?!
— Да.
— Ой, как жалко! Он такой красивый!
— Был красивый. — Эдвина взяла дочь за руку. — Файна, я собираюсь сказать тебе одну вещь. Она… может тебя немного взволновать… Хотя волноваться тут не с чего. Ты ведь знаешь, что мы с отцом любим тебя совершенно так же, как и твоих братьев и сестер.
— Да, знаю!
— Ты всегда будешь значить для нас так же много, как Чарльз, Сильвия, Викки, Морис и другие. Ты знаешь это, ведь так?
Глаза одиннадцатилетней девочки тревожно сузились.
— Мама, что ты хочешь мне сказать?
Эдвина глубоко вздохнула:
— Твой настоящий отец — Род Норман..
Файна непонимающе смотрела на мать.
— А тогда… кто же папа?
— Папа — это папа. Но он не является твоим отцом. Род Норман, он… Мы с ним однажды были вместе, и в результате родилась ты. Я думаю, тебе нужно это знать. Но никто в семье этого не знает и никогда не узнает, если только ты сама не пожелаешь рассказать. А, по-моему, нет никаких оснований для этого.
Наступила продолжительная пауза. Эдвина видела, как глаза Файны быстро наполняются слезами. «О Боже, неужели я ошиблась, рассказав ей обо всем?!» — думала Эдвина.
Вдруг Файну прорвало: с громкими рыданиями она бросилась матери на шею. В течение пяти минут Эдвина прижимала к себе дочь, ожидая, пока та выплачется. Наконец Файна выпрямилась и стала вытирать заплаканные глаза.
— Спасибо, что ты мне сказала, — все еще всхлипывая, проговорила она. — Ты его любила?
— Он мне очень нравился, но не так, как я люблю твоего отца… папу. Не так, как я всех вас люблю.
— А он был правда знаменит?
— Очень.
— Я хочу все знать о нем.
— У меня в шкатулке очень много вырезок из газет о нем. Мы будем искать все сведения о нем вместе, хорошо?
— Здорово! Но… папа, он все еще мой папа, да?
— Не все еще, а навсегда, — сказала Эдвина и нежно поцеловала дочь.
«Конечно, — с грустью подумала она, — если ему удастся выбраться из “Фулсбюттель”».
* * *
Он уже потерял счет времени, но предполагал, что находится в этом аду уже неделю или чуть больше. Монотонность допросов, избиения, выворачивающая наизнанку скука, нескончаемые часы, проведенные прикованным к железной койке, зловоние и жестокий голод… Все это вместе уже начинало подтачивать его упорство. Коварная, но упрямая мысль постоянно стучалась в его сознание: «Дай им то, чего они просят. Ври, выдумывай имена — делай что угодно! Только выберись отсюда. Или, по крайней мере, добейся суда, чтобы ты хоть получил связь с внешним миром!»
Потом он говорил себе, что если назовет Шмидту какое-нибудь знакомое имя, то это будет означать смертный приговор для того человека. Конечно, если он начнет называть все известные ему имена немцев, это серьезно ударит по германским вооруженным силам и ослабит их. С другой стороны, Ник склонен был верить словам графа фон Винтерфельдта о том, что многие генералы германской армии являются убежденными противниками Гитлера, и если их сместят с постов, то заменят уже преданными нацистами. Итак, перед Ником была дилемма.
Он говорил себе, что все это — испытание на прочность духа, которому противостоит воля Шмидта. Ник не просил себе венца мученика: если бы он был уверен, что ложью и хитростью ему удастся пробить себе дорогу к свободе, не погубив невинных людей, он пошел бы и на ложь, и на хитрость. Но, поскольку это было невозможно, оставалось одно — борьба до конца. Он не сомневался в том, что проиграет борьбу, но был настроен встретить смерть как мужчина.
Потом он говорил себе, что это все пустое бахвальство. Организм может терпеть боль, но не бесконечно. А Ник знал, что в этом смысле он находится уже на самом краю. Шмидт также отлично понимал это, так как в своем темном деле был настоящим профессионалом. Он считал, что со временем заставит Ника согласиться на все, что ему предложат. Так что мысли несчастного американца о героическом венце были всего лишь самообманом и театральщиной.
В таком случае какая альтернатива у него еще осталась? Если он не может дать им ту информацию, которой они добиваются, и если он уже не в силах сносить пытки и мучения, что ему остается?
Прислушиваясь к ночному ливню, барабанившему в тюремные стены, Ник вдруг остался один на один с ответом на этот вопрос. Ответ этот прозвучал у него в сознании во всей своей ледяной лаконичности: смерть. Он, Ник Флеминг, находясь в расцвете лет и сил, должен уйти из жизни!
Он мысленно приказывал себе держаться, но слезы катились сами по себе.
Вся грустная ирония, открывшаяся ему, состояла в том, что он, несмотря на свою большую семью, несмотря на то, что у него много друзей, несмотря на свое могущество, власть, дома, машины, заводы, киностудию, — несмотря на все это, он, как последний бродяга, обречен на смерть в одиночестве.
Когда на следующее утро за ним пришли охранники, они, к несказанному удивлению, держались с ним почти что вежливо.
— Доброе утро, — сказали они, снимая наручники.
Он сел на койке, разминая затекшие конечности.
— Вы принимать душ, — сказал один из охранников на скверном английском. — Вы побрить борода, стать красивый.
Ник посмотрел на него как на ненормального. Но его действительно отвели в чистую душевую, выдали мыло и полотенце и бритвенные принадлежности, оставили на стуле чистую, неношеную тюремную робу и пару кожаных сандалий. Затем оставили его в душевой одного. Ник терялся в догадках относительно смысла всего происходящего. Может быть, они ждут, что он покончит с собой с помощью этой бритвы?.. Если так, то они не на того напали: Ник Флеминг не доставит Шмидту такого удовольствия.
Немного приободрившись, он побрился, затем впервые за неделю встал под душ. Приятно было ощущать себя чистым и свежим. Ник надел тюремную одежду, которая пришлась ему почти впору, и постучал в дверь. Охранник-нацист, который старался теперь выглядеть добродушным парнем, открыл дверь.
— Хорошо, — сказал он, улыбаясь. — Нет дурной запах. Нет борода. Хорошо! Красиво!
— Увы, следующий танец уже обещан другому.
— Битте? — тут же переменился в лице гестаповец.
— Ладно, замнем.
Вместо пыточной его отвели на сей раз в кабинет Шмидта. Капитан стоял возле своего письменного стола, за которым было окно, выходившее на тюремный двор. Шмидт приветливо улыбался.
— Доброе утро, Флеминг, — сказал он весело. — Сегодня вы прекрасно выглядите. Будете завтракать?
Ник подозрительно сощурился:
— Да.
— Уж, конечно, не той мерзостью, которую вам приносили в камеру.
— Вы имеете в виду тот суп, что взял первый приз в 1920 году?
Шмидт рассмеялся:
— А у вас неплохое чувство юмора. Отлично. Вы правы, тот суп никуда не годится. Я не даю его даже своей собаке. Только заключенным. Но сегодня у нас будет нечто более аппетитное.
Он нажал кнопку. Открылась боковая дверь, и охранник вкатил в кабинет столик на колесиках. Столик был накрыт белой скатертью и сервирован серебром и фарфором.
— Гостиничное обслуживание, — весело произнес Шмидт. — Совсем как в «Адлоне». Присаживайтесь, друг мой. Ешьте, поговорим потом.
— О чем поговорим?
— О многом! Наш купец — ваш товар.
Охранник достал с нижней полки столика термос. Он открыл его, и оттуда появился классический английский охотничий завтрак: вареные яйца, колбаса, нарезанная ломтиками ветчина, жареные грибы и томаты. Охранник разложил это все на столике, выставил серебряную подставку с тостами, вазочку со сливочным маслом и три вида конфет. Ник смотрел на все это завороженным взглядом. Охранник налил в чашку кофе с молоком, потом пододвинул к столику стул.
— Пожалуйста, садитесь, — сказал Шмидт, показывая на стул.
Ник сел. Аромат, исходивший от еды, сводил с ума. Не думая о том, что все это может оказаться отравой, он жадно набросился на еду.
Когда он насытился, Шмидт сказал:
— Отлично. Национал-социалистический режим имеет свои плохие стороны. Но и хорошие тоже. Вам довелось до сих пор испытывать на себе плохие. Не понимаю, почему бы вам с этой минуты не начать наслаждаться хорошими. Конечно при условии сотрудничества.
«Начинается», — подумал Ник.
— А что, по-вашему, значит сотрудничество?
— Фюрер хочет иметь хорошие отношения с Америкой. Он хочет иметь хорошие отношения со всем миром, но особенно с Америкой. А вам известно, что национал-социализм не имеет в США хорошей прессы. И особенно ругает его газетная сеть, владельцем которой является ваш отчим Ван Нуис Клермонт. В интересах развития германо-американских связей фюрер согласен снять с вас все обвинения и вернуть вам свободу. Естественно, на некоторых условиях. Одно из этих условий состоит в следующем: вы употребите все ваше влияние на отчима для того, чтобы он изменил свою газетную политику по отношению к национал-социалистической Германии.
«Это еще дешевая цена за свободу, — подумал Ник. — Соглашайся».
— Не могу дать вам гарантий в том, что смогу изменить отношение Вана, — сказал он. — Но я согласен попытаться.
— Да, мы понимаем. Само намерение с вашей стороны удовлетворит нас. Второе условие: вы переведете один миллион долларов на счет германо-американского фонда. Ваш вклад должен быть сделан перед тем, как мы вернем вам свободу, и деньги должны быть помещены в «Германский банк». Ваш дар будет считаться анонимным. Мы не хотим, чтобы на вас обрушилась критика со стороны ваших приятелей американских евреев.
«Вымогательство, — подумал Ник. — Следовало этого ожидать. Ну и что? Соглашайся. Деньги — это всего лишь деньги. Соглашайся и выходи на свободу!»
— Каковы другие условия?
— Вы вносите еще один вклад на сумму в сто тысяч долларов на счет фонда Германа Геринга.
— Что это за фонд?
— Благотворительная организация, учрежденная фельдмаршалом.
— Похоже, фельдмаршал осуществляет благотворительность в отношении самого себя.
На какую-то секунду дружелюбное выражение исчезло с лица Шмидта и сменилось выражением смертельной злобы, которая уже так хорошо была знакома Нику.
— Друг мой, — произнес он. — Не заставляйте меня снова учить вас этикету…
— Хорошо, — сказал Ник. — Я готов согласиться на все условия, которые вы выдвинули. Они неслыханны, но я готов согласиться.
— Великолепно, — сказал Шмидт, доставая из кармана кителя листок бумаги. — За последнее время я хорошо вас узнал и чувствовал, что вы поведете себя благоразумно. А вот и наше последнее условие. Я держу сейчас в руках результат работы наших разведывательных служб. Это перечень одиннадцати видов вооружения, над проектами которых сейчас работает конструкторское бюро вашей компании. Оружие это предназначено для американской армии.
Шмидт вернулся к столу и протянул список Нику. Тот взглянул на него. Бланк абвера. У немцев была хорошая разведка, но Ник все равно удивился тому, что ей удалось проникнуть в тайны американского военного департамента. Он еще больше удивился, ознакомившись со списком: одиннадцать самых секретных разработок «Рамсчайлд армс» для армии, флота и ВВС!
— Нам нужны копии всех чертежей, — сказал Шмидт. — Когда они поступят в Берлин и пройдут экспертизу наших инженеров, вы будете освобождены.
Ник поднял на него глаза:
— А вы понимаете, что если я сделаю это, то, уж не говоря о том, что я стану изменником, я буду навечно отстранен от военного бизнеса?
— Совсем нет. Американцам вовсе не обязательно будет знать, кто именно оказал нам эту услугу.
— Они и так узнают, когда станет ясно, что ваша армия вооружена так же, как американская.
Шмидт пожал плечами:
— Смело валите это на наш абвер. Во всяком случае, это ваши проблемы, а не наши. У вас есть двадцать четыре часа на принятие решения. Если отказ, то вас передадут в суд, и получите вы двадцать лет тюрьмы или смертную казнь — будет зависеть от настроения вашего судьи. Об оправдательном вердикте, разумеется, и речи быть не может. Обдумайте все хорошенько, друг мой. Знаете, вы даже начинаете мне нравиться, поэтому я искренне надеюсь, что вы примете зрелое и разумное решение.
— Мне не нужно время, — сказал Ник. — Я даю согласие прямо сейчас.
Шмидт просиял.
— Великолепно! — торжествующе воскликнул он. — Молодец, старина! Не могу выразить словами свое восхищение вашим правильным выбором!
— Полноте, капитан, вы так же, как и я, прекрасно знаете, что у меня не было выбора. Двадцать лет нацистской тюрьмы я никак не могу назвать адекватной альтернативой.
— Конечно, но я подумал было на секунду, что в вас заговорит упрямый патриотизм в отношении вашего оружия.
— Я бизнесмен, а не патриот. Я воспользуюсь вашим советом и переложу всю ответственность на германских шпионов. Теперь что вы хотите, чтобы я сделал?
Шмидт, радуясь как школьник, заспешил к своему столу.
— Заранее предполагая, что вы станете с нами сотрудничать, я заготовил письмо на имя вице-президента по конструкторским разработкам Честера Хилла…
— Нет, нет, нет! Письмо — это долгая история! Я хочу поскорее выбраться отсюда, капитан! Кроме того, использование письма в столь серьезном деле может обернуться и для меня, и для вас большими неприятностями. Дайте я просто позвоню ему. Я вполне смогу передать ему все указания по телефону.
— О! — Простая мысль о телефонном звонке, видимо, не приходила в голову Шмидту. Он сверился со своими часами. — Но в Коннектикуте сейчас всего три часа утра…
— Да мне плевать! — воскликнул Ник, вставая и подходя к столу Шмидта. — Я разбужу его! В конце концов, я босс! Я хочу побыстрее сдвинуть дело с мертвой точки, чтобы выбраться отсюда! Дайте карандаш, я напишу вам его номер.
— Да, конечно… Вот вам ручка и бумага. Я и сам думаю, что так будет лучше. Не представляете себе, как я рад нашему сотрудничеству! Между нами, Флеминг: ваше дело светит мне повышением по службе.
Он весь лучился радостью. Ник черкнул в блокноте телефонный номер, вырвал листок и подал его немцу.
Шмидт повернулся к Нику спиной и потянулся к телефонному аппарату. На его столе лежало круглое и тяжелое пресс-папье. Недолго думая, Ник схватил его и обрушил на затылок Шмидта. Немец крякнул и повалился на стол лицом вниз.
Первым делом Ник вытащил у него из кобуры револьвер. Затем он подбежал к шкафу с одеждой и распахнул его. Слава Богу! Там висел полный костюм эсэсовского офицера, включая лоснящиеся черные сапоги и зловещего вида черную фуражку. Не мешкая ни секунды, Ник скинул с себя кожаные сандалии, арестантскую робу, бросил это все на нижнюю полку шкафа, а затем натянул на себя немецкую форму и сапоги. Одежда оказалась немного велика — по приблизительным прикидкам Ника, за время его недельного пребывания в «Фулсбюттель» он потерял не меньше десяти фунтов, — но носить было можно.
Едва Ник надел фуражку, как Шмидт застонал. Ник бросился к немцу и, схватив его за руки, грубо дернул вверх. Затем он приставил револьвер к его лбу. Шмидт открыл глаза. На его длинном лице появилось выражение почти панического ужаса, когда он увидел глядящее ему прямо в лицо дуло револьвера.
— А теперь, друг мой, — тихо сказал Ник, сделав ударение на последних словах, — к такой-то матери все твои условия! Ты поможешь мне выбраться из этого дерьма или умрешь. А если ты не веришь, что мне доставит несказанное наслаждение размазать твои вонючие мозги по стенам этого кабинета, то ты самый тупой гестаповец из всех, какие только существуют! Где мы?
Шмидт дрожал и потел.
— В концентрационном лагере «Фулсбюттель».
— Где это?
— В Гамбурге.
«Гамбург?! — подумал Ник. — О Иисус! А я-то думал, что нахожусь в Берлине».
— Что за аэродром здесь поблизости? Гамбургский?
— Да.
— Там летают военные самолеты?
— Да.
Ник отпустил его и отступил на шаг, продолжая держать его на мушке.
— Ну хорошо, дружище. Сейчас ты вызовешь дежурную машину. Когда она придет, мы с тобой выйдем отсюда и сядем в нее. Если ты выкинешь какой-нибудь фокус, я тебя пристрелю. Не важно, что меня тоже убьют. В этой норе у меня так и так нет будущего. Так что думай лучше о себе. Понимаешь?
— Да.
— Ты также распорядишься подготовить к нашему прибытию на аэродром военный самолет, который доставит нас в Копенгаген. Запомни: мы садимся в дежурную машину и едем на аэродром, там мы пересаживаемся на самолет и летим в Копенгаген. Если тебя кто-нибудь спросит, кто я такой, отвечай, что я твой новый помощник из Берлина, что у меня сильно болит горло, поэтому я не могу говорить. Все понял?
— Да. — Пот катился у Шмидта по лицу.
— Отлично, давай к телефону. И помни: без фокусов.
Шмидт снял трубку дрожащей рукой.
— Говори своим обычным голосом, — шепнул Ник.
Шмидт кивнул. Спустя несколько секунд он лающим голосом стал отдавать в трубку приказы по-немецки. Потом повесил трубку и посмотрел на Ника.
— Машина будет внизу через пять минут.
— Пошли. Я за тобой. Револьвер со взведенным курком я буду держать в кармане. Думай только о своей шкуре. Пошел.
Шмидт обошел вокруг стола.
— Вытри пот со лба, — сказал Ник. — Не привлекай к себе внимания.
Шмидт стал вытирать пот, испуганно косясь на Ника. Он уже подошел к двери, но остановился и нерешительно оглянулся на Ника.
— Шмидт, запомни одну вещь, — негромко сказал Ник. — Я не простой осквернитель арийской расы. Я еще жажду убивать! Открывай дверь и выходи.
Шмидт весь напрягся, затем открыл дверь.
Когда они вышли из здания тюрьмы, Ник вынужден был почти зажмуриться от яркого солнца. Но он все же разглядел поджидавшую их дежурную машину. «Пока все хорошо», — подумал Ник.
Шмидт увидел майора, поднимающегося по ступеням крыльца, и козырнул ему. Ник, стоявший позади капитана, сделал то же самое. Майор на секунду остановился и что-то спросил у Шмидта. Тот оглянулся на Ника и что-то ответил. Майор коротко кивнул и затем взбежал по ступенькам крыльца. Шмидт и Ник сели на заднее сиденье дежурной машины. Дверцу предупредительно держал сержант-шофер. Захлопнув ее за ними, он побежал к своему месту.
— Что ты сказал майору? — шепнул Ник.
— Он спросил, закончил ли я доклад, я ответил, что он будет готов к завтрашнему утру.
— Молодец.
Шофер наконец сел за руль и завел машину. Ник даже покрылся испариной от напряжения, но решил, что чисто германское уважение к мундиру сыграло свою положительную роль: в гестаповской форме он находился вне всяких подозрений. Но едва машина стала отъезжать, как на крыльце появился какой-то капитан. Он заспешил вниз по ступенькам, на ходу что-то крича шоферу машины, где сидели Шмидт и Ник.
— Что происходит? — спросил Ник, уткнув дуло револьвера Шмидту в бок.
— Я не знаю…
Капитан догнал машину и что-то стал говорить шоферу.
— Он хочет, чтобы его подбросили до аэродрома, — шепнул Шмидт.
— Откажи.
Но было уже поздно: грузный капитан плюхнулся на переднее сиденье. Машина снова тронулась с места, а новый попутчик перегнулся через спинку своего сиденья и заговорил со Шмидтом. Машина уже приближалась к тюремным воротам. Немцы все разговаривали. Глаза Ника настороженно перебегали с одного лица на другое, стараясь уловить секретные знаки, которые мог бы подавать Шмидт, или подозрение со стороны толстяка капитана. Это было настоящим кошмаром — не понимать, о чем они говорят. Шмидт вполне мог бы рассказать этому капитану всю подноготную. Вдруг капитан обратился к Нику! Тот показал на свое горло и прохрипел сдавленно:
— Битте?..
Капитан немного смутился, но продолжил разговор со Шмидтом. За территорию тюрьмы выехали без приключений. Машина помчалась по шоссе в направлении аэродрома, и Ник позволил себе чуточку расслабиться. Разговор в машине прекратился. Ник решил, что Шмидт был слишком напуган, чтобы проговориться о нем капитану.
Шофер высадил толстяка напротив здания аэропорта. Тот вылез из машины и сказал:
— Данке.
Коротко взглянул на Ника и заспешил в здание.
— Давай быстрее к самолету! — прошептал Ник.
Шмидт отдал короткий приказ шоферу, машина обогнула здание и выехала на заросшее травой поле аэродрома, где Ника поджидал уже заведенный двухмоторный «Стука». Машина затормозила перед самолетом, и Ник со Шмидтом вышли.
— Что будет со мной? — спросил Шмидт.
— Ты тоже летишь. Давай в самолет.
Шмидт колебался. Ник перехватил его взгляд, брошенный в сторону аэропорта. И тогда он увидел, как с той стороны показалась бронемашина. Быстро набирая скорость, она ехала в их сторону.
Ник наставил револьвер на Шмидта.
— Я не говорил ему! — вскричал тот. — Он сам догадался!
Ник выстрелил дважды, целясь ему в грудь. Шмидт повалился на траву, а Ник бросился к самолету. Там было восемь пассажирских мест, за штурвалом сидел летчик.
— Взлетай! — заорал Ник, захлопывая за собой дверцу трапа, и прибавил по-немецки: — Пошел!
К его удивлению, летчик повиновался. Взревели моторы, и самолет начал разгоняться по полю. Одновременно Ник услышал начавшуюся пальбу. Он упал лицом вниз на пол, и в ту же секунду правый борт фюзеляжа прошила очередь. «Стука» взмыл в воздух. Ник подполз к иллюминатору и выглянул. Броневик быстро уменьшался в размерах, по мере того как самолет набирал высоту. Немцы все еще стреляли, но Ник уже понял, что спасен.
— Шмидт сказал Дольфусу, кто вы такой, — прокричал летчик, перекрывая шум моторов. — По пути на аэродром. Мне приказали не взлетать.
Ник пробрался в кабину, удивляясь про себя тому, что летчик так хорошо говорит по-английски.
— Почему же вы взлетели? — спросил он.
— Мы слышали о заговоре Винтерфельдта. Вернее, о подготовке этого заговора. Нацисты пытались держать это в секрете, но слухи все же просочились через тюремные стены. Многие из нас думают, что правда была на стороне Винтерфельдта. Мы знаем, что творится в «Фулсбюттель». Что там пытают бедняг евреев. Поэтому, когда мне передали, что вы Ник Флеминг, я понял, что это хорошая возможность для меня выбраться в Лондон.
Ник опустился на место второго пилота.
— Вы покидаете Германию навсегда?
— Я вернусь, когда здесь не будет нацистов. Кстати, меня зовут Арндт Сименс.
Он протянул Нику правую руку, и тот пожал ее.
— Я рад с вами познакомиться, Арндт, — сказал уже успокоившийся Ник. — Думаете, дотянем до Лондона?
— Я лечу к голландской границе. Вы ведь сказали Шмидту, что собираетесь в Копенганен? Вот они и будут искать нас на севере. Я думаю, что все обойдется. Немного потрясет: на западе неважная погода. Но зато облака спрячут нас. Вы убили Шмидта?
— Да.
— Хорошо. Этот мерзавец заслужил смерть. Пристегивайтесь — первые кочки!
И самолет нырнул в большое облако.
Ататюрк заказал для себя президентский поезд, который был изготовлен фирмой «Линк-Хофман-Буш» и главным достоинством которого была огромная мраморная ванная комната с мраморной же ванной.
В тот же день, когда Ник совершил побег из «Фулсбюттель», поезд турецкого диктатора въехал на берлинский Шлесише-банхоф, где Ататюрка встречали сам фюрер, вся нацистская верхушка, почетный караул и оркестр, исполнявший попеременно то турецкий национальный гимн, то «Хорст Бессель». Затем процессия с высоким гостем проследовала через весь Берлин в Канцелярию, расположенную на Вильгельмплац. Здесь на втором этаже был балкон, сделанный по распоряжению Гитлера вскоре после его прихода к власти. Оба диктатора вышли на этот балкон, чтобы поприветствовать воодушевленную толпу, собравшуюся внизу. Многих потрясла расправа с Ремом, происшедшая тем летом, но не было никакого сомнения в том, что Адольф Гитлер пока сохраняет поддержку подавляющего большинства немцев.
Вечером в Канцелярии состоялся торжественный прием, на который были приглашены все дипломаты, а также берлинская верхушка. Диана Рамсчайлд беседовала с французским пресс-атташе, ожидая, когда ей удастся переговорить насчет Ника с Ататюрком наедине. Случай представился очень скоро. Ровно в девять часов Ататюрк, одетый в великолепный белый китель, разрезая грудью, увешанной орденами, драгоценностями и лентами, публику, направился к женщине, к которой он до сих пор питал романтическую привязанность. Помимо того, что она еще являлась его деловым партнером.
— У меня новости для тебя, — сказал он, взяв ее за руку. — Пойдем на террасу, там никого нет, и я заодно смогу покурить.
Он вывел ее через застекленные двери на террасу. Гитлер не выносил табака. Гости иногда закуривали на свой страх и риск. В помещениях Канцелярии никогда нельзя было уловить запах дыма.
Вечерний воздух был прохладен и свеж. Ожидался дождь.
— Боюсь, мои новости не будут тебе в радость, — продолжил Ататюрк, закуривая турецкую сигарету и с наслаждением выпуская первый дым. — Гитлер и Геринг рвут и мечут. Сегодня днем из «Фулсбюттель» сбежал Ник Флеминг.
— Он… сбежал? — тихо переспросила она.
— Да. Не везет тебе с этим человеком. Или, наоборот, ему просто дьявольски везет. Человек Лысого Али убил другого, теперь и гестапо его упустило. Мне очень жаль.
Она вдруг рассмеялась. Ататюрк нахмурился.
— Ты находишь мое сообщение забавным? — спросил он.
— Нет, просто это смех облегчения! Ведь я как раз хотела просить тебя употребить твое влияние на Гитлера с тем, чтобы Ника отпустили, а он сбежал сам! Слава Богу!
— Диана, порой мне трудно тебя понять. Я полагал, что ты ненавидишь Ника Флеминга.
— Я тоже так думала, но, выходит, заблуждалась. — Она беспомощно развела руками. — Выходит, я все еще люблю его. И наверно всегда любила.
Ататюрк склонился к руке в длинной перчатке и поцеловал ее.
— О женщины, — сказал он. — Они способны бесконечно восхищать. Но знаешь, я немного ревную к Нику Флемингу. Должно быть, это необыкновенный человек, раз смог однажды внушить к себе такую неистребимую любовь.
— Да, — согласилась она, глядя на луну, освещавшую верхушки лип. — Он необыкновенный. По крайней мере, для меня.
Дикая мысль родилась в ее голове: а вдруг наступит день, когда ей удастся возродить в Нике любовь к себе? Ту жаркую любовь, которой он пылал много лет назад?
ЧАСТЬ ПЯТАЯ В МИРЕ ВОЙНА 1939–1942
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
В мае 1939 года самой большой новостью в газетных светских хрониках был предстоящий прием в честь Сильвии Флеминг, которая стала самой шикарной девушкой года точно так же, как Бренда Фрезиер была самой шикарной в прошлом году.
Фотографии с изображением Сильвии печатались практически везде. Эта необыкновенная красавица, обладающая стройной фигурой и каштановыми волосами, была равно хороша в вечернем платье, спортивном костюме и купальнике. Ее фотографировали в клубе «Аист» в окружении поклонников из высшего света, в театре, на бегах, на матчах по водному поло у Лонг-Айленда, на паруснике среди волн пролива, в седле на дорогах Коннектикута. Казалось, измученная депрессией публика никак не может насытиться новостями об этой светской красавице, а подробности ее выхода в свет репортеры описывали с энтузиазмом.
15 мая в разделе светской хроники «Геральд трибюн» писала:
Самым громким светским дебютом года обещает стать дебют Сильвии Флеминг. Он состоится всего через три недели в Сент-Редшис Руф. Первый реверанс американскому обществу правнучки герцога Дорсетского, дочери королевы немого кино Эдвины Флеминг и военного магната Ника Флеминга по приблизительным подсчетам обойдется ее папе в шестьдесят тысяч долларов, не считая шампанского. Сильвия является большой поклонницей Гленна Миллера, но поскольку он со своей группой сейчас на гастролях, взмахивать дирижерской палочкой на торжественном балу будет маэстро Мейер Дэвис. Было разослано двести приглашений «сливкам из сливок» общества, так что тем несчастным, кто не удостоился такой чести, остается только прятаться по кинотеатрам в знаменательный вечер приема. На Сильвию покушаются, по крайней мере, десять известных молодых людей из лучших семей, однако, если верить слухам, сердце юной красавицы отдано энергичному вице-президенту «Рамсчайлд армс компани» Честеру Хиллу.
Ник и Эдвина оказались достаточно мудрыми и проницательными, чтобы понимать неуместность столь шумного и роскошного события в мире, разбитом депрессией и кроме того полном предчувствий новой войны. Они прекрасно помнили подобный торжественный прием, который закатили восемь лет назад в честь Барбары Хаттон. Закончилось все тем, что бедняжка стала у журналистов излюбленной мишенью для нападок. Правда, в конце концов Барбара Хаттон сумела вырвать ядовитое жало у общественного мнения. И потом Сильвия так жаждала этого праздника, что родителям осталось только, плюнув три раза через левое плечо, уступить дочери.
Однако когда в тот торжественный вечер их лимузин притормозил у отеля, Ник понял, что совершил ужасную ошибку. Тротуары были забиты демонстрантами, которые потрясали множеством плакатов: «Долой Флеминга — Титана смерти!», «Америка хочет мира, а Флемингу нужна война!», «Америке нужен мир с нацистской Германией, а не война, к которой зовет Флеминг!»
Все пять лет, которые прошли со времени побега из «Фулсбюттель», Ник активно раздувал шумную антинацистскую кампанию в изданиях Ван Клермонта, равно как и в кабинетах конгресса. Ник делал все, чтобы предупредить население Америки об угрозе нацизма, призывал Америку вооружаться. Он написал о своем заключении, перечислив все пытки, которые ему пришлось претерпеть, Ван напечатал этот рассказ. В результате на Ника обрушилась многоголосая брань, раздавались призывы ужесточить цензуру. Казалось, публику больше всего оскорбило употребление в печати слова «мастурбация», а вовсе не зверства нацистов, которые, по мнению злых языков, были всего лишь выдумками излишне впечатлительного Флеминга.
Что касается его антифашистской кампании, то лишь незначительная часть общества аплодировала его усилиям и соглашалась с ним, основная же масса — от богачей Палм-бич до бедноты Бовери — возмущенно улюлюкала, обзывала Ника паникером, который стремится запугать Америку только для того, чтобы продать побольше своего оружия.
Для Ника, который поклялся объявить личный крестовый поход против нацизма еще в «Фулсбюттель», его неудача в деле антифашистской пропаганды в американском обществе, которое отвечало только ругательствами в его адрес, явилась сильнейшим раздражителем и здорово его взбесила. К 1938 году он пришел к пониманию того, что всеми своими усилиями приносит больше вреда, чем блага, и решил подождать, пока нацистская политика международного бандитизма сама не настроит Америку против себя. Однако ущерб его собственной репутации уже был нанесен, и в глазах толпы он стал титаном промышленного зла, который спекулирует на идее укрепления обороноспособности родины в корыстных целях. Теперь, сидя в своем лимузине перед Сент-Реджис и глядя в окно на пикетчиков, он в ярости сжимал кулаки.
— Глупые ослы! — бормотал он. — У них раскроются глаза, наверное, только после того как Гитлер разбомбит Таймс-сквер!
Эдвина взяла его за руку.
— Не обращай внимания, милый, — сказала она. — Наступит день, когда они признают, что ты был прав.
У Ника на этот счет имелись сомнения, но, выйдя из машины, он приложил максимум усилий к тому, чтобы не слышать улюлюканья, которое поднялось тут же, как только его узнали в лицо.
— Глядите, а вот и сам продавец войн! — выкрикнул какой-то рыжий парень. Рев толпы и свист сразу усилились.
— Когда планируешь начать новую войну? — крикнул старик в фуражке Американского легиона.
— Чем ты расплатился за сегодняшнее шампанское? Патронами? — не унимался рыжий.
Ник уже почти дошел до крыльца, но последнее оскорбление показалось ему нестерпимым. Прежде чем Эдвина успела сообразить, что происходит, ее муж прорвался за полицейский кордон, который сдерживал толпу, и смазал рыжему по роже. Какие-то две женщины завизжали и стали колотить своими плакатами Ника, сцепившегося с рыжим. Потом раздались звуки полицейских свистков, и стражи порядка разняли дравшихся. У Ника был разбит нос, но ему было плевать. Зажимая левую ноздрю носовым платком, он вошел в отель.
Он чувствовал определенное удовлетворение. Толпа была настроена по-прежнему враждебно, но по крайней мере утихла.
— Ты слышала о том, что произошло внизу? — спросил Честер Хилл у виновницы торжества Сильвии во время танца.
— Разумеется, и это меня взбесило! Моего отца чуть не угробили нацисты, а когда он вернулся домой, его встретили пикетами и всякими похабными словами! Эти идиоты, которые беснуются внизу, заслуживают того, чтобы ими занялись нацисты. Так или иначе, они не испортят мне вечер!
— Не лишено смысла. Вечеринка пока что удается. И ты выглядишь чудесно. Но я просто помираю от жары.
— Точно! А мне весело, и на все остальное — плевать.
Музыканты заиграли более медленную и более лиричную «И ангелы поют» — признанный хит года. Честер и Сильвия стали танцевать «щечка к щечке».
В другом конце зала с Кимберли Рэднор, другой дебютанткой сезона, танцевал Чарльз Флеминг.
— Черт, — пробормотал он.
— Что? — спросила Кимберли, блондинка с лошадиным лицом с Северного берега. Ее папаша был владельцем грузосудоходной компании «Рэднор шиппинг лайн».
— Ничего, — соврал Чарльз. Он во все глаза смотрел на Честера и Сильвию, обнявшихся в танце так, как будто они уже занимались любовью. Он заметил блаженное выражение на лице своей сестры.
Чарльз Флеминг ненавидел Честера Хилла.
* * *
Когда многочисленные дети Флемингов подросли, Нику пришлось подыскать более вместительные апартаменты. В 1938 году он въехал с семьей в поистине гигантскую трехэтажную квартиру на Парк-авеню, 770. У каждого ребенка отныне были своя спальня и своя ванная комната, кроме самых младших, которые мылись пока что вместе.
На следующее после торжества утро в половине пятого Сильвия, более чем возбужденная от того количества шампанского, которое она себе позволила в течение вечера, без сил упала в одно из красивых, накрытых ситцевыми чехлами кресел в своей спальне. Сняв туфли, она стала массировать натруженные в танцах ноги.
— Тебе понравилось, милая? — ласково спросила ее мать, заглянув в комнату. Эдвина выглядела настолько свежо, что, казалось, она только-только готовится к вечеру, а на самом деле исправно исполняла роль хозяйки в течение всего восьмичасового приема.
— О, мама, это было чудесно! Я здорово провела время! Такое тебе спасибо!
Эдвина подошла к дочери и поцеловала ее.
— Мы с отцом гордимся тобою. Ты выглядела просто великолепно.
— Бедный папа. Он, наверное, очень переживает?
Эдвина посерьезнела.
— Ему досталось, ты права. Но твой отец — сильный человек. Банде головорезов не сломить его.
Эдвина вышла. Сильвия встала с кресла и уже начала было раздеваться, как вдруг в спальню без стука вошел Чарльз.
— Научись, пожалуйста, стучаться! — сердито воскликнула сестра. — И если ты пришел специально для того, чтобы покритиковать прием и испортить мне вечер в самом конце — не надо! Я устала и хочу спать.
— Наоборот, я считаю, что прием удался на славу.
Он закрыл за собой дверь, прислонился к ней спиной и стал смотреть на свою сестру тем надменным и откровенным взглядом, за который знакомые девчонки прозвали его «коброй».
— Но что-то ты уж слишком затанцевалась с Честером Хиллом.
— А почему бы мне было и не потанцевать с ним? — ответила Сильвия, снимая бриллиантовые сережки, которые отец подарил ей на последний день рождения. — Я без ума от него.
— Тогда ты просто дура. Ему денежки наши нужны, вот и все.
— Это твое мнение, и будет лучше, если ты сохранишь его при себе, понятно?
Он подошел к ней:
— Сильвия, сними-ка с меня эти запонки на манжетах.
— Я тебе не служанка.
— Ну ладно тебе… Будь любезна. — Он протянул ей свои руки.
Несколько помедлив, она стала расстегивать его запонки из бриллиантов и золота.
— Знаешь, — негромко проговорил Чарльз, — есть один способ проверить Честера. Я имею в виду точно узнать, что ему нужно: ты или наши деньги.
— Неужели в твоих куриных мозгах завертелась какая-то идея?
— Я мог бы, скажем, рассказать ему все о нас с тобой…
Она потрясенно уставилась на него, а он только усмехнулся.
— Если ему нужны деньги, то он женится на тебе все равно. Но, по правде сказать, я не уверен, что найдется много охотников жениться на девушке, которая спала с родным братом.
Она влепила ему сильную пощечину.
— Это было всего один раз! — прошептала она. — И было глупостью с нашей стороны! Но ты ведь не собираешься напоминать мне об этом всю жизнь?
— А почему бы и нет? Ведь тебе тогда понравилось, и мне тоже, а?
— Чарли, это было мерзко! Ты понимаешь это слово?! Ты просто ревнуешь меня к Честеру!
— Я ревную к любому, кто смотрит на тебя, — оборвал он ее.
Он грубо схватил ее и стал целовать. Сильвия отбивалась, но он держал крепко.
В дверь постучали, и в спальню вошел Ник.
— Сильвия, я…
Он запнулся, изумленно раскрыв глаза. Чарльз тут же отпустил сестру и отступил на шаг назад. Достав из кармана носовой платок, он вытер им запачканный губной помадой рот. Потом с улыбкой обернулся к отцу:
— Привет, папа. Я демонстрировал на Сильвии свою технику поцелуя. Она мне не верила, когда я говорил, что сердцеед.
Ник молчал и продолжал потрясенно смотреть на старших детей. Вдруг Сильвия ударилась в слезы и бросилась в ванную, громко хлопнув за собой дверь.
— Немного задурела от шампанского, — сказал Чарльз.
Он положил носовой платок обратно в карман и направился к выходу.
— Вечер удался на славу, пап. Самый лучший из всех, на которых мне приходилось бывать. Ну ладно, спокойной ночи.
Он обошел отца и вышел в коридор.
Примерно с минуту Ник был неподвижен. Затем он медленно повернулся, вышел из комнаты и пошел вдоль коридора, увешанного картинами, к себе в спальню. Он мог сейчас думать только об одном: перед его мысленным взором встала та ужасная сцена в сиротском приюте Пенсильвании, когда доктор Трусдейл обвинил его в том, что он имел сексуальные контакты с матерью. Это тяжкое воспоминание до сих пор терзало его по временам, а одна только мысль о кровосмешении всегда доставляла ему почти что физическую боль. Он открыл дверь своей спальни. Эдвина была уже раздета. Она сидела на постели под великолепным полотном Сера, которое Ник купил за год до этого в Париже. Он закрыл за собой дверь, молча прошел к кровати, сел на нее рядом с женой. Она никогда еще не видела мужа таким потерянным.
— Милый, что стряслось? — встревоженно спросила она.
— Неужели нацисты были правы? — пробормотал он. — Неужели я действительно осквернитель человеческого рода?
— О чем ты?!
Он повернул к ней мертвенно-бледное лицо:
— Только что в комнате Сильвии… Я вошел и увидел, что Чарльз целует ее…
Эдвина нахмурилась:
— Что ты хочешь этим сказать?
— А как ты думаешь? Он целовал ее взасос!
Теперь пришла очередь Эдвины испытать потрясение.
— Ник, ты не понял… Наверное, это была какая-нибудь игра…
— Какая там к черту игра!
Он поднялся с кровати, засунул руки в карманы и стал ходить по комнате взад-вперед, отгоняя наворачивающиеся слезы.
— Мой сын, — с горечью произнес он. — Неужели это был мой сын? Боже, я не могу в это поверить! Но я видел! Нет, это немыслимо… Сильвия не позволила бы ему. Но потом она разрыдалась… Дьявол, что-то все же произошло между ними… О черт!
Он перестал ходить туда-сюда, сел в кресло, закрыл лицо руками и… зарыдал. Эдвина тут же соскочила с кровати и подбежала к нему.
— Милый, милый, — утешала она его. — Это также и мой сын. Если между ними что-то было, не вини себя. Возможно, это все то же «безумие» Траксов. Больше половины моих предков, наверняка, были не в себе, если вообще не законченные психи…
— «Не в себе» — это одно, а то, что я видел, — другое! — прервал он ее. — Я тебе говорю о кровосмешении!
Наступила гнетущая тишина. Ник и Эдвина потрясенно смотрели друг на друга.
— Ты полагаешь, что он…
— Я не знаю! Я не уверен, что очень хочу это знать! — Он вытер глаза платком. — Во всем виноват я, — мрачно сказал он. — Я избаловал, испортил его. Ты всегда говорила мне об этом и была права. Я воспитал сына и наследника надменным, коварным человеком…
Он поднялся с кресла и опять стал расхаживать по комнате.
— Что мы можем сделать? — спросила Эдвина.
— Их необходимо срочно разлучить, — сказал Ник. — Мы отправим его… не знаю… в Англию! Мы отправим его в Оксфорд. Он поступит. В Принстоне он отличник. Главное, чтоб он уехал! А Сильвия у нас выйдет замуж! Неужели Честер будет моим зятем?! Проклятье! Мой сын! Я не могу поверить! Мой сын…
Он остановился и взглянул на Эдвину. Внезапно им овладело ледяное спокойствие.
— Если он не исправится, — сказал он твердо, — я лишу мерзавца наследства.
Эдвина знала, что муж не шутит.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Менее чем десять недель спустя Гитлер вторгся в Польшу, развязав тем самым европейскую войну, которая, как в то время многие полагали, будет короткой. Когда, к удивлению всего мира, сработала гитлеровская доктрина «блицкриг» и всего за несколько недель Польша была покорена, общим мнением стало то, что эта война будет не только короткой, но и несомненно победоносной для Гитлера. Ник, к рассказам которого об ужасах нацизма до сих пор никто не прислушивался, решил, что наконец-то он будет отомщен за все оскорбления. Он полагал, что теперь Америка окажет Англии и Франции, вступившим в войну, моральную поддержку, а может, станет их прямым союзником. К его изумлению и огорчению, в американской прессе — газетная сеть Вана Клермонта в данном случае являлась исключением — еще больше стали преобладать идеи строжайшего изоляционизма. «Рамсчайлд армс компани» утроила производство оружия и военного снаряжения, благодаря целому потоку заказов, хлынувшему из Англии, но в глазах общественного мнения это лишь добавило Нику непопулярности.
Казалось, он все делает не так. Когда он пожертвовал миллион долларов английскому правительству, на родине это почему-то расценили как еще одно доказательство его соучастия в эскалации войны. Когда он передал на нужды Международного Красного Креста четверть миллиона, то был незамедлительно разоблачен как коварный лицемер. Весной 1940 года, когда такие американские герои, как Чарльз Линдберг, превозносили нацистов, когда Джозеф Кеннеди, отец будущего президента, известный дипломат, на каждом углу кричал о том, что с англичанами покончено, одна чикагская газета провела опрос населения и опубликовала список десяти наиболее ненавидимых в Америке людей. К ярости Ника, его имя занимало третье место. Когда же Эдвина, успокаивая мужа, заметила, что первым в списке стоит сам президент Рузвельт, Ник стал еще мрачнее.
Он достиг власти и могущества, о которых не мечтал, но одновременно был одной из самых противоречивых фигур во всей стране. Ник ненавидел это состояние. На краткий миг ему даже пришла мысль продать компанию Рамсчайлдов и выйти из военного бизнеса, который сделал его таким непривлекательным. Но потом он вспомнил свое пребывание в «Фулсбюттеле», и ненависть к нацизму заставила его отогнать эту мысль.
Главным его аргументом в борьбе были конвейеры «Рамсчайлд армс».
— Так, выходит, вы третий по счету из ненавидимых людей в Америке? — широко улыбаясь и пожимая Нику руку, приветствовал его в Овальном зале Белого дома президент США Франклин Д. Рузвельт. — Ну и что? Например, я горжусь, что опередил вас! — При этих словах президент заразительно расхохотался. — Садитесь, Ник. Кофе?
— Нет, благодарю, господин президент. Лично меня мой рейтинг тревожит.
— Пошлите их всех к черту! Эти изоляционисты в упор не хотят видеть справедливого характера войны с нацизмом. Если Гитлер не является злодеем, заслуживающим хорошей порки, то я тогда вообще не разбираюсь в злодеях. К несчастью, большинство населения не разделяет нашей с вами точки зрения. Отчасти именно поэтому я и пригласил вас в Белый дом.
Он сунул сигарету в длинный мундштук и прикурил от латунной зажигалки, которую отыскал на своем захламленном столе. Несмотря на то что Нику уже приходилось несколько раз видеться с президентом и он даже оказывал ему поддержку во время предвыборных кампаний, Ник не очень-то верил в его новый курс. С другой стороны, Нику нравился этот человек, он легко поддавался его обаянию. Ему льстило то, что его пригласили в Белый дом. Из шахтерских трущоб Флемингтона в Овальный зал — путь неблизкий.
— Наши летчики говорят, — сказал президент, затягиваясь, — что ваш зять разработал прицел для бомбометания, который даже лучше, чем «Норден».
— Да, с прицелом Честера заметно повышается точность бомбардировок. ВВС заказали нам пока пятьсот штук.
— Знаю. По десяти тысяч долларов за каждый прицел. Неудивительно, что налогоплательщики вас ненавидят. — Он замолчал, чтобы сделать еще затяжку, и продолжил: — Ник, вы знакомы с многими влиятельными людьми в Англии: в правительстве, вооруженных силах, промышленности, наконец, в финансовой сфере. Как вы думаете, каковы шансы Англии в этой войне?
Ник задумался. Это был нелегкий вопрос.
— Никто больше меня не восхищается англичанами, — сказал он наконец. — Как вам известно, я женат на англичанке. Я думаю так. Англичане недооценили Гитлера в самом начале, но Гитлер недооценит англичан сейчас, если будет думать, что они не станут бороться. Многое зависит от германских ВВС. Если «Люфтваффе» и впрямь так хороши, как о них все говорят, то Англию ожидают весьма тяжелые испытания. Но я не думаю, что в конечном итоге Германии удастся сломить англичан. Даже если Гитлер осмелится на прямое вторжение. С другой стороны, я почти уверен в том, что Англия не сможет одолеть Германию, если к ней на помощь не придем мы.
— Как вы полагаете, что может случиться в самом худшем случае? Патовую ситуацию не допускаете?
— Либо это, либо выторгованный мир, который, по моему мнению, будет выгоден Гитлеру. Но не забывайте о том, что у меня имеется личный опыт общения с нацистами. Я думаю, что, услышав о таком мире, большинство американцев вздохнут с облегчением.
— О, в этом я не сомневаюсь. Надеюсь, для вас не является секретом то, что здесь, в Белом доме, я хожу по канату. Я всеми силами стремлюсь оказать помощь англичанам и французам, но прекрасно понимаю, что, если зайду слишком далеко, Америка потребует моего скальпа. Но я нашел способы действовать так, чтобы страна об этом не очень-то и знала. Вот почему вы и сидите сейчас передо мной. Я знаю, что вы очень занятой человек, но мне также говорили, что вы далеко не каждый день непосредственно руководите компанией. Это так?
— Да, сэр.
— Тогда вы в принципе можете позволить себе некоторую отлучку, зная, что это не скажется плохо на работе, так?
— Пожалуй, если я в любой момент смогу связаться с компанией по телефону или телеграфу.
— Отлично. Я хочу поручить вам особую миссию, которая будет заключаться в том, что вы отправитесь в Лондон и договоритесь с английским правительством о проведении стандартизации английских и американских вооружений. Ведь просто смешно, когда стандарт американской винтовки составляет 0,3 дюйма, а у ее английского аналога — 0,303! Вы сами знаете, эти три тысячных дюйма исключают всякий взаимный обмен. А в результате — бесполезная трата времени и материалов. Удивительно! Эта же самая проблема существовала между нами и в прошлой войне, но до сих пор она не решена. В комиссии, с которой вы поедете в Лондон, состоят еще генералы Лафлин и Биллингс, а также контр-адмирал Холанд.
Впрочем, для вас вся эта комиссия — больше маскировка. На самом же деле я прошу вас давать мне любую информацию. Пусть даже слухи. Мне нужно ваше мнение, которому я вполне доверяю, по вопросу о том, что Англия намеревается предпринимать. Я хочу, чтобы вы сделали все, что будет в ваших силах — можете даже и привирать немного, — для того чтобы у англичан сложилось впечатление, что Америка с ними. Деятельность нашего посла Джо Кеннеди, который зарекомендовал себя законченным пораженцем, на мой взгляд, наносит серьезный ущерб моральному духу англичан. Я собираюсь предпринять все необходимые меры, исключая его отзыв, чтобы положить этому конец. Джо не хочет войны потому, что это, конечно, подорвет биржу. А вы широко известны своими антифашистскими взглядами. Да, в Америке вы непопулярны, но зато в Англии вас будут носить на руках. Словом, если возьметесь за это, то окажете большую услугу мне лично и всей стране. Боюсь, правда, что, кроме моей признательности, покрытия расходов на дорогу и пятнадцати долларов суточных, я ничего предложить не смогу. Но мне говорили, что вы вполне сможете снять номер в «Кларидже» за четыре доллара в день, так что, думаю, устроитесь нормально. И потом, — президент подмигнул, — ваше дело сейчас процветает.
Ник улыбнулся:
— Вы правы, сэр. С удовольствием возьмусь за ваше поручение. Чем смогу — помогу.
— Превосходно! Сейчас же попрошу заказать вам место на первый же лиссабонский рейс.
— Попросите заказать два места, мистер президент. Мне хотелось бы взять с собой жену. За мой счет, разумеется. Эдвина беспокоится за своих родителей. Кроме того, наш старший сын, который учился в Оксфорде, записался на службу в «RAF»[16].
— Молодчага, как сказал бы кузен Тэд! — Он улыбнулся. — Рад видеть вас в своей команде, Ник. Америка нас ненавидит. Мы товарищи по несчастью и должны держаться вместе.
Ник встал и пожал президенту руку.
С этой минуты он уже меньше терзался своей непопулярностью среди американцев.
Ее звали Лена Пфайфер. Это была сорокавосьмилетняя женщина с седеющими светлыми волосами и пятьюдесятью фунтами избыточного веса. Вот уже три года она работала уборщицей в административном здании компании Рамсчайлдов. В последнее время компания работала в две смены по восемь часов каждая, чтобы удовлетворить все возрастающий поток военных заказов. Поэтому Лена в тот день, как и во все остальные, пришла на работу в полночь, когда все служащие, исключая охрану, разошлись по домам. Спустя два дня после визита Ника в Белый дом в два часа ночи Лена катила свою тележку с тряпками и щетками вдоль длинного коридора административного корпуса к служебному лифту. Она спустилась на первый этаж, вышла и, толкая тележку впереди себя, направилась к заводу. Билл Циглер, один из охранников, как раз опускал монету в пять центов в автомат с кока-колой.
— Как дела, Лена? — спросил он, забирая бутылку.
— Пожаловаться не на что.
— Ты сегодня вечером слушала «Эмос и Энди»? Отличная передача!
— Нет. У меня сломалось радио. Придется завтра нести в мастерскую.
— Что-то тебе постоянно не везет с техникой. Это ведь ты жаловалась на прошлой неделе, что у тебя полетела стиральная машина?
— Ага. Неужели ты думаешь, что я была бы просто уборщицей, если бы мне везло?
Проталкивая тележку в двери, она на прощанье подмигнула охраннику. Она быстро миновала зал с гигантским прессом и направилась в КБ. У самой двери она остановилась, достала большую связку ключей, выбрала нужный, отперла дверь, втолкнула тележку внутрь, включила свет и закрыла за собой дверь. Она наклонилась к своей тележке и вытащила небольшой фотоаппарат. С удивительной для ее комплекции быстротой она подбежала к сейфу и набрала требуемую комбинацию: 18 направо, 26 налево, 40 направо, 0. Шифр этот она узнала две недели назад, прислонив к замочному устройству сейфа специальное миниатюрное устройство, которое подслушивало щелчки при повороте ручек. Это устройство, последнее достижение «Сименс электрогерет актайн гезельшафт», было передано Лене доктором Игнацем Теодором Гриблем, шефом нью-йоркской резидентуры абвера.
Когда сейф был отперт, она вытащила из него последние чертежи разработанного Хиллом авиационного прицела, положила их на ближайший стол, осветила настольной лампой и начала перефотографировать.
В ту ночь она наконец закончила пересъемку всех нужных чертежей, что заняло у нее в общей сложности десять ночей.
— Я ненавижу этот дом! — кричала Сильвия Флеминг Хилл. — Я ненавижу, ненавижу, ненавижу его!!! Он маленький, корявый и воняет!
Она бросилась на отвратительный, по ее мнению, зеленый диван в гостиной трехкомнатного домика, который ее муж Честер — их семейная жизнь продолжалась уже восемь месяцев — снял на берегу Коннектикута.
— Можешь ты подождать со своими оценками еще хоть немного?! — кричал ей в ответ Честер с кухни, где он как раз открывал банку с пивом. — Мы и недели здесь еще не прожили, а ты уже заскулила! Со времени нашей свадьбы это уже четвертый дом, в который мы въезжаем! Мне надоело перетаскивать чемоданы! Черт возьми!
Он в ярости хлопнул дверцей холодильника и вышел из кухни, которую про себя называл «очаровашкой», прошел через столовую, которую находил «миленькой», и показался в гостиной, которая нравилась ему, как и все остальное в этом доме. Сильвия гневно наблюдала за ним, не вставая с ненавистного ей дивана.
— Здесь отвратительно! — сказала она. — Или ты хочешь, чтобы я врала тебе? Ты хочешь, чтобы я говорила: «О Честер, милый, это самый очаровательный домик во всем мире!» А я говорю: это дерьмо, а не дом! О Боже! Еще какой-то год назад я была самой знаменитой девушкой Америки! Моя фотография была на обложке журнала «Лайф»! Кто я теперь? Занюханная домохозяйка в этом Богом забытом городишке в Коннектикуте!
— Слушай, я не просил выскакивать за меня замуж!
— И я не просила! Меня отец заставил! И ты это прекрасно знаешь! Он буквально притащил нас к алтарю! Мне всего девятнадцать, а я торчу в этой дыре!
Он отставил свое пиво, подошел к дивану, наклонился, оперевшись руками о его спинку, и проговорил:
— В постели я что-то не слышал от тебя ничего подобного, — он хитро прищурился, наклонился и поцеловал ее.
После некоторого колебания Сильвия оттолкнула мужа.
— Никто не любит секс больше меня, — сказала она раздраженно. — Но ты не можешь заниматься им все время напролет. Когда тебя нет, мне нечего делать. Нечего!
— Найди себе увлечение, хобби.
— Какое? Игра в блошки?! Вязание? Целыми днями мне приходится смотреть эти бредовые мыльные оперы! Честер, я скоро тронусь, честное слово!
— Просто ты избалована.
— Да, я избалована! Меня избаловал отец, и я счастлива тем, что избалована! Ты, мой муж, хоть немного меня побаловал бы!
Честер мысленно приказывал себе сдерживаться. Нытье Сильвии стало раздаваться все чаще и чаще, и сносить его было все труднее. Порой ему хотелось задушить ее. Но он вынужден был из кожи вон лезть, так как ее папаша был его боссом.
— Чего тебе надо? — вздохнул он.
— Я хочу в пятницу лететь в Европу с папой и мамой, — сказала она вслух, а про себя подумала: «Повидать Чарли». Она сильно скучала по брату, и мысли об этом пугали ее.
— Твой отец отказывается брать тебя с собой. Чего тебе от меня надо?
— Не знаю! Честер, я ненавижу этот дом, пойми! Почему бы нам не построить свой собственный? Что-нибудь ультрасовременное, чтобы все в этом провинциальном городишке ходили мимо нашего дома, разинув рты!
Честер на секунду прикинул в уме эту перспективу. До сих пор он и не думал об этом, так как не хотел тратить деньги. Да, он был зятем одного из богатейших людей в Америке, ну и что ему это дало? Двадцать пять тысяч долларов годового оклада? Это был один из подарков Ника ко дню свадьбы. С другой стороны, постройка нового дома, может, заткнет Сильвии рот. Наконец, наверное, можно будет попросить в долг у ее старика…
— Черт с тобой, — сказал он. — Давай строиться.
Мрачное выражение вмиг исчезло с ее лица.
— О Честер! — воскликнула она. — Наконец-то ты начинаешь баловать меня!
Он опустился на нее сверху и быстро вошел в нее, подавляя в очередной раз желание, которое в последнее время стало приходить все чаще.
Желание убить ее.
В отношении Честера к своему тестю переплетались самые разные чувства: зависть, благоговейный трепет, восхищение и страх. После свадьбы босс настоял на том, чтобы Честер называл его отныне просто Ником, но отношения между ними от этого теснее не стали. Поэтому следующим утром на пороге кабинета Ника, перед тем как войти и попросить у него денег на постройку дома, Честера одолевали сложные чувства.
Кабинет Ника был отделан в том же духе арт деко, что и приемная. Однако нельзя было сказать, что это царство богатого человека: кабинет был прост и строг. На стенах висело всего несколько картин с изображениями птиц Одюбоновского общества. Это напоминало о том, что Ник был поклонником искусства. Честер же полагал, что этими птичками Ник маскирует свою истинную сущность — титана смерти. Ник, как обычно, радушно приветствовал своего зятя, пожал ему руку и предложил сесть.
— Совсем закрутила текучка, — сказал он. — Ты ведь знаешь, что мы улетаем завтра утром на девятичасовом. И Бог знает, когда нам удастся вернуться. Поэтому Фрида завалила меня бумагами. Ладно, рассказывай, почему ты хотел меня увидеть?
Честер прекрасно знал, что этот вопрос на самом деле должен звучать так: «У тебя только пять минут, потом убирайся».
— Я о Сильвии, — начал Честер неуверенно.
— Опять поссорились?
— В общем, да. Мне бы очень не хотелось, Ник, загружать тебя своими проблемами, но мне с ней стало очень трудно. В то же время, видно, не мне упрекать ее. Она росла совсем в других условиях. Привыкла быть предметом всеобщего внимания, королевой бала, а сейчас она — «домохозяйка». Это она сама себя так называет…
— Чего ей надо? — перебил Честера Ник.
Честер перевел дыхание, весь напрягся.
— Она достала меня с постройкой нового дома. Я всячески пытался отговорить ее от этой затеи, потому что не хочу столь больших расходов. Но… короче, теперь мне кажется, что, отказывая ей, я был не прав…
— Ты хочешь занять у меня на это денег?
«Черт старый! — подумал про себя Честер. — Мысли он, что ли, читает?..»
— М-м… Да, я хотел бы попросить у тебя, если так можно выразиться, финансового совета…
— Мой ответ: нет. Я не дам тебе ни цента. И в банке не бери. И дом не строй. Ты получаешь чертовски высокую зарплату, Честер, а те акции, что я тебе подарил, через несколько лет могут сделать тебя богатым человеком. Вот тогда и строй собственный дом на свои собственные денежки. А теперь пусть Сильвия учится жить, как большинство людей, — это пойдет ей на пользу. И знаешь, когда ваша семейная жизнь подвергнется самым тяжким испытаниям? Когда она узнает, что ты приходил ко мне выклянчивать деньги на покупку ей какой-нибудь безделушки или постройку дома. Если она об этом узнает, не рассчитывай ни на что, кроме презрения с ее стороны. Она будет отсылать тебя к «папочке» через каждые десять минут. Я знаю свою дочь и поэтому предвидел подобную ситуацию. Если откровенно, я удивляюсь, как это после восьми месяцев жизни с Сильвией у тебя еще крыша не поехала. Короче, забудь о доме. Возвращайся к ней и дай ей пинка под зад. Я люблю Сильвию, но знаю, что она здорово избалована. Я испортил своих детей. Это моя вина как отца. Не хочу, чтобы этим же занимался мой зять.
Больше всего взбесило Честера осознание того, что тесть, похоже, был прав.
Но это не делало жизнь с Сильвией более легкой.
— Я знаю эту женщину, — прошептал Ник на ухо Эдвине, когда они заняли свои места в лиссабонском лайнере в аэропорту «Ла Гардия».
— Которую? — спросила Эдвина. Она была одета в удобный костюм для длительного трансатлантического перелета. Остановки планировались на Бермудах и Азорских островах…
— Вон, через два ряда от нас. В белой шляпке с вуалью, седая.
Эдвина обернулась назад, чтобы посмотреть.
— Там нет никакой женщины, — сказала она. — О, постой… Она идет к выходу!
Ник быстро обернулся и увидел, как женщина в белой шляпке с вуалью уже подошла к трапу и вот-вот спустится. Он нахмурился.
— Странно, — проговорил он. — Почему это ей вздумалось выходить из самолета?
— Может, она передумала и не хочет больше лететь в Лиссабон?
— Да, но даже нам, имеющим правительственные брони, потребовалась целая неделя, чтобы достать билет… — Он опять сел прямо в своем кресле и еще больше нахмурился. — Черт, кто же она? — пробормотал он, и вдруг его осенило: — Это же моя уборщица!
— Твоя уборщица? — удивилась Эдвина. — Что она делала в этом самолете?
Ник вскочил со своего места:
— Вот и мне хотелось бы получить ответ на этот вопрос! И еще на один: как ей удалось купить билет!
Он бросился по салону к трапу. Стюардесса как раз хотела задраивать люк.
— Подождите! — крикнул Ник. — Не закрывайте!
Стюардесса недоуменно посмотрела на него:
— Сэр, мы взлетаем…
— Знаю, но вам придется подождать! Чрезвычайное происшествие!
Он отодвинул девушку и распахнул люк трапа. Лена Пфайфер уже была на полпути к зданию аэровокзала.
— Лена! — крикнул Ник. — Лена, постойте!
Она побежала.
— Остановите эту женщину! — крикнул Ник сотруднику охраны аэропорта.
Тот недоуменно смотрел на Флеминга, не двигаясь с места. Трап уже убрали от самолета. Ник достал из кармана пиджака пистолет и выстрелил поверх головы Лены. Пассажиры переполненного лайнера всполошились, послышался женский визг. Стюардесса схватила Ника за руку:
— Мистер Флеминг, отдайте мне ваше оружие!
Ник оттолкнул ее и прицелился в Лену. Та уже почти подбежала к дверям здания аэропорта. Он прицелился в ее ноги и выстрелил. Она упала.
В салоне самолета усилились истеричные крики. Охранник выхватил из кобуры пистолет и прицелился в Ника.
— Эта женщина шпионка! — заорал Ник, моля Бога о том, чтобы не ошибиться. Но действительно, каким образом его уборщица могла оказаться на самолете, вылетающем в Лиссабон? Почему она попыталась скрыться, едва увидела Ника?
— Обыщите ее! — кричал он. — У нее должны быть секретные материалы!
«Боже, если я ошибся, расплачиваться придется дорого…»
Сзади его схватили за руки. Это был пилот самолета.
— Заберите у него оружие, — крикнул он. — Я вызвал полицию, они сейчас будут…
Ник не оказывал сопротивления. Он отдал свой пистолет второму пилоту. Когда его отпустили, Ник достал из кармана свой паспорт и какие-то бумаги.
— Я являюсь представителем президента Рузвельта, — заявил он, показывая документ с печатью. — Не буду упрекать вас за то, что вы вызвали полицию, но уверяю вас — эта женщина находится на службе у нацистов.
Пилот скептически покосился в сторону лежащей Лены.
«Выстрелы в аэропорту!» — кричали заголовки газет. — «Титан смерти стреляет в пожилую женщину!», «Выстрелы Флеминга будоражат авиакомпанию «Пан Америкэн».
Репутация у Ника и так уже была хуже некуда. И этот случай вызвал новые, переливающиеся через край газетные инсинуации. Правда, во многих статьях в самом конце было упомянуто, что у «пожилой женщины» действительно в сумочке были найдены пачки переснятых секретных чертежей. К сожалению для Ника, бомбардировочный прицел Хилла был так засекречен, что армейские начальники наотрез отказались сообщить представителям прессы, что же именно было найдено у Лены Пфайфер. Даже газеты Вана Клермонта, которые обычно вставали на защиту Ника, на этот раз не удержались от заголовка: «Военный магнат стреляет в нацистскую шпионку!» И, несмотря на то что в этих газетах описания ЧП были более точными, журналисты все же не отказали себе в удовольствии немного съязвить по адресу «военного магната».
Ник и Эдвина остались в Нью-Йорке дожидаться, пока ФБР привлечет Лену Пфайфер за шпионаж. Потом по приказу президента военный бомбардировщик доставил Флемингов на Бермуды, где они сели на свой лайнер.
— Милый, ты все сделал правильно, — осторожно говорила Эдвина, пока Ник просматривал заголовки газет. — Я горжусь тобой.
Ник не ответил. Непопулярность в прессе угнетала его.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
В апреле 1940 года, как раз тогда, когда Ник и Эдвина прибыли в Лиссабон и ждали пересадки на самолет, который должен был доставить их в Лондон, в Европе закончилась так называемая странная война — «зитцкриг», — или, как ее еще называли, «дутая война». Она продолжалась всю осень, зиму и раннюю весну, пока наконец немцы не положили ей внезапный и драматичный конец своим вторжением в Данию и Норвегию. В полдень 9 апреля девятитысячные силы вермахта овладели пятью главными норвежскими портами — Нарвиком, Тронхеймом, Бергеном, Ставангером и Кристиансанном, — оккупировали Осло, и все это практически без единого выстрела. Пока немецкие бомбардировщики не выпускали английский флот из залива, вермахт быстренько взял под свой контроль все основные аэродромы, включая и самый главный, расположенный в Сола, неподалеку от Ставангера. Это была одна из самых бескровных и в то же время быстрых и дерзких военных интервенций за всю историю человечества. У Гитлера были все основания порадоваться успеху своих войск, и он обратил внимание на новые цели: Бельгию, Голландию и Люксембург.
Ник и Эдвина катили по шоссе в Одли-плэйс — тюдорский особняк Эдвина переделала почти до неузнаваемости со времени побега Ника из «Фулсбюттель» в 1934 году — и думали о том, что теперь, с известием о наглом вторжении немцев в Норвегию, у англичан окончательно рассеялись их хрупкие надежды на то, что Гитлер всего лишь дурачится. Сами немцы были напуганы не меньше англичан или французов. Когда их ненаглядный фюрер вторгся в сентябре в Польшу, то эту военную кампанию Берлин приветствовал гробовым молчанием и пустыми улицами. Конечно, блестящие успехи вермахта воодушевляли, но вместе с этим в сердце нации зрело подозрение, что Адольф Гитлер, этот Наполеон XX века, возможно, ведет их всех к пропасти.
И все же погода в тот апрельский денек была так хороша, что даже мрачные новости из Норвегии не могли испортить приподнятого настроения, в котором находились Ник и Эдвина, подъезжая к Одли-плэйс.
— Ну разве здесь не красиво? — радостно воскликнула Эдвина, выходя из «роллса».
— Изумительно! Ты здесь отлично поработала, — сказал муж, обнимая и целуя жену. — Кстати, я сегодня уже говорил, что люблю тебя?
Она улыбнулась:
— Нет, еще не говорил. Приятно слышать.
Он взял ее за руку, и они вместе направились к крыльцу.
— Теперь, когда уже без шуток можно говорить о том, что я старик, — говорил Ник, — я думаю, стоит подумать о том, чтобы заняться разведением сада, как бы это сделал истый английский сквайр. Давай займемся этим вдвоем. Сад поможет нам отвлечься от этой гадкой войны хотя бы на несколько часов в неделю, а?
— О Ник, это было бы чудесно! Значит, мы вместе будем заниматься садом?
— Пока я не надоем тебе, — улыбнулся Ник.
Она засмеялась и поцеловала его.
— Ты никогда не был надоедлив, милый. Ты меня порой бесишь, это верно, но не надоедаешь. Надеюсь, ты еще не настолько считаешь себя стариком, чтобы плюнуть на секс?
— Говорят, жизнь начинается в сорок, а мне почти пятьдесят два, но у меня такое чувство, что я слишком резв и игрив для старого гуся.
Он открыл дверь, и они вместе вошли в красивый холл с просевшей елизаветинской лестницей. Из кухни показалась экономка и одновременно кухарка — пухлая миссис Дабни.
— Добро пожаловать в Одли-плэйс! — вся сияя, воскликнула она. — Хороший сегодня денек.
И все же в атмосфере апрельского неба попахивало войной.
Идея сада окончательно созрела, и Флеминги даже сделали посадки, но у Ника не было возможности много времени проводить на природе. Его ждала серьезная работа в комиссии по стандартизации вооружений, как ее решили назвать. Правда, Рузвельт прозрачно намекал Нику, что его участие в комиссии будет практически лишь формальным. К тому же похоже было, что как английским, так и американским военным эта стандартизация была до лампочки. Благодаря широким связям в нервозном от предчувствия беды Лондоне 1940 года Ника приглашали везде. Памятуя о просьбе президента, Ник слушал, делал после своих визитов подробные записи и отсылал их в Белый дом. Он снял комнаты в «Кларидже», который располагался в нескольких кварталах от американского посольства, на Гросвенор-сквер. Там Ник вращался в многоликом английском свете. Общался со всеми, начиная с урожденной американки и лидера общественного движения леди Кюнард Чанноном, по прозвищу «Деньги», и заканчивая своим старейшим другом-приятелем Уинстоном Черчиллем, который теперь опять восседал в адмиралтействе.
Ник и Черчилль в течение многих лет поддерживали переписку, которая становилась все оживленнее по мере возвышения Гитлера. Так же, как Ник в Штатах, Черчилль осуществлял антифашистскую пропаганду в Англии. И примерно с тем же успехом. Черчилль симпатизировал энергичному американцу, к тому же их связывала общая идеологическая почва, на которой они стояли в прошлом. И потом Черчилль не забывал о миллионе долларов, подаренных Ником британскому правительству. Черчилль пригласил Ника на совместное заседание адмиралтейства и генштаба, на котором тот должен был как военный промышленник оценить мощь армии Франции сравнительно с военной мощью Германии. В последние три года Ник наторговал с Францией на миллионы долларов, он, что называется, держал руку на пульсе военного бизнеса и был очень хорошо осведомлен о состоянии, в котором находились все самые крупные армии мира. Поэтому он с радостью принял приглашение Черчилля.
Апрель уступил место чудному маю, но весь мир по-прежнему находился в напряжении, ожидая следующего шага хозяина германского рейха.
10 мая мир дождался мрачных новостей. Германские полчища ринулись в Бельгию, Голландию и Люксембург, приближаясь тем самым к французским границам. В тот же день Уинстон Черчилль сменил Невилла Чемберлена на посту премьер-министра Великобритании.
«Дутая война» закончилась, и началась война настоящая, которая обещала стать самой кровавой в истории человечества.
— Послушай, не видел ли я тебя где-нибудь раньше? — спросил биржевой брокер у красивой девушки, которая сидела рядом с ним в баре. На ней были черная шляпка и меховой жакет из лисицы поверх классного черного костюма. Она потягивала свой второй мартини.
— Может быть.
— Погоди! Это ведь ты была на обложке «Лайф»! Ты э-э… Сильвия Флеминг! Угадал?
Сильвия обдала этого парня в костюме из шотландки знойным взглядом:
— Ну угадал, и что?
— Э, погоди… Это же фантастика! Я никогда еще не встречался с девчонками, которых снимали для журнала! Слушай, что ты делаешь в этой дыре?
Она улыбнулась:
— А что ты делаешь в этой дыре?
— Пытаюсь забыть свою женушку.
— Да ну? А я пытаюсь забыть своего муженька.
— Хочешь мне о нем рассказать?
— А что рассказывать? Он мне уже вот где! Дешевка! А твоя жена?
— Она все время жалуется, ноет: «Купи мне это, Чарли, купи то…»
— Чарли? — перебила Сильвия. — Ты сказал, тебя зовут Чарли?
— Да. Чарльз Уэльс.
Она смотрела на него сквозь стекло бокала, допивая мартини.
— У меня брата зовут Чарли, — тихо проговорила она. — Чарли… Мой шаловливый братишка… — Она пьяно улыбнулась брокеру. — А я шаловливая сестричка! — Сильвия икнула. — Чарли сейчас в Англии, служит в военной авиации. Мой Чарли, вот так. Мой братишка. Мой красивый и шаловливый братишка.
Чарли Уэльс увидел в ее глазах слезы и подумал, что она уже сильно нагрелась, раз плачет. Она выглядела такой юной, такой невинной, что он почти не верил своим глазам, видя ее сидящую рядом с ним в два часа дня в среду в этой полупустой забегаловке на Медисон-авеню. Невероятно! Сидит рядом с ним и тянет мартини! Может, хочет напиться? Да, судя по всему, хочет.
— Хочешь еще выпить? Могу взять, — предложил он.
Она засмеялась:
— Если я выпью слишком много мартини, я могу сотворить нечто ужасное!
— Что, например?
— Кто знает? Может, я потащу в свою постель парня, которого зовут Чарли.
Она смотрела на него, но видела перед собой обнаженного брата, стоявшего на берегу того лесного пруда в Тракс-холле… Ее грех… Их маленькая тайна… Но является ли она тайной до сих пор? Может, отец догадался? И поэтому заставил ее выйти за Честера? Раздумья по этому поводу терзали ее в течение всего последнего года. Так же, как и сексуальное возбуждение при мысли о том далеком дне, когда она с братом… Алкоголь все сильнее затуманивал сознание, слезы катились по нежной щеке. Хуже всего для нее было то, что после того случая на берегу лесного пруда она никогда не испытывала столь же сильного сексуального наслаждения. Даже с Честером получалось слабее, хотя он был хорош в постели, и это как магнитом притягивало ее к нему.
Это было с ее стороны безумием, но она снова хотела своего брата. Хотела и знала, что никогда этого не будет.
Чарли Уэльс ошалело смотрел на нее, отказываясь верить в свое счастье.
— Мы бы могли пойти в «Балтмор», — зашептал он. — Это всего через два квартала.
Она улыбнулась.
— Чарли, — прошептала она. — Уложи меня в постель, Чарли. Сделай меня снова счастливой.
Чарли Уэльс, потея от предвкушений, кликнул бармена, чтобы расплатиться.
Будто нож в масло вошла в Бельгию и Северную Францию вдоль русла реки Маас группа немецких армий «А». Войсками командовал генерал Герд фон Рундштедт. Четвертая армия под командованием Клюге атаковала Динан, Эрметон и Гивет к северу, в то время как к югу 19-й танковый корпус Гудериана атаковал французский город Седан. Именно здесь семьдесят лет назад Луи Наполеон Второй потерпел поражение от превосходной прусской армии, которой командовал Мольтке. То, что сейчас кажется очевидным, тогда стало для французов полной неожиданностью: немецкие армии просто обогнули линию Мажино, на которой в основном и сосредотачивалась французская армия, ориентированная на оборону. Битва на реке Маас была окончена в четыре дня, французские войска отступили, и парижское правительство начало паниковать.
16 мая, когда Париж для оценки обстановки посетил Черчилль, чиновники МИДа уже вовсю жгли бумаги в гигантском костре, разведенном во дворе прекрасного дворца на Ке д’Орсэ. Французский премьер Поль Рено умолял Черчилля поднять в воздух больше английских самолетов, чтобы унять накатывавшуюся на французскую столицу кровавую волну вермахта. В то же самое время его любовница, жадная до власти красавица графиня де Порт, бегала по их квартире на площади Дю Пале-Бурбон и спешно паковала чемоданы, готовясь к предстоящему бегству. Стойкий антифашист Рено отнюдь не был пораженцем, но его любовница, которая в течение многих лет шла на все, чтобы добраться до рычагов верховной власти во Франции, теперь с потрясающей непоследовательностью старалась убедить своего любовника в необходимости капитулировать перед Германией.
Желание мадам де Порт, как оказалось, весьма скоро сбылось.
В считанные недели Эдвина так крепко полюбила их дом в Одли-плэйс, как никогда не любила ни одну из их с Ником роскошных резиденций в Штатах. Дом был прост, но Эдвину удовлетворяло в нем решительно все. Впрочем, и «прост» он был лишь относительно: все-таки более двадцати комнат. Гостиную Эдвина называла галереей. Это была семидесятифутовая комната с низким потолком и тремя кирпичными каминами. В XVI веке в галерее была маслодельня. Вдоль комнаты в самой ее середине тянулись два длинных дубовых стола, на которых в беспорядке были разбросаны книги и номера «Кантри лайф». Столы освещались лампами, сделанными из чудных китайских ваз XIX века. Вдоль стен тянулись удобные диваны и кресла в чехлах из цветистого ситца. Ситцевые же шторы закрывали окна с витражами. Остальные комнаты этого дома были не таких внушительных размеров, но не менее комфортабельными. Обшитая панелями столовая со столом на двенадцать персон, также обшитая деревом библиотека с застекленными дверями на балкон, откуда открывался вид на сад, биллиардная, цветочная оранжерея, кладовая, огромная кухня и четыре комнаты для прислуги — все это на первом этаже. Наверху были хозяйская спальня с ванной и еще четыре спальни с ванными комнатами. Ванные комнаты появились после капитального ремонта 1935 года, проведенного Эдвиной.
Хозяйская спальня была ее любимой комнатой. В ней были красивые обои с цветами, изящная, подобранная с истинно женским вкусом французская мебель времен регентства. На стенах висели красивые старинные картины. Порой ей казалось, что причина ее любви к Одли-плэйс кроется в том, что здесь не было ни одного полотна современной живописи, к которой Эдвина относилась гораздо прохладнее, чем Ник.
Они с Ником как раз только что кончили заниматься любовью и лежали в объятиях друг друга, когда зазвонил телефон. Эдвина чмокнула мужа в лоб, села на постели, включила свет и сняла трубку.
— Да?
Окна в спальне были распахнуты, и прохладный ночной ветерок колыхал занавески. В июньском небе низко плыла полная луна.
— Милый, это тебя. Премьер-министр, — шепнула Эдвина, передавая ему трубку.
Ник сел на постели:
— Да?
— Ник, это Уинстон, — загудела трубка знакомым голосом. — Сможешь завтра слетать со мной во Францию? Мы решили предпринять последнюю попытку уговорить Рено не капитулировать. Я переговорил с президентом Рузвельтом, и он дал согласие на то, чтобы я использовал тебя. Я хочу, чтобы ты уверил Рено в том, что американская военная индустрия переплюнет германскую и что ты сможешь завалить французов оружием в количестве, достаточном для того, чтобы они утерли нос Джерри, — так Черчилль называл Гитлера. — Им бы только продержаться сейчас! Хочешь врать — ври. Мне плевать, что ты им наговоришь, но мы обязаны убедить их держаться! Так что, летишь со мной?
Ник долго не думал.
— Конечно, сэр.
— Отлично. Жду в Гендоне в половине одиннадцатого утра. Мы вылетаем оттуда в Тур. Французское правительство уже драпануло из Парижа, и они заняли сейчас несколько шато по берегу Луары… Господи, как будто вернулись времена Франциска Первого! На месте разберемся, какой замок занял Рено… С ним наверняка эта чертова кукла Элен де Порт! Та еще сучка! До завтра. В десять тридцать!
И Черчилль повесил трубку.
— Что ему было нужно? — спросила Эдвина, накидывая на себя тонкое покрывало, чтобы прикрыть наготу.
— Завтра я улетаю с ним во Францию. Попробуем убедить французов не сдаваться.
Эдвина сразу вспомнила «Фулсбюттель» и то состояние, в котором явился к ней муж после побега.
— Это ведь не опасно, правда? — спросила она. — Если уж ты вместе с Уинстоном, значит, у вас будет надежная защита?
— Очень надеюсь. Если Гитлер сцапает Черчилля, войне конец. — Он лег и отвернулся к стене, давая понять, что хочет спать.
— Я люблю тебя, — сонно пробормотал он, доставив ей этими словами удовольствие, которое, однако, не перекрыло тревогу.
Конечно, он летит вместе с Уинстоном, но ведь во Францию. В страну, где сейчас творится форменный хаос.
Опасность все-таки была.
«Та еще сучка» графиня де Порт была дочерью богатого марсельского подрядчика и судовладельца по имени Ребюффель. Яркая, привлекательная, энергичная и честолюбивая, она сумела выйти замуж за графа Жана де Порт, сына маркиза де Порт и герцогини де Гадань. Молодожен стал работать на своего тестя. Графиня же, которой надоел Марсель, устремилась покорять французскую столицу. Там-то она и встретила Поля Рено, который годился ей в отцы. Сообразив, что он является восходящей звездой на политическом небосклоне, она не замедлила стать его любовницей.
По иронии судьбы у Эдуарда Даладье, главного политического противника Поля Рено, тоже была титулованная любовница. Маркиза де Круссоль, урожденная Жанна Безье, была дочерью нантского бизнесмена, который сделал себе состояние, консервируя сардины. Жанна вышла замуж за маркиза де Круссоль, внука герцогини д’Узэ, который одно время ухлестывал за Элен де Порт. Вскоре веселые и острые на язык парижане дали необычайно подвижной маркизе де Круссоль кличку в виде забавного каламбура: «la sardine qui es’et crue sole» («сардина, которая возомнила себя камбалой»). Игра слов основывалась на сходстве фамилии маркизы Crussol с окончанием каламбура crue sole. Когда маркиза встретила на своем жизненном пути Даладье, тот уже был вдовцом с десятилетним стажем и жил в мрачной квартирке на Анатоль де ля Форж вместе со своей сестрой и двумя сыновьями. Маркиза заделалась его любовницей и ввела его во все модные в Париже салоны.
Эти две титулованные любовницы стали ярыми противницами, каждая по-своему помогая своему любовнику делать дальнейшие шаги вверх по политической лестнице. Со стороны было бы забавно наблюдать за их азартом. Только какие уж тут забавы, если Франция соскальзывает в пропасть? Обе стали любовницами первых в стране людей и тем самым удовлетворили свои амбиции. Обе они хотели перехлестнуть их знаменитую предшественницу маркизу де Помпадур, которая, являясь любовницей короля, фактически правила всей Францией в течение двух десятков лет. Однако здесь обеих дам ждало разочарование: правительства во Франции теперь сменяли одно другое с поразительной быстротой. Так что мадам де Порт пришлось расстаться с мечтами о власти, а ее любовнику премьеру предстояло председательствовать на похоронах французской республики.
Никто не был в силах поверить в то, что это происходит на самом деле. Ведь в прошлой войне Франция дралась доблестно. Французская империя по размерам и значимости уступала лишь британской. Франция была богата. У французской армии были свои недостатки, но ее вооруженность, как докладывал Ник английскому генштабу, не уступала вооруженности германского вермахта. И тем не менее по истечении всего нескольких недель французы дрогнули перед немцами и побежали. К 9 июня, то есть всего через месяц после вторжения во Францию вермахта, до Парижа дошли слухи о том, что никто уже не в состоянии остановить продвижение немцев. Миллионы французов с севера страны, которые к тому времени уже затворились в Париже, будучи уверенными в том, что столица никогда не будет сдана врагу, теперь оказались перед необходимостью уходить еще дальше, на юг страны. К ним присоединилось четыре миллиона парижан, которых охватывал ужас при одной мысли о том, что они могут жить под оккупацией нацистов, 10 июня восемь миллионов французов заполнили все дороги, ведущие на юг. Тут и там возникали давки. На дорогах орудовали мародеры. Люди молили о куске хлеба и глотке воды. Это хаотичное отступление приводило в отчаяние жителей населенных пунктов, которые попадались по дороге. Положение ухудшалось германской авиацией, которая время от времени показывалась над головами беженцев, поливая их огнем из пулеметов.
Дороги были настолько забиты людьми, что в полночь 10 июня севший в автомобиль вместе с долговязым генералом Шарлем де Голлем французский премьер — правительство переводилось из Парижа на юг, в долину Луары, — добрался до Орлеана, до которого было всего лишь сто шестьдесят миль, только спустя шесть часов.
Это была самая важная машина во всей Франции.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
Это был жаркий июньский день. В номере 418 отеля «Балтмор» на туалетном столике лениво гудел электровентилятор, шевеля застоявшийся воздух над кроватью, на которой сплелись два обнаженных, лоснящихся от пота тела. Здесь занимались любовью.
— Чарли, Чарли!.. — стонала Сильвия Флеминг Хилл, зажмурив глаза, откинув голову на подушку. Она упивалась волосатым, мускулистым телом Чарли Уэльса. Было два часа дня четвертой подряд среды их интимных свиданий в отеле. Термометр показывал за тридцать градусов, и пот струился по телу Чарли, когда он резко входил в Сильвию и выходил из нее.
— Чарли, это случилось, случилось…
— Я кончаю! — хрипел Чарли. — О Иисус!..
— Чарли, Чарли! Я люблю тебя, Чарли, Чарли!..
— ГОСПОДИ!!!
После извержения он тяжело рухнул рядом с ней.
— По-моему, сегодня слишком жарко для всего этого, — отдуваясь, проговорил он.
— А я люблю, когда струится пот, — промурлыкала она. — Это делает любовь более… не знаю… животной, что ли. Я считаю, что секс и должен быть чем-то непристойным, грязным.
— Ага. Знаю, что ты хочешь сказать. Странно вроде бы, но действительно, чем грязнее секс, тем он круче. Но меня все равно тянет принять душ.
Он соскочил с кровати и скрылся в ванной комнате. Она слышала, как полилась вода и как Чарли стал что-то насвистывать себе под нос. Ей нравились эти случайные, почти анонимные встречи. Она ничего не знала о нем. Только то, что он живет где-то в Нью-Джерси, пашет на брокерскую контору, имеет жену и двух детей. Для нее этого было достаточно. Он был всего лишь машиной для секса. Когда он занимался с ней любовью, она представляла себе своего брата Чарльза, и получалось почти так же здорово, как и на берегу того пруда в Тракс-холле так много лет назад…
Вдруг она услышала, как в замке лязгнул ключ. Дверь распахнулась, и в комнату ввалился толстяк в полосатом костюме, соломенной шляпе и с отвратительно пахнущей сигарой во рту. Едва она успела натянуть на себя покрывало с постели, в дверях показался ее муж.
— Это и есть ваша жена? — спросил толстяк с сигарой.
Ледяным тоном Честер бросил:
— Да.
— Послушайте-ка, леди, это солидный отель. Я детектив, представляющий интересы этого дома, и говорю вам: если надумаете пожаловать сюда еще раз комнаты не найдете. Понятно?
Честер сунул ему десятидолларовую бумажку.
— Поверьте, она вас больше не потревожит, — сказал он.
— Спасибо, мистер Хилл. Буду вам очень обязан.
Толстяк вышел из номера и прикрыл за собой дверь.
— Одевайся, — бросил жене Честер. — Поедем домой. И учти: больше по средам в Нью-Йорк «за покупками» ездишь не будешь. — Он направился к ванной. — Не надо мне таких покупок.
— Пошел к черту! — истерично взвизгнула она.
Она запустила в него подушкой, но промахнулась.
Честер вынул из кармана «рамсчайлд» 22 калибра, вошел в ванную, отодвинул ширму и направил дуло на охваченного диким ужасом Чарльза Уэльса.
— Я… не убивайте меня, — пролепетал брокер с намыленной головой.
Честер выключил воду.
— Вылезай, — сказал он.
— Кто… кто вы?!
— Я муж той девчонки, работаю на военном заводе, изобретаю всякое оружие.
— Ты… Вы ведь не сделаете этого, да? Я ничего не совершал, я…
Дрожащий от ужаса, весь в мыле Чарли был просто комичен. Честер схватил его за руку и выпихнул из ванной комнаты в спальню.
— Проваливай, — приказал он.
— Да, конечно! Я сейчас! Только… дайте мне обсушиться и что-нибудь накинуть… Я в одну минуту, я быстро, вот увидите!
Честер дал ему сильного пинка.
— Иди так.
— Но я не могу! Я голый!
— Это твои проблемы. Пошел.
Держа его на мушке, Честер открыл дверь. При мысли о том, что придется голым выйти на люди, Чарли охватил, казалось, еще больший ужас.
— Я не могу!
Честер схватил его за руку и выкинул из номера в коридор. Чарли бросился вдоль по коридору в поисках какого-нибудь местечка, где бы он мог спрятаться. Честер захлопнул за ним дверь и повернулся лицом к жене, которая вдруг начала смеяться.
— О, так ты находишь это забавным? — крикнул он.
— Нет, но… — Она попыталась унять свой истерический смех. — Чарли… Я просто представила… весь в мыле и голый посреди Медисон-авеню… О Боже! — Ее прорвало, и она уже не пыталась успокоиться.
Честер подошел к ней и влепил сильную пощечину.
— Ублюдок! — взвизгнула она.
— А ты шлюха. Одевайся, я забираю тебя домой.
— Нет, я не желаю возвращаться. Мне и здесь хорошо!
— Значит, тебе нравится быть шлюхой?
Он снова дал ей пощечину, она разрыдалась.
— Одевайся, — повторил Честер.
— Я хочу к отцу! — заныла она.
— Придется довольствоваться мной.
— О Честер! — Она подняла на него заплаканные глаза. — Я хочу быть с тобой счастливой, но мне так тошно в Олд-Лайме!.. Неужели ты совсем меня не понимаешь? Ну можешь ты хотя бы попытаться понять? Мне там нечего делать! Нечего!
— У тебя есть муж!
— Этого недостаточно!
С минуту он смотрел на нее, еле сдерживаясь от ярости.
«Черт, а ведь она права, — подумал он. — Меня ей недостаточно. Придется заиметь детей — это заткнет ей рот. И дом. Черт, кто бы мог подумать, что этот старикан окажется таким ханжой и не даст взаймы?! Если бы только у меня появились деньги!»
Черчилль, думая пригласить с собой во Францию Ника, руководствовался целым рядом причин, среди которых не последнее место занимали его симпатии к этому американцу, а порой и восхищение им. Он прекрасно понимал, что Ник подвергает себя риску, бросая вызов американскому нейтральному законодательству, которое запрещает военным промышленникам продавать оружие какой-либо из воюющих в Европе стран. Через Канаду Флеминг сплавлял тысячи тонн боеприпасов, тысячи винтовок, артиллерию и зенитные установки в Англию. А осажденный остров крайне нуждался в этой поддержке. Черчилль знал, что Рузвельт намеревается снять военное эмбарго, но это не умаляло заслуг Ника и того риска, которому он себя изначально подвергал.
Но самое главное заключалось в том, что, как увидел Черчилль во время выступления Ника перед генштабом, этот Титан смерти располагает такими точными и подробными сведениями об армиях крупных государств, какие Черчиллю никогда не способна была доставить английская разведка. Ежедневно Черчиллю на стол ложился доклад его посла в Вашингтоне о том, как продвигается в Штатах вопрос об отмене военного эмбарго, однако знания Ника Черчилль ценил не менее высоко. Взвесив все это, он решил, что само присутствие вместе с ним этого американца заставит подтянуться уже опустивших руки французских руководителей.
Поэтому на следующее утро ровно в десять тридцать Ник присоединился к премьер-министру, министру иностранных дел, лорду Галифаксу, лорду Бивербруку и другим высокопоставленным лицам Великобритании, когда все они поднимались по трапам двух двухмоторных «Фламинго» для полета во Францию.
Утро было просто чудесное, но синоптики предсказывали ухудшение погоды.
Самолеты приземлились в Туре в два часа пополудни на недавно разбомбленном и почти пустынном аэродроме. Для Ника все это казалось сценой из «Алисы в стране чудес»: премьер-министр Великобритании вынужден рыскать по Франции в отчаянных поисках французского премьера! Впрочем, казалось, вся Франция сошла с ума. В особенности ее правительство. Покинув Париж в ночь с 10 на 11 июня на автомашинах и грузовиках, французские власти влились на дорогах в безбрежное море беженцев и продвигались таким образом вплоть до Орлеана. Там правительство разместилось в нескольких замках-шато на южном берегу Луары — от Бриара на востоке до Тура на западе.
Замки были просто очаровательны, но совершенно не приспособлены для размещения в них французского правительства в дни национального кризиса двадцатого столетия. В частности, туалет был рассчитан — если вообще его можно было считать на что-либо рассчитанным — на одну семью, но никак не на министерство. Со связью дела обстояли еще хуже. В лучшем случае на замок имелся лишь один телефон. Телефонная система даже при идеальных условиях все равно оставалась бы допотопной и ненадежной. Никто не подумал — на это и времени не было — о том, чтобы протянуть дополнительные линии. Персонал местных телефонных станций все еще делал двухчасовые перерывы на обед. Результатом этого и явился хаос. Президент Франции, разместившийся в великолепном замке Де-Канже, был полностью изолирован от внешнего мира и не имел никакого представления о том, что происходит с правительством, главой которого он продолжал считаться.
Из-за загруженности дорог Черчиллю пришлось не менее двух часов добираться на автомобиле из аэропорта Тура до замка Де-Шиссе, расположенного на берегу реки Шер. Именно здесь обосновался со всеми своими помощниками и любовницей премьер-министр Франции Поль Рено. Когда машина Черчилля остановилась, взорам приехавших предстала любопытная сцена. Двор замка был заполнен копошащимися в поисках места парковки легковыми и грузовыми машинами, которые во всем большем количестве стекались туда, где теперь, как считалось, помещался центр управления страной. На фронтальном балконе стояла невысокого роста женщина. Ей было далеко за тридцать, у нее были вьющиеся темные волосы, большой рот, бросающийся в глаза издалека из-за яркой губной помады. Она была одета в красный шелковый халат поверх ночной рубашки, была возбуждена, отчаянно жестикулировала и громко советовала шоферам, где припарковаться.
— А вот и она! — поморщился Черчилль. — Вот кто правит Францией, прячась за спинкой трона. Графиня де Порт собственной персоной.
Действительно, картинка была примечательная.
Английская делегация стала выбираться из автомобилей. Мадам де Порт стала что-то кричать, но вдруг узнала Черчилля. На лице ее отразилось нечто вроде испуга, и она исчезла с балкона.
— Она не только правит страной, — заметил Ник. — Но, похоже, с удовольствием исполняет обязанности регулировщика движения.
Эта реплика вызвала у Черчилля улыбку.
Внутри замка происходила та же неразбериха, что и на дворе. В комнатах с высокими потолками толклись офицеры, дипломаты, помощники и секретари. Каждому хотелось узнать, где должно быть его место и что он должен делать. Но, похоже, ничего не было ясно. Другие стояли на месте и апатично выглядывали в высокие окна, смоля сигареты одну за другой. Никто здесь даже и не догадывался о том, что прибыла высокая английская делегация, пока из главной залы не выскочил сам французский премьер, очевидно, предупрежденный о гостях-союзниках своей любовницей. После кратких приветствий Черчилль, Бивербрук и Галифакс вместе с Рено скрылись за дверями.
— Подожди здесь, — шепнул Черчилль Нику перед тем как уйти. — Когда потребуешься, я тебя позову. И запомни, ври, если надо будет. Задача у нас одна — любой ценой оставить Францию в войне!
Прошел час.
Вдруг из дверей показался один из помощников, полковник Форбс-Тэйлор. Он сказал Нику:
— У нас ничего не получается. Рено заладил одно: французы будут продолжать воевать лишь в том случае, если мы подкинем им самолетов. Премьер-министр просил передать вам, что вы пока можете прогуляться по саду. Потребуетесь не раньше чем через час.
— Хорошо.
Ник вышел через заднее крыльцо на прогулку в довольно унылый сад, покрытый лужами после недавнего дождя. Поначалу Ник думал, что он здесь один, но вскоре увидел, что в аллее каштанов на скамейке сидит французский офицер и курит. Ник уже видел его в замке до этого. Это был высокий молодой капитан с тонкими черными усиками, копной черных густых волос под пилоткой, бледной кожей и горящими глазами. Француз был явно опечален чем-то. Едва Ник подошел к нему и француз его заметил, он торопливо протер глаза, как будто старался скрыть слезы.
Ник обратился к нему по-французски:
— Добрый день. Похоже, здесь только мы двое знаем, что делать. Ничего.
Капитан взглянул на американца.
— Вы американец? — спросил он по-английски с сильным акцентом. — Военный король месье Флеминг?
— Верно. Я приехал сюда с мистером Черчиллем для того, чтобы попытаться убедить ваше правительство продолжать воевать.
Капитан швырнул окурок на землю.
— Вы теряете время. Эти люди, — он гневно кивнул в сторону замка, — трусы! Они не хотят драться, они хотят выйти из войны и тем самым спасти свою шкуру! Меня от них тошнит! Как вы думаете, почему я ушел сюда и разревелся, как мальчишка! Потому что я вижу, как продают мою родину. Нет, даже не продают. Отдают за так! Это трусы, трусы! И никому нет никакого дела! Но ведь это Франция! Самая красивая и цивилизованная европейская страна! Может быть, мы слишком цивилизованны… Не знаю. Слишком цивилизованны для того, чтобы драться.
Искренний гнев и стыд молодого человека тронули Ника.
— Что же делать? — спросил он.
Капитан пожал плечами.
— Я не знаю. Мой вам совет: вы хоть не бросайте воевать, не сдавайтесь. Боши — хорошие солдаты, но они не супермены. Мы тоже умеем воевать, но наши генералы и политики… — Он поморщился. — Все они, как в Америке говорят, shit[17].
— Что вы собираетесь делать?
— Лично я попытаюсь выбраться в Лондон. Некоторые мои друзья уже там. Мы будем воевать из Англии. А может, запишемся в английскую армию. Даром паек есть не станем.
Ник вытащил из бумажника свою карточку и протянул ее французу.
— Если будете в Лондоне, найдите меня. Похоже, я смогу помочь. У меня у самого имеется кое-какой счет к нацистам. Я остановился в «Кларидже».
Капитан прочитал, что было написано на визитке, затем поднялся и пожал Нику руку.
— Меня зовут Рене Рено, — сказал он.
— Рено? А вы не…
— Премьер — мой дядя, — кивнув в сторону замка, сказал капитан. — Но я считаю его мерзавцем, продающим Францию. Теперь вы понимаете, почему я плакал, друг?
Он закурил еще одну сигарету.
Нику-таки выпала возможность переговорить с французскими лидерами после шести часов вечера. В страстной речи он заклинал их оставаться в войне, не уставая цитировать впечатляющие данные статистики, согласно которым получалось, что Америка вполне способна обеспечить в военном отношении французов всем необходимым для успешного продолжения борьбы. И хотя Нику казалось, что он говорит убедительно и сильно, на деле все это вышло бесполезным.
Слабая надежда Черчилля на то, что удастся взбодрить французских союзников, быстро испарилась. Пораженческие настроения захлестнули французских генералов и политиков, словно знаменитые нормандские ливни. На следующий день делегация вернулась в Лондон. Ник молчал всю дорогу, ибо настроение у его английских коллег было прескверное. Черчилль, развалясь в кресле, дымил своей неизменной сигарой. Ему не было смысла что-то говорить. Все и так всем было ясно. Теперь, когда Франция вышла из войны, Англия осталась в одиночестве.
Самолет совершил посадку, и члены английской делегации вышли. Прежде чем сесть в правительственную машину, Черчилль обернулся к Нику и пожал ему руку.
— Хочу поблагодарить тебя за все, что ты для нас сделал, — сказал он.
— Остается только сожалеть, что мой труд не принес результата, — ответил Ник.
— У нас так и так не было шансов. Но ты говорил хорошо. И, главное, от сердца. Ценю это. Как ты посмотришь на то, чтобы надеть генеральскую форму?
— Прошу прощения, не понял?
Премьер улыбнулся:
— Я хотел просить Франклина, чтобы он присвоил тебе звание и оставил здесь на работе в качестве американского военного атташе. Я хочу, чтобы ты был рядом. А насчет формы… Нынче в Лондоне людей штатских подозревают либо в пацифизме, либо в шпионаже. И потом военный мундир тебе очень пойдет. Не возражаешь против моего предложения?
Ник был застигнут врасплох.
— Вроде бы нет…
— Вот и отлично. Тебе понравится быть генералом. Это забавнее, чем быть рядовым. И безопаснее.
Не выпуская изо рта сигары, он сел в машину, которая увезла его на Даунинг-стрит, 10.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Рузвельт серьезно подозревал, что присвоение Нику Флемингу, одному из самых непопулярных людей в Америке, звания генерала будет иметь широкий резонанс. Поэтому он решил, что лучше ограничиться полковником. Меньше шума. Рузвельт прекрасно отдавал себе отчет в ценности почти ежедневных докладов Ника. Для Англии, бесспорно, настал самый трудный час. Учитывая то обстоятельство, что Франция вышла из войны, а Италия вступила в нее на стороне Германии, почти все придерживающиеся нейтралитета полагали, что Англию ожидает неизбежное немецкое вторжение. Доклады, которые президент получал от своего посла Джо Кеннеди, день ото дня становились все пессимистичнее. Рузвельт очень хотел помочь Англии, но его руки были связаны. По крайней мере до президентских выборов в ноябре. Поэтому он с радостью читал каждое новое послание от Ника, в которых, в отличие от докладов Кеннеди, прославлялись единство и решительность англичан, хотя и не умалялась нависшая над ними опасность.
Ник знал, что Черчилль очень рассчитывает на помощь Америки, поэтому в своих посланиях президенту он постоянно просил его помочь англичанам, напоминая о том, что если немцам удастся покорить Англию и установить там профашистский марионеточный режим типа правительства Виши во Франции, то Соединенные Штаты останутся в одиночестве. А если еще Гитлеру удастся овладеть английским флотом — как он пытался захватить флот французов, — то над Соединенными Штатами нависнет угроза. «Отказ оказывать поддержку Англии и снабжать ее оружием, — говорилось в телеграммах Ника, — ставит нас в положение человека, который не желает помогать своему соседу тушить пожар, хотя понимает, что огонь вот-вот перекинется к нему».
Самым постыдным фактом являлось то, что, кроме добрых намерений и моральной поддержки, Америка еще ничем конкретным не помогла Англии. А ведь война шла уже год. Наконец, когда в середине августа бомбардировщики «Люфтваффе» совершили налеты на английские города, Рузвельт распорядился направить на борющийся остров партию винтовок образца… времен первой мировой войны. И все-таки это было начало. Нику приятно было сознавать, что его депеши повлияли на президента.
Ник нисколько не преувеличивал факты в своих донесениях: единение англичан было замечательным, просто невероятным, если сравнивать с апатией и умиротворенностью последних предвоенных лет, которые позволили Гитлеру легкомысленно списать Англию со счетов как государство, неспособное к сопротивлению. Теперь же для острова наступили тяжкие времена, которые Черчилль назвал потом самыми лучшими временами, и возбуждение и решимость распространялись среди англичан с непостижимой быстротой. Ник не был англичанином, но он поддавался общему настроению. Эдвина же и ее родители не только поддались общему настроению, но и бросились делать конкретные дела. Лорд и леди Саксмундхэм передали правительству на время войны Тракс-холл, чтобы оно использовало поместье по своему усмотрению. Поскольку налеты немецкой авиации на Лондон и другие города с каждым днем все учащались, было решено превратить восьмидесятикомнатный дворец в приют для детей, осиротевших в результате бомбежек.
Эдвина, бывшая королева немого кинематографа и эталон модного стиля, добровольно вызвалась работать в Тракс-холле в любой должности, на которую ее сочтут возможным определить.
«Спитфайер» с именем «Сильвия» на фюзеляже оторвался от взлетной полосы аэродрома Харвел близ Оксфорда. На полной скорости он преодолел два слоя плотных облаков и поднялся на высоту десять тысяч футов.
Летчик Чарльз Флеминг получил указание «Земли» отыскать где-то на этой высоте немецкий бомбардировщик, которого засекли над юго-восточным побережьем Англии.
За два месяца боевых вылетов Чарльз закрепил за собой право называться асом, на счету которого было уже шесть побед. Теперь Чарльз глядел вниз на безбрежное море облаков, расстелившееся почти над всей восточной Англией и Ла-Маншем, и уже предвкушал свою седьмую победу. Коллеги по службе — их вряд ли можно было назвать его приятелями и еще меньше друзьями — прозвали Чарльза «убийцей». Они восхищались его хладнокровием и железными нервами так же сильно, как не любили за тщеславие. Восторгались его мотовством и завидовали его богатству. Наконец, смеялись над его хвастовством перед женщинами и подсчитывали его любовные похождения. Никто из англичан не любил Убийцу Флеминга, но все признавали за ним крутой характер. Его называли также за глаза «высокомерным сучонком».
Спустя десять минут полета Чарльз заметил в облаках брешь. Он стал снижаться, направил нос самолета в эту дыру и нырнул в нее. В шлеме у него затрещало переговорное устройство.
— Глядите в оба! — предупредила «Земля». — Немец знает, что вы его ищете.
И тут Чарльз разглядел крохотное пятнышко в небе. Он сделал крутой вираж и снова посмотрел в ту сторону. Перед ним был «юнкерс-88», двухмоторный средний бомбардировщик. Как раз тот самый, за которым он и охотился.
— Вижу цель. Начинаю сближение, — сообщил он «Земле».
Охота началась, и в жилах Чарльза закипела кровь. Небо превратилось в поле боя, и ставкой в этой азартной воздушной игре была человеческая жизнь. Впрочем, Чарльз приучил себя не думать о возможности своей смерти. Он думал только о смерти своих врагов, он думал только о том, как бы побольше убить их. Эта игра Чарльзу нравилась.
С расстояния в восемьсот ярдов «юнкерс» открыл огонь из пулемета верхней турели. Чарльз продолжал сближаться. Только когда между самолетами было не больше шестисот ярдов, он дал первую очередь по немцу. «Юнкерс» палил по «спитфайеру» изо всех стволов, исключая верхнюю турель. Очевидно, Чарльз первыми выстрелами убил стрелка.
Еще очередь — и правый мотор немецкого самолета полыхнул огнем. «Юнкерс» стал входить в штопор. Теперь самолеты разделяло не больше пятидесяти ярдов. Чарльз не прекращал стрельбу, корежа пулями фюзеляж врага. Оба самолета теперь ввинчивались носами в воздух, быстро приближаясь к земле… Вот в невероятной пляске смерти они прорвали нижний слой облаков… Вдруг увлекшийся стрельбой по падающему «юнкерсу» Чарльз увидел под собой стремительно надвигающиеся воды Ла-Манша. До них оставалось меньше ста футов!.. Паника овладела им. Он отчаянно потянул рычаг на себя и стал молиться…
Содрогаясь в невероятных усилиях, «спитфайер» стал выходить из пике. Глаза Чарльза округлились, когда он увидел, что до водной глади не более двадцати футов.
Он снова стал взбираться в облака, держа курс на белые скалы Довери. Боковым зрением он увидел, как «юнкерс» врезался в воду.
Это была седьмая победа Чарльза.
В своих докладах о потерях противника английская военная авиация пользовалась следующими критериями оценки:
1. Победа засчитывается, когда установлено, что вражеский пилот покинул подбитую машину в воздухе;
2. Победа засчитывается, когда установлено, что самолет противника ударился о землю или о воду;
3. Победа засчитывается, когда установлено, что самолет противника развалился в воздухе на куски.
«Работа» Чарльза в данном случае подходила ко второму пункту.
Но три победы, о которых он докладывал ранее, на самом деле могли считаться лишь «вероятными». Чарльз Флеминг попросту лгал командованию.
Чарльз Флеминг лгал много и по самым разным поводам, но одного нельзя было у него отнять: он любил войну, любил охотничий азарт солдата, любил опасности и сильные ощущения. Он был невероятно горд тем, что оружие компании Рамсчайлдов — он думал об этом оружии, как о чем-то своем, — играет значительную роль в этой войне. Плевать, что многие сослуживцы, как англичане, так и американцы, порой «катили бочку» на него за то, что он сын Ника Флеминга — Титана смерти. Он не возражал против того, чтобы быть «сыном Титана», как его прозвал кто-то. Наступит день, когда компания Рамсчайлдов будет его компанией. Наступит день, когда он сам будет здороваться за руку с генералами и адмиралами, президентами и премьерами, как сейчас это делает отец.
А пока что Чарльз — как он сообщал в открытках сестрам, оставшимся в Штатах — «неплохо проводил время».
* * *
Примерно в течение года Файна Флеминг никому не рассказывала в семье о том, что ее настоящим отцом является Род Норман. Однако потом она поняла, что больше не может держать это в секрете. Тем более что за год она собрала максимум возможных сведений о своем блистательном отце: у нее было множество фотографий и вырезок из старых киножурналов. Она захотела открыться своей младшей сестренке и лучшей подруге Викки. Поначалу девочка изумилась тому, что ее сестра является сестрой лишь наполовину, но это, разумеется, никак не повлияло на их отношения. К тому же Викки вскоре разделила страстное увлечение своей сестры ее знаменитым отцом.
Конечно же, девочки только и говорили между собой, что о загадочной смерти Рода Нормана и супружеской измене Эдвины Нику. Файна не совсем поняла мать, когда та впервые призналась ей в этом. Но девочка подросла, приобрела уже кое-какое знание жизни, и значение слова «неверность» прояснилось. Удивительно, но девочки и не думали упрекать маму за это. Наоборот, эта история только добавила романтического ореола Эдвине в глазах дочерей. А этого ореола и без того было хоть отбавляй.
Однако убийство Рода Нормана должно было иметь какое-то объяснение. И наконец Викки убедила Файну сходить к отцу и расспросить его об этом. Уж если кто и знал, так это он.
Тогда-то Ник и узнал о том, что Эдвина рассказала Файне о ее настоящем отце. Его первой реакцией был страшный гнев. Однако позже, когда он увидел, что правда об отце совсем не травмировала девочку психологически, когда он увидел, что она даже увлекается Родом Норманом, Ник смирился с ситуацией. Что до убийства Рода, то Ник мог сообщить девочкам лишь то, что сам подозревал: убийца намеревался покончить с ним, Ником, но обознался. Это объяснение заинтриговало сестер еще больше.
Но конечным результатом увлечения Файны Родом Норманом стало твердое убеждение, что она унаследовала от него, как и от матери, творческие задатки. Поэтому девочка решила, что карьера актрисы — это ее судьба. Внешность располагала, нечего и говорить. У Флемингов все дети были красивы, но красота Файны была особенной. В этой девочке был заложен артистический потенциал. Ей уже исполнилось семнадцать, когда она попробовалась в школьной постановке «Ромео и Джульетты». Она добилась для себя главной роли и покорила сердца зрителей.
Викки, которой было четырнадцать, училась в той же школе, что и старшая сестра. Это была миловидная, веселая девочка, основной страстью которой были лошади. В отличие от двух старших детей Флеминга, Чарльза и Сильвии, которые обладали своими неприглядными чертами характера, две младшие дочери были всеобщими любимицами. Ник просто обожал их.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Черчилль оказался прав. В своей штатской одежде Ник выглядел бы нелепо, так как к сентябрю, когда начались особенно тяжелые бомбардировки Лондона и других городов, в английской столице едва ли можно было увидеть мужчину не в военной форме. Даже женщины забыли о платьях. Поэтому в форме американского полковника Нику было как-то уютнее. Подметил он и другие перемены, происшедшие в Лондоне. В клубах официантов заменили официантки. Большинство людей стали постоянно носить с собой противогазы, и каждому пришлось обзавестись удостоверением личности и продовольственными карточками. В ресторанах можно было надеяться только на один кусочек сахара в чай, тончайший слой масла на хлеб и несколько кусочков сыра. Поскольку наблюдался дефицит бумаги, газеты стали выходить лишь на шести полосах. Железные перила и ограды шли на переплавку. С наступлением сумерек каждая семья обязана была либо выключить свет, либо затемнить окна. Невыполнение грозило крупным штрафом или месяцем тюремного заключения. Аэростаты круглые сутки висели над городом. В парковых зонах были протянуты ряды колючей проволоки: против парашютистов врага. На разветвлениях дорог оборудовались доты, повсюду с интервалами были расставлены бетонные заграждения. В автомобилях запрещено было иметь радио. И все же жизнь продолжалась с вызывающей беззаботностью, которая взбесила бы Гитлера, ожидавшего, что англичане будут вымаливать у него мир на любых условиях. Рестораны отелей забивались до отказа во время ленча, немногие открытые театры ставили спектакли с неизменными аншлагами. Ник нашел это столь же невероятным, сколь и воодушевляющим. Он влюбился в Лондон, ему нравилось жить в городе, где его уважали и где им восхищались. Это было так не похоже на Нью-Йорк, где он так натерпелся от прессы.
Его принимали многие высокопоставленные военные из генштаба, и как раз на коктейле у одного из них, некоего генерала Хаддингтона-Смита, в его квартире на Белграв-сквер — недалеко от городской квартиры лорда Саксмундхэма — Ник и повстречался с ней…
Квартира была битком забита мужчинами и женщинами в военной форме. Все курили и пили, поэтому воздух был такой, что хоть топор вешай. Вдруг, в разгар вечера, взревели сирены воздушной тревоги. Эти люди уже давно привыкли к подобным вещам. Еженощные бомбардировки им попросту надоели. Поэтому они стали покидать квартиру организованно и хладнокровно. Многие взяли с собой недопитые бокалы, чтобы на ближайшей станции метро, которое служило бомбоубежищем, продолжить незаконченные разговоры. Ник заметил ее еще в начале вечера: удивительно красивая молодая женщина лет двадцати пяти в строгой форме сержанта наземных служб ВВС. У нее были живое и умное лицо, темные волосы, голубые глаза и румяные щечки. Она была очень стройная, не меньше пяти футов и восьми дюймов.
Наверху рвались бомбы, стучали зенитки ПВО. Ник стал пробираться к ней сквозь толпу.
— Не будете возражать, если этот налет вместе с вами переждет одинокий американец? — спросил он.
— Не буду. Вы были на коктейле, не так ли?
— Верно. Меня зовут Ник Флеминг.
Она изумленно взглянула на него.
— Уж не тот ли Ник Флеминг, — заговорила она, — который является королем оружия?
— Человек никогда не поспевает за своей славой.
— Вот это здорово! Мне еще не доводилось встречаться с американскими миллионерами. Скажите, приятно быть таким богатым?
Он улыбнулся ее откровенности:
— Приятно, но не в день уплаты налогов.
— Хорошо бы денек побыть богачкой! Больше мне все равно совесть не позволит. Но в тот день я непременно сходила бы в «Гарродс» и купила бы все, что там на виду. Затем я пошла бы в «Фортнум» и купила бы весь их шоколад. И ела бы до тех пор, пока не лопнула!
— Насколько я понял, вы любите шоколад?
— Обожаю! Остается только удивляться тому, что я не чешусь и не толстею. Кстати, меня зовут Маргарет Кингсли. Я работаю в военном министерстве секретарем генерал-майора Фарнли.
— Ах да, я встречался с ним. Ничего, по-моему.
— Он милашка, только слишком много курит! Я ему говорила, что в конце концов это сведет его в могилу, но он не слушает.
— Могу себе представить. Думаю, вы не откажетесь пообедать со мной в «Кларидже»? Когда кончится налет.
Выражение ее лица чуть похолодело.
— О, начинается, — вздохнула она. — Вы, американцы, все такие хищники. Прямо как в ваших фильмах. Я думаю, вы должны знать, мистер Флеминг, что я состою в очень счастливом браке, мой муж лейтенант королевского флота, и я не хочу, чтобы ему кто-нибудь рассказывал о том, что видел меня в роскошном ресторане в обществе лихого американского миллионера. Так что благодарю вас, мистер Флеминг. А что касается обеда, то у меня дома есть остатки пирога с почками. Очень даже неплохо. И бифштекса никакого не надо.
— Не хотел показаться вам хищником. Между прочим, я тоже состою в очень счастливом браке. Просто… — он пожал плечами, — мне стало одиноко.
Прямо над их головами раздался мощный взрыв. Освещение в бомбоубежище на секунду поблекло. С потолка посыпалась штукатурка. Сильно побледневшая Маргарет посмотрела вверх.
— Эта едва не скатилась к нам, — прошептала она. — Не хочется об этом думать, но Гитлер бомбит нас все сильнее.
— Мне нравится ваш пирог с почками, — заметил он. — И не надо никакого бифштекса.
Она обеспокоенно посмотрела на него:
— Нет, я серьезно… Надеюсь, вы не станете…
Он улыбнулся.
— Против дружбы не будете возражать? — спросил он.
Она пристально взглянула ему в глаза, медля с ответом.
— У меня дома беспорядок, — сказала она. — Но даже уборка мало что изменит к лучшему. Не хочу, чтобы миллионер еще воротил от меня нос. Надеюсь, у вас нет аллергии на кошек? Я не стану выгонять Мейбл на лестничную площадку из-за мужчины. Тем более короля оружия.
— Вы почему-то упорно упрекаете меня за мое богатство.
Она рассмеялась:
— А как же мне этого не делать, ведь я убежденная социалистка!
Он удивился:
— О, в таком случае, может быть…
— Нет уж! — прервала она его. — Вы уже не можете отвернуть в сторону! Я собираюсь затащить вас в свою мрачную рабочую трущобу, запихнуть в рот вонючую рабочую пищу и прочитать несколько лекций, до одурения скучных, о пороках капитализма!
«Боже правый! — подумал он. — Во что я лезу?»
Нику Флемингу никогда даже и в голову не приходило, что социалистки могут быть сексуальными.
Она жила в Эрл Корт, а ее квартира вовсе не была ни мрачной, ни трущобной. Она располагалась на втором этаже краснокирпичного здания, которому Ник про себя дал лет пятьдесят-шестьдесят. Над крыльцом тяжелыми викторианскими буквами было выведено: «ДОМА ЧЭТАМА». Маргарет задернула светомаскировочные шторы и включила свет. Ник обнаружил, что находится в комнате с высоким потолком. Конечно, богатая леди только презрительно фыркнула бы, оглядевшись вокруг, но Ник нашел комнату удобной и милой.
— А вот и моя Мейбл! — радостно воскликнула Маргарет. Ник увидел зловещего вида черную кошку, которая громко мяукнула и бросилась на руки своей хозяйке. — Ну разве она не красавица? Вам лучше быть с ней повежливей. Если вы не понравитесь моей Мейбл, она может навести на вас порчу! Мейбл, это мистер Флеминг. Скажи ему: «Здравствуйте». Ну?
Мейбл зашипела. Ник стал оглядываться вокруг. Комната была заставлена старинной, но не богатой мебелью, включая просиженный плюшевый диван, на котором в беспорядке были разбросаны журналы и книги. Стены были оклеены дешевыми розовыми обоями, правда, сильно запачканными, но вообще-то веселыми. В углу комнаты стояло старое пианино, заваленное нотами. В рамке висела фотография, на которой был изображен молодой человек в морской форме.
— Это мой Джонни, — сказала она, выпустив из рук кошку. — Дух захватывает, как красив! Я познакомилась с ним в прошлом году в школе экономики на лекции по истории профсоюзов. И сразу влюбилась! Он служит на миноносце, но точно не знаю где.
— Сколько времени вы за ним замужем?
— Два месяца, — небрежно ответила она. — Как вы сами видите, я безнадежная домохозяйка. Мой отец был приходским священником в Линкольншире. Он, как и мать, любил порядок в доме. У нас каждая вещь имела свое определенное место. А эта отвратительная неразбериха — мой протест. И еще социализм. Хотите выпить? У меня есть немного итальянского красного, которое полезно для кишечника.
— Неплохо бы.
Он провожал ее взглядом, когда она ушла в крохотную кухню. «Выпью немного и отчалю, — думал он. — Она восхитительная, но такая же чокнутая, как и ее квартира».
Она вернулась с бутылкой и двумя бокалами.
— Мне ужасно понравился сегодняшний коктейль, а вам? — спросила она, разливая вино. — И Гитлеру непременно нужно было испортить все своими проклятыми бомбами! Это же надо! Выпьем. — Она подняла свой бокал, пригубила и поморщилась. — О Боже, какое отвратительное! Пахнет овчиной! — Она плюхнулась в пухлое и протершееся кресло. — А где ваша жена?
— За городом. Ее родители отдали свой дом в распоряжение правительства, там устроили сиротский приют, и Эдвина подрядилась быть воспитательницей. Дети-сироты.
— Да… Ваша жена выбрала доброе дело. Нам всем надо за что-нибудь энергично браться. — Она опять задумалась, потом сказала: — Я когда сейчас заходила на кухню, глянула на пирог. Ну… словом, он немного устарел. Я даже, наверное, не осмелюсь предложить его Мейбл. Вы уж меня простите.
«Слава Богу!» — подумал он.
— Конечно. Я поем в отеле.
— Я могу сделать омлет! Я умею готовить отличные омлеты!
— Нет, не надо. Я только допью вино и пойду в отель.
Она рассмеялась, поднимаясь с кресла:
— Бедняжка! Я затащила вас в Эрл Корт, а с обедом обманула! Я сделаю омлет в одну минуту! И раз уж я оказалась такой плохой хозяйкой, я сегодня ни слова не скажу вам о капитализме!
— Значит, вечер продолжается?
— Подготовьте пока стол. — Она показала на круглый деревянный стол, стоявший у затемненного окна. — Скиньте все эти журналы на диван.
Она опять ушла в кухню.
Ник стал собирать журналы. Он заметил, что почти все они музыкальные.
— Вы увлекаетесь музыкой? — громко спросил он, бросая журналы на диван.
— Обожаю! Когда я была девчонкой, то мечтала стать концертирующей пианисткой. Мечтала играть великие вещи в Альберт-холле, представляете? Гром аплодисментов и прочие романтические бредни.
— Ну так что же случилось?
Она показалась в дверях комнаты с двумя фарфоровыми тарелками в руках.
— Оказалось, что у меня никудышная память. То есть на самом деле никудышная! Я играю для людей, а ноты забываю. Так что — прощайте шумные концерты! Вот тарелки.
Омлет и в самом деле получился отменный, намеренно недожаренный, как говорят французы — «слюнявый». Во время еды она щебетала без умолку, задавая ему интересные вопросы об Америке, постоянно улыбаясь. Она оказалась удивительной болтуньей, которую интересовало буквально все. Она отличалась от большинства женщин тем, что мало придавала значения таким понятиям, как замужество, домашнее хозяйство и так далее в том же роде. Он никогда еще не встречался с такой женщиной, и разговаривать с ней ему было очень приятно.
Когда они покончили с вином и омлетом, он попросил:
— Сыграйте мне что-нибудь.
— Вам нравится музыка?
— Я мало что понимаю в хорошей музыке, но вас послушаю с удовольствием.
Она немного подумала, затем поднялась и прошла к пианино.
— Это будет что-нибудь тихое. Миссис Кларк, моя хозяйка, живет внизу и не любит музыки после девяти вечера. Я знаю 13-ю мазурку. По-моему, это одна из самых романтических вещей у Шопена, и так же красива, как ноктюрны.
Она взяла с крышки пианино ноты, устроила их на подставке и села за клавиши. Размяв немного пальцы, она начала играть. Первые тихие аккорды полились в комнату, будто мягкий лунный свет. А затем зазвучала вязкая, утонченная мелодия, украшенная дивными узорами, которые будто сплетались в тончайшую паутину. Эта музыка показалась ему волшебной. Он был очарован. В самом разгаре композиции он поднялся из-за стола и подошел к пианино, чтобы смотреть на Маргарет вблизи. Ее лицо преобразилось, концентрация на игре смыла с нее всю игривость эксцентричной натуры, оставив в красивых чертах лица лишь поэзию…
Последние аккорды прозвучали необыкновенно. Будто маленькие бриллианты упали в черную воду. Музыка растворилась в тишине, и Маргарет замерла на минуту, а потом подняла глаза на Ника. Ему вспомнился рекламный ролик каких-то духов, где скрипач вдруг подхватывает пианистку на руки и сжимает ее в страстных объятиях. Нику захотелось сделать сейчас то же самое. Больше того, ему казалось, что и она сама хочет от него этого.
— Вам лучше идти, — сказала она спокойно. — Музыка делает со мной странные вещи. Не хочу делать то, о чем наутро пожалею.
И в ту минуту зазвучала сирена воздушной тревоги.
— Черт возьми! — простонала она. — Два налета за вечер! Неужели Гитлер не понимает, что он надоел?!
Она поднималась с табуретки у пианино, когда на улице разорвалась бомба. Дом содрогнулся, полетели стекла окон, Маргарет закричала.
— Ложись! — крикнул Ник. Он обхватил ее и повалил на пол. Рядом с домом упала еще бомба. Свет погас.
— Нас сейчас накроет! — кричала она. Нас убьют! О Боже…
Он притянул ее к себе и накрыл сверху своим телом, ожидая обвала стен. Светомаскировочные шторы были сорваны ударной волной, и было видно, как страшно полыхает дом напротив. Прямое попадание. Ник услышал рев пожарных машин, сирены карет «скорой помощи». Этот шум сливался со взрывами бомб. Такова была музыка XX века, которая заставила напрочь позабыть о мазурке Шопена. Она дрожала всем телом, и он почувствовал ее горячее дыхание на своей щеке. Ник поцеловал ее в раскрытые губы. Она ответила. Ужас трансформировался в желание. В течение минуты они лежали на полу в объятиях друг друга и страстно целовались, а отблески горящего через улицу дома отплясывали на стенах, зло лизали дешевые розовые обои комнаты.
Затем она оттолкнула его, села на полу и с тала поправлять волосы.
— Это непристойно, — сказала она. — Мы не можем заниматься любовью во время вражеского налета.
— А почему бы и нет?
— Это выглядит… не знаю… непатриотично.
— Но мы же делаем это во имя Англии. Давай… Где у тебя спальня?
Он поднялся с пола и взял ее за руку. Некоторое время она смотрела на него как-то потерянно, потом тоже поднялась.
— Ведь тебе же нельзя уходить отсюда прямо под бомбы, правда? — сказала она, как бы оправдываясь.
Она провела его через всю комнату, открыла дверь, которая была напротив кухни, и они вошли внутрь. Единственное окно маленькой спальни также было высажено взрывом, а на полу был такой беспорядок, что казалось, бомба разорвалась прямо тут. Они молча стали раздеваться. Затем оглядели друг друга. Свет огня ласкал ее стройное тело, очерчивая две удивительно большие груди. Он приблизился к ней и обнял за талию.
— Это похоже на вагнеровские мотивы, да? — прошептала она. — Бомбы… Вальхалла, освещенная блеском мечей… Это так возбуждает.
— Ты меня возбуждаешь, — прошептал он, опускаясь вместе с ней на незаправленную постель.
— Я забыла покормить Мейбл.
— К черту Мейбл!
— Она нашлет на тебя порчу. У нее есть способности.
— У тебя тоже, — прошептал он. — Ты уже околдовала меня.
И он стал целовать ее грудь.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Питеру Чедвику было девять лет. Его отец был портовым грузчиком в лондонском Ист-энде. Питер жил с семьей в трехкомнатной трущобной квартире в Ист-энде, недалеко от проспекта Уитби Паб, где три столетия назад, перед тем как отправиться домой и продолжать писать свой дневник, Сэмюэль Пепис пил эль. Ночью 20 сентября 1940 года во время одного из самых разрушительных налетов соколов Геринга, в результате прямого попадания, был разрушен дом, в котором жил Нигер. Под обломками погибли его родители и две младшие сестренки. Питера спасло только то, что в момент налета он находился в уборной на дворе. Десятилетний сирота без гроша в кармане был направлен пережидать войну в Тракс-холл.
Из всех сорока трех сироток Питер Чедвик тронул сердце Эдвины больше других. Конечно, все они достойны были жалости, но бледное ангельское личико мальчика обращало на себя внимание Эдвины прежде всего. Она превратила биллиардную комнату в игровую и на собственные деньги накупила детям всех игрушек, какие только смогла найти. Когда она узнала, что Питеру нравятся больше всего воздушные шары, она купила ему огромный красный шар. Он настолько был обрадован подарком, что впервые за все время своего пребывания в Траке-холле показал, что умеет счастливо улыбаться. Его сияющее радостью лицо доставило ей огромное удовольствие. Королева немого кинематографа поняла, что наконец нашла свое призвание. Куда только делись скука, однообразие жизни, мечты о «бунте»? Война выявила во многих людях самые грязные пороки и черты, но она также выявила в других лучшее, на что только способен человек. Эдвина Флеминг принадлежала ко второй категории людей. Она чувствовала, что делает полезную работу, что в ней нуждаются, и прилагала все силы к тому, чтобы сделать жизнь этих людей как можно более счастливой. Насколько это было реально в данных обстоятельствах.
Она не получала официального назначения от правительства, но добровольно вступила в права хозяйки сиротского дома: просто некому больше было за это взяться. Она наняла врача-диетолога, налаживала снабжение продуктами и одеждой, лично проверяла состояние всех помещений, продумала ежедневный распорядок, договорилась с местными — в основном это были пенсионеры учителями, чтобы они приходили давать детям уроки, сама вела один класс, организовывала пикники, игры, прогулки верхом. Словом, она стала «мамой» для всех сорока трех детей. Ей было трудно, но она получала от работы удовольствие. Питалась вместе с детьми, укладывала их спать, рассказывала на ночь сказки. В десять вечера она садилась на велосипед и отправлялась за три мили к себе домой в Одлиплэйс, где без сил валилась на постель, предварительно поставив будильник на шесть утра. «Нормальную» жизнь она имела возможность вести только по выходным. На эти дни из Лондона приезжал Ник. Но даже в выходные она проводила несколько часов с детьми в Траке-холле.
Ник никогда не забывал привезти жене из Лондона какой-нибудь подарок: шляпку, или новую книгу, или банку икры, купленную в ресторане «Клариджа». Таких продуктов, как масло, сахар, кофе почти невозможно было достать, икра же и прочие «предметы роскоши» едва не валялись на дороге в военном Лондоне. Он дарил жене подарки потому, что любил ее, гордился ею, а вовсе не из-за чувства вины перед ней за свою связь с Маргарет Кингсли. Ник считал встречи с этой женщиной чем-то вроде компенсации за тяжелые условия жизни под бомбежками. Да если бы Эдвина что-нибудь и заподозрила, она все равно предпочла бы делать вид, что ничего не произошло. К этому времени Эдвина уже смирилась с двойным стандартом своего мужа. Несмотря на это, она любила его и была так рада видеть его дома в выходные, что не затевала ссор, которые к тому же была обречена проиграть.
В третьи по счету выходные октября Ник привез ей из английской столицы самый лучший подарок: сына. Чарльз получил увольнение на трое суток. Он пообедал с отцом в «Кларидже» и отправился вместе с ним в Одли-плэйс. Ник испытывал смешанное чувство в отношении своего сына и наследника. С одной стороны он, конечно, гордился победами Чарльза над врагом. Но воспоминание о том вечере в их нью-йоркском доме, когда он застал Чарльза с Сильвией, все еще мучило его. Сотни раз с тех пор он задавался вопросом: оправданными ли были его подозрения или нет? В любом случае Ник как отец оказался несправедлив. Если действительно между его старшими детьми существовали интимные отношения, то они оба были повинны в том, что Ник называл для себя самым отвратительным преступлением. Если же ничего подобного на самом деле не было, тогда выходило, что Ник напрасно поломал жизнь своим детям. И если Оксфорд вроде бы понравился Чарльзу, то семейная жизнь Сильвии с Честером Хиллом, как Нику прекрасно было известно, была весьма далека от идеала. Беда была в том, что Ник не смел прояснить этот вопрос, ибо боялся столкнуться со страшной правдой. Порой он думал: «Неужели мне так никогда и не суждено узнать об этом?»
Щеголяя в своей летной форме, Чарльз так и сыпал военными историями. Будучи прирожденным рассказчиком и мастерски опуская будничные и скучные детали, он потчевал мать и отца былями из славной истории своей эскадрильи и не позабыл подчеркнуть свои собственные героические сражения в британском небе. С чисто мальчишеским нетерпением он спешил за короткое время коктейля поведать как можно больше и не давал Нику и Эдвине вставить ни слова. Позже, когда они все перешли в столовую, где был накрыт обед, он переключился с боевой на любовную тематику, распространяться о которой никогда и ни перед кем не стеснялся.
Когда миссис Дабни разливала по тарелкам свой восхитительный суп, приготовленный из овощей, выращенных на собственном огороде, Чарльз как раз пустился в описания того, как ему удалось соблазнить свою вторую официантку.
— Чарльз, в самом деле! — смущенно проговорила Эдвина. — Я допускаю, что ты являешься прямо Божьим даром для женского пола, но нельзя ли опустить слишком яркие детали?
— Нет, мама, подожди! Вы же не слышали еще самого интересного! — Сказав это, Чарльз, хитро ухмыльнувшись, посмотрел в сторону Ника. — Эта история особенно должна понравиться отцу. В Лондоне мне тоже удалось обзавестись девчонкой. Она — сержант наземной службы ВВС. Очаровательная брюнетка! Ее муж служит во флоте, но это не мешает ей иметь маленькие радости. У нее квартирка в Эрл Корт.
Ник едва не поперхнулся супом.
— Она работает в военном министерстве у генерал-майора Фарнли, а зовут ее Маргарет Кингсли. Никогда не слыхал о ней, пап? — Он снова ухмыльнулся.
Ник устремил на него потрясенный взгляд. Так значит этот сукин сын все знает!
— Боюсь, что нет, — пробормотал он, уткнувшись в тарелку.
— Отец, не мог бы ты одолжить мне тысячу фунтов? — спросил Чарльз у Ника час спустя, входя в библиотеку с рюмкой бренди и сигарой. — У нас в казармах в покер играют, а в последнее время мне что-то не везет. У меня появились кое-какие долги, которые мне хотелось бы вернуть.
Ник и Эдвина, пившие кофе, переглянулись. Потом Эдвина повернулась к сыну:
— Сын, ты не считаешь, что у вас в играх слишком высокие ставки?
— Да ладно тебе, мам, ты же знаешь, какая у нас жизнь! Покер помогает немного расслабиться, забыть о войне… А это нам необходимо.
— Я знаю, и тем не менее — тысяча фунтов стерлингов! Это пять тысяч долларов. Слишком большие деньги, чтобы их вот так просто проигрывать в карты. Я уверена, у вас много ребят, которые не могут позволить себе такие траты.
— Это их проблемы. Я могу себе это позволить. Или, вернее, отец может. Каждому известно, что компания Рамсчайлдов неплохо подзаработала на этой войне, не так ли, отец? Дивиденды одни, как форт Нокс!
Ник холодно взглянул на сына.
— Да, я делаю деньги, — ровно сказал он.
— Вот я и говорю! В самом деле, не будешь же ты жалеть тысячу фунтов проигранных денег? Скажем, это будет где-то по полторы сотни фунтов за каждого сбитого мной немца. Это даже дешево выглядит. — Он засмеялся и глотнул бренди.
— Ладно, вы мужчины, обсуждайте такие вопросы сами, — сказала Эдвина, поднимаясь с дивана. — Я очень устала. Доброй ночи, милый, — сказала она, целуя сына в щеку. — Мы очень гордимся тобой, и все же я считаю, что не пристало тебе торговать своими победами. Тем более с отцом. Это выглядит несколько… нехорошо.
— Ну что ты, мам! Это же игра! — засмеялся он. — Если уж на то пошло, то вся война — это игра.
— Для сирот из Тракс-холла это вовсе не игра, — сдержанно ответила Эдвина и вышла из библиотеки.
— Мама совсем замоталась с теми ребятами, да? — сказал Чарльз, когда за Эдвиной закрылась дверь. Прикладываясь то и дело к рюмке, он опустился в кресло. — Лично я страшно горжусь ею, а ты, пан? Конечно, у тебя у самого работы хоть отбавляй! Я имею в виду в Лондоне. Маргарет рассказывала, что ты просто спас ей жизнь той ночью, когда разбомбило дом через улицу.
— Ты пытаешься шантажировать меня? — спокойно спросил Ник.
— Да ладно тебе, отец! Шантаж — некрасивое слово. — Чарльз ухмыльнулся. — Я твой сын. Вовсе не собираюсь шантажировать родного отца, да и зачем? Просто не перестаю удивляться этому забавному совпадению. Ну то, что у нас с тобой одна девочка. — Он вытащил из коробки еще сигару.
— Почему Маргарет ничего мне не говорила? — спросил Ник.
— Она даже не знала, что мы родственники. Она просто хвалилась передо мной тем, что захомутала очень романтичного военного магната. Тут я крикнул: «Постой! Да ведь это мой старик!» Она чуть в обморок не упала. Маргарет приятная девочка. Похоже, она во вкусе Флемингов-мужчин. — Он засмеялся. — Как бы там ни было, не волнуйся. Я умею держать язык за зубами. Я восхищаюсь тобой — у тебя классный вкус насчет женского пола. Могу только мечтать о том, чтобы в твоем возрасте так же лихо покорять девиц! Конечно, мое восхищение тобой по этому поводу вряд ли разделила бы мать, а?
Ник пересек комнату, выхватил рюмку из рук Чарльза и плеснул бренди ему в лицо.
— Эй! — крикнул тот.
Ник грубо схватил его за ворот кителя и чуть приподнял с кресла.
— А теперь слушай, — негромко заговорил он. — Ты мой сын, и я люблю тебя. Но ты мне совсем не нравишься, Чарльз. У тебя поганый характер. Я не знаю, какой ты герой в небе. У меня такое чувство, что ты пошел на войну и подвергал себя там опасности лишь для того, чтобы потом бросить мне это в лицо в качестве обвинения, а? Что скажешь?
— Это неправда!
— А иначе чем бы ты меня шантажировал? А ведь это чистой воды шантаж! И мне это не нравится. Послушай, за что ты меня ненавидишь?
— Глупости! Ты мой отец, и я люблю тебя! Я восхищаюсь тобой! Я… — Он вдруг зарыдал, — я хотел быть как ты… я думал… только… — Он стал давиться слезами. Ник отпустил его, и Чарльз упал обратно в кресло.
— Только что?
— Ты не представляешь, что такое — быть сыном человека, о котором все газеты кричат, что он «торговец смертью»! — Он взглянул на отца налившимися кровью глазами. — В моей эскадрилье есть ребята, которые даже не разговаривают со мной из-за этого, им кажется, что это ты развязал войну.
— Я развязал войну?! А кто в течение последних шести лет пытался предупредить Америку об угрозе нацизма? Я!
— Но они этого не знают! Они пьют с нашими американскими летчиками, и те рассказывают им Бог весть что! Я для того и гоняюсь каждый раз за немецкими самолетами, чтобы искупить твою вину!
Ник потрясенно взглянул на сына.
— Если это действительно так много для тебя значит, — сказал он, — я продам компанию!
— НЕТ! — завопил Чарльз. — Она нужна мне! То есть… я хочу сказать, что когда-нибудь она перейдет ко мне. Просто я… сейчас трудно быть сыном Ника Флеминга.
Достав из кармана носовой платок, он стал вытирать бренди с лица.
— А я скажу, что не так уж легко быть отцом Чарльза Флеминга, — проговорил Ник. — Хорошо, внесем ясность. Ты хочешь получить компанию. Отлично, я оставлю ее для тебя. Но мне нужно кое-что узнать о тебе, Чарльз. Я думал, что у меня никогда не хватит мужества спросить. Ты когда-нибудь прикасался к Сильвии в… сексуальном смысле?
Лицо сына побагровело от гнева.
— Так вот о чем ты думаешь! — вскричал он. — Что за грязная инсинуация от человека, который балуется с Маргарет Кингсли за спиной моей матери! Ты лжешь, лжешь и пошел к дьяволу со своей ложью! Я никогда ничего подобного не делал со своей сестрой! Никогда! Но не думай, что я не знаю, почему ты сплавил меня в Оксфорд! Это все следствие твоего извращенного сознания, которое подсказывает тебе Бог весть что! Я поэтому и ненавижу тебя! Это ложь!
Он кричал как ненормальный. Ник подавил приступ дурноты. Он вернулся к ореховому письменному столу, сел и достал чековую книжку.
— Я не просто дам тебе тысячу фунтов, я поступлю даже лучше, Чарльз, — сказал он, взяв в руки перьевую ручку из малахитового футляра. — Я сейчас напишу тебе чек на два миллиона. После этого ты уйдешь из дому, и, надеюсь, больше я никогда тебя не увижу.
Чарльз изумленно воззрился на отца:
— Почему?
Ник тяжело посмотрел на сына.
— Потому что, — начал он спокойно, — ты слишком много протестуешь. А то, что ты совершил с Сильвией, отвратительно.
Чарльз вскочил с кресла.
— Отец… — прошептал он. — Ты ведь этого не сделаешь…
Но Ник уже писал чек.
— Я расскажу матери о Маргарет Кингсли! — взвизгнул Чарльз. — Я расскажу ей о том, какой двуличный подонок ее муженек!
— Она уже знает, — сказал Ник, подписывая чек. — Не утруждайся рассказами ей о Маргарет Кингсли. Я сам это сделаю, прямо сейчас.
Он вырвал готовый чек, поднялся из-за стола, передал его своему сыну с багровым лицом и сказал:
— Всего хорошего, Чарльз.
И вышел из комнаты.
— Ник, ты не посмеешь! — восклицала Эдвина спустя пять минут. Ник поднялся к ней в спальню и рассказал обо всем, что произошло. — Чарльз наш сын! — кричала она. — Не важно, что он натворил! Какие бы это ни были жуткие вещи… Мы дали ему жизнь, и мы не можем вот так просто швырнуть ему в руки чек и прогнать из дому! Он наш сын!
— Эдвина, ты думаешь, я хотел, чтобы все так вышло? Он превратился в негодяя! Пойми, он пытался меня шантажировать! Меня, своего отца!
Эдвина, уже в ночной рубашке, сидела на краешке кровати.
— Ты имеешь в виду ту женщину, о которой он рассказывал? — спросила она.
Ее муж, беспокойно ходивший туда-сюда по комнате, теперь остановился и взглянул на жену.
— Да. Я обманывал тебя, и ему удалось до этого докопаться.
Она отвернулась. Он подошел к ней, сел рядом на постель и обнял ее одной рукой.
— Прости меня, любимая, — тихо проговорил он. — Я всегда любил тебя, но у меня не получается быть образцовым мужем. Ты часто упрекала меня за то, что у меня двойной стандарт в жизни, что я, мол, могу изменять, а ты не можешь делать то же самое. Ты была права, я признаю это. И от всего сердца прошу у тебя прощения. Ты лучшая в мире жена, а я никудышный муж.
Она взглянула на него и вздохнула.
— Хорошо, по крайней мере, ты наконец признал это после стольких лет. — Проговорила она с вымученной улыбкой. — Я считаю это чем-то вроде моей маленькой победы. Но это пиррова победа, если мы теряем нашего сына…
— Эдвина…
— Подожди минуту. Я вовсе не оправдываю Чарльза. Я согласна насчет него во всем, что ты говоришь, хоть это и не делает чести нам, родителям. Но ведь эта проклятая война ведется именно против семьи! Конечно, мне могут возразить, обращаясь к высоким материям, но я работаю в Тракс-холле с детьми-сиротами. Для меня война — это прежде всего разрушенные, разбомбленные семьи, это дети, которые уже больше никогда не увидят своих родителей. Так неужели же мы станем ломать нашу семью по своему собственному произволу?! Только из-за того, что наш сын оказался не таким, каким мы ожидали его видеть? Пока что нам везет: никто не погиб. Но вдруг на следующей неделе Чарльза собьют? Это возможно. Как тогда у тебя будет на душе, на сердце?
— Он совершил кровосмешение!
— Откуда ты знаешь?
— Я знаю. Когда я обвинил его в этом, с ним чуть припадок не случился. Эдвина, я уверен в его виновности так же, как уверен в том, что люблю тебя. И я больше не хочу иметь с ним ничего общего! Господи, конечно же, я сам не святой. Чтобы понять это, тебе достаточно прочитать то, что обо мне пишут в газетах. Но то, что сделал он…
Он покачал головой.
— Ник, если ты меня любишь…
— Здесь не может быть никакого «если».
— Может! Как-то очень давно я изменила тебе… Тебе потребовалось много лет, чтобы простить меня. Что касается твоей неверности, то я смотрела на все твои похождения сквозь пальцы и прощала тебя сразу же, потому что люблю тебя больше… наверно, больше чем себя саму. Если ты любишь меня, то должен дать Чарльзу шанс!
— К черту! Я не могу этого сделать.
— Он наш сын.
— Если бы твой сын оказался убийцей, ты и тогда продолжала бы любить и защищать его?
— Да! Мне пришлось бы!
Он покачал головой, поднялся с постели, подошел к окну и выглянул наружу. После паузы он сказал:
— Я подумаю. И учти: только ради тебя, Эдвина. Я подумаю.
Несколько минут они молчали, погруженные в свои мысли. Затем она поднялась с кровати, подошла к мужу и, обняв его, поцеловала в щеку.
— Жить с тобой, милый, настоящее счастье, — прошептала она.
Он взглянул на ее все еще красивое лицо, полуосвещенное светом ночной лампы. Да, его душили ярость и гнев по отношению к сыну, но одновременно с этим он чувствовал неизвестную доселе силу любви к жене. Он обнял ее и прижал к себе.
— И ты подарила мне лучшие мгновения жизни, — прошептал он, целуя ее.
— Это дикая ложь! — горячо воскликнула Маргарет спустя два дня. — Я никогда не занималась любовью с твоим сыном! Как он посмел заявлять такое?!
— Тогда что случилось? — спросил Ник.
Они пили чай у Маргарет дома. В окна были вставлены новые стекла.
— Я познакомилась с ним в министерстве авиации, когда он сдавал какие-то документы своей эскадрильи. Потом мы встретились еще раз за ленчем. Он увидел меня, попросил разрешения сесть со мной, и я согласилась. Это было спустя два дня после того, как ты был здесь у меня. Поскольку я увидела, что он тоже американец, я спросила, знает ли он о тебе. Разумеется, я была изумлена, когда он сказал, что ты его отец. Но я даже не намекала ему на то, что мы занимались с тобой любовью! И с ним я тоже не спала! В конце концов я люблю своего мужа. И если уж я и позволила себе совершить глупость с тобой, это не значит, что я делала то же и с другими. Я готова задушить твоего сына!
— Значит, он обо всем сам догадался, — сказал Ник, — и воспользовался этим для того, чтобы шантажировать меня.
— Шантажировать тебя?! — воскликнула изумленно Маргарет.
Он кивнул.
— Да, вот такой у меня сыночек. Во многом тут моя вина. Это я избаловал, испортил его, когда он был еще ребенком. Не знаю, правильно ли я поступаю, вышвыривая его из своего дома и из своей семьи. Моя жена души в нем не чает и делает все, чтобы помирить нас. Но однажды он совершил такое, что я никогда не в силах буду простить.
— Что?
Он покачал головой.
— Я не могу тебе рассказать. Я никому никогда не расскажу. Но это не покидает меня, сидит постоянно вот здесь. — Ник постучал себя указательным пальцем по лбу. — Это убило всю мою любовь к нему, а я действительно любил его…
Он замолчал, и она увидела, как ему на глаза наворачиваются слезы. Она подошла к нему и взяла за руку.
— Мне очень жаль, сказала она.
Он поднял на нее глаза и попытался улыбнуться.
— Никак не хотел взваливать на тебя мои проблемы, — сказал он. — Просто думал поговорить с тобой. Узнать правду о тебе и о нем.
— Твой сын привлекателен. Но в нем нет и половины той привлекательности, которая есть в его отце. — Она наклонилась и поцеловала его в лоб. — Хочешь остаться на ночь?
Он опять посмотрел на нее и отрицательно покачал головой.
— Нет. Я не врал, когда говорил, что ты околдовала меня, но мне необходимо развеять эти чары. У тебя есть муж, а у меня — жена. В прошлом я часто изменял Эдвине, и всякий раз как-то ухитрялся оправдывать себя. Но я больше не хочу обманывать ее. Наверное, это звучит странно.
— Вовсе нет. Я думаю, ты ее любишь.
Ник слабо улыбнулся:
— Я всегда ее любил, но теперь… когда теряю сына… Мне кажется, я теперь нуждаюсь в ней. Впервые в жизни я нуждаюсь в ней.
Она стиснула его руку.
— Я рада тому, что мы познакомились, — сказала она тихо. — Не буду врать: я чувствую себя виноватой перед мужем за все, что было между нами. Но ты всегда останешься для меня приятным воспоминанием. Она улыбнулась. — Я сильно скомпрометировала свою репутацию соцалистки, влюбившись в капиталиста.
Он поднялся из-за стола, провел рукой по ее щеке и сказал:
— Этому капиталисту до сих пор не приходилось встречать такую красивую и умную социалистку.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Питер Чедвик бежал за своим новым красным воздушным шаром, который ему купила Эдвина, как вдруг из-за деревьев вдали вылетел самолет. На дворе стоял январь 1942 года. Америка уже вступила в войну и, К отчаянию Эдвины, Ник скоро должен был вернуться в Вашингтон, чтобы помочь там координировать вопросы вооружений в недавно созданном Пентагоне.
— Эльвира! — позвала Эдвина свою двадцатилетнюю помощницу. — Детей в дом! Быстрее! Видите, немецкий самолет!
Девушка, прищурившись, взглянула на небо.
— Но что он здесь делает?
— Не знаю. Может, летчик потерял ориентировку. Торопитесь же! Я за Питером!
Эльвира тут же стала подталкивать детей к дверям дома, а Эдвина побежала по большой открытой лужайке за домом, крича:
— Питер, вернись!
Но Питер, который находился от нее по меньшей мере в двух сотнях футов, вовсе не собирался терять свой красивый воздушный шар. Он продолжал бежать за ним.
— Питер!
Самолет с огромным черным крестом промчался над самой головой мальчика. Питер услышал треск пулеметной очереди. Он остановился и обернулся назад. Самолет перевалил через особняк Тракс-холла, едва не задев его печные трубы, взмыл в воздух и взял курс на Ла-Манш.
Неожиданно воцарилась тишина.
Питер, совсем позабыв о своем шарике, бросился бегом к красивой женщине, которую он успел полюбить. Он не мог понять, почему она лежит неподвижно прямо на земле.
— Миссис Флеминг, — позвал он издали.
Подбежав к ней, он, тяжело дыша, упал на колени и взял ее за руку. И тогда он увидел черно-бурые дырочки на ее красивом белом платье.
— Миссис Флеминг! — заревел он. — Вставайте. Пожалуйста… Вставайте…
Питер Чедвик потерял свою вторую маму.
Бессмысленное убийство Эдвины едва не свело Ника с ума. Эта ни в чем не повинная женщина, находившаяся далеко от ближайшей военной цели, была застрелена из пулемета с воздуха, когда бежала по лужайке, пытаясь спасти десятилетнего мальчика. Это поразило Ника в самое сердце своей варварской жестокостью и бессмысленностью. Его ненависть и отвращение к нацистскому режиму, зародившаяся восемь лет назад в комнате допросов гестаповского застенка, теперь затмила его мозг. Когда ему показали ее тело в местном морге, он зарыдал, как ребенок. Ее лицо, красивое и в смерти, пробуждало в его сознании тысячи светлых воспоминаний. Его первая встреча с ней в Тракс-холле так много лет назад, во время первой войны… Их бурный роман… Головокружительные годы, проведенные в Голливуде… Их ссоры и семейные радости… Их ласки и подозрения в обоюдной неверности… Они прожили вместе почти четверть века, и вот теперь она покинула его. Нежданно, страшно, бессмысленно.
Он прижал ее руку к своим губам, жгучие слезы упали на ее ледяную кожу. Его сердце было разбито.
Спустя два дня после этого маленькую каменную церквушку, построенную в XVIII веке, заполнили волнующие звуки мелодии гимна Уильяма Блейка «Иерусалим», который исполнялся хором мальчиков и молящимися. Ник согласился с тем, чтобы его жена была похоронена вместе с другими членами своей старинной фамилии. Жители соседней деревеньки в течение вот уже более двухсот лет оказывали последние почести хозяевам Тракс-холла — одним больше, другим меньше. В церкви присутствовали родители погибшей, лорд и леди Саксмундхэм. Они как-то вдруг постарели. Королевскую фамилию здесь представляла герцогиня Кентская. Черчилль не смог приехать и прислал письменные соболезнования, зато была его жена Клементина. Попрощаться с сестрой приехала и леди Блейк. Но больше всех страдал, кажется, Питер Чедвик. Его, как и остальных воспитанников приюта, тоже привезли сюда, чтобы они имели возможность проститься с любимой ими миссис Флеминг.
«Пока мы не построили Иерусалим, — пел хор, — на зеленой и мягкой земле Англии».
Был здесь и Чарльз. Он появился в церкви сразу после начала церемонии. Он сидел на скамье в последнем ряду в своей форме летчика и слушал преподобного доктора Кадуоллэдера, служившего заупокойную по женщине, которую он знал еще маленькой девочкой в те далекие и мирные времена, теперь казавшиеся уже чем-то вроде красивой сказки… Наконец молитва окончилась, последние звуки гимна отзвучали под сводами церкви и гроб с телом Эдвины был опущен в склеп.
Когда все стали выходить из церкви, Чарльз подошел к отцу. Прошло уже больше года с того времени, как они не виделись и не разговаривали.
— Могу я с тобой поговорить? — спросил Чарльз.
Ник рассеянно посмотрел на него и кивнул. Они шли вдоль стены церкви. Стоял холодный, сырой день, небо было серым, стонал ветер. Чарльз достал из кармана кителя листок бумаги и подал его отцу.
— Ты знал, что я никогда не разменяю этот чек, — сказал он.
— Знал.
— Я снова хочу быть твоим сыном. Я… — Он сглотнул. — То, в чем ты меня тогда обвинил, правда. Я осознаю, что совершил гнусный поступок с Сильвией. Мне стыдно за себя. Но я собираюсь просить тебя, во имя памяти о матери, чтобы ты попытался простить меня и дать мне еще один шанс. Я действительно стремлюсь к тому, чтобы ты мной гордился. — Он помолчал немного, потом добавил: — Я даже хочу, чтобы ты снова меня полюбил.
Ник закрыл глаза и услышал голос Эдвины: «Чарльз наш сын! Не важно, что он натворил! Какие бы ужасные вещи это ни были… Мы дали ему жизнь и не можем вот так просто швырнуть ему чек и выставить из дому!»
В течение всего последнего года жизни Эдвина постоянно твердила мужу, чтобы он изменил свое решение в отношении сына. Теперь, глядя на Чарльза, Ник жалел о том, что проявил упрямство и не пошел навстречу жене. Он взял сына за плечи, и они обнялись.
— Я так ее любил, — прошептал Чарльз.
— И я, — сказал Ник. — Даже больше, чем сам думал.
Он разорвал чек, и холодный ветер разметал обрывки по земле.
— Мы начнем все сначала, — сказал Ник, когда они вместе направились к ожидавшему Ника «роллсу».
Что ж, по крайней мере, он вновь обрел сына…
Он уже занес ногу, чтобы сесть в машину, как вдруг заметил подходившего к нему Питера Чедвика. Ангельское личико мальчика было спокойным, но Нику стало ясно, что Питер плакал. У него были красные припухшие глаза.
— Мистер Флеминг, — робко обратился он к нему.
Ник присел на корточки и взял мальчика за руки.
— Тебя зовут Питер, да? — сказал он. — Ты был с ней, когда…
Мальчик кивнул.
— Она подарила мне красивый красный шар, — сказал Питер. — Он мне всегда будет напоминать о ней.
Пожилой американец и совсем юный англичанин взглянули друг другу в глаза и ощутили, что их обоих связывает память о женщине, которую они оба любили. Питер достал что-то из кармана своего пальтишка.
— Это упало с самолета, — сказал он. — Я видел, как они падали с неба. Я думал, вам это нужно…
Он протянул руку Нику и разжал кулак. На ладонь Нику упали три латунных гильзы. Ник взглянул на них. Если бы кто-нибудь другой преподнес ему такой подарок, то ему показалось бы это неприличным. Но со стороны Питера это выглядело правильным.
— Спасибо тебе, — проговорил Ник, разглядывая гильзы.
Вдруг его взгляд помертвел.
Он рассмотрел одну из гильз поближе и увидел выгравированную на ней аббревиатуру «РАК» и инвентарный номер «479». Он узнал эти гильзы! Ярость пронзила его мозг, когда он зажал в кулаке патроны, произведенные его же собственной компанией!
«РАК» означало: «Рамсчайлд армс компани».
Спустя три дни Ник на военном грузовом самолете вернулся в Америку и, едва появившись у себя в компании, собрал пятнадцать человек самых высокопоставленных служащих «Рамсчайлд армс компани» в зале заседаний с окнами, выходящими на воды Коннектикута.
— Джентльмены, — начал он сухо. — Моя жена была застрелена немецким летчиком-истребителем из пулемета. Но она была убита американскими пулями. Вот этими. — Он достал из кармана три гильзы и кинул их на полированную поверхность стола. — Патроны были произведены на нашем заводе! На заводе Рамсчайлдов!
Он сделал паузу, наблюдая за шоком, в который были повергнуты присутствующие его сообщением.
— И еще, джентльмены, — продолжал Ник. — Кому-то из вас должно быть хорошо известно, каким образом наша продукция попадает к Люфтваффе. Сегодня я у себя в кабинете, и если в течение часа этот человек не придет ко мне и не признается, можете считать, что вы все уволены. Без выходного пособия и пенсии. Более того: я свижусь с ФБР и потребую провести расследование в отношении каждого из вас на предмет изменнической деятельности. Джентльмены, я разгневан и поэтому говорю абсолютно серьезно. Даю один час.
С этими словами он вышел из зала, оставив у себя за спиной пятнадцать потрясенных людей.
Спустя десять минут в дверь его кабинета постучали.
— Входите.
Дверь открылась, и показался Честер Хилл.
Ник поморщился:
— Черт возьми, я так и знал, что это будешь ты!
— Ник, — пролепетал его зять, его лицо было бледно, и он весь дрожал от страха. — Я абсолютно не ожидал, что товар окажется в Люфтваффе! Клянусь честью…
— Кому ты продал оружие? — проревел Ник.
— Шведам!
— Будешь говорить, что не знаешь, для чего сейчас шведы покупают оружие?
— Мне сказали, что оружие предназначено для польского подполья…
— У польского подполья нет самолетов!
— Это были обычные пулеметы! Откуда я мог знать, что их установят на самолетах?!
— Врешь! — проорал Ник. — Послушай, Честер, ты же не дурак. Ты прекрасно знал, что, скорее всего, это оружие пойдет для Германии, которая скупает все подряд на черном рынке, чтобы оснастить Люфтваффе. Кстати, наше правительство издало список стран, с которыми мы можем торговать такими товарами. Швеции в этом списке нет! И не делай вид, что ты этого тоже не знал! Ладно, сколько тебе отвалили за сделку?
Честер обессиленно повалился на ближайший стул.
— Ник, мне нужны были деньги! — рыдал он. — Сильвия совсем меня достала… Ты даже представить себе не можешь, как плохо мы жили… Она ездила в Нью-Йорк и цеплялась в барах к мужикам! Господи! Мне непременно нужно было раздобыть денег, чтобы построить ей дом! Мне нужно было…
Он закрыл лицо кулаками и стал раскачиваться из стороны в сторону.
— Ты говоришь, Сильвия цеплялась в барах к мужикам? — тихо произнес Ник.
— Да! Совсем как заправская шлюха!.. Она привыкла жить как принцесса, а у меня всегда было не так уж и много денег, чтобы сделать ее счастливой… Боже, я знаю, что совершил ошибку, но неужели ты не можешь хоть немного понять меня? Это сущий ад — жить с твоей дочерью!
Сильвия, его красивая, любимая дочь… шлюха? До сего времени он всегда полагал, что в истории с кровосмешением зачинщиком являлся Чарльз, однако теперь, может, стоит посмотреть на все под иным углом зрения?.. Возможно ли, чтобы Сильвия соблазняла Чарльза?.. По крайней мере, очевидным было то — если посмотреть на все беспристрастно, — что она не оказывала своему брату сопротивления. И это его дети! О Боже, и это его дети! Сколько они доставили ему горя! Может, он виноват, что чрезмерно баловал их? Может, Эдвина была убита не столько по вине этого хныкающего родственничка, а в наказание ему, Нику?
— Ник, я сделаю все, чтобы компенсировать потерю, — выпалил Честер.
— Чем ты мне компенсируешь гибель Эдвины? — последовал сухой ответ. — За сколько ты продался шведам?
— Тридцать тысяч. Достаточно, чтобы начать строительство…
— Ты продал меня, мою компанию и страну за дом? Честер, я могу поверить в то, что тебе непросто живется с Сильвией, но ведь ты и сам — грязный сукин сын!
— Это вина Сильвии! — защищаясь, выкрикнул он.
— Вина, возможно, моя. В том, что я избаловал ее. Но Сильвия не продавала шведам оружия. И я не продавал. Нет, Честер, тебе не удастся пришить к этому делу кого-нибудь еще. Возникает вопрос: что мне с тобой делать? Если я сообщу в ФБР, тебе придется худо. Это тюрьма. Но этот вариант отразится на Сильвии, и поэтому он мне не нравится.
— Прошу тебя, Ник, — захныкал умоляюще Честер. — Неужели нельзя это оставить просто так?
— А как прикажешь объяснить ситуацию моим подчиненным? У зятя Ника Флеминга что, особое положение? Нет, так не пойдет. Черт, ты поставил меня перед большой проблемой… Ты грязный и тупой ублюдок! Дьявол! Весь смысл моей жизни состоит в том, чтобы вложить посильную лепту в очищение земли от нацизма, а что выходит? Мой зять продает им оружие, которым они убивают мою жену! О нет, Честер! Я бы тебя простил, но тебя не прощает Эдвина. Ее кровь на твоих руках.
По смертельно бледному лицу Хилла катились капли пота.
— Тогда что же делать? — прошептал он напряженно.
Ник зло смотрел на него, пытаясь найти выход из положения. Выбора не оставалось…
— У меня нет выбора, — наконец сказал он, пододвигая к себе телефон. — Я сдаю тебя ФБР.
— Нет! — вскричал Честер. Он вскочил со стула и накрыл руками телефонный аппарат. — Пожалуйста! Дай мне шанс! Подумай о Сильвии!
— Я уже о ней подумал. Делу не поможешь. Ты совершил преступление и должен понести наказание.
— Ник, прошу тебя… Я уеду из страны! В Южную Америку! Ты меня больше никогда не увидишь! Пожалуйста… Все что угодно, только не тюрьма! О Иисус, неужели ты упрячешь в тюрьму собственного зятя?! Ты не посмеешь!
— Говоришь, не посмею? — зловеще переспросил Ник. Он оттолкнул телефон в сторону и крикнул: — Фрида! Соедини-ка меня с Федеральным бюро расследования!
Ломая руки, Честер отошел от стола.
— Ты хладнокровный подонок, — проговорил он наконец. — Я тебе когда-нибудь отомщу за это! Придет день, когда ты заплатишь за все.
Ник только молча посмотрел на него.
Честер Хилл получил пять лет и сел в льюисбургскую каторжную тюрьму.
Во второй раз в жизни Нику Флемингу пришлось серьезно задуматься об уходе из военного бизнеса. Убийство Эдвины пулей, произведенной на собственном заводе, потрясло его до глубины души. Снова и снова его настигала упрямая мысль о том, что, может быть, его критики были правы: в военном бизнесе есть что-то от зла и от дьявола. Военный бизнес сделал из Честера Хилла предателя. Может быть, в конечном итоге военный бизнес любого способен сделать предателем? В течение многих лет Нику делались соблазнительные предложения продавать товар теневым правительствам. Не является ли страшная гибель Эдвины знаком свыше, что ему пора плюнуть на этот вид бизнеса? Он часто вспоминал теперь одну фразу, оброненную Эдвиной много лет назад. Она говорила о том, что он, Ник, делает деньги на смерти. К тому же его уже доконала многолетняя дурная слава в прессе. Ему было ненавистно прозвище Титан смерти.
А с другой стороны, — как же он может продать компанию сейчас, когда в мире бушует война? Он не мог решиться на этот поступок. Но семя в почву было брошено…
Смерть Эдвины, конечно же, сильно потрясла ее детей. Викки, самая младшая из дочерей, которая обожала мать, была безутешна. Файна, которая не помнила своего настоящего отца, теперь лишилась и матери и стала сиротой. Она также была убита горем. Но потеря обоих родителей, казалось, только подстегнула ее стремление стать актрисой… Уже не только в память о Роде Нормане, но и о матери, его партнерше по немому кинематографу.
Эдвард Флеминг, третий по старшинству ребенок в семье Флемингов, отреагировал мгновенно: ему исполнилось двадцать лет, и он ушел из Принстона добровольцем в армию. Но в отличие от своего старшего брата Эдвард не любил войну и не интересовался военным бизнесом. Гибель матери послужила ему ярким доказательством того, что война — это не путь к славе, а бессмысленное и жестокое кровопролитие. Эдвард решил стать писателем. Может, ему суждено будет написать великую американскую книгу, которая положит всем войнам конец и станет достойным памятником матери.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ КРАСАВИЦА И МЯСНИК 1944–1947
ГЛАВА СОРОКОВАЯ
3 января 1944 года Ник вновь оказался в Овальном зале Белого дома в обществе изможденного президента Рузвельта и генерал-майора Уильяма Дж. Донована, начальника центра стратегических исследований.
— Рад вас снова видеть, Ник, — приветствовал его Рузвельт, пожимая руку. — Надеюсь, вы знаете Билла Донована?
Нику доводилось несколько раз встречаться с Донованом, так как сразу же после Пирл-Харбора и вступления Америки в войну он почти половину своего времени провел в Вашингтоне, работая в связке с Пентагоном и рассылая партии оружия по всему свету. Теперь, когда стало ясно, что падение Гитлера — лишь вопрос времени, Ника не покидало чувство глубокого удовлетворения. Он радовался тому, что приложил максимум своих сил к тому, чтобы его самый ненавистный враг был уничтожен.
Он пожал руку Доновану, и они сели в кресла напротив стола Рузвельта.
— Ник, — начал президент, — Билл недавно получил весьма любопытную информацию, которая исходила от некой парижской леди Дианы Рамсчайлд и была передана через источники антифашистского подполья. Кажется, вы знакомы с этой женщиной?
— Очень хорошо знаком, — ответил Ник. — Давным-давно я едва не женился на ней. Поскольку я женился на другой, она наняла турецкого наемного убийцу для того, чтобы тот разделался со мной. А когда этот план провалился, она совместно с гестапо организовала мой арест в Берлине десять лет назад.
Президент рассмеялся:
— Сам дьявол не сравнится в злобе с оскорбленной женщиной. Но даже учитывая это, она, похоже, хватила через край.
— Самую малость. Впрочем, думаю, она наконец-то простила меня. Когда она явилась в гестаповскую тюрьму, чтобы насладиться моим поверженным видом, кажется, у нее это не получилось. Правда, она заявила, что употребит все свое влияние на Ататюрка, чтобы добиться моего освобождения. Но я освободился самостоятельно. Поэтому мне до сих пор неизвестно: просила она за меня у Ататюрка или нет. С тех пор я ничего о ней не слышал. Так, выходит, она в Париже?
— Да. У нее там открыт весьма доходный ночной клуб «Семирамида», где пьянствуют и развлекаются высокопоставленные нацисты. Каким именно образом развлекаются, пусть вам подскажет ваше воображение.
— Могу себе представить.
— Итак, через подпольщиков она доставила нам следующую историю… Кстати, агенты Билла в Париже ее полностью подтвердили. Так вот, одна из ее клубных девочек красавица-блондинка некая Лора Дюкас ухитрилась стать любовницей генерала Фридриха фон Штольца, второго нациста во всем Париже. Это очень важная птица. У фон Штольца в Баден-Бадене жена и две дочери, но Лора, говорят, совсем свела его с ума. В благодарность за ее ласки он дал ей все: деньги, меха, шампанское… У нее даже есть в распоряжении машина с шофером и право на неограниченное пользование бензином. Последний факт очень примечательный, поскольку, как я слышал, в Париже это сегодня невиданная роскошь. Частенько фон Штольц в стельку напивается и выбалтывает Лоре весьма любопытные военные сведения. Если бы я был Гитлером — слава Богу, что это не так! — я давно уже расстрелял бы старика. Но фюрер настолько занят сейчас русским фронтом, что у него не хватает времени присмотреть за Парижем. Поэтому фон Штольц до сих пор жив. Пока… Все, что я рассказал, никому не было бы нужно, если бы не два словечка, которые фон Штольц обронил Лоре во время очередной попойки и которые та передала своей хозяйке Диане. А уж Диана довела их до нас. Эти два слова: тяжелая вода.
На лице Ника отразилось недоумение.
— Прошу прощения, мистер президент, но я не совсем понял…
Рузвельт заерзал на стуле.
— Нам придется довести до вас, Ник, кое-какую информацию, иначе вы вообще ничего не поймете. Но я предупреждаю: эти сведения секретны. Ни при каких обстоятельствах они не должны быть вами разглашены постороннему лицу.
— Разумеется.
— С недавних пор мы начали разрабатывать принципиально новый тип бомбы. Если это у нас сработает — на сегодня на этот счет есть еще большие сомнения, — то все иное оружие можно будет сдать в утиль. Это будет бомба невероятной разрушительной силы. Если я вам сейчас скажу, что от взрыва одной такой бомбы на воздух взлетит город размером с Чикаго, вы подумаете, что я начинаю сходить с ума. Но, Ник, похоже, это правда.
— Одна бомба может снести с лица земли Чикаго?! — потрясенно воскликнул Ник.
Президент кивнул:
— Вот именно. И я беру на себя большую ответственность, рекламируя этот проект. Впрочем, наши ученые уверили меня в том, что эта бомба — вещь не только выполнимая, но с точки зрения современного уровня развития физики — неизбежная. Это означает, что если ее не создадим мы, создаст Германия. Так что от моих слов ничего не изменится. Короче, возвращаюсь к этой самой «тяжелой воде».
Получение ее — необходимый этап в создании бомбы. И если в пьяном угаре парижский генерал фон Штольц разглагольствует о ней, это может означать только одно: нацисты работают над тем же, над чем работаем мы. Гитлер проиграл войну. Но если, не дай Бог, он заполучит бомбу раньше нас, пожалуй, он сможет осуществить величайший перелом в войнах всей истории человечества. Он может выиграть. Неудивительно, что нас это беспокоит.
— Да уж…
— И я подумал о вас. Разумеется, нашей первейшей задачей сейчас является выяснение всего, что связано с парижской «тяжелой водой». Но Диана Рамсчайлд отказывается разговаривать с нами. Агентам Билла в Париже она твердо заявила, что расскажет все, что знает, только одному человеку на свете. И этим человеком являетесь вы.
— Я?! — воскликнул Ник, переживая очередное потрясение. — Но почему я?!
Президент развел руками:
— Мне кажется, Ник, что эта леди все еще любит вас. У нее обнаружена какая-то серьезная болезнь, и жить ей осталось немного. Она сказала, что хочет увидеть вас еще раз перед смертью. Знаете, по-моему, это очень трогательно.
— Трогательно, согласен. Но Диана столько раз покушалась на мою жизнь, что мне трудно верить ей.
— Вы ведь сказали, что она простила вас.
— Я сказал, мне кажется, что она простила меня. У меня нет никаких доказательств этого. Сцена в тюрьме, возможно, была лишь хорошо разыгранным спектаклем. Факт остается фактом: не она вытащила меня оттуда, а я сам сбежал. Если вы попросите меня поехать в Париж для встречи и разговора с Дианой, то имейте в виду, что это может оказаться для меня смертельной ловушкой. Диана знает, что нацисты вздернут меня при первой же возможности.
Президент бросил взгляд на Донована, и тот сказал:
— Да, мы и в самом деле просим вас поехать в Париж. Поймите, это крайне важно!
Нику стало не по себе. Пытки на операционном столе в гамбургской тюрьме еще не забылись. Шрамы на теле давно прошли, но шрамы в душе до сих нор мучили его кошмарами. Он попытался в деталях припомнить то короткое свидание с Дианой в пыточной камере тюрьмы. Он вспомнил слезы, стоявшие в ее зеленых глазах, в тех глазах, что он когда-то любил… Он вспомнил ее слова: «О Боже, Ник, что я наделала?!»
Тогда он ей поверил, но есть ли гарантия? Ведь ее былая к нему ненависть была столь сильна, что заставила Диану пойти даже на наем убийцы! А теперь его просят доверить ей свою жизнь. И ради чего? Ради «тяжелой воды», про которую он мало что понял. Правда, и того малого, что они позволили себе рассказать ему о супербомбе, вполне хватило для осознания крайней важности миссии. О Боже, что за идиотская ирония судьбы! Возможно, судьба мира сейчас в руках у неуравновешенной женщины, которую он соблазнил и бросил более чем четверть века назад! И как все-таки он оказался прав: похоже, любовь действительно начинала играть самую главную роль в его жизни…
— Мы понимаем, как нелегко вам решиться на это, — прервал его размышления президент. — Возьмите время на обдумывание. Несколько дней.
Эдвина, Эдвина… Ее не было с ним уже три года. Ему так не хватало ее все это время! Физическая любовь не составляла большой проблемы для мультимиллионера, который все еще был моложав и привлекателен. Но любовь иная, душевная, ушла навсегда. Он построил мемориал в память о жене: учредил на миллион фунтов стерлингов дом-интернат для детей, осиротевших во время войны. Имя Эдвины и память о ней будут жить. Но ее зверское убийство все еще терзало Ника. Честер Хилл отбывал в тюрьме свой срок, но нацисты все еще у власти, все еще в силе. И потом Европу захлестнули слухи о самом диком проявлении безумия Гитлера: о «лагерях смерти», в которых истребляется целая нация, та нация, к которой частично относился и Ник.
— Я сделаю, что вы просите, — сказал он негромко. — Я сделаю это по многим мотивам. Но главный из них — память о жене. Этот долг я нацистам еще не вернул.
Президент и Донован облегченно вздохнули.
Почти полностью раздетые шоу-герлз из «Семирамиды», парижского ночного клуба, который приносил его хозяйке Диане Рамсчайлд просто сказочный доход — клуб помещался на площади Дю-Тетр на Монмартре, — одна за другой спускались по ступенькам сцены в зал. Вместо юбок на них были какие-то украшенные блестками тесемки. Туфли на высоких каблуках от Джоан Кроуфорд с ремешками на лодыжках, нарядные головные уборы с перьями и больше ничего! Пока они спускались со сцены, в самом ее центре, у микрофона, потрясала публику своей красотой блондинка Лора Дюкас. Она исполняла «гвоздь» программы: песенку «Париж в ночи». Пока Лора пела то по-немецки, то по-французски, полторы сотни находившихся в зале подвыпивших потных немецких офицеров вожделенно и в молчании смотрели на обнаженные груди шоу-герлз.
Тебе одиноко? Тебя томит страсть и жажда? Не хочешь ли подцепить веселую милашку? Тогда возьми вело. Пойдет и самокат, И дай кружок по Парижу-у! Париж в ночи, Красивый и нарядный! Париж в ночи, Где нет свободной любви. Пни жида! Сопри его вело! И дай кружок по Парижу-у!В отличие от прочих шоу-герлз Лора была одета, ее усыпанное белыми блестками вечернее платье мерцало при затянутом табачным дымом свете юпитеров. Мини-юбка не скрывала чувственных ног певички. Антисемитское и прогерманское периодическое издание «Я везде» сравнило их с ножками Бэтти Грабл. Уразумев намек, Лора собрала свои крашеные кудряшки на макушке а-ля Грабл. Но в отличие от Бэтти Лора была удивительно красива, а ее глаза цвета морской волны были просто мечтой арийца. Она была дочерью мэра города Пуатье и в течение пяти лет воспитывалась в ультраконсервативном женском монастыре в Париже. Потом она решила, что замкнутая жизнь не для нее, и сбежала из обители. Спустя год после оккупации немцами Парижа она устроилась певичкой в дешевенький ночной клуб. Там-то ее и приметила Диана, которая забрала оттуда Лору и сделала из нее настоящую звезду. Диана, которую в Париже звали La Dame aux Voiles, сумела разглядеть в девушке талант.
Вечерний Париж! Город вина и любви! Вечерний Париж! Но не для жидовской мрази!— пела Лора по-французски.
Зрительный зал поднялся и устроил ей овацию.
Один германский офицер, лейтенант в форме эсэсовца Вернер Герцер, видел это представление уже девять раз и прослыл завсегдатаем «Семирамиды». Он был молод, красив, имел чудесные белокурые волосы. В 1936 году на Олимпийских играх в Берлине Вернер Герцер выступал как гимнаст. В «Семирамиде» его знали не только все официантки и гардеробщицы, но и лично хозяйка ночного клуба Диана.
— Он милашка, — говорили о нем.
Но всем также было известно, что штурмфюрер Герцер являлся командиром расстрельной команды из Форт-де-Винсенн. В его подразделении была сильная «текучка кадров». Участие в казнях психологически травмировало солдат. Но Герцер оставался бессменным командиром вот уже год.
Он любил свою работу.
Генерал Карл Генрих фон Штюльпнагель был военным комендантом оккупированной Франции. Это был родовитый интеллектуал, сердце которого никогда не лежало к нацистской идеологии, и он считал, что между Францией и Германией в сущности нет никаких политических различий. Он жил на авеню Малахофф, во дворце Марбр Роз (Мраморной Розы), который принадлежал миссис Флоренс Гулд, наследнице одного из самых крупных американских состояний. Во время всего периода оккупации миссис Гулд устраивала роскошные ленчи по четвергам, на которые приглашались именитые и высокопоставленные немцы и французы. Генерал фон Штюльпнагель реквизировал отель «Рафаэль», что на авеню Клебер, и разместил там свой штаб. В этом отеле в апартаментах шестого этажа и жил «второй немец» в Париже, отвечавший за внутреннюю безопасность в оккупированной Франции, генерал Фридрих фон Штольц.
Страстью Штюльпнагеля было изучение истории Византии. Он не одобрял грубого отношения оккупационного режима к французам и постоянно спорил с Берлином, возражая против казней участников движения Сопротивления и депортации евреев. Поскольку в этих спорах он всегда проигрывал, Штюльпнагель печально вздыхал и вновь обращался к своей любимой Византии, переваливая всю грязную работу на фон Штольца.
Генерал фон Штольц был младшим сыном саксонского обедневшего аристократа, а саксонцев в Германии издревле называли дурнями. Если Штюльпнагель действительно был человеком высокой культуры, то фон Штольцу вполне достаточно было пьянствовать под антисемитские песенки Лоры Дюкас. Низенький, кряжистый, рыхлый, с красным жирным лицом, бычьей шеей и в очках с толстыми стеклами, делавшими его дальнозоркие глаза в два раза больше, Штольц походил на мясника. И правда, если стройного, щеголеватого Штюльпнагеля парижане называли «щелкунчиком», то для Штольца нашлись только такие прозвища, как «живодер», «коновал» и «мясник». Этот пятидесятидвухлетний алкоголик, который так же, как и Гитлер, грыз ногти, был в ответе за пять сотен погубленных жизней французов в мрачном чреве Форт-де-Винсенн.
Сказать, что большинство парижан предательски сотрудничали с оккупантами, было бы так же неправильно, как и сказать, что большинство парижан являлись активными деятелями Сопротивления. Основная часть жителей столицы просто пыталась элементарно пережить лихую годину, перебиться со дня на день. Правило было одно: чем выше ты стоишь на социальной лестнице, тем лучше живешь и тем сердечнее у тебя отношения с немцами. Так что едва ли с приходом нацистов в Париж жизнь его богачей и знаменитостей стала хуже. Неплохо жил во время оккупации Пикассо. Не страдали и Кокто, Серж Лифарь, кинозвезда Арлетти, Шанель, Колетт и десятки других. Луиза де Вилморен, известная в Париже владелица отелей, так прославилась своими прогерманскими настроениями, что ее стали даже звать «Лулу-померанка». Многих французских женщин и гомосексуалистов галантные немецкие солдаты просто приводили в восторг. С другой стороны, парижская молодежь из «Колизея», самого популярного кафе на Елисейских полях, носила длинные нечесаные волосы и темные очки, тем самым выражая свое презрение по отношению к немецкой солдатне. Это были стиляги.
Состоятельным господам всегда можно было купить икру «У Петросяна», такие роскошные магазины, как «Гермес», «Картье» и «Бушерон», были завалены продуктами и вещами как никогда. Дельцы в сфере антиквариата переживали бум спроса. Ведущий в Париже аукцион «Саль Дрюо» осуществил в 1942 году продажу коллекции Вио за сорок семь миллионов франков! Пять миллионов было заплачено за полотно Сезанна «Гора Святой Женевьевы»! И ту и другую покупку сделали немцы. Знаменитые рестораны, такие, как «Лапераз», «Ля маркиз де Севинье», «Ля тур д’Аржан», «Ле гран Вефур», «Кларидж», «Сиро», «Ше Каррер», «Друан» и «Максим» — под опекой и управлением берлинского ресторана «Горхер», — были открыты и получали огромные доходы. Фабьен Жаме, содержательница знаменитого публичного дома на Рю-де-Прованс, 122 и главный конкурент Дианы Рамсчайлд, признавалась, что никогда еще не была так счастлива и никогда еще так не процветал ее бизнес. Да и личный доход Дианы от «Семирамиды» составлял четверть миллиона долларов ежегодно. В Париже был оазис. За его пределами бушевали вихри небывалой войны, а во французской столице, смирившейся под начищенным сапогом германского солдата, если не считать реденьких налетов авиации союзников, результатом которых были разрушения в пригородных заводах и воронка от взрыва перед собором Парижской Богоматери, жизнь была безмятежной и относительно сносной. Относительно.
Подводная лодка неслышно всплыла на поверхность чернильных волн под низким темным небом в полумиле от Ля-Рошели, на западном побережье Франции. Люк открылся, и первым на скользкую палубу вышел командир субмарины капитан третьего ранга американского военно-морского флота Уоррен В. Хикмен. За ним показались его помощник и два матроса, которые тут же стали надувать небольшую лодку. Затем на палубе появился полковник Ник Флеминг. На нем были черный костюм, поверх свитер-водолазка, черное пальто и морская фуражка.
Ветра совсем не было, и поверхность моря была спокойна. Термометр показывал три градуса ниже нуля по Цельсию. Ник поднял воротник своего пальто и стал терпеливо ждать, пока ему надуют лодку. При нем были пистолет и тысяча долларов во французских франках. Он был полон тревожных предчувствий, так как до сих пор не исключал того, что Диана Рамсчайлд просто заманивает его в очередную ловушку. Ник верил в силу любви, но не представлял себе, каким образом Диана еще могла любить его после всего, что произошло между ними за четверть века!
И все же он понимал, что игра стоит свеч.
— Удачи, Ник, — пожелал командир, пожав его руку в перчатке.
После этого Ник спустился в резиновую лодку и матросы, налегая на весла, направили ее к французскому берегу. Они находились к югу от Ля-Рошели.
Прошло минут пятнадцать, как у берега замигали два зеленых огонька. Матросы стали править в ту сторону. Спустя еще десять минут Ник перебрался из резиновой лодки во французский рыбачий баркас, на котором его приветствовал двадцативосьмилетний Николя Фукад, член французского подполья. Резиновая лодка повернула обратно к субмарине, а рыбацкая — к берегу. Тут-то Фукад и представил Нику своего товарища, лицо которого показалось американцу знакомым.
— Этот человек доставит вас в Париж, — сказал Фукад. — Рене Рено.
Ник с радостью пожал руку молодому французу, который оказался тем самым капитаном, с которым он познакомился за четыре года до этого в саду замка Де-Шиссе, когда часы отсчитывали последние дни независимой Франции.
— Как видите, мистер Флеминг, — сказал капитан, улыбаясь (теперь он был без усов), — я нашел способ продолжать служить Франции.
— И я, — улыбнулся в ответ Ник. — Счастлив, что мы будем работать вместе.
— Когда я узнал, что эта миссия возложена на вас, я сам вызвался вам в помощники. К тому же, может, и нам перепадет что-нибудь от чудес «Семирамиды»? — Рено хитро подмигнул Нику.
ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ
В каждом поколении женщин рождается не так уж много тех, чьим призванием становится соблазнение мужчин. Лора Дюкас попала в число избранных. Она была не только ослепительно красива, но обладала также редким обаянием и спокойной уверенностью в себе, что делало ее просто неотразимой. Она плохо слышала на одно ухо, поэтому всегда садилась по правую руку от мужчин. Она довольно рано поняла, что, наклоняясь к своему кавалеру, производит впечатление человека, крайне заинтересованного его болтовней и боящегося пропустить хоть одно его слово. Это очень льстило самолюбию мужчин. А эта лесть, как она прекрасно знала, — полдела в процессе соблазнения. В глубине души Лора относилась к мужчинам с некоторой долей презрения и считала, что все они либо шуты гороховые, либо властолюбцы. Впрочем, это не мешало ей получать наслаждение от их лаек в постели.
Не каждого мужчину, понятно, она хотела бы уложить в свою постель. Пьяные попытки Штольца приласкать ее вызывали в Лоре только отвращение. Но, с другой стороны, его безумная страсть к ней была слишком выгодна, чтобы ею пренебрегать. Поэтому, когда он валил ее на постель, она стискивала зубы, закрывала глаза и представляла себе Кларка Гейбла. Задача была не из легких и требовала полного напряжения фантазии. Лора частенько включала в свои песенки антисемитские выверты, но делала это только потому, что знала, перед какой аудиторией ей приходится выступать. Она лично не имела ничего против евреев и даже спала с одним молодым еврейским актером. Но потом он вынужден был уйти в подполье и примкнул к Сопротивлению. Она не рассказывала об этом Штольцу — это вызвало бы у него припадок, — но сама с удовольствием вспоминала своего бывшего любовника. Быть же любовницей Штольца означало, прежде всего, купаться в роскоши. Лору совершенно не интересовало, платит ли за все это Штольц из своего кармана или «реквизирует». Лора привыкла жить с комфортом, и в то время, когда большинство парижан было озабочено тем, как согреть свои дома и чем наполнить свои кладовые, Лора блаженствовала в тепле и питалась настолько хорошо — Штольц доставал все на черном рынке, который обслуживал преимущественно немцев, — что вынуждена была даже соблюдать диету, дабы сохранить фигуру.
Штольц покупал ей драгоценности от Ван Клифа и Шомэ, наряды от Нины Риччи и Баленчиага. Купив Лоре шубу из русского соболя и накидку из русского песца, Штольц показал себя плохим патриотом, так как русские в те дни без счета клали его соотечественников на Восточном фронте. Лоре подарки нравились. Ей нравилось то, что в ее распоряжении всегда есть «хорьх» с личным шофером. И это в то время, когда во всем Париже насчитывалось всего лишь семь тысяч автомобилей! И это в то время, когда специально были изобретены машины, работающие на природном газе, так как бензин был почти недоступен. И это в то время, когда два миллиона парижан использовали велосипеды, а велотакси вовсю соревновались с конными повозками, явившимися словно из прошлого века. Лоре нравилась ее четырехкомнатная квартира на пляс Вендом, за которую заплатил фон Штольц. Окна ее выходили на «Ритц», где в своих апартаментах Коко Шанель затворилась вместе со своим высокопоставленным немцем-любовником. Лора всегда говорила себе, что устроилась не хуже Шанель, а это можно было назвать не рядовым достижением.
Но должность любовницы фон Штольца предполагала и еще одно важное преимущество, на которое указала Лоре год назад ее хозяйка Диана Рамсчайлд.
Лора любила Диану, восхищалась ею. Хозяйка жила в собственной роскошной квартире на авеню Фош. Лора знала, что Диана умна, как сам черт. Сама певичка абсолютно не интересовалась ни войной, ни политикой, но едва пришла весна 1943 года, Диана сказала ей, что Гитлер, судя по всему, проиграет войну, что выдворение немцев из Парижа — лишь вопрос времени. Диана говорила, что французы из Сопротивления придут к власти и тогда наступят тяжкие времена для таких коллаборационистов, как она и Лора. Поэтому Диана приказала Лоре начать прислушиваться к пьяной болтовне «немчика» и потом передавать всю информацию ей. Тем самым они смогут, по меньшей мере, играть на два фронта. Диана уже установила контакты с Сопротивлением, и переданная ими военная информация могла помочь им обеим избежать неминуемой кары после изгнания немцев. Лора, убоявшись одного только зловещего слова «кара», с готовностью согласилась и во время общения с немчиком стала кое-что брать себе на заметку. О «тяжелой воде» она в первый раз услышала поздней осенью 1943 года, а 18-го января 1944 года, снежной ночью, ей суждено было услышать обо всем подробнее.
Штольц выпивал по вечерам не менее двух бутылок бургундского, но такова уж была его бычья комплекция: наутро он просыпался почти без признаков похмелья. В тот январский вечер он, как обычно, поглазел в «Семирамиде» на очередное представление с участием Лоры, затем потащил ее ужинать к «Максиму». Старший официант ресторана Альберт едва ли не на коленях ползал перед генералом. Хорошо набравшись в ресторане, Штольц захватил с собой бутылку «Ля Таш» и повез Лору на ее квартиру на пляс Вендом. В лифте, который поднимал их на второй этаж, Штольц зычно затянул германский гимн. Лора уже привыкла к таким «концертам» и просто не обращала на них внимания, но она знала, что соседям в эти минуты приходится несладко.
Они вошли в квартиру. Лора включила свет. Штольц нетвердой походкой отправился на кухню, чтобы откупорить бутылку. Перед тем как заняться сексом, Штольцу необходимо было немного «добрать». Эти несколько минут были отдыхом для Лоры. Она пошла в спальню, чтобы переодеться. В «Галери Лафайет» он недавно купил ей чудную ночную сорочку из голубого шелка и атласа, а также красивый пеньюар.
У Лоры всегда был неплохой вкус в одежде, чего нельзя было сказать о ее вкусе в обстановке жилых помещений. Ее квартира являла собой ярчайший пример мещанства и безвкусицы. Все эти розовые банты на абажурах, псевдоголливудская современная мебель, куклы и чучела животных на креслах, стульях и диванах могли вызвать дурноту у любого, кроме Штольца, который обожал кич. Когда она, переодевшись, вернулась в гостиную, то обнаружила Штольца развалившимся на одном из диванов. Ботинки и форма валялись тут же на полу. Рубашка наполовину расстегнута, на левом носке дырка. Стакан с вином стоял у дивана под рукой. Штольц забавлялся, подкидывая в воздух одного из плюшевых медвежат Лоры.
— Куколка! — икнув, проревел Штольц. Он всегда говорил с ней на французском. Хочешь поехать со мной на эти выходные в Бретань?
— В Бретань?! В январе?! — раздраженно переспросила она. — Может, уж сразу в Антарктиду?
— О, в Бретани сейчас чудесно!
— Чудесно, да. И особенно холодно. Если уж ты и впрямь захотел развлечь меня поездкой, почему бы нам не отправиться на юг? Я бы с удовольствием отдохнула в Риме или Неаполе.
— Куколка, не забывай, идет война.
— Ну и что? Я думала, что итальянцы наши союзники.
— Да, это так, но я никак не могу поехать на выходные в Рим. Берлину бы это совсем не понравилось. Если уж на то пошло, то Берлину не понравится то, что я собираюсь взять тебя в Бретань, но я тебя возьму, потому что мне очень не хватало бы там моей куколки! — Он противно улыбнулся ей. — Мы будем там есть устриц! Скажи, ты ведь любишь устриц?
Она поставила пластинку Бэнни Гудмэна. Они оба обожали американский свинг.
— Я не настолько люблю устриц, чтобы из-за них мерзнуть в Бретани, — сказала она и ушла на кухню, чтобы заварить чай, купленный на черном рынке.
Он появился в дверях кухни, тучный, напившийся. Его налившиеся кровью глаза под толстенными стеклами очков немного косили, что всегда случалось, когда он принимал слишком много алкоголя.
— Там есть одна крепость, — заплетающимся языком пробормотал он. — Мне нужно посетить ее. Там-то как раз и делают ту «тяжелую воду», о которой я рассказывал. Но там, совсем рядом, у дороги, есть замок, где мы сможем остановиться. Он очень красивый и милый. Принадлежит одному богатому банкиру, который встретит нас как родных. Ну скажи: да! Куколка! Ну, пожалуйста! Мы здорово проведем время! Ну скажи: да!
Лора запомнила все, что он ей сказал…
— Ладно, — согласилась она. — Если ты действительно так хочешь…
Он счастливо улыбнулся, подошел к ней и обнял ее.
— Ах ты моя куколка! — ласково бормотал он, целуя Лору.
Лора закрыла глаза и стала думать о Кларке Гейбле.
В начале шестого часа утра 23 января Шарль Пепен, крестьянин из Шартра, въехал в Париж на своей крытой повозке, запряженной лошадьми. Комендантское время — с полночи до пяти утра — только что истекло. Пепен делал сейчас то, что со времени начала оккупации делал трижды в неделю: вез дрова на рынок, где рассчитывал продать их с большой выгодой, так как в Париже ощущался острый недостаток топлива.
Изо рта у Шарля и из ноздрей у его коняг вырывались на морозный воздух клубы пара, и, несмотря на то что было еще темно и холодно, неутомимые и отважные парижские домохозяйки уже выстроились в длинные очереди перед дверями булочных и продуктовых магазинов: они терпеливо ожидали семи часов, когда их допустят к прилавкам, чтобы купить хлеба, суррогата кофе и брюквы. В довоенные времена французы скармливали последнюю разве что лошадям, теперь же она являлась непременным блюдом парижской кухни. Вскоре впереди показалось величественное здание из стекла и железа — центральный парижский рынок. Крестьянин подъехал к дровяным рядам и спрыгнул на землю. Он глянул на двух немцев, стоявших вдалеке и смотревших в другую сторону, затем дважды стукнул кулаком в борт повозки. В следующее мгновение из-под ее ложного дна показались Ник и Репе Рено. Они ехали в тесноте от самого Шартра. Соскочив на землю, они тут же устремились прочь.
На Ника произвела впечатление налаженность работы движения Сопротивления. В крестьянском домике неподалеку от Ля-Рошели он получил документы на свое новое имя — Жюль Гранэ. Искусно выполненная «липа», конечно. На поезде они без приключений добрались до Шартра. Там им выдали велосипеды, на которых они отправились к Шарлю Пепену, и вот теперь — Париж.
Им нужно было попасть в южную часть города. Для этого они воспользовались метро. Вначале они были в вагоне одни, но на второй остановке в него вошли два немца. Крепко подвыпившие. У оккупантов был странный обычай: коротать комендантское время в барах. Ник забеспокоился, но немцы плюхнулись в другом конце вагона и тут же захрапели.
Ник и Рене вышли из метро недалеко от Версаля, прошли несколько кварталов до Рю-де-Вожирар, затем нырнули в узенькую боковую улочку и в середине ее нашли четырехэтажный дом № 5. В подъезде сидела консьержка, в пальто, варежках и вязаной шапочке, укутанная еще и в одеяло. Она взглянула на Рене и кивнула ему. Они бегом поднялись по старинной каменной лестнице на третий этаж. Рене отпер своим ключом дверь в какую-то квартиру. Она состояла из четырех комнатенок и выходила окнами на заднюю аллею. Комнаты с высокими потолками были обставлены удобной мебелью. Поначалу Ник подумал, что квартира пуста. Но едва Рене закрыл дверь, как из-за занавески, закрывавшей вход в гостиную, показались двое, на ходу убирая пистолеты.
— Ги и Поль, — проговорил Рене. — А это Жюль Гранэ. Он же Ник Флеминг.
Ник обменялся с молодыми людьми рукопожатием. Затем Ги ушел на кухню и появился оттуда с кофейником и четырьмя чашками.
— Это настоящий кофе, — сказал он, улыбаясь. — Не тот суррогат, которым нас потчуют господа оккупанты. Мы реквизировали несколько банок из поезда, который пустили под откос около Лиона.
— Настоящий кофе? Это первая хорошая новость для меня во Франции, — проговорил замерзший Ник.
— Ги кинорежиссер, — сказал Рене. — А Поль литератор.
— После войны мы планируем создать фильм об оккупации, — сказал Поль. — Так что то, чем мы сейчас занимаемся, рассматриваем как репетиции и кинопробы.
— У Ника в Голливуде есть своя студия, — заметил Рене.
На Ги и Поля это явно произвело впечатление.
— Значит, надо его беречь, — сказал Ги, и все четверо рассмеялись.
После кофе Рене сказал:
— Диана Рамсчайлд пока не знает, согласились ли вы приехать или нет. По понятным причинам мы держим ее в неведении. Теперь, когда вы здесь, мы свяжемся с ней и организуем встречу. Не беспокойтесь, мы ей не доверяем и знаем, что это все может оказаться ловушкой. Ей придется раза два сходить по ложные явки, прежде чем мы пустим ее сюда. Так что, если за ней будет немецкий хвост, встреча не состоится.
Ник помешал ложкой в своей чашке.
— Интересно, — проговорил он, — почему это она решила говорить только со мной? Я знаю, что она вам рассказывала, — что она при смерти, все еще любит меня, хочет в последний раз увидеться, — но если честно, чем больше я обо всем этом думаю, тем больше все это напоминает мне сущий бред. Тут что-то другое.
— Ну что ж, — сказал Рене, — скоро мы все узнаем. Не будем от вас скрывать: контрольная встреча уже назначена на сегодня в полночь. Время еще есть, и мы можем поспать. Четыре часа тряски в телеге с дровами я не могу назвать приятным времяпрепровождением.
— Да, конечно, это был не Восточный экспресс, — согласился Ник.
— Эта Диана Рамсчайлд неплохо устроилась в военное время, Дама под вуалью, как ее называют, — сказал Ги. — Мне плевать, какими мотивами она руководствуется, помогая нам… Я все равно никогда не забуду ей то, что она делала деньги в то время, когда Франция страдала.
— Ги типичный парижанин, — заметил Рене. — Он презирает бедных и ненавидит богатых.
— Я ненавижу предателей, — спокойно ответил Ги. — А что до этой шлюхи Лоры Дюкас, которая служит подстилкой этой жирной свинье с генеральскими погонами, ездит на личной машине и купается в мехах и драгоценностях, то ей уже впору нацепить железный крест за заслуги перед рейхом.
— Возможно, — прервал его Рене, — но лучше помолчи об этом. Не забывай, что это не один из, твоих фильмов, где есть хорошие и плохие ребята. Если Лора Дюкас в самом деле может помочь, я сам приколю ей на грудь Лотарингский крест. А если ее информация будет очень важной, я себе кое-что оторву и нацеплю ей вместо ордена!
— Джентльмены, — фыркнул Поль с шутливой чопорностью. — Ваша беседа выходит за рамки приличий.
Увидев ее входящей в комнату, он поразился ее красоте. На ней была норковая накидка до пят, что выдавало богатство, просто вызывающее по меркам военного лихолетья. Ее крашеные золотистые волосы были уложены в красивую прическу. На голове был зеленый тюрбан из атласа, а нижнюю часть лица закрывала легкая светло-зеленая вуаль. Все это придавало ей экзотический гаремный вид и выглядело чарующе. Под накидкой на ней было вечернее платье из серебристой парчи, которое слабо мерцало при свете свечей (электричество на ночь выключалось). Ее руки, обтянутые перчатками, сжимали инкрустированный драгоценными камнями золотой кошелек от Картье. Ник, который однажды купил точно такой же для Эдвины, знал, что он стоит никак не меньше трех тысяч долларов. Этот царственный наряд и царственная осанка выглядели вызывающе под угнетенным военными лишениями Парижем. Диана подошла к Нику, подняла на него свои удивительные зеленые глаза и сказала:
— В последний раз наша встреча происходила при совсем других обстоятельствах.
Ник вспомнил пыточную камеру гестаповской тюрьмы.
— Это еще мягко сказано, — ответил он.
Она взглянула на французов, которые стояли тут же и держали наготове свои пистолеты.
— Я поступила честно и не привела за собой немцев. А теперь я желаю говорить с Ником Флемингом наедине.
Рене протянул к ней руку.
— Мне придется осмотреть вашу сумочку, — потребовал он.
Диана почти презрительно кинула ему свой роскошный кошелек.
— Я не собираюсь покушаться на своего старого друга, — сказала она. — В кошельке нет ничего кроме туши для ресниц и мелких денег. Губной помады и румян там нет. Моему лицу они не нужны. — Она снова обернулась к Нику. — Хотя я должна наконец признаться, что много лет назад пыталась убить тебя. Вы так и не узнали, кто застрелил Рода Нормана?
— Пуля предназначалась для меня, не так ли?
— Да. Тогда я тебя ненавидели за все, что ты со мной сделал. Ты достоин был этой ненависти. Но моя ненависть умерла, когда я увидела тебя в той нацистской тюрьме. С течением времени понимаешь, что такие чувства, как ненависть, сильно надоедают. Кстати, я отправила убийцам Нормана письмо, в котором просила вернуть мои деньги, так как они дали осечку. Мне даже не ответили.
— Зачем было тратить деньги на мое убийство? На свете есть немало охотников разделаться со мной бесплатно. И этот список возглавляет мой бывший зять.
— Ты смело можешь вычеркнуть из этого списка мое имя. Теперь сохранение твоей жизни отвечает моим интересам.
Рене вернул ей кошелек.
— Все нормально, Ник. Только тушь и мелочь.
— Так вы оставите нас одних? — спросила Диана.
Рене направился к двери.
— Мы будем на кухне, — сказал он, и все трое вышли.
Диана села за круглый деревянный стол, накрытый кружевной скатертью. На нем стоял маленький радиоприемник.
— Ты поверил тому, что я им говорила? — начала она. — Что я умираю и хочу поэтому повидаться с тобой?
— А что, не надо было? — спросил он, садясь напротив нее.
— Все зависит от того, не умерла ли в тебе еще романтика. Не умерла, Ник? Много лет назад ты сказал, что любовь — это самое главное в жизни. Ты все еще веришь в это?
— Да.
— Ты сказал еще, что наша с тобой любовь будет длиться вечно. По-моему, ты тогда сказал это, не подумав.
— Надеюсь, ты пригласила меня во Францию не для того, чтобы обсуждать наши любовные воспоминания?
— Не скажи! Для меня это очень важно, Ник. Ты даже представить себе не можешь, как часто ты мне снишься. Ты просто преследовал меня в снах в течение многих лет. Я все еще люблю тебя. Глупо, да? Глупо, что человек может оказывать такое воздействие на другого. Мы, люди, и вправду очень странные создания. — Она немного помолчала. — Скажи, Ник: а я еще оказываю на тебя какое-нибудь воздействие? — Она грустно засмеялась. — Ладно, не трудись отвечать. Мой бизнес сделал меня настоящим экспертом в любви. Мужчины влюбляются и остывают. Только женщина способна на любовь до гроба. Это мой крест, Ник. И моя слабость. Я любила тебя все эти годы. Даже тогда, когда думала, что ненавижу. Отчасти я пригласила тебя в Париж до того, чтобы сказать это. Думаешь, не стоило из-за этого ехать?
Она говорила спокойным, убеждающим тоном. Он сам удивился тому, насколько сильно его тронули ее слова.
— Нет, — сказал он. — Может, и стоило.
— Ты был счастлив с Эдвиной?
— Очень. О мужчинах ты, конечно, можешь отзываться цинично, Диана, но знай: Эдвину я любил так, как ты говоришь, что любишь меня. Ее уже нет со мной, но я все еще люблю.
Она теребила ремешок своего кошелька.
— Выходит, — сказала она, — все эти годы мы двигались с тобой в противоположных направлениях. Я любила тебя, а ты любил Эдвину. Но я думаю, что именно это и делает жизнь интересной: противоречия. И тут самое время перейти к другой причине, заставившей меня пригласить тебя в Париж. Ты кое-что должен мне, Ник, и я собираюсь предъявить счет. Не из злобы и не из мести. Все это во мне давно умерло. Просто из чувства справедливости.
— Что я тебе должен?
— Нацисты поносят тебя в своей печати, — уклончиво начала она.
— Что с того? Американцы поносят меня в нашей печати.
— Доктор Геббельс называет тебя Титаном смерти. Он говорит, что войну спровоцировали ты и Черчилль. Он заявляет, что вы заработали на войне сотни миллионов. Это правда, Ник?
— Естественно, я делаю деньги. По-моему, едва ли найдется предприниматель, кроме разве что производителя игрушек, который бы не делал деньги на этой войне. И, знаешь… Гляжу я на твое норковое пальто и думаю, что ты тоже неплохо устроилась. Кстати, я удивляюсь, как у тебя хватает смелости носить его на людях?
Она пожала плечами:
— Здесь меня считают экзотической личностью, у которой всегда свой стиль. Парижане простят всякого, что бы он ни делал, если у него есть свой стиль.
— Но когда война кончится, не думаю, что они будут столь же снисходительны. Особенно когда узнают, откуда у тебя эти деньги.
— Вот ты сам и заговорил о том, о чем я не решалась начать. Я доила нацистский режим как могла, но я никогда не симпатизировала нацистам. Геринг умеет быть очаровашкой, но внутри он животное. И кроме того, в сердце я чувствую себя до сих пор американкой. Ты можешь мне не поверить, Ник, но в самом начале войны, когда немцы были еще в силе, я искренне боялась того, что они смогут выиграть. Я боялась за Штаты. Теперь я получила возможность помочь врагам нацистов, и мне радостно на душе от этого. А что до моего будущего, то я рассчитываю обеспечить его с твоей помощью.
«Она очень осторожно подходила к главному, — думал он, глядя на нее. — Но теперь, кажется, начинается».
— Через несколько месяцев я покину Париж, — продолжала она. — Я захвачу с собой столько денег, сколько смогу, и отправлюсь в Швейцарию, где собираюсь дождаться окончания войны. Мне абсолютно все равно, что станет с моим ночным клубом. Если его не прикроют немцы, то это обязательно сделают французы, едва вернут себе власть.
Она замолчала, не спуская с него глаз.
— Ты забрал себе то, что предназначалось мне в наследство, Ник. Ты забрал себе компанию Рамсчайлдов, которая была основана моим дедом и в один прекрасный день должна была стать моей. Я не хочу сказать, что ты забрал ее себе незаконно. Просто ты владеешь ею, а я нет. Я хочу получить часть моего наследства. Я хочу этого, потому что считаю, что имею на это право, и потому еще, что по моем приезде в Швейцарию я хочу иметь обеспеченную старость. Кстати, я лгала насчет тяжелой болезни. Я здорова как лошадь.
— Сколько? — спросил он.
— Я хочу акций Рамсчайлдов на пять миллионов долларов, положенных на мое имя в швейцарском банке.
— Нет.
— Тогда ты не получишь информации о «тяжелой воде».
— Я не дам тебе акций. Я согласен положить на твой счет пять миллионов долларов, но не в акциях. Ты права, Диана, у меня есть долг тебе, и я желаю его вернуть. Но об акциях не проси.
Ее глаза полыхнули зеленым огнем, и он на секунду подумал, что предстоит борьба. Но потом она просто пожала плечами.
— Отлично, я возьму деньгами. Так, значит, по рукам?
— По рукам.
Она протянула ему через стол свою руку в перчатке, и он пожал ее. Но она не отпустила его ладони, а стиснула ее.
— Милый Ник, — прошептала она, — ведь все могло было быть совсем по-другому! — Она отпустила его руку и поднялась из-за стола. — Лучше всего тебе будет встретиться с Лорой в ночном клубе, — сказала она. — Нацисты твердо убеждены, что «Семирамида» — это отстойник для симпатизирующих им предателей, и они совсем не обращают внимания на тамошнюю публику. А что до Лоры, с ней тебе будет всего безопасней: ведь она любовница самого немчика фон Штольца. Я приглашаю тебя и твоих друзей, — она кивнула в сторону кухни, — в клуб завтра к девяти утра. Лора расскажет тебе все, что знает, а за последнюю неделю она узнала много нового: немчик возил ее в Бретань.
Ник тоже поднялся.
— Мы придем, Диана. И…
— Да?
— Спасибо тебе.
Она посмотрела на него печально и, как ему показалось, чуть с вызовом, как будто уже жалела о том, что была с ним так откровенна, как будто ее гордость была уязвлена.
«Замечательная женщина», — подумал он.
— Ты все еще красива, Диана, — сказал он.
Ей это явно понравилось. Она открыла дверь.
— Как ты будешь сейчас добираться до дому? — спросил Ник. — Комендантский час.
— Я попросила у Лоры ее машину, — ответила она. Ее глаза озорно блеснули. — Ни один немец в Париже не посмеет остановить автомобиль генерала фон Штольца.
С этими словами она ушла.
ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ
Так, значит, все-таки любовь была той причиной, благодаря которой он оказался в Париже. Он размышлял над этим следующим утром, когда они вчетвером — он, Рене, Ги и Поль — катили на велосипедах через весь город к Монмартру. Любовь и деньги. Пять миллионов долларов были, разумеется, большой суммой, но он считал это долгом совести. Он чувствовал, что много лет назад действительно обошелся очень жестоко с Дианой. И, Бог ведает, как она с тех пор страдала. В качестве компенсации он готов был гарантировать ей счастливую и обеспеченную жизнь. Кроме того, секрет «тяжелой воды» стоил, если уж на то пошло, гораздо больше пяти миллионов. Вполне вероятно, что от этой «тяжелой воды» напрямую зависит исход войны.
Интересно, можно ли считать его миссию законченной? Он очень на это надеялся, проезжая по красивым парижским улицам, где, кроме военных машин, велотакси и велосипедов, не было другого дорожного движения, что выглядело довольно странно. Во всем чувствовалось нацистское присутствие. Знамена со свастикой развевались на всех известных зданиях, в том числе и на верхушке Эйфелевой башни. Тут и там стояли деревянные стрелки-указатели с надписями на немецком. Конец оккупации неумолимо приближался, но захватчики еще были в силе. Ник понимал, что, только выбравшись отсюда, он почувствует себя в безопасности.
Скоро они доехали до Пляс-дю-Тетр. На тротуаре стоял немецкий часовой. Перед ним был мольберт. Солдат акварельными красками расписывал красоту этого известного в Париже места. Они повернули во двор дома, где размещался клуб «Семирамида», слезли с велосипедов и прислонили их к стене рядом со служебной дверью.
— Замкните его, — посоветовал Рене, подавая Нику замок. — Велосипеды сейчас так же дороги, как и автомобили до войны.
Они подошли к двери. Ник постучался. На часах было точно девять утра. Дверь открыл пожилой мужчина в берете. На нем было сразу два свитера, во рту покачивалась сигарета.
— Здравствуйте, — буркнул он по-французски, отступая на шаг назад. — Мадам ждет вас.
Он проводил их по тесному коридору служебного крыла клуба. Еще в начале 1938 года здесь были три квартиры. Диана обновила и перестроила их. Клуб открылся в год смерти Мустафы Кемаля. Они дошли до двери с приколотой к ней крохотной серебристой звездочкой и табличкой со словами: «Мадемуазель Дюкас». Старик постучался.
— Входите, — раздался женский голос.
Он открыл дверь, и они вошли в небольшую костюмерную. Лора и Диана сидели в шезлонгах. На Диане, как всегда, было длинное до пят платье, несмотря на утро. Лора же была одета со всем оккупационным шиком: белая блузка с ватными плечами, узкая черная юбка, не скрывавшая восхитительных длинных ног, и пара черных туфель с черного рынка. Костюмерная была вычурно оформлена. В углу на стене были развешаны французские и американские киноафиши. Но взгляды вошедших были прикованы к Лоре. Нику на его веку достаточно доводилось видеть сексуальных блондинок, но эта была, пожалуй, всех сексуальнее. Теперь-то он прекрасно понял генерала фон Штольца.
— Это Лора, — сказала Диана, едва старик ушел. — Ник, как у тебя с французским?
— Посредственно, — ответил он по-французски.
— И то хорошо. Лора английского вообще не знает. — Она перешла на французский: — Расскажи им, милая, о своих выходных.
Лора закурила. Было видно, что она нервничает.
— На прошлые выходные, — начала она, — мой немчик… то есть генерал фон Штольц… взял меня с собой в Бретань. Мы приехали в городок на северном побережье, который называется Трегастель, и остановились в замке банкира виконта де Люшер. О, это роскошный домик! Виконт является приятелем многих нацистских шишек. Немчик должен был посетить то место, где нацисты получают «тяжелую воду». Это в нескольких милях от замка виконта, прямо на побережье. Производство налажено в старой крепости то ли XV, то ли XVI века. Я в этом не очень разбираюсь.
— Как называется крепость? — спросил Рене.
— Крепость Де-Морле. Немчик укатил после завтрака, а вернулся только в половине шестого вечера. Пока был трезвый, напускал на себя секретный вид, но потом, как всегда, напился и разболтал, что нацисты собираются переводить все производство на следующей неделе в Германию.
Рене встревожился:
— Зачем?
— Я думаю, они боятся вторжения союзников во Францию.
— Да, времени у нас в обрез, — обеспокоенно сказал Ги.
— Теперь место точно известно, — сказал Поль. — Надо связаться с Лондоном, и англичане отбомбятся по крепости.
— Слишком рискованно, — ответила Лора. — Немчик говорил, что у них на западном побережье Франции вокруг крепости сконцентрированы очень мощные средства ПВО. Я, конечно, мало что понимаю в этом, но, похоже, они очень высоко ценят эту «тяжелую воду».
Она погасила окурок. Наступила тишина, которую прервал Ник.
— У меня есть план, — спокойно сказал он.
* * *
Фридрих фон Штольц, если честно, не любил подписывать приговоры. Просто это, к несчастью, входило в его обязанности. Отчасти он и напивался для того, чтобы позабыть о подписанных им списках, по которым в течение нескольких часов людей ставили к стенке в лагере Форт-де-Винсенн, связывали, закрывали лица черными повязками и отдавали в распоряжение лейтенанта Вернера Герцера. Вино вымывало все это из головы, изгоняло призраки загубленных людей. Фон Штольц был зверь, но даже таких зверей преследуют кошмары. К сожалению, с каждым днем нужно было выпивать все больше, чтобы забыться.
Спустя два дня после встречи Ника, Репе, Поля и Ги с Лорой и Дианой в «Семирамиде», Штольц сидел за своим постоянным столиком в клубе, пил свое любимое «Ля Таш» и наслаждался песней «Веспа в Берлине», которой его ненаглядная Лора открывала новую программу.
Мы прогуляемся под ручку вдоль Унтер-ден-Линден…На ней было облегающее белое платье из атласа с тонкими тесемками через голые плечи. На заднем плане маршировали полуобнаженные шоу-герлз, помахивая над головами искусственными веточками яблони и вишни. Декорации изображали увитую цветами свастику, над которой порхали две райские птички. Даже сами германские офицеры подсмеивались над такой идиотской идиллией.
Но полупьяный фон Штольц во все глаза смотрел на свою Лору и едва не рыдал. Он вспоминал свою берлинскую юность, которая была чертовски романтична.
Мы поцелуемся в Тиргартене. И к нам придет любовь весной в Берлине…Штольц неистово аплодировал и, вытирая влажные глаза, заказал еще бутылку «Ля Таш».
— Боже, как мне понравилось! — орал он спустя полтора часа, рухнув спиной на диван. Они уже приехали к Лоре на пляс Вендом. — Особенно первая песня! «Мы поцелуемся в Тиргартене, — промычал он пьяным голосом, — весной в Берлине…» Ах, куколка, не знаю, что бы я отдал за то, чтобы поцеловать тебя в Тиргартене! Берлин, Берлин, как мне тебя не хватает!..
Лора наполнила его стакан.
— Вполне может так случиться, что негде будет целоваться. Не будет никакого Тиргартена, — сказала она. — И Берлина тоже.
Штольц только отмахнулся.
— Да, они могут бомбить Берлин. Но им его не уничтожить! А после войны фюрер отстроит этот красивый город заново. Там будут широкие проспекты. Даже шире, чем Елисейские поля! Вот увидишь. Обстановка сейчас тяжелая, но фюрер — гений! Союзники скоро устанут. Наступит затишье. Все образуется. Фюрер… — Глаза у него уже слипались, — гений…
Она пристально смотрела на него, держа наготове стакан и бутылку.
— Милый… — прошептала она. Она замерла, прислушиваясь к его тяжелому дыханию. Сегодня в «Максиме» он позволил себе на полбутылки больше обычного, так что нечего было удивляться тому, что он отрубился так быстро.
Не спуская с него глаз, она осторожно поставила бутылку и стакан на стол. Штольц стал похрапывать. Она подошла к нему и расстегнула на груди китель, под которым забелела рубашка. Еще с минуту она ждала, пока он окончательно заснет. Затем Лора на цыпочках прошла в спальню и открыла дверь.
В спальне была Диана в длинной норковой шубе и норковой шляпке. Лора кивнула ей. Диана подошла к шкафу и открыла створки. Оттуда вышел Рене Рено. На нем были кожаная куртка и такая же фуражка. Диана кивнула в сторону Лоры.
— Он спит, — шепнула та.
Впрочем, можно было этого и не говорить: храп Штольца разносился по всей квартире.
Все трое вышли в гостиную. Рене достал из кармана куртки револьвер и навернул на его дуло глушитель. Женщины завороженно смотрели на него. Рене подошел к дивану, на котором храпел Штольц, и прицелился генералу в сердце. Между кончиком глушителя и сорочкой Штольца было не более дюйма.
— Да здравствует Франция, — негромко произнес он по-французски и нажал на спусковой крючок. Тело Штольца дернулось, и храп прекратился.
— Полотенце, — приказал Рене.
Лора, которая во время исполнения приговора зажмурилась, теперь поспешила на кухню. На ней лица не было. Она вернулась с посудным полотенцем, которое кинула Рене. Тот запихнул его под сорочку генерала, заткнув пулевую рану.
— Теперь полчаса будем ждать, — сказал он, снимая с револьвера глушитель. — Не возражаете, если я допью его вино? Хорошее бургундское. Жаль будет, если пропадет.
Лора молча кивнула. Диана подошла к дивану и уставилась на труп генерала.
— Теперь мне понятно выражение: «мертвецки пьян», — проговорила она.
Рене, глядя на труп, поднял стакан с вином в вытянутой руке.
— В эту самую минуту Штольц, должно быть, уже начал приятную беседу с сотнями тех, кого он послал на смерть. За вас, господин генерал, жирный боров!
Лора бросилась в ванную. Ее рвало.
Спустя полчаса Лора в своем русском соболе и Диана в норке вытащили труп генерала, — его руки были закинуты им за плечи — из раскрытых дверей дома на пляс Вендом. У подъезда, как обычно, был припаркован служебный «мерседес» Штольца с маленькими черно-красно-белыми флажками со свастикой на передних крыльях. Шел легкий снежок. Рейнхард, личный шофер Штольца, храпел на переднем сиденье, как и предсказывала Лора. Еще в квартире на Штольце застегнули китель, а когда Рено поднял труп с дивана, на него надели его кожаный плащ с меховым воротником и форменную генеральскую фуражку. Лоре становилось дурно при одной мысли о том, что ей придется касаться мертвого тела, но она переборола себя. Что касается Дианы, то во время своего пребывания в Турции она всякого навидалась, и ей было все равно. Женщины протащили тело вниз по лестнице, затем вышли из подъезда под снег и поволокли его к ожидавшей машине. Лора распахнула заднюю дверцу, и они запихнули генерала в самый угол, придав ему по возможности вертикальное положение.
— Рейнхард, проснитесь! — проговорила Лора, постучав в стеклянную перегородку, которая разделяла передние и задние сиденья.
— Фрейлейн! Простите, я немножко вздремнул.
— Ничего. Генералу только что позвонили. Ему необходимо безотлагательно прибыть в крепость Де-Морле. Аэродромы закрыты из-за непогоды, поэтому придется ехать на машине. У вас достаточно горючего?
Рейнхард глянул на генерала, развалившегося на заднем сиденье. Диана сидела рядом и подпирала его.
— Да.
— Тогда поехали. Как видите, сегодня генерал выпил лишнего. Поэтому мы с подругой поедем тоже и будем заботиться о нем.
— Да, фрейлейн. Вы позвали бы меня наверх помочь.
— Да ничего. Сколько времени займет у нас поездка до Бретани?
— Пять-шесть часов…
— Хорошо, едем. Дело срочное.
Она села с противоположной от Дианы стороны. Шофер завел машину. Лора задвинула стеклянную перегородку. Включились фары, свет которых был приглушен светомаскировочными щитками, и «мерседес» тронулся с места.
— Пока все нормально, — шепнула Лора.
Диана, у которой в сумочке было три чека на общую сумму в семь миллионов франков — вся ее наличность, — кивнула. Она наклонилась и чуть поправила правую руку Штольца.
— Он начинает коченеть, — шепнула она.
Лора поежилась и стала смотреть в окно.
ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ
Осужденный № 50143 в сопровождении охранника прошел в комнату свиданий льюисбургской федеральной тюрьмы, где ему показали на третью от конца кабину. Честер Хилл опустился на деревянный стул и посмотрел сквозь зарешеченное окно на красивую женщину. На ней были черное платье и изящная черная шляпка с вуалью.
— У вас есть десять минут, — бросил охранник и вернулся на свой пост у стальной двери.
— Ты принесла фотографии? — спросил Честер. За три года пребывания в тюрьме он похудел на пятнадцать фунтов.
— Да, я отдала охране, — ответила его бывшая жена Сильвия. Она развелась с ним спустя месяц после суда.
— Как Артур?
Артур был их сыном. Вскоре после своего ареста ФБР Честер узнал, что ему наконец удалось оплодотворить жену.
— С ним все нормально, — ответила она.
Честер сжал кулаки.
— Если бы мне только дали взглянуть на него! — мрачно проговорил он.
— Честер, ты прекрасно понимаешь, что я не могу везти сюда ребенка… Да и не привезла бы, даже если б это было можно. Я не хочу, чтобы мой сын знал, что его отец — преступник и изменник родины.
Честер поморщился.
— Я пошел на это ради тебя, — сказал он.
— Ну и что с того? Это было глупо. Господи, я думала, что ты окажешься умнее!
— Сука! — выпалил он.
— Я пришла сюда не за тем, чтобы меня обзывали.
— А зачем же ты пришла? Что-то раньше не утруждалась! Никто из всей вашей паршивой семейки ни разу не пришел! Наверно, вы между собой решили, что меня никогда не было! А может, вы говорите всем, что я умер? Видно, выворачиваетесь изо всех сил, лишь бы не признать, что Честер Хилл отдыхает в тюряге!
— Честер, отчасти я могу понять твою горечь, но, в конце концов, это ведь ты заключил сделку с врагом. Так что не перекладывай с больной головы на здоровую. Между прочим, отец обошелся с тобой как с человеком. Ты продолжаешь получать дивиденды с акций и гонорары за свои изобретения. Наверно, ты самый богатый осужденный во всей Америке.
«И становлюсь день ото дня богаче, — думал он. — Придет день, когда я смогу отплатить вам за все!»
По дикой иронии судьбы Честер, которому на свободе всегда не хватало денег, который и сел-то из-за них, теперь становился потихоньку миллионером. Благодаря своим изобретениям и удачному вложению акций.
— Собственно, я пришла сюда затем, — продолжала Сильвия, — чтобы лично сказать тебе, что я снова выхожу замуж.
— Поздравляю, — усмехнулся Честер. — Ты подцепила счастливчика в какой-нибудь забегаловке? Или в «Балтиморе»?
Сильвия усилием воли сохраняла спокойствие.
— Нет. А за поздравления спасибо. Я познакомилась с ним в клубе «Пайпинг рок кантри». Он очень симпатичный, очень богатый и очень интересный. Его зовут Корнелиус Пейзон Брукс, и он будет прекрасным отцом Артуру. Он даже согласился его усыновить.
— Усыновить?! — Честер даже подскочил на своем стуле.
— Честер, будь практичным. Ты в тюрьме. Было бы несправедливо по отношению к Артуру, если бы он нес по жизни твою фамилию. А род Корни известен со времен революции…
— Нет! — крикнул он, вскакивая. — Он мой сын! Иди к дьяволу, шлюха! Ты, твой поганый папаша, который наживается на крови, и этот змееныш твой брат! Придет день, когда я отомщу вам всем! Всем!
К нему подбежали два охранника, но Честер настолько обезумел, что затеял драку, ударив одного из них кулаком в зубы. Это было ошибкой. За это его посадили в одиночку на месяц.
Но за время его пребывания в карцере движение его акций на рынке ценных бумаг принесло ему еще десять тысяч долларов.
Сидя в темной, лишенной окон, зловонной клетке, утешая уязвленную гордость и раздувая в сердце пламя мести, он размышлял над идеей изобретения, которое должно было сделать его одним из самых богатых людей Америки.
Собор Святого Патрика был полон именитыми представителями мира прессы. Здесь служили похоронную мессу по Вану Нуису де Курси Клермонту. Несмотря на постоянные серьезные физические тренировки, он умер от обширного инфаркта сердца, чем очень всех удивил. В церкви присутствовали вице-президент Соединенных Штатов, губернатор Нью-Йорка и мэр, общественные деятели, деятели культуры и крупного бизнеса. Газеты Вана уделяли внимание всем сторонам жизни общества. И, хотя многие сильные мира сего искренне недолюбливали Клермонта, на похороны пришли даже его враги. Хотя бы ради того, как обронил один из них, чтобы убедиться в том, что Клермонт действительно умер.
Его вдова Эдит, которой недавно исполнилось уже семьдесят пять лет, была убита горем. Еще бы — потерять человека, которого любила столько лет! Она сидела на скамейке под сводами собора и утешалась только осознанием того, что выиграла свой последний спор с Ваном: ее приемный сын Ник унаследует газетную сеть Клермонта.
Конечно, в том случае, если ему удастся вернуться из Парижа живым…
Последние полчаса полета летчик Чарльз Флеминг откровенно скучал.
— Люфтваффе нас разочаровывают, — радировал он из своего «спитфайера». — Никого нет.
День стоял пасмурный. Самолет Флеминга завис над Норфолком.
— Тогда возвращайтесь домой, — передали с «Земли».
— Вас понял. Возвращаюсь.
Он стал насвистывать песенку, которую услышал накануне вечером в одном лондонском кабаре. Ее исполняла венгерская красавица-блондинка Магда Кун. Аудитория взревела от восторга, когда Магда пропела коронную строчку:
Я самую глубокую норку Отыскала в этом городке!Тут-то Чарльз и заметил «мессершмитт-109Е», появившийся слева по борту. Этот немецкий истребитель, вооруженный двадцати миллиметровой пушкой, установленной во втулке винта, и двумя 7,92-мм синхронными пулеметами на лопастях крыльев, приближался на большой скорости. Чарльз стал пикировать, нацеливаясь на облако, где он смог бы сманеврировать и занять более выгодную для стрельбы позицию. Но было поздно. С «мессера» открыли огонь, и Чарльз с ужасом увидел, как мотор его самолета полыхнул языками пламени!
— Боже! — вскричал он и рывком распахнул фонарь кабины. Черный дым от охваченного огнем мотора душил. Он стремительно пикировал с высоты три тысячи футов. Чарльз ждал, пока его самолет скроется в облаке. Там он прыгнул, медленно досчитал до десяти и только после этого вырвал кольцо парашюта. Над головой надулся огромный белый купол, Чарльза тряхнуло, и свободное падение превратилось в парение. Он все еще находился в облаке, где было довольно жутковато. Но он знал, что, как только вывалится из него, тут же станет удобной мишенью для немецкого летчика. И англичане и немцы считали, что нет ничего зазорного в том, чтобы охотиться за врагом, пока он висит в небе на парашюте. Летчика заметить труднее, чем машину.
Чарльз прослыл настоящим героем неба. Его смелость порой граничила с безрассудством. Но в ту минуту он здорово струсил.
Вот он выпал из облака, глянул вниз и увидел раскинувшиеся под ногами фермерские поля Норфолка. Вдали был виден Ла-Манш. Господи, какая идиллическая картинка!
А потом он увидел и «мессершмитт». Он выглядел в небе песчинкой, но быстро приближался, держа курс прямо на его парашют. Немецкий истребитель напоминал осу, которая несет с собой смерть. Тот итог, о возможности которого применительно к себе до сих пор отказывался думать Чарльз, теперь глядел ему в лицо — смерть. Перед его мысленным взором возникли отнюдь не образы прошлого, но будущего, которого у него больше никогда не будет. У него не будет компании Рамсчайлдов… Он никогда не станет таким же известным и влиятельным, как отец… А ведь он собирался стать даже более известным и влиятельным. Он хотел перестать быть «сыном того самого Флеминга». Он хотел сделать так, чтобы Ника называли «отцом того самого Флеминга».
«Господи, и я все это сейчас потеряю!» — билась в голове мысль, пока он смотрел на стремительно приближающийся «мессершмитт», на пулеметы, нацеленные прямо на него.
«Так вот она какая — смерть», — появилась другая дикая мысль.
Его «спитфайер» врезался в землю и взорвался оранжевым пламенем и черным дымом.
«Мессершмитт» вдруг отклонился от прежнего курса и в каких-то двадцати футах пронесся над головой Чарльза. Чарльз увидел немецкого летчика, который показал ему кулак с оттопыренным большим пальцем.
Чарльз взвыл от радости и тоже поприветствовал немца, который покачал на прощанье крыльями и скрылся в облаках.
Он как-то читал в книге о Гражданской войне, что под самый ее конец, когда стало уже ясно, что Юг проиграл, солдаты с обеих сторон стали демонстрировать милосердие и отказывались бессмысленно проливать кровь друг друга. Немецкий летчик поступил так же.
Чарльз отплясывал в воздухе джигу. Будущее было вновь в его руках.
Он неудачно приземлился на поле брюссельской капусты и сломал левую ногу.
«Штольц действительно сегодня прилично нагрузился! — размышлял Рейнхард Кисслер, личный шофер генерала, глядя в зеркальце заднего вида на босса, развалившегося на заднем сиденье и поддерживаемого Дианой Рамсчайлд. — Я еду уже пять часов, а он — хоть бы шелохнулся! Если он не бросит пить, это сведет его в могилу…»
Теперь было около шести часов утра, и поздний зимний рассвет уже занимался над дорогой, которая вела вдоль гористого северного побережья Бретани. В течение всего времени, что они ехали, на дороге практически не было никакого движения, поэтому, увеличив скорость, Рейнхард сэкономил много времени. До крепости Де-Морле оставалось не более пятнадцати минут пути. Чем ближе они были к цели, тем уже и извилистей становилась дорога. Рейнхарду пришлось сбросить скорость до шестидесяти пяти километров в час, но даже при этом покрышки продолжали надрывно взвизгивать на поворотах.
Дорога на время удалилась от побережья и скрылась в темном туннеле, прорубленном в скале.
БАНГ! БАНГ! БАНГ! БАНГ!
Рейнхард ударил по тормозам: лопнули все четыре колеса. «Мерседес» дико закрутился вокруг своей оси и едва не врезался в стену туннеля. Только мастерство Рейнхарда спасло от этого машину. Ему удалось остановить «мерседес» почти у самого выезда из туннеля. Захватив ручной фонарь, он вышел из машины, чтобы посмотреть, что стряслось. Едва он успел разглядеть куски битого стекла и протянутую колючую проволоку, как вдруг в туннель вбежали трое мужчин, вооруженных автоматами, и закричали:
— Стоять на месте, или ты — труп!
Рейнхард повернулся и поднял руки над головой. Ги — его настоящее имя было Винсент Жоликер — отобрал у немца пистолет и сковал его руки наручниками. В это время Ник открыл заднюю дверцу машины. Ему на руки вывалилось тело генерала фон Штольца.
— О Боже, не роняй его хоть сейчас! — воскликнула Диана. — Я целых пять часов подпирала его!
Ник толкнул генерала обратно в машину.
— С вами все в порядке? — спросил он.
— Так генерал мертв?! — воскликнул потрясенный Рейнхард.
— Именно, — улыбаясь, проговорил Ги. — Ты вез сюда труп.
Рейнхард чертыхнулся.
В туннеле показались еще четверо бойцов Сопротивления с фургоном, запряженным лошадьми.
— Замените покрышки! — крикнул Ноль, настоящее имя которого было Ив Лефевр. — А потом перегрузите в машину «начинку».
Ник помог Диане и Лоре выйти из машины.
— У нас всего полчаса до встречи с подлодкой, — сказал он. — Приходится поторапливаться. Давайте.
— О Господи, мне нужно было надеть дорожные туфли, — простонала Лора.
— Они смотрелись бы смешно вместе с твоей собольей шубой, дорогая, — сказала Диана.
Ник подошел к Ги.
— Какие-нибудь проблемы? — спросил он.
— Нет пока.
— В таком случае, я думаю, нам пора уходить. Фейерверком полюбуемся через перископ подводной лодки.
К ним присоединился Поль. Ник пожал ему руку.
— Ты мужественный парень, — сказал он ему. — Я восхищаюсь тобой.
Поль пожал плечами:
— Ты все придумал. Франция этого не забудет.
— Франция тебя не забудет, — сказал Ник серьезно.
— Боши! — вдруг раздался крик со стороны повозки.
Они увидели свет фар какой-то машины, приближавшейся к туннелю с их стороны.
— Проклятье! — буркнул Ник. — Этого в нашем плане не было, черт возьми!
— Они нас увидели.
— Не стрелять, пока она не въедет в туннель, — крикнул Ги. — Поторапливайтесь с колесами!
— Эй, кто-нибудь! Подоприте генерала! Он опять завалился!..
Диана открыла заднюю дверцу «мерседеса» и вновь села в машину.
— Ну давай же, немчик, — сказала она, приводя тело генерала вновь в вертикальное положение. — Улыбочку. Напусти на себя важный вид. Постарайся не выглядеть мертвецом. — Она включила свет в салоне машины, чтобы снаружи видно было генерала.
Ник подбежал к Лоре.
— Вы говорите по-немецки? — спросил он.
— Да.
— Идите, скажите им, кто вы такая. Скажите, что генерал направляется в крепость, но французы рассыпали в туннеле стекло, которое прокололо шины. Обманите их!
— Да, хорошо…
Она пошла к выходу из туннеля. К этому времени машина, которая оказалась военным автобусом, остановилась, и из нее вышел немец-лейтенант.
— Что случилось? — спросил он издали.
Лора поспешила к нему.
Глаза лейтенанта изумленно раскрылись, когда он увидел перед собой красавицу в собольей шубе.
— Кто вы? — спросил он.
— Меня зовут Лора Дюкас. Я подруга генерала фон Штольца, который сидит там в машине. Кто-то, как я подозреваю, боевики из Сопротивления, рассыпал в туннеле битое стекло. У нас полетели все шины. Пришлось обратиться за помощью к местным крестьянам…
— Мы можем что-нибудь для вас сделать?
— Нет, теперь уже не надо. Но все равно спасибо.
Она улыбнулась своей самой очаровательной улыбкой. Выражение лица лейтенанта было настолько откровенным, что она едва удержалась от смеха.
— Ну что ж… — пробормотал он. — Им придется убрать с дороги свой фургон. Мне нужно проехать. Я везу пару десятков евреев в «Дранси». Они должны поступить туда к полудню.
Пользующийся в народе дурной славой лагерь «Дранси» располагался вблизи аэропорта Ле-Бурже под Парижем. Там содержались евреи в ожидании отправки в лагеря смерти.
— Хорошо, — сказала Лора. — Я прикажу им убрать фургон. — Она снова улыбнулась. — Спасибо за то, что предложили помощь, лейтенант. Вы столь же галантны, сколь и красивы.
Он покраснел. А она ушла обратно.
— Автобус набит еврейскими заключенными и направляется в «Дранси», — сообщила она Нику, Ги и Полю. — Он хочет, чтобы мы убрали фургон. Ему надо проехать. Похоже, он ничего не заподозрил.
— Хорошо, молодец, — похвалил Ник. Он обернулся к остальным. — Уберите проволоку и фургон с дороги. И не открывайте огня без необходимости. В автобусе заключенные, как бы их не задеть.
— Если их везут в «Дранси», то можно уже считать их трупами, — заметил Ги. — По-моему, бошей упускать нельзя.
— Может, вы и правы насчет лагеря, — раздраженно сказал Ник. — Но пока они живы, а своей пальбой мы можем убить их. Огня не открывать! И не размахивайте перед немцами своими автоматами!
Лейтенант Курт Эглер скрылся в автобусе и приказал водителю трогаться сразу же, как только уберут с дороги фургон. Лейтенант Эглер еще не отделался от чар красавицы Лоры, но ему пришло в голову, что ситуация довольно странная. Где генерал фон Штольц мог отыскать столько крестьян в такой ранний час? А с другой стороны, генеральская машина действительно стояла в туннеле, а в ней, насколько он мог видеть, сидел сам господин генерал… Это какие же надо иметь нервы, чтобы еще спать в такой шумной обстановке! Впрочем, какой бы странной ни казалась ему ситуация, лейтенант Эглер не привык вмешиваться в дела начальства. Тем более генерала.
Когда фургон откатили за «мерседес», водитель автобуса переключил передачу и стал въезжать в туннель. Думая о Лоре Дюкас, водитель затянул песенку «Снова влюблен». Лейтенант Эглер, который тоже думал о красавице, стал подпевать. Автобус въехал в туннель под аккомпанемент двух зычных голосов немцев.
Когда Диану Рамсчайлд вызволили из лечебницы для душевнобольных в Турции, она дала себе клятву: впредь в случае повторения стрессовых ситуаций усилием воли держать себя в руках. До сих пор ей это блестяще удавалось. Несмотря на несколько осечек — например, в тот день, когда ей дали свидание с Ником в гестаповской тюрьме, — она прослыла в кругу тех, кто ее знал, женщиной железных нервов, несгибаемой воли и мужества. Однако в тот момент, когда она сидела в машине рядом с трупом и к ним медленно подъезжал автобус с немцами, с ней что-то случилось. Она вдруг почувствовала… Нет, ей показалось… что тело генерала фон Штольца вдруг вздрогнуло! Все самообладание мгновенно покинуло ее.
Вскрикнув от ужаса, Диана распахнула дверцу и выскочила из машины. Лейтенант Эглер и водитель автобуса одновременно смолкли.
— Что такое? — воскликнул лейтенант по-немецки. — Автобус был как раз напротив генеральской машины. — Стоп! — Эглер смотрел на заднее сиденье машины. Генерала фон Штольца… больше не было видно! Эглер вытащил из кобуры пистолет, открыл дверцу автобуса и выбрался из него, чтобы наконец разобраться. Диана оборвала свой крик, и в туннеле вдруг повисла жуткая тишина. Эглер подбежал к «мерседесу» и заглянул в окошко. Окоченение трупа, а также газы разложения придали ему совершенно ненатуральную позу. Эглер просунул руку в открытое окно и дотронулся до лица генерала. Впрочем, он и так уже понял, что перед ним мертвец.
— Солдаты! — рявкнул он.
Задняя дверца автобуса распахнулась, и оттуда спрыгнули на землю четыре автоматчика. Одновременно французы открыли огонь изо всех своих стволов. Грудь лейтенанта Эглера была мгновенно прошита очередью, и он повалился спиной прямо в машину генерала, упав на Штольца сверху. Туннель наполнился грохотом пальбы. Вскоре немцы были уничтожены. Наступила тишина, и только эхо выстрелов еще рикошетило от влажных стен и свода туннеля.
Ник бросился к автобусу, перепрыгивая через убитых, и заглянул внутрь. В смутном свете ему с трудом удалось разглядеть группу пленников, битком забивших автобус, словно дантовские тени.
— Выходите, — сказал он. — Вы свободны! Выходите!
Никто не двинулся в места.
— Я американец, — добавил Ник. — А остальные из Сопротивления. Выходите же! Надо спешить! У нас мало времени!
Тени пришли в движение. К Нику подошли Ги, Поль и Лора.
— Возвращайтесь к работе! — крикнул Ги остальным.
Пока его люди меняли колеса на генеральской машине, Лора наблюдала за тем, как из автобуса выходили арестанты. Лора, которая весело распевала в «Семирамиде» песенки про «жидов», увидела теперь два десятка насмерть перепуганных изможденных людей со связанными за спиной руками. Два подростка, наверное, брат и сестра… Домохозяйки, предприниматели, пожилая пара… Ник, Ги и Поль помогали им выходить из автобуса. На их лицах было больше страха и растерянности, чем ликования.
Пни жида! Сопри его вело! И дай кружок по Парижу в ночи-и!От чувства стыда Лоре Дюкас стало даже дурно.
— Вы сможете позаботиться о них? — спросил Ник у Ги.
— Придется. Найдем для них какое-нибудь укромное местечко. Кстати, мы на десять минут отстаем от графика.
— Знаю. Пора перегружать в машину динамит. Хотя, постой! — Ник бросил взгляд на автобус. — К черту машину! Автобус лучше! К тому же в нем не видны будут ящики со взрывчаткой!
— Вы правы, — сказал Ги и крикнул тем, кто менял покрышки на генеральской машине: — Плюньте на эту резину! Грузите взрывчатку в автобус! «Мерседес» отменяется.
Спустя восемь минут автобус, в задней части которого были сложены шесть ящиков с динамитом достаточно для того, чтобы поднять на воздух целый жилой квартал, попятился из туннеля, развернулся и устремился к крепости Де-Морле.
В автобусе находился только Поль. Весь прошлый день он изучал в бинокль дорогу, ведущую к крепости, и саму крепость. Он сверился с часами: через пятнадцать минут динамит сдетонирует. Дорога была прямая. Он нажал на педаль газа. Стрелка на спидометре поползла вправо: 50 км/ч, 55, 60, 65, 70, 75…
Поль размышлял о прожитом. Его жизни отведено еще девять минут. Девять минут до вечности. Он вспомнил свои детские годы, проведенные в очаровательном парижском предместье Нейи, своего отца, который был врачом, свою мать, которая писала никогда не печатавшиеся стихи. Он вспомнил свою первую любовь, годы, проведенные в Сорбонне, свое увлечение кинематографом, свои мечты о написании сценариев…
Вчера они все бросили жребий, и короткая палочка досталась ему. Теперь он переживает наяву свой самый захватывающий сценарий, какой и написать было бы невозможно.
Вдали показались высокие каменные стены крепости. Поль снова бросил взгляд на часы: три минуты до взрыва. Он посмотрел на спидометр: 100 км/ч. На лбу у него выступила испарина.
Интересно, как это будет? Никак? «Я ничего не почувствую, — мысленно убеждал он себя. — Просто вспышка и вечная тьма». В нем была доля тщеславия, и ему приятно было сознавать, что его вспомнят как героя. Впрочем, он также подозревал, что пройдет лет двадцать и его имя будет скорее всего забыто. «Плевать, — думал он. — По крайней мере, я отдам жизнь за хорошее дело».
Двое охранников у ворот крепости вдруг увидели мчащийся на них автобус. Они вышли из дежурной будки, думая, что автобус сейчас остановится. К их изумлению, этого не произошло.
— Хальт! — крикнул один. Они вскинули автоматы и открыли огонь.
Через секунду автобус снес шлагбаум перед воротами. Один из охранников бросился в будку поднимать тревогу, второй продолжал стрелять. Будто таран, автобус промчался по подъемному мосту через крепостной ров и врезался в тяжелые деревянные ворота.
Взрыв слышали жители городка Де-Морле, что находился в шести километрах южнее крепости.
ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ
— Боже правый! — воскликнул капитан Уоррен В. Хикмен, командир американской подлодки «Старфиш». — Взорвалось так взорвалось! Глядите!
Он отступил в сторону, и Ник приник к глазку перископа. В небо поднимались клубы черного дыма и высокие языки пламени. Как будто взорвался от торпеды танкер с нефтью… Где-то там вместе с дымом поднималась в небеса душа Ива Лефевра, Поля, смелого бойца Сопротивления… Вечная ему память.
— Ладно, нам пора уходить, — сказал капитан. Он прильнул к перископу, бросил последний взгляд на пожарище, потом осмотрел водную поверхность. Пока все было спокойно. Он приказал: — Убрать перископ. Приготовиться к погружению.
Ник спустился по лесенке в небольшую кают-компанию и присоединился к Лоре и Диане. В тесных металлических помещениях субмарины эти две женщины в норке и соболе смотрелись поразительно неуместно.
— Все кончено, — сказал Ник, присаживаясь к ним за стол и подвигая к себе чашку кофе. — Спасибо вам обеим за помощь.
— А Поль? — спросила Лора.
— Он погиб.
— Почему пошел именно он?
— Был брошен жребий. Он, конечно, мог отказаться, но не отказался.
У Дианы ныли ноги: они долго карабкались по скалам к тому месту, где их подобрала резиновая лодка. К тому же она до сих пор не могла прийти в себя после того потрясения, которое испытала еще в машине, когда ей показалось, что мертвый Штольц вдруг ожил. Она взглянула на Ника:
— Капитан Хикмен сказал, что мы успеем в Лондон к ленчу. Я думаю, что всем нам не мешало бы хорошенько подкрепиться.
— Я все устрою в «Кларидже», — сказал Ник. — За мой счет.
Лора глотнула кофе. Когда она ставила чашку обратно на стол, то заметила, что на нее смотрит Ник.
Уже не в первый раз она перехватывала такие взгляды.
От Дианы это тоже не укрылось, и она испытала в ту минуту приступ ревности.
Спустя шесть часов они уже сидели в роскошном номере на третьем этаже «Клариджа» и заканчивали завтрак из «даров моря».
— Какие у тебя теперь планы? — спросил Ник, пока официант разливал вторую бутылку «Пулини-Монтраше 38». — Для того чтобы попасть в Швейцарию, тебе пришлось бы сначала вернуться во Францию. Но делать это я бы тебе не посоветовал.
— Я понимаю, — сказала Диана. — Раз уж я попала в Лондон, то смогу переждать войну и здесь. У меня достаточно денег, турецкий паспорт и, наконец, связи. Думаю, что смогу устроиться неплохо. А ты пока распорядись насчет нашей финансовой договоренности. Я не смогу, положим, попасть сейчас в Швейцарию, зато деньги могут.
— Сегодня я переговорю со своими лондонскими банкирами. Не беспокойся, Диана, я не беру назад своих слов.
— Разве? Однажды ты взял назад свое слово.
Он кивнул.
— Если ты хотела меня лишний раз лягнуть, то это тебе удалось. В этот раз я тебя не подведу. — Он повернулся к Лоре. — А как с вами? Что думаете делать?
Официант поставил бутылку в судок со льдом и молча вышел из комнаты. Лора пожала плечами.
— Не знаю, может, тоже здесь останусь, — сказала она. — Мне больше просто некуда ехать.
— А как насчет Нью-Йорка?
Она удивилась:
— Нью-Йорк?
— А почему бы и нет? Я готов устроить вам неплохую квартиру и дать столько денег, сколько потребуется.
— Но я не говорю по-английски.
— Поселитесь в Берлине.
Она посмотрела на Диану, затем опять на Ника.
— Месье Флеминг, — сказала она. — Я признаю, что продалась немчику из-за того, что в Париже тяжело жить. Но это вовсе не значит, что я продаюсь всякому. — Она поднялась из-за стола. — Простите, я провела очень беспокойную ночь и слишком устала. Спасибо за ленч.
Она вышла из номера, он проводил ее взглядом.
Диана пригубила вино.
— Она поедет с тобой, — сказала она. — Просто ей надо немного поломаться. Но ты совершишь глупость, если свяжешься с нею. Прежде чем бросить тебя, она выдоит несколько миллионов. — Она поставила стакан. — Если ты умный, то найдешь себе вторую Эдвину.
Ник нахмурился:
— Диана, я оплачу тебе свой долг, но я не нуждаюсь в твоих советах относительно моей личной жизни.
— Возможно. Надеюсь, ты не собираешься на ней жениться?
— А кто говорит о женитьбе?! Я просто считаю, что она очень хороша собой и к тому же показала себя во всей этой истории молодцом. Почему бы мне и не дать ей возможности поехать в Нью-Йорк? Я могу то же самое предложить и тебе, если захочешь.
— Нет, благодарю.
Она откинулась на спинку стула и прикрыла глаза. Она чувствовала легкое головокружение от вина и усталости.
«Ах, если бы он меня желал! — думала она. — Если бы! Но нет, я вечно буду Дамой под вуалью. А за этой тонкой тканью — уродливые шрамы!..»
Вдруг ей на память пришел один разговор… Это было месяц назад в «Семирамиде». Она проводила время в обществе Немецких офицеров. Они говорили ей о каком-то хирурге-пластике из Лондона, который разработал новую технику пересадки кожи и применил ее на жертвах немецких бомбежек. Слухи о чудесах, которые он творит, достигли даже Германии. Как его имя? Доктор Тремейн или что-то в этом роде. Тогда она восприняла рассказы немцев скептически, но сейчас… раз уж она в Лондоне.
Она взглянула на Ника.
«Если только я смогу когда-нибудь снять вуаль, — думала она. — Если только я смогу когда-нибудь снова быть красивой. Или, по крайней мере, нормально выглядеть. Я стала бы ему хорошей женой. Женой, какой я всегда хотела ему быть…
О, Боже, Ник! Я все еще люблю тебя! Может, ты мне оставил хоть шанс?.. О Боже, может, есть еще шанс?..»
Ник устал. Напряжение, в котором он пребывал во Франции, теперь навалилось на него. Да, им удалось взорвать крепость Де-Морле и сиять угрозу перелома в войне. Этим он гордился, это позволило ему облегченно вздохнуть. Но в следующем месяце ему стукнет уже пятьдесят шесть. Несмотря на то что он был все еще в хорошей форме, его уже никак нельзя было назвать молодым. А пройдет несколько лет — и его никто не назовет и человеком средних лет. Осознание своей смертности, которое посетило его в первый раз в день пятидесятилетия, нарастало теперь год от года. Теперь он не хотел войны. Ему хотелось мира, покоя, комфорта, любви. Он хотел вернуть молодость.
Он хотел Лору.
Тем же вечером около тести Лора благодушествовала в горячей ванне своего номера на четвертом этаже, как вдруг услышала звонок в дверь.
— Я открою, — сказала горничная, которая стелила Лоре на ночь постель. Лора не поняла ее, но продолжала тереться губкой. Потом она услышала голос горничной: — Но она сейчас принимает ванну, сэр! Вам туда нельзя входить!
— Спасибо. Только и всего, — раздался голос Ника.
И снова голое горничной, которая прятала в карман подаренный ей фунт стерлингов.
— Благодарю вас, сэр. Спокойной ночи.
Затем стук закрываемой двери.
Вдруг в ванную вошел Ник и стал смотреть на Лору тем же жадным взглядом, который она подметила раньше.
— Могли бы и постучаться, — сказала она.
— Дверь была открыта. Предлагаю вам и Диане посетить завтра утром магазин Адриана Пелла. Я уже договорился. По слухам, это лучший модельер из молодых. Поскольку вам пришлось оставить в Париже всю одежду, вы нуждаетесь в новом гардеробе. — Он окинул взглядом ее нежные розовые плечи в мыльных хлопьях, едва видимые под мыльной водой полные груди. — Я распорядился, чтобы Пелл прислал счет мне.
— Благодарю вас, но я в состоянии заплатить за себя сама.
— В Париже вы не платили.
— Если вы еще раз вздумаете попрекать меня Парижем, то лучше убирайтесь к черту! — крикнула она.
— На сегодняшний вечер я заказал для нас столик в «Булестине». Это лучший в Лондоне ресторан.
— Мне не нравится английская кухня!
— Там будет французская.
— У меня сегодня свидание с генералом де Голлем!
Он стал смеяться.
— Да! — крикнула она. — Почему у меня не может быть с ним свидания? Разве я теперь не считаюсь героиней Сопротивления? Может, он наградил меня медалью!
— О, вы заслужили медаль, с этим не поспоришь.
— Не я ли раздобыла для вас информацию? Вытянула ее из моего немчика? Не я ли все устроила так, чтобы вы могли расправиться с ним? Не я ли всю ночь просидела рядом с его отвратительным трупом? Без меня ваш великолепный план можно было бы выбросить в мусорную корзину!
— Согласен. Я восхищаюсь всем, что вы сделали. Я полагаю, вы изумительны. Я также думаю, что вы самая красивая женщина из всех, что я когда-либо видел. — Он сделал паузу, потом добавил: — С тех пор, как умерла моя жена.
Теперь он был серьезен. Теперь и она была серьезна. Жена? А он красив. Кроме того, ее восхитила его руководящая роль во всей этой истории с подрывом крепости. Да, это был человек, привыкший командовать. Диана говорила, что он к тому же один из самых богатых людей Америки.
Америка… После четырех лет, проведенных в Европе, разрываемой страшной войной на части, мирная Америка казалась какой-то сказочной мечтой…
— А еда точно будет французская? — спросила она уже мягче.
«По крайней мере, мне не придется закрывать глаза и думать о Кларке Гейбле, — думала она. — С мистером Флемингом можно держать глаза открытыми».
Той же ночью после великолепного обеда с бутылкой марочного «Луис Редерер кристал» они занимались любовью в его номере. В течение последних месяцев Лора не знала ничего, кроме пьяных и бессильных попыток своего парижского «мясника». По сравнению с ним объятия Ника выглядели настоящей бурей страсти. Она упивалась его силой, жаждой, желанием и запахом. Он вошел в нее и стал двигаться сначала медленно, но со все возрастающей страстью. Их руки сплелись в крепком объятии… Волна нежности разлилась по всему ее телу, и Лора забыла и о войне, и о немчике, и о смерти… Она думала только о жизни, радости, любви. Приятный покой удовлетворенного желания наступил у них одновременно.
— Час назад, — прошептала она, целуя его в плечо, — я была готова ехать в Нью-Йорк за твоими деньгами. Теперь я поеду туда за тобой.
Сильный свет резал глаза, но Диана не жаловалась. Доктор Кеннет Тремейн внимательно осматривал шрамы на ее лице. Осмотр длился, казалось, бесконечно. Наконец он выключил яркую лампу.
— Не осмелюсь гарантировать результат, мисс Рамсчайлд, — сказал он. — Вообще-то я никогда не даю гарантий. К тому же ваше лицо серьезно обожжено. Но я имел дело с пациентами, дела которых были еще хуже. Если вы согласитесь рискнуть, то я скажу так: шансов на успех примерно семьдесят процентов. Потребуется несколько операций.
— Как я буду выглядеть, если все получится? — тихо спросила она.
— Останутся легкие рубцы, которые будут легко поддаваться макияжу. Я не обещаю, что вы станете похожей на кинозвезду, но безобразной вас никто не назовет. Вы наконец сможете снять эту вуаль.
— Как я буду выглядеть, если ничего не получится?
— Не буду вас обманывать. Обширные кожные трансплантации, которыми я занимаюсь, очень опасны. Риск довольно высок. Существует угроза заражения. Если честно, существует угроза смерти.
— Понимаю.
Она на минуту задумалась.
С миллионами Ника она сможет безбедно прожить до глубокой старости. А если она согласится сейчас на операцию, то, возможно, появится шанс вновь обрести Ника. Или, по крайней мере, появится шанс избавиться от ярлыка «экзотической» женщины, который, как она хорошо понимала, был лишь благозвучным синонимом «уродины».
Так ли уж нужна ей любовь, что ради нее стоит рисковать жизнью?
— Когда вы сможете приступить? — спросила она, вновь закрывая лицо вуалью.
* * *
Спустя неделю после окончания войны Ник собрал всех своих детей в гостиной своей квартиры на Парк-авеню. Здесь присутствовал Чарльз, которому недавно исполнилось двадцать шесть. После воздушного боя над Норфолком его с честью проводили из RAF. Сломанная нога срослась не совсем удачно, и у него до конца жизни осталась легкая хромота. Он вновь принялся за учебу, прерванную войной, и рассматривался в качестве одного из самых выгодных молодых женихов Нью-Йорка.
Здесь была и двадцатипятилетняя Сильвия. Ее второе замужество оказалось едва ли не более неудачным, чем первое. Как выяснилось, Корни был заурядный пьяница. Своего четырехлетнего сына Артура Брукса она оставила в своем доме в Колд-Спринг-Харбор, чтобы приехать вечером к отцу на встречу семьи.
Эдварду было двадцать четыре. Он доблестно отслужил на Тихом океане и теперь подыскивал себе квартиру в Гринвич-виллидж, где бы смог начать работу над давно задуманной книгой о войне.
Морису Флемингу был двадцать один год. Он служил в береговой охране и теперь был восстановлен в списках студентов Гарварда, чтобы продолжить учебу.
Файна и Викки — неразлучные сестры и подруги — сидели вместе на диване. Файна нервничала: на следующее утро ей предстояло сниматься в новой постановке картины ужасов «Летучая мышь» по Мэри Робертс Райнхарт. Ей было двадцать два года. Девятнадцатилетняя Викки была второкурсницей колледжа.
Наконец, присутствовал и двадцатилетний Хью, семейный остряк, незаменимый защитник в команде Йельского университета.
— Я пригласил вас всех прийти сегодня ко мне, — начал Ник, — во-первых, потому что в течение нескольких лет мы не виделись друг с другом, и я захотел снова увидеть всех вас вместе. Выглядите вы отлично.
— Да и ты, пап, молодцом, — вставил Хью, а его сестры и братья зааплодировали. Нику это понравилось.
— Во-вторых, — продолжил он, — я хотел вам сказать то, что, наверное, и не нужно говорить, так как вы все это прекрасно знаете. Вы все были очень дороги матери.
Улыбки на их лицах померкли. Каждый вспомнил что-то свое, связанное с Эдвиной.
— В-третьих, поскольку все вы заинтересованы в будущем компании Рамсчайлдов, я хотел бы довести до вашего сведения те решения, который я в связи с этим принял. Я реорганизую «Рамсчайлд армс», «Метрополитен пикчерз» и газетную сеть Клермонта в холдинговую компанию, которая будет называться «Флеминг индастриз». В настоящее время я весьма активно ищу новые виды бизнеса, которые смогли бы влиться во «Флеминг индастриз». Делаю это потому, что задумал покончить с военным бизнесом…
— Что?! — вскричал Чарльз. — Ты этого не сделаешь!
Ник смерил своего старшего сына холодным взглядом.
— Я сделаю все, что сочту нужным и приятным для себя, — сказал он.
— Но зачем это тебе? Если уж какая компания и вложила самый большой вклад в победу в войне, то это компания Рамсчайлдов! Десятки упоминаний о ней в правительственных речах могут подтвердить это! Кроме того, ведь компания приносит большой доход!
— Чарльз, из-за деятельности нашей компании погибла твоя мать.
— Все дело в Честере Хилле, который оказался изменником! Какое отношение это имеет к компании?!
Ник вздохнул:
— Я бы сказал так: надоело ассоциироваться в головах людей с оружием и смертью. Кроме того, я полагаю, что, если такая крупная военная компания, как наша, выйдет из этого бизнеса, это благоприятно отразится на мировом спокойствии.
— Да ладно! Благоприятно отразится? Как же! Просто-напросто другие компании перехватят наших заказчиков! Когда после первой мировой войны Круппа отстранили от военного бизнеса, это почему-то не предотвратило вторую мировую!
Нику трудно было на это возразить.
— Возможно, я слишком оптимист, — наконец сказал он. — Возможно, что нас всех уже отстранила от дел атомная бомба. А заодно и от жизни…
— Пентагон прекратил помещать у нас заказы?
— Сильно урезал.
— Правильно, это потому, что кончилась война. Но ведь не прекратил!
— Не прекратил…
— И я голову даю на отсечение, что не прекратит! И еще я уверен, что создание ООН не остановит новые войны! Все будет делаться, как делалось, по старинке, потому что мы слишком боимся применять атомное оружие. Если бы мы не боялись, то давно уже сбросили бы бомбу на Москву, пока у русских еще нет своей такой же. Я уверен, что войны будут по-прежнему продолжаться и военные компании будут по-прежнему работать. С нами или без нас. Отец! Ты сказал, что тебе надоело называться Титаном смерти. Отлично, пускай теперь меня так зовут. Я буду только счастлив! Всю жизнь я мечтал о компании Рамсчайлдов. Ты не можешь отнять ее у меня сейчас!
Страстная мольба Чарльза поколебала решимость отца.
— Сегодня ты босс, — продолжал сын. — Никто с этим не поспорит. Но мы, твои дети, — это будущее компании. По крайней мере, не решай всего один, дай и нам право голоса.
Ник оглядел свое многочисленное семейство. Дети выросли и очень много значили в его жизни.
— Ну хорошо, — сказал он наконец, — предлагаю поставить этот вопрос на голосование. Те, кому хотелось бы, чтобы компания Рамсчайлдов продолжала оставаться в военном бизнесе и перешла по наследству к Чарльзу, пусть поднимут правую руку. Но прежде чем вы выразите свое мнение — подумайте. Задумайтесь, как я задумался после смерти вашей матери. Военный бизнес это бизнес смерти. Давайте определимся — останется ли в нем наша семья или нет?
Он замолчал.
Наступила общая пауза.
— Хорошо. Те, кто этого хочет, поднимайте правую руку.
Вверх взметнулась рука Чарльза. Затем, с некоторой задержкой, руки Мориса и Хью. Еще позже — рука Сильвии. Эдвард, Файна и Викки рук не подняли.
— У нас большинство! — радостно воскликнул Чарльз. — Черт побери, у нас большинство, отец!
Ник ничего не сказал, но подумал, что, уступая своим детям, он делает большую ошибку.
* * *
Диана Рамсчайлд закрыла глаза. Доктор Тремейн вложил ей в руку зеркальце и поднял его до уровня ее лица. В комнате не было цветов, так как четыре тяжелейших операции Диана выдержала в обстановке строгой секретности. Послеоперационные периоды она проводила в снимаемой квартире на набережной Де-Монблан в Женеве. И потом мало было тех, кто мог послать ей цветы. Кемаль Ататюрк давно умер. Геринг и остальные высокопоставленные наци были либо мертвы, либо за решеткой в ожидании суда в Нюрнберге. Тот мир, в котором она жила столько лет, теперь не существовал, обратившись в прах. Готовясь к серии сложных и опасных операций, она продала всю сеть своих ночных клубов в Европе за хорошие деньги.
И вот наступил долгожданный момент.
Она раскрыла свои чудесные зеленые глаза и взглянула на себя в зеркальце.
Шрамов и рубцов как не бывало!
Она увидела в зеркале привлекательную средних лет женщину, перенесшую искусную подтяжку на лице. При условии хорошего макияжа это лицо обещало быть даже более чем просто привлекательным.
— Доктор, — тихо произнесла она, — вы волшебник.
Спустя неделю она вернулась в свою квартиру на авеню Фош. Она начала уже закупать свой новый гардероб у Кристиана Диора, который незадолго перед этим потряс мир своим чувственным «новым взглядом». Новый взгляд был именно тем, что теперь нужно было Диане. Ушли в прошлое вуаль, длинные перчатки и платья для сокрытия шрамов. Она тратила тысячи на одежду, и все с одной целью: вернуться после стольких лет в Нью-Йорк и осадить крепость под названием Ник Флеминг. Она не знала, получится ли у нее что-нибудь, но очень надеялась.
В ее квартире было шесть комнат, шесть просторных красивых комнат с высокими потолками, в стиле Belle epoque, с широкими окнами, откуда с высоты четвертого этажа открывался хороший вид на широкую авеню Фош. Она обставила комнаты мебелью, которую купила во время войны по бросовой цене в маленьких антикварных лавочках, которые она часто посещала. И хотя она жила теперь в Швейцарии, домом для нее оставался Париж.
В тот день она сидела в легком пеньюаре за столом и пила кофе с молоком и апельсиновый сок, приготовленные для нее шестидесятилетней служанкой Мари. У Дианы никогда не было проблем с весом, тем не менее она решила избавиться от пяти фунтов. Ей пришлось забыть о любимых ею конфетах и печенье. Эти пять фунтов она называла про себя «фунтами Ника». Она прекрасно понимала, что должна выглядеть абсолютно безупречно, чтобы иметь хоть какие-то шансы.
Она пролистывала утренние газеты, и вдруг наткнулась на заголовок:
АМЕРИКАНСКИЙ ВОЕННЫЙ МАГНАТ НИК ФЛЕМИНГ
ОБЪЯВИЛ О СВОЕМ ВСТУПЛЕНИИ В БРАК
С ЛОРОЙ ДЮКАС, БЫВШЕЙ ПЕВИЦЕЙ
ПАРИЖСКОГО НОЧНОГО КЛУБА.
Мари находилась на кухне, когда до ее слуха донеслись рыдания. Она поспешила в столовую и увидела там свою хозяйку, которая безутешно плакала.
— Мадемуазель! — вскрикнула она, подбегая к ней.
— Бесполезно! — сквозь рыдания восклицала Диана, разрывая на себе атласный пеньюар. Операции! Все бесполезно! Он не любит меня, он любит эту шлюху!!!
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ ЛЮБОВЬ В СУМЕРКАХ 1950–1951
ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ
В 1949 году Ник разозлил консервативных жителей Нью-Йорка тем, что начал сносить целый квартал роскошных квартирных домов застройки двадцатых годов между Парк-авеню и Лексингтон-авеню на Пятидесятых улицах. Он купил эту недвижимость за страшные по тем временам деньги — десять миллионов долларов.
Но если консервативные нью-йоркцы просто стонали, видя разрушенной жилую Парк-авеню, критики в области архитектуры едва ли не в стихах превозносили тридцатиэтажное офисное здание, которое Ник стал возводить на том месте. Флеминг-билдинг, как назвали этот громадный дом, был спроектирован Рольфом Дитрихом, швейцарским архитектором, обладателем многих премий, который был учеником самого Вальтера Гропиуса. Стройное, потрясающее здание из стали и стекла в виде башни тогда было новинкой, но в последующие годы было дискредитировано появлением тысяч уродцев, сделанных с претензией на этот же стиль.
Этот дом предназначался для размещения в нем всей империи Ника, которую он реорганизовал в гигантскую холдинговую компанию «Флеминг индастриз». Десять этажей занимала корпорация «Флеминг комьюникейшнз». Ядром ее была газетная сеть Вана Нуиса Клермонта, которой теперь владел Ник. К моменту смерти прежнего хозяина сесть состояла из двадцати газет и двух радиостанций. Ник прикупил еще три радиостанции, две телестанции и прибрал к рукам целый ряд журналов, ориентируясь главным образом на узкоспециализированные, но приносящие высокий доход. Такие, как «Домашняя техника и мир выживания». Купил и более известные в народе издания «Слухи из мира кино», редактируемый престарелой Хэррит Спарроу, и «Высокая мода».
На шести этажах размещались международные офисы компании Рамсчайлд, которые были теперь в подчинении Чарльза Флеминга. Ник часто жалел о том, что поддался на уговоры своих детей оставить компанию в военном бизнесе, но что касается работы Чарльза, то ею отец мог лишь восхищаться. Многие его хорошие и плохие качества помогли ему стать выдающимся предпринимателем. Чарльз был смел, дерзок, отличался крайним эгоцентризмом, нечувствительностью ко всему, кроме успеха, обладал могучей волей и деятельной энергией — все это привело к увеличению доходов компании. Помогла и «холодная» война, а в последнее время еще и корейская.
Чарльз много времени проводил в Пентагоне, и ему это очень нравилось. Он не мучился философствованием насчет аморальности военного бизнеса, как его отец. Наоборот, он считал себя патриотом, а компанию Рамсчайлд — «бицепсами Дяди Сэма». Он уже запустил новый большой завод в Теннесси и планировал запустить еще один в Бразилии. Ник смотрел на все это сквозь пальцы, но когда Чарльз попытался организовать в компании производство военных самолетов, к его большому огорчению, отец запретил это делать, мотивировав свой запрет очень просто: хватит того, что уже есть.
С того времени Чарльз начал считать отца препятствием на пути к удовлетворению своих амбиций.
На четырех этажах Флеминг-билдинга размещались офисы, управлявшие недвижимостью, которую Ник потихоньку покупал все больше и больше. Здесь были приличные «куски» из Манхэттена, Лос-Анджелеса, Майами, Далласа, Чикаго и Индианаполиса, так же как и виноградники из долины Напа, и скотоводческое ранчо в Техасе, и шесть нефтяных скважин, и две тысячи акров в северной Луизиане, где разрабатывался природный газ, и студии «Метрополитен», которые Ник теперь сдавал в аренду.
На двух этажах Флеминг-билдинга занимались личными финансами Ника. Его состояние, которое теперь по разным оценкам приближалось к миллиарду долларов, обслуживалось небольшим штатом бухгалтеров и налоговых адвокатов. Нижние семь этажей сдавались другим фирмам.
На последнем этаже башни размещались главные управленческие офисы. Здесь в роскошных кабинетах работали пятнадцать вице-президентов Ника. Здесь же в шикарных апартаментах из шести комнат, включая спальню и ванную, столовую и кухню, просмотровый зал и ослепительный приемный зал, царствовал Ник Флеминг. В его распоряжении находился огромный — сорок футов на шестьдесят — рабочий кабинет с великолепным видом на Манхэттен.
За военные подвиги во Франции, о которых Ник не распространялся вплоть до Хиросимы, он был награжден Крестом за отличную службу, который прицепил ему на грудь лично Гарри Трумэн в Овальном зале Белого дома, и присвоением очередного звания бригадного генерала. Это, плюс переосмысление его предвоенных предупреждений о нацистской угрозе и кампания «канонизации» всех американских промышленников, вложивших особо значимые вклады в победу над гитлеризмом, полностью изменили имидж Ника в отечественной прессе. С началом «холодной» войны и антикоммунистической истерии конца сороковых годов Ник стал если не самым любимым, то, во всяком случае, одним из самых уважаемых людей Америки.
Впрочем, радикалы все еще продолжали предавать его анафеме. Официальное открытие Флеминг-билдинга, состоявшееся в октябре 1950 года, тепло приветствовали все большие ежедневные газеты Нью-Йорка и встретила в штыки левая пресса. Упреки были все те же: получение Флемингом прибылей от войны и «темные связи» Флеминга с воинственно настроенными режимами в мире.
Когда в 1944 году Ник привез Лору Дюкас в Нью-Йорк, у него не было намерений жениться на ней. Он устроил ее в четырехкомнатной квартире на восточной стороне 56-й улицы, владельцем которой являлся, дал ей хорошее денежное содержание, открыл ей расходные счета в самых лучших магазинах города. Он просто занимался с ней любовью и считал, что лучше этого ничего и быть не может. Он видел в ней только восхитительную любовницу, не больше. К его удивлению, по прошествии всего полугода он обнаружил, что ему становится не по себе, когда ее нет рядом с ним. Она была не только великолепна в постели. Впервые после смерти Эдвины Ник встретил женщину, продолжительное общение с которой доставляло ему радость. Прошло еще два месяца, и он понял, что влюбился по уши. Перед ним ребром встал вопрос о возможности жениться на Лоре. Он был больше чем в два раза старше ее. Не будет ли это выглядеть приставанием к младенцу?.. В конце концов, он решил, что сделает так, как хочет, и… к черту все остальное!
К его изумлению, выяснилось, что Лора вовсе не спешит стать миссис Флеминг. Ник, который вырос в мире, где женщина всегда только и мечтала что об обручальном кольце, был очень удивлен тем, что Лора проявляет слабый интерес к официальному оформлению их отношений. Ей было, судя по всему, и так хорошо. Она любила жить в роскоши, это верно, но в одном Диана ошиблась: Лора не была жадной и равнодушно взирала на богатство Ника. Ей была по душе независимость, свобода. Она с неохотой думала о перспективе стать мачехой семерым взрослым детям Ника, которые были ее ровесниками.
Но для Ника понятие семьи было святым, и он упрямо продвигал дело к тому, чтобы узаконить свою связь с Лорой. Он «обрабатывал» ее в течение двух лет, пока наконец в 1947 году она не сдалась.
Лора, как оказалось, сумела стать просто прекрасной мачехой. Ни она, ни ее пасынки и падчерицы даже и представить себе этого не могли. За исключением Чарльза и Сильвии, которые почти не виделись с ней, остальным детям их новая французская мама очень даже понравилась. Она была непосредственна, общительна и восхитительно ленива. Впрочем, когда в конце 1950 года двадцатичетырехлетняя Викки объявила о своей помолвке с Россом Харрингтоном-младшим, наследником богатого состояния, Лора лично взялась за организацию того действа, которое обещало стать свадьбой года.
— Ну, что скажешь, Лора? — спросила Викки, медленно поворачиваясь около огромного зеркала в своей спальне в свадебном платье.
— О, оно просто бесподобно, Викки! — сказала Лора, которая выучила-таки английский язык, хотя и не избавилась от французского произношения. Она называла мужа «Ниик», а падчерицу — «Викии». — Нет, правда, оно очаровательно! Ты будешь в нем самой красивой невестой в мире!
Викки улыбнулась. Она унаследовала от матери английскую красоту, хотя ее волосы были потемнее, чем каштановые волосы Эдвины. Викки была высокой девушкой, и платье из белого атласа с широкой юбкой делало ее похожей на статуэтку.
— Не знаю, как насчет самой красивой невесты, но мне оно тоже нравится. Показать папе, а?
— Нет, что ты! Плохая примета!
— Плохая примета — показывать жениху. Нет, я хочу, чтобы папа оценил платье. В конце концов, он отвалил за него приличную сумму. Пойдем, он еще не ушел в офис.
Женщины вышли из спальни, располагавшейся на втором этаже квартиры на Парк-авеню, прошли по длинному коридору, по стенам которого висели полотна Утрилло и Вийярда, любимые Лорой, и спустились по лестнице в большой приемный холл. Шлейф свадебного платья тянулся по полу вслед за Викки. Потом они вошли в столовую, оклеенную изысканными китайскими обоями XVIII века и с огромной хрустальной люстрой под потолком. Ник сидел на дальнем конце стола из английского тика, пил кофе и заканчивал смотреть «Уолл-стрит джорнал».
— «И вот показалась невеста», — пропела Викки. — Смотри!
Ник отложил газету, поднял глаза на дочь и… На мгновение ему показалось, что ожила Эдвина.
— Его только что принесли, — сияя от счастья, сказала Викки. — Ну как оно тебе?
Он встал из-за стола, подошел к ней и поцеловал в щеку.
— Оно великолепно. Так же, как и ты сама.
— О папа, я так счастлива! — воскликнула она. — Свадьба будет великолепной! Я вся горю от нетерпения.
— Погоди, через какие-нибудь десять дней ты станешь старухой-женой.
— Через какие-нибудь десять дней я буду юной новобрачной, — поправила она отца, вальсируя вокруг длинного стола. — Я буду миссис Харрингтон, чья свадьба станет свадьбой года. После венчания я отправлюсь на Бермудские острова, чтобы провести там со своим очаровательным молодым мужем восхитительный медовый месяц! Ну разве это не счастье? Солнце, песок и секс! О!!!
Лора рассмеялась.
— Неплохо, — сказала она, взяв Ника за руку. — Почему бы и нам где-нибудь не насладиться солнцем, песком и сексом, а?
— Насладимся, — ответил он, целуя ее. — После свадьбы Викки мне нужно будет уехать в Рио, и я возьму тебя с собой. А уж там-то, уверяю тебя, будет достаточно солнца, песка и секса.
— Рио! — воскликнула Лора. — Я там никогда не была! Слушай, как здорово! Знаешь, дорогая, — сказала она Викки, — жизнь с твоим отцом похожа на вечный медовый месяц!
— Если хочешь добиться того, чтобы я к тебе приревновала, то напрасно теряешь время, — ответила Викки. Она взглянула на отца и улыбнулась. — Но я согласна, это самый лучший папа в мире!
— А ты лучшая в мире дочка! — подмигнул ей Ник.
Из всех своих детей он более всего отличал Викки. Может, потому что она была самой младшей, самой невинной. Но, может, и потому что она очень походила на свою мать Эдвину. Ник любил Лору, но в его сердце навсегда заняла место первая жена.
— Вас зовут мисс Викки Флеминг? — спросил молодой человек с изрытым оспой лицом. На нем был черный костюм шофера и фуражка.
Викки только что села за угловой столик в «Павильоне» и собралась позавтракать со своей сестрой Файной, которая, кстати, должна была исполнять роль подружки невесты на свадьбе.
— Да.
— У меня поручение от мистера Росса Харрингтона.
Я его шофер, и мне велено отвезти вас в Фар-холлз. Мистер Харрингтон сказал, что это очень важно.
Викки встревожилась.
— Что-то случилось? — спросила она. — Росс заболел?
— Не знаю, мисс. Я только знаю, что мистер Харрингтон сказал, что речь идет о чем-то чрезвычайном. И я срочно должен отвезти вас туда.
— Но я сейчас завтракаю с сестрой…
— Он сказал: срочно.
Викки вздохнула:
— Похоже, завтрака не будет.
Она взглянула на шофера, как бы еще не решаясь идти с ним, потом сказала:
— Я сейчас приду.
— Я буду ждать на улице в машине, мисс.
Спустя три минуты Викки в плаще и шляпке вышла из самого дорогого нью-йоркского ресторана на углу 57-й улицы и Парк-авеню. Это был ветреный и дождливый осенний день. Зонты у прохожих прогибались под резкими порывами ветра. Шофер — он был невысокого роста, но очень крепкий, — стоял под черным зонтом у черного «кадиллака». Викки подождала немного под козырьком подъезда, рассчитывая на то, что он подойдет к ней с зонтом, но это, по-видимому, не пришло ему в голову, и она, решив, что он недавно взят Россом на работу и еще не знает таких вещей, сама побежала под дождем к машине. Он открыл заднюю дверцу, и она села. Закрыв дверцу, он сел за руль, завел машину, и они поехали на запад по 57-й улице.
Ее взгляд остановился на пепельнице, устроенной в дверце автомобиля, — она была до отказа набита сигаретными окурками. «О, этот парень скоро потеряет свою работу», — подумала она. Викки знала, что ее будущий свекр не выносит одного вида окурков.
Она была спокойна до тех пор, пока спустя двадцать минут они не выехали из туннеля Линкольна. Она отодвинула стеклянную перегородку и сказала:
— Простите, но так мы не приедем к Харрингтонам. Я была у них сто раз и…
— Я везу вас не к ним домой, мисс. Мистер Харрингтон сейчас в охотничьей сторожке.
— В какой сторожке? Я никогда не слышала, что он увлекается охотой.
— Сторожка принадлежит не мистеру Харрингтону, мисс. Она принадлежит мистеру Корбетту.
— А кто такой мистер Корбетт?
— Деловой партнер мистера Харрингтона, мисс. Они вчетвером или впятером собрались в сторожке.
— Но… — Она нахмурилась. — Я что-то не понимаю. Неужели кого-то убили по ошибке?..
— Нет, мисс.
— Тогда зачем… Странно… Я что-то ничего не понимаю.
Он не ответил. Она вдруг заметила, что он смотрит на нее в зеркальце. В его темных глазах было нечто пугающее. Она откинулась на спинку своего сиденья. За окном теперь пошли деревья да редкие убогие лачуги. Машина мчалась по ухабистой дороге со скоростью 75 миль в час.
Она вновь наклонилась вперед.
— Как ваше имя? — рассерженно спросила она.
— Уильямс, мисс. Уильям Уильямс.
— Так вот, Уильям Уильямс. Я попрошу вас высадить меня у следующего дома. Я собираюсь позвонить Харрингтонам и выяснить, что же произошло. Надо было, конечно, позвонить еще из города.
К ее удивлению, он ответил:
— Отлично, мисс. У следующего дома.
Она опять откинулась назад и даже подумала, что, может быть, зря так волнуется.
Они миновали какую-то ферму с обшарпанными стенами.
— Я сказала: у следующего дома! — почти крикнула Викки.
— Прошу прощения, мисс, не успел затормозить. У следующего обязательно.
— Хорошо же! Вы остановите машину у следующего дома, а я непременно расскажу потом мистеру Харрингтону о том, что вы тут вытворяли!
— Прошу прощения, мисс.
Спустя минуту он свернул на неровную проселочную дорогу и заехал в лес.
— Здесь нет дома! — крикнула испуганно Викки.
— Есть, мисс.
Машина вся сотрясалась на ухабах и рытвинах. В двух сотнях ярдов от дороги он остановился. Она вся дрожала. Он вышел из машины и открыл ее дверцу.
— Вот и ваш следующий дом, мисс, — сказал он.
Она глянула на покосившуюся хибару, полускрытую за деревьями.
— Там наверняка нет телефона, — проговорила она.
— Давайте сходим и посмотрим…
— Нет! Отвезите меня обратно…
Она не договорила, так как увидела в его руках пистолет.
— Выходите из машины, мисс, — спокойно сказал он. — В радиусе мили здесь никого нет, так что кричать бесполезно. Если будете делать то, что я скажу, останетесь живой-здоровой.
Ее охватил ужас. Ливень прекратился, лишь слегка моросило.
— Кто вы? — пролепетала она.
— Из машины.
Всхлипывая, она вылезла.
— Пойдем в дом.
— Что вы хотите сделать? — плача, спросила она.
Он схватил ее за руку и толкнул вперед. У него была очень крепкая хватка, ей стало больно, и она закричала. Он заставил ее подняться на крыльцо и пинком открыл дверь. Потом он втащил ее внутрь.
Лачуга оказалась заброшенным домиком, сохранившимся со времен депрессии. В углу стояла грязная и просиженная койка, около нее два продавленных стула и, наконец, грубый деревянный стол с лампадой. Дождевая вода капала из десятков отверстий в прохудившейся крыше.
— Раздевайтесь, мисс, — сказал он, с грохотом захлопывая за собой дверь.
— Нет… прошу вас… — Дрожа всем телом, Викки стала пятиться от него.
— Я сказал: раздевайся.
Он сложил зонт и поставил его в угол. Потом, не убирая пистолета, он стал расстегивать свою шоферскую куртку.
— Тебе ничего не будет, — успокаивающим тоном говорил он. — Лишь делай, что я говорю.
Здравый смысл подсказывал ей повиноваться. Она сияла с себя плащ и шляпку.
— Положи их на стол, — приказал он.
Она положила. Затем сняла галоши и туфли.
— Зачем вы это делаете? — со страхом в голосе прошептала она.
— Вы очень красивая, мисс. — Он тоже сиял свои ботинки и стал расстегивать брюки. — Я хочу вами насладиться, мисс.
Она опять заплакала. Он скинул брюки, и она увидела, что под ними ничего не было. У него было крепкое, мускулистое тело. Тело боксера.
— Ты извращенец! — рыдая, произнесла она.
— Верно, мисс. И мне нравится быть таким. Смотри, как напрягся мой дружок. Он полон желания, мисс.
— О Боже…
Он положил пистолет на пол, рядом с зонтиком, затем вдруг неожиданно бросился на нее и сорвал с нее костюм.
— Я сказал: раздеться догола! — заорал он. — Догола, сука!
— Пожалуйста…
— ДОГОЛА!!!
Он сорвал с нее бюстгальтер и трусики и уставился на ее наготу.
— Ты только погляди, — сказал он, ухмыльнувшись. — Юная леди и вправду очень красива, Уильям. Так я называю своего приятеля, мисс: Уильям Уильямс. Он мой любимец, и мне часто приходится ублажать его. Посмотри на ее большие и красивые титьки, Уильям. А эти широкие бедра, а ноги! А вон и черная норка. Она ждет тебя, Уильям. О, мы хорошо проведем с тобой время, приятель!
Он грубо схватил ее и повалил на койку. Она дико закричала и стала отбиваться кулачками, но ему все было нипочем. Он взгромоздился на нее.
— Не зли меня! — орал он. — Я не знаю, что с тобой сделаю, если ты меня разозлишь! Видишь тот зонт? Я могу воткнуть его в тебя, если ты меня доведешь! Весь вгоню, до ручки!
— О Боже, Боже…
— Лежи смирно!!!
Она подчинилась, охваченная ужасом при мысли о зонте. Ей пришлось вдыхать острый и мерзкий запах его пота.
— Входи, Уильям. Только легко и красиво.
— О Боже…
— О, она такая красивая! Такая теплая! Упругая! А это что? Да ведь она девочка!
Она дико вскрикнула, когда он порвал ей девственную плеву.
— Папа, Боже!.. Папа, помоги мне!.. Кто-нибудь, помогите… Росс… Господи, кто-нибудь, спасите!..
— Туда-сюда, туда-сюда…
— Спасите, Боже, спасите!..
— О, как нам хорошо с дружком! Тебе хорошо, Уильям? А ты говорил!
— О Боже! Нет… почему это со мной? Почему со мной?! Господи, почему это со мной?!..
— Аа-х… А ты говорил, будет плохо. — Он захрипел. — Кончаю, кончаю…
Он обхватил руками ее горло и стал душить.
— Кончаю, кончаю… Ну разве это не здорово?!
Под его руками что-то хрустнуло. К тому времени, когда он кончил, Викки Флеминг была мертва.
Лора делала массаж лица в салоне Элизабет Арден, когда вдруг раздался телефонный звонок от Ника. Было четыре часа дня.
— Что-то случилось с Викки, — сказал он. — Она пошла в «Павильон» позавтракать с Файной, но та говорит, что пришел шофер от Харрингтонов и забрал Викки с собой. Я позвонил Харрингтонам. Лора, они ничего об этом не знают!
— Но где же она тогда?
— Я не знаю. Я связался с полицией.
— С полицией? Ты думаешь, что…
— Я не знаю, что думать! Я не нахожу себе места… Ты нужна мне, Лора. Можешь сейчас приехать домой?
— Конечно, милый. Я уже выхожу.
Она нашла его в кабинете за телефоном. Ей пришлось подождать до тех пор, пока он не закончит разговор. Она никогда еще не видела его таким встревоженным. Даже в том туннеле в Бретани он выглядел спокойнее и увереннее в себе.
— Полиция составила словесный портрет этого шофера, согласно показаниям официантов «Павильона», — сказал он. — Они отправили его в ФБР в Вашингтон.
Она обошла вокруг стола и поцеловала его.
— Так, значит, о ней пока еще ничего не удалось выяснить?
— Нет.
— Но как ты думаешь, что это может быть?
— Я даже не знаю… Может, похищение… Полиция будет прослушивать наш телефон. Это на случай звонка от вымогателя.
Она провела рукой по его волосам, которые уже давно были посеребрены сединой, и увидела, как он нервно сжимает и разжимает кулаки.
— Если с ней что-нибудь случится… — тихо проговорил он.
Члены семьи Флемингов, бывшие в Нью-Йорке, собрались в тот же вечер на квартире отца за обеденным столом. Настроение у всех было мрачное. Не присутствовал двадцатишестилетний Морис, пятый по старшинству ребенок Ника и Эдвины. Он вот уже два года работал в Лондоне в Саксмундхэмском банке вместе со своим кузеном лордом Рональдом Саксмундхэмом, который унаследовал от дяди, умершего в самом конце войны, и титул и банк.
За столом сидел молчаливый Чарльз. Ему исполнился уже тридцать один год, а он все еще не женился. Напротив него и рядом с отцом сидела сестра Сильвия. Она уже рассталась со своим вторым мужем Корни Бруксом. По правую руку от нее сидел двадцатидевятилетний Эдвард. Смуглый, красивый и постоянно погруженный в свои мысли. После окончания учебы в Принстоне он изумил отца заявлением о том, что совершенно не имеет желания заниматься бизнесом, а хочет стать писателем. После смерти Эдвины между всеми детьми было поделено ее личное состояние, так что Эдвард вполне мог позволить себе переехать в Гринвич-виллидж. Там он в муках рождал свой первый роман и втайне от отца пристрастился к травке, которую чернокожие джаз-музыканты прозвали «марихуаной». Эдвард ходил обычно в грязных штанах цвета хаки и дырявых свитерах. Но он уважал консервативные вкусы своего отца, поэтому приехал к нему домой в строгом костюме и галстуке.
Напротив него и рядом с Чарльзом сидела очаровательная двадцатисемилетняя Файна. Ее смуглая красота обеспечивала девушке вспомогательные роли на Бродвее и съемки на телевидении. А недавно ее агент предложил ей заключить трехгодичный контракт с «MGM», но она была влюблена в биржевого брокера Джерри Лорда, который обещал ей развестись со своей женой. Пока что Джерри значил в жизни Файны больше, чем Голливуд.
По правую руку от Лоры сидел двадцатипятилетний Хью Флеминг. В Йельском университете он был спортивной звездой, а теперь работал на своего отца. За последние годы он успел уже прослыть повесой, но в тот вечер Хью, как и остальные дети Ника, думал только об одной девушке: о своей любимой сестренке Викки. Обычно Хью проявлял зверский аппетит, но сейчас он едва притронулся к ростбифу и йоркширскому пудингу.
Разговоров за столом никаких не велось. Каждый уткнулся в свою тарелку и ел молча. Свечи в массивном серебряном подсвечнике отбрасывали мягкие тени на китайские обои.
Вдруг раздался телефонный звонок.
Все тут же прекратили есть и подняли глаза на Ника. Все думали об одном: похитители?
Спустя полминуты в столовую вошел слуга и внес телефонный аппарат.
— Это полиция, сэр. Детектив Мак-Гиннис.
Он поставил аппарат на стол перед хозяином и нагнулся, чтобы включить его в розетку.
— Да? — сказал Ник в трубку. Вся семья не спускала с него глаз. Он нахмурился. — О Боже, вы уверены? — Долгое молчание, затем: — Хорошо, спасибо.
Он повесил трубку.
— Им удалось установить личность того шофера, — сказал он. — Вернее, того, кто выдавал себя за шофера. Это вышедший на свободу уголовник Уильярд Слэйд. — Он обвел детей мрачным взглядом, поморщился и добавил: — Он отсидел девять лет в льюисбургской тюрьме за изнасилование.
— Боже, — прошептал Эдвард.
Файна, которая была к Викки ближе остальных членов семьи, выбежала из-за стола и, заливаясь слезами, бросилась вон из столовой.
ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ
У пожилого джентльмена, который сидел в баре парижского отеля «Ритц» (со стороны Рю-Камбон), были умные голубые глаза, седые волосы и усы. На нем был отлично сшитый серый костюм, и у него был вид аристократа. Увидев входящую в бар красиво одетую средних лет женщину, он поднялся из-за столика и пошел ей навстречу. Диана Рамсчайлд села за столик с итальянским графом Альдо Питти-Гонзага, с которым дружила вот уже два года. Они заказали по коктейлю, и Альдо сказал:
— Что-то случилось, дорогая. Я всегда определяю это по выражению твоих глаз.
— Я получила от Ника письмо, — ответила она. — Я говорила тебе, что написала ему сразу же, как только узнала, что у него похитили дочь. Так вот он ответил… Его письмо проникнуто такой печалью… Он просто убит всем происшедшим, что и понятно. Но в его письме… он стал немного другим. Ник стал более мягким и рассудительным. Я знала его совсем иным.
— Он стал старше, — сказал граф, взяв с блюда на столе несколько орешков арахиса. — С годами люди смягчаются, как и вино. Если, конечно, это хорошее вино. Плохое вино с годами становится только кислым.
— Как бы то ни было, а он попросил меня позвонить ему на следующей неделе, когда я буду в Нью-Йорке.
— Так поэтому у тебя блестят глаза?
Она смущенно взглянула на графа:
— Это что, так заметно?
Он улыбнулся и взял ее за руку.
— Дорогая, Ник Флеминг — это твоя неизлечимая болезнь. Ты заразилась им на всю жизнь. Поначалу мне казалось, что я смогу излечить тебя, но теперь вижу, что заблуждался.
— Нет, может, ты и не заблуждался. Может быть, ты — действительно являешься лучшим лекарством. Я… Господи, всю жизнь я смотрела на мужчин глазами впечатлительного ребенка. Сейчас пришло время либо забыть о нем и выйти за тебя, либо… — Она не договорила, так как Подошел официант с коктейлем.
— Либо предпринять, — улыбаясь, сказал граф Альдо, — последнюю отчаянную попытку добиться его?
— Нет, об этом не может быть и речи. Он женился на Лоре. Наверное, они счастливы… Просто мне хотелось бы повидаться с ним еще разок. — Она грустно улыбнулась итальянцу, который был ей очень близок. — А потом я вернусь к тебе, мой милый Альдо.
Граф пригубил свой бокал.
— Если бы я был любителем заключать пари, а я не любитель, — сказал он, — я и тогда бы не поставил ломаного гроша на то, что ты ко мне вернешься.
Детективу Франку Мак-Гиннису было тридцать четыре года, он имел двадцать фунтов избыточного веса, привычку одну за другой курить «Лакки страйк» и трех детей в Куинсе. По роду его деятельности Мак-Гиннису приходилось видеть всякие трупы: обезглавленные, отвратительных «пловцов», которых доставали из водоемов — мрачные напоминания о жестокости и дикости, царившей под яичной скорлупой американской цивилизации. Поэтому когда он стоял у края неглубокой могилы за задней стенкой убогой хижины в лесу северного Нью-Джерси и смотрел на тело молодой девушки, оно не шокировало его своим видом, хотя и было уже охвачено процессом разложения.
Зато оно потрясло человека, который стоял рядом с детективом, ибо Ник Флеминг смотрел сейчас на печальные останки своей дочери.
— Это Виктория? — спросил детектив.
— Д-да…
Отгоняя дурноту, Ник повернулся и зашагал к своему лимузину. Несколько недель он цеплялся за слабую надежду на то, что его Викки все еще жива. Теперь эта надежда была так же мертва, как и его любимая дочь.
Он оперся о крыло своего «роллса», разглядывая полуразвалившуюся хижину, которая словно вжалась в землю под низким серым небом. Викки, которая имела все в своей короткой жизни, умерла в этом мерзком грязном месте, и ее тело было отрыто бродячей собакой.
Как это гнусно, страшно и несправедливо!
Детектив Мак-Гиннис закурил сигарету и тоже направился к автомобилю, оставив у могилы фотографов из Нью-Джерси. Сверкающий боками «роллс-ройс» с кожаными сиденьями и изготовленным на заказ баром восхищал его. Его сжигало любопытство: сколько стоит эта машина? Сорок тысяч? Пятьдесят? Немыслимая для Франка Мак-Гинниса сумма. Ему еженедельно выдавали на руки какие-то сто двадцать пять долларов. Ему до сего дня никогда не приходилось лично встречаться с промышленными воротилами, но прессу по данному делу он читал с жадностью мелкого актера, выискивающего упоминание о себе в газетах. «Титан», «газетный царь», «миллиардер» все эти эпитеты, которыми журналисты награждали Ника Флеминга, были так же малодоступны воображению детектива, как и этот «роллс». Что уж говорить о миллиарде, когда обладание всего одним миллионом долларов уже казалось ему нереальным. Странно, но Мак-Гиннис ощущал больше чистое любопытство, чем зависть. Ник Флеминг оказался таким же человеком, как и он сам. Он, как и все люди, пользуется туалетом, чистит по утрам зубы, занимается любовью с женщинами… Разве нет? И он скорбит над телом погибшей дочери совсем так же, как скорбил бы он, детектив Мак-Гиннис. Странно, но именно зверское убийство невинной девушки сблизило этих двух людей, которые принадлежали к совершенно разным мирам. Точно так же немецкие бомбежки сплотили лондонцев, относившихся к разным социальным слоям. Франк Мак-Гиннис не был философом, но ему вдруг пришла в голову мысль, что человек человеку становится братом только в беде.
— Мне кажется все это бессмысленным, — сказал Ник, когда к нему подошел детектив. — Вот уже несколько недель я ломаю над этим голову и не могу ничего понять! Я пробую поставить себя на место Слэйда… Но это не помогает. Слэйду было известно, кто она такая, с кем она была помолвлена и даже то, что она пошла в тот день завтракать в «Павильон». Но если он хотел похитить ее, то почему сделал это так открыто? Зачем он пошел в известный ресторан, где его не могли не заметить люди? Заметить и потом, возможно, вспомнить. Он должен был знать, что Викки совершенно свободна в своих передвижениях по городу. У него были десятки возможностей похитить ее без свидетелей.
— Может, и нельзя было. Я имею в виду, что, подойдя к ней в безлюдном месте, он возбудил бы у нее подозрения. Ему нужно было выманить ее обманом. И это сработало. К несчастью. Ваша дочь не села бы в любую машину, только для того чтобы прокатиться.
— Да, и я так думаю. И все-таки он делал все с таким для себя риском… Или он настолько глуп, что не понимал всех последствий своего появления в ресторане… В этом я сомневаюсь… Или ему было абсолютно наплевать, узнают его или нет. Он должен был знать, что в ФБР на него давно лежит карточка, при помощи которой его личность быстро установят. А какие у него были мотивы? Если это сексуальный маньяк и псих, то зачем ему потребовалась именно моя дочь, из-за которой ему пришлось так рисковать? Он должен был предполагать, что его преступление получит небывалую огласку. Почему бы, скажем, не заманить в кусты какую-нибудь девочку из маленького городка? Я понимаю, что это звучит цинично, но я просто хочу его понять. Если бы, скажем, он задумал брать выкуп, то тогда ясно. Но, как выяснилось, ему не нужен был выкуп! Я не вижу в его действиях смысла!
Он с силой ударил кулаком по крылу машины. Детектив Мак-Гиннис не знал, что сказать, поскольку для него во всей этой истории тоже не виделось ни крупицы смысла.
— Она была доброй девочкой, — проговорил Ник. — Милой девочкой. Но я знаю, что у нее были свои хитрости! Она, например, любила каждую минуту чем-нибудь шокировать окружающих. Да… Но это был чистый, добрый ребенок. Любящая дочь. А теперь…
Он не договорил, и Мак-Гиннис увидел, что миллиардер вновь борется со слезами.
— Когда они возьмут Слэйда, — продолжал Ник, — а я уверен, что сто рано или поздно возьмут… Только сознание этого не дает мне сейчас сойти с ума… Если сцапают этого монстра, я хочу присутствовать, когда его будут сажать на электрический стул. Я хочу смотреть, как он умрет.
Он сел на заднее сиденье своей машины и захлопнул дверцу. В течение всей своей жизни Ник был хозяином положения, теперь же он чувствовал себя абсолютно беспомощным…
Возвращаясь в город, он размышлял о своей жизни. Сначала он потерял Эдвину. Случайность военной поры. Теперь он потерял Викки, и это выглядело как случайность мирного времени. Всю жизнь насилие жестокого века окружало его. Насилие войн, революций, жестокость коммунистов и фашистов, а теперь вот еще жестокость отдельной уголовной твари. Он сознавал, что его желание видеть смерть Слэйда на электрическом стуле — это жестокое желание, хоть и оправданное в данных обстоятельствах.
Ник был агностиком, но сейчас вдруг стал думать: а нет ли во всех этих его утратах некоей божественной кары? У него была возможность уйти из военного бизнеса, но он поддался уговорам своих детей. Может, это месть тех миллионов людей, что были загублены бомбами, пулями, пулеметами, пушками и танками, которые выпускала его компания? Ник не верил в сверхъестественное, но он был так потрясен видом той страшной, разрытой собакой могилы, что никак не мог отделаться от этих мыслей.
Что же делать?
Именно тогда в его сознании возникла идея «Флеминг фаундейшн». Он тут же представил себе циников, которые назовут это средством отмывания миллионов, но Нику было плевать на то, что они скажут. Он чувствовал, что способен создать нечто положительное из своего богатства, созданного на отрицательном, на насилии. Конечно, ничто уже не вернет ему Эдвину и Викки, не воскресит и миллионы погибших от его оружия.
Но это послужит им лучшим мемориалом.
ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ
— Диана! — Ник протянул к ней руки и улыбнулся, когда она входила в гостиную его нью-йоркской квартиры. — Сведения, полученные мной, оказывается, верны, — воскликнул он, взяв ее за руки. — Ты красивая женщина! Поздравляю.
— Спасибо, Ник.
— Я оценил твое письмо насчет Викки. Спасибо, что ты вошла в мое положение, поняла меня.
— Я была так потрясена, услышав обо всем происшедшем! Могу себе представить, что ты пережил.
Он покачал головой.
— Нет, — спокойно ответил он. — Не думаю, что ты можешь себе это представить. Это было самое сильное потрясение для меня со времени… — Он сделал паузу, — убийства Эдвины.
Наступило молчание.
Затем он заставил себя вежливо улыбнуться.
— Ну, садись. Хочешь чего-нибудь выпить?
— Мартини, пожалуйста. Я позволяю себе это ежедневно. — Она стала осматривать громадную гостиную с полотнами Гогена, Пикассо «Клоуны» 1918-го года и Матисса. — У тебя замечательная квартира. Неужели ее обставляла Лора?
Она опустилась на диван, а Ник принес ей мартини.
— Лора? Ее это не занимает. И потом она не боится признаться в том, что у нее скверный вкус.
Диана улыбнулась.
— Вспоминаю ее парижскую квартиру. Все эти идиотские медвежата, ленточки, бантики… — Она взяла бокал. — Спасибо.
Ник присел рядом и поднял свой бокал.
— За нас, — сказал он. — Давно не виделись.
— Аминь.
Они чокнулись и выпили.
— А где Лора? — спросила Диана.
— Лежит с простудой. Просила меня передать привет от ее имени.
Диана улыбнулась.
— Она просто не хочет видеться со мной, не так ли? — спросила она. — Наверное, я напоминаю ей о многом из того, о чем она хочет как можно скорее позабыть.
— Ты права. Мне не стоило с самого начала валять перед тобой дурака, Диана. Она действительно не хочет с тобой видеться. Сказала, что хочет побыстрее изгнать из памяти и оккупацию, и «Семирамиду», и… генерала фон Штольца.
— Я не упрекаю ее. Я сама приложила все силы к тому, чтобы забыть об этом. Скажи… ты счастлив с Лорой?
Он ответил не сразу:
— Конечно. А как у тебя дома? Ты кого-нибудь нашла себе? С твоей-то внешностью… Полагаю, уже, по меньшей мере, пол-Европы у твоих ног?
— Ты мне льстишь. Но у меня и правда есть один милый итальянский граф. Он старше меня, но это просто удивительный человек! Интеллигентен, умен и при этом добр. Мы встречаемся уже несколько лет. Я его очень полюбила.
— Хорошо, рад это слышать. Сколько времени пробудешь здесь?
— Десять дней. Я планировала сделать кое-какие покупки и просто… посмотреть на город. Соскучилась по Нью-Йорку. — Она помолчала, потом грустно добавила: — И по Америке. Представляешь, я не видела ни Рокфеллеровского центра, ни Эмпайр Стэйт-билдинг, ни моста Джорджа Вашингтона — ничего! Последний раз я была здесь больше тридцати лет назад. Чувствую себя настоящей туристкой.
— Хочешь, я буду твоим гидом?
— О, Ник, это было бы так мило с твоей стороны, но ты ведь очень занят?
— Вовсе нет. С удовольствием покажу тебе город. Это поможет мне немного отвлечься… Могу заехать за тобой завтра утром в отель. Скажем, в десять? Я покажу тебе все, что было построено в Нью-Йорке после двадцатого года. Потом мы вместе позавтракаем.
Она рассмеялась.
— Похоже, у меня будет очень загруженное утро! Но, — мягко прибавила она, — восхитительное! С нетерпением буду ждать тебя завтра.
Их взгляды встретились. Ее мысли перенеслись на много лет в прошлое, в тот пустой дом на пляже пролива Лонг-Айленд, где она познала свою первую любовь с этим человеком, где она заразилась им, как говорит Альдо.
Вопрос был в том, действительно ли она хочет излечиваться от своей болезни?
— О Господи, на самом деле впечатляет! — воскликнула она следующим утром, стоя рядом с Ником на смотровой площадке Эмпайр Стэйт-билдинг на уровне восемьдесят шестого этажа и глядя вниз на Манхэттен, купающийся в чистом воздухе и подмороженный ранним ноябрьским холодком. — Теперь я понимаю, почему люди здесь приходят в восхищение.
— Вот и я говорю: Кинг-Конга поймешь только тогда, когда заберешься на такую высоту!
— Кстати, «Кинг-Конг» был любимым фильмом Гитлера. Этот и еще один, снятый в 1931 году, — «Танцы на конгрессе». Геринг рассказывал мне по секрету, что фюрер смотрел его десятки раз и с большим удовольствием. Там речь идет о Венском конгрессе и об одной девушке из обслуживающего персонала, которая завела роман с русским царем. Громадная обезьяна, карабкающаяся на крышу Эмпайр Стэйт-билдинг с хрупкой девушкой в лапах, с которой она даже не может заниматься любовью, и, с другой стороны, обычная молодая крестьянка, ложащаяся в постель с царем… Я всегда полагала, что эти две картины много говорят о самом Гитлере…
— Да, думаю, ты права.
— Ну что ж, вид, и правда, замечательный, но я потихоньку начинаю замерзать.
— Следующая остановка — Рокфеллеровский центр. Потом завтрак. Кстати, я попросил свою дочь Файну присоединиться к нам перед завтраком на стаканчик коктейля. Я очень хочу, чтобы ты с ней познакомилась. Она сейчас подает надежды как актриса. Ее настоящий отец — Род Норман.
Диана резко повернулась и остро взглянула на Ника, запахнув свою норковую шубу.
— Ты хочешь сказать…
— Я хочу сказать, что убийца, которого ты наняла, по ошибке разделался с ее отцом. Она не знает об этом, и я не собираюсь ей рассказывать.
— А ей известно, что Род Норман является ее настоящим отцом?
— Да, Эдвина рассказала ей. А потом Файна рассказала Викки, а Викки рассказала Хью… Теперь об этом знает вся семья, но никто не знает, кто нанял того убийцу.
Диана нервно передернула плечами.
— Господи, ты напомнил мне о моей ужасной вине, — прошептала она. — Но, по словам Кемаля, все это выглядело легко и просто… Так логично… — Она печально вздохнула. — Но я сполна расплатилась за это. Семь лет в турецкой лечебнице для душевнобольных. Почти семнадцать лет с вуалью на лице. Днем и ночью. Ни друзей, ни возлюбленных… Ужас при мысли о том, что кто-нибудь увидит мое лицо. Не думай, я не пытаюсь разжалобить тебя. Просто хочу сказать, что искупила вину за то, что сотворила с Родом Норманом. И за то, что планировала сотворить с тобой. Не хочу сказать, что теперь это уже не кажется мне преступлением. Просто я искупила вину. Ты меня когда-нибудь простишь за это?
Он пристально взглянул ей в глаза. Тысячи мимолетных воспоминаний пронеслись у него в голове.
— Да, — сказал он после долгого молчания, — мы доставили друг другу так много боли и страданий, потому что однажды любили друг друга. Наверное, это была сильная любовь, раз она породила такую жестокую реакцию.
— Я все еще люблю, — сказала она тихо.
Внезапный порыв сильного ветра захлестнул смотровую площадку здания.
Она улыбнулась.
— Прости, я тебя смутила, — сказала она. — Больше не буду. Пойдем смотреть Рокфеллеровский центр. И, Ник, я отлично провожу сегодня время, так и знай. Большое спасибо тебе.
Она направилась к выходу. Ник несколько секунд стоял на месте и смотрел ей вслед, затем пошел догонять.
Пока Ник и Диана осматривали Рокфеллеровский центр, Лора присутствовала на торжественном ленче, дававшемся в «Плаза» по случаю учреждения благотворительного фонда, инициаторами которого была она с мужем. На этом-то ленче Лора с ним и встретилась… Нет, не с Ником. Ей и раньше приходилось слышать о Хуане Альфонсо Эрнандо Гузман и Талавере, маркизе Наваррском. А кто о нем не слышал? Красивый испанский аристократ-автогонщик осветил своими победами послевоенную Европу. Дважды он чудом выживал после аварий, о чем писали все газеты. Он выступал в качестве любителя и на корриде, был знаменит любовными похождениями. Если верить газетам, то за маркизом по всей Испании, Италии и Франции тянулся длинный шлейф из разбитых сердец. Его даже прозвали в связи с его славой любовника «Эль Торо»[18]. Он женился три раза, два из которых на богатых женщинах старше себя. Сейчас он только что закончил последний бракоразводный процесс с богатой наследницей Сильвией Мэйнверинг и, согласно решению суда, получил миллионное содержание.
— Лора, я хотела бы, чтобы вы познакомились с маркизом Наваррским, — сказала ей Филипа Вильсон, также одна из учредительниц фонда. — Хуан, это Лора Флеминг, о которой я так много вам рассказывала.
Пока Хуан подносил ее руку к своим губам для поцелуя, она успела рассмотреть его и не могла не признать, что это один из самых красивых мужчин, которых ей только приходилось видеть в жизни. По меньшей мере, шести футов роста, с легко вьющимися черными как смоль волосами и смуглым лицом с точеными чертами кинозвезды. У него были пронзительные голубые глаза, которые словно спрашивали: «Ну разве я не великолепен?» На нем был безупречный темно-синий костюм от Сэйвил Роу, сорочка в тонкую полоску фирмы «Торнбулл энд Ассер» с золотыми запонками. От него исходил легкий вяжущий аромат одеколона.
— Я слышал, что жена знаменитого мистера Флеминга очень красива, — сказал он с акцентом Рикки Рикардо. — Теперь я собственными глазами вижу, что это правда. Вы парижанка? — спросил он, переходя на французский.
— Да, но родом из Пуатье.
— А, так же, как и Диана. Что-то подсказывает мне, что вы столь же утонченное создание.
Лоре пришло в голову, что Хуан ей льстит, и притом довольно грубо, но все равно ей очень понравилось его сравнение.
— Ну конечно! — воскликнул он вдруг. — Я видел вас раньше! Я видел, как вы пели в «Семирамиде» в Париже во время войны.
— О?
— Да. Тогда вы мне напоминали Бэтти Грабл. У вас была такая же прическа. Но теперь, по-моему, у вас еще лучше.
— А что вы делали в Париже во время войны?
— Я был прикомандирован к испанскому посольству. Я был нейтралом. — Он широко улыбнулся, и она увидела, что у него красивые зубы. — Вы тоже?
Она насторожилась.
— Я просто старалась выжить, — холодно сказала она. — И кроме того, помогала Сопротивлению.
— В самом деле. Да, многие стремились помочь Сопротивлению в конце войны.
После этой обидной реплики ее взгляд, которым она смотрела на него, стал ледяным.
— Я помогла уничтожить крепость Де-Морле, если это название говорит вам о чем-нибудь. Мне нечего стыдиться. И, во всяком случае, я не потерплю оскорблений со стороны испанца-нейтрала, который, наверно, и не ведает, что такое свист пули над ухом.
— Когда вы сердитесь, то становитесь еще краше.
— Комплимент в духе Дон-Жуана.
— О, так, значит, вам известна моя репутация?
— О да! О ваших ночных подвигах говорят во всей Западной Европе.
Он нахмурился, но потом вдруг расхохотался.
— Это правда, — сказал он, смеясь. — С удовольствием доказал бы вам это на практике.
Она пристально взглянула на него. Итак, ее соблазняют. Впервые после того, как она вышла замуж за Ника, ее соблазнял мужчина.
— Нет, спасибо, — ответила она. — Мне вполне достаточно для счастья мужа.
— Значит, вы счастливая женщина. И необычная к тому же. Большинство замужних женщин, с которыми мне приходилось встречаться, постоянно… ну, скажем, жалуются на что-либо. Но раз мы решили с вами ограничиться чисто платоническими отношениями, как насчет совместного завтрака? Я готовлю потрясающую паэлу.
Она ответила не сразу:
— Вы имеете в виду завтрак… у вас дома?
— Да, почему бы и нет? В Саттон-плэйс у меня есть небольшое пристанище, как говорят французы. Я приготовлю паэлу, мы откупорим бутылочку отличного вина, и все будет очень мило и симпатично. Без эксцессов. Вполне, вполне безопасно для честной женщины! Даже ваш муж не возражал бы против этого.
— Ну что ж…
— Как насчет завтра? Скажем, в час дня, а?
Она не ответила. Он достал из кармана бумажник и вытащил из него визитку.
— Саттон-плэйс, 27. Седьмой этаж. Семь — счастливое число. Я буду ждать.
Он снова припал губами к ее руке и потом ушел. Она посмотрела на его визитку.
«Ну ладно, — подумала она, — завтрак — это не опасно».
* * *
Ник повез Диану завтракать в маленький итальянский ресторанчик. Вскоре после того как они заняли свою кабинку, к ним ворвалась Файна с порозовевшими от ветра щеками. Она поцеловала отца, который представил ей Диану.
— Я могу посидеть с вами не больше двух минут, — сказала Файна, садясь рядом с отцом. — Я должна быть в центре через сорок пять минут. У меня лекция. Папа говорил, что вы впервые приехали в Нью-Йорк после тридцати лет жизни за границей! Наверно, он страшно изменился?
— Это совершенно другой город, — сказала Диана, любуясь красотой Файны. Пока девушка весело щебетала, Диана увидела, что она очень близка с отцом, а Ник очень близок с ней. Только сейчас она начала понимать, что такое семья в жизни Ника.
— Вы знаете Гринвич-виллидж? — спросила Файна.
— Нет…
Файна повернулась к отцу:
— Почему бы тебе не отвезти мисс Рамсчайлд…
— Диану.
— Да, Диану. Почему бы тебе не свозить ее ко мне на вечерок? А я бы приготовила хороший обед. Вы хотели бы поехать, Диана?
Диана была очарована красотой и непосредственностью этой юной девушки. В то же время ее переполняло чувство вины за свое участие в убийстве ее отца. «Как я могла? — продолжала она терзать себя мысленно. — Как я могла?!»
— С удовольствием поехала бы, — сказала она вслух. — Но я не думаю, что вашей мачехе понравится моя компания…
— О… — произнесла Файна и неуверенно посмотрела на отца.
Ник не колебался ни секунды.
— Если Лора не захочет к нам присоединиться, пусть остается дома, — сказал он.
Диане это очень понравилось.
— Великолепно! — воскликнула Файна, поднимаясь из-за стола. — Тогда завтра? В семь?
— Отлично.
— Вы любите французскую уху с чесноком? — спросила Файна.
— Обожаю.
— Тогда она у нас и будет. Я ее готовлю — пальчики оближете. Ну ладно, пока! Рада была с вами познакомиться.
Она пожала Диане руку, поцеловала отца и убежала.
Когда они вновь остались одни, Диана проговорила:
— Она у тебя необыкновенная красавица. Просто потрясающе! А кроме того, кажется, она умна и добра. Ты ведь гордишься ею?
— О да! Они с Викки были так близки… Когда это произошло, Файна была просто убита горем. Слава Богу, теперь, кажется, понемногу отходит. Правда, у нее там с ее дружком все как-то не ясно.
— Такое случается в этом возрасте, — заметила Диана, принимая из рук метрдотеля меню.
— Такое случается в любом возрасте, — сказал Ник, и они одновременно рассмеялись.
— Ладно, расскажи мне о своей империи, — попросила Диана, после того как они сделали заказ.
— Тебе действительно интересно?
— Конечно. Почему это мне может быть неинтересно?
— Сужу по Лоре. Для нее скучнее темы нет.
— Не хочу особенно критиковать твою жену, но я хорошо знаю Лору. Она очень легкомысленная, а если еще точнее, то в ней еще очень много от ребенка.
— Да, пожалуй, ты права, — сказал Ник. — Ее не интересуют серьезные вещи, а «Флеминг фаундейшн» — вещь серьезная. Но, с другой стороны, это просто захватывающее занятие! Нет, правда, после войны я ничем еще не был так увлечен.
— Ты считаешь разбазаривание денег делом более забавным, чем их накопление?
Он сделал удивленное лицо:
— Да, а как ты узнала?
Она улыбнулась:
— Это написано у тебя на лице.
Он некоторое время задумчиво смотрел на нее.
— Сегодня утром ты говорила о Гитлере, — сказал он. — Так вот, он сделал одну положительную вещь в моей жизни: заставил себя ненавидеть. Это упростило мою жизнь. Свою задачу я видел в том, чтобы приложить максимум усилий к уничтожению нацизма. А когда все кончилось и Гитлера не стало, я вдруг понял, что не знаю, что делать в своей жизни дальше. Конечно, если ты богат, то можно неплохо пожить. Понаслаждаться. Поблагодушествовать. Но у жизни все-таки должна была быть какая-нибудь цель. Приумножение богатства потеряло для меня изрядную долю интереса, так как я понял, что обладаю таким состоянием, которое уже не смогу, не успею потратить. Я даже делал попытку выйти из военного бизнеса. С моей стороны это было бы чем-то вроде широкого жеста. А может, это был бы акт протеста против всего того страшного оружия, которое было порождено этим столетием. Но у меня ничего не получилось. Мы проголосовали семьей, и дети меня победили. Я пошел им навстречу и, кстати, далеко не уверен теперь, что поступил правильно. Короче, последние пять лет все мои думы были о том, чтобы найти новый смысл в жизни. И я нашел «Флеминг фаундейшн». — Помолчав немного, он смущенно спросил: — Я тебе уже наскучил?
— Напротив, мне очень интересно.
Ей действительно было интересно. «Новый» Ник Флеминг, которого она почувствовала еще в том письме, полученном в Швейцарии, начал сейчас раскрываться перед ней. Он стал более чутким к ближним, более добрым.
«Господи! — думала она с восторгом. — Как смягчился его характер! Я снова в него влюбилась!»
С другой стороны, Нику было очень приятно беседовать с женщиной, которая, в отличие от Лоры, была ему ровней по уму. Они ели, Ник продолжал рассказывать о своей империи и в один прекрасный миг вдруг почувствовал, что уже несколько лет он не был так увлечен и беседой, и собеседницей.
Оплачивая ресторанный счет, он понял, что ему очень не хочется, чтобы Диана возвращалась в Европу.
ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ
Барбара Бэйтс, игравшая Фебу, стояла перед трюмо, держа в руках премию Сары Сиддонс, выигранную Евой Харрингтон (Анна Бакстер), и делала реверансы в ответ на воображаемые аплодисменты.
— Какой классный фильм! — восклицала Файна, изо всех сил хлопая в ладоши. — Восхитительно! Если Бэтти Дэвис не получит Оскара, всем им в Голливуде нужно будет провериться у психиатра!
— Все это верно, — сказал Джерри Лорд, — только разреши напомнить, что за последние пятнадцать дней мы смотрим эту картину уже в третий раз. Боюсь, что у меня скоро поедет крыша.
Они проталкивались сквозь толпу к выходу из кинотеатра «Рокси», где 14 октября начался показ блистательной картины «Все о Еве». Файна без конца ходила сюда, а что касается диалогов фильма, то она знала их все почти наизусть.
— Мне больше всего нравится эпизод, когда Бэтти Дэвис и Гарри Мерилл ссорятся на сцене, а потом он валит ее на постель… У нее такое выражение! Говорят, что взгляд может полыхать огнем. Я раньше не верила, но у Бэтти Дэвис именно это и происходило, правда? Как она играет! И какая роль! Господи, я бы все отдала за такую роль!
— Ты еще слишком молода для этих ролей.
— Ты же прекрасно понимаешь, что я имею в виду!
— Все еще раздумываешь, соглашаться ли на контракт с «MGM»?
Он вышли на улицу, и Файна застегнула воротник пальто: было холодно. Отец подарил ей норковую шубу, но она редко надевала ее. Как актриса она добрую часть всей своей энергии тратила на то, чтобы искупить тот факт, что она являлась дочерью самого Ника Флеминга. В то время как ее друзья из студии мечтали о славе и богатстве, она мечтала только о славе, поэтому и забросила в дальний угол шифоньера в своей квартире в Гринвич-виллидж отцовский подарок.
— Разумеется, я часто над этим думаю, — сказала она, пока он ловил такси. — Я бы с удовольствием отправилась в Голливуд. Там все фильмы, а где фильмы — там и жизнь. Но мне не хотелось бы оставлять отца именно сейчас… Убийство Викки настолько потрясло его… И всех нас. А кроме того, дело еще в тебе.
Она взглянула на него, и он тут же отвел глаза, как делал всегда, когда дело доходило до откровенного разговора по поводу их взаимоотношений. Подкатила машина, он открыл заднюю дверцу, помог сесть Файне и сел сам рядом с ней.
— Барроу-стрит, 45,— сказал он шоферу.
Такси поехало по 7-й улице в сторону Гринвич-виллидж. Джерри Лорд держал Файну за руку. Это был симпатичный парень, которому было за тридцать, скрывающий под шляпой преждевременную лысину. Файна часто спрашивала, за что она полюбила его. Она прекрасно понимала, что с ее деньгами и внешностью она могла бы рассчитывать на гораздо большее. И все же она влюбилась в человека, который был не особенно красив и не слишком богат. Хуже того: у этого человека были жена и двое детей, которые жили в Скарсдейле. Файна познакомилась с ним через свою подружку, тоже актрису, за которой ухлестывал Джерри. Из этого можно было сделать вывод, что Файна не первая, с кем он обманывает свою жену. Поначалу Файна очень этого не одобряла. И все-таки это был такой милый и порядочный парень, несмотря на его супружескую неверность. Скоро Файна преодолела в себе предубеждение против этого его недостатка, а потом стала даже сочувствовать. Джерри Лорду не повезло с женой. Это была поистине невозможная женщина.
Сейчас же он чувствовал себя немного не в своей тарелке.
— Когда мы приедем к тебе, — сказал он, — давай поговорим о нас с тобой.
Файна решила, что, по крайней мере, после этой беседы Джерри больше не будет отводить от нее глаз.
Квартира Файны была на последнем этаже государственного четырехэтажного кирпичного дома — очень приятного на вид — по улице Барроу-стрит в Вест-виллидж. Застекленная крыша и широкие окна, выходившие во двор. За гостиную, маленькую кухню, спальню и ванную комнату Файна платила пятьдесят долларов в месяц. Для 1950 года это была очень низкая квартплата. Ее друзья, которые прекрасно знали, что Файна может купить целый квартал, если захочет, считали ее сумасшедшей. Но Файне нравилась ее уютная квартирка. Она называла ее «богемной». По стенам были развешаны театральные афиши в рамках с изображением сцен из спектаклей. Ее устраивала мебель «сэконд-хэнд», купленная за гроши в дешевых магазинах. Ее жизнь скрашивали два беспородных кота: Ини и Мини. Единственное, что она позволила себе как богачке, так это полностью переделать ванную комнату, которая изначально находилась в ужасном состоянии. Да, она забросила подальше свою норковую шубу и чуралась родительского богатства, но мыться она привыкла с комфортом.
— Хорошо, давай поговорим, — сказала она, когда они пришли к ней и снимали с прихожей пальто.
Обняв ее и крепко поцеловав, он сказал:
— Ты знаешь, что я тебя люблю.
— И я тебя люблю.
— Но ты также знаешь, в чем проблема.
— В твоей жене.
— Нет. Настоящая проблема в твоих деньгах.
Она оттолкнула его:
— В моих деньгах?
— Ну хорошо, в деньгах твоего отца.
— Но при чем тут это?
— При всем. Слушай, Фай, я заколачиваю тридцать пять тысяч в год. Если я разведусь с Мэрилин, то мне придется дать ей содержание, во-первых, и платить алименты на детей, во-вторых. А у меня двое ребят. Это составит никак не меньше пятнадцати штук в год. Мне на жизнь останутся гроши. Я много размышлял и наконец пришел к выводу, что я просто не могу себе позволить на тебе жениться.
— Но я могу жить скромно! — воскликнула она. — Посмотри на мою квартиру!
— Да, я вижу, Фай… Но признайся, все это для тебя что-то вроде игры.
— Игры? — Она всерьез рассердилась. — А то, что я актриса? По-твоему, это тоже несерьезная игра?
— Нет, но мне прекрасно известно, что в любой момент ты можешь вернуться в квартиру-триплекс на Парк-авеню. И если ты сама этого не знаешь, значит, обманываешь себя.
— Иди ты к черту, понял?
— Стой и слушай! Мы слишком разные. Твой отец один из самых богатых людей мира. Я буду счастлив, если к моменту ухода на пенсию буду получать шестьдесят тысяч в год. Соединение столь разных людей бессмысленно, так я понимаю.
— Но мы любим друг друга.
— Да, мы любим друг друга. Но ты ведь сама рассказывала мне, что случилось с твоей сестрой Сильвией. Она вышла замуж за такого же парня, как я, и кончилось это все тем, что он сел в тюрьму после попытки раздобыть денег для того, чтобы построить ей дом. Я не хочу, чтобы подобное стряслось и с нами…
— Но Честер Хилл — преступник! Ты же — нет…
— Откуда я знаю сейчас, что не стану им, пытаясь сделать тебя счастливой?! Мой брак — настоящее наказание. Я все отдал бы за то, чтобы развестись и жениться на тебе. Но, если честно, меня пугают твои деньги.
Она стала плакать.
— Но это несправедливо! — рыдала она.
Он снова обнял ее:
— Это жизнь.
— Сейчас ты скажешь, что нам больше не следует встречаться, да?
— Нет. Просто я хочу, чтобы мы раз и навсегда прекратили жалкие попытки самообмана разговорами о свадьбе. Свадьбы не будет, пойми. А если ты не едешь в Голливуд только из-за меня, то вот мой совет: забудь меня и езжай.
Она крепко прижалась к нему:
— А я не хочу тебя забывать.
— Но, может, тебе придется это сделать.
Она отпустила его, прикусив губу.
— Давай заниматься любовью, — сказала она, вытирая мокрое от слез лицо.
— Хорошо, но давай договоримся: о женитьбе забыто раз и навсегда.
Она пожала плечами:
— Сейчас мне хочется только любви.
Около дома на Барроу-стрит под фонарем стоял здоровенный негр в грубом бушлате и, подняв голову, всматривался в окна Файны.
«Временное прибежище» Хуана Альфонсо Эрнандо Гузман и Талаверы занимало целый этаж красивого дома, выстроенного в середине двадцатых годов. Лора поднималась на седьмой этаж в обшитом деревом лифте — на ней была соболья шуба — и убеждала себя в том, что даже не помышляет об измене мужу, а проста пришла позавтракать. Но в глубине души она понимала, что это ложь. Красивый испанец пробудил в ее сердце пожар настолько сильный, что она не пожелала прислушаться к голосу здравого смысла, который не советовал ей идти к нему домой одной. Лора знала, что Ник — ревнивый муж. Она не была меркантильной, но положение миссис Флеминг ей нравилось. Достоин ли маркиз Наваррский того, чтобы ради него рисковать той роскошной жизнью, которую вела Лора?
«Нет, нет и нет!» — повторяла она себе снова и снова.
И тем не менее она пришла к нему. День обещал выдаться интересным.
Несмотря на то что было отнюдь не жарко, когда он открыл ей дверь, она увидела, что он одет как на пляже. Босые ноги, очень тесные белые брюки с манжетами и рубашка-поло в сине-белую полоску. Он улыбнулся своей заразительной улыбкой и сказал:
— Я знал, что вы придете. Добро пожаловать, прелестная леди в соболе!
Он поцеловал ей руку, помог снять шубу, затем провел в квартиру, которая выглядела так, как будто сам Мис ван дер Роз переделывал собор в Толедо. Тут и там в глаза бросались предметы современной мебели, а по стенам небрежно были развешаны полотна современной живописи. Два больших полотна Сальвадора Дали. В гостиной красовался выполненный в полный рост портрет Хуана, одетого в костюм гонщика и в шлеме. Но все остальное было выполнено в тяжелом испанском стиле. Скорбные лики мадонн глядели со стен. Деревянные скульптуры «святых» были расставлены по всей квартире, а на полу стояли высокие кафедральные подсвечники. Окна, из которых открывались чудные виды на воды Иста и на великолепный мост Куинсборо, были занавешены темно-зелеными бархатными шторами, которые выглядели как-то похоронно и так и просились на раскройку для платьев Скарлетт О’Хара.
— Вам здесь нравится? — спросил он, широко разводя руки и показывая свою гостиную.
— Я и не знала, что вы так набожны, — осторожно сказала Лора.
Он рассмеялся:
— Несмотря на свою подмоченную репутацию, я остаюсь классическим испанцем! Со мной честной женщине нечего опасаться. Во всех своих грехах неизменно исповедуюсь своему падре.
— Наверно, ему только и приходится, что выслушивать рассказы о ваших грехах.
— Что ж, такая у него работа. Хотите чего-нибудь выпить? — спросил он, переходя на французский, на котором говорил лучше и с меньшим акцентом, чем по-английски.
— Стакан вина.
— Тогда начнем с «Риойи». Вам понравится мой бар. В нем есть что-то безумное. Как и во мне.
Он подошел к одному из деревянных изваяний и повернул у него правую руку. Моментально целая секция выдвинулась из стены и развернулась на сто восемьдесят градусов, открыв за собой великолепный бар из цветного стекла. Он был похож на музыкальный автомат. В то же мгновение заиграл фонограф и зазвучал голос Эдит Пиаф.
Лора не удержалась от восторженного восклицания.
— Чудесно! — сказала она.
— Правда? Я сам его спроектировал. Все думают, что я только повеса, но я еще и довольно умен.
— И скромен.
— Нет, как раз о скромности речи нет. Просто я хорош и знаю себе цену.
Он отошел к бару и откупорил одну из винных бутылок.
— Вы всегда ходите дома босиком? — спросила она, присаживаясь на резной испанский диван.
— Я ненавижу холодную погоду. Поэтому, когда мне приходится попадать в места с неприветливым климатом, я демонстративно одеваюсь так, как будто нахожусь на Карибском море или на Майорке. Мне это нравится, и этого достаточно. Он подошел к ней, протянул один стакан и сказал по-английски: «Чи-из!»
Они чокнулись. Она пила вино и не могла не смотреть на выпуклость в его брюках на уровне ее лица.
«Боже мой! — подумала она. — Разговоры разговорами, но, похоже, все правда…» За всю свою жизнь ей пришлось спать со многими мужчинами, но никогда еще она не видела ничего подобного.
Он опустился на диван рядом с ней, да так близко, что их бедра соприкасались.
— Испанские красные вина… — заговорил он. — Они — как красивые женщины, а испанские белые вина — как ведьмы. Они могут быть очень опасны. Ладно, расскажите о себе. Вы говорили, что счастливы?
— Да.
— Но вы также любопытны. Поэтому и пришли ко мне, не так ли?
— Может быть.
— Ну и какое у вас пока сложилось мнение?
Она взглянула на него:
— У меня такое впечатление, что вы просто самонадеянный мальчишка!
Он пожал плечами:
— Отчасти это так.
— Вы любите «покорять» женщин, главным образом, из гордости и себялюбия, чем из действительно каких-то романтических чувств.
— И опять отчасти верно.
Она поднялась с дивана и поставила свой стакан.
— А еще я думаю, что мне пора.
— Вы боитесь?
— Немного.
Он протянул к ней руку. Она посмотрела на него неуверенно.
— Но я действительно должна идти, — сказала она.
— Дайте мне вашу руку.
После некоторого колебания она подчинилась. Он потянул ее к себе, пока она не опустилась к нему на колени. Тогда он положил ее руку себе между ног. Не отпуская ее, он откинулся на спинку дивана и стал с улыбкой наблюдать за ней.
— Случайно не насчет этого любопытствуете? — шепнул он.
Она ощутила, что под ее прикосновением он начинает напрягаться. Он наконец отпустил ее руку и взглянул ей прямо в глаза. Лора своей руки не убрала.
Не переставая улыбаться, он стянул свою рубашку-поло через голову и бросил ее на пол. Она взглянула на его мускулистый смуглый торс.
— Ты настоящая шлюха, — тихо проговорила Лора.
— Не тем ли же самым ты была в Париже?
Он притянул ее к себе и стал целовать. После некоторого колебания она его оттолкнула и вновь поднялась с дивана. Она вся дрожала и боялась… Нет, не его, она себя боялась.
— Да, в Париже я была проституткой, но здесь и сейчас я жена Ника Флеминга. Верная жена!
— Неужели ты думаешь, что я в это поверю?
— Верь не верь, мне все равно. Я ухожу.
— Никто тебя не держит. Правда, ты упустила вкусный завтрак.
С этими словами он стал расстегивать свои брюки. Она боролась с собой, но не могла не смотреть на это. Медленно, словно танцовщица в стриптиз-баре, он стянул брюки вниз по волосатым ногам, затем отшвырнул их. На нем остались только маленькие в европейском стиле плавки.
— Я шил их по специальному заказу в Риме, — сообщил он. — Они стоят пятнадцать долларов за штуку. Я надеваю их только один раз, потом выбрасываю. Правда, — он подмигнул, — иногда я дарю их в качестве сувенира. Тебе хотелось бы получить такой сувенир?
Он щелкнул эластичным поясом плавок по животу. Она не спускала с него глаз.
— Да…
Он стянул с себя плавки, и ее взору предстало то, о чем в Европе ходили легенды. Теперь ей стало ясно, почему Хуана Альфонсо Эрнандо Гузман и Талаверу называют Эль Торо. Он встал, подобрал плавки с пола и протянул ей. Затем он обнял и поцеловал ее.
— Мы будем заниматься любовью перед завтраком, — сказал он. — Потом мы будем есть паэлу. Потом мы снова будем заниматься любовью. Потом мы будем пить кофе. У меня отличная кофеварка. Я ее купил во Флоренции. После кофе — опять любовь. Тебе понравится. Я никогда не устаю.
Он поцеловал ее в шею.
Она откинула назад голову, закрыла глаза и прошептала:
— Сделай меня счастливой, Эль Торо!
ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ
Она узнала на себе, что секрет его неотразимости в постели заключался в том, что он владел египетской техникой секса — имсак. Абсолютно игнорируя собственное возбуждение — а она вскоре увидела, что он умеет возбуждаться! — он искусно не доводил акт до завершения. Это не приводило его к удовлетворению, но он уверял Лору, что видит наслаждение в осознании полной власти над своим организмом, полной подчиненности тела воле. Постоянно сдерживаемая кульминация полового акта доводила женщин до форменного безумия. Он называл это по-французски — так выглядело благозвучнее — «преддверием экстаза».
— Я должен быть абсолютным мастером акта любви, — говорил он. — Таким образом мне удается доставлять максимум наслаждения партнерше. Мужчинам чаще всего интересны лишь собственные переживания. Грубо выражаясь, им только и нужно что кончить. Я такой подход решительно отвергаю. Настоящее удовольствие в постоянном стремлении к вершине, в постоянной сексуальной агонии, если так можно выразиться. Однажды я целый месяц не достигал кульминации, хотя каждый день занимался любовью. И можешь мне поверить: это был самый сексуальный месяц в моей жизни. Я был измотан, иссушен желанием…
Понимаешь, по-моему, секс должен быть настоящим искусством. Причем с религиозной окраской. Ведь с одной стороны, это величайшее чудо, подаренное человеку природой, с другой — одна из простейших функций организма. Впрочем, она может обернуться и одной из самых сложных. Большинству мужчин достаточно было бы мастурбировать. Ощущения те же. Я — другое дело. Мое жизненное предназначение — дарить сексуальное удовлетворение женщинам. Я стал знатоком любви. Я редко кончаю, а когда это делаю, то испытываю эффект похмелья.
Лоре никогда раньше не приходилось сталкиваться с подобной философией, но она вынуждена была признать, что в жизни эта философия работала: это был самый эротичный день в ее жизни. Ник был великолепным любовником, но даже он не мог сравниться с Эль Торо. Хуан заставил ее переживать почти мистические ощущения. Она открыла для себя невиданные глубины наслаждения, экстаза, на который раньше считала себя неспособной. Когда пробило пять часов вечера и она покинула его квартиру, то едва стояла на ногах от усталости, у нее кружилась голова, но… она жаждала еще.
Провожая ее, он надел брюки, но так и остался без рубашки. Он помог надеть ей ее соболью шубу и тихо спросил по-английски:
— Ты получила удовольствие, не правда ли?
Она повернулась и поцеловала его.
— Ты не только подтвердил свою репутацию, но даже превзошел ее, — ответила она.
— Спасибо. Я счастлив, когда доставляю людям радость. А моя паэла? Тебе понравилась?
Лора улыбнулась:
— Пальчики оближешь!
— Ты придешь еще? Скоро?
Она задумалась.
— Тебе было слишком хорошо, чтобы не хотеть повторения.
— Да, я приду, — прошептала она.
— Завтра.
«О Боже!» — подумала она.
— Да, завтра.
Он улыбнулся и поцеловал ее.
— Отлично, — сказал он по-французски. — До завтра, дорогая.
Ник заехал за Дианой в отель, и они вместе на его «роллсе» отправились в Гринвич-виллидж.
— Что-то случилось? — спросила она, заметив, что он мрачен.
— Скажи, у Лоры были в Париже еще любовники, кроме генерала фон Штольца?
— Тебе нужно, чтобы я была вежливой и солгала, или ты хочешь знать правду?
— Я хочу знать правду.
— Разумеется, у нее были и другие любовники. Правда, не одновременно с немчиком. По крайней мере, я о таких не слышала. Полагаю, что она была очень осторожна, если и изменяла немчику. Но я совершенно точно знаю, что до него у нее были мужчины. Почему ты об этом спрашиваешь?
Некоторое время он не отвечал, потом сказал:
— Потому что сегодня она мне солгала.
— О!
— Она сказала, что ездила за покупками. Но ее машина все время оставалась в гараже. Она пользовалась такси. Ни одна женщина не возьмет такси для того, чтобы поехать за покупками, если у нее есть машина и личный шофер в распоряжении. Я прав?
— Абсолютно.
— Тогда возникает вопрос: куда она ездила на такси?
— Какие-нибудь догадки?
— Нет, но я твердо решил до этого докопаться.
Он больше не касался этой темы, но Диана знала, что он серьезно рассержен.
Они приехали на Барроу-стрит, которая выглядела больше похожей на улицу 1850 года, чем на улицу середины XX столетия. Они поднялись по продавленной лестнице на четвертый этаж.
— Слава Богу, что я бросила курить, — произнесла Диана, тяжело дыша.
— Файна просто влюбилась в бедность. Главным образом потому, что она с детства не знала, что это такое. Она без ума от этой лачуги.
Когда они наконец достигли последней лестничной площадки, где было темно, несмотря на окно, Ник нажал кнопку звонка у двери.
— Представь себе, каково это — тащить сумки с продуктами на такую высоту, — шепнул он Диане на ухо. — Файна говорит, что, по крайней мере, здесь чисто. И нет тараканов.
— Рада это слышать. Особенно перед едой.
— Извини, — засмеялся Ник.
Он снова позвонил.
— В четырех кварталах отсюда живет мой второй сын Эдвард. Он пишет величайшую американскую книгу. По крайней мере, так говорит. Его работа длится уже почти пять лет, но пока что я не видел ни одной главы, не то что всей книги. Но я ему ничего не говорю. У меня было слишком много проблем со старшим сыном Чарльзом, и с тех пор я решил по возможности не вмешиваться в личные дела своих детей.
— А тебя не беспокоит, что Файна стала актрисой?
— Абсолютно не волнует. Она пошла в мать. Я очень доволен ею. Я считаю, что у нее талант и большое будущее.
Наконец Файна открыла им дверь. На ней был белый передник, а под ним шотландская шерстяная юбка и синяя кофточка. Она улыбнулась Диане:
— Добро пожаловать в самую фешенебельную во всем Нью-Йорке квартиру. Привет, пап.
Она поцеловала отца, и они втроем прошли в гостиную с застекленной крышей.
— Ваша уха пахнет просто восхитительно! — воскликнула Диана, осматривая квартиру, которая напоминала ей мансарды-мастерские художников, которые ей часто приходилось видеть в Париже. Ник помог ей снять соболью шубу. Файна положила ее прямо на кровать.
— Да. А запьем мы все просто сказочным вином! — сообщила она, исчезая на минуту в спальне и крича оттуда: — Белое! «Шатонеф-дю-Пап»!
— О, я люблю это вино, — сказала Диана, взяв со стола фотографию в рамке, на которой был запечатлен мужчина в профиль с сигарой. Это был классический студийный голливудский портрет. А темные волосы мужчины были уложены в прическу, модную в начале двадцатых.
— Слушай, Ник, как тебя отлично сфотографировали, — восхитилась она. — Кто снимал?
— Это не я. Это Род Норман.
Она едва не выронила портрет.
— О Боже… — прошептала она, ставя фотографию обратно на стол.
И снова ее переполнило чувство вины. Эта очаровательная, талантливая и красивая девушка, которая теперь принимает ее у себя в квартире… Она даже не знает, что Диана в ответе за смерть ее отца. Господи, да как же она могла совершить такое?!
И тогда ей вспомнились цинизм Кемаля, собственная ненависть, наемные убийцы… Она вспомнила, как это совершила. Двадцать восемь лет назад это казалось легким, простым и безопасным.
Теперь же — особенно когда Файна с сияющей улыбкой вернулась в гостиную — Диана расценила свое тогдашнее поведение как чудовищное.
Призрак убиенного Рода Нормана начал преследовать ее спустя почти тридцать лет.
— Ник, я знаю, что тебе неприятно говорить о смерти Викки, — сказала Диана спустя полтора часа, когда они вдвоем возвращались от Файны. — Не приходило ли тебе когда-нибудь в голову, что это не несчастный случай? То есть, я хотела сказать: не случайное убийство?
Он повернулся и взглянул на нее. На его красивом лице отражались блики разноцветных огней уличных фонарей и рекламных щитов.
— С чего это ты взяла?
— Не знаю. Только что за столом я мучилась ужасными угрызениями совести по поводу своей ответственности за гибель Рода Нормана, отца Файны. Не понимаю до сих пор, что заставило меня удержаться от признания: «Это я сделала». Мне было так стыдно… И потом я подумала, что убийство Рода Нормана в то время тоже показалось всем бессмысленным и случайным, как гром среди ясного неба. Так ведь?
— Да, это так. Я вспоминаю сейчас, что тогда все мы ломали голову над тем, почему убили Рода. Но какое это имеет отношение к Викки?
— Я хотела только сказать, что у каждого преступления есть своя причина. Даже у такого, которое всем кажется бессмысленным, как в случае с Родом Норманом. А теперь я начинаю думать, что была своя причина и в трагедии с Викки.
— Я перебрал все возможные варианты, но смысла не увидел ни в одном.
— А ты подумай еще. Та асе самая вещь, которая побудила меня нанять убийцу-профессионала. Месть. Ты очень известный человек, Ник. Очень богатый и могущественный. Наверняка существует множество тех, кто ненавидит тебя, как я однажды ненавидела. А какой существует более хороший способ утолить ненависть, как не убийство кого-нибудь из твоих детей? И — что важнее теперь возможно, убийство и других твоих детей? Сегодняшний визит на квартиру к Файне заставил меня серьезно задуматься над этим. Ведь это было бы очень легко — ворваться к ней и убить! Я понимаю, что ей нравится ее квартира, но я на твоем месте заставила бы ее переехать в дом, где, по крайней мере, есть вахтер. Или наняла бы для нее телохранителей. И, может быть, для других детей — тоже. Я понимаю, что похожа сейчас на паникера, но вспомни, как легко было убить Викки!
Он задумался над ее словами.
— Ты полагаешь… — проговорил он наконец, — что кто-то, возможно, пытается вырезать всю мою семью?
— Я хочу сказать, что есть такая вероятность, которую тебе следует принять во внимание. Уж ты поверь мне, я прекрасно знаю, как легко нанять убийцу, когда ненависть настолько ослепляет тебя, что ты забываешь про свою совесть и считаешь, что это сойдет тебе с рук. Ник, я не хочу огорчать тебя. Файна очаровательная и милая девушка. И если бы мне удалось спасти ее жизнь, это дало бы мне возможность считать, что я немного искупила свою вину за убийство ее отца.
«Роллс» тормознул на красный свет.
— О Боже, — вдруг негромко проговорил Ник. — Льюисбург!.. Какой же я дурак! Слепец! Идиот! — Он повернулся к Диане и взял ее за руки. — Да хранит тебя Господь, Диана! — горячо воскликнул он. — Я думаю, ты только что спасла моей дочери жизнь!
ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ
Телевизионная трубка, разработанная Честером Хиллом в 1946 году вскоре после его выхода из льюисбургской тюрьмы, как и подавляющее большинство других изобретений, приносивших деньги, была проста. Но она настолько улучшила телевизионный прием, что скоро все промышленники стали ставить ее в свои телевизоры. А поскольку в 40-х годах разыгрался настоящий телевизионный бум, это изобретение сделало Честера почти абсурдно богатым, одним из первых мультимиллионеров эры телевидения.
Все еще не придя в себя от проведенных в тюрьме лет, Честер жил для богатого человека очень скромно. У него были ферма в округе Вестчестер и городская квартира в Бикмэн-плэйс. В 1948 году он женился на своей секретарше, симпатичной и умной женщине, которую звали Бэтти Дрю. Супругов очень редко видели вместе на людях. Разве что в те дни, когда они оба отправлялись по антикварным лавкам: дело в том, что Бэтти питала сильную страсть к французской и английской мебели, а Честер вскоре и сам разделил эту страсть жены. Постепенно ферма, городская квартира и вилла в Палм-бич, которую Честер купил в 1949 году, стали заполняться красивыми вещами, некоторые из которых представляли музейную ценность. У Бэтти и Честера не было детей и было очень мало друзей, но зато эти супруги могли себе позволить посидеть на диване, когда-то принадлежавшем Марии-Антуанетте. Честер Хилл имел судимость, поэтому был лишен избирательного права, но зато он имел возможность работать над своими изобретениями за столом, за которым в свое время работал лорд Мельбурн. В его кабинете была, пожалуй, лишь одна вещь, которую нельзя было отнести к раритетам: биржевой телеграфный аппарат, при помощи которого Честер отслеживал все движения своего огромного состояния на Уолл-стрит.
В тот день Честер Хилл как раз сидел за столом лорда Мельбурна и листал проспекты компании, занимавшейся выпуском морозильных установок для продуктов питания, в которую он хотел вложить деньги. Вдруг в дверь постучали и вошла Бэтти. У нее были рыжие волосы и отличная фигура, но для богатой женщины она одевалась очень просто. У нее было выражение удивления на лице.
— Там… хотят тебя видеть, — сказала она, закрыв за собой дверь. — Это Сильвия Флеминг…
Он положил проспекты на стол.
— Сильвия? — Он произнес это имя своим обычным голосом, но Бэтти прекрасно знала, как он относится к своей прежней жене. — Что эта сука делает в моем доме?
— Она привела твоего сына.
Честер был ошеломлен.
— Артур? Он здесь?
— Да, — подтвердила жена, улыбнувшись. — Симпатичный мальчик. Впрочем, уже взрослый. Ему лет десять, да?
— Девять.
— Он похож на тебя.
— Да? — не своим голосом произнес Честер. — Это для меня новость, потому что до сих пор они не разрешали мне его видеть. Скажи ей… пусть убирается ко всем чертям!
— Ты хочешь сказать, что не желаешь видеть своего сына?
— Нет! Он больше не мой сын. Они его у меня отняли! Дали ему другую фамилию. Он Флеминг и потому не сын мне! Я не хочу видеться ни с кем из той семейки. Скажи Сильвии, что она может проваливать к черту!
— Честер, я не могу поверить…
— Скажи ей, чтобы она убиралась! — заорал он, вскакивая со стула. — Я ненавижу этих сукиных детей! Ненавижу!
Он замолчал, весь дрожа, и пытаясь взять себя в руки.
— Я знаю, милый, но… Твой сын…
Он стоял возле своего замечательного старинного бюро и с минуту ничего не говорил, потом тихо спросил:
— Он правда на меня похож?
— Да.
— Где они?
— Внизу, в гостиной.
Еще минута нерешительности. Потом Честер обошел вокруг стола, приблизился к жене и обнял ее.
— Пять лет Льюисбурга, — прошептал он. — И все из-за Флемингов.
— Я знаю, милый, знаю.
— Пять долгих лет!
Он отпустил ее, поправил галстук и несколько раз провел рукой по голове, приглаживая волосы.
— Ну, как я выгляжу? — спросил он нервно.
— Красив, как всегда. — Она улыбнулась.
— Я… — он сглотнул, — я хочу произвести на него хорошее впечатление. Наверно, это глупо, да? Он Флеминг, но…
— Он также и твой сын. Для меня это звучит вовсе не глупо. Не сомневайся, ты произведешь на него достойное впечатление. Хочешь, чтобы я пошла к ним с тобой вместе?
Он немного подумал:
— Нет, я встречу их сам.
Он вышел из кабинета, прошел по холлу мимо позолоченного «рекамье», принадлежавшего когда-то французскому Карлу Десятому, вниз по резной лестнице, где висели картины XVIII века, изображавшие придворную жизнь времен Чьен Лунга, императора Китая, через холл на первом этаже, где стояла лангедокская мраморная жардиньерка из Версаля, наполненная свежими лилиями, выращенными во Флориде… Сын бедного священника из маленького городка Сэйлсбери в Коннектикуте, пытавшийся в свое время утвердить себя в жизни при помощи выгодного брака и в конце концов загремевший в тюрьму, долго шел к своей нынешней жизни.
Он вошел в гостиную и взглянул на ненавидимую им женщину. Она все еще была красива и не утратила вкуса: на ней были простой, но элегантный черный костюм и маленькая черная шляпка. На воротнике блестела брошь из сапфира с бриллиантами.
— Здравствуй, Честер, — проговорила она.
Он перевел взгляд на мальчика, стоявшего рядом с матерью. Он был для своего возраста высок ростом и необыкновенно красив. Честер и сам заметил свое сходство с ним, правда, к своему огорчению, усмотрел в глазах мальчика и что-то от Ника Флеминга. Артур смотрел на него с нескрываемым любопытством.
— Честер, теперь я поняла, что вела себя неправильно относительно Артура, — сказала Сильвия. — Я ему все о тебе рассказала, и настало время вам познакомиться. Артур, это твой отец, мистер Хилл. Пойди поздоровайся.
Мальчик несмело пересек комнату и протянул Честеру руку.
— Здравствуйте, сэр, — проговорил он с формальной вежливостью, которая при данных обстоятельствах выглядела почти смешной.
Пожирая сына глазами, Честер, несколько помедлив, тоже подал ему руку.
— Рад с тобой познакомиться, Артур, — сказал он.
— Правда? — застенчиво спросил мальчик.
— Да. Очень рад.
Их взгляды встретились.
— А теперь, Артур, иди на улицу и жди в машине, — сказала Сильвия. — Мне нужно несколько минут поговорить с твоим отцом наедине.
— Ну мам! Мы же только познакомились!
— Увидитесь еще. Позже.
Артур взглянул на Честера.
— Правда? — умоляюще спросил он.
Тот улыбнулся:
— Конечно. Теперь, когда твоя мать стала наконец вести себя по-человечески, я думаю, мы скоро еще увидимся. Может, где-нибудь пообедаем, я могу это устроить. Нас впереди ждет очень много увлекательного и интересного, юноша. Я все хочу о тебе знать, о твоей школе, о…
— А вы возьмете меня на футбол? — со страстью в голосе перебил отца Артур. — Знаете, как я люблю футбол!..
— В следующую субботу играют «Гиганты». Я достану билеты, если конечно… твоя мать будет не против.
Артур обернулся к Сильвии:
— Ты ведь не будешь против, мам?
— Посмотрим. Иди в машину, Артур.
— Ладно. — Он снова протянул руку Честеру. — Я так счастлив, что познакомился с вами, сэр! Буду с нетерпением ждать следующей субботы. Знаете… — Он запнулся, но потом договорил: — Не иметь отца… это очень трудно. Не иметь отца все эти годы… Жаль, что мама не говорила мне раньше. Я хочу сказать, что мне было бы плевать, что вы в тюрьме. И… в общем, я страшно рад, что теперь вы у меня есть.
Этот маленький монолог был неуклюж, но зато искренен. Он поразил Честера в самое сердце. У него даже навернулись на глаза слезы, когда он прижал к себе сына, поцеловал его.
— Я тоже рад, что теперь у меня есть ты, — сказал он. — Правда, очень рад. Все эти годы я стремился к тебе… В тюрьме было так тяжело… так тяжело…
Он окончательно сломался и начал всхлипывать. Отпустив мальчика, закрыл лицо руками и зарыдал, как первоклассник. Артур изумленно смотрел на отца. Потом вдруг Честер метнул горящий взгляд в сторону Сильвии.
— Почему ты это сделала только сейчас? — крикнул он. — Почему не тогда? Зачем тебе понадобилось мучить меня? — Он повернулся к Артуру. — А она говорила тебе, за что я сел в тюрьму? Просто я хотел раздобыть денег для того, чтобы она чувствовала себя счастливой! Уверен, Артур, она не говорила тебе об этом ни слова, верно?
Артур был потрясен этой сценой.
— Честер, ради Бога, возьми себя в руки! — крикнула Сильвия.
— А ты заткнись! — взревел тот.
— Если хочешь увидеться с Артуром еще раз, то заткнешься все-таки ты!
Честер достал из кармана носовой платок и утер им нос.
— Извини, — угрюмо проговорил он.
— А теперь, Артур, оставь нас одних.
— Хорошо.
Напуганный Артур почти бегом бросился из комнаты. Сильвия подождала, пока стукнет входная дверь, а потом взглянула на бывшего мужа.
— Знаешь, — начала она, — еще в то время, когда мы были мужем и женой, у меня иногда возникало ощущение, что ты хочешь убить меня. О, я знаю, многие мужья хвастают этим, но я чувствовала, что ты действительно задумал меня убить. Кажется, я была права. Ведь ты ненавидишь меня, не так ли?
— К чему ты клонишь?
— К тому, что мой отец наконец вычислил, кто убил Викки. И за что. Это был ты, Честер. Тот мерзавец Уильярд Слэйд… Он сидел в льюисбургской тюрьме, которая является и твоей альма матер. Во время своего пребывания там ты сошелся со всем цветом тамошнего общества: насильниками, убийцами, грабителями и ворами. Я думаю, они оказались настоящими профессорами для тебя, Честер. Не хуже тех, которых ты слушал в Йеле. Выйдя оттуда, ты без труда нанял одного из твоих новых приятелей, для того чтобы тот устроил нужное тебе убийство.
— Это чушь несусветная! Послушай, Сильвия… рассказывай эти сказки кому-нибудь другому.
— О, я знала, что ты будешь все отрицать. Но ты не оригинален, Честер, вот что я тебе скажу. Ты составил свой гнусный план, прочитав какую-нибудь книжку об эпохе Возрождения. Это тогда люди вырезали своих родственников, чтобы завладеть вотчинами, наследством или чем-нибудь в этом роде.
— Сколько ты заплатил Слэйду, Честер? — спросил Ник, неожиданно входя в комнату.
Увидев перед собой человека, которого он ненавидел и боялся пуще смерти, Хилл страшно побледнел. За Ником стояли двое его сыновей, Эдвард и мускулистый Хью.
— Переправить Слэйда в Южную Америку до конца его дней после преступления — это само собой. Этим объясняется то, что он не прятал от людей свою рожу. Но сколько ты заплатил ему? Сколько стоила жизнь моей дочери? Сто тысяч?
— Какого черта ты тут брешешь?! — брызгая слюной, вскричал Честер.
— У меня семеро детей. Допустим, ты выделишь на все удовольствие один миллион долларов. Выходит примерно по сто тридцать тысяч за голову, да? Ты не пожалел бы миллиона, а, Честер? Вырезать всю мою семью, человека за человеком, постепенно и без всякого риска для себя лично. Каково? Наконец кульминацией мести становится объявление твоего сына Артура моим единственным наследником. Наверное, ты ликовал, когда сочинял этот план, да, Честер? О, он превосходен, не спорю. Ни сучка, ни задоринки. Но, понимаешь… твой план не сработает.
— Хочу тебя предупредить, Ник: у меня лучшие адвокаты во всем Нью-Йорке. Учти: теперь я отнюдь не так беден и беззащитен, как был тогда, когда ты сплавил меня, своего зятя, в тюрьму!
— Сплавил? — воскликнул Ник. — Ах ты, сукин сын! Да будь счастлив, что тебя не посадили на стул!
— Вон из моего дома! — заорал Честер. — Все! Вы, смердящие Флеминги, отравляете воздух, которым я дышу!
Хью пошел грудью на Честера, но отец стал его удерживать.
— Успокойся, Хью.
— Но он убил Викки!
— Вы все ненормальные! — орал Честер. — Банда ненормальных! Но знайте, что есть суд и закон! И если вы только посмеете дать ход этой грязной клевете, я сделаю так, что на судебных издержках вы промотаете всю вашу империю до последнего цента!
— Отлично, — негромко проговорил Ник. — Начинай, Честер. А пока я доведу эту грязную клевету, как ты ее называешь, до сведения окружного прокурора. Пусть он сам решит, настолько ли уж она грязная. Я нанял телохранителей для всех членов моей семьи. У тебя не будет шансов провернуть с кем-нибудь из нас то, что тебе удалось сотворить с Викки. Я любил эту девочку, Честер. И когда тебя будут сажать на стул… Тебя приговорят к этому, не беспокойся. Мои адвокаты уверили меня, что ты вовсе не так неприступен, как утверждаешь. Когда к тебе подключат напряжение, я буду улыбаться.
Честер стал бледным как смерть.
— Пойдем отсюда, — сказал Ник. Он первым повернулся и вышел из комнаты.
— Ты тут всех растрогал, — сказала Сильвия своему бывшему мужу. — Но не мечтай, чтобы я привела к тебе Артура во второй раз. Я познакомила вас лишь для того, чтобы ты увидел, какой это хороший и симпатичный мальчик. Но, клянусь, ты никогда его больше не увидишь.
— Ах ты, сука! — взревел Честер и бросился через всю комнату к ней. Словно бы останавливая продвижение левого крайнего из Гарварда, Хью толкнул Честера, и тот оказался на полу. Он попытался увернуться, но Хью рывком поднял его.
— Это тебе за сестру, — сказал Хью.
С этими словами он настолько сильно ударил Честера кулаком в челюсть, что тот буквально отлетел назад, ударившись спиной об облицовочную каминную доску, украшенную искусной резьбой, которая в свое время принадлежала лондонским Ротшильдам.
После этого Сильвия, Эдвард и Хью спокойно ушли.
Его имя было Пол Аллен, а кличка — Большой Поли. Это был негр ростом шесть футов пять дюймов и весом в двести восемьдесят фунтов. Тридцать лет назад он появился на свет в Гарлеме. У него никогда не было отца, а мать была уборщицей и приносила в свою трехкомнатную, наполненную тараканами конуру каждую неделю шестьдесят долларов, чтобы прокормить шестерых детей.
Впервые он был арестован в возрасте пятнадцати лет за угон машины. Сел на два года. В восемнадцать лет он был осужден к десяти годам за убийство второй степени: во время налета на бакалейную лавку на 10-й авеню он зарезал клерка. Освободившись досрочно в возрасте двадцати четырех лет, он всего через год снова угодил за решетку. На этот раз он оказался в льюисбургской тюрьме. Дело было мелкое — кража чеков «Соушел сикьюрити» из федерального почтового отделения.
Там-то он и познакомился с Честером Хиллом, от которого впервые в жизни узнал о том, что на свете существует Йельский университет. А Честер в свою очередь только после знакомства с Большим Поли впервые побывал в Гарлеме.
В тот день Честер поднимался по пахнувшей мочой лестнице многоквартирного дома на 110-й улице между 1-й и 2-й авеню. Где-то по радио пела Бэсси Смит. На дворе стоял мороз, но отопление здесь не работало уже третий год, и жильцы этого пятиэтажного гранитного дома, построенного в 1896 году, уже и не ждали тепла. Дыхание Честера обращалось в пар.
Дойдя до второго этажа, он постучался в первую же дверь. Через несколько секунд ему открыл сам Большой Поли. На нем были джинсы и грубый свитер. Он улыбнулся.
— О, Честер! Как дела, старичок? — проговорил он, протягивая Хиллу свою здоровенную ручищу.
Честер пожал ему руку и прошел в комнату, которая некогда была симпатичной гостиной квартиры, в которой проживала преуспевающая семья белых американцев. Однако вот уже полвека, как здесь жили не белые, и с тех пор комната обветшала, и теперь уже никакой ремонт не спас бы ее. Вся она была завалена телевизорами, которые Большой Поли где-то украл. Из мебели в комнате были только продавленный диван, деревянный стол и стул.
— Че молчишь-то, кореш? — спросил Большой Поли, запирая за Честером дверь. — Язык проглотил?
— Случилась беда, Большой Поли, — сказал тот. — Я буду вынужден расторгнуть нашу сделку.
— Чего-чего? Расторгнуть? — Он захохотал, тыкая себя пальцем в грудь и изображая тем самым удивление. — О, я знаю, что ты большой юморист, Честер, но только давай не будем шутить над предметом, который дорог моему сердцу.
— Я не шучу. Мне придется расторгнуть нашу сделку. Слишком рискованно. Ник Флеминг прознал про то, что я делаю. Я боюсь, Поли. Я действительно боюсь.
Он снял шляпу, и лампочка, болтавшаяся на длинном проводке под потолком, причудливыми разводами осветила его лицо.
— Ты хочешь сказать, что не хочешь, чтобы я убивал его дочурку? — тихо спросил Большой Поли.
Честер утвердительно кивнул.
— Конечно, я обезумел, когда выдумал все это… Но я так их ненавидел… Всю эту сволочную семейку… Я так их ненавидел! Не знаю. Тогда казалось, что это будет так здорово, а теперь…
Он пожал плечами.
— Ты, так твою мать, — прошипел Большой Ноли, медленно, по-кошачьи, приближаясь к Честеру. — Ты нанял меня для того, чтобы я сделал для тебя работу. Пойми, дерьмо, на те денежки, которые ты обещал заплатить, я расписал уже всю дальнейшую жизнь. Я уже предвкушал, как буду потягивать ромовый пунш на пляже Рио в окружении множества кошечек… А теперь ты хочешь лишить меня всего этого? Если ты надумал свернуть в сторону, я не возражаю, но только давай мне оставшуюся часть от моих ста тысяч!
— Ты можешь удержать за собой аванс…
— Плевал я на твой аванс, Честер! Десять тысяч! Слышишь, ты, дерьмо! Мне нужны все деньги!
— Я не собираюсь платить тебе за то, что ты не сделал. Я повторяю: сделка между нами расторгнута.
— Ах так! — взревел негр. Он схватил первый попавшийся под руку телевизор с экраном в девять дюймов по диагонали и поднял его над головой.
Честер попятился.
— Большой Поли… — начал он, но телевизор уже обрушился ему на грудь. Честер рухнул спиной на груду других телеприемников.
— Всю жизнь я думал о том времени, когда сбудутся мои мечты, и я почти дождался… ревел над Честером черный гигант, отрывая электрический шнур от одного из телевизоров. — А теперь ты, подонок, будешь говорить, что мои мечты не сбудутся? О, ты разозлил меня, Честер! Ты взбесил меня!
— Я заплачу тебе твои сто тысяч! — кричал охваченный ужасом Честер, видя, как к нему приближается негр, натягивая в руках упругий шнур.
— Я не верю тебе, Честер.
— Нет, нет, я заплачу! Верь мне, я заплачу! Я пришлю тебе чек утром…
— Я не верю тебе, Честер. Ты обманул меня один раз, обманешь и другой. — Большой Поли обернул шнур вокруг шеи Честера. Тот закричал и вцепился в шнур обеими руками, но он не мог сравниться по силе с крепышом Большим Поли. Негр с улыбкой медленно затягивал шнур, а Честер отчаянно и безнадежно боролся за лишний глоток воздуха.
Когда стало ясно, что Честер мертв, Большой Поли отпустил его, и труп мягко упал на груду телевизоров. Затем Большой Поли поднял с пола тот телевизор, который он кинул перед этим в Честера, и с размаху обрушил его прямо на лицо своей жертвы… Осколки битого кинескопа превратили лицо одного из первых красавцев Йельского университета выпуска 1928 года в кровавое месиво.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ
Когда хоронили Честера Хилла, шел снег. Его тело было найдено на свалке в Нью-Джерси. Лицо было обезображено до неузнаваемости, поэтому опознание было произведено судебно-медицинской экспертизой по зубам. Его вдова Бэтти, которая ни сном ни духом не ведала о коварных замыслах мужа против семьи Флемингов, была убита горем и считала это убийство страшной, какой-то иррациональной ошибкой. Что до Ника, то он в общем предположил все верно: наем Честером убийцы ему же самому обернулся боком. Ник не мог уважать его память, памятуя о загубленной Викки. С другой стороны, он чувствовал, что Честер расплатился сполна за свое преступление.
Оставался Артур… Для мальчика убийство его отца оставалось такой же загадкой, как и смерть Рода Нормана для его дочери Файны. Артур спрашивал мать, сможет ли он пойти на похороны. Несмотря на то что гибель изобретателя-миллионера получила довольно широкую огласку, на кладбище присутствовало немного людей. Честер был одиноким при жизни, остался одиноким и в смерти. Лишь несколько родственников из Коннектикута, вдова, бывшая жена и сын безмолвно смотрели на то, как гроб опускают в свежевырытую могилу.
На обратном пути домой Артур сказал матери:
— А мне он тогда понравился. Я с удовольствием сходил бы с ним на футбол.
Сильвия взяла его за руку.
— Я найду тебе другого отца, — сказала она. У меня было мало счастья с первыми двумя мужьями, но я обещаю тебе, что найду хорошего отца.
Артур взглянул на нее и вымученно улыбнулся.
— Я уже не могу выносить Ника! — воскликнула Лора двумя неделями позже, сидя вместе с Эль Торо в ванной в его квартире. — Со времени похорон Викки он ходит по дому как в воду опущенный. Я живу, будто в морге! Он превратился в старика. Он даже не притрагивается ко мне.
Хуан, пятки которого упирались ей в живот, улыбнулся:
— А тебе и не нужно, чтобы он к тебе притрагивался. Меня вполне достаточно.
— Да, но все равно это угнетает. Конечно, я все понимаю. Он потерял дочь при столь ужасных обстоятельствах, но ведь жизнь должна продолжаться, разве нет?
— Да, жизнь должна продолжаться, но кто тебе сказал, что она должна продолжаться с ним?
— Что ты имеешь в виду?
Они в молчании смотрели друг на друга с разных концов ванны. Он поджал под себя ноги и сел, наклонившись вперед настолько, чтобы можно было положить руки на ее намыленные плечи.
— Я люблю тебя, дорогая, — сказал он. — Я люблю тебя всем сердцем. Разведись с Ником и выйди за меня. Мы будем вместе счастливы! Я отвезу тебя в Испанию, покажу родные места. Я буду заниматься с тобой любовью днем и ночью. Всегда.
Лора на миг представила себя маркизой Наваррской.
— Развод хлопотное дело, — сказала она. — И хотя мне очень приятно, что ты хочешь меня, Хуан… Да не прозвучат мои слова как бессердечные, но я очень много потеряю, оставив Ника.
— Ты имеешь в виду деньги?
— Разумеется.
— Но он обязан будет дать тебе шикарное содержание! Ты будешь богатой женщиной.
— Вовсе необязательно. Я уверена, что он был мне верен, в то время как я изменяла…
— Найми ловкого адвоката. Не сентиментальничай с ним. Пригрози скандалом — это всегда работает. Все газеты и телестанции будут счастливы узнать о том, что мы с тобой любовники. Это растиражируется на всю страну. Его имя и так уже порядочно потрепали в связи со смертью дочери. Он заплатит большие деньги, чтобы только оставили его в покое.
Он передвинул свои руки с ее плеч на груди.
— Да, огласка… — размышляла она. — Ты прав. Ему это не понравилось бы.
— Ты еще ни разу не говорила, что любишь меня, — сказал он.
Она вгляделась в его красивое лицо. Она не была уверена, что любит его, но не было сомнений в том, что она без ума от его техники секса. И она не знала, сможет ли теперь прожить без этого. Ее смущало чувство, питаемое к Нику. Она искренне любила его в течение пяти лет. Любит ли она его сейчас? Убийство Викки внесло раскол в их отношения. А потом еще эта проклятая Диана, с которой он постепенно стал проводить все больше и больше времени. Нет, она не могла любить Ника, когда рядом была Диана.
— Я люблю тебя, — сказала она наконец, — но я не уверена, что люблю тебя настолько, чтобы оставить Ника.
Он неожиданно вылез из ванны и обернулся толстым халатом, который «позаимствовал» еще в парижском отеле «Плаза Атэнэ».
— Я думаю, тебе пора! — рявкнул он. — Возвращайся к своему ненаглядному Нику и его миллионам. Хуан Альфонсо Эрнандо Гузман и Талавера не тратит времени на женщин, которые не способны принимать самостоятельные решения.
— Но, милый, это несправедливо с твоей стороны. Ты заставляешь меня принять очень важное решение!
— Прошу тебя, оставь меня. У меня, кроме тебя, много других дел.
Она выскочила из ванны, разбрызгивая по полу воду и мыльные хлопья, и бросилась ему на шею.
— Ты сделал меня счастливой, что не удавалось до сих пор ни одному мужчине! — воскликнула она.
— Да? Так почему ж ты не любишь меня?
— Я люблю! Я не могу без тебя жить!
— Тогда разведись с Ником и выйди за меня!
Она подумала еще, потом поцеловала его.
— Хорошо, — шепнула она.
Он улыбнулся, распахнул халат и прижал ее к своему обнаженному телу.
— Так-то лучше.
Он прикинул, что содержание, которое вынужден будет назначить при разводе Лоре такой богач, как Ник, составит не меньше трех миллионов. Он решил, что ничто не помешает ему отхватить хотя бы один из этих миллионов в свою пользу.
— Значит, детектив оказался прав, — сказал тихо Ник, расположившийся вместе с Дианой на заднем сиденье такси. Машина была припаркована напротив дома в Саттон-плэйс, где находилась квартира Эль Торо. Лора только что показалась из дверей дома, и швейцар помогал ей сесть в такси.
— Кто ее любовник? — спросила Диана.
— Испанец, которого зовут маркизом Наваррским. Это титулованная проститутка.
— Мне приходилось о нем слышать. В Европе его прозвали «Эль Торо».
— М-да… Я знаю. Величайший любовник всех времен и народов. Ну что ж, остается надеяться, что это, по крайней мере, понравилось Лоре, так как сей маленький праздник секса будет стоить ей звания миссис Флеминг. Пожалуйста, к Флеминг-билдинг, — сказал он таксисту, откинувшись на спинку сиденья. — Теперь я думаю, что ее измена была вещью неизбежной. Рано или поздно, но это должно было произойти. Она была слишком неугомонна, а, кроме того, не будем забывать: в прошлом она шлюха. Ну, если и не шлюха, то что-то близкое к этому. Теперь-то я понимаю, что поступил глупо, женившись на ней, но ведь это была классическая история: пожилой джентльмен ослеплен секс-бомбой. Как типично!
Ник тяжело вздохнул.
— Никто не застрахован от ошибок, — тактично заметила Диана.
Он взял ее за руку.
— Жизнь сумасшедшая штука, правда? — сказал он. — Помнишь, я говорил тебе как-то, что любовь является самым главным в жизни?
— Мне никогда не забыть этих слов.
— Тогда я сказал это так… для красного словца. Тогда я не делал различий между любовью и сексом. Когда я влюбился в Эдвину… поначалу в этом тоже было больше секса. Насколько я теперь могу вспомнить, я только и думал вначале о том, как бы поскорее переспать с ней. И только по прошествии многих лет совместной жизни я понял, что любовь — это не только секс, но еще и дружба. Мы часто ссорились, но при этом мы оставались друзьями так же, как мы оставались любовниками. Но самое удивительное, что стоило мне только потерять Эдвину, как я тут же забыл о том, из чего должна состоять настоящая любовь. Лора была мне интересна только с «постельной» точки зрения. Я убеждал себя, в том, что люблю ее, но на самом деле нас связывало только общее место жительства и тот же секс. Да, все обстояло именно так, потому что сейчас, когда все кончено, я совсем не жалею об этом. Абсолютно. Я только хочу как можно быстрее вычеркнуть ее из своей жизни.
Он взглянул на нее:
— Самое странное, что мы стали друзьями, да? После всех драм и трагедий, происшедших между нами за последние тридцать чертовых лет, мы сидим здесь вместе. Мы стали старше и стали друзьями. Я рад, что так случилось, Диана.
— И я рада.
— Я опять твой должник, — продолжал он. — Ты спасла жизнь моей Файне. Я никогда этого не забуду.
Такси притормозило у подъезда Флеминг-билдинг. Он глянул в окно на сверкающую башню.
— Посмотри, — сказал он. — Это моя империя. — Он оглянулся на нее. — Иногда я спрашиваю себя, что означает это слово? Империя… Может быть, я был бы счастлив, работая простым зубным врачом?
Она улыбнулась:
— Сомневаюсь, Ник.
Он внимательно посмотрел на нее.
— У тебя всегда были такие красивые глаза, Диана, — сказал он нежно. — Ты говорила как-то, что все продолжаешь любить меня. Это правда?
— Неужели так трудно догадаться? А зачем я тогда торчу здесь, каждый раз отодвигая свое возвращение в Европу?
— А как же твой итальянский граф?
— При чем здесь он?
Они встретились взглядами. Он наклонился вперед и поцеловал ее в раскрытые губы. Она медленно обвила его шею руками. Они целовались уже серьезно. Это были поцелуи, которых она ждала больше тридцати лет.
«Ник! Ник! Любовь моя!..»
Он отпустил ее и прошептал:
— Похоже, я влюбляюсь в тебя во второй раз в жизни. Это безумно?
— О, мой милый! — воскликнула она, обнимая его. Это безумно прекрасно! Я так долго ждала этой минуты, что даже не знаю теперь — плакать или смеяться?
— Это безумно, но это правда: я люблю тебя. Господи, первая девушка, в которую я влюбился много лет назад, сидит передо мной сейчас, и я влюбляюсь в нее по второму кругу!
— А я никогда не переставала любить тебя, милый, сказала она, достав у него из кармана носовой платок, чтобы вытереть мокрые от слез глаза.
— Тогда какого черта мы не венчаемся?
— Я и сама не знаю… В самом деле, какого черта?
— Боже мой, да у какой еще пары был такой испытательный срок, как у нас, а? Нам прекрасно известны ошибки друг друга. Я, например, знаю, что ты пыталась прикончить меня.
— О, милый, я так корю себя за это…
Он рассмеялся:
— Да ладно уж. Только не повторяй этой ошибки, хорошо?
Она энергично покачала головой.
— Никогда! — всхлипывая, проговорила она.
— Я просто хотел сказать, что ты обладаешь гонором и с тобой придется обходиться поосторожнее. Почему бы нам не съездить на медовый месяц в Лондон?
— Мистер, — прервал его таксист, — все это очень романтично, но мне еще надо сегодня немного подзаработать. Гоните монету и идите ворковать куда-нибудь в другое место!
Ник и Диана прыснули, словно парочка влюбленных школьников.
Хуан Альфонсо Эрнандо Гузман и Талавера отрабатывал технику удара в гольфе, когда услышал звонок в дверь. Поскольку в тот день у его слуг был выходной, Хуан прислонил клюшку к ногам одного из своих истуканов и пошел открывать дверь сам. Это была Лора. В своей собольей шубе она выглядела, как всегда, очаровательно.
— Ну вот, все кончено, — сказала она, входя. — Этот сукин сын даже не потрудился попрощаться со мной. Он улетел с Дианой в Лондон, а грязную работу оставил своим адвокатам. Можешь себе представить: он женится на Диане! Она почти ему ровесница!.. О Боже, это ж надо!
Хуан прикрыл за ней дверь.
— Так, и что? — спросил он нетерпеливо.
— Что «что»?
— Сколько он дает тебе? — Он помог ей снять шубу.
Она прошла в квартиру, которую уже успела хорошо изучить. Хуан последовал за ней в гостиную.
— Я хочу уехать из Нью-Йорка, — сказала она. — Теперь меня все здесь угнетает. Отвези меня в какое-нибудь романтическое местечко, Хуан. Туда, где всегда весна!
— Мы можем отправиться на Майорку. У меня там есть пляжный домик. Он тебе понравится.
— Майорка! Как мило. Мы могли бы подождать там окончания бракоразводного процесса, а потом бы поженились.
— Какое он тебе оставляет содержание? — настойчиво повторил Хуан.
— Миллион долларов. Я богачка.
— Миллион?! И ты согласилась на это?!
— По-моему, это немало.
— Ты дура! Ты же вполне могла просить втрое больше! Твой Ник Флеминг богат, как Крез! Надо было требовать пять, и тогда сговорились бы на трех!
— Он все знает о нас с тобой. Ума не приложу, как ему удалось до всего докопаться, но он докопался. Его адвокаты посоветовали мне не спорить о сумме и пригрозили неприятностями, если я не соглашусь. Поэтому я взяла свой миллион. По-моему, этого достаточно. Кроме того, ты богат. Сколько же нам надо?
Хуан был в бешенстве.
— Миллион — это не богатство! — закричал он. — И ты всерьез думаешь, что я, Хуан Альфонсо Эрнандо Гузман и Талавера, маркиз Наваррский, мог бы продать свою красоту, титул и технику секса за какой-то вонючий миллион долларов? Так, о Майорке можешь забыть. Также можешь забыть и о свадебных колокольчиках. Вокруг слишком много по-настоящему богатых женщин, жаждущих меня, чтобы я тратил время и талант любовника на тебя.
Она залепила ему сильную пощечину. Он не остался в долгу и ударил ее так сильно, что она упала в кресло.
— Ты ублюдок! — взвизгнула она.
— Послушай, Лора… уходи. Я не хочу с тобой драться. Мы очень хорошо вместе проводили время, давай закончим на приятной ноте.
Она, зажав рукой горевшую щеку, поднялась с кресла.
— Я должна была сразу тебя раскусить, — сказала она тихо. — Я должна была сразу понять, что ты дерьмо. Как и твой «имсак» и твой «непередаваемый успех» у женщин. Я даже рада, что у нас с тобой ничего не получилось.
— Охотно допускаю.
Она быстро схватила прислоненную к истукану клюшку для гольфа, размахнулась и изо всех сил ударила ею ему в пах. Хуан согнулся пополам и взвыл от жестокой боли, а Лора бросила клюшку на диван и направилась к дверям.
— Может, от этого он разбухнет и станет еще больше, а? — зло улыбаясь, сказала она.
— Больно! — выдавил он.
— Вот и отлично.
С этими словами она ушла из его квартиры.
Через шесть недель Ник и Диана поженились. Церемония вышла скромной и проходила в его доме. Невеста и жених держались за руки, а когда Ник поцеловал ее, Диана всплакнула от счастья.
Сколько лет она ждала этого!..
В своем завещании Честер Хилл оставлял половину своего семидесятимиллионного состояния вдове Бэтти, а другую половину — своему единственному сыну Артуру Бруксу. По иронии судьбы Артур стал самым богатым членом семьи Флемингов своего поколения, наследником отца, которого он видел всего лишь однажды в своей жизни в течение десяти минут.
Ни Уильярд Слэйд, ни убийца Честера Хилла так и не были найдены.
Пианист наигрывал «Я вижу тебя снова», когда Файна устроилась за столиком в баре маленького отеля в центре города. На ней было строгое черное платье — она все еще носила траур по своей сестре, — впрочем, Файне и не требовалось наряжаться, чтобы привлечь к себе внимание мужчин: она и так была красива.
— У меня отличные новости, — сказал Джерри Лорд, поцеловав ее. — Я решил послать к черту твои деньги и добиваться у Мэрилин развода.
Она удивилась.
— Наконец сменил пластинку, — сказала она.
— Да, я просто подумал: а с какой стати я должен влачить жалкое существование рядом с Мэрилин, когда я могу быть счастливым с тобой?
— Хороший вопрос. Кока-колу, пожалуйста, — обратилась она к подошедшему официанту. Затем вновь перевела взгляд на Джерри. — И у меня для тебя отличные новости.
— Какие?
— Я подписываю контракт с «MGM» и уезжаю в Голливуд… Точнее, в Брентвуд. Мой агент подыскал мне там квартирку.
Джерри нахмурился:
— Что это значит? Я имею в виду… для нас с тобой?
— Это означает следующее: не разводись с Мэрилин, потому что я не хочу выходить за тебя замуж.
Он был так потрясен, что ей даже стало его жалко. Она взяла его за руку.
— Джерри, — сказала она, — когда имеешь такого богатого отца, как я, приходится думать все время об одном: чего хочет твой парень — тебя или твоих денег?
— Но это не про меня! Я же говорил тебе, что как раз в твоих деньгах и была для меня проблема!
— Именно когда ты говорил мне это, я поняла, что ты больше интересуешься все же моими деньгами, чем мной. Наверно, мои деньги не столько привлекали, сколько отпугивали тебя, но все равно ты думал прежде всего о них. Я же хочу быть рядом с мужчиной, который в первую очередь думает обо мне.
Он вырвал свою руку из ее рук и холодно взглянул на нее:
— В таком случае желаю тебе удачи, Фай. Она тебе понадобится.
— Не сердись.
Он повел плечами.
— Я не сержусь. Выпью еще стаканчик. — Он дал знак официанту. — Значит, в Голливуд?
— Да, собираюсь стать киноактрисой.
«Как мой отец, — подумала она про себя, — и мама».
— Тебе это будет не трудно, — заметил Джерри. — Ведь у твоего отца своя студия.
Ее глаза сверкнули холодом.
— Я буду пробиваться в кино своими силами, — процедила она сквозь зубы.
Официант принес кока-колу.
— Конечно, — согласился Джерри.
Файна взяла стаканчик, встала из-за стола и вылила его на голову Джерри Лорда.
— Я рада, что вовремя поняла, кто ты такой! — сказала она, кипя от ярости.
— Может, тебе повезет сыграть великую роль, — предположил он.
— Я сыграю ее!
С этими словами Файна выбежала из бара.
— Милый, — сказала Диана, пригубляя стакан с апельсиновым соком. — Я хотела бы понравиться твоим детям. Как думаешь, у меня это получится?
Ник, сидевший напротив нее за столиком в номере лондонского «Коннота», где они проводили свой медовый месяц, улыбнулся и, наклонившись, поцеловал жену.
— Если ты вдруг не понравишься им, я дам им всем по заднице.
— Нет, серьезно, Ник. Я действительно хочу им понравиться… Может, со временем они даже полюбят меня. Я очень надеюсь. Но, знаешь, меня по-прежнему гложет чувство вины перед Файной.
Он наклонился через стол и взял ее за руку:
— Тебе нужно преодолеть в себе эти переживания, Диана. Поверь мне: ты спасла ей жизнь. И всем остальным, если уж на то пошло. Если бы ты не помогла мне вычислить Честера, одному только Богу известно, что случилось бы.
— Но именно Честер Хилл и послужил для меня тем зеркалом, в котором я увидела во всей красе свое преступление! Честер совершил то же самое, что и я, только позже на тридцать лет. Тогда в Турции все это казалось таким простым и естественным: почему бы не нанять убийцу? А теперь… Теперь, когда я окончательно поняла, что это за отвратительная вещь — убийство, — когда я узнала о том, какой страшной смертью погибла невинная девочка Викки… — Она поежилась. — Я хочу рассказать Файне всю правду относительно ее отца. Я не смогу общаться с ней нормально до тех пор, пока не откроюсь ей в своем преступлении. Ты можешь это понять? Это одна из самых милых девушек, с которыми мне когда-либо приходилось встречаться, и я стремлюсь к тому, чтобы наши отношения были честными… Особенно потому, что теперь я стала ее мачехой.
Ник на минуту задумался.
— Я понимаю, зачем ты хочешь это сделать, и восхищаюсь твоей порядочностью, но считаю, что это было бы слишком рискованно.
— Я не думаю, что Файна помчится в полицию…
— Нет, конечно, об этом и речи нет. Просто она очень эмоциональна. Сотворила из Рода Нормана настоящего идола, которому поклоняется. У нее четыре или пять томов одних только вырезок о нем и его актерской деятельности. Сотни фотографий… Если она узнает, что ты несешь ответственность за его смерть… Она может не простить.
— Культ Рода Нормана?! Так тем более я должна рассказать ей всю правду! Значит, она ставит своего отца так высоко в своей душе… Тем тяжелее мне будет носить в сердце груз ответственности за его гибель. Я отдаю себе отчет в том, что рискую навлечь на себя ее нерасположение — надеюсь на Бога, что этого не произойдет, — но я просто обязана все ей рассказать.
— Тогда расскажи, — согласился Ник.
— Ты поможешь мне в этом?
— Конечно. Файна умная девушка. Она поймет. — Он помолчал, потом добавил неуверенно: — Я надеюсь.
Диана выглядела взволнованной.
— Боже, — вздохнула она, — глупые поступки, совершенные в юности, как бумеранг… они настигают тебя через много лет… Какая я тогда была сумасшедшая! — Она прикусила губу. — А что, если не поймет? О, Ник, я не знаю, может, и не стоит говорить ей… Что, если она возненавидит меня?
— Нет, — перебил жену Ник. — Расскажи ей. Это будет только справедливо. Наверное, мне уже давно нужно было самому ей открыть всю правду. Я не привык иметь семейные секреты. Однажды я попытался сделать это, но то была ошибка. Правда должна быть открыта. Даже если она горька. — Он подумал о том, что было бы, если бы он не таил в сердце правду об интимных отношениях между Чарльзом и Сильвией. Все могло бы сложиться совершенно иначе. — Мы оба все ей расскажем. Конечно, мое участие вряд ли ей понравится, но я считаю, что она заслуживает того, чтобы знать правду.
— Так это вы заказали убить его? — вскричала Файна спустя три недели. Ник и Диана сидели в гостиной ее новой брентвудской квартиры. — Я не могу поверить! Вы наняли какого-то… турка, чтобы он прилетел в Лос-Анджелес и застрелил моего отца?!
Диане было не по себе.
— Я заказывала убить Ника, но поскольку они так похожи, убийца по ошибке застрелил твоего отца.
— О, это, по-вашему, звучит гораздо лучше, да?! Что же вы за женщина, если нанимаете убийц?! Чем вы отличаетесь от Честера Хилла?!
— Файна, — вмешался Ник, — тебе сейчас трудно все понять. Диана считала, что она оскорблена, обманута мной. В то время она была в Турции, где совсем другое отношение к убийству… Она была ослеплена горем.
— Ты защищаешь ее! — кричала в гневе дочь. — Ты оправдываешь то, что она натворила?!
— Я просто хочу, чтобы ты поняла ее. Все это случилось почти тридцать лет назад.
— Какая разница! Мой отец был убит! Он погиб из-за этой… безумной женщины, на которой ты женился. Это она заплатила за его убийство!
— Прошу тебя, Файна, — умоляюще проговорила Диана. — Я рассказала это тебе только для того, чтобы наша дружба была открытой и честной…
— Дружба?! Какая дружба?! — вскричала Файна. — Вон отсюда! Я вас больше видеть не желаю!
— Файна! — крикнул потрясенный Ник. — Не забывай, это моя жена и твоя мачеха. Ты извинишься перед Дианой.
— НИКОГДА! — взвизгнула девушка. Она ударилась в слезы и выбежала из комнаты. Она заперлась у себя в спальне, бросилась на постель и зарыдала. Затем она повернулась к письменному столу и стене. Там висели десятки фотографий человека, который был ее отцом. Она никогда не видела его, но была им одержима. Это были снимки Рода Нормана.
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ КОНЕЦ ИГРЫ 1953–1963
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ
Старая седая леди лежала на большой постели и умирала. Но даже восемьдесят четыре года жизни не стерли до конца красоту Эдит Флеминг Клермонт. В постель ее уложил первый сердечный удар, а к порогу смерти подвел второй, посильнее. Но она не жаловалась. Ее спальня в квартире на 64-й улице была заполнена фотографиями родственников и друзей. В этой комнате с высоким потолком царили воспоминания.
Ник сидел на краешке ее кровати и держал ее бессильную руку в своей руке. На дворе стояла осень 1953 года.
— Помнишь, когда ты впервые пришел ко мне? — прошептала она.
— Да.
— Так давно… так давно… Ты меня немного побаивался, так ведь? Побаивался?
— Побаивался.
— Но у тебя хватило нервов… нет, мужества… сказать то, что ты сказал. Я счастлива, что ты тогда пришел ко мне, милый Ник.
Он наклонился и поцеловал ее руку.
— Всем, — тихо проговорил он, — я обязан тебе всем в жизни и благодарю тебя от всего сердца.
Она улыбалась и мягко смотрела на сына полураскрытыми глазами.
— А мы неплохо жили, правда? — прошептала она. — У нас с тобой все получилось, правда? Это важно. Я всегда могла только гордиться тобой, мой милый сын.
Они погрузились в молчание. Сквозь старомодные атласные шторы пробивалось дневное солнце.
— Жизнь так быстро проходит, — сказала она наконец. — Вдруг осознаешь, что пришла старость. И кажется, что вся твоя жизнь всего лишь мгновение… Так странно…
Она закрыла глаза, и когда Ник уже подумал, что Эдит заснула, она заговорила вновь.
— Эти страшные бомбы… — тихо произнесла она, не открывая глаз. — С каждым годом их становится все больше и больше… Как ты думаешь, Ник, неужели будет еще одна война?
— Надеюсь, что нет. Но возможность, конечно, не исключена.
— Если будут применять эти бомбы… Ведь они все уничтожат! Нашу красивую землю… все деревья, цветы…
— И людей, — добавил Ник.
Она стиснула его руку, и он удивился тому, откуда у нее вдруг взялись силы.
— Ты должен попытаться остановить этот кошмар, Ник, — прошептала она. — Войну… последнюю войну… У тебя власть и деньги. Ты вполне способен остановить это безумие, Ник! Ты обещаешь мне это? Ради меня, ради всего того, что я дала тебе в этой жизни. Я прошу только одного взамен: попытайся остановить приближение войны… Попытайся спасти наш красивый мир. Ты обещаешь мне?
И снова он приник губами к ее руке.
— Я обещаю, — сказал он.
— Хорошо.
На лице ее отразилось умиротворение. Он был искренен в своем обещании, но не знал, как его выполнить.
Эдит умерла на следующее утро.
Годы шли, и в семье Флемингов, как и во всякой другой семье, происходили перемены. Кто-то женился, кто-то рождался, кто-то умирал. Правда, в отличие от остальных семей, благосостояние семьи Флемингов неуклонно повышалось, доходы увеличивались, и все это служило доказательством того, что богатый всегда может стать еще богаче.
В 1952 году Чарльз женился на Дафни Пирс, богачке, известной в обществе. Сильвия все еще не могла преодолеть в себе противоестественного влечения к родному брату, она презирала свою новую родственницу и наконец, чтобы «утереть нос» Чарльзу и Дафни, уехала в Англию с сыном Артуром, где, ко всеобщему изумлению, без труда охмурила одного из самых богатых холостяков Европы, своего кузена лорда Рональда Саксмундхэма, главу Саксмундхэмского банка. Рональд унаследовал Тракс-холл, который был возвращен семье правительством после войны. Так что Сильвия стала очередной хозяйкой старинного родового дома. Она чрезвычайно радовалась этому: все здесь живо напоминало о матери.
Сильвия быстро устроила Артура в Итонский колледж, переняла английское произношение и всерьез замыслила стать влиятельной представительницей лондонского света.
В 1955 году Эдвард Флеминг, единственный в семье представитель «богемы», или «битник», как их теперь называли, опубликовал свою первую книгу. Это была странная история из жизни курильщиков марихуаны в Гринвич-виллидж. Книга имела хорошие отзывы от критиков, но распродано было лишь три тысячи экземпляров. Эдвард бросил военную тематику после выхода и гигантского успеха «Обнаженного и мертвого», молодым писателем завладело чувство страшной зависти, и мечта о величайшей американской военной книге была похоронена. Эдвард был так обескуражен своим неудачным дебютом в литературе, что занял у отца миллион долларов и открыл собственный издательский дом, назвав его «Флеминг-пресс». Ник, который всегда подозрительно относился к писательской профессии, сделал все, чтобы заставить Эдварда бросить перо и заняться издательским бизнесом. И ему это удалось. К своему огромному удивлению, у Эдварда работа стала получаться и даже нравиться. Поскольку он сам был литератором, то работал смело и, пойдя на риск, поставил на новаторские литературные жанры. В 1956 году его издательский дом выпустил свою первую книгу. Это был научно-фантастический приключенческий роман «Дальний космос» (действие разворачивалось на одной из планет звезды Тау Сети). К его изумлению, книга распродавалась, как горячие пирожки, и «Флеминг-пресс» получил свою первую прибыль. Ник, почуяв успех и перспективу, уговорил Эдварда влиться в «Флеминг комьюникейшнз». Сделка была заключена, и вскоре Эдвард — который всегда хвастался тем, что не жаден, — обнаружил, что стал настоящим богачом.
Хью и Морим Флеминги оба женились и работали на своего отца. Поэтому в 1960 году, когда Нику исполнилось семьдесят два, он сказал Диане:
— По-моему, пришла пора отправляться на пенсию. Мальчики вполне справляются сами.
Но его ждал сюрприз.
3 февраля 1963 года президент Джон Ф. Кеннеди сказал своему секретарю:
— Соедините меня по телефону с Ником Флемингом. Он на своей яхте в Карибском море.
— Хорошо, господин президент.
«Сизпрей», построенная год назад на верфи в Голландии, была последней причудой Ника. Он пресытился своими роскошными домами, виллами и квартирами, ненавидел курорты за то, что там не хватало уединения, нуждался в теплом климате зимой из-за своего артрита, поэтому в конце концов решил построить себе яхту. Вдвоем с Дианой они приступили к реализации этого плана. Для работы наняли кораблестроителя и дизайнера, которые должны были сотворить яхту их мечты.
И «Сизпрей» вышла именно такой, какой задумывалась.
Сто девяносто футов в длину, с изящным белым корпусом, с двумя трубами, с четырьмя мощными дизельными машинами, этот корабль мог развивать скорость до двадцати двух узлов. Команда состояла из двадцати пяти человек, включая французского кока, шведку-массажистку и канадского врача. Этого было вполне достаточно для того, чтобы удовлетворять все потребности хозяина яхты, его супруги и гостей. Согласно завещанию, по смерти Ника его коллекция современной живописи должна была перейти в Музей современного искусства. Начиная с пятидесятых годов, он стал приобретать полотна старых мастеров, которыми украсил кают-компанию яхты. Здесь был и Ватто, и Гойя, и Делакруа. В столовой красовался великолепный Рембрандт, за которого пришлось выложить более двух миллионов долларов. В хозяйской каюте Ник и Диана имели возможность любоваться работами Мане и Греза. Что касается будуара Дианы, то он был украшен картинами мадам Виже-Лебран.
Ник считал, что все эти годы торопился жить, и теперь решил побыть некоторое время в покое и отдыхе. На «Сизпрей» было все для того, чтобы Ник и Диана могли спокойно наслаждаться роскошным времяпрепровождением.
В тот день яхта бросила якорь на Ямайке. Ник и Диана загорали у кромки плавательного бассейна, когда раздался звонок.
— Это президент, сэр, — сообщил один из стюартов, подавая Нику телефонный аппарат.
— Мистер Флеминг? — раздался в трубке голос Джона Ф. Кеннеди. — Ну как там нынче на Ямайке?
— Лучше и быть не может, господин президент, — ответил Ник. — Термометр показывает тридцать градусов, и в небе — ни облачка.
— О, я вам завидую. Я только что переговорил с вашим сыном Чарльзом. Он говорит, что вы пока не собираетесь продавать нам товар Рамсчайлдов.
— Совершенно верно, господин президент. И причины остаются все те же. Та война, которую мы ведем в этой паршивой стране, которой даже и название-то никто правильно произнести не может, является низкой и отвратительной. Я слишком стар для того, чтобы меня снова начали обзывать Титаном смерти. Я не желаю вляпываться в войну, которая день ото дня становится все более непопулярной. Но для того, чтобы узнать эту мою точку зрения, вовсе не обязательно было звонить мне, ведь вы, как я полагаю, знакомы с содержанием моих газет. А если я сказал раз, то я скажу это и сто раз: «Уходите из Вьетнама».
Он услышал, как президент прокашлялся.
— Мне хорошо известна ваша точка зрения, но независимо от того, правы вы или нет, ситуация такова, что мы не можем сейчас уйти оттуда…
— А вы соберите чемоданы и уйдите! — почти выкрикнул раздраженный Ник.
— Вы прекрасно знаете, что это все не так просто.
— Ничего сложного. Не слушайте вы этих генералов из Пентагона! Им нравится эта война. Уж я-то довольно навидался в своей жизни этого брата, чтобы знать, какую они всегда ведут игру! Не слушайте их.
— Ну что ж, вижу, что наш разговор никуда не ведет, мистер Флеминг. Но дело в том, что мы остро нуждаемся в вашем оружии Могу я взывать к вашим патриотическим чувствам, сэр?
— Это последнее прибежище негодяев, как сказал бы доктор Джонсон. Нет, господин президент, вы не можете взывать к моему патриотизму, потому что он говорит мне, что эта война причиняет больше вреда, чем пользы той стране и одновременно губит массы людей. Какое нам дело до того, что во Вьетнаме у власти будут коммунисты? Черт с ним! Кому он нужен?
Президент вздохнул:
— Ладно, мистер Флеминг. Продолжайте наслаждаться жарким солнцем.
— Вы не обиделись, мистер президент? — улыбнувшись, спросил Ник.
— Не могу сказать, что я в восторге от вас в эту минуту. Всего хорошего, мистер Флеминг.
Президент положил трубку и объяснил стоявшему рядом с ним брату, занимавшему пост министра юстиции:
— Старый упрямец!.. Я его даже с места не сдвинул!
Ник, закончив телефонный разговор, сказал Диане:
— Вот это да, уж не спятил ли я? Никогда еще я не получал такого удовлетворения от продажи очередной партии оружия, как сейчас — ничего не продав!
— То, что ты можешь послать подальше самого президента Соединенных Штатов, — сказала Диана, — я и называю властью, милый.
— Когда десять лет назад умирала мать, она взяла с меня слово попытаться остановить приближающуюся войну, остаться в стороне от ядерных вооружений. Это обещание было нелегко выполнить, но под конец, мне кажется, я понял, как это сделать. Я просто не буду им продавать свой товар. В 1945 году я хотел было уже вообще плюнуть на военный бизнес, но Чарльзу удалось отговорить меня. Что ж, по крайней мере, сейчас у него ничего из этого не выйдет. Эта война — глупая ошибка, и я не хочу в ней участвовать.
Она гордилась своим мужем.
— Ты абсолютно прав, Ник. Но Чарльз не сдастся. Он будет воевать с тобой.
— Пусть его воюет. Босс пока еще я.
Он откинулся на спинку шезлонга и закрыл глаза от слепящего карибского солнца. Он думал сейчас о своей матери и о данном ей обещании.
Он думал о том, что наконец-то знает, как уважить ее просьбу.
А в это же самое время, — через час после разговора Ника с Кеннеди — Чарльз Флеминг собрал с зале заседаний Флеминг-билдинга в Нью-Йорке своих младших братьев — Эдварда, Мориса и Хью. Еще с войны у него осталась легкая хромота, но, несмотря на это и на свои сорок четыре года, он был все еще строен, выглядел моложаво, а сшитый в Лондоне серый костюм вдобавок придавал его осанке властность. Он был разгневан.
— У меня только что состоялся разговор с президентом, — сообщил он, садясь во главе стола. — Он сказал, что звонил старику на «Сизпрей» и тот все еще держится своей старой линии.
— Никаких сделок с Пентагоном? — спросил Морис. Ему исполнилось уже тридцать девять, и он был отцом четверых детей.
— Никаких сделок с Пентагоном. Лично у меня терпение уже иссякло. Мы теряем сотни миллионов долларов на нереализованных заказах только из-за того, что какой-то дряхлый старикашка на своей яхте полагает, что это, видите ли, безнравственная война!
— Она такая и есть, — сказал Эдвард. Он был вице-президентом «Флеминг индастриз» и заправлял издательским и газетным бизнесом. Он так и остался холостяком и, несмотря на то что присоединился к предпринимательскому истеблишменту, до сих пор не признавал деловых костюмов, а ходил всегда в мешковатых пальто из твида. Это было последним, что не умерло в нем от «битника».
— Нет, нравственная, черт возьми! — рявкнул Чарльз. — Если мы не остановим их во Вьетнаме, скоро вся Азия будет размахивать красным флагом! Америка должна быть сильной и могущественной, и наш отец, который вообще-то должен знать это лучше всех нас — ведь он был в России во время революции и даже попал в лапы к коммунякам, — теперь страдает размягчением мозгов и хочет позволить им запугивать нас! Америка всегда вела только справедливые войны, и эта война такая же справедливая, как и вторая мировая!
— Чарли, где ты понабрался всей этой дребедени? — сказал Эдвард. — Нам нечего делать во Вьетнаме. Старик полностью прав. Если откровенно, я даже удивлен тем, что он занимает такую позицию, но восхищаюсь его мужеством.
Чарльз сверкнул глазами на брата, но сдержался.
— Хорошо, давайте оставим вопросы морали, — предложил он. — Давайте поговорим о деньгах. О наших деньгах! Мы не только теряем миллионы на заказах, мы записываем себя в «черный список» Пентагона. Я разговаривал с высокопоставленными генералами, которые дали понять, что, если мы не подадим им руку помощи сейчас, когда они в нас нуждаются, они не подадут нам руки никогда. Компания Рамсчайлдов является одной из самых крупных военных фирм в мире и приносит четверть всех доходов «Флеминг индастриз». А если Пентагон поставит на нас крест, нам останется только штамповать охотничьи пугачи и игрушечные пистолеты. Вы мои братья. У нас у всех очень много поставлено на эту компанию. Неужели вы хотите, чтобы это случилось?
В воздухе повисла гнетущая тишина.
— Но что мы можем сделать? — спросил наконец Морис. — Это отцовская компания. Он босс.
— Может, и нет, — сказал Чарльз. — Ему семьдесят пять лет. Может, нам удастся объявить его неспособным к управлению таким производством.
— Об этом можешь забыть, — фыркнул Эдвард. — Он способнее любого из нас, и тебе это прекрасно известно. А если ты попытаешься провернуть с ним такую штуку, он съест тебя с потрохами.
Чарльз хрустнул костяшками пальцев.
— Ты прав, — признал он. — Но есть и другой путь. В «Флеминг индастриз» есть по меньшей мере пятнадцать миллионов долей в акциях класса «А» с правом голоса. Отцовский пай перетянет любой из наших. У него три с половиной миллиона акций. У него есть еще три миллиона в «Флеминг фаундейшн», но они не имеют здесь права голоса. Два с половиной миллиона или около того находятся на руках мелких вкладчиков. У нас же, его детей, у каждого по миллиону акций. Шесть детей — шесть миллионов. Если мы сложимся все вшестером, то наш коллективный голос станет самым весомым. Мы можем просто заставить его торговать с Пентагоном!
— Ты играешь с огнем, — предупредил Эдвард. — Старик еще может переписать свое завещание. Если мы осмелимся говорить с ним на языке силы, он лишит всех нас наследства. Он переведет свои акции в «Флеминг фаундейшн» и переименует ее в «Флеминг индастриз». А потом хорошенько даст нам всем под зад. Кроме того, на меня можешь сразу не рассчитывать, потому что я согласен со стариком.
Чарльз гневно взглянул на своего младшего брата.
— Ты, Эдди, всегда любил привлекать к себе внимание громкими акциями. Сначала ты уехал в Гринвич-виллидж и стал там голозадым хиппи, а теперь хочешь пустить по миру всю семью? Неужели ты не понимаешь, что на Уоллстрит прекрасно известно, что мы бойкотируем предложения Пентагона? Посмотри, что стало с курсом наших акций за последние полгода! Бумаги Флемингов в течение нескольких десятилетий были надежнейшими из самых надежных, а теперь посмотри, что творится! Со ста восьмидесяти четырех курс наших акций упал до ста девятнадцати! Мы скоро все накроемся медным тазом!
— Не накроемся, — сказал Эдвард мрачно.
— Чарли прав, — заметил Морис. — В финансовом отношении компания катится в пропасть. Если «Рамсчайлд» не будет торговать с правительством, тогда останется один выход — продать компанию.
— Нет, об этом и не мечтайте, — тут же замотал головой Чарльз. — «Рамсчайлд» — это мое детище. Вы хорошо знаете, какие бабки компания может приносить. Это золотая жила, которую мы не разрабатываем только из-за упрямства отца. Если уж на то пошло, то давайте зададим себе откровенный вопрос: кто реально управляет компанией — мы или старик? Эдди прав насчет того, что давить на него — большой риск. Но ведь, если по чести, всю работу выполняем мы! Когда он сюда последний раз заглядывал, а? Они с Дианой постоянно либо на яхте, либо где-нибудь в Европе. Он больше не имеет к компании никакого…
— А я думаю наоборот, — прервал его Эдвард. — Конечно, он не принимает участия в ежедневных операциях, но он защищает стратегические интересы компании. И наши, кстати, семейные интересы. Я считаю, что если мы не ввяжемся в эту паршивую войну, то в общественном мнении очень выиграем.
— Если к тому времени от нас еще что-нибудь останется! — крикнул Чарльз. — Нам надо принимать решение. Старик уважает только силу. Поэтому я считаю, что если мы поиграем немного мускулами перед его носом, то вполне возможно, что он уступит.
— На меня не рассчитывай, — повторил Эдвард.
— Я и не рассчитывал. Как с тобой, Морис? И ты, Хью?
Они колебались.
— А что Файна и Сильвия? — наконец спросил Хью. — Без них все равно не обойтись.
— Файна будет за меня, — сказал Чарльз. — Она терпеть не может Диану с тех самых пор, как узнала, что тот турок, который пристрелил Рода Нормана, был нанят ею. Это какой же надо быть дурой, чтобы рассказать такое?
— А Сильвия?
— Сильвию я беру на себя.
— Если тебе удастся уговорить Сильвию, тогда можешь рассчитывать и на меня.
— Отлично, Хью! — улыбнувшись, воскликнул Чарльз. — Морис?
Морис, самый консервативный член семьи Флемингов, ответил уклончиво:
— Я должен все обдумать. Сначала уломай Сильвию, потом я дам свой ответ.
Чарльз хлопнул ладонями по столу:
— Ладно, пока достаточно. Завтра я вылетаю в Лондон к Сильвии.
— Вы все совершаете большую ошибку, — заметил Эдвард.
Чарльз бросил на него взгляд.
— Еще посмотрим, кто из нас совершил большую ошибку, — сказал он веско.
Выдающаяся красота была все еще очевидна, но она быстро меркла от неумеренного воздействия сначала калифорнийского солнца, потом калифорнийских вин и, наконец, калифорнийских наркотиков. Мечта Файны стать кинозвездой такого же уровня, как ее отец Род Норман, обернулась истинным кошмаром. У нее была внешность звезды и талант актрисы, но недоставало того трудноопределимого «чего-то», что западало в душу зрителю. После съемок в незначительных ролях в тусклых постановках ее агент стал упрашивать ее обратиться за помощью к своему влиятельному отцу. Чтобы он пришел и спас ее карьеру, висевшую на волоске. Это предложение настолько оскорбило ее, что она ушла не только из кино, но стала также удаляться и от жизни. По крайней мере, от реальной жизни.
Ее культовое поклонение погибшему отцу, которое явилось причиной ее ненависти к мачехе Диане, направило Файну в конце концов в мир грез, навеянных наркотиками. Поскольку она была очень богата, ей не составило труда купить захудалый особняк, в котором в дни своей славы проживал сам Род Норман. С тех пор особняк, однако, был превращен в двухквартирный дом. Поселившись там, Файна начала поворачивать стрелки времени назад. Первым делом она изгнала из дома квартирантов, затем выложила почти четверть миллиона долларов за то, чтобы привести дом в состояние, в котором он был в начале 20-х годов. Раньше ее любимой картиной был фильм «Все о Еве», теперь это стал «Бульвар заката», копию которого она приобрела. Затем, как и Норма Десмонд, она оклеила весь особняк фотографиями Рода Нормана из своей обширной коллекции. Лики красавца-кинозвезды с прилизанными по моде начала 20-х волосами глядели отныне отовсюду в доме: со всех столов, стен, крышки пианино и шкафов. В Южной Калифорнии, этом царстве эксцентричности, поведение Файны мало кого удивило. Она прослыла у местных жителей «Мисс Тяжелый Случай».
По мере того как берегов Лос-Анджелеса достигали все более диковинные сорта наркотиков, Файна пробовала их все без исключения. Запершись в своем замке грез в обществе фотографий Рода Нормана, немногих заведенных здесь приятелей, прихлебателей и случайных любовников, Файна отдавалась попеременно то марихуане, то опиуму, то еще чему-нибудь покруче. У Файны имелись копии всех немых фильмов с участием Рода Нормана, кроме тех, что уже размагнитились или были утеряны. Файна без конца крутила их дома, пробуя очередную наркотическую новинку.
Ее невероятно манил этот забытый, невинный мир 20-х годов. То, что раньше казалось нелепой мелодрамой, теперь приобрело в ее глазах ореол подлинной романтики. И на серебристом экране был он. Вечно живой. Победитель неумолимого времени. Этот красавец герой, который навсегда останется с ней, никогда не предаст ее и не будет подбираться к ее деньгам… Род Норман!
Поэтому, когда с ней связался Чарльз и попросил принять участие в борьбе против Ника и Дианы, Файна, под воздействием наркотиков окончательно забывшая всю любовь, которую питал к ней Ник, все радости жизни, которыми она была напрямую обязана ему, рассматривавшая его теперь чуть ли не как соучастника убийства ее настоящего отца, заявила без тени колебаний:
— Всеми своими акциями до единой я буду голосовать за тебя, Чарли.
Чарльз, сидя у телефонного аппарата в Нью-Йорке, улыбнулся.
— Я знал, что на тебя можно будет положиться, Фай, — сказал он.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ
Сильвия полюбила Англию еще с тех пор, как и 30-х годах родители возили ее сюда ребенком. Она любила мягкие, утопающие в зелени окрестности Тракс-холла, мирные деревеньки с аккуратными домиками под соломенными крышами, деревеньки, которые, казалось, ничуть не изменились за прошедшие столетия. С другой стороны, она полюбила и возбуждение романтического Лондона. Будучи по матери англичанкой и ощущая в себе токи горячей крови Траксов, Сильвия считала Англию таким же родным домом, как и Америку. И причиной того, что она покинула Штаты и уехала в Англию, был не только неудачный брак с Честером Хиллом, не только столь же неудачный союз с Корни Бруксом и даже не желание не видеть Чарльза в объятиях Дафни. Просто Сильвия хотела вновь обрести те спокойствие и безмятежность, которые помнила по своему детству и каникулам, проведенным в Англии.
Лондон постепенно расправлял плечи после ужасных немецких бомбежек так же, как вся страна мало-помалу оправлялась от последствий войны. Все здесь пребывало в уверенности относительно того, что воцарилось новое елизаветинское время. Английская столица скоро полюбилась Сильвии не меньше, чем Нью-Йорк. У нее здесь было много семейных связей, но они не потребовались, так как ее кузен лорд Рональд Саксмундхэм полностью принял на себя все заботы по обустройству здесь своей американской родственницы. Рональду было около сорока, он был высок ростом, строен, имел волосы песочного цвета и привлекательную внешность, был нерешителен и застенчив — что многими ошибочно принималось за бесхарактерность и высоко образован. Он был также добрым, заботливым и — что, наверное, больше всего пришлось по сердцу Сильвии, умудренной опытом двух неудачных замужеств — надежным. Он вообще ей очень понравился. В конце концов Сильвия решила, что именно Рональд сможет стать тем хорошим отцом, которого она пообещала найти Артуру. Со своей стороны Рональд был покорен ее красотой, чувством стиля и вкуса, а также умением развлекаться. То, что вначале большинство людей называли нежелательной парой, вскоре стало образцом гармонического сосуществования противоположностей. Их свадьба приветствовалась в прессе. Англия помнила еще о той помощи, которую оказали ей янки во время войны. Англия еще не забыла Ника и Эдвину и была им благодарна до сих пор.
Став леди Саксмундхэм, третьей виконтессой рода и женой одного из ведущих английских банкиров, Сильвия сразу же почувствовала всеобщую подозрительность, обращенную на нее со стороны английского истеблишмента. Две мировые войны стоили Англии ее империи и до основания потрясли все классы общества. Тем не менее ядро истеблишмента сумело сохранить свою исконную консервативность. А Сильвия, несмотря на свою мать, все-таки была американкой. Хуже того, перед войной ее фотографировали для журнала «Лайф» как дебютантку года. Все это, мягко говоря, не вполне соответствовало английскому хорошему тону. Словом, Сильвия была «неблагонадежна».
Однако, ко всеобщему удивлению и восторгу мужа, Сильвия сделалась больше англичанкой, нежели сами англичане, как говорят французы, plus rojaliste, que le roi[19]. Будучи прекрасной наездницей, она стала членом самого престижного в стране конного клуба, принимала участие во всех соревнованиях, выиграла немало кубков и произвела на всех большое впечатление своей смелостью и артистичностью. Умение сидеть в седле верный путь к сердцам англичан.
Но для многих она так и осталась иностранкой. Сильвия была вспыльчива, остра на язык и высокомерна, что дало основание ее знакомым из числа самых вежливых отзываться о ней как о «трудной». К тому же она засматривалась на мужчин. Сильвия благоразумно не изменяла мужу — ей нравилось быть леди Саксмундхэм, и она действительно любила Рональда, хотя он и не являлся главной страстью ее жизни, — но, с другой стороны, она прослыла почти кокеткой, что настраивало против нее жен тех мужчин, с которыми она кокетничала.
Сильвия показала себя гостеприимной хозяйкой и любила пускать пыль в глаза представителям высших слоев английского общества. И все же она не добилась любви англичан.
В 1957 году она родила Рональду сына Персивала, а через год — дочь Пенелопу. И вот после вечера, происходившего в Траке-холле по случаю шестилетия Перси, Рональд привел жену в библиотеку, налил коньяку и сообщил:
— Завтра приезжает Чарльз.
Как и всегда, при упоминании в ее присутствии имени брата у Сильвии учащенно забилось сердце Ее вновь переполнило смешанное чувство вины и дремавшей глубоко внутри нее страсти. Ее отношения с братом всегда характеризовались легковоспламеняемой интимностью, причем как легковоспламеняемость, так и интимность были плодами их «маленькой тайны».
— Зачем? — спросила она. — Чарльза не было здесь уже около года. Надеюсь, он не притащит с собой Дафни. При каждой новой встрече с этой женщиной мне все труднее быть с ней вежливой.
— Нет, он едет один. По делу. И дело это щекотливого свойства, если верить Эдди. Он позвонил мне и предупредил о намерениях Чарльза.
— О намерениях? Предупредил? Что за загадки?
— Как, ты не знаешь? Твой отец наложил запрет на продажу оружия «Рамсчайлд» Пентагону. Ник не одобряет вьетнамскую войну, и лично меня это восхищает, хотя и очевидно, что такая позиция самоубийственна для его военного бизнеса. Чарльз пытается сколотить что-то вроде внутрисемейной коалиции детей, для того чтобы отстранить отца от дел большинством голосов.
— Что, правда? Неужели у Чарльза хватит наглости? Еще во время войны отец нагнал на него страху, едва не лишив наследства. — Сказав это, Сильвия вдруг вспомнила пруд в окрестностях Тракс-холла, где много лет назад она видела обнаженного Чарльза. Она вспомнила, как смотрела на него, чувственно потягивающегося после купания, вспомнила свое возбуждение, почти исступление.
— Да, я знаю об этом. Но Чарльз просто помешался на «Рамсчайлд». Ему нравится власть, которую дает обладание компанией. Ему нравится встречаться с генералами, адмиралами, большими политиками и прочими сильными мира сего. В этом есть что-то ребяческое. Поэтому меня вовсе не удивляет, что он стал воевать за то, чтобы спасти компанию.
— Да, но идти против отца! Ему это так с рук не сойдет.
Она вспомнила его горячие поцелуи, тепло его юного тела, восторг от осознания того, что срываешь запретный плод.
— Вот поэтому я и заговорил об этом сейчас, — продолжал Рональд. — На мой взгляд, Чарльз поступает неблагоразумно. Я считаю, что это может вызвать раскол в семье, а если зайдет слишком далеко, то и расколоть «Флеминг индастриз». Ник Флеминг — это не король Аир. Он не отдаст свое королевство детям без борьбы.
— Согласна. Кстати, как остальные? На чьей они стороне?
— Если верить тому, что мне сообщил Эдди, то получается, что Файна заодно с Чарльзом, а Хью и Морис согласятся участвовать в этом только после твоего согласия. Эдди решительно против и будет голосовать за отца. Лично я думаю, что Чарльз просто спятил, решившись на такое. Но суть в том, что теперь все зависит от тебя. И я, как твой муж, решительно советую тебе оставаться в стороне от этой авантюры. Не зли отца.
— Не волнуйся, я и не собираюсь этого делать. Я слишком люблю его, чтобы наносить удар ножом в спину, а Чарли задумал именно это. Впрочем, меня это не удивляет. Не будем трогать психиатрию, просто у Чарли еще с древних пор на отца зуб. Проблема отцов и детей. Сын завидует поразительной деловой удачливости отца. Я скажу Чарли, чтобы он одумался. Что ему следует это сделать.
— Хорошо, я знал, что ты все правильно оценишь.
— Подожди, так он завтра приезжает? А ему известно, что мы даем бал в Тракс-холле?
— Да. Чарльз даже приготовил костюм.
— Ну и кем он будет наряжен?
— Дьяволом.
Сильвия рассмеялась:
— Как ему это подходит!
Она вспомнила экстаз из соединения, экстаз, который даже теперь, спустя почти тридцать лет, волновал ее кровь.
Воистину дьявол!
Впервые бал-маскарад в Тракс-холле был дан в 1883 году и с тех пор проводился ежегодно, за исключением военных лет. Это действо считалось одним из главных событий жизни английского света. За восемьдесят лет список приглашенных мало изменился: фамилии остались все те же. Правда, после войны этот список был пополнен за счет кино- и театральных звезд, а также крупных бизнесменов и промышленных магнатов. Это был именно бал-маскарад, а англичане всегда так любили наряжаться в самые удивительные, в том числе и нелепые костюмы, их так привлекала роскошная обстановка Тракс-холла и галлоны шампанского, ежегодно рекой лившиеся здесь, что отказы присылались лишь в случае смерти или тяжелой болезни приглашенного. В 1883 году по окончании бала «тогдашний» лорд Саксмундхэм устроил всех своих гостей по десяткам спален, а слуги теснились на чердаке. Теперь же на ночь оставались лишь самые пожилые из приглашенных или приехавшие издалека. Остальные же возвращались в Лондон кавалькадой заказных автобусов.
Поскольку все комнаты в Тракс-холле были уже распределены, Чарльз, которого здесь не ждали, вынужден был остановиться в Одли-плэйс, все еще принадлежавшем его отцу и использовавшемся разными членами семьи для проведения там нечастого летнего отдыха. Однако основную часть времени старинный особняк, который так нравился Эдвине, пустовал. Но Чарльз не испытывал неудобств: управляющий и его жена были заранее предупреждены о приезде младшего Флеминга. Поэтому когда в лондонском аэропорту Хитроу приземлился трансатлантический лайнер, принадлежавший «Флеминг индастриз», Чарльза встречал «роллс» с шофером, на котором молодой хозяин и добрался до Одли-плэйс. В доме все было готово для его приема. На дворе бушевал суровый февраль, но температура внутри дома поддерживалась на уровне двадцати градусов выше нуля. Огонь был разведен во всех каминах дома.
Но Чарльз, как и всякий богатый человек, воспринимал комфорт как явление само собой разумеющееся. Он стоял перед камином в библиотеке, пил неразбавленное виски и думал о своем отце. Он живо помнил сцену, происшедшую в этой самой комнате двадцать два года назад, когда Ник выплеснул ему спиртное прямо в лицо и, схватив за грудки, выдернул из кресла. Он тогда едва не лишил сына наследства, и этого Чарльз не забыл и не простил. Что он будет делать теперь, когда узнает о последнем коварном плане Чарльза? Да он, наверное, уже знает. Эдди, конечно же разболтал. У Чарльза не было никаких иллюзий насчет реакции отца: он вышвырнет его к чертовой матери из «Флеминг индастриз». Но тут либо пан, либо пропал. Все равно им двоим империей не править. У руля должен остаться кто-то один: он или отец.
У Чарльза было два козыря в рукаве. Будет и третий, если удастся уговорить Сильвию.
Сильвия. Все сейчас зависело от его непостоянной красавицы-сестры.
Глядя на огонь в камине, Чарльз тоже вспомнил тот далекий день, когда он совершил с ней кровосмешение.
Сильвия… Даже одно ее имя волновало ему кровь.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ
Эдвина, как и большинство англичан, никогда всерьез не принимала современное искусство, и в течение 20—30-х годов, когда ее муж увлеченно собирал свою впечатляющую коллекцию современных полотен, ее реакцией на очередное поступление в лучшем случае была наигранная радость, в худшем — гримаса и реплика типа:
— Милый, тебе не кажется, что это несколько… некрасиво?
Она ценила только полотна, «рассказывающие целую историю», или старые добрые семейные портреты, выполненные, желательно, Гейнсборо или Лоуренсом.
Поначалу Ник относил ее замечания по поводу современной живописи на счет ее «английской провинциальности», но с течением времени он все чаще и чаще задавался вопросом: нет ли доли истины в том, что говорит Эдвина? К 50-м годам он пришел к твердому убеждению, что модерн, несмотря на то возбуждение в умах, которое он вызывал в начале столетия, теперь деградировал в идиотское кривлянье, если не хуже.
Диана, несмотря на ту исполненную приключений жизнь, которую она прожила, также имела консервативные взгляды на искусство. Поэтому сразу же после свадьбы Ник с Дианой набросились на старину с великой жадностью. Это было тем легче сделать, что у Ника было громадное состояние.
Результатом этого явилась не только радикальная смена картин, украшавших особняки и виллы Ника, но и решение сделать из яхты настоящий музей старинной живописи. Причем отдавалось должное и XX веку: яхта была отражением современных чудес в области технологий судостроения. Чего стоило только оснащение ее разветвленной и скрытой системой кондиционирования воздуха, телефоном, телевизором, электричеством!
Все же остальное напоминало здесь о дедовской старине. Примером того служила хозяйская каюта. Стены были оклеены обоями начала XX века, на которых были изображены виды старого Лондона. Эти обои разыскала Диана и тут же в них влюбилась. Ник не пожалел отдать за них восемьдесят пять тысяч долларов. Ковер, покрывавший пол в каюте, был старинной персидской работы. Мебель была вся сплошь XVIII века, включая и французский стол-бюро, стоимость которого поразила даже Ника. Результатом этого экстравагантного «ухода в романтическую старину» стала, пожалуй, самая красивая каюта-спальня в мире. Диана была в нее просто влюблена. Ее не волновала стоимость этого удовольствия. Как сказал как-то Ник: «Если мы обанкротимся, то врежемся в айсберг и на одной страховке поправим дела».
«Сизпрей» скользила по водам Карибского моря со скоростью двадцать узлов, направляясь к Багамам, и айсбергов на пути было что-то не видно.
В тот день Диана только что закончила одеваться к обеду и уже хотела выйти из спальни, как туда неожиданно ворвался Ник. Ей никогда прежде не доводилось видеть его в таком бешенстве.
— Будь он проклят! — в ярости крикнул он, захлопнув за собой дверь. — Будь он проклят!
— О ком ты? — воскликнула она обеспокоенно. — Что случилось?
— Опять этот сукин сын Чарльз! Только что звонил Эдди. Чарльз пытается настроить против меня всю семью! Вот так сынок у меня!
Он вдруг замер на месте, схватился обеими руками за грудь, и из его горла вырвался какой-то нечленораздельный звук. В следующую секунду он повалился на постель.
— Милый! — вскричала она, бросаясь к нему.
— Врача… — прошептал он. — Давай сюда врача!
За четыре тысячи миль от яхты в то же самое время на втором этаже Тракс-холла в своей спальне перед зеркалом в полный рост стояла Сильвия и оценивающе рассматривала свой наряд. Поначалу она хотела одеться Клеопатрой, но вскоре рассудила, что в Тракс-холле слишком холодно для такого наряда, поэтому остановилась на одеянии Элеоноры Аквитанской. Но потом она глянула в альбом карнавальных костюмов и поняла, что будет смотреться по меньшей мере глупо в остроконечной шляпе. Тогда она поднялась на чердак, где хранилось множество нарядов Эдвины, вместе с которыми были положены камфарные шарики от моли. Там-то, среди большого количества платьев, пахнувших нафталином и относящихся к 20—30-м годам — вид их напоминал об очаровании далекой, давно ушедшей эпохи, — Сильвии и удалось отыскать белое платье молодой эмансипированной женщины, образ которой культивировался в середине 20-х. Интуитивно она почувствовала, что это то, что надо, а когда примерила его, то к своему облегчению обнаружила, что ее фигура все еще так же хороша, как была у матери в то время.
У крыльца уже останавливались первые автобусы, привезшие гостей из Лондона. Сильвия еще раз глянула на себя в зеркало и решила, что выглядит «супер»: она старалась не отставать от современной молодежи и пользовалась сленговыми словечками. Она унаследовала от матери почти все ее «безделушки», поэтому сейчас, чтобы сделать себя еще краше, она выбрала из шкатулки четыре толстых бриллиантовых браслета в стиле арт деко, две броши из бриллиантов с рубином, пару бриллиантовых серег и великолепное бриллиантовое ожерелье, в центре которого красовался рубин «Кровавая луна», подаренный Ником Эдвине ко дню свадьбы почти полвека назад. Платье доходило ей только до колен, так что она не прятала свои красивые ноги. Оно держалось лишь на двух тонких тесемках, и плечи также оставались открытыми. Ее каштановые волосы были коротко подстрижены по моде 20-х с длинной челкой. Приверженность к ретро она проявила и при выборе яркой губной помады и сильным подкрашиванием глаз.
Теперь она выглядела точь-в-точь как сексуальная женщина-вамп времен немого кинематографа.
— Неотразима, — промурлыкала она.
— Приехали первые гости, — сообщил Рональд, входя в комнату. На нем был костюм Скарлета Пимпернеля. Сильвия обернулась к нему и обворожительно улыбнулась.
— Клара Боу, — сказала она.
Он никогда не уставал любоваться своей женой, но в этот раз она была особенно прекрасна.
— Великолепно! — сказал он с улыбкой. — Просто нет слов! Ты станешь королевой бала. Ну что, пойдем вниз?
Он взял ее под руку, и они вышли из комнаты.
— Чарльз звонил, — сообщил Рональд, пока они шли по длинному холлу к лестнице. — Он немного опоздает.
Чарльз…
И снова перед ее глазами возник тот заросший пруд.
Здесь были Генрих Восьмой с двумя своими женами, Кэтрин Ховард и Анной Болейн. Присутствовал и Тарзан, который старался держаться поближе к отопительным батареям. Франкенштейн, граф Дракула, Лукреция Борджиа, Жорж Санд, кардинал Ришелье, Скарлетт О’Хара, Мария-Антуанетта, Распутин, горбун из «Собора Парижской Богоматери», император Нерон, Иоанн Креститель, Алиса из страны чудес и другие в том же роде. Более ста пятидесяти разодетых в карнавальные костюмы гостей танцевали в огромном зале Тракс-холла под музыку лондонской рок-группы, которая имитировала уже прославившихся молодых людей из ливерпульской компании «Битлз». Когда Чарльз в своем «дьявольском» костюме ярко-красного цвета с вилами и хвостом вошел в зал, то остановился в дверях, любуясь зрелищем маскарада.
Искрометная музыка XX столетия в позолоченно-зеркальном бальном зале XVIII века… Уже одно это создавало ощущение кричащего контраста. Что же до костюмов, то они изображали героев и персонажей из разных эпох, реальных и литературных. Казалось, в этом зале произошло искривление времени и пространства.
Затем Чарльз заметил Клару Боу, танцевавшую со Скарлетом Пимпернелем. Сильвия в своих бриллиантах светилась, как удаленная звезда на ночном небосклоне. Чарльз взял с подноса у проходившего мимо официанта бокал шампанского. Он маленькими глотками пил «Лорен Перье» и продолжал наблюдать за танцевавшей сестрой.
Теперь все зависело от Сильвии.
Через несколько минут рок-группа уступила свое место традиционному оркестру, который заиграл Ноэля Коварда. Когда из саксофонов и кларнетов полились мягкие звуки «Я увижу тебя снова», Сильвия направилась через весь зал к своему брату. Рубин «Кровавая луна» сверкал на ее груди, будто светлячок из сказки.
— Здравствуй, Чарли, — сказала она, целуя брата в щеку. — Как долетел?
— Трясло.
Он поставил свой бокал на мраморную крышку сундука, сделанного в 1716 году Андре-Шарлем Буем. На днях Рональд перестраховал это произведение искусства на сумму в двести пятьдесят тысяч фунтов стерлингов.
— Как у тебя нога? — спросила Сильвия. — Потанцуешь со мной?
— Фокстрот, думаю, у меня получится.
Он отвел сестру на середину зала, где прижал ее к себе.
— Чарли, я знаю, зачем ты приехал, — сказала она. — Ты просто-напросто дурак, так и знай. Отец не помилует, когда узнает.
— Повоюет и перестанет. Все, что я пытаюсь сделать, это спасти «Рамсчайлд» от надвигающегося краха.
— Будешь подговаривать меня присоединиться к вам — только напрасно потеряешь время. Я не собираюсь ссориться с отцом.
— Да ты даже не дала мне…
— Можешь не надрываться, Чарли. Я и слушать тебя не буду. Рональд против этого, и я — тоже.
— А кто сболтнул Рональду? Конечно, Эдди?
— Да, он позвонил.
— Я так и думал. Эдди упрямый придурок! Однако он не знал одного. Потому что я не хотел, чтобы он это знал. У меня есть поддержка вне нашей семьи.
— Кто?
— Пока что эти лица пожелали остаться неназванными.
— Ты не доверяешь собственной сестре?
— Я не доверяю Рональду. Так или иначе, а это еще полтора миллиона акций с правом голоса в мою пользу. Мы выиграем, если сложимся вместе!
— Выиграем? Что? Управление компанией? Кому оно нужно? Мне и без компании хорошо живется. И я еще раз повторяю: против отца не играю.
— Да никто и не собирается против него играть!
— Интересно, как же ты называешь то, на что других подбиваешь?
— Мы спасаем то, что он создал в течение всей жизни. Тот немощный старикашка, который сидит на своей яхте, — вовсе не тот Ник Флеминг, который принял «Рамсчайлд» шарашкой по выпуску дробовиков и сделал из нее «Флеминг индастриз». Если бы отцу сейчас было не семьдесят пять, а лет шестьдесят хотя бы… Да он продал бы Пентагону все подчистую, включая стружку и ветошь! Я пытаюсь его спасти от него же самого!
— Ты серьезно думаешь, что он уже не…
— Ну конечно! Разве нормальный человек пошлет подальше президента Соединенных Штатов, который униженно просит продать товар Пентагону? Разве он позволит себе упустить сотни миллионов долларов прибыли от заказов? Сильвия, у него явно поехала крыша. — Чарльз сделал ловкую паузу, выжидающе глядя на сестру, потом добавил: — А ты сегодня очень красивая.
— М-м… Спасибо.
— А эти духи сводят меня с ума.
— Рональд подарил на Рождество. «Ночь любви». Французские.
— Знаю. Они мне очень нравятся.
— Кстати, если уж разговор зашел о любви… как там твоя сучка Дафни?
— Зачем так грубо? Дафни — милашка.
— Она — сучка, и ты это отлично знаешь. И женился! Никогда не смогу этого понять. Я полагала, что у тебя получше вкус на женщин.
— О, однажды я доказал, что у меня очень хороший вкус на женщин! — негромко произнес он, заглядывая ей в глаза. — Когда я был совсем юн. — Он прижал ее крепче. — Однажды я обладал самой лучшей женщиной в мире.
Она ощутила, как сильно заколотилось в груди сердце.
— Чарли, не надо.
— Я совершенно один-одинешенек сейчас в Одли-плэйс, — прошептал он ей на ухо. — Приходи ко мне вечером.
Образ обнаженного юноши на берегу лесного пруда мелькнул у нее перед глазами.
— Я не могу, — нервно ответила она. — И не прижимай меня так сильно. Это неприлично…
— Только не говори, что тебе это не нравится.
Она промолчала.
— Приезжай сегодня ко мне в Одли-плэйс. Никто здесь этого и не заметит.
— Ты отвратителен!
Она оттолкнула его и быстро ушла в другой конец зала.
Чарльз улыбался…
Он знал, что она терзается соблазном.
Сильвия отправилась в биллиардную, где был устроен бар. У нее горело лицо, она нервничала. Ей нужно было сейчас что-нибудь покрепче шампанского.
— Дайте, пожалуйста, виски, — сказала она бармену.
Ее всю трясло. Торопливо схватив стакан, она залпом выпила чистый скотч, ожегший горло. В комнату вошел красивый в своем костюме Скарлета Пимпернеля в красно-золотистом плаще Рональд. Он подошел к Сильвии.
— Пока что никто не напился, — сказал он и обернулся к бармену: — Виски, пожалуйста.
— Да, похоже, все ведут себя благопристойно, — ответила она.
— Погоди, еще не вечер. С тобой все нормально? Ты что-то разрумянилась.
— Это, наверное, от виски. Я слишком закружилась в танце, пришла сюда… Сейчас уже все в порядке.
— Ты уверена? Помочь чем-нибудь?
— Нет, правда, все хорошо. — Помолчав, она сказала: — Милый, ты не будешь возражать, если я сегодня вечером поеду к Чарли в Одли-плэйс? Он говорит, что ему там очень одиноко. Ты же знаешь, в доме все напоминает о матери и… В общем, я понимаю, что Чарли имеет в виду. Не возражаешь?
— Езжай, но вернись, пожалуйста к завтраку. У нас останется на ночь целая куча гостей, завтра их надо будет как-то кормить.
— Вернусь.
— Он уже говорил с тобой о своем деле?
— Да. Я послала его подальше.
— Молодчина. Ну ладно… — Он допил свое виски и поставил стакан на стойку бара. — Пойду еще покривляюсь.
Он вернулся в зал.
«О Сильвия… — думала она. — Как бы тебе не пожалеть».
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ
К пяти часам утра уехал последний автобус. Сильвия должна была чувствовать дикую усталость, но, наоборот, она пребывала в состоянии сильного возбуждения. Она положила в сумку ночную рубашку, зубную щетку, платье и, подхватив свою соболью шубу, присоединилась к Чарльзу и Рональду, которые находились в большом зале.
— Ты в самом деле выглядишь глупо в этих дьявольских доспехах, — сказала она, входя. Повернулась к Рональду. — Спокойной ночи, дорогой. Ты очень устал сегодня.
Она поцеловала мужа.
— Да, немного.
— В таком случае иди спать. Увидимся утром.
Взяв брата за руку, она направилась с ним в мраморный холл, в котором много лет назад впервые встретились их родители. Но Сильвия сейчас не думала о прошлом. Она думала о том, что ждет ее этой ночью.
— Сегодня обещают снег, — крикнул им Рональд, когда они уже были в дверях.
Сильвия повернулась к мужу. «Он такой хороший, такой добрый. Не поступай с ним так. Господи, но ведь уже поздно сворачивать в сторону!»
Снаружи было очень холодно. Шофер Чарльза сначала забрал у Сильвии ее сумку, а потом открыл для них заднюю дверцу «роллса».
— Я знаю, что ты надумал, — сказала Сильвия, когда они поехали. — У тебя все написано на лбу. Хочешь охмурить меня, чтобы я отдала тебе свой голос. Можешь не стараться, говорю сразу.
Он пододвинулся к ней и взял ее за руку.
— Мне сейчас абсолютно все равно, поддержишь ты меня или нет, — сказал он.
— Ври кому-нибудь другому, Чарли, — вздохнула она. — В тебе есть что-то воистину от дьявола. Ты испорченный человек.
Он улыбнулся.
— Мы оба испорченные, — прошептал он. — Поэтому-то мы и любим друг друга.
Она закрыла глаза, думая: «Неужели он прав?»
К тому времени, как «роллс» мягко притормозил возле особняка в Одли-плэйс, повалил легкий снежок.
— Мама так любила этот дом, — сказала Сильвия, подходя с братом к парадному крыльцу. — Когда меня грызет тоска по маме, я всегда приезжаю сюда. Нет, конечно, я не верю в призраков, просто считаю, что весь этот дом наполнен воспоминаниями… Здесь в каждом кирпичике память о маме…
— Да, мать была замечательной женщиной, — сказал Чарльз.
— И как это у нее могли родиться такие дети, как мы с тобой? — мрачно проговорила Сильвия, открывая дверь.
Чарльз промолчал.
В гостиной тлел камин. Чарльз скинул пальто, разворошил уголья и подбросил в огонь новых щепок. Сильвия оглядела эту длинную с низким потолком комнату, которая была несколько веков назад маслодельней. Она очень живо помнила мать, была почти одержима памятью о ней. И разрывалась между физическим влечением к брату и чувством вины.
Чарльз смахнул с головы «дьявольский» капюшон и стал расстегивать молнию на спине. Вдруг он прервался, заметив на столе телеграмму. Он подошел, взял ее и пробежал глазами.
— Это от Дианы, — сказал он и начал читать вслух: — «С твоим отцом случился легкий сердечный…
— О Боже! — воскликнула Сильвия.
— …Должно быть, это все из-за твоего предательства…» О, да она не выбирает слов, как я погляжу! «Ты освобожден от своей должности в «Флеминг индастриз», и твой офис опечатан. Отца забрали на самолете в Нью-Йорк в больницу».
Он скомкал телеграмму и швырнул ее в огонь.
— Ну хорошо, — сказал он. — Значит, война! Отлично.
Он взглянул на Сильвию. Она была бледна как мел.
— Это знак… — проговорила она.
— О чем ты?
— У отца сердечный приступ. Это знак от мамы! Я знала, что-то произойдет, как только я переступлю порог этого дома.
— Что произойдет-то? О чем ты, черт возьми?!
— Я знала, что мне нельзя было приезжать сюда! О Чарли, я хочу тебя! Наверно, я всегда тебя хотела с тех самых пор, как узнала, что такое секс! Я не знаю, что это такое… Какое-то дьявольское семя, от которого я никак не могу избавиться, яд, отрава…
— Это не дьявольское семя. И не яд. Это то прекрасное, что связывает нас. Это наша тайная любовь. И плевать мне, как это называется!
— Это называется кровосмешением, Чарли, — ровным голосом проговорила она. — Я иду спать. Одна. Утром я возвращаюсь в Тракс-холл. А ты, если не дурак, поедешь в Нью-Йорк и помиришься с отцом.
— К черту отца! — крикнул Чарльз. — Его время вышло. Настала моя очередь. Всю жизнь я был всего лишь сыном Ника Флеминга! Даже во время войны, сбивая немцев, я не мог отделаться от этого ярлыка! К черту Ника Флеминга! Теперь это всего лишь дряхлый, выживший из ума старик, у которого сейчас даже мотор не работает! — Он выругался. — Он меня, видите ли, отстраняет! Это я его отстраняю!
— Чарли, — тихо проговорила его сестра. — Это наш отец. Мне жаль тебя.
Она стала подниматься по лестнице на второй этаж.
— Иди сюда! — проревел Чарльз.
— Я иду наверх.
— Ты будешь делать только то, что я тебе прикажу! Вернись сюда! Я буду любить тебя прямо здесь на полу перед камином! Я мечтал об этом весь вечер.
— Я не буду! — крикнула она. — И хватит об этом!
— Ты… — Прихрамывая, он стал приближаться к ней. — Вернись сюда.
Она бросилась по лестнице бегом с криком:
— Чарли, хватит! Я сказала, что не буду…
— Ты будешь делать то, что я тебе прикажу. И еще ты будешь голосовать своими акциями за меня.
— Нет!
Он стал подниматься по лестнице настолько быстро, как только позволяла больная нога.
— Теперь я являюсь главой нашей семьи, — говорил он. — Теперь вы все будете исполнять только мои приказы. Если мы проголосуем заодно, нам удастся сбросить этого старика. Тогда я заработаю для всех нас миллионы! Миллиарды! Я удовлетворю все заказы Пентагона, какие только смогу осилить. И еще — у меня кое-какие секретные планы, Сильвия. Пентагону нужны ракеты… Там готовы выложить за них миллиарды долларов! Отец плюет на это. Но когда компания перейдет ко мне, я буду делать эти ракеты для Пентагона! Я буду делать все, что они ни попросят! Неужели ты не видишь, как это выгодно? Пентагон — это вечный двигатель. Он спекулирует на русской угрозе и стращает ею толпу. Мы станем кулаком Пентагона, станем частью этого вечного двигателя. Будем богатеть! Просто, как все гениальное! Но отец встал у нас на дороге. Поэтому нам придется избавиться от него!
Хромая и тяжело дыша, он добрался до конца лестницы. Она стояла у двери одной из спален в самом конце коридора.
— Да, я испорченная, Чарли, — сказала она. — Но я не больна, а ты болен, Чарли! Ты так же болен, как Честер Хилл, но даже он не стремился к уничтожению всего мира! Я рада, что между нами наконец состоялся этот небольшой разговор, если это можно так назвать. Теперь я точно знаю, что творится в твоем расстроенном мозгу. Чарли, ты представляешь собой угрозу. Реальную угрозу! Впервые в жизни я начинаю вполне осознавать все величие нашего отца! И если ты всерьез полагаешь, что я помогу тебе отстранить его от «Флеминг индастриз», то ты не только болен, но еще и глуп! Так что, спокойной ночи. Я запираю дверь на замок.
Она вошла в спальню, захлопнула за собой тяжелую деревянную дверь и повернула железный ключ в старинном железном замке. «Это его остановит, — рассудила она. — Боже мой, он же превратился в буйного психа! А может, просто напился? Впрочем, он говорил во многом правду. Эйзенхауэр назвал это, кажется, «военно-промышленным комплексом». Он предупреждал об этом Америку. Господи, военно-промышленный комплекс — это мой братец! И, наверное, поэтому отец отказывается торговать с Пентагоном. Он тоже все это видит!»
Она включила лампу, и из мрака выступила комната с низким потолком, предназначенная для гостей. Обстановка в ней пребывала в неизменности с тех пор, как этой комнатой занималась Эдвина в середине 30-х. Все здесь было удобно, мягко и непретенциозно. Ситец чехлов на креслах, огромная, с четырьмя набалдашниками на ножках кровать королевы Анны… Все это делало комнату типично английской. Сильвия чувствовала себя здесь в безопасности. Обругав себя за то, что забыла принести снизу свою сумку, она стала снимать с себя драгоценности. Она складывала свои ценные — в случае с «Кровавой луной»: бесценные — камешки в фарфоровое блюдо на каминной полке.
Потом она разобрала постель, которая была накрыта толстым и мягким ковром.
— Не замерзну…
Она села на кровати и сняла свои серебристые туфли-лодочки, затем встала, чтобы снять платье, чулки и трусики. Она бросила одежду на шезлонг у окна и обнаженная, босиком побежала по ковру к постели. Забравшись под одеяло, она натянула его до самого подбородка и расслабилась в уютном тепле.
Вдруг раздался страшный глухой звук!
Она дико закричала, увидев, как деревянную дверь прошибло лезвие огромного топора. Затем оно исчезло.
Снова удар!
— Чарли, ты что?! — крикнула она.
Удар!
— Чарли, прошу тебя!
Удар!
— О Боже… Чарли, прекрати!
После очередного удара в двери образовалась дыра. На пол упали крупные щепы.
Она увидела, как в дыру просунулась его рука и стала нашаривать ключ в замке. Красный рукав костюма Дьявола вызвал в ней ужас. Но она откинула одеяло, вскочила с постели и бросилась к двери, схватив по пути с туалетного столика крючок для застегивания туфель.
— Миллиарды! — услышала она его голос. — Мы будем зарабатывать миллиарды долларов! Сильвия! Подумай о той власти, которая у нас будет! Ракеты, которые мы будем делать, защитят Америку! Мы начиним ими каждый сенной стог в каждом штате! Придет день, и мы сметем Россию с лица земли!
Вот его рука наконец нащупала ключ. Замахнувшись крючком, она вонзила его в тыльную сторону ладони брата и рванула вниз, сдирая кожу. Дико взвыв от боли, Чарльз, однако, не выпустил из руки ключа. Она била его по руке крючком до тех пор, пока она не скрылась вместе с ключом в дыре. Услышав звук поворачивающегося в замке ключа, она отскочила назад. Дверь распахнулась, и на пороге возник Дьявол с ключом в окровавленной правой руке и топором в левой.
Он медленно вошел в спальню.
— Тебе не нужно было запираться от меня, Сильвия, — тихо проговорил он. — Ты хочешь меня так же сильно, как и я тебя. Поэтому ты и приехала сюда со мной.
Она пятилась, не сводя глаз с топора.
— Чарли, пожалуйста, не надо… — умоляюще шептала она. — Не делай глупостей…
Он бросил ключ и топор на пол.
— Я не сделаю тебе больно, если ты на это намекаешь. Я люблю тебя, Сильвия. Я никогда не сделаю тебе больно. — Он стал снимать с себя костюм Дьявола. — Ты не понимаешь. Я делают это для нас всех. Для семьи. Для тебя и меня. Мы с тобой всегда с раннего детства были особенными детьми. Мы были тайными друзьями и тайными любовниками.
Он швырнул костюм на пол. На нем остались только брюки. Он стал их с себя стягивать. Кровь капала ему на ноги и на пол.
— Мы будем заниматься любовью, Сильвия, — продолжал он. — А потом ты поможешь мне. Теперь ты ведь понимаешь, как будет важна твоя помощь, правда? — Он полностью разделся и стоял перед ней обнаженный и забрызганный кровью. — Ты помнила все эти годы тот пруд? Помнишь, как красиво все было? Ты единственная женщина, которую я когда-либо действительно хотел, действительно любил! Я занимался любовью с сотнями женщин, но любил всегда только свою сестру. Ты поможешь мне, правда? Ты поможешь мне, моя любимая Сильвия?..
Он стал приближаться, повернув к ней руки. Она жадно разглядывала его обнаженное тело. Да, да. Да! Она любила его! Она всегда его любила! Она обожала его, ненавидела, а сейчас еще и трепетала перед ним…
Неуловимым движением она замахнулась крючком и вонзила его ему в левый глаз. Душераздирающий вопль наполнил комнату. Чарльз отступил назад и схватился обеими руками за лицо. Она пробежала мимо него, выскочила в коридор и бросилась к лестнице. Его дикие крики подталкивали ее в спину. Накинув на свое обнаженное тело соболью шубу, она бросилась к входной двери.
Выбежала наружу. Плотно валил снег, жег ее босые ноги, но она не обращала внимания. Побежала вдоль темной стены Одли-плэйс по направлению к кухне, мимо комнат слуг, где спали шофер Чарльза и управляющий имением. В одном окне уже горел свет, вот зажегся и в другом. Должно быть, они услышали крики.
«О Чарли, мой Чарли! Прости меня, прости… Но у меня не было выхода!.. Я должна была изгнать из тебя злого духа!.. Ты дьявол, Чарли. Кто-то должен был тебя остановить, иначе ты залил бы кровью весь мир!»
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ
Великолепная старинная мебель сменилась обстановкой больничной палаты, полотна старых мастеров — жалким пейзажем на белой стене. Но Нику было на это наплевать: он был все еще жив, и сегодня утром врач сказал ему, что он сможет выйти из больницы к концу недели.
— Похоже, на этот раз им меня не похоронить, — говорил Ник Диане, которая сидела возле его постели.
— Врач сказал, что если ты будешь себя правильно вести, то проживешь еще очень долго. А уж я позабочусь о том, чтобы ты вел себя правильно.
Он взглянул на нее и улыбнулся.
— Я счастливый человек, — проговорил он. — У меня было три жены, и только одна из них оказалась стервой.
— Забудем о ней. Знаешь, Ник, в последнее время я все размышляю над своей жизнью, которая не была слишком скучной…
— Да уж, — сказал он с улыбкой.
— И пришла к выводу, что в конце концов все обернулось к лучшему. Если бы я вышла за тебя замуж тогда, когда была молодой, мы, наверное, разошлись бы через некоторое время. В те времена мы были слишком своевольны и упрямы, чтобы надолго ужиться вместе. Нет, я в самом деле думаю, что это лучше, что мы поженились значительно позже. Теперь я умудрена опытом прожитой жизни и лучше могу тебя понять.
Он протянул к ней руку, и она взяла ее.
— А я, между прочим, тоже сильно поумнел за свою жизнь и теперь могу вполне оценить тебя, — сказал он. Они улыбнулись друг другу. — Как ты думаешь, врач разрешит мне совершить круиз на «Сизпрей»?
— Уверена, что разрешит. Лучшего отдыха и не найти.
— Тогда почему бы тебе не сказать капитану Гранту, чтобы он привел яхту в Средиземное море? Когда меня выпишут отсюда, мы с тобой полетим в Рим и встретимся с ними в Остии. Месяц поплаваем в Средиземноморье. У берегов Туниса есть островок. Джерба. Я хотел бы на него посмотреть. Советуют вложить деньги в тамошний курортный отель.
— О, неплохо. Я никогда не была в Тунисе.
— Значит, решено.
Он отпустил ее руку и перевел глаза на телевизор. Звук был выведен. На экране раскручивалась бесконечная нить интриги очередной мыльной оперы.
— Я тут думал о Чарльзе, — тихо сказал Ник. — Все никак не пойму, почему вдруг такой удачливый во всем человек, как я, оказался таким бездарным отцом?..
— Ты тут ни при чем, милый. Мне, например, очень нравится Эдди. Прекрасный сын…
— Да, мне тоже. Удивительно, но как раз на него-то я всегда возлагал меньше всего надежд, а оказалось… Но сейчас речь о Чарльзе. Мы с ним никогда не ладили. На несколько лет мы вроде бы заключили перемирие, но у меня было чувство, что это тигр, который только дожидается удобного момента для прыжка. Вот он и прыгнул. Помимо всего прочего это аукнулось мне еще и сердечным приступом.
— А он зато потерял глаз.
— Да, мы, можно сказать, в расчете. Но в этом-то и вся беда. Разве это правильно, когда между отцом и сыном такие отношения? Когда они конкурируют друг с другом?
— Это происходит потому, что ты король, а он был наследным принцем. Почитай историю: наследные принцы всегда строили коварные планы против своих отцов, потому что они сами хотели быть королями.
— Понятно. Ну, во всяком случае, он больше не является наследным принцем. Нет, я не собираюсь делать драматические жесты и вычеркивать его из своего завещания. Чарльз унаследует свою долю, но он никогда больше не переступит порог «Флеминг индастриз». Я считаю, что это достаточное наказание, а?
— Да, согласна. С твоей стороны это и умно, и справедливо.
— Но у Чарльза навязчивая идея насчет «Рамсчайлд». Я сам понимаю, что это неправильно: владеть крупнейшей военной фирмой и отказываться продавать ее продукцию. Нам приходится увольнять сотни рабочих — это несправедливо по отношению к ним. Что ты скажешь, если я решу продать компанию? Тебя это не заденет? Ведь предприятие основано твоим дедом.
Она задумалась на минуту, потом сказала:
— Нет. Когда мой дед задумывал «Рамсчайлд», войны были кровавые, но в те времена еще можно было победить в войне. Теперь это немыслимо. Если уж ты спрашиваешь меня, то я буду только счастлива, если мой муж выйдет из военного бизнеса.
— Отлично. Тогда мы ее продадим. Я тоже почувствую немалое облегчение, избавившись от компании. — Он как-то погрустнел. — А когда-то я гордился ею. Но тогда я гордился и Америкой. Теперь о подобных вещах и говорить не приходится.
— А я лично горжусь тобой, — сказала Диана.
Они взялись за руки.
— Я очень счастлив, — тихо проговорил он. — Правда.
Она улыбнулась:
— Я тоже.
Они на самом деле очень любили друг друга.
— Время ленча, мистер Флеминг, — весело проворковала медсестра, вкатывая столик на колесах с завтраком. — А на десерт лимонное желе!
Она сняла со стола поднос и поставила ему на колени. Он поморщился.
— Включите-ка звук, — попросил Ник. — Сейчас новости.
— Они все время ради своих новостей прерывают хорошие передачи, — проворчала медсестра, включая звук.
«Сегодня, — говорил комментатор, — Пентагон сообщил о начале новой серии ядерных испытаний в Неваде. Водородная бомба, как объявлено, будет в тысячу раз мощнее той, что была сброшена на Хиросиму в 1945 году».
На экране появилось изображение пустыни. Сверкнула вспышка света, послышался гул, переросший в рев, и затем в небо стало подниматься уже знакомое грибовидное облако.
Ник потрясенно наблюдал за этой генеральной репетицией конца света. Он уже точно знал, что поступит правильно, выйдя из военного бизнеса. Это будет его последний и самый лучший подарок миру. Правда, он тут же подумал о том, что с самого начала не стоило залезать в военный бизнес так глубоко…
Чарльза провели во внушительный, обшитый деревом офис в здании Пентагона. Из-за стола поднялся генерал-лейтенант Брюс Вандеркамп и пошел пожать Флемингу руку. За столом было два флага: национальный американский и штандарт министерства обороны.
— Рад вас видеть, Чарли, — сказал тучный генерал, тряся руку Флеминга. — Я слышал о несчастном случае с вашим глазом. Очень сожалею и сочувствую. Чем это вас так? Рыболовным крючком, что ли?
— Да. Во время моей поездки в Англию. Ловил рыбу на спиннинг, и вот — не повезло.
— Должно быть, зверски больно было, а? Присаживайтесь. Я слышал, ваш отец выставил «Рамсчайлд» на продажу?
Чарльз с черной повязкой на лице опустился на стул перед массивным столом генерала.
— Да, поэтому я и пришел сюда, Брюс. Я хочу купить компанию.
— Что ж, мы были бы только рады этому, Чарли. Не секрет, что нам туговато приходится с вашим отцом. Компания же «Рамсчайлд» нужна нам как воздух! Эти тупоголовые дураки из Вьетнама задали нам такую работку, какой мы и ждать от них не могли. Нам нужно больше патронов, больше автоматов, больше танков… — После паузы он неуверенно спросил: — Но захочет ли он продать вам компанию? Мы слышали, что вы не очень-то ладите между собой, а?
— Эту проблему я беру на себя, — сурово и спокойно ответил Чарльз. — Имейте в виду, что у вас не будет никаких забот с того самого дня, когда я вступлю в управление компанией. Я дам вам все, что вы ни попросите.
— О, нам это известно, Чарли! Мы вам полностью доверяем.
— Надеюсь, вы согласитесь со мной, что компания «Рамсчайлд» — важная составляющая обороноспособности Америки?
— Конечно! Жизненно важная составляющая! Потому-то мы и огорчены тем, что у нас не получается сотрудничество с вашим отцом.
— В таком случае, дадите ли вы мне в долг полмиллиарда долларов? Отец хочет за «Рамсчайлд» миллиард. Если мне удастся получить одну половину от правительства, вторую я постараюсь собрать самостоятельно.
Генерал и глазом не моргнул.
— Заем может быть предоставлен, Чарли. Не сомневайтесь.
Чарльз поднялся со стула, улыбаясь. Он наклонился над столом, чтобы пожать генералу руку.
— Тогда по рукам, Брюс? — спросил он.
— По рукам.
Офис располагался в Женеве на пятом этаже небоскреба из стали и стекла, и окна его выходили на озеро. На двери приемной была табличка на французском: «Организация международных дел». Обстановка в кабинете была шикарной. Секретарь подвела Чарльза к одной из дверей с надписью «Магомет-бей Али». Она открыла дверь, и Чарльз вошел в просторный кабинет, из окон которого открывались чудесные виды Женевского озера и удаленных снежных вершин Альп. За современным письменным столом стоял очень высокий, солидный мужчина средних лет с черными волосами и усиками а-ля Адольф Гитлер. На нем был дорогой костюм темного цвета. На безымянном пальце его правой руки красовался большой перстень с бриллиантом. Когда секретарь вышла из кабинета, Чарльз обменялся рукопожатием с его хозяином.
— Счастлив познакомиться с вами, мистер Флеминг, — сказал Магомет Али по-английски с легким турецким акцентом. — Прошу вас, присаживайтесь. — Он указал на кожаный диван, стоявший у окна.
Чарльз сел. Магомет Али взял с мраморной поверхности стола серебряный портсигар и открыл крышку.
— Сигарету? Отличный турецкий табак!
— Нет, благодарю, я не курю.
— Разумно. Если бы мне удалось избавиться от этой привычки! Но удовольствие, которое дарит табак… — Он пожал плечами. — Не возражаете, если я закурю?
— Конечно нет.
— Благодарю.
Он вынул из портсигара тонкую сигарету, бросил портсигар на стол, прикурил от латунной зажигалки, с наслаждением выдохнул первый дым.
— Вы оказались правы, мистер Флеминг, — сказал он. — Я просмотрел архивы семьи. В 1922 году некая Диана Рамсчайлд… Насколько мне известно, ныне она ваша мачеха?
— Совершенно верно.
— Так вот, в 1922 году мисс Рамсчайлд заключила… соглашение с моим дедом. Она заплатила тысячу фунтов стерлингов. Для тех лет это приличные деньги. Если перевести на сегодняшние доллары, то получится где-то двадцать или тридцать тысяч, если не ошибаюсь.
— Не ошибаетесь. Однако со стороны вашей семьи это соглашение так и не было выполнено. Мой отец остался жив, а вместо него убили киноактера Рода Нормана, который был на него внешне похож.
— Верно. Ошибка, но ошибка, которую можно понять. Ваша мачеха написала раздраженное письмо, в котором жаловалась на то, что наша семья не выполнила договорных условий. Однако мой дед считал, что работа сделана. К тому же тот человек, которого дел послал в Лос-Анджелес, решил там остаться и открыл свой ресторанчик в Сан-Диего. Словом, обстоятельства сложились таким образом, что мы обо всем забыли.
— И вы полагаете, что поступили честно?
Магомет Али покачал головой.
— Нет. Моя семья имеет очень хорошую репутацию. Обычно мы не работаем так небрежно. Но в те годы попасть в Лос-Анджелес из Турции было непросто. Да и войны шли… — Он развел руками. — Словом, вина наша.
— В таком случае — за вами долг. Мне кажется, что вам нужно-таки устроить смерть Ника Флеминга.
Глаза турка удивленно раскрылись.
— Но ведь он является вашим отцом, — сказал он.
Чарльз кивнул:
— Верно. В конце недели его яхта встанет на якорь у Джербы. Это остров вблизи тунисского побережья. На палубе постоянно находятся два вооруженных охранника, но, на мой взгляд, отец будет вполне доступен.
Магомет Али затянулся и стряхнул пепел в мраморную пепельницу.
— Ну что ж, мистер Флеминг. Можете попрощаться со своим отцом.
Чарльз поднялся с дивана.
— Я с ним уже попрощался, — сказал он.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ
Диана стояла на палубе «Сизпрей» и наблюдала в оптические стекла за человеком на пляже, который в свою очередь смотрел на нее в свой бинокль. Потом он опустил бинокль. «Где-то я видела этого человека, — подумала она, опуская свой. — Но где?!» Он был около шести футов роста, стройный, с белесыми волосами, что придавало ему внешность немца или скандинава. Где? Вот он отвернулся и стал уходить с пляжа.
К ней подошел матрос:
— Вертолет готов, миссис Флеминг.
Диана выкинула из головы светловолосого незнакомца.
— Я только схожу попрощаюсь с мистером Флемингом и вернусь.
— Хорошо, мэм.
Она спустилась с палубы, прошла через кабинет в их с мужем спальню. Ник сидел на кровати. После сердечного приступа он вынужден был больше отдыхать и сильно постарел, что очень огорчало Диану. Ник, которого она любила вот уже столько лет, стал совсем стариком. По иронии судьбы, сама Диана, которая была всего на шесть лет его младше, выглядела гораздо моложе своих лет из-за той операции по пересадке кожи на лице.
— Ты вернешься завтра? — спросил он, когда она подошла к нему.
— Да, если только врач не успеет сделать все сегодня, в чем я сомневаюсь. Когда я была у него в прошлый раз, он сказал, что в следующий визит сделает небольшую операцию на деснах. Я заказала на ночь номер в «Хасслере». — Она наклонилась и поцеловала его. — Как ты себя сегодня чувствуешь? — спросила она.
— Прекрасно. Но я буду по тебе скучать.
— А я по тебе, милый. Но я скоро вернусь. Когда мы отправимся на Мальту?
— Завтра, как только ты вернешься. Я уже увидел здесь все, что хотел увидеть.
— Отлично. Я никогда не была на Мальте. — Она стиснула его руку и улыбнулась. — До свидания, любовь моя. До завтра.
— До свидания, любимая.
Она подошла к двери и обернулась, чтобы еще раз взглянуть на мужа. Он поднял свою правую руку и скрестил на ней пальцы. Этот простой и даже глупый тайный знак любви, изобретенный им много лет назад, никогда не терял для нее своего значения.
Она тоже скрестила пальцы на руке, послала воздушный поцелуй, вышла из каюты и поднялась на корму, где ожидал вертолет, готовый вылететь в Тунис.
Едва часы пробили час ночи, как Диана вдруг резко села на постели в своем номере в римском отеле «Хасслер».
Вернер Герцер!
Это имя пришло к ней во сне, и оно ассоциировалось с лицом человека, которого она видела с палубы яхты. Он стоял на пляже и разглядывал в бинокль «Сизпрей». Лейтенант Вернер Герцер!.. Сколько раз она видела его в зале «Семирамиды» потягивающим пиво и плотоядно косящимся на танцующих обнаженных шоу-герлз! Вернер Герцер, служивший у генерала фон Штольца командиром расстрельной команды! Человек, которому нравилась его работа…
Зачем понадобилось Вернеру Герцеру наблюдать в бинокль за «Сизпрей»?
Она все поняла, и ее охватила паника.
Включив свет, она схватила телефонный аппарат.
— Восьмой номер, — сказала она в трубку. — Быстрее!
Она едва удерживалась от крика нетерпения и тревоги, пока ждала ответа.
— Да? — раздался в трубке заспанный голос Грегори Хардвика. Этот шотландец пилотировал личный самолет Флеминга, на котором Диана прилетела из Туниса в Рим.
— Грег, это миссис Флеминг. Одевайтесь и как можно скорее спускайтесь в вестибюль! Мы должны немедленно отправиться назад в Тунис!
— Но…
— Никаких вопросов! Делайте, что вам говорят!
Она швырнула трубку на аппарат и вскочила с постели. Диана, которая всегда отличалась вежливостью в общении с подчиненными, теперь была слишком напугана, чтобы выбирать выражения. Она бросилась в ванную, моля Бога о том, чтобы ее тревога оказалась беспочвенной.
Но, с другой стороны, она знала, зачем Вернер Герцер наблюдал в бинокль за яхтой!
* * *
Когда они поднялись по трапу самолета в аэропорту «Фьюмичино», Диана сказала:
— Свяжитесь по рации с капитаном Грантом. Спросите, все ли у них там в порядке, и если так, то предупредите, что, возможно, на яхту попытается проникнуть наемный убийца. Пусть Грант растолкает охрану!
— Хорошо.
Диана нетерпеливыми шагами мерила салон их роскошного самолета, рассчитанного на двенадцать пассажиров, пока Грегори вызывал «Сизпрей». Когда она услышала сонный голос радиста с яхты, то бросилась в кабину к Грегу.
— Кто на связи? — крикнула она.
— Гордон.
— Скажите ему, чтобы он срочно разыскал капитана… Нет! Пусть он проверит мистера Флеминга! Пусть он посмотрит, все ли в порядке.
Она была очень взволнованна, мысли путались.
«Успокойся!» — говорила она себе, возвращаясь в салон.
— Миссис Флеминг!
Тон, которым он позвал ее, все сказал ей лучше слов. Она бегом бросилась назад в кабину. Лицо Грега Хардвика было мертвенно-бледным.
— Случилась беда, — проговорил он. — Мистер Флеминг… мертв.
Она не закричала и не забилась в истерике. Просто ее руки судорожно сжались в кулаки.
— Как это произошло? — тихо спросила она.
— Он был застрелен. В голову. Одного из охранников тоже убили. Вы думаете, что это сделал кто-нибудь из команды?
Она покачала головой:
— Нет, это подосланный убийца. Скажите им, чтобы они ничего не трогали до нашего прибытия. Когда взлетим, свяжитесь с Интерполом в Париже. Скажите, чтобы они искали человека по имени Вернер Герцер, который во время войны был лейтенантом вермахта. Ему около сорока. Очень светлые волосы…
Из глаз ее хлынули слезы. Она вынула из сумочки носовой платок и вытерла глаза.
— Могу я вам чем-нибудь помочь? — спросил Грег.
— Нет… Все нормально.
Она вернулась в салон и села. Грег запустил моторы.
Только сейчас к ней пришло осознание того, что убит ее любимый. Самая большая любовь в ее наполненной страданиями жизни.
Самолет разогнался по взлетной полосе и оторвался от земли.
Диана рыдала.
Когда вертолет совершил посадку на корме «Сизпрей», на Джербе вставала заря. Встречали Диану на палубе капитан Грант и несколько членов команды. Пропеллер наконец остановился, и Диана спустилась на палубу. Она осмотрелась. В нескольких футах от плавательного бассейна лежал убитый охранник. Его тело было прикрыто брезентом. Она подошла к капитану Гранту, седовласому лондонцу, который работал на Ника с тех самых пор, как яхта впервые была спущена на воду. Он козырнул Диане и пожал ей руку.
— Примите мои искренние соболезнования, миссис Флеминг, — проговорил он. Она молча кивнула, пытаясь еще сдерживать свои чувства. — Полиция с Джербы сняла отпечатки пальцев и сделала несколько снимков, — сказал капитан. — Но они не трогали тело мистера Флеминга, как вы просили.
Ветерок задувал поля ее шляпы. Она придержала их рукой.
— Кто из охранников убит? — спросила она.
— Нико Теодорополис.
— Вы сообщили его жене?
— Пока нет.
— Когда будете с ней связываться, сообщите, что я вышлю ей чек на сто тысяч долларов. Но не передавайте ей мои соболезнования. Если бы он хорошо знал свое дело, то сохранил бы жизнь и себе, и моему мужу. Второго охранника уволить.
— Хорошо, миссис Флеминг.
— А теперь я хочу видеть мужа. Прошу не беспокоить меня в течение часа.
— Хорошо, миссис Флеминг.
Вся команда безмолвно наблюдала за тем, как эта замечательно красивая женщина в синем костюме и белой шляпке спустилась с палубы в каюту. Она прошла в кабинет, положила там на стул сумочку и шляпу, подошла к двери в спальню, но открыла ее не сразу. Может ли случиться чудо? Вдруг ее Ник сидит на кровати и улыбается ей? Неужели этот кошмар реален?..
Она открыла дверь и вошла в спальню.
Здесь было тихо и покойно. Все было в порядке, не было заметно никаких следов борьбы. Медленно она направилась к кровати.
Казалось, он жив и просто спит. Лицо его было безмятежно. Не сразу Диана обратила внимание на пулевое отверстие над левым глазом и кровь на подушке. Любовь к этому человеку составляла существо ее жизни. Она сначала полюбила, потом потеряла любовь и много лет боролась за то, чтобы вновь обрести ее. А теперь ее вырвали у нее из рук.
— Ник, — прошептала она, — мой любимый, моя любовь! Я отплачу ему за тебя… Я… — Она подошла еще ближе к кровати и закрыла лицо руками. — Это моя вина! Мне не следовало рассказывать Файне о том, что однажды я наняла убийцу… Она сообщила об этом всем в семье, и тогда ему взбрело в голову… Но я даже представить себе не могла! О Ник, о Боже!..
Она взяла его мертвую руку и разрыдалась.
— Ты был моей жизнью, — шептала она. — Ты всем для меня был! Как же я смогу жить дальше без тебя?!
Она вытерла слезы рукавом и отпустила его руку Потом она наклонилась и поцеловала его.
— Помнишь тот день много-много лет назад, когда мы впервые познали любовь в том пустом доме на пляже пролива? Ты говорил тогда, что наша любовь вечна. Ты сказал правду, милый. Правду.
Она провела рукой по его волосам.
Потом она еще долго расхаживала по спальне, не зная, что делать, не имея сил покинуть мертвого мужа.
Внезапно скорбь уступила место ярости.
— Чарльз!!! — вскричала она. — Ты заплатишь за это! Ты заплатишь!
Давая выход своим чувствам, она ухватилась за штору, закрывавшую один из иллюминаторов, и в ярости сорвала ее. Она раздирала ее в клочья и продолжала кричать.
Матросы встревоженно переглядывались и думали: уж не сошла ли с ума миссис Флеминг?
Дафни Пирс Флеминг вовсе не была «сучкой», как называла ее Сильвия. Дафни была слишком глупой, чтобы быть сучкой. Она была смазливой дочкой состоятельного биржевого дельца, ходила в богатые частные школы. Дафни никогда не мечтала о мужчине-супермене. Да они никогда и не поражали ее воображение до тех пор, пока она не встретила Чарльза Флеминга. Она влюбилась в Чарльза, но вместе с тем почти что влюбилась в отца Чарльза. Поэтому она тяжело переживала их ссору.
Когда пришло известие об убийстве ее свекра, Дафни была просто раздавлена горем. Она истерично рыдала, пока муж не обернулся к ней и не крикнул:
— Может быть, ты наконец заткнешься? Твои слезы не вернут к жизни старого ублюдка!
С этими словами он вышел из их квартиры-дуплекса на Пятой авеню, громко хлопнув дверью.
Дафни была потрясена словами Чарльза. Впрочем, она всегда плохо понимала своего мужа.
Спустя четыре дня после похорон, когда Дафни одевалась к обеду, куда она была приглашена с Чарльзом, в дверь ее спальни постучал слуга Уэйтс.
— Миссис Флеминг! Мистер Чарльз Флеминг случайно не у вас? — спросил слуга, уроженец Барбадоса.
Дафни надела жемчужное ожерелье и пошла открыть дверь.
— Он принимает душ, — сказала она.
— К нему пришла миссис Флеминг-старшая. Она ожидает в гостиной.
Дафни — у нее были золотисто-белокурые волосы и проблемы с лишним весом — вдруг испугалась.
— Миссис Флеминг?.. О, конечно, я пойду скажу ему. Вы, надеюсь, предложили ей что-нибудь выпить?
— Да, мэм, но она отказалась. Сказала, что просто подождет. Сказала, что хочет видеть мистера Чарльза наедине.
— О…
Понизив голос, Уэйтс добавил:
— Это очень строгая леди, да? Вид у нее что-то… недоброжелательный.
Дафни холодно взглянула на слугу:
— Миссис Флеминг очень добрая леди, Уэйтс.
— Как скажете, мэм.
— А вы можете теперь идти домой.
— Да, мэм, спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
Дафни закрыла дверь, прошла к ванной Чарльза и постучалась к нему.
— Что такое? — отозвался он.
— Дорогой, пришла твоя мачеха. Она хочет увидеться с тобой.
Чарльз — в это время уже вытиравшийся взглянул на свое отражение в запотевшем зеркале.
«Диана? Черт, неужели она подозревает?..»
Спустя десять минут он вошел в гостиную. Горела только настольная лампа. Диана стояла в дальнем конце этой длинной комнаты у окна и любовалась замечательным видом на Центральный парк. Вдали весело мерцали огни «Сентрал парк вест». В ночном небе над Гудзоном летел самолет: слышался шум моторов, и горели бортовые огни. В гостиной было сумрачно, и Чарльз едва разглядел свою мачеху.
— Слишком интимное освещение, — сказал он, потянувшись к выключателю.
— Не включай свет, — сказала она тоном приказа. Потом добавила: — Мне нравится смотреть на парк.
— Но я тебя не вижу.
— Половину своей жизни я проходила, пряча лицо под вуалью. Я привыкла быть невидимкой и даже полюбила это. Садись, Чарльз. Нам есть о чем поговорить.
Он нерешительно прошел к столу, на котором горела лампа, и опустился на стул.
— Я любила твоего отца всем сердцем, — спокойно начала она. — Это был настоящий человек. О, разумеется, он совершал в жизни ошибки. Причинял людям боль. Много лет назад он жестоко обошелся со мной, и я думала, что никогда не прощу ему. Но я простила, потому что любила. Ты знаешь, что такое любовь, Чарльз?
Он ответил не сразу.
— М-м… думаю, что знаю об этом не меньше других.
— Ты ведь любишь Сильвию, не так ли?
— Конечно. Она моя сестра.
— После похорон у меня состоялся длинный разговор с ней. Она убита горем. Она расплакалась. А потом рассказала мне все о том вечере в Одли-плэйс. Она рассказала о том, что ты там говорил… и что делал.
Чарльз напружинился:
— Сильвия лжет. Она лгала всю свою жизнь.
— Разве? А ты всегда говорил только правду?
— Что бы ни случилось между мной и Сильвией — это наше дело, а не твое. И я вовсе не собираюсь терпеть тут твои нападки.
— Я разве нападаю на тебя, Чарльз?
Он судорожно сглотнул:
— Я… э-э… Я все же хотел бы включить свет.
— Очень хорошо.
Он следил за ней, пока она шла от окна к выключателю. Вспыхнул свет. На ней было черное платье, а поверх него норковая накидка. В руке она держала пистолет.
Чарльз стал приподниматься со стула.
— Не дергайся, — приказала она. — И не вздумай кричать, иначе я выпущу из тебя мозги.
Чарльза прошиб пот. Он тяжело плюхнулся обратно на стул.
Она обогнула стол и подошла к Чарльзу ближе.
— Нам поступило предложение продать «Рамсчайлд» за один миллиард долларов, — сказала она. — Предложение пришло из одного синдиката, во главе которого стоит некий техасский нефтепромышленник Лестер Китинг. Но у меня ощущение, что Китинг — это ширма, Чарльз. Я думаю, что синдикат — это ты. Я права?
Он не мог оторвать глаз от дула пистолета.
— Я не понимаю, о чем ты тут говоришь. И я собираюсь вызвать полицию…
— Ты ничего не собираешься сделать, — прервала она его. — В противном случае я тебя застрелю.
— Прошу тебя, Диана…
— Заткнись. Ты презренная и отвратительная тварь, Чарльз. То, что ты сделал с Сильвией, — мерзко.
— Посмотри лучше, что она со мной сделала! Я лишился глаза!
— Жалею лишь о том, что она тогда тебя не убила. Так или иначе, стоишь ты за этим синдикатом или нет — уже не важно. «Рамсчайлд» не продается.
— Что?!
— Жаль разочаровывать тебя, Чарльз. Твой отец хотел выйти из военного бизнеса. Это бизнес смерти. Он всегда был бизнесменом смерти, но теперь речь идет о гибели всей планеты. Тебя это, конечно, не волнует, но это волновало твоего отца, который был порядочным человеком. За несколько дней до своей смерти он сказал мне, что совершил ошибку. Ошибка состояла в его прежнем решении выставить «Рамсчайлд» на продажу. Он знал, что новый владелец будет делать для Пентагона ракеты. Ник сказал мне: «Мы оставим «Рамсчайлд» у себя, но перепрофилируем компанию на выпуск мирной продукции. Это будет предприятие тяжелого машиностроения». Именно это мы и собираемся сделать, Чарльз. Мы перекуем мечи на орала. Может быть, это послужит хорошим примером для других военных компаний. Я, конечно, в этом сомневаюсь, но попытаться стоит.
С него градом лил пот. Она стояла прямо перед ним, и дуло пистолета смотрело ему в лоб.
— И последний вопрос, который требует разрешения: кто убил Ника Флеминга? Кто убил моего любимого?
— Диана, прошу тебя, убери пистолет…
— А зачем? Ты так любишь делать и продавать оружие, Чарльз. По-моему, тебе стоит испытать на себе качество товара, на который ты так много ставишь.
— Ты не можешь вот так просто убить меня…
— Еще как могу! Я очень серьезная женщина, Чарльз. Я умею горячо любить, но и горячо ненавидеть. Кто-то отдал распоряжение убить моего мужа. Сильвия полагает, что это был ты. Эдвард придерживается того же мнения, хотя и считает, что мы никогда не сможем это доказать. Я долго думала над этим и тоже пришла к выводу, что это был ты, Чарльз. Я права?
— Конечно нет. Да, мы с отцом враждовали, но я никогда не убил бы его. Это ты пыталась однажды убить его! Это ты убийца, Диана, а вовсе не я.
— Ты прав, Чарльз, — тихо проговорила она. — Я убийца. Я буду нажимать на спусковой крючок, Чарльз, медленно-медленно… Очень медленно…
Чарльз зарыдал:
— Ради Бога, прояви хоть каплю милосердия, Диана! Я невиновен! О Господи, ты не можешь убить меня так спокойно…
— А кто тебе сказал, что я спокойна? Во мне сейчас все клокочет, Чарльз. Я любила твоего отца больше жизни, а ты убил его.
— Я не убивал!!! — заорал он. — Дафни, на помощь! Дафни!!! О Боже… не надо… не надо… О Господи, прошу тебя!
Она уткнула дуло ему в лоб. Он ощутил прикосновение холодного металла.
— Дафни!!!
— До свиданья, Чарльз.
Раздался щелчок.
Диана отошла на шаг назад. Весь дрожа и потея, Чарльз медленно открыл глаза. Она бросила пистолет ему на колени.
— Там не было патронов, — сказала она. — Но в следующий раз… — Она чуть улыбнулась. — Боюсь, отныне у тебя будет бессонница, Чарльз. Ведь ты не будешь знать, когда это произойдет с тобой и как. Всякий раз, заметив незнакомца, наблюдающего за тобой, ты будешь дрожать от страха, потому что он может оказаться моим наемником, который отомстит за то, что ты убил мою любовь.
— Чарли, что случилось?
В дверях гостиной показалась Дафни. Ее муж вскочил.
— Она пыталась убить меня! — крикнул он нервно. — Она пыталась запугать меня!
Диана уже была в дверях.
— Запомни, Чарльз: ты никогда не будешь знать — кто, где и когда.
С этими словами она вышла из квартиры.
«Нет, Ник, — думала она, спускаясь на лифте, — я не собираюсь убивать твоего сына. Но Чарльз никогда об этом не узнает. Пусть трясется каждую минуту своей презренной жизни. Может быть, это будет ему самым лучшим наказанием. Но я не убью его, хватит с меня этого».
Она вышла из вестибюля на Пятую авеню. Дул порывистый ветер, было холодно. Машина ждала ее у подъезда, но она хотела пройтись немного пешком и побыть со своими мыслями наедине.
— Езжай следом, — сказала она шоферу, которого взяли на работу совсем недавно.
— Хорошо, миссис Флеминг.
Миссис Флеминг… Всю основную часть своей жизни она хотела быть миссис Флеминг и наконец добилась своего. Диана медленно шла по тротуару и вспоминала яркого и остроумного молодого человека, с которым она познакомилась в Коннектикуте столько лет назад. «Ник, милый мой, любимый, любовь моя, — думала она. — Прости мне мои ошибки. Прости мою былую ненависть. Спасибо за твою любовь, явившуюся главным сокровищем в моей жизни. Я буду продолжать твою борьбу за мир, против войны и всеобщего уничтожения. Я сделаю все, что в моих силах, милый, но мне так будет тебя недоставать!..»
Шофер, ехавший сбоку от Дианы в длинном лимузине, никак не мог понять: почему эта женщина, которая имеет в жизни абсолютно все, плачет?..
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Номерной — зашифрованный, для сокрытия имени вкладчика. (Здесь и далее примеч. перев.)
(обратно)2
Беи из рода Хусейнидов, правители Туниса с 1705 г. Тунис тогда входил в состав Османской империи.
(обратно)3
Перефразированная цитата из Шекспира: «Скромность — имя твое, женщина».
(обратно)4
Государственный переворот (фр.).
(обратно)5
Так называемый (фр.).
(обратно)6
Темная, подозрительная (фр.).
(обратно)7
Свободна, незанята (фр.).
(обратно)8
Злорадство (нем.).
(обратно)9
Спарроу — sparrow — воробей (англ.).
(обратно)10
Лазы — в прошлом одно из грузинских племен.
(обратно)11
Огороженная территория вокруг фабрики, конторы и т. д. европейцев на Востоке (англ.).
(обратно)12
Ататюрк — отец турок.
(обратно)13
День провозглашения независимости США.
(обратно)14
Баварская карточная игра в три руки.
(обратно)15
Комната допросов (нем.).
(обратно)16
RAF (Royal Air Forces) — ВВС Великобритании.
(обратно)17
Shit — дерьмо (англ.).
(обратно)18
El toro — бык (исп.).
(обратно)19
Более роялист, чем сам король (фр.).
(обратно)


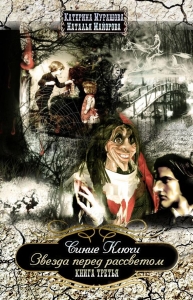

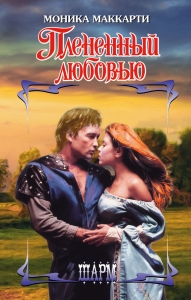
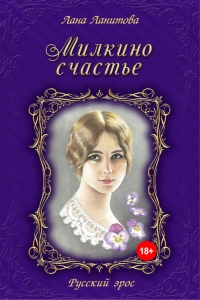
Комментарии к книге «Титан», Фред Мустард Стюарт
Всего 0 комментариев