Кальман Миксат
ВЫБОРЫ В ВЕНГРИИ
Перевод О. К. Россиянова
БЕСПОКОЙНАЯ ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ПАДЕНИЕ И ВОЗВЫШЕНИЕ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА ГОСПОДИНА ДЕПУТАТА МЕНЬХЕРТА КАТАНГИ
ГЛАВА, КОТОРАЯ НЕ ОТНОСИТСЯ К РОМАНУ
Вот уже два или три года, как в газете «Пешти хирлап» * стали появляться письма Меньхерта Катанги к его жене Кларе. И публика (ох, эта неблагодарная публика!) жадно на них набросилась, а меня, который столько лет забавлял ее фельетонами о парламентских прениях, забыла начисто.
У меня это настоящую ревность вызвало. Да кто он такой, этот Катанги? Пишет, правда, неплохо; но все равно — как он смеет? Неплохо писать у нас не принято, а значит — нельзя.
Словом, меня просто зло взяло, и я сразу нашел в нем тысячи недостатков.
Во-первых, хвастун: все время твердит, что он член парламентской комиссии по наблюдению за соблюдением.
Во-вторых, обманщик: жене своей голову морочит, будто квартиру никак не может снять.
А этого, извините, я уж не терплю. Человек, который жену свою обманывает, по мне, так не лучше собаки.
Да и у самих депутатов письма эти возбудили живейшее негодование.
— Что он делает, этот человек! Он же всех нас погубит!
Супруги депутатов из провинции вообразили, что это времяпрепровождение их мужей описывается, и не одному из них пришлось услышать:
— Небось это ты письма в газету пишешь, бесстыдник?
Жены стали требовать отвезти их в столицу, чтобы не сидеть дома соломенными вдовушками: над ними и так уже все смеются и «Кларочками» называют. Сотни женщин вдруг ощутили себя госпожами Катанги. Словом, форменный мятеж поднялся, и в редакцию «Пешти хирлап» явилась целая депутация парламентских мужей, прося прекратить публикацию писем.
В редакции их любезно заверили, что примут все меры.
И приняли: повысили автору гонорар. После чего злополучные письма стали появляться еще чаще. Сам Катанги, впрочем ни разу их не приносил, а передавал с посыльным. Или же с рукописью являлся какой-то смахивающий на ремесленника пожилой субъект — ужасный говорун и почти всегда под мухой. Он битый час мог толковать про своего хозяина, каждый раз кончая словами:
— Я тот самый Михай Варга, который на том свете побывал.
Над ним, конечно, смеялись *, но многим запало в память, как старик, говоря о хозяине, вдруг иногда остановится и, мрачно уставясь в землю, бормочет загадочно:
— У, он тертый калач… Я бы мог порассказать, если б захотел. Но я такой, не люблю болтать.
Однако болтал он без умолку и, даже спускаясь по лестнице, разглагольствовал сам с собой — или песенку мурлыкал под нос, все одну и ту же. Просто невозможно было не запомнить:
Эх, винцо у Ширьяи! Хлещет ведьма Дужаи, И красотка Эняи, И толстуха Беняи.Уже и зима прошла, Катанги прославиться успел, а в редакции так никто его и не видел.
— Странно все-таки, что он даже носу не кажет, — раздумывали сотрудники. — Может быть, его и не существует вовсе, этого Катанги?
Тем временем стали поступать письма на его имя. В рубрике «Редакционная почта» появилось уведомление: «В редакции имеются письма для г-на Катанги». Но за ними никто не шел — даже Михай Варга. В конце концов (а вдруг это материал, присланный для газеты?) редактор вскрыл их и увидел: одно письмо из Пожоня, другое из Коложвара *; почерк разный, но оба подписаны одинаково: «Твоя верная Кларочка».
Ого! Значит, Катанги двоеженец? Тут сенсацией пахнет. Кто же наконец этот человек? Но может, это не настоящие, а вымышленные жены — из тех дам-патриоток, что балуются литературой и на шутку не прочь ответить шуткой?
Не исключено также, что Катанги вообще не женат и у него даже и одной-то Клары нет, а жене он адресует свои парламентские отчеты только для виду. Но как это может быть, если Феньвеши * с его дочерью обручен? Значит, и Феньвеши вымышленная личность? Сам черт не разберет. Просто ум за разум заходит от всей этой путаницы. А тут еще из провинции письма и открытки посыпались с вопросами:
Существует ли в действительности Меньхерт Катанги?
От какого округа он избран в парламент?
Где, в каком комитате, в каком селе или городе проживает госпожа Катанги? Просьба в ближайшем номере подтвердить, также получение последнего письма.
Верно ли, что под именем Катанги скрывается наш даровитый писатель Кальман Миксат?
На все эти вопросы в «Редакционной почте» с большим терпением и осмотрительностью отвечал гениальнейший мастер этого дела и мой друг редактор Геза Кенеди *. Где упрется, где отопрется, а где отшутится, если уж больше делать нечего.
Но меня последний вопрос привел просто в ярость.
Я автор этих писем? Я доброе имя своих коллег-депутатов порочу перед их законными женами? Нет, хватит! Это уж слишком. Не позволю больше этому разбойнику витать где-то между бытием и небытием. Я не я буду, если на чистую воду его не выведу.
Но отчасти мое раздражение обратилось и против публики.
Как это может прийти в голову, что известного политика, члена законодательного корпуса на свете не существует? Такое можно еще о тех господах предположить, которые «на страницах печати» приносят публичную благодарность за пилюли от печеночной колики или за какой-нибудь там грудной эликсир. Но усомниться в существовании Катанги — для этого совсем безголовым надо быть.
Но что я — тысяча извинений за такое выражение! Ведь этак мы рискуем оскорбить одно старинное и многочисленное сословие.
День добрый, дорогие знакомцы, вы, что всегда были и будете, чьи мозги всегда чуть-чуть набекрень! Я было и не признал вас. Мое почтение!
Это вы во время оно слухи сеяли, будто Янош Хуняди — сын короля Жигмонда; вы потом планы строили, как бы Яноша Корвина на его мачехе, Беатрисе, женить и на трон посадить *.
Узнаю вас, милые упрямцы; мозги у вас и до сих пор чуточку набекрень — только теперь вы Ференца Кошута хотите женить на какой-нибудь эрцгерцогине, чтобы наш государь Франц-Иосиф тут же полкоролевства ему отписал *.
Вы неизменны, вы верны себе. Цивилизация может сколько угодно громыхать своими железными дорогами и типографскими станками — вам все нипочем. Да и зачем вам меняться? Вы от этого только проиграли бы — вы, счастливейший класс Венгрии!
Вы бессмертны, ибо сколько уже разных каст и идей сгинуло, кануло в вечность, а ваши по-прежнему in floribus[1]; вы счастливы, ибо все идет по-вашему. Вы и четверть века спустя после смерти Ракоци * все домой его поджидали, а иные даже встречаться с ним ездили на границу, куда он являлся инкогнито.
Вам и смерть не страшна. Ведь она только факт; а вы куда выше всякие домыслы да предположения ставите.
С Иосифом Вторым * вас целых два следующих царствования не могли разлучить. Вы знай себе твердили, что он жив, — просто попы его сцапали и держат в подземелье.
Что ж, он и вправду был у них в руках: давно уже под сводами храма капуцинов покоился *.
Словом, вы отдаете щедрую дань старинному обычаю: считать выдумку правдой, а правду — выдумкой. Ну, да бог с вами; я не препятствую — и уж меньше всего имею право кипятиться из-за того, что вы моего коллегу, депутата Меньхерта Катанги за вымышленную фигуру принимаете. В конце концов это такая безделица по сравнению с пестрым роем других ваших фантазий, которые еще веселей прежнего порхают в лучах нашего нынешнего национального процветания.
Ведь я люблю вас, потому что и вы мадьяры. И не устаю урезонивать всех, кого раздражают подобные небылицы, — особенно в газетах. Честь и место, господа, жирным газетным уткам! Есть в Венгрии класс — единая, хоть и рассеянная в сутолоке национальной жизни семья, — который мыслит именно так, а не иначе; в чьем уме именно такие выдумки родятся. Значит, они тоже должны быть представлены в печати.
Так что живите и здравствуйте, мои дорогие знакомцы! Но Катанги я вам не отдам. Его статей я и для вашего удовольствия не возьму на себя. И я решил выступить с опровержением.
Но едва я принял это решение, в редакцию стали приходить новые письма, с новыми пожеланиями.
Подписчик номер тридцать шесть тысяч двести двадцать пять предложил опубликовать в газете биографию Катанги (да, если б мы ее знали!).
В то же самое время «пуристы» * затеяли дознание, не дал ли Катанги обещания поддерживать церковников? С этой целью в его округ даже направился частный детектив.
Вот в каких обстоятельствах и возникла у меня мысль: а что, если в самом деле написать биографию Катанги? Пусть видит публика, что это живой человек из плоти и крови. Да и в моральном отношении не вредно бы пролить свет на его похождения. Ведь политические проходимцы — они еще хуже змеи. Змея, хоть на тысячу кусков ее разруби, на солнышке оживает. А политический авантюрист до тех пор жив-здоровехонек, пока его на свет божий не вытащишь.
Женатые депутаты с ликованием встретили мой план — разоблачить Менюша *, обнародовав его curriculum vitae[2].
— Помогай тебе бог! Вот услуга, так услуга.
Но скоро о моем намерении проведал сам Менюш и страшно оскорбился.
— Не финти, приятель, — сказал он мне. — Думаешь, я не знаю, чего ты взвился? Ладно уж, забирай себе литературную страницу в «Пешти хирлап». Целиком тебе ее уступаю.
И в самом деле, в тот же день известил редакцию, что прекращает сотрудничество в газете и свои письма жене будет посылать просто по почте.
Однако вместо благодарности за то, что я отбил у Менюша охоту письма писать, депутаты надо мной же стали издеваться.
— Ага, не посмел саисское покрывало[3] поднять над прошлым Менюша? Трус ты, и больше ничего!
— Ах, так? Вот нарочно возьму и подыму.
И я принялся за сбор биографических данных. Конечно, по штурмовскому альманаху биографию Катанги в двух словах можно бы изложить. Родился в 1848 году (на самом деле в 1846-м; но что за беда, если господину Штурму * захотелось на пару годочков моложе сделать человека). Учился в Кашше *, Будапеште и т. д. Уже дома получил блестящее воспитание — гм, совсем как Тамаш Печий * В парламент избран в 1884 году от округа Боронто. Член комиссии по наблюдению за соблюдением.
Вот и все, что я нашел у Штурма. Не очень-то разживешься на целое жизнеописание! Наверно, это сам Катанги продиктовал для альманаха.
Пришлось по крохам собирать о нем сведения. Так, случайно я узнал, что родом он из Шарошского комитата. Стоп! Это уже важное отягчающее обстоятельство *. Из другого источника выяснилось, что он довольно долго жил за границей в качестве врача. Что за черт! Катанги — врач? Кто бы подумал! Меня стала живо занимать эта постепенно выступающая из полутьмы картина. Ездивший в его избирательный округ детектив в свою очередь подбавил живописных штришков — насчет выборов, еще больше раздразнив мое любопытство. Наконец в Буде мне довелось познакомиться с одной матроной, тетей Тэркой, оказавшейся с Катанги в родстве.
Вот когда счастье привалило! Моя почтенная знакомая выложила с три короба всякой всячины — и десятой доли за глаза хватило бы. Не писать же, на самом деле, сто томов про одного Катанги!
А что еще оставалось неясного, я у Михая Варги выудил.
Сначала он ничего не желал говорить; но два серебряных форинта и ему язык развязали. Еще бы: «Эх, винцо у Ширьяи…» — и так далее. Разве тут устоишь!
А теперь, добросовестно сославшись на источники, с соизволенья муз и благословения Божия, начну жизнеописание — и потрудитесь уж верить мне на слово.
НЕ СДАВАЙСЯ, «ИПСИЛОН»! *
Бедный венгерский джентри * уже столько наслушался о своей нежизнеспособности, что нет-нет да и расхрабрится с отчаяния и одним прыжком попытается догнать (а то и перегнать) опередивших его на путях житейского благополучия.
Трезвым взором наблюдая бег времен, благородные родители пришли к мудрому выводу: «Еврей ловчит, а мы не смей? Небось и у нас голова на плечах — даром что крыши дырявые.
И мы доходные местечки разыщем, и мы для деток дорогу пробьем».
И детки, еще за мамкину юбку цепляясь да пеструю фасоль перебирая на полу, уже слышат:
— Исправник — это сейчас нуль. Да и вице-губернатор тоже не фигура по нынешним временам. Даже с депутатским мандатом прогоришь, того и гляди. Разрази гром этот парламент: больше дворянских имений унес, чем дракон — невинных девушек из одевшейся в траур страны.
Ну, да ладно — венгерский дворянин тоже не промах, соображает, куда ветер дует.
И нос по ветру держит. Понемногу и дворянские отпрыски на прибыльные поприща устремились. Странно это было, особенно вначале. Как будто орел отнес своих птенцов в болото: ну-ка, детки, поплавайте наперегонки с утятами!
Межевание проводилось в конце шестидесятых годов (по крайней мере, в Верхней Венгрии большую часть имений в ту пору размежевали). Для землемеров настали хорошие времена: иные до тридцати — сорока тысяч форинтов зарабатывали.
И у наших земляков глаза разгорелись: отпрысков своих, с каким огромным «ипсилоном» ни расчеркивались, всех за синусы-косинусы, логарифмы да геометрию засадили.
— Профессия, по крайней мере, не зазорная, — рассуждали они, улещая разных чудищ в своих гербах: грифов, драконов, аистов и цапель. — Не очень, конечно, аристократичная, но и не унизительная. Тут он тоже с землей будет дело иметь, с земли доход получать, хоть и не пшеницей.
Так вчерашние помещичьи сынки вдруг все землемерами заделались. Но пока получили дипломы, землю кругом уже всю перемеряли, и добрая половина возмечтавших о земельных спекуляциях студиозусов осела небо коптить по разным канцеляриям писарями да асессорами.
Опоздали, одним словом. Ну, да ничего. Мадьяра ведь своя беда учит (он даже гордится ею, когда она уже позади). Просто «нюх» подвел. Разве все предусмотришь? Хотя тут-то заранее было ясно, что межевание не век целый будет продолжаться. Глупо учиться барана стричь (даже с золотым руном), когда его уже обдирают. Не землемером надо быть, а стряпчим. Вот стоящая профессия: пока венгры живы, и тяжбы не переведутся. И следующее поколение все в адвокаты ударилось. Но пока они в околоуниверситетских кофейнях на бильярде играли, адвокатура совершенно преобразилась: из синекуры ремеслом стала. Другие судьи пошли, другие законы, другие нравы. Раньше, бывало, присосется ходатай к имению какому-нибудь, как теленок к вымени, или даже к процессу одному, и кормится, пока не разжиреет.
А теперь нет уже ни процессов долгих, ни судей ленивых, которые и на мзду и на кривду глаза закрывают.
Все переменилось. Нынче пчела — символ глупости, а не трудолюбия. Вольно ж ей, работяге, с цветка на цветок летать, самой нектар собирать да в мед перерабатывать. Хомяк с его защечными мешками — вот это скопидом настоящий: уж он сразу углядит своими быстрыми глазками, где спелое зернышко упало.
И с адвокатурой, значит, опоздали наши юные джентри. И эта профессия не в счет. Пришлось многим из них в сельских нотариусах прозябать, если не хуже.
В это-то смутное, лихое время и сдал на аттестат зрелости Меньхерт, сын компосессора[4] Яноша Катанги. Но и то пришлось дуэлью припугнуть профессоров, чтобы сына на экзаменах не срезали. Ибо глупости и злонамеренности в плебеях господин Янош Катанги не терпел.
«Опоздав» с двумя старшими сыновьями — землемером Кароем и адвокатом Пали (как мы, несколько обобщив, набросали выше), — господин Катанги хотел поправить дело, поставив на ноги третьего и последнего.
— Целился плохо, — рассуждал он сам с собой. — В счастье чуть вперед надо метить, как в дикого голубя. Не ту профессию выбирай, которая сейчас прибыльна, а какая прибыльной будет.
Но тут-то и загвоздка. Какую выбрать? Долго ломал голову старик Катанги. Охотнее всего пустил бы он сына по банковской части: дескать, петух на току не проголодается.
Но двоюродный брат его, королевский советник Дёрдь Катанги — главный авторитет в семье, — считал иначе.
— Финансист — дело не простое, Янош. Финансистом родиться надобно. Это для еврея хорошо.
— Но ведь и Менюш научиться может… Он у меня малый дошлый.
Королевский советник пренебрежительно выпятил толстые губы.
— Научиться, конечно, научится; только этого еще мало. И ты бы мышей ловить научился, если б с детства начал. Но очутись ты среди настоящих котов — ни одной тебе не достанется, всех они переловят.
Янош Катанги опустил голову.
— Гм. Это, пожалуй, резонно, — задумчиво произнес он.
— Так что не отдавай ты в банк мальчишку. Это не для него!
— А ведь до чего ловок, пострел! Сухим из воды выйдет.
— Из воды выйдет, а из банка едва ли. Дворянин в этом деле швах.
— Кем же тогда его сделать?
— Доктором, дружище, доктором, и только доктором. Мир принадлежит докторам, потому что он болен. Поди найди хоть одного здорового человека. А Менюш недурен собой, приятен в обращении и дамам угодить умеет. Врачом он далеко пойдет. Ты посмотри, сколько богачей среди докторов! Тут только дурак не преуспеет.
Мнение королевского советника перевесило, и Менюш стал медиком.
Того же взгляда держалась и его мать Иоганна, урожденная Прибольская.
— Это профессия не трудная, — говаривала она. — Поправится больной — врача благодарит, хвалит везде, а уж помрет — так ругать не будет.
ОРАТОРСКИЙ УСПЕХ
Был Менюш, как сказано, недурен собой, лицо имел овальное, смугловатое, держался уверенно и у процентщиц с улицы Мадьяр пользовался двойным кредитом не в пример товарищам. И в кофейнях его в долг охотнее обслуживали.
На лекции он то ходил, то нет. Во всяком случае, однокурсникам за целые пять лет только раз запомнилось его присутствие.
Знаменитый хирург д-р Чепенка в тот день объяснял, как оперировать костоеду.
Необходимый для демонстрации труп был внесен служителями и положен на секционный стол. Чепенка надел халат и сказал студентам:
— Это был мужчина лет тридцати, с густыми усами и пышной шевелюрой.
— Ну, дружище, не унывайте! Стисните покрепче зубы!
Студенты засмеялись над этой комической ситуацией, порожденной педантической прихотью профессора, и никто больше не слушал Чепенку, который, прежде чем взрезать палец, стал пространно описывать признаки костоеды.
— Не бойтесь, это недолго! — невозмутимо продолжал между тем Менюш. — Вас ведь Чепенка оперирует, знаменитый профессор Чепенка. Вы радоваться должны, что к самому Чепенке попали.
Сквозь зеленые жалюзи на лицо покойника падал солнечный свет, и казалось, будто он и впрямь улыбается, на радостях, что к самому Чепенке попал. Студенты чуть животики не надорвали, даже Чепенка улыбнулся.
— Довольны будете, уверяю вас. Ну, поболит немножко, так это пустяки. На свете пострашнее вещи бывали. Бедного Дожу вон на раскаленный трон посадили *. Что там костоеда какая-то, подумаешь! А «Рогатого человека» Йокаи читали? Вот это да! Кожу содрать живьем и в буйволиную шкуру зашить! Как вам это понравится?
Менюш остановился, словно ожидая ответа, но покойник был нем и недвижим.
— Фу, перестаньте охать. Ну, что вы кричите? Думаете, поможет? Попробуйте лучше представить, что это так, укус блошиный. Ну-ка, давайте по-солдатски: зажмурьтесь — и…
Смех замер у всех на губах: покойник и вправду прикрыл один глаз.
— Он живой! — завопили студенты.
Тут и другой глаз у него закрылся. Грудная клетка начала мерно подыматься.
Один из ассистентов выронил со страху ванночку, которая со звоном разлетелась на тысячу кусков.
При этом звоне покойник опять приоткрыл левый глаз.
Все были поражены, потрясены; один д-р Чепенка сохранял свое обычное спокойное благодушие.
— Поздравляю, Катанги, — сказал он. — Это величайший ораторский успех, какой я когда-либо видывал.
И, достав табакерку, сначала зарядился понюшкой, а потом поднес гладкую полированную поверхность ко рту больного; другую же руку положил ему на сердце. Ощутив легкое биение, Чепенка стал ритмично массировать грудь.
— Ну-с, что требуется для операции костоеды? Кто знает? Никто? Ладно, я сам скажу. Для этого прежде всего нужен больной, страдающий костоедой. Так или нет?
— Так.
— Прекрасно, милостивые государи. Итак, предположив — указал он на труп, — что это наш больной. Первое условие, значит, налицо. Что еще нужно? Ну? Да скальпель, конечно. Чудно, прекрасно, скальпель, а еще? (Тут ученый уже приготовился загнуть третий палец.) А-я-яй, да распатор. Так, правильно, распатор. А еще? Пила. Еще? Губка. Потом ванночка с водой. Ну, а дальше?
— Дальше можно начинать, господин профессор.
— Ничего подобного. Чепуху изволите городить. Ну, что еще требуется?
— Хлороформ, — подсказал кто-то.
— Хлороформ для наркоза нужен, amici[5]. А мелкие операции без наркоза делаются, но зато с ассистентами. Один больного за руки держит. Подойдите сюда, господин Демень. Другой — за ноги, чтобы не брыкался. Не будете ли вы так любезны, господин Кон? Но и это еще не все. Ну, кто знает? Ладно, я сам скажу. Кто-нибудь пусть встанет в головах у больного и ободряет, уговаривает его. Гуманность и медицина — родные сестры. Уговоры больному нравятся; значит, их можно отнести к успокоительным средствам. Эту роль я попрошу взять на себя вас, господин Катанги.
Профессор засучил рукава, сунув предварительно скальпель в зубы. Господин Демень, плотный молодой человек, схватил покойника за руки, а тщедушный господин Кон — за ноги. Хорошо, что тот лягаться не мог, не то живо отпихнул бы беднягу.
— Итак, внимание! — вскричал господин Чепенка. — Каждый пусть исполняет свои обязанности.
Он ухватил покойника за большой палец, где надлежало быть костоеде, и, добиваясь полного правдоподобия, бросил нашему герою:
— Начинайте же!
Тот проворно подскочил к изголовью стола, где был распростерт бледный, окоченелый труп со страшно вытаращенными глазами. Ничья добрая, милосердная рука не позаботилась закрыть их на убогой больничной койке.
— Самый обыкновенный случай мнимой смерти, господа. Очень интересно, но совсем не по моей специальности.
Он позвонил служителю.
— Попросите сюда другого врача, этот больной нуждается в особом уходе. А что касается моей операции, то… гм… — Он запнулся в поисках нужного слова. — …принесите мне покойника поспокойнее.
Знаменательный этот случай тогда же попал в газеты с указанием всех имен (воскресшим из мертвых оказался бондарный подмастерье Михай Варга). Номер газеты старик Катанги везде таскал с собой в кармане.
— Ну, история, скажу я вам, — твердил он знакомым. — Такая только с моим Менюшем может приключиться. Ах, собачий сын! Со времен господа нашего Иисуса Христа ничего подобного не было. Даже Цицерону, да что! — самому Кошуту никого воскресить не удавалось. Наоборот, скорее уж обмирали все от их красноречия. Черт побери! Сказать мертвецу: «Зажмурься», — и он, на тебе, слушается, зажмуривается.
Послушный Михай Варга так понравился старику, что он даже в Пешт съездил навестить его, а месяц спустя, когда тот совсем поправился, взял к себе в Катангфалву слугой — гостям, как диковинку, показывать.
Так и остался Михай Варга в барском доме. И когда Менюш — этот «выдающийся ораторский талант», как шутя стали его величать с той поры студенты-медики, уже дипломированным врачом, в синей фамильной карете, сам погоняя лошадей, с триумфом прикатил со станции домой, отец, прослезясь, упал ему на грудь.
— Ну, Менюш, теперь ты человеком стал. Все, чего мы не сберегли, я к твои братья, ты вернуть должен. Золота, серебра я не могу тебе дать на обзаведение, у меня у самого их нет. Но образование я тебе дал и теперь еще Михая Варгу даю в лакеи. Он тебе непременно счастье принесет.
ПРАКТИКА
Однако до поры до времени Менюш сунул свой диплом туда, где уже лежали дипломы братьев: в ящик письменного стола. Ему больше нравилось бездельничать, за куропатками да зайцами с ружьем гоняться, чем за пациентами. Свирепый гриф, раскинувшийся на синем поле в гербе Катанги, никак не хотел выпускать его из своих когтей.
И когда отец напоминал, что пора, мол, и за практику приниматься, переехав для этого в город — Эперьеш или Кашшу, на выбор, — он неизменно отвечал, вторя Палу Пато: «А, успеется». Так что отъезд всякий раз откладывался. «Вот осенью поеду». И ни с места. «Ну, ладно, весной». И опять то же. Вечно что-нибудь мешало. То молодой доктор уклонится, то отец сквозь пальцы посмотрит — особенно с тех пор, как сын стал в дома побогаче захаживать, где имелись девицы на выданье. Было несколько таких в окрестных усадьбах — недурных собой и с приданым. Вдруг — чем черт не шутит! — дома удастся золотую рыбку подцепить.
Только иногда расшумится старик:
— Забудешь все, что учил. И нож ржавеет, если им не резать.
— Смотря какой футляр, отец. И потом ведь и дома практиковать можно.
Но в деревне редко когда захворает крестьянин, объевшись свежих огурцов; он и даст ему хинина от лихорадки. Или ногу сломает кто-нибудь, и доктор положит ее в лубки. Никаких заболеваний серьезнее не было.
Старый помещик только вздыхал да жаловался: очень уж ему хотелось, чтоб у сына практика была побольше.
— Летом нашему брату болеть некогда, — слышал он в ответ.
Но и зимой все ходили здоровехоньки. Старик опять ругать мужиков:
— Что же вы, совсем болеть не собираетесь?
— А с чего болеть-то? — отвечали ему. — Зимой мы, почитай, и не едим ничего.
Катангфалвские крестьяне — бедняки, земля у них тощая, урожая иногда и на новый посев не хватает.
Так, однако, не могло продолжаться in infinitum[6]. Сам доктор скоро увидел, что начинать практику все-таки придется.
Но и для этого ведь деньги нужны: квартиру снять, меблировать. А денег у Яноша Катанги не водилось ни больших, ни малых. Зато долгов — хоть отбавляй: и больших и малых.
Старик проделал обычную карьеру джентри — с начала и до конца. Когда-то верил в себя, потом в землю, — вдруг уродит сам-двадцать; потом в еврея-ростовщика, который в долг давал, и только когда уж и ростовщик не потянул, в бега уверовал. На него одного теперь вся надежда была. Говорится же в Писании, что он является людям своим в минуту наибольшей опасности. Явления господня ждал и Янош Катанги; но вместо господа бога явился судебный исполнитель. Так уж оно всегда бывает.
— Ну, а теперь что делать? — спросил молодой доктор угрюмо.
— Ждать, — ответил отец. — Что-нибудь должно ведь случиться.
Что уж должно было случиться, чего ждать — об этом Янош Катанги даже отдаленно не догадывался, но все равно ждал.
Да и как ему было догадываться, если ждал он того, что называется «non putarem»[7]. А non putarem именно потому и non putarem, что заранее его не угадаешь.
Но в ожидании этого non putarem старый помещик ухитрялся все-таки держаться на поверхности. Никто лучше него не умел умаслить непокладистого кредитора. Язык у него был подвешен не хуже, чем у посланника какого-нибудь. А где уж дипломатия не помогала, там, что греха таить, он и более сильных средств не стеснялся.
Заехав как-то в соседнюю деревню, Варторню, к Дёрдю Майке, в чью пользу должны были описать его имущество, он попросту, по-дружески попросил у него отсрочки.
— Не могу, — ответил господин Майка. — Мне самому мой капитал нужен.
— Вот как? Самому нужен? — повторил Катанги, мрачнея. — А голубя вон того видите?
— Вижу.
Как не видеть. Они как раз у огорода стояли, и голубь кружил у них над головой.
— Ну так больше вы его там не увидите, — бросил старик.
И, с быстротой молнии выхватив из кармана пистолет, прицелился, выстрелил — и мертвый голубь упал к ногам господина Майки.
— Так что же, будет отсрочка? — глядя на кредитора в упор, переспросил он.
— Будет, будет, — заикаясь, пролепетал Майка.
Так и тянул Янош Катанги года два, все поджидая счастливый случай, который придет и разом выручит из беды.
И он пришел. Но не в виде выигрышного билета или американского дядюшки, а в образе самой Смерти.
И отправился Янош Катанги в семейную усыпальницу на катангфалвское кладбище. Умер он от удара: охотился в перелесках с Мишкой Варгой, и вдруг из дубняка прямо навстречу ему — здоровый матерый заяц (так, по крайней мере, Мишка рассказывал). «Барин подняли ружье, прицелились, а он, подлец, хоть бы хны: присел себе на задние лапы за муравейником, а передними вот так погрозился — отсохни мои руки (Мишкины то есть), коли вру! Барин рассерчали на зайца, что дерзит, мол; но не успели выстрелить, как упали и померли».
Семья утаила все эти подробности. Странно было бы, что один из Катанги помер от испуга, и перед кем же? Перед зайцем! Притом такой стрелок… Нет, нет — разрыв сердца, и дело с концом.
Со смертью старика все пошло прахом. Пришлось трем олухам царя небесного самим хлеб себе добывать. Родовое имение в один прекрасный день было пущено с молотка (купил его какой-то Мор Штерн), и после уплаты долгов каждому досталось по три тысячи форинтов.
Обнялись братья и сказали друг другу:
— Пойдем теперь по свету счастье искать.
Но поскольку история землемера и адвоката не входит в нашу задачу, мы проследим лишь дальнейшую судьбу нашего героя, который переселился в Кашшу, снял две прекрасные меблированные комнаты и вывесил на двери визитную карточку:
Д-р Меньхерт Катанги.
Частнопрактикующий врач
Буковки красиво отливали золотом, но пациенты упорно не желали являться.
Мишка Варга понуро сидел в прихожей в ожидании звонка. А доктор то и дело выбегал и спрашивал:
— Никто не звонил? Мне вроде послышалось…
— Ни души, ваша честь. Может, я нажал ненароком, когда паутину с кнопки снимал.
Доктор пошел посоветоваться с коллегой Эндре Деменем, с которым в университете учился.
— Не идет дело.
— Пациентов нет?
— Нет. И деньги тают катастрофически. Как быть?
— А идеи у тебя нет какой-нибудь сногсшибательной насчет рекламы?
— Нет. Откуда…
— Ну, а в болезнях-то ты разбираешься? От науки врачебной не поотстал, пока дома сидел, у себя в деревне?
— Еще как. Она — шаг вперед, а я — два назад. Позабыл, что и знал.
— Н-да, вот это уже плохо. Тогда одно из двух: или женись, или…
— О женитьбе я и сам подумывал, но для этого богатая невеста нужна. А где ее сыщешь? Давай лучше второе.
— …или на курорт езжай врачом-бальнеологом.
— Почему вдруг бальнеологом?
— Потому, что ты законченный бальнеолог.
— Как так?
— А так. Бальнеологу ровно ничего знать не нужно. Даже «язык покажите» говорить необязательно. Диагноз, что самое трудное, тоже ставить незачем: на курорт ведь уже с какой-нибудь болезнью приезжают. Тебе только выстукать да выслушать остается, а там уж, нашел что или нет, дать назначение: какую воду пить, сколько стаканов, сколько часов гулять ежедневно и тому подобное.
— Это, пожалуй, мысль.
— К тому же парень ты видный, с головы до ног джентльмен; еще монокль в глаз — и прямо хоть в Национальный театр, атташе какого-нибудь играть. Но так как ты не атташе, а доктора изображать хочешь, непременно очки себе купи. Не бойся, дамам ты и в очках понравишься. Ну, а поскольку на водах дам всегда больше, будущность твоя как врача обеспечена.
СТО НАПОЛЕОНДОРОВ
Совет был неплохой, ему стоило последовать. Но ведь и в бальнеологах далеко не уедешь, если не будешь немножечко Барнумом *. Зато уж если преуспеешь, живи себе барином. Зимой делать нечего, поезжай в городишко какой-нибудь и жизнью жуируй. Очень Менюшу этот совет понравился. Ну, а если не преуспеешь? А, придумаю что-нибудь. Оседлать надо счастье — вон как Кох свои дурацкие открытия. Известности добиться. Светилом станешь — золото само в руки поплывет. Да, но когда это еще будет! Путь к славе долог. А на кой черт трава, когда кони уже пали.
Словом, Менюшу прямо со славы начать хотелось: этак-то куда приятнее. И он долго ломал себе голову над этой задачей, как вон другие над перпетуум мобиле[8] или квадратурой круга. А вдруг да удастся!
Важностью, может быть, взять: апломб — он поражает, внушает уважение. Тысячи две форинтов еще осталось — не так уж много, но достаточно, чтобы пыль в глаза пустить. Повезет — хорошо, не повезет — хорошего, конечно, мало, но зато уж сразу крышка, не придется всю жизнь жилы из себя тянуть.
Конечно, все это жульничеством попахивает, но иначе в наш век не проживешь.
Наш век! Это надо понять. Глупцы в грязь летят, как опавшие листья.
Так размышлял наш герой и вскоре облюбовал себе местечко: приксдорфские воды. Там ежегодно до пяти тысяч человек бывает, а врачей всего двенадцать. Менюш произвел несложный подсчет: на одного врача около четырехсот человек, из них больных, скажем, половина, то есть двести. Каждый заплатит за сезон в среднем по двадцать форинтов, вот уже четыре тысячи. А если прибавить, что он у других врачей сумеет оттягать, — конечно, если хорошенько взяться за дело, — то и разбогатеть можно!
И он без промедления отправился в Приксдорф — с директором увидеться.
Директор, немец Кругер, не любил докторов, особенно приксдорфских; но к нашему почему-то сразу возымел симпатию и разрешил поселиться на курорте, предупредив, правда, дружески, что прожить будет мудрено. Врачей много, жирные куски один-два ухватывают, кто в моде, а остальные кости глодают.
— Это уж моя забота, — самоуверенно улыбнулся Менюш.
— Тогда желаю успеха.
Позже в узком кругу директор Кругер признался, почему он дал разрешение на практику: единственно потому, что милейший доктор Катанги оказался тринадцатым. А из этого с очевидностью явствовало, что один из докторов помрет в ближайшее время.
Итак, с началом сезона Катанги поселился в Приксдорфе.
Не будем утомлять любезных читателей описанием курорта. Они уже, без сомнения, не раз читали подобные описания и сами знают, что все курорты в мире одинаковы. Богатый озоном воздух, прекрасные, чистые комнаты, тенистые аллеи для прогулок, отличное питание, баснословно дешевые цены, великолепное обслуживание, минеральные в лечебные источники, экскурсии в живописные места, лаун-теннис, лотерея и так далее.
Такое рекламное описание напоминает порой рисунок на первой странице ветеринарной книги: лошадь, окруженную названиями всех болезней, которыми когда-либо страдал лошадиный род, но одна лошадь — никогда. Разница лишь в том, что здесь на один курорт переносятся достоинства всех.
Так что я не буду даже пытаться описать Приксдорф, хотя местечко это недурное и часто посещается венграми. Впрочем, где их нет — только дома не хватает. Кто по заграничным курортам покатался, по обилию мадьяр может подумать, что на родине их по меньшей мере еще миллионов пятьдесят осталось.
Лето 1876 года было в Приксдорфе очень оживленное. У источников толпилось множество народу, миловидные барышни с черными клеенчатыми сумочками через плечо, в которых спрятаны стакан и стеклянная трубочка (через нее пьют серную и железистую воду, чтобы зубы не почернели); фатоватые щеголи в желтых штиблетах, которые не прочь скрасить свой кашель любовной интрижкой. Повсюду слышалась специфическая курортная болтовня. На курорте за два месяца пролетают словно целые десятилетия. Люди приезжают, уезжают: неприметная, но постоянная смена лиц. У источников, в курзале, у эстрады картина все та же, но публика каждый раз новая. Недавние знакомые вспоминаются с трудом, как тени далекого прошлого.
А как преображаются люди в таких местах! На водах и вообще в путешествии каждый хочет казаться важнее — исключая настоящих аристократов, которые, наоборот, стараются быть незаметнее. Для них это отдых, они и дома по горло сыты своим положением.
Публика эта вся деланная. Один хорохорится, другой скромничает. Тут нужен верный глаз, способный соблюсти пропорции, не меньше, чем здравый смысл, чтобы распознать истину в газетном сообщении. Итак, нет больше лжи — есть лишь плохой глазомер да недалекий ум.
У приксдорфской публики и в то лето не было недостатка в развлечениях: стрельба в цель, ловля форели, катанье на осликах и прочие невинные забавы, которым предается несколько тысяч ничем не занятых людей. Любая безделица для них уже предмет развлечения — даже корзинка с выстиранным и выглаженным бельем, которую прачка песет на виллу. Слоняющийся фат не преминет заметить:
— Эге! Да это нижняя юбка маленькой лесничихи!
— Верно. А у той — белье блондиночки-консульши. Вон ее лиловая батистовая блузка, видите? Сбоку, на рубашках. О, эти божественные рубашечки!
Лишь на курорте ясно видно, какое глупое животное человек. Лишите его только привычного занятия, совлеките оболочку, придающую ему умный вид.
Сотни людей здесь месяцами ни о чем не разговаривают, кроме своего сна и желудка, бесконечно варьируя эти две темы.
— Сегодня я чувствую себя немножко лучше.
— Я тоже гораздо лучше спал. С вечера только один раз проснулся.
— У меня часа в три что-то вроде спазмы в желудке было.
— А у меня, похоже, ревматизм в шее разыгрался со вчерашнего дня.
— Я с аппетитом вчера поел. Целый бифштекс, знаете, уписал, а он преогромный.
— А я вот не могу на ночь мясное есть, у меня от него тяжесть в животе.
— Да-да, мне тоже в прошлую пятницу все быки после ростбифа снились.
И так весь сезон. Целое скопище людей пережевывает одно и то же. Благо еще, что эта пресная жвачка сдабривается иногда пряной приправой. Без любовной интрижки никогда ведь не обойдется — вот и сплетня готова. Кроме того, есть одно ни с чем не сравнимое удовольствие — позлословить о докторах. Вот, дескать, ослы, шарлатаны, на больных им наплевать. И конечно, кто кого лечит, что кому прописано. Доктор Икс за одной красивой пациенточкой волочится и при каждом визите раздевает ее, подлец, до рубашки, чтобы ухом к груди прижаться. Доктор Зет — тот известный мастер пустяки в серьезные болезни раздувать, как клеменбергский цирюльник, который на все корки разругал подмастерья за то, что он без него занозу вынул у крестьянина: «Ах ты, мот, транжир несчастный, загнал бы ее поглубже в ногу, мы бы теперь с деньгами были».
Но с особым увлечением судили-рядили в тот сезон все-таки о новом докторе — и не только больные, но даже сами врачи и местные жители.
— Интересный мужчина, — вынесли свой приговор представительницы слабого пола.
— Исключительно занятой человек, — удивлялись коренные приксдорфцы.
— Всех нас обставит! — ахали коллеги. — И откуда у него столько пациентов?
— У этого, похоже, на лад идет. Свое дело знает, — полагали непосвященные.
Словом, он поразил воображение, стал новинкой сезона, о которой только и говорили. Новый доктор, венгерский доктор — и дворянин: герр фон Катанги.
Подробнее о нем никто ничего не знал. Дамы, которые нашли его интересным, не могли этим воспользоваться, потому что он не выходил из коляски — все время по улицам и площадям носился, спеша, словно к умирающему. С утра до вечера там и сям мелькала его простая, скромная, но элегантная упряжка — и всегда галопом. Иногда перед какой-нибудь виллой она останавливалась, доктор спрыгивал (у него была стройная, красивая фигура) и с лихорадочной поспешностью устремлялся вверх по лестнице. Вечно он торопился, перепрыгивал сразу через две ступеньки; видно, дел было по горло. А несколько минут спустя возвращался, запыхавшись, отдуваясь, вытирая лоб платком, и опять лошади мчали его куда-то на другой конец курорта. По дороге он не выпускал из рук золотые часы, сверкавшие на солнце, словно по секундам рассчитывая свое время, и то и дело, особенно в местах полюднее, покрикивал на кучера:
— Скорей, а то опоздаем!
Дамы, повторяем, не могли забрать его в свои руки: на них у него не оставалось времени. И они только головами качали: «Просто жалко смотреть, как человек себя убивает». В полдень он наскоро съедал свой обед, и опять в этот проклятый экипаж (когда он только лошадей кормит?). Ужин точно так же проглотит на ходу — и скорей дальше. Даже по ночам нередко слышался своеобразный, легко отличимый шум колес его черного удобного бруммера[9]. Чутко спящие просыпались и бормотали, переворачиваясь на другой бок: «Наверное, у доктора Катанги тяжелобольные».
И утром за завтраком спешили поделиться ночными впечатлениями: «Похоже, что у Катанги тяжелые случаи есть, он ночью несколько раз под моим окном проехал».
Но кто были эти больные? Этого никто не знал, да и не стремился узнать. Довольно и того, что у него их много; что мне за дело, кто. Не я, не мой знакомый Пали, не жена дёрского стряпчего, а остальные пускай хоть все у него лечатся.
И никому даже в голову не приходило (секрет известен лишь мне да ещё аптекарю, который за все лето только пять рецептов получил за его подписью), что у нашего друга Катанги вообще не было больных! С английской методичностью разыгрывал он занятого человека — до того мастерски, что сам черт не догадался бы. Даже аптекарь начал сомневаться: «А может он домашними средствами лечит?»
Да, Меньхерт Катанги пустился во все тяжкие. Ведь он был детищем fin de aiecle[10]. Тем более что шарошцу, захотевшему стать американцем, ничего особенного для этого и не нужно. Он и так уже законченный американец.
Как отчаявшийся игрок, он все поставил на карту (под «всем» следует разуметь две тысячи форинтов).
Снял в Приксдорфе элегантную квартиру, очень прилично ее обставил; заказал дощечку с надписью золотом: «D-r Melchior von Katanghy, Brunnenarzt»[11]; купил экипаж и пару отличных-серых, на козлы посадил кучера в цилиндре и фраке, а нашего старого знакомца, Мишку Варгу, которого когда-то вернул к жизни в университете, теперь сразил приказанием обрить. Уж (чему бедняга подчинился куда менее охотно) и нарядил в великолепную ливрею. Приготовившись таким образом, начал о взнуздывать счастье, да так ловко, что вскоре, как мы знаем, прослыл самым модным врачом во всем Приксдорфе.
Особой ловкости требовало посещение вилл. Ибо наш бравый земляк никого, конечно, не навещал, а просто подымался наверх и прохаживался там или стоял в укромном уголке минут двадцать — тридцать. Будь это кто другой, шустрая прислуга живо смекнула бы, что он просто время ведет. Но у доктора Катанги внешность была столь представительна, осанка столь внушительна, а торопливая озабоченность так естественна, что ни у кого даже не возникало никакого подозрения.
А выдержка какая! Изо дня в день настойчиво проделывать одно и то же — и без всякого результата. Ибо результатов не было. Мишка, который дома караулил пациентов, каждый раз докладывал: «Пока никого».
И не удивительно. Ведь курортные больные сразу же по приезде выбирают себе врача — или прежнего, или кого присмотрят в прошлый сезон. Так что хитроумный маневр нового доктора был посевом, который можно пожать лишь на будущий год. Даже те, кто сейчас от него в восторге или прельстился его репутацией модного врача, только в следующем сезоне к нему обратятся. А до этого еще так далеко, что и ноги можно протянуть.
Но однажды, когда он заехал домой, потому что для полной иллюзии приходилось время от времени возвращаться, якобы для приема приходящих больных (на самом же деле, чтобы, завалясь на диван, выкурить трубку-другую), Мишка уже издали стал многозначительно ему подмигивать.
— Есть кто-нибудь? — спросил доктор тихо.
— Баронесса какая-то с дочерью, — ответил шепотом его доверенный.
— Баронесса? Черт возьми!
Катанги, оживясь, открыл дверь в приемную. С дивана навстречу ему поднялась пожилая дама пышного телосложения, с такой грудью, что невольно начинало мучить любопытство: а как она суп ест? Вероятно, приходится выдвигать тарелку из-под этих гор и подносить к самому подбородку. Впрочем, лицо у нее было вполне интеллигентное, даже увядшие щеки и двойной подбородок его не портили, а глаза так просто красивые.
— Баронесса Бланди.
Доктор почтительно поклонился; баронесса же сказала, указывая на стоявшую поодаль молодую женщину:
— Моя дочь Клара, ради которой мы и решили к вам обратиться.
— Да? Нездорова, значит, барышня?
Он бросил на нее быстрый взгляд. Высокая, стройная блондинка, уже не юная, но и не старая дева. Глаза спокойные, внимательные, чуть лукавые. В лице болезненная бледность. На губах слабая, утомленная улыбка; но это ей шло, придавая в высшей степени аристократический вид.
— Прошу вас в кабинет. Пожалуйте, баронесса!
Пропуская их вперед, он тщательно оглядел платья обеих.
Какого врача не интересует его первый пациент? Особенно, если это баронесса! Но не из этих ли «курортных» баронесс?
Первый беглый осмотр дал положительные результаты. Менюш знал толк в дамских туалетах. Кружева настоящие, в ушах старой баронессы — красивые бриллиантовые серьги; простое батистовое платьице дочки сшито у хорошего портного. Все очень изящно и элегантно — от соломенных шляпок и шведских перчаток до последней брошки. А настоящие знатность и богатство как раз по мелочам узнаются. Словом, Менюш был доволен. Первая пациентка вполне приличная. Это хороший знак. Он уже и представил себе, что у него лечится все высшее общество. Ему и рисовалось блестящее будущее, ряды золоченых карет у его подъезда, из которых разодетые лакеи помогают выйти больным маркизам и леди.
— На что жалуется молодая баронесса? — спросил он, усадив дам, а сам оставаясь стоять из вежливости.
— Моя дочь не баронесса, — сухо сказала мамаша.
— Вот как?
— Первым моим мужем был Пал Бодрогсеги. За барона Бланди я вышла много лет спустя после рождения Клары. Но это к делу не относится. Главное, что она последнее время кашляет и жар у нее иногда бывает. Прошу вас осмотреть ее внимательнее.
— Непременно, баронесса. С каких пор это наблюдается?
— С февраля приблизительно. Но отвечай лучше ты сама, милочка.
— Хорошо, мама.
— Не потеете ночью?
— Нет, — отвечала Клара.
— Боли в груди не чувствуете?
— Нет.
— Прекрасно. Температура когда повышается?
— Температура иногда целыми неделями нормальная, а потом вдруг подскакивает, неизвестно почему, — вмешалась баронесса, не переставая обмахиваться веером.
И не мудрено: женщина она была рыхлая, грузная, а сквозь жалюзи на окнах дышало, как из печки, августовским зноем.
— Ничего, вот пропишем порошочек.
— Сегодня прямо сирокко, — громко отдуваясь, заметила баронесса.
Доктор улыбнулся.
— Господи, я так занят, что мне и не до погоды.
Некое подобие горького христианского самоотречения прозвучало в его восклицании, словно он хотел сказать: «Как тяжело быть знаменитым».
— Правда, правда, вас совсем затеребили. Нам уже сказали на вилле, но мы все-таки пришли. Дочке хотелось именно с вами посоветоваться…
— Премного обязан… Право, это очень мило. Ну что же, начнем: время идет (он с беспокойством глянул на часы). Разденьтесь, пожалуйста.
Клара зарделась и стыдливо опустила глаза. В эту минуту она действительно была очень хороша.
— Ну что за глупости, Кларика. Разве можно доктора стесняться! Расшнуруй корсаж, детка. Пожалуй, ей и совсем не надо бы его носить, как вы считаете, доктор? Ну что ты за ребенок, Клара! Ведь врач совсем не такими глазами смотрит, как другие мужчины; его словно и нет здесь. Молодой, конечно, молодой, но, наверное, женатый. Не правда ли? Как? Не женаты еще? Ну все равно, деточка, зажмурься и расшнуруй наконец этот корсаж… Ну, раз, два, три…
Кларика закрыла глаза и безвольно распустила корсаж. Бедняжка вся дрожала во время этой бесчеловечной операции. А когда врач приложил ухо к тонкой батистовой рубашке на ее груди, даже вздрогнула и закусила губу.
— Вздохните. Не так глубоко… Вот так.
Он выстукал ей спину, грудь в нескольких местах.
— Тут немножко глуховатый тон… Оденьтесь, пожалуйста.
Даже не взглянув на нее, не проявив никакого особого интереса, ничуть не взволнованный ароматом, исходившим от нежного тела, холодно, равнодушно бросил: «Оденьтесь, пожалуйста», — как будто по сто женщин на день осматривал.
— Ну что? — жадно спросила баронесса.
— Небольшой катар в легких между третьим и четвертым ребром, — ответил врач голосом, не предвещавшим ничего хорошего.
— Боже мой! Неужели она заболеет?..
— Мы все сделаем, чтобы этого не случилось.
Он присел за письменный стол, вписал куда-то в середину большой, истрепанной книги имя больной, адрес (они жили на вилле «Мраморная богиня»), обнаруженные симптомы; прописал порошки от лихорадки, велел каждое утро выпивать сто граммов воды из источника «Каталин», а днем ходить на хвойные ингаляции; побольше сидеть на свежем воздухе и как можно меньше разговаривать. «Вот уж когда слово — серебро а молчание — чистое золото».
Так прошел первый прием, — и первые пациенты, о которых столько мечталось, с небрежным, почти высокомерным кивком удалились.
Через день доктор наведался в «Мраморную богиню» — одну из самых дорогих вилл. Бланди занимали две прекрасные комнаты на втором этаже.
Клара лежала в гамаке под платанами и при виде доктора сразу обе руки протянула ему навстречу.
— От ваших порошков жар как рукой сняло!
— Ну естественно. Значит, лучше себя чувствуете?
— Гораздо, точно заново родилась.
— Аппетит хороший?
— Волчий. Ваше лекарство просто чудеса творит.
И девушка устремила признательный взор на нашего героя. Ее лучистые голубые глаза даже увлажнились от избытка благодарности.
Меньхерт невольно потупился. Даже он, прохвост порядочный, смешался при виде столь горячего проявления чувств. За несколько жалких порошков это все-таки уже слишком.
— Не стоит, какие пустяки, — пробормотал он, недовольно хмурясь.
Ему вдруг пришло на ум, что чересчур благодарные пациенты обыкновенно мало платят. Форинты восторженными словами заменяют.
— А кашель как?
— Не прошел еще.
— Ну сам собой пройдет, раз причины не будет. А мама?
— Она наверху, в своей комнате.
— У меня как раз семь минут осталось, чтобы засвидетельствовать ей почтение.
— Господи, как вы спешите.
— Что поделаешь, долг прежде всего. Но завтра-послезавтра я надеюсь улучить еще минутку и заглянуть к вам. Итак, подымемся к баронессе. Разрешите предложить вам руку?
Какая-то особенная, мягкая истома исходила от всего ее существа, а походка была мерная, ритмичная. Просто вальс, а не походка.
Весь фасад «Мраморной богини» оплетали розы. Тысячи их свешивались со стены, нависая над входом. Доктор машинально сорвал полураспустившийся бутон и продел в петлицу.
— У, какой вы, — надула губки Клара, подымаясь по лестнице, — мой бутон сорвали, второй уже день passe ich auf ihn[12] (Клара любила мешать языки) и сегодня не тронула, хотела, чтобы он подрос немножко, а вы хвать у меня прямо из-под носа.
Этот игривый тон несколько озадачил Менюша, но делать нечего: он вынул бутон из петлицы и, сам выходя из своей роли сурового эскулапа, с некоторым подобием галантности подал Кларе:
— Вот ваш бутон! Не плачьте!
Клара, улыбнувшись, воткнула его в густые белокурые волосы.
Когда на следующий день наш герой нанес дамам визит, слегка увядший бутон стоял в стакане с водой. Но Менюш в своем положении так же мало думал о флирте и любви, как приговоренный к повешению о будущем урожае. Наверно, он просто не заметил чести, оказанной его бутону.
Бланди еще недель шесть оставались в Приксдорфе, часто встречаясь с доктором, который чуть не каждый второй день заезжал к ним, но всегда на минутку, по своему обыкновению. Виделись они и за обедом в отеле «Золотое яблоко», но тоже мельком. Ел Катанги второпях, и уже за вторым блюдом за ним обыкновенно прибегал его запыхавшийся лакей. Баронесса, любившая поболтать, никогда не могла наговориться вволю. Только начнет, а тому уже пора. Постепенно она совсем к нему охладела.
— А, поди ты с доктором своим, — отмахивалась она от дочери. — Препротивный, расчетливый субъект, прилип к своей медицине, как змея к эскулапову посоху.
— Но он интересный мужчина. И деньги у него, наверное, есть.
— Кто его знает.
— А нет, так будут. И потом воспитан, anstandig[13] и с красивым дворянским именем. Король Янош из него чудо что сделал бы.
— Смотри, найдет коса на камень.
— Смелость города берет!
Старая баронесса неодобрительно покачала головой.
— Как ни плети паутину, камень самую крепкую прорвет, запомни это, Клара!
Но дочь отвернулась упрямо.
— У тебя ни капли выдержки нет, мама, ты хочешь, чтоб жареные голуби сами тебе в рот влетали, да еще нашпигованные!
— Ну, твоего голубка я и на необитаемом острове не пожелаю.
— Дело вкуса.
— Язычок придержала бы, востер больно.
— В тебя уродилась, мамочка.
Так частенько пикировались маменька с дочкой, которая за последние две-три недели совершенно излечилась от своего катара. Лицо у нее посвежело, порозовело — сделалось совсем как «фаршированный голубочек», по определению одного ее поклонника, офицера, а гибкое, стройное тело целых десять кило прибавило, судя по санаторным весам.
— Если б еще питание получше! — жаловалась баронесса доктору. — А то здесь бог знает чем кормят. В следующий раз, если жива буду, со своим поваром приеду.
Доктор при этих словах быстро поправил очки, а Клара поблагодарила мать растроганным взглядом: «Спасибо за помощь, мамочка».
К приксдорфским рестораторам баронесса Бланди вообще питала непреодолимое отвращение, искренне радуясь, что раскусила их махинации и по погоде может предсказать меню на завтра. Ветрено было — она яблочные пироги пророчила, потому что много яблок зеленых посбивало; дождь лил — и она была готова поклясться, что «кайзершмарн» * сделают: не станут же эти живодеры выбрасывать булочки, размокшие на столах.
Никакого особого любопытства к личным делам баронессы герой наш не выказывал. Трудно сказать почему: из благовоспитанности или просто из равнодушия. Кто он: тонкая бестия или Бланди его вообще не интересуют? Кларика много раз задавалась этим вопросом.
Но так как баронесса сама была разговорчива, ему волей-неволей довелось узнать кое-что. Иногда он и сам спрашивал, но только если разговор наводил его на это.
Так он узнал, что Бланди живут в Клагенфурте (плохо дело: Клагенфурт — это вице-Грац, город важничающих бедняков); что барон Бланди изволил отойти в лучший мир несколько лет назад (если вообще существовал — на водах поневоле Фомой неверующим станешь!); что баронесса часто гостила в Венгрии у бездетного брата — и тут мимоходом было упомянуто, что Клара его крестница и единственная наследница. Ах, бедняжка, как жаль, что она женщина!
Доктор вежливо полюбопытствовал, почему уж так жаль.
— Товар такой у ее дяди, — усмехнулась баронесса, — только для мужчин годится.
— Он торговец?
— Скорее, фабрикант.
Доктор не допытывался больше, подумав, что дядя, наверное, фабрикант курительных трубок. Баронесса, словно угадав его мысли, добавила, обращаясь к дочери:
— А спрос-то ведь растет на дядину продукцию. Сегодня уже по двадцать тысяч штука идет.
Но доктор не расспрашивал, решив, вероятно, ну, значит, судостроитель, и удовлетворясь этим.
— Зря только порох переводить, — не преминула заметить баронесса по его уходе — вполне резонно, впрочем. — Ни огня тебе, ни дыму.
— Ничего, мамочка, и сырой табак загорается. Уж я-то знаю, сколько раз пробовала. Просто спичек побольше нужно — вот и все.
— Сегодняшняя не загорелась.
— Мало фосфора было.
Дело же заключалось в том, что упоминание о фабриканте очень благоприятно повлияло на доктора Катанги — но только в одном определенном смысле. Виды его на Бланди не шли дальше гонорара. «Если у этих Бланди дядя фабрикант, значит — они люди надежные, хотя с таким же успехом и князя Лобковица * можно в свои дядья произвести. Но, в общем, это реально, и я должен кругленькую сумму получить». Нечто в этом роде вертелось у него в голове.
Но сколько именно? Наш герой на пятьдесят форинтов рассчитывал: это прилично, хоть и не по-княжески, — широким жестом была бы сотня.
А она, видит бог, ему нужна. От сорока пятидесятифоринтовых билетов, которые он привез из Кашши, только один оставался — «последний из могикан». Через пару деньков нечем будет машину подмазать, и она встанет.
Правда, именно врачу легче всего выжать новую смазку, заявив больному: «Вы поправились, завтра можете уезжать», — а если тот не прочь еще остаться для собственного удовольствия, припугнуть: «Этот климат вам вреден», — за чем последует неизменный конверт с деньгами. Но для этого пациенты нужны, а у доктора Катанги их, кроме Бланди, всего четверо-пятеро было, да и те недавние.
Ничего другого не оставалось, как в один прекрасный день отправить Бланди домой.
— Барышня уже здорова. Врачебная помощь ей больше не нужна.
В голосе его даже печаль послышалась. Как-никак Клара — его первая пациентка; к ней он питал своего рода слабость. Не мешало бы ей, конечно, еще недельку-другую здесь, среди сосен, провести, а вот приходится отсылать. Что поделаешь? Нужда заставляет.
Клара, казалось, не вынесет удара.
— Как? — меняясь в лице, промолвила она. — Мы вам уже надоели?
— Еще что выдумали, — весело, но с невольным смущением и досадой ответил доктор. — Просто для меня важнее всего ваше драгоценное здоровье. Здешний воздух вам уже не на пользу. Дни теперь короткие, вечера сырые из-за росы — это вредно для вас. Все целительное и полезное вы, как пчела из цветка, из Приксдорфа извлекли — оставьте же здесь все губительное.
— Совершенно справедливо, господин доктор, — одобрила баронесса. — На той неделе мы уезжаем.
— Нет, даже такой отсрочки я вам дать не могу. Лучше поезжайте куда-нибудь для окончательной поправки.
— Куда бы вы советовали?
— В Венгрию, например. В эту пору лучше всего Алфёльд *.
— А если в Трансильванию?
— Гм. Не возражаю. В деревню или в город?
— В маленький городок.
Девушка вопросительно подняла на мать полные слез глаза.
— К дяде Яношу поедем, — сказала та, словно ей в объяснение.
Доктор заметил слезы на глазах у Клары и сам расчувствовался, отвел взгляд.
— Я вижу, вам жалко расставаться с Приксдорфом… да и мне жаль, что вы уезжаете; но здоровье прежде всего.
Итак, было решено, что послезавтра Бланди едут.
На другой день доктор, продолжая свои мнимые визиты по городу, чуть не каждые полчаса заезжал домой — посмотреть, нет ли Бланди с гонораром. Только студентом, бывало, поджидал он почтальона с таким нетерпением.
Полдень минул — никого. Дело уже к вечеру стало подвигаться, а они не шли…
— Не были, Мишка?
— Нет.
— Ты все время здесь?
— Все время.
— Никуда не выходил — хоть на минутку? Только не ври, мерзавец!
— Никуда.
— А ну, дыхни!
Лакей послушно дыхнул на хозяина, но палинкой * не пахло; значит, дома сидел.
— Ничего не понимаю.
Герой наш пришел в сильнейшее возбуждение. Чего доброго, они совсем… но он даже мысли такой не допускал. Это было бы ужасно: назавтра несколько срочных платежей, а денег нет. Правда, и нужно-то всего несколько форинтов, но какая разница? Иногда какого-нибудь совка угля не хватает, а насмерть можно замерзнуть.
Он уже хотел ехать в «Мраморную богиню», узнать, в чем дело; но вдруг в аллее напротив увидел Клари.
На ней было легкое черное платье с кружевами и того же цвета соломенная шляпка, украшенная двумя крохотными подсолнухами. Только сейчас доктор заметил, как она изящна. Стройная, высокая, грациозная, точно молодая лань.
— Как удачно, что я вас застала, — направляясь прямо к нему, сказала она, и легкий румянец окрасил ее нежные щеки.
— Зайдете, может быть?
— Нет, не буду вас отрывать от ваших больных. Я только попрощаться пришла…
— Да, да, вы ведь завтра уезжаете…
— …и передать вот эту безделицу от мамы.
И она протянула доктору бумажный сверточек, который тот с элегантной небрежностью опустил в карман.
— Примите это как чисто символический знак нашей неоплатной благодарности вам, — уже почти с ненатуральным умилением продолжала девушка. — О, если б я могла отблагодарить вас лучше! Ведь вы спасли мне жизнь, и она по праву принадлежит вам.
— Я только сделал, что мог. Когда вы завтра едете?
Он перебил ее, чтобы перевести разговор в русло банальных фраз, в которые хорошо одетые люди привыкли облекать свои денежные дела.
— С дневным поездом.
— Тогда я еще утром засвидетельствую свое почтение. Но вы даже не присядете?
Под высокими соснами дворика стояли удобные скамейки сами приглашавшие присесть и поболтать. Клара меланхолически покачала головой.
— Нет, не присяду, — с безграничной печалью промолвила она безвольно, томно опустив руки.
— Уж не хотите ли вы сна меня лишить, как у нас в Венгрии говорят?
— Да, хочу.
И, нежно улыбнувшись, она сделала не то шаловливый, не то укоризненный реверанс и убежала, оставив доктора в полном недоумении.
— Черт побери! Аппетитная штучка! — пробормотал он, глядя ей вслед.
Но едва она скрылась под старыми каштанами, которые тянулись через луг до самой «Мраморной богини», стушевалось и произведенное ею впечатление. Доктор ни о чем больше не думал, кроме маленького свертка, который оттягивал карман. Тяжелый какой! Серебра они, что ли, туда наложили? Первым делом он вернулся в комнату, где осторожно, с замиранием сердца разорвал бумагу.
И невольно зажмурился. Что это? Сон или наваждение? Потому что явью это быть не может.
Из бумаги, сверкая, покатились золотые: новенькие, как на подбор, наполеондоры. Стряхнув оцепенение, он принялся считать: сто штук.
Сто наполеондоров! И за глаза довольно начинающему врачу.
И кто бы подумал? Он не мог отвести широко раскрытых глаз от золота — первого своего «приобретения». «Они богаты, чудовищно богаты, — лепетали его губы. — Сто золотых за какое-то пяти-шестинедельное лечение. Такого в Приксдорфе, наверно, и не припомнят. А Клара даже сказала: «Если б я могла отблагодарить лучше». (Наверно, я кислую мину скорчил — с меня станется. Я ведь думал, сверточек будет тощий.) И вообще она странно себя вела. Стой-ка, что она еще сказала? «Вы спасли мне жизнь, она по праву принадлежит вам». Ого! Да это же форменное объяснение! Ах, дурак, набитый дурак!» Доктор хлопнул себя по лбу (ибо так, совершив ошибку, испокон веков поступают в романах все чего-нибудь стоящие мужчины) и, припоминая одну за другой свои встречи с Бланди, стал осыпать себя упреками: «Серьезнее надо было к ним отнестись. Ведь сказала же баронесса, что в следующий раз повара с собой привезет. Каким же ослом надо быть, чтоб даже тут не сообразить, что это богатые люди? Черт побери: своего повара! Эх, Менюш, Менюш! Своими ушами слышал — своими ушами прохлопал. Куда ж твоя смекалка девалась? Просто невероятно. А дальше еще хуже. Совсем ты ослеп и оглох! (Он подошел к зеркалу и, взъерошив волосы, так говорил сам с собой.) Счастье оседлать собрался! А копытом под зад не хочешь? Стоишь того. Не стоял разве в стакане бутон этот несчастный, словно святыня какая? Это она его, бедняжка, поставила! (Он приложил большие пальцы к ушам и пошевелил перед зеркалом оттопыренными ладонями, дразня свое отражение.) А не у нее ли слезы брызнули, когда я заявил, что им пора уезжать? И я же сам их отсылаю! Неслыханно. Нет, никогда из меня ничего путного не выйдет. Да уж одно то, как она смотрела… краснела поминутно… А я, остолоп… Но теперь все кончено — они уезжают. И я их спровадил!»
Менюш схватил шляпу и как безумный бросился к экипажу.
— В «Мраморную богиню»! — крикнул он кучеру.
Немного поостыв дорогой, он сообразил, однако, что такое посещение слишком бросится в глаза и только испортит дело.
Поэтому он отослал бруммер домой и, не подымаясь наверх, стал бродить возле виллы среди исполинских платанов, на одном из которых была наклеена большая афиша с репертуаром послезавтрашнего концерта.
То возбужденно прохаживаясь, то останавливаясь и перечитывая афишу, он одним глазом все время следил за дорожками и за подъездом виллы: не покажутся ли Бланди. Сейчас все зависит от нечаянной встречи на нейтральной почве. Многое, многое зависит — он это чувствовал. Определенного плана у него, правда, не было, но что-нибудь само подвернется, лишь бы встретиться, — авось еще удастся спасти положение.
Он уже выучил наизусть почти всю афишу, когда счастье, за которым он охотился, совершенно непостижимым образом само улыбнулось своему преследователю.
Из окна виллы «Позен» вылетел зеленый попугай и уселся на верхушку самого высокого платана — как раз того, где висела афиша.
Злополучная владелица этой милой пташки, жена брюннского сукноторговца, вместе с дочкой — вертлявым тщедушным созданием с лицом веснушчатым, как перепелиное яйцо, — с воплями и причитаниями стали сманивать беглеца с дерева:
— Komm, du lieber Giegerl! Komm, du lieber Giegerl![14]
Но Гигерль не выражал ни малейшего желания повиноваться и хладнокровно раскачивался на ветке.
Тогда жена сукноторговца, сложив увядшие губки бантиком, стала посылать ему воздушные поцелуи.
Попугай в ответ перебрался ветки на три выше. Птица явно невоспитанная, но зато с характером. Пришлось подумать о чем-то послаще поцелуев.
— Бланка, сбегай за сахарницей!
Пока дочка бегала, мамаша не переставала умолять строптивого Гигерля.
Прохожие с любопытством останавливались, привлеченные необычным зрелищем. А женщина жаловалась со слезами на глазах:
— Посмотрите, господа и дамы, как он со мной поступает. Все, все у него было, никто его не обижал, а он взял и улетел. О, неблагодарный!
Стоит нескольким остановиться — и другие собираются. Толпа притягивает зевак, как магнит железные опилки. Когда вернулась Бланка с сахарницей, у платана уже весь курорт был. Из всех тварей земных так называемый «Kurgast»[15] — самая любопытная, даже если она и не в юбке. По пересекающимся дорожкам так и стекались гуляющие, которые, убыстряя шаг, спрашивали друг друга: «Ого! Что это там происходит?»
— Попугая ловят.
Вот это да! Попугая ловят? Черт возьми, такое не каждый день увидишь.
Жена брюннского торговца открыла серебряную сахарницу и стала встряхивать ее, гремя кусками.
— Сахар, сахар, сахар! — кричала она Гигерлю.
— Пшла вон, пшла вон, пшла вон! — верещал с дерева упрямец, не трогаясь с места.
Публика смеялась от души. А брюннская торговка в отчаянии уговаривала ребятишек, умеющих лазать по деревьям, достать попугая, суля им разные награды.
Между тем к месту происшествия сошлись и коренные приксдорфцы, которые стали свои мудрые советы подавать.
— Что делать? — ломала руки несчастная владелица птицы.
— Проще всего дерево срубить, — предложил аптекарь, — а потом преспокойно поймать попугая.
— Ерунда, — отпарировал низенький приказчик из ювелирного магазина «Голубой аист». — Я пожарного с кишкой пришлю. Он направит туда струю, попугай намокнет и свалится. Даром, что ли, пожарники есть на свете! (Nota bene[16]: приказчик был начальником приксдорфской пожарной команды.)
Вот это решение! Настоящее колумбово яйцо. Скорей бегите кто-нибудь за простыней — надо растянуть ее и держать под деревом, чтобы попочка не ушибся. А за пожарником с торжествующим видом помчался сам коротышка-приказчик. В предвкушении этой волнующей операции еще больше зевак собралось, так что доктору оставалось только хорошенько поискать Бланди в этой толпе.
Они оказались у фонтана перед виллой «Позен». Баронесса лорнировала беглеца, заслоняясь сапфирно-голубым зонтиком от солнца. Кларика же печально поникла головкой, словно клевер с четырьмя листками искала в разросшейся у фонтана траве.
— Ах! — вздрогнув, как спугнутая птичка, сказала она. — Доктор!
— Вот тебе на! — воскликнула маменька. — И вы тоже на эту зеленую птичку глядите?
Доктор сконфуженно втянул голову в плечи, словно уличенный в каком-нибудь проступке.
— Да, и я не устоял, поддался любопытству при виде такого стечения народа.
— Как вы думаете, — спросила Клара, — улетит птичка или удастся заманить ее обратно?
Менюш подошел поближе и тише, мягче обычного, сказал, сопровождая свои слова значительным взглядом:
— Какое мне дело, если моя милая птичка завтра улетает? Глаза у девушки торжествующе блеснули и погасли, как задутая свеча.
— А что же вы клетку не закрыли? — спокойно, негромко сказала она. — Даже сами нарочно отворили.
Намек был, видимо, понят.
Менюш растерялся. Возразить на это было нечего. Наступило тягостное молчание.
— Пожарник! Пожарник идет! — ликуя, воскликнула баронесса, которая с таким увлечением следила за поимкой птицы точно в театре за пьесой.
Менюш наклонился к Кларике и шепотом повторил ее же вопрос:
— А вы как считаете, улетит птичка? Или удастся обратно ее заманить?
Кларика рассмеялась презрительно, словно наскучив этой игрой. Она чувствовала: преимущество на ее стороне.
— Ах, подите вы со своими намеками, — со строптивой гримаской сказала она.
Два многоопытных дипломата состязались в эту минуту друг с другом.
— Да или нет? — проворковал доктор ей на ушко.
— Что с вами, доктор? Я вас не узнаю.
— С вами уже не доктор говорит.
— А куда же доктор девался?
— Ах, забудьте скорее этого глупого доктора: отослал больную домой, хоть у самого сердце изболелось, — с игривой непринужденностью, совсем непохожей на прежнюю сдержанность, отвечал Катанги. — На этом его миссия и кончилась. Доктора больше нет!
— Бедный доктор!
— Перед вами теперь просто Меньхерт Катанги, который глубоко сожалеет об отъезде прекраснейшей из девушек и подает смиренный совет: «Не слушайтесь, пожалуйста, этого гадкого доктора, останьтесь еще на несколько деньков!»
Он говорил как бы шутя, но за шуткой чувствовалась серьезность.
— Сердце, значит, изболелось? — в тон ему отвечала Кларика.
— Не верите?
— Нет, почему же. Это слишком забавно, чтобы не верить.
— Что такое? — вскинулась вдруг баронесса. — Что там у вас происходит?
— Представь, мама, доктор хочет, чтобы мы остались еще на несколько дней.
— Он шутит, наверно?
— Очень может быть.
Пришлось самому доктору вмешаться.
— Я действительно надеюсь уговорить вас остаться.
— О! А!
Баронесса в изумлении уставилась на доктора, потом на дочь. Начав, кажется, понимать, она достала из лилового бархатного ридикюля табакерку, чтобы за понюшкой обдумать дальнейший образ действий.
— А-я-яй, доктор, — сказала она не без иронии. — Вы нас просто поражаете своими советами. Значит, теперь не вредно оставаться?
— Вредно. Для меня.
Это опять была галантность, которую нельзя принимать всерьез, и баронесса ответила в том же тоне, грозясь сложенным зонтиком:
— Вот притворщик. А по виду ведь и не скажешь. Но мы перехитрим вас: нарочно послушаемся самого неискреннего совета и не поедем.
— Я просто счастлив буду.
— Да ну вас, фарисей! Вы же на нас и не глядели.
— Занят был очень, баронесса… но теперь обещаю исправиться.
— Мы вам не верим, — вмешалась Кларика.
Так, пикируясь, дошли они до «Мраморной богини». Попугай же, настигнутый водяной струей, с пронзительным верещаньем перелетел на крышу виллы «Позен».
— Остаетесь, значит? — еще раз переспросил доктор при прощанье, целуя баронессе руку. — Дайте слово, что останетесь.
— Ладно, посмотрим! — рассмеялась она весело.
— Где вы ужинаете?
— Как всегда, в «Золотом яблоке».
— Я присоединюсь к вам, если позволите.
— Очень рады будем. Значит, до свиданья!
Он поклонился и протянул руку Кларике, которая с кокетливой робостью девочки-институтки вложила в нее свою, прижавшись к матери, точно боясь, как бы доктор не позволил себе какой-нибудь вольности.
Бедный доктор! Не успели его шаги замолкнуть, как девочка-институтка встряхнулась, будто сказочный конек-горбунок, и превратилась в сверкающую глазами фурию, которая, уперев руки в боки, яростно прошипела:
— Ах, подлец!
Маменька медленно подымалась рядом по плетеной дорожке, тяжело переводя дух на каждой ступеньке. Наконец на последней остановилась и вопросительно взглянула на дочь.
— Ну, так что же?
— Он женится на мне, — торжествующе ответила Клара.
КОРОЛЬ ЯНОШ
Бланди остались в Приксдорфе. Не пофлиртовав даже недели, доктор попросил руки Кларики и получил согласие. Еще недели через две состоялось венчание в приксдорфской церквушке, в тенистом дворике которой братья францисканцы любили перекинуться в картишки.
На бракосочетание прибыли оба брата Меньхерта — землемер и адвокат. А со стороны невесты — старший ее брат, уланский корнет Криштоф Бодрогсеги, чей полк квартировал в Инсбруке, и дядя, родной брат баронессы, Янош Кирай. Баронесса была младшей дочерью трансильванского исправника Арона Кирая, и в лучшие дни ее не без основания величали «прекрасной королевной[17].
Янош Кирай, а в просторечии «король Янош», был благообразным, живым и румяным седым старичком с маленькими глазками и слыл величайшим пройдохой во всей Трансильвании. Родись он и взаправду в королевской постели, вся Европа, наверно, стонала бы от его коварных подвохов, изощренных хитросплетений и далеко идущих планов, построенных на свойствах и слабостях натуры человеческой. Но король Янош, благодарение богу, был всего лишь бургомистром трансильванского городка Сент-Андраша.
Зато уж там он был сам себе хозяин. Бразды правления держал крепко, что твой Наполеон. Его не любили, но боялись; он умел внушить уважение. Бывал и жесток и деспотичен, но, правда, лишь в скромных, отведенных ему пределах.
Если б сент-андрашские куры вели летопись, Янош Кирай занял бы в ней место Ирода. Однажды, когда министр внутренних дел остановился в городе на ночлег, Янош, по словам корнета Криштофа, велел под барабанный бой объявить на всех перекрестках:
«Доводится до сведения жителей улицы Чапо, что под страхом строгого наказания надлежит до восьми вечера прирезать всех петухов».
Denique[18], петухов перебили, чтобы не обеспокоили ночью его высокопревосходительство своим кукареканьем.
Горе кур не поддается описанию. Ведь даже из осажденного Магдебурга каждая женщина получила право хоть одного мужчину вынести! * А тут ни единого петуха не осталось.
Да, Янош Кирай прирожденным королем был, под стать древним тиранам! Попробуйте только представить, что получилось бы, если б у него вместо бургомистерского жезла под рукой оказалась гильотина, а вместо гайдука в синей аттиле * — целая армия!
Но «если» это только «если». Силой и властью он и без того обладал достаточной. Его наловчившиеся в разных плутнях руки протягивались далеко за пределы городка, и сколько хватал вооруженный глаз с колокольни, — это все его было. Разными правдами и неправдами подчинял он себе, своей воле людей, хотели они того или нет.
В Приксдорф он прибыл утром накануне свадьбы и в тот же день вечером уехал. Только на свадьбу и явился: что поделаешь, неотложные дела в Будапеште.
Королевского в короле Яноше ничего не было, только голос — даже здесь, в чужих краях, хрипловато-повелительный, да усы торчком, как у Иштвана Батори *.
Баронесса с дочерью, прихватив жениха, поехали встречать его на станцию.
— Это большой человек, — предупредила она. — Полюбезнее с ним будьте.
— А почему его «королем» называют? — полюбопытствовал Катанги.
— Просто имя перевертывают, потому что дома, в Сент-Андраше, у него огромное влияние.
Тут же, на вокзале, ему представили нашего героя.
Король Янош облапил его, потискав сердечно в объятиях.
— Ну? Ты тот самыми Альвинци? * Прекрасно, прекрасно.
Потом оглядел его с ног до головы и, довольно похохатывая, хлопнул по спине.
— Ну, брат, везучий ты, я тебе скажу, красивую женку отхватил; но если не хочешь быть у нее под башмаком — смотри не давай маху!
Они уселись в поданные к станции пролетки: старики и братья в одну, молодые в другую.
Венчание было назначено на половину первого, и времени только-только хватило переодеться. Жених и невеста явились в дорожном платье, хотя уезжать никуда не собирались: скорее просто хотели подчеркнуть, что венчаются не дома. Старик решил парадный дворянский костюм надеть, раз уж привез. Старинная шапка с плюмажем из перьев цапли и медная сабля произвели на зевак большое впечатление (больных почти уже не осталось в Приксдорфе).
— Шах персидский! — перешептывались в толпе (старик и правда на него смахивал).
После обеда в тесном семейном кругу в отдельном кабинете ресторана «Золотое яблоко» родственники разъехались. Уехала и баронесса, оставив дочь на попечение мужа.
Получилась свадебная программа наоборот. Обычно новобрачные покидают веселящихся гостей, уезжая в Венецию и бог весть куда еще; а тут гости, чтобы не мешать, убрались восвояси.
Конечно, не обошлось без чувствительных сцен, слез и вздохов — и шушуканья по углам. Один из Катанги, адвокат, отозвал младшего брата в сторонку.
— А насчет этого как? — спросил он, выразительно подмигивая и потирая большим пальцем два других, как будто банковые билеты пересчитывая.
— Есть, по-моему, — с сияющим лицом ответил наш герой.
— А то мы на тебя надеемся, — тихо продолжал адвокат, пожимая ему руку. — Ты всегда был хорошим братом, Менюш!
И чуть ли не в ту же минуту то же самое пытался выведать у баронессы корнет Криштоф. Маменька сердито зажала ему рот.
— Тише ты, сорока…
Но потом все-таки шепнула, что определенного, мол, ничего не знаю, но пациентов хоть отбавляй.
Мало-помалу все разъехались. Баронесса Бланди с уланом отправились с шестичасовым поездом в Клагенфурт. Обняв напоследок дочь, перед тем как сесть на извозчика, она едва не лишилась чувств: пришлось даже водой ее сбрызнуть. Братья Катанги решили сначала в Зальцкаммергут * наведаться, а потом уж, во вторник, двинуться домой.
Последним остался король Янош, чей поезд уходил в семь вечера. В ожидании его они потягивали с Менюшем винцо за уставленным букетами свадебным столом. Королю новый родственник очень понравился.
— А языком работать умеешь? — неожиданно спросил он.
— Что за вопрос, — усмехнулся Меньхерт и рассказал про Михая Варгу. — К этому-то у меня и талант, милый дядюшка!
— Ну, тогда я тебя таким имением пожалую — до конца дней хватит!
Около семи часов новобрачные проводили его на станцию. Менюш носился с ним, как с пасхальным яичком. На вокзале старик достал из кармана золотой с изображением мадонны с младенцем и торжественно вручил Кларике.
— На, кошечка, не говори, что не подарил ничего.
Король Янош был колоритной фигурой: все улыбался хитровато своими маленькими глазками, поминутно вертел головой на коротенькой шее и не переставая руками размахивал, точно пощечины раздавал.
— А что до тебя, — сказал он Менюшу, — мое слово крепко. Сказано, имение получишь, — значит, получишь.
Менюш только кланялся да улыбался, растроганный не на шутку. Черт побери! Неужто настоящее имение? Раздался второй звонок.
— Ну, поди сюда, кошечка, дай-ка чмокну тебя. Вот так. Ох, хорошо (он плутовато покосился на Менюша). Попробовал уже поди, а? Как, нет? А-я-яй! Ну, ладно, пора и на паровик, восвояси. Бог вас благослови, детки мои! Обещанное за мной. Вот вам моя рука — не свиное копыто.
Менюш благодарно пожал ее, даже потянулся поцеловать, но старик благодушно шлепнул его по щеке.
— Ты что, сдурел? У меня и дед епископом не был! — Потом молодцевато вскарабкался в вагон и через открытое окно спросил: — Зимой где жить будете?
Молодожены в замешательстве посмотрели друг на друга, словно сами задаваясь тем же вопросом.
Господи, об этом они и подумать не успели — все случилось так быстро.
— В Будапеште, — после некоторого колебания ответил новоиспеченный муж.
— Ну, я заеду к вам, тогда обо всем и поговорим. Но одно могу и сейчас посоветовать (он поманил молодую чету поближе, чтоб пассажиры не слышали); объявление о своей свадьбе в газеты не давайте.
— Почему, дядюшка?
— «Почему, почему». Что ты понимаешь, глупышка? Я всегда вперед заглядываю. Вы и так поженились, чего же еще шуметь об этом? Кошка вон в скорлупки не обувается, когда к сливкам крадется. Слушайтесь уж меня, старика, и все тут.
«Паровик» свистнул и умчал короля Яноша в его королевство, а для новобрачных начались медовые часы — месяца, видит бог, никак не наберется.
Уже на другое утро в мед упала капелька дегтя. А деготь весь вкус портит. Одна капля целую кадку погубить может. А тут и кадки-то не было, от силы кружка.
О событиях вчерашнего дня супруги в часы утреннего tete-a-tete[19] вспоминали уже без волнения — они не заставляли молодую жену вспыхивать и опускать глаза, как недавняя ночь.
— Так, значит, дядя Янош фабрикант? — спросил Меньхерт.
— Нет, что ты. Он бургомистр в Сент-Андраше.
— Знаю, но кроме того?
— Никакой он не фабрикант.
— А помнится, мама твоя что-то вроде этого сказала.
— Ах ты, глупый! — рассмеялась Кларика ласково. — Это мама так, шутя, говорит, что он там у себя депутатов фабрикует.
Лоб Менюша прорезала чуть заметная складка. Ах, вот оно что, вот почему баронесса сказала, что его изделия идут по двадцать тысяч штука. Понятно, понятно. Но все-таки это его раздосадовало.
— Выходит, он голоса вербует, так, что ли?
— Да, — ответила она просто.
— И имение, которое он обещал мне, — избирательный округ?
— Конечно. А ты что думал?
— Бог его знает! — с расстроенным видом протянул Меньхерт. — Мне, во всяком случае, что-то другое представлялось. Я думал, он богач. Сам не знаю почему.
— Нет, он небогат; но если захочет, может тебя со временем депутатом сделать. Он самый ловкий вербовщик голосов в стране.
При слове «депутат» глаза у Менюша блеснули. Кровь у него взыграла — волнуемая темными страстями помещичья кровь. Взыграла, как у волка, почуявшего добычу.
Но тут же он уныло поник головой.
— Это все не для меня, — вырвался у него вздох. — Я уже другую карьеру выбрал.
— Так не завтра же! Кто знает?
— И без того денег нет (Менюш хотел постепенно подготовить жену к мысли, что он гол как сокол).
— Нет — бог пошлет, — ободряюще улыбнулась она ему.
— Когда? — спросил Менюш беспокойно. Клари пожала плечами.
— Откуда я знаю? Разве мне не все равно? Я бескорыстно пошла за тебя.
— Не сомневаюсь, — сказал Менюш и обнял ее.
Клари ударила его по рукам, запахивая халат на груди.
— Руки долой, муженек! Или повыше, или пониже. И потом не говори мне больше про эти деньги противные.
— Ах, противные, — засмеялся муженек, — но видишь ли, светик, деньги — это nervus rerum всех вещерум; * без них не повоюешь.
— Да ну тебя! Уж не со мной ли ты воевать собрался?
— Что ты, глупышка. Но деньги, знаешь, и в любви помогают. Деньги, женушка, всегда пригодятся. Деньги нынче — государь. Без них и дня не проживешь. Они всем распоряжаются. Вот мы, например, хотим где-нибудь на зиму поселиться — здесь ведь остаться нельзя — и должны к их величеству деньгам обратиться: «Sire![20] Куда вы повелите нам отправиться и на сколько?»
Кларика слушала с наивно-безмятежным выражением девочки, которой папа про заморские страны рассказывает.
— Верно, верно, — серьезно кивала она головкой.
— Ну, тогда иди сюда, ко мне на колени. Вот так. А теперь прими вид рассудительной хозяйки и давай посоветуемся.
— Рассудительные хозяйки не сидят так — у мужа на коленях.
— А как же они сидят?
— Муж сидит у их ног, вот как.
— Хорошо, и я у твоих сяду. Где тут скамеечка была? А теперь давай побеседуем.
— Давай. Ты начинай.
— Нет, ты.
— Не хочу.
— Ну, ладно, начну я, — сказал доктор. — Сильный уступает — только нужно добавить: когда захочет. Не вздумай прецедент из этого сделать, женушка.
— А что такое прецедент?
— Это я в другой раз тебе объясню, а сейчас не позволю отвлекать себя. Итак, с чего я хотел начать?
— С поцелуя, может быть?
— Определенно.
За первым последовал второй, за ним третий — напрасно наш доктор старался не отвлекаться.
— Трудновато так беседовать, — засмеялся он наконец. (Вот чудак: наоборот, одно удовольствие!)
Но тут Мишка доложил о приходе больного — одного пильзенского портного, который пришел попрощаться и вручить скромный конверт с двумя десятифоринтовыми бумажками. Жена упорхнула в соседнюю комнату.
— Последний мой пациент, — пробормотал Менюш, когда тот удалился. — Теперь хоть сию минуту ехать можно.
Это еще больше подстегнуло его объясниться с Кларикой. Земля горела у него под ногами, лихорадочное нетерпение охватило его и какая-то смутная тревога — совсем уж непонятная утром после брачной ночи, когда полагается быть счастливым.
— Кларика, ты не выйдешь ко мне? — крикнул он ей в спальню.
— Вот оденусь сначала.
— Потом оденешься. Нам поговорить надо.
— Ушел твой больной?
— Ушел. Попрощаться заходил.
— Заплатил?
— Да.
— Много?
— Мало.
— Какие вы, доктора, противные! Все вам мало. А сами только одно умеете: «Покажите язычок, барышня!» Вот и вся ваша наука. Нет, скажешь?
— Скажу, что глупышка ты, вот и все. Но правда, давай всерьез потолкуем.
— С глупышками разве толкуют всерьез?
— Кларика, я рассержусь, если ты слушать не будешь.
— Ну, хорошо, слушаю.
— Так вот, скажи, какую тебе квартиру хотелось бы снять на зиму в Пеште? Во сколько комнат, с какой обстановкой?
— Господи, с милым рай в шалаше. Стол да два стула — больше ничего мне не нужно.
— И все? Ты ничего не забыла?
— Ну, конечно, кровать еще. Что ты смеешься? Просто нехорошо.
— Смеюсь, потому что каждая женщина так говорит в первый день после свадьбы.
— Да правда же, у меня нет никаких претензий. Ведь я в таких скромных условиях выросла! (Кларика тоже хотела исподволь подготовить мужа.)
Но Менюша это замечание задело за живое.
— Здравствуйте! Ничего себе скромные условия! — сказал он, поддразнивая ее. — Что ты под этим подразумеваешь? Повара и швейцара?
— Какого повара и швейцара? — с недоумением подняла на него глаза Кларика.
— Разве твоя мама не держит повара?
— Нет, конечно. Откуда же ей столько денег взять? Кто тебе сказал?
У Менюша сердце упало.
— Баронесса, мама твоя, — пролепетал он. — Ты разве не помнишь?
— Мама это сказала?
— Да, когда однажды плохую еду ругали, она сказала: «На будущий год, если приеду сюда, повара с собой привезу». Точные ее слова.
Кларика расхохоталась до слез.
— Ох, эта мама! Конечно, она бы не прочь повара привезти. Всякий рад бы. Но как можно невинную шутку понять так буквально? Ох, уж эта мама, ха-ха-ха!
Менюш, однако, не находил в этом ничего смешного.
— Клара, я хочу знать правду! — крикнул он в возбуждении.
— Какую правду, муженек? — все еще ласково спросила она.
— Какое у тебя приданое? В конце концов нужно же мне знать.
— Приданое? — протянула она равнодушно. — У меня нет приданого.
Катанги побледнел.
— Но ведь твоя мама богатая женщина, — растерянно пробормотал он. — Разве нет?
— Моя мама на пенсию живет, за мужа. А она очень маленькая.
— Не может быть… Этого не может быть.
Растерянный, с перекошенным лицом, метался он по комнате. Глаза у него налились кровью, ноздри раздувались. Видно было, что он с трудом сдерживает себя. Воспитанный человек боролся в нем со зверем.
Внезапно он подошел к жене и хриплым голосом спросил в упор:
— А почему же вы тогда мне сто наполеондоров дали? Кларика покраснела, как рак. Потом мягко положила ему руку на плечо, стараясь успокоить.
— Это все… почти все, что мне от папы осталось. Я отдала тебе, потому что… потому что…
— Потому что обмануть хотела.
— Потому что я тебя люблю.
Менюш оттолкнул ее и бросился вон из комнаты. В дверях он обернулся и, весь дрожа, крикнул:
— К жуликам в лапы попался!
Так прошло первое утро. «Выгоню, нынче же из дому выгоню!» — твердил он про себя, задыхаясь от ярости. Но, поостыв на свежем воздухе, здраво рассудил, что тогда скандал выйдет и все над ним же будут потешаться: ловко, мол, заманили своими наполеондорами. Дальняя прогулка к тремольской роще, во время которой все знакомые поздравляли его со счастливым браком (легко представить, каких сил ему стоило улыбаться!), подсказала правильный выход: проглотить эту уготованную коварной судьбой горькую пилюлю. Умный вор не спешит в полицию, если его обокрали, пока он сам в чужой карман лазил. Правда, и кража, и чужой карман, к сожалению, были только фигуральные. Что у него украла Кларика? Увы, ровно ничего (ей и самой, бедняжке, не пофартило). А он в чей карман залез? И сказать стыдно.
В одной медицинской книжке попалась ему как-то картинка, изображавшая болезнь и больного в виде двух человек, лежащих рядом в одной постели. Врач толстой дубинкой колотит болезнь, заодно попадая и по больному. Довольно остроумная характеристика современного врачевания.
Но если против болезней такие методы еще годятся, зачем бить того, от чьих ушибов сам страдаешь? Нет, Клари позорить нельзя. Уж коли случилось — значит, так богу угодно, на то его святая воля (ну, конечно: это всевышний на сто наполеондоров польстился!); против нее не пойдешь.
Короче говоря, прогулка кончилась тем, что Менюш, изрядно проголодавшись, поплелся потихонечку домой, как побитая собака. У легкомысленных людей настроение меняется быстро.
Застав жену в слезах, теперь уж он взял примирительный тон.
— Ну, будет, перестань. Оденься лучше да пойдем обедать. Но Кларика так рыдала, словно сердце у нее разрывалось.
— Ну, не будь такой неженкой, глупенькая. Не надо это близко к сердцу принимать.
— Ты меня оскорбил, — безутешно рыдала она. — И дал понять, что не любишь.
— Как это не люблю? Не выдумывай!
— Что только из-за денег на мне женился. Господи, господи!
Менюш присел рядом, гладя ее по головке, как обиженного ребенка.
— Прости, Клари. Очень уж я огорчился. Я был груб с тобой, сознаюсь, но это с отчаяния. Мне сразу представилось безрадостное будущее, нужда, которая нас ожидает. Я об уютном гнездышке мечтал для нас с тобой, а впереди только бедность да тяжелая борьба за кусок хлеба.
— Но почему же мы не можем быть счастливы? — кротко возразила Клари, подымая на мужа заплаканные глаза. — Ведь нам так мало нужно!
— Но если даже этого нет!
— Как? А твоя практика, пациенты?
— Нет у меня никаких пациентов.
— А все эти бесчисленные больные, которые у тебя лечились?
— Никто, детка, у меня не лечился — пятеро больных за все лето. Семьдесят форинтов — вот весь мой заработок (не считая твоего гонорара), четыреста — все мое состояние. Больше у меня ничего нет.
Настал черед Клари побледнеть. Высвободившись из его объятий, она вскочила, как тигрица. Заплаканные ее глаза метали молнии.
— Так вы прохвост, сударь, вот вы кто!
Менюш с циническим спокойствием скрестил руки на груди.
— Друг друга стоим, женушка. А теперь идем-ка обедать.
НЕКОТОРЫЕ ДЕЛИКАТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ
Первая осенница расцвела на приксдорфских лугах. Это значит — запирай ворота. Воды теряют свою чудодейственную силу; последние больные уезжают.
Лавки, отели закрываются, девушки, подающие воду у источников, до весны нанимаются в служанки по окрестным городам, деревья роняют листву — вся жизнь замирает.
Если и остается какой-нибудь запоздалый курортник, врач говорит ему: «Не будем мешать друг другу — платите половину гонорара и дайте мне уехать, а я дам вам возможность поправиться».
Катанги даже это не задерживало; он и без полюбовных сделок мог на зимнюю квартиру отправляться. Но куда?
Сначала они про Будапешт подумывали, но средства не позволяли. Остановились на одном городишке в Вашском комитате — там можно и на кое-какой заработок рассчитывать, особенно если местная газетка напечатает пожирнее:
«Известный приксдорфский врач, д-р Меньхерт Катанги поселился в пашем городе. Он проживает по улице Темплом в доме, что напротив корчмы вдовы Ширьяи «К трясогузке».
И действительно, больной сразу нашелся, даже аристократического звания: герцог Карой Янош Мария Монтвич, корнет тамошнего гусарского полка.
Чем уж страдал краснощекий крепыш корнет, одному богу известно (мало ли всяких внутренних болезней на свете), но одно бесспорно: герцог порой дважды на день заходил к доктору, по целым часам болтая с ним или с его женой.
Каким врачом, плохим иль хорошим, оказался Катанги, можно судить по тому, что следующее лето герцог, взяв отпуск, провел в Приксдорфе, чтобы у него продолжить лечение.
А что пациентом герцог Монтвич был неплохим, видно из следующего: осенью, когда корнета перевели в Надьварад *, доктор Катанги тоже туда на зиму переселился.
И когда — на третью зиму — полк перекочевал в Будапешт, Катанги тоже наконец попали в столицу. Герцог Карой Янош Мария и там ежедневно навещал доктора. Болезнь у него была, как видно, очень упорная.
Сомбатхейские и варадские кумушки много сплетничали об этом по кофейням.
— Красавица докторша… герцог-корнет… бедняга муж… — диагноз ведь поставить нетрудно.
Но настоящий джентльмен всегда выше людских пересудов. По свидетельству Михая Варги, — а уж он-то не мог не знать, — супруги Катанги жили в завидном согласии, как два голубка.
Вдобавок Меньхерт уже не так был беден, как раньше. Практика понемногу росла, на жизнь хватало — квартиру он снимал приличную и жену одевал хорошо. А главное, — ведь не все корнеты повесы, бывают среди них и честные, порядочные. И не все женщины… впрочем, это уж я не берусь утверждать.
Но зато смею утверждать, что если тут что-нибудь и было, Катанги ни о чем не подозревал. Во всем надо знать меру, даже в разоблачениях. Конечно, мы на Меньхерта сердиты: он плут, карьерист, но не более того. Во всем остальном Меньхерт истый джентльмен.
Дружбой герцога он дорожил, — быть может, потому, что это импонировало ему, упрочивая положение и суля пациентов из высшего общества; но что-либо иное предполагать мы просто не имеем права.
Наведываясь зимой в Будапешт, король Янош, особенно в следующие годы, почти каждый раз навещал супругов, неизменно подбадривая племянничка:
— Если только не помру, присмотрю тебе на будущее округ. Будь покоен.
А однажды заявился на масленицу с довольным видом:
— Считай, что есть уже, сообразил тебе округ.
Катанги только головой покачал недоверчиво. Как это можно округ «сообразить»?
— Какой же? — больше из вежливости, чем из любопытства спросил он.
— Боронто.
— Где это?
— Где Сент-Андраш, в том же комитате.
— Но на это ведь деньги нужны, милый дядюшка.
— Какие еще деньги, ни шиша не нужно.
— Разве у вас там такое влияние?
— Ни на вот столечко.
— А чем же я возьму тогда?
Янош Кирай побарабанил пальцами самодовольно.
— Опытом возьмем.
— Чудес не бывает, дядя Янош.
— А вот и бывают, — возразил он с глубоким убеждением. Тем дело тогда и кончилось. Но с приближением выборов король Янош стал чаще бывать в Пеште и все понукал Катанги от слов перейти к делу с этим Боронто.
Менюш пропускал его напоминания мимо ушей: и палец о палец не ударю, все равно ничего не выйдет; что невозможно, то невозможно. Но жена требовала, а чего она требовала, то рано или поздно осуществлялось.
— Надо мной же только смеяться будут, Клари, вот увидишь.
— Попытка не пытка! Ну, хватит разговоров — выставляй свою кандидатуру, и все тут. Хочу госпожой депутатшей быть.
Некоторое время Менюш пытался сопротивляться, приводя разные доводы.
Легко сказать: выставляй, но как? С какого боку взяться, с какого конца начать?
Но никакие возражения не помогли, и за одним из семейных ужинов король Янош придумал для него весь план действий.
— Ты просто запишешься в клуб либеральной партии, а потом попросишь себе округ Боронто в исполнительном комитете, предварительно уведомив премьер-министра, что желаешь там выступить.
— А если не дадут?
— Что? Округ? Дадут. Еще рады будут. Подманицкий * на шею тебе бросится: «С богом, дорогой друг, с богом». Это трудный округ, там до сих пор оппозиционный депутат сидит. А трудные округа в партии легче звезд с неба раздают: «Этот хочешь? Пожалуйста». Пугать будут или на смех тебя подымать — не смущайся, знай свое тверди: «Этот округ хочу, и точка. Волков бояться — в лес не ходить».
— А кто там губернатор?
— Барон Петер Беленди, славный малый.
— А, знаю, мы с ним в Кашше учились.
— Тем лучше, — сказал король Янош.
— Тем хуже, — возразил Катанги, — потому что и он меня тоже знает.
— Неважно. Я тебе объяснил, теперь действуй.
— Но хоть бы какое-нибудь подобие вероятия! — вздыхал Катанги; однако послушался (все равно жена не отвяжется).
Вступил в либеральный, клуб и в один прекрасный день уведомил нужных лиц, что на ближайших выборах желает баллотироваться в Боронто.
Так что к следующему дядюшкиному приезду, в конце февраля, дело уже сдвинулось с мертвой точки. Партийные киты плечами пожимали: «Пожалуйста, округ за вами; но теперь уж смотрите укрепитесь в нем хорошенько».
Король Янош был доволен результатом.
— А письмо к губернатору есть?
— Вот оно, у меня в кармане.
— Прекрасно. Самое легкое сделано. Теперь будет потруднее. Слушай внимательно, Меньхерт! А ты не перебивай все время, Клара.
— Слушаю, дядя Янош.
— Двенадцатого марта — день святого Гергея, запиши себе число. В этот день наш комитатский набоб Гергей Фекете именины справляет в Боронто. Там будут все, кто хоть каким-нибудь весом пользуется в избирательном округе. Понял?
— Чего ж тут не понять.
— Ты приедешь в Сент-Андраш еще одиннадцатого, но не у меня остановишься, а в гостинице.
— Хорошо.
— Явишься к губернатору и отдашь письмо. Он над тобой смеяться будет, но ты стой на своем; попроси его только, чтоб он в Боронто тебя отвез на именины. Ну вот, губернатор свезет тебя, сиди там, ешь, пей, но ни словом, ни взглядом не выдавай своих намерений. Я сам там буду и сумею им зубы заговорить: это уж мне предоставь.
— Вы там будете?
— Конечно, но ты сделаешь вид, что незнаком со мной. А заведут обо мне речь — отзывайся так, пренебрежительно.
— О вас? Ни за что на свете!
Король Янош вскипел, зеленые огоньки блеснули в его хитрых глазках.
— Делай, что тебе говорят, — веско сказал он, — иначе ничего не получится. План хорош, только тонкости все нужно соблюсти. Уж если кошка голову в горшок сунула, сливки будут съедены, запомни.
Все так и вышло, как было задумано. Десятого марта госпожа Катанги снесла в ломбард свое жемчужное ожерелье и полученные полтораста форинтов отдала мужу на дорогу. У жившего напротив портного Якаба Зингера взяли напрокат шубу (за форинт в день), и Менюш, расцеловав жену и своих пострелят, которых у него была уже целая тройка, отбыл с дневным поездом в страну сынов Чабы *. Одиннадцатого марта он согласно программе благополучно прибыл в Сент-Андраш, остановился в гостинице «Турул» * и, переодевшись, отправился к губернатору в управу. Вот человек, этот Янош Кирай: все в точности предвидел, даже что губернатор скажет; как в воду глядел.
Его высокопревосходительство очень обрадовался своему старому школьному товарищу Менюшу Катанги, но, прочитав письмо исполнительного комитета, где витиевато сообщалось, что наш уважаемый собрат будет баллотироваться в Боронто, спросил напрямик:
— Ты что, спятил?
— Пока еще нет.
— Или жилу нашел золотую?
— Еще того меньше.
— Тогда чего же тебе надо?
— Попытаться хочу. И попросить тебя, дорогой барон, пока что об одном: возьми завтра с собой в Боронто на именины, я хоть на избирателей погляжу.
Барон пожал плечами.
— Взять возьму, пожалуйста, но это дерево не так просто срубить, разве что у тебя топор золотой.
— Даже и не серебряный.
— Секеи, видишь ли, чужаков выбирать не любят — разве знаменитость какую-нибудь. Да и то не очень. А тем более Боронто. Это самый трудный округ. Правда, теперешний их депутат непопулярен уже (за три года им и сам Кошут надоел бы). Но на его место десяток других найдется, любой расцветки. Полезут, как лягушки из болота, через недельку-другую. Что же до нашей партии, я краем уха слышал, будто старый граф Альберт Тенки хочет баллотироваться. А он тут настоящий самодержец, против него никто даже пикнуть не смеет. Ну, на что ты надеешься, дружище? Тем более с этим шарошским выговором.
— Все равно, уж раз я здесь, так хоть самому убедиться.
— Ну, и прекрасно. Я ведь не возражаю, поедем; это только мое личное мнение, пророчить не хочу. Попробуем, бывают же чудеса в конце концов. Я, правда, еще не видел. Какой-нибудь знакомый твой будет у набоба?
— Янош Кирай.
— Бургомистр? Ну, этим-то знакомством ты не очень хвастай!
СЕКЕЙСКИИ НАБОБ
На другой день к вечеру губернатор велел запрягать, и они по глубокому, почти по брюхо лошадям, снегу двинулись в Боронто.
По пути проехали три-четыре деревеньки. Хатки у секеев бедные, но чистенькие; перед каждой — расписанные тюльпанами воротца с приветственной надписью и резным шпилем наверху. Домишки все крыты соломой и без труб: манящий путника дым выбивается наружу, где ему заблагорассудится.
Мороз был трескучий, и нэмере * задувал не на шутку. Из шуб виднелись только покрасневшие носы да заиндевелые усы наших путешественников. Дорога скучная, мало приятная: особенно не разговоришься. Обменивались лишь самыми необходимыми фразами.
— Боюсь, граф Тенки тоже будет, — заметил губернатор. Катанги столько всего приходилось бояться, что он давно уже всякий страх потерял.
— Далеко еще до Боронто? — спросил он.
— Вот через холм переедем.
Они опять замолчали. Только когда уже спускались, губернатор спросил:
— Скажи, дорогой, а кто ты, собственно? Как тебя представить?
— Врач.
— Гм, опять нехорошо.
— Почему?
— Секей врача в парламент выбирать не станет. Что для него какой-то там докторишка.
— Ну, иначе представь.
— Кем же?
— Когда-то я написал несколько фельетонов в «Вестник Верхней Венгрии». Скажи, что писатель, никто проверять не будет. Писателей-то как, любят? Барон пожал плечами.
— Как сказать.
Они опять уткнули носы в воротники и хранили глубокое молчание, пока коляска не остановилась.
— Ну, вот мы и у набоба!
К великому удивлению Менюша, ожидавшего увидеть нечто вроде великолепного замка с башнями и бастионами, четверка лошадей, от которых уже валил пар, въехала во двор небольшой усадебки. В таких в Шарошском комитате захудалые дворянчики живут. Двор весь был заставлен бричками, колымагами, рыдванами и — мебелью. Комоды, кровати, шкафы, кожаные диваны громоздились прямо наружи, на снегу, прислоненные друг к другу.
— Тут переселение какое-то, — заметил доктор.
— Ничего подобного! Просто вынесли мебель, чтобы гости поместились.
— Так много понаехало?
— Погоди, увидишь! Секейский набоб не чета прочим крезам, его все любят. Да вот он и сам.
И правда, во дворе с непокрытой головой стоял могучий старик исполинского роста, но с кротким, простодушным, точно детским лицом. Во всем его бесхитростном облике было что-то от доброго старого холостяка. Это, значит, и есть набоб — этот седовласый господин.
Набоб потряс руку губернатору, с приветливой улыбкой глядя между тем на приезжего, точно ожидая объяснения, кто это.
— Мой друг Меньхерт Катанги из Будапешта, — коротко представил его губернатор.
— Добро пожаловать, — сказал старик просто и, пропустив вперед губернатора, сердечно взял гостя под руку и сам повел его в переднюю комнату, всю заваленную шубами. Груда серых суконных шуб на волчьем меху высилась чуть не до самой матицы. Пришлось свои наверх кидать, как снопы на стог.
К «шубной», где только узкий проход оставался от двери к двери, примыкала горница, битком набитая гостями. Здесь яблоку негде было упасть, и публика набилась самая пестрая. Элегантный господин в лаковых туфлях и смокинге — и рядом другой, в вытертой бекеше прадедовских времен. Граф, сельский учитель, нотариус, столяр, вице-губернатор, каноник и еврей-арендатор, простой люд и дворяне всех званий и рангов — все прекрасно уживались вместе, спорили, разговаривали, радуясь встрече и не ища никаких причин презирать друг друга. Сам набоб, невзирая на возраст, старался в этот день шевелиться проворнее и, словно трактирщик снуя между гостями, зорко примечал, кому сигары подать, кому спички или что другое.
— Уж не прогневайтесь, что сесть не на что, — приговаривал он, переходя от одной группы к другой. — Стулья внести — вы не поместитесь. Так уж лучше вы оставайтесь, чем стулья. И правда, никакой мебели в помине не было — кроме разве печки. Но это уж и не мебель, а словно бы член семьи. На ней сушилась айва, аромат которой уютно смешивался с удушливым табачным дымом.
То хозяин дома, то губернатор направо и налево представляли нашего героя, пробираясь сквозь толпу.
И вдруг, уже в глубине комнаты, Менюш очутился перед Яношем Кираем. Король Янош стоял в углу, скрестив руки на груди.
Первым побуждением Меньхерта было броситься к нему — он уже рот раскрыл, собираясь окликнуть его по-родственному: «Эге! Дядя Янош! Добрый день!» Но тот одним предостерегающим движением бровей сразу образумил нашего забывшегося охотника за округами — нахмурился грозно, а колючие его глазки глядели так неприступно и сурово, точно приказывали: «Не подходи ко мне!»
Хорошо, что в этот критический момент губернатор подхватил Менюша и потащил дальше: «Пойдем, третью комнату посмотрим».
В третьей — и последней — комнате стояло пять-шесть столов, за которыми резались в фербли *. Игроков и наблюдателей и сюда набилось много — повернуться негде. Губернатор протиснулся, однако, к дальнему столу, поговорил там о чем-то и опять обратно протолкался.
— В фербли не хочешь сразиться?
— Не имею ни малейшего желания.
— Тогда что же ты тут будешь делать всю ночь?
— Вот отужинаем — и спать лягу.
— Спать? Где? — уставился на Катанги губернатор. — Все кровати во дворе, ты же сам видел.
— Ну, а остальные разве не будут ложиться? — спросил Менюш, с недоумением обводя взглядом нескольких дряхлых стариков.
— За все мое губернаторство не было случая, чтоб кто-нибудь спал на этих именинах.
— Черт возьми, неужели во всем доме еще комнаты не найдется? Чулана какого-нибудь?
— Летом на сеновале можно переночевать, ну, а зимой…
— Нечего сказать, с комфортом живут ваши набобы. Я все меньше и меньше понимаю, почему вы их, собственно, так величаете.
— Секеям не по душе разные финтифлюшки, — с достоинством возразил губернатор. — Они просто живут, даже если богаты.
— А что, он правда так богат? В чем же его состояние?
— В земле. Сплошь первоклассная земля.
— И много?
Барон задумался, словно складывая в уме луга, леса и пашни.
— Да хольдов двести, пожалуй.
— Всего-то?
— Тише, не говори так громко и не забудь, что любая величина относительна. Останься всего пропитания на земле три булки, и обладатель одной из них будет богаче Ротшильда.
— Это-то верно.
— Ну вот и не спорь, и пошли играть в фербли. Сейчас только шесть часов, а ужин не раньше полуночи. Надо время убить. Я уже занял для нас два местечка за последним столом.
— А кто там играет?
Губернатор перечислил. У всех громкие исторические имена, в том числе три графа, — Катанги даже вздрогнул, услышав имя Альберта Тенки. Его соперник! Вон он — высокий, стройный аристократ с надменным лицом. Четвертый партнер — просто дворянин, но отпрыск княжеского рода.
Катанги испуганно попятился. Играть с такими вельможами? Да у него и денег-то несколько десятифоринтовых бумажек всего.
— Нет, нет, — смутясь, пробормотал он.
— Как это нет? А как же ты с людьми познакомишься? Вон даже в Библии сказано: с радующимися радуйся, с плачущими плачь, с картежниками картежничай. Иди, говорю.
И барон чуть не за шиворот потащил его. Менюша даже пот прошиб при мысли, что будет, если он проиграется и не сможет расплатиться. Вот срам! Легче умереть. И револьвера даже с собой не захватил. Он уже хотел откровенно признаться, что без денег, но не успел рта раскрыть, как очутился на стуле между двумя магнатами. И карты уже были сданы.
— Ставишь?
Менюш глянул в свои: две красные, простая и картинка.
— Ставлю, — замогильным голосом сказал он. — Сколько?
— Десять крейцеров — самая высокая ставка.
Герой наш вздохнул с облегчением, но все еще косясь боязливо на остальных — сколько они поставят? Ведь мало ли что в Трансильвании «крейцер» может значить. Они тут целый кувшин «кружкой» называют, простого дворянина — «превосходительством», а графа — «сударем»: поди разберись. Может, «крейцером» у них форинт считается?
Но опасения его были напрасны: в банке успокоительно поблескивали знакомые шестикрейцеровые монетки. Менюша даже благодарное чувство охватило к этим добрым старым трансильванским князьям, которые не очень-то щедро жаловали своих вассалов поместьями, — наоборот, чаще отбирали.
Фербли — зверь хищный, деньги и время пожирает жадно. Кукушка то и дело выскакивала из стенных часов — напомнить, что еще часом меньше осталось до выборов кандидата. Около полуночи вошел хозяин, гулким басом возглашая: — Стулья и столы, господа!
Игроки бросили карты, сгребли деньги (выиграл немножко и Катанги) и в пять минут перетащили все столы в другую комнату. Начался ужин. Статные, сероглазые трансильванские девушки, славящиеся своей красотой, вносили одно блюдо за другим.
Вся гордость и краса местной кухни была здесь — от голубцов и жареного поросенка, который даже на противне чинно держал печеное яблоко во рту, до сладких рожков и оладий на капустных листах. После некоторых особо аппетитных блюд вызывали повариху — дворянку госпожу Янош. Залившись румянцем, выходила она, словно знаменитая артистка на сцену, и, опрокинув подносимый благодарной публикой стаканчик, приговаривала, утирая рот:
— И лучше бывает, ваша честь.
Потом начались тосты. Секеи держатся на пирах степенно, с суровым достоинством; но уж если разойдутся, говорят цветисто и с чувством. Целые диспуты затевались за столами, витиеватые, велеречивые.
Ужин продолжался до пяти утра. Тут набоб опять провозгласил:
— Столы, господа!
Гости встали и передвинули столы и стулья в обратном направлении. Restitutio in integrum.[21]
— А теперь что?
Губернатор пожал плечами с видом истинного фаталиста.
— А что ж теперь! Опять за фербли засядем.
— Ну, а потом?
— Потом утро придет, а с ним завтрак. Еще что ты хочешь знать?
— А по домам когда?
— О, это, брат, не скоро. Так далеко я и не заглядываю. Во всяком случае, прими к сведению, что именины здесь меньше чем три дня не бывают.
— Ну, так я помру до тех пор, — вздохнув, сказал Катанги с глубоким убеждением.
— Мертвецам как раз оставаться необязательно. Кто помрет, тот раньше ехать может — катафалк здесь все равно не уместится. А для живых три дня — закон. А на четвертый — шубный разбор.
— Это еще что? — оторопел доктор.
— А что ж ты думаешь, скоро разве в этой куче шуб свою разыщешь, когда домой поедешь? Все на одинаковом меху, из одного сукна, одного покроя. Тут и дня-то мало разбирать их, туда-сюда перекидывать. Но уж до чего занятно, скажу я тебе. Просто не нарадуешься, когда на свою наконец наткнешься — post tot discrimina rerum[22]. Конечно, если не перепутали и вместо своей не увезли.
— Ну вот, новое дело… Моя у портного арендована. За форинт в день. Уйдет — пожалуй, всю жизнь не расплатишься…
Перспектива в самом деле удручающая.
Человек, так сказать, городской, изнеженный, Меньхерт даже жалеть начал, что вообще приехал. И зачем, главное? Самое лучшее — как-нибудь улизнуть отсюда. Хоть бы с дядей Яношем, по крайней мере, перемолвиться.
Но дядя Янош, судя по всему, нарочно избегал его и сидел где-то далеко, на другом конце сдвинутых в один ряд столов в роли «капитана кунов» *. «Капитан кунов» — это должность ad hoc[23] на секейских пирушках. На каждые четыре-пять человек приходится свой «капитан кунов», которого хозяин назначает из гостей поплоше, — угощать, подливать, подавать соседям. Катанги удивился. Что такое? Могущественный король Янош другим гостям прислуживает. Пойми, кто может. Странным показалось ему и то, что за ужином, хотя пили за всех, за старика никто не поднял тоста.
Он не мог удержаться и спросил о причине этого у соседа слева, благообразного Иштвана Габора, который так ему ответил слово в слово:
— Недолюбливаем мы его тут, в комитате. Паршивая тачка, а тоже каретой себя воображает.
— Но в городе у себя, — возразил Катанги, — он, по слухам, большой властью пользуется.
Пишта Габор дернул плечом пренебрежительно.
— И лиса в своей норе воевода.
Менюша глубоко расстроила такая детронизация короля Яноша. Клара и тут его в дураках оставила! Хоть бы не знать его совсем, этого Яноша Кирая.
Пока он так раздумывал, пробираясь сквозь людскую толчею в заднюю комнату к партнерам, вдруг откуда ни возьмись — сам король Янош.
— Все идет как по маслу! — шепнул он мимоходом и исчез, точно в воду канул.
Катанги даже взглянуть на него не успел. Все как по маслу? А что такое «все»? Вздор несет старик.
Он уже и думать бросил о всякой там баллотировке: не чаял только, как выбраться отсюда. Но вдруг у дверей какой-то человек в серой суконной бекеше ухватил его за пуговицу и попросил оказать протекцию у министра культов.
— Нет у меня там никакого влияния.
— Ну так будет, — подмигнула серая бекеша, как бы намекая: «Мне все известно!»
Это немного озадачило нашего героя. Дальше — больше: во время игры местный лидер либералов Гашпар Бало остановился за его стулом, похлопал по спине и, желая сказать что-нибудь приятное, ободряющее, но в меру тактичное, чтобы не забежать вперед раньше времени, передвинул сигару из одного угла рта в другой и изрек невозмутимо:
— Лопаточки у тебя, брат, совсем как у Криштофа Лабоди покойного.
Криштоф Лабоди был их первым и самым любимым депутатом, прозванным «секейским Ференцем Деаком» *.
— Уж не по лопаткам ли вы депутатов подбираете? — расхохотался стоявший за спиной у губернатора помощник комитатского нотариуса.
Старик строго глянул на расходившегося юнца.
— А хоть бы и так. Что ты понимаешь, сосунок! Менюш чуть со стула не свалился. Уж не во сне ли это ему снится? Но даже если фея Маймуна * и собиралась зашить ему веки, они мигом раскрылись и всякий сон слетел с него при этом повороте от безнадежности к надежде. Сердце у него встрепенулось, кровь взыграла в жилах — он словно помолодел на двадцать лет.
Машинально разглядывая, перебирая свои карты, герой наш еле мог усидеть на месте. Так и подмывало вскочить, расспросить, оглядеться получше — удостовериться в общем настроении.
«Нет, не может быть. Вот уж не может быть! — мелькало у него в голове. — Чтобы король Янош все это устроил? Да ведь с ним тут не считаются совсем. Нет, нет! Вообразил, дурак, невесть что. Неправда все это».
Однако это была правда. Король Янош хорошо использовал этот вечер. Едва приехал губернатор, как он с величайшей таинственностью начал сплетничать, с кем был подружнее:
— Опять наш губернатор что-то задумал, я уж вижу. Это же не голова, а котел трактирный, — день и ночь варит! Вы думаете, зачем он сюда этого, из Пешта, привез?
— Зачем?
— В депутаты протащить хочет, вам на шею посадить. Секейские дворяне переглянулись: а что? Вполне возможно.
— И даже очень. Уж я-то знаю. От кого? (Тут он понизил голос до шепота.) Да сам Тиса * сказал мне намедни в парламенте.
Дворяне стали приглядываться к Катанги, изучая его. Человек вроде ладный, видный собой. Кто его знает, с чем приехал. Общее внимание обратилось на него, чего ни сам он, ни губернатор не заметили.
А король Янош продолжал между тем свои хитрые подкопы.
— Но я-то Тисе сказал, что ничего из этого не выйдет. А не послушает — пускай на себя пеняет. Не будет здесь депутатом Катанги! Да бог ты мой, он и говорить-то по-венгерски толком не умеет. Вы только послушайте, какой у него выговор. Ну, разве годится нам такой?
Сначала россказни его не вызывали особого доверия, но все равно распространялись с быстротой степного пожара. А дядя Янош, переходя вперевалочку от одной группы к другой, подливал масла в огонь своими чванливыми замечаниями:
— Не бывать ему депутатом, раз я сказал. Я не я буду, ежели допущу.
И ударял себя в грудь заносчиво. Конечно, среди гордых секеев сейчас же нашлись такие, кого уязвило это хвастовство.
— Не допустишь? А мы вот возьмем и выберем.
— Ну, это еще посмотрим! — вспылил старик, надувшись, как индюк.
— Ох, ты! Барин какой! — возмутились и другие. — Да у тебя в этом округе ни одного голоса нет. По какому это праву ты здесь распоряжаешься?
Король Янош побагровел до корней волос.
— По такому, что я лучше знаю, кого вам выбирать!
— Ого!
— Дома у себя приказывайте, господин Кирай! — Миклош Олт из Видрафалу, этот Нестор многочисленного семейства, целых сто голосов подававший за него на выборах, поднес волосатый кулачище к самому носу Яноша Кирая.
— Полегче на поворотах, господин Кирай! Слово даю, не бычий пузырь, что нарочно теперь голосовать буду за этого… как его?
— Катанги.
— Да-да, Катанги.
Спорщики так расходились, что пришлось их утихомиривать.
— Тише! Что вы сцепились! Неприлично же. Игроки в той комнате услышат!
Стали и самого короля уговаривать. Не годится, мол, так. Уж коли гостя не уважаешь, так хозяина уважь. Хорошо разве, если он услышит, как его гостя поносят?
Но Янош Кирай оставался непреклонен. Бил себя в грудь, вопя, что никто его не заставит замолчать.
— Я человек прямой. Что на уме, то и на языке.
Так без устали воевал, агитировал он против Катанги, пока оставался хоть один слушатель, и до того разжег страсти, что к утру все на одном сошлись, все повторяли:
— Выбираем этого, из Пешта, и конец.
А некоторые добавляли с ожесточением:
— Да лучше я обеих своих лошадей продам и голоса на эти деньги куплю, но — видит бог! — докажу этому «королю»: депутатом тот будет, кого мы хотим!
И когда хозяин часов около девяти со стереотипным возгласом: «Столы, господа!» — вошел к играющим, король Янош прошмыгнул за ним, уронил у Катанги за спиной монетку и, нагибаясь за ней, сообщил ему на ухо последнюю военную сводку:
— Изберут единогласно, дружок!
ПОДКУПЛЕННЫЙ САМОДЕРЖЕЦ
Завтрак опять сменился фербли — других новостей не последовало, если не считать, что кончились сигары. Пришлось верхового посылать в соседнюю деревню, где, по слухам, у армяша дешевые сигарки были.
А до тех пор хозяин для курильщиков насбирал по всему дому трубок, вплоть до самых завалящих, — даже на деревне одолжил несколько. То-то наслаждение пососать; конечно, кому досталось. Даже аристократы не морщились, что мундштук измусолен.
За обедом, поданным уже под вечер, опять тосты пошли. Самые почтенные лица подымали стаканы за Катанги, уснащая свои речи разными экивоками, вроде того, что «уж если и господу богу так угодно, встанем дружней за гостя дорогого. Ведь из какого далека ни несет, ни струит река свои воды, никто ее чужой не считает, всяк своей назовет. Так пускай же и эта волей всевышнего гордостью нашей станет».
Складно умели они говорить, проникновенно: какой-то первозданной библейской силой дышали их рассуждения, ароматом кедров ливанских и фимнафского меда.
Крики «да здравствует» и общее ликование, как видно, досаждали королю Яношу, потому что он вставлял поминутно: «А вот увидим. Кто знает?» — и тому подобное.
Соседи его делали вид, что не слышат, но он о том и не заботился, а высмотрел себе родственную душу, графа Тенки, и сверлил его острыми глазками, словно ему адресуя свои тирады. Потом встал и поближе к нему перебрался со своего конца.
— И кот сливки любит, — наклонясь к графу, но достаточно громко произнес он, — да кувшин узок, голова не лезет.
Граф нахмурился: это сочувствие начинало ему надоедать, да и фамильярность раздражала.
— Оставьте меня в покое, — буркнул он неприветливо. Остальные так и вовсе скандализованы были неприличным поведением Яноша Кирая.
Еще немного — и его в шею вытолкали бы; к счастью, в этот напряженный момент встал сам Катанги и ловким тостом сумел умерить бушующие страсти. Дескать, в свободной стране свобода мнений: каждое должно уважаться, но особенно — которое без свидетелей говорится.
Тост понравился. Бокалы весело звякнули. Губернатор подвинул свой стул к Менюшу.
— Ну, везет тебе, — сказал он, — прямо в сорочке родился. Ума не приложу, что им в тебе так понравилось?
— Бог их знает, — пожал плечами Катанги, но лицо его сияло.
— Теперь мандат обеспечен, смело можно сказать, — продолжал губернатор, — если только Тенки не выступит против. Покамест от него холодом веет, как от айсберга, и на лице что-то странное, недоброе мелькает, когда на твою кандидатуру намекнут.
Тенки и правда прохладно держался с гостем из Пешта. При упоминании его кандидатуры насмешливо кривил губы, а за игрой обращался к нему с тем пренебрежительным прононсом, за который чернь не раз уже била окна в аристократических клубах.
— Ну еще бы! — с легким юмором отметил Менюш. — Позабыл, видно, про французскую революцию.
Впрочем, король Янош забрал уже графа в свои руки. «Секейский Бисмарк» знал прекрасно, что этого надменного вельможу легче всего пронять именно такой опекой. И он принялся расхваливать его кандидатуру.
Тенки уже закипал и готов был взорваться, когда появился хозяин.
— Столы больше не нужны!
Ферблисты опять расселись по своим местам, но Катанги, не в силах больше бороться с усталостью, выскользнул на свежий воздух.
Голова у него кружилась, руки, ноги дрожали; он чувствовал, что вот-вот упадет, не выдержит в этой жаре и удушливом дыму. И пока пробирался в сени через шубную, задумал дерзкий план — удрать. Он знал, что всем рискует, но больше просто не мог. Единственным его желанием было лечь и уснуть. Не только депутатский мандат — даже трон отдал бы он сейчас за обыкновенную постель.
Во двор как раз вышла миловидная, стройная девушка, вылить ушат с помоями.
— Как звать тебя, милочка? — ласково спросил наш герой.
Но та первым делом одернула синюю цветастую юбку, которая сзади была подоткнута, приоткрывая рубашку, — не бог весть какого тонкого полотна, но красивую и соблазнительную, — и лишь потом ответила:
— Жужи.
Доктор оглянулся украдкой, не слышит ли кто.
— Сделай мне, голубка, одолжение.
— Хоть два, ваша честь.
— Ловлю тебя на слове, Жужика. Два-то мне и нужно.
— Жаль, что я не «три» сказала, — улыбнулась девушка с такой простотой и грацией, любой графине под стать.
— И двух довольно. Но умеешь ли ты молчать?
— Не знаю, — рассмеялась она задорно. — Пока не пробовала.
— Ой, золотце, если не пробовала, тогда все пропало.
— Уж будто такая тайна? — склонила она набок головку.
— То-то и есть, что тайна. Извозчика надо нанять потихоньку, чтоб никто не заметил. Пусть подождет здесь где-нибудь, ну, хоть напротив, у церкви, и в Бранило * меня отвезет.
Жужика испуганно всплеснула руками.
— Иисус-Мария, святой Иосиф! Еще чего выдумали. Меня барин за это прогонит.
— Да ну?
— Вот вам и «ну». Нам строго-настрого наказано, если кто уехать захочет, сейчас барину сказать. А что же будет, коли я сама вдруг пойду и вам помогу?!
— Неужто не выручишь? — просительным тоном сказал Катанги.
— Ой, нет (она умоляюще сложила руки), видит бог, не могу, хоть и знаю, что вы нашим депутатом будете (тут она, отчаянно смутясь, поднесла кончик передника ко рту и ухватила его зубами). У меня ведь нет никого. Мне ничего не нужно, а вот Борбала… та сделает.
— Кто эта Борбала?
— Служанка, как и я, но у нее милый есть — значит, сделает. Борбала, она и черта не побоится, ведь у нее милый есть.
— А где она, Борбала эта?
— Мак на кухне толчет. Слышите, ступка звякает?
— Пошли-ка ее сюда!
Пока Менюш ждал Борбалу, во двор то и дело выходили гости, раскрасневшиеся от вина, и, схватив горсть, снега, терли себе лицо: секейское средство против сонливости.
«Надо это запомнить», — подумал Катанги и тоже растер лицо снегом.
Тем временем вышла Борбала. Вот это была деваха: рослая, статная, дородная, чувственный пунцовый рот, ямочки на щеках, а глаза черные, жгучие, как два светляка. Большим, тяжелым пестом, который был у нее в руке, она поигрывала, словно какой-нибудь мухобойкой.
— Ого, сестрица, да ты с палицей пожаловала!
— Жужика меня прислала, ваша честь, говорит, вам что-то приказать угодно.
Катанги поманил ее за собой к кладовой (у крыльца слишком много народу сновало) и там изложил ей свое желание: нанять извозчика и шубу еще разыскать, — ее можно узнать по сигарнице в кармане. Шубу надо на кухню как-нибудь перетащить, а ночью положить на повозку.
Борбала только головой покачала в такт своей палице.
— Трудновато будет, — поколебавшись, сказала она, — но я вас тоже об одном трудном деле попрошу. Услуга за услугу, идет?
И испытующе посмотрела на Катанги.
— А что такое? — не очень уверенно спросил тот.
— Замуж выйти хочу, — глухим голосом ответила Борбала, — и жених есть.
— Черт подери! Охотно верю.
— Но мне нельзя замуж, хоть он малый славный и люблю я его.
— Почему же?
— Из-за мужа покойного.
— Как? — поразился Катанги. — Вы вдова уже?
— Не знаю, — ответила та печально.
— Ничего не понимаю. Муж умер, а вы не знаете, овдовели или нет: жених есть и любите его, а замуж не идете.
— Что и говорить, такое редко бывает, — вздохнула молодица, — но не в том дело. Два письма вот я написала: хочу просить вашу милость лично доставить их и ответ привезти, когда вы обратно, на выборы, будете.
— Ну, это дело небольшое. Кому письмо?
— Одно в Буду королю, ваша честь; другое в Эстергом архиепископу.
— Гм! И что же в них, в этих письмах?
Красивое лицо Борчи * приняло вдохновенное выражение, как у античной героини. Она даже просветлела вся, будто осененная свыше.
— Королю я пишу, ваша честь, пусть он скажет: его ли еще подданные те, кто уже умерли?
Менюш посмотрел на нее в недоумении. Бедняжка! Неужто рехнулась?
— А архиепископу эстергомскому?
— Пусть ответит: когда смерть начинается?
Со времен истории о цинкотайской кварте * не слыхивал и не читал Менюш ничего подобного. Сомнений нет: она помешанная.
— А зачем вам это знать?
— Тогда ясно будет, можно мне замуж или нет.
— Что, что? Объясните-ка! Как же я ответ привезу, если не понимаю, в чем дело.
Борбала облокотилась на пест, как пастух на палку, и подперла ладонью свое красивое лицо.
— Ну вот, значит, ваша честь, муж мой скончался в Пеште, в больнице святого Рокуша двенадцать лет тому назад. Мы с матушкой сами закрыли ему глаза и вернулись домой. Меня-то уже больную мать привезла, совсем я расхворалась с горя. Ну, ладно; тем, значит, дело тогда и кончилось. Плакали мы по нем, плакали, год, другой — и вот однажды возвращается в деревню Андраш Шикор: «Видел, говорит, мужа твоего, мы с ним даже по стаканчику пропустили». — «Не может быть, говорим, ведь он помер». А Шикор давай божиться: жив, мол, и все тут. Божился и божился, пока другой свидетель не объявился — Шандор Хейя, староста из Лацфалвы. Он тоже мужа моего бывшего признал, — в Надьвараде; даже спросил, что жене передать. А муж ему: «Вы ей ничего не говорите, потому как я загробную жизнь веду», а чтобы Хейя и вправду не сказал, угостил его, как полагается.
— Это покойник-то?
— Да, покойник.
— Вот болван! — вырвалось у Катанги.
Борбала оценила эту галантность и улыбнулась в ответ, потом продолжала:
— Совсем мы растерялись, ваша честь, не знали, что и делать. Пошли к нотариусу, господину Палу Хаму (он тут сейчас, можете у него спросить); господин нотариус написал в Рокуш: что, мол, с мужем моим покойным сталось. А оттуда отвечают: пробудился от летаргического сна и выписан по выздоровлении тогда-то и тогда-то.
— Тысяча чертей! — вскричал Катанги. — Уж не Варга ли Михай ваш муж?
— Он, он, Михай Варга, — удивясь в свою очередь, ответила Борбала. — А вы его откуда знаете?
— Откуда? Да он же, мерзавец, у меня в лакеях служит. Я сам и разбудил его.
— Ну уж, будто, — усомнилась служанка.
— Но он ведь, бездельник, ни разу не говорил мне, что женат! Наоборот, в Сомбатхее все к шинкарке одной, Ширьяи, в мужья набивался. Во что бы то ни стало жениться хотел на ней…
Глаза Борбалы сверкнули и снова с доверием обратились на Меньхерта.
— Да, я слышала… Дурные намерения — они тоже наружу выходят, как и поступки… Ну, поняли теперь, зачем письма?
— Нет еще.
— Да это же очень просто. Если король ответит, что умершие — уже не его подданные, значит — мне можно замуж идти и Михаю Варге взять с меня нечего, потому что на покойников королевские законы не распространяются.
— Ловко, — улыбнулся Катанги.
Однако она вовсе не дура — умом ее господь не только что не обидел, а отличил прямо! Катанги даже любопытно стало второе объяснение послушать. От первого на него словно чудесной старинной сказкой повеяло.
— Ну, а архиепископ?
— Если он ответит, что смерть с отлетом души начинается, мое дело выиграно. Ведь душа-то у Михая Варги отлетела, значит, я вдовая уже.
— В этом есть свой резон.
— Ну, а если он ответит, что смерть позже наступает, что с этим так обстоит, как мы вот попросту, по-мужицки обещаем: дескать, «твоя до гроба», — ежели гробовая доска жизнь и смерть разделяет, тогда дело пропащее, потому что в могиле Варга не был.
Катанги только головой покачал от изумления.
— Ну, милая, великий законник в тебе пропадает! Ясно: ты хочешь узнать, не накажут ли тебя, если ты замуж выйдешь.
Борбала кивнула.
— Но может, вы еще помиритесь с мужем? А то я привезу его сюда.
Она отрицательно потрясла головой.
— Ну что ж, тогда я в Пеште с каким-нибудь знающим юристом посоветуюсь и напишу тебе. А не выйдет иначе, Мишку заставлю на развод подать. Хорошо?
— Письма мои возьмете? — с фанатическим упорством повторила она.
Катанги замялся.
— Но чего ты этим добьешься? Ведь тебе…
— Возьмете или не возьмете?
— Ну, возьму.
— И ответ привезете?
— Привезу, если дадут.
— Тогда, значит, сладились. Так я найму извозчика на ночь и камешек в окно брошу — там, где в карты играют. Это значит — повозка уже у церкви.
— Сигарницу мне принеси, когда шубу найдешь!
Тем временем партнеры хватились Менюша, и посланные на розыски нашли его, но тут же тактично удалились, воротясь с конфиденциальным сообщением (которое принято передавать с плутоватым подмигиваньем), что он-де там интрижку затеял, не будем ему мешать.
Ни к кому у нас не относятся с такой бережностью — кроме разве беременных женщин, — как к мужчине, покушающемуся на дамскую честь. Это наш национальный канон.
— Это дело другое! — смягчились взъершившиеся было игроки.
— Juventus ventus[24], — улыбнулись старики милым сердцу юношеским воспоминаниям.
Вернувшись, Менюш сразу попал под перекрестный огонь пытливых взглядов: «Ага! Где это мы гуляем? Ишь хитрец, проказник! Ну, да нас не проведешь!»
Он сел на оставленный для него стул (он уже был персоной привилегированной), и надежда вскоре улизнуть подстегнула его усталые нервы, подбодрив и воодушевив. С настоящим подъемом взялся он опять за игру, — словно остатки масла вылил в угасающую светильню, вспыхнувшую ярким пламенем. А по двужильным секейским графам даже не заметно было, что они бодрствуют вторую ночь: все по-прежнему свежие, веселые. Господи, из какого же теста они сделаны?
Полчаса спустя на цыпочках вошла Борча и положила перед ним найденную в шубе сигарницу с гербом Катанги, тисненным серебром.
— Ого! — встрепенулась компания, и град игривых замечаний посыпался на Менюша.
— Так это она? Гм, гм.
— Ох, вкусна клубничка!
— А глянула-то как на тебя!
Борбала, заалевшись как маков цвет, выскользнула из комнаты, а Менюш не без тайного удовлетворения и радости отметил про себя, что шуба уже есть. Влюбленный так страстно не жаждет свидания, как он мечтал о побеге. При одной мысли о постели, ожидающей его в Брашшо, сердце у него начинало биться быстрее. Ну вот, наполовину план уже выполнен. Остается вторая половина.
Он открыл сигарницу — там лежали две «британики» *. Партнеры переглянулись, пораженные. Граф Тенки остекленевшими глазами уставился на это сокровище.
Шутка сказать — британики после этой дряни, которую целых два дня пришлось сосать! Тишина воцарилась могильная: напряжение было слишком велико. Губернатор, который как раз сдавал, положил карты, словно предчувствуя, что сейчас случится что-то необыкновенное (способность предчувствовать у губернаторов определенно тоньше развита, чем у прочих смертных). Менюш оценил важность момента и по инстинктивному побуждению вынул одну сигару — самую лучшую, не помятую — и протянул графу Тенки.
Граф улыбнулся, обворожительно улыбнулся, откусил кончик и еще раз улыбнулся Катанги. Сигара отлично раскуривалась. Тенки медленно, смакуя, выпускал дым через нос, словно жалея с ним расстаться. На третьей затяжке по его лицу разлилось неземное блаженство.
— Великолепная сигара, — промычал он, — просто первоклассная!
Он долго, мечтательно следил за струйкой дыма, потом осторожно сбросил пепел.
— Такую сигару я себе позволяю выкурить, только когда в Пешт наезжаю.
— Что-то редко ты туда наезжаешь, — вставил губернатор не без задней мысли.
— Опостылел он мне, Пешт этот. Глаза б его не видели.
— Да? А мне говорили, что ты… как бы это выразиться… на ближайших выборах…
— А, болтовня одна. Стар я уже для этого. Думал, правда, кандидатуру свою выставить, если другой не найдется… но, кажется, нашлась (и он дружелюбно указал глазами на Катанги). И вообще я стар… и сигара божественная… и вообще, какая там ставка?
У Катанги и у губернатора отлегло от сердца. Айсберг растаял. Тенки больше мешать не будет. Британика его свалила.
БЕГСТВО
Игра все продолжалась. Разгорелось настоящее сражение: четыре картинки против четырех простых, — ужасное кровопролитие! Страсти бушевали. Княжеский отпрыск свернул бумажный форинт бантиком — у секеев это называется «жеребчик». Жеребчик — скотинка, норовистая, нипочем хозяина не слушается. Кто его выиграет, тут же снова обязан поставить. Так он и странствует от одного к другому, возвращаясь и подогревая азарт.
Катанги играл рассеянно. Ему везло в игре покрупнее, и деньги его сейчас не интересовали. К тому же голова у него гудела и глаза застилало от двух бессонных ночей. Но Фортуна — божество прекапризное («богиней» мы даже не решаемся ее назвать: будь она хоть капельку женщиной, так не льнула бы к самому изнуренному мужчине). Она буквально вцепилась в Катанги, и ему везло, бессовестно везло.
Наш герой изо всех сил старался спустить свой выигрыш (кандидату в депутаты полезней проигрывать, говорят); но напрасно: все легкомысленно выброшенные им крейцеры возвращались обратно с целой стайкой своих товарищей.
К одиннадцати часам он уже выиграл форинтов пятьдесят — шестьдесят. И тут вдруг — дзинь! — звякнуло стекло.
Катанги молча встал и сунул свои карты какому-то веснушчатому господину, который, сидя позади, наблюдал за его игрой.
— На, сыграй пока за меня. На кон я уже поставил.
Конопатый, явно польщенный оказанной ему честью, победоносно огляделся, садясь за стол: все ли видят, за кого он играет и с кем.
— Набавляют! Набавить? — крикнул он Меньхерту вдогонку.
— Как хочешь.
И с этими словами, не возбудив ничьих подозрений, герой: наш вышел как бы на минутку, еще раз оглянувшись с порога на своего достойного заместителя, которого он совсем не знал и, вероятно, в последний раз видел.
В сенях сидела на ларе маленькая Жужика, взбивая сливки в желтом глиняном блюде. Ах да, ведь еще ужин будет.
— Ну, Жужика, счастливо оставаться! Он хотел сунуть ей форинт.
Но Жужика, поставив блюдо на ларь, спрятала руки за спину.
— Денег не возьму!
— Тогда что же тебе дать? Она потупилась смущенно.
— Ничего. Ничего не нужно. Но если не забудете, пришлите лучше…
— Ну, что? Жениха, может быть?
— Нужен он мне. Из Брашшо с извозчиком пришлите… — запнулась она еще раз, — кусок душистого мыла.
— Ай да Жужка! Верно, верно, — сначала мыло. Будет душистое мыло — и жених найдется.
— Идите вы, — притворно замахнулась она ложкой, — а то сливками обрызгаю.
Но он уже сам ушел, хотя подвигался с трудом, медленно. Темень была, глаз коли; насилу из двора выбрался. На небе ни звездочки, и свечи в хатах уже погасли. Все село спало, и земля тоже словно опочила под снежной пеленой, а ветер напевал ей колыбельную песню, свистя в заиндевелых ветвях.
Только снег белел в этой непроглядной тьме да еще церковь. Напрягши зрение, Менюш с трудом различил там какие-то движущиеся тени. В одном месте сплошная чернота ночи казалась словно немножко серее от дыхания лошадей. Но повозка за ними уже скорее угадывалась, чем виднелась.
Подойдя ближе, Менюш услышал шуршанье юбок. Ага, это Борбала со своими пунцовыми губами и жгучими глазами. Ну и ночь: даже эти глазки не в силах победить темноту.
Лишь шорох платья у повозки выдавал, что и она тоже ждет, — вероятно, с письмами. А шорох этот ночью обладает завлекательной, магически неотразимой силой.
— Где извозчик?
— Тут я, ваша честь, — глухо ответил мужской голос.
— Ехать можно?
— Можно.
— Дорогу-то увидите?
— Как она меня, ваша честь, так и я ее, ваша честь.
— А шуба здесь моя?
— Здесь, ваша честь.
Женская фигура между тем приблизилась, и рука с письмами коснулась его руки. От этого прикосновения огонь пробежал по его жилам. Разгоряченное воображение дорисовало в темноте Борбалу, наделив ее такой волшебной, пьянящей красой, что устоять было невозможно. Во внезапном порыве страсти он обнял ее и впился губами в ее губы.
— Ой, ай! — раздался крик. — С ума вы, что ль, сошли? Очки разобьете!
У Меньхерта руки опустились.
— Какие очки?
— Мои, которые на носу.
Голос был скрипучий, неприятный и совершенно незнакомый — Менюш впервые его слышал.
— Да кто вы такая?
— Мать Борбалы я. Борча сама не успела и меня с письмами прислала. Можно мне идти, ваша честь?
— Хоть на самый Геллерт * проваливайте!
Менюш выругался даже и ногой в сердцах топнул. Но он был неправ: кому в карты везет, с тем в любви обязательно какая-нибудь неприятность приключится.
Так закончилась боронтойская авантюра. Что еще тут можно добавить?
Через три часа наш герой прибыл в Брашшо.
А через три месяца его единогласно избрали в парламент от Боронто.
На этом наши разыскания пока кончаются. Мы приподняли завесу над той частью его жизни, которая неизвестна в политических кругах. Позже и про другую расскажем, неизвестную пока широкой публике, хотя депутаты вовсю шепчутся о ней, — словом, про закулисную.
Почему, например, он разбогател? Может быть, вы думаете, это веснушчатый господин, который сел за него играть (да так и сидит до сих пор, как любит пошутить Менюш в кулуарах), состояние для него выиграл? Пришел в один прекрасный день, лет этак через двадцать — тридцать, поседев и состарившись, и заявил:
— Надоело уж дожидаться, ваша честь; заберите-ка свои денежки — вот они, миллион ровно.
Э, нет! Совсем иначе разбогател наш Менюш. Как он стал крупным помещиком, как его снова избрали в парламент — это опять все целые романы.
Имение ему поезд местного сообщения принес, а новый депутатский мандат — новая, еще более ловкая проделка. Но об этом речь впереди.
ПИСЬМА ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА ГОСПОДИНА ДЕПУТАТА МЕНЬХЕРТА КАТАНГИ
Письмо первое
25 сентября 1893 г.
Дорогая женушка!
Когда мы позавчера прощались, ты мне сказала (каждое твое слово запечатлелось у меня в памяти, душенька):
«Меньхерт! Тебе ведь денежки за урожай не терпится промотать — вот почему ты спешишь, а совсем не из-за политики. Ну, ну, не лги мне, Меньхерт. Знаю я вашу политику, своими глазами видела. Она у вас в юбочке коротенькой бегает, в варьете пляшет. И когда ты образумишься, Меньхерт? Не толкуй мне про Векерле *, что он без тебя не может и тому подобное. До ноября ты спокойно дома мог бы сидеть».
На это я тебе ответил, что ехать надо: с министрами поговорить — с одним, с другим — по делам избирателей; кроме того, положение вообще трудное — оппозиция голову подымает, а в такое время каждый истый мамелюк[25] на месте должен быть. Вдруг правительству его совет или мандат понадобится — Конечно, один голос — это только один голос; но если каждый будет так рассуждать, что с Венгрией станется?
В общем, ты меня отпустила, деточка: ты ведь умница у меня, все понимаешь. Пуговицы ко всем моим сюртукам пришила, ветчинки сварила на дорогу (ух, славно я подзакусил в купе!), на станцию проводила и взяла с меня слово ежедневно писать. «По крайней мере, хоть за письмом картежничать не будешь», — вот точные твои слова. Я обещал писать тебе каждый день, а в дни заседаний подробно излагать их ход и все происшествия — ты ведь сама любительница с галереи прения послушать.
Я влез в вагон, ты еще раз шепнула мне с заплаканными глазами: «Экономь, Менюш, на всем экономь да квартиру сними, чтобы я тоже могла поскорее приехать», — и поезд тронулся.
Всю дорогу колеса слова твои выстукивали, и по приезде я первым делом стал искать газету, которая возьмется мои письма печатать про парламентские заседания, — чтобы ежедневно пять крейцеров на марках экономить.
Так я набрел на «Пешти хирлап». Там и будут публиковаться мои письма. То-то оскорбится коллега Миксат! Он на ту же тему статейки туда строчил. Правда, паршиво получалось; ну, да я сам теперь возьмусь.
Так вот, сегодня было первое заседание. Первое заседание по-настоящему нужно бы назвать «днем рукопожатий». Несколько сотен добрых друзей радуются встрече, не успевая пожимать друг другу руки. «Ну, где лето провел? Как себя чувствуешь? Когда приехал?» — такие и подобные праздные вопросы нестройным гулом наполняют коридор.
Заседание открывает Банфи *. Тем временем сидишь и с любопытством оглядываешь палату: какая она стала.
Какая, ты спросишь? Да точь-в-точь как муфта твоя осенью, душечка. Достаешь и видишь, что она еще сильнее повытерлась, пооблезла.
Так и палата. Затылки — еще плешивей, лица — еще морщинистей. Постарела, одним словом, с прошлой сессии.
Полюбовавшись общей картиной, переходишь к деталям. Смотри-ка, министры прекрасно как выглядят! И не мудрено: отъелись небось в Кёсеге за королевским столом *.
Силади * очки надел. И зря. У него глаза красивые — симпатичные такие, выразительные, а теперь за стеклами их не видно. Фейервари * совсем поправился — бравый, статный, хоть сейчас в лейтенанты. Векерле так и сияет. Тиса, бывало, моргать начинал, когда законопроект хотел провалить; а Векерле улыбкой просителей добивает. Все они одинаковы, эти премьеры.
Министры вообще все в хорошей форме. На Лайоша Тису благотворно повлиял венский воздух (хотя не вредно бы и бихарской атмосферы туда захватить). Бела Лукач полнеет; даже Хиероними не похудел, — даром, что все лето с капосташмедерской водой провозился. Но зато просто чудо сотворил: такая эта вода вкусная, деточка, я даже вина не пью теперь *.
Короче говоря, правительство в добром здравии и, судя по всему, долго проживет. Все симптомы на это указывают. Дурных пока нет. Ну, а толкователи случаются всякие, и злонамеренные тоже.
Но вот зазвонил председательский колокольчик. О милый колокольчик, как давно не раздавался твой звонкий, чистый голосок! Клинг-кланг! Клинг-кланг! Банфи вручает высочайший рескрипт Анталу Молнару — сломанная печать белым мотыльком порхает на шнурке.
А изобретательный все-таки ум у этого Банфи! Не такой он простак, каким кажется. Смотри, какую штуковину опять удумал! Пристроил возле председательского места машинку, похожую на часы, но с алфавитом вместо циферблата, а другую такую же — в коридоре. Когда нужно, она букву показывает, которая голосует в зале. Теперь уж не опоздаешь, милочка!
В остальном все по-старому, только у Дюлы Юшта * шрам во всю щеку. Полони и Этвеша * нет; Аппони * сидит, задумавшись, на своем обычном месте; за ним — Хоранский *, нахохлился, как больной сыч.
Между делом стал я и на дам вверху, на балконе, поглядывать — без всяких таких мыслей, Клари, честное слово! Знакомых все равно не было, а незнакомые и подавно меня не интересуют. Бог свидетель: таких красавиц, какой ты была, теперь уже не сыщешь.
Зато в зале я одну интересную вещь приметил: чуть не у всех ордена на груди поблескивают. Что за притча? Неужели это Вильгельм Второй пожаловал им в Кёсеге?..
Нет, вон и Регеле с орденом, и Шандор Эндреди, а они в Кёсеге не были. И Таркович не был, но все равно получил. «Какая бестактность, — думаю, — я тоже не был, а мне не дали».
Перевожу взгляд дальше — и что же? У всех стенографов на лацкане та же штучка.
Что это может быть? Что тут происходит? Начинаю расспрашивать, — и вот объяснение:
— Председатель выдал всем парламентским служащим.
— Зачем?
— Чтобы по этим значкам их от депутатов отличали.
Вот чинуши, вот баре, — ты подумай, Кларика! Такое оскорбление нам нанести. Я уверен, что это они сами себе выпросили, чтоб их с нами, грешными, не путали.
Но на чем я остановился, — да, что председатель передал Молнару рескрипт, на котором печать болталась с двуглавым орлом (кстати, ты не читала в газетах: где-то настоящего, живого орла с двумя головами подстрелили).
Антал Молнар огласил рескрипт. Этим и открылась вторая сессия. Потом объявили имена вновь избранных депутатов — среди них Отто Германа *.
Кто-то, кажется Габор Даниэл, вздохнул у меня за спиной: «Ну, вот уже и Мишкольц в Германштадт превратился!»
И еще у нас двое новых коллег теперь, но смертных случаев новых пока нет. Скажи шурину Муки, пусть потерпит немного. Наверняка кто-нибудь помрет рано или поздно. Смерти никто не минует. И ты тоже за здоровьем своим следи, Кларочка. Не гуляй вечером без пальто или легко одетой: осень — время самое коварное.
После обычного бормотанья — чтения протоколов и объявлений — Имре Салаи обратился к премьеру с запросом по поводу ответа его величества кёсегским городским властям *.
Премьер, сияя улыбкой, сказал, что мог бы сразу ответить, но предпочитает подождать: вероятно, еще интерпелляции будут по этому поводу.
— Будут, будут, — доброжелательно заверили его со скамей оппозиции.
После этого был назначен день следующего заседания. Хелфи * не прочь был и после дождика в четверг, но палата в среду днем решила.
Ну, храни тебя бог. Ребятам подзатыльника от меня дай.
Твой любящий муж Меньхерт Катанги.P. S. Квартиру ищу, но не могу найти. И вообще здесь, того и гляди, холера разразится. Я решительно против, чтобы ты сейчас приезжала.
М. К.Письмо второе
27 сентября 1893 г.
Милая моя Клари!
Совсем кратко пишу тебе, душенька: уж очень я занят в комиссии по наблюдению за соблюдением.
Надеялся я после речи премьер-министра домой слетать на пару деньков — предполагался ведь перерыв, пока бюджет в комиссиях обсуждается. Но Векерле отнял у меня надежду поскорее обнять тебя. Не сердись: он, видно, знает зачем, — это так же верно, как то, что я не знаю.
Вместо того чтобы сразу ответить на запросы оппозиции о королевских речах в Борошшебеше и Кёсеге и одним ударом покончить с этим, он решил обсуждать каждый в отдельности и дать всем высказаться (бедный государь! Парламент скоро будет разговаривать с ним, как ты со мной: словечка вставить не даст).
Да, он такой, наш Шандор, — нипочем не отступит. Не Шандор, а прямо Александр Македонский. Уж он не станет прятаться в раковину процедур да формальностей разных. Увидел врага, расправил плечи богатырские:
— Что, подраться захотелось? Давайте подеремся, померяемся силами. Эй, шире ворота, все сюда лезьте!
Так что на будущей неделе — рукопашная. Но теперь уже легче: Векерле сегодня посбил с них спеси своим финансовым отчетом.
Людное было заседание — на галерее я даже тетю Тэрку видел: она тебе кланяется. Зал гудел как улей. Силади сидел слишком далеко, так что не удалось поговорить с ним насчет твоего брата, нотариуса, которого ты в судьи прочишь.
Но очень кстати я узнал (это между нами!), что министр все равно не в духе, и вместо него переговорил с Ференцем Феньвеши. Он обещал сам рекомендовать твоего брата Силади, когда тот будет в настроении. Но будет ли он когда-нибудь в хорошем настроении — это еще вопрос.
Новостей особых нет. Фабини * отпустил бороду (значит, все спокойно в Венгерском государстве). Зато Домокош Барчаи сбрил усы, так что в волосяном вопросе парламент не сдвинулся с места.
Что можно про отчет сказать и вообще про заседание? Цифры, цифры и цифры, милочка. Одни цифры кружились в воздухе, как мухи над медом.
Мы, мамелюки, гордо восседали на своих скамьях. Царило глубокое молчание, только я удовлетворенно побрякивал мелочью в кармане.
Говорил Векерле хорошо — плавно, красиво, без единой запинки, речь его, как ручеек по золотому песку, журчала.
Лишь одобрительные возгласы: «Правильно!», «Ура!» — прерывали изредка ее течение.
Так говорил, говорил он, пока лица у всех не прояснились, — особенно, когда оказалось, что у нас одиннадцать тысяч экономии.
— Вот это да! — одобрил я громогласно.
(Первая моя реплика за всю политическую карьеру. Интересно, попадет она в «Немзет»? *)
Премьер-министру она явно понравилась: он посмотрел в мою сторону и улыбнулся.
В зале закричали «ура!» и зааплодировали.
После этого он к валюте перешел, заявив, что для беспокойства нет оснований.
— Неужели? — вставил Хелфи язвительно.
Векерле это замечание явно не понравилось: он посмотрел в его сторону и улыбнулся.
Премьер рассказал, как много у нас теперь золота, — в обращении уже сто двадцать один миллион крон золотой монеты. Слышишь, Клари, сто двадцать один миллион! А ты говоришь, мы без дела сидим, время зря тратим. Что ж, это пустяк, по-твоему, такие сокровища накопить? Да еще нетронутый золотой запас есть.
В общем, все благополучно. Живем по-княжески, в золоте купаемся, а Векерле — еще и в лучах славы.
После отчета мы устроили ему овацию. Да это и не отчет был, а утонченное наслаждение: слушаешь, а тебя словно нежно так за ушком щекочут.
И пока я слушал, облокотясь на кресло, ты стояла у меня перед глазами, Кларика, ты, не устававшая повторять: «Бережливость чудеса творит».
Теперь я и сам вижу — и стараюсь научиться бережливости.
Аппони — тот уже заразился ею. Во всяком случае, внося свою интерпелляцию в конце заседания, он уже просто поскупился и на слова и на требования. Скуп был до отвращения! Спросил он о сооружении памятника гонведам *. Вон какую старину вспомнил!
Мы только головами покачали: «Вот чудак!»
Ведь это так выглядело, словно он откуда-то старый, завалящий окурок вытащил, хотя перед ним сигар целый ящик.
Твой любящий муж Меньхерт Катанги.P. S. Квартиру все ищу, но спешить некуда: сегодня семерых в холерный барак свезли. Счастлив, кто чистым, незаразным деревенским воздухом дышит!
М. К.Письмо третье
5 октября 1893 г.
Дорогая Клара!
Ты упрекаешь меня, что я вот уже больше недели не пишу тебе про заседания, и спрашиваешь, где бываю, что делаю: уж не за старые ли грешки принялся, раз не хожу в палату?
Ну, чем же я виноват, душечка, если обсуждение запросов на такой поздний срок назначили — на сегодня? А чтобы господа депутаты не расползлись тем временем кто куда, хитрый Банфи вот что придумал: распределил материал для обсуждения поэкономнее — по четверть часика на каждый день.
Так что с письмами у меня ничего не вышло: я в парламент уже после спуска или еще до поднятия флага попадал — на заседаниях даже и не присутствовал. Зато у Банфи, по крайней мере, со мной, прекрасно все вышло: пришлось остаться, мужественно сопротивляясь твоим телеграфным призывам. Прости, милочка, но что поделаешь: долг…
Как я время убивал? Да наблюдал за соблюдением (сколько раз тебе повторять, что я член комиссии по наблюдению за соблюдением парламентских форм ведения протоколов!). Наблюдал — и ждал. Господи, мы ведь только и делаем, что ждем. Векерле в Пеште — ждем, когда он в Вену поедет; Векерле в Вене — ждем, когда и с чем домой вернется. Ждем да ждем — так оно, время, и проходит. Я и карты уже забросил — все жду только. Жду, когда придворные штаты утвердят; когда золотой форинт введут; жду начала следующего квартала, наконец. Но больше всего — когда наш антиклерикальный законопроект из Вены вернется *.
Ты говоришь, шурин Муки интересуется, что я думаю на этот счет?
Я думаю, он вернется, наш проект, король его одобрит. Но не ручаюсь, что и тут не повторится история с моим черным сюртуком, на котором ты нашла длинный волос, помнишь?
Ты тогда шум подняла: мол, это волос женский, а я тебе объяснял: раз он длинный, значит, только с головы Отто Германа мог взяться.
Так вот, Клари, боюсь, что и наш законопроект с чужим волосом вернется, — и, уж конечно, это будет волос Васари *.
Но это вопрос будущего, а пока палату королевские ответы занимают.
Народу собралось видимо-невидимо, даже Саболч Сунёг явился. В кулуарах в перерыв яблоку негде было упасть. Толпа гомонила, волновалась. Тут я первый раз нашего общего военного министра увидел, Кригхаммера: * бряцая шпорами, прошел он к министрам в кабинет, представиться и засвидетельствовать почтение.
Это плотный, добродушный, очень живой господин, только ножки тонковаты. Непонятно, как он на таких ножках умудряется ежегодно столько миллионов из казны уносить.
Прибыл и его новоиспеченное сиятельство господин Радо (до сих пор самый известный венгерский губернатор). Дескать, вы в Кёсег приезжали посмотреть, как я там все устроил; вот и я теперь посмотрю, что вы тут устраиваете.
Атаку открыл Барта *. Оратор он блестящий, умница и как стилист еще получше Папай *. С пылом, с жаром мотивировал свое предложение выразить неодобрение правительству.
Потом Аппони прочитал жалобу на высочайшее имя. Национальная партия, как видно, на своей вчерашней конференции выплакалась ему, по выражению «Пешти напло» *.
Новость мало приятная для Банфи. Вот не было печали: жалоба, над которой, чего доброго, и все заплачут! Ничего себе зрелище — такого еще не бывало. Только представить себе, как Урбановский зарыдает, рухнув на скамью, как слезы заструятся по лицу Антала Молнара; как твердокаменный Крайчик засопит (не будите его, беднягу). Черт бы побрал такую жалобу, в придачу к которой носовые платки требуются. Уж не заказать ли сотни три?
Феньвеши, стенограф, всю ночь напролет изобретал официальные выражения, подходящие для такого необычайного случая. Как все это в протоколе обозначить? Ну, ладно: сопенье — это «волнение в зале», слезы — «сильное волнение слева» (или справа); но как с рыданьями быть, судорожными, горькими рыданиями?..
Бедняга никак не мог решить и прибежал ко мне на ночь глядя: давай, мол, придумывай, раз ты за соблюдением наблюдаешь… Поднял меня с постели, хотя уже половина десятого было, — ты подумай! Не веришь — сама спроси.
— Не мешайте мне спать, — сказал я ему, — никто плакать не будет.
И правда, никаких слез не было. Национальная партия, как сказано, еще вчера выплакалась, а крайние левые в этом вопросе и вовсе вели себя, как влюбленные в медовый месяц.
Переглядывались только да улыбались умильно друг дружке, а не то что плакать.
Мы же, мамелюки, слушали и терпеливо дожидались конца, — нам всегда ведь ждать приходится. Но на сей раз это было особенно долго. Неутомимый оратор все откладывал да откладывал в сторону прочитанные «собачьи языки» (так журналистская братия называет на своем жаргоне, — не думай, не собственные языки, а длинные бумажные полосы, на которых статья пишется). Так вот, откладывал он да откладывал эти «языки», но в руках у него все еще оставалось их предостаточно.
Урани нетерпеливо заерзал рядом со мной.
— Давненько не получал король таких длинных посланий.
— А что ему, королю, — отозвался кто-то сзади, — он и этого все равно не получит.
Но нам-то его пришлось до конца выслушать. Несколько раз раздавалось «ура» — слева в том числе. И вдруг в самом прекрасном, патетическом месте Габор Каройи * как рявкнет с «горы» дышащим злобой голосом:
— Ладно, ладно, а Кошута кто венгерского подданства лишил? *
За Аппони поднялся Векерле. Тишина наступила, как в церкви. Представительный мужчина наш Шандор — жаль, что ты его не видала, сдается мне, он даже принарядился: новый черный сюртук, белоснежный галстук с блестящей булавкой.
Но все это перестаешь замечать, как только он заговорит. Тут уж мысли его все затмевают. Смелые идеи, обобщения, неожиданные выпады, подводные мины и отравленные стрелы — целый арсенал разбросал. Боюсь даже, не слишком ли много, как бы оппозиция эти стрелы не подобрала и обратно в него не пустила.
Векерле буквально обо всем сказал, не только о гравамене[26] (а как он это слово произносит — бесподобно! Да, вот это ум, ты даже не представляешь).
И нашей национальной политики тоже коснулся, успокоив расходившиеся страсти. Только Габор Каройи — опять этот Каройи! — перебил его:
— С попами разделайтесь сначала!
Тут и я совершенно машинально крикнул: «Правильно!» (Только смотри не проговорись нашему священнику.)
Но вернемся к Векерле. Самым замечательным местом в его речи было доказательство парламентской невозможности подать королю жалобу Аппони. И защита кёсегского ответа ему удалась. Мамелюки кивали, довольные. Оппозиция тоже не шумела, один Дюла Хорват * ворчал все. Но Хорвату нужно поворчать часика два в день, как Подманицкому погулять. Организм у всех разный: кому что полезно для здоровья.
Да, кёсегский ответ защитил он отлично, а как же иначе! Миклош Юришич * и тот кёсегские твердыни оборонял не лучше. Но ты, конечно, не знаешь, кто такой Юришич, вы ведь в своем монастырском пансионе совсем историю не учили. А я вот по ночам все такие книжки читаю.
Но стоит наладиться делу, Пазманди все испортит. Ты ведь знаешь Дини, какой он: ветреней Лилиомфи, надоедливей Пала При *. Все-то он знает, везде суется, за все хватается. Наверно, он и при сотворении мира присутствовал и, когда господь солнце создал, выскочил с репликой: «Так нельзя, это слишком высоко, сделай другое, пониже, и мне сдай в аренду».
Чертовски удачная реплика, конечно. Все в ней есть: и царя небесного покритиковал, и о благе народном позаботился, и себя не забыл.
Сегодняшняя была не такая удачная, — скорее просто ехидная. Дини про «пассиршейн»[27] вспомнил. Премьер в нескольких полных достоинства словах заклеймил эту выдумку, которая состоит в том, что ему якобы пришлось выпрашивать пропуск в придворной канцелярии, чтобы на учебный плац попасть.
— Я трех свидетелей выставлю! — горячился Пазманди.
— А ну, выставь! — отвечали справа.
Но Векерле уже к другому королевскому ответу перешел — в Борошшебеше. Очень мне хотелось, чтобы он еще по поводу кёсегского добавил: хотя ни одна конституция не вечна — ее всегда ведь можно изменить, — основные законы так глубоко западают в национальное сознание, что кажутся неизменными. Это мое собственное соображение, и я бы непременно его высказал, будь я премьер-министром (не смейся, Клари, тебя ведь тогда бы «ее высокопревосходительством» величали). Но я не премьер и поэтому изложил свое мнение в кулуарах одному Яношу Ронаи, который мне выразил живейшее одобрение.
Впрочем, Векерле и поумнее вещи говорил, выкрутился он здорово; но что он про борошшебешский ответ сказал, меня, признаться, не удовлетворило. Голосовать я, конечно, буду, — за все, что он предложит, проголосую; но объяснить надо было все-таки иначе. Ну хотя бы так, что это, мол, стилистический ляпсус.
…Пускай лучше Папай плохим стилистом будет, чем мадьяры просто «национальностью».
Твой любящий супруг Меньхерт Катанги.P. S. Об остальных выступлениях не буду распространяться — едва ли что стоящее было. После большой речи Векерле, которая вызвала овацию — настоящую бурю восторга, я вышел в буфет пообедать и, что дальше было, не знаю. Краем уха только слышал, что выступал Полони, а какой-то озорной мамелюк вдруг как заорет в самом замечательном месте:
— Этвеш иначе считает!
Квартиры до сих пор не нашел. И ты уж не торопи меня, душечка: все равно искать пока не стану. Слишком взволновал меня печальный случай с одним нашим коллегой, который убился насмерть, как раз когда обставлял квартиру для приезжающей жены (ты читала, конечно, в некрологах). Или ты меня совсем не любишь, Клари?
М. К.Письмо четвертое
7 октября 1893 г.
Дорогая моя Клара!
Погода великолепная. Боже, как хорошо тебе там, наверное, с детишками!.. Солнечные лучи позлатили палату — это пестрое, многоглавое сборище со всех концов страны.
Лица у всех сегодня мирные, довольные, даже улыбающиеся. Только Банфи стала трепать Эдисонова лихорадка, когда приступили к выборам вице-председателя и в первый раз затрещала машинка, показывающая, чья очередь голосовать. Блажен Деже Перцель, первый механически избранный вице-председатель!
Игрушка ничего себе, занятная, гудеть и дребезжать умеет преотлично, только в алфавите слабо разбирается — часто не ту букву показывает, которую нужно, а какая ей больше нравится. Но, в общем, хитрое изобретение, а как музыкальный инструмент даже, можно сказать, полезное. Приглушить только немножко не мешало бы — пением хоровым, что ли, как в Опере. «Хор секретарей и стенографов» — неплохо звучит.
Дни голосования мы очень любим. Оратора нет, вся палата в кулуарах болтается вместе с министрами, которые куда доступнее в это время. Обычно-то они прикидываются, будто с напряженным вниманием следят за выступлениями оппозиции, а после заседания срываются с лихорадочной поспешностью (ох, хитрецы!) и мчатся куда-то по коридору.
Нынче же мне удалось наконец почти каждому словечко замолвить за брата твоего, Криштофа.
Первым я поймал Силади и сказал, что вот уже полтора года родственник один у нас на шее сидит. Прогнать его неловко, хотя нас порядком уже допек этот нахлебник (ты ведь сама писала, что не потерпишь его больше в доме). Избавил бы, мол, нас от него, должность дал какую-нибудь.
Силади выслушал меня до конца; только брови его косматые подымались раздраженно все выше, выше. Я уже думал, они совсем со лба уползут.
— Хватит чушь городить! — буркнул он наконец, повернулся и ушел.
Только земля-матушка застонала (половицы то есть) под его грузными шажищами…
И остался я, беспомощный, неприкаянный… но тут мне на плечо опустилась чья-то участливая рука. Граф Андраш Бетлен!
Я и ему изложил свою просьбу: так, мол, и так, есть у меня один протеже, пристрой его, пожалуйста, куда-нибудь.
— Из какой он семьи? — спросил граф. Но только я ответил, тотчас скрылся куда-то.
К счастью, рядом, в углу, стоял Хиероними — поздравления принимал по поводу своей вчерашней речи. Такие минуты всегда самые подходящие, и я к нему подступил с Криштофом.
— А что он делать умеет? — спросил министр, испытующе глядя на меня.
Ну, тут уж я не стал дожидаться, пока он уйдет, — испарился сам без звука и подцепил в другом углу нашего бравого Фейервари, который до сих пор ступает так, словно у него сабля на боку.
Я опять все ему выложил: хлебное местечко, дескать, не найдется ли.
— А кто он? Унтер отставной? — оживился Фейервари.
Я ответил: «Нет». И Фейервари, вспомнив вдруг, что позабыл что-то в министерском кабинете, побежал туда. Но из дверей, за которыми он скрылся, появился сам Шандор Векерле — цветущий, сияющий, как жених, еще издали протягивая мне руки, точно старому товарищу.
Я объяснил, чего добиваюсь, прося сделать для Криштофа что-нибудь.
И представь себе, он чрезвычайно заинтересовался — прямо-таки с радостным нетерпением слушал, а когда я кончил, вскричал:
— Будет сделано, Менюшка, дорогой! На какое место прикажешь его назначить?
Я, по правде сказать, растерялся немного от неожиданности, не сообразил сразу, какое из всех возможных мест выбрать для Криштофа. И тут этот проклятый звонок зазвенел, да так резко, настойчиво; не мог уж Антал Молнар секундой позже кнопку нажать! Мы оба побежали в зал.
Там уже Дюла Хорват выступал, — да ты знаешь его. Вам, женщинам, он всегда нравился. Хорват, милочка, человек замечательный, и не просто потому, что талантливый. Он сначала поседел, а потом помолодел, — мы же, грешные, сначала бываем молодые, а потом уж седеем.
Полдень был — за окнами как раз благовестить начали, — когда Хорват ополчился на королевские ответы. Фелициан Зач * тоже как раз полдень выбрал, чтобы в королевские покои ворваться.
Но Зач милосерднее был, он только четыре пальца отрубил королеве. А Хорват кинулся рубить правую руку его величества — Шандора Векерле.
Говорил он оригинально, красочно, но мысли у него разбегались, расползались, как те омлеты, на которые ты жаловалась. Отдельные места возбудили, правда, общее внимание; особенно он в насмешках силен. Обронил он и много идей интересных.
Коллеги его в ложе для прессы только вздыхали: «Ах, как разбрасывается! Ведь это же целая самостоятельная тема… Вот опять… Опять…» Им-то казалось, что он перлы ума и красноречия расточает. Но все это так относительно! Мамелюки, например, думали, что их грязью обливают, а оппозиция — что огненной лавой…
Никого не пощадил Хорват — ни живых, ни мертвых; даже на машину для голосования обрушился (и этот бедный, невинный инструмент не оставил в покое!). Ярко, живописно — пожалуй, даже слишком — разоблачил нашу национальную политику; правительство разругал на чем свет стоит, а похвалил только одного-единственного человека: Гергея Молдована *.
Понятия не имею, деточка, кто этот Молдован, где живет, чем занимается; но в одном не сомневаюсь, раньше Аппони кресло премьера он не займет.
Но все равно для Дюлы Хорвата и для Криштофа день был сегодня удачный.
Остальные выступления перенесены на понедельник. В понедельник и я, пожалуй, запишусь в ораторы.
Твой любящий супруг Меньхерт Катанги.P. S. Насчет квартиры все сомневаюсь. Хотя вот Легради * новый дом сейчас строят…
Как ты смотришь на такую комбинацию?
М. К.Письмо пятое
9 октября 1893 г.
Милая моя Клари!
Сегодня и я записался выступать. Есть у меня одна идея, которую я собираюсь изложить, — правда, с оппозиционным душком (это меня и удерживает).
Ты сама мне ее подала, душенька. Глядя на тебя, подумалось мне, что каждое наше правительство обращается со своей страной, как я с тобой. Вместо серьезных государственных мер мелкими подачками затыкает рот общественному мнению, — и то, когда оно чересчур уж его разинет.
Точь-в-точь как Я! только ты дуться начнешь, сейчас ковер тебе обещаю. Ты успокоишься, поцелуешь меня даже, но немного погодя начинаешь спрашивать: а где же ковер? Принесу — ты замолчишь. Но через некоторое время — опять за старое: ворчишь, возмущаешься. Тогда я серьги или браслет тебе обещаю ради семейного согласия.
Так и все наши кабинеты поступают, детка, уже много десятилетий: как будто у меня научились.
Сейчас, например, все насчет «ковра» — реформы канонического права — беспокоятся, из Вены его поджидают. В печати, в парламенте нервозность, самые нелепые слухи подхватываются.
Какой он будет, ковер? Настоящий, турецкий, или подделка?
Но шутки шутками, а ковер — дело большое, хорошее. Прежние правительства тоже иногда баловали нас подарками, чувства национальные тешили — но все это были мелочи: спичечницы там мельхиоровые да подтяжки трехцветные. (Помнишь, я тебе еще про словечко «и» говорил, которое одно, без других слов, тоже мало что значит?) А тут вдруг ковер целый!..
Это и была суть моей речи — та платина, из которой я собирался всю проволоку вытянуть, посоветовав, в частности, правительству бросить эту политику «гостинцев», потому что у меня тоже ничего из нее не вышло. Но не бойся, пару серебряных жирандолей к рождеству ты все равно получишь. (А помнишь, душенька, когда тебе и букетика фиалок было довольно? То-то времена идиллические!)
Темой этой я поделился сегодня с Низачтоком (так мы, депутаты, дядю твоего, Эрне Урбановского, прозвали). Дело в том, что у меня возникли сомнения: а можно ли мамелюку выступать с такой речью?
У бедного Низачтока волосы дыбом встали.
— Apage satanas![28] — произнес он. — Отойди от меня! Ты бациллой Аппони заразился.
Это меня озадачило, и послезавтра я, пожалуй, попрошу стереть мое имя с доски, где записаны ораторы. Не завтра, потому что подольше хочу насладиться нимбом, который окружает желающих выступить. Записавшийся на особом счету в своей партии, о нем как об ожидающей ребенка женщине заботятся — балуют, осведомляются ласково: «А о чем говорить будешь?» (На что ты лишь загадочно улыбнешься в ответ.) В клубе его от сквозняка оберегают, а за тароком * прощают все промахи: у него, мол, другое на уме! Вечные «молчуны», а таких много, взирают на него с благоговением, как на высшее существо, а ораторы-ветераны похлопывают по плечу и советы дают, словно старые воробьи, которые птенца летать обучают: «Не смотри ни на кого, когда будешь говорить. У одного одобрение на лице, у другого неодобрение — это сбивает. Смотри лучше все время на Банфи: у него лицо без всякого выражения».
Одним словом, Кларочка, упьюсь славой в эти два дня — все равно для этого ничего не нужно, кроме загадочной улыбки. А этому я отлично научился у Дарани *.
Что до сегодняшнего заседания, на нем ничего особенного не было, хоть я и просидел с десяти утра до самого вечера.
Потому что неправда это, сплетни тети Тэрки, будто я «со своим дружком Алджерноном Бёти» *, как ты пишешь, только под утро домой возвращаюсь.
И вчера я тоже в десять вечера лег. Иначе как бы я попал в парламент с утра пораньше?
Врунья она, тетя Тэрка, не верь ей.
За себя-то я не стал бы обижаться, честное слово. Но шельмовать такого скромного, такого достойного и солидного пожилого господина, как мой друг и покровитель Алджернон Бёти, с которым я действительно ужинаю иногда, беседуя о государственных делах и прочих поучительных вещах, — это просто безобразие. Давно пора язычок ей укоротить!
И Хелфи тоже не мешало бы, — слишком уж часто и подолгу он говорит.
Я несколько раз пробовал вставить словечко — ради тебя, Клари, чтобы моя реплика в газеты попала и ты видела, как рано твой муж встает и как деятельно участвует в общественной жизни. Но скоро понял, что его речь не будут публиковать: слишком слабая. Ну и не стал зря расточать красноречие.
После Хелфи встал Дюла Хорват. Он тоже так часто встает, что мог бы вполне и не садиться.
В сегодняшней его речи самый большой эффект произвели умолчания. Это тоже только ему удается. Все ждали, что Хорват разъяснит один намек из своего субботнего выступления, а он вместо этого стал отвечать на блестящую речь графа Бетлена о боксёгском покушении *. Хорват скоро до того дойдет, что министры будут к нему с интерпелляциями обращаться, а не он к ним.
Но вот чего давно не видел наш солнцем залитой зал (жара африканская — и не думай приезжать, Кларика!) — это что среди мамелюков такой доблестный витязь найдется, который отобьет нападение противника. Шандор Хегедюш * сделал это под общий восторг и одобрение. Дивлюсь я, Клари: такой ум, такие познания — и в такой крохотной головке помещаются! (Кстати, о помещении: квартиры я еще не снял, но теперь займусь этим вплотную.)
Хегедюш взял под прицел непостоянство оппозиции: столько про реформы кричала, а теперь о них даже не поминает. Ирония и пафос, логика и лирика причудливо переплетались в его речи, обличавшей тонкого наблюдателя, мастера распутывать передержки.
После него еще Отто Герман выступал интересно. Герман, он тоже не дурак; только мы не доросли до него немножко.
У него большая будущность, как сказал Эдисон — только про никель, а не про Германа. Будущность будущностью, но пока что левые медяками пробавляются.
Габор Каройи, который, словно изгнанник Микеш * на берегу рокочущего моря, один-одинешенек пригорюнился на задней скамейке, каждое его слово ловил с наслаждением и головой кивал блаженно: «Правильно, Отто, правильно. Я уже давно это говорю. Так их, миленький, так их». У него даже слезы навернулись: до того рад был, что после пятидневных прений может к кому-то примкнуть, что-то поддержать. Это ведь тоже человеку нужно. Я могу это понять — сам истосковался в одиночестве.
Под конец выступил Арпад Вайи — вяло, монотонно. Вайи у нас «трибун свободы». Это потому, что, когда он ораторствует — депутатам полная свобода. Хочешь, с соседом в полный голос болтаешь, хочешь — в буфет сходишь и покуришь там со спокойной душой, а в зале с министром какое-нибудь дельце уладишь (и он даже не поморщится, что обеспокоили!). А хочешь — на дам любуешься на балконе.
Кстати, уж коли о балконе речь: какой странный бронзовый отсвет на лицах дам от этой стеклянной крыши! Просто удивительно. Вблизи они куда красивей. Что бы тут такое придумать, как по-твоему, милочка? Краситься, может быть, иначе как-нибудь?
А «трибун свободы» все говорил, говорил… Обрисовывал опасные последствия королевских ответов и бедствия страны, грозил правительству.
Мамелюки слушали молча, равнодушно. Кто зевал, кто вздыхал, а кто дремал, облокотясь на пюпитр. Лишь один человек следил внимательно: премьер-министр. Все ерзал в кресле, то и дело вскидываясь и беспокойно хватаясь за воротник. «Что, вам не нравится его речь, ваше высокопревосходительство?» — удивлялись сидевшие рядом.
«Да нет, — с улыбкой отвечал премьер, — просто мошка какая-то за ворот попала».
Но Вайи заметил произведенный эффект и с новыми силами принялся говорить, говорить…
Твой любящий муж Меньхерт Катанги.P. S. Сегодня «Февароши лапок» * выписал, как ты просила, но на деревенский адрес. Не сердись: все равно до января речи быть не может о твоем приезде… и то, если повезет с квартирой.
В кулуарах я сегодня с Тисой разговорился. Он сказал, что и его супруга еще в деревне, и прибавил:
— Надеюсь, и ты свою привозить пока не собираешься?
О деревня, деревня, желтеющая листва! Как бы мне хотелось быть сейчас с вами, мои дорогие.
М. К.Письмо шестое
14 октября 1893 г.
Милая Кларика!
Вчера получил твою телеграмму: «Заседания кончились, приезжай домой». Но если б я мог, ангел мой, если б я мог! У меня еще с протоколами возни дня на два. Остальные депутаты уже вчера разлетелись, пташки перелетные. Нет у них чутья политического.
А я сразу почувствовал: должно еще что-то случиться. И правда, сегодня тоже заседание было, вдобавок интересное — примирительное. Аппони с Векерле мирились после вчерашних своих крепких выражений…
Ты хочешь знать результат? Да тот же, что дома у нас, когда Палика с Дюрикой подрались и ты их еще мирила, помнишь? Дети рассказали, как вышла ссора, и сразу опять разволновались, обиды свои вспомнили. Ты у Дюри спрашиваешь: «Больно он тебя ударил?» — «Больно». — «Куда?» А Пали взял да сам показал: как стукнет его еще раз по тому же месту. Дюри тоже не промах: на Пали кинулся, и опять пошла драка. Я вбегаю на этот адский шум: «Что здесь такое?» А ты мне в ответ: «Вот, мирю их».
Так и мы сегодня. Палика… то есть Аппони сидел надувшись. А Векерле и сегодня сиял своей улыбкой. Министры были почти в полном составе, да и депутатские скамьи не пустовали, — не думай, не все уж так, сразу, по домам разлетаются. Дам на балконе — яблоку негде упасть (хотя несколько поклонников все-таки втиснулось, как я потом заметил). Знакомых, однако, никого, а жен депутатских — тем более. В Будапеште, милочка, они сейчас такая же редкость, как венгерский золотой, обещанный Векерле.
За жаром вчерашним, который уже пеплом подернулся за ночь, первым полез Дюла Хорват, но куда ловчей того дуралея римлянина, Муция Сцеволы (ты читала, наверное, о нем в «Истории» Гвадани *). Тот собственную руку в чужие уголья сунул, — нет чтоб свои раздуть да в чужие руки сунуть.
Хорват не сделал ни того, ни другого. Он просто разгреб пепел, чтоб уважаемые депутаты увидели уголья, которые тут же закраснелись и начали потрескивать.
А потом как дунет в костер, и весь пепел и зола прямо Векерле в лицо полетели.
Но граф Тивадар Андраши своими репликами, а мамелюки ерзаньем и роптаньем заслон скорее устроили.
Сам Векерле выступал примирительно, но с достоинством, не защищаясь, а объясняя свою позицию.
Тлевшие на поверхности искры понемногу стали гаснуть; но встал Хоранский, чиркнул серной спичкой, и опять вспыхнуло пламя.
— Премьер-министр прибегнул к выражениям, недопустимым в приличном обществе, — заявил он.
Мамелюки так и ахнули. «К порядку!», «К порядку!» — раздались восклицания. Беспокойство, шум прокатились по залу. Председательский колокольчик плакал-заливался, призывая к тишине.
Хоранскому долго не давали говорить. Наконец, подбоченясь надменно, как королевский герольд, он возвестил в заключение своей речи поход всех против всех…
Трубка мира разбилась, и черепки захрустели под ногами приличного общества…
Дядюшка Прилесский (он от словаков-проволочников избран, вот которые по деревням ходят, разбитые горшки обвязывают, так что в этом деле понимает) сказал мне:
— Ну, эту трубку уж никакой проволокой не стянешь, будь уверен, дружочек. Разбилась основательно.
Но тут Силади поднялся. Ох, уж этот Силади! А с каким видом — ты бы только посмотрела. Лицо умильное, голос ангельский, глазки как у агнца невинного, ручки благочестиво на груди сложены и в устах ветвь масличная.
Он, у кого пламя пышет из ноздрей, чья слюна горше яда, — и с ветвью мира. Подумать только! Дома мне, ты знаешь, даже при виде жареного поросенка с лимоном во рту смешно становится. А тут волк настоящий с веером в зубах овец обвевает, обмахивает, вместо того чтобы сожрать их.
Силади проделал это мастерски.
Стадо и впрямь поутихло, спокойнее стало пережевывать случившееся. Стадо — оно всегда смирное, если бы не вожаки…
Но Тадеуш Прилесский только седыми космами тряс.
— Ничего не выйдет, ровно ничего. Сейчас все сначала начнется.
И началось: Оскар Иванка * колкое словцо премьеру подбросил.
Какое, писать не буду; в отчете есть, можешь прочесть там (только предварительно за дверь выйди, — знаешь, в уголок за детской, чтоб не слыхало приличное общество).
Справа, слева все заволновалось. Одни побледнели, другие побагровели. Хокк * кулаком как хватит по скамье… Ну да не стоит продолжать.
Так шло до самого конца. Аппони говорил вежливо, красиво, как цветами сыпал из корзинки. Нате, мол, нюхайте, наслаждайтесь. Но под конец словно крапиву со дна выдернул и нацепил демонстративно на шляпу.
Твой любящий супруг Меньхерт Катанги.P. S. Ветераны либеральной партии долго не расходились после заседания, озабоченно переговариваясь о том, что зима, мол, опять предстоит не из приятных.
Какой-то князь, не помню какой, но знаю, что князь, ударил меня по плечу.
— Этой зимой здесь резня будет! Я забираю отсюда семью. Квартиру совсем было снял на проспекте Йожефа и довольно приличную, но один забавный инцидент все расстроил.
Представь, дорогая: только я с лестницы сошел (это третьего дня было), как сталкиваюсь с Арпадом Вайи. Он тут же отводит меня под ворота и спрашивает, не хочу ли я быть министром внутренних дел.
— Сегодня я телеграмму получил от короля. Формирование кабинета поручается мне.
— Тебе? Крайнему левому? — засмеялся я.
— Моя вчерашняя речь убедила его величество, что достойнее меня ему никого не найти. И еще я руку Ашботу * пожал, это тоже повлияло.
— Гм. Странно!
— Клянусь тебе, мне поручено.
В конце концов я поверил: джентльмен джентльмену зря телеграфировать не станет. Не такой его величество человек, чтобы Вайи разыгрывать!
— Поздравляю, ваше высокопревосходительство! — низко поклонился я.
— Спасибо, Менюшка, но я не за тем: портфель министра внутренних дел принимаешь?
Признаться тебе по секрету, Кларика: я принял (только не болтай никому). Ради тебя, чтобы ты гранд дамой стала. И сразу обратно, наверх, кинулся — сказать, что квартира мала для меня (не может же министр внутренних дел Венгрии в каких-то шести комнатах жить): пускай сдадут кому-нибудь другому…
Ты читала, наверно, в газетах, как Вайи осрамился. Я тоже узнал из газет и первым делом помчался на проспект Йожефа. Но квартиру уже сдали.
М. К.Письмо седьмое Почему я не мог написать тебе?
8 ноября 1893 г.
Милая моя женушка!
Сегодня пришло твое письмо, в котором ты меня бранишь, что я с самого своего отъезда в пятницу (никогда больше в пятницу не буду уезжать!) никаких вестей не подаю: неизвестно, где я, что делаю и почему молчу о политическом положении.
Сердись не сердись, но я тут не виноват, душенька. Пятое или шестое письмо рву. Только напишу, а положение уже опять изменилось.
В дороге я все рассказывал соседям по вагону, что Аппони ничего не дал на памятник гонведам, а Векерле все-таки дал один форинт.
Приезжаю, все наоборот: Аппони пять форинтов пожертвовал, а Векерле ничего.
Вечером в субботу я написал тебе, как чудно все обернулось: подписной лист пропал, где стояла подпись Векерле. На том же листе и я расписался, что двести форинтов вношу. (Помнишь, душенька, как раз столько не хватило из денег за рапс? Тогда я постеснялся сказать тебе. Но теперь что ж скрывать.)
В воскресенье утром — мы как раз на мессу шли со старым Алджи Бёти — захожу я в табачную лавочку, марку купить, чтобы письмо бросить в ящик. И вдруг вижу в газетах (я там их обычно просматриваю: бережливость необходима в наше время), опять все переменилось. Аппони пять форинтов дал па памятник, а Векерле — три тысячи семьсот.
Так и кочевала слава от Аппони к Векерле и обратно. Посмотрел я, посмотрел, порвал устаревшее письмо и стал ждать, когда Аппони три тысячи семьсот десять форинтов пожертвует. Но правительство, как видно, заперло на ключ подписные листы, чтобы прекратить пересуды, и за Векерле крупнее сумма осталась.
Мы, мамелюки, так этому радовались, будто сражение выиграли и военное счастье навсегда перешло на нашу сторону.
Тут же разнесся слух — даже на улицах болтали, — что король одобрил гражданский брак и об этом уже в парламенте можно объявить. «Ну, теперь напишу обязательно, — подумал я, — но сначала в клубе разузнаю поподробнее вечером».
Уже в гардеробе я столкнулся с графом Андрашем Бетленом и его первого спросил:
— Когда, ваше сиятельство, законопроект представляете?
— Не знаю. Вот как Силади, — ответил министр сельского хозяйства, отдуваясь благодушно.
На меня так и пахнуло добрым, старым либерализмом. Силади на диване с Артуром Еллинеком беседовал. Я к нему:
— Когда думаешь огласить закон?
Он ничего — не взбеленился, как обычно, только дал мне щелчка хорошего (до сих пор шишка на лбу) и сказал, зевая:
— А тебе-то что?
Мамелюки кругом глаза вытаращили, перешептываясь: «Какой он сегодня ласковый! Какой добрый!»
Я сам счел это хорошим знаком, но меня интересовал день, когда высочайшее одобрение огласят, и я стал разыскивать Векерле. Он как раз о мерах борьбы с пероноспорой рассказывал, да так красочно, живо, весело — просто влюбиться можно в эти грибки-невидимки.
— Ваше высокопревосходительство! — обратился я к нему. — Когда высочайшее согласие будет объявлено?
Векерле взглянул на меня приветливо и спросил с обычной своей мягкой улыбкой:
— А ты когда бы хотел, Менюшка?
Теперь я убедился, что согласие есть (может быть, уже у Силади в кармане). Но мне день, день хотелось выведать, чтобы наш священник от тебя первой узнал.
И, заметив, что Антал Молнар зашел в читальню, я побежал за ним. Уж если Молнар туда суется, значит, министров чует. И в самом деле, в читальне Бела Лукач оказался.
— Когда о согласии его величества предполагается сообщить?
— А тебе зачем? — спросил министр уклончиво.
— Дочь у меня на выданье, и я, признаться, по старой методе обвенчать ее хотел.
— Тогда не медли, Менюш, не медли. Вон Феньвеши как раз пошел — не буду тебя задерживать. (Тю! Уж не завтра ли они законопроект вносят?)
Феньвеши я нашел в бильярдной (больше у нас нигде зеркал нет *). Начал ему передовицу «Мадьяр уйшаг» расхваливать, но он спросил вежливо:
— Ты когда домой будешь писать?
— Не знаю.
— Передай барышне Маргит, что Феньвеши ей ручку целует.
Словом, ни из кого не удалось вытянуть, и я отложил писание письма на понедельник.
Утром встречаю в кулуарах Хиероними. Мой любимый министр, — может, у него узнаю.
— Когда королевское согласие объявляете, ваше высокопревосходительство?
— Это не входит в мою компетенцию, — с обычной своей неприступной деловитостью объясняет он.
— Да, но ты тоже ведь должен знать!
— Не сегодня, — отвечает он осторожно.
Не сегодня! Значит, почти наверное завтра. У меня сердце запрыгало от радости. Ура! Победил-таки либерализм. Впрочем, я уже говорил тебе, Кларика, на что он похож, наш либерализм: на знаменитый янтарный мундштук шурина Муки. Янтарь прекрасный — большой, прозрачный, но в середине какой-то доисторический комар завяз. Муки уверяет, что в нем-то и ценность вся, в этом диковинном комаре, поэтому он и отдал за мундштук пятьдесят форинтов. А мне все-таки больше хочется, чтобы не было в нашем либерализме ничего доисторического.
Ну, да ладно, какой он ни на есть, он сейчас на щите, наш либерализм. В понедельник народ так и кишел в парламенте, гудевшем, точно улей. Самые радужные новости передавались из уст в уста. Сегодня все решится; сегодня коронный совет, да какой! Король со всем согласен, что его верные мадьяры желают.
Одобрят законопроект вплоть до запятой, без всяких изменений.
Янош Ронаи вытирал крупные капли пота со лба, словно ему короля не хватало до квинта * и он на последнюю карту в колоде надеялся.
— Ну, наконец-то. Не легко он, однако, достался! Бекшич *, упоенный победой, сам себя расхваливал:
— Ай да Густи, твоя ведь заслуга!
Габор Каройи издевательски поклонился прошмыгнувшему по коридору Ваяй:
— С добрым утром, ваше преподобие, с добрым утром!
Все сияли, ликовали; Дюла Хорват и тот улыбался министрам кротко. Старик Мадарас *, веселый, довольный, попрыгивал от скамьи к скамье, как воробей с жирным червяком в клюве. Мигом разнес новость по всему залу — Альберту Кишу, Тали * сообщил:
— Есть гражданский брак!
— Скорее бинокль! — встрепенулся Тали.
(Попомни мое слово, Клари: этот человек обязательно женится теперь, раз в мэрии можно. Но для нашей Маргитки он староват, пожалуй; вот если бы на тете Манци на твоей… Неважно, что старуха; в том-то и соль, что она почти ровесница Ракоци!)
Бинокль Тали сейчас же на дам навел; но на балконе была только красавица Миленова в своем изумрудно-зеленом, шитом золотом наряде. Впрочем, о ней сейчас некогда рассказывать. Про общее настроение тоже не буду распространяться — отложу до того раза, когда председатель официально возвестит королевское «placet»[29].
Только когда это будет? Вот вопрос. А, в клубе узнаю. И я уже в пять снова отправился туда и сел за пикет с Кароем Швабом. Не подумай плохого, Клари, — только ради тебя, честное слово! У Шваба дома есть, которые он внаем сдает своим партнерам. Вот я и подумал: вдруг мы у него квартиру получим, если ему потрафить. И пошел на жертву: сел играть с ним.
И представь — такая неудача! Как раз в эту минуту знаменитый Феррарис * является — Йокаи рисовать. Старику какой-то там юбилей устроить хотят, вот и понадобился портрет. Да он и заслужил: писатель бесподобный. Читаешь, как мед в рот кладешь.
Я даже вздрогнул, узнав Феррариса. Батюшки, ведь он всю комнату срисует, и жена увидит меня на картине. А я единственный раз за карты сел — и то ради квартиры.
Но что поделаешь — не бросишь ведь. Играли мы, играли; зеваки подходили, уходили с обычными своими дурацкими вопросами: «Ну что, Меньхерт?» — «Продулся, Меньхерт?» — «Держись, Меньхерт!»
Так мы долго сражались, и вдруг видим: Антал Молнар входит.
Мы не придали этому значения, а наш седовласый генерал, Кальман Тиса, как увидел Молнара в таком месте, все двенадцать карт из рук выронил, даром что девять козырей было.
Он, прозорливейший государственный муж, по этой мелочи сразу уяснил себе всю ситуацию.
Как? Молнар здесь? Вещь небывалая. Это лишь одно может значить: в зале министров нет. Будь там хоть один, Молнар ни за что не ушел бы. А ведь девятый час уже.
— Что, нет в зале министров? — спросил Тиса Молнара.
— Нет, — грустно, виновато отозвался тот.
«Министров нет!» — облетела новость карточные столы. Нет министров? Непостижимо. Ведь совет еще днем заседал под председательством его величества, а их до сих пор нет.
Игра прервалась. Все повалили в зал. Но как пустынно там, неприютно! Газ бледным, дрожащим пламенем мерцает в люстре, потому что министров нет. Депутаты со впалыми щеками сидят по кожаным диванам, неподвижно уставясь на двери, как голодные крокодилы.
Лишь изредка гнетущую тишину нарушит жалобный вопрос:
— Никаких новостей?
— Никаких.
— Ни одного министра не было?
— Ни одного.
— Что же случилось?
Самое разнообразное пожиманье плеч было ответом.
Все вздыхали. Томительная неизвестность свинцовой тенью лежала на лицах. Один Кальман Тиса невозмутимо отправился домой. Всегда скрывавший, что ему все известно, великий муж не хотел теперь подать виду, что ничего не знает.
Повернулся и ушел — даже своего обычного «ну-ну» не проронил.
А мы все остались ждать министров. Время бежало, уже десятый час пошел. Кто же теперь придет? И ждать нечего. Но тут двустворчатая дверь распахнулась, и вкатился шарик: Штурм, кругленький Штурм из «Ллойда». Хитренькими глазками испытующе обвел всех — и я сразу понял: ну, это как с Криштофом у нас. Ты всегда думаешь, что он денег принес, а он — что ты ему дашь.
— Что слышно? — еще издали спросил он.
— Министров видели? — вскричало вместо ответа чуть не десять голосов.
Кругленький Штурм сразу сообразил, что мы не знаем ничего, приосанился, и в голосе у него унций на десять апломба прибавилось:
— Нет, не видел. Зато с Футтаки * после говорил.
С Футтаки? Ого! Человек, который говорил с Футтаки. И вдобавок «после». Понимай: после коронного совета.
Их сиятельства и высокопревосходительства, повскакав с мест, тотчас обступили Штурма, как Ференца Деака в свое время, когда он был на вершине могущества.
— С Футтаки говорили? Сами, лично? Ну, и что он: веселый? Не бледный? Что сказал?
— Футтаки сказал, что все в порядке.
Это немного успокоило партию. Но зато новые вопросы посыпались;
— А как он это сказал? Какими словами, тоном каким?
И все-таки на душе остался неприятный осадок. Расходились мы молча, тихо. Я всю ночь глаз не сомкнул. Раза два вскакивал, письмо хотел писать. Но о чем?
Утром опять попробовал из министров что-нибудь выжать. Куда там! Не люди, а статуи каменные.
— Когда высочайшее одобрение доложите? — у Андраша Бетлена спрашиваю.
— Когда его величеству будет угодно.
Я Фейервари разыскал: человек все-таки военный, прямой, уж наверно скажет.
— Ваше высокопревосходительство! Когда…
Он даже кончить мне не дал — отрубил решительно:
— При первой возможности.
С Векерле не удалось встретиться — уехал; но Силади тут. Эх, была не была! Набрался смелости, подошел, зажмурился (в руки твои предаюсь, господи, защити и охрани) и выпалил:
— Когда мы, ваше превосходительство, сообщение услышим?..
Он бросил на меня уничтожающий взгляд и отвернулся.
— Не будь нахалом, Менюш!
Я обождал, пока Густи Пульский выпустит из своих когтей Хиероними (вцепился ему в оба лацкана). Потом, чтобы поднять настроение у министра, начал ему столичный магистрат расхваливать.
Хиероними несколько раз подозрительно глянул на меня, — не с ума ли сошел. Тогда я к своей теме вернулся:
— Когда закон о каноническом праве доложат?
— Это опять же не в моей компетенции, — сказал он безразлично. (Хиероними — единственный, кто мне и в воскресенье так же ответил.)
— Хорошо, но тебе ведь тоже известно, когда вы с ним выступите.
— Дай срок, выступим, — неопределенно ответил он, слегка наклоняясь набок.
Этим роковым движением воспользовался Игнац Дарани и похитил его у меня.
Возле шахматистов стоял Бела Лукач, наблюдая за игрой.
— Шах королю! — возопил Эден Йонаш.
— Тс-с! — цыкнул Карой Хусар. — Не кричи так.
— Ой, тура моя пропала, — запричитал другой страстный шахматист.
Тут я подошел к Лукачу.
— Ваше высокопревосходительство, когда решение совета оглашается?
— А тебе зачем? — подозрительно, но не враждебно спросил он.
— Мне бы хотелось, чтобы жена приехала хоть на этот один денечек. Пусть, бедняжка, порадуется на плоды наших трудов. Что ей написать? Когда приехать?
Министр задумался.
— Не пиши ничего, — сказал он вдруг, кладя руку мне на плечо.
Вот какие дела, милая Клара. А ты еще спрашиваешь, почему я молчу, почему не сообщаю, какая ситуация. Откуда же я-то знаю, душенька?
Твой любящий супруг Меньхерт Катанги.P. S. Квартиры пока нет, остается надежда. Вчера за пикетом Карой Шваб («Шваб и братья», знаешь?) спрашивает: «Ты где живешь?» Я отвечаю: «В гостинице». Но он на это пробормотал что-то маловразумительное.
Эх, все невразумительно в этой стране, одно ясно: что тебя ждет не дождется твой
М. К.P. P. S. Приехать ты уже опоздала, душенька. Из Вены только что сообщили: Векерле завтра доложит о великой победе. Король все-таки молодец!
М. К.Письмо восьмое
9 ноября 1893 г.[30]
Целый год уже газеты гадают: будет, не будет — и вот оно наконец! Король одобрил. Вернулась наша грамота, как школьница с последнего экзамена. Много было радости в палате (среди либералов), цветов в вазах, улыбок на устах, довольства на лицах.
Никакого ущерба она не претерпела на королевском столе (хоть и долгонько там пролежала): какой ушла, такой и воротилась в объятия родителей (то есть либеральной партии). Зато дома в одну ночь совершенно переменилась (эти перемены всегда ночью случаются). Вечером еще «победой либеральной партии» звалась, а утром сделалась уже «заслугой оппозиции». В таком наряде и бегает теперь по улицам. Ну, да не беда: дурнушкой она от этого не стала.
Парламент уже к десяти часам битком был набит, в коридорах — не протолкнуться. Даже пташки перелетные вернулись, которых миль за двадцать, за тридцать застала новость вчера вечером.
И «горцы» свирепые, Габор Каройи с товарищами, в завидном числе собрались (впятером). Старый медведь Этвеш тоже вылез из своей берлоги — кофейни «Аббазия» — и уселся за Германом, который весело потирал руки, как купец, довольный хорошим барышом.
Собратья по партии тотчас принялись выпытывать у Этвеша (дело понятное — давно не видались):
— Ну, Карой, как дела? Вожаком доволен своим, Отто Германом?
— Ничего, вожак хороший, — отвечал Этвеш, раскачиваясь, по своему обыкновению, — только ведет себя как пастух, у которого целая отара прекрасных овец, а стоит какой-нибудь окотиться барашком шестиногим, он с ним одним и возится.
Не только депутатские скамьи, но и места для публики заполнились. Ряды красивых девичьих головок склонялись, улыбались там, на балконе, как цветы в саду. Оно и понятно: этих красавиц новый закон интересует куда больше, чем политиков. Женятся ли, скажем, Дарани, Йокаи или Урбановский — это еще неизвестно, а уж они-то наверняка замуж выйдут.
Но там не только юные девушки — и матроны были. Особенно одна бросалась в глаза — лет сорока с лишком, с сердитым лицом и в дорожном платье с капюшоном. Беспокойно жестикулируя, она пытливым взглядом искала кого-то среди «отцов отечества», собиравшихся в зал.
«Да это уж не Катанги ли, — стали догадываться некоторые. — Госпожа Катанги приехала!»
Новость молниеносно распространилась по залу. Алджернон Бёти кинулся в буфет и больше в тот день не показывался. Напрасно люди рассудительные его удерживали:
— Да брось, не выдумывай, ее, наверно, и на свете-то не существует.
Вдруг новое известие:
— Векерле идет!
За секунду перед тем слышалось только мирное бормотанье: с трибуны читались протоколы, объявления. Но тут словно ветер всколыхнул тихую поверхность, и сдержанный гул прокатился по залу.
Наконец двери распахнулись, и, как гнущий, треплющий деревья ураган, забушевала овация.
Впереди с обычной своей скромной, почти стыдливой улыбкой шел Векерле в новом, с иголочки сюртуке и белом галстуке с брильянтовой мушкой. Но под лучами солнца, заглянувшего в зал, в его черных волосах заблистало серебро. Изгонял, изгонял он его из валютной системы, а хитрое серебро вон куда: в волосы бросилось.
За ним шли остальные министры, Чаки в том числе. Их вчера в клубе дожидались, и Векерле, когда ему «ура» кричали, на них скромно перелагал всю славу: тем, мол, которые после придут, кричите.
Но они вчера не пришли: ни Чаки, ни Силади; а Силади и сегодня нет, хотя ему львиная доля славы причитается.
Заартачился, как упрямый ребенок: не хочу, мол, не надо мне жареного фазана. Сам же подстрелил его, а на жаркое не явился.
Министры давно расселись по своим креслам, а овация не умолкала. Даже на скамьях оппозиции раздалось несколько «ура» — редких, как далекие пастушеские костры.
Наконец буря стихла, и все с нетерпением стали ждать, пока председатель дожует жвачку будничных дел. Тотчас воцарилась мертвая тишина, и за «простофилю» встал Игнац Хелфи.
Это новое такое техническое словечко для обозначения той (достойной, впрочем, всяческого уважения) роли, которую иногда приходится разыгрывать для проформы.
Старый добряк Хелфи (или другой кто, но сегодня он) делает, скажем, вид, будто не читал вчера вечерней газеты, хотя сам же выбранил лакея, что поздно принес, сам в клуб побежал с потрясающей новостью да еще по дороге сотне человек сообщил, — даже в общество «Ганц» успел позвонить, в правлении которого состоит, и Кошуту в Турин телеграфировать. Но Хелфи в своем притворстве идет еще дальше: прикидывается, будто и утренних газет не видел, и не его в досаду вогнали унылые ламентации оппозиции, которая наподобие отчаявшейся влюбленной лепестки начала обрывать: а любит ли король одобренный им закон или не так уж любит? Может, плюнет, а не поцелует? К сердцу прижмет или к черту пошлет? (Что ж, и на это свой «ответ» последует.) Но мы не о том хотим сказать (хоть и можно бы), а о Хелфи, который с видом полного неведения задает вопрос Векерле: что там с этим законопроектом? Есть ли высочайшее одобрение (неважно, что о нем уже трубят на всех перекрестках), а то, мол, страна изнывает от нетерпения.
Смешная формальность, но министры (может быть, именно поэтому) всегда ее соблюдают. Впрочем, кто «ответить» хочет, всегда спрашивающего ищет, а вот кому спросить нужно… но о чем, собственно, министру спрашивать?
Итак, роль вопрошающего взял на себя Хелфи, на чьи слова о нетерпении в стране какой-то ультрамонтан отозвался: — Это правительство в нетерпении! После краткого запроса Хелфи наконец поднялся Векерле и звучным, приятным голосом так же коротко ответил, что король одобрил законопроект.
— Да здравствует король! — восторженными кликами разразился зал.
Сдержанно, скромно, благородно ответил Векерле. Многоречивость была бы в такой момент просто хвастовством. Бесхитростный ответ, почти непритязательный. Тонкий вкус подсказал ему, что роскошный букет камелий лучше так поднести общественному мнению, будто это скромная веточка розмарина…
Еще раз вспыхнула овация — и затихла… Кончилась.
Началось другое: обсуждение государственного бюджета. Обычный порядок, обычные лица. От нас — Шандор Хегедюш, от них — Хелфи, который из «простофили» опять в мудреца превратился, как будто переоделся за кулисами. И если раньше отрицал то, что знал, теперь даже то утверждал, о чем никогда и не слыхивал…
Но так уж искони ведется. И сегодня так было: за Хелфи встал Хоранский — и пошло, как в прошлом, позапрошлом году и как будет в следующем, вплоть до скончания веков, при обсуждении всех бюджетов на земле.
Письмо девятое
16 ноября 1893 г.
Дорогая Клари!
Ой, как меня разыграли, милочка!
Заглядываю я на днях в палату так около полудня, а Бени Перцель *, которому по чину все знать полагается, встречает меня новостью:
— Твоя жена здесь!
Эта неожиданность так меня ошеломила, что мне даже дурно стало от радости: в глазах потемнело, ноги подкосились. Друзья тотчас меня подхватили, усадили на извозчика и домой отвезли, а сами фыркали надо мной втихомолку. Но чем же я виноват, если сердце у меня такое нежное и я так горячо люблю тебя!
Только под вечер выяснилось, что слух ложный и это не ты, а какая-то другая дама из провинции. Смотри не вздумай приезжать без моего ведома — не надо, родная.
Здесь у нас полное затишье. Оппозиция совсем ручная стала. Даже Габор Каройи, грозный Габор Каройи, и тот смирнее ягненочка. Просто колокольчик хочется ему на шею подвесить с надписью на ленточке: «Любимчик либеральной партии».
И в самой партии тишь да гладь, как на озере в безветрие. Только Полони нет-нет да и кинет в него камушек. Угронисты * тоже за гражданский брак будут голосовать. Даже аппониевцы, по слухам, ничего не затевают, наоборот, прямо-таки ждут не дождутся, когда Силади подготовит мотивацию.
— А кому она нужна теперь, мотивация, — съязвил по этому поводу граф Тивадар Андраши. — Можно хоть меморандум Шлауха * вместо нее пристегнуть.
Словом, нет больше вражды. Даже национальная партия, как я сказал, будет голосовать заодно с нами. Не от хорошей жизни, конечно, — а вроде той вороны, которая «с голодухи и вишню склюет», как в «Альманахе» метко выразился Миксат (и слепая курица, бывает, зерно находит!).
Что же до нашей партии, мне все вспоминается, как я однажды у тебя на кухне целую корзинку пустой яичной скорлупы обнаружил.
— Зачем тебе эта скорлупа, Клари, почему ты ее не выбросишь? — спросил я.
— А затем, что она еще в дело годится.
— Да ведь она пустая!
— Как раз поэтому, дурачок! Я наполню ее, чем захочу.
И правда, очень вкусно получилось, когда ты на обед эти скорлупки рубленым мясом и рисом нафаршировала.
Векерле-то помалкивает (он человек не хвастливый); но я, как в клубе побываю, на этот восторг посмотрю, каждый раз говорю себе, что пустые головы он тоже великолепно фаршировать умеет!
Итак, партия к бою готова; либерализм кипит ключом (а в статьях Бекшича даже через край перехлестывает). Всего несколько магнатов-католиков осталось, которые «за» голосовать не желают, но Векерле бережет их как зеницу ока, все им прощает, лишь бы они не вышли из клуба и торчали у нас перед глазами на манер межевых столбов — для сравнения, как мы далеко ушли.
Так все великолепно наладилось, что Чаки, министр культов, запечалился даже: «Нечего мне теперь у вас делать, уйду-ка я в палату магнатов».
Стали замену ему искать, но иногда и самая глазастая курица ничего не находит. Всех перебрали, одного Берзевици * проглядели, Берзевици, который вот уж целое десятилетие все министерские дела ведет, и на достойном уровне; Берзевици — отличного оратора, благородного и верного соратника Трефорта, Чаки в их скромной, незаметной работе; человека, который тоже нашей последней победе способствовал (ибо это великая победа, клянусь тебе, Клари). Но какое все это имеет значение, ведь министерский портфель он только заслужил, а этого недостаточно. В этой стране дворянских титулов и званий и у заслуги свое звание есть: «только». Только заслуга.
Как раз об этом говорил я в кулуарах с председателем палаты Банфи.
— Поверь, Менюш, — ответил он, — в наше трудное время самое важное — влиятельного члена казино * на такой пост подобрать. А если он и умен вдобавок, что ж, тем лучше. Разве не так?
— Так, так, дорогой барон, — подтвердил я (поскольку в этом конкретном случае он и в самом деле прав был).
— Не сочти это за аристократический предрассудок, — добавил он.
— Напротив, это очень прогрессивно. Ты же сам заметить изволил: если умен, тем лучше. До сих пор тем хуже было!
В тот же день я в члены казино рекомендовался. Так нужно, Кларика, для нашего будущего. Уверяю тебя, это окупится сторицей.
Вечером пошел в клуб и там все время держался в зале, у министров на виду. Депутаты поважнее сидели на диванах, развалясь, словно сюртуки и фраки, расстеленные на солнышке для просушки, а Векерле скользил по нас своим улыбчивым взглядом.
Претенденты назывались разные. Каждую минуту вылупливался новый. Сейчас граф Габор Каройи. А барон Эрвин Роснер не годится? «Новый вариант — Роснер», — мгновенно разносится слух. А старые клубные часы тикают себе равнодушно, как тикали еще над головами Ференца Деака или Ласло Сапари *. «Тик-так! Тик-так!» Фантазия министров уже до Лоранда Этвеша * добралась. «Тик-так, тик-так». И Эрне Даниэл * возникает в этом бестелесном, призрачном списке…
И вдруг я на самом деле призрак увидел… Сердце у меня заколотилось, перед глазами круги поплыли… А призрак подвигался ближе, ближе; вот он поднял руку и положил ее мне на плечо. Это был Футтаки.
Он при министерских кризисах обыкновенно первым чует, кого назначат. И вот он меня похлопал по плечу. В зале тотчас зашептались, заволновались.
— Его? — спросил, указывая на меня, подбежавший Прилесский.
— К сожалению, он не граф, — улыбнулся Футтаки. — Будь он графом…
Это крепко мне в голову запало. Графом? Конечно, будь я графом… Граф Меньхерт Катанги. Звучит роскошно! И я пальцем вывел в воздухе: «Граф Меньхерт Катанги, министр просвещения и культов королевства Венгрии».
Черт возьми! Нельзя ли тут придумать чего-нибудь? Старый граф Нако всегда благоволил ко мне; может, он меня усыновит? Пойдем, разыщем старика. Все удивлялись: о нем вот уже лет десять никто не справлялся. В клубе его не было. Плохо дело. Посмотрим, нет ли еще кого из бездетных графов.
Вон граф Карой Понграц сражается в карты. Я подсел к нему и, когда партия кончилась, отозвал в сторонку.
— Дорогой генерал, усынови меня, сделай милость. Он глаза вытаращил.
— Что тебе за блажь пришла?
— Карьеру сделать хочу с твоим именем.
— Не валяй дурака! У нас теперь не сословное государство.
— Значит, не хочешь? Значит, не сделаешь?
Генерал добряк был и, чтобы не отказывать прямо, сказал:
— Знаешь что, Менюш? По высочайшему повелению — так и быть, сделаю.
— Ладно, генерал, — с горькой укоризной ответил я. — Бог с тобой, оставайся бездетным.
Но генерал улыбнулся только, с отеческой нежностью сжимая в руках веер козырей, подобравшихся прямо со сдачи. «А этих ребятишек не желаете?» — донесся до меня уже издали его самоуверенный голос.
Отказ графа меня раздосадовал. Я просто его не понимал: так легко сына мог заполучить — и на тебе. Другим сколько со своими приходится возиться: и воспитай, и обучи, и жени, и в депутаты проведи. А тут прямо готовенького бери: выученного, вышколенного, с богатым опытом, прекрасным образованием. И сноха была бы. Не подумал генерал как следует. До чего они легкомысленны, эти военные!
Мрачный, недовольный вернулся я в зал и стал из себя демократа разыгрывать.
— Да, братцы, при Тисе куда лучше было. Никакой этой «графомании»!
И правда, Клари: наш-то генерал не смотрел, граф или не граф, если министра искал. Оспа привита — и пожалуйста, принимай портфель. Прививка у него единственным sine qua non[31] была. А Фабини — тот, по-моему, даже без оспопрививания проскочил.
Но едва я в зал вошел — новая комбинация: Чаки остается.
Так и вышло: остался Чаки ко всеобщей радости, и спокойствие в партии восстановилось. Все вошло в свою колею: склонявшиеся в газетах имена на время исчезли с их страниц; готский альманах * закрыли и сдали обратно в библиотеку. Солнце опять стало светить, а самоотверженный Берзевици — над просвещением умов корпеть за письменным столом. Ничего, просветиться оно тоже не мешает ни стране, ни ему самому. А у нас снова завертелась чертова мельница — обсуждение бюджета.
Ничего важного, интересного про это сообщить не могу. Помнишь, как ты гостям объявляла, что после моркови жареный поросенок будет? Все сейчас же ножи, ложки отложат и к моркови больше не притрагиваются. Так и палата сейчас. Все «поросенка» ждут — закона о гражданском браке.
Сегодня обсуждали ассигнования на сельское хозяйство.
Слушай внимательно, женщина! Диковинные вещи я тебе поведаю. Ты с твоей верой в привидения не удивишься, конечно; но меня какой-то суеверный трепет охватывает.
По венскому Бургу * бродит женщина в белом. У нас на чердаке тоже привидение обитает: пляшущая бочка. Везде — в развалинах замков, в лесах, под мостами — свои привидения есть. Но даже от дедушки твоего я не слышал (а он тоже депутатом был), чтобы и в палате привидение водилось. Как зайдет речь о затратах на сельское хозяйство, так оппозиции является призрак в белой простыне.
Леденящий ужас пробегает по жилам, в воздухе веет могильным хладом — и тень Иштвана Тисы * встает из полумрака.
— Иштван Тиса будет министром сельского хозяйства! — осеняя себя крестным знамением, лязгает зубами оппозиция. — Надо этому помешать. Не дадим Бетлена в обиду!
Никто Бетлена обижать не собирается: политик он умный, министр дельный и статс-секретарь у него фигура заметная, популярная в парламенте. Иштван Тиса тоже знать ничего не знает о таких прожектах, охотится где-то у себя дома. Но оппозиция все равно спешит прикрыть, заслонить своим телом Бетлена от наваждения: ассигнования утверждает без звука, щедро сдабривая сахаром самую малейшую критику. После этого грозный призрак, благодаренье богу, удаляется — уходит, как пришел, и до будущего года его не слышно и не видно. А там снова возвращается в своей страшной простыне…
Вот уже несколько лет так повторяется.
Остальные министры ужасно нам завидуют: шутка сказать, свое «домашнее» привидение…
Да, много еще непонятного на белом свете, милочка!
Твой любящий супруг Меньхерт Катанги.P. S. На квартиру виды самые определенные. В сочувствующих тебе парламентских кругах говорят, что у нового бихарского губернатора, бывшего депутата, который сейчас переехал в Надьварад, освободилась подходящая для нас квартира и ее снять можно. Надо только с ним самим переговорить. Так что я все министру внутренних дел надоедаю: скоро он этого губернатора в столицу вызовет?
— Пока не собираюсь, — отвечает Хиероними. — Разве что румыны зашевелятся *.
Вот какие дела, деточка. Придется тебе запастись терпением и подождать, пока начнут шевелиться румыны.
М. К.Письмо десятое
5 декабря 1893 г.
Милая женушка!
Я не писал, как бюджет обсуждали, потому что это не обсуждение, а чистая кадриль. Министры станут в пары, по бюджетным статьям пройдутся, потом возьмутся с противоположной парой за ручки и кокетливыми улыбками обменяются. Кто потщеславней, просто даже вставать не хотел после обсуждения своей графы. Со вздохом покидали их высокопревосходительства зал, где столько фимиама курилось по их адресу.
Господи, как славно было — и так быстро кончилось! Прежде министры, как чумы, всех этих бюджетных прений боялись. Только и слышалось: «Не до жиру — быть бы живу».
А теперь — наслаждаются. Нынешнее правительство очень удобно угнездилось между двумя лагерями — своим и оппозиционным. Как ветчина в булке: лежит себе ломтик между двумя половинками, и обе маслом намазаны. Особенно одна: та, которая оппозиционная. Оппозиция — она еще пуще нашего правительство умасливает.
Кто бы этому поверил еще четыре недели назад, когда такая буря поднялась из-за королевских ответов в Кёсеге?
Нет, к черту, не гожусь я в пророки. Легче министром быть в этой стране.
Так что прений по бюджету, собственно, и не было. Все друг другом довольны. Сижу я, милочка, в кулуарах и просто с сокрушеньем гляжу, как две-три сотни здоровых работоспособных мужчин целыми днями без дела слоняются, болтая о пустяках да скабрезными анекдотами развлекаясь. Послушаешь, послушаешь, уши зажмешь да скорее в зал.
Но там со скуки помереть можно. Человек сорок — пятьдесят, большей частью участвующих в лицедействе, сидят с поправками и предложениями. Все предупредительно-любезные, как в светском салоне; один другому угодить старается. Хоранский закашлялся — сейчас Фейервари бонбоньерку с леденчиками ему протягивает, а по правительственным скамьям пробегает озабоченный шепот: «Бедный Нандор простудился!»
Наверху ни души. На всей длинной галерее единственный старичок сидит и сладко подремывает, свесив седую голову на грудь: здешний служитель.
Но и внизу рты то и дело раскрываются от зевоты: точно чья-то невидимая рука клапаны гармоники перебирает. Все серо, безжизненно, кроме гвоздички у Феньвеши в петлице да галстука Меслени. Нет, какая это дискуссия, — ее один Фабини может вынести. Привык небось к скучище там, у себя, в судебной палате.
Редактор парламентских отчетов Шандор Эндреди сетует с унынием во взоре и в голосе:
— Нет протоколов, нет протоколов! В прошлом году бюджетные прения целых три тома заняли, а в этом еле на один наберется… Вот ужас: протоколов нет!
И, вздыхая, дальше бредет по коридору.
Любые споры, нападки, самые ожесточенные столкновения, разрыв дипломатических отношений, треск министерских кресел для него только протоколы. Больше или меньше протоколов.
И Низачток жалуется:
— Не нужен я вам больше, не нужен. Разве я не чувствую, не знаю. Только я один мотаю головой, а вы все киваете утвердительно.
Что правда, то правда: бес противоречия молчит, точно околдованный, а Векерле на чудо-скакуне с белой звездочкой во лбу гарцует. Махнет гривой скакунок — золото сыплется, копытом ударит — цветы распускаются… Даже королем — подумать только! — эти чары овладели. Не знаю, что с его величеством случилось: в Мюнхене тост за мадьяр поднял; на днях о содержании придворного штата в Венгрии распорядился. Да, да, Клари, правду говорю. Он явно лихорадку схватил, которая «furor Rakocziensis»[32] называется. (Хорошо все-таки, что граф Лайош Тиса при нем!)
Пример его величества и кабинету Векерле придал сил. Во всем ему теперь везет, — боюсь, даже слишком. Взять хоть гражданский брак этот.
Почему «боюсь» и почему «слишком» — это, Клари, вопрос политики, моей личной политики, про которую я даже тебе не говорил, потому что вы, женщины, язык за зубами не держите. Но теперь уже могу признаться, — только поклянись, что ни одна душа не узнает.
Я, понимаешь ли, слух тут распустил — и от министров не скрыл, — будто дома, перед духовенством, обязался голосовать против.
Ты-то, конечно, знаешь, что никаких обязательств я не давал, да у меня их и не просили. Что они, дураки, священнички наши, зачем им это. Двум я и так по корове-симменталке отправил; игумен двадцать саженей дров выпросил; четвертому ты напрестольный покров лилового бархата вышила, пятому я портрет Колоша Васари послал в золоченой раме. Этому, наверно, мало показалось — он против меня голосовал и еще написал мне в оскорбленном тоне: «Овечек-то небось другим раздарили, а мне одного пастыря оставили».
Словом, не подписывал я ничего, а просто схитрить хотел. Думал: вот блестящая идея — голос мой сразу в цене подскочит, министры прибегут и умасливать станут. А это ведь наслаждение райское, Клари, экстаз божественный, когда тебя министры умасливают. Уж и так и этак обхаживают, обглаживают: «Слушай, брось дурака валять. Ну, подписал — и пусть они бумажкой этой хоть трубки теперь раскуривают, попы твои.
Меньше мозги суши из-за писулек всяких. Не было у них никакого права. Vi coacta[33] это называется. Нельзя всерьез такие вещи принимать. Вот либерализм — это дело святое; благо родины — превыше всего. Ты серьезный политик, должен понимать. Да и будущее свое губить незачем. У тебя же блестящее будущее — даже настоящее, если захочешь. Только от тебя зависит, старина».
Ну, поломаешься, конечно, немного: мол, то да се, переизбраться нелегко будет, а то и вовсе провалишься. «А, — махнут они рукой, — чепуха: устроим, где только пожелаешь…»
Вот что такое умасливанье, эта поэзия политики. Блаженные, сладостные часы уединения то с одним, то с другим министром, который увлекает тебя в укромный уголок, чтобы соблазнить. А ты трепещешь, уже готовый сдаться, но еще последним слабым усилием отталкивая искусителя… Но что я тебе рассказываю — вы, женщины, все это лучше знаете.
Так вот, я всем разблаговестил, что тоже против обязался голосовать.
И с этой минуты стал важной персоной в клубе. Министры мне дружелюбно руки жали. Силади то и дело справлялся о моем здоровье, а один раз даже прибавил ласково: «Ох, и подлец же ты, братец!»
Бела Лукач, тот иначе меня опекал: «Слушай, Менюш, ты, кажется, без квартиры сидишь. Знаешь что: я несколько салон-вагонов на вокзале составлю, залезайте туда и живите».
Самые высокие отличия на меня посыпались. Комиссию новую создадут — сейчас в нее выберут. Бени Перцель вдвое ниже кланяться стал. А Фридеш Подманицкий все по плечу похлопывал: «Ты мой самый верный барашек. Без тебя мне и радость не в радость». А я в ответ улыбался — скорбно, загадочно, мрачно, как человек, обуреваемый тяжкими сомнениями.
Одним словом, задарили меня знаками любви и привязанности. Игнац Дарани несколько раз приглашал с ним поужинать и обронил как-то за столом:
— Надеюсь, ты «за» проголосуешь?
— Охотно, — ответил я, — но слово, слово, которое я дал, тяготит мою совесть. Боюсь, небеса покарают за такое вероломство.
Дарани улыбнулся и полушутя-полусерьезно погрозил пальцем.
— Смотри, Менюш! Небеса небесами, но до них далеко. Есть небеса и поближе, уверяю тебя!
Есть, конечно, и еще какие. Обязательство мое стало оборачиваться все новыми приятными сторонами. Вдруг посыпались приглашения на разные великосветские суаре, ленчи, обеды. Аристократки — эти нежные, томные, воздушные создания — начали донимать своим расположением; одна так просто кокетничать со мною пустилась. Прехорошенькая такая смугляночка и, представь, только что новый дом отстроила на Шорокшарской улице. Великолепные комнаты, закрытая веранда, очень для детей подходящая. Одна благоволящая мне пожилая баронесса тут же шепнула: «Поухаживайте за этой малюткой графиней; она вам квартиру сдаст». Квартира! Квартира! Волшебное слово (я так беспредельно одинок — не чаю увидеть тебя рядом). Стал я ухаживать, и, признаться, она тоже с заметным интересом ко мне отнеслась, а глазки плутоватые такие, небесно-голубые! Уж не эти ли небеса подразумевал Дарани? Прости, дружок, за откровенность, но весь этот блеск, эти тонкие духи, эта элегантная картавость в голову мне бросились, и в один прекрасный вечер, когда графиня сказала: «Мне хотелось бы поговорить с вами наедине», — я обещал приехать на другой день.
С бьющимся сердцем ушел я с заседания.
— Погоди, сейчас голосование будет, — сказал мне Бени Перцель вдогонку. — Не дадим министра в обиду.
— В обиду? А кто его обижает?
На свете только два неприкосновенных существа осталось: соловей да министр. То есть, собственно говоря, одно: министр, потому что соловья, как ни береги, кошка все равно сожрет, если сцапает, а на министров даже Полони кидаться перестал — все только ластится.
Ну вот, отправился я к графине. Клянусь тебе, Кларика: только любопытство меня влекло да мысль о квартире. Графиня была обворожительна: глазки сияли, грудь подымалась от волнения.
— Вы знаете, зачем я пригласила вас, Катанги? — спросила она.
— Только догадываюсь, — пылко ответил я.
Она положила свою ручку на мою. Я ощутил жар, пылавший в ее крови, в этой благородной голубой крови.
— Могу я на вас положиться? — тихо сказала она, кидая на меня обольстительно-нежный взгляд.
— Вы имеете дело с джентльменом.
— Это я прекрасно знаю, но муж мой…
— Понимаю, графиня, и клянусь вам, что он ни о чем не узнает.
И я клятвенно поднял два пальца кверху.
Тогда графиня медленно стала расстегивать на груди бархатный корсаж цвета резеды. Одна перламутровая пуговка оторвалась и укатилась под кресло. Я нагнулся за ней, а когда выпрямился, одной прелестной выпуклости на корсаже как не бывало — так ветром песчаный холмик сдувает. В руке же у графини я с удивлением увидел целую связку четок и сложенную бумагу. Все это она оттуда извлекла.
— Я на груди это ношу, — сказала она, зардевшись и набожно поднимая глаза к небу. — Муж мой в противной партии, с еретиками. Передайте эти четки вашим дочерям, любезный Катанги; они освящены самим ею святейшеством папой. А этот лист подпишите!
Оторопев, остолбенев, принял я у нее из рук бумагу, на которой стояло: «Во имя отца, сына и святого духа мы, нижеподписавшиеся, обязуемся голосовать против законопроекта о гражданском браке», и дальше — целая вереница имен. Среди них несколько моих коллег-депутатов.
Я встал и поклонился холодно.
— Это я не могу сделать, графиня.
— Как? Почему? Вы же обязательство дали.
— Все равно, я не решил еще. Прошу времени на размышление.
Она надменно покачала своей красивой головкой:
— Не буду настаивать. Я уверена, что внушение свыше все равно приведет вас в наш стан. Идите же, помолитесь и возвращайтесь.
Ах, Клара! Скольким искушениям подвергаешься в этой политике! Но я мужественно устоял и продолжал ломать комедию в клубе с этим обязательством в надежде извлечь выгоду для тебя и для детей.
Я полагал, что без меня трудно обойтись, а коли так — извольте выполнять мои условия. И некоторое время это прекрасно удавалось. Порекомендовал я Криштофа министру одному, он возражать: у него квалификации нет.
А я ему: «У Криштофа нет квалификации, зато у меня голос». И Криштоф тут же получил назначение. Мой голос — для него достаточная квалификация.
Так бы и шло, если б не король. Всегда он портит все. Взялся вдруг правительство поддерживать! Это ведь ваше дело. Пускай уж один кто-нибудь — или он, или мы. А вместе — так все равно с ним одним считаться будут.
Вот как обстояли дела, когда проект до палаты депутатов добрался. Правда, и отсюда еще не ближний путь. Возни да хлопот хватит. Но самое трудное позади. Подумай только, какое расстояние отделяет наш председательский стол от котомки покойного дяди Пишты Майороша, в которой он партийную программу таскал. А ведь и он там сначала лежал, гражданский брак наш, — только потом уж к Даниэлю Ирани угодил в коллекцию. Коллекционеров у нас среди левых только двое — Комьяти да Ирани. У того — коллекция трубок курительных, у этого — законодательных предположений. Ну, он и перетряхивает их каждый год, свои предположения, как ты перины да подушки на заборе проветриваешь с кроватей для гостей.
И вот он на столе, наш гражданский брак.
Ждал я, ждал —и все-таки дождался. Пришло наконец наше время — тех, кто обязательства давал. Мы теперь — как новое привилегированное сословие.
Я уже заранее предвкушал, как нас улещать будут, пирогами да пряниками ублажать.
Мне все рисовалось, как Векерле под угрозой полного разгрома присваивает мне баронский титул, я с какой-нибудь хлебной синекурой перехожу в палату магнатов — и уж тогда сдаюсь.
Но неделя проходит, я каждый день в клубе сижу, Векерле меня видит, улыбается даже, но ни словом, ни взглядом не показывает, что улещать собирается.
Вчера наконец я не выдержал и сам спросил:
— А со мной что будет?
— То есть как? — удивился он.
— Да ведь я говорил, что обязательство дал канонику.
— А, да-да, — подхватил он с веселой готовностью. — Нy и что же?
— Вот я и думаю, что делать?
— Ах, боже мой, да против голосовать! Давши слово — держись, тем более таким достойным, почтенным людям.
Я побледнел и отшатнулся.
— А либерализм?.. Либерализм?..
— О либерализме ты не беспокойся. С ним уже больше ничего случиться не может.
Оскорбленный в своих лучших чувствах, покинул я клуб и поехал прямо к малютке графине. Сердце мое пылало гневом и жаждой мести. Я подал визитную карточку, и лакей понес ее в комнаты на серебряном подносе.
— Ее сиятельство сейчас заняты и не могут вас принять, — немного погодя вернулся он с ответом.
— И больше ничего не велено передать?
— Нет, как же. Что подписей ее сиятельство больше не собирают.
Вот причина моего долгого молчания. Великие планы меня обуревали. И неплохо задуманные, Клари! Но с королем поди поговори. Король все испортил.
Твой любящий муж Меньхерт Катанги.P. S. Квартиры, естественно, опять нет. Но у этой вероломной великосветской святоши просить я ни за что не буду. Ах, Клари, одна только женщина меня понимает… настоящая, верная, славная, добрая женщина. Но как звать ее, дома шепнет тебе на ушко твой
М. К.Письмо из провинции Меньхерт Катанги у себя дома
24 ноября 1893 г.
Вот уже несколько дней, как в городишке распространилась новость (мы ее от хромого телеграфиста узнали). Наш дорогой и уважаемый депутат прислал телеграмму своей драгоценной супруге: «В пятницу приезжаю, вышли лошадей на станцию. От избирателей держи в тайне».
Но какие могут быть тайны в конце девятнадцатого столетия? К приходу поезда вокзал и перрон уже были украшены флагами. Мы — человек восемьдесят во главе с бургомистром — дожидались на платформе. Среди встречавших была и госпожа Катанги, урожденная Клара Бодрогсеги, с сынишкой Менюшем и старшей дочкой Маргит. Ее превосходительство приветливо поздоровалась с нашим городским головой, его благородием господином бургомистром Амбрушем Ковачем, и довольно долго изволила беседовать с его преподобием господином настоятелем Анталом Козмичем.
— Как мило, что и вы все тоже моего мужа встречаете.
— Да мы думали, его превосходительство и рождество в семейном кругу проведет. Ведь парламент уже на прошлой неделе распустили.
— Да, муж немного задержался, — дела у него. Он же член комиссии по наблюдению.
— Utique[34], дела, дела, — поднял к небу глаза его преподобие. — И потом, в столице в это время небезынтересно.
Ее превосходительство скорбно поникла головой.
— Да, если б только не так трудно с жильем! Мой бедный муж никак не может найти квартиру.
— Это в такой-то прорвище домов? — брякнул нотариус, но бургомистр предостерегающе ткнул его в бок и поспешил загладить оплошность:
— Какая там, к черту, прорвища! То есть, прорвища, конечно, но… Хотя и не прорвища, собственно, а вообще…
Но тут раздался свисток, поднялась суета, и, пыхнув несколько раз, к перрону огромной изогнутой змеей подполз поезд.
Дверь одного из вагонов открылась, и оттуда под приветственные клики вышел Меньхерт Катанги в сопровождении какого-то смуглолицего носатого господина. Наш депутат был в пальто с куньим воротником и в элегантной дорожной шапке. На шее у него болтался портсигар на желтом ремешке.
Мы, почитатели, полукругом выстроились перед вагоном, и его преподобие встретил прибывшего блестящей импровизированной речью:
— Ваше превосходительство, господин депутат!
Как Антею прикосновение к земле придавало силу, так и вы той землей сильны, на которую сейчас ступить изволили. Нам хорошо известно, что политика — наука о насущных потребностях дня * и что самые великие государственные мужи подвержены мучительным сомнениям.
Да и может ли быть иначе сейчас, когда церковь такие утеснения терпит?
Из знаменитых писем ваших, этих возвышенных откровений неколебимого патриотизма и беспримерной супружеской верности, писем, кои по глубочайшей искренности лишь посланиям апостола Павла уподобить можно, узнали мы и о тяжких раздумьях ваших: на какую чашу весов свое мудрое решение бросить? И лестно видеть нам, что вы, ваше превосходительство, в эту минуту к земле припадаете, которая ваши силы питает, — но не с тем, чтобы, как Мидас, нашептать ей нечто, а чтобы вопросить ее, как святой Венделин. И она даст свой ответ! Добро пожаловать сюда, к нам, кто раскрывает вам объятия, как некогда земляки раскрывали их своему Демосфену!
Катанги улыбнулся, и под приветственные клики вперед выступили две девочки в белоснежных платьицах, протягивая букеты цветов. Депутат дал каждой по золотому, благодушно присовокупив такую достойную быть увековеченной сентенцию:
— Демосфен камешки во рту держал для вящего красноречия, а я — золото в кармане!
За этим кратким интермеццо наступила глубокая тишина. Все ждали ответа на блестящую импровизацию[35]. И каково же было удивление, когда вместо нашего депутата высокий оливково-смуглый приезжий господин заговорил: «Дорогие и уважаемые избиратели…» Но голос и жесты у него были точь-в-точь как у Катанги! Все так рты и разинули. Что за притча? Даже ее превосходительство, стоявшая поодаль, подумала, что это ее супруг говорит.
Что это? Кто это? Живой человек или Эдисонов фонограф? Только это всех и занимало, пока наконец не просочился слух, что это тоже депутат, — Ференц Бешеней.
— Он вроде клоуна-трансформатора в партии. Всех изображать умеет. Не поспевает куда-нибудь важное лицо — сейчас Бешеней пошлет вместо себя, голосом своим говорить. Клад, а не человек! Жаль только, что лицо, как маску, менять не может, а то совсем не узнать бы.
— Настоящего Катанги хотим! — заорали несколько человек позанозистее, не оценивших приятного сюрприза, который преподнес им депутат, выпустив своего двойника. — Настоящего давай!
Но настоящий увидел свою дорогую и обожаемую супругу и устремился к ней. Трижды обняв ее, он поцеловал в лобик дочку Маргит, а сынишку любовно по спине похлопал.
— Боже мой, как ты плохо выглядишь, Менюш, — испуганно сказала жена. — Похудел как. Ты не болел?
— Нет, бог миловал.
— Уж признайся: частенько небось полуночничал. Вон какие у тебя круги под глазами.
— Ах ты, умница моя. Сразу отгадала, что мы даже ночами работали. Все комиссии эти, будь они неладны!
— Какие комиссии, Менюш?
— А ты разве не читала в газетах, что мы ходшагский мандат упразднили? Вот это работенка была! В девять месяцев такую провернуть… Ах, Клара, да где тебе понять! А дома как, все в порядке?
— Все, если не считать, что у Мамелюка цепь из носу выскочила и он теперь на людей бросается. В доме страх панический.
Во избежание недоразумений спешу пояснить, любезные читатели, что Мамелюк — это ручной медведь, живущий в усадьбе Катанги. Господин депутат сам его выпестовал и, продев ему в ноздри кольцо, цепь к нему прикрепил. За эту-то цепь, которую медведь везде таскал за собой (ибо господин Топтыгин свободно расхаживал по заднему двору и верандам), его и прозвали в городке «Мамелюком» *. Никого не трогал Мамелюка, пока цепь у него в носу болталась и вниз тянула, — бродил себе смирнехонько, как овчарка. И дети играли с ним, дразнили, гладили, — никогда, бывало, не обидит. Но вот дня два, как цепь каким-то образом выпала, и с тех пор люди и скотина в страхе. Мамелюк ужасные вещи творит.
— А-я-яй, — сказал Катанги. — Досадно, что цепь выскочила. Что же делать теперь, черт побери?
— Дома столпотворение настоящее. Работники во двор с заряженными ружьями выходят, а детей я вообще не выпускаю. Застрелить его придется.
— Подумать только! Бедный Мамелюк. Нет, Клари, я не дам убивать его. Может, удастся опять кольцо в нос продеть. В истории такие случаи бывали. Но ты, правда, не знаешь; ты ведь про «пуристов» не слышала.
В эту минуту опять разразилась овация: Бешеней кончил говорить. Многие махали шляпами. Господин Катанги поклонился направо, налево. Тут экипажи подали: Катанги — его четверку серых в яблоках, сопровождающим — коляски.
Наш дорогой и уважаемый депутат сам ловко вскочил на козлы; ее превосходительство с гостем разместились на заднем сиденье, а барышня Маргит, которая, по слухам, помолвлена уже с Ференцем Феньвеши, но официально обручение состоится, как говорят, только после назначения его интендантом, — напротив матушки. Сынок же, Менюш, на Юльче, вороном пони, гарцевал рядом с каретой.
Всюду, где проезжал кортеж, окна растворялись, женщины махали платками. На наших глазах какая-то девушка с корнем выдернула свой розмарин из горшка и бросила прямо в Катанги. Словом, воодушевление было всеобщее и даже на животных тварей перекинулось благодаря нашему гостю-депутату, который по дороге по-петушиному начал кричать. В ответ по всей улице закукарекали петухи, введенные господином Бешеней в заблуждение, так как было всего десять утра.
Из-под ворот господского дома по знаку господина Криштофа, который лишь с первого января займет свою новую должность в столице, выпалили две мортиры. А меньшие сыновья господина депутата, трубя в игрушечные трубы, на крыльце поджидали папочку между двумя рядами вооруженных работников, которые глаз не спускали с бродившего по двору мишки.
Вереница колясок проводила хозяина до самого дома, даже во двор въехала, где его превосходительство пригласил высоких гостей в комнаты, а слуги обнесли их ветчиной и коньяком.
Даже получасовое пребывание в обществе двух незаурядных государственных мужей было весьма поучительно. Особенно наш дорогой, уважаемый депутат очень важные и глубокие замечания сделал по разным всплывавшим в разговоре вопросам. Однако самое интересное он к крещенью приберегает, ко дню богоявления, шестого января, когда свои именины будет справлять. И в самом деле, за коротким завтраком и веселой болтовней государственных дел можно коснуться только per tan-gentem[36].
По поводу валюты он заметил, что успех обеспечен. Векерле — просто маг и волшебник.
Девяностодвухлетний Фортани слушал и кивал своей белой как снег головой.
— Верно, верно! Я так и знал, что вернется… не останется там, на острове… куда эти псы-англичане его заточили…
— Вы о чем, дядюшка? — спросил депутат у старца, который никак не мог рюмку до рта донести дрожащей рукой. — Кого англичане заточили?
— Да этого… Векерле… Наполеона… Вернулся-таки…
— Много воды уж с тех пор утекло, дядюшка Фортани!
Но старик только помаргивал маленькими безбровыми глазками: дескать, мне лучше знать. Прошлое и настоящее слилось в его памяти — далекие годы казались только что промелькнувшим вчерашним днем.
Все улыбались; один Катанги промолвил серьезно:
— Да, если бы существовало переселение душ, я первый поверил бы, что в нашем премьере неустрашимый дух Наполеона воплотился. Подумайте, господа, как ему везет! Я при таком немыслимом везенье немедля бросил бы все и убежал, не останавливаясь, до самого Монако. Возьмите хоть эти придворные штаты! Пари держу, что через два года королевский двор в Буду переедет, да там и останется.
— Только этого не хватало, — ужаснулась ее превосходительство. — Тогда и вовсе квартиры не снимешь.
— Не беспокойся, Клара. У меня для тебя хорошая новость: дом Легради уже кроют.
Стряпчий Фланга спросил, что слышно об уходе Хиероними.
— Не исключено, что ему министерство культов придется взять, — нахмурился Катанги.
— Почему же его отпускают?
Глубокий вздох вырвался из широкой груди нашего депутата.
— Потому что он лучше, чем нужно.
— Это уж так, — вмешался доктор Плахта. — Обратите внимание: из детей тоже самые добрые умирают.
— Вот в Халаше я, милостисдари, мясника одного знал, — вставил Бешеней. — Так он страшно крови боялся. Как барана забивать — его просто в дрожь бросало (мясника, заметьте, а не барана). Очень добрый мясник был.
Господин Криштоф, который обходил гостей с коробкой сигар, поинтересовался, как себя оппозиция держит в связи с реформой канонического права.
— Оппозиция, — отвечал Катанги, — прекрасно знает, что в этом горшке сливки у нас, а она до них, как кошка, лакома и даже заодно с нами не прочь полакать; но еще больше ей хочется разбить горшок. Вот она и раздумывает пока, озирается.
Тут отец настоятель как вспылит: кому, мол, нужна эта реформа, все это за волосы притянуто, и вообще тут рука Кальмана Тисы видна.
— Поверьте, господа, — твердил он раздраженно, — у старика еще, ой, какое влияние. Не мешало бы вам подумать, как этому воспрепятствовать.
Тонкая ироническая улыбка тронула губы нашего депутата.
— Я только один способ знаю: пусть пятьдесят — шестьдесят округов сговорятся…
— Слушайте, слушайте!
— …и умнее Тисы депутатов посылают в парламент. Тогда его влияние сразу прекратится. Но вот беда: округа уперлись, как ослы…
— Именно, как ослы, — подтвердил аптекарь.
Бутылки с коньяком быстро опустели, и депутат, сердечно пожимая гостям руки, простился со всеми, кроме доктора Плахты, которого оставил на более узкое совещание — о водворении кольца обратно в нос господину Топтыгину.
И доктор вправду подал идею. Мишка мед любит, — значит, нужно меду ему дать. Но предварительно разболтать в чем-нибудь усыпляющем — в кадке спирта, например, которую потом выставить во двор.
Мамелюк учует запах меда, а господин Бешеней высунется из окна и станет его подманивать голосом медведицы. Медведь подойдет, упьется — и заснет; а во сне и Мамелюк не страшен. Преспокойно можно кольцо обратно вставить.
Но дело боком вышло, и еще днем всех посвященных лиц облетела весть, что бедный мишка налакался водки с медом и заснул — да только навеки. Так на нее приналег, что возгорание спирта в желудке получилось. Ну что ж, по крайней мере, смерть приятная, красивая и пополнившая богатый запас наблюдений доктора Плахты еще одним: если у Мамелюка, — то есть медведя, — цепь из носа выскочит, ее уже никакими силами обратно не вставишь.
На именинное угощение по округу, как говорят, сто пятьдесят приглашений будет разослано. Город в лихорадочном нетерпении ожидает этого знаменательного дня, ибо наш депутат, по сведениям из достоверных источников, намерен в форме тоста произнести большую, обстоятельную речь о политическом положении. Ожидается прибытие Футтаки.
Л. Р.Письмо двенадцатое Партия и вопрос о Кошуте
26 марта 1894 г.
Дорогая моя супруга Клара!
Я не собирался больше писать тебе открыто; сама знаешь почему — из-за нашего дядюшки-епископа, который сказал мне:
«Или совсем не пиши, или пиши иначе, а то я сам иначе напишу».
Это означало: если я о гражданском браке не буду по-другому писать, он возьмет и завещание свое перепишет.
Но чем иначе писать, лучше совсем бросить. И я перестал публиковать письма в «Пешти хирлап», к немалому удовлетворению правительства (я ведь, случалось, чувствительно задевал их высокопревосходительства). И в комиссии по наблюдению за соблюдением были рады, полагая, что ее члену не очень-то подобает в газеты пописывать. Напрасно я им толковал, что и Дизраэли * пописывал, — они знай свое: «Во-первых, Дизраэли не наблюдал за соблюдением, а во-вторых, он просто еврей». Радовалась и оппозиция — ее грешки я тоже разглашал, а гласности и она не любит; радовался городской магистрат: ведь если каждый божий день повторять, что квартиры нет, это иностранцев отпугнет от Будапешта, и он никогда европейским городом не станет. И все мои коллеги-депутаты тоже меня отговаривали, потому что беспрестанно письма получали от жен с упреками: «Смотри, как подробно Катанги своей жене пишет, вот это муж! А ты лентяй, хоть бы словечко черкнул!»
Так депутатши корили своих мужей. И не диво, что мужья на меня обрушились.
— Не надо этих опасных примеров, гибельных прецедентов! Оставь, пусть все идет своим чередом.
Ну я и оставил. Мне, что ли, больше всех нужно.
Так вот, я не собирался открыто писать тебе, милочка, если бы не вчерашнее твое письмо с этаким сердитым пассажем:
«Стыдись, Меньхерт! Как только ты людям в глаза смотришь, как у тебя совести хватило против Кошута в пятницу голосовать! * Уж если ты сам своей глупой головой сообразить не мог, что делаешь, хоть бы в «Пешти хирлап» прочитал — там прекрасно сказано, каких почестей заслуживает Кошут от нации. Да знаешь ли ты, что вы покойника обокрали…» и так далее.
Тьфу ты, бестолковая женщина! И это мне ты смеешь говорить? Меня честной, серьезной политике учить, меня и мою партию? Да в своем ли ты уме? Ей-богу, я всерьез подозреваю, что у тебя какой-то крайний левый поклонник завелся, который твои мозги на свой фасон перекраивает.
Это меня ты укоряешь, меня, который Кошута больше всех исторических личностей любит? Который прямо заявляет, что у нации, не умеющей ценить своих великих людей, никогда их и не будет? У нас про тощую землю говорят, что она плоха для пшеницы. А разве не правильней сказать — да во сто крат правильней! — что это пшеница для нее слишком хороша?
И уж поверь: я с легким сердцем читаю в исторических книжках про битвы при Шайо и Мохаче *. Ведь все равно павшие там герои до наших дней не дожили бы. И гибель Конта * с товарищами не оплакиваю; разве что подумаю, насколько проще была в те времена партийная тактика: недовольные не шли шуметь в «Охотничий рог», а тихо, мирно отдавались в руки будайскому палачу, и в партии опять восстанавливалось согласие.
Никакие проигранные сражения и подавленные революции меня не печалят, не вызывают ни стыда, ни горечи, потому что я знаю: это все пустяки, это доказывает только, что венгры были слабее своих врагов.
Но когда я читаю, что сейм лишил всех прав состояния Ференца Ракоци, мне рвать, метать, убивать хочется, потому что венгры совершили подлость.
А ведь «пустяки», которые меня не печалят, — это реки крови, горы трупов целые; а печалит всего-навсего протокол — маленькая грязная бумажонка.
Так что не думай, пожалуйста, что мне, мамелюку, безразлично, как Лайоша Кошута хоронить.
Эх, да что вы, женщины, в политике понимаете! Волос-то у вас долог, а ум вот…
Помнишь, как мы, еще молодоженами, жили вместе с моей бедной покойной матушкой? Ты ее все «злюкой свекровью», а она тебя «непутевой женой» называла.
Сколько злобы, сколько распрей всегда было между вами, пока она, бедняжка, наконец не перебралась из дома куда-то на деревню. Но мира все равно не наступило: уволенные поварихи, проезжие разные, бродячие проволочники-словаки то и дело передавали тебе ее колкости.
Тебе хотелось, чтобы я с ней порвал, а ей — чтоб я к тебе переменился.
Я противился, говоря: «Клари, не выдумывай! Как это я с собственной матерью порву?» А ей, бедной, твердил: «Не могу же я к законной жене не питать привязанности!»
Я вас обеих любил; но объясняй не объясняй — вы все равно в толк взять не хотели. Сколько раз ты требовала: «Или я, или она — выбирай!»
А помнишь, когда мама скончалась, как равнодушно ты к смерти ее отнеслась? Меня это очень обидело.
«Нехорошо, — сказал я, — не всплакнула даже. Плачь сейчас же!»
А ты раскричалась, руки в боки: «Как же, стану я плакать по приказу! Кто это меня заставит, хотела бы я знать!» — «Но послушай, она же мне мать родная!» — «А мне враг лютый! Плачь сам, если тебе так нужно».
Ты, конечно, была неправа; несколько слезинок все-таки можно было уронить — хоть приличия ради, хоть для слуг, чтобы люди не болтали, чтоб меня в моем горе утешить. Но раз уж ты сама не догадалась, не захотела, я не стал настаивать. Ты и так натерпелась от бедной старушки еще при ее жизни.
Но почившую в бозе (да, чтобы не забыть: вели, пожалуйста, заборчик починить вокруг могилки) я вот зачем поминаю. По какому такому праву мог я голосовать за то, чтобы король присоединился к общему выражению соболезнования? (Ведь обе оппозиционные резолюции его подписи требуют.)
И ты от меня этого ожидаешь, который даже тебя не мог заставить плакать? А я ведь муж твой, которому ты перед алтарем клялась в верности и послушании!
Чего уж о короле говорить!.. Король — это все-таки не ты. А-я-яй, Клари, что за мысли у тебя?.. Хотя, правда, ты никогда живого короля не видела.
Будь ты хоть капельку умней, так поняла бы, что свой долг мы Кошуту отдали, только чужого не вотировали.
Бушбах — славный такой старик, благоразумный, и гонвед бывший — сказал на конференции: «Надо себя перебороть».
Очень разумно сказал, очень правильно, я знал это, но все-таки заявил Криштофу (он вечером меня в ресторане дожидался):
— Перебарывать себя — вещь хорошая, но я все-таки подожду, пока его величество себя переборет.
Его величество этого не сделал, и я на вопрос того же Криштофа, что теперь будет, ответил:
— А то, что переборем себя, и не будет никакого закона о посмертных почестях Кошуту.
— Ну, а если не перебарывать?
— Все равно закона не будет.
Тогда даже куруц * Криштоф смирился. А, дескать, бог с ним: переборем.
Да вот у нас мельница в Петерфалве — ее три речки вертят. Пересохнет одна — уже колесо останавливается. Ну, а если в одной только вода, умный человек почешет в затылке да назад поворотит с мешками (а ведь ее только и можно еще речкой назвать; в другой, которая палатой магнатов зовется, воды воробью по колено).
Нет, нет, не права ты, Клари, кругом не права. Ты нас так поняла, будто мы отказываемся почтить память Кошута. Неверно это. Слышала бы ты, как Векерле говорил, у тебя сердце встрепенулось бы от радости. Так тепло, так трогательно, так проникновенно — будто солнышко проглянуло и пригрело всех. Благородная гордость и достоинство зазвенели в его голосе, когда он сказал, что у гроба Кошута мы все едины в своих чувствах — нас только их внешние проявления различают.
Воскресни сейчас мой бедный отец, который два года в кандалах томился только за то, что у него нашли портрет Кошута, он диву бы дался, услыхав, какие вещи первый министр его величества говорит в парламенте. Уж он не стал бы меня ругать, как ты, а спросил бы: «Не сон ли это, Менюш?»
Нет, зря ты головой качаешь: это дело большое. Стоя, все в черном, выслушали депутаты известие о кончине любимейшего сына родины и непримиримого врага короля. Парламент депутации шлет, венки, изъявления скорби и сочувствия — а вам все мало; вам еще королевское соболезнование подавай. Откуда же мы возьмем его?
И нужно разве оно Кошуту, рассчитывал он на него? Не вопреки ли королю достиг он величия?
Нет, Клари, лукавишь ты, фарисействуешь. Это ты только перед мужем сторонницу Кошута разыгрываешь, а на деле куда лояльнее меня. Втайне ты не Кошута, а Франца-Иосифа жаждешь прославить этими законами. Ты повредить хотела Кошуту, женщина! Потеснить его в сердце народа ради короля.
Молчи, Клари, молчи! В том, что так получилось, что на гробе, за которым идет вся Венгрия, королевского венка не окажется — в этом больше все-таки сам Кошут повинен, чем наша партия.
У короля ведь сердце тоже не камень. Мало ты разве историй об этом слышала. Как он, потомок ста императоров, пришел с визитом к захудалому венгерскому дворянчику, господину Ференцу Деаку в гостиницу «Английская королева»; как ее величество собственноручным письмом пригласила старика к обеду — дружески, попросту, будто равная равного, а потом, преклонив колена, у его же смертного одра стояла… Книги, легенды, картины рассказывают об этом. Взгляни хоть на ту, что у нас в курительной комнате висит, и скажи, разве не обязаны мы немножко уважать такого короля, щадить его чувства, выражая свои к Лайошу Кошуту?
Еще ты пишешь, почему я хоть с Еллинека не взял примера, который воздержался при голосовании.
Да потому, что я соглашение одобряю. И вообще, имеет наконец право страна ожидать от депутата, члена парламентской комиссии в течение двух созывов, серьезного соображения всех обстоятельств?
Легко объявлять себя столпом соглашения, рассуждая ну вон хоть о конъюнктивите, а когда здание этого самого соглашения зашатается, в сторонку отбежать. Нет, ты пойди плечом его подопри!
Уже вижу твою насмешливую улыбку, но что я могу поделать. Такой уж я есть. Скорее тем прощу, кто против нас голосовал, потому что они только на низы озирались, чем воздержавшимся, которые и низам и верхам угодить хотели.
Так что не ставь мне в пример Еллинека.
Хотя и его я не берусь осуждать. Еллинек умный, он все на свете книжки прочел; наверно, там и выискал золотое правило: «Timere bonum est»[37]. Хуже, что у нас есть Еллинеки навыворот, которые боятся лишний раз мозгами пошевелить. Это все партийные корифеи, настоящие и будущие их высокопревосходительства, желающие уклониться от своих обязанностей в погребальной церемонии.
И наконец, еще одно. На партию ты все-таки хвост не подымай, слышишь? Партия все утвердила бы, предложи ей правительство. Но и на правительство тем более дуться не за что: оно даже лучше партии, оно охотно бы и больше предложило.
Но нельзя, Клари, ручаюсь тебе: нельзя. Придется удовольствоваться тем, что возможно.
А это уже не мало. Таких похорон еще не видывала страна с тех пор, как в ней мадьяры живут.
Когда ты получишь это письмо, Лайош Кошут будет уже в пути на родину. Под немолчный гул молвы и шелест знамен, в сопровождении депутатов и депутаций, движется, движется он по опустелым, оголенным странам (ибо все цветы он с собою унес), — близится к одетому в траур городу, где нация с великим почетом предаст земле его тело, чтобы тем умножить ее силы.
Но я вот-вот заплачу. Храни тебя господь.
Меньхерт Катанги.P. S. Как удачно все-таки, что я не снял квартиры. А то нам теперь все стекла повыбили бы от большой любви ко мне.
М. К.ПРОДЕЛКА В КЕРТВЕЙЕШЕ
КАТАНГИ ПРОВАЛИЛСЯ. АВТОР ЗНАКОМИТСЯ С «НОВИЧКОМ»
Попробуйте отгадать: когда вновь избранный депутат бывает наверху блаженства?
Когда получает мандат.
Ничего подобного. Получение мандата — вещь мало приятная, потому что надо речь произносить.
Ну, тогда в первый час после получения.
Ничего подобного: в этот час приходят счета и продолжают приходить еще много-много часов подряд.
Придется мне самому объяснить. Наверху блаженства бываешь в поезде по дороге домой, когда на первой остановке хватаешься за газету и жадно пробегаешь глазами столбцы телеграмм: кто переизбран из твоих коллег, кто провалился. В груди — целый хаос противоречивых чувств; но ничто не может всерьез омрачить твоего блаженного состояния. Неприятно, положим, что Икс не прошел; но стоит ли особенно печалиться, если сам переизбран? Еще досаднее, пожалуй, что Игрек проскочил; но в голове тут же мелькает: «Ах, черт, ведь и я тоже!» Пощупаешь карман, где мандат похрустывает, и всякое огорчение проходит. А если он в чемодане, — часто и с нежностью на чемодан поглядываешь. В первый день все радости еще с мандатом связаны, все тянутся за ним, как лодки на буксире.
Читаешь имена друзей и недругов, которыми пестрят телеграммы, — и будто на поле боя трупы опознаешь.
Или, наоборот, в долине Иосафата, — конечно, уже после трубы архангела Гавриила, — смотришь, кто восстал из мертвых. Наслаждение неизъяснимое! Сколько раз я уже испытал его, а все еще и еще попробовать хочется.
Вот и этот раз я тоже все донимал кондуктора:
— Где можно газеты купить?
— В Коложваре, наверное.
— Когда прибудем туда?
— Около полуночи.
— Это поздно. А раньше нельзя? В Шегешваре, например?
— В Тевише, может быть.
— А ну, постарайтесь раздобыть мне сегодняшнюю газету. Хорошие чаевые получите.
Кондуктор и чаевые — братья-близнецы. Вместе они чудеса могут творить (порознь же ни на что не годны, особенно кондуктор). Не знаю уж, как он достал и откуда, только смотрю — вдруг «Пешти хирлап» приносит. Пробегаю первую страницу и прямо в начале — телеграмма из Боронто. Время отправления — 10 часов 25 минут.
«Сегодня здесь единогласно избран Гергей Капуцан, (либ. парт.)».
Я даже вздрогнул. Боронто! Ведь это же округ Меньхерта Катанги! (Надеюсь, и вы не забыли знаменитого члена комиссии по наблюдению за соблюдением.)
А-я-яй, что такое с этим округом, вернее, с Меньхертом Катанги, приключилось? Неужели провалился наш бравый патриот? Невероятно. Что Кларика скажет? И министры? И что теперь с протоколами будет? Неужто в этой стране больше ничего святого нет?
И кто такой этот Гергей Капуцан, новый депутат от Боронто?
Я так громко размышлял вслух в вагоне-ресторане за бутылкой трансильванской «леаньки» *, что мой визави — дочерна загорелый человечек с оспинами на лице — почел долгом отозваться.
— Чудесная погода, — сказал он, вытирая платком потную красную шею.
— Лето настоящее, — рассеянно ответил я.
— Астрономы говорят, созвездие какое-то землю к себе притянуло. Поэтому и жара такая.
— Гм.
— А я сразу сказал, когда этот холодище в июне завернул: «Не горюй, ребята. Никуда они не денутся, ни лето, ни зима. Свое все равно возьмут».
И он глянул на меня искоса, проверяя, расположен ли я разговаривать. Но я упорно читал газету, никак не откликаясь на его метеорологические наблюдения.
— Вас, сударь, кажется, выборы интересуют, — продолжал он, не отступая от своей цели. — Мы тоже вот послали в парламент этого… Капуцана…
— Капуцана? Значит, вы из Боронто?
— Прямо оттуда.
Тут только я заметил легкий армянский акцент в его речи.
— Да? И какой он из себя, этот Капуцан?
— Какой?.. Обыкновенный армянский человек… Вот хоть вроде меня.
Я посмотрел на него внимательней. Небольшого росточка, лет тридцати пяти, глаза живые, сообразительные. Костюм модничающего провинциального кавалера: все с иголочки и с преувеличенным шиком. В белом атласном галстуке — булавка подковкой, на ней брильянт посверкивает.
— А до этого кем он был?
— И до этого армянин был.
— Нет, я не о том: кто он — адвокат, врач или торговец?
— Он очень порядочный, исключительно порядочный человек, — почти с умилением сказал пассажир. — Адвокат и умница… ба-альшая умница…
И брови у него всползли чуть не до самых волос.
— Говорят, у армянина, кто б он ни был, всегда складной метр из кармана выглядывает.
Собеседник мой от души посмеялся этому замечанию.
— А что вы думаете? И выглядывает! Неплохо сказано, черт побери, честное слово, неплохо. Но Капуцан не такой; он ба-альшую карьеру сделает, наверняка сделает.
— А почему Катанги провалился?
Мой спутник, оживившись, поднял голову.
— Странная история, — осклабясь, сказал он. — Очень-очень чудная история.
И он рассказал, что недели за три до выборов в «Баранто» (трансильванского армянина издали можно узнать по этому «аканью») пожаловала госпожа Катанги («ох, какая дамочка, скажу я вам»). Она нанесла визиты всем влиятельным лицам, умоляя не выбирать ее мужа в депутаты.
— И ей уступили, конечно?
— Бесплатно! Из любезности! — хвастливо вскричал рябой человечек, желая, вероятно, подчеркнуть, что в Боронто еще нет коррупции.
— Странно. Что же могло побудить к этому госпожу Катанги?
Чудной пассажир рассказал, что комедия с квартирой вконец ожесточила Кларику, и она пожаловалась боронтойским дамам, что из-за этого депутатства муж совсем семью забыл, пьяницей сделался, а она из-за его лживых писем — посмешищем для всей страны. «Верните мне мужа, а детям — отца!» — так молила она. Женщины приняли ее сторону. Курица курицу всегда поймет, а чего курам захочется — петух добудет. И когда через неделю Катанги явился с флагами, все уже было кончено. Бывшему депутату коротко и ясно дали понять, что ему тут больше делать нечего.
— Жаль, жаль, — вздохнул я. — Бедный Менюш!
— А он кто, родственник или друг ваш? — осведомился незнакомец предупредительно.
— Нет, просто мы коллеги были, — ответил я уклончиво.
— Ого-го! — вскочил мой рябой компаньон, сверкнув глазами и радостно ударяя своей твердой ладошкой по моей. — Что же ты молчишь, такой-сякой? Уселся — и ни гугу. Ай, скромник! Тут, понимаешь, ждешь не дождешься, когда свой брат депутат повстречается. А этот законодатель сидит, понимаешь, и другого законодателя узнавать не желает. Вот судьба свела! Как звать тебя, дорогой?
Признаться, столь бурная радость меня немного ошеломила. Но почему в конце концов не быть «новичку» на седьмом небе, пока его не обломала суровая действительность? Почему его радости должны быть такими уж скромными? Ведь за них хорошо заплачено.
Я назвал себя.
— Ах, такой-сякой! — вскричал он. — Читал, читал, как же… но что — хоть убей, не помню.
— Ну, а сам-то ты кто?
Он запнулся было, словно смутясь, но потом разразился неистовым хохотом.
— Да Капуцан, ха-ха-ха… Ну да, Капуцан, хи-хи-хи… Как же ты не догадался, хе-хе-хе… Ловко подшутил, а?
И он нажал кнопку звонка. Подбежал подобострастный служитель в ливрее табачного цвета.
— Шампанского сюда, ты!.. Вот встреча так встреча. Прямо на картину просится. Недавно я на одной точно такую же видел… Погоди, на какой же это?.. Да, да, французского, amice[38].
До самого Коложвара проговорили мы с моим новым коллегой. Никак он меня спать отпустить не хотел — все грозился, упрашивал подождать, до полусмерти замучив разными глупыми замечаниями и вопросами, которые занимают теперешних «новичков». Какой оклад у депутата? (Перевернись в гробу, старина Деак!) Нельзя ли поскорей в комиссию по общеимперским делам попасть — к этому-де у него наибольшее призвание? («Тут мне удалось бы кое-что сделать, — с величайшей скромностью говорится в таких случаях. — По-моему, во мне что-то есть». Но я-то уже успел убедиться, что ничего особенного не бывает в моих уважаемых коллегах, а если и есть, так уж хоть бы совсем не было.)
Капуцан спросил еще, правда ли, что к министрам на «ты» обращаются.
— Правда.
— А я думал, только когда никто не слышит.
— Ах, Гергей, Гергей! Когда никто не слышит, не только министра — жену его можно на «ты» называть.
— Вот это я понимаю, конституция! — восхитился Капуцан, с сияющим лицом опрокидывая пенистый бокал шампанского.
Любопытство и жадность так его и распирали, выглядывая из глаз, изо рта, из ушей. Удивительной, поистине магической привлекательностью обладает это несчастное депутатское звание! В анналах сохраняется имя некоего Бодулы, который до самого конца прошлой сессии не спал, чтобы и по ночам ощущать себя депутатом, подольше в лучах собственной славы погреться. Капуцан тоже не хотел на боковую: ведь ничего похожего на эту сказочную явь нет на складах Морфея. Что ему даст сон? Отдых? Но Капуцану не отдых нужен. Сначала он мандатом хочет насладиться.
Любой пустяк его интересует, все ему знать нужно. Где вы, депутаты, обычно ужинаете? И чем вы, депутаты, по вечерам обыкновенно занимаетесь? А спите сколько в сутки? И правда ли, что на заседаниях кабинета только депутаты имеют право присутствовать? А королю вас представляют перед тронной речью? А министры в клубе каждый вечер бывают? И что делают? А обеды король когда дает? Депутатов, конечно, по алфавиту приглашают? А на заседаниях кабинета всем можно выступать? (Можно, да не полагается.) Ну, а отпор правительству дают все-таки в заведомо одиозных случаях? (Полагалось бы, да нельзя.) А скажи еще, друг любезный, к кому там обратиться — объяснить, к чему склонность имеешь, чтобы в какую-нибудь паршивую третьеразрядную комиссию не упрятали? И с синекурами этими, особыми поручениями, как дело обстоит? Кто и как их заполучить может?
— Зависит от того, есть, например, в Боронто река какая-нибудь строптивая.
— Ах, черт, об этом я и не подумал. Нет, к сожалению, нет. Но гора есть, вулканической считается. Как думаешь, горой нельзя воспользоваться?
— Ну, со временем разве, когда получше разовьется…
— Что? Лава?..
— Нет, система особых поручений.
Такими и подобными несуразными вопросами забросал меня мой новый приятель. В конце концов я счел за лучшее самому его расспросить.
— А ты куда сейчас направляешься?
— В Будапешт, — сказал Гергей Капуцан.
— Квартиру небось торопишься снять? Чтобы не постигла участь предшественника? Женат?
— К сожалению.
— Почему «к сожалению»?
— Потому, что теперь я удачней женился бы, с мандатом в кармане.
— Эх, Гергей, Гергей, метр у тебя из кармана выглядывает, а не мандат. Так, значит, квартиру снять хочешь?
— И квартиру тоже; но сначала получше местечко себе присмотрю.
— Какое местечко?
— Да кресло в палате. В наше время оборотливей надо быть, знаешь. Ха-арошее-хорошее место занять хочу — и поскорей, чтобы не опередили. А ты где сидишь, если не секрет?
— Я в самом первом кресле… на первом месте.
— На первом? — пробормотал он, широко раскрыв глаза. Удивление, смешанное с почтением, изобразилось на его лице. И, наклонясь ко мне, он сказал доверительно, как другу сердце открывают:
— Я, знаешь, такое хочу, чтобы с каким-нибудь «высокопревосходительством» рядом. А если можно — с двумя, по бокам.
Я усмехнулся про себя.
— А спереди — чтобы министр, которому твое верноподданническое бормотание будет слышно? Гергей, ты карьерист!
— Иди ты! — благодушно ударил он меня по руке. — Зачем карьерист? Не люблю карьеристов! Но что разумно, то разумно. В хорошем обществе много полезного усвоишь. Поэтому я приличных соседей ищу. Не смейся, дорогой. Мне это нужно. Я скромный человек; нюх у меня есть, откровенно скажу, но вот этого светского, понимаешь… этого нет. Овечка я еще… Совсем овечка (он выплеснул себе в рот остатки шампанского). Лопни мои глаза, коли вру.
МРАК НЕИЗВЕСТНОСТИ
Подошел старший официант со своей книжечкой.
— Коложвар, господа!
Слава богу! В Коложваре вагон-ресторан отцепляют. Это, кажется, единственное средство избавиться от болтуна Капуцана. Почва сама ушла у него из-под ног. Против этого даже у него не нашлось аргументов.
Пришлось расстаться и воротиться в свои купе, к своим пожиткам.
Там я прилег было; но сон бежал от меня. Из головы не шел этот Капуцан. Иисус-Мария, вот так карьерист! Недуг философических размышлений овладел мной. Как низко пало человечество!.. Раньше, бывало, подталкивать приходилось депутатов, за ручку вперед вести, — а попадется льстец, пролаза, так его берегли, лелеяли, показывали всем, как диковинку, вроде дерева искривленного или поросенка, который на манер собаки палку умеет приносить. Аристократы, можно сказать, изолированы были в палате — джентри на них свысока глядели. Единственный случай помню, когда депутат от среднего класса примкнул к консервативному крылу, да и то свой переход так объяснил: «Чтобы этого гордеца Шеннеи * можно было «тыкать». Но эти Капуцаны!.. И порода-то мелкая, лилипутская, а плодущая какая! Тьфу! И стоило на такого менять. Насколько Менюш лучше! И участь у него какая трагическая: собственная жена провалила. Слыханное ли дело! Другие женщины в лепешку расшибиться готовы, только бы мужа в парламент протащить… Не иначе тетя Тэрка из Буды наговорила на него чего-нибудь. Ох, уж эти старухи — хоть бы совсем их на свете не было.
С этими мыслями я заснул, вздохнув еще раз напоследок о нашем славном Менюше. Но в городе, в редакции, куда я заявился утром, мои сожаления сменились самой искренней радостью (слабое все-таки существо человек!).
— Ура! — вскричал я, завидев редактора литературного календаря за грудой рукописей. — Я, кажется, обещал написать в этом году о вторичном избрании Катанги. Как хорошо, что теперь не нужно!
— Что, что? — испугался редактор. — Как это не нужно? Газета объявила, надо выполнять обещание.
— Но как выполнять? — перебил я нетерпеливо. — Я про выборы обещал, но его же не выбрали!
— Кого?
— Катанги.
— Здравствуйте! Как это не выбрали?
— Так вы еще не знаете?
— Чего не знаю?
— Что он провалился в Боронто.
— Ха-ха-ха! — покатился со смеху редактор, сдвигая на лоб злорадно блеснувшие очки. — А вы-то не знаете разве, что его в Кертвейеше выбрали?
— В Кертвейеше? Кого?
— Ах, боже мой! Да Катанги.
— Не может быть. Ни за что не поверю. Без дальних слов он подвинул ко мне позавчерашние газеты.
И правда, в списках избранных в парламент там стояло:
«Катанги Меньхерт (либ. парт.), Кертвейеш».
Значит, он даже днем раньше Капуцана избран!
Я только рот разинул от удивления. Ничего не понимаю! До Кертвейеша добрых сто миль от Боронто, он в другом конце страны. Как Меньхерт там очутился? Да еще так быстро. Другой провалится — не слышно и не видно, как ветка с дерева упала. А этот Менюш… Сам черт ему не брат.
Я поймал себя на мысли, что все мои ночные сожаления были сплошным притворством. По-настоящему бесило меня только его избрание. Сказать по совести, куда приятней было бы сожалеть сейчас о его несчастье, чем счастью удивляться.
— И как же он проскочил, чертенок? — спросил я, все еще таращась бессмысленно на сотрудников.
— Это уж ваше дело узнать, — пожал плечами редактор.
— Да, конечно… Наверно, немало разговоров будет в клубе об этом его избрании. Потому что само собой оно совершиться не могло, руку даю на отсечение.
Но я ошибся.
В клубе никто ни словом не обмолвился о Катанги, хотя все только выборах и говорили. Большой, красивый зал оживленно гудел. Много и «новичков» появилось: аккуратно одетые и причесанные, они с любопытством озирались по сторонам, рассматривая статьи, картины: «Это наше все». В воздухе, которым они дышали, чудилось им что-то необыкновенно приятное, точно аромат резеды; кроме того, все такие обходительные с ними и элегантные. Огромный шар под потолком, ливший яркий электрический свет, казался им настоящим солнцем (а настоящее там, на улице, — наоборот, бледным и искусственным). Красно-бурый ковер у них под ногами, наверно, щекотал им подошвы, потому что они смеялись, смеялись беспрерывно.
И многолюдие в клубе, и явный спад интереса у министров к нам, серячкам, — все выдавало прибавление семейства. Я уж не говорю про губернаторскую осанку: как же, хлеба завезли в наш парламентский амбар сверх самых радужных ожиданий. Оба Каллаи, уверенно поскрипывая сапогами, прохаживаются взад-вперед — каждый с каким-то незнакомым господином под руку. Раньше ведь у них ни одного своего человека не было в клубе, и если кто спрашивал: «Сколько у вас своих либералов?» — они отвечали скромненько: «У третьего, сегедского Каллаи есть один». А сейчас каждый одного, а то и двух привел и расхаживает с ними горделиво, точно первый раз золотую цепочку от часов на живот навесил. И за эффектом следит; а отлучится куда его подопечный, сейчас разыскивать бежит, спрашивая на каждом шагу:
— Слушай, ты не видел, куда он пошел?
— Кто?
— Да Наци Кальман.
— Какой Наци?
— Мамелюк мой.
Его мамелюк! Удивительно нежно это звучит в устах главы оппозиционного комитата. «Мой мамелюк!» Просто звон малиновый.
Ого и Капуцан здесь! И уже совсем освоился. Вот вам и «новичок»! Верткий, прыткий, снует туда-сюда, руками размахивает — кому мигнет, кому шепнет; а глазами так кругом и стреляет. Похоже, он тут сразу сто дел обделывает. А держится как непринужденно! Словно вырос здесь и младенцем еще в колыбельке лежал прямо под портретом Ференца Деака.
Ага, заметил и ко мне устремился.
— Здравствуй, дорогой! Ну как, выспался?
— А ты?
— Я еще почитал немного в купе.
— Да? — сказал я рассеянно.
— Да. Квотой *, знаешь, подзаняться решил. У меня всегда с собой в чемодане несколько книжек по специальным вопросам.
Вдруг он министра увидел — узнал, наверно, по карикатуре в «Боршсем Янко» * — и грациозной серной засеменил к нему, представиться.
— Кто это? — спросили меня несколько старых депутатов, которые особняком стояли поодаль, точно краснокожие, наблюдающие пришельцев-завоевателей.
— Это Капуцан. Мы в поезде вчера познакомились. Смотрите остерегайтесь: карьерист высшей марки.
Но мое замечание сразу чуть не десять возражений вызвало.
— Ничего подобного! Высшей вон тот блондин, у бюста Андраши * стоит.
— Черта с два! Племянник мой — тот еще почище будет. Вон юноша долговязый, на кафедру облокотился, видите? Сам, своим умом дошел, что надо поближе к председательскому месту держаться.
Каждый принялся доказывать, что он самого завзятого карьериста знает. Верный признак изобилия.
Но что мне, в самом деле, о будущем печалиться? Я ведь о подробностях избрания Катанги пришел разузнать… Однако история кертвейешских выборов оказалась покрытой мраком неизвестности. Сколько я ни расспрашивал, никто ничего не мог сказать.
Я подумал, может, у министров что-нибудь выведаю, и остановил одного.
— Слушай, ты не знаешь, как это Катанги прошел?
— Большинство голосов получил, по всей вероятности, вот и прошел, — пожал плечами его высокопревосходительство и добавил с тонкой иронией: — Иногда ведь и так попадают в парламент.
«Ну, этот не слышал ничего, — подумал я. — Поищу, кто получше информирован». Вскоре и такой нашелся, и я повторил свой вопрос.
— А черт его знает, — получил я ответ. — Кертвейеш всегда был полнейшей загадкой.
У четвертого я уже почти без всякой надежды попытал счастья. Но этот, видимо, больше знал, потому что сразу прикрикнул на меня, как на любопытного приставалу-ребенка.
— Не спрашивай, несчастный, откуда дети берутся. Останемся лучше в приятном заблуждении, что всех вас под капустным листом нашли.
Совсем я расстроился. Ничего тут, видно, не пронюхаешь. Все основательно укрыто от посторонних глаз. Но это-то и показывает, что здесь какая-то тайна.
Тем временем издательство засыпало меня письменными напоминаниями и предостережениями: «Просим представить историю вторичного избрания Катанги, в противном случае…» и так далее.
А где я ее возьму? Из пальца высосу, что ли?
Оставалось последнее средство — у самого Катанги выпытать. Он за бутылкой «Моёt Сhandon»[39] особенно разговорчив и откровенен, и я пригласил его поужинать. Меньхерт болтал обо всем на свете, но едва разговор коснулся выборов, сразу насторожился и застегнулся на все пуговицы.
Уж мы его донимали, поддевали, подлавливали: «Ну, скажи, что ты придумал, как добился, что тебя выбрали?» Но он только плечами пожимал да улыбался.
— План у меня хороший был.
Это все, что удалось выжать из него. Но план как раз меня и интересовал.
— Не скажешь, Менюш?
— Нет. Иначе меня не изберут больше.
— Ну, так спорим, что я все равно дознаюсь.
Он молча, с самоуверенной улыбкой покачал головой. Ах, так? Ну хорошо же. Вот нарочно докопаюсь. Нет таких тайн, которых нельзя разгадать. И я до того себя раззадорил, что мне уже просто загорелось взять и описать это его избрание. Не сочинить, а именно описать на основании точных фактов, правдиво и беспристрастно.
С изощренным чутьем детектива стал я разнюхивать следы, но почти ничего не нашел. Да и обнаруженное мало чего стоило, по крайней мере, на первых порах.
Прежде всего я узнал, что семнадцатого октября Катанги из-за полного отсутствия шансов выехал из Боронто. В поезде он столкнулся с неким Карлом Брандом — венским заводчиком и своим школьным товарищем. Вместе они прибыли в Будапешт, и Бранд у него остановился.
На другой день оба старых приятеля развлекались в кабаре и прочих злачных местах. На третий Бранд уехал. Лакей Катанги Варга проводил его на вокзал и купил ему билет — до Кертвейеша. Значит, это лицо, несомненно, связанное с выборами.
Дальше узнал я, что в Кертвейеше единственным кандидатом, местным и правительственным, был некто Янош Ковини. Он уже и программу свою успел изложить в большом зале ратуши в речи, вызвавшей «всеобщее воодушевление» (смотри «Немзет», вечерний выпуск от двенадцатого октября).
Катанги же на несколько дней задержался в Пеште, и его часто видели в приемной премьер-министра (ох, уж эта приемная!). Сначала он один приходил, потом с каким-то плотным, рыжебородым пожилым господином и высоким, хорошо одетым джентльменом в новеньком цилиндре и с тростью с золотым набалдашником. Двадцать второго октября с этими двумя лицами он, по моим сведениям, ужинал в отдельном кабинете ресторана «Ройял», где оставался далеко за полночь.
Вот и все, что мне удалось разузнать. Попробуйте-ка состряпать из этого историю кертвейешских выборов!
Повесив голову явился я в редакцию.
— Ничего не выйдет, господа, увольте. Материала нет. Я не бог, который душу в глину вдунул, и не осел, чтобы таким занятием себя компрометировать.
В редакции — полное отчаяние.
— Что же теперь делать? Публика ждет? Ждет. Вы обещали? Обещали.
— Тогда сами мне соберите материал.
— Нет ничего проще! — обрадовался редактор, потирая руки. — Репортеров разошлем, они и соберут, как пчелы.
И еще в тот же день три корреспондента разлетелись в разные концы с моими инструкциями. Один, Шандор Лукач, в Боронто. Другой, Аладар Пейи, самый галантный кавалер в редакции, — в деревню к госпоже Катанги. (Ему я даже приударить за ней разрешил в случае нужды.) А третий, самый искусный, — Шаму Баркань — с вечерним поездом уже прибыл в Кертвейеш и занялся сбором улик на месте происшествия.
Бравые наши репортеры довольно успешно справились с делом, особенно господин Баркань, который представил прямо-таки исчерпывающее описание Кертвейеша. Везде, где только можно, проникли, все мало-мальски ценное разнюхали, пустив в ход самые изощренные хитрости и уловки. И все-таки розыски слишком затянулись: повесть о вторичном избрании Катанги не попала в календарь «Пешти хирлап».
Но не все ли равно! Кого всерьез интересует карьера нашего достойного государственного мужа, тот с охотой и в книжке прочтет про выборы в Кертвейеше. Тем более что это не беллетристика какая-нибудь, а точная информация, составленная по трем репортерским отчетам.
Послушаем сначала, что скажет Шаму Баркань.
НАСТОЯЩЕЕ И ПРОШЛОЕ КЕРТВЕЙЕША
Кертвейеш лежит на речке Кемеше, на левом ее берегу. Городок невзрачный, домишки маленькие; только на базарной площади несколько двухэтажных. Населения тысяч около трех. Захудалый городишко, одним словом, и вовсе не заслуживает чести посылать своего депутата в парламент. Здесь и избирателей-то сотни три, не больше.
Но что поделаешь: вольный королевский город *. По чину полагается. Отцы города, не будь дураки, лет этак полтораста тому назад заказали у какого-то подпольного венского гравера печать с полустертой латинской надписью, из которой явствовало, что Кертвейеш был при Матяше королевским городом. Эту-то печать, поклявшись предварительно блюсти тайну, хитрые сенаторы бросили в условленном месте в Кемеше, чтобы потом, когда понадобится, выловить со дна.
Так и сделали. Годика два подержали печать в реке, — чтобы «состарилась», а потом в один прекрасный день выудили с превеликим шумом. Под барабанный бой и пушечную пальбу на всех перекрестках возвестили, что волей провидения из глуби вод явились на свет божий истинные права вольного града Кертвейеша. В Вену к Карлу Третьему тотчас отправилась депутация, которая прибыла на аудиенцию с печатью на бархатной подушке и, с подобающим красноречием поведав историю находки, принесла нижайшую просьбу его величеству: не умалять славы своих предков.
«Смиренномудрый» Карл Третий с нескрываемой скукой выслушал речь (а держал ее прадед теперешнего городского казначея почтенный Янош Галфи), потом взял печать, повертел в руках для проформы и сказал:
— Ежели от плаща один капюшон остался, трудновато из него опять плащ сделать, dilectissimi[40]. Ну, да попробуем.
И хотя ничего определенного не было обещано, Кертвейеш через полгода стал королевским городом. Хитрость с печатью удалась, благодаря чему маленький Кертвейеш и посылает теперь в парламент собственного депутата.
Но с депутатами испокон веков не везло вольному городу — как и депутатам с ним тоже. Никогда еще здесь одного человека не выбирали дважды.
В последнем трехгодичном парламенте город был представлен местным жителем. От него отступились по той причине, что он, как говорили, «все дома околачивается, а в парламент глаз не кажет». На выборах в первый пятилетний парламент попытали счастья с совершенно чужим, так сказать, «импортированным» кандидатом — креатурой исполнительного комитета партии. Но на этого жалобы пошли, что он «все в парламенте торчит да в клубе картежничает — хоть бы разок в Кертвейеш нос сунул».
Так что и от этого отказались, препоручив заботу о новой кандидатуре кертвейешским дамам. Посмотрим, дескать, у них какой вкус. Der Mensch probiert.[41] Может, женщины лучше найдут.
Дело решилось у бургомистерши за вечерним чаем: графа Силанского выбрать! Граф красивый, элегантный блондин, и поместья у него большие в комитате. Выбрали Силанского — и он, действительно, мастерски избегнул ошибок своих предшественников: ни в городе, ни в парламенте не околачивался, а махнул прямо в Вену, там и дулся в баккара в жокейском клубе да за балериной из Оперы волочился. Целых пять лет его в глаза не видели ни в Будапеште, ни в Кертвейеше.
В таком положении и застало город известие о роспуске парламента. Надо было, естественно, нового кандидата присматривать. Много разных имен всплывало: один одного предлагал, другой другого. Но большинству скоро надоело перебирать знакомые фамилии. Стали на сенаторов наседать: надо, мол, губернатора взять за бока, пускай напишет, чтобы правительство своего прислало. Там, наверху, повиднее деятеля найдут, с громким именем. В провинциальных городишках вообще завидуют возвышению друг друга — там это характерная черта. Скорее уж спину согнут и чужака наверх подсадят. Чужой уехал — и славу свою увез; по крайней мере, глаза колоть не будет. Когда в последнем трехгодичном парламенте город представлял местный адвокат Михай Хартяи (тот самый, что дома все околачивался), его милость Бенедек Сабо, самый уважаемый сенатор, незадолго до истечения срока воскликнул как-то в многолюдной компании:
— Черт бы его побрал, этого Хартяи! Ничего не скажешь, человек как человек, но ведь сами же мы его выдвинули! И ей-богу, надоело мне «превосходительством» его величать. Жду не дождусь, когда наконец опять смогу ему сказать: «Ты, Миши». И еще прибавить: «Ну, что? Вот ты и опять нуль — ты, Миши!»
И по настроению компании видно было, что она целиком разделяет это пожелание.
Но в остальном кертвейешцы, право же, люди смирные, достойные, хотя и косные. Этакие бравые бюргеры — ни рыба ни мясо, которые любят тост за возвышенное и прекрасное поднять, но идут всегда торной дорожкой. Можно и на возвышенное, благородное их подвигнуть, но куда легче в грязь столкнуть, хотя они и там будут разглагольствовать, что к высотам духа воспарили. Главная же масса населения — это горшечники, башмачники да усеявшие берега Кемеше сапожники с вывихнутыми мозгами. Этим впору задом наперед сапоги натягивать: только тогда они еще, пожалуй, вперед пойдут. Умница все-таки этот еврей Бреннер, местный агент страхового общества «Комета». Он так им страхование жизни объясняет:
— «Комета» на столько-то форинтов вашу драгоценную жизнь страхует. Это значит — ручается, что вы не помрете. Но если вы все-таки помрете, «Комета» вам столько-то и столько-то форинтов неустойки выплатит.
С сахаром наши полуобразованные классы и яд проглотят, а горькая пилюля им даже для собственного блага не нужна.
Но все это ровно ничего не значит. Кертвейеш свято убежден, что идет по пути прогресса. В городе ссудо-сберегательная касса есть, которая даже под мелкие залоги выдает ссуды (жаль только, что трубок с серебряными крышечками больше не принимают, как в старое доброе время при директоре Уларике); есть и команда пожарная. Посмотрели бы вы, какая форма у брандмейстера Фери Палины — раззолоченная вся, и труба серебряная через плечо. Чудо, а не форма! Право же, подумаешь, что и команду завели только для того, чтоб тщеславный аптекарь мог по воскресеньям красоваться в сияющей каске и золотых шнурах. А хор какой в городе! Ангелы не поют слаще, чем кертвейешские сыромятники. Просто позор, что им до сих пор приза не дали, хотя они по всей стране ездят на состязания… Зависть все, интриги, месть низкая — уж что-нибудь да помешает, о справедливость, когда же придет твое царство!
В духовном развитии Кертвейеш ни в чем не уступит другим провинциальным городам, смею вас уверить. В казино приходит четырнадцать газет, включая немецкую и словацкую, которые сначала здесь, на месте, читаются, а на другой день передаются в «аренду» в дома побогаче. Одно время в городе даже собственная газета издавалась — «Кертвейешская труба»; но на пятый день редактора Элемера Руфини посадили за хищение, так что печатный орган прервал свой гордый взлет, едва успев развернуть крылья. Позже опять начала было выходить газета, но тоже неудачно. Этот чудак, редактор Золтан Капор в первом же, новогоднем, номере допустил ужасную бестактность, озаглавив радостное сообщение о росте рождаемости в округе: «Полк Родича в Кертвейеше»; после чего (видимо, по настоянию местных дам) был немедленно выдворен из города. Одним словом, культура и тут достигла приметных успехов с начала конституционного правления. Загляните в любую дамскую гостиную — и вы на фортепиано книжки увидите. Кертвейешское дамское общество обожает литературу. Сколько прекрасных глазок доныне проливает слезы над страданиями «Картезианца»!.. *
В политическом отношении (о чем и должна прежде всего идти речь, — как-никак это избирательный округ) Кертвейеш подобен большинству других таких же городишек. Население все поголовно настроено оппозиционно, бранит правительство, мамелюков, соглашение с Австрией и высокие налоги — все решительно. Но поближе к выборам его высокопревосходительству господину губернатору вкупе с господином бургомистром обыкновенно удается умерить страсти, и город единогласно выбирает мамелюка, чтобы потом, при участии того же бургомистра и с молчаливого одобрения губернатора, опять ругать его на все корки. Так всегда было и так всегда будет. Поэтому и на предстоящих выборах победа либеральной партии не вызывала сомнений; только кандидатура еще была неясна. Граф на мандат уже не притязал — никто даже толком не знал где он. Но и правительство тоже никого не присылало.
Наконец бургомистр — его благородие королевский советник Пал Рёскеи, которого ее превосходительство госпожа губернаторша прозвала «кертвейешским Макиавелли», — сам разрешил вопрос. Разрешил после того, как в доме, уже перед самым роспуском парламента, появился жених, что вызвало немалую радость. И будешь рад небось, когда у тебя четыре девицы на выданье.
КОВИНИ IN FLORIBUS[42]
Старшая из барышень Рёскеи, Минка, была недурна собой — как, впрочем, и сестры, быстро ее догонявшие. Замуж Минке и хотелось бы (periculum in mora![43]), но Кертвейеш слишком беден был помышлявшими о женитьбе молодыми людьми, да и те глаз поднять не смели на дочек всесильного бургомистра. Это были все мелкие чиновники, помощники стряпчих да дипломированные сыновья местных ремесленников — брак с ними унизил бы семейство Рёскеи, которые высоко ставили свое старинное дворянство.
Молодой человек более благородного звания имелся только один: Янош Непомук Бланди, отпрыск местного помещичьего рода, хлыщ и дохляк телом и душой, но при этом наглый, самоуверенный и взбалмошный. Все он делал не по-людски и в своей избалованности и вздорности до того дошел, что даже в простом человеческом общении отверг обычные, изобретенные до сих пор способы — стал свои собственные звуки и слова употреблять, да и те в конце концов свел к одному-единственному, выражавшему все его мысли и пожелания.
«Флокé!» — кричал Бланди горничной, и это значило: принеси стакан воды или поцелуй меня. «Флоке!» — приказывал он слуге, желая сказать: шторы опусти; а если тот не понимал, отвешивал еще парочку «флоке» (что в данном случае означало уже оплеуху).
Единственным приятелем вздорного богатого барчука, который жил в центре города в великолепном двухэтажном «флоке» с красивыми башенками и парком, был некто Янош Ковини, обедневший словацкий дворянин из соседнего комитата. Компанейский малый и не дурак, вдобавок мастак на разные лихачества, он играл довольно заметную роль в своем комитате, всячески стараясь показать себя и поймать счастье за хвост.
Этот Ковини частенько наведывался в Кертвейеш, по целым неделям гостя у «господина Флоке» (так дразнили Бланди за его невесть где подхваченное словечко). Приняв роль некоего мажордома, он совершенно подчинил себе своего пустоголового питомца и то в Вену, то в Будапешт таскал его развлекаться.
Во время своих наездов в Кертвейеш Ковини и познакомился со старшей барышней Рёскеи. А познакомившись, в один прекрасный день явился к бургомистру и попросил ее руки.
Господин королевский советник с торжественной миной предложил гостю садиться и спросил отечески:
— А чем вы, сынок, брак свой обеспечите?
— Что вы хотите сказать?
— А вот что: брак — святыня, конечно (он потер руки и возвел глаза к небу — его благородие был ревностный католик). Вне всякого сомнения, святыня, но… как бы это выразиться поделикатней… и замужем есть надо.
— Само собой, — спокойно подтвердил Ковини.
— На что вы жить собираетесь?
— Пока что на доходы с моего имения и на прочие средства, — ответил Ковини.
— Земля в вашем комитате плохая. Какой у вас годовой доход?
— В урожайный год две тысячи форинтов. Старик заморгал своими маленькими глазками.
— А в неурожайный? — меланхолически спросил он.
— В неурожайный три тысячи.
— Как так? — встрепенулся бургомистр. Ковини молчал с загадочной улыбкой.
— Как это понять? — повторил Рёскеи. — Ну, говорите же, черт возьми! Не люблю ребусы разгадывать.
— Могу я на вас положиться?
— Что за вопрос.
— В голодный год к нам пожертвования поступают, а я председатель комиссии по их распределению.
Рёскеи хлопнул себя по лбу с такой силой, точно хотел наказать себя и выбранить: «Ах ты, осел, а еще советник королевский», — но вслух произнес только:
— Так-так.
И молча опустил голову, словно раздумывая. Потом с глубоким вздохом облегчил душу.
— Да, да. Бедное венгерское дворянство! Господи, надо же как-то жить. Кто как может, конечно; кто как может. Тысячу лет честными были, потому что могли. Какое там: ослами, идиотами были, вот кем! Высечь бы нас как следует. Кровь свою за крестьян проливали. Как вспомню эти реки крови… Эх! — Старик разгорячился даже. Крови у него, как видно, оставалось еще достаточно: даже побагровел весь оттого, что она в голову ему бросилась. — А что до нашего дела, — поостыв немного, закончил бургомистр, — у меня возражений нет. Даже напротив. Но все-таки надо и дочку спросить.
Это была излишняя формальность: Минке шел уже двадцать пятый год, а к ней никто еще не сватался. А ведь как приятно, должно быть, отказать кому-нибудь! Рискуешь, конечно, да риск — благородное дело. Однако если тебе двадцать пять, это уже, так сказать, рискованное благородство.
Минка дала согласие, и обручение состоялось в блистательном кругу приглашенных. Сам губернатор, барон Миклош Герезди, пожаловал. С тех пор Ковини все свое время проводил в Кертвейеше — но не с господином Флоке, как бывало, и не с невестой, как полагалось бы, а в городском обществе. Самым усердным образом посещал казино и пивное заведение, а вечером — окрестные погребки. Кертвейешские виноградники давно сожрала филлоксера, но погребки пощадила, и культ их процветал так успешно, что иной раз под вечер в городских стенах одни старушки да младенцы оставались.
Дворянская широта Ковини, его прибаутки и словечки импонировали обывателям, и скоро все его полюбили. Он был вкрадчив, умел нравиться (недаром со стороны матери унаследовал каплю шарошской крови) и виртуозно играл на слабых струнках. Слюнтяи строят свою карьеру на добродетелях. А настоящая ее опора, прочная и незыблемая, — слабости людские. Господство умных покоится на слабости человеческой.
И когда осенью парламент неожиданно был распущен, в Кертвейеше тотчас всплыло имя Ковини. Перед ремесленниками он отнекивался, кивая на чиновников: другого, мол, выдвиньте, а то они уже косятся на меня, потому что это от вас исходит. А ремесленникам только того и нужно: уперлись на своем. «Мы-де большинство; нам очкастые не указ». Перед интеллигентной же публикой Ковини ее ставленника разыгрывал, озабоченного одним: как бы из-за этого мастеровые от него не отвернулись. На что представители умственного труда тотчас час же с жаром стали доказывать, что в этом городе голова рукам приказывает.
Бургомистр не преминул воспользоваться общим настроением — хоть и не без некоторого удивления, почти досады. В Кертвейеше и до сих пор все шло по его желанию; но все-таки приходилось не раз и не два колесо фортуны подталкивать. А тут оно вдруг само завертелось. Что ж, очень мило с его стороны; но бургомистру немного жаль было, что Ковини и без его вмешательства выберут. Он вроде как обойденным себя чувствовал, и будь это не Ковини, а другой кто, обязательно бы воспротивился.
Но раз уж зять будущий — пускай его.
И он сам в удобный момент подсказал его кандидатуру губернатору, который не делал особого различия между лицами и потому охотно согласился.
— Не все ли равно, Пал или Петер, — один черт. Четыре мамелюка от комитата да один от города — это пять. Пятеро есть — хорошо, нет — плохо. А кто они, мне наплевать.
Это был чванный, своенравный барин, глубоко презиравший в душе парламентаризм и народное волеизъявление.
— Я еще ни разу не трепал свое имя на выборах, — любил он говаривать, надувшись, точно какаду, и ударяя себя в грудь горделивым жестом испанского гранда.
Губернатором, впрочем, слыл он отличным: у себя в комитате — потому, что чиновники у него за столом всегда настоящее французское шампанское пили, в правительстве — потому, что неукоснительно поставлял своих пятерых мамелюков. А что до управления комитатом, на это у него свой незыблемый взгляд был:
— Хороший губернатор трубку должен курить и ни во что не вмешиваться. Сидеть да покуривать. Достаточно, если все знают, что ты куришь и глядишь на них.
Вследствие всего этого губернатор и предложил наверху Ковини от Кертвейеша. А поскольку возражений не последовало, многолюдное собрание в ратуше единодушно провозгласило Ковини своим кандидатом, направив за ним к Рёскеи депутацию из пяти человек. Кандидат, не заставив себя долго ждать, явился под приветственные клики и звучным, красивым голосом, то заливаясь нежнее свирели, то меча громы небесные, произнес свою программную речь. С балкона, откуда городские дамы наблюдали за происходящим и слушали блестящую речь, в особенно удачных местах ее к ногам оратора летели букеты, а розовые ручки время от времени хлопали ему. Только одна-единственная дама, красивая вдовушка Минкеи, о которой, кстати, поговаривали, что она в нежных отношениях с Хартяи, нарушала общее согласие неподобающими выкриками:
— Хартяи дайте слово!
Это не мог безнаказанно спустить горшечник Мартон Галгоци и рявкнул оглушительно:
— А юбки не голосуют!
Все это, однако, вызвало только легкое оживление, ничуть не помешавшее оратору. Речь его лилась, блистая перлами красноречия, точно горный поток, который, прихотливо струясь по цветущей, долине, нет-нет и прянет к утесу, окатив его серебряными брызгами.
— Флоке! — прозвучало капризное, манерное восклицание, на сей раз означавшее «браво».
— Браво, браво! — подхватили сто глоток сразу, и одобрительный гул прокатился по залу.
— Ну, чистый соловей — заслушаешься! — в совершеннейшем экстазе воскликнул почтмейстер Хибли.
— И я бы соловьем пел, если б меня бургомистрова Минка целовала! — вставил стряпчий Левинци, известный своей страстью противоречить.
Ну, тут разыгрался скандал! Стоявший рядом помощник городского нотариуса Лаци Пенге, не долго думая, съездил его по физиономии. На звук пощечины все обернулись. Что такое? Что случилось? Толпа всколыхнулась, заволновалась. Каждому хотелось знать, кому попало и за что.
— Пощечину мне дал, потому что я сказал: и я бы соловьем заливался, если бы Минка Рёскеи меня целовала, — задыхаясь, сыпал словами красный как перец Левинци. — Пощечину дал, подхалим несчастный. Думает одним ударом двух зайцев… тьфу, двух покровителей себе добыть: бургомистра и депутата. Но он еще поплатится за это, карьерист несчастный!
Кандидат в депутаты заметил эту сцену и быстро, но очень естественно перешел на другую тему: стал восхвалять графа Иштвана Сечени * — того самого Сечени, который (и Ковини устремил взгляд туда, где разыгрался злополучный инцидент) пророчески сказал: «Мадьяры! Не будем обижать друг друга и ссориться из-за пустяков. Ведь нас так мало, что даже отцеубийц следовало бы прощать».
Цитата произвела потрясающее действие. От аплодисментов и криков «ура» содрогнулись стены ратуши.
— Гениально! — взревел счетовод Винце Задубан. Некоторые, впрочем, никогда не слыхали этих слов Сечени и даже сомневались, ему ли они принадлежат. Откуда столько ума у какого-то графа? Не говорил он ничего, да и не мог сказать: он же ссоры Пенге с Левинци не видел. Нашлись и такие, которые вообще в существование такого графа не верили.
Но влияние гениальных слов было чисто теоретическое (на венгров все влияет чисто теоретически). Два молодых человека — брандмейстер Палина и помощник стряпчего Йожи Кайтон — уже прокладывали себе локтями дорогу в направлении, куда удалился Пенге после своего доблестного поступка. За минуту перед тем восторженно-безмятежно слушавшие кандидата, эти молодые люди вдруг совершенно преобразились. Удивительная, величавая серьезность появилась в их движениях и на лицах. Они глубоко чувствовали значительность своей роли и давали почувствовать остальным.
— Секунданты, — пронесся шепот по залу, и весь городишко невольно поежился.
Сбившаяся в стайку чиновничья мелюзга взвешивала, гадала завистливо, сколько может стоить эта пощечина, какие выгоды из нее извлечет ловкач Пенге. А оратор между тем из далекого прошлого преспокойно вернулся к настоящему и даже, перепрыгнув его, устремился в свое парламентское будущее: начал про квоту рассуждать, потом, возвысив голос, запротестовал во имя блага отчизны против ее повышения и, подняв два пальца к небу, клятвенно обещал ни за какие незаконные повышения не голосовать.
— Это значит, каждое повышение будет «законным», — пропыхтел бывший депутат Хартяи с тем горьким, черным осадком на душе, который оставляет поражение.
— Но вместе с тем, — продолжал Ковини, — взаимность требует уважать интересы и другого государства. Когда имеются две договаривающиеся стороны, любезные сограждане, ни та, ни другая не может только давать или только получать. Это дело обоюдное, и паритет обязывает…
— А что такое паритет? — прогудел кто-то глухо, как из подземелья.
— Паритет, уважаемые граждане, — не смутясь, принялся объяснять оратор, — это равная доля; скажем, фунт тебе — фунт мне…
— Да? — проверещал другой голос, тонкий, визгливый, прямая противоположность первому. — Тогда сначала пусть и у них тринадцать генералов повесятся *, а потом будем разговаривать.
Все развеселились. А смех — гость опасный на таких собраниях, хуже лисы в курятнике. Всякую серьезность убивает.
Ковини дрогнул было, как Кинижи * в седле, когда в него попала пущенная мальчиком горошина. Да и в зале шум, беспокойство поднялись.
— Кто это сказал?
Вперед вытолкнули маленького, тщедушного человечка, который гордо задрал свою грушевидную головку. Ни дать ни взять — Давид, поразивший из пращи Голиафа.
— Я сказал, — провозгласил коротышка, ударив себя в грудь.
— Портной Мунци! Куманек Мунци! — закричали вокруг.
И снова замолчали, ожидая, что теперь будет. Тишина настала, как в церкви. А ну, Янош! Держись, Янош! Но Янош Ковини улыбнулся и сказал шутливо:
— Близорук я, сударь, буковки мелкие и человечков маленьких плохо различаю. Будьте любезны, подымите там кто-нибудь этого господинчика, дайте и мне разглядеть его как следует!
Шутка Ковини в свою очередь вызвала смех, и «оживление в зале», это неверное, манящее, дразнящее оружие отдалось ему в руки.
Вторичного приглашения не потребовалось: портного, как он ни кусался, ни брыкался, ни отбивался, тут же на воздух подняли. Сапожники были злы на него: тоже еще, прежде них в патриоты лезет, козел шелудивый, — и уж они постарались намять ему бока.
— Не удивительно, — продолжал Ковини, — что уважаемый согражданин настроен так кровожадно. Ведь он всю жизнь колючими стальными пиками сукно протыкает (продолжительное, веселое оживление в зале). Но если платье плохо зашпилить — так опять расколоть можно; а в политике, этой науке о насущных потребностях дня («верно, верно», — закивал головой пекарь Михай Кёнтеши из булочной на углу), — там достаточно раз ошибиться, чтобы потом страдали целые поколения. И речь опять вернулась в прежнее русло, и теперь ничто уже не прерывало ее течения, кроме возгласов «браво» и «правильно». Только под конец, когда Ковини в качестве sine qua non[44] пообещал добиваться самостоятельного венгерского банка, столяр Дёрдь Хатойка, прикорнувший на широкой спине меховщика Липоцкого (собственно, это и была самая меткая критика двухчасовой речи), вдруг вскинулся и, услышав про банк, буркнул спросонья:
— Не надо никакого банка!
На него сразу десятеро шикнуло, цыкнуло — и он сдался:
— Ну, банк так банк, — и опять закрыл глаза.
Так прошел этот достопамятный день. Закончился он в ресторане «Гвоздика» ужином на триста персон, приправленным бесчисленными тостами один остроумнее другого. Настроение всю ночь царило самое приподнятое; только секунданты рано отправились домой, жестами, гримасами и пожиманьем плеч намекая удерживавшим, что утром у них важное дело и поэтому надо лечь пораньше. Лаци Пенге, напротив, и думать забыл про роковое утро и, сбросив пиджак, лихо частил каблуками перед скрипачом-цыганом. Но и у Левинци тоже не вода текла в жилах. Видя это со своего конца составленных подковой столов, он решил перещеголять противника и принялся напевать разные подмывающе-задорные песенки, залихватски подбоченясь и словно вторя им всем телом, вкладывая всю душу:
Ой, казарма, чтоб те провалиться, Ой, родная, как отсюда смыться? Засадил, да ой, меня, бедняжку…— Сейчас самый смак, Дюрка!
Ференц Йошка * в свою каталажку.Танец и песни — близнецы; они всюду вместе. И во хмелю который туманит голову, не плутают, как в простом тумане, а только быстрее находят друг дружку.
Кончилось все это тем, чем и должно было кончиться: под утро Левинци и Пенге, подбадриваемые со всех сторон, подали друг другу руки в знак примирения, а цыган Дюрка (которого Левинци предупреждал об эффектном месте: «Сейчас самый смак!») разнял их. Собутыльники, обхватив обоих за шею стали их сводить, пока они не поцеловались, стукнувшись лбами. Потом последовала клятва в вечной дружбе, и на рассвете в сосновую рощу по названию «Веснушка» явили только четыре секунданта. То-то удивились наши джентльмены, не найдя там ни одного из заклятых врагов!
Утром, когда по-летнему яркое и теплое солнце вынырнуло из-за горизонта, Кертвейеш проснулся весь расцвеченный флагами. Гайдуки еще до света разнесли их по городу, и теперь они реяли везде на карнизах и фасадах. Ребятишки украшали шляпы перьями, и по всему городу звенело: «Да здравствует Ковини!» Настоящая лихорадка охватила всех. Даже замарашки-служанки, у которых круглый год только солдатская казарма была на уме, теперь сочиняли величальные песенки в честь Ковини за трепкой пеньки. Все и вся славило Ковини — плакаты на стенах, меловые каракули на заборах. А лютеранский кантор, шутник Пал Кукучка, еще ночью вывесил на своих воротах освещенный транспарант с надписью:
Vinum vini — Vivat[45] Ковини!
Да и сам Ковини действовал умно, постоянно напоминая о себе каким-нибудь незаурядным поступком. То девять кеглей с одного шара положит в пивной на кегельбане, то целиком всю корзину выиграет у бродячего лотерейщика на билет номер 28 (на двадцать восьмое были назначены выборы). А то, наконец, гуляя по берегу Кемеше, увидел он, что какая-то старушка оступилась на мосту (это была жена башмачника Михая Ботошки) и прямо в речку упала. Наш кандидат прыгнул в воду и спас ее.
Слава, удача и поклонение окружали Ковини. Все столичные газеты, даже оппозиционные, писали: «Избрание Ковини не вызывает сомнений». Но что гораздо важнее, сам заведующий сберегательной кассой Флориш Кожегуба заявил во всеуслышание:
— Под этот мандат и ссуду выдать можно.
И Ковини, насколько мне известно, тут же поймал его на слове, сделав солидный заем.
КАТАНГИ КОМБИНИРУЕТ
О Амур, коварное дитя! Зачем ты притворяешься, будто только в мед свои стрелы обмакиваешь? И зачем на тебя поклеп возводят, что ты их наудачу, куда попало рассылаешь по воле слепого случая?
Не верю я тебе, шалунишка. Не так-то ты прост. В тем ты иные пары сводишь, явный стратегический умысел проглядывает. Явная злонамеренность. Ты и перед местью не остановишься, если рассердишься.
Ах, Амур, Амур! Сердит ты на Ковини. Нет, скажешь: А ну, погляди мне прямо в глаза. Что, угадал?
Да, разозлил он тебя. И правда, разве красиво это: ему покровительствуешь, по саду своему водишь, полному роз и жасмина, а он через забор все на жабу косится, именуемую политикой.
Боги ведь не мелочные торгаши в конце концов. У них не купишь в одной лавчонке сразу и мандат, и гирлянду роз.
Знаю, что брошу тень на твое доброе имя, но не могу умолчать о случившемся. На четвертый день после программной речи, с обоюдного согласия назначив свадьбу на двадцатое ноября, Ковини ненадолго уехал домой, а Рёскеи — папа, мама и невеста — в Вену, приданое покупать.
На обратном пути они оказались в одном купе с русоволосым господином приятной наружности, которого их общий знакомый так отрекомендовал:
— Вот, пожалуйста: живой миллионер. Заводчик Карл Бранд из Вены.
Миллионер и вправду очень живой оказался — сразу стал увиваться вокруг Минки. А так как был он недурен собой — стройный и с красивыми голубыми глазами, — Минке это ухаживанье очень польстило. От его мечтательно-жгучих взглядов она заливалась нежным румянцем, становясь еще краше, а заводчик пленялся ею еще больше. Так причина порождает следствие.
В Кертвейеше, однако, нужно было сходить, и глава семейства, скрепляя состоявшееся знакомство, с любезной улыбкой протянул на прощанье волосатую ручищу.
— Так если будете в наших краях, заглядывайте.
— Когда прикажете? — осведомился господин Бранд с поклоном.
— Когда пожелаете.
— Благодарю. Воспользуюсь разрешением и засвидетельствую свое почтение сегодня же.
Ох! Ах! И мама не то с испугу, не то на радостях (женщин разве поймешь!) выронила лорнет. Пришлось под сиденье за ним лезть; одно стеклышко разбилось, конечно. Минка же заалелась, как маков цвет.
— Но ведь вы сказали, у вас спешное дело в Брашшо? — с некоторым замешательством спросил королевский советник.
— Да, срочный платеж; но вы ведь знаете, что такое «vis major»![46]
И миллионер выразительно посмотрел на старого бургомистра, который подыскивал между тем какой-нибудь подходящий ответ — дать ему понять, что Минка уже невеста. Но недаром он мадьяром был. Мадьяр и вопреки здравому смыслу гостя не упустит. А тут и здравый смысл «за»: дома еще две дочери на выданье.
Господин Бранд тоже сошел в Кертвейеше. На перроне родителей уже поджидали оставшиеся дома барышни: Илона и Каталин.
— Наш дорогой гость господин Бранд, — представила его бургомистерша. — А это Илона, дочка моя. Вылитая Минка: то же лицо, тот же характер. А этот вот сверчок в школу еще бегает («сверчком» Катица была). Ну, чего ты застеснялась, подойди поближе!
Но Катицу гораздо больше интересовали свертки, которые кондуктор сбрасывал из вагона, и множество выгружаемых сундуков. Может, и для нее там что-нибудь припасено.
Так как колясок было две — одна для господ, другая для вещей, — бургомистр уселся в эту последнюю со своими «золушками», которые стали ластиться к нему по дороге:
— А нам ты что привез?
— Материи на платья.
— А еще?
— Не скажу, а то завидовать будете друг дружке.
— Ну, на ушко.
— На ушко — ладно.
И маленькая Катица, самая любопытная, первая приблизила головку к косматой отцовской бороде.
— Гу-гу-гу! — заревел старик ей на ухо, шаля со своей любимицей.
Шум колес заглушил его «гу-гу-гу», и только по тому, как, отпрянув, рассмеялась Катица, можно было понять, что отец сказал ей что-то забавное.
Очередь была за Илонкой.
— А мне?
— Тебе жениха, — шепнул старик. — Золотая рыбка, сама приплыла. Смотри не зевай!
— Ах, папа!
Красивое личико ее вспыхнуло. Стыдливо потупясь, она примолкла и отвернулась в сторону, как будто, кроме мелькавших мимо домов, ничто больше ее не интересовало.
Но тщетно силились родители привлечь внимание Карла Бранда к Илонке и в ней самой раздуть искру, которая вызовет ответный пожар. Амур не давал распустить свою сеть и переткать наново. После ужина случилось то, что родители уже предчувствовали: Бранд попросил Минкиной руки.
Если б мы писали роман о пробуждающейся любви, а не просто отчет о выборах, об этом ужине стоило бы рассказать подробнее.
Но придется удовольствоваться одной констатацией, дорогие читатели: когда барышни отправились спать, господин Бранд, которого королевский советник уже собирался с зажженной свечой проводить в его комнату, попросил родителей задержаться на минутку и объявил, что без Минки жить не может.
Бургомистра это не смутило. К такому обороту дела он уже приготовился — еще днем телеграфировал шурину в Вену с просьбой сообщить общественное и имущественное положение заводчика по имени Карл Бранд. И поэтому произнес внушительно:
— Весьма польщен вашим предложением; только вы опоздали. Видит бог, мне искренне жаль, но наша Минка уже невеста.
— Может ли это быть? — пролепетал Карл Бранд, бледнея.
— Мы сами виноваты, нужно было вас предупредить; но кто же думал? Сейчас не средние века, черт возьми. Кому полезет в голову разная там романтика. Да и мы не фантазеры какие-нибудь, где нам было мечтать о таком счастье.
Молодой человек с убитым видом упал в кресло и закрыл лицо руками.
— А кто жених? — глухим голосом спросил он.
— Тот самый Ковини, чьи флаги мы видели на домах по дороге. Крупный землевладелец из соседнего комитата. Теперь вы сами понимаете, что это невозможно. Он будет избран, обручение состоялось — тут уже ничего не поделаешь. Однако… — И бургомистр сделал маленькую паузу, украдкой подмигнув матери: дескать, скажи и ты наконец. — Единственно, о чем я сожалею, — продолжал он, — это о своей глупости, что вовремя не заметил. Огонь легко задуть, пока он не разгорелся. Удивительно, у тебя такой зоркий глаз, Жужанна, и все-таки…
— Нет, что ты, Пал, — вмешалась мать. — Ни слова больше. Я ни за что не отвечаю. Я кругом заблуждалась. Ах, господи, эта нынешняя молодежь! Но теперь я могу сказать: все равно уже дело прошлое. И хоть мне стыдно должно быть за мою наивность, но откровенность прежде всего. Не правда ли, господин Бранд?
Тот тупо, безразлично кивнул, как приговоренный к смерти, которого спрашивают, согласен он, что лев — самый сильный зверь.
— Я ведь думала, тут Илона замешана, — продолжала почтенная мать, понизив голос— Она, бедняжка, так странно себя вела, так чудно на вас смотрела, господин Бранд. Бедная девочка (тут госпожа Рёскеи вынула платочек из корзинки с рукодельем и отерла глаза). Конечно, я подумала (я ведь такая простушка, боже мой, такая простушка!), что вы Илоной интересуетесь. И так счастлива была, как только может быть счастлива мать, имеющая трех взрослых дочерей.
— Что ж, оно и неплохо бы, — вкрадчиво заключил Рёскеи. — Право, сударь, ваше предложение очень лестно, и я бы с радостью принял вас в свою семью… и ты тоже, Жужанна, правда ведь? Но Минка… тут вы в самом деле опоздали. Да она уже и не так молода… для вас. Как по-твоему, Жужанна?
Жужанна только кивнула в ответ, занятая вязаньем.
Так капля по капле влили они свой бальзам и стали ждать действия. Но господин Бранд, не отвечая, продолжал понуро сидеть в кресле, свесив руки и уставясь перед собой остекленевшими глазами, как манекен. Только старые часы на стенке столовой зловеще тикали в гнетущей тишине. Рёскеи, заложив руки за спину, возбужденно расхаживал по комнате.
Вдруг Бранд вскочил и с искаженным лицом, точно призрак, заступил ему дорогу.
— Если не можете выдать за меня Минку — замогильным голосом сказал он, — я об иной услуге попрошу…
— Охотно, только скажите, дорогой друг…
— Одолжите мне пистолет.
Бургомистерша, услышав это, с громким плачем выскользнула за дверь. У нее и так уже язык чесался рассказать все дочерям, которые, наверно, еще не легли.
Рёскеи, напротив, попробовал успокоить молодого человека.
— Ну, не надо близко к сердцу принимать. Не стоит оно того. По чести, не стоит. Пистолет! Чтобы я дал пистолет? Да ведь я представитель власти. И вручу вам пистолет? Вы же богатый человек, столько радостей можете получить от жизни. И потом, послушаем еще, что дочка скажет. Ведь и Минку надо спросить.
— И вы думаете?.. — воскликнул господин Бранд, жадно хватая бургомистра за руку.
— Я ничего не думаю, ничего не знаю. Книг — тех можно две библиотеки прочесть и знать, что в каждой написано; но в девичьем сердце пока никто читать не научился. Так что идемте-ка спать, молодой человек, а поговорить и завтра успеем. Утро вечера всегда мудренее.
И правда, утро «мудренее» оказалось, — но не сон и не отдых были тому причиной, а телеграмма венского шурина: «Интересующее вас лицо — человек очень приличный и очень богатый. Стоит полтора миллиона».
Нужно ли добавлять, что Минкино сердце склонилось на сторону венского заводчика (он покрасивей был и помоложе Ковини), а полтора миллиона пленили родителей. Правда, они еще сделали последнюю попытку: Илонка всю ночь пролежала в папильотках (вернее, проворочалась с боку на бок), а утром надела самое свое красивое шелковое платье. Но так как Бранд ни за что не хотел отступаться, в конце концов обещали ему Минкину руку, решив, что отец сам как-нибудь поделикатней извинится перед Ковини и вернет ему обручальное кольцо.
— Ковини и так должен быть доволен, — рассуждали они, — ведь он благодаря Минке мандат получит.
Счастливец Бранд как на крыльях полетел в Брашшо и, покончив там с делами, на обратном пути столкнулся в вагоне со старым школьным товарищем Меньхертом Катанги, которому и рассказал во всех подробностях о своем кертвейешском успехе: как познакомился с невестой тамошнего кандидата в депутаты и отбил ее.
Катанги внимательно выслушал эту любовную историю, размышляя: «Мандат полагался Ковини за невестой. Но если Бранд у него невесту отнял, почему бы мне и мандат не отнять?»
И чем больше он взвешивал все обстоятельства, тем реальней казался ему этот план. Самые пестрые комбинации зароились у него в голове. За средней дочкой бургомистра приударить? Невозможно: жена. Эти проклятые письма Кларе повсюду разгласили их супружество. Но одно несомненно: бургомистр устроил это выдвижение в кандидаты своему будущему зятю. А если Ковини не будет зятем, никто и об избрании его не станет беспокоиться. Это как дважды два. Вдобавок, еще из возвращения кольца такой скандал получится… бургомистр обязательно рассвирепеет и другого посадит в кандидаты, если будет кого. А быть-то будет: он, Катанги, округ этот теперь не упустит.
Приехав в столицу, он дня два торчал в приемной премьер-министра. К могущественному человеку в те дни было трудно пробиться. Просторный зал с коричневыми кожаными креслами за овальным столом — в нем обычно заседали министры — напоминал сейчас мастерскую, где в беспорядке разбросан материал, из которого мастер должен скроить будущий парламент: берет по куску и прикидывает там, у себя в кабинете.
Как мрачно, уныло стало здесь. Только в черном мраморном камине приплясывал веселый огонек. Губернаторы, бывшие депутаты молчаливыми тенями сидели или слонялись в ожидании. Каждого томила неизвестность и мрачные предчувствия. Живые и умершие перемешались тут, сами не зная, кто из них еще жив, кто уже покойник. Heute rot, morgen tot.[47] Даже воздух здешний, всегда такой живительный, бодрящий, на этот раз был спертый, тяжелый, дурманящий голову. Могущественные премьеры, положив руку на эфес шпаги, холодно взирало со стен, одни — словно с укором («Все перевороты дворцовые затеваете?»), другие — с издевкой («Пожалуйте, милости просим, вы, нули… хе-хе-хе!»).
Дверь кабинета время от времени приоткрывалась и из нее выходил кто-нибудь, грустный или веселый, а следующий по списку проскальзывал на его место. Первыми проходили губернаторы: они сейчас с «приплодом» — кто шесть, кто восемь, а кто и больше депутатов принес…
Секретарь шепотом предупреждал входящих и выходящих: руки не подавать и не прощаться.
— У его высокопревосходительства каждая секунда на счету.
Вот дверь опять закрылась, еще одного поглотила, а народу в приемной не только не убавилось, а даже прибавилось. Тут всякой твари по паре, как в ноевом ковчеге; только у тех гордости было побольше, те себя не предлагали, Ной сам их выбирал. Вот робкие незнакомцы — ходячие вопросительные знаки; вот верные мамелюки, а вот овцы заблудшие и волки, которые пять лет зубы показывали. Бедные волки! Теперь они сюртуки натянули, побрились, аккуратно удалили хвосты и то и дело с любезной миной осведомляются у секретаря:
— Сколько еще до меня?
Нет больше ни черно-желтых темляков *, ни квоты, ни «солдатески», ни «камарильи» — одно только волка интересует на всем белом свете: сколько еще до него? И в каком настроении его высокопревосходительство?
И вот из-за мистических дверей просачивается весть: «Его высокопревосходительство нынче в духе».
И сразу все меняется. Солнышко проглядывает, и его лучи весело ласкают запотевшие стекла (потому что за минуту перед тем на дворе холод и туман был). Сигарный окурок из бронзовой пепельницы на министерском столе радостно подмигивает своим огненным глазом: «Ха-ха! Его высокопревосходительство в духе!» А мириады искорок в камине пускаются в неистовый пляс, потрескивая наперебой: «В духе, в духе его высокопревосходительство!»
Между тем время идет, и начинает уже смеркаться. Слуги вносят лампы, потому что подслеповатые свечи в золоченой люстре зажигаются лишь в особо торжественных случаях. И вдруг, как удар грома, мрачная новость:
— Его высокопревосходительство очень устали. Сегодня больше никого не могут принять и просят к ним завтра пожаловать.
Наш друг Катанги тоже лишь на следующий день предстал пред ясные очи всесильного вельможи. Он тоже был из тех заблудших овец, вернувшихся на путь истинный, которым, как сказано в Писании, пастырь больше, чем целому стаду, радуется. Наш государственный муж покинул-таки стан либералов из-за антицерковных законов (по его словам, ради жены) и примкнул к беспартийным. Но едва встал вопрос «быть или не быть?», опять ретировался под старые знамена.
Всемогущий министр сидел за своим столом за неизменной грудой бумаг.
— Ну, в чем дело, Менюш?
Он немного охрип после речи и держал носовой платок у рта — единственная уловка, рассчитанная на снисхождение посетителей, чтобы не задерживались. Человека с больным горлом надо щадить.
— Беда, дорогой барон. Жена меня провалила в Боронто. Премьер улыбнулся.
— Знаю. И поделом: зачем ей голову морочил с этой квартирой? Но я-то тут при чем?
Покраснев от благородного негодования, Катанги сделал протестующий жест.
— Но разве я не заслуживаю помощи? В том-то и ужас, что человека собственная жена губит. А ведь у всех у нас есть жены! Так вот и нужно сплотиться нам, мужчинам, встать всем за одного. А иначе что с нами будет?
Любит Катанги обобщать все, что с ним случается, — в общечеловеческие проблемы раздувать.
— Хорошо, хорошо, но скажи покороче, что я могу сделать?
— Дай мне другой округ.
— Это невозможно. Везде уже наши кандидаты выставлены. Ни одного свободного округа не осталось. Ты опоздал, Менюш.
— Тогда выдай мне головой какого-нибудь мамелюка.
— Голова голове рознь.
— В Кертвейеше одного ненадежного субъекта выдвинули, Ковини. Бургомистр его навязал. Перебежит при первой возможности.
— Но ты же сам перебежал, — улыбнулся премьер-министр. — Где гарантия, что опять того же не сделаешь?
— Гарантия? Да ведь и оппозиция меня назад уже не примет, — с юмором висельника возразил Катанги.
— Это, положим, верно, — рассмеялся премьер, — но кертвейешский вариант не кажется мне осуществимым. Насколько я слышал, этот Ковини популярен там, а с популярностью не повоюешь. Что там у тебя, знакомые какие-нибудь?
— Никаких. Но именно поэтому я и надеюсь.
— Понимаю, но вряд ли, вряд ли… Посидел бы ты лучше дома да подождал спокойно, не ввязываясь ни в какие напрасные дорогостоящие авантюры…
— Подождал? Чего?
— Ну, флагов траурных… Катанги покачал головой.
Нет, палата очень молода, слишком молода. Когда еще умрет кто-нибудь… Нет, нет. Он упрямо держался за свою идею, за свой план и место действия.
— А если я сам все с Кертвейешем улажу? Премьер-министр пожал плечами недоверчиво.
— Что ж, не возражаю. Но от меня не жди ничего.
— Только два слова в мою поддержку.
— И то не очень пылких.
— Прежде всего, попрошу тебя, будь так добр, вызови сюда телеграфно губернатора и бургомистра, чтобы я мог с ними переговорить.
— Ну, если ты настаиваешь, пожалуйста.
Тем и кончилась аудиенция, и еще в тот же день губернатор барон Герезди получил шифрованную телеграмму:
«Немедленно 27, 132, 4, 87, 541, 62 вместе с 423, 41, 720, 68, 96, 340. Банфи».
Наш собственный корреспондент выудил у губернатора из корзинки для бумаг эту телеграмму, означавшую: «Немедленно явитесь вместе с бургомистром».
С первым же поездом они выехали в полнейшем недоумении и испуге: что случилось?
На вокзале их поджидал Катанги. Барона Герезди он уже знал по клубу.
— Представь меня, пожалуйста, господину бургомистру.
— Откуда ты знаешь, что он мой бургомистр?
— Так ведь это из-за меня вы здесь. — И он сердечно потряс руку Палу Рёскеи. — Очень рад познакомиться с самым могущественным венгерским бургомистром.
— Что, что? — переспросил губернатор. — Из-за тебя? Не понимаю.
— Ничего, во дворце все узнаете.
Но во дворце опять собралась пропасть народу. Его высокопревосходительство велел передать позднее прибывшим, что вечером будет в клубе — там и благоволят с ним переговорить.
В клубе полное затишье было в те дни — пусто, как в покинутом улье. Пчелы улетели и трудились далеко в лугах. Только несколько старичков играли в карты во внутренних комнатах. Здесь премьер-министр обыкновенно спасался от депутатов.
Катанги и его спутники могли там побеседовать с ним без помех.
— Я вызвал тебя, чтобы получить информацию о кертвейешском округе, — сказал премьер губернатору.
Сдержанно-вежливый, простой и при этом властный, он был почти диктатором в это время. И как раз эта его простота внушала особое уважение. Говорил Банфи негромко, тонким, скрипучим голосом, но каждый знал: куда долетит этот тихий, чуть слышный голос, там забушует громогласное «ура», там рев торжества или отчаяния потрясет небо и землю.
— Все в порядке, — доложил Герезди.
— Ковини пройдет?
— Голову прозакладываю.
— Ну, вот видишь, — бросил премьер Меньхерту.
Однако тот не теряясь тут же выложил свой план, как его собственную кандидатуру протащить вместо Ковини.
План был гениальный. Бургомистр хитровато пригнул свою большую рыжебородую голову. Губернатор развязно поигрывал серебряным браслетом, который соскользнул на самые пальцы из-под манжеты. Оба глядели на премьер-министра.
— Не возражаю, — сказал тот кратко. — Если можно, конечно.
Губернатор заявил, что невозможно: до выборов осталось всего шесть дней. Ковини выдвинут по всем правилам, и флаги его уже вывешены; город за него горой стоит. Нет, совершенно невозможно.
— Что верно, то верно, — подтвердил бургомистр.
— Ладно, с этим покончено, — заключил его высокопревосходительство и оставил их.
Шаги его заглохли на красно-буром ковре.
И с последним их звуком Меньхерт Катанги оказался вне парламента. Титул «его превосходительства», парламентская неприкосновенность, почет, авторитет — все сдунуто одним движением губ вельможи. Все… Конец.
Но Менюш настойчив был, дьявольски настойчив и, признаться, даже нахален. Он кинулся вдогонку за его высокопревосходительством.
— Ты два слова обещал в мою поддержку.
— Но ведь бесполезно! Сказал же я: «Не возражаю, если можно».
— Этого недостаточно.
— Так что же я должен был сказать?
— Не «можно», а «нужно», вот что.
— Но если на самом деле нельзя!
— Об этом ты не беспокойся. Ну, разве так трудно еще раз мимо пройти и сказать?
— Ну, хорошо, только отвяжись, — досадливо махнул рукой его высокопревосходительство. — Ты мне уже порядком надоел.
Немного погодя, он прошелся еще раз по большому залу и, заметив в углу губернатора С бургомистром, подошел, положил Рёскеи руку на плечо и сказал:
— Надо сделать.
Те переглянулись.
— Попробуем, — ответил губернатор.
— Будет сделано, — оживясь под магнетическим действием руки на его плече, заявил бургомистр.
ПРОДЕЛКА
В чем заключался план Катанги, мы не знаем; об этом можно лишь догадываться по последствиям. Точно так же неизвестно, о чем сговаривались вечером того дня, когда выяснилось, насколько «можно» слабее «нужно», три господина в отдельном кабинете ресторана «Ройял», где они поужинали с шампанским, оплаченным Катанги. На это последнее обстоятельство указывает счет на шестьдесят два форинта, доставленный нашим корреспондентом, который ездил к госпоже Катанги. Счет этот она потом нашла у супруга в жилетном кармане, весьма утешась величиною суммы. Невозможно ведь, чтобы два лица съели и выпили столько, особенно если одно из них женщина. Значит, Менюш не с какой-нибудь дамочкой ужинал, или, по крайней мере, не с одной, что само по себе уже смягчающее обстоятельство. А может, просто тетю Тэрку из Буды угощал со всеми ее внуками? (Это предположение Криштофа.)
Но что бы там ни замышлялось в отдельном кабинете, одно бесспорно: поспешный отъезд губернатора и бургомистра в столицу в самый канун выборов, когда властям полагается быть на месте, произвел в Кертвейеше настоящую сенсацию.
Проболтался, собственно, секретарь губернатора, сказав про шифрованную телеграмму. Что может быть в шифрованной телеграмме? Гм. Уж конечно, тайна какая-то, иначе зачем шифровать. Весь город ломал голову, стараясь ее разгадать.
Провинциальная фантазия обычно в двояком направлении работает: на понижение и на повышение. Одни твердили, что какой-нибудь подлог раскрыли в городских или комитатских отчетах и теперь вызвали сановничков для хорошей проборции (мало, наверно, приятного сейчас в их шкуре очутиться!).
Другие, напротив, утверждали, что губернатор повышение получил, а его место займет бургомистр (что ж, хоть от одного, по крайней мере, избавимся). У башмачников же, чья фантазия забирается особенно высоко, возобладала версия, будто выплыла махинация с печатью, учиненная при Карле Третьем; но так как тогдашний магистрат уже нельзя наказать, король в назидание и острастку решил теперешним губернатору и бургомистру срубить голову (вот это бы лучше всего — сразу обоих долой!).
Любопытство еще больше взвинтила телеграмма бургомистра городскому нотариусу Дёрдю Ленарту:
«Срочно напечатай от своего имени афиши, что завтра на четыре часа пополудни созывается общее собрание всех граждан. Рёскеи».
Содержание телеграммы мгновенно разнеслось по городу.
Башмачники разочарованно переглядывались: вот те на! Не казнили, значит.
Рёскеи не то что не любили, — скорее, стонали под ним. Слишком тяжел он оказался для Кертвейеша: навалился — и ни охнуть, ни вздохнуть. Откуда уж у королевского советника власть такая — одному богу известно. Верней всего, оттуда же, откуда у змеи камень-змеевик на голове: * из слюны других змей. В каждом городишке такой сатрап имеется.
И когда он в отъезде, все блаженствует. И дышится словно легче, и вода в Кемеше веселей плещется, и небо ясней улыбается: тиран уехал! Но, с другой стороны, ночью в «Гвоздике» опять пехотные офицеры подрались с горожанами и до крови исполосовали саблями Лаци Пенге с брандмейстером Палиной (везет же этому Ковини — вот уже готовая интерпелляция!). И той же ночью на улице Чапо подкопали хлев у портного Мунци и трех откормленных свинок свели. Словом, только бургомистр из города — сейчас же все темные страсти разнуздываются.
Эти три сенсации и держали в лихорадочном напряжении общественное мнение, когда случилась четвертая. Мунци, расспрашиваемый полицмейстером, кого он подозревает в краже, очень странные намеки сделал.
— Это не бедные люди свели, между прочим.
— А кто же? Говорите яснее.
— Это плод мести вообще и в частности. Во всяком случае, я об этом заявить имею.
— Соседи, может, по злобе? Кто там с вами не ладит? Подумайте хорошенько.
— Касательно личности злоумышленника питаю кое-какие подозрения, но…
— Не валяйте дурака, Мунци. Выражайтесь яснее. Что вам мешает, прямо говорить?
— Сомнения на предмет целесообразности прямого говорения. (Мунци дока был по части так называемого «кудреватого» стиля.)
— Мне ты можешь спокойно все выкладывать, старый козел! — вспылил полицмейстер. — Что мне, целый день тут с тобой валандаться? — И, успокоясь, добавил мягче: — Не воображайте, что я клещами из вас буду вытягивать. И молотком вышибить могу, понятно? Ну давайте все по порядку. Кого из уволенных подмастерьев подозреваете?
— Крайне далек от подобного рода предумышлений.
— Ну, значит, из соседей кого-нибудь?
— Выше! — с неколебимым убеждением сказал Мунци.
— Что значит «выше»? Что вы подразумеваете?
— Сплетение более высоких государственных мотивов и интересов.
— Каких еще государственных? Я, что ли, свиней у вас украл?
— Выше! — с прежней невозмутимой уверенностью ответствовал Мунци.
Короче говоря, почтенный портновских дел мастер (хотя с полной очевидностью и этого нельзя было от него добиться) в правительство целил: оно-де подстроило похищение свиней за недавнюю его реплику о тринадцати генералах и вообще в отместку за его, Мунци, политику.
— Что же это за политика такая?
— Немцев не люблю больше, чем положено.
— Значит, вы крайний левый. Так. И вы думаете, что кража свиней с этим связана?
— Amen[48], — подтвердил Мунци торжественно.
— Да у вас мания величия, Мунци!
Вот какие происшествия волновали городишко, — и, в довершение всего, еще это известие о завтрашнем собрании. Афиши о нем, напечатанные аршинными буквами, были уже к вечеру расклеены по стенам. Большие группы людей стояли и читали.
— Ну, завтра жди сюрприза.
— Наверно, мы процесс выиграли и бургомистр сделает сообщение об этом.
Кертвейеш с незапамятных времен с казной тягался из-за Рихоцкого леса. Каждый венгерский город ведет какую-нибудь тяжбу, — наверно, чтобы от будущего чего-то ждать и в мудрость судей верить, а не в собственные силы.
Нотариус Дёрдь Ленарт так усердно взялся выполнять распоряжение бургомистра, что даже городского глашатая с барабаном выслал на дальние улицы — объявить время собрания. Но лучше всяких барабанов растрещала по городу другую великую новость бургомистрова горничная Пирошка: что Минка за остановившегося у них немца выходит, а Ковини получит отставку. Ну, этого еще недоставало! Ни одна старуха в тот вечер не ужинала дома. Новость всех взбудоражила, даже к Бланди проникла, который тут же приказал:
— Эй, Флоке какой-нибудь! Лошадь седлай да к Ковини скачи в Блазоц!
Нарочный тотчас поскакал с письмом, в котором стояло: «Дело дрянь, приезжай!»
Все мужья отпросились из дому в тот вечер, инстинктивно чуя приближение важных событий. Что-то носилось в воздухе, только в руки не давалось. В «Звезде», в «Гвоздике», в «Золотом коне» далеко за полночь затянулись пересуды, догадки за стаканом вина. Даже такие толки пошли, что каша-то вся наверху заварилась: мамелюки на правительство рассердились за роспуск парламента и теперь бунтуют вот, митингуют, кабинет норовят свалить.
— Ерунда! — отрубил старый писарь Михай Прокеш. — Ни один телок еще свою матку насмерть не забодал.
Еще больше городок на другой день оживился. Все жители толклись на улицах, будто в праздник, а после обеда избиратели потянулись в ратушу, другие же, «безголосые», — на вокзал: бургомистра ждать.
И когда, точно в половине четвертого, подъехал поезд и из него вышел бургомистр, его встретило оглушительное «ура».
Приехал он один. Четверка губернаторских тоже у вокзала стояла, но хозяина ее не было.
Рёскеи вздрогнул от этого «ура». «Уж не сделал ли я какую глупость?»
Он перебрал в памяти последние дни, но не нашел никакой промашки, за которую мог бы себя винить. Но тогда чего же они кричат?
Обменявшись рукопожатием с Ленартом, они сели в экипаж. Носильщик кинул на запятки большой клеенчатый сверток.
— Что это? — полюбопытствовал нотариус.
— Флаги.
— Какие флаги?
— Потом узнаешь. Собрание созвал?
— Как ты велел.
— Ковини здесь?
— Нет.
— Очень хорошо. Я заеду домой — у меня как раз четверть часика есть — переодеться. А ты иди в ратушу и с надежными людьми там поговори — пусть нас во всем поддерживают. В разных концах зала их размести.
— А что предполагается? — понизив голос, спросил нотариус.
— Тебе скажу, потому что в твоих интересах держать это в секрете. В парламент я поеду от Кертвейеша.
Нотариус просиял, и глаза у него сделались как две большие блестящие сливы.
— Ты? — пролепетал он. — А как же Ковини? Бургомистр махнул рукой пренебрежительно.
— Ковини дома посидит. Кому он теперь нужен. Флаги его еще сегодня снимем. Поиграли — и хватит.
— А с городом что будет? — глухо, почти боязливо, спросил нотариус.
— И город на своем месте останется, только бургомистром ты будешь.
— Но как же все это случилось? — с радостно бьющимся сердцем воскликнул ошеломленный нотариус.
— Очень просто. Премьер хочет, чтобы я депутатом был. Этого требуют интересы страны и особенно города. Он так прямо и велел: «Будешь депутатом, и точка». Ergo[49] — еду я, и точка.
От вокзала недалеко до города, если держать на колокольню; но дорогу преграждает большое озеро. Приходится поэтому делать порядочный крюк. В озере Всеведущем, ибо таково его название, кертвейешцы купаются летом, и во всей округе распространено поверье (может быть, отсюда и название): отлично себя чувствуют в его ласковой воде только девственницы, а потерявшие невинность визжат, входя в нее. Вокруг озера в крытых соломой лачужках обитают цыгане, крестьяне и бедные рыбаки. Это, — как велит выражаться мания величия, симптомы которой дают себя знать в Кертвейеше, — «предместье».
За «предместьем» — мост через Кемеше, а на нем — единственная в городе статуя: святой Янош Непомук *.
— У дуба Ракоци остановишься, — сказал Рёскеи кучеру за мостом.
Так называемый «дуб Ракоци» — исполинское дерево посередине города, у самого входа на рынок, со всеми неоспоримыми атрибутами почтенного возраста. Под ним — красивая резная скамья, на которой выцарапаны ножом всевозможные рисунки и инициалы. Под дубом якобы останавливался когда-то Ференц Ракоци. Я потому говорю «якобы», что дело-то очень сомнительное. Мало ли «дубов Ракоци» по другим городишкам? И есть ли вообще город без такого дуба? Одно из двух: либо это странствующий дуб, который с места на место переходит, либо Ференц Ракоци только и делал, что «останавливался» под деревьями все семь-восемь лет своего правления.
Так или иначе, бургомистров кучер действительно остановился возле дуба, где нотариус слез и поспешил в ратушу. Экипаж же свернул в Арсенальную улицу (когда улицы называли, там были лавки ножовщика и оружейника). Самый красивый дом на ней бургомистров: великолепная веранда с колоннами, прелестный садик, весь в цветах, и голубятни. Голуби барышень Рёскеи в полном смысле слова заполонили всю улицу: расхаживают себе важно, уверенно, даже не взлетая при приближении человека, а только уклоняясь в сторонку, как куры. Загреб «голубиным городом» зовут, но таких храбрых нигде, наверно, нет, кроме Кертвейеша.
Очень хотелось бы подробнее описать это типичное захолустное дворянское обиталище, да некогда. У самого хозяина считанные минуты оставались дочек чмокнуть, умыться и переодеться. Горожане уже собрались в ратуше, с лихорадочным нетерпением ожидая его появления.
Зал был набит до отказа, яблоку упасть негде. Нотариуса Ленарта, который уже говорил с бургомистром, осаждала толпа любопытных.
— Что будет?
Но Ленарт с неприступным видом отделывался самыми общими фразами.
— Плохого ничего не будет. Город не пострадает. Как до сих пор черепашьим шагом двигались…
— Ну, не скажи, свояк, — с благородным негодованием отвел обвинение сенатор Мартон Жибо, председатель театральной комиссии. — Вспомни-ка: десять лет назад, когда я дела принял, Кориолана у нас еще в обыкновенной простыне играли. Красную бумажную полоску пришьют снизу, и ладно. А в этом сезоне все римляне в бархатных виклерах * на сцену вышли — сам небось видел… Сейчас и тогда: небо и земля. Нет, повышается уровень. Так быстро вперед шагаем — господи ты боже мой…
По лестнице — топот ног и задыхающиеся голоса:
— Идет! Идет!
Вот и сам Рёскеи. Раздается несколько «ура», и народ, теснясь, расступается, как перед императором.
И сразу — мертвая тишина. Слышно даже, как ботинки поскрипывают, пока бургомистр, высоко подняв голову и взглядом пролагая себе дорогу, проходит на подмостки, где во время балов играет Люпи со своим цыганским оркестром, а сейчас стул стоит и столик, на котором — графин с водой и колокольчик.
— Тише! Тише! Внимание!
— Уважаемые сограждане, уроженцы родного моего города!
— Господи! Как прекрасно! — вздохнул достойный мастер Винкоци, благоговейно качая головой. — Надо же такое выдумать!
— Тс-с! Тс-с!
У бургомистра и в самом деле приятный баритон был, звучный, гибкий, и он, когда хотел, мог растрогать слушателей или зажечь негодованием.
— С тяжелым сердцем вернулся я из столицы, — начал Рёскеи, и было бы слышно, как муха пролетит (только посмеет ли муха летать, когда он говорит?). — Тяжкие обязанности возлагает на меня правительство, — обязанности, которые преисполняют меня грустными мыслями о предстоящей разлуке. Правительство хочет отнять меня у вас.
— Ура! — раздался бестактный возглас.
— Болван! — прозвучал другой в ответ.
— Благоволите выслушать спокойно, уважаемые сограждане, — продолжал бургомистр, — и лишь потом судите. Венгрия вступает в великое и критическое время, и будущее нашего города целиком зависит от нового парламента. Готовятся грандиозные планы, в которых будет записано, быть или не быть нашему городу, погибнуть или, наоборот, расцвести пышным цветом довольства и счастья. Вижу внутренним оком своим жалкую, обезлюдевшую деревню, в которую обратился наш возлюбленный Кертвейеш. И вижу другой Кертвейеш — весь в мраморных дворцах, любующийся своим отражением в водах Кемеше, которые бороздят пароходы (крики «ура»). Речь о том идет, чтобы нашу реку сделать судоходной. И если это удастся, нетрудно нарисовать себе другую часть будущей картины, которая тоже станет явью, хотя к тому времени наши кости, быть может, давно уже будут тлеть рядом с прахом отцов наших. Представьте себе озеро, вместо теперешних хибарок окруженное очаровательными коттеджами всемирно известного курорта! (Единодушное одобрение.) Есть и другие вопросы, ждущие своего разрешения; но для этого нам нужен испытанный кормчий, любящий вскормившую его землю, который твердой рукой поведет вверенный ему корабль навстречу опасностям.
— Верно! Правильно!
— Уважаемые сограждане! Через пять дней — выборы, и у нас уже есть кандидат — достойный человек с блестящими способностями и твердым характером. Мы сами его выдвинули, сами облекли доверием. Но римская мудрость гласит: aecessitas frangit legem[50]. Обычай свят, а закон еще священнее. Однако необходимость даже законы ломит. Необходимость — высший судия. И она требует сломать обычай.
Слушатели даже дыхание затаили. Только кузнец Мартон Гал не удержался и рявкнул, подняв кверху кулаки:
— Ну и сломаем!
Ему прямо-таки не терпелось разломать что-нибудь этими огромными ручищами.
— Обычай требует держаться за того, кого выдвинуло собрание, хотя собрание, выдвинувшее Ковини, не совсем соответствовало правилам: я даже не был на него приглашен и в нем не участвовал. Но пусть бы оно решительно всем правилам соответствовало (тут голос оратора окреп и загремел), Ковини все равно не может нас теперь удовлетворить.
Собрание заволновалось, загудело. Все растерянно переглядывались.
— Между тем я знаю человека, — продолжал Рёскеи проникновенно, — который, стоя уже одной ногой в могиле, готов на старости лет вырваться из объятий семьи, презреть все и в это надвигающееся суровое время занять место там, куда его призывают долг и любовь к городу. Этот человек, уважаемые сограждане…
— Кто? Кто это? — в нетерпении возопило сто глоток сразу.
— Я, Пал Рёскеи.
Все так и застыли с разинутыми ртами. С полминуты длилось томительное молчание. И вдруг грянула овация. Такой еще не слыхивал Кертвейеш: чуть потолок не обвалился. Только один человек — щуплый, тщедушный барчук, — вопя, как раненый зверь: «Где мое флоке? Застрелю!» — пробивал локтями дорогу к выходу: наверно, домой спешил за ружьем.
Но этот инцидент прошел незамеченным в общем шуме и гаме. Оратор стоял, победоносно выпрямись и сверкающими глазами обводя зал.
— Если хоть один человек против, — прогремел он угрожающе, — пусть скажет, и я останусь.
Он, конечно, знал, что таких дураков не найдется — такого растерзают на месте.
И однако… У всех кровь застыла в жилах. Странный, ни на что не похожий голое проверещал вдруг из угла:
— Да здравствует Ковини! Да здравствует Ковини! Да здравствует Ковини!
Кертвейешский диктатор обратил на звук голоса свое насупленное чело и налившиеся кровью глаза. Другие тоже кинулись туда. «Подлость какая! Наглость! Кто это? Ну, погоди!»
А в углу, дрожа, как студень, стоял старенький Ференц Тот, помощник городского счетовода, держа под распахнувшимся плащом скворца, которого он, не жалея трудов, целую неделю обучал бургомистрова зятя величать, чтобы приятно поразить его благородие. И вот глупая птица, знать не желая никаких перемен в политической ситуации, воспользовалась тем, что рука, зажимавшая клюв, на мгновение соскользнула… Да, не про бедняков писан карьеризм; даже он против них оборачивается.
Скворцу он, правда, тут же сам шею свернул, но разве загладишь этим неприятность, причиненную могущественному лицу? И в газетах все равно завтра напишут: «В Кертвейеше уже имеются жертвы произвола правительственной партии. Невинное создание стало хладным трупом, и за что? Не захотело «ура» кричать Рёскеи».
После этого происшествия на помост взошел местный лидер либералов, горный советник в отставке Антал Домбровани из Домбро, и в восторженной речи сравнил Кертвейеш с красавицей, которая ровно ничего не потеряет, если не на груди будет носить драгоценную брильянтовую брошь (то есть Пала Рёскеи), а в волосах. Наоборот, блеск ее станет только заметнее. На этом он закрыл собрание, объявив единогласное решение; утвердить кандидатом в депутаты Пала Рёскеи.
С громким «ура» расходились собравшиеся; а в дверях писаря объявляли всем по распоряжению нотариуса Ленарта:
— В «Белой лошади» пять бочек пива выставлено.
Новый кандидат с приближенными удалился через боковую дверь в служебную комнату, где с большой осмотрительностью стал раздавать приказания:
— Один гайдук ко мне домой сходит и флаги к плотнику Хатойке снесет; пусть сегодня же древки сделает и наконечники, хотя бы несколько. Двум остальным — снять в городе флаги Ковини. А ты, Хупка, беги, дружок, на телеграф вот с этой телеграммой губернатору в Будапешт да скажи телеграфисту: очень срочная, мол, бургомистр, мол, вас приветствует, и пусть сейчас же отстукает.
Телеграмма, очевидно, была написана условным языком. Наш корреспондент уверяет, что текст ее гласил: «Полдела сделано. Поторопись».
На площади перед «Белой лошадью» под громкий галдеж началось возлияние. Чиновный люд тихо, мирно разошелся по домам, а простой приступом взял бочки. Бокалов у корчмаря не хватило, и в ход пошли обыкновенные кружки, чашки, даже плошки. Понемногу затесались в толпу и «безголосые». Даже крайний левый Мунци забрел, — конечно, по чистой случайности, — и сапожники встретили его пронзительным верещаньем, хрюканьем, словно вдруг пропавшие свиньи подали голос.
Вернее, отыскавшиеся. Полицмейстер как раз в одной группе рассказывал, что ночью их нашли: с помощью хитрой уловки полицейский Сланик накрыл воров, которыми оказались двое крестьян из «предместья», братья Бибаи. Они и сделали подкоп, угнав чушек. Но теперь Мунци не желает их своими признавать. Жена, мальчики-ученики, которые за ними ходили, откармливали, говорят, что те, а Мунци только головой качает.
— Не может быть, чтоб Бибаи украли. Не на такого простака напал его благородие господин капитан… Сказано, тут далеко нити ведут… Выше надо искать, коли сказано.
Он так свыкся с мыслью, что его за патриотизм преследуют и правительство нарочно свиней похитило, — и так гордился этим… Нет, лучше уж мученичество, чем свиньи; разочарование было бы слишком велико.
Сапожники фыркали в кулак; но среди башмачников были у Мунци и свояки, кумовья, которые дружелюбно его приглашали:
— Постойте, кум, хлебните глоточек! Не проходите мимо, свояк, хоть словечко скажите!
Ему уже кружки протягивали. Но Мунци отмахнулся пренебрежительно.
— Не по силе возможности. — И отвернулся с оскорбленным видом.
— Эй, кум! Почему, кум?
— Неусыпная любовь к отечеству не дозволяет.
И с новенькой, прямо с иголочки курткой под мышкой поспешил дальше, к Церковной улице, откуда в громадном облаке пыли как раз вынырнула запряженная четверней бричка и верховой сбоку. Лошади в пене все, в мыле… Батюшки! Никак, это Ковини четверка? Она, она — вон и хозяин: сам правит. Пожаловал наконец. Эй, люди, земляки! Ковини едет!
— Пускай себе едет! — подбадривали народ Дёрдь Ленарт с полицмейстером, которые распоряжались за хозяев. — Был кандидат, да весь вышел. Плевать вам на него.
И в самом деле, ехал Ковини, а рядом берейтор, которого Бланди посылал за ним вчера.
Ковини сразу бросилось в глаза стечение народа. Он тпрукнул лошадям, которые тут же остановились, бросил вожжи кучеру, сидевшему сзади, и спрыгнул с козел. — Что здесь такое?
Все замолчали. Каждый подталкивал соседа: скажи, мол, ему!
Но это молчание с некоторой долей замешательства, само по себе достаточно красноречивое, уже подсказало Ковини нужный образ действий.
— Что ж, нет, значит, такого смельчака, который скажет, что здесь происходит? — с издевкой спросил он.
Тогда пекарь Михай Кёнтеши, приосанясь, выступил вперед.
— А то происходит, ваше превосходительство, что у нас теперь его превосходительство господин Рёскеи кандидат, а мы все его люди.
Ковини даже пошатнулся от неожиданности и побледнел как мертвец.
— Не может быть! — пролепетал он, хватаясь за голову. — Ничего не понимаю, — снова выдавил он, но не мог продолжать.
Этот безрассудно смелый человек, который из каждого положения находил выход, был сражен, растерялся, пал духом, потому что лишился вдруг путеводной нити.
— И вы способны бросить меня? — дрожащим голосом, чуть не плача, спросил он, ласково беря за руку стоявшего рядом сапожного мастера Йожефа Марека.
— Это точно, мы люди способные, — не без тонкости ответил мастер, рукавом утирая усы.
— Долой Ковини! — осмелев, гаркнул башмачник Михай Ботошка.
— А-я-яй, Ботошка! — устремил на него укоризненный взгляд Ковини. — Не вам бы это говорить. Ведь я жену вашу из речки вытащил.
— Вот именно! — взъелся почтенный башмачник. — Нечего в чужие семейные дела соваться!
Еще немного — и дошло бы до перебранки; к счастью, подоспел господин Ленарт и, взяв Ковини под руку, проводил его к коляске, вкратце изложив случившееся: судя по всему, дело в Будапеште не выгорело — туда вызвали губернатора (он и сейчас там) с бургомистром, которому просто приказали баллотироваться.
— Лучше всего, — заключил он, — поезжай прямо к старику и проси у него объяснений. Ты на это полное право имеешь.
— Удивительно, просто удивительно, — простонал Ковини, не в силах больше вымолвить ни слова, и взобрался на подножку.
Кучер уже еле сдерживал горячих, не стоявших на месте лошадей.
— Эх, хороша четверка! — промолвили кузнецы и шорники, с видом знатоков наблюдавшие красивых животных.
— Четверка-то хороша, да вот с Минкой ни шиша! — ввернул ходатай Левинци.
Кругом захихикали, загоготали. Еще вчера народным любимцем был — почему, неизвестно, — а сегодня уже посмешище, шут гороховый — тоже неизвестно почему.
— К бургомистру! — повалившись на заднее сиденье, бросил Ковини кучеру.
Рысаки с громом полетели на Арсенальную, высекая подковами искры из мостовой. По дороге видно было, как с домов снимают флаги Ковини. Обыватели, услышав грохот экипажа, высовывались из окон и тотчас прятались обратно. В дверях ссудо-сберегательной кассы как раз стоял директор, господин Кожегуба. Завидев роскошную упряжку, он схватился за сердце. «Денежки мои, — простонал он подбежавшему швейцару, — денежки мои ускакали!» Стук колес мало-помалу замер вдали, посетители разошлись из «Белой лошади», и наступил вечер — такой же, как всегда. Бакалейные лавочки заполнились служанками, покупавшими снедь к ужину; ремесленные ученики под передниками тащили вино мастерам; торговки свою торговлишку на базаре свертывали, — словом, все шло своим чередом.
Природа никак не отозвалась на то, что кандидат в депутаты сменился, хотя гайдуки уже начали новые флаги разносить по городу, чтобы утренний ветерок поиграл ими. Все было, как вчера: и тени от домов, и тихий шепот под «дубом Ракоци», и песни поденщиков, возвращавшихся с ломки кукурузы. Даже транспарант на воротах кантора Кукучки зажегся, как обычно, только надпись переменилась (он весь вечер возился с нею, переделывая буквы):
Voluntas dei:
Vivat[51] Рёскеи!
С утренним поездом прибыл губернатор. На скамейках перед комитатской управой коротали время за беседой чиновники — сливки комитатской и городской интеллигенции. Вице-губернатор Акош Саларди расхвастался, что он, мол, единственный демократ в семье: оба брата, майор и советник министерства, — камергеры его королевско-кесарского величества, а он не притязает на это, потому что демократ. Городские киты: владелец аптеки «К святому духу» господин Глюк, «наш словак» — самый уважаемый (потому что самый богатый) кертвейешский коммерсант Шамуэль Мравина, директор местной спичечной фабрики и прочие с почтением глядели в рот этому преславному мужу. И правда, равного ему не сыщешь: другие демократы не могут камергерами стать, а он может — и все-таки не камергер. Вот это человек! Тем довольствуется, что повторяет без конца: демократом я, собственно, могу и не быть, ведь мои братья… и так далее.
Осеннее солнце мягко светило, красивый голубоватый дымок от пенковых трубок весело летел к ясному небу — и вдруг затарахтело губернаторское ландо, запряженное серыми. Увидя беседующих, барон спрыгнул и подбежал к ним совершенно вне себя.
— Что за глупость колоссальную вы тут сотворили? — загремел он, указывая на противоположный дом с флагом Рёскеи. — Отлучиться нельзя ни на минуту из своего комитата. Просто ужас!
Против обыкновения даже руки никому не подав, он стоял, хлеща себя тросточкой по брючине, которая болталась, как пустая (хотя это, надо думать, едва ли).
— Так, значит, тебе не сказали ничего? — вытаращился вице-губернатор.
— Ни словечка. В чем дело? Как это получилось?
Все сразу оживились. Интересно! Губернатор-то ничего не знает, оказывается. Вот это номер! Вице-губернатор и господин Глюк одновременно начали рассказывать, но их оттеснил тщеславный Мравина, которому первому хотелось посвятить во все губернатора.
— Вы, господа, там не были, а я был и больше наслышан. В среду бургомистр телеграфировал: созвать собрание. Словом, порядочную блоху запустил нам в ухо. «Ладно, — говорю я жене, — поживем — увидим». Ну вот, вчера собрание было. Бургомистр сказал, что Кертвейеш ожидает великое будущее, а ему в парламент нужно ехать. «Нужно, так нужно», — сказали мы и стали «ура» кричать, потому что и кричать тоже нужно; а что делать? Черт меня побери, если не так!
— А вот не бывать ему в парламенте! — вспылил губернатор, со свистом рассекая воздух тросточкой. — Это невозможно. Нам сейчас без него не обойтись.
— Ваше высокопревосходительство еще нам блоху подпускаете, ей-ей!
Губернатор, не отвечая ничего и пыхтя, как разъяренный вепрь, затопал по лестнице в свой кабинет, и через минуту в огромном здании поднялась суета, как в потревоженном муравейнике. Звонок звонил не переставая; чиновники и рассыльные сновали взад-вперед по коридорам и вверх-вниз по лестницам. Приказания сыпались одно за другим.
— Глашатаев выслать с барабанами, пусть объявят, что на четыре часа назначается новое собрание в ратуше.
Глашатаи побежали.
— Секретарь, немедленно составить список всех городских крикунов, в том числе председателей ремесленных союзов, даже если они и не крикуны. Хотя это вряд ли, иначе бы они председателями не были.
Секретарское перо лихорадочно заскрипело, и список вскоре был готов.
— Гайдуки, скорей обегите всех по этому списку, чтобы сию минуту здесь были. Быстро, быстро!
Гайдуки помчались.
Немного погодя в приемную явился Ковини с бароном Бланди. Они приехали вместе.
— Его высокопревосходительство сердиты очень, — предупредил их секретарь. — Не советую входить.
Бланди смерил его презрительно с ног до головы.
— Что за чушь! Занимайтесь-ка своим делом, вы, Флочишка… и не тявкайте тут.
И распахнул двустворчатую дверь.
— О, кого я вижу! — сладко протянул губернатор, словно для него не было ничего приятнее их визита (он как раз лил духи над умывальником на свой носовой платок). — Присаживайтесь, ребятки; вот сигареты, угощайтесь.
— Мы пришли требовать удовлетворения, — торжественно изрек Ковини.
Лицо у него было бледное, глаза запухли.
— Догадываюсь. Ну-ну?
— Меня надули, бессовестно надули — и с мандатом этим, и…
— …и Минка отставку дала? Гм.
— Да, и ей немца какого-то навязали. Этому человеку, ваше высокопревосходительство, названия нет. Это… Это… просто…
— Негодяй, — подсказал губернатор.
— Я был у него вчера вечером, — продолжал Ковини, скрежеща зубами, — убить хотел.
— Ну и как, убил? — флегматично осведомился губернатор.
— Не вышло. Увидел меня — на шею бросился, плакал, как младенец. Жаловался, какой он несчастный, как меня любит, но все, мол, против него: сверху кандидатство это навязали и жениха из Вены какой-то злой рок подкинул наперекор его планам. Рассказывает, а у самого слезы градом. В конце концов я же утешать стал мерзавца и, только выйдя на свежий воздух с такой вот головой, сообразил, что опять в дураках остался.
— Ну, а дальше?
— Еще больше народ меня огорчает, эта чернь подлая. Ты же видел, как они меня любили.
Губернатор улыбнулся.
— И вот бросили.
— Так тебе и надо, — с насмешкой ответил губернатор, — я бы никогда до выборов не унизился. Чтобы меня на расписанной тюльпанами тарелочке подносили разным там скорнякам да башмачникам: решайте, мол, нужен он или не нужен…
— Ах, Флоке, дорогой! — умилясь, воскликнул барон Бланди и сделал шаг к губернатору, чтобы пожать ему руку. — Ты настоящий Флоке!
— Спасибо, Муки *, спасибо. Но вернемся к делу, а то вон в приемной уже ногами шаркают. Я тут совещаньице одно устраиваю… Так чего вы хотите?
— Удовлетворения, дорогой барон, — тотчас отозвался Ковини. — Удовлетворения за все, что этот подлец наделал.
— В конце концов комитат — это не Баконьский лес *, — перебил Бланди. — Тысяча флоке! Ты же отвечаешь за подобные низости, я так полагаю.
И, вставив в глаз сверкающий монокль, воззрился на свое отражение в зеркале.
— Ну что ж, — сказал губернатор, поразмыслив немного. — Удовлетворение вы получите при одном условии.
Бланди, весело прищелкнув языком, торжествующе подмигнул приятелю.
— А? Что я говорил? Ну давай, какое там у тебя первое флоке и второе.
— Удовлетворение вот какое: депутатом Рёскеи ни в коем случае не будет.
— Ура! — заорал Бланди. — Честное благородное слово?
— Честное благородное; но условие такое: вы тоже слово даете поддержать, если понадобится, нового кандидата.
Бланди вздрогнул как ужаленный, а Ковини даже потемнел весь.
— Нового? Какого это нового? А почему ты Яноша не оставишь?
— Да просто потому, что легче в новом горшке суп сварить, чем старый, разбитый, склеивать, — притворись удивленным, что его не понимают, ответил его высокопревосходительство. — Времени слишком мало.
Бланди хмыкнул и беспомощно устремил свои бараньи глаза на тезку. Ковини молча понурил голову.
— Что? Не нравится? — поднажал губернатор. — Вот, право, чудаки: им удовлетворение предлагают, а они еще раздумывают, Рёскеи избирать или кого другого.
— Другого, другого! — воскликнули оба в один голос.
С хорошо разыгранным равнодушием, но втайне торжествуя, как дипломат, перехитривший противника, барон Герезди почесал в затылке на редкость длинным, прямо-таки уникальным ногтем, который отрастил на одном пальце.
— Не исключено ведь, что и с тобой выгорит, — добавил он, обращаясь к Ковини. — Я, во всяком случае, обязательно буду пытаться, но обещанием не могу себя связывать, сам понимаешь. Личность тут, в конце концов, роли не играет, и руки у меня должны быть свободны. Так что обещайте, что чертежей моих трогать не будете * и все дальнейшее принимаете.
Оба джентльмена протянули руки в знак согласия.
— Вот так. А об остальном я сам позабочусь. Теперь, с богом, отправляйтесь домой, но никому ни слова. Предоставьте действовать мне.
Рассыпаясь в благодарностях, они удалились и еще на гулкой сводчатой лестнице все повторяли: «А славный он все-таки, этот барон Мишка».
Тем временем и «крикуны» понемногу собирались. Не очень быстро: этого дома сразу не застали, тот парадный кафтан вздумал надевать, да причесываться, да сапоги обмахивать ради такого случая, да еще на улице раза два остановился. Кто же утерпит, чтобы не сказать в ответ на расспросы: «Да вот к губернатору иду, на совещание одно».
А у его высокопревосходительства приглашенных, можно сказать, с почетом принимали — и не в служебном кабинете, а в жилых комнатах, где лакеи обносили всех малюсенькими ватрушечками (не иначе баронские дочки для куколок своих напекли) и сладкой палинкой на серебряных подносах. Подносы — вот такой величины, а стаканчики крохотные. Куда аристократичней, наверное, если бы подносы поменьше были, а стаканчики покрупнее.
Званы были все больше лица третьего сословия. От сапожников — Йожеф Марек, у которого кадык ходил, как ткацкий челнок, когда он говорил, а говорил он без умолку, и мастер Ференц Буйдошо (даром что и тут нос рукавом утирал). От башмачников — Антал Кочор в доломане с серебряными пуговицами и Матэ Цибак, но за Цибаком жена прибежала и увела, за что его высокопревосходительство немало на нее сердился. Явился и Мартон Галгоци собственной персоной — от гончаров. Бессовестный целую пригоршню сигар ухватил из ящичка, которым его высокопревосходительство обносил гостей — пришлось из-за него остальным уже по одной давать. И без Дёрдя Хатойки не обошлось, — черт его знает, как уж он в важные лица вылез. И скорняк Липецкий, конечно, пожаловал — этот к каждой бочке гвоздь. Михай Кёнтеши тоже от приглашения не уклонился, даже ногу себе чуть не вывихнул, поскользнувшись и растянувшись на вощеном паркете, что, впрочем, словно заранее предвидел его высокопревосходительство всеведущий господин губернатор — тут же, в полушаге, коврик постелил, чтобы мягче падалось честному булочнику.
Словом, весь цвет бюргерства собрался. Дворянских же сюртуков, наоборот, немного было: директор ссудо-сберегательной кассы господин Флориш Кожегуба, коммерсант Мравина, нотариус Дёрдь Ленарт, сенатор Жибо, его преподобие каноник Янош Непомук Бернолак — папский камерарий, аптекарь Цезарь Мартинко, которого для краткости звали просто «Святым духом», да стряпчий Левинци.
Его высокопревосходительство барон Герезди, сам закурив и с каждым чокнувшись вышеупомянутым маленьким стаканчиком, объяснил в дружеской беседе, зачем позвал господ: он решительно против избрания Пала Рёскеи в парламент. Уход этого достойного мужа с поста, на котором он стяжал бесчисленные лавры, будет большой потерей для города. Его это пугает — просто даже охоту отбивает работать дальше. Конечно, и в парламент мы едва ли кого лучше найдем; но кто кандидат — это ведь в конце концов почти безразлично. Что там один голос значит. Кого ни пошли, всяк сойдет. Все равно не нынче-завтра парламент еврейские крючкотворы заполонят, а тогда катись он хоть к чертям собачьим (это, конечно, между нами). Далее губернатор сообщил, что его план — во что бы то ни стало уломать Рёскеи не покидать города, который так его ценит, и остаться бургомистром.
Нотариус Ленарт покачал головой.
— Не выйдет, ваше высокопревосходительство. Знаю я старика: ему что в мозги въелось, бензином не выведешь.
— Ну, а вдруг, — с необычной кротостью заметил губернатор. Попытка не пытка. Ведь город он любит.
— Любить-то любит, — опять подал реплику нотариус, чуть ли не pro domo[52], — но он, по-моему, считает, что именно ради города едет в парламент. Да и правительство — по его словам, по крайней мере, — этого хочет.
— А! — бросил губернатор небрежно. — Правительство-то хочет, да мы не его лакеи.
Ремесленники переглянулись, локтями подталкивая друг друга.
— Молодец. С характером мужик… Слышал, что сказал? Мы, говорит, не его лакеи.
После этого они только молча головами кивали, каждое его слово принимая, как веление свыше.
А велено было следующее. Пала Рёскеи на собрание в ратушу пригласит целая депутация в составе: его преподобие Янош Бернолак (глава депутации), Шамуэль Мравина, Михай Кёнтеши, Йожеф Марек и Дёрдь Хатойка — числом всего пятеро.
По прибытии депутации с приглашенным ему тут же, у входа в зал, девочка в белом платьице поднесет букет для пущей важности. Хорошо, если б она еще стишок какой-нибудь прочитала, хоть в четыре строчки, — совсем растопить сердце его благородия (это Мартон Галгоци предложил).
— Что ж, неплохо. Но где мы в оставшееся время такую смышленую девочку найдем?
— А я вот, например, — ткнув себя в грудь, вскочил сенатор Мартон Жибо, председатель театральной комиссии.
— Орангутанг ты, а не девочка, — рассмеялся Мравина, и другие все улыбнулись.
— То есть я найти могу, — поправился сенатор. — Катку, меньшую свою даю: декламирует, как ангел.
— А стихотворение? — спросил его преподобие.
— Кукучка сочинит по дороге домой, я из него вытрясу. А Катка вызубрит в пять минут, как ангел.
— Utcunque[53], — одобрил его преподобие.
Уладив и этот важный вопрос, обратились к другим бальзамам и сиропам для умягчения господина бургомистра.
А именно: когда его благородие примет букет и, по обычаю, поцелует девочку, сказавшую стишок, вперед выйдет господин Флориш Кожегуба и в красивой речи, на которую только он с его блестящим умом способен, призовет бургомистра не покидать родной город, остаться во главе сограждан.
— Согласен, — потирая руки, с готовностью отозвался Кожегуба.
— После этого почтеннейший Йожеф Марек выступит в таком же смысле от ремесленников, — распоряжался губернатор.
— Принимается, — кивнул Йожеф Марек, пыжась от гордости.
— А там уж посмотрим, что скажет бургомистр, — заключил губернатор. — Но с вашей помощью я надеюсь на лучшее и сам на любые жертвы пойду, лишь бы удержать его.
Он поднялся с дивана, поговорил еще с окружившими его гостями, призвав каждого в отдельности употребить свое влияние в нужном направлении, потом поклонился: «Спасибо, что пришли», — и небрежно-элегантным жестом отпустил их. Только троим — аптекарю по прозвищу «Святой дух», стряпчему Левинци и Кожегубе — мигнул украдкой, оставляя на самое доверительное совещание.
— Уважаемые друзья, — сказал он, тщательно затворив дверь за удалившимся последним Кёнтеши, который еле ноги передвигал после своего падения, — у меня такое предчувствие, что Рёскеи уступит.
— Ну, значит, так и будет… Под предчувствие вашего высокопревосходительства и ссуду выдать можно, — заметил Кожегуба.
— Но на этот случай нужна кандидатура для сегодняшнего собрания. До выборов — только три дня, и медлить мы не можем. Мне бы не хотелось, чтобы нас застала врасплох какая-нибудь неожиданность. Нелишне будет роли распределить.
— Правильно.
— Если Рёскеи уступит, вы, господин директор, благоволите опять Ковини предложить.
— Охотно. По крайней мере, мои денежки вернутся.
— Вряд ли бургомистр пойдет на это, — усомнился Левинци. — Ковини на каждом шагу подлецом его честит со вчерашнего дня.
— Неважно; если Ковини не пройдет, вы, господин стряпчий, рекомендуете бывшего депутата Михая Хартли.
— За него я и двадцати филлеров не дам.
— Я, положим, тоже, — улыбнулся барон, округляя свой примечательный ноготь карманным подпилочком. — Именно поэтому я просил задержаться и вас, господин Мартинко.
— К вашим услугам.
— Тогда встаете вы и предлагаете кандидатуру бывшего депутата парламента Меньхерта Катанги.
— Это кто такой?
— Запишите себе его имя, дорогой Мартинко, чтобы назвать правильно. Меньхерт Катанги — видный политический деятель. В правительстве пользуется большим влиянием. В прежнем его округе, например, было два аптекаря; сейчас оба королевские советники. В один прекрасный день — чем черт не шутит! — он еще министром будет, и тогда Кертвейеш сможет поднять голову и протянуть руку…
— А она у него загребущая, — захохотали все трое.
Тем временем «Святой дух», выудив из кармана карандаш и старый рецепт, отыскал на нем свободное местечко и pro memoria[54] записал имя будущего министра. И теперь, если читать подряд, получалось: «Меньхерт Катанги. Принимать с вином или в облатке».
Как только господа удалились, губернаторша велела открыть окна и покурить в комнатах можжевельником. Губернатор же направился в кабинет и набросал Катанги телеграмму:
«Вечерним поездом можешь приезжать с флагами и прочим».
СОБРАНИЕ
Ну и ну! Опять собрание? Конечно! Что сталось бы с тобой, друг мадьяр, если б ты выговориться и выплакаться не мог, свои восторги и пени излить на разных собраниях, заседаниях, совещаниях, в комитетах, комиссиях, подкомиссиях и как их там еще…
Читателю уже надоело, наверное, таскаться со мной по этим собраниям — открытым и закрытым, общим и тайным. Но разве поверит кто в описание выборов, не состоящее из одних собраний да совещаний? Ведь вся прелесть выборов для публики — именно в этих бесчисленных обсуждениях, маневрах, тактических уловках, а не в самой победе. Избранный государственный муж далеко не так интересен; он уже наполовину использован. Массы ведь только дважды радуются своему любимцу: первый раз, когда подымают, а второй, когда свергают, — но это, впрочем, уже через пять лет, а то и позже.
Порядочная все это гадость; но не будем огорчаться. Благоразумней порадоваться тому, что собрание в ратуше проходило успешно. Рёскеи, приглашенный депутацией, явился. Правда, по дороге он всячески допытывался, зачем его зовут; но ответы, само собой, были уклончивые. Разыграв некоторую тревогу, колебания, недоверие, бургомистр все-таки пришел. У входа его встретила шумная овация, которая продолжалась, пока не вышла вперед Катица Жибо, очень хорошенькая в своем белоснежном платьице и с напудренной а-ля рококо головкой, словно маленькая маркиза. Изящно присев перед бургомистром, она без тени робости преподнесла ему букет алых роз и слегка шепелявя, но очень мило прощебетала стихотвореньице, слова которого для стоявших поодаль слились, впрочем, в некое подобие пчелиного жужжанья.
О, не покидай нас, добрый дядя Рёскеи, Будь отец наш вечно; Своего родного города судьбою Не играй беспечно *.Виновник торжества улыбнулся кисло (так, по крайней мере, передавали наблюдатели) и переспросил ласково, но немного озадаченно:
— Что ты сказала, деточка?
Но девочка, не обученная, что еще говорить, промолчала.
— Очень хорошо прочла, душечка! — похвалил «Святой Дух».
— В Кукучке есть жилка, это как бог свят! — высказался другой критик.
Сам Рёскеи, наклонясь к девочке, потрепал ее по щечке и понюхал великолепные розы — не от удовольствия, а так, машинально, по привычке, — но тут же громогласно расчихался. Такие яростные «апчхи» сотрясли его тело, что в голове у него зашумело и разноцветные круги поплыли перед глазами. Флориш Кожегуба, который уже придвинулся поближе, не решался начать речь: все равно заглушат эти зверские «апчхи». А они все повторялись, вызывая неудержимый смех у окружающих, что, принимая во внимание место, время и личность прибывшего, было поистине неприлично и неприятно.
Как потом оказалось, этот прохвост Бланди попросил у девочки букет — посмотреть и незаметно посыпал благоуханные лепестки содержимым своей табакерки. Но коварная шалость лишь на несколько мгновений смогла задержать грохочущее колесо истории, то есть дальнейший бег событий.
Нос Пала Рёскеи наконец освободился от коловших и щипавших его злых джиннов, и бургомистр занял подобающее ему место посредине зала (поистине немалое искусство понадобилось, чтобы потеснить это множество голов и очистить хоть небольшое свободное пространство). Звучный голос Кожегубы внятно, ясно раздался в насыщенном тяжелыми испарениями зале.
Речь была незаурядная, и ее на следующий день, каллиграфически переписанную, отправили в пештские газеты; но там не напечатали. Интриги везде, приятельство, — видно, своих столичных ораторов затмить побоялись.
Упомянув, что мадьяры вот уже тысяча лет как пришли сюда под водительством Арпада * и подробно перечислив все их злоключения, выступавший стал к тому клонить, что предки наши, пожалуй, вообще бы с места не сдвинулись, знай они наперед, какой удар спустя тысячелетие постигнет вернейшее дитя опершейся о щит среброшлемной Паннонии * — вольный град Кертвейеш, который обречен на сиротство, ибо родной отец его покидает. И это в праздники *, когда все радуются, нам в траур облечься?!
— О бог венгров, к тебе я взываю! — с искусной дрожью в голосе воскликнул он. — Снизойди, верни нам отца нашего, отвратившего от нас свое сердце! (Громкое одобрение.) — Оратор выдержал паузу, словно ожидая, что бог венгров и впрямь снизойдет с небес, наставить господина королевского советника (что, откровенно говоря, не мешало бы). Но так как этого не случилось, возгласил: — Отец, желающий нас покинуть, — это ты, уважаемый друг, краса и заступа нашего города!
Рёскеи вздрогнул. Сколько искусства было вложено в это движение! Руки у него бессильно повисли, словно в отчаянии. Сам он подался назад на полшага, взор затуманился. И все так благородно, естественно, словно он весь обратился в слух, тончайшими фибрами души отзываясь на каждое слово оратора.
Между тем господин Кожегуба опять воротился к нашим предкам, роясь в истории непринужденней, чем в собственном сейфе. Привел в пример Ласло Святого *, который отказался возглавить крестоносную рать, предпочтя лучше добрым отцом домоседничать со своими подданными. А кто не слышал про Белу Первого *, который, когда ему саблю и корону поднесли в королевском шатре, выбрал саблю как наименее блестящую? Правда, за занавеской в тот миг мстительный кинжал таился; * но разве тебя, дражайший и досточтимый друг, не подстерегают тоже опасности, если ты изберешь более блестящую карьеру, парламентскую?
Кандидат в депутаты возвел очи горе при этих словах, потом снял очки и спрятал их в черный футляр. Он знал, что вскоре должен прослезиться, и хотел, чтобы все это видели.
Оратор же возвестил: «Но пойдем дальше». — И все вздохнули с облегчением, потому что он тут же перескочил к Палу Белди *.
— Ах, жулик, сразу лет шестьсот прикарманил, — шепнул соседу Янош Непомук Бернолак, папский камерарий.
— Да, да, к образу Пала Белди обращаюсь я, славного твоего тезки, который решил лучше умереть, чем стать князем.
— Это все не то! — крикнул Мравина. — Ты такого, дружок, найди, который депутатом не хотел стать! (Веселое оживление.)
Но Кожегубу нельзя было сбить. Могучий поток, хоть каменную глыбу брось в него, хоть комариное крылышко, невозмутимо бежит себе дальше. Он вкратце очертил заслуги Рёскеи, сравнив его с упомянутым Ласло Святым, Белой Первым и Палом Белди — сначала вместе, потом по отдельности. И, наконец, перевалив через Арарат истории, сделал такое душераздирающее заявление, щедро уснастив его разными эпитетами, уподоблениями и вставными предложениями: если Рёскеи не уступит общему желанию и не останется на своем славном посту, они, горожане, видит бог, рассеются, как пчелиный рой без матки, а покинутый улей, Кертвейеш, станет добычей тления и запустения. («Верно! Правильно!»)
Рёскеи растрогался; глаза его увлажнились, и он, словно желая скрыть это, поднес к самому лицу шляпу, которую держал в левой руке.
Едва кончил Кожегуба, его место заступил главарь сапожников Йожеф Марек, заявив:
— Не кудрявой книжной речью буду я изъясняться, а простым языком ремесленника. И не то скажу, что в книжках, а что из сердца просится.
И так здраво, разумно стал убеждать бургомистра остаться, что тот слез не мог сдержать, — во всяком случае, вынул платок и стал тереть глаза, которые, естественно, еще больше покраснели.
— Остаюсь, — прохрипел он сдавленным голосом. Собрание было тронуто. Какой-то стоявший рядом долговязый господин крикнул зычно:
— Остается! Он сказал, остается!..
— Старый осел! — прошипел Дёрдь Ленарт.
— Ура! — ревела толпа.
— Благородный характер! — одобрительно кивал седой львиной головой Балинт Балог.
На балконе какая-то дама — госпожа Шоморьяи, кажется, — тронула за плечо своего кудрявого белокурого сынишку, жевавшего яблоко.
— Посмотри туда, голубчик, деточка; хорошенько запомни этого дяденьку. Будешь потом этот день вспоминать и думать: «Вот каким должен быть великий человек».
А великий человек, придя немного в себя, пока длилась овация, торжественной, размеренной поступью, которая так удавалась Лендваи *, прошествовал на подмостки и оттуда поклонился публике. Ответом была новая овация.
Тогда он возвысил голос, немного еще хриплый от волнения, но слышный во всех концах зала.
— Уважаемые сограждане! Народ призвал меня. Воля его — закон. И вот я пришел и склоняюсь перед нею (долго не смолкающая овация). Ваши ораторы много хорошего обо мне сказали. Я отвечу им только одним словом. И это слово «повинуюсь» (крики «ура», переходящие в овацию). Но именно потому, что город мне дороже жизни, я соглашаюсь с одним условием (возгласы: «Тише! Тише!»). А именно — что мы подыщем другого кандидата, чье положение и способности позволят в грядущие трудные времена достойно представлять интересы Кертвейеша.
— Правильно! Верно! — воскликнули сотни голосов. Флориш Кожегуба поднял руку, желая что-то сказать.
Все думали, достойный гражданин хочет что-нибудь добавить к своей речи или поправиться. За отсутствием газеты опечатки в Кертвейеше исправлялись устно. Но Кожегуба вместо этого в нескольких теплых словах рекомендовал прежнюю кандидатуру — Яноша Ковини. Бургомистр покачал головой.
— Ковини — человек даровитый, — сказал он, — но нынешнее время и задачи требуют большего опыта.
Ни одного возражения не раздалось, только невнятный, беспокойный шум пробежал по залу.
Тут Левинци вскочил на стул, но едва вымолвил имя Хартли, бургомистр отмахнулся пренебрежительно. Дескать, noизвестнее кого-нибудь надо. И бедный Хартли сразу канул в Лету, окончательно и бесповоротно.
«Мартинко! Мартинко!» — раздались голоса, и вперед устремился Цезарь Мартинко, услужливо подталкиваемый сзади; да он и сам обоими локтями работал: только золотые запонки с изображением змей посверкивали на белых манжетах.
— Тише! Послушаем, что «Святой дух» скажет! (то есть аптекарь). Тише, тише, внимание!
Голос у аптекаря был зычный, как у быка; гаркнет — всех перекричит. Но сейчас и не требовалось особенно напрягать глотку.
— Уважаемое собрание! Я со своей стороны предлагаю известного патриота нашей родины, бывшего депутата господина Меньхерта Катанги.
Незнакомое имя всех озадачило. Кто это? Про кого он говорит? Все взоры обратились на бургомистра.
А тот, откинув голову и кругообразно помахивая перед собой правой кистью, в мертвой тишине сказал:
— Перед этим именем, господа, и я шляпу снимаю. И тут забушевала овация — оглушительная, исступленная, бесконечная. Сам бургомистр выкрикнул, взмахивая шляпой: «Да здравствует Меньхерт Катанги!»
И снова пошел поток перекатываться по залу, буйный, ретивый. То влево прянет, то вправо; то здесь схлынет, то там опять вспенится, захлестывая балкон и выплескиваясь на улицу, где имя Катанги подхватили праздношатающиеся — и ну выкликать, перевирая на все лады.
Напрасно там, в зале, тряс колокольчиком лидер либералов Антал Домбровани из Домбро — пришлось в конце концов, воздев руки, умолять присутствующих: дозвольте постановление прочитать, что кандидатом в депутаты от Кертвейеша единогласно выдвинут Меньхерт Катанги.
ЭПИЛОГ
Что тут еще сказать? Все и так ясно. Мне, пожалуй, особенно жаль расставаться со славным городком, где у нас появилось столько добрых знакомых; да, думаю, и читателю тоже. Но что здесь больше делать? Предвыборные маневры окончились. В депутаты через три дня изберут Катанги, и городок утихнет, к обычной жизни вернется, оживляемой только свадьбами да пирушками по случаю убоя свиньи да еще выходящими наружу любовными интрижками. Кертвейешский Макиавелли по-прежнему будет созерцать своих писарей, вина разливать из бочек да изредка Катанги торопить письмом, чтобы с министром переговорил по какому-нибудь делу. Мунци новых свиней примется откармливать, Лаци Пенге и Палина, залечив свои раны, — опять бахвалиться и вздорить в «Гвоздике», а господин Флоке залезет в долги и в один прекрасный день поведет к алтарю Илону Рёскеи (старик уж постарается это как-нибудь обтяпать).
Все в точности так и будет, уверяю вас. Поэтому и не стоит там задерживаться. А то немногое, что остается добавить, можно в двух словах изложить. На другой день утром прибыл Катанги, встреченный огромной толпой, хотя пекарей и сапожников Ковини сумел-таки перетянуть на свою сторону. Они с Бланди догадались, что их надули и что все это собрание и выступление бургомистра — просто-напросто ловкая плутня, задуманная еще в Пеште и осуществленная вместе с губернатором по заранее намеченному плану. Бланди пришел в ярость и отдал свой кошелек и погребок в распоряжение Ковини, чтобы хоть как-нибудь досадить и помешать ненавистному противнику. Сапожники с булочниками всю ночь пили у Бланди, и при встрече кандидата в толпе там и сям раздавалось «долой». Это не на шутку встревожило губернатора, который тоже приехал на вокзал.
— Флаги здесь? — спросил он, усаживая Катанги в коляску.
— Конечно.
— А остальное?
— И остальное, — весело ответил Катанги.
— Ну, прекрасно, а то эти пекари и сапожники отбились от рук сегодня ночью.
— Ничего, опять прибьются.
— Ну, слишком розовые надежды тоже питать не стоит.
Пришлось тут же с программной речью выступать: так было решено. И начало ее, прямо скажем, не предвещало ничего хорошего. Бландисты, сверх всяких ожиданий, здорово обработали ремесленников. Катанги, который стал о прошлом парламенте рассказывать, было совершенно не слышно: все заглушали шум, выкрики. «Может, квота их интересует», — подумал он и на квоту перешел. Но шум стал еще сильнее. Целая лавина восклицаний посыпалась.
«Тише! Слушайте!» — «Не обязан я слушать». — «Что, что? Цыц, ты, лысый!» — «Попрошу без оскорблений». — «Кому-нибудь другому это скажите!» — «Вон! Долой! Не смыслит он ни черта». — «Не желаете слушать, так убирайтесь отсюда!» — «Тише, господа!» — «Вы дедушке своему приказывайте». — «Кум, пошли домой!» — «Вежливости поучитесь сначала!» — «Как тебе этот господинчик нравится?» — «В отхожее его, а не в Пожонь!» *
Такие и подобные беспорядочные выкрики летели из зала. Видно было, что там перемешались друзья и враги.
Сам Катанги растерялся и опять перескочил на другое — стал про интересы Кертвейеша говорить.
«Надувательство одно, жульничество!» — «Ну, будет, будет вам». — «Чушь это все!» — «Да ведите же себя прилично». — «Пустые обещания!» — «И не стыдно так кричать?»
Благонамеренные шикали на буянов, но тщетно: в перепалку вступил весь зал — даже сторонники нового кандидата.
Это был неясный, беспокойный гул, именуемый на профессиональном языке «ропотом». А уж когда море ропщет, мандаты ко дну идут.
В полнейшем отчаянии Катанги схватился за последнюю тему, приберегаемую в уголке сознания. Эта уж верная, эта не подведет.
И прямо на половине фразы, бросив местные дела, вдруг вскричал громовым голосом:
— Когда мне пришлось вкусить горький хлеб изгнания… Сразу стало тихо. Все с удивлением воззрились на него.
Что-то молод больно! *
— Да-да, я родился в изгнании (счастье еще, что здесь нет парламентского Альманаха с биографиями!). Отец мой, доблестный гонвед, изгнанный тираном, скитался на чужбине…
— Бедный старик! — вздохнул Сламович, самый отчаянный из сапожников, и тоже стал слушать.
— Там я родился, там рос — среди чужестранцев, вдали от родных лугов, где другие мои сверстники гонялись за бабочками и цветочки собирали… Однажды, когда мне было уже восемь лет, — мы тогда в Париже жили — к нам приехала тетка, родственница нашего славного венгерского патриота Лайоша Кошута. «Поцелуйте тете ручку, — сказала нам мать (у меня еще братья и сестры были), — она из Венгрии». Мы поцеловали ручку, а тетя раскрыла свой ридикюль поискать для нас конфетку. И вдруг из ридикюля вываливается половинка сдобного рожка — сухая, твердая как камень, но из нашей, выросшей в родном краю пшеницы. Половинка рожка, нашего венгерского рожка! Конфетки тетя не нашла, повздыхала: «Господи, что ж мне вам дать-то, детки?» — «Тетя, а ты рожок нам дай!» И поверите, господа: никогда я ничего слаще, вкуснее этого черствого рожка не едал…
Катанги обвел взглядом внимательно слушавшую аудиторию. Все кертвейешские пекари плакали.
— Встали мы на следующее утро, — продолжал он (а у нас всего одна комната была), — и видим: бедная наша тетушка спит еще, умаявшись за дорогу, а возле кровати башмаки ее стоят. Мы, дети, бросились к этим бесценным башмакам, схватили их и стали подошвы целовать, еще хранившие на себе пыль, священную пыль родной земли…
Катанги снова оглядел зал. Сапожники рыдали в три ручья.
Теперь он овладел общим настроением. Игра была выиграна. Смелая риторическая фигура, и он снова перешел на квоту и на все остальное. Слушали его уже с сочувствием, даже воодушевлением, проводили овацией и на третий день избрали единогласно. Но и в первый уже все сучки и задоринки сгладились, а вечером на банкете в его честь даже Бланди чокнулся с ним:
— Твое здоровье, Флоке! Будем теперь на «ты»!
1896-97
СТРАННЫЙ БРАК
Перевод О. Громова и Г. Лейбутина
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ Студенты в Оласрёске
Читатель, я передаю тебе эту историю в том виде, как она дошла до нас в одной семейной хронике, листы которой даже не успели еще пожелтеть от времени. Летопись эта настолько достоверна, что я счел излишним изменять имена героев или излагать события в приукрашенной форме. Человек, записавший в своем дневнике сию историю, был известен тем, что никогда и никому не говорил неправды. Поэтому нет никаких оснований подозревать его в неискренности с самим собою. Доверия заслуживает каждая строка его записок. Зачем же мне заменять правду досужим вымыслом?
Описание событий в хронике начинается с того, как лет восемьдесят пять тому назад два студента Шарошпатакского университета * на страстной четверг, после обеда, забрели в корчму села Оласрёске. Они направлялись в соседний комитат, в город Борноц, на весенние каникулы. Шли они от самого Патака пешком: тогда еще студенты не были так избалованы, как теперь. Среди учебных пособий первое место занимала бамбуковая палка учителя, а средством передвижения служила пара собственных ног. Что же касается питания, то и в те времена в животе у студента бурчало от голода, даже сильнее и чаще, чем сейчас.
Студенты, оба с бородками и с усами, услышав от хозяйки, посасывавшей трубку, что ей нечем кормить их, состроили кислые мины.
— Н-да, sero venientibus ossa[55], — заметил трактирщик, давая понять, что и он сведущ в кухонной латыни. — Ну что стоило вам, молодые господа, прийти часом раньше? Было у меня сегодня такое рагу, что сам палатин * облизал бы пальчики!
— А может быть, тетушка приготовит нам что-нибудь на скорую руку? — обратился к трактирщице один из студентов, бросив на нее кроткий, просительный взгляд. Та, выпустив из своей трубки облако дыма, великодушно согласилась.
— Ладно уж, есть у меня несколько цыплят, — вон во дворе гуляют. Коли сумеете поймать или палкой подбить парочку, я вам тут же их зажарю.
Отчего же не поймать?! Студент из Шарошпатака может кого угодно и что угодно поймать, даже привидение. Как раз в том самом году Пали Молнар из Левелека изловил одно, а ведь, как известно, у привидения и тела-то, собственно, нет. Цыпленок — дело другое! Правда, на пасху цыплята еще невелики. Ну, да все равно, решили студенты и отправились во двор, где учинили настоящую охоту. Цыплята, почуяв беду, разбежались, попрятались по многочисленным стойлам и насестам, за поленницами дров.
Посреди двора стоял один-единственный экипаж — легкая венгерская коляска с обитыми кожей сиденьями. Постромки у лошадей были отстегнуты, кони до самых ушей уткнули головы в столь популярный в лошадином мире предмет, который люди почему-то прозаически называют торбой, так что слышалось только монотонное похрустывание.
На заднем сиденье коляски, откинувшись на спинку, грелся на солнышке белокурый и голубоглазый худенький мальчик. Въезжая во двор, тележка зацепилась за цветущее миндальное дерево, что росло у самых ворот, и бледно-розовые цветы осыпались прямо на мальчугана. Он подбирал их и развлекался тем, что разглядывал, а затем обрывал с них лепестки. Кучер, хлопотавший возле лошадей, в который раз спрашивал мальчика:
— Может быть, сойдете, Лайош?
— А зачем?
— Может, вина отведаете?
— Нет, не хочется.
Однако, когда на дворе появились усатые студенты и принялись охотиться за цыплятами, мальчик оживился. И не мудрено: не так уж часто можно встретить шарошпатакского студента, а тут сразу двое, да еще гоняются за цыплятами!
Он слез с повозки и живым взглядом умных глаз стал наблюдать за каждым движением студентов, которые носились за стайкой цыплят, стараясь загнать их в какой-нибудь угол, где их легче было бы поймать или подбить палкой.
Вскоре собралось немало народу поглазеть на столь веселое и необычайное зрелище. Через забор заглядывали соседи, а две игривые девицы, Агнеса и Панни, бросили на кухне мыть посуду: их-то больше, чем кого-либо, интересовали молодые красивые баричи. Агнеса даже знала одного из них, худощавого (отец его был очень важным барином).
Шум на постоялом дворе привлек и Дюри Сабо, гайдука * при уездном начальнике. Сабо, правда, всегда можно было встретить неподалеку от трактира, куда его неудержимо притягивал какой-то злой дух, обитавший в его ненасытной глотке. Однако на этот раз гайдука привлекли шум и возня во дворе. Грешно было пропустить такое представление и не поглядеть, как голодные студенты ловят цыплят. Ага, есть! Эх, проклятый, опять из самых рук выскочил!
Поднялся хохот, градом посыпались насмешки. Ну еще бы, ничего толком не умеют студенты! Этому искусству нужно учиться не у господина профессора Кёви. Лучшие мастера в таких делах лисица да хорек!
Вышел и сам хозяин корчмы, удивительно походивший на свою жену. Отличались супруги друг от друга лишь тем, что одна носила юбку, а другой — штаны, да разве еще манерой держать трубку: он — в левой руке, она — в правой, горделиво упираясь при этом свободной рукой в бок.
— Э-эй! Осторожнее с палками, господа! Смотрите не подбейте любимого петуха моей жены, а то беды не оберешься. Эй, Наполеон! Спасайся, Наполеон!
Среди носившихся по двору птиц разгуливал большой петух с огромным гребнем, своим ярким оперением напоминавший фазана; на длинном белом пере, торчавшем из его пышного хвоста, печатными буквами было написано: «Виват Наполеон Бонапарт!»
— Бейте вон ту, шафранного цвета, или белую! — закричал хозяин корчмы. — Вон, вон она к стойлу бежит…
Видя, что все старания студентов подбить цыплят остаются безрезультатными, гимназист вынул из кармана пращу, вложил в нее камень и, раскрутив, отпустил ремешок. Камень, как стрела, засвистел в воздухе и угодил прямо в маленькую глупую головку цыпленка; завертевшись на месте, цыпленок испустил дух. А может быть, ему повезло больше, чем другим его пернатым собратьям: по крайней мере, ему не суждено было ни охрометь, ни умереть под ножом повара. Он пал славной и мгновенной смертью на поле брани, во время великого похода против куриного племени.
— Valde bene![56]— одобрительно воскликнул хозяин корчмы. — Так могут стрелять только бог да господин Дёри! (В ту пору Вильгельма Телля еще не изображали на игральных картах в виде червонного валета, иначе трактирщик знал бы его.)
Гимназист вложил в пращу другой камешек, взмахнул рукой — и белый цыпленок тоже отдал богу душу.
— Больше не нужно? — несколько рисуясь, спросил мальчик.
Высокомерие его вызывало улыбку. Подумать только! Такой малыш, а посрамил двух взрослых студентов — «Больше не нужно?»
К счастью, они не слышали, что сказал мальчик, даже не заметили его самого: студент-юрист из Шарошпатакского университета — слишком важная персона, чтобы обращать внимание на мальчишку-гимназиста. Скорее лев разглядит муравья на песке, у себя под ногами, чем студент из Шарошпатака заметит гимназиста. Что невозможно, то невозможно. Есть на свете вещи несравнимые!..
Впрочем, один из студентов, коренастый, белокурый и круглоголовый, приблизился к мальчику и снисходительно потрепал его по плечу:
— А здорово ты их! Ну, расти большой, братец!
Только всего он и сказал, ни слова больше. Однако совет этот пришелся мальчишке по душе, и он так принялся расти, что когда двадцать пять — тридцать лет спустя круглоголовый вновь увидел его и признал в нем юного стрелка, то глазам своим не поверил.
— Как зовут мальчика? — небрежно спросил он, проходя мимо кучера, уже отвязывавшего торбы.
— Лайошка Кошут — отвечал кучер.
— Ловкий малый! — просто заметил круглоголовый. Он в первый (но не в последний) раз слышал это имя. — Гимназист, не правда ли?
— Ага.
— Где он учится?
— В Уйхее.
Тем временем студент постарше, хрупкий, изящный, с тонкими красивыми чертами лица и немного застенчивый, собрал подбитых цыплят и уже было торжественно понес их хозяйке, но тут девица Агнеса выхватила у него из рук птиц, говоря:
— Давайте сюда, граф, у меня как раз есть горячая вода, я их мигом ощиплю.
На кухне сразу же поднялась суматоха: весело зашипел на противне жир, захрустели сухари в ступке, послышался треск яичной скорлупы — словом, зазвучала музыка, которая наиболее приятна уху голодного студента.
Однако рок судил иначе. В книге судеб было написано, что совсем ничтожная случайность должна помешать обеду в корчме. Для этого не так уж много нужно: например, самая обыкновенная домашняя кошка может утащить с кухни жаркое. В руках судьбы в подобных случаях даже кошка — великая сила, способная нарушить нормальный ход событий. Но сейчас трапезе помешала не кошка, а господин уездный начальник, которого судьба обычно держала для более скверных проделок.
В ту пору должность уездного начальника занимал барон Иштван Дёри. В тот самый момент, когда в корчме принялись жарить цыплят, он сидел на террасе своего замка и беседовал с представителями села Бенье — старостой Мартоном Жомбеком, присяжными Габором Коппанто и Михаем Сабо, которые стояли перед ним, почтительно сняв шляпы.
Иштван Дёри был человек преклонных лет и имел довольно странную внешность: большой живот и маленькая голова на сухой, тонкой шее делали его похожим на скрипку. Никто и не поверил бы, что Дёри был когда-то военным. Между тем он почти всю жизнь прослужил в армии, и на совести у него было немало грехов; служил он не только нашему императору, его величеству Францу *, но и другим правителям, в других государствах. Он посетил многие страны, плавал по разным морям, но нигде не оставил по себе доброй памяти. Побывал он даже у сарацин. Старый камердинер Дёри рассказывал, что однажды его хозяина едва не съели дикари. Вполне возможно, что именно так и было, они успели общипать его (в Оласрёске он вернулся совсем лысым). Почему дикари не съели Дёри, бог ведает, — по крайней мере, не сидел бы сейчас на нашей шее.
Словом, Дёри разбогател за счет народа. В упомянутый час он находился на террасе и слушал прибывших к нему с докладом властей села Бенье. Сообщили они и о том, что вино с общинных виноградников, принадлежащих селу, они продали. Понаехали купцы из Бестерцебани и скупили из общественных погребов все запасы вина, скопившиеся за последние десять лет. Изрядное количество звонкого золота отвалили они за жидкое золото — вино. Нынче самое подходящее время продавать токайское. Ведь в этом году сменился в Константинополе султан, рассказывал барону староста, а новый султан сразу берет себе в жены триста девушек. Этакий распутник! Вот и празднуют триста свадеб подряд, и вина требуется немало.
— Ты спятил, Жомбек, — со смехом заметил барон. — Турки не пьют вина.
— Не верьте им, ваша милость.
— Сколько же заплатили за вино скупщики?
— Да за все разом — две тысячи форинтов отвалили.
— Бре-ке-ке! — воскликнул барон. Это восклицание означало в его устах высшую степень удивления. Даже лягушек обобрал Дёри, позаимствовав у них кваканье. — И куда же вы дели такую уйму денег?
— Да в надежном месте спрятали.
— Не лучше ли было положить их в кассу комитатского управления? — возмутился уездный начальник. — Там их хранили бы в несгораемом шкафу!
Тут заговорил Габор Коппанто, которого староста Жомбек незаметно подтолкнул локтем:
— Мы так считаем, ваше высокоблагородие: если казна что-нибудь проглотит, то уж не выплюнет.
— Как ты осмеливаешься так отзываться о комитатских властях, — прикрикнул на него барон. — Глупо вы сделали! Вы же знаете, что в Бенье полно воров. Да таких, что они даже у библейской старушки готовы выкрасть последнюю каплю священного масла из ее бездонного сосуда. Только старая Сибилла была достаточно умна и держала свой кувшин с маслом не в Бенье. Впрочем, и окрестности не лучше! Рыщет там разбойник Яношик с одиннадцатью молодцами. Ему все известно. На прошлой неделе Яношик велел через своего человека передать моему куму Анталу Докушу, чтоб тот послал ему два куска сала и новые сапоги. Сало-то Докуш послал, а насчет сапог велел сказать, что новых у него нет. Тогда Яношик передал Докушу: пусть он голову ему не морочит, ведь новые сапоги лежат-де у него в спальне на диване. Так оно и оказалось: в полдень принес их из Уйхея цыган-письмоносец вместе с жестяным ящиком для писем, а слуга Докуша, ничего не сказав барину, положил сапоги на диван. Посудите сами, можно ли в наше время держать деньги дома?
— Мы-то свои денежки хорошо охраняем, — стоял на своем староста, поправляя гребенку, придерживавшую его волосы. — Днем и ночью караулит стража в сельской управе: один часовой внутри, другой снаружи.
Двое крестьян тоже подтвердили, что стража, вооруженная железными вилами, действительно стоит и в помещении и снаружи.
Но барон не сдавался и на самые веские их аргументы находил еще более веские возражения.
— Это ничего не значит! Поняли? Часовой тоже человек: его можно уговорить, можно подпоить, женщину подослать, чтоб обольстила его сердце. А уж если овладели сердцем, тут и совесть не устоит!
Мартон Жомбек продолжал загадочно ухмыляться.
— Мы и об этом подумали.
— Каким образом? — удивился Иштван Дёри.
— Гм, — отозвался староста и оглянулся, не подслушивает ли кто чужой, а затем хитро подмигнул одним глазом. — Так ведь деньги-то лежат совсем не там, где стоит стража, а в другом месте.
Расхохотался барон над этой мужицкой хитростью и отпустил сельских представителей с миром. В это самое время мимо имения барона проходил гайдук Дюри. Барон Дёри очень любил поболтать и был весьма любопытен, поэтому он тут же вступил с гайдуком в беседу.
— Какие на селе новости, братец? Где был, что видел?
— Видел двух студентов в корчме, ловят во дворе цыплят.
— Цыплят? Не сырыми ли они собираются их есть?
— Хозяйка корчмы разрешила поймать цыплят, пообещала их зажарить. Студенты голодны, как волки, а между прочим — из господ. Один даже граф.
— Бре-ке-ке! — с живостью откликнулся барон. — Не знаешь, как их зовут?
— Нет, не знаю.
— Ну тогда беги в корчму и тащи их ко мне обедать. Бренные останки цыплят уже плавали в кипящем жире, который сердито шипел, пузырился и брызгал, когда в корчму вошел гайдук и передал студентам, что его высокоблагородие барон Дёри приветствует их и приглашает отобедать у него. И просит поспешить, потому что уже накрывают на стол.
Студента нетрудно соблазнить вкусным обедом; оба юноши готовы были тотчас же отправиться вслед за гайдуком, но предварительно они хотели дипломатично уладить дело с хозяином корчмы, чтобы не обидеть его своим уходом.
— Ну что вы! — отвечал трактирщик. — Разумеется, у барона обед лучше, а добрый обед всегда лучше плохого.
— Что верно, то верно! Но все же, сколько мы должны вам за цыплят?
— Кто не ест, тот не платит, — сердито ответил хозяин.
— Но ведь цыплят-то вы лишились и оказались в убытке.
При этих словах трактирщик Дёрдь Тоот пришел в замешательство и даже покраснел, оттого что студентам удалось его переспорить. Но тут же он погладил себя по животу и не без некоторой обиды ответил:
— Не за того вы меня принимаете, господа! Разве я похож на какого-нибудь тщедушного портного? Я, мои дорогие, на дню по три-четыре обеда съедаю, вот и эту парочку цыплят съем с солеными огурцами.
Что за чудесный это был мир! Его уж не вернуть!
Уладив дело с хозяином, студенты распрощались и с хозяйкой. Та расчувствовалась, словно с давнишними знакомыми расставалась, и взяла с юношей слово, что на обратном пути в университет они непременно ее навестят. К тому времени, добавила он, подрастет новый выводок цыплят.
Наконец студенты отправились в замок, красная крыша которого выглядывала из-за деревьев.
Боже милостивый! И замки в то время были иные. Суровой воинственностью веяло от их гордо высившихся белокаменных стен. От самых ворот начиналась аллея могучих, выстроившихся, как солдаты на параде, тополей, по двору важно расхаживал павлин, волоча за собой тяжелый шлейф великолепного оперения. Все было исполнено торжественной тишины и достоинства. Казалось, столетние дубы не пропускали в парк скрип крестьянских телег, проезжавших по дороге. А в раннюю весеннюю пору, когда дубы не успевали еще одеться листвой и налетал ветер, их голые ветви стучали одна о другую — тук-тук, тук-тук, — и казалось, это уже не ветки деревьев стучат друг о дружку, а где-то вдали по дороге идут куруцы Ракоци *.
О Земплен, Земплен! Благословенна каждая пядь твоей земли. По ней бродят величественные тени куруцев. Нет, они не исчезли. Вон они расположились лагерем в долинах, под сенью невидимых шатров. Земля и поныне принадлежит им, а не тем, кто на ней обитает. У живых только одна цель — дождаться призыва усопших героев. Каждый куст, каждая пядь земли хранят и будят воспоминание о них. Чу, где-то слышится конское ржание. Что это? Видишь след на затерянной лужайке? Не след ли это желтого сапога? Да, да, они здесь! Выходят из тумана, скользят между деревьями, появляются у родников. Когда-то мифология населяла леса и родники фавнами, наядами, кобольдами. Христианство изгнало их. Опустела земля, ах, как она опустела! И только на этом маленьком клочке ее вновь возродился древний языческий мир, населенный, однако, не уродливыми фавнами, а прекрасными богатырями. Они живут, они ходят здесь, в шепоте леса слышны их голоса, — они не могут исчезнуть, не должны исчезнуть. Ибо если они когда-нибудь исчезнут, то для живых это будет равносильно смерти.
А — замки, усадьбы! Путник, если во время своих странствований ты увидишь где-нибудь их старые стены, остановись и сними шляпу! Не ради их нынешнего владельца: он, возможно, недостоин этого — играет в карты, курит трубку, рыгает от обжорства. Но замок! Ведь замок уже давно перестал быть родовым гнездом его владельца, который, быть может, только вчера за глаза купил его по предложению какого-нибудь ловкого маклера, а завтра уже поспешит продать, если почувствует, что сможет на этом нажиться. Старое поместье не следует отождествлять с именем того, кому оно принадлежит ныне; можно ли не думать о тех, кто жил здесь прежде, и о тех, кто поселится тут в будущем. Отсюда тянутся нити, из которых загадочный челнок судьбы ткет на станке времени полотно истории.
А как едали в этих поместьях! Готовилось и поедалось такое множество всевозможных кушаний, что печные трубы почернели от сажи. Да, что и говорить, много крестьянского пота было пролито на полях, чтобы из дворянских кухонь день и ночь валил дым. Печная труба — алчный грабитель! Зато как гостеприимны ворота! Впрочем, потому-то и приходится дымоходу быть грабителем, что всегда широко распахнуты ворота…
Но ворота отворялись не только для того, чтобы впустить гостя. Когда за оградой раздавался призывный звук боевой трубы или перед замком проносился всадник с окровавленным мечом, тогда седлали самого красивого коня, в седло вскакивал самый удалой член семьи, и ворота скрипели на старых петлях, выпуская его из замка. Вслед ему махали белыми платочками седовласые господа и матроны, девушки в шелковых башмачках и их маленькие братишки; махали до тех пор, пока он не скрывался из виду. Потом он возвращался или уже не возвращался совсем. Но если однажды вновь раздавался звук трубы (а он раздавался очень часто), старые ворота опять отворялись: это означало, что в замке подрос еще кто-то и готов выйти на бой…
Гайдук провел студентов через сад. Стояла ранняя весна, деревья в парке были еще совсем голые. Распустились только абрикосы, да ели весело кивали своими пышными вечнозелеными ветвями. У парников хлопотал садовник. Выкопав из земли свежую спаржу, он хвастался ею перед гайдуком. Садовник довольно улыбался, и на лице его отражалось сознание власти, которой обладал он над землей. Всем своим видом садовник, казалось, говорил: «Смотри, как я командую матушкой-землей, как я дурачу ее. Пришлось ей родить помимо воли. Она дала бы спаржу только в мае, а я приказал ей — и вот вам спаржа, хотя на дворе еще только апрель».
Впрочем, все господские сады похожи один на другой: они скучны и печальны. Бедняжки-растения живут здесь как пленники. Ведь господа и на растения смотрят как на своих крепостных, а потому обращаются с ними самым бесчеловечным образом. Там, где растения не покоряются их произволу, господа прибегают ко всевозможным ухищрениям с землей. Тиран находчив, настойчив, упорен. По-настоящему привольно живется растениям только в лесу да в крестьянских садах: там мальва распускается, когда ей самой того захочется, земля там — настоящая мать для растений, а не наемная кормилица, — она добровольно кормит их своей грудью. Бросит в землю какая-нибудь Бешке или Панни горсть семян фиалки или воткнет веточку герани, и если примет их земля — взрастит, а не захочет — тем дело и кончится. Однако чаще всего земля ласково принимает семена растений и вскармливает их, как любящая мать. И такой стойкий запах будет у этой герани, что и внучка, открыв молитвенник своей бабушки, еще в молодости заложившей в него веточку, ощутит нежный аромат цветка. А как плохо растениям в декоративных барских садах! Елям в них слишком тепло, а фикусам чересчур холодно. Все они чувствуют себя там невольниками. Печально кивают друг другу хилые цитрусы и иные столь же несчастные экзотические растения. Здесь они должны расцвести так же пышно и ярко, как некогда на другой земле и под другим небом.
Гости подошли к беседке, какие встречаются во всех помещичьих усадьбах. Столиком здесь служил пень спиленного дерева. На нем лежала гитара с перевязанным голубой лентой грифом.
— Как, в доме есть барышня?
— Да, баронесса Маришка.
— Замечательно! — заметил круглоголовый студент.
— Что ж тут замечательного? — возразил его товарищ. — Если в доме есть барышня, да еще с гитарой, то у нее наверняка найдется и альбом. Раз есть альбом, то нам с тобой придется сочинять в него стихи. А это уже совсем плохо.
— А что тебе стоит? — рассмеялся круглоголовый.
— Хорошо тебе смеяться, ты — поэт! — с досадой воскликнул товарищ. — Что до меня, я предпочел бы дрова колоть, чем рифмы нанизывать. Впрочем, со своим «Восшествием Ракоци в рай» ты тоже уже имеешь некоторый печальный опыт на поэтическом поприще, — добавил он, весело смеясь. — Двое суток карцера — не шутка!
Намек этот касался стихотворения, в котором круглоголовый описывал восшествие князя Ракоци на небо. Этот скандальный случай стал известен всему Патаку. Возможно, никакой беды и не случилось бы, если на уроке не присутствовал бы барон Тугут *. В стихотворении юного поэта говорилось о том, как апостол Петр пришел ко всевышнему, восседавшему на небесном троне в пурпурной мантии, и доложил о том, что прибыл Ференц Ракоци II и ожидает у врат рая. «Можно ли его пропустить?» — спрашивает Петр. «Конечно, — отвечает господь. — Погоди! Я сам пойду его встретить, вот только надену атиллу». В этом-то и заключалась соль рассказа. Барон Тугут, всемогущий государственный муж, пришел в ярость и крикнул профессору: «Это богохульство! Школяра нужно наказать! — Затем повернулся к мальчику и резко заметил: — Если тебя не повесят когда-нибудь, то все равно тебе не придется долго ходить по земле, — ты не почитаешь отца нашего, господа бога».[57]
Дорожки в парке были посыпаны гравием, который весело поскрипывал под ногами. Пряный аромат весны опьянял юношей. Воздух был наполнен необычайно сладким дыханием деревьев и садовых растений, приятно щекотавшим ноздри.
Тут зазвенел колокольчик.
— Уже зовут к столу, спешите, господа! — поторопил их гайдук.
ГЛАВА ВТОРАЯ Барон Дёри и его семья
В этот момент из глубины каштановой аллеи показался старый барон; он устремился к гостям, еще издали протягивая им навстречу руки, что делало его похожим на собравшуюся взлететь птицу.
— Ну, сервус! * Что ж это такое? — приветливо воскликнул он. — От венгерской матери вы родились или же вас вскормила своим молоком какая-нибудь дикая коза? Разве вы не знаете, к кому нужно являться по приезде в село? Ах вы, черти полосатые! Ну да ладно, рассказывайте коротенько, кто вы и откуда.
— Граф Янош Бутлер, — представился старший, худощавый студент.
— Бре-ке-ке! Молодец! Да я был близко знаком с твоим покойным отцом. Как он похож на тебя! То есть, разумеется, ты похож на него. А впрочем, все равно. Мы были вместе с ним под Урзицем и сопровождали императора Франца, когда тот ездил просить мира у Наполеона.
Пока они втроем шли к дому, Дёри успел рассказать об этом знаменательном событии.
— Ах, как тонко умели лицемерить короли! Видно, кому бог даровал корону, тому отпускал и ума. Так оно и для самого бога спокойнее. Подъехали мы, стало быть, к самым аванпостам французов, к одной старенькой мельнице. Там располагалась штаб-квартира Бонапарта. Наполеон вышел к нам, обнял нашего императора и с шутливым упреком сказал: «Вот каковы хоромы, в которых ваше величество три месяца заставляет меня жить!» Наш император скромно и вежливо ответил на это: «Однако, сир, вы здесь не теряли времени даром и вам не приходится быть на меня в обиде». Затем они снова обнялись, а твой отец наклонился ко мне и шепнул на ухо: «Я всегда считал, что нет на свете хуже ремесла, чем у сапожника, потому что ему приходится иметь дело с вонючим клеем. Только теперь вижу, как я заблуждался». Так и сказал, передаю слово в слово. Вот какой насмешник был твой отец. Ну, а ты чей сын? — обратился он к другому студенту.
— Я сын Берната из Борноца, Жигмонд Бернат.
— Ага! — со смехом воскликнул барон. — Уж не ты ли тот знаменитый щелкопер, который господа бога обрядил в венгерскую кацавейку? Ну и большую же голову унаследовал ты от родителя! Впрочем, я выразился не совсем точно: у отца, конечно, тоже осталась голова на плечах… Между прочим, будущее принадлежит круглоголовым… Ты, как видно, направляешься домой на каникулы?
— Совершенно верно, сударь.
— И братец Янчи тоже с тобой?
— Да, он проведет у нас пасху.
— Но ведь у него в Патаке опекун, не правда ли?
— Да, господин Иштван Фаи.
— Ну, а когда вы собираетесь попасть домой?
— Сегодня ночью.
— Нет, милые мои, из этого ничего не выйдет. Однако уже звонят к обеду, так что прошу прямо к столу.
В столовой гостей ожидали дамы — баронесса Маришка и ее гувернантка, обе одетые по тогдашней моде, с греческими прическами — две завитые пряди, ниспадавшие локонами, обрамляли их лица. Дамы того времени не имели ни пышных бедер, ни резко очерченных талий. Линия талии проходила очень высоко, почти под мышками, и это считалось красивым хотя бы уж потому, что такие платья носили в Париже, а к тому же в них было заключено женское тело. А сообразительный человек сам сумеет разобраться, где что начинается и где кончается.
Хозяин дома поспешил представить студентов, на которых барышня бросила робкий взгляд из-под пушистых ресниц и тут же опустила глаза, склонившись в принятом тогда глубоком реверансе. Девушка была недурна собой, но холодна как лед. У нее был чуть выдававшийся вперед подбородок, однако его украшала миловидная ямочка; лоб был, пожалуй, чересчур крутой, что, впрочем, даже шло к ее лицу. О фигуре барышни, говоря по совести, тоже нельзя было сказать ничего плохого, а забавная привычка постоянно покусывать губы делала ее похожей на горячую арабскую лошадку.
— Мадам Малипо, — представил барон гувернантку баронессы.
Мадам Малипо по какому-то капризу природы походила на Доротею Михая Чоконаи * (в ту пору каждый студент носил при себе в списках стихи Чоконаи).
Позади беседующих снова послышался шелест платья, на этот раз оказавшегося сутаной, застегнутой на все пуговицы от ворота до самого подола и скрывавшей ладную фигуру приходского священника Яноша Сучинки. Попик был смазлив, молод, голубоглаз, с розовощеким лицом и уже наметившимся вторым подбородком. На губах его играла тонкая, ехидная улыбка. Внешностью своею он смахивал скорее на придворного французского аббата восемнадцатого века, чем на венгерского сельского попа.
— А, граф Бутлер! — воскликнул он, кланяясь, когда ему представили гостей. — Старинный, знатный род! Если я не ошибаюсь, один из Бутлеров заколол Валленштейна *.
— Ах, лучше бы он этого не делал! — отозвался граф Янош с грустной улыбкой. — С той поры на Бутлерах лежит проклятие.
— Ну, дети, пора, пора к столу. Янош, сынок, ты сядешь рядом с моей дочерью, а ты, Жига, подле святого отца. Уж он-то потешит тебя анекдотами.
Всего к обеду собралось шесть человек, хотя стол был накрыт на семь персон. Когда все уселись, из-под стола вдруг вылез хозяин седьмого прибора и вспрыгнул на свой стул. Оба студента вздрогнули от неожиданности. Это была обезьяна шимпанзе, которую хозяин привез с острова Борнео, вернувшись из своих странствований; он баловал ее и приучал ко всякого рода проказам. Мадемуазель Маришка поднялась со своего места и повязала обезьяне на шею салфетку, за что шимпанзе вознаградил девушку благодарным взглядом.
— Подожди, Кипи, еще горячо для тебя… Понимаешь, суп еще горяч.
У баронессы был приятный, звучный голос. Обезьяна поняла хозяйку и принялась дуть в тарелку, оттопыривая свои отвратительные губы. Затем она схватила в лапы нож, ложку и вилку, но не удержала, и они со звоном полетели на пол. Поднимать с пола столовые приборы, которые роняла обезьяна, входило в обязанности мадам Малипо. Вот почему Кипи в отсутствие мадам Малипо называли «мосье Малипо». Это прозвище придумала Маришка, и благодаря ей оно распространилось затем в богатых домах села Рёске.
За супом старый барон не преминул сообщить о том, что он привез шимпанзе с Борнео. Когда же подали второе, он начал рассказывать о своих военных похождениях; рассказы эти он любил приправлять необыкновенно пикантными подробностями, и даже к истории о шимпанзе приплел любовный эпизод. Барон то и дело вспоминал о женщинах самого различного цвета кожи — белых, черных, креолках; при этом, спохватившись, он говорил дочери:
— Дочка, дорогая, выйди-ка на минутку в соседнюю комнату!
Маришка покорно вставала и, потупив взор, удалялась; только несколько минут спустя она решалась заглянуть в столовую, спрашивая:
— Мне уже можно войти, папочка?
Если же случай предстоял чересчур пикантный, барон высылал и попа:
— Святой отец, выйдите-ка и вы в соседнюю комнату, да смотрите не вздумайте подслушивать у замочной скважины!!
Надо сказать, что барон был солдатом до мозга костей. Столовую в его доме украшали исключительно предметы военного снаряжения: сабли, кинжалы, ружья, булавы. Картины здесь тоже были подобраны по его вкусу. Преимущественно это были изображения полководцев: полковника Йожефа Шимони * в пестро расшитом доломане; прославленного венгра Михая Шарлаха — розовощекого, полного мужчины в белом мундире, украшенном орденами, самого бравого генерала во всей австрийской армии; Евгения Савойского — с головой, похожей на слегка помятую грушу. Из натюрмортов, украшающих обычно господские столовые, был только один, принадлежавший кисти Купецкого * и изображавший прекрасно выписанную тыкву с пышной зеленью. Многозначительно подмигивая, барон любил уверять, что это тоже военный портрет. Однако только самым близким людям он решался шепотом добавить, что это портрет императора Франца.
Хотя отставной капитан и был любителем поболтать, он ни на минуту не забывал о своих обязанностях хозяина, и пока работал его язык, руки не уставали наполнять бокалы замечательными токайскими винами. Ах, эти вина! Когда пьешь их, кажется, что огонь разливается по жилам.
Тем временем на стол подали поросенка с подрумяненной хрустящей корочкой. Поросенок — истинный пособник вину. Лежа на блюде, он, казалось, вот-вот хрюкнет напоследок: «К ррюмкам, к ррюмкам, к ррюмкам!»
Сам хозяин, как выяснилось, тоже когда-то учился в Патаке. За обедом он даже вспомнил кой-какие стишки, большей частью вакхического содержания, — например, о том, как апостол Павел отправился в Рим; на плече у него была палка, а на палке фляжка, и он усердно потчевал апостола Филиппа. При исполнении этой потешной песенки всегда можно было вместо Филиппа поднести бокал соседу, который обычно и выпивал предназначенную Филиппу порцию. Поп в шутливом негодовании только покачивал головой:
— Ай-яй, милостивый государь, нехорошо кощунствовать…
— Что вы, отец, я не кощунствую. Мне только хочется, чтоб мои дорогие гости на славу повеселились и в другой раз не избегали Иштвана Дёри.
Жига Бернат тут же заверил хозяина, что они вовек не забудут такого сердечного приема.
— Больше никогда не будете обходить моего дома?
— Никогда.
— Руку, ребята!
— Зайдем, дорогой дядюшка!
— А ну, клянитесь: «Пусть лопнут наши глаза, если мы не приедем!»
— Пусть лопнут, — повторил за ним Янош Бутлер.
— А на обратном пути тоже заглянете?
— Конечно.
— Ну и отлично. Рука благородного человека не то, что лапа Кипи (шимпанзе, так же как и все присутствующие, жевавший жареного поросенка, заворчал). Ну, ну, Кипи, не сердись. Готов признать, что и ты джентльмен!
Вино развязало языки, и студенты стали более словоохотливы. Один анекдот следовал за другим. Барон хохотал, держась обеими руками за свой большой живот. Порой он хватал рассказчика за пуговицу и спрашивал с беспокойством:
— Постой, постой, а не лучше бы Маришке выйти?
— Нет, нет, помилуй бог!
Такой ответ, казалось, даже огорчал барона, словно от этого анекдот терял свою остроту.
Анекдоты — что болотные цветы. Обычно они произрастают из грязи и тины. Но анекдоты патакских студентов выросли на другой почве: пищей для них явилось посещение университета канцлером Тугутом.
Рассказывают, что эрцгерцог Карл, намереваясь проследовать через Патак, выразил желание посмотреть на знаменитых патакских студентов. «Я хотел бы, — сказал он Тугуту, — чтоб вы отдали соответствующее распоряжение». У барона Тугута язык не повернулся признаться, что, при всем своем могуществе, он не может заставить студентов выйти на улицу. Тогда он прибегнул к хитрости: послал в Патак приказ, чтобы, когда прибудет в город сопровождаемый им эрцгерцог, ни один студент не смел показаться на улице. В результате на улицах выстроился весь университет, выползли даже тяжелобольные.
— Правда ли, что студенты при этом пели «Марсельезу?» — спросил священник.
— Разумеется, некоторые пели.
— А правда, что Тугут запретил студентам исполнять гимн?
— И это правда, но студенты придумали новый текст. Хотя он и лишен всякого смысла, зато не запрещен. И теперь его распевают повсюду на мотив «Марсельезы».
— Это и я не прочь бы послушать! — воскликнул уездный начальник.
— Ну что ж, мы с удовольствием споем, если прикажете.
— А Маришку не нужно выслать?
— Нет.
— Промочите-ка горло и начинайте. Мы вас слушаем.
И оба студента затянули на мотив «Марсельезы» некий бессмысленный набор слов.
Сковородка, кастрюля, каталка, Фрау Муттер, Фрау Муттер! Черпак, Крампапули, лимонад, чашка кофе, Пунш, яичница, сосиски кусок…Студенты пели с таким воодушевлением, что, казалось, волосы у них стали искриться.
Шимпанзе тоже навострил уши; что касается мадам Малипо, то величественные и воодушевляющие звуки гимна вызвали у нее слезы.
— Боже мой, — воскликнула мадам Малипо, — какой восхитительный перевод!
Действительно, несмотря на полную бессмыслицу, этот «перевод» не только соответствовал ритму мелодии, но и в звуковом отношении подражал оригинальному французскому тексту. Боже, какой ритм! И пародия не смогла испортить его. Как он зажигает кровь! Это же вопль души взбунтовавшегося великана! Даже шимпанзе как-то заволновался; он торопливо и неловко пытался освободиться от повязанной на шее салфетки, словно собираясь ринуться на штурм Бастилии.
Глаза молодого священника заблестели, и, словно уступая какой-то неведомой силе, он сел к роялю, чтобы сыграть восхитительную мелодию Руже де Лилля.
— Да, такую музыку мог создать только солдат! — хвастался старый барон и даже прищелкнул пальцами. — А знаете, мадам Малипо, чего не хватает сейчас?
— Кофе?
— К черту кофе! Не хватает «Карманьолы»! Вы наверняка умеете отплясывать этот танец, мадам! — добавил он, смачно засмеявшись, и тут же принялся тихонько напевать: «Красотки наложили запрет…»
Мадам Малипо покраснела до корней волос и поспешно покинула столовую.
Ну разве можно было сердиться на старика? У этого веселого господина добродетели странным образом перемешивались с пороками. О нем, как и о деньгах императора Франца, никто не решился бы с уверенностью сказать, из серебра он сделан или из меди. В его натуре сочетались хитрость и наивность, жадность и щедрость, доброта и злость; только никто не знал, в какой пропорции наличествовало каждое из этих качеств. Поп, будучи ежедневным гостем в доме барона (он обучал баронессу музыке и другим изящным искусствам), хорошо знал старика и так характеризовал его: «Из барона вполне могли бы выйти два человека — святой епископ и нехристь-разбойник».
Что касается студентов, то им хозяин дома очень понравился, потому что, на их взгляд, в нем жил еще и третий человек — старый прожигатель жизни. И юноши почувствовали себя в его доме совершенно свободно, в особенности Жига Бернат, который после обеда решил даже слегка пофлиртовать. Он подсел к баронессе Маришке и попробовал завести с ней беседу. Поддерживать разговор всегда считалось в Венгрии неблагодарным занятием. Этим искусством не владели ни девушки, ни мужчины. Девушка, обладавшая красивыми глазами, предпочитала вести разговор с их помощью: она то поднимала, то вдруг потупляла их. Можно было и рассмеяться иногда, но так, чтобы не показать зубов, ибо это считалось неприличным. У мужчин в запасе были только две темы для разговора: о погоде и о том, «что вам сегодня приснилось?». Те остроумные диалоги, которые встречаются в романах, в действительности никогда не произносились. Они подобны деревьям на картинах Рафаэля, ведь таких деревьев природа тоже никогда не создавала!
Молодые люди вообще беседовали редко (девушка получала возможность вдоволь наговориться лишь по выходе замуж), и разговор между ними был донельзя примитивен, то и дело наступали длинные паузы, нарушаемые вопросами, вроде: «О чем вы сейчас думаете, мадемуазель?» А та, вздрогнув, отвечала: «Угадайте». — «Ах, боже мой, если бы я мог знать!»
Молодой человек держал пряжу, а барышня сматывала ее в клубок. Такое занятие было уже первым шагом на пути к вратам «серьезных намерений». Юноша держал пряжу и смотрел на девушку. Забавно!
Разве могли они болтать так много, как нынешняя молодежь?! Они не смели обмениваться мыслями, говорить вслух о своих идеалах. Особенно это касалось девушек. Эти маленькие хитрые создания притворялись такими простушками, что казались овечками, неспособными и воды замутить. Но, как бы там ни было, замуж они все же выходили.
Сам Дёри часто поучал дочь:
— Говори, моя дорогая, как можно меньше, а еще лучше — совсем ничего не говори. Если ты не скажешь чего-либо, о чем, на твой взгляд, следовало бы упомянуть, у тебя еще будет случай поговорить об этом. А вот если ты сболтнешь то, о чем следовало бы промолчать, тут уж ничем делу не поможешь.
Однако на сей раз в виде исключения баронесса была разговорчива. Особый интерес она проявила к графу Бутлеру, весь облик которого носил на себе печать какой-то меланхолии.
— Вы суеверны, граф?
— Из чего вы это заключили?
— Из вашего ответа святому отцу, что на Бутлерах лежит проклятие. Почему вы так думаете?
— Есть поверие, к сожалению, сбывающееся, что с той поры в нашем роду все несчастливы.
— Тем больше оснований думать, что как раз вы будете счастливы.
Граф Янош грустно улыбнулся. Баронесса поправилась:
— По крайней мере, мне так кажется.
— Почему? — рассеянно спросил граф.
— Чем дольше стоит ненастье, тем вероятнее, что скоро наступит ясная погода.
— В этом есть своя логика.
— А знаете ли вы, — продолжала девушка, — что за свой грех ваш предок должен известное время провести в чистилище? Там блуждает его грешный дух. Но когда придет искупление и душа предка очистится, с вашего рода будет снято проклятие.
— Этому вас святой отец обучил? — рассмеялся граф Янош.
— Вы, кажется, не верите в духов?
— Бог весть! Я никогда не задумывался над этим. А вы верите?
— Разумеется. Оставайтесь у нас ночевать, и я обещаю вызвать вашего предка. Если же он не сможет появиться, я спрошу обо всем у духов стола. Так или иначе, но мы будем знать, лежит на вашем роде проклятие или нет.
— Хотел бы я это знать!
— И узнаете. Только для этого нужны барышни Ижипь.
— Где ж я их возьму?
— Да нет, их нигде не нужно брать. Это две старые девы, похожие на высохших мумий. Они отличные медиумы. Их пальцы излучают флюиды. Барышни живут вон там, в желтом доме возле церкви. Они обычно приходят по вечерам, когда у нас гости.
Так уж заведено в селах. Люди скучают и от скуки становятся не в меру любопытными. С быстротой пожара по селу распространилось известие, что у Дёри в гостях молодые люди. Первым слух об этом пустил гайдук Дюри, сообщивший: «Один-то из них граф». Ну, а другой? Кто другой — неизвестно. Тут уж есть где разгуляться фантазии, чтобы наделить «другого» всевозможными титулами.
Пока сообщение дошло до третьей по счету усадьбы, у Дёри в гостях оказалось уже два молодых графа, а у пятого дома этот «другой» превратился в герцога.
Ну, а два таких знатных господина достойны того, чтобы пойти на них взглянуть. Любопытство — само по себе очень сильная пружина, а к нему присоединяется еще и зависть: «Этот старый злодей перехватил их прямо на дороге!», «Женихов ловит для Маришки!», «У, старый пройдоха! И как он только со стыда не сгорит! Удивительно!»
Тем не менее такой «парад» никак нельзя пропустить!
И вот из помещичьих усадеб села Оласрёске (а было их, наверно, пять) ко двору Дёри потянулись под вечер посетители — господа, дамы, молодые девушки, старые девы. Дверь в доме Дёри не успевала затворяться.
Пришли барышни Сирмаи в очень смешных соломенных шляпках, появилась красивая вдовушка Майорноки (провалиться мне на месте, если брови у нее не были подведены!), из соседней деревни прикатил управляющий имениями графа Андраши * с братом. Брат управляющего был старым другом Дёри, служил вместе с ним в армии; в шутку он частенько говаривал, что если бы глаза у него были на затылке, он тоже имел бы возможность пару раз взглянуть на Наполеона. Гостей собралось так много, что всех и не перечислишь.
Не стоит описывать самого вечера: он был как и все вечера, — никто не сказал ничего нового.
Вскоре общество разделилось на группы: старики остались в столовой поиграть в карты, дамы постарше расположились в соседней комнате за кофе, а молодежь в одной из боковых комнат затеяла игры: «Как вам это нравится» и «Сержусь на тебя». Только поп и обезьяна ходили из одной комнаты в другую — от дам к барышням, от них к мужчинам.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Старый мир
Надо признать, что светская жизнь того времени была весьма скучной и безотрадной. В особенности это проявлялось во взаимоотношениях мужчин и женщин. Тщетно пытаются уверить нас летописцы, будто тогда и соль была солонее. Эти летописцы ничего не видят дальше своего носа.
Мужчины занимались охотой, играли в карты и пили, когда их одолевала жажда; впрочем, они пили не только, чтобы утолить жажду. Женщина, эта самая острая приправа к нашей пресной жизни, в те времена еще не показала себя. Кто знает, чья это вина? Несомненно, и мужчин и женщин. Мужчины сближались только с теми женщинами, которых они хотели сделать своими любовницами; женщина интересовалась лишь мужем или любовником, а еще более — третьим, тем, кто его заменит. Духовного обаяния женщина того времени почти не имела. В ней больше ценилась физическая красота, а ее душевный мир не отличался особым богатством. В течение всей своей жизни мужчина встречался либо с женщинами, которые были к нему благосклонны, либо с теми, кто не отвечал ему взаимностью. Подруги у мужчины не бывало. В лучшем случае у него были одна-две кумы. Впрочем, это и не тревожило душу мужчины; он не испытывал потребности хотя бы час в день поболтать с женщинами. Куда там! А если посмотрим на оборотную сторону медали, то убедимся, что женщины того времени и не годились для светских разговоров. Они не отличались веселой задушевностью, не было в них яркой индивидуальности. Те, что повоспитанней, — были сентиментальны, а ученые и образованные — и вовсе скучны. Некоторые женщины знали даже латынь. Но уж эти-то были прескучные!
Мужчины подразделяли всех женщин на две категории: красивых и некрасивых, разбитных и добропорядочных. Эта классификация распространялась лишь на женщин до тридцати лет. Женщины старше этого возраста считались старухами и были все одинаковы: они вели хозяйство, награждали пощечинами прислугу, держали мужа под башмаком, если отличались сильным характером, или сами покорялись его воле, если были наделены кротостью. Что же касается блистательных женщин, таких, как графини Буффле, Рекамье, Гоффрин и их всевозможные последовательницы, которые своей утонченностью и остроумием украшали салоны и гостиные и делали их привлекательными, то в Венгрии в ту пору они еще не родились. Тогдашние жены были предметом мужниных восторгов лишь на время медового месяца и быстро приедались своим супругам. Поэтому-то дядюшка Антал Сирмаи, наш глубокочтимый представитель в сейме, прогуливаясь как-то в своем саду с бароном Дёри сказал: «Женитьба — все равно что пища: кто столуется в корчме, мечтает о домашних обедах, а кто питается дома, у того слюнки текут при воспоминании о трактирных блюдах». Можете поверить, что это действительно так. Жены в те времена интересовали своих мужей только в течение первых недель, а потом становились лишь полезными помощницами, делили с мужьями все заботы, да еще рожали им наследников. Именно так оно и было. Бедняжки разделяли судьбу цветка, который до тех пор красив и ароматен, пока его не сорвут, сорванный же, он благоухает и радует глаз лишь в течение одного дня. Но разве цветок жалеет об этом!
Женщины тоже смирялись с такой судьбой, думая, что так и должно быть. Не возражали и мужчины. «Ignoti nulla cupido».[58] Ведь на потеху были еще борзая Цике и верховая лошадка Манци — было кого любить. Мужчины даже не подозревали, что далеко на Западе наиболее утонченной из всех земных радостей считалось общество женщин. Самое изысканное лакомство! Разве знали они, что современный рафинированный Адам не всегда входит в рай для того, чтобы вкусить плод от одной яблони, а чаще, дабы любоваться красотой всех деревьев и цветов сразу. Утонченный Адам и тогда может наслаждаться плодами райских деревьев, когда он не голоден.
Я вовсе не хочу возводить хулу на женщин того времени. Ведь они — наши матери, они заслуживают почитания. Но я описываю эпоху, и мне надлежит быть правдивым. Несомненно, они обладали многими хорошими качествами, были просты и неприхотливы.
Но как же все-таки обстоит дело нынче? Конечно, женщины прошлого, с их патриархальными привычками, наивностью и скромностью, исчезли; женщины же, подобные маркизам Гоффрин, де Леспинасс и ле Деффон, все еще не появились у нас в Венгрии. Их тонкими духами опрыскивают себя наши женщины, их платья, шляпы и кружева уже завозят к нам поставщики модных товаров; что же касается их богатой души, их очарования, привлекательного и оригинального ума — все эти качества — увы! — не могут перебраться через границу. Все это говорится лишь между прочим, ибо ясно, что в доме Дёри никто в ту пору над этим не задумывался; никто не заговаривал на эту тему за столом. Женщины оживленно рассказывали о том, что однажды красивая вдова Шеньеи, эта ханжа, собирала яйца из-под кур и разглядывала их, как принято, на свечку, как вдруг увидела своего второго суженого, гусарского капитана, дородного и красивого малого. И что же? Спустя четыре недели объявился он сам, точь-в-точь таким, как предстал перед ней тогда. А позавчера в Уйхее уже сыграли свадьбу. («Вот и говорите после этого, кума, что не бывает чудес на свете!») Мужчины же в столовой за бокалом вина поругивали императора, который слишком сурово обращается с дворянством. («Этот человек проглотит нас, господа!»)
Господин Пал Ижипь (отец уже известных нам мумий) корил императора, который еще в молодости показал себя. Когда в день своего совершеннолетия наследный принц получил от отца деньги, чтобы купить себе по вкусу лошадей, он подобрал четверку: очень крупную лошадь, с трудом передвигавшуюся от собственной тяжести; строптивую кобылу, которая кусалась, вставала на дыбы и никак не хотела пойти в упряжку; чахлую, тощую лошаденку, настолько старую, что она еле ноги тащила, и кривую армейскую обозную лошадь. Когда император Леопольд, увидев четверку, спросил сына, не рехнулся ли он и что собирается делать с этими животными, сын ответил: «Я хотел показать их твоему величеству: вот эта грузная, жирная лошадь — венгерское духовенство; вот эта, строптивая, которую нужно взнуздать, — венгерское дворянство; а эта заезженная кляча — венгерский народ». — «Ну, а та слепая лошадь?» — спросил рассерженный император. «Это ты, мой сиятельный папаша, ведь ты всего этого вокруг себя не видишь». («Словом, я тогда же раскусил, чего можно ожидать от его величества. Я в ту пору служил в гвардейцах при королевском дворе. Ох, и красив же и молод я был тогда!»)
Если бы этот разговор продолжался, собеседники высказали бы немало горьких истин, ибо токайское вино — это такая влага, которая всегда возбуждает в земпленском венгре неприязнь к австриякам. Но в этот момент девушки выслали из своей комнаты маленького бездельника Пишту Сирмаи, пока сами прятали «жгут» — носовой платок.
— Ну, малыш, хорошо вы там веселитесь? — спросил барон.
— Очень хорошо, дядя Иштван, только вот Маришка заболела. Ее отвели в другую комнату. Горничная Верона сказала, что Маришку тошнит.
Дёри отшвырнул от себя стул. Он всегда волновался, когда с дочкой что-нибудь приключалось. Барон боготворил ее.
— Что это значит, почему мне не сказали? — вскипел Дёри и поспешно направился к двери.
— Господин священник не велел говорить, — пролепетал испуганный мальчик.
Нить беседы, как всегда бывает в таких случаях, сразу оборвалась, и обеспокоенный Иштван Дёри, что-то проворчав, поспешил в комнату дочери.
В коридоре он столкнулся с попом.
— Почему мне не сообщили, что Маришка заболела? — гневно спросил Дёри.
Поп деланно улыбнулся, но не смог скрыть некоторого смущения.
— Да ведь это пустяк. Стоит ли об этом говорить, — пробормотал он. — Наверное, ей от грибов стало плохо. — Потом он елейно добавил: — У меня тоже желудок расстроился.
— Черт бы побрал ваш желудок! — буркнул барон и пошел дальше, но у порога девичьей остановился. — Что-то не нравится мне девочка, святой отец. Позавчера ей тоже было не по себе, хотя она принимала капли, которые Медве прописал в понедельник. Последнее время я часто замечаю, что лицо ее вдруг покрывается бледностью, глаза мутнеют, губы белеют. Доктор что-то пробормотал, не помню уж что. Вы тоже не помните?.. Ничего существенного не сказал? Ну да, потому что он сам толком не разобрался. Все они ослы, святой отец. И все-таки хорошо бы, не мешкая, вызвать доктора письмом. Конечно, он порядочный осел, но я еще больший, и в такие минуты его успокоительное слово действует на мою душу, как райский бальзам. Вы только напишите ему! И пусть Андраш сейчас же запряжет пару буланых в легкую бричку, чтоб побыстрее быть у доктора.
— Да нет никакой необходимости, сударь, уверяю вас. Подобные недомогания обычны у молодых людей обоего пола, и они проходят сами по себе.
— Что-то я не припомню, чтоб у меня когда-либо были подобные симптомы. Меня тошнило лишь от вина.
Поп иронически улыбнулся.
— Вы, господин барон, уже позабыли дни своей юности, но я надеюсь, что легко сумею убедить вас, если принесу записки ученого эскулапа Игнаца Штали.
— Ладно, убедили. Посылайте-ка поскорее за доктором!
Пришлось подчиниться. Дёри открыл дверь и вошел к дочери. Бледная как смерть Маришка неподвижно лежала на диване. Корсаж ее был расстегнут; на прелестном крутом лбу выступили капельки холодного пота. При ней находились горничная Верона и госпожа Малипо.
— Что с тобой, моя козочка?
— Ой, папочка, в желудке колики! Сейчас умру!
— Ну-ну-ну, — пробормотал старик (старый солдат в подобных случаях моментально раскисал). — Не говори мне таких вещей, не расстраивай меня! Все обойдется.
И своей большой сухой ладонью он начал любовно гладить лоб дочери.
— О, какая у тебя нежная рука, папочка.
— У трезвенников всегда такие руки, — шутил старик, тронутый ласковыми словами дочери и желая развеселить свою Маришку.
Лавровишневые капли, как видно, помогли. Пожалуй, уж не такой осел этот Медве. Молодой баронессе скоро полегчало, хотя она все еще чувствовала себя слабой и разбитой.
— Иди, папочка, к гостям. Я уже лучше себя чувствую и скоро тоже выйду.
— Э, нет! Отдыхай, мое сердечко. Ни за что на свете не вставай!
— Но ведь у меня все прошло. Вот увидишь, я еще буду танцевать сегодня вечером, если ты, впрочем, не отпустишь студентов.
— Разве я отпущу их, если ты этого не желаешь? А скажи, — только ты не сердись, что я тебя спрашиваю, козочка моя милая, — какой из них тебе больше нравится?
Старик пристально смотрел на нее, ожидая, что от его вопроса белые щеки девушки покроются румянцем, подобно молоку, когда в него попадает капля красного вина. Но девушка не покраснела и только равнодушно ответила:
— Я думаю, что Бернат умнее, а Бутлер, пожалуй, красивее.
— Значит, тебе больше нравится Бутлер? А?
— Ты хотел бы знать?
— Да.
Маришка бросила на него быстрый и пытливый взгляд.
— Почему?
— Да просто так.
— Тогда не скажу.
— А я все равно и так заметил.
Маришка улыбнулась одними уголками рта, что обычно означает у девушек снисходительное пренебрежение, как бы говоря: «Глупенький ты, папочка, ничего-то ты в этом не понимаешь!»
— Разве ты можешь заглянуть в девичье сердце, папа? Ты даже дна колодца не видишь. Помнишь, ты как-то сам говорил. Колодец-то всего тридцать саженей, а девичье сердце куда глубже.
Старик был доволен, что дочь оживилась и уже перечит ему, спорит с ним. Он сразу растаял.
Со двора только что выехала бричка.
— Стой! Это Андраш едет за доктором. Нужно его вернуть. — Дёри вскочил, распахнул окно, но Андраша уже и след простыл.
Ну да все равно. По крайней мере, через открытое окно в комнату со двора проник свежий воздух, напоенный ароматом цветов. Перед террасой распускалась сирень; одна из веток, усыпанная лиловыми звездочками, заглядывала в окно.
Старик вернулся, сел в ногах у дочери и начал, словно молоточком, постукивать пальцем по каблучку ее крохотной туфельки — он часто так играл с дочерью, когда она была маленькой. Постукивал, бывало, и приговаривал: «Подкую-ка я свою маленькую лошадку».
— Так о чем мы говорили? Подожди. Ах да! Что я не вижу дна колодца… Да разве твое сердце — колодец? Куда там! Камень, моя милая, настоящий камень твое сердце!
— Надеюсь, ты не хочешь этим сказать, что оно в один прекрасный день раздавит кого-нибудь?
— Я хочу только сказать, что оно бесчувственное.
— Твердое — это верно. Но не думай, папочка, что в этом камне ничего нет. Видел у моего крестного Михая Кашшаи янтарный чубук, а в нем какое-то древнее насекомое замуровано, похожее на комара?
— Что правда — то правда. До чего умно ты умеешь сказать, черт возьми! Ах, девочка, твоя головка полна разными идеями, вычитанными у Вальтера Скотта. Да, да, да, у старого Мишки в мундштуке и в самом деле сидит какой-то комар. И как тебе это пришло в голову?
— Я это к тому говорю, что, может быть, и в моем каменном сердце заключен такой же комар.
Сказала девушка и звонко рассмеялась. Казалось, вся комната сразу оживилась и повеселела.
— Ха-ха-ха! Комар! — разразился хохотом барон. — Этакий малюсенький комарик. Ну и быстро же он туда забрался. Только скажу я тебе, если это и комар, то комар солидный. Богач! Одних имений и замков — пальцев не хватит перечесть. Сказочно богат, скажу я тебе! Десяти герцогам с излишком хватило бы, дай только ему получить их от опекуна. Да еще к тому же граф! Titulus et vitulus![59] Кому и такой жених не по вкусу, пусть остается на бобах.
Маришка надула губы, как капризный ребенок.
— Зачем ты так говоришь, гадкий папа? Я и не помышляла о Бутлере. Уходи, ничего я больше тебе не скажу. Разве с тобой можно делиться?
При этих словах старый Дёри поспешил ретироваться и с веселым видом вернулся к гостям, которые засыпали его вопросами о здоровье Маришки.
— Пустяки, ничего страшного! Наверное, за обедом попался плохой гриб. Я, к счастью, не ел грибов. Негодяй Иштван Хинко принес их. А я, глупец, еще дал ему за это двадцать крейцеров *. Ну да ладно, завтра же он получит вдобавок двадцать пять палок. Не забыть бы только! — При этих словах барон вытащил из кармана платок и завязал на нем узелок. — Напомни мне, Дюрка, — сказал он гайдуку, вносившему в зал еще четыре баклаги с вином — две в руках и две под мышками. — Сей узелок означает двадцать пять палок Иштвану Хинко, крепостному из Рёске. Вообще же ей уже лучше — я имею в виду Маришку. Нынешние девицы большие неженки. Словно из бисквита сделаны. У меня были три сестры, так их хоть через дом перебрось — тут же как ни в чем не бывало вскочили бы на ноги. Веселье возобновилось и теперь уже ничем не прерывалось. Тем временем кое-кто из гостей сел за карты.
В ту пору карточная игра уже знала высокие ставки, однако ей еще незнакомы были такие сумасбродства, как лет двадцать спустя, когда в дни заседаний сейма в Пожони за ломберным столом встретились Чернович и Комароми. На карту было поставлено Мачское имение со всеми его лесами, лугами и пашнями. Злой дух, обитающий в картах, подхватил эти богатства и перебросил их от одного владельца к другому. Ну и силен же этот бес!
Между тем студенты стали уже прощаться, но барон и слышать об этом не хотел.
— Оставайтесь, оставайтесь! Ну куда вы сейчас пойдете, на ночь глядя? Наши места не так уж безопасны.
— Хотел бы я поглядеть на того, — рассмеялся Жига Бернат, — кто захотел бы нас обворовать!
— Знаю, что вы не из трусливых. Но все же вам лучше дождаться утра. На рассвете я прикажу запрягать, а до тех пор мы и ложиться не будем, черт возьми!
Аргументы хозяина были подкреплены появлением бродячей труппы музыкантов Марци Чоки, которые тут же во дворе принялись наигрывать одну из печальных мелодий Бихари *. У шельмы Чоки чутье на гостей было, как у собаки на дичь: он за версту чуял, у кого из господ нынче гости, — то ли сороки нашептывали ему, то ли по обильному дыму печных труб распознавал он их прибытие.
— Бре-ке-ке! Надо кликнуть Чоку! Ну, теперь уж, конечно, никак нельзя было уходить. Студенты сдались. А матушка-то небось старается дома, ватрушки печет. Сейчас, наверное, уже вынимает их из духовки. Но что поделаешь — отказаться нельзя. Играет музыка. А это такая сила, которой противостоять немыслимо.
Забурлила кровь, а тут и Маришка вернулась из своей комнаты — с улыбкой на устах, с веточкой сирени в волосах. И вот уж из большой гостиной выносят стулья, кушетки. «А ну, потанцуем малость!»
Танцы открыл сам старый Дёри. Сделав глубокий поклон красавице Майорноки, он обхватил ее стройную талию и, воскликнув: «Ну, и тонка же ты, сестрица», — так закружил, завертел ее, что лучше и не надо.
Тотчас же всеми овладело веселье. Даже дряхлый Ижипь не удержался и пригласил госпожу Малипо. Почти не касаясь друг друга, церемонно раскланиваясь и слегка покачиваясь, они, не заботясь о ритме чардаша, засеменили рядышком в менуэте.
— Эге-ге! А где же больная?
На пороге стоял веселый толстенький человек с бритой физиономией. Он весь был олицетворением добродушия. Угрожающе помахав танцующим палкой и стараясь придать своему пухлому лицу строгое выражение, он силился перекричать музыку:
— Танцуете! Ну-ну! Наживете себе чахотку, так и знайте. В своем ли вы уме — танцевать при открытых окнах! Впрочем, бедному доктору тоже ведь нужно как-то кормиться. Так что я премного вам благодарен, дамы и господа!
— Смотрите, дядюшка Медве! Дядя Медве приехал!
— Сервус, Игнац! — вскричал и барон. — Так ты приехал?
— Как видишь. Ну-с, а где же больная?
— Больная? — добродушно засмеялся хозяин. — Да вот она, танцует! Ха-ха!
— Эта больная здорова.[60] Тогда зачем же посылали за мной?
— С девочкой опять было плохо, и я испугался. Небольшое головокружение. Желудок себе, что ли, испортила. Не нравится мне только, что с некоторых пор она не переносит табачного дыма. Уж нет ли у нее чего-нибудь в легких?
— В легких? Ну конечно. Наверняка. Ты больше меня понимаешь. Только вот что: ты не рассуждай, а плати деньги. Что ты смотришь на меня? Ты же должен платить своему доктору. Разве я сказал какую-нибудь глупость, что ты так уставился на меня?
Барон Дёри неизменно удивлялся подобным речам Медве и никогда не принимал их всерьез. Мужик — тот обязан платить доктору, а он, барон Дёри, разговаривает с ним на «ты». Разве это не достаточное вознаграждение для доктора?
Доктор Медве был популярен в округе, несмотря на то, что в старые добрые времена люди умирали большей частью сами по себе, без помощи докторов, верили кукушке (сколько она прокукует, столько и жить суждено), лечились у знахарок, колдунов-мельников с помощью всяческих талисманов и амулетов. Считалось, что тот, кто найдет ящерицу накануне дня св. Георгия и, зашив ее в мешочек, будет носить на шее вместо ладанки, никогда не заболеет ни рожей, ни подагрой. Против лихорадки тоже знали хорошее средство: больной должен был поваляться на девяти могилах. (То ли от ужаса, то ли от физических потрясений, но хворь проходила.) В саду почтеннейшей госпожи Докуш в Галсече росла трава, которая, если всунуть ее в ухо человеку или животному, излечивала от любой болезни. Трава шандра помогала только при чахотке, а если не помогала, то и на этот случай было известно средство, действующее безотказно (правда, достать его трудно): нужно было зашить в подушку или в перину щепотку праха знаменитого земпленского гайдука, Пала Арнольда. История о том, как его укусил вампир, как он умер, а затем восстал из гроба и сам покусал четырех человек, взбудоражила в 1732 году всю Европу. Да и кто мог поверить в такие фокусы докторов, как «покажите язык» и «дайте-ка ваш пульс». И тем не менее Медве все любили. Этот маленький человечек, задиристый, как хомяк, вечно спорил и бранился со всеми, однако был полон добродушия и любил пошутить. Особенно ему радовались в дворянских усадьбах. В прошлом он был военным врачом и сколотил кое-какое состояние, после чего вернулся в Бенье. Рассказывают, что раньше он носил другую фамилию — не то Вер, не то Берман. Ведь земля слухами полнится. Впрочем, это не имело значения: дворяне его простили, ибо в своих привычках он полностью приспособился к ним, слился с ними. У него, например, была самая примечательная в комитате коллекция пенковых трубок. А как они были обкурены! Это чертовски нравилось всем. Кроме того, в медицине он чувствовал себя как дома, а это тоже что-нибудь да значило.
Однако сегодня все свидетельствовало о том, что доктор дурно настроен, рассеян и, казалось, чем-то смущен. Сегодня он был грубее обычного.
— Садитесь, дядя Медве… Сюда, сюда! Его приглашали и женщины и мужчины.
— Оставьте меня в покое! Я человек не вашего круга. Единственное простое и искреннее существо здесь — это Кипи. Иди сюда, Кипи, дай доктору лапу. Так, так, хорошо. Оставайся и впредь честным шимпанзе и ничему не учись у этих…
Затем он приблизился к танцующим, поймал за руку Жигмонда Берната и оттолкнул его от баронессы Маришки.
— Что вам угодно? — строго спросил раздосадованный студент.
— Ничего, сударь, кроме моей добычи. Барышня, сейчас же отправляйтесь в свою комнату.
Студент с удивлением уставился на доктора, словно это был сумасшедший, случайно забредший в залу. Но Маришка улыбнулась, и это удержало студента от более энергичных действий.
— Послушайте, господин…
— Медве.
— Ах так? Ну, если вы медведь[61], то я просто не понимаю вас. Медведи обычно пляшут, вернее — их заставляют плясать, вы же и сами не танцуете, и другим мешаете.
— Дядюшка Медве — наш врач, — пояснила Маришка и направилась из комнаты.
Тем временем другие гости перестали танцевать и принялись упрашивать доктора, чтобы Маришке было позволено еще немного повеселиться, раз ничего серьезного у нее нет. Но маленький человечек был неумолим: он мотал головой, размахивал руками и раздраженно брюзжал:
— Этого еще не хватает. Да есть ли у вас голова на плечах? Сейчас барышне стало немного лучше, так вам не терпится опять навредить ей? Не выйдет. Медве не допустит.
Молоденькая баронесса, стыдливо зардевшись, подчинилась. Медве засеменил за ней следом.
— Ты что, опять хочешь осмотреть ее? — крикнул ему вслед барон.
— Разумеется. Что может быть приятнее, чем коснуться этой прелестной стройной талии.
— Может, и мне пойти с тобой?
— Зачем? Ты лучше готовь доктору гонорар.
Немного погодя Медве вернулся в столовую. Дёри поспешил отозвать его в сторону.
— Ну, нашел у нее что-нибудь?
— Еще не уверен, — ответил Медве. — Еще не уверен. Во всяком случае, в ее организме есть небольшое изменение, только оно еще не развилось.
— Боже мой! — прошептал в ужасе Дёри, заглядывая в лицо Медве, зловещее и несколько смущенное. — Ты что-то скрываешь от меня, Игнац.
Врач угрюмо пожал плечами:
— Настоящий доктор из всего, что ему известно, говорит лишь то, что считает нужным. Если тебе этого недостаточно, пригласи другого.
Дёри побледнел.
— Значит, Маришку нельзя спасти?
— Отнюдь не значит. Но ты хочешь, чтоб я выболтал тебе все, а я этого не сделаю; больше того, что слышал, — не жди.
— Да, но ты сказал, что «оно» еще не развилось. Думаешь, «оно» будет развиваться дальше?
— Наверняка.
— Ты страшно пугаешь меня!
— А ты не пугайся.
Дёри почувствовал, что у него волосы становятся дыбом.
— Друг мой, если моя дочь умрет, я тут же застрелюсь.
— Умрет? Но кто же сказал, что она умрет? От чего ей умирать? С ней не приключится ровно никакой беды.
— О Игнац, милый Игнац, дай я расцелую тебя за это.
— Нет, благодарю. Лучше заплати мне, как полагается.
— Заплачу, сколько пожелаешь, только спаси девочку. А из чего ты заключаешь, что она не умрет?
— Да потому, что женщины обычно не умирают от этого.
— Значит, у нее какая-то женская болезнь?
Доктор утвердительно кивнул.
— Что же, малокровие?
— Я уже сказал, что ей ничто не угрожает. На этом пока и успокойся и не допрашивай меня больше, либо пошли за другим доктором и выпытывай у него сколько угодно.
— Ну хорошо, хорошо! Не сердись. Ты ведь понимаешь волнение отца. А потом меня испугал твой странный вид. Вот и в прошлый понедельник, когда ты ее осматривал, у тебя было такое смущенное и озабоченное лицо.
— Разумеется. Ваш покорный слуга! Отныне, прежде чем предстать перед господином бароном, я буду печься о том, какое у меня выражение лица. Но если я окажусь в дурном настроении, значит, так тому и быть; кому какое дело до моего лица?
Барон успокоился и, вновь обретя хорошее расположение духа, потащил доктора к столу.
— Пойдем-ка выпьем! Поверь мне, и у тебя лицо просияет, едва мы с тобой пропустим по стаканчику токайского. Эй, Дюрка, подай сюда того, покрепче. А потом подсаживайся-ка, доктор, к столу и сразимся в вист.
— Я не пью, не пью, — отказывался доктор. — При моей тучности токайское вредно. К черту твое токайское. От него меня хватит удар. Лучше прикажи подать мне кислого вина с сельтерской водой. Что же касается твоего предложения сразиться в вист, не возражаю. Правда, мне нужно еще заехать к одному пациенту, на хутор Рикканто, — там заболел старый пастух. У бедняги рак языка.
— Говорят, бог наказал его за то, что он дал ложную присягу в комитатском управлении, — заметил старик Ижипь.
— Глупость и суеверие, — отозвался доктор. — Ну да ладно, я заеду к нему на обратном пути.
Они взглянули, как идет игра, затем сами сели за карты — игра велась уже за двумя столиками — и сражались вплоть до ужина, когда гости стали расходиться по домам. На ужин остались только студенты, священник, доктор, управляющий и отставной майор Борхи, старый «камерад» Дёри. Барышни Сирмаи пообещали вернуться после ужина; долго упрашивали остаться старика Ижипь, но он сказал, что тоже придет после ужина, на этот раз с дочерьми.
За ужином доктор снова пришел в хорошее расположение духа. Священник был рассеян и явно избегал взгляда доктора. Маришка сидела рядом с Бутлером и принимала живое участие в разговоре, иногда даже стреляла хлебными шариками в Медве, который рассказывал о курьезах из врачебной практики.
— Доктор — это настоящий козел отпущения. Его бьют за все. Если он скажет, что у больного нет ничего серьезного, на него сердятся, называют бездушным псом; если болезнь покажется ему опасной, на него опять обижаются, упрекают, что он пугает больного и тем самым усугубляет болезнь. Если больной выздоравливает, говорят, что он поправился бы и без помощи доктора; если же не поправляется, значит, доктор «залечил» больного. Эхе-хе, дрянная эта профессия! Тут уж не рассчитывай на благодарность.
— Зато на том свете, дядя Медве, вам за все воздастся, — утешала его юная баронесса. — Там вам зачтется, от скольких страданий избавили вы людей.
— Зачтется? Ах, ну конечно! Ведь оттуда, как учит ваша вера, и посылают на землю все страдания. А зачем посылают? Может быть, ради нас, докторов? Что-то я этого не слыхивал! Впрочем, все это болтовня! Кто знает, в самом ли деле существует «тот свет».
— Я верю в него, — ответила Маришка, бросив взгляд на окно, в котором виднелся усеянный звездами синий небосвод.
Поп отложил вилку и нож.
— А я убежден в том, что загробный мир существует! — воскликнул он патетически. — Можно ли представить себе, что душа, то есть нечто возвышенное и неосязаемое, не способна отделиться от тела, что она должна бесследно исчезнуть, как пар над остывшей кастрюлей. Возможно ли, что после земного бытия, где один человек — хороший и добрый — несчастен, беден и до гробовой доски обречен на нищету; другой же — дурной, порочный — купается в изобилии, и жизнь улыбается ему всеми своими радостями, — возможно ли, повторяю я, чтоб не было высшего суда, а после земной жизни — иного мира, где все эти люди сравнялись бы, где каждому было бы воздано богом по заслугам. Господь не мог, не стал бы создавать свое творение так уродливо, без всякой логики.
— О святой пастырь! — рассмеялся доктор. — Логика — совсем другое дело. При чем здесь логика? Попы не должны взывать к логике. Логика — это бог мыслящих. Если и вправду существует загробный мир, то, по логике, ваше место непременно в аду.
— Мое? — заикаясь, переспросил священник, густо покраснев под пронизывающим взглядом доктора.
Студенты заулыбались, а Дёри надрывался от хохота; только юная баронесса смущенно потупилась.
— Именно ваше! Вам, как пастырю духовному, должно находиться среди испорченных душ, которые вам надлежит направить на путь истины. Отсюда же следует, что в раю, где пребывают лишь добродетельные, праведные души, попы совершенно излишни.
— Бре-ке-ке! — воскликнул барон. — У этого Игнаца, оказывается, ума палата.
Было заметно, что поп несколько успокоился после этого разъяснения: «Придется сносить выходки этого старого шутника!» Но доктору стоило только начать, остановить его было так же трудно, как отнять у собаки кость.
— Но, предположим, что загробный мир есть. Тогда сразу же возникает другой вопрос: каков он? Некоторые народы верят в переселение душ. Но ведь это не ответ. Это не что иное, как «и есть и нет». Потому что если и происходит переселение душ, то неужели вон тот каплун, разгуливающий по двору, чувствует себя несчастным, хотя, скажем, когда-то он был мельником и, так как наворовал при жизни много муки, его душу за грехи вселили в птицу? Не все ли равно ему, каплуну, если он ничего не знает об этом превращении?
— А если он знает и скорбит, — вмешался в разговор майор Борхи.
— Да не знает он! Откуда ему знать? Ведь если бы переселение душ имело место и душа нашего жирного каплуна знала, кем она была раньше, то и ваша душа, мой дорогой майор, должна бы знать, в ком она обитала прежде.
— Хм! Это верно!
— Ну-с, таким образом, загробный мир с его переселением душ ничего не стоит, если говорить о наказании за грехи и награждении добродетелей. Поговорим-ка лучше о других взглядах на загробный мир. Вот турки, например, представляют себе загробный мир в виде тенистого сада, где поют прекрасные гурии; индусам он опять-таки мыслится иным. Мы же представляем его в виде ада и рая, а католики добавляют еще и чистилище.
— И очень правильно, — заметил Дёри.
— Правильно? Почему? — возразил доктор, не любивший, чтобы его перебивали.
— А потому, скажу я тебе, что чистилище предназначено именно для таких, как я. Человек всегда знает себе истинную цену. Я не зазнаюсь и уверен, что у меня нет надежды попасть в рай; но и в аду я не хотел бы очутиться. А вот в чистилище я, пожалуй, пролезу. Представляю себе, как там очищают души. Меня оно вполне устраивает, как переходная ступень на короткий срок, — оттуда уж, надеюсь, мои в бозе почившие родственники легче выцарапают меня по протекции на небеса. Когда я был еще молодым гусарским лейтенантом, я частенько начинал с кухни, где хозяйничала Нани, с тем чтобы потом попасть в салон к Мальви… Маришка, выйди-ка в другую комнату.
Маришка с детства привыкла к такого рода отцовским приказаниям и послушно, как заводная кукла, тотчас же скрывалась в соседней комнате, так что уход ее порою оставался бы даже не замеченным присутствующими, если бы не шелест ее платья.
— Мы тогда стояли в Пожони; я был молод, любил приволокнуться за женщинами и был, пожалуй, таким же красавцем, каким воображает себя старик Ижипь в бытность свою гвардейцем. В соседнем доме проживала прелестная вдовушка; у нее была горничная, этакая курносая, смазливая девчонка… Н-да… было бы хорошо, если б и вы, святой отец, удалились в соседнюю комнату, только, чур, — прибавил он свою обычную шутку, — не подслушивать у замочной скважины.
Священник также послушно поднялся и с выражением истинно благочестивой брезгливости на лице вышел вслед за девушкой.
Доктор саркастически усмехнулся, вытащил из кармана инкрустированную перламутром зубочистку (очевидно, «гонорар» за лечение какой-нибудь барыньки) и принялся ковырять ею в зубах. Его обидело, что барон помешал ему закончить рассуждения о загробной жизни, и он пренебрежительно заметил:
— А куда было бы лучше, мой ревностный сторонник отделения праведных душ от грешных, если б ты сам приложил ухо к замочной скважине!
Барон слышал эти слова, но не стал задумываться над их смыслом. Страстный рассказчик подобен солдату, не замечающему в пылу сражения, что его ранило.
Он спокойно продолжал повествовать о своем пикантном приключении. А когда добрался до конца, уже забыл о реплике доктора. Аналогичная история тотчас же, разумеется, вспомнилась и майору Борхи. «Камерад» провел свои молодые годы в Милане, знаменитом своими соборами и церквами, среди прелестных синьорит. На его долю тоже перепало кое-что из похождений, подобных тем, которые изведал и красочно описал Боккаччо. Потом и студенты вспомнили разные забавные истории, во множестве распространяемые в Шарошпатаке. Со всех концов страны студенты везли в этот город деньги и анекдоты. Первые доставались колледжу, вторые же переходили в общее пользование.
— Ну, а теперь, пожалуй, позовем наших ссыльных. Хорошенького понемножку, но и плохое в избытке вредно. Да и Медве уже ворчит, что мы помешали ему поспорить с попом. Продолжай, Игнац.
Темы мужских разговоров менялись поистине, как кости в игре: белая кость — религия, за ней шла черная кость — скабрезности и всякие пикантные истории, потом снова белая, а за ней опять черная, — и так все время, лишь два цвета. Рассказывали, что печский епископ семнадцать лет носил в жилетном кармане золотой талер с изображением Марии-Терезии, дав себе зарок отдать его нищему, если в мужской беседе, которая продлится не менее часа, не услышит ни единой двусмысленности. В конце концов (летопись не сообщает, в обществе каких глупцов и мямлей пришлось ему как-то отобедать) через семнадцать лет он все же расстался со своим талером. А религия была еще более богатым родником для бесед и споров.
Кальвинист высмеивал паписта, папист — упрямого кальвиниста, и оба вместе — лютеранина. Но то, что полвека назад служило поводом для жестоких общественных распрей, ныне превратилось в предмет шутливой пикировки за бокалом вина. Качества лютеран весьма остроумно были изложены в тринадцати пунктах: лютеранин в кисете вместо табака носит морковку, в коляску садится всегда с левой ноги, по вечерам, лежа в постели, прикуривает свою длинную трубку, кладя чубук на плечо жены, и т. д. и т. п. Теперь уже не снимают колоколов в церквах противников, а лишь передразнивают их звучание, подбирая для каждого характерные для него тона. У кальвинистов большой колокол гудит медным басом: «Проклятье вам, ан-на-фема-а!»; католический колокол напевно названивает: «Дева Мария, дева Мари-и-я!» А колокол лютеран отбивает фразу: «Ни туда — ни сюда, ни туда — ни сюда!» Негибкие и ленивые умы того времени оттачивались на подобных каламбурах. Да это и не удивительно! Ведь в ту пору еще не существовало газет, которые каждые двадцать четыре часа разносили бы по всей стране материал для обсуждения и пересудов. Конечно, политические события случались и в те времена, более того, как раз тогда-то и происходили величайшие события, однако слуха простых смертных достигали только наиболее громкие раскаты, сотрясавшие мир, не то что ныне, когда становятся известными мельчайшие подробности. Наполеон так ловко спихнул нескольких маленьких монархов, что известие об этом и не дошло до Оласрёске. Легкая рука была у него — словно орехи раскалывал, а не короны. Так, прибыв в одно маленькое герцогство, он даже не обнажил сабли, а вынул карандаш и написал на бумажке: «Отныне здесь больше не правит династия Браганза», и династии Браганза с той поры в истории как не бывало! Но что до того жителям Оласрёске? Что они знали об этом? Скрип того знаменитого карандаша даже не услышали здесь.
Вот почему хороши были эти две темы; с незапамятных времен они давали достаточную пищу для разговоров. Политика же — это пришелец, который недавно вторгся в нашу жизнь.
Доктор начал новую атаку против священника; когда Медве горячился, его короткая, толстая шея вздувалась и багровела, а маленькие черные глазки метали искры.
— Вот вам браминская религия или буддийская, различные персидские религии. Какая из них правоверная? И у каждой свои мифы о райском царстве… Выходит, что райских обителей должно быть, по крайней мере, столько, сколько деревень в Венгрии. Так в какой же деревне окажемся мы, а?
— В нашей, — ответил спокойно священник, — в той, которую обещает христианская религия.
— А где же альбом с видами этой чудесной страны? — Медве сердито ударил кулаком по столу.
— Ну-ну! Не буйствуй ты, старый вольтерьянец, — попытался утихомирить его Дёри.
— С ней можно познакомиться по Священному писанию, — защищался Сучинка.
— Оставьте, прошу вас, в покое Священное писание, его сочинили попы. Что, разве не попы? Так кто же? Но и не умный человек, это уж во всяком случае. Ибо там с самого начала говорится, что бог в первый день творения создал небо и землю, сказав при этом: «Да будет свет!» «И стало светло», — добавляет Библия. Ну ладно, пусть так, но немного дальше Библия говорит: «На четвертый день сотворил господь луну, солнце и звезды», — и вот тут-то дело становится туманным. Как же могло быть светло сразу же, в первый день, если бог сотворил звезды, солнце и луну только на четвертый день? Ну-с? Или, может быть, в течение тех трех дней было другое средство освещения? Ладно, допускаю. Но куда оно девалось? Что с ним случилось? Расскажите мне!
— Ну-ну, Игнац! Ведь не хочешь же ты сказать, что попы похитили это… ну, это… словом, то, что освещало?
— Я ничего не хотел сказать. Просто я сражаюсь, в моих руках дубина-логика, и я пускаю ее в ход.
Однако на самом деле в его руке была не логика, а лишь пустой бокал, который он раньше в рассеянности поднес к губам и залпом осушил, а затем, в пылу спора, стал машинально постукивать им по столу, пока не разбил его; осколки со звоном посыпались на пол.
Тут заговорил и молчаливый управляющий Михай Борхи:
— Значит, вы, доктор, не верите и в то, что мы воскреснем в Иосафатской долине?
— Нет, — отрезал доктор. — Что за чертовщина! Что может воскреснуть из могилы, если тело превращается в прах, а душа улетает? Вы, господа, все путаете.
— И вы, дядя Медве, не верите даже в то, — спросила юная баронесса, — что невидимые души умерших витают повсюду в мировом пространстве и все знают о нас?
— Нет, барышня, и в это не верю. Она игриво погрозила ему пальчиком.
— Постойте, постойте! Вы, я вижу, хуже графа Бутлера. Но я еще сегодня проучу вас! Сейчас придут сестры Ижипь, и я распоряжусь, чтоб внесли танцующий столик.
— Ну, я не стану этого дожидаться. Я не любитель подобных дурачеств.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Каким может быть загробный мир
— Итак, ты совершенно не веришь в существование какого бы то ни было загробного мира? — продолжал допытываться Дёри, которого чрезвычайно забавляла горячность доктора.
— Разумеется, нет; и не поверю, пока не поговорю хоть с одним человеком, побывавшим там. Только такого еще никто не видел. Даже Иисус, с тех пор как его опустили в могилу, больше не появлялся на земле.
— В Патаке рассказывают, — вмешался в разговор Жигмонд Бернат, — как один лютеранский священник спорил с католическим о том, что творится на том свете. Однажды, отстаивая каждый свою точку зрения, они до того вошли в раж, что поклялись друг другу: тот из них, кто раньше умрет, придет к товарищу и честно расскажет, на чьей стороне была правда. Лютеранский священник умер раньше. Вскоре после этого, как-то ночью, отворилась дверь, и в спальню католического священника вошел его покойный друг, на лице его была могильная бледность. Неслышно ступая, как тень, он приблизился к кровати католика и наконец произнес: «Ни по-твоему, ни по-моему».
— Об этом и я слыхал, — подтвердил Дёри, — старая историйка.
Доктор пренебрежительно отмахнулся:
— Сразу видно, что поп-то был лютеранский: ни туда ни сюда, ни рыба ни мясо.
— А может быть, нельзя было сказать больше.
— Э-эх, кто может приказать душе! Если уж она отважилась на такой путь, так должна была б сказать что-нибудь более вразумительное.
— Легко так рассуждать, а окажись вы на ее месте…
— Я бы рассказал. И расскажу, если когда-нибудь приду оттуда.
— По рукам, Игнац! Если ты, конечно, рискнешь побиться об заклад.
— Глупости! Я ж сказал, что ни во что не верю.
— А все-таки, если там есть что-нибудь, придешь рассказать?
— При первой же возможности.
— Даешь в том честное слово?
— Идет! — весело воскликнул доктор и протянул барону руку — А ну, разними, студент, хоть все это, конечно, чепуха! Мы никогда не умрем! Наполняй бокалы, Дюрка!
И до тех пор пока гости не встали из-за стола, один за другим следовали тосты. Хозяин дома пил за гостей-студентов, затем за своего старого «камерада». «Камерад» пил за здоровье юной баронессы Маришки. Управляющий Борхи провозгласил здравицу Наполеону: «Дай бог ему доброго здоровья и хорошую жену!» (В те годы упорно ходили слухи, что Наполеон собирается жениться на дочери императора Франца.) Поднялся с бокалом и доктор и с самым серьезным видом предложил тост за здоровье шимпанзе, «достойного члена общества в Оласрёске». («Этого циника-доктора окончательно испортила французская революция», — пробурчал Дёри.) Жигмонд Бернат не один бокал осушил за хозяина дома, превознося при этом его доброту и благородство. А барон так расчувствовался, что, обняв юношу за плечи, только и повторял: «Студент, студент, ты понял меня». Священнику ничего иного не оставалось, как предложить тост за сухопарую мадам Малипо, которую он сравнил с садовником, ибо она, всем на восхищение, растит чудесный цветок. Юная баронесса тотчас же перевела его слова на французский язык, что незамедлительно вызвало у мадам обильные слезы, упавшие в тарелку с яблочной кожурой и сырными корками. Видно было, что и Бутлер обдумывает какой-то тост, но он до того медлил, что замысел его так и остался неосуществленным, ибо как раз в это время прибыло семейство Ижипь; обе барышни, как на шестах, повисли — одна на правой, другая на левой руке старого экс-гвардейца. Немного погодя появились шустрые девицы Сирмаи, за ними маленький Пишта и наконец их мамаша. Пора было хоть из приличия покинуть столовую.
Доктор отыскал свою палку с костяным набалдашником и стал прощаться.
— Эге-ге! Уж не собираешься ли ты отправиться пешком? — запротестовал Дёри. — Подожди-ка управляющего. А то, хочешь, я распоряжусь, чтоб запрягли?
— Э, нет! Я еще в своем уме и не собираюсь разболеться по твоей милости! Месяц сияет — одно наслаждение прогуляться пешком. Я перегрузился вином и пищей.
И верно, почтенный доктор сопел, как откормленный гусь.
— Ну, а что ты прописал Маришке?
— Свежий воздух. Если для войны нужны деньги, как говорил Монтекукколи *, то для здоровья, мой дорогой барон, нужен воздух и еще раз воздух. Это говорю я. Пусть она целый день гуляет в саду.
— А ты когда приедешь?
— Как-нибудь на днях загляну.
Доктор распрощался. Всей компанией его проводили до крыльца, что польстило ему, и он даже пошутил:
— Так-то! Воздавайте почет своему доктору, и долголетие вам обеспечено.
Небосвод на западе начало заволакивать тучами.
— Не дать ли тебе зонтик?
— Я не немец.
— Может быть, ты прихватишь мой карманный пистолет? — крикнул вдогонку Дёри.
— Зачем? Того, кто страшен мне, пуля не возьмет.
Он прошел через парк, лениво передвигая свои коротенькие ножки. Скоро собачий лай возвестил о том, что его заметили овчарки; еще некоторое время можно было слышать скрип гравия, и наконец шум его шагов затих в отдалении.
А в доме возобновилась программа развлечений, прерванная ужином. «Сержусь на тебя» и «Как вам это нравится» — эти игры, как хлеб, никогда не приедаются. До тех пор пока женские лица будут оставаться прекрасными, обе эти игры не потеряют своей прелести. Время уже приближалось к полуночи и число фантов все увеличивалось (даже барышни Ижипь дождались своей очереди — одну из них выбрал маленький Пишта Сирмаи, а другую — добросердечный граф Бутлер), когда Маришка вдруг объявила, что предстоит еще нечто.
— Помните, Бутлер, за мной ведь еще одно обещание.
— Да-да, духи. Подавайте их сюда!
Маришка распорядилась, чтобы из голубой гостиной в салон внесли тяжелый дубовый стол, так как маленький столик розового дерева, на котором сейчас стояла вазочка с фиалками, мог внушить подозрение своим малым весом.
Все собрались вокруг стола. Только шимпанзе выставили за дверь. Бестолковое существо могло не понравиться духам.
— К столу, к столу! — повелительно звучал голос Маришки. — Бутлер, садитесь! Илонка, дай твою руку. А вы, святой отец, положите ваши руки сюда. Бернат, вы оставайтесь на месте и снимите с пальца кольцо. А ты, папочка, не будешь? Подвинемся немножко, дадим место и Пиште. Прошу сделать серьезные лица, ибо духи не любят ни сомневающихся, ни шутников. Ай-яй-яй, Бутлер, не смейтесь же!
Все положили ладони на стол так, что мизинцы рядом сидящих соприкасались, образуя сплошную цепочку. Сколь прелестны были пухлые ручки виконтесс Сирмаи (словно распустившийся цветок, нежно розовели их холеные ноготки), и как резко контрастировали с ними красные, жилистые руки девиц Ижипь.
Одна из девиц, Вильма, в экстазе закатив глаза, тихим замогильным голосом принялась читать предписанную в этих случаях молитву.
— Аминь, — повторили все, когда она кончила. — Теперь могут приходить духи. Путь свободен.
«Столоверчение» относилось к общепринятым развлечениям тех времен. Более того, оно носило характер моды. А это означало, что спиритизмом занимались даже люди, не верившие в него, даже те, кто не проявлял к нему особого интереса. Что же касается существа дела, то вера в духов так же стара, как и склонность к сверхъестественному. Однако у спиритизма имелись и более сильные пружины. Человек никогда не может свыкнуться с мыслью, что он должен прекратить свое существование. Коренящийся в человеке эгоцентризм питает в нем жажду вечного бытия, даже после смерти. Что и говорить, тщеславен человек!
Спиритизм, несомненно, так же стар, как сами люди; меняется со временем только его толкование и обличив. Однако первым призраком, первым искусителем был не кто иной, как Каин. Еще древние римляне и греки верили в то, что души умерших бродят по земле. Даже богов своих они спустили на землю, так им было удобнее.
Суеверный венгерский крестьянин с незапамятных времен верил в привидения, которые появляются, закутавшись в белую простыню, и устрашают живых, а с первым криком петуха исчезают. При виде их человека охватывает ужас; у него нет охоты вступать с ними в разговор. Поэтому крестьянину и в голову не приходит вызвать с того света своих родичей; напротив, он готов скорее обедню заказать и свечку поставить за помин души усопшего, лишь бы только она успокоилась в земле-матушке.
Другое дело — господа. Ну конечно, господам всегда нужно что-то особенное. От страха перед привидениями их ограждает образованность. А для забавы своей они вызывают таких духов, которые способны их повеселить, забираются в столы и таким образом болтают с ними.
Первыми вызывать духов стали маги, Калиостро и его сотоварищи. Но эти были еще скромны: вызывали Астарту, у который был свой день посещений — среда (как, например, у палатина — четверг). По средам она являлась на зов и вызвавших ее наделяла способностью нравиться сильным мира сего… Жаль, что с тех пор оскудела добрая Астарта, — и хоть карьеристов сейчас много развелось, но у них уже нет духа-помощника, а есть лишь хорошо подвешенный язык.
Мода на «столоверчение» была завезена из Америки. Янки и их мисс были без ума от этого занятия. Они, наверное, рассуждали про себя: «Если уж мы такие безродные выскочки, что нет у нас ни своих лордов, ни герцогинь, ни королей, ни рыцарей в доспехах, ни великих писателей, ни женщин с мировой славой, и если уж мы не можем отобрать у Европы — живых, то, по крайней мере, вызовем их умерших знаменитостей на наши вечера с чаем и вистом. Хэлло! Крутись-вертись, столик!»
Самый трудный момент сеанса — это его начало. У духов, по-видимому, имеются свои претензии, которые нужно разгадать. Быть может, на столе покоится ладонь какого-нибудь неугодного им человека. Этого уже достаточно, чтобы дух не явился на зов. Более того, он еще и других отговорит.
Но в доме Дёри этого можно было не опасаться. Здесь сидели за столом две любимицы духов — девицы Ижипь. На грешной земле им не удалось выйти замуж, зато с того света женихи так валом и валили. Маришка рассказывала, что иногда к ним приходили средневековые бретонские рыцари, а то и трубадуры. Это обстоятельство необычайно льстило девицам.
Тсс, тише! Даже сердце замерло.
Стол вздрогнул и начал ритмично покачиваться.
— Идут! — жарким шепотом проговорил священник (он имел в виду духов).
Мадам Малипо пододвинула к себе круг с алфавитом, чтобы заранее подготовиться. Она ни слова не знала по-венгерски, поэтому всякий обман был исключен.
— Кого же вызовем? — обратился поп к стоявшим вокруг стола пожилым мужчинам.
— А можно кого угодно? — спросил в ответ майор.
— Сначала приходит сам по себе какой-нибудь посредник.
— Как вы сказали, посредник?
— А как же! У духов тоже есть свои посредники. А те уж вступают в разговор с нашими посредниками.
— Гм… Следовательно, все дела ведутся через агентов?
— И часто получается полная неразбериха. Среди духов низшего разряда имеются чудаковатые, которым нравится дурачить всех и болтать несусветную чепуху. Особенно этим отличается одна девица из Кашши. Она ведет себя так, словно никогда не была в здравом уме.
— Что это за кашшская девица?
— Да некая Рожика Тоот, умершая восемьдесят лет тому назад. Она отправилась на свадьбу в Эперьеш вместе со своей мамашей, и на обратном пути их экипаж перевернулся и свалился в ущелье. Теперь эта девица все время озорничает и путается под ногами.
Майор, покручивая ус, с удивлением заметил, что девушки многозначительно переглянулись, как бы разделяя мнение священника о непутевой Рожике.
— А возможно, нам и сразу удастся вызвать толкового духа, — продолжал поп, который с легкостью ориентировался в царстве душ. — Кого нам сейчас позвать?
— Вызовем-ка Ференца Ракоци Второго, — предложил управляющий, — его высочество князя Ракоци, — поспешно добавил он, так как стол вдруг подозрительно качнулся.
На губах священника появилась высокомерно-снисходительная улыбка искушенного человека, столкнувшегося с наивной простотой.
— Не так-то это просто! Ведь духи находятся в разных сферах, сударь мой. Имеются и такие, место которых еще не определено; они-то и бродят по земле. Это своего рода наказание. Рожика Тоот, например, странствует вот уже восемьдесят лет.
— На лучшую карьеру ей нечего и рассчитывать! — со смехом заметил старик Дёри.
— Кто знает! Восемьдесят лет для загробного мира всего какая-нибудь минута. Те, что уже распределены по сферам, парят, держа свой путь к богу. Кстати, между сферами тоже большая разница…
— Словом, и на том свете нет равенства, и там есть магнаты и бедняки.
— Именно так, потому-то и трудно войти в контакт с духами высшего круга. Может быть, и Ракоци…
— Не даст аудиенции…
— Возможно… Тсс, стучит!
Воцарилась мертвая тишина, только слышалось шипение свечей. Стол начал дрожать и стучать по полу, как бьющееся в припадке живое существо. Откуда-то изнутри стола донеслось что-то вроде вздоха; казалось, ухо улавливает какое-то легкое жужжание.
— Кто там? — спросила Анна Ижипь загробным голосом. Стол заработал, послышался какой-то таинственный стук, еще и еще, тук-тук, тук-тук… Мадам Малипо, следуя ритму стука, накладывала на буквы свои длинные тонкие пальцы. Стук прерывался, когда пальцы мадам нащупывали не ту букву; другой рукой она записывала буквы, которые выстукивал стол: Михай Бониш.
Явился дух старого дворянина из комитата Сабольч, умершего лет пять тому назад, а до того часто бывавшего в доме Дёри. Бернат и Бутлер хорошо знали старика, бывшего при жизни страстным охотником. («Ну, ему трудно, конечно, привыкнуть там, на том свете, где нет ни зайцев, ни куропаток!»)
— Не могли бы мы поговорить с Ференцем Ракоци Вторым? — спросила Анна Ижипь.
Дух долго не отвечал. Стол делал какие-то неопределенные движения, словно из шалости накреняясь то вправо, то влево; немного погодя приподнялась одна его ножка, потом другая — ну точь-в-точь играющий жеребенок, — потом, как зарядившись каким-то магнетизмом, он начал ритмично вибрировать (казалось, невидимый человек стучит зубами): тук-тук, тук-тук…
— Ответ! — зашептались посвященные.
Мадам подряд записывала буквы, из которых составилась фраза:
«Ференц Ракоци уже был сегодня здесь, в Оласрёске, в бренном обличии студента».
Все, даже неверующие, ошеломленные этим сверхъестественным «волшебным действом», обратили свои помутившиеся взоры на студентов: какой же из них? Бедные студенты покраснели как вареные раки и переглянулись, словно говоря друг другу: «Вот и почтил нас дядя Михай Бониш! Он, правда, и при жизни любил над нами поиздеваться».
Позднее Бернат, однако, шепнул Бутлеру:
— Видел ты сегодня в корчме худощавого мальчишку, подбившего камешками цыплят?
— Ну как же, видел. Уж не он ли тот самый «студент»?
— А что, если он?
— Ты не знаешь, как его зовут?
— Позабыл.
— Кто хочет узнать свое будущее? — спросил святой отец. — Посредник сегодня любезен и общителен.
Никто не отважился. Это не шутка! Здесь речь идет о жизни и смерти. Только маленький Сирмаи заерзал на стуле: он еще ребенок, да к тому же — Сирмаи; он ничего не боится.
— Ну, спрашивай, маленький графчик!
— Какова моя судьба? — храбро спросил мальчик.
Ответ гласил: «Ты умрешь, окруженный королевской роскошью».
При таком блестящем предсказании ее сыну глаза госпожи Сирмаи наполнились слезами умиления; с той поры она слепо верила постукиванию стола, который так щедро одарил ее радостью.[62]
Стол накренился, словно его кто-то оттолкнул, нервная дрожь прекратилась, и все почувствовали, что он снова стал безжизненным куском дерева.
— Удалился, — сказала с сожалением одна из юных графинь Сирмаи. — Может быть, он рассердился на что-нибудь.
— Да что вы, — ответил священник. — У них такой обычай. Появляются и исчезают. Этот еще хорошо поступил, ответил все-таки. Но сейчас придет другой. Возможно, Роза. Тсс, стучит! Слышали? Это дух. Тук-тук. Прошу вас, мадам, записывайте!
— Кто здесь?
Мадам записала буквы: «Игнац Медве».
— Ха-ха-ха! Игнац! — смеялись старики. — Здорово получается!
Бутлер с победоносным видом и иронической улыбкой снял руки со стола: ну, ясно же, что это чепуха! Маришка сердито ударила локтем по чудодейственному столу:
— Опять эта Рожика путает нам все!
В ответ на удар, нанесенный локотком молодой баронессы, стол заскрипел и затрещал, словно заплакал, а затем завертелся так быстро, как чертополох осенью в полях. Одновременно то внутри его, то в ножке, а то и в одном из стульев слышались такие резкие, наводящие ужас звуки, что все присутствующие задрожали.
— И все же это доктор, — изрекла Анна Ижипь почти в трансе.
Обе девицы Ижипь являлись настоящими трансмедиумами[63]. У обеих в загробном мире имелись астралы[64], которые даже непосредственно соприкасались с ними, хотя девицы и не знали этого. Они только наполовину существовали в этом мире, только наполовину являлись самими собою, в остальном же их дополняли астралы. На их лице и руках часто можно было заметить конвульсивную дрожь. Старик Ижипь рассказывал, что после каждого спиритического сеанса они так утомлялись и приходили домой такими обессиленными, словно целый день проработали в поле.
— Тише, прошу вас, дамы и господа! Посмотрим, что бы это могло значить.
Стол успокоился, постукивания стали более тихими и ровными и с редкой внятностью передавали ожидаемые буквы Мадам Малипо еле успевала записывать их на бумагу.
Все с любопытством склонились к мадам Малипо, желая поскорее прочесть то, что она писала:
«Я обещал, что приду сказать, как обстоят дела на том свете. Не тратьтесь на докторов. Смерть по сути дела — всего лишь незначительная перемена. Душа меняет место, плоть — форму».
— Уму непостижимо! — воскликнул священник, опешив. Старик Дёри нагнулся, чтобы исследовать стол, потом со смехом взглянул на сидящих.
— Кто из вас проделал эту шутку?
— Странно, — размышлял вслух майор Борхи. — Ведь так мог ответить только доктор. А правда ли, что мадам не понимает по-венгерски?
В этот момент во дворе послышался конский топот, и меньше чем через минуту раздался тревожный стук в дверь. Все вздрогнули, хотя духи обычно проникают иным путем.
— Войдите!
На пороге показался жандармский фельдфебель в кивере, с сумкой и саблей на боку.
— Что случилось, Есенка?
— Осмелюсь доложить, ваше высокоблагородие господин уездный начальник, на проселочной дороге, что ведет на Бенье, сторож Бальбо нашел труп доктора Медве.
Лица всех присутствующих побледнели, остановившиеся глаза выражали ужас. Все повскакали со своих мест; сам барон буквально остолбенел от неожиданности. Даже шимпанзе проник через отворенную дверь в комнату и печально уставился на жандарма.
— Бре-ке-ке! — пробормотал барон. — Быть этого не может! Два часа тому назад он ушел отсюда. Кто сказал тебе об этом?
— Сам видел.
— Видел доктора?
— Так точно, видел.
— Ну и…
— Больше на этом свете он уже не напишет рецепта.
— Он убит?
— Я не заметил на нем никаких следов насилия. Правда, я не осмотрел его как следует — спешил доложить вашему высокоблагородию, а также получить распоряжение, как поступать дальше.
— Я сейчас же напишу донесение вице-губернатору, чтоб он к утру прислал комитатского судебного медика. Отправишь рапорт с нарочным. Понял?
— Так точно. А как же быть с трупом?
— Не трогать, пока я не осмотрю, или… даже нет, пока его не обследует медик. Охрану выставил?
— Двух жандармов…
— Надежные? Не обчистят его карманы?
— Вполне надежные, могу поручиться за них.
— Чем они занимались раньше?
— Один из них, Андраш Кажмари, пришел к нам из шайки Яношика, парень что надо — кремень! Второй — Йожи Коломпош.
— Это какой Йожи Коломпош?
— Изволите знать — тот, что сидел в Мункаче за убийство. Барон смерил фельдфебеля сердитым испытующим взглядом.
— И ты ручаешься даже за убийцу?
— Именно поэтому, ваше высокоблагородие: тот, кому хоть раз удалось крупное дельце, не станет размениваться на мелочи.
— И все же, милейший Есенка, возвращайся-ка туда сейчас же и сторожи до утра, пока я не приеду. Смотрите мне, чтоб пальцем не трогать! Ночью я все равно ничего там не разберу. Темно ведь, кажется?
— Все небо в тучах, можно ждать дождя.
— Захвати отсюда рогожу — возьми у гайдука — да накройте мертвеца, только поосторожнее. Бедный Игнац! Бедный Игнац! И за столом нас, кажется, было не тринадцать! Эхе-хе!.. А ты, Есенка, подожди снаружи; я сейчас напишу письмо вице-губернатору.
Пока Дёри в своей канцелярии сочинял донесение и надписывал на конверте «Cito citissime»[65] бледные и подавленные гости, как и полагается в таких случаях, вспоминали последние слова умершего. Каждый припоминал что-нибудь интересное, даже удивительное. «Нынче, — соглашались все, — он был особенно странным. Почему именно сегодня заговорил он о загробном мире? Потому что он, бедняга, уже готовился туда».
— А помните, что он ответил Дёри, когда барон предложил ему взять в дорогу пистолет? Он сказал: «Того, кто страшен мне, пуля не возьмет». Ну, не удивительно ли? Ох, знал он, что смерть караулит его по дороге. Умница был этот доктор, надо признать. Нам уж не заполучить больше такого в нашу округу, упокой, господи, его душу!
— А какой обязательный человек был покойный!
— Вот он даже с того света пришел, раз пообещал. Совершенно небывалый случай! Я до сих пор не могу опомниться, — сказала старая графиня Сирмаи.
Студенты тоже до глубины души были потрясены происшедшим.
— Никогда не забуду этого, — бормотал Бернат.
— Ну что вы теперь скажете, Фома неверный? — спросила юная баронесса у Бутлера, который расхаживал взад и вперед по комнате, белый как стена и подавленный всем случившимся.
— Я сдаюсь! — ответил он задумчиво.
Баронесса отошла к столу, чтобы снять нагар со свечи. Сучинка в это время беседовал с управляющим о том, какая большая потеря для души, если человек отправляется на тот свет без исповеди. Вот и бедняга доктор тоже… Услышав шелест Маришкиного платья, он обернулся и сделал несколько шагов в ее сторону.
— Он все знал, но ничего не выдал, — шепнула девушка. Святой отец самодовольно улыбнулся:
— Я закрыл ему рот золотым замком…
Все вздыхали, сожалели, лишь в старике Ижипь зародилась некоторая зависть: «Ах, какая у него была интересная смерть! Сколько будут говорить о ней в комитате! Другой человек проходит по жизни незаметно и так же незаметно уходит из нее, как муравей. Вот, например, муравей переползает через черный камень. А кто это видит? Ни камень не оставляет на нем никаких следов, ни он на камне. Какая удача выпала этому доктору!» Бедный старик Ижипь тоже стоял уже почти на пороге смерти, поэтому ему, конечно, было небезразлично, при каких обстоятельствах она наступит.
— Я готов биться об заклад, — шамкая, говорил он майору, — что этот случай будет даже напечатан в кашшском календаре — до того он удивителен. Хотелось бы мне знать: а что, его душа все еще пребывает в столе?
У майора зуб на зуб не попадал.
— Я никогда не боялся живых людей, но это уж слишком… Черт возьми, этого я не могу вынести.
Он попросил своего брата распорядиться, чтобы запрягали лошадей, только ехали бы, если можно, другой дорогой, не там, где лежит труп доктора: его нервы не вынесут этого зрелища.
И только маленький Сирмаи отважился предложить еще порасспросить доктора о загробном мире. Сейчас он, наверное, все расскажет, потому что боженька, видно, еще не успел запретить ему это. Жалко было бы упустить такую возможность.
Барон, вернувшийся из канцелярии, также ухватился за мысль, высказанную мальчиком: а что, если все-таки произошло убийство? Дух доктора, возможно, сумел бы назвать убийцу. Уж он, Дёри, показал бы тогда господам комитатским заседателям, на что способен старый солдат! Он создал бы видимость, что это он своим чутьем распутал нити преступления.
— Правильно! Поговорим с духом! Только позвольте мне его спросить.
Однако об этом не могло быть и речи. Страшный случай лишил всех храбрости. Никто не решался даже приблизиться к колдовскому столу.
На улице тем временем стало темно, хоть глаз выколи. По оконным стеклам забарабанили первые капли дождя. Теперь уж и это действовало на нервы.
Гости по одному начали прощаться; каждый из них просил у барона провожатого с фонарем, чтобы добраться до дому. Барон показал студентам их комнату и пожелал им спокойной ночи.
— Когда вы собираетесь ехать?
— Сразу же на рассвете.
— Хорошо, я прикажу кучеру.
— Тогда, если разрешите, мы простимся с вами.
— Благослови вас бог, мои мальчики! Смотрите не забывайте о своем обещании.
Барон не мог заснуть всю ночь. Мебель в комнате трещала и поскрипывала, стакан с водой на ночном столике лопнул, — словом, ему чудились различные таинственные знамения.
«Хорошо, хорошо, друг Игнац, я уже еду, я сейчас же еду. Конечно, тебе не очень-то приятно там лежать, но я уже выезжаю».
Как только на востоке заалело, он встал и помчался к месту происшествия.
Дёри не обнаружил ничего подозрительного. Старый Медве лежал на земле, под хилым грушевым деревом, с открытыми глазами. Застывший взгляд его остекленевших глаз был странен; казалось, он хотел что-то сказать. Очевидно, старика по дороге хватил апоплексический удар.
Когда барон склонился над ним, он услышал тиканье карманных часов доктора. Созданная человеком машинка еще работала, а созданная богом остановилась навеки. Какая-то горечь закралась в сердце Дёри. Тяжело думать, что часовщик-самоучка смог создать механизм более прочный, чем творец всего сущего на земле. Как велик человек и вместе с тем как он ничтожен! Вот этот, что лежит здесь, несколько часов назад был ученым, а сейчас безжизнен, как ком земли, на который он упал.
— Есенка, вынь у него из кармана кошелек, часы, бумаги. Поглядим-ка, а потом я возьму их с собой.
Есенка обыскал мертвеца, но ценного нашел при нем немного: на пальце кольцо-печатку с аметистом, серебряную луковицу в кармане (она-то и тикала), табакерку розового дерева для нюхательного табаку с миниатюрным портретом доктора Гильотена, украшенную перламутром зубочистку и кошелек.
Барон открыл кошелек и насчитал в нем девяносто форинтов ассигнациями, а бумажные деньги тогда дешево ценились.
— И больше ничего?
В карманах брюк жандарм нашел ключ, три талера и несколько медных грошей.
— А вот еще, извольте посмотреть, записка, но она разорвана.
— Все равно, давай сюда: может быть, в ней что-нибудь важное.
Дёри бросил беглый взгляд на разорванную бумажку.
— Ничего особенного, — проговорил он, узнав свою голубую диошдёрскую бумагу * и почерк Сучинки.
Должно быть, это обрывок письма, которое вчера по его просьбе священник послал доктору, приглашая его приехать к заболевшей Маришке.
Он уже собирался бросить бумажку, как вдруг на глаза ему попался обрывок фразы: «…скройте истину от отца девушки».
Барон страшно удивился. Какая девушка? Какой отец? Ведь речь могла идти только о Маришке, а ее отец — это он сам. Значит, от него скрыть истину? Какую истину?
Записка заплясала у него перед глазами. Разгладив смятую бумажку, барон прочел: «Мы щедро вас вознагра…» Окончание слова было перенесено на другую строчку, но этот кусок был как раз вырван (верно, зажигали трубку), и разобрать можно было еще только два слова в самом низу: «Прилагаю 50 форин…»
— Ищите, — возбужденно прохрипел барон. — Там должны быть еще бумаги.
Но в карманах доктора больше ничего не нашли. Впрочем, и этого было достаточно. Все закружилось у барона перед глазами. Страшное подозрение родилось в его голове. Бог мой! Возможно ли! Это чистое, невинное дитя…
Лоб у Дёри покрылся испариной, хотя раннее апрельское утро было холодным и легкая серебристая кисея инея покрывала траву, а ветви низкорослой груши зябко жались одна к другой. По ту сторону проселочной дороги тянулся к небу тонкий, стройный тополь; на нем уже сидели два ворона и не сводили глаз с мертвого тела. С серьезным видом они мирно сидели рядышком на единственной отлогой ветке и, должно быть, думали про себя: «Если бы эти люди не толпились здесь, доктор был бы уже нашей добычей».
Тем временем на телеге прибыл Мартон Жомбек — староста села Бенье; а с ним вместе Михай Коппанто и экономка доктора. До них уже дошла ужасная весть, и они поспешили на место происшествия. Староста обстоятельно, в пространных выражениях пожелал доброго утра его высокоблагородию господину уездному начальнику, после чего стал нещадно скрести затылок; его примеру последовал и Михай Коппанто, сожалея по поводу такого печального совпадения, что именно под этой грушей угодно было опочить господину Медве. Плохое это предзнаменование. Они никак не могли взять в толк — мало, что ли, других деревьев кругом?
В другое время Дёри, возможно, обратил бы внимание на их неудовольствие, но сейчас его мысли были далеко. Только через несколько лет выяснилось, почему сельскому старосте так не понравилось, что доктор умер именно под этой грушей. Дело в том, что как раз под ней была зарыта в жестяном ящике выручка от проданного вина — две тысячи форинтов, которые стерегли, для отвода глаз, в помещении сельской управы вооруженные вилами люди.
С мрачным лицом выслушал Дёри старосту, затем передал ему вещи, найденные при умершем, — все, кроме записки.
— Отвезите тело доктора домой, — распорядился барон, — никаких следов преступления здесь нет.
Сказав это», он сел в экипаж и погрузился в свои мрачные думы. Постепенно он вспомнил все, в том числе и вчерашнее замечание доктора, когда барон выслал попа вместе с Маришкой в соседнюю комнату: «Было бы куда лучше, если бы ты сам приложил ухо к замочной скважине».
Все понял теперь барон! Ему казалось, что он сойдет с ума. — Гони, гони! — кричал он кучеру. Пара гнедых, как ветер, мчала легкую бричку. Я убью девчонку! Она должна умереть? — твердил себе отец. — Зачем, зачем ей жить на стыд и позор? А что будет потом, что будет потом? Ее похоронят, да, похоронят. А что станется со мной? Я скажу: «Она была моей дочерью, я поступил с ней так, как она того заслуживала. Я дворянин и иначе поступить не мог!»
На этом он и успокоился бы, если б не тысяча чертей, терзавших его. Один из них, казалось, разрывал ему сердце, второй сверлил в мозгу, а третий нашептывал:
«Какая тебе польза от того, что ты дворянин, что ты отомстил и наказал, если ты никогда больше не увидишь ее возле себя, если утром не придет она к твоей постели и не скажет: «Доброе утро, папочка», не рассмеется, не погладит твою бороду? Что тебе за честь, если ты больше не услышишь ее звонкого голоса во дворе, да и вообще уже нигде, нигде на этом свете? Какая тебе польза от того, что люди будут говорить за твоей спиной: «Гордец, высоко ценит свою честь!» А потом ты сам виноват, почему плохо следил? Кровь есть кровь. Она бурлит и волнуется. Даже вода от огня закипает. Так кто же виноват? Ты сам!»
Был и еще один черт (в таких случаях их набегает целая орава). Четвертый черт говорил: «Послушай-ка, Дёри, дам я тебе хороший совет… Гм, хороший совет… Дерзкая штука, это верно, но можно попробовать…»
Дёри стал еще пуще подгонять кучера:
— Быстрее, олух!
А между тем лошади уже были в мыле (его было столько, что и сто человек могли бы побриться). Когда они въехали во двор, у коренной дрожали ноги.
Барон выпрыгнул из экипажа. Навстречу ему попался работник с мотыгой и корзиной.
— Что, студенты еще не уехали? — взволнованно бросил ему барон.
Работник почтительно вынул изо рта трубку, переложил ее в левую руку и ответил:
— Нет, барин, уже уехали. За это сообщение он получил такую оплеуху, что мотыга, корзина и трубка вылетели у него из рук; и на третий день после этого он все еще ходил с распухшей щекой.
На крыльце стояла мадам Малипо в красном ночном капоте и вытряхивала белье.
— Что нового, мосье? — спросила она у барона, заслышав его шаги по каменным ступеням террасы. — Что-нибудь удалось выяснить?
Женщина сгорала от любопытства. Ей не терпелось узнать, была ли то естественная смерть или убийство.
— Да, выяснилось, — ледяным тоном заявил Дёри, — что вы разиня, глупое создание и что я больше ни минуты не собираюсь держать вас у себя в доме. Укладывайте свои пожитки и скажите кучеру, куда вас отвезти.
Мадам побледнела как смерть.
— Но, сударь, это же невозможно! Вы, наверное, шутите? — пролепетала она.
Дёри даже не удостоил ее ответом и, тяжело дыша, бросился в комнату дочери. На пороге сидел шимпанзе, а неподалеку от него умывалась большая пестрая кошка. Они смотрели друг на друга и, казалось, улыбались.
Дёри отшвырнул ногой обезьяну (на что та заворчала и поспешила убраться с глаз долой), рванул дверь и крикнул громовым голосом:
— Вставай, несчастная!
Маришка еще спала в своей белоснежной, убранной кружевами постели; ее глаза, опушенные черными шелковистыми ресницами, были закрыты. Голова покоилась на самом краю подушки; прекрасные длинные волосы волнами струились до самого пола, и солнечный луч весело играл в их волшебных прядях.
От грохота распахнувшейся двери и резкого окрика девушка вздрогнула, открыла глаза и улыбнулась, увидев отца.
— Ты что-то кричал?
Старик пришел в смущение. Ах, лучше бы он не видел этой улыбки! Он покраснел, стал подыскивать слова.
— Да, да, я крикнул… я сказал…
— Что ты сказал, папочка?
— Вставай, моя малютка. Я хочу с тобой поговорить. Голос его был уже кроток и бесконечно печален.
ГЛАВА ПЯТАЯ Любитель загадок
Итак, студенты отправились в путь. То-то будет сегодня радости в Борноце!
С самого рассвета вся помещичья усадьба на ногах. Три дородных служанки хлопочут на кухне под началом у поварихи Видонки, которая то и дело гоняет их с поручениями во все концы.
— Принеси-ка немножко корицы! Подай сюда противень, вон тот, что получше! Ты уже нашпиговала цыпленка? Ах ты, дура, пережарила сало! Куда ты девала имбирь?
В каждой кастрюле что-нибудь булькает. Эржи принялась сажать в жарко натопленную печь куличи, смазывая их яичным желтком при помощи мягкого гусиного пера. Даже мужскую половину прислуги послали на кухню. Возчик Янош толчет мак в ступке, а выездной кучер Йошка, поскольку он нанимался только на чистую работу, сбивает масло, заигрывая с хохочущими женщинами. Не слушай ты его, Панка, выронишь тарелку! (Панка сбивает на тарелке яичный белок.)
Сам старый барин чуть свет отправился из дому с ружьем настрелять какой-нибудь дичи для мальчиков, хоть сейчас еще плохая охота.
Больше всех, однако, волнуется хозяйка, она то и дело жалуется, что время года сейчас неудачное и ничего еще нет: огурцы, хоть их и выращивали в парнике, совсем крохотные, вилковая капуста, необходимая для любимого блюда графа Яноша — мяса, завернутого в капустный лист, вся вышла; утята еще в пушку, гусята — тоже; запас прошлогодних фруктов и винограда уже иссяк.
— Ах, боже мой, боже мой! Чем же мне кормить бедняжек? И кажется, что на причитания хозяйки кастрюли отвечают веселым шипением — ш-ш… ш-ш… Это пар поднимает их крышки и с шумом вырывается на волю! В духовке румянится поросенок; в большом чугуне лениво стонут пухлые голубцы — ох! ох! — а посреди печки в кастрюле сердито шипит жир и крутит-гнет брошенный в него сдобный хворост.
Но госпожу Бернат тревожило и другое. Не случилось ли с мальчиками какой беды в дороге? И где они заночевали? А то, может быть, шли слишком быстро и Жигушка, разогревшись, напился холодной воды? Пора бы им уж и прийти.
— Марци, постреленок, поди-ка сюда.
— Слушаю, ваша милость.
— Поднимись на колокольню и посмотри, не видать ли их на дороге? Господин кантор * даст тебе ключ от церкви, если ты скажешь, что я просила.
Марци, оборванный, босоногий мальчишка, которому летом случается выезжать за берейтора, вертится сейчас на кухне, ожидая, не перепадет ли что с господского стола. Обрадовавшись поручению, он стремглав бросился на колокольню. Правда, колокола, по словам Йошки Тормаши, церковного служки, увезли в Рим, но колокольня, к счастью, не последовала за ними.
Поднимаясь по ступенькам лестницы, Марци, поскольку он был в храме божьем, думал о смерти Иисуса, однако, вспоминая о вкусных запахах, наполнявших кухню, вскоре пришел к выводу, что спаситель умер не столько ради всего человечества, сколько ради двух студентов из Шарошпатака. Но тут мальчик с удивлением заметил, что колокола на месте, а вовсе не в Риме. Так в его душу закралось первое сомнение…
Вот мальчик уже возвращается к барыне с вестью, что на дороге не видать никого в господском платье, только вдалеке у речки Куцорго показался какой-то экипаж.
Барыня принялась снова охать и ахать, но в самый разгар ее причитаний во двор усадьбы вкатила коляска — та, которую Марци заметил с колокольни, — и из нее выскочил Жига, а затем и Янош.
— Йезус-Мария! Так это вы? А я-то думала, какие-нибудь почтенные господа.
И уж нет конца поцелуям, расспросам: «Когда вышли?» — «Еще вчера утром». — «Как, вы ночевали у Дёри? Знавала я его еще в молодости, бравый был офицер. Так он женился? Ну да, конечно, — тут же сама себе отвечает барыня, — раз говорите, у него дочь. Красивая? Впрочем, сейчас все красавицы. Ведь для этого достаточно купить в аптеке белил да румян. Значит, вы приехали в его коляске? Сразу видно, добрый человек. Панка, чего стоишь, рот разинула? Беги скажи тетушке Видонке, чтоб угостила кучера всем, чем положено. Ну, заходите ж в дом! Сейчас вернется ваш отец. Ой, да что я говорю? Я прямо с ума сошла. Мне иногда в самом деле кажется, что ты, Янош, тоже наш сын родной. Не обижайся за это на свою старую тетку. Да вы что, онемели, что ли? Слова от вас не добьешься! Или вы и профессорам так отвечаете?»
— Дорогая мама, профессор задает одновременно только один вопрос.
— Зато потруднее, не правда ли, мой мальчик? Ой, да как вы исхудали! Ну ничего, дело поправимое. Откормим!
Вскоре пришел и хозяин дома, в прошлом судья во многих комитатах, и снова начались объятия, расспросы. Наконец появились родственники и знакомые, дамы и господа, пришедшие поглядеть на молодых людей, о приезде которых уже говорила вся деревня. Об этом толковали в каждом доме, где была печь с трубой * и в саду цвели герань и вербена, — словом, где жили девушки. Ох, и веселая же будет нынче пасха. Вот уж предстоит лочолаш! * Сейчас поди в каждом доме красят яйца к празднику. Сколько веселья, танцев! Ведь к Бернатам на каникулы приехали студенты!
Весенний день долог, и скоро наши герои вновь так свыклись с уютными комнатами родного дома, с милым теплом родительского гнезда, с чудесами кулинарного искусства тетушки Видонки, с запахами галочского табака, что отлетели прочь, в туманное далеко, воспоминания о сумрачном университете, о старом замке в городе Патаке с его древними стенами, домиками и жителями; юношам уже казалось, что они никогда не уезжали из дому, а если и уезжали, то всего на полчаса, и каждый из них снова принялся за те дела, которые минувшей осенью пришлось забросить из-за занятий. Жига отправился на скотный двор и принялся осматривать по очереди коров, быков, буйволов, поздоровался со своим любимым скакуном Мотыльком, тот тоже узнал его и радостно заржал.
Янош же пошел побродить по парку, взглянуть на знакомые места. Он был очень счастлив, что остался наедине с самим собою.
Цвели только абрикосовые деревья да черешни, которые доверились весеннему солнцу и раскрыли свои лепестки навстречу первым теплым его поцелуям. Ах, как часто они обманываются! Ведь впереди еще три суровых святых — Сервац, Панграц и Бонифац; уходя, зима сбросила со своей телеги этих святых, и они, изрядно отстав, пешком бредут за ней следом. Разумеется, распускается и сирень, ну да ей все равно: она бесплодная смоковница среди деревьев! Ей нет нужды плодоносить, отцвела — вот и выполнила свою обязанность. Огромные могучие дубы медлительны и степенны, на них не набухают почки, великаны-деревья думают, что все еще зима, и продолжают спать.
Погруженный в свои думы, граф Янош неторопливо шел в глубь сада, по берегу журчащего ручейка, что струился по пестрому галечнику, минуя один за другим пять или шесть маленьких мостиков. За последним мостиком возвышалась каменная ограда; она преградила бы ему путь, если б внизу не было отверстия с решеткой, через которое ручей уносился в соседний обширный парк.
Больше всего на свете любит граф Янош этот ручеек. Ведь он, этот маленький поток, относил его письма туда, в милый его, сердцу парк. И сейчас ручеек стремится туда, как и мысли Яноша, — всегда только туда…
Да что нам таиться от читателей, от стольких умных людей, когда об этом чирикают все окрестные воробьи? Почему нам не сказать, что соседний парк принадлежит Миклошу Хорвату, чей дом белеет вон там на холме (вернее, крыша которого виднеется из-за елей и берез), что у старого Хорвата есть дочь по имени Пирошка и графу Яношу она милее всех девушек на свете.
Старый Хорват — один из богатейших людей в округе, но, будучи сыном бедного меховщика, он еще не совсем признан сословным миром. Свое богатство он приобрел несколько необычным, можно сказать даже постыдным способом, — с помощью собственного ума. Другие господа добывали себе богатство мечом или при содействии обручального кольца. Tertium nоn datur.[66] Дело в том, что в молодости Миклош Хорват был преподавателем химии в городе Кашша, но оставался бедняком, как и прочие его коллеги, которых, по-видимому, не любили боги. Он носил духовный сан, но, влюбившись в одну девушку, сбросил сутану, оставил кафедру и, поскольку ничего на свете, кроме химии и поэзии, не знал, задумался над тем, как обратить свои познания в деньги.
Ну, из поэзии денег извлечь нельзя. Печальным примером этому служит судьба Витеза Михая Чоконаи, который в дырявых сапогах ходил от мецената к меценату. А ведь эти меценаты живут так далеко друг от друга! Но Чоконаи не имел жены, а у Миклоша Хорвата была красивая супруга, которая вскоре осчастливила его двумя дочками-близнецами. Ясно, что требовалось изыскать какие-то иные средства, и, разумеется, скорее с помощью химии, чем поэзии.
Вскоре Миклош Хорват, единственный сын у отца, после его смерти получил в наследство что-то около шести тысяч форинтов. Тут ему и пришла в голову мысль заняться винокурением. Но поскольку простая водка была очень дешева, так как ее пьют только мужики, Хорват решил выдумать что-нибудь новое. Он знал, что крестьяне на больших празднествах по случаю свадеб и крестин подслащивают обыкновенную водку медом, и в таком виде ее с удовольствием пьют даже женщины. Вот он и надумал производить особую наливку, специально для господского сословия. Ведь у господ есть деньги, и они в состоянии хорошо заплатить.
Обдумав все, Миклош Хорват пришел к выводу, что его напиток должен быть цвета розы и по сладости не уступать сахару, а кроме того, быть ароматным и пряным, иметь привкус тмина, — столь приятный венгру. Изготовил наш почтенный Хорват эту хитроумную смесь и назвал «Розовой наливкой». Купил чаны, привез из Вены перегонный аппарат, который только что изобрели в то время, и начал в больших количествах гнать этот небывалый напиток.
Соседи и родственники только головами качали:
— С ума ты сошел! Думаешь, люди покупать будут? Не так-то легко расшевелить венгра. Задумано неплохо, и наливка неплохая, да где покупатели?
Хорват хитро улыбнулся:
— На кладбищах…
Тогда все решили, что он просто спятил. Однако Миклош Хорват не был лишен изобретательности и, когда увидел, что дело и впрямь не двигается, послал своих людей в Верхнюю Венгрию, поручив им собрать по церковным приходам сведения, где и кто из богатых господ недавно скончался, оставив после себя большое наследство.
Вскоре посланные Хорватом люди возвратились со списками. И вот наш Хорват, нагрузив телеги бочками с наливкой, распорядился отвезти во все осиротевшие имения по бочонку своей «Розовой». Агенты отправились и, останавливаясь перед каждым погруженным в траур замком, скатывали бочонок, заявляя, что, когда они в прошлый раз проезжали мимо, барин велел доставить ему этот напиток.
Наследники удивлялись — или даже не удивлялись — и говорили, что прежний хозяин успел за это время умереть, но раз уж так все случилось, чтоб не доводить дело до тяжбы, они возьмут бочонок «Розовой», хотя и не знают, что это за штука.
— Не беспокойтесь, не пожалеете, — уверяли продавцы. И люди действительно не жалели. Так, не всегда по доброй воле покупателей, сбыт расширялся. Возвращаясь порожняком домой, агенты записывали у священников имена новых «покупателей» из числа недавно преставившихся. Провидение было последовательно в одном: смерть не щадила и знатных господ, не так, как парижская гильотина, которая лишь однажды произвела в их рядах заметное опустошение.
Итак, список все время пополнялся, и повозки Хорвата снова и снова отправлялись в путь. Каждый раз число этих повозок возрастало, и теперь они уже добирались до самого Алфёльда и за Дунай, до Загреба и даже дальше. Ведь добрые хорваты тоже любят хорошую водку, и они, как все люди, смертны.
За десять — пятнадцать лет винокурни Хорвата сильно разрослись; с утра до вечера кипели котлы, и денег у хозяина скопилось такое множество, что он не знал, куда их девать. Когда же император Франц призвал комитатское дворянство и магнатов исполнить свой долг и принять на себя часть бремени войны против французов, Миклош Хорват один послал в Вену не меньше волов, чем целый комитат Сатмар. Что касается Сатмара, то истории известно, что он послал императору тысячу волов, как это и отметила тогдашняя эпиграмма:
Тысячу волов послал Сатмар императору. Император же послал в Сатмар только одного.Дело в том, что именно в тот год император назначил в Сатмар нового губернатора. По отношению к Хорвату император проявил большую щедрость, чем ко всему комитату Сатмар: пожаловал винокуру дворянство, добавив к его фамилии постоянный эпитет «Сильваши»[67]: (Это-то как раз и не соответствовало истине, потому что Хорват готовил свою «Розовую» из чего угодно, только не из слив.)
Став дворянином, Хорват перестал гнать водку (занятие это уже не приличествовало его новому званию) и купил у промотавшихся графов Цобор большое имение, где и поселился со своими дочерьми, уже успевшими к этому времени подрасти.
Так старый Хорват стал богатым человеком и дворянином. Венгерское дворянское сословие в свое время было мудрым политическим учреждением, бассейном, собиравшим все, что было лучшего в целой стране.
Стоило только кому-либо снискать авторитет и уважение в той или иной области или приобрести капитал, духовный или материальный, представляющий какую-то ценность, то, будь он румын или немец, безразлично, его тотчас же включали в дворянское сословие. Девиз был один: «Впитать все сильное». Нация потому и смогла сохраниться так долго, что всякого, кто мог быть опасен для нее извне, она принимала в свое лоно. Снаружи оставались только слабые и беспомощные. Надо признать, что предки наши были умные люди. И вы, господа демократы, не плюйте на полинявшие и обветшалые старинные гербы. Это — реликвии. Из них, этих маленьких гербов, была сложена та баррикада, которая обеспечила неприкосновенность большого святого герба, того, что вы собирались однажды переделать, поправ вековые традиции и заменив их масонским духом.
Венгерское дворянство не было непроницаемой стеной, отделявшей привилегированные классы от народа; в этой стене широко были открыты ворота для всех тех, кто заслужил право войти внутрь.
Но, несмотря на все богатство Хорвата, дворяне и даже другие Хорваты — из села Бибит, из Фельшёбогача, из Надьварада, из Петричевича, из Виксита — не любили его. Визит Хорвата к родственникам остался без ответа. Свою неприязнь они объясняли не тем, что Миклош Хорват занимался винокурением, а тем, что он сбывал свою водку обманным путем, за счет усопших; но он прибегал к такой хитрости лишь вначале, позднее его торговля шла отлично и без помощи каких-либо уловок.
Вот почему в доме Сильваши-Хорвата бывали только представители мелкого дворянства, из числа «ходивших в бекеше» *. Но порою и их злила роскошь в доме Хорвата, и тогда они тоже отпускали колкие шутки по его адресу, на которые, впрочем, будучи человеком добродушным, он не обращал внимания.
— Ничего, — говорил старик, — дворянству, как и холодцу, нужно время, чтобы застыть.
Следует признать, что было в нем кое-что от выскочки, этакое чванство, потому что он всем обязан был только самому себе. Пришла же ему, например, в голову дурацкая прихоть переделать свой дом на манер небольшого средневекового замка. Даже если такая фантазия и не вызвала бы всеобщего возмущения, было по меньшей мере опасным делом бравировать подобными вещами после Робеспьера и Марата! И пусть возведет он башню из мрамора, пусть покроет ее серебром — все равно не то. Вот, например, в доме Берната никакой особой роскоши нет, только фасад украшен четырьмя колоннами, а все же дом многого стоит хоть бы потому, что в одной из угловых его комнат однажды проездом из Капоша почивал сам Ференц Ракоци с супругой. Больше того! Князь забыл в доме обитый медью ларец, в каких путешествовавшие магнаты возили в ту пору деньги (разумеется, пустой). Кроме того, утром, когда паковали вещи, фрейлины княгини (эти уж поистине даром ели хлеб!) умудрились оставить в комнате корсет своей госпожи.[68] Удивительно, как он только сходился на ее талии, зато выше, на груди, он раздавался вширь.
Судите сами, мог ли господин Хорват построить дом, подобный тому, в котором княгиня Ракоци забыла свой корсет? Конечно, нет!
Но Хорват не смущался и корчил из себя настоящего владельца замка, поступая подобно обезьяне в доме Дёри, которая, увидев однажды, как сапожник снимает мерку с изящной ножки баронессы Маришки, тоже протянула мастеру свою лапу.
Миклош Хорват соорудил башню, подъемный мост, и, когда он бывал дома, над башней поднимали флаг с гербом Хорвата, изображавшим воловью голову. (Н-да, император Франц и тут не изменил своему обыкновению расплачиваться за тысячу волов одним!) Только все же куда красивее был герб Бернатов — на голубом поле пронзенная мечом нога!
Когда Хорват садился обедать, в замковой башне трижды трубили в рог, — словно для того, чтобы все село, заслышав этот неблагозвучный призыв, говорило: «А, у Хорватов уже суп подают». Несравненно приятнее для слуха благородный звон двухсотлетней серебряной посуды в доме Берната, особенно если он сопровождается звоном столетнего фарфора.
В Хорвате бывший профессор химии забавно уживался со средневековым феодалом, вроде тех, о которых он начитался в сказках. Поэтому он производил на всех поистине комическое впечатление. Ведь как, например, он выдал замуж свою дочь Розалию — смех, да и только!
Это была красивая, статная девушка, прямо императрица Мария-Терезия в молодости. Далеко окрест распространился слух, что за ней обещано богатейшее приданое, и женихи стали слетаться отовсюду, как шмели на мед.
Все сгорали от любопытства: кому же достанется в жены «Розовая Роза», как за глаза звали ее в «аристократическом» мире.
Заносчивый выскочка объявил, что он плюет на ранги, происхождение и богатство и выдаст свою дочь только за умного человека, который сумеет ответить на три его вопроса. Старая обезьяна! Видно, начитался сказок о том, что прежде рыцарь, добиваясь руки дочери какого-нибудь обитателя замка, должен был срубить мечом с волшебного дерева три золотых яблока.
Так вот, приехал свататься один молодой человек из Вены, слывший большим умницей; уверяли, что его ждет большое будущее, что он может стать даже канцлером. Вот какой слух предшествовал его появлению в доме Хорвата!
Ну что ж, очень хорошо! Выслушал Хорват молодого человека ласково, пригласил отобедать, пообещав сразу же после обеда дать ответ. За столом толковал он с молодым человеком о всяких не относящихся к сватовству делах. В частности, сказал ему, что в свое время тоже бывал в Вене и всегда останавливался в гостинице «Мачакер-хоф», а затем тут же рассказал, откуда получила она свое название. «Говорят, — повествовал старик, — что, когда закладывали фундамент, откопали жестяной ящик. Вырыли его, открывают, а в нем большие и маленькие мачакеры. Отсюда, сынок, и пошло название гостиницы «Мачакер-хоф».
Молодой человек слушал с серьезным и довольным видом: что ж, узнает, по крайней мере, происхождение названия. Больше ничего особенного он в рассказе старого Хорвата не заметил, подумав про себя: «Какой дурацкий анекдот». Анекдот был действительно глупый, к тому же не новый даже и по тем временам. Но господин Хорват вдруг заметно охладел к жениху, а после обеда заявил, что его дочь слишком молода и замуж ей еще рано.
— Ах, господин Хорват, сознайтесь, что это только предлог для отказа. Я чувствую, что чем-то не угодил вам. Прошу вас, скажите мне честно и откровенно, в чем истинная причина?
Старик Хорват, по старой купеческой привычке, взял гостя за пуговицу, что всегда делал, когда беседовал с кем-нибудь доверительно, и сказал:
— Видите ли, любезнейший, я в вас разочаровался. У вас нет настоящего стремления к знаниям, зато очень много зазнайства. А это значит, что вам не видать большого будущего.
— Но постойте, сударь, как вы можете ни с того ни с сего это утверждать?
— Ни с того ни с сего? Разве вы, молодой человек, знаете, что такое мачакеры? Что, покраснели? Не знаете. Никогда не краснейте, если даже чего-нибудь и не знаете. Лучше спросите. Видите ли, я и сам не знаю, что такое мачакер. Но разница между нами в том, что я обязательно постарался бы узнать, а вы — нет. Никогда не буду я делать умного лица и не стану, как вы, прикидываться, будто мне все давно известно.
Словом, пришлось молодому человеку возвращаться в Вену без невесты, зато теперь он знал одним анекдотом больше. Читатель может не сомневаться в подлинности этой истории, ее сообщит вам любая старуха в округе; даже Ференц Казинци * упоминает о ней в своих записках.
Вторым претендентом на руку Розы Хорват был какой-то крупный предприниматель из Брно. Человек деловой, он не утаил от будущего тестя и того, что на приданое жены собирается открыть свои предприятия по всей Средней Европе. Старому Хорвату понравилась откровенность жениха, и он в своем обычном шутливом тоне сказал:
— Правильно, совершенно правильно. Я с удовольствием отдам свою дочь за делового человека, потому что и сам был в свое время предпринимателем. Однако вы, я думаю, уже слышали, что я немного чудаковат. Не возражайте! Знаю, что вам уже об этом говорили, и это правда. Я и впрямь старый сумасброд. Но мое помешательство не опасное, и вы не бойтесь меня. Это своего рода мания. Я имею обыкновение задавать вопросы всякому, кто сватается к моей дочери. А от ответа уж зависит остальное. Знаю, что это глупая причуда, но ничего не могу поделать.
— Да, я слышал кое-что.
— Ну, так вот, ответьте мне, пожалуйста: из Пожони в Брашшо ежедневно отправляются два почтовых дилижанса и столько же из Брашшо в Пожонь. Если, скажем, поездка занимает десять дней, сколько дилижансов встретите вы на пути от Пожони до Брашшо?
— Двадцать.
— Ну-ну, молодой человек! Подумайте получше, неверно.
— Тогда в загадке есть какая-нибудь хитрость.
— Уверяю вас, никакой.
— Значит, без всякого сомнения двадцать; или, если предположить, что двадцатый как раз прибывает в Пожонь, когда я выезжаю оттуда, тогда девятнадцать.
— Нет и нет! Очень жаль, мой молодой друг.
— Позвольте, сударь, мне удалиться к себе, чтобы там спокойно подумать над вашей загадкой.
— Пожалуйста, — презрительно усмехнувшись, согласился старик.
Целый день, как одержимый, сидел и считал предприниматель из Брно, испещрил цифрами десяток листов бумаги. Пот лил с него ручьями, но безуспешно, — каждый раз получались все новые и новые результаты. Наконец жених выпросил у кухарки бобов и, разложив их на столе, изобразил движение почтовых дилижансов на дороге Пожонь — Брашшо. Но и тут он ничего не добился, только еще больше запутался.
Хорват, видя, что у бедного жениха ничего не получается, решил больше не мучить его и сказал:
— Поймите, из вас не получится дельного предпринимателя. Вы не можете ясно представлять себе развитие событий даже на второй ступени. Ведь по дороге Пожонь — Брашшо едут и те экипажи, которые отправились в прошлые десять дней, кроме тех, что вышли в эти десять дней. Таким образом, всего по дороге движется сорок дилижансов. Что же касается вашего обратного пути, то, не обессудьте, вам придется отправиться с носом.
Вот какой вздорный человек был этот Хорват. Уж все стали думать, что его дочери так и не выйти замуж из-за чудачеств отца, как вдруг в доме появился красавец гусарский офицер, родом из Задунайщины, по фамилии Безередь, известный своей глупостью. Знакомые заранее потешались над ним: «Уж этот-то наверняка погорит». Верно, бедный Безередь пороха не изобрел, но, представьте, всему свету на удивленье он ответил на три вопроса, заданные ему Хорватом, и получил «принцессу» в жены.
Теперь уже насмешники мучились над разгадкой, недоумевая, как этому Безередю удалось перехитрить старого Хорвата. Разумеется, никто так и не решил задачи, а ларчик открывался совсем просто. У капитана были большие красивые усы, обладать же пышными усами гораздо важнее в таких делах, чем большим умом. Гусарские усы прельстили Розу, а Роза знала все вопросы отца и заранее научила усатого жениха, как на них отвечать.
Вслед за Розой пришел черед ее сестрички Катицы. На сей раз старик придумал еще более хитроумные вопросы для женихов, но ему прямо не везло. Это уж как водится: куда повадится капитан, туда и лейтенант дорогу найдет. Однако лейтенант не может серьезно претендовать на руку девушки, — было бы нескромно с его стороны. Приходится ему действовать обходными путями. И вот лейтенант Пал Лангвиц, которого капитан Безередь привел в дом своего тестя, однажды ночью, без лишних слов, похитил Каталину Хорват, сэкономив для старика несколько хитроумных вопросов. Для себя же ничего другого лейтенант до конца своей жизни так и не сумел сэкономить.
ГЛАВА ШЕСТАЯ Третья дочь
Этот удар окончательно сразил Хорвата. Разозлившись на целый свет, он решил свою младшую дочь Пирошку, девушку, красивее которой не было во всей округе, вырастить, словно турчанку, вдали от мужских глаз. Пирошка еще носила тогда коротенькие юбочки и считала, что их двор и парк, большой датский дог, ангорская кошка, барашек с синей ленточкой на шее да несколько соседних крыш, видневшихся поодаль, и представляют собой весь свет.
В силу подобного воспитания девушка никогда не слышала грубых слов; у нее не было подруг или приятелей, и она не научилась с юных лет флиртовать. Но едва молодое тело заметило, что душе не дают здесь развиваться, как тоже замедлило свой рост, словно решив: к чему мне спешить? А между тем какой необыкновенной красоты было это тело! Личико такое милое, какое только можно себе представить, — высокий, благородный лоб сиял подлинной невинностью; кроткие голубые глаза; великолепные, светлые, как лен, волосы, схваченные золотым обручем, чтобы не спускались на лоб. И какая стройность! Боже мой, что же будет, когда девушка наденет платье, которое подчеркнет линию ее талии! Ведь Пирошка и теперь еще носит широкие, свободные платья, в каких обычно ходят девочки-подростки, впрочем, от этого она не кажется менее стройной. Да, видно, суждено Пирошке носить какую-то особенную одежду — не тканую, не вышитую, а литую из чистого золота, потому что не иначе как за королевича прочил Хорват свою младшую дочь. Но прошло некоторое время, и старик забеспокоился, так как стал замечать, что дочь слишком уж слабенькая. А тут еще имя девушки постоянно напоминало о том, какой она должна быть. * И верно, сделалась Пирошка такой бледненькой, прозрачной, будто насквозь просвечивала; под глазами появились синие круги, на лице видны все жилки наперечет.
— Ничего не поделаешь, придется привезти доктора, — сказал Хорват и послал за ныне покойным Медве.
Приехал доктор — вечная ему память! — старый Хорват и к нему пристал со своими хитрыми вопросами:
— Угадайте, почему я вас пригласил?
— Верно, кто-нибудь заболел, — отвечал Медве.
— Все может быть, но вы должны угадать, кто именно, на то вы и доктор.
Старый Медве вскипел:
— Что? Так вы и мне вздумали загадывать свои загадки? Если хотите знать, так это вы заболели, с ума спятили!
Старый доктор был весьма груб.
— Ну-ну, не сердитесь, — сказал хозяин примирительно. — Не нравится мне цвет лица у Пирошки, да и сложение ее. Бледная она, слабенькая и хрупкая; совсем не растет. Хотелось бы знать, в чем тут причина.
— Вам это должно быть лучше известно, сударь. Чем она обыкновенно занимается?
Хорват рассказал врачу, как проводит девушка свой день: в таком-то часу встает, занимается науками, потом играет на рояле, обедает, снова занимается, а после вышивает, ужинает и перед сном слушает сказки, которые рассказывает ей няня.
— Ну, вот вы сами и раскрыли причину. К счастью, беде еще можно помочь.
— Ах, доктор, храни вас господь!..
— Не поручайте господу богу расплачиваться по вашим собственным векселям, — перебил его Медве. — Слушайте-ка лучше повнимательнее. Девушка станет румяной, как маков цвет, если только вы будете строго придерживаться моих предписаний. В противном случае она погибнет.
— Приказывайте, — заикаясь от испуга, пролепетал Хорват.
— Как называется вон тот лесок, что виднеется вдали?
— Бернеш…
— Кому он принадлежит?
— Мне.
— Так вот, в течение ста дней барышня должна будет отправляться с топориком в этот лесок и каждый день срубать по одной березке толщиной в руку. Срубленные деревья пусть складывает в одну кучу; и как только будет положена сотая березка, барышня расцветет, как самая прекрасная роза.
— Что вы говорите? — обомлел Хорват. — Это невозможно! Чтоб я велел ей такими слабыми, нежными ручками дрова рубить, словно какому-нибудь поденщику?! Вы что, всерьез? Чтобы я позволил ей выйти за ворота, где бы на нее глазели мужчины?.. Никогда! Я дал зарок! Двух моих дочерей уже украли. Хватит! Я не отдам эту последнюю и самую красивую из моих дочерей. Она останется со мной.
Доктор Медве пожал плечами.
— Поступайте, как вам будет угодно. Но я еще раз предупреждаю: или сто березок — или большое ореховое дерево, из которого вы сделаете для нее гроб.
Пришлось тут уступить бывшему винокуру, и прекрасная девушка была выпущена из своего заточения на волю. Каждый день отправлялась она теперь в лес Бернеш и топориком с гладко отполированным топорищем срубала одну маленькую березку. Чаще всего в лес сопровождал ее сам отец и лишь изредка гувернантка. Однажды, именно в такой день, когда Пирошку сопровождала воспитательница (шутник Амур ловко подстраивает подобные вещи), Яношу Бутлеру и Жиге Бернату, тогда еще гимназистам, загорелось отправиться на поиски птичьих гнезд. Деревенский пастушок подсказал им самое подходящее для этого место. Правда, лес Бернеш не принадлежал им, но тем заманчивее было пойти туда.
Стучит-постукивает девочка своим топориком по намеченному на сегодня дереву, а как остановится на минутку передохнуть, думает про себя: больно ли березке? Да и как ей, бедняжке, может быть не больно, когда порой даже сок проступает, — а это не иначе или слезы у нее, или кровь. Пока девочка рубила дерево, гувернантка, чувствительная немка, собирала цветы для малютки, а вернее сказать, для себя самой. Это была сентиментальная девица, с большим носом и такая костлявая и длинноногая, что, родись она раньше, из нее получилась бы отличная мамаша нескольких долговязых бестий, которых в свое время отец Фридриха Великого подбирал для своей знаменитой коллекции. * Говорили, что за матерью мадемуазель Фриды некогда ухаживал сам Гете, и кто знает?..
Эта маленькая семейная легенда испортила мадемуазель Фриду, которую неудержимо влекло к романтике. Только тем и следует объяснить, что, пока Пирошка рубила свою березку, гувернантка перебегала от анемона к гиацинту, от него к желтой «воробьиной траве» и удалилась от воспитанницы на такое расстояние, что, когда Пирошка, заметив двух по-господски одетых юношей, появившихся из-за деревьев, в страхе стала звать: «Фрида, Фрида!» — бедная мадемуазель не могла ее услышать. Это был поистине ужасный момент. Его никогда не забудешь. Пирошка была поглощена работой и стучала на весь лес своим топориком. Лицо ее раскраснелось, на лбу мелкими бисеринками выступили капельки пота.
А юноши тем временем заблудились и, не зная, как выбраться из лесу, решили: «Пойдем к дровосеку, он-то, верно, покажет нам дорогу». У Бутлера были при себе два медных гроша: их он и собирался отдать дровосеку на водку.
И вдруг — о чудо! — взорам юношей предстала тоненькая девушка с топориком в руках.
От удивления у графа Яноша ноги словно приросли к земле. Он был немного постарше Жиги и уже кое-что читал о лесных нимфах. И сейчас он не сомневался, что видит одну из них, ибо только у нимфы мог быть такой топорик с полированной рукояткой.
Заслышав хруст хвороста, Пирошка подняла голову, а когда ветки деревьев раздвинулись и два друга вышли на поляну, она в ужасе вскрикнула и выронила из рук топорик.
— Фрида! Фрида!
Девушка хотела было побежать, но не смогла. Жига раньше всех разобрался в происходящем.
— Не бойтесь, барышня. Мы не обидим вас, — сказал он ласково и подошел поближе. — Не отворачивайте личико и не дрожите так. Я вам что-то покажу. Смотрите, какие хорошенькие яички нашли мы в птичьих гнездах.
Ребячье любопытство одержало верх над страхом, и девочка решилась взглянуть: на ладони у Жиги Берната лежали пять маленьких яичек, пестрых и розоватых, словно выточенных из мрамора, и таких красивых, что и словами не передашь.
Пирошка улыбнулась, но все же не смела притронуться к яичкам.
— Возьмите же хоть одно, — просил юноша, протягивая ей яичко.
Девочка наконец набралась храбрости и спросила:
— Вы в самом деле отдаете его мне?
— Конечно, а то мы не знали, как нам поделить пять яичек на двоих. Теперь как раз будет по два на каждого. Правда, друг?
Так как последние слова относились уже к Яношу, то Пирошка взглянула и на другого юношу. Тот покраснел до кончиков ушей и смущенно ответил:
— Если барышне нравятся эти яички, я отдам ей и свою долю.
В тоне мальчика чувствовалось столько искреннего тепла, что сердце Пирошки преисполнилось благодарностью к нему.
— Нет, нет, ни за что на свете не соглашусь я отнять у вас эту прелесть!
Голос ее прозвучал так нежно, что птички на деревьях ответили радостным щебетаньем. А сколько их тут! Пирошка даже удивилась, как она могла бояться, когда вокруг такое множество птиц.
— Вы ведь дочка Хорвата, не правда ли? Это вы известная красавица? — уже озорно спросил Жига.
Однако девочка в своей наивности не поняла насмешки и простодушно, ни капельки не краснея, кивнула головой:
— Да.
— Я слышал о вас от жены одного нашего батрака. Она служила прежде в вашем замке и рассказывала, что барышню под стеклом держат. Знаете, как букашек в музее в городе Патаке. Я, между прочим, так вас всегда и представлял: наколотой на булавку и под стеклянным колпаком, — продолжал озорник со смехом. — А сейчас мы с товарищем даже немного испугались — приняли барышню за лесную фею! Скажите, зачем вы рубите деревца?
— Потому что мне велел папа.
— Ну и странный же человек ваш папа.
Тем временем Янош тоже подвинулся поближе и решился вставить словечко в их разговор:
— Трудно, правда?
— Очень трудно, — грустно улыбнувшись, отвечала девочка, — мне ведь нужно не только срубить дерево, а еще и отнести вон в ту кучу, положить вместе с другими. — Она показала рукой в сторону поляны, где уже рядком лежало десятка полтора срубленных молодых березок с увядшей листвой.
Янош в сказках не раз читал о подобных жестокосердных отцах; и замки у них были точь-в-точь такие, как у этого Хорвата.
— Но, я надеюсь, вам не весь лес предстоит вырубить? — спросил он, весьма заинтересованный.
Пирошка, отвечая Яношу, почему-то продолжала смотреть на Жигу, хотя Янош был красивее своего товарища: глаза у него были большие, мечтательные, на лице румянец. Его подбородок в ту пору был еще гладок, как у девушки, но над верхней губой уже намечалась легкая тень будущих усов.
— О нет, конечно, — со смехом отвечала девушка, наклоняясь за топориком. — Мне нужно срубить только сто деревьев, и тогда моя работа кончена.
Янош подошел уже совсем близко и предложил:
— Позвольте мне вместо вас срубить это дерево. Дайте-ка ваш топорик.
Пирошка кивнула ему в знак согласия. Потянувшись за топориком, Янош нечаянно коснулся ее пальцев, и она поспешно отдернула свою руку, словно обжегшись. Теперь по-иному заговорил топорик. Дерево трещало и скрипело, во все стороны летели щепки. Топорик будто слился с рукой Яноша — вот что значит мужчина! Как он был красив за работой! И даже не устал и не вспотел. Легонько так стучит-постукивает топориком, словно пыль из ковра выбивает. «Боже мой, — думала девушка, — как он, должно быть, силен!»
Еще один взмах, и еще один, и дерево с глухим шумом повалилось на траву. Как быстро, прямо шутя, срубил он деревце! А затем Янош с Жигой подхватили срубленную березку и бегом, — не волоча, как Пирошка, по земле, а взвалив на плечи, — потащили ее к куче других березок, которым суждено было умереть ради того, чтобы в живых осталось одно ореховое дерево — то, из которого в противном случае должны были бы сколотить гроб. И в жизни деревьев бывает такая глупая несправедливость!
Затем гимназисты стали прощаться. Девушка, казалось, даже пожалела, что они так скоро уходят.
— Вы, значит, в самом деле не разбойники? — спросила она ласково, даже нежно, и в голосе ее звучало некоторое удивление-.
— А вы приняли нас за разбойников?
— Меня всегда пугали, что в лесу живут разбойники.
— Вполне возможно, что они есть в лесу, — обиженно сказал маленький Жига, — даже наверняка есть, только выглядят они совершенно по-иному. Словом, мы не разбойники. Мы живем в соседнем доме. Я — Жигмонд Бернат, изучаю филологию, а это — мой друг, граф Янош Бутлер; он одолевает риторику в патакской гимназии.
— Жаль, — наивно сказала девочка.
Бутлер улыбнулся.
— А вам бы хотелось, чтоб мы оказались разбойниками?
— Да, — потупив взор, отвечала девушка. — Потому что тогда я совсем перестала бы их бояться.
Прежде чем на поляне появилась гувернантка с венком на голове и букетиком цветов на груди, с мечтательно устремленным вдаль взором, гимназистов и след простыл.
— Вот видите, вы уж и срубили дерево и даже оттащили его на место. Это великолепно, вы крепнете буквально на глазах, дитя мое. Ах, как обрадуется ваш папа!
Пирошка собиралась было рассказать ей о том, что произошло (встреча с гимназистами была необычайным событием в ее жизни), но удивление гувернантки понравилось ей, и, поразмыслив, девушка решила: «Если отца обрадует это — очень хорошо, пусть радуется. Вообще не буду ничего говорить о случившемся, а то Фрида насмешливо скажет: «Ах, вот как, милая барышня? Задание выполнили за вас другие? К счастью, тут достаточно деревьев, — извольте-ка рубить следующее».
И в лесу и дома Пирошка не проронила ни слова о случившемся. Под вечер же, гуляя в огромном, на тридцать хольдов *, парке, она прошла его насквозь, до старой стены, отделявшей их от владений Бернатов. Про себя она думала: «Там живут гимназисты. Да, много бы я дала, чтобы заглянуть в соседний парк и посмотреть, что они сейчас делают».
Яичко она тайком зарыла в саду, надеясь, что из него выведется птичка, как из семечка прорастает цветок.
Затем в течение целой недели дни, как и раньше, текли однообразно: она продолжала ходить в лес то с гувернанткой, то в сопровождении отца, а иногда и втроем. Девочка действительно заметно поправилась и окрепла; голубые тени под глазами исчезли, сквозь белизну ее нежной кожи стал проступать легкий румянец. Радовался старый Хорват и не уставал повторять: «А смотрите-ка, доктор Медве не дурак, знает свое дело! Скоро Пирошка и вправду заалеет, как маков цвет».
С каждым днем он все более восторгался странным рецептом доктора и с каждым днем выбирал для малютки все более толстые деревья: пусть попотеет, пусть устанет, здоровье — это тоже капитал, пусть же девочка накапливает его. И он с нетерпением ждал, когда дочь еще больше посвежеет, станет сильной и крепкой.
Как-то раз от нечего делать он решил сосчитать, сколько же деревьев срубила и сложила на поляне его дочь. Оказалось, тридцать четыре… Значит, осталось шестьдесят шесть. Гм, удивительное дело наука, — кто бы мог подумать, что можно добывать румянец из этих белых березок!
«Постой, постой! Но почему же тридцать четыре? — вдруг удивился он. — Ведь начали совсем недавно. Что-то многовато получается!»
— Мадемуазель, — уже сердито обратился он к Фриде, — вы не помните, когда мы приступили к лечению?
— Ровно месяц тому назад.
— Черт побери! Нет в календаре таких месяцев, которые бы имели по тридцать четыре дня. Не может быть, мадемуазель.
— Я знаю совершенно точно.
Они стали вместе припоминать, когда был врач. Получалось, что Медве приходил тридцать дней тому назад, а срубленных деревьев все же было тридцать четыре.
— Как же так, мой барашек?
— Не знаю, папочка!
— А может быть, ты иногда срубала по два деревца?
— Что вы, папа, для меня и одного многовато.
— Возможно, их срубил кто-нибудь чужой, воры или крестьянки, что ходят в лес собирать сучья? — высказала предположение мадемуазель Фрида.
— Ерунда! — воскликнул старик. — Воры не стали бы рубить дерево, а взяли бы из срубленных. Если бы мы не досчитались нескольких березок, было бы еще понятно, а тут уж какая-то загадка. Прямо непостижимо! Ты ничего не подозреваешь, доченька?
— Нет, папочка.
— Будь я суеверным, я бы еще допустил, что у тебя есть какая-то добрая фея, которая помогает тебе. Пока ты отдыхаешь дома, она вместо тебя рубит здесь деревья, чтоб топор не натрудил твою нежную ручку.
Лицо Пирошки залила краска; такого румянца не появится и от тысячи срубленных березок! Наблюдательный глаз мог бы по выражению ее лица заметить, что какая-то неожиданная догадка мелькнула в голове девушки. И в самом деле, Пирошка подумала: «Это сделал кто-то из гимназистов. Но который?»
И сердечко ее так забилось, что она даже испугалась: вот-вот выскочит.
Маленькое событие взбудоражило всех обитателей замка. Ведь жизнь их так однообразна и скучна! Старый барин и без того был очень мнителен и подозрителен, а после побега Катицы из родительского дома самый пустяковый случай возбуждал его богатую фантазию.
Пирошка, наоборот, ходила все эти дни задумчивая и рассеянная. Если гувернантка окликала ее, она вздрагивала. По вечерам девушка долго не могла заснуть, часами ворочалась в постели, а днем искала одиночества, бродила в саду вдоль ручья. Быть может, ее все еще мучил вопрос: «Который из двух?» Она была так печальна и вместе с тем так счастлива… А как с той поры все вокруг изменилось для нее! И деревья шумели по-особенному, совсем по-иному пели птицы, как-то странно и таинственно шелестел ветерок в ветвях деревьев, и, как звонок, как говорлив был ручеек, бежавший из соседнего сада.
Однажды любуется она ручейком и вдруг видит — плывет по его волнам крохотный бумажный кораблик. Журчит ручеек и несет его между цветистых камешков, травинок. Иногда кораблик остановится у камешка, а то запутается в водорослях, но набежит следующая волна и подхватит его, чтобы понести дальше. А на кораблике весело покачивается красный цветок гвоздики, маленький, как пуговка, — садовники зовут их «искорками». Куда же ты плывешь, искорка? Стой, маленькая!
Девушка наклонилась к воде и, поймав кораблик, взяла цветок. А рядом, глядит, записочка, и в ней — хочешь верь, хочешь не верь глазам своим — написано: «Добрый день, Пирошка».
Вот и прилетела искорка! Девушка даже в ладоши захлопала от радости. Здесь ты теперь, мое сердечко, моя искорка, ты ведь ко мне плыла на кораблике? Положу я тебя в молитвенник. Гимназисты тебя прислали? Те двое мальчиков? Но который из них? Который?
В это время с башни замка раздался знакомый голос:
— Барышня, барышня, пора уж отправляться в лес! Пирошка вздрогнула, испугалась, словно преступник, пойманный с поличным.
На башне стояла мадемуазель Фрида, нагруженная накидками, шляпками и зонтиками. Пирошка спрятала цветок на груди, а кораблик бросила в куст, который звали у них «полосатым камышом» за его длинные, темные в белую полоску листья. Когда она поднималась по лестнице, слуга подал ей топорик, заметив при этом:
— Барышня, затупился топорик ваш! Хорошо бы вам по дороге зайти в кузницу, поточить его немного. Точило-то наше сломалось, не возьмет топорик березку. Знаете, барышня, где кузница, или мне с вами сходить?
— Пойдемте, Мартон. А где папа?
— Их благородие пошли на охоту, в лесу вас разыщут. Кузница помещалась на краю деревни, поодаль от строений, чтобы от искр, вылетавших из дверей и через отверстия, прорубленные в задней стене, не приключился пожар. Кузнец Мартон Апро был на селе важной персоной и потому много мнил о себе и о своей профессии.
Вообще говоря, тогдашние кузнецы не походили на нынешних. Кузнец тогда был самым осведомленным человеком на селе; лишь после него следовали помещик, священник и уже где-то сзади ковыляли псаломщик и писарь. Кузница тогда заменяла и политический клуб и газету. Помещики побогаче даже мягкие стулья держали для себя в кузнице и в послеобеденный час, если дома сидеть надоедало, приходили туда поболтать и выкурить трубку. Тогда слуга выносил стулья, и господа рассаживались вокруг станка для ковки лошадей и с такой важностью пускали дым из чубуков своих массивных пенковых трубок, словно заседали в верхней палате парламента. Один из подручных кузнеца, чумазый парнишка, только тем и занимался, что подавал господам угольки, когда у кого-нибудь из них гасла трубка.
В кузнице всегда было много проезжих: этому требовалось подковать коня, тому перетянуть шину. Как правило, все они много навидались и наслушались за долгий путь, а кузнец, пока ковал, ловко выведывал у них обо всем. Иногда в разговор вмешивались господа — спрашивали о чем-нибудь или обменивались мнениями.
Словом, тот, кто хотел слыть осведомленным о событиях, происходящих в мире, не мог пренебречь кузницей. Здесь обсуждались все вопросы, которые освещаются в современных газетах: всякого рода развлекательные, поучительные истории, полезные сведения. Для хорошего хозяина важно было знать, в каких местностях и каков урожай пшеницы и сколько платят за хлеб тамошние скупщики. О политической ситуации тоже можно было судить на основании тех же слухов. Например, если в Трансильвании растут цены на овес, значит, быть войне. Текущие события дополнялись всякими историями об убийствах и пикантных браках, которые рассказывали путники, пока кузнец чинил их экипаж.
Так стало известно, что в Пожони недавно умерла какая-то графиня и все свое огромное состояние завещала собственному кучеру. Другой фургонщик, подковывавший лошадь, видел в Сечени у помещика Силашши таких огромных баранов, что они обращали в бегство быков. Все это крайне интересно знать: ведь вдруг кто решит заполучить таких баранов или такую графиню.
Когда наши дамы появились у кузницы, Мартон Апро возился над копытом какой-то серой лошади.
— Не подходите близко, Пирошка, а то вдруг вылетит искра и упадет на ваше батистовое платье, — сказала воспитательница, — тогда беда.
Пирошка подумала про себя: «В меня уже угодила одна искорка, и она причиняет мне немало бед». Слуга Мартон крикнул кузнецу:
— Эй, мастер, скорей сюда, работа есть!
— Что вы хотите? — неприветливо спросил тот.
— Разве не видите, барышня Хорват пришла?
— Вижу, не слепой, — протянул кузнец.
— Давайте-ка побыстрее, наточите ей топорик.
— Некогда сейчас, — буркнул мастер.
— Как так некогда? — сердито бросил слуга.
— Лошадь лечу, — пояснил кузнец. — Лошадь-то больная, а барышня здоровая, — значит, может подождать. Раньше нужно помочь больному, — спокойно продолжал он, забинтовывая заднюю ногу лошади тряпкой, смазанной какой-то кашицей (лечением лошадей также занимались в те времена кузнецы).
Неприветливый ответ мастера рассердил слугу.
— Ну и ну, хорошо же вы принимаете барышень, что к вам пожаловали!
— А зачем им сюда жаловать? — усмехнулся кузнец. — Что общего у моего ремесла с барышнями, тёзка Мартон? Барышня на своих туфельках подков не носит. У них железо только на талии, в корсетах. И хоть я железных дел мастер, да только барышням эти железки вделывают портные — жалкая, мелкая порода! Тоже осмеливаются прикасаться к железу! Одна обида кузнецам от этих портных! Так что я никакого отношения к барышням не имею.
К счастью, мадемуазель Фрида ни слова по-венгерски не понимала, а то б она давно уж оскорбилась и ушла. Пирошка же смутилась и потихоньку, как вспугнутая овечка, стала пятиться назад.
Но кузнец был, в сущности, добрый малый, только любил перечить. Он поносил все на свете — попов, сельского старосту и всех вышестоящих, но пожалел бы иззябшую под дождем кошку и в холодные зимние ночи оставлял окна своей кузницы открытыми, чтобы воробьи могли залетать туда погреться.
— Ну, где ваш топор? — обратился он к слуге, кончив возиться с лошадью. — Что? Этим топориком барышня работает? С ума посходили господа, что ли? Э, нет, голубушка! Не для тех эта работа, кто кофеек попивает! Одно-единственное средство у бедняков добывать себе пропитание — топор, так и на него господа руку наложили… Прямо скажу вам, глупая эта мода, где бы они ее ни подобрали! Намедни вот тоже приходил юный граф Бутлер, просил насадить ему топорище. Дай бог, чтобы отныне господа рубили нам дрова! Ведь рубили же мы для них тысячу лет.
Слуга испуганно посмотрел на барышню: не обиделась ли она на злые речи кузнеца? И весьма удивился, увидев, как сияет у нее лицо, словно никто в жизни не говорил ей более приятных слов, чем этот грубиян-кузнец.
Граф Бутлер тоже сделал себе топор! Теперь-то она знает, кто та добрая фея, что вместо нее срубала березки в лесу. Теперь ей все, все известно! И она вдруг стала очень умной и очень предусмотрительной, — потому что разгадала эту первую большую тайну, — и к тому же сильной: теперь ей ничего не стоило срубить березку в Бернеше. Топорик ее так громко стучал, что старый Хорват услышал его еще издали.
Подойдя к дочери, он с участием спросил, не устала ли его малютка? Девушка весело отвечала:
— Я целый лес могла бы вырубить!
— Ну, слава богу! Теперь ты можешь понять, какая сила заключена в труде!
— А ты, папочка, подстрелил что-нибудь?
— Одного зайца да одного цыгана, — с улыбкой ответил старик.
— Неужели насмерть? — испуганно спросила девушка.
— Зайца — да, а цыгана только слегка. Он, бедняга, грибы собирал, а я гляжу, что-то чернеется, шевелится в кустах, — взял да и выпалил.
— Сильно мучился, бедняжка?
— Сперва стонал, но я догадался отдать ему зайца.
— И он был доволен?
— Сначала, видно, решил, что мало, да я его утешил, сказав: «Послушай-ка, милый человек, ведь было бы куда хуже, если б я убил тебя, а зайца ранил. К тому же заяц не получил бы убитого цыгана, как ты сейчас получаешь подстреленного зайца». И он со мною согласился.
И старый барин добродушно рассмеялся над своим охотничьим приключением.
В общем, это был добрый человек, его умные серые глаза всегда светились весельем и озорством. Только одевался он действительно странно. Говорят, он стремился подражать в одежде графам Андраши, а это было очень смешно, потому что все Андраши были высокие, сухие, с походкой, полной достоинства, а Хорват — маленький человек с брюшком, с толстой шеей и короткими ногами. Носил он сюртук а-ля Гете, шею до самых ушей обматывал черным шелковым платком, штаны шил из модного тогда грацкого сукна: по серому фону были вытканы маленькие альпийские стрелки с ружьями и собаками. Настоящая картинная галерея! Множество одинаковых людей и собак на штанах спереди и сзади — зрелище весьма любопытное! Не удивительно, что сельским ребятишкам доставляло немалую радость видеть барина шагающим в этих штанах по улице. Даже деревенские собаки, животные весьма завистливые, не могли спокойно взирать на своих намалеванных собратьев.
Фрида нашла красивую дикую розу и воткнула ее старому Хорвату в петлицу, заметив при этом: «Вот такой будет наша Пирошка через шестьдесят дней!»
Внимание гувернантки приятно удивило старика, он наклонился и поцеловал руку мадемуазель Фриды.
Надо сказать, что и он и многие другие весьма уважали дочь бывшей возлюбленной Гете, потому что как раз в то время в Европе повсеместно свирепствовал культ Гете. Эта повальная болезнь особенно поразила гувернанток: на всем континенте не было ни одной, которая не состояла бы по восходящей линии в какой-либо связи с бессмертным поэтом. Видно, его сиятельство был порядочным повесой — у него было не менее двадцати известных всему свету романтических связей, не считая тысячи других, которые ему приписывала молва.
— Словом, шестьдесят дней! — радостно отозвался старый барин. — Хорошо, что напомнили. Сосчитаем-ка наши березки.
Опять оказалось на три дерева больше, чем Пирошка могла срубить после последнего подсчета. Тут уж Хорват вспылил.
— Это безобразие! Хозяйничать в моем лесу! Смотрите, снова кто-то срубил три дерева и положил в общую кучу. Кто здесь орудует и что ему нужно?
Старик схватил висевший у него на шее на зеленом шнуре охотничий рог и принялся изо всех сил трубить. Резкий звук разнесся по всему лесу. На минуту умолкли птицы, словно стараясь догадаться, что бы это могло означать. А лес так угрюм, даже страшен, когда в нем не слышно птичьих голосов. Немного погодя прозвучал ответный сигнал рожка — это лесник давал знать, что услышал зов барина и спешит сюда.
Четверть часа спустя на поляне появился человек огромного роста, с усами, свисавшими до подбородка, в шубе, с ружьем и полосатой сумкой на боку.
— Ишток, в чем дело? — набросился на него барин. — Кто-то рубит здесь без нас молодые деревья и сваливает их вон туда, в кучу.
Ишток покачал головой.
— Этого не может быть. Я бы услыхал.
— Выходит — может быть, Ишток! Не станешь же ты отрицать того, что мне наверняка известно.
Ишток перекрестился.
— Тогда, ваша милость, только черт мог сделать такое, — отвечал он с суеверным страхом, — каким-нибудь адским, бесшумным орудием.
— Черт? Что за чепуху ты городишь, Ишток? Зачем черту деревья?
— Прошу прощения, а почему бы нет? Надо ж ему чем-то топить котлы в аду?
— Дурак ты, Ишток, — засмеялся Хорват. — Не нужны ему дрова. У него под землей каменный уголь есть.
— Это верно, но все же тут замешано какое-то колдовство, — пролепетал Ишток, несколько успокоившись. — Если б какой крестьянин срубил дерево, он потащил бы его домой. Крестьянин и мне и вам, ваша милость, известен. А злых духов ни я, ни вы не видывали, — откуда ж нам знать их повадки?
Простой народ в начале этого столетья полностью находился под влиянием попов, и душа его была оплетена паутиной суеверия, как барашек Авраама путами. В прошлом году на страстную пятницу случилось, что два парня убили на дороге в Капош какого-то бродячего часовщика (в то время часовые мастера чинили часы всей округе, кочуя из деревни в деревню). Убили они его из-за пяти форинтов, что у него имелись. В сумке часовщика, среди инструментов, грабители нашли кусок свиного сала. Один из парней тут же было начал закусывать, но другой испуганно остановил его: «Бога ради, что ты делаешь? Ведь сегодня пятница!» Услышав эти слова, убийца своей окровавленной рукой тут же в страхе забросил скоромную пищу в кусты.
— Кто бы ни рубил деревья, — продолжал помещик, — приказываю тебе, Ишток: брось все свои дела, сядь-ка вот тут в засаду и, как только кого поймаешь, вяжи и волоки ко мне. И смотри: если теперь без твоего ведома хоть одно дерево повалится, несдобровать тебе. Понял?
— Так точно, ваша милость, понял.
Старый Хорват хотел припугнуть Иштока, но от этой угрозы побледнела Пирошка. Ишток же только почесал затылок да попросил у барина пороху и пулю, ибо, что греха таить, до сих пор ружье он носил больше для украшения: против земных существ достаточно было и его могучих рук. Сейчас кто знает, с кем придется иметь дело, с какими чудовищами или страшилищами? А пуля — все-таки пуля!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ Когда кораблики плывут вверх и вниз по течению…
Пирошка была охвачена смятением. Большая радость неожиданно омрачилась глубокой тревогой: «Боже мой! Бедного Бутлера могут схватить, а то, не дай бог, еще и застрелит его этот ужасный человек со страшными усами, этот Ишток. Дева Мария, пресвятая богородица, помоги ты мне, придумай за меня что-нибудь!» Пирошка чувствовала, что должна спасти Бутлера. Но как? Кому она может довериться? Она лучше умрет, чем откроет кому бы то ни было свою тайну. Может быть, написать ему? Но кто доставит письмо? Если б кто и взялся за это, так сразу же обо всем догадался, поведал отцу, раструбил бы на весь свет.
Пирошка еле дождалась возвращения домой и тотчас же помчалась в сад посоветоваться со своими цветами, что росли повсюду вдоль дорожек, а главное, с тем, который был спрятан у нее на груди. Она достала цветок и долго любовалась им, потом перевела взгляд на ручей: вот кого нужно благодарить, это он принес на своих волнах белый кораблик с искоркой.
Ах, если б кораблик мог поплыть обратно!.. Что скажешь ты на это серебристый ручеек?
Ручей журчал и отвечал что-то, но разве поймешь — что? А ведь он, наверное, давал хороший совет! Пирошка сорвала гвоздику и бросила в воду. Маленькие бурунчики кругами заходили вокруг цветка, потом подняли его и — что тут будешь делать! — понесли старым путем, вниз, прочь от сада, на простор полей.
Вскоре пришел садовник с граблями и большими ножницами. Это был честный немец из Кашши, которого, как рассказывают, абауйский губернатор прогнал за то, что он посадил рассаду каких-то южных растений на крыше погреба. Сам же губернатор уверял, что садовник будто бы посылал своим возлюбленным букеты из самых редкостных хозяйских цветов. Впрочем, это уж не такая большая провинность, и Хорват взял его к себе, считая, что с годами этот человек излечится от своего единственного порока.
Пирошка окликнула садовника:
— Дядя Мюллер, вы ведь очень умный, не правда ли? (Тот кивком головы подтвердил, что она не ошибается.) Могли бы вы сделать так, чтоб этот ручеек потек в обратном направлении?
Садовник подумал немного.
— Конечно, могу. Если пересечь поток запрудой, то вода потечет вспять.
— Ну так сделайте это!
— Зачем?
— Чтоб я видела.
— Мне некогда сейчас заниматься подобными играми, барин увидит — осерчает.
— А если я вас очень, очень попрошу. — Она умоляюще сложила ручки.
— Сейчас я этого не могу сделать, разве что в воскресенье.
— А я хочу сейчас! (Пирошка топнула ногой, нахмурилась и воинственно подбоченилась.) Я приказываю, черт побери! (Этому девочка научилась от поварихи.)
Садовник от души расхохотался и восхищенно посмотрел на барышню, думая про себя: «Как она сейчас хороша!»
— А, так вы не боитесь меня? Знаете что, дядя Мюллер, я принесу вам мешочек отцовского табаку.
Этого было достаточно, перед таким аргументом душа садовника не могла устоять. Если бы Мюллеру посулили алмаз величиною с гусиное яйцо, его все равно не удалось бы подкупить: алмаз в конце концов только камень. А вот табак… табак другое дело! Табак — растение, а все растения близки душе садовника.
— Ну что ж, ладно, барышня!
Он притащил доску, несколько камней и ловко соорудил запруду.
— Спасибо, дядя Мюллер, теперь вы можете идти!
У запруды вода стала быстро прибывать. Заметив, однако, что путь ей прегражден, вода начала бурлить, волноваться, плескаться о доску, биться о берега, откатываясь назад широкими круговыми волнами. Потом она вдруг, словно одумавшись и решив, что умнее будет уступить, повернула вспять. Сперва она пробежала только небольшой участок и упрямо остановилась, как бы устыдясь. Встречный поток оттолкнул ее немножко, но затем и сам повернулся обратно, и вот они уже побежали рядом, сначала неуверенно, пока наконец весь ручей не заструился в обратном направлении.
Пирошка нацарапала карандашом короткую записку:
«Берегитесь, не ходите больше в лес рубить вместо меня деревья, потому что вас там схватят».
Потом она достала кораблик, спрятанный в осоке, вложила в него записку, а сверху прикрепила белоснежную гвоздику.
— Ну, а теперь отправляйся в путь, кораблик! Пресвятая богородица, помоги ему!
Пирошка спустила его на воду, и поток, торопясь и журча, понес его к саду Берната. Девушка же, словно совершила преступление, со всех ног бросилась к дому.
Ей и в голову не могло прийти, что отец ее, прогуливаясь в это время вдоль зеленой стены боярышника, мог спросить у садовника, подстригавшего кусты, видал ли он Пирошку.
— Она играет внизу у ручья. Я только что сделал по ее просьбе запруду.
— Запруду? Какую запруду?
— Ей очень захотелось, чтобы вода в ручье потекла в обратном направлении.
— Гм! — промычал старый барин и, оставив садовника, отправился к ручью: «Ага, вода действительно течет вверх, и по ней плывет белый бумажный кораблик. Черт возьми, что еще выдумала маленькая плутовка? Где же она?»
— Пирошка! Пирошка! — позвал старик и быстрыми шагами поспешил к кораблику.
Тем временем граф Янош чувствовал себя как на иголках. Сердце нашептывало ему, что что-то должно произойти: то ли письмецо перебросят через стену, то ли цветок (это будет означать «да»); если ничего такого не случится — значит, «нет» Если же к вечеру у стены появится Мартон Апро, кузнец, чтобы заделать отверстие в стене более частой решеткой, сквозь которую не мог бы проскользнуть бумажный кораблик, ясно станет, что послание попало в руки отца. Весь день граф Янош провел у ручья, возле решетчатого отверстия, ожидая какого-либо знака. И вдруг — что же он увидел? Нечто такое, чего и представить себе не мог: сердито ворча и обдавая берега брызгами белоснежной пены, вода в ручье потекла вспять. А вот показался и белый кораблик. Янош заметил его, сердце молодого человека разрывалось от счастья. На кораблике лежала белая гвоздика, на которую успела усесться маленькая глупая пчелка.
Бутлер прочел записку и всунул цветок в петлицу своего сюртука. А на другой день, когда вода опять потекла в своем обычном направлении, юноша послал новый кораблик с новой запиской. Он благодарил Пирошку за предупреждение и обещал, что больше не будет рубить березок в Бернеше, но все же пойдет туда, чтобы иметь возможность хоть издали видеть ее.
На третий день из сада Хорвата прибыл кораблик с ответной запиской, в которой объяснялось, что врач прописал Пирошке для укрепления ее здоровья срубить сто березок, а если она при помощи какой-либо уловки станет уклоняться от этого, то нанесет ущерб лишь самой себе.
И так пошло день за днем. Переписка завязалась, и кораблики с письмами стали совершать свои регулярные рейсы. Содержание посланий было самым невинным — Янош и Пирошка рассказывали в них друг другу о незначительных событиях в их жизни, о том, что видели во сне: «Сегодня в нашем саду распустилось алоэ». — «Сегодня я получила из Вены новую шляпку, я такая смешная в ней». Кораблик приносил благоговейный ответ: «Как бы я хотел видеть вас в ней. Сейчас я пробую по памяти написать ваш портрет». — «Как бы я хотела увидеть свое изображение!..»
Так длилось около трех лет, — всякий раз, как наступала пора каникул, и при условии, что «почтальон» работал исправно. Ибо порою, особенно жарким летом (то есть именно в каникулярное время), ручей вдруг высыхал, и связь между двумя мечтательными душами обрывалась.
За это время они редко видели друг друга, да и то лишь издали и на несколько минут, когда Пирошка вместе со своим отцом возвращалась с поля. Эта встреча сводилась к тому, что юный граф проходил мимо и чинно приветствовал их; пожилой господин кивал в ответ головой, а девушка бледнела. Хорват не вывозил дочь в общество, а с семейством Бернатов даже враждовал. В церковь Хорваты ходили редко, да и боги этих двух соседей обитали в разных храмах. Хорваты были лютеранами, а религиозные убеждения в те времена высокой стеной разделяли тогдашних господ (заметим — на пользу стране).
Если бы в период, когда проводилась политика усыпления венгерской нации, при дворе или в домах, близких ко двору родовитых магнатов, охотно принимали бы протестантских дворян, если б с ними водили дружбу, ласкали их так же, как католиков, — кто знает, до чего бы мы сейчас дожили. К счастью, протестантские магнаты встречали при дворе холодный прием; им оставалось удалиться в свои поместья и со скуки вести национальную венгерскую политику, поскольку в политике двора они не могли участвовать. Что же касается мелкопоместных дворян-протестантов, то и они не были вхожи к католическим магнатам, которые видели в них иноверцев; на их долю выпадала, таким образом, роль подпевал более знатных и, конечно, недовольных единоверцев; они-то и поддерживали тот слабый огонек, который, спустя сорок лет, в грозном вихре революции, вспыхнул на каждом алтаре, с тем чтобы никогда уже больше не угаснуть.
Словом, в Вене всегда проводили глупую политику, которая способствовала формированию вождей венгерской национальной оппозиции. Вызывали кого-либо на аудиенцию, устраивали ему головомойку и отправляли назад в Венгрию. Придворные советчики короля страсть как любили подобные назидательные беседы. «Хорошенький щелчок получил он от императора», — с удовольствием рассказывали они потом друг другу.
Глупцы! Они не понимали, что не щелчок, а «булаву вождя» получал тот, кто считался жертвой.
Старый Хорват был заодно с родами Пронаи и Радванских, Заи и Кецеров. Ежегодно он навещал их; они советовались, строили планы и жарко спорили. Обычно это происходило, в мае, и Пирошка оставалась дома в одиночестве; но Бутлеру от этого не было никакой пользы: у него был лишь один покровитель — ручей…
На четвертый год письма стали пространнее. Янош описывал свои мысли и чувства, свою тоску и горести. Пирошка писала о том же. Распустилось уже не только алоэ, расцвели сердца. Они признались друг другу в любви, и ручеек неделями мчал на своих волнах вверх и вниз их клятвы: «Люблю тебя, люблю до гроба». — «Будешь ли ты моей женой?» — «Только твоей, и ничьей больше». А когда наступили пятые-каникулы со времени их знакомства, Пирошка выросла, стала красивой, цветущей молодой девушкой, румяной, как роза, и свежей, как утренняя заря. Граф Янош тоже возмужал, отпустил усики и бакенбарды; через десять месяцев он закончит юридический факультет и сможет жениться. Это обсуждалось в записочках, которые плыли по ручью. Янош писал, что его опекун Иштван Фаи (жена которого урожденная Бернат) очень добрый человек. Он уже знает обо всем и в недалеком будущем, приблизительно на троицын день, объявит графа совершеннолетним, и тогда Янош вступит во владение своими имениями. Значит, будут устранены все препятствия, которые могли помешать его соединению с милой Пирошкой; останется только уговорить ее отца, которого молва считает весьма странным человеком. Печалит юношу лишь мысль о том, что станет с ним, если отец девушки откажет ему или задаст такие загадки, которых он не сможет разгадать? Ни днем, ни ночью не может он избавиться от этих дум; вот уже два года, как приятели-студенты не видели его смеющимся, а патакские девушки зовут его «печальным Бутлером». Послания, прибывавшие из сада Хорвата, всячески успокаивали его: отец не такой деспот, каким его представляют, а женихов, что приходили свататься к ее сестрам, он потому так придирчиво испытывал, что любил дочерей и желал, чтобы у них были хорошие мужья. Тон этих писем был очень решительный, а в одном черным по белому было написано:
«Если ж мой отец не согласится, я и тогда буду твоей и последую за тобой, куда ты скажешь. Ради тебя я, даже вопреки его воле, покину родительский кров. Только напиши, хочешь ли ты этого?»
Граф Янош писал в ответ:
«Нет, мое сердце, я не хочу этого, потому что мечтаю сделать тебя счастливой, а отцовское благословение очень много значит: когда оно есть — в сиянии счастья его не видно; но если его нет — не видно счастья: черной тенью ложится на него родительский гнев».
В последний день каникул, когда конюх уже запрягал лошадей, прибыл последний кораблик с ответом:
«Пребывай в доброй надежде, милый Янош; до пасхи — до твоего следующего приезда — я постараюсь тронуть сердце отца. К тому времени я придумаю способ, который помог бы тебе завоевать его расположение. Мой отец любит античных поэтов Овидия и Горация, — вот путь к его душе, читай их стихи. Да поможет тебе бог! Думай обо мне часто-часто».
Такова детская история этой романтической любви. За пять лет они и десяти раз не виделись, только однажды беседовали в лесу при первой встрече, и тем не менее хорошо знали друг друга по письмам, — в них раскрывалась вся их душа. И так как кораблик не выдерживал больших грузов, листов, заполненных пространными излияниями, и мог доставлять лишь короткие записки, тем более продуманными и сжатыми были их мысли и весточки, которыми они обменивались; попадая в руки адресата, они согревали его теплом любви, принимая в его глазах размеры целых томов. То же самое происходит и со срезанной веткой сирени: она никнет, блекнет, но стоит принести ее домой и опустить в стакан с водой, как она вновь распускается, и еще прекраснее становятся ее великолепные лиловые кудри…
Вот и сегодня, едва молодой граф выпрыгнул из коляски Дёри, как тотчас же стал прежним томящимся и нетерпеливым влюбленным. Окрестные предметы, деревья, горы — все будило в нем воспоминания о любимой. Янош с трудом дождался послеобеденного часа, когда наконец, преисполненный сладостных мечтаний, отправился в сад и, идя вдоль ручья, достиг стены, отделявшей его от парка Хорвата.
У решетчатого отверстия он остановился и спустил на воду заранее приготовленный кораблик. Бутлер знал, что по ту сторону Пирошка уже ожидает его послания.
«Я прибыл. Вспомни о своем обещании».
Ответ он рассчитывал получить только на следующий день, так как воды в ручье было мало и требовался целый день, чтобы, скопившись у запруды, она могла повернуть вспять. Так и вышло: ответ прибыл на другой день.
«Здравствуй, дорогой! На второй день пасхи посети отца. Проси у него моей руки, а там видно будет».
Это были знаменательные дни в жизни студента! Итак, через трое суток, на второй день пасхи, все свершится! Возможно ли это, о боже? С нетерпением ждал Янош наступления этого часа, ждал — и боялся его. А вдруг старик скажет «нет» и лишит его даже надежды? «Надежду-то, положим, он не сможет у меня отнять, — утешал себя Янош, — надежда останется во всяком случае». Бывали моменты, когда ему хотелось оттянуть время, но он останавливал себя: нельзя — раз Пирошка пожелала, пусть так и будет. Бутлер от природы был несколько робок, поэтому, когда наступил второй день пасхи, ему пришлось не раз подбадривать себя, прежде чем он наконец решился и с бьющимся сердцем, медленными, неуверенными шагами направился в усадьбу Хорвата. Пусть другие боятся, а я не должен! Он хорошо обдумал, что будет говорить, с чего начнет; но стоило ему подойти к воротам усадьбы, как вдруг он почувствовал головокружение, центральная башня замка завертелась у него перед глазами, потом наклонилась, отделилась от крыши, прыгнула на боковую башню, перепрыгнула на другую, оттуда ринулась в сад и помчалась далеко в поле, догоняя убегающую от нее зеленую стену пшеницы.
Он уже хотел было повернуть обратно под тем предлогом, что плохо себя почувствовал. Но имеет ли он право вернуться? Он, граф Бутлер? Никогда! Даже если бы ему сказали, что его обезглавят! Эта мысль придала ему силы, и, как Муций Сцевола, он вытянул руку, чтобы схватить молоточек, прикрепленный над дверью. Сейчас он был отважен и тверд. Обычно ему не хватало силы духа принять решение, и он предпочитал строить планы; однако если уж он брался за что-либо, то не колебался более и не отступал. Ему трудно было отделаться от страха, так же как трудно бывает расстаться с любимой одеждой; но, сбросив ее, уже больше не думаешь о ней.
Янош несколько раз постучал молоточком в дверь. На стук появился слуга Мартон, поглядел через дверное окошечко и, узнав пришельца, впустил его.
— Дома барин?
— Да, дома, пожалуйте к нему.
Слуга провел графа через комнату, заполненную различными аппаратами, колбами и ретортами: это была химическая лаборатория старика. Следующая комната — его кабинет.
Хорват, что-то писавший у стола, тотчас же отложил в сторону бумагу и, засунув за ухо гусиное перо, поспешил навстречу гостю. Приветливо улыбаясь, он подошел к Яношу и, схватив его за обе руки, принялся дружески трясти их.
— Я — граф Янош Бутлер.
— Знаю, знаю, — торопливо заговорил Хорват. — Имею честь знать в лицо ваше сиятельство и весьма рад, что вы зашли, господин граф. Прошу садиться и изложить мне, чем могу вам служить, да-с.
Граф Янош вспыхнул и издалека, кружным путем — как задумал — начал приближаться к цели своего визита: он, видите ли, пришел по важному и деликатному вопросу… впрочем, и без того давно уже хотел познакомиться с его милостью, ибо слышал, что почтенный господин Хорват — большой любитель поэзии Горация Флакка и Овидия Назона, которых и он высоко почитает…
— Гм, итак, вы любите Овидия Назона, а я думал, что…
— О, я люблю всех поэтов, — с жаром продолжал Бутлер, — и давно засвидетельствовал бы вам свое почтение, если бы не боялся показаться назойливым.
— О, никоим образом, ни за что на свете! Однако, изволите видеть, прозаики тоже достойны уважения. Да-с, прозаики. У одного из них я вчера вычитал о том, как мегарцы голодали и решили просить помощи у лакедемонян. Когда их послы появились в Спарте, оратор в прекрасной речи старался убедить своих соседей войти в их бедственное положение, в котором они очутились вследствие плохого урожая, и оказать им помощь. Спартанцы, прослушав с глубоким вниманием эту великолепную речь… да-с, великолепную речь, так ответили послам: «Добрые люди, отправляйтесь домой и скажите, чтоб ваш народ послал других послов, так как ваша речь была столь длинной, что, пока вы добрались до конца, мы уже забыли начало и середину». Так и вернулись ни с чем послы мегарские. А через несколько недель прибывают в Спарту новые послы и говорят спартанцам: «У нас ничего не уродилось, мы голодаем, помогите нам». Тогда встает один из жителей Спарты и с усмешкой говорит: «Э-эх, зачем столько болтовни! Достаточно было показать пустую суму!..» Да-с… да-с. Пожалуй, и в самом деле было бы достаточно, если б и вы, ваше сиятельство, тоже показали нечто в этом роде.
Это уж проще простого. На стене висел портрет Пирошки. На нем она была увековечена бродячим живописцем в своем первом длинном платье.
Граф Бутлер решительным жестом показал на стену.
— Понимаю, понимаю… Вы пришли сюда ради моей дочери, да-с.
— Я люблю ее, — открыто признался молодой человек с глубокой задушевностью в голосе.
— Ах, так? Следовательно, не Овидия Назона, а ее… да-с, ее. Ну что ж, пока все в полном порядке, но, как говорится, audiatur et altera pars[69]: что думает обо всем этом девушка? — Старик сразу стал серьезным, и лицо его приняло строгое выражение.
— Пирошка тоже меня любит.
— Почему вы так думаете?
— Знаю.
— Откуда знаете? (И он пристально, как судья, заглянул Яношу в глаза.)
— Видите ли, я открою вам одну тайну. Вот уже пять лет, как я переписываюсь с Пирошкой, и она писала мне об этом в своих письмах.
— На корабликах? — спросил старик равнодушным тоном.
— Д-да, на… корабликах, — пробормотал граф, удивившись, что Хорвату все уже известно.
— Ну, так это еще ничего не значит, — добродушно рассмеялся старик, — коль на то пошло, и я тоже открою вам одну тайну: на этих самых корабликах, дорогой граф, с вами переписывался все эти годы не кто иной, как я сам.
Граф Бутлер смертельно побледнел и отпрянул назад.
— Это невозможно!
— Не невозможно, а так оно и есть, да-с. Моя дочь Пирошка ровным счетом ничего не знает об этих письмах. Хотите удостовериться? Пожалуйте сюда.
Хорват взял со стола письмо, которое писал, когда вошел Бутлер, и поднес к глазам графа. Яноша будто громом поразило. Он узнал почерк, так хорошо знакомый ему по тем письмам, которые приплывали на корабликах. Те же красивые и аккуратные круглые буквы, кружившие ему голову пять лет подряд.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ Красная роза, белая роза
Сердце Яноша все еще сжималось от боли, а в глазах уже забегали искорки гнева.
— Милостивый государь, — заговорил он взволнованно, глухим голосом, — скверную игру вы играли со мною эти пять лет! Я прошу вас объяснить свое поведение.
Его ноздри раздувались, лицо побледнело, в глазах горел зловещий огонек, предвещавший бурю.
Хорват с восхищением смотрел на него, думая: «Какой он сейчас красивый! И почему нет у меня такого сына?!»
— Ну-ну-ну, молодой человек! — покровительственно улыбнулся Хорват, сохраняя олимпийское спокойствие. — Вы слишком горячитесь, да-с, но я не могу порицать этого, ибо juventus ventus…[70]
— Никаких «ventus»! — язвительно оборвал его граф. — Вы стали дворянином, а дворяне, даже убеленные сединами, не вправе отделываться латинскими поговорками.
Старик Хорват и бровью не повел.
— Дворяне, да. Но должен вам сказать, молодой человек, что есть нечто высшее, чем просто «дворянин», — это дворянин и отец. Так вот, я — отец, и когда я увидел, что кто-то хочет найти доступ к сердцу моей дочери, да притом таким на редкость романтическим путем — журчащие ручейки, кораблики с букетиками, я вправе был подумать: «Гм, ты хочешь похитить у меня дочь? Так вот я прегражу тебе путь и посмотрю сначала, кто ты есть и что ты собой представляешь!»
Молодой граф склонил свою красивую, изящную голову в знак того, что подавлен этим аргументом.
— В течение пяти лет я переписывался с вами, стремясь одновременно и не вызвать у вас подозрений, и проникнуть в духовный мир моей юной дочки. Умудренный долголетним житейским опытом, я играл с вами… да что я — с тобой, мой сын. Надеюсь, ты ничего не имеешь против того, чтобы я называл тебя на «ты», как мы уже давно делали это в письмах?
Тут граф поморщился, словно от боли, — так тяжела была ему эта шутка, однако не проронил ни слова, с нетерпением ожидая, что последует дальше. Голова его кружилась.
— Пять лет — большой срок, мой сын, и за это время я хорошо узнал тебя. Такова была моя непреклонная воля: самому выбрать жениха для своей младшей дочери. И вот я выбираю тебя, да-с!
Он с любовью простер к Яношу руки и обнял его. Граф печально смотрел на старика, ничего, казалось, не понимая.
— Черт возьми, да что с тобой? Почему у тебя такая кислая физиономия, будто ты не свататься пришел, а на похороны? Разве так должен выглядеть получивший согласие жених, а?
— Вы разрушили мои самые сокровенные мечты, — ответил граф Янош с выражением глубокой грусти на лице, — и я боюсь, что мой визит к вам был бесцельным. Прошу прощенья и…
— Чепуха! А Пирошка?..
— О, она почти не знает меня. Да ведь она, по сути дела, совсем другая девушка, незнакомая мне, и, уж во всяком случае, не та, какую я знал, все существо которой я постиг за эти годы и хранил в своем сердце.
— Не будь фантазером, мой дорогой. Что случилось, того не поправишь. Помочь делу можно было бы теперь лишь одним путем. — И под серебристыми усами старика заиграла добродушная улыбка.
— Как? — машинально спросил молодой человек.
— Если б ты взял в жены меня, но, думаю, такой modus vivendi[71] вряд ли бы тебе понравился.
Тут уж и Янош улыбнулся.
— А потом, видишь ли, верно, конечно, что с тобой переписывалась не Пирошка, но верно также и то, что она желала этого. Первый кораблик, который принес записку, предупреждавшую, чтобы ты не ходил больше в Бернеш, иначе тебя там схватят, она сама пустила на воду. Заметив кораблик, я выловил его и, ни слова не говоря ей, переписал записку своим почерком; ее же я никогда больше не подпускал к ручью, огородив эту часть сада.
— Так вы думаете, дядюшка, — спросил граф Янош оживленно, — что она не чуждается меня?
— Думаю? Глупец я, что ли, чтоб годами переписываться со студентом ради своего удовольствия? Этак я лучше бы переписывался с епископом из Кашши — он куда умнее, да и земляк мне. Нет, я знал, что девушка тебя любит.
— О господи, если б это было правдой! — вздохнул Янош.
— Бьюсь об заклад, что правда.
— А как можно это узнать?
— Да очень просто: возьмем и спросим ее.
— Но когда?
— Сейчас, немедля.
— Здесь, при мне?
— При тебе.
— Нет, нет, — запротестовал граф, — я умер бы на месте, если б она сказала, что не любит.
— Не умрешь, черт возьми! — И Хорват открыл дверь; взору Яноша представилась анфилада комнат. — Пирошка, Пирошка! — позвал старик. — Иди сюда!
Не прошло минуты — да что там, и полминуты не прошло (впрочем, Яношу показалось, что прошла целая вечность), как в соседней комнате послышалось шуршанье платья! Граф Янош, точно повинуясь какому-то приказу свыше, закрыл глаза. Он почувствовал легкое дуновение ветерка — это был шелест ее платья, — и золотые солнечные лучи, проникающие сквозь зеленые жалюзи окон. Потом зазвенел нежный голосок:
— Я здесь, папочка, что прикажешь?
При этих словах Янош сразу же раскрыл глаза; ему показалось, что сейчас, с открытыми глазами, он не видит ничего, хотя только что с закрытыми созерцал все происходящее в комнате.
Словно призрачное видение, в дверях стояла Пирошка. Казалось, это совсем и не живая Пирошка, а ее портрет сошел со стены и стоит теперь в дверях, как в раме. Но одета она по-иному. На ней простое ситцевое платье, которое так идет к ней, и белый передник; рукава закатаны выше локтей, обнажая розовые, как цветы черешни, руки. Сейчас они беспомощно опущены, головка тоже поникла, словно надломленная лилия. И все же как прекрасна она была, эта Пирошка!
— Я позвал тебя, мое сердечко, потому что нам нужно решить с тобой один важный вопрос. Подойди сюда поближе. Но что за странный наряд на тебе?
Девушка оглядела себя, свой передник, руки и зарделась. Потом быстро начала спускать рукава платья.
— Мы с Фридой хлопотали по кухне, — пробормотала она, — в я не знала, и… о господи!..
— Что такое? Ты хочешь убежать? Ну нет! Подойди сюда, подойди-ка… Вот так, ко мне!
Она остановилась позади отца, привстав на цыпочки и опершись подбородком о его плечо. Спрятавшись за спиной отца, она решилась, наконец, украдкой бросить робкий взгляд на гостя.
— Отгадай, зачем пришел ко мне граф Бутлер?
— Не знаю, папочка, не знаю, — тихо проговорила девушка сдавленным голосом.
Бутлер шагнул вперед, машинально и беспомощно, как лунатик; губы его шевелились, он чувствовал, что должен сказать что-то, но старый Хорват остановил его.
— Я сам скажу, да-с. Он просит твоей руки. Ну, ну, что ты смотришь на меня с таким удивлением? Вот послушай: теперь все зависит от тебя. Если любишь, выходи за него. Если нет — откажи. Отвечай, как подсказывает тебе сердце!
Девушка невольно опустила голову, словно желая совсем исчезнуть. Она скрылась, как за ширмой, за спиной старика.
В наступившей тишине, казалось, было слышно, как бьются сердца молодых людей;
— Ну, не будь ребенком, отвечай же!
Девушка сжала губы и молчала. Раздавалось только тиканье старых стенных часов; маятник лениво качался из стороны в сторону.
— Что ж ты молчишь? И потом, что ты все прячешься за моей спиной? Это тебе не ширма! А ну-ка, иди сюда, а то я уже сержусь.
Старый Хорват отошел к окну, и девушке некуда было деваться; она напоминала сейчас хрупкий цветок, у которого отняли вдруг палочку-подпорку. Такое странное чувство, будто совсем, совсем одна… И она дрожит, словно лилия на ветру.
Пирошка опять подошла к отцу и склонила голову ему на грудь.
— Ой, мне стыдно, мне так стыдно, — проговорила она еле слышно.
— Может быть, ты еще не решила? Тебе нужно время на раздумье?
— Нет.
— Что «нет»? Ты еще не решила или тебе не о чем раздумывать?
— Не знаю, не знаю, — повторяла она как в полусне. Старик начинал терять терпенье, на лбу его собрались морщины.
— Ах ты, маленькая трусишка! Какая же из тебя получится жена? Ты еще ребенок. Теперь я и сам вижу, что рано еще с тобой говорить об этом. Вот и весь ответ. Если б ты любила Бутлера, ты пересилила бы свою стыдливость, ибо любовь, видишь ли, сильнее стыдливости. На этом и покончим. Можешь идти, если тебе угодно, в свою комнату.
Но девушка судорожно прижалась к груди отца, потом вдруг обняла его за шею и старалась наклонить его большую голову, чтобы что-то шепнуть ему на ухо. Старик заворчал, пробормотав что-то о гранатовых серьгах, которыми она его оцарапала.
— Мне стыдно, что я в этом платье, — прошептала девушка.
— Хе-хе-хе, — ласково рассмеялся старик. — Ах ты, маленькая глупышка! (И он поцеловал ее в губы.) Как это она сказала: «Стыдно в этом платье». О Ева, Ева! Легкомысленная Ева! Какие нелепые желания внушила ты своему полу! Ну ладно, ступай переоденься, как тебе нравится. И вот что еще: тебе нет нужды отвечать. Если ты любишь Бутлера — пусть в твоих волосах будет алая роза, а не любишь — белая.
Пирошка убежала. Бутлер вздохнул: «Не вернется она». Где-то рядом зазвучала игривая песенка, которую в те времена завезли из Парижа:
У Гренобльских у ворот — Там воробышек поет: «Тра-ля-ля, тра-ля-ля, Ах ты, птица глупая!»Песенка удалялась все дальше и дальше и, наконец, совсем стихла.
Старик пососал трубку, потом снова набил ее. Бутлер же погрузился в безмолвные мечтания. Он то загорался надеждой, то терял ее. Мысли проносились в его мозгу с головокружительной быстротой: «Вот она одевается, ей зашнуровывают корсаж, помогают надеть юбку, вот она посылает служанку в оранжерею за розой. Но за какой? За белой или за красной? Служанка уже знает. Счастливая! — Янош нетерпеливо смотрел на часы. — Как долго нет Пирошки. А вдруг она совсем не придет, а передаст через слугу, что у нее разболелась голова?
— Когда ты думаешь сыграть свадьбу? — спросил старик, помахивая массивной трубкой с длинным мундштуком, чтобы слабо тлеющий трут, только что положенный туда, поскорее разгорелся.
Бутлер вздрогнул:
— Вы что-то изволили сказать?
Но сырой трут не хотел разгораться, и старик опять принялся возиться с огнивом, а такое занятие не позволяет отвлекаться.
В этот момент дверь распахнулась, и в комнату вбежала Пирошка. Но каково же было их удивление, когда они увидели, что она все в том же платье и лишь в волосах ее веселым огоньком горела алая роза.
— Это и есть твой прекрасный туалет? — сердито спросил старик, покачивая головой.
— Да, папа, ведь я принесла веер.
Ах, веер! Ну конечно. Его-то и не хватало! За ним можно спрятаться стыдливо и кокетливо, куда лучше, чем за плечом отца. Веер — это маленькое, но коварное оружие — придает смелость. Теперь Пирошка уже нисколько не боялась, — по крайней мере, этого нельзя было заметить.
— О женщины, женщины, — шутливо воскликнул старик, обратив взор к небу, — все вы таковы! Итак, ты явилась с оружием. И даже принесла ответ в виде этого алого цветка.
Потом он весело подмигнул Бутлеру.
— Видишь? Что я тебе говорил? Ну, подойди к ней, поцелуй свою невесту.
Бутлер, с блаженным лицом, уверенными шагами направился к девушке. Пирошка тоже шагнула ему навстречу и, склонившись, подставила Яношу головку.
— Возьмите свою розу, — проговорила она еле слышно. Дрожащей рукой Бутлер вынул цветок из ее прекрасных, светлых, как лен, волос.
— Благодарю.
И он поцеловал то место, где была приколота роза, затем осторожно вложил цветок в петлицу своего сюртука. Пирошка уронила головку ему на грудь, рядом с подаренной розой.
Старик же снова принялся размахивать трубкой, чтобы разжечь ее, и повторил свой вопрос:
— Ну-с, а когда же вы думаете справить свадьбу?
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Барыня наряжается
Свадьба? Кто сейчас помышляет о ней! Настоящее томление, желание поскорее отпраздновать свадьбу — впереди; пока что эти чувства еще в пути и придут только завтра или послезавтра.
Сейчас жених и невеста счастливы тем, что могут сидеть рядом и, взявшись за руки, глядеть друг другу в глаза; тем, что ситцевая юбочка Пирошки касается колена юноши; что Янош может своею рукою поправить прядь волос, выбившуюся из ее прически. Сейчас все это кажется им лакомством, которое никогда не сможет надоесть. А тысячи вопросов и столько же сладких и хитрых ответов!.. (Столь хитрых, что их мог бы разгадать и слепой котенок.)
— Помните, как вы там, в лесу, отдали мне маленькое птичье яичко?
— О, еще бы! Тогда-то я и полюбил вас.
— Неужели? И я тогда же!
— Правда?
— Или вы не верите?
— Верю, верю, только не смотрите на меня такими печальными глазами.
— Ах, вот как? Вам не нравятся мои глаза?
— Что вы? Я совсем не то хотел сказать.
И хочется им все знать и выяснить все. Они подобны детям, которые, играя у ручейка, стараются попробовать на язык каждый яркий камешек — не сладкий ли он?
— А скажите, милая Пирошка, что вы подумали, когда я пришел к вашему отцу?
— Что я подумала? И в самом деле — что же я подумала? Ах, вспомнила: я решила, что вы пришли на лочолаш…
— Это верно, сегодня нужно опрыскивать духами… Хотите?
— Что вы? Это не принято у таких… ну, вы знаете… среди таких, как мы…
— Неужели вы думали только о лочолаше? Не может быть, чтоб вы ничего не предчувствовали. Признайтесь!
— Хотите знать правду?
— Говорите, — тихо и нежно просил граф Янош.
— Мне кажется, что я знала, зачем вы пришли.
— Значит, вы догадывались, что я люблю вас?
— Я узнала об этом от кузнеца.
— От кузнеца? Каким образом?
— Кузнец сказал, что вы точили у него топорик, и я сразу догадалась, что это вы вместо меня рубили деревья, и была очень тронута этим.
— Выходит, я, как простой дровосек, топором зарабатывал свой хлеб?
— Как? — обидчиво надула губы Пирошка. — Значит, я для вас только хлеб?
— Что вы? Вы для меня сладкий медовый пряник! Я хотел сказать — счастье! Простите мне эту оговорку.
Итак, им нужно выяснить великое множество всяческих и притом важных вопросов. И, кажется, конца нет их веселому воркованию, а если и поссорятся, надуют губы, так тут же помирятся. Вот отвернулся старый Хорват — принялся шарить в огромном старинном буфете, отыскивая фляжку с вином. Янош только того и ждал, — ведь Хорват не видит, что они делают, — и поцеловал Пирошку. Ну, а кто однажды отведал этого сладкого меда, тот отныне потерян для сколько-нибудь серьезных дел. До сих пор молодые люди только смотрели друг на друга: им доставляло наслаждение видеть, как собеседник то вдруг покраснеет, то побледнеет. Теперь же наступает вторая стадия, и вот оба они уже выжидают, следят за стариком, когда тот отвернется к окну поглядеть, не заволакивается ли небо тучами. (Чепуха! Какие теперь тучи?!)
Третья же стадия наступит, когда придет вечер — пора прощаться и Янош, пожелав Пирошке спокойной ночи, отправится домой. Вот когда начнется мука! Первый день, бог с ним, еще кое-как, а на второй в душе уже зарождается протест. И как быстро он зреет! Ну да, еще бы, ведь его подогревает солнце любви! Вчерашних восторгов нет и следа, в сердце — тревога, и тут как тут вопрос:
«Когда же наконец свадьба?» — Да, когда же?
Раньше конца июня нельзя, потому что прежде нужно закончить университет: необходимо, чтобы граф Янош Бутлер женился, будучи человеком образованным, хотя каждый из рода Бутлеров уже от рождения образованный человек. Просто неудобно назначать свадьбу до троицына дня, а то получится, что Пирошка вышла замуж за студента. Еще, чего доброго, эпиграмму сочинят университетские товарищи Яноша. А что скажет профессор Кёви, который так любит Бутлера? Злые языки и по этому поводу могут что-нибудь наплести. Нет, уж пусть лучше свадьба будет в конце июня, на Петров день. На том и порешили.
Правда, впереди еще много времени, но, и дел предстоит немало. Нужно письменно известить всю родню, заказать в Вене и в Капице уйму всяких вещей, необходимых для приданого.
Гонец в тот же день оседлал коня и помчался в Натак, к опекуну Бутлера — Иштвану Фаи, известить его о состоявшейся помолвке. Фаи ответил жениху и невесте торжественными эпистолами и, к приятному удивлению Яноша, прислал давно заготовленное и до поры лежавшее в столе свидетельство о совершеннолетии графа Бутлера. Опекун Яноша сообщал о своем согласии на брак и посылал отеческое благословение. Он, мол, и сам приехал бы расцеловать дорогую невесту, но проклятая подагра не дает ему подняться с постели. К посланию, адресованному невесте, было приложено знаменитое фамильное ожерелье из смарагдов, которое Бутлеры при обручении дарили своим невестам. «Ожерелье это, — добавлял Фаи в конце письма, — в свое время принадлежало матери шведского короля Карла XII и, по преданию, приносит особое счастье его владельцу».
Посылая нарочного в Патак, Бутлер наказал ему также зайти в городе в ювелирную лавку Михая Буйдошо и купить два массивных обручальных золотых кольца — одно побольше, другое поменьше.
И еще один верховой отправился в путь: он вез послание графа Бутлера к управляющему имением в Бозоше. Молодой граф просил как можно скорее, не жалея ни денег, ни трудов, немедленно заняться приведением в порядок замка и парка, так как в конце июня он приедет и останется там жить. Садовнику было приказано посеять как можно больше цветов, потому что вместе с графом в замке поселится еще кто-то, очень любящий цветы. Все пространство между деревьями велено было засеять гвоздиками, так называемыми «искорками». В письме напоминалось и о пруде, который нужно было очистить и заселить рыбками. «Было бы также весьма целесообразно, — писал граф, — чтобы получатель настоящего письма связался с управляющим моими имениями в Пардани, Ференцем Ногаллом, и управляющим имениями в Трансильвании, Йожефом Габором, чтобы они переселили часть соловьев, во множестве в тех имениях пребывающих, в парк бозошского имения, где пусть эти птицы и поют…»
Хорват чуть со смеху не умер, когда Янош показал ему свое письмо.
— Хотел бы я посмотреть на этих твоих соловьев, как их будут ловить и переселять, и станут ли они после этого петь? А что касается пруда, тут ты немного недодумал. Император Гелиогабал, когда женился, приказал наполнить целое озеро розовым маслом, чтоб за милю вокруг разносилось благоухание.
— А не наполнить ли и мне пруд розовым маслом?
— Глупышка ты! Ведь сейчас в целом мире нет такого количества розового масла. Все твое богатство уйдет на это, да и мое вдобавок!
Уже целых три дня Янош чувствовал себя счастливым. Верно, уведомления о помолвке, которые Хорват разослал родственникам, были уже получены, а Янош все еще скрывал свое счастье от семьи Бернат. Но вот настал последний день каникул. Наутро надо было отправляться в Патак. Тетушка Бернат уже пекла им на дорогу лепешки и жарила гуся, а в доме еще никто ничего не знал о тайне Бутлера. Яношу было неудобно и стыдно перед самим собой, но он очень боялся неприятного разговора, зная, как не любят Бернаты бывшего винокура, с которым вот уже двенадцать лет, как не разговаривают. Однако хочешь не хочешь, а придется перед отъездом сказать старикам о случившемся. Надо только сделать это таким образом, чтобы как можно меньше огорчить добрых стариков и все сошло бы как можно глаже. Но как? Янош решил схитрить и шмыгнул на кухню, где хлопотала хозяйка (как раз в этот момент она влепила пощечину неосторожной служанке, которая наступила на маленького цыпленка и задавила его).
— А я как раз вам в дорогу гуся жарю, сынок, — сообщила тетушка, увидев Яноша. — Раньше других успел подрасти и даже, на свою беду, разжиреть. Если б еще парочку дней подержать его на откорме, он стал бы еще жирнее. Но ничего не поделаешь, профессора не ждут. Полюбуйся-ка на него, как он великолепно подрумянился в духовке.
— Спасибо, тетушка, только мне сейчас не до гуся…
— Знаю, плутишка, опять у Дёри в Оласрёске остановитесь, то-то пир будет! Только смотри не влюбись в красавицу баронессу.
— Уже влюбился, тетушка.
— Что ты сказал? — изумленно переспросила хозяйка дома.
— Да вот сказал, что вы разлюбили меня, тетушка!
— Ай-яй-яй, да как у тебя только язык поворачивается говорить такое? Вот как плесну чем-нибудь в твои бесстыжие глаза!..
— Вы даже не смотрите на меня, тетушка, — хитро продолжал сетовать Янош.
— Как это не смотрю? Вот и сейчас гляжу.
— Готов чем угодно поклясться, что вы уже три дня и внимания не обращаете на мою руку…
— Что? Уж не ушибся ли ты?
— Видите, вы и не заметили, что у меня на руке.
— Что же на ней, болячка, что ли?
— Нет, вы только взгляните, дорогая тетушка… — И с этими словами он, как ребенок, желающий чем-нибудь похвастаться, разжал правую руку: на одном из пальцев, рядом с фамильным кольцом-печаткой, было гладкое золотое кольцо.
При виде этого у тетушки Бернат вылетела из рук поварешка, и она с испугом разглядывала то, что представилось ее взору.
— Кому же ты собираешься его отдать? А?
— Это? Никому, разве только самой смерти! Я сам его получил.
— Так от кого же? Ну?
Юноша только плутовато улыбнулся:
— Угадайте, тетушка.
— Я гадать не буду, а вот если ты сию же минуту мне не скажешь, то получишь такую встрепку, какой еще ни одному графу в мире получать не доводилось. Для того ли я нянчилась с тобой, лелеяла тебя с малых лет? А ты… — Добрые глаза ее в одно мгновенье наполнились слезами.
Янош же принялся целовать ее руки, моля о прощения, а затем наклонился и на ухо прошептал заветное имя, которое было для него звонче серебра и злата, ярче блеска драгоценных камней и нежнее всех мелодий мира:
— Пирошка Хорват! Пирошка Хорват!
Тетушка молча сделала ему знак, чтобы он последовал за ней в ее комнату. Янош перепугался: вдруг ей придет в голову поставить его коленями на дрова, как она частенько делала это, когда он был еще мальчишкой.
— Говори, рассказывай по порядку, как все случилось, — сказала она строго, явно задетая в своей гордости.
Янош поведал ей все от начала до конца.
— И это произошло три дня тому назад?
— Да, тетушка.
— И три дня ты мог молчать?
— Да, хотя мне было очень трудно, потому что бедная Пирошка хотела прийти сюда, а я все боялся сказать вам.
— Нехорошо поступил ты, Янош. Да возьми ты себе в жены хоть дочь палача, все равно: раз она стала твоей — значит, для меня она дочь. Говоришь, ко мне хотела прийти, бедняжка?
— Да.
— И что ж ты ей ответил?
— Сказал, что боюсь, как бы ее не приняли неласково.
— Как! Ты так сказал? — сердито закричала тетушка и распахнула дверь. — Эй! Пана, быстро, где мое черное шелковое платье?
— Неужели вы пойдете… туда?
— Именно туда. И немедленно, и не вернусь до тех пор, пока не приведу ее к нам.
Граф Янош с удивлением смотрел на нее. Неужели это и в самом деле тетушка Бернат? Он уже начинал верить в чудо. Может быть, воскресла его милая мать, которую он знал лишь по портрету, висевшему в зале бозошского замка, так как она умерла сразу же после родов, заплатив собственной жизнью за жизнь единственного сына — Яноша.
Но хоть перед ним была не мать, а всего лишь тетушка Бернат, Янош, движимый какой-то неведомой силой, припал к ее груди, приговаривая: «Мамочка, милая моя мамочка!» Глаза юноши были полны слез.
Хозяйка дома и впрямь принялась наряжаться: сделала модные тогда букли, надела шелковое платье, бриллиантовое ожерелье, обрызгала платок розовой водой, в уши вдела сережки с черными жемчужинами — рассказывали, что такие есть только в короне английского короля, — а затем приказала своему гусару *, чтобы он, неся на руке ее мантилью, торжественно следовал поодаль, отстав ровно на четыре шага, а не то она зонтиком раскроит ему, негоднику, череп.
Госпожа Бернат, очень простая у себя дома, умела при желании преобразиться в такую светскую даму, что свободно могла бы занять место фрейлины при венском дворе.
Янош все глаза проглядел, сидя на террасе и ожидая, когда наконец возвратится тетушка и приведет с собою Пирошку. Солнце уже клонилось к закату, а их все не было. И что она могла там делать так долго?
Вот уже и солнце садится; только что лучи его весело играли на высаженных в кадки тетушкиных олеандрах, а теперь оно уходит, не желая больше ждать. И Яношу было так странно видеть, что солнце скрывается, не дождавшись Пирошки.
Между тем с полей возвратились старый Бернат с Жигой и, разумеется, тут же справились, где матушка. Что им сказать?.. «Все равно, правды теперь не скроешь», — подумал Янош и ответил:
— Отправилась к Хорватам.
— Что она, с ума сошла? — удивленно воскликнул старый Бернат.
— Нет, я сошел с ума, дядюшка!
Пришлось Яношу еще раз поведать о своей великой тайне: о том, что он обручился с Пирошкой Хорват. Впрочем, рассказывая всю эту историю во второй раз, он уже не чувствовал затруднения (ко всему человек привыкает) и, по правде сказать, даже наслаждался, с упоением описывая все подробности происшедшего.
Старый Бернат был по природе скуп на слова, поэтому сказал только:
— Ну и сукин же ты сын!
А Жига чуть не упал от неожиданного известия.
— Послушай, это прямо как в сказке! И я до сих пор ничего не замечал! А ты все скрывал от меня! Ну, погоди, хитрец!
— Прости меня, дорогой Жига, но я и сам все это время ходил как лунатик, взбирающийся во сне на колокольню.
— Ну, а загадывал тебе старый Хорват загадки?
— Всего только одну, да сам же ее и разгадал. Целых пять лет я по ручью, что течет через их парк, посылал Пирошке письма на маленьких корабликах. И она тем же путем отвечала мне. После того как мы объяснились друг другу в любви, я пришел к ним в дом и рассказал обо всем ее отцу. Вообрази, как я был ошеломлен, когда старый Хорват заявил мне, что о переписке Пирошка и не подозревает, потому что со мною переписывалась не она, а ее отец. Я, говорит, делал это для того, чтоб лучше изучить будущего зятя.
— Вот это да! — пробормотал старый Бернат. — Такой хороший отец не может быть плохим человеком.
На старика эта любопытная подробность произвела такое впечатление, что он никак не мог успокоиться. Бернат поднялся со своего любимого кресла (к ножкам его, имевшим форму львиных лап, всегда была прислонена подзорная труба; с ее помощью можно было при желании наблюдать, как работают на господских полях крепостные крестьяне) и принялся расхаживать по террасе. Было заметно, что он горячо спорил сам с собой; до молодых людей долетали отдельные слова, когда он принимался бормотать вслух.
В комитате за отцом Жиги укрепилось прозвание «справедливый Бернат». И он гордился этим почетным прозвищем. Но теперь им овладело раздумье: так ли уж он справедлив? Заслужил ли он такую славу? Всегда ли он оправдывал ее своими поступками? Не был ли он несправедлив по отношению к Хорвату?
Наконец возвратилась барыня. Правда, она пришла одна, без Пирошки, но была весела и подвижна и так легко взбежала вверх по ступенькам крыльца, шелестя своими юбками, будто помолодела на два десятка лет. Старый Бернат засеменил ей навстречу, делая вид, будто он ничего не знает.
— Где, матушка, изволила гулять?
— В саду, батюшка, — в тон ему шутливо отвечала госпожа Бернат, перефразируя известный детский стишок.
— Что ж ты там видела?
— Да вот увидела, что мы с тобой два старых глупых осла.
— Неужто? Почему же?
— А потому, что мы с тобой всю жизнь смеялись над милой и славной семьей Хорвата, пренебрегали ими, вместо того чтобы жить с соседями в мире да согласии.
Та же самая мысль не давала покоя и старому судье, а тут еще жена заговорила об этом. И чего она, длинноволосая, суется в его сокровенные думы! Старый Бернат поспешил уклониться от разговора и сам спросил ее:
— Ну, матушка, а еще что ты у них увидела?
— Что наш Жига разиня! У него из-под носа утащили самое милое, самое красивое, самое благородное существо, какое только когда-либо рождалось в наших краях! А ведь Бернатам испокон веков доставалось все лучшее, что вырастало на здешней земле!
Старый Бернат и Жига захохотали, и только Янош беспокойно ерзал на месте и наконец озабоченно спросил, почему не пришло это «милое существо».
— Сейчас придет. Сказала, что только переоденется и накормит своих птичек. Она будет пить у нас кофе. Эй, Эржи, Пана, Борка! Раз-два, живо! Вскипятите кастрюлю молока. А ты посмотри-ка, есть ли у нас поджаренный кофе! Достань из буфета самые красивые чашки и в опочивальне княгини Ракоци накрой стол белой дамасской скатертью. (В «княжескую» комнату хозяйка приглашала только самых дорогих гостей.) Сама она тоже принялась торопливо сновать от одного буфета к другому, затем — в кладовую, вытаскивая отсюда — сверток бисквитов, оттуда — кисть винограда или дорогие конфеты от лучшего венского придворного кондитера Нельвайса, которые три года тому назад прислал господин Михай Лонаи на серебряную свадьбу Бернатов.
В суматохе барыня чуть с ног не сшибла бедного супруга, столкнувшись с ним на пороге. Как бы извиняясь, она ласково потрепала его седую бороду.
— Ну, не сердись, мой старый ворчун, и помирись с честным и добрым Хорватом.
Старик сердито оттолкнул руку жены.
— Не вмешивайся в то, чего не понимаешь.
— Поверь мне, это хороший человек; а кроме того, ты очень обрадовал бы Яноша.
— Если бы он не занимался этой проклятой «Розовой наливкой»…
— Такой ли уж великий грех гнать водку? Я сама в своей жизни чего только не варила! Однако ты все же любишь меня.
— Да, но ты не обманывала людей!
— Как же, не обманывала! Помнишь, когда ты хворал? Делала я для тебя голубцы из телятины и жарила на сливочном масле. А когда ты спросил, на чем, я сказала — на сале!
— Вот-вот! Думаешь, я тебя не знаю? Готова отравить человека!
Результат был таков, что барыня немедля ударилась в слезы (госпожа Бернат могла заплакать по любому поводу), и теперь уже барину пришлось уговаривать ее и просить прощенья, так как ему не хотелось, чтобы супруга встречала прекрасную гостью с заплаканными глазами.
— Только не плачь, не могу я этого видеть. Знаю всю твою хитрую политику! Ладно, успокойся, — я подумаю относительно Хорвата.
Вскоре в сопровождении мадемуазель Фриды пришла Пирошка, и старый барин вел себя так, что у госпожи Бернат сердце прыгало от радости, и она с гордостью думала: «Какой хороший у меня муж!»
За столом старый Бернат никому не позволял ухаживать за гостьей: сам наливал ей воды, поднимал оброненную девушкой салфетку и развлекал всякого рода историями, так что под конец граф Янош даже рассердился и с упреком сказал старику: «Прошу вас, не отнимайте же у меня невесту».
Бернат согласился уступить Пирошку Яношу за один поцелуй, который, разумеется, подарит ему девушка. После долгих препирательств граф согласился выдать из своей сокровищницы один поцелуй. Пирошка подчинилась и, обхватив белоснежными ручками лохматую голову старика, чмокнула его в румяную щеку. Однако ненасытный Бернат и после этого не отстал, куда там! Он продолжал увиваться за девушкой: принес ей под ноги скамеечку, а затем принялся показывать всякие редкие вещички, рассказывая при этом историю каждой. А когда Пирошка похвалила написанный на слоновой кости миниатюрный портрет Марии-Антуанетты, он тут же подарил ей его.
— Для меня будет большой радостью, если вы примете этот подарок!
Больше того, взяв забытый в свое время герцогиней Ракоци корсет, он принялся примерять его Пирошке — разумеется, поверх одежды. Однако даже и так корсет оказался велик ей. Примерять корсет! Занятие, редко выпадающее на долю даже королей (чаще всего оно достается портным), касаться божественных форм — плечика, шейки, талии, девственных бедер.
Граф Бутлер только губы кусал, досадуя про себя, почему старик не догадается позволить ему, Яношу, примерить Пирошке этот самый корсет! Он отдал бы за это целое имение!
Барыня, однако, не удержалась и притворно сердитым голосом прикрикнула на мужа:
— Ах ты, старый ловелас!
В ответ на это Бернат так сверкнул на нее глазами, точно это были не глаза, а две бриллиантовые застежки, выглянувшие из складок сморщенного от времени кожаного футляра.
За всякого рода шутками и дурачествами время пролетело незаметно, спохватились только тогда, когда слуги принесли и поставили на стол зажженные свечи. Тут мадемуазель Фрида вдруг забеспокоилась, что они злоупотребили предоставленной им свободой. Вся семья Бернатов окружила девушек и отправилась их провожать. Однако даже и теперь старый Бернат ни за что не хотел отойти от Пирошки и сам подал ей руку, а Жиге и Яношу пришлось удовольствоваться обществом мадемуазель Фриды. Всю дорогу Янош недовольно бурчал: «Вот и последний мой вечер прошел, а я даже подойти не смог к своей невесте».
Было уже темно, и старый Хорват, поспешивший навстречу дочери, сначала не признал ее провожатых. Только подойдя ближе, он узнал Берната. Оба старика с минуту нерешительно стояли друг перед другом, недоумевая, что им делать. Но тут госпожа Бернат принялась сердито хмурить свои великолепные брови; несмотря на густую темноту, муж понял ее знаки и неожиданно протянул Хорвату руку со словами:
— Добрый вечер, сосед!
— Добрый вечер, — отвечал тот тихо, словно боязливо.
На этом разговор оборвался, чем поспешил воспользоваться Бутлер и, приблизившись к Пирошке, взял ее за руку. Она была теплая, словно птичье гнездышко.
— Пишите чаще, — прошептала ему девушка.
— Завтра будет хорошая погода, — промолвил наконец старый Бернат, взглянув на небо, где незримая рука уже зажигала тысячи звезд, — для наших уезжающих студентов.
Пирошка вздохнула. Хорват машинально повторил:
— Да, для уезжающих.
— Снова я осиротею, — сказал Бернат меланхолично. — Опять у меня не будет сына.
— Каждый день пишите, — дополнила свой наказ Пирошка.
— Да, скоро и у меня не станет дочери, — отвечал старый Хорват.
— Верно, верно, — отозвался дрогнувшим голосом гордый дворянин. — И у тебя тоже не будет.
О, это «у тебя»! Как тепло оно прозвучало в воздухе, как дружно зазвенели, застрекотали в ответ тысячи кузнечиков, цикад и еще каких-то жучков в буйных травах перед домом Хорвата! Пронесся порыв свежего ветра, захрустев ветвями; казалось, это не ветки хрустнули, а пошевелились в могиле кости предков Берната. Только природа могла оценить столь необычайное событие: потомок сотен рыцарей назвал на «ты» простого винокура!
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Господин Тоот сплетничает
Отзвучали сердечные пожелания «спокойной ночи», и калитка закрылась. Однако на какое-то короткое мгновение в воздухе успел мелькнуть белый платочек, зажатый в маленькой ручке. Этот прощальный привет предназначался только Яношу. Он оказался таким проворным, что с быстротой молнии наклонился, поцеловал милую ручку и ловко подхватил платочек, а затем до самого дома наслаждался его ароматом. Дома Янош положил его к себе под подушку, чтобы он навеял дорогие его сердцу сновидения. Сновидения-то платочек мог навеять, только времени досмотреть их не дал.
Сначала перед грезившим Яношем возник образ прелестной владелицы платка… А вот они уже вместе, живут в маленькой хижине. Пирошка готовит обед, а он подкладывает дрова в очаг да целует прелестную повариху, когда вздумает. Наконец обед готов, Янош садится к столу, повязывает салфетку и ждет, когда подадут суп. Вот и дверь открывается, но вместо Пирошки с тарелкой вдруг появляется какая-то старая карга. «Зачем ты здесь?» — сердито кричит на нее Янош.
— Вас пришел будить, ваша милость.
Янош вздрогнул, открыл глаза. Глядит — перед ним не старуха и не Пирошка, а слуга Андраш, который принес завтрак и просит поскорее одеваться, потому что барин велел закладывать лошадей. Внизу на крыльце, насвистывая, уже ожидал Жига.
Как ни грустно, а надо собираться в путь. Кучер Бернатов должен был довезти Яноша и Жигу лишь до Оласрёске, где им предстояло нанести обещанный визит Дёри, а на другой день, уже пешком, отправиться в Патак: ноги у молодых людей крепкие, и не к чему понапрасну мучить лошадей, рассудил старый Бернат.
Как жаль, что над землей висит такой густой туман, совершенно скрывающий от глаз замок Хорватов. Если б не туман, Янош обязательно увидел бы Пирошку у окна. Нет, недаром говорят, что на Бутлерах лежит проклятие; вот и теперь неспроста этот туман.
Разумеется, всю дорогу граф Янош был печален, хотя огорчивший его туман постепенно рассеялся и вскоре засияло солнце. В апреле оно совсем юное и не печет, а только щекочет, искрится, играет, как ребенок, не знающий никаких забот. Оно еще позволяет стуже вмешиваться в свои дела, так что порой и солнце светит, и морозец пощипывает. Днем оно пригреет фруктовые деревья и выманит на свет белые цветы, а ночью подкрадется морозец и изукрасит сучья инеем. Хорошо еще, что деревья не умеют жаловаться, а то неизвестно, на кого бы они больше пеняли — на солнце или на мороз.
По дороге Жига пробовал рассеять мрачные думы Яноша.
— Ну, чего ты опечалился, дружище? Да будь я на твоем месте, я б не знал, куда деваться от счастья!
— У тебя другой характер. Видишь ли, меня пугает будущее. Словно готовит оно что-то непредвиденное и страшное. Порой мне кажется, что на меня вот-вот обрушится какая-то страшная громада.
— Что ты! Все складывается как нельзя лучше. Ни к чему твои опасения. Фантазер ты, только и всего!
— Шуточное ли дело расстаться с Пирошкой? Ты даже не представляешь, как я ее люблю.
— Не океан же вас разделяет. В любое время сможешь приехать повидаться с ней. Сейчас ты сам себе хозяин. А пока давай обсудим реальные вещи, к чему попусту фантазировать. Вот приедем сейчас в Оласрёске и за ужином как следует выпьем у старого барона. Смотри, вон уже и замок виднеется.
Действительно, вдали за поворотом сквозь кроны могучих тополей проглядывала ржаво-красная крыша замка Дёри.
— Как ты думаешь, что за девушка баронесса Маришка? Граф Бутлер неопределенно пожал плечами.
— Я не заметил в ней ничего примечательного.
— Нет, в ней есть что-то загадочное.
— Не знаю… может быть, — отвечал Янош рассеянно. Думы его были по-прежнему далеко, возле Пирошки. Он пробовал мысленно представить себе ее. Но едва возникал перед ним образ девушки, как вдруг то Жига чихнет (ох, как прозаичен этот Жига!), то бричка подпрыгнет, то увязнет в какой-нибудь рытвине колесо или громко щелкнет кнутом кучер, — и милое видение тотчас исчезает.
Пейзажи вокруг тоже не интересовали Яноша, хотя ехали они по живописным местам: долины сменялись холмами, леса — камышовыми зарослями.
— Янош, слышишь, как выпь кричит? Вы-вы-вы!
Открылся вид на гору Хедьалья; колья на облепивших ее склоны виноградниках делали гору похожей на спину огромного нашпигованного зайца.
Старому кучеру, служившему когда-то в Бенцурском полку, вспомнился один случай, и, повернувшись на облучке, он принялся рассказывать о том, как их полк проходил однажды этой дорогой на Кашшу. Когда они пришли вот на это самое место, их генерал, граф Лариш, вдруг как гаркнет: «Полк, смирно! Равнение на гору!» Солдаты прошлись парадным шагом, словно перед императором. Да, эта гора заслуживает не меньшего почета, чем сам император!
Весело летела четверка лошадей, словно пушинку, увлекая легкую бричку; вдруг из рощицы вышел на дорогу какой-то человек в черной суконной одежде и, как старый знакомый, приветственно помахал им шляпой.
— Bonum mane ргаесог![72]
— Смотри, да это хозяин корчмы из Рёске, — тот, что отказался взять с нас деньги за цыплят. Придержи-ка коней, дядя Ишток.
Кучер натянул вожжи, и лошади остановились. Студенты приветливо поздоровались с господином Тоотом.
— Садитесь к нам, — предложил Жига, — подвезем вас до дому и заодно поболтаем дорогой. Я пересяду к кучеру, мне давно уже хочется взять вожжи в руки.
Господин Тоот скромно отер рукой усы и с восточной медлительностью отвечал, что он, конечно, не прочь немного прокатиться с господами, так как изрядно устал. Ведь он пешком идет из соседнего села; на телегу он усадил жену, детишек, двух своячениц, тоже с детьми, — набралось столько, что едва уместились. Он благодарит барича за любезное предложение, но принять его не может, ибо человек он с понятием и придерживается тех взглядов, которые, бывало, высказывал покойный предводитель дворянства, Пал Докуш; настоящего дворянина сразу можно узнать — он не пытается казаться более знатным, чем есть в действительности. Вот почему, пояснил трактирщик, он, Тоот, ни за какие сокровища не сядет в пролетку, запряженную четверкой лошадей. Ведь за это над ним до самой смерти будут смеяться односельчане. И Жига и кучер Ишток согласились с его доводами, причем кучер тут же подал умный совет:
— Садитесь-ка ко мне, в этом уж ничего особенного нет. Сесть рядом с кучером — совсем иное дело, и почтенный Тоот, взобравшись на козлы, уселся вполоборота, чтобы удобнее было разговаривать с господами студентами.
Дело в том, что в богатых комитатах, где проживала знать, ранг и знатность дворянина определялись тем, какой у него был выезд. Впрочем, в те времена каждая вещь, помимо прямого своего назначения, имела еще и совершенно иной смысл. В Трансильвании, например, о знатности дворянина судили по числу печных труб на крыше его дома. Над одними домами по две трубы, над другими — по одной, а были и такие, крытые соломенными крышами, в которых и вообще-то не было трубы: дым так и валил изо всех щелей. В бедных словацких комитатах земное величие определялось количеством и сортом деревьев в саду. Бароны Реваи, Юсты восседали под липами или елями, так как искали лишь прохлады; Лехоцкие и Раковские выращивали в своих садах ореховое дерево, потому что оно, кроме обильной тени, доставляет еще и немного орехов; дворяне помельче предпочитали сливу, которая хоть и дает мало тени, зато приносит много плодов. Правда, и сливовых деревьев общественное мнение не позволяло иметь более семи.
В комитатах Земплен, Сабольч и Унт степень знатности определялась выездом. Бернаты, например, относились к числу таких дворянских фамилий, которым надлежало ездить на четверке. Любой член этой семьи мог отправиться в путь пешком, но ни в коем случае не на паре лошадей — этим он унизил бы достоинство всего рода. На паре лошадей могут ездить какие-нибудь Фодоры, Боты, Оросы да Житковские.
Выезд свидетельствовал о ранге семейства, а не о его состоятельности. Дворянин, ездивший на паре лошадей, мог разбогатеть, завести даже свой конный завод, и тем не менее (по крайней мере, двум его ближайшим поколениям) полагалось запрягать лишь пару лошадей, если только он не достигал какого-нибудь высокого чина по службе; иначе общество строго осудило бы его. Любителей пустить пыль в глаза в те времена еще не водилось, разве что, бывало, какому-нибудь попавшему в эти края польскому шляхтичу взбредет на ум вознестись не по чину.
Разумеется, и упряжки из четырех лошадей были неодинаковы. Баркоци ездили на четверке гнедых, Перени — на вороных, у Стараи в упряжке ходили четыре жеребца, у Вальдштейнов, Майлатов было по четверке одномастных рысаков, выбранных из табуна не меньше как в тысячу голов. Это уже доказывало их принадлежность к сословию магнатов. Но было бы смешно, если б с такой же помпой начали выезжать Серенчи, Чато, Бернаты. По рангу им положена четверка, однако специально подбирать коней по масти, породе и прочее — это уж привилегия более благородных, более высокопоставленных родов. Так что четверка лошадей, принадлежавшая Бернатам, была собрана с бору по сосенке: тут была и рыжая кобыла и вороной мерин на целую ладонь выше ее, а место справа, в голове цуга, занимал игривый чалый жеребец, — словом, каждая лошадь отличалась какой-нибудь своей особенностью. Чтобы эта картина выглядела более патриархально и была представлена вся лошадиная семья, за бричкой по обочине дороги семенил на тонких ножках жеребенок с колокольчиком на шее.
— Ну что, господин Тоот, есть что-нибудь новенькое?
— Особо хороших новостей нет, — задумчиво отвечал трактирщик, — вот разве что теща моя умерла.
— Неужели?
— Как раз на пасху. Сегодня делили имущество между родственниками покойной. Оттуда я и еду.
— А велико ли наследство?
— Так, кое-что перепало, но, разумеется, могло бы достаться и больше, окажись я возле нее во время болезни. А то все время вокруг тещи увивался наш поп, так что большую часть наследства она завещала церкви. Перед смертью говорит она мне: «Не сердитесь, детки мои, что, кроме души, я завещаю богу кое-какое имущество. Я поступаю так потому, что все оно есть подарок господа бога». — «Ну, — говорю я, — нехорошо, мамаша, возвращать подарки». Заслышав это, наш священник оттолкнул меня от кровати, и я остался ни при чем.
— Местный священник? Не тот ли, с которым мы недавно познакомились у Дёри?
— Он самый, соседнее село тоже входит в его приход. Скользкий, хитрый человечек, но чертовски красивый парень. Из него под старость либо епископ, либо черт выйдет. Однако он теперь уже не бывает в доме Дёри. Господин уездный начальник показал ему, где бог и где порог. Должно быть, плохо поп учил баронессу.
— Ну, а цыплята у вашей хозяюшки подросли?
— Подросли, да что толку. Видно, не судьба вам отведать моих цыпляток: третий день два жандарма стерегут вас на дороге у въезда в деревню. Хотите вы того или нет, а велено доставить вас в замок Дёри. Так что судите сами, нужна ли вам будет стряпня моей супруги? Впрочем, я и сам не посоветовал бы сейчас пробовать ее стряпни: она все плачет по своей матери, и слезы капают в каждое блюдо, которое она готовит. Я-то съедаю, поскольку я муж ей, а другой бы, конечно, не стал.
— Значит, Дёри дома?
— Все время дома, и никто к ним больше не ходит и не ездит. Однако они как будто к чему-то готовятся. Дней восемь, а то и десять подряд днем и ночью работали у них каменщики, столяры, плотники и кузнецы.
— Может быть, барышня замуж выходит?
— Да нет, не слыхать. Гувернантке-француженке тоже отказали.
— Неужели? Слышишь, Янош? Мадам Малипо уж нет больше у Дёри.
— Не беда, — заметил Бутлер, — ее с успехом может заменить шимпанзе.
— Ах, обезьяна? Еще немножко, не было бы и ее. Знаете, что с нею приключилось? Очень странное происшествие. В соседнем доме живут со своим отцом две старые девы по фамилии Ижипь. Одна из барышень, Анна, с некоторых пор стала каждое утро находить на подоконнике своей спальни распустившуюся розу. Кто ее приносит и с чего бы это? По селу пошел слух, что кто-то ухаживает за Анной Ижипь! Сама мадемуазель Анна не ест, не пьет, не спит: от счастья как на иголках. Кто бы мог быть этот таинственный поклонник? Ну и вкус же! Весь дом на ноги поставили, только и ждут — вот-вот заявится к ним не таясь. Однако никто не едет и не едет. Стали по ночам караулить дворовые, кучера. За всю ночь под окнами никого не заметили, а наутро — глядь, опять на окне цветы. Барышня решила обязательно узнать, кто приносит цветы, откуда является и куда уходит; она велела посыпать землю под окном золой — на ней, мол, останутся отпечатки ног. Наутро смотрят… Бог ты мой! Все пять пальцев поклонника отпечатались. («Черт его побери! — воскликнул один из кучеров. — Видать, этот господин босиком ходит!») Но это б еще ничего. Посмотрела кухарка, взглянула тетка Секереш, потом почтенная Кайсаи, тетушка Видак — словом, все старухи, что в доме были и по соседству живут, — и вдруг одна из них как заорет: «Помоги, святая Мария, да у него пяток нет!..» И в ту же минуту по селу разнесся слух, что цветы приносит младший сын черта Вельзевула и ведьмы Дромы, но, по молодости, у сатанинского принца копыта на ногах еще не выросли.
От таких сплетен старый Ижипь пришел в негодование и приказал одному отставному солдату, не боявшемуся ни бога, ни черта, и охранявшему господский сад, сторожить всю ночь у окна и застрелить негодника, кто бы он там ни был. Тот так и сделал. Ночью сторож услышал шум и выпалил из ружья во что-то черное под окном. Раздался страшный вой, визг, а когда сбежались люди, увидели, что под окном валяется раненая обезьяна господина Дёри. Несчастная барышня Ижипь (честное слово, мне жалко бедняжку!) от такого позора тут же занемогла и с той поры не встает. Обезьяну тоже все еще лечат, не может она никак оправиться ни от раны, ни от несчастной любви.
Жига от всего сердца смеялся над этой веселой историей.
— Вот это да! Любовная драма в Оласрёско! Даже Янош улыбнулся и язвительно заметил:
— Обезьяна, по-видимому, кому-то подражала. Только кому? Ясно, что она по ночам насмотрелась на подобные штуки в замке. Вот тебе тема для эпиграммы, Жига.
— И где она брала розы в такую раннюю пору?
— Воровала в оранжерее.
— Ну и бестия! — потешался Бернат. — Да, любовь есть любовь! Я теперь сгораю от нетерпения повидать господина шимпанзе.
— Тпру, почти приехали, — сказал господин Тоот. — Я, пожалуй, сойду. А вот и жандармы!
Действительно, на краю деревни, верхом на лошадях, их уже поджидали жандармы Есенка и Андраш Кажмари. Они стояли как раз в том месте, где дорога разветвлялась на две и одна из них шла в объезд деревни. Такая позиция была занята на тот случай, если б студентам пришла в голову озорная мысль миновать деревню и проехать прямиком в Патак. На другой же дороге, что шла через село, их ожидал сам гостеприимный хозяин.
Жандармы остановили бричку и, откозыряв студентам, сообщили, что его высокоблагородие господин барон шлет им привет и что он вот уже два дня с нетерпением ждет господ студентов в гости.
Горячо пожав руки молодым людям, господин Тоот сошел с повозки, а конные жандармы, словно конвойные, сопровождали бричку через всю деревню.
Жители села — женщины, девушки, маленькие ребятишки, — словом, все от мала до велика высыпали к воротам, как это случалось всегда, когда по селу проезжал экипаж, запряженный четверкой лошадей. Хозяин, оставшийся дома нарубить дров, или какой-нибудь дряхлый старичок, неспособный к более тяжелой работе и потому копавшийся на огороде, приветствовали проезжавших, помахивая своими засаленными шляпами.
В те времена крестьянин был еще раболепен, почитал господ и был убежден, что именно они дали ему кормилицу-мать — землю. Только позднее крестьянину растолковали, что это он кормит своим трудом помещика. Есть вещи, которых лучше не знать.
А в ту пору барин был в глазах крестьянина опекуном, защитником во всех его бедах. Когда, например, в том же Оласрёске меховщик Янош Урбаи узнал, что происходит из дворян, он сильно расстроился и даже написал прошение в комитатское управление, чтобы его оставили в крепостном сословии, так как без барина он прожить-де все равно не сможет.
Так что дворянское звание чего-либо стоит лишь при условии, если к нему прилагается еще выезд из четырех коней. Вот и сейчас жители Рёске кланялись четверке лошадей, а не тем, кто на ней ехал.
— Увидят нас под таким конвоем, — заметил граф Бутлер, — подумают еще, что мы арестованы.
Бернат хотел ответить что-то, но как раз в этот момент они приехали. Ворота замка Дёри со скрипом распахнулись; выбросив клуб дыма, торжественно выпалила мортира, а за ней и другая. Лошади с испугу взвились на дыбы.
— Бре-ке-ке, ребята! — приветствовал их барон, размахивая широкополой шляпой. — А я уж думал, что вы умерли.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ Странные предзнаменования
Дёри встретил студентов с редким, даже вызывающим удивление гостеприимством, как старых долгожданных друзей; он обнял их по-родственному, так, что кости затрещали, и проводил в отведенные им комнаты. «Стряхните с себя дорожную пыль, — пошутил он, — хотя, впрочем, у нас никого нет — только мы вдвоем с дочерью». Однако Жиге показалось странным, что его отвели в другой флигель, — ведь гостей в доме не было и свободных комнат хватало в здании.
Поразило Жигу и отсутствие прислуги; дом выглядел пустынным и унылым — точь-в-точь заколдованный замок в сказках.
На террасе мелькали какие-то тени; у колонны потягивалась черная кошка, уставившись на студентов своими желтыми глазами. Со стороны кухни время от времени появлялись люди: вот на минутку вышла служанка с какой-то посудиной и что-то выплеснула; потом показалась голова поваренка в белом колпаке и тут же скрылась. Все это были новые лица.
Дёри предупредил своих гостей:
— Долго не прихорашиваться, сейчас же будем обедать.
Граф Янош попросил разрешения до обеда написать несколько строчек домой, чтобы успеть отправить письмецо с кучером, который поедет обратно, как только накормит лошадей.
— Уж не приключилась ли с вами какая беда в пути?
— Нет, просто так, вспомнил кое-что.
— Ну ладно, я пришлю письменные принадлежности, а пока что велю немного обождать с первым.
Новый гайдук принес на серебряном подносе бумагу, чернильницу и неочиненные гусиные перья, — по обычаю, перо должен был очинять сам гость своим собственным ножиком.
Этот новый гайдук, с хмурой и коварной физиономией, был, как видно, отменным плутом; в его маленьких глазках скрывались (правда, плохо) подлость и вероломство, да к тому же он еще и косил на один глаз. Рассеянная природа позабыла наделить его лбом, и рыжие волосы росли у него прямо от самых глаз. Этакого парня можно было бы повесить за одну только внешность.
— А разве прежнего гайдука уже нет здесь? — спросил Бутлер.
— Я вместо него, — ответил новый гайдук таким глухим, замогильным голосом, точно он шел откуда-то из-под земли.
Янош быстро набросал Пирошке несколько строк о своих чувствах и мыслях, о том, что всю дорогу колеса экипажа выстукивали: «Люблю тебя, люблю». «Сейчас мы уже приехали к Дёри, но много писать не могу, моя ненаглядная, так как торопят к обеду, а хотелось бы сказать так много… Ну, ничего, вечером, перед сном, напишу длинное-предлинное письмо».
Янош перечитал записку, и она не понравилась ему. Влюбленного всегда можно определить по тому, что он непременно считает себя плохим стилистом; у прочих смертных такого качества вы не найдете. Итак, он скомкал письмо, сунул его в карман, написал новое и поспешно отнес кучеру.
По пути, в одном из закоулков длинного коридора, он встретился с баронессой Маришкой. Она поздоровалась с ним и протянула руку: баронесса была бледна, взор ее потуплен, а рука холодна, как у мертвеца. Бутлер почувствовал, что рука ее дрожит.
— Значит, все-таки приехали, — вздохнула она и отвернулась.
Она показалась какой-то странной, словно гости были ей неприятны.
— Но ведь мы пообещали, а настоящий венгр всегда держит свое слово.
— И часто раскаивается в этом.
Бутлер посмотрел на нее. Его удивил холодный тон девушки: было в нем нечто зловещее, будто какая-то тайна помимо воли так и хотела сорваться с ее уст.
На баронессе было платье с глухим воротом из той усыпанной мелкими цветочками ткани, которая тогда носила название «помпадур». От самой талии до подола юбки тянулись вертикальные оборки.
Баронесса сама почувствовала, что она слишком уж неучтива, и поспешила поправиться:
— Но я очень рада, что вы приехали. Ведь мне так тоскливо здесь.
— Что? Тоскливо в таком веселом селе?
— Ну, вы сами увидите… Да, сами увидите. — И она прошла в столовую.
Немного погодя все они уже сидели за известным нам столом. Правда, не хватало шимпанзе: обезьяна еще болела.
Вкусных яств и доброго вина было в изобилии. Барон Дёри попытался вновь прибегнуть к своему неистощимому запасу анекдотов, однако сегодня ему не удавалось сдобрить их острым соусом двусмысленностей; он даже ни разу не предложил Маришке выйти в другую комнату. Как видно, что-то его тяготило. Маришка заметно избегала встречаться взглядом с Бутлером. Не в силах скрыть свое смущенье, она старалась поддерживать беседу с Бернатом. Они толковали о цветочных семенах и рассаде, о разведении деревьев и различных растений. Бернат посмеивался над молодыми девушками, говоря, что ничего-то они в этом не понимают. У них в деревне, например, есть одна красивая девочка (вернее, уж барышня, а скоро будет дамой), которой однажды они с Бутлером подарили птичье яичко. И что же сделала с ним чудачка? Она посадила его в землю и ждала, когда из него выведутся птенчики.
Бутлер вспыхнул; все лицо его горело. Баронесса Маришка внимательно посмотрела на него и побледнела еще сильнее.
— Пейте, студенты, пейте! — потчевал их Дёри. — Только то наше, что мы выпьем. Жизнь коротка, смерть вечна! Пей и ты, Маришка. Я хочу, чтобы у всех у нас было хорошее настроение. Чокнись с Бутлером! А ну, посмотрю, умеете ли вы так чокаться, чтоб бокалы, едва коснувшись, уже зазвенели.
Выпили. Маришка чокнулась с Бутлером. От выпитого вина ее нежное лицо быстро раскраснелось. Из белой розы оно превратилось в алую.
— Все что угодно могут сказать мои враги, но что не найдется у меня доброго вина — этого даже враг мой не скажет! Попробуйте-ка еще вот этого, красного, как гранат.
Студенты, конечно, и его отведали.
— А теперь, Гергей, подай нам золотые кубки, наполни их старым токайским. Сейчас увидим, кто из нас настоящий мужчина.
Из буфета извлекли кубки чеканного золота.
— Вот этот, усыпанный рубинами, подарил Людовик Великий моему предку Палу Дёри, когда они вместе воевали в Неаполе. Эх, ребята, и хороша, говорят, была женщина с такими же вот рубиновыми устами, та женщина, которая пила когда-то из этого кубка! Она убила своего мужа. Тогда-то и отняли у нее этот кубок. Иоганной звали знаменитую женщину… Выпей из него, граф Янош!
Два других золотых кубка тоже имели свою историю.
— Один из них, — рассказывал Дёри, — принадлежал Меньхерту Балашша (довольно подозрительное это золото, черт побери, ибо его светлость имел обыкновение чеканить золотую монету из медных колоколов). Третий кубок получил мой отец в подарок от своего крестного отца, графа Вальдштейна. Да и вообще Дёри получают теперь что-нибудь только на крестинах.
Граф Бутлер содрогнулся от ужаса, услышав, что на столе стоит кубок, принадлежавший Вальдштейну. Дурное предзнаменование! Он уже не мог больше пить.[73]
А Дёри словно поставил себе целью напоить студентов. Но все его уговоры, все коварство были тщетны. Напрасно он затягивал старинные застольные песни, повествующие о том, что еще наш прародитель, создавая виноградники, завещал: пейте, пейте, сукины дети. Графа Бутлера уже не интересовали предписания Ноя, он упрямо отодвигал свой бокал.
Кубок Вальдштейна так действовал на него, словно не кубок, а череп лежал перед ним на скатерти, оскалив мертвые челюсти.
Поэтому ничего не оставалось, как подняться из-за стола и выйти на крыльцо подышать свежим воздухом. Дёри пропустил вперед студентов, а сам по дороге шепнул Маришке:
— Мужайся, дочь моя. Приближается решительный момент.
— Он не захочет, — прошептала девушка сдавленным голосом.
— Именно поэтому ты и должна найти в себе силы. Все поставлено на карту. Или выиграть, или погибнуть!
— Ой, папа, мне так стыдно!
Старик рассвирепел, вся кровь бросилась ему в голову.
— Молчи ты! Раньше надо было стыдиться. А теперь не о чем разговаривать. Отправляйся в свою комнату и переодевайся.
Маришка послушно склонила голову. Она напоминала сейчас ветку, гнущуюся под тяжестью своего собственного плода.
Дёри сделал несколько шагов следом за ней и в том маленьком закоулке, где перед обедом она встретилась с Бутлером, сказал:
— Ни в коем случае не теряй мужества, дело должно нам обязательно удаться. Сказочно богат, завидный жених! А каким способом ты этого добьешься, не так уж важно. Люди поговорят об этом, да и забудут.
— О господи, если б это все уж было позади!
— Что именно?
— Да чтоб люди все уже позабыли.
— Не бойся. В таких делах есть надежный сообщник — время. Ну, ведь ты не боишься? А?
— Не боюсь, — прошептала девушка, дрожа как осиновый лист.
Старик оставил ее и поспешил за студентами. В этот момент к юношам подошел проститься кучер Ишток, который, пообедав и напоив лошадей, собрался домой.
— Не забудь про письмо, дядя Ишток!
— Разве можно забыть, барин.
Коляска Бернатов выехала со двора, и слуги сразу же с грохотом закрыли обе створки ворот и задвинули тяжелый железный засов.
Странно. Обычно ворота здесь были широко распахнуты в ожидании гостей.
Немного погодя послышался стук молоточка в калитку, значит, и она была на запоре.
Жига Бернат многозначительно посмотрел на Бутлера, как бы говоря: «Тут творится что-то неладное».
— Гергей, Гергей, посмотри, кто там стучит!
Двор был совершенно пуст, словно вымер. Нигде не было видно ни души: ни тех, что работали на кухне, ни тех, что накрывали на стол, не говоря уж о конюхах и прочих работниках, обычно во множестве сновавших по двору. Никого!
Порыв холодного ветра пронесся через парк, засвистел среди деревьев и вдруг сразу затих, так же как в слабом писке умирает громкое гоготанье гуся, если внезапно перерезать ему глотку.
Гергей весьма неохотно покинул столовую, где прибирал недопитое вино. По-всякому можно убирать вино — кто в буфет, кто в горло… Впрочем, до вина ли тут было!
— Пойди-ка, Гергей, взгляни, кто там стучится у ворот? Скажи, дома нет. Понял? Я хочу побыть сегодня наедине с моими дорогими гостями.
Жига Бернат напряг слух и услышал, что калитка все-таки отворилась. Интересно, кого мог впустить гайдук, несмотря на запрещение хозяина?
Вскоре на лестнице послышались шаги: топ-топ, топ-топ. Жига пристально всматривался в лицо Дёри — разгневается он или удивится? Но на суровом лице старого вояки можно было прочесть лишь равнодушие: ясно, что он был осведомлен об этом посещении.
Черная фетровая шляпа, черная сутана, знакомое лицо — появился господин священник Сучинка собственной персоной.
Но это уже не был тот улыбающийся аббат, который когда-то чувствовал себя здесь как дома. Теперь он приближался неуверенными шагами, с опущенной головой и потупленным взором, как кроткий слуга господа, отрешившийся от мирской суеты; даже голос его звучал подобострастно.
Низким поклоном приветствовал он могущественного помещика, а затем поздоровался с молодыми людьми. Дёри даже не подал ему руки, только указал на стул рядом с собой.
Жига вновь украдкой посмотрел на Бутлера и жестом выразил свое удивление: странно, ведь, по словам корчмаря, Дёри запретил попу появляться в замке. Но Бутлер оставался слепым ко всему происходящему, не замечал знаков, которые делал ему Жига, продолжая, как и прежде, созерцать лишь свое обручальное кольцо. И сейчас он, разумеется, был поглощен рассматриванием своего перстенька и не проявлял никакого интереса к жестикуляции своего товарища.
— Хорошо, что вы пришли, батюшка, — сказал барон, однако не глядя на попа, — вы тут развлечете моего молодого друга Берната, пока мы с графом Яношем обсудим кое-что у меня в кабинете. Пойдем же, Янчи!
Жига беспокойно заерзал на стуле. Барон обнял Бутлера за плечи и увлек за собой по мрачному и сырому коридору в свою канцелярию. Со сводчатого потолка сорвалась вспугнутая летучая мышь и задела Бутлера крыльями по лицу.
— Фу, противная, как ты меня испугала!
(«Ничего, ты еще не так испугаешься», — подумал про себя Дёри.)
Он пропустил Бутлера вперед, и они очутились в канцелярии уездного начальника, обстановку которой составляли несколько обитых коричневой кожей стульев и диван. У одной из стен высилась большая полка, доверху набитая всевозможными бумагами, у окна помещался стол, на нем стояли две свечи, распятие, на котором присягали тяжущиеся стороны, календарь и Библия, предназначаемая для присяги лютеран, — произнося клятву, они клали на нее руки; а если поблизости Библии не оказывалось, то по необходимости для этой цели использовали «Сибиллу» — книжку, толкующую сны и внешне похожую на Библию (сейчас толкователь снов валялся на диване, открытый на какой-то странице).
В углу в беспорядке были навалены «вещественные доказательства»: топоры, пистолеты, бритвы, косы, дубины. У стенки лежал большой пук ореховых прутьев — действенное средство против земных грехов.
— Ну, вот и моя канцелярия. Садись, братец. Сюда, сюда, на кушетку. Довольно неуютное, даже мрачное местечко. Не правда ли? Но, видишь, я хорошо здесь себя чувствую. Бывает, правда, что кое-кому приходится здесь плохо. Ведь не все люди одинаковы. Впрочем, полно об этом. Вот табачок, закури. За трубкой нам приятнее будет обсудить тот великолепный план, который я придумал в твое отсутствие; я построил его, как маленькая пчелка свой сот, куда потом попадает мед. Хе-хе-хе! Да, мед…
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ Драма в Рёске
— Я слушаю вас, сударь.
— Ладно, только твоя трубка еще не разгорелась. Стой, вот другая, если эта не курится. Попробуй раскури ее. Это настоящая трубка, изделие самого Надя.[74]
Такую сейчас брат брату не отдаст дешевле, чем за тридцать золотых. Что за изгиб, какие изящные линии! Ты только погляди. А как высверлен мундштук… Обидно, что умирают такие люди, как этот Надь. Ну, вот и разгорелась. Да, сынок, о чем же я хотел тебя спросить? Ага, вспомнил… Что ты, например, думаешь обо мне? Только говори напрямик, как и подобает истинному венгру. Графа Бутлера несколько удивил такой вопрос, но все же он ответил:
— Я считаю вас весьма порядочным человеком.
— Так оно и есть, именно так, — проговорил старик, кивнув головой. — Теперь скажи, что ты думаешь о моей дочери?
Этот вопрос показался Бутлеру еще более странным.
— О барышне?.. Я весьма уважаю и чту баронессу.
— Знаю, сынок. Ну, а как, она красива, а?
— Насколько может быть красива молодая девушка.
— А нравится она тебе? Пусть тебя не удивляет моя прямота, я ведь солдат.
— Конечно, — ответил Янош. — Почему бы не нравиться?
— Ладно, пока все идет хорошо. Венгры, говорят, понимают друг друга с полуслова; однако, чем больше скажешь, тем понятнее. Интересно, что бы ты ответил мне, если б я сказал тебе крутись-вертись, подкова, — эти студенты пленили мое сердце. Редко кто так нравился мне, как полюбились вы; разве что однажды в Праге — я был тогда еще старшим лейтенантом — очаровал меня один студент… правда, позднее выяснилось, что это была переодетая молоденькая герцогиня. Н-да… Впрочем, я надеюсь, вас нельзя заподозрить ни в чем подобном.
— Да, не думаю, — улыбнулся граф Янош.
— Ну, так вернемся к нашему делу, а эту историю я вам расскажу потом, вечером. Так вот, если б я сказал: «Оставлю-ка я здесь одного из этих двух студентов, отдам за него свою дочь, и закатим такую свадьбу, что мертвецы в гробах проснутся. Что бы ты на это ответил?
Бутлер устремил на барона беспокойный взгляд, силясь понять, серьезно говорит этот чудак или, как всегда, шутит. Однако, против обыкновения, лицо барона было весьма серьезным, и казалось, он напряженно ожидает ответа.
«Все же не может быть, чтобы он это всерьез говорил, — подумал Янош. — Баронессу так не сватают!»
— Ну-с, так как же? — нетерпеливо настаивал барон.
— Я бы ответил, сударь, что я очень благодарен за высокую честь, но не могу ею воспользоваться: я уж навечно связан с другой, в знак чего и ношу вот это кольцо.
— Бре-ке-ке! — вскрикнул барон, словно его укусила змея. — Какое еще кольцо?
— На днях я обручился с некоей Пирошкой Хорват, — ответил Бутлер, протягивая руку с таким сияющим видом, будто ждал, что за сим последуют восторженные поздравления.
Однако таковых не последовало. Вместо этого барон весело рассмеялся.
— Обручился! Только и всего? А я уж было испугался, что ты на ком-нибудь женат. Чуть было не рассердился на тебя, что ты этаким легкомысленным поступком разрушаешь все мои планы, — продолжал Дёри донельзя сладким голосом. — Обручение — это пустяки! Обручение — лишь маленькая прелюдия. Чепуха! Человек видит красивое яблоко и говорит: «Я сорву его, очищу, разрежу и съем». А оно пока продолжает оставаться на дереве. И я не понимаю, почему тем временем не может случиться так, что он и на другом дереве увидит яблоко? А поскольку второе ближе — им и утолит свой голод. Intelligisne, amice?[75]
Голова у Бутлера гудела, точно в ней били в набат два колокола. Ему казалось, что комната со всей ее обстановкой завертелась, словно веретено.
— Почему ты не отвечаешь? Что же ты скажешь на это?
— Ничего.
— Как так ничего?
— Ведь я уже сказал, что обручен и люблю свою невесту больше жизни. — Затем, несколько повысив голос, Янош добавил: — И я вообще не понимаю вас и ваших шуток.
— Значит, по доброй воле ты не женишься на Маришке?
— Никогда! — Янош встал и направился к выходу.
Барон прыгнул, как хищный зверь, и преградил ему дорогу.
— Ого-го! Не так поспешно, сынок. Сядь-ка на свое место. Знай, что если уж лиса сцапала петуха, она его не выпустит, и имей в виду, — голос его зазвучал угрожающе, — если ты не женишься на Маришке по своему доброму желанию, она будет твоей женой помимо твоей воли. Даже и не возражай, милый мальчик! — Он ухватился за пуговицу его сюртука и снова заговорил вкрадчиво и ласково: — Видишь ли, этого не миновать. Не причиняй огорчения тому, кто через несколько часов станет твоим любящим тестем.
Бутлер вырвался из его рук.
— Однако, милостивый государь, это уж слишком! — воскликнул он, вспылив. — Не думал я, что гостеприимство у вас сочетается с такими глупыми потехами. Я ни минуты не желаю оставаться в вашем доме. Прощайте! — И он рванул дверь канцелярии, чтобы немедленно покинуть Дёри.
Однако из глубины темного коридора два грубых голоса рявкнули одновременно:
— Назад!
В дверях стояли вооруженные жандармы Есенка и Кажмари; загремев ружьями о каменные плиты, они быстро взяли их наперевес.
Бутлер, побледнев от ярости, попятился назад.
— Что это значит, милостивый государь? — спросил он барона полным достоинства голосом. Глаза его метали молнии.
— Ведь я сказал тебе, сердечко мое, не упрямься, — успокаивал его хозяин ласковым голосом, как увещают маленьких детей. — Видишь, что получается, когда не слушаются старших!
— Известно ли вам, что это насилие?
— Конечно, мой милый.
— А знаете ли вы, что я уже совершеннолетний и, как магнат, являюсь членом законодательного собрания?
— Этого я еще не знал, но рад, что тебя объявили совершеннолетним.
— Как вы смеете насильно задерживать меня? Вы за это поплатитесь!
Однако и эта угроза не произвела на Дёри никакого впечатления.
— Что ж, возможно. Но ведь наместник живет далеко, да к тому же тяжел на подъем. Император — еще дальше, а голова у него, куда медленнее варит. Да кроме того, судьба посильнее и императора и наместника. Ведь все, что произошло, — веление судьбы. Поэтому успокойся-ка лучше, старина, и обними меня по-сыновьи, тем более что рано или поздно тебе придется это сделать.
Бутлер готов был разорвать этого человека, не то что обниматься с ним, гнев закипел у него в груди, в висках стучало, глаза налились кровью, и с неудержимой яростью он ринулся на Дёри.
— Я задушу тебя! — прохрипел Янош. — Ты умрешь от моей руки!
— Ну-ну, полегче, зачем горячиться! Ай-яй-яй, мой мальчик, да ты прямо дикая кошка! Никогда бы я не поверил, что мне придется выдавать дочь за такого человека. — И маленький, коренастый Дёри с такой силой схватил Бутлера за руки, что тот не мог даже пошевелиться: словно две стальные скобы сжали его. Потом Дёри ласково подтолкнул Яноша к креслу. — Видишь, что получается? Куда же это годится? И чего ты добиваешься своим упорством? Умнее будет, если ты перестанешь упрямиться, изобразишь на лице довольство и подчинишься неизбежному. А то ведь на что ты похож: глаза налиты кровью, лицо перекошено… Если б Маришка сейчас увидела тебя, то, видит бог, мне пришлось бы еще и ее уговаривать. И галстук у тебя съехал на сторону. Приведи себя хоть немного в порядок перед торжественным обрядом.
Не в силах что-либо предпринять, Бутлер только скрежетал зубами. Однако слово «обряд» потрясло все его существо.
— Перед каким таким торжественным обрядом? — хрипло спросил Янош, глядя широко открытыми глазами на барона Дёри, который, присев на корточки, собирал валявшийся в углу corpus delicti[76] — рубящие и колющие орудия, а потом запер их в шкаф.
— Эх, чудак! Ты все еще не понимаешь! Перед венчаньем, мой мальчик. Ты же видел святого отца.
Но вместо ужаса эта неслыханная дерзость заронила в душе Бутлера луч надежды (до чего странный механизм — человеческий ум!). «Глупости, — рассуждал он про себя. — Нельзя же всерьез принимать такие вещи. В конце концов Венгрия находится в Европе!.. — И вдруг ему показалось, что он догадался, откуда ветер дует. — Это все козни старого Миклоша Хорвата, который хочет подвергнуть последнему испытанию мою любовь к Пирошке. Они с Дёри, наверное, друзья, и, узнав, что я проведу здесь день, старик написал своему другу о помолвке дочери и попросил испытать еще раз ее жениха». Такая мысль показалась Яношу настолько вероятной, что ему стало даже немного стыдно за свое поведение.
— Ну, из этого ничего не выйдет, — ответил он почти спокойным голосом.
— То есть как это?
— А так. Когда священник спросит: «Любишь ли ты девушку?» — я отвечу: «Не люблю», — и скажу ему, что люблю другую.
— В ушах у священника будет вата, поверь, дорогой мой мальчик! Понял? Вата!..
— Прекратим эту комедию, сударь! Я разгадал ваши шутки: вы просто хотите узнать, крепко ли я люблю мою невесту. Ну, так вы можете написать моему будущему тестю, что ни один дьявол преисподней и никакая сила на земле не способны отвратить меня от Пирошки.
Хитрая лиса барон сразу почуял, как оборачивается дело: он понял, о чем думает Бутлер. Увидев, что лаской и уговорами он вряд ли добьется своего, Дёри решил использовать заблуждения Яноша, чтобы обеспечить более мирное развитие событий.
Барон прикинулся смущенным. Он походил на шулера, который с наигранной неловкостью пытается прикрыть свои карты от глаз чересчур любопытного наблюдателя.
— Ну что ты, что ты? И как только ты мог подумать этакое? И я так глуп, чтобы уступить Хорвату богача-зятя? Да мы не встречались с ним за это время, клянусь честью!
Настойчивое желание Дёри отклонить от себя подозрение еще больше укрепило Бутлера в его догадках: «Конечно, не встречались, зато, наверное, письмами обменялись».
Теперь уже Бутлер его поддразнивал:
— А ну, попробуйте только. Посмотрим! Заранее предупреждаю вас, сударь, что разразится большой скандал, потому что я буду изо всех сил сопротивляться и не позволю делать из себя посмешище ради ваших дурацких выходок.
— Умным я не сумел тебя сделать, сделаю хоть смешным. Дёри взял со стола небольшой серебряный колокольчик и позвонил. Маленькая безделушка задребезжала тонким, резким и вместе унылым голосом, похожим на погребальный звон. Едва замер звук колокольчика, как в обеих боковых дверях одновременно щелкнули ключи, двери распахнулись. Бутлер схватился руками за голову, словно увидел ужасный сон. В одной из дверей показалась баронесса Маришка — бледная, как восставший из гроба мертвец, в белом подвенечном платье; с головы ее спускалась фата, ниспадавшая до пола, в волосах белел цветок ландыша. У девушки подгибались колени, и казалось, она вот-вот упадет. За ней ковыляла болтливая старуха Симанчи, с лицом, как печеное яблоко. Она тихо подбадривала Маришку, говоря ей:
— Ну-ну, не бойся, душечка баронессочка. Все мы прошли через это — и я, и твоя мать. В этом деле только начало неприятное да конец, а то, что посередине, — совсем не так уж плохо. Из другой двери вышел священник в полном церковном облачении, тоже бледный, как преступник перед казнью; затем появилась отвратительная фигура гайдука.
«Священник в церковном облачении?» Вся кровь застыла в жилах Бутлера. Теперь он уже понимал — нет, все это неспроста! Священник не наденет ризу ради глупой шутки. Здесь готовится преступление. Страшное преступление!
Юноша снова бросился к двери и рванул ее с той силой, какая появляется у отчаявшегося человека.
Вооруженные жандармы по-прежнему стояли в дверях. Опять прозвучало: «Назад!» — и дорогу ему преградили два ружья.
— Знаете ли вы, кто я? — крикнул Янош. Жандармы невольно попятились назад.
— Так точно, знаем. Его сиятельство граф Янош Бутлер.
— Так пропустите меня немедленно, или я сгною вас в темнице, мерзавцы!
— Никак не можем, сударь. Назад, назад!
— Я владелец семи поместий. Я знатный магнат. Каждый из вас получит от меня в подарок деревню, только пропустите.
Мошенники переглянулись. Деревня — хорошая штука, однако скамья, на которой Дёри порет провинившихся, — весьма неприятная вещь; и потом, обещанные деревни пока еще далеко, а скамья совсем рядом — во дворе или в сарае. И они схватили бедного графа Яноша, подняли, как пушинку, и снова водворили в комнату; он всячески отбивался, а когда его волокли ногами вперед через дверь, он в последний момент крикнул изо всех своих сил:
— Жига, Жига! Жига Бернат! Скорей сюда!
Своды сырого коридора усилили этот полный отчаяния вопль и разнесли его по всем помещениям опустевшего дома. Если сердца людей оказались бесчувственными, то хоть камни готовы были помочь несчастному.
Жандармы поставили Яноша посреди комнаты и удалились. Баронесса Маришка отвернулась к стене. Она не могла видеть этой сцены. Грудь ее сотрясали рыдания. В ней еще сохранились остатки стыдливости…
Янош дрожал как в лихорадке, со лба его градом катился холодный пот. Кулаком он погрозил попу и барону.
— Вы, слуги господа и короля! То, что вы здесь проделываете со мной, — позор, вопиющее преступление, и я, как венгерский дворянин, протестую против этого во имя бога и короля!
Барон холодно улыбнулся, выдвинул ящик письменного стола, вынул оттуда заряженный пистолет и, помахав им в воздухе, сказал с обычной игривостью:
— Ну, а теперь приступим к делу, и никаких сомнений и колебаний. Каждого, у кого окажутся слабые нервы, я навеки успокою вот этой игрушкой.
— Вот моя грудь, стреляйте в меня! — взмолился граф Янош таким душераздирающим голосом, что даже старый солдат вздрогнул. — Будьте милосердны, ведь я не сделал вам ничего дурного!
Пистолет в руке барона заплясал. Так, по крайней мере, утверждал на следующий день перед челядью гайдук Гергей, внимательно наблюдавший за всей сценой. Однако старый фарисей только покачал головой.
— Ну, я еще не рехнулся, чтоб стрелять в собственного зятя. Только этого не хватало! За кого ты меня принимаешь, дорогой сынок?
И он сделал попу знак начинать. Тот выступил на несколько шагов вперед. Тогда Бутлер срывающимся голосом торжественно сказал ему:
— Если вы слуга бога, а не дьявола, — удалитесь! Все, что здесь происходит, я объявляю недействительным. Эту девицу я не люблю. Она не нужна ни плоти моей, ни душе. Клянусь всевышним!
Дёри сделал небрежный жест рукой.
— Ерунда!.. Господин священник, начинайте обряд.
В то время свадебный обряд совершался в соответствии с кодексом Пазманя. Согласно этому кодексу, изложенному на старом венгерском языке, вступающим в брак задавалось множество вопросов. Однако нет правил без исключения, а потому некоторые попы придерживались этого ритуала, другие — нет.
— Твое имя? — спросил Сучинка глухим, сдавленным голосом, обратившись сначала к Бутлеру, затем к баронессе.
Бутлер ничего не ответил и с презрением отвернулся. Слова баронессы слетели с ее губ тихо, как дуновение ветерка:
— Мария Халапи Дёри.
Поп не обратил ни малейшего внимания на молчание Бутлера. Еще меньше удивились этому свидетели, ибо они ничего не слышали: у обоих уши были плотно заткнуты ватой.
Поп как ни в чем не бывало продолжал обряд и, повернувшись к графу, спросил:
— Заклинаю тебя нашей христианской верой. Скажи правду, не связан ли ты с кем-нибудь брачным обязательством, кроме этой достойной девицы? Не давал ли ты клятву другой, что хочешь выбрать ее спутницей своей жизни?
— Да, да, давал! — вскричал Бутлер громовым голосом. — Только этой особе, что стоит здесь, я не давал таких клятв. Да, я поклялся Пирошке Сильваши-Хорват, что женюсь на ней и буду ей верен. И клянусь богом и пресвятой богородицей, что этот обет верности я никогда не нарушу!
Преподобный отец, казалось, и этого не слышал. С таким же вопросом он обратился к Маришке, заменив только в соответствии с ритуалом слова «достойный муж» словами «достойная девица».
Маришка еле слышно пробормотала «нет».
— Любишь ли ты эту «достойную девицу»? — снова обратился он к Бутлеру.
— Ненавижу! — с силой ответил Бутлер твердым, как сталь, голосом.
Весь вид девушки выражал мучительное страдание. Старик почувствовал это и подбежал к ней.
— Ой, папа, я умираю, что ты наделал? — молвила она прерывающимся голосом и упала ему на руки.
— Приди в себя, потерпи еще минуту, и все будет хорошо. Отвечай «да». Соберись с силами, моя милая крошка. Ну, говори, говори! (Поп в этот момент как раз обратился к ней с тем же вопросом.)
— Да, — прошептала Маришка.
— Хочешь ли ты взять ее в жены?
— Ни за что! — ответил Бутлер.
— Хочешь ли ты стать его женой?
— Хочу, — печально отозвалась еле живая Маришка.
Священник снова повернулся к Бутлеру:
— Еще раз заклинаю тебя сказать правду, нет ли между вами родства или чего-нибудь такого, что могло бы помешать бракосочетанию?
— Ты прекрасно знаешь, поп, что есть между нами. Преступление между нами! — гневно воскликнул Бутлер. — Если б на тебе не было священного облачения, я вогнал бы все твои слова обратно в глотку. Но продолжай свою комедию, все равно из нее ничего не выйдет: в Венгрии еще существуют законы.
Сказав это, он сел к столу и, стараясь казаться равнодушным, начал набивать трубку. Поп кусал губы, но молчал.
— Заканчивайте, заканчивайте церемонию, — торопил Дёри. Однако предстоял еще Benedictio annolorum[77]. Дёри вытащил из кармана два обручальных кольца и передал их попу. Поп освятил кольца и подал жениху и невесте, чтобы они надели их. Бутлер взял кольцо и так неловко или, вернее, так ловко швырнул его, что, отскочив от стены, оно угодило в левый глаз поварихи Симанчи (а на левый-то глаз она была слепая), призванной в качестве свидетельницы: веко сразу же посинело и припухло, и опухоль над ним была величиной не меньше чем в талер. Симанчи взвыла и уже было воинственно подбоченилась, но тут Дёри, испугавшись и желая ее успокоить, вытащил у нее из ушей вату и шепнул ей: «Не буйствуй, старуха, мы тебя вылечим. Ты, верно, впервые на такой свадьбе, где в тебя швыряют золотом».
Итак, обряд с кольцами не совсем удался, но это всего лишь небольшая формальность — ни поп, ни свидетели не были педантами. Бутлер же считал, что его протеста вполне достаточно, чтобы никто не принял всерьез эту комедию. Постепенно все происходящее начинало казаться ему смешным. Необыкновенное приключение, черт возьми! С каким замиранием сердца выслушает об этом маленькая Пирошка, как будет ужасаться. Слух о его истории прокатится по всему миру, как о таинственном Каспаре Гаузере или о знаменитом герцоге Букингеме, похищенном леди Дадлей. (Правда, когда наемные бандиты ночью похитили герцога прямо из постели и притащили к ней босого, в нижнем белье, привередливая леди была шокирована и воскликнула: «Так вот он каков! О, несите его немедленно обратно!»)
Теперь настала очередь Benedictio nubentium[78], уже начинало смеркаться, предметы и лица потонули в сером полумраке комнаты, а листья склонившейся над окном липы, дрожа на ветру, отбрасывали тени, и казалось, что по стене прыгают жабы.
Гергей вышел в соседнюю комнату и, вернувшись с зажженными свечами, поставил их на письменный стол; потом он еще раз вышел и принес большую книгу. Дверь за собой Гергей запер. Снаружи, из коридора, послышались шум, крики, возня. Из обрывков долетавших фраз и отдельных выкриков можно было догадаться, что это Жига пререкается с жандармами, не желающими его впустить.
Поп подал Дёри знак, что сейчас последует Copulactio[79] (оказывается, в рай ведет несколько ступеней). Дёри подошел к Бутлеру и снова начал медоточивым голосом упрашивать его сдаться наконец. Бутлер не отвечал ему; равнодушно, как турок, дымил он своей трубкой и пускал большие кольца дыма, желая показать этим полнейшее равнодушие ко всему происходящему. Однако Дёри и не нуждался в согласии Бутлера. Теперь он уже в это не верил. Он старался лишь поймать Яноша за руку, помочь священнику соединить руку Маришки и ее «жениха» и накрыть их епитрахилью.
Бутлер пробовал вырваться, но безуспешно: Дёри так сжал его руки своими ужасными клешнями, что Янош не мог пошевелиться.
— Ну-ну, сынок! Не шипи и не фыркай! Теперь ведь уже все равно.
Эти слова привели Бутлера в бешенство, и, когда Дёри отпустил его руку, он с такой силой ударил его кулаком в грудь, что старый солдат пошатнулся. Скрежеща зубами, Янош хотел броситься на попа, который стоял как вкопанный, с расширенными от ужаса глазами и перекошенным лицом, и бормотал свадебную молитву. На его счастье, Дёри пришел в себя и схватил «жениха» в охапку. Завязалась ожесточенная борьба; в свалке опрокинули стул. Наконец граф совершенно выбился из сил и рухнул в кожаное кресло.
Тем временем омерзительный гайдук Гергей подобрался к старухе Симанчи и, вынув у нее из ушей вату, шепнул ей с ехидной усмешкой:
— Видно, бабуся, господам надо было и глаза наши чем-нибудь заклеить.
— Дождемся и этого, — ухмыльнулась в ответ старуха, — но заранее говорю: я им дорого обойдусь; то, что мы видели здесь, сынок, стоит золота и серебра.
Теперь уж и сам Дёри потерял терпенье; устав от этой гнусной возни, он прохрипел попу в самое ухо:
— Быстрей, быстрей! Бедная девушка сейчас упадет в обморок.
Но обморок уже не угрожал Маришке. Слезы потоком хлынули у нее из глаз. Она припала к ручке дивана и зарыдала, громко, душераздирающе зарыдала.
— Где книга? — спросил священник.
Тем временем сам барон бросился за пером и чернилами и стоял на страже, пока поп заносил в книгу метрических записей имена бракосочетавшихся.
— Ну, теперь этого и топором не вырубишь! — проговорил Дёри с явным удовлетворением, косясь на Бутлера, не попытается ли тот, собрав остаток сил, разорвать фальшивый документ.
Но Янош был сломлен, его нервы отказались служить, дух изнемогал, в разгоряченном мозгу беспорядочно проносились мысли; остановившимися глазами он равнодушно наблюдал, как отперли двери, как по одному расходились люди — действующие лица этой незабываемой сцены.
— Плохо мы все это устроили, — обратился поп к барону Дёри, когда они вышли в темный коридор. — Следовало бы напоить его, тогда дело шло бы куда легче. Но я сделал все, что мог. У вашего высокоблагородия нет основания жаловаться. Возможно, это будет стоить мне должности, возможно, я угожу в тюрьму, но хоть, по крайней мере, сделали бы все, как надлежит!..
Дёри прищелкнул пальцами.
— Вы уж предоставьте это мне, domine reverende[80]. Это уж моя забота. Такая еще парочка получится, что душа не нарадуется, вот увидите!
— А свидетели надежные?
— Ну еще бы! Два закоренелых злодея, которых я могу в любой момент предать в руки палача.
Минуты, долгие минуты прошли, прежде чем Бутлер очнулся от своей летаргии и пожелал покинуть комнату. Он удивился, найдя двери запертыми, даже те, что вели в коридор. Янош принялся стучать, но никто не приходил, никто не отзывался. Он открыл окно, однако снаружи оно было загорожено тяжелой решеткой. Итак, бежать некуда. После всего происшедшего было поистине непонятно, чего еще они хотят от него. Несомненно, его ждет какая-то новая беда. Неопределенность удручала Яноша больше, чем только что разыгранная комедия свадьбы. Этот брак, конечно, будет расторгнут церковным судом. Совершенно ясно, что он ни на минуту не будет иметь законной силы. Но что еще готовится?
Эта загадка повергала Бутлера в мрачное раздумье, и снова горечь переполнила его сердце. Но разве нет средства облегчить душу? Преклонив колено, он начал молиться, не кротко и благоговейно, как бывало, а жалобно причитая:
— О боже, боже! Чем я так провинился перед тобой, что ты столь немилосерден ко мне? Ведь я почитаю тебя, господи. Я твой, следую твоим заветам, и все же ты так безжалостно караешь меня.
Его сердце болезненно сжалось при мысли об устрашающих словах: «До седьмого колена будете вы расплачиваться за грехи отцов ваших!»
Янош глубоко вздохнул:
«Эх, Бутлер, Бутлер, предок мой, и зачем понадобилось тебе вонзить кинжал в этого достойного Валленштейна! Посмотри, как страдает твой внук… взгляни!»
В эту минуту в окошко кто-то заглянул, только не предок Бутлера, а гайдук Гергей.
— Его высокоблагородие господин барон просит его сиятельство господина графа остаться на ночь в этой комнате. Ужин вам принесут сюда. Здесь же приготовят постель. Утром мы все в вашем распоряжении, а ночью придется вам побыть здесь.
Бутлер саркастически усмехнулся и, поклонившись, ответил:
— Скажи его высокоблагородию господину барону, что я низко кланяюсь ему и останусь здесь, тем более что другого выхода нет. Передайте еще господину барону, что я желаю ему спокойной ночи.
Затем он сел к письменному столу и написал Пирошке длинное письмо, начинавшееся так: «Представь себе только, ненаглядное мое счастье, какое странное событие произошло со мной сегодня. Только не пугайся: слава богу, я жив и здоров и сейчас подробно и по порядку расскажу тебе, как все это случилось».
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ Йожи Видонка
Пригласив ничего не подозревавшего Бутлера в свою канцелярию, Дёри оставил священника занимать другого студента разговорами. Поп принялся выполнять это поручение, и вскоре два молодых ученых мужа горячо спорили.
Предметом их полемики явилась смелая мода, широко распространенная в то время среди земпленских дворян, да и в других комитатах, и состоявшая в том, что представители дворянских фамилий Северной Венгрии говорили на трех языках: немецком, венгерском и словацком, а на двух последних уж обязательно.
И этих двух языков было достаточно, чтобы дворня не понимала господских разговоров; если дворяне жили в словацкой деревне, разговорным языком у них был венгерский, если деревня была венгерской, господа говорили по-словацки.
— Подобный обычай приведет к тому, что венгерский язык совершенно исчезнет, — возмущался молодой Бернат.
Священник тотчас же выступил на защиту словацкого языка и принялся доказывать per longum et latum[81], что и Арпады говорили по-словацки. Он добавил, что именно на эту тему он пишет сейчас ученый трактат, который собирается послать в село Банячка на рецензию господину Ференцу Казинци.
Молодой юрист рассердился и резко ответил:
— Что ж, пошлите! Похвалит ли — не знаю, а бумага ему всегда пригодится.
Однако поп не сдавался и стал развивать мысль, что древние венгры, прибыв на новую родину, не привели с собой достаточного количества женщин своего племени и брали в жены белокурых славянок. Отсюда в венгерском языке появились славянские названия предметов домашнего обихода. И вполне вероятно, что дети их говорили на языке своих матерей, а не отцов, которые почти все время проводили в седле, совершая далекие походы под предводительством Лехела и Ботонда.
— Может быть, в отдельных случаях так оно и бывало, но только среди простого люда. Сами же Арпады никогда не забывали своего родного языка.
— Так почему же они дали комитатам словацкие названия — Новиград вместо Нограда, Черноград вместо Чонграда, и даже своей резиденции дали словацкое имя Вышеград?
Бернат раздраженно замахал руками.
— Из этого ничего не следует. Народ издревле так назвал эти города и области, а короли сохранили старые названия, потому что венгры всегда были довольно терпимы. И сказать по правде, господин священник, иноземные попы усиленно обхаживали нашего святого Иштвана * и внушили ему угодные духовенству ложные политические догмы, вроде: «Народ, говорящий на одном языке, слабый народ». Эту формулу наверняка придумал какой-то поп, а король только повторил ее; что же касается потомков, то они свято в нее поверили.
Тут вскипел священник Сучинка:
— По тому времени изречение было мудрым. Может быть, сейчас это изречение и потеряло свое значение, но принадлежало оно самому святому Иштвану. Что же касается меня, то я не сторонник этого изречения, ибо утверждаю лишь то, что и с годами не теряет силы. Первые Арпады, вне всякого сомнения, в течение определенного времени говорили по-словацки. Названия городам мог давать народ, а имена своим детям при крещении все же выбирали лишь сами родители. Князей называли по-словацки — Бела, а ведь Бела не что иное, как словацкий перевод латинского «Альберт»; alba eguale, то есть белый, по-словацки — Бела.
Жига еще больше рассвирепел.
— Надо бы запретить вам, попам, переводить бумагу и чернила, иначе вы все исказите! Бедная наша история! Как ее изуродовали еще в самом начале, когда ею занимались вы, попы! Короля Кальмана * за то, что он боролся с суеверием и насаждал просвещение, оклеветали, объявив его горбатым.
— Вы протестант, господин студент? — спросил священник.
— Убежденный.
— Тогда все понятно.
— Разумеется, вам понятно и то, — презрительно заметил Жига, — почему попы сделали Кальмана горбуном?
— Ну, если вы считаете, что это неправда, то докажите, что у него была прямая спина.
— Ясно и без доказательств. Будь у него такой физический недостаток, его никогда не избрали бы предводителем крестоносцев. Ведь в те времена только физическая сила и мужественная внешность могли импонировать войскам. Да, много воды утекло с тех пор, и все же Евгения Савойского император долгое время не хотел принять в армию потому, что принц был уродлив. Просто невероятно, что историки лишены элементарной логики и до сих пор принимают всерьез глупые поповские измышления.
— Вы, молодой человек, большой враг духовного сословия!
— Я враг семинарий, потому что они воспитывают вас лицемерами.
— А я враг светских школ, потому что они вас воспитывают грубиянами.
— Это что, намек?
— Как вам будет угодно.
— Я попрошу…
Спорщики, как два петуха, готовы были вцепиться друг в друга. Глаза попа метали молнии, губы дрожали (безусые губы часто многое выдают). Бернат просто кипел от негодования и с трудом сдерживал свой гнев. В этот момент в комнату на цыпочках вошел гайдук Гергей и, наклонившись к священнику, прошептал ему на ухо:
— Уже начинается. Вас ждут.
Гневные искры мгновенно погасли в глазах попа, он побелел как полотно, поднялся и торопливо вышел вслед за слугой.
Жига очень удивился. Начинается? Что может начинаться? Все в этом доме окутано какой-то таинственностью. Всюду тайна! Таинственно шелестит листва деревьев; тайна витает в воздухе, в сизом дымке, поднимающемся из маленькой трубы домика, где живет садовник.
«Эх, глупости! Все это плод воображения, — успокаивал себя Жига. — Интересно все же, где пропадает Янош? Что они с Дёри могут обсуждать так долго? Не пойти ли за Яношем?» — подумал он, но тут же отказался от этого: неудобно врываться и мешать разговору, когда тебя не звали.
Он посидел еще немного на террасе, ожидая, не придет ли кто. Но в доме было тихо и безлюдно. От домика садовника потянуло отвратительным запахом. Что за черт?
Жига подошел к домику и увидел расставленные на подоконнике длинные стеклянные трубочки. «Ага, вот в чем дело, — топят сало для свечей».
Стеклянные трубки с узким отверстием с одного конца, через которое пропускается фитиль, заполняют растопленным салом. Сало застывает, и свеча готова. Словом, все это было довольно примитивно. Но наши предки, впервые увидев такое изобретение и узнав, что оно принадлежит некоему поляку Каминскому, восхищенно говорили: «Вот это голова!»
Трубочки выносила из дома маленькая дочка садовника и так как все не умещались на подоконнике, девочка клала их прямо на землю у стены.
В стороне сидела белая мохнатая собака и с философическим спокойствием взирала то на стеклянные трубки, то на человека который, лежа на разостланной шубе, грелся позади дома на солнце и закусывал свиным салом.
Смотрела, смотрела собака и никак не могла понять, каким это образом сало, поглощаемое человеком, вновь появлялось в стеклянных трубочках (желтоватая жидкость в трубочках, остывая, на глазах становилась белой и приобретала аппетитный вид сала). Это чудесное превращение казалось собаке непостижимым. Охваченная недоумением, она поводила мордой из стороны в сторону, напоминая суетливого дирижера. Собака была настолько погружена в созерцание этих странных вещей, что даже надоедливые зеленые мухи, жужжавшие вокруг, не могли отвлечь ее от этого занятия.
Бернат оценил всю комичность этой сцены, усмехнулся и подумал про себя: «Вот и пес чует какую-то тайну. На самом же деле перед ним происходят самые обыденные вещи в мире, только он не в состоянии их понять. Вот и я не могу уразуметь: что творится в этом доме?»
— Ба! Да это вы, барич Жига! Вот так встреча! Услышав знакомый голос, Жига обернулся. Человек, окликнувший его, отложил в сторону нож и сало.
— Каким ветром вас сюда занесло? — воскликнул он. Тут Бернат узнал сына их поварихи, Йожефа Видонку.
— Что за наваждение! Ты ли это, Йожка, «мастер на все руки»? Вернее, что ты тут делаешь? Ведь, насколько мне известно, ты работал у столяра в Уйхее?
— Я и столяр, и все что угодно, а здесь большой господин — сыр ем, салом закусываю! Ну, как поживает, что поделывает моя дорогая матушка?
— Жива, здорова, обеды нам на славу готовила. Если б знала, что мы с тобой повстречаемся, прислала бы тебе гостинцев.
— Да на что мне! Я тут ем жаркое, вином запиваю, сколько душе угодно, да еще каким! Токайским, барич!.. Живется мне здесь, как у Христа за пазухой!
— Уж не садовником ли ты заделался?
— Ну да, — обиделся Йожка и снова растянулся на шубе, подперев руками всклокоченную голову.
— Нет, без шуток, чем ты занимаешься?
— Жду.
— И больше ничего не делаешь?
— Ничегошеньки-ничего, только жду. Но и это нелегкое дело. — Он зевнул и снова принялся за сало.
— И чего же ты ждешь?
Молодой Видонка загадочно подмигнул:
— Вечера.
— Вечера? Зачем он тебе?
— Э, вот об этом-то как раз и нельзя говорить, — хитро ухмыльнулся Видонка. — Не правда ли?
Вопрос был обращен к зеленому кувшину, который стоял у парня в ногах, до половины скрытый кустом крыжовника. Видонка потянулся к нему и, сделав несколько глотков, удовлетворенно причмокнул губами и отставил кувшин в сторону.
— И не сосчитать, сколько лет этому винцу!
— Вижу, Йожи, дела твои хороши. Так я и расскажу твоей матушке. А давно ты здесь?
— Вот уже десять дней.
— И все ждешь?
— Ну, что вы! Я тут соорудил такую машину, что, если б мой хозяин, Мартон Одреевич, увидел ее, без разговору выдал бы за меня свою младшую дочь, вернее, не младшую, та немножко косит, а Катушку, что постарше. Прекрасная, барич, девушка! Настоящая лилия! Садовник не вырастит такой!
Йожи Видонка был крепкий малый и, возможно, считался бы красивым, если б в детстве не откусила ему господская свинья часть верхней губы. Это так безобразило его, что и глядеть было страшно.
— Какую машину? Значит, из тебя дельный человек получился? А слухи ходили, что ты совсем спился.
Все это говорилось для того, чтобы развязать Видонке язык. Бернат отлично знал, какая светлая голова у Йожи. Стоило ему только раз что-нибудь увидеть, как он уже мог смастерить эту вещицу даже с помощью перочинного ножа. Впрочем, он и сам был горазд на выдумки. Видонка сделал даже часы, в которых все до мельчайших деталей было выточено из дерева, только гири пришлось вытесать из камня. Механизм работал с такой точностью, что Видонке мог позавидовать даже искусный часовщик. Трудился он целый год и над самоходной телегой, пробовал даже построить летательный аппарат.
И в те времена в стране много было самородных талантов, но лишь немногие из них добивались успеха, хотя бы такого, как, например, Кемпелен * из Пожони. Этот мастер разъезжал от короля к королю с машиной, которая обыгрывала в шахматы любого самого сильного игрока, в том числе и самого Наполеона. До сих пор так никому и не удалось разгадать, в чем состоял секрет этой машины.
Йожи Видонка подавал большие надежды, и старый Бернат, видя его одаренность, отдал паренька в подмастерья к столяру в Уйхей. Только чаще всего одаренные природой крестьяне-самородки, которые могли бы потягаться талантом и с хвалеными американскими изобретателями, погибали бесследно: сколачивали в помещичьих усадьбах гробы или, в надежде получить от барина на водку, мастерили игрушки для его отпрысков.
Йожи Видонку оскорбило столь невысокое мнение молодого барича, и он с обидой отвечал:
— Ну подождите, еще услышите об этой машине.
— Когда же?
— Да, может, сегодня вечером!
— Ведь вечер-то на носу, почему же не сказать часом раньше, если это что-нибудь стоящее? Должно быть, и не ты делал-то. Слухи идут, тут работало немало мастеров; ты, видно, слышал звон, да не знаешь, где он, а еще хвастаешься чужими успехами. А как обрадовалась бы твоя маменька, если б я рассказал ей о твоих успехах! Да только я здесь не останусь до вечера.
— Уедете?
— Скорее всего!
— А вы не проговоритесь никому?
— Сам посуди, могу ли я тебе зла желать? Да и матушку твою я не собираюсь огорчать.
— Бедная маменька! Ах, какое жаркое из свинины с фасолью умеет она готовить! — расчувствовался парень. — Ну ладно, откроюсь я перед вами, только смотрите — уговор дороже денег! А то несдобровать бедному Йожке. Идите-ка сюда поближе, я вам объясню… Я такую машину сделал, что она пол на место потолка поставить может, а потолок на место пола.
— Послушай, Йожи, говори-ка ты лучше по-словацки. Так я скорее тебя пойму.
— Хорошо, барич. — И Видонка перешел на словацкий. — Так вот, говорю, сделал я такую машину, что она целую комнату поместит в другую.
— Что за машина такая? Даже комнату может опустить?
— Да не опустить!.. Поднять!.. Впрочем, один черт! Да не все ли равно, подкатится ли кость к собаке, или она сама за ней побежит?
Бернат призадумался.
— А в каких же это комнатах понадобилась такая перестройка?
— В канцелярии барона и в той, что над ней. Не хвалясь, скажу: отличная работа! Жаль, что барич не смог взглянуть.
— А кто живет сейчас там, наверху?
— Кто, кто? Барышня! Ох и красавица же она! И вот сегодня ночью моя машина, — а обошлась она барину в копеечку, — должна кого-то насильно поднять к барышне в комнату. Сам черт тут не разберет. Будто этот слюнтяй не может на своих ногах к ней подняться!
Бернат отпрянул, как ужаленный. Теперь ему все стало ясно.
Обезображенный рот Видонки скривился в улыбку, но вдруг, швырнув свою шляпу на землю, он ударил себя кулаком по лбу.
— Что это вы так испугались, барич? Неужели я проболтался? Уж не вас ли собираются поднять ночью на этой самой машине? А?
Но Жиге Бернату было не до разговоров; прямиком, через кусты и цветочные клумбы, помчался он к господскому дому.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Положение усложняется
Немалое время безуспешно бродил Жига по дому. Это было огромное здание, к которому каждый из предков Дёри считал своим долгом пристроить что-нибудь в своем вкусе: кто в романском стиле, кто в стиле барокко, а кто просто так, как вздумалось деревенскому каменщику.
Нежилые части здания осели, кое-где потрескались стены; здесь обитали лишь совы да летучие мыши. Древний замок, стоявший на холме, напоминал своим видом старую, сморщенную барыню, уже опирающуюся на костыль, но все еще грезящую о молодости под шелест деревьев, щебетанье птиц и жужжание пчел.
Бернат обошел всю знакомую ему жилую половину дома, заглянул во все углы, но нигде не встретил ни души. Только шимпанзе Кипи, с перевязанной задней лапой, лежал на подстилке в комнате, ранее принадлежавшей гувернантке, и громко стонал.
Кипи на своей шкуре познал превратности любви, — больше он уж никому не поднесет цветов.
— Эй, есть тут кто-нибудь? — громко спрашивал Бернат. Но ему никто не ответил.
Сквозь землю, что ли, провалились все обитатели дома? Вдруг молодому человеку показалось, что его кто-то зовет:
— Жига! Жига Бернат! Скорей сюда!
Не было никакого сомнения, что голос принадлежал графу Яношу. Он звучал глухо, словно шел откуда-то из-под земли, — впрочем, возможно, это была только галлюцинация. Но если это действительно был голос Яноша, то доносился он, должно быть, с первого этажа. Странно, ведь там сейчас никто не живет, — этот полуподвал служил когда-то тюрьмой. Правда, так было в те далекие времена, когда один из первых владельцев замка, некий Кручаи, еще осуществлял свое Jus gladii[82]. Рассказывают, что на том месте, где ныне оранжерея, Кручаи приказал обезглавить свою красавицу жену.
В нижнем помещении, сыром и мрачном, не жили даже слуги. Однако Бернат вспомнил, что Дёри как-то в разговоре заметил, что терпеть не может запаха крестьянских шуб и зипунов, а потому приказал перенести канцелярию, где ему приходится разбирать тяжбы, на первый этаж.
Жига помчался вниз. Однако прошло немало времени, пока ему удалось отыскать в лабиринте лестниц и кривых коридоров путь в канцелярию уездного начальника. На стенах не было ни одной таблички, которая указывала бы путь, но вот у входа в сводчатый коридор Жига наткнулся на скамью для телесных наказаний, рядом валялись колодки. И Бернат решил, что именно здесь и должна быть канцелярия.
Ощупью он стал пробираться вдоль стены по темному коридору, как вдруг его окликнул чей-то голос: — Кто здесь? Не отвечая, Бернат сделал еще несколько шагов.
— Стой! Кто идет? Стрелять буду! — предупредил тот же голос.
— Я, Жигмонд Бернат, гость в этом доме, — отвечал юноша.
— Идите, барич, с богом назад, вам здесь нечего делать! Но Жига упорно продолжал двигаться вперед, пока не наткнулся на двух вооруженных жандармов.
— Где граф Бутлер? — строго спросил он.
— Не мешайте, он сейчас занят. Увидитесь позднее.
— Чем он занят? Здесь совершается какая-то подлость! Что с ним делают?
— Ничего плохого, барич. Хотелось бы мне оказаться на его месте. За одну такую ночь я на два года готов был бы стать сторожевым псом!
Речи эти сопровождались грубым, циничным смехом.
— Пустите, мне надо войти туда!
— Из этого ничего не получится, барич, уж не взыщите и не сетуйте.
— По какому праву вы осмеливаетесь препятствовать мне?
— По такому праву, что, кто не приглашен на свадьбу, тому лучше не ходить!
— Свадьба?!!
Вот в чем разгадка всего! Теперь понятно, для чего пришел поп, зачем заперли ворота, выпроводили из дома всю лишнюю прислугу и оставили только посвященных в дело сообщников. Теперь все ясно, как божий день!
Дёри решил любой ценой заполучить себе в зятья богатого магната. Губа у него не дура: семь имений графа Бутлера — лакомый кусочек! Но как он, Жига, не догадался раньше?! Ведь сотни признаков говорили об этом. А теперь хоть головой бейся об эти сырые стены. Все происшедшее за день представилось ему цепочкой взаимно связанных событий. Сейчас там, в канцелярии, поп насильно венчает Бутлера; мало того, вечером с помощью подъемной машины Яноша поднимут наверх, и он окажется в одной комнате со своей невестой. Наутро в комнату войдут слуги — «свидетели» — и позже, на суде, присягнут, что жених провел ночь в одной комнате с невестой… Боже, милостивый боже! Сам ли ты правишь миром или позволяешь вмешиваться в судьбы людей твоих всем, кому не лень?
Кровь закипела в нем, и Жига в бешенстве оттолкнул жандарма.
— Я войду туда, чего бы мне это ни стоило! Прочь, собаки!
— Молчать, не то мы быстро разделаемся с вами, барич!
Один из жандармов, Кажмари, схватил юношу за пояс и легко, точно кошку какую-нибудь, поднял в воздух, а затем снова опустил, словно пустой кувшин. Опустил, висельник, да еще усмехнулся:
— А ну, горшочек, смотри не тресни!
Железные руки были у этого Кажмари, до трех лет кормила его мать грудью.
Жига сообразил, что силой тут ничего не добьешься, и быстро переменил тактику.
— Добрые люди, побойтесь бога! Поймите, мне необходимо войти туда. Ведь вы же состоите на службе при комитатском управлении, люди военные, наверняка и у вас есть товарищи, за которых вы готовы жизнь отдать, как и они за вас. Ведь вы же венгры! Мой лучший друг попал в беду. Дайте мне возможность помешать беззаконию, которое там происходит. К сердцу вашему обращаюсь, дорогие друзья! Посмотрите на дело другими глазами. У моего товарища есть невеста из нашего села, прекрасная девушка, они любят друг друга. У этой девушки сердце разорвется, когда она узнает о том, что произошло. Ведь любили же вы когда-нибудь в своей жизни! Я знаю, вы славные люди и можете застрелить разбойника, но пальцем не тронете малой, беззащитной пташки, — не допустите же вы, чтобы по вашей вине перестало биться ее сердечко. Пустите, добрые люди! А чтобы вам не попало, сделайте вид, будто я силой ворвался и вы не могли со мною справиться. Пустите, и бог воздаст вам за это, да и я щедро награжу!..
Он сунул руку в карман и, достав четыре золотых с изображением девы Марии в королевском одеянии и с младенцем на руках (из тех шести, что при расставании дала ему матушка), протянул их жандармам. Те со смехом оттолкнули его руку.
— Маловато даете! — издевался Есенка. — Вот молодой граф только что сулил нам каждому по деревне, а вы хотите отделаться парой монеток!
— И граф дал бы, раз обещал.
— Нам они не помешали бы, барин, мы люди бедные. Человек всегда ищет, где лучше, да беда в том…
— В чем же?
— А в том, что, когда начинает чесаться ладонь, свербит и шея. Бессильны мы против барона Дёри. Идите-ка, барич, с богом. Раз нельзя, так нельзя.
Бернат и сам понял, что ничего у него не выйдет, и, вручив жандармам деньги, стал просить разрешения взглянуть на происходящее хоть в замочную скважину. Посоветовавшись, жандармы дали свое согласие, — это, мол, делу не повредит, однако на всякий случай держали Жигу за руки. Тот заглянул в щель и в ярости заскрежетал зубами. Именно в этот момент поп накрыл епитрахилью руки баронессы и графа Яноша, которого старый Дёри крепко держал за локоть.
— Негодяи! — закричал Жига. — Как жаль, что у меня нет силы стереть вас всех в порошок!
— Вот и хорошо, что нет, барич. Я на вашем месте радовался бы, что и меня не заперли где-нибудь. Большую ошибку допустил его высокоблагородие уездный начальник, оставив вас на свободе. Вы бы и помешать могли, не будь нас здесь.
Жигу словно подстегнули эти слова. И верно, было бы гораздо хуже, если б и его куда-нибудь упрятали. А сейчас он все же на свободе и может принести хоть какую-то пользу: поднять шум в деревне или еще что-нибудь предпринять. Надо поскорей выбраться отсюда.
Подгоняемый этой мыслью, он поспешил обратно по темным лестницам и коридорам. Когда он вышел во двор, уже совсем стемнело. Вдали на деревенской колокольне печально зазвонил колокол; вспыхнули звезды на небе, и зажглись огоньки в окнах деревенских домиков.
Жига Бернат бегом бросился к воротам. Но и ворота и калитка оказались крепко запертыми, тщетно он наваливался на них плечом и стучал кулаками.
Залезть на каменную стену, со всех сторон окружавшую замок, нечего было и думать — она сплошь была утыкана острыми гвоздями. Юноша побежал дальше, надеясь где-нибудь отыскать лазейку. Он задыхался, обежав весь парк, но ни единой щели в этой бесконечной стене не нашел.
Значит, он тоже пленник? Что же предпринять? Дождаться Дёри, схватиться с ним, размозжить ему голову и освободить друга! Но благоразумие подсказало, что он слаб и обретет силу, только перебравшись через стену, окружавшую замок. Но как это сделать?
У самой стены росла могучая липа, крона которой почти соприкасалась с ясенем из соседнего сада. Вот если б удалось перепрыгнуть на этот ясень и вырваться на волю! Мысль неплохая!
Жига ловко лазил по деревьям. Он снял сапоги (в те времена господа тоже носили сапоги с короткими голенищами), связал их за ушки какой-то травинкой и, перекинув через плечо, стал быстро карабкаться на дерево.
И как раз вовремя, потому что не успел он добраться до верхушки, как послышался грозный голос Дёри:
— Обыскать все, он должен быть где-то здесь! Найти во что бы то ни стало! Он никак не мог выбраться со двора!
Сердце Берната громко стучало, он замер, боясь, как бы шорох листвы не выдал его.
А шаги приближались… Это жандармы шарили в кустах, разыскивая беглеца.
Дёри подошел к домику садовника и громко позвал Йожи Видонку:
— Эй, столяр, не видал ты здесь молодого барина?
— Нет, ничего не видел. Только черную кошку.
— Чтоб ты подавился ею, осел!
Затем они принялись о чем-то шептаться, но как ни напрягал Жига свой слух, не мог разобрать ни слова, хотя вечерний ветерок и дул в его сторону.
Вскоре жандармы удалились в западную часть парка, где была расположена беседка и кегельбан. Воспользовавшись этим, Жига стал карабкаться на дерево с ловкостью белки (опасность умножила его силы), а добравшись до того места, где ветки деревьев почти соприкасались, ухватился за большой сучок и смело перебросился на соседнее дерево. Но в этот самый момент травинка, которой он связал сапоги, лопнула, и один сапог шлепнулся на землю в парке Дёри, а другой вместе с его обладателем благополучно очутился за стеной — в усадьбе Ижипь.
Чутким, как у зайца, ухом Жига расслышал, как переговаривались между собой жандармы:
— Тсс, что-то хрустнуло, слышал, а, Кажмари?
— Нет, это вон там в углу кошка с дерева прыгнула.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ Большая беда излечивает малую
Бернат вздохнул свободнее, лишь потеря сапога вызывала у него чувство досады. Он хорошо представлял себе, как смешно выглядит босиком, — но что же делать, не может же он надеть один сапог и хромать, как Гораций в своей «Ars poetica»[83] храбро мешавший ямб с хореем. Жига задумался. Эхе-хе, дурная это примета! Чем может он теперь помочь Яношу? Даже в изодранном платье и дырявой шляпе человек остается человеком, босиком же и Наполеон не Наполеон. Бернат порылся в памяти, перебирая события всемирной истории, и отыскал лишь одну успокоительную аналогию: однажды, убегая с поля битвы, Михай Телеки * увяз в грязи; ногу-то он вытащил, хоть и с трудом, а сапог так там и остался.
«Ну что ж, — подумал Бернат, — что потеряно, того не вернешь. А сейчас — скорей отсюда!» Крадучись, он пробрался через сад Ижипь и, никем не замеченный, достиг их дома.
Идти напрямик через двор было небезопасно — мало ли тут разной челяди. Держась поближе к каменной ограде, Жига обогнул дом. Заглянув в единственное освещенное окно, он увидел одну из барышень Ижипь. Она сидела у стола и забавлялась с белым мопсом: ласкала и гладила собачку, завязывала на ее шее голубой бантик.
Жиге невольно вспомнилась история с шимпанзе, и ему пришла в голову озорная мысль: положить на окно уцелевший, но теперь уже ненужный сапог, — вот была бы пища для догадок!
Еще два-три шага, и вот Жига на дороге. Он свободен, как птица! Но что предпринять? Кому жаловаться? Кого звать на помощь? Здесь ведь все зависят от Дёри и боятся за свою шкуру.
Поразмыслив, Жига двинулся к корчме достопочтенного Тоота. Ему трудно было идти босиком по камням и рытвинам, но он шел и шел вперед, задыхаясь от быстрой ходьбы (бежать он не решался, не желая привлекать к себе внимание). Встречные удивленно вглядывались в темноту и, не слыша шагов, решали, что это какой-нибудь босоногий бродяга.
В домике корчмаря светилось только одно окошко. Когда Бернат постучался, Тоот как раз собирался раздеваться. Его хозяйка, лежа на краю постели и оставив место у стены для своего супруга, курила трубку.
— Кто там? — спросил Тоот и приоткрыл окно.
— Это я, прохожий студент.
— А-а!! Я из тысячи узнаю ваш голос. Сейчас открою. Иоганна, дай-ка ключ, он у тебя под подушкой.
Господин Тоот взял свечу и вышел. Впустив студента в питейный зал, он крайне удивился, заметив, что Бернат босой.
— Ах, произошли кошмарные события, ужасная история!
И Бернат подробно рассказал обо всем, что случилось.
Добрый малый ушам своим не верил. Он то и дело скреб затылок и в такт рассказу покачивал головой, руки его непроизвольно сжимались в кулаки; широко раскрытыми глазами он уставился на Берната, — по всему было видно, что трактирщик сильно взволнован.
— Опять эти попы! Все зло в попах! — гневно воскликнул хозяин и сразу же прикрыл рот рукой. — Тсс! Говорите тише, а то услышит моя жена; эта ханжа спит в соседней комнате. А во всей истории поп-то оказался слугой дьявола! Недаром ему запретили появляться в доме, верно что-нибудь там натворил. Потому-то все и делалось наспех. Ну что ж, поживем — увидим. Такие дела не могут долго оставаться в тайне. Не пройдет и девяти месяцев… хе-хе-хе!
— Что вы говорите? — вскричал в ужасе Бернат (у бедняги даже волосы встали дыбом). — Неужели вы думаете?..
— Именно так и думаю. Человек, как известно, не грешит без причины. Фиалка распускается из своих семян, капуста из своих, картошка из клубеньков вырастает, а грехи человеческие — из других грехов. Ежели барон пошел на это из жадности, то что могло заставить попа решиться на этакий рискованный шаг? А потом, поверьте мне, и баронессы созданы из того же фальшивого ребра, что и прародительница Ева. Остается только пожалеть, что в прошлый раз вы не отведали моих цыплят. Ай-яй-яй! Что же намерена ваша милость сейчас предпринять?
— Прежде всего хочу освободить моего друга.
— А сколько у вашей милости солдат и пушек?
— Ничего у меня нет. Но я пришел к вам попросить верховую лошадь, чтобы добраться до Патака, где живет Фаи, опекун Бутлера; он очень влиятельный человек и наверняка сообразит, что надо делать. А еще одолжите мне, если можно, пару сапог.
При этих словах Тоот сразу помрачнел и покачал головой.
— Сапог я не дам, хоть господин Гибара, сапожник из Тальи, принес мне сегодня новые, шевровые, да такие, что и князю под стать. Но… но, если господин Дёри узнает, что я одолжил вам сапоги, завтра же он вышвырнет меня из деревни вместе со всеми пожитками… Коня я вам тоже не дам, зато дам мудрый совет: уведите одну из моих лошадей; там же, на конюшне, и седло висит на гвозде.
— Как?! Я должен украсть лошадь?
— Ну, послушайте, оба мы — дворяне и, конечно, сумеем понять друг друга. Господин сможет потом вернуть лошадь, но в деревне все должны думать, что верховую у меня украли. Вы понимаете меня? А я сейчас же позову к себе конюха, чтоб он натер мне мазью спину, — это единственное из оставшихся мне земных наслаждений. Вы же тем временем спрячьтесь за стойку, а потом выходите, берите свечу и спокойно седлайте на конюшне сивую. Ищи ветра в поле! А знаете ли вы, какое наслаждение, когда вам натирают и массируют спину! Правда, для пользы дела необходимо, чтоб человек перед этим плотно покушал, это, так сказать sine qua non[84], но у меня постоянная тяжесть в желудке. Н-да… Но попы-то, а? Ну и попы! Эта история не выходит у меня из головы.
Бернат согласился на предложение корчмаря. Да и как он мог не согласиться?
Все произошло, как по-писаному: конюха позвали в дом, и Бернат сумел незаметно пробраться в конюшню, где быстро нашел, что требовалось, оседлал лошадь, и спустя несколько минут она уже весело мчала его по дороге на Петрахо.
За Петрахо следует нынешняя Йожеффалва. Тогда эта деревня называлась иначе. Да и вообще весь комитат Земплен выглядел в те времена совсем по-иному. Сейчас вся территория комитата напоминает своими очертаниями сапог с ботфортом (какие носил Ракоци в Беч-Уйхее), в начале же прошлого века она походила скорее на запеленатого младенца. Ножницы венского двора искромсали волшебный край холмов и долин, взрастивший куруцев. Местность за Тисой, поблизости от Виша, Кенезле и Залкода, и южнее — Чобайд, Ладань и Тардош прирезали к комитату Сабольч. Комитату Унг тоже кое-что перепало, правда в обмен на Синнайский уезд. Люди, конечно, остались на своих старых местах и думали, и чувствовали, и тосковали, как и прежде. Зато теперь они не собирались на комитатские дворянские сеймы в Уйхее. Большое желтое здание комитатского собрания в этом городе — настоящее осиное гнездо, там зреют зерна крамолы.
В Йожеффалве Бернат повстречался со знакомым возчиком из Патака, дядей Черепешем, который вез пустые ульи и, остановившись у корчмы, кормил лошадь.
— Ну, что нового в Патаке? — спросил Бернат.
Возчик сообщил все последние новости: сегодня на рассвете на берегу Бодрога нашли зарезанного человека и сегодня же по этому делу в Патак прибыл вице-губернатор, благородный господин Тамаш Сирмаи; он и сейчас еще в Патаке. («Само провидение послало его туда», — решил студент.)
— Не у почтенного ли господина Иштвана Фаи остановился вице-губернатор? — спросил студент у дяди Черепеша.
— Нет, у управляющего имениями. Господин Иштван Фаи очень расстроен и поэтому даже не звал его…
— Надеюсь, с ним не случилось никакого несчастья? — испуганно спросил Бернат.
— Да как сказать… — пробормотал Черепеш, — дело в том, что его милость выписал из-за границы на тысячу форинтов каких-то тюльпанных луковиц…
— Знаю, из Голландии. Я сам составлял письмо-заказ еще перед пасхой.
— Так вот, прибыли, стало быть, эти луковицы по почте, в специальных ящичках, завернутые в вату. Сегодня господин Фаи собрался сажать их, вынес в сад и положил на окошко домика, где живет садовник, а сам стал подготовлять землю для этих заморских растений. Пока он, стало быть, возился с грядками, работавшие в саду поденщики-словаки решили позавтракать. И надо же было, чтоб один из них заприметил луковицы. Он подкрался к окошку, сгреб их и разделил между товарищами. Разрезали они луковицы на дольки и съели во славу Божию!
— Ах, негодяи!
— Можете себе теперь представить, барич, как рвал и метал бедный господин Фаи. Но самое удивительное то, — добавил Черепеш, удивленно вскинув брови, — что луковицы поели словаки, а колики начались у его благородия. С ним так было плохо, доложу я вам…
— Это у него с досады.
— Ну, послали за доктором; тот велел обложить живот грелками. Слух об этом сразу же разнесся по городку. Смеялись, конечно, и жалели доброго господина. А вице-губернатор, как узнал о несчастье, решил остановиться в другом доме. Эх, и до чего же хороша у него четверка лошадей! Просто загляденье!
— У кого, у вице-губернатора, что ли?
— Ага! Как они разом вскидывают головы! Видно, к вольным лугам привыкли?
— Полагаю, что так, Черепеш.
— А, знать, обширные эти луга?
— Есть и такие, что в один конец — как отсюда до Патака.
— Черт бы побрал этого Красного рака![85] — сказал в сердцах Черепеш. — И как он ухитрился столько загрести своими клешнями?!
Бернат расхохотался и, подхлестнув сивого, поскакал в сторону Патака, больше уже не останавливаясь до самой усадьбы Фаи. Когда он домчался к месту, петухи еще безмолвствовали, — значит, не было и полуночи.
Старый барин еще не спал; он сидел в кресле у себя наверху, в библиотеке, и горько вздыхал, сетуя на потерю тюльпанных луковиц. Страстному садоводу был нанесен такой удар, что, казалось, он лишится разума.
Услышав конский топот, он выглянул в окно, но, так как зрение у него уже притупилось, не узнал Жигу.
— Это я, дорогой дядюшка, я!
— Так поздно, — отозвался Фаи страдальческим голосом. — Ну что ж, дети, ложитесь спать. Меня не тревожьте — я болен, у меня и сейчас пиявки на животе. Если голодны, разбудите повариху: ваша бедная тетушка только что легла.
— Я один приехал, дядя Пишта.
— А Янош?
— Янош попал в беду.
При этих словах Иштван Фаи сразу позабыл о своем недомогании. Он принадлежал к числу тех людей, которые болезненно воспринимают мелкие неудачи, крупные же неприятности закаляют их. Фаи порывисто поднялся, голос его зазвенел, и он напустился на Жигу:
— О, проклятье! Так иди же быстрее сюда и рассказывай!
Жига спрыгнул с лошади и вошел в комнату, слабо освещенную двумя сальными свечами. На лбу у старика был зеленый козырек, защищавший его слабые глаза от света.
— Что за чертовщина? — удивился Фаи. — Что у тебя с ногами? Я не слышу твоих шагов.
— Я босиком, дядя Пишта.
— Ты что же, рехнулся?
— Бог с вами, просто я без сапог: потерял их, спасаясь бегством из плена.
— Что ты несешь околесицу? Из какого плена? Рассказывай по порядку, коротко и ясно!
Пришлось снова пересказать всю историю от начала до конца, то есть все, что уже было описано мною выше, только Жига изложил все гораздо более сбивчиво, чем я; впрочем, оно и не удивительно, ибо старик перебивал его, разражался бранью, стучал кулаком по столу и готов был надавать Жиге тумаков.
— Ну зачем вас понесло туда? Ослы! Поделом вам! Неужели вы не видели, что это западня? Не оправдывайся, пожалуйста! Ты-то должен был соображать — ты же ведь не граф! Однако и ты оказался ослом. Если я вижу, что меня встречают жандармы, то обязан смекнуть, что не следует туда идти. Как это у вас не вызвало подозрения такое необычное гостеприимство? А появление попа, которому отказали от дома? (Нужно совсем не иметь головы на плечах, чтобы не понять, почему он попал в немилость.) А эти попытки споить вас? А то, что Яноша увели куда-то?.. Эх, все-таки ты порядочный разиня! Да и с сапогами тоже — хоть бы связал их чем-нибудь покрепче, раз уж полез на дерево. Не хватает только, чтобы еще ты простудился и протянул ноги. Впрочем, невелика потеря. Ну да ладно. Беги обувайся скорей, и сейчас же отправляемся! Ужасное происшествие! Скандал на всю страну! Боже мой, какой скандал, какая мерзость!
Не мешкая ни минуты, старик начал срывать с себя теплые платки, которыми был обвязан его живот, и всевозможные грелки, пока наконец не превратился в худощавого, стройного человека. Добравшись до пиявок, он безжалостно оторвал их от своего тела, проворчав: «Довольно пить мою кровь, любезные», — и с остервенением швырнул в окно, будто они вовсе и не стали его родней по крови, а были злейшими врагами. Потом старик застегнулся на все пуговицы, натянул зеленый сюртук, надел шляпу, отыскал свою трость с серебряным набалдашником в форме утиной головы и засунул в оба кармана по пистолету.
— Ну, теперь пошли к вице-губернатору, ибо periculum in mora[86]. Сегодня же ночью брахиум * должен отправиться в Рёске.
В передней старый слуга Мате Бакша, в прошлом куруц, смазывал салом сапоги. Увидев, что его господин собирается куда-то идти, он в крайнем изумлении загородил ему дорогу.
— Нет уж, барин, — заворчал слуга, — из этого ничего не получится — на ночь глядя отправляться на прогулку в город! Я не допущу этого. Вы больны, извольте-ка оставаться в постели, а не то я сейчас же доложу барыне.
— Нет, ты не сделаешь этого, старый сухарь, — прокричал ему в уши Иштван Фаи (старый слуга, привыкший к голосу пушек, был туг на ухо). — Не сделаешь, понял? Дело солдатское — сегодня ночью мы начинаем военную кампанию против одного злодея. Это тебе не тюльпанные луковицы! Понял? Ну, что я сказал?
Для верности приходилось заставлять слугу повторять сказанное, чтобы убедиться, хорошо ли он все расслышал.
Лицо старого Мате просияло: его господин уже смеется над историей с луковицами (большая беда излечила малую).
— Что это дело солдатское, — отвечал он, — и что я не пойду к барыне с рапортом…
— Но если она позвонит среди ночи и спросит обо мне, скажи, что я спокойно сплю в постели. Так что сейчас делает барин?
— Его благородие спокойно спит в постели.
— Ты на диво понятлив, Мате! Но что ты хватаешься за мой сюртук? Норовишь застегнуть? Не касайся меня, пожалуйста, своими жирными пальцами, а не то получишь по загривку.
ГЛАВА ВТОРАЯ Брахиум
Они быстро зашагали по главной улице. Господин Фаи шел пружинистой походкой старого гренадера, позабыв о своей подагре.
Все говорило о том, что вице-губернатор и его гости еще не отошли ко сну. Вокруг дома барского управляющего сновало множество людей, все окна были ярко освещены. Женщины, девушки и парни, всякого рода праздношатающиеся сбежались сюда: одни — поглазеть на живого вице-губернатора (и через окно не каждому это удается), другие — послушать музыку. Звуки ее мягко лились в открытые окна и казались такими чистыми, словно они не касались еще господского слуха. Не удивительно, что у парней сердце щемило от сладкого и волнующего пения скрипки; кто посмелее, подхватывал за талию первую попавшуюся красотку — благо в темноте все кошки серы — и кружил ее прямо на дороге, пока какая-нибудь проезжая повозка не расстраивала танец.
В воротах господского дома толпились стройные гусары, жандармы, гайдуки; они весело заигрывали с наиболее смелыми молодками, которых так и тянуло к ярким мундирам.
Женщины подходили все ближе и ближе к освещенным окнам, где лучше можно было разглядеть их рожицы. Здесь, при свете, молодки становились еще кокетливее, и это разжигало любовный пыл гусар.
Просторный двор был забит колясками, ландо, бричками и самыми разнокалиберными господскими повозками. Слуги, собравшись возле конюшни и посасывая трубки, перемывали косточки всей комитатской знати.
Важная персона был земпленский вице-губернатор, разве что с самим солнцем можно было его сравнить; за ним всегда следовал целый сонм блуждающих звезд, образующих его свиту. В Патак привело его, конечно, не только убийство — оно лишь совпало с очередным выездом; каждую весну и осень посещал он наиболее крупные пункты своего комитата: Патак, Хомонну, Токай и Премонтрейский монастырь в Лелесе. Всюду в его честь устраивались грандиозные приемы, а кое-где в ознаменование такого события даже салютовали из пушек. Выезды его сопровождались большой помпой: четверка серых в яблоках лошадей, на козлах — кучер и егерь, на запятках — двое гусар, рядом с экипажем — стремянный. На второй повозке следовал домашний лекарь: его превосходительство пил и ел всегда в присутствии врача, опасаясь апоплексического удара (в случае чего, пусть доктор будет в ответе). Вместе с лекарем ехали два поляка-приживала, которых вице-губернатор всегда возил за собой, так как любил с ними побалагурить. Прочие господа, сопровождавшие его, тоже запрягали самых лучших лошадей, тем более что эти выезды были одновременно и конской ярмаркой, где демонстрировались молодые чистокровки. Весь день на дворе шла бойкая торговля: гости подбирали и выменивали лошадей, заключали сделки, запрягали коней в различные упряжки, объезжали и снова распрягали.
И сегодня здесь собралось все окрестное дворянство — Мельцеры, Докуши, Бониши, Янто, Гилланьи и Семере, близнецы-гиганты Бодо (трудно было поверить, что эти дюжие молодцы рождены одной матерью, а не совместными усилиями двух матерей), и стройный, изящный Шеньеи (сбруя на его лошадях позвякивала так музыкально, что деревенские молодки бросали квашню и, как были, с руками по локоть в тесте, спешили к воротам — посмотреть на проносившийся экипаж. Бубенчики позвякивали, а женские сердца стучали им в такт).
Сюда же, словно кулики осенью, слетались и неисправимые картежники. В таких случаях обычно велись крупные игры, а нюх у картежников необыкновенно тонок: они-то уж точно знали, когда вице-губернатор будет в Патаке. Семейство Ибраньи, граф Вандернат, Пилиши и Векеи начали съезжаться еще со вчерашнего дня; правда, Пилиши, как рассказывают, вернулся с полпути: у Борши ему перебежал дорогу заяц, и после такого дурного предзнаменования он почел за благо вернуться домой и сесть за пасьянс. Среди гостей были такие уважаемые ученые мужи, как, например, члены комитатского суда Антал Сирмаи и Ференц Казинци, которые могли заставить покраснеть каждого, кто согрешит против норм языка.
Вот и сейчас, ночью, чем еще могли заняться господа, как не картами? Гости уже давно оставили большой стол, ломившийся под тяжестью яств, и разместились за ломберными столиками. Управляющий имениями герцогов Бреценхейм, Амбруш Балашхази, который щедро угощал комитатских вельмож, а издержки относил за счет расходов по имениям, то и дело извинялся перед дорогими гостями:
— Простите меня, господа, что, принимая вас в своем скромном доме, я предложил лишь самые обыкновенные кушанья и не смог угостить вас таким дорогим и изысканным блюдом, какое получили сегодня на завтрак словаки у господина Фаи.
Почтенные же господа, вполне насытившись, охотно простили ему и немало посмеялись над историей с тюльпанными луковицами, особенно те, которые были в выигрыше.
Хозяин дома позаботился и о тех, которым не везло. Он раскрыл большой железный сундук, стоявший в зеленой комнате, где хранилась господская казна в золотых монетах, в талерах, банкнотах, да так и оставил его открытым, объявив об этом во всеуслышание (сам он тоже собирался сесть за винт в дальней комнате):
— Кому понадобится, может брать отсюда взаймы! Конечно, ему легко было проявлять щедрость. В те времена еще не было ни бедных дворян, ни мошенников, ни растратчиков; что касается незадачливых игроков, — а такие и тогда водились в изобилии, — то они часто и охотно навещали железный сундук, черпая оттуда, сколько душе угодно; было б неприлично их контролировать. И тем не менее наш достойный господин Амбруш Балашхази клялся и божился, что гости так аккуратно возвращали долги (тут же клали в сундук или присылали позднее), что итоговые подсчеты казны сходились до последнего гроша.
Игра была в полном разгаре; кудри упали на лоб, усы обвисли… И в этот самый момент дверь вдруг широко распахнулась, и в зал, как полуночное привидение, вошел наш господин Фаи в сопровождении Жиги Берната.
Все радостно повскакали со своих мест, ибо Фаи был очень популярен в комитате.
Могущественный господин!
Дважды его единогласно избирали вице-губернатором, и оба раза он заявлял, что если есть хоть один человек, которому не по душе его кандидатура, пусть поднимет палец, и он откажется от этой высокой чести. Вполне понятно, что среди делегатов дворянского собрания такого не оказывалось хотя бы потому, что он рисковал жизнью, так как галсечские дворяне тотчас же прикончили бы его (даже не потому, что они очень любили Фаи, а потому, что у них всегда чешутся руки кого-нибудь отправить на тот свет).
Сам вице-губернатор бросил карты и устремился к Фаи, желая по-родственному обнять его, — Иштван Фаи приходился вице-губернатору дядей с материнской стороны, — но почтенный старик остановил его суровым жестом. Отвесив глубокий поклон вице-губернатору, он начал громовым голосом:
— Ваше превосходительство, господин вице-губернатор, Я пришел сюда в полночный час, забыв о своей болезни, не обниматься, а просить правосудия у главы комитата, защиты от подлости и наказания того злодея, который осмелился схватить моего названого сына, графа Яноша Бутлера, и, в сообщничестве с одним бессовестным священником, насильно обвенчать со своей дочерью, хотя граф был уже помолвлен с другой.
— Кто он? Кто этот злодей? — воскликнуло разом несколько человек, слушавших, затаив дыхание, свежие новости.
— Кто бы он ни был, он рискует головой! — бросил вице-губернатор.
Слова вице-губернатора прозвучали столь веско, значительно и торжественно, что всем на секунду почудилось, будто зазвенели мечи, развешанные под сводчатыми потолками зала.
Но Фаи не дал сбить себя с толку.
— Несмотря на то, что церемония этого святотатственного брака совершена и что мой названый сын совершеннолетний и является законным членом палаты магнатов, его до сих пор держат взаперти, принуждая провести ночь в спальне навязанной ему невесты.
— Но ведь это ужасно! — воскликнул вице-губернатор. — Чьих рук это дело?
— Святотатство это произошло в Рёске, в доме Иштвана Дёри.
При этом известии наступило всеобщее замешательство; все были подавлены. Сам вице-губернатор растерянно почесал затылок.
— Дёри, хм… Дёри? Черт побери, так, значит, Дёри?.. Могущественный и коварный человек, и большая родня у него… Что же мы будем делать?
— Я прошу послать брахиум, и притом немедленно; он должен освободить из Рёске моего названого сына.
— Но уже ночь, дядя Пишта, — взмолился вице-губернатор, — послать сейчас брахиум в дом магната?
— Господь бодрствует и ночью, уважаемый вице-губернатор, следовательно, и правосудие не должно дремать.
Вице-губернатор не на шутку растерялся; он начал выискивать отговорки, что привело в ярость Иштвана Фаи; он побагровел, как рак на гербе Сирмаи, и в сердцах ударил кулаком по столу.
— Так вот: или немедленно отправляйте брахиум, или же вам не бывать больше вице-губернатором. Это говорю я, старый Иштван Фаи!
Угроза подействовала. Вице-губернатор сдался и стал утихомиривать разошедшегося Фаи.
— Ай-яй, дядя Пишта, я совсем не то хотел сказать! Я только задумался над вашими словами, дядюшка, когда вы изволили заметить, что господь бодрствует и ночью. Н-да, ему-то легко бодрствовать, ведь его не избирают на три года, он вечно над нами! Впрочем, я ничего не говорил, ничего не думал, только не сердитесь! Ну, не смотрите на меня так сурово. Не я же съел ваши луковицы! Конечно, мы поедем туда. Я и сам немедленно отправлюсь. Жандармы, гусары, по коням! Здесь, кстати, наш губернский прокурор, два исправника, Кандо и Палоци, и присяжные Пуки и Дравецкий. Сейчас же запрягать!
Судьба — настоящая лиходейка — в буквальном смысле этого слова спутала карты; один за другим игроки вставали от своих столиков, оставив начатые партии. И долго потом, несколько недель ругали они — кто Иштвана Фаи, расстроившего вечер, кто Дёри, заманившего Бутлера в такую западню, а кто и самого Бутлера. «И чего только ему надо? Ведь из Маришки могла бы получиться вполне приличная графиня!» Тем более что игра как раз начинала хорошо складываться для них. Те, кто уже выигрывал партию, со вздохом прикидывали, какой бы куш им достался, если б Мария Дёри еще хоть день потерпела в своем девичестве. Поистине печально, что картежники такие эгоистичные и циничные создания!
Около двадцати жандармов и гусар вскочили в седла. Брахиум выступил в поход. Он выглядел маленькой армадой. В предутренней тишине земля словно содрогалась и стонала под конскими копытами.
Господа поехали в экипажах. Фаи сел вместе с вице-губернатором; на переднем сиденье, но лицом к ним примостился Жига, пространно излагавший Сирмаи все события. Сирмаи с грустью думал о том, какой предлинный протокол придется составлять ему завтра. Кому бы из присяжных поручить это дело? На кого он больше всего сердит?
Была чудесная весенняя ночь; земля, казалось, мечтала о любви; первые поцелуи солнца навевали на нее задумчивость и негу, которые она, по свойственной ей щедрости, сообщала людям. Леса тоже шептались о любви, на деревьях распускались почки, весенний ветер шаловливо проносился над землей, напоенный пряным ароматом акаций, и опьянял людей. Всё было полно сладости и томления.
Но вот на востоке цвет неба начал меняться; и когда кавалькада достигла Петрахо, небосвод засветлел на горизонте. Предутренний ветер словно отогнул темную пелену у края неба. Как брызги пламени, полились розовато-белые блики. Какое-то возвышенное чувство охватывало душу. Казалось, рассвет набрасывал на небо волшебную белую скатерть, на которой вскоре засверкает золотое блюдо — солнце.
— Светает, — произнес вице-губернатор.
— Скорее! Надо спешить! — нетерпеливо торопил Фаи. Всадники пришпорили коней, старались не отставать и повозки. Так мчались они, попеременно обгоняя друг друга.
Между тем становилось все светлее. Наконец из-за деревьев показалась баронская усадьба.
— Вот он и сам! Смотрите, идет! — восторженно закричал вдруг Бернат.
Через зеленеющие всходы пшеницы, на которых еще лежали белые и плотные, как паста, пары тумана, бежал к ним навстречу человек в господском платье. Он бежал, спотыкаясь о комья земли, не разбирая, где межи, а где посевы.
— Кто это? — спросил вице-губернатор.
— Это Бутлер! Ей-богу, Бутлер.
Бернат привстал в бричке и начал махать платком.
— Ну и здорово! — прошептал вице-губернатор и облегченно вздохнул. — Deo gratias![87] Он очень был доволен, что теперь ему уже не придется вмешиваться в эту историю.
Да, это был действительно граф Бутлер. Но в каком он был виде, бедняга! В лице ни кровинки, взъерошенный, без шляпы, дрожавший всем телом.
Господа соскочили с повозок; сам вице-губернатор поспешил графу навстречу, еще издали крича по-латыни (чтобы челядь не могла его понять):
— Consummast ine matrimonium, domine frater?[88]
В усталых глазах молодого человека вспыхнули огоньки ненависти.
— Non, domine vicecomes, nес corpus tetigi,[89] — ответил он глухим голосом.
— Да воздадут небеса хвалу господу! — благодарно вскинув глаза к небу, проговорил Иштван Фаи. Он до того волновался, что не мог сойти на землю и сидел в повозке неподвижно, словно истукан, глядя прямо перед собой застывшим взглядом.
— Все в порядке! — объявил вице-губернатор, удовлетворенно взмахнув при этом рукой, словно отбрасывая в сторону ненужные документы. — Ничего страшного не произошло. Не-начатый апельсин — все равно что целый, и, пока в него не вонзились чьи-нибудь зубы, его даже грек примет обратно. Такой брак святой суд каноников расторгнет по первому заявлению. Вся история не стоит и выеденного яйца! Ничего еще не потеряно, разве что твоя шляпа, граф Янош. Садись-ка в мою бричку, рядом с Жигой, здесь и твой названый отец… Но что такое, что с вами, дядюшка Пишта? — испуганно воскликнул вице-губернатор, взглянув на Фаи. — На вашем платье кровь!
— Ага! Так вот в чем дело! — радостно вскричал Фаи, как человек, сделавший важное открытие. — Так вот отчего я так ослаб, черт побери! Ну конечно, теперь я понимаю! Ночью я ставил себе пиявки и в спешке плохо залепил ранки трутом. Найдите поскорей немного трута.
В те времена каждый порядочный человек имел при себе трут. Отправляясь в путь, люди непременно брали с собой кремень, трут и огниво, ключ от своего заветного сундучка и стальной перочинный ножик. Господин Фаи быстро привел себя в порядок, а вице-губернатор тем временем отдал приказ о возвращении. Брахиум потерял теперь всякий смысл, ибо господин граф, которого он, вице-губернатор, готов был спасти хоть из самого ада (почтенный господин любил громкие слова — разумеется, если они не налагали никаких обязательств), был на свободе, о чем по возвращении надлежит составить официальный протокол, так как заранее можно предвидеть, что мирное разрешение этого инцидента невозможно.
Прежде чем сесть в экипаж, Бутлер попросил у вице-губернатора конного гонца, с которым мог бы отправить письмо.
Сирмаи подозвал одного из гусар, и Бутлер вручил ему увесистый конверт, на котором стоял такой адрес: «Письмо предназначается достойной и благородной Пирошке Хорват, моей любимой нареченной, в Борноце».
— Когда это ты написал? — спросил Фаи.
— Ночью.
— Там, под замком?
— Там.
— Так, значит, вы не были вместе? — продолжал он допрашивать.
— Нет, были.
— Да не отвечай так лаконично, — словно тебе в аптеке слова отмеривают. Рассказывай-ка все по порядку.
У Бутлера, как у любого другого человека, который оказался бы на его месте, голова шла кругом от всего происшедшего, и он начал изложение от Адама и Евы: как они приехали к Дёри, как тот старался напоить их и т. д., и т. д.
— Ну, вся эта история нам уже в основном известна, подробно поговорим позднее. А сейчас расскажи о том, что с тобой произошло после свадьбы.
— Все шло так, как и было ими задумано. Подкупленные и хорошо выучившие свою роль слуги внезапно исчезли, и я остался один, запертый в так называемой канцелярии, что на первом этаже. Через некоторое время слуга принес мне ужин и постель. Я схватил его за горло и хотел задушить мерзавца — в этой комедии он играл роль свидетеля, — но увидел, что за дверью стоит вооруженная стража: значит, на бегство все равно не было надежды.
— Тебе не известны их имена? — поинтересовался Сирмаи.
— Нет.
— Дальше!
— Когда негодяй убрался, я вновь взялся за письмо. Забыл вам сказать, что сразу же после идиотской церемонии я сел писать Пирошке. Это отняло у меня несколько часов, приблизительно до половины одиннадцатого, и я излил в письме все, что наболело. Но человеческая печаль подобна бездонной бочке. С горя я совсем потерял голову и повалился в кресло. Я пребывал в полусне, в полубреду. Глаза мои были открыты, но я ничего не видел. Сознание помутилось, хоть я и отдавал себе отчет во всем происходившем. Вдруг я почувствовал, что поднимаюсь в воздух, но в тогдашнем моем состоянии это не показалось мне странным. И я только тогда совершенно пришел в себя, когда услышал рядом с собой плач. Я вскочил и был поражен картиной, открывшейся моему взору. Комната освещалась двумя свечами, стоявшими на ночном столике, покрытом белым тюлем; баронесса лежала ничком на разобранной постели и горько плакала. Видение это или сон? Разве в этой комнате я заснул? Ведь там свечи горели на письменном столе и не было такой постели. Постепенно я начал прозревать: это не моя комната, меня подняли сюда с помощью какого-то механизма — это заключительная сцена разыгранной ими комедии.
— Ах, сукины дети, — прищелкнул языком вице-губернатор. — Занятная ситуация! И что же ты сделал с девушкой?
— Ничего. Даже не взглянул на нее.
— Постой, она была раздета или как?..
— Нет, лежала в платье и плакала, уткнувшись лицом в подушку.
— А хороша она, кхе-хе? Когда я видел ее в последний раз, она была еще нераспустившимся бутоном.
— Довольно миловидная, — ответил Жига Бернат.
— Ну, граф Янош, и чертовски же холодная кровь течет в твоих жилах!
— Добрая ирландская кровь, — вмешался в разговор Иштван Фаи. — Бутлеры происходят из Ирландии. Когда-то их вскармливали козы. — Старик Фаи любил этой шуткой поддразнивать своего названого сына.
— И девушка тоже не старалась заговорить с тобой? — допытывался вице-губернатор, который был весьма охоч до чужих тайн, если это не влекло за собой никаких последствий.
— По-моему, она дважды обращалась ко мне, заламывала руки и, признаюсь, поистине тронула меня, если только ее поведение не было хорошо продуманной игрой. «Простите меня, — лепетала она, — простите! Меня заставили! Все это помимо моей воли…» Я отвернулся от нее и крикнул: «Никогда, сударыня, не обращайтесь ко мне, я вас не знаю, я даже голоса вашего не хочу слышать, никогда, никогда!» Всю ночь я простоял у окна, глядя наружу. Попробовал было выломать решетку…
— Хороша брачная ночка, скажу я вам! — покачал головой Сирмаи.
— Значит, тебе удалось выломать железные прутья решетки? — спросил Фаи.
— Это оказалось мне не по силам.
— Тогда как же ты все-таки смог убежать?
— Очень просто. На рассвете дверь открылась, и на цыпочках вошел седой камердинер, которого я раньше не видывал в доме Дёри. Он спросил, можно ли взять почистить платье. «Вы же видите, что я одет», — ответил я. За ним в дверь просунула голову смазливенькая горничная: «Ее сиятельство графиня прикажет подать завтрак в постель?» Тут мне стало совершенно ясно, зачем понадобилось поднимать меня на второй этаж: только для того, чтобы эти два новых «свидетеля» застали нас вместе. Хитрый же план составила эта старая лиса! Я догадался, что роль моя, очевидно, на том и заканчивается и я свободен. Я вышел через открытую дверь, миновал столовую и спустился во двор. Ворота тоже были распахнуты настежь, и я, как был, с непокрытой головой, без оглядки бросился вон.
— На твоем месте я малость пощипал бы хоть горничную, — надо ж было как-то отомстить за невесту, которую тебе силком навязали, — сказал Сирмаи. — Месть, как известно, всегда сладка, а в такой форме особенно!
— Что было, то прошло, — заключил Фаи. — А теперь мы должны думать о том, как бы хорошенько отомстить Дёри за его злодеяния. Следует позаботиться о том, чтобы нагреть котел для грешной души Дёри. Эта проделка не пройдет ему даром.
— Боюсь, мой дорогой опекун, что нам предстоит много хлопот.
— Не бойся ничего. Терпенье, и только терпенье. Дай только мне заняться твоими делами.
— И все же много времени уйдет на это, — с сомнением произнес Бутлер, повесив голову. — У меня-то хватит терпенья, но что скажет Пирошка? Согласится ли и она ждать?
— Если любит, то согласится, если же не любит, то в Венгрии столько девушек, поверь мне, сколько сусликов в поле!
После этих слов Янош загрустил еще сильнее. Что ему за дело до всех полей и бегающих по ним сусликов, если сердце его приковано к девушке, единственной в целом свете.
Старый Фаи не мог равнодушно видеть такой скорби своего названого сына, его страдальчески кроткого взгляда. Он взял голову Яноша в свои большие ладони, ласково потрепал спутанные волосы юноши и принялся утешать его:
— Ну, не будь таким печальным! Мне всегда в подобные минуты вспоминается твоя бедная мать. Улыбнись же, хоть ради меня. Да не так, упрямец ты этакий! От такого, братец, смеха плакать хочется. Ну, смейся же по-настоящему. Поверь, все это преходяще, как кратковременный дождик! А потом, послушай, что я тебе скажу.
— Слушаю, мой дорогой опекун.
— Так вот знай, что барон Фишер, эгерский архиепископ, — мой друг-приятель.
Бутлер не сразу понял, чему тут радоваться.
— Я расскажу ему, как было дело, и от одного его дуновения все их козни лопнут, как мыльный пузырь.
Но и это не рассеяло печаль Бутлера, и Фаи прибег к новому аргументу:
— Я, брат, такой человек: что замыслю, того и добьюсь! Если потребуется, я к самому папе римскому отправлюсь, мой милый сынок, ведь он мне… мм-м…
Чтобы утешить Яноша, Фаи готов был сказать что-нибудь внушительное, вроде того, что и папа ему сродни, однако одумался и уже другим тоном добавил:
— …Этим я не уроню своего достоинства.
Тем временем они подъехали к Патаку; уже приветливо кивали им величественные липы и каштаны, окружавшие усадьбу Фаи. Солнце сбросило утреннюю сонливость и зажгло своими лучами железную кровлю башен. Только в воротах их ожидала грозовая туча: там стояла достойная госпожа Фаи, вооруженная метелкой, и угрожающе размахивала ею в ожидании своего супруга.
Старик испуганно втянул голову в плечи и прикрылся пледом.
— Ну и достанется же вам на орехи, братец! — шепнул Фаи вице-губернатору. — Теперь уж ты выручай меня, если есть в тебе совесть.
— А за что сердится на тебя тетушка Анна?
— Да все из-за пиявок, ведь я больной убежал из постели. Впрочем, сам понимаешь: волос длинен, а ум короток!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Знаменитый профессор Кёви и адвокат Перевицкий
Перестань, маленькая, глупая пчелка, биться слабыми крылышками о стекло. Знаю, чего ты хочешь! И вчера, и позавчера, и раньше было открыто окно, на котором стоит распустившийся цветок. Забравшись в его чашечку, ты покачивалась в ней, упиваясь ароматом, наслаждаясь нектаром. Было хорошо и тебе и цветку. Но вот неведомая рука закрыла окно, и ты не можешь проникнуть сюда. А ты устала, тебе так нужен был бы отдых. Погода сырая, холодная, льет дождь, и цветок — единственное место, где ты могла бы счастливо отдохнуть. Но безжалостная рука закрыла окно, и ты не можешь попасть в дом.
И вот ты бьешься крылышками об окно, слабая, маленькая пчелка, не понимая, что крылья твои сломаются раньше, чем стекло. Ты жужжишь, споришь, просишь его: «Не задерживай, впусти!» Но ведь не от стекла это зависит, как ты этого не понимаешь, безрассудная пчелка?! Не сюда надо стучаться, если ты хочешь проникнуть к цветку. Не потому идет дождь, что закрыто окно, а потому и закрыто окно, что идет дождь. Лучше взлети над тучами, к самому солнцу, и попроси его вновь послать на землю свои живительные лучи. Как только засияет солнце, окно снова откроется.
Бесполезно говорить все это пчелке, она все равно не поймет. Однако и у человека часто бывает не больше ума, чем у пчелы, — особенно когда он влюблен.
По крайней мере, именно так поступал наш Бутлер.
Добравшись до своей комнаты в доме Фаи, где были одни лишь книги, он весь день писал Пирошке. Сочинив одно письмо, он разрывал его и тут же принимался за второе, затем за третье, четвертое. Письма позволяли ему хотя бы мысленно быть с нею.
Вечером кто-то постучал в дверь.
— Можно, — рассеянно пробормотал Янош.
Дверь отворилась, и вошел Миклош Хорват. Подвижный и живой старик был надломлен; он казался сильно постаревшим. Письмо Яноша он получил в тот же день пополудни (знать, добрая лошадь была у гусара!); да и гости управляющего, разъехавшиеся ночью по домам, успели разнести слух (дурные вести не залеживаются). Так что вскоре все четыре комитата окрест знали о «свадьбе в Оласрёске», и все десять тысяч старух из этих комитатов возмущались происшедшим: «Стоит ли жить на белом свете, если такое творится!»
Пирошка, прочитав письмо упала в обморок, и мадемуазель Фриде пришлось опрыскивать ее водой. Когда девушка пришла в себя, она хотела сразу же отправиться в путь, но старик отец не разрешил ей этого, а приказал заложить лошадей и, нигде не останавливаясь, примчался в Патак.
Бутлер, просияв, бросился ему навстречу.
— Ах, это вы, дорогой дядюшка! Как вы здесь очутились?
Но старик отстранил его:
— Погоди, дорогой мальчик, я еще не знаю, что и как. Теперь ты загадал мне хитрую загадку, и я не могу ее разгадать. Прежде расскажи, как все случилось.
— Где Пирошка? — нетерпеливо спросил Бутлер.
— Ее подкосило это известие.
— О боже, боже мой!
— Ладно, не хнычь. Поговорим о деле; мне надо знать, что еще можно сделать.
И вновь Бутлеру пришлось от начала до конца пересказать все до мельчайших подробностей.
Узнав о приезде Хорвата, в комнату вошли супруги Фаи. Старики долго обнимали друг друга, потом все вместе принялись возмущаться происшедшим.
Рассказ Яноша несколько успокоил Хорвата.
— Сущая нелепость! Этот брак будет обязательно расторгнут! Да-с.
— Я того же мнения, — сказал Фаи.
— Если есть на небе бог, он не допустит подобной несправедливости, — твердила госпожа Фаи.
— Очень хорошо, что ты приехал, — продолжал Фаи, вновь и вновь пожимая Хорвату руку. — Я сегодня пригласил к ужину Шандора Кёви, знаменитого профессора права, и Криштофа Перевицкого — самого ловкого адвоката в Венгрии. За ним я послал экипаж в Уйхей. Составим маленький консилиум.
— И я хотел предложить что-нибудь в этом роде. Да-с.
— Не оставлять же нам мальчика в беде, — сказал Фаи, с любовью глядя на своего названого сына.
Услышав столько ободряющих слов от своих близких, Бутлер ожил было, как оживает увядшая трава, обрызганная росой. Но тут госпожа Фаи заметила:
— Однако жаль, дорогой Хорват, что вы не привезли с собой нашу Пирошку.
На это Хорват вежливо возразил:
— Сударыня, в подобных вопросах я человек строгий и считаю, что графу Яношу нельзя видеться с Пирошкой до тех пор, пока не рассеется весь этот туман. Да-с, туман!
Ответ Хорвата окончательно сразил графа Яноша. «Пока не рассеется весь этот туман!» Подобное чувство испытывает заключенный, видя, как замуровывают последнее отверстие, через которое могли проникнуть к нему лучи солнца.
Что с ним будет, если он не сможет видеть Пирошку? «Пока не рассеется весь этот туман…» А если он долго не рассеется?
Тут господин Хорват и госпожа Фаи заспорили, как это было вообще принято в те времена, о том, кто старше, хотя это было совсем нетрудно установить — стоило только вспомнить, в каком году каждый из них родился. Но законы вежливости заставляли усомниться в старшинстве собеседника, и они наперебой принялись величать друг друга «дражайшей племянницей» и «дражайшим племянником», пока не приехали долгожданные гости — сначала Шандор Кёви, а немного погодя и Криштоф Перевицкий. Последний был человек со странностями, таких немало было в ту пору в Венгрии. Он имел обыкновение носить при себе сразу по нескольку пар часов, для чего у него на жилете были сделаны даже дополнительные карманы. За день он неоднократно сверял и регулировал свои многочисленные часы и вообще возился с ними, как другие с собаками или лошадьми, полагая, очевидно, что после того, как он их хорошо выдрессирует, они будут тикать и ходить в полном соответствии с его желанием.
Появляясь в каком-нибудь доме, Перевицкий прежде всего вынимал часы и спрашивал у хозяина, сколько времени.
Он и сейчас не изменил своей привычке, и первыми его словами, обращенными к Фаи, были:
— Сколько на ваших, милостивый государь?
— Пять минут девятого.
— Черт побери! — воскликнул адвокат. — Вы счастливый человек, сударь.
— Почему же, мой дорогой?
— Потому что ваши часы идут совершенно так же, как мои. Это великое дело, уверяю вас. Вчера я был у графов Андраши в Тёкетеребеше. Так, вы знаете, все часы показывали разное время. Некоторые спешили на четверть, а то и на полчаса.
— Ничего удивительного. Дорогие часы, как и дорогие лошади, ходят быстрее дешевых.
Перевицкий рассмеялся:
— Шутка неплохая. Поздравляю от чистого сердца, превосходные часики. Если вздумаете их когда-нибудь продавать…
— Знаете, дорогой, если мы выиграем процесс, я подарю их вам сверх гонорара. Так уж, видно, суждено: одну луковицу у меня черт утащил, другую я сам ему отдам. Ведь между адвокатом и чертом нет разницы, не так ли, господин Кёви?
Господин Кёви мило заморгал глазами, опушенными седыми ресницами, и добродушная улыбка заиграла на его губах. Перевицкий же, потирая руки, отвечал:
— Благодарю вас, сударь, я к вашим услугам.
Мужчины отправились совещаться, а хозяйка — на кухню: столь уважаемым господам, которым приходится напрягать свой ум, необходим сытный ужин.
Фаи пригласил на совещание и Жигу Берната, который впервые участвовал в такой серьезной конференции ученых мужей и смущался, как красная девица.
— Мы просили пожаловать вас, господин Кёви, и вас, господин Перевицкий, — начал Иштван Фаи, — чтобы вы дали совет в одном неприятном деле. Вероятно, вы оба уже слышали о том, что произошло?
Адвокат действительно уже знал о случившемся.
— Еще бы! Как не слыхать о бракосочетании графа Бутлера Парданьского, которого имею честь видеть здесь! Прескверная эта история, надо сказать.
— Не пугайте нас, господин Перевицкий. Быть может, вы соблаговолите выслушать сначала все обстоятельства дела?
— В этом-то как раз и нет никакой необходимости, — заметил адвокат.
— Как? — прервал его Кёви. — Ведь вам известно об этом случае лишь по слухам. Не зная истины, нельзя брать на себя смелость делать заключение по делу.
— Истина — вещь второстепенная, — упорствовал Перевицкий, — тем не менее следует послушать, так как по этому можно будет судить, какие из своих лживых утверждений сможет доказать наш противник.
И граф Янош — кто знает, в который раз, — снова от начала до конца рассказал всю историю. Жига добавил то, что было известно ему. Слушая их, Перевицкий присвистывал, гмыкал, делал какие-то заметки на лежавшем перед ним листе бумаги и время от времени восклицал: «великолепно», «ну-ну», «ого-го». Словом, было видно, что он потешается над всем этим и смотрит на дело, как портной на сукно, вслух раздумывая, что из него можно будет выкроить.
В противоположность Перевицкому, господин Кёви, крупный ученый-юрист, о котором Казинци сказал однажды, что каждое его слово достойно быть высеченным на мраморе, то бледнел, то краснел от негодования, беспокойно ерзал в кресле и нетерпеливо шаркал ногами по полу.
Когда повествование было закончено, все повернулись к нему, с нетерпением ожидая от него ответа, как от оракула.
— Так вот, господа. Случай сей — не теленок, не бочка и, тем более, не бракосочетание, — начал Кёви в той же манере, в какой обычно начинал свои лекции, полные красочных сравнений и ярких образов. — Потому что у теленка есть четыре ноги, у бочки — обручи и дощатые стенки, а брак возникает лишь тогда, когда имеется налицо взаимное согласие двух особ противоположного пола. Правда, венчание состоялось в присутствии священника. Но ведь в присутствии священника в прошлом году у вас, господин Фаи, на празднике сбора винограда готовили жаркое из баранины. Однако это жаркое нельзя было назвать браком, хотя в нем наличествовали части овцы и части барана. Что касается варева Дёри, то оно достаточно дурно и, надо думать, не пойдет повару на пользу. Таким образом, здесь можно возбудить двоякого рода процесс: во-первых, перед администрацией комитата — по поводу посягательства на личную свободу графа Яноша Бутлера и принуждения его к браку; а во-вторых, перед судом каноников, но не о расторжении брака, потому что его не было, а лишь о признании недействительными брачных уз, поскольку священник, пусть и принудительно, пародируя церковный обряд, все же соединил руки молодых людей под епитрахилью.
Перевицкий кивнул головой в знак согласия:
— Верно, так и есть.
А Фаи и Хорват спросили одновременно:
— Как вы думаете, господин профессор, какой будет исход процесса?
— Можно с уверенностью сказать, что, раз бракосочетание незаконно, священника упрячут в тюрьму (notabene: я бы, например, руки ему отрубил, которыми он держал епитрахиль).
— Ну, а Дёри что сделают?
— Его тоже за решетку (notabene: я бы и имущество его конфисковал). Всех в тюрьму засадят, и жандармов и свидетелей (notabene: им бы я велел уши отрезать, чтобы некуда было вату запихивать).
Слушая это, Криштоф Перевицкий отрицательно качал головой и махал руками, словно отгоняя мух, садившихся ему то на нос, то на лоб. Но поскольку мух в комнате не было, такое его поведение не предвещало ничего доброго.
— К сожалению, я совсем другого мнения, — каким-то необычным, шипящим голосом произнес он. — Не все часы показывают время одинаково, и не все люди рассуждают на один манер, — в частности, не так, как уважаемый профессор. Да это и понятно: такая голова — одна на всю страну! Это каждому известно, об этом и воробьи чирикают на всех перекрестках. Ах, как было бы хорошо, если б у всех были бы такие же головы! Но, к великому огорчению, это далеко не так. Ваше дело, господа, как раз и будут рассматривать не такие головы. Какую же ценность имеют для нас суждения уважаемого господина профессора? Никакой. Лучше пригласите-ка такого человека, у кого ум хоть и не столь глубокий, но более практичный. И такой человек — я. Все происшедшее представляется мне таким образом, что достигнуть успеха будет нелегко. Перочинный ножичек Фемиды пригоден для того, чтоб отточить гусиное перо или почистить ногти, но для нас — поскольку нам придется воевать с самим дьяволом — нужно дьявольское оружие. Если Дёри решился на такое преступление, совершенно ясно, что он все очень хорошо продумал и крепко-накрепко приковал к себе свидетелей, которые будут показывать совсем не так, как здесь рассказывал его сиятельство граф Бутлер Парданьский. Они присягнут, что все произошло, как полагается. Поп тоже подтвердит, что жених сказал «да» и «люблю». Более того, явятся и новые свидетели — те, что утром после брачной ночи нашли жениха и невесту вместе. И когда эти свидетели предстанут перед судом каноников и расскажут, что «видели», вот тогда я попрошу обратить внимание, каким ничтожным клопиком будет выглядеть перед судом наша правота, хотя введем мы ее в зал львом рыкающим.
Тут разом вскочили оба старика.
— Разве нет в нашей стране законов? — стукнув кулаком по столу, воскликнул Иштван Фаи.
— Законы, разумеется, есть, и законы строгие, но в этом деле решающее слово будет за попами, а попы сильнее законов.
Профессор Кёви слушал адвоката Перевицкого с пренебрежительной улыбкой. Он снял с пальца большое кольцо-печатку, на котором разноцветными огнями играл благородный опал, подаренный ему в Берлине прусским королем за диспут с учеными, и, подбросив его в воздух, поймал на лету. Так он обычно забавлялся, выслушивая ответы своих учеников.
— Ну что же, — сказал Кёви. — Предположим, барону Дёри удалось подкупить свидетелей. Но подъемная машина — она-то будет свидетельствовать о насилии?
— Не беспокойтесь, Видонка упрячет подъемную машину.
— Тогда возьмем Видонку…
— А Видонку упрячет Дёри.
Бутлер был ни жив ни мертв, словно присутствовал на собственных похоронах. Перевицкий каждым своим словом будто вбивал один гвоздь за другим в крышку его гроба. Наконец Янош не выдержал и вскочил со стула.
— Если мы проиграем этот процесс, я пристрелю Дёри, как собаку, — задыхаясь от гнева, закричал он, — и вместе с ним всех судей, а затем застрелюсь сам.
— Ну-ну, — остановил его Миклош Хорват, — потише, сынок. Если такие угрозы просочатся наружу, они только осложнят дело. «Молчать и действовать» — вот что должно стать нашим девизом.
— Да, но ведь господин Перевицкий говорит, что мы проиграем процесс!
— Я этого не говорил, — возразил Перевицкий. — Я только сказал, что наша правота немногого стоит. Красив лик ее, да руки коротки; следовательно, их нужно удлинить.
— Каким же образом?
— Золотом, мой дорогой! Золотом можно удлинить ее руки.
Бутлер посмотрел на опекуна: он еще не решался распоряжаться своим имуществом самостоятельно, так как был совершеннолетним всего лишь неделю. Фаи понял его вопрошающий взгляд.
— Я так управлял твоими имениями, сын мой, — не без гордости заявил он, — что судей своих ты сможешь усадить в кресла из литого золота.
— Чтоб потом они могли унести эти кресла с собой, — не без издевки добавил старый Хорват. — Теперь и я вижу, что господин Фаи рассуждает здраво и что нам нужно бороться всеми силами и всеми средствами, используя и наше влияние, и осведомленность, и деньги. Я одобряю его образ мыслей, потому что процесс — это сражение, а как выиграть сражение — нам дал рецепт генерал Монтекукколи. Ну что же, у меня ведь тоже найдутся деньжонки. Будем драться до конца. Так или иначе, но нам нужно победить!
Старый Хорват раскраснелся и даже похорошел. Бутлер подбежал и порывисто обнял его.
Но тут господин Кёви неожиданно пришел в негодование и так стукнул знаменитым королевским перстнем по столу, что стол загудел. Профессор заявил, что немедленно уходит, и господин Фаи не смог бы его удержать, не ухвати он его за лацкан долгополого профессорского сюртука.
— Клянусь, я не выпущу вас!
— Вы призвали меня сюда, — бушевал оскорбленный профессор, — чтоб я рассказал вам о полете орлов, а сами принялись советоваться о том, как набить животы шакалам. Отпустите меня!
Кое-как его уговорили, но он не мог скрыть своего недовольства и всевозможными колкостями то и дело давал почувствовать свое презрение. Когда граф Бутлер просил адвоката поторопиться с процессом, потому что каждый час разлуки с любимой невестой равен для него году, Кёви язвительно заметил своему ученику:
— И не надейся, мой дорогой, ибо колючка во мгновение ока проникает в ногу, но пока ее извлекут оттуда, приходится возиться несколько часов, и если делом займется добрый, честный фельдшер. А вот если колючку примутся вытаскивать адвокаты-крючкотворы, то они сначала засунут ее еще глубже, чтоб подольше затянуть лечение.
Бутлер не знал, что и отвечать, но старый Хорват подозвал его к себе и шепнул ему на ухо:
— Не слушай ты этого Кёви. Он не от мира сего. Он мудр и прямолинеен, а нам нужен хитрый пройдоха-адвокат, прошедший огонь, и воду, и медные трубы. Перевицкий как раз такой и есть, нужно отдать ему должное. А что касается ускорения процесса, положись на меня, я позабочусь об этом.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Приготовления
С этими словами господин Хорват поднялся и, отведя господина Фаи в оконную нишу, тихо совещался с ним некоторое время, а затем сообщил адвокату, что они предлагают ему вести процесс на следующих условиях: если он выиграет дело в течение года, получит гонорар в пять тысяч золотых; если сумеет справиться раньше года, то за каждый месяц получит еще по тысяче золотых; если же процесс протянется свыше одного года, гонорар уменьшится за каждый месяц на двести золотых. Согласен он на такие условия или нет?
Перевицкий согласился. Это был смышленый, ловкий адвокат, равного которому не было во всей Верхней Венгрии: бессовестный до цинизма, смелый и напористый, к тому же хитрец и тонкий психолог. В Пеште ходили легенды о том, как он обхаживал членов верховного суда. Всех сумел он обкрутить, и притом весьма простыми средствами. У кого была красивая дочь, он преподносил ей в подарок шкатулку с семенами редких цветов. Там, где было много детворы, появлялся с грудой всевозможных игрушек; дети уже знали его, и стоило ему показаться в доме, как они с радостными воплями: «Дядя Перевицкий, дядя Перевицкий!» — бросались ему навстречу, забирались на колени, на спину, на плечи, и почтенному папаше, выглянувшему на шум в переднюю, приходилось собирать своих отпрысков, облепивших адвоката, как гусениц с дерева. Если кто-нибудь из септемвиров * проявлял интерес к своему происхождению, адвокат из Уйхея прибывал со старыми, полуистлевшими от давности документами, которые подтверждали родственные связи септемвира с Мате Чаком *, Гарой или Омоде * (эти «подлинные» документы изготовлял для него один престарелый адъюнкт). Если же септемвир оказывался ловеласом, у Перевицкого и на него находился аркан. Адвокат отыскал в Туроце, где у него жила многочисленная бедная родня, трех красавиц, дальних родственниц; одна из них, женщина с изумительно красивой фигурой, была разведенной, а две другие — вдовушки, пленявшие белокурыми, как лен, волосами. Родственницы поселились в его доме, и Перевицкий, отправляясь в Пешт, всегда брал какую-нибудь из них с собой. Разумеется, вместе с нею он появлялся и в доме нужного ему судьи. В те времена еще не было принято наклеивать на прошения марки гербового сбора, но хорошенькая женщина в виде некоего приложения к бумагам не могла повредить делу. Перевицкий просил при этом извинения, что осмелился прийти к его высокопревосходительству господину септемвиру со своей племянницей, — к сожалению, он не может оставить ее одну в этом чужом городе. Затем он принимался излагать свои аргументы, а миловидная женщина тем временем строила глазки, помогая септемвиру понять (и тот обычно понимал), каким должно быть решение. Вполне возможно, что все это только сплетни, кто знает? Злые языки всегда существовали, так же как и дурные женщины, а вот честных и добродетельных адвокатов никогда не было. Но обсуждение данного вопроса не относится к нашему роману, тем более что у нас и без того много забот с этим бракоразводным процессом. Надо только сказать, что адвокатская контора Перевицкого преуспевала, а кроме того, его почитали в Уйхее как человека, который не только покровительствовал своим бедным родственницам, но даже баловал их и возил с собою в Пешт, тем более что, как говорят, родственницам этим и самим нравилось ездить в столицу.
Словом, судьба Бутлера попала в надежные руки. И поскольку в конце концов это признал и господин Кёви, которому пришлась по душе премиальная система оплаты, предложенная Хорватом, все уселись ужинать в полном согласии.
Однако ни жареному поросенку, ни каплуну не удалось развеселить общество, а тем менее заставить его переменить тему разговора. Участники трапезы то и дело возвращались к предстоящему процессу и к событиям в Оласрёске (вот уж, верно, икалось барону Иштвану Дёри в тот вечер!).
Лишь могучая сила вина несколько поддержала оптимизм собеседников, порешивших на том, что исход процесса будет благоприятным. Ну, а раз конец хорош, и все хорошо! За это стоит выпить!
Сотрапезники обсудили средства дальнейшей борьбы и распределили между собой роли: Перевицкий отправляется домой и тотчас же приступает к организации процесса («денег, уважаемый, не жалейте»). Господин Фаи на этой же неделе поедет в Эгер к архиепископу барону Иштвану Фишеру с тем, чтобы лично рассказать его преосвященству обо всем, а Миклош Хорват — ко двору наместника в Буду, где у него большие связи, с помощью которых можно получить аудиенцию у наместника, хотя в это время года к нему очень трудно попасть, так как обычно он целыми днями возится в саду в своем имении близ Келенфёльда.
Сам господин Кёви добровольно вызвался сегодня же ночью написать убедительное послание его сиятельству графу Ференцу Сечени, кавалеру ордена Золотого руна, который в настоящее время живет в Вене и вхож к императору. Старый граф — давний почитатель профессора Кёви и ради него сумеет между делом изложить историю Бутлера императору Францу.
— Ах, если бы добрая императрица Людовика услышала обо всем этом! — вздохнула госпожа Фаи.
За ужином же решили, что граф Бутлер с завтрашнего дня займется своими имениями, оставив юриспруденцию, без которой вполне может обойтись.
— Конец твоей студенческой жизни, братец! Утром ты проснешься одним из богатейших магнатов Венгрии, — сказал Иштван Фаи. — Расправишь плечи, понял? Сбросишь эту девичью застенчивость — она приличествует какому-нибудь помощнику сельского писаря. Придет к тебе досточтимый профессор Кёви, которого ты так любишь, попросить на нужды университета, а ты заставишь его целый час прождать в приемной и ответишь, цедя сквозь зубы. Ну, что краснеешь? Это уж так принято, зря ты протестуешь, дорогой. А если я вздумаю навестить тебя, ты, прищурив глаз, с трудом признаешь меня. Я уже сейчас слышу, как ты буркнешь: «Na, wie gent es, Alter?»[90] А сам подумаешь: «Ведь я же магнат, а магнат должен быть гордецом!» Я тороплюсь высказать тебе это потому, что сейчас ты еще понимаешь по-венгерски. А пройдет год-два, и ты забудешь венгерскую речь, перестанешь ее понимать. Ну, что ты там расплакалась, дражайшая моя половина? (Господин Фаи заметил, что его жена уже вытирает глаза передником.) Зачем, мол, я нападаю на ребенка? Что ж ты думаешь, он век будет держаться за твой передник? Сейчас я выпускаю его в полет и, как курица-наседка, вырастившая дикого гусенка, объясняю, что он не нашей породы и может летать над водой выше нас, что может жить даже в болотах, если захочет подражать другим гусям… Много у тебя земель, лугов, мельниц, множество крепостных, сынок. Своим богатством ты обязан родине. Всю жизнь помни об этом и думай: что ты дал ей взамен? Всю жизнь погашай свой долг! И если окажется, что ты дал отчизне больше, чем она тебе, тогда мои старые кости успокоятся в могиле.
Бутлер тоже расчувствовался от этих торжественных слов, хотел что-то сказать, но не смог и разрыдался.
Хозяйка обняла его за шею, как она имела обыкновение это делать, и, поглаживая Яноша по голове, ласково принялась укорять то его, то мужа:
— Ну, не будь таким ребенком! Постыдился бы плакать перед своим будущим тестем. Что подумает господин Хорват? А ты чего раскудахтался, старый болтун? Подливал бы лучше гостям, не пьют они ничего.
Но старый Фаи высказал лишь то, что было у него на душе. Старик сообщил Яношу, что на завтра для него уже вызваны из Бозоша слуга, камердинер, гусар и четверка лошадей. Но в Бозоше Бутлер может пробыть ровно столько, сколько потребуется для торжественного вступления в права наследия, затем отправится в Пожонь на государственное собрание, чтобы блистать там, как подобает магнату. Ведь от того, кому многое дано, и ждут многого. Среди именитых дворян, собравшихся на сессию парламента, у него найдется немало земляков и родственников, которые смогут повлиять на исход процесса. Быть может Яношу удастся обратить внимание всего государственного собрания на беззаконие, совершенное в Оласрёске.
Наутро перед домом Фаи действительно стояла упряжка красивых лошадей, и Бутлер распрощался со своими опекунами, прослезившись вместе с ними по этому поводу; а в субботу господин Фаи отправился в Эгер (будучи кальвинистом, он не хотел делать этого в пятницу). В это время госпожа Бернат письмом известила свою невестку, госпожу Фаи, что старый Хорват тоже отбыл в Буду. Перед отъездом он написал завещание, исключив из числа наследников свою среднюю дочь, а исполнителем завещания «назначил, — писала госпожа Бернат, — моего супруга, с которым они так сдружились за последние дни».
Все пришло в движение, и только в Оласрёске царила полная тишина.
Падкое до всяких сенсаций общественное мнение с затаенным интересом следило за дальнейшим развитием событий. Стало известно, что Бутлер возбуждает процесс, но никто не знал, что со своей стороны предпримет Дёри. Иные много бы дали за то, чтоб потолковать с человеком, который видел новоявленную госпожу Бутлер хотя бы издали, хоть в окошко, а еще больше за разговор с тем, кто беседовал с нею лично.
Но, к великой досаде любопытствующих, все планы обитателей замка в Рёске и их поведение были окутаны тайной. Ворота с самого дня свадьбы были закрыты, на окнах спущены жалюзи, так что весь замок казался опустевшим.
Однако общественное мнение было столь жадным до сенсаций, что некоторые из великосветских дам (красавица госпожа Стараи и звонкоголосая супруга господина Пала Кетцера) решили взять себе служанок из села Оласрёске, чтоб хоть что-нибудь выведать от них о «графине». Краснощеким крестьяночкам в пышных юбках мало что было известно обо всей истории, но и эти скудные сведения оказались достаточно соблазнительными для сплетниц. Барыни с таким же апломбом заявляли «моя служанка из Рёске», как их мужья — «мой чешский егерь» *. Шуточная затея скоро переросла в страстную моду, так что каждая уважающая себя барыня в комитате стала требовать от своего мужа, кроме флорентийской соломенной шляпки и шведских перчаток, еще и служанку из Оласрёске. И платили девушкам из Рёске в два раза больше, чем остальным. Эта мода не устарела и через двадцать — тридцать лет, когда семья Дёри уже и не жила в тех местах и никто не знал, чем знамениты девушки из этого села. Так уж повелось считать большим шиком, когда севрские чашки на стол, покрытый дамасской скатертью, подавала служанка родом из Оласрёске. Спрос на девушек из Рёске, словно на галочский табак, необычайно повысился. Разумеется, и замуж они выходили быстрее девушек из других деревень; псаломщики, зажиточные ремесленники, да и небогатые дворяне со всего комитата съезжались в Оласрёске на смотрины и выбирали себе какую-нибудь девчонку лет четырнадцати — пятнадцати.
А поскольку все девушки там рано выходили замуж, заполучить служанку из Оласрёске стало очень трудно. Только магнаты типа Шеньеи, Андраши и Майлат могли позволить себе роскошь за баснословные деньги нанять девицу из Оласрёске.
На счастье, и это сумасбродство закончилось, подобно многим другим, а то в наши дни рослые и пышные красавицы из Оласрёске выходили бы замуж только за королей.
Пока Дёри выжидали, господин Перевицкий развил лихорадочную деятельность. Составив и подав в суд каноников ходатайство о расторжении брачных уз, он отправился в Туроц за новыми смазливыми родственницами: каноники тоже люди из плоти и крови (причем, плоти у них в избытке) и могут стать более покладистыми, когда о существе дела им будет докладывать красивая женщина, а не старый адвокат с прокуренными желтыми зубами. Ничто не ускользало из поля зрения Перевицкого. В Вене он держал своего агента, который инструктировал папского нунция, как следует отписать о деле в Ватикан. Другой доверенный человек (тот самый адъюнкт Кифика, что ловко подделывал документы) был отправлен в Вену с наставлением создать нужное настроение среди иезуитских попов, пользовавшихся большим влиянием во дворцах земных владык, в особенности у набожных светлейших княгинь. Но действовал не один только Перевицкий; не дремали и другие. Возвратился из Эгера осыпанный множеством обещаний господин Фаи; господин Миклош Хорват в своих письмах из Буды на имя Фаи тоже сообщал обнадеживающие вести.
«Я встретил здесь могущественного патрона, — сообщал он между прочим, — в лице моего школьного товарища, некоего графа Ласки, генерала в отставке, который каждый день вистует в обществе супруги наместника. Когда он рассказал супруге наместника о возмутительном злодеянии Дёри, названная дама пришла в сильное негодование и заявила своему мужу: «Какой же ты наместник, если у тебя в стране такое творится!» Этот Ласки мой хороший знакомый, в прошлом он довольно известный полководец. Однако наши венгерские патриоты третируют его и обвиняют в том, что он навеки испортил императорскую армию, будучи первым из тех, кто больше заботился о красоте солдат, чем об их храбрости… Я остановился в гостинице «Семь курфюрстов» в Пеште…» и так далее.
Только от Бутлера Фаи не получал никаких известий. Уже прошло несколько недель, а из Пожони не было ни писем с почтовым дилижансом, ни гонца (большие господа в те времена предпочитали посылать вести через гонцов, нежели писать самим). Бездействует мальчик или что-то предпринимает? Впрочем, он не обратил бы на это молчание серьезного внимания, если б депутаты государственного собрания от комитата Земплен, прибывшие на комитатский сейм, не сообщили Фаи, что Яноша Бутлера в Пожони нет и не было. Старик не на шутку встревожился, и хотя как раз в это время начал выступать Ференц Казинци и неудобно было «испариться» из зала, Фаи немедленно приказал заложить лошадей и, нигде не останавливаясь, помчался в Бозош.
— Где граф? — спросил он обитателей замка. Управляющий и лакеи доложили господину Фаи, что его сиятельство граф Бутлер был в имении месяц тому назад, он провел тут всего три дня и уехал.
— Не знаете, куда?
Никто не знал. Кучер, отвозивший молодого графа, рассказал, что доставил его до Капоша, где он и сошел на рыночной площади.
— Ну, а потом?
Кучер, туповатый малый, с трудом ворочавший непомерно большим языком, ни слова не ответил на вопрос Фаи, только выпятил нижнюю губу и пожал плечами.
— Ты что, онемел? — обрушился на него Фаи.
— Ну, сошли, больше ничего.
— Сказал он, по крайней мере, что-нибудь?
Кучер подумал, поскреб затылок.
— Нет, ничего не сказали.
— А потом что ты делал?
— Вернулся домой.
— Почему же ты вернулся домой?
— Потому что они велели мне отправиться домой.
— Значит, он все же сказал тебе что-то, осел?
Фаи задумался. Уж не взбрело ли Яношу в голову осмотреть свой замок в Пардани, или в Розмале, или в Эрдётелеке? Молодые люди охочи до новых впечатлений, вот он, верно, и наслаждается осмотром своих владений.
Фаи приказал разослать столько гонцов, сколько у Бутлера было замков в этой части страны, с наказом отыскать барина во что бы то ни стало и как можно скорее, потому что Фаи будет с нетерпением ждать их возвращения. Кроме того, один всадник был отправлен в Борноц, к Бернатам.
На другой и на третий день гонцы стали возвращаться. Все докладывали господину Фаи, что графа нигде найти не удалось. Эти неожиданные розыски дали обильную пищу для пересудов; стали поговаривать, что молодой граф исчез. А если исчез, значит, наверняка это дело рук барона Дёри! Его люди и прикончили молодого графа. Бедный молодой Бутлер! Что ж, придумано неплохо, теперь из бракоразводного процесса не выйдет ничего, так и останется барышня Дёри вдовой — графиней Бутлер!
ГЛАВА ПЯТАЯ На сцене появляется папаша Крок
Такие слухи повергли Фаи в смертельный страх, да и не только его: почтенный господин Будаи, управляющий имениями, беззаветно преданный этой семье, которой служили еще его предки, тоже не на шутку перепугался. Он почти не знал Бутлера, но с него достаточно было того, что это последний отпрыск рода. Когда останки графа будут опущены в Добо-Рускайский склеп, навсегда исчезнет и фамильный герб: больше уже не увидишь его ни на сбруе лошадей, ни на фронтонах замков, ни на дверцах экипажей — нигде, никогда! Земли графа останутся на месте, только владеть ими будут другие. А это последнее казалось управляющему особенно страшным…
— Нужно что-то предпринять, — проговорил Будаи, которого трясло как в лихорадке.
Фаи уставился на него остановившимся взглядом.
— Что же нам делать?
— Может быть, послать сообщение в комитатскую управу?
— В комитатскую управу? Отправляйтесь-ка вы ко всем чертям, сударь! — вскипел Фаи. — Если б она существовала с сотворения мира, то, поверьте, и по сей день велось бы расследование, кто убил Авеля. К тому же губернский прокурор так бы запутал дело, что вообще не представилось бы возможности разобраться в нем когда-нибудь. Нет, велите лучше запрягать и поезжайте в Унгвар * за доктором: я чувствую, что заболеваю. Это первое.
— Слушаюсь.
— Во-вторых, отыщите там старого горожанина по имени Матяш Крок: он проживает где-то за православной церковью в собственном каменном домике. Этого старика тоже привезите в Бозош.
Управляющий уехал и к концу дня уже вернулся. Двух затребованных господ он усадил в коляску, а себе нанял крестьянскую телегу, сказав, что делает это из медицинских соображений: на него, мол, напала хворь, а на мужицкой телеге ее вытрясет. Доктор пытался увещать Будаи, обещал прописать какое-нибудь снадобье, уверяя, что поездка на телеге не такое уж верное средство, но управляющий перебил его, говоря:
— Прошу прощения, сударь, но я все же лучше знаю, что мне нужно.
Правда, у него хватило догадки запрячь в телегу двух лучших лошадей из господской четверки, а потому в Бозош он приехал на полчаса раньше доктора и Крока.
Встретив его, Фаи недовольно воскликнул:
— Это что еще! Разве я не сказал вам, сударь, кого нужно сюда привезти?!
Но на сей раз управляющий не захотел смиренно выслушивать своего хозяина, а сам перешел в нападение; от гнева лицо его покраснело, как петушиный гребень.
— Да, но почему, сударь, вы не изволили мне сказать, что за личность этот Крок? Разве я мог ехать в одной коляске с таким человеком? Нет уж, скорее я пошел бы пешком, босым и по терновнику! Впрочем, они сейчас будут здесь, они едут в господской коляске.
— Ну-ну, — примирительно заговорил Фаи, которому понравилось в управляющем чувство собственного достоинства. — Ладно, ладно! Но зачем же сразу набрасываться на человека? Вы ведь знаете, какой я раздражительный, когда меня мучат колики. Что касается Крока, то видели ли вы, сударь, как травят сусликов?
— Еще бы не видеть! Заливают их норки водой.
— А кто этим занимается?
— Большей частью валахские цыгане.
— Не правда ли? И было бы по меньшей мере странным, чтобы травлей сусликов занимались сами комитатские епископы. Для нашего дела понадобился Крок, а поэтому будем же снисходительны к нему, бедняге.
Этот Матяш Крок был когда-то в услужении у настоятеля одного из будапештских монастырей, Мартиновича *. В знойные летние вечера слуги, — а было их тогда у Мартиновича двое, — пользуясь отсутствием хозяина, раздевались донага, напяливали на себя просторные одежды настоятеля и резались в «дурака». Особенно им нравилось видеть в зеркале, как два монаха в сутанах дуются в карты. Как-то Мартинович вместе с друзьями вернулся домой ранее обычного; один из слуг, услышав стук хозяина, успел быстро переодеться и бросился открывать дверь, а другой, как раз этот самый Крок, растерявшись, с испугу забрался под кровать. Там он подслушал планы заговорщиков и выдал их венской полиции. Потом он с успехом подвизался в должности тайного полицейского агента и завоевал известность, пока наконец, уже на склоне лет, не приобрел маленькую усадьбу и домик в своем родном городе Унгваре. Правда, здешние жители знали его как «проклятого человека» и не желали общаться с ним.
Матяшу Кроку, человечку небольшого роста, было лет семьдесят от роду. Весь он — волосы, борода, брови, ресницы — был белый, даже глаза его казались какими-то белесыми, однако сверкали, как стекло, и так пронизывали человека, словно в тело собеседника впивались две булавки.
Фаи знал старика уже давно, и хотя начавшиеся колики исказили страданиями его лицо, он постарался приветливо улыбнуться Кроку, когда тот вошел вместе с доктором.
— Добрый день, старина Крок! Ну, как поживаем на этой грешной земле, а? Вижу, вы еще совсем молодец! Черт возьми, вы мне в отцы годитесь, а как сохранились! Здравствуйте, доктор, спасибо, что приехали. Хорошо добрались, не правда ли? Я мерзко себя чувствую, милейший доктор. Присаживайтесь, пожалуйста. Но прежде всего позаботимся о душе. А ведь она-то у меня и больна. Ее лечением займется сейчас старый Крок, а уже потом, доктор, обратимся к бренному телу.
И он, подмигнув Кроку, провел его в один из внутренних покоев.
— Знаете ли вы, папаша Крок, зачем я вас вызвал? Дело в том, что мой приемный сын, граф Янош Бутлер, исчез при весьма таинственных обстоятельствах. Или если не исчез, то, во всяком случае, его нет там, куда я его послал. Крок не проронил ни слова, только моргал своими белыми ресницами да потирал большим пальцем лоб, изрезанный тысячью морщин; от этого поглаживания глубокие морщины, похожие на рубцы, приходили в движение, изменяя выражение его лица.
Фаи рассказал, что Янош вернул из Капоша свой экипаж, не умолчал и о том, что молодой граф еще зелен немного: слишком чувствителен и нерешителен по характеру, однако честен, душа его правдива, а жизнь чиста; он не кутила, не картежник, не распутник, и с этой стороны ему не грозила никакая опасность. Однако есть другая сторона, своего рода маленькая катастрофа, которая произошла на днях.
Папаша Крок кивнул головой.
— Мне известна эта история с Дёри. Впрочем, соблаговолите рассказать.
После того как Фаи сообщил все, что считал существенным, папаша Крок задал ему несколько вопросов.
— Обещал ли граф Бутлер поехать в Пожонь?
— Да, на том мы и расстались. Он сам в этом кровно заинтересован, так как очень любит свою невесту.
— Не у нее ли он в Борноце?
— Нет! Я и туда посылал человека. Кроме того, ему запретили встречаться с невестой, пока не закончится процесс. А Бутлер — рыцарь своего слова, он не станет с ней встречаться.
— Что же думает ваша милость?
— Боюсь что-либо и предполагать.
— Сударь, вы подозреваете, что он покончил с собой, — сказал Крок, вперив в Фаи свой сверлящий взгляд.
— Мне больно говорить, но это не исключено. Юноша мечтателен. Он наизусть знает «Страдания Вертера».
— Чепуха, чепуха! — проворчал себе под нос папаша Крок. — Хорошие книги не убивают человека, скорее уж плохие. А если человеку впрыснут против самоубийства сто пятьдесят тысяч хольдов земли, так он устоит перед любыми впечатлениями, навеянными книгами!
— Итак, вы считаете…
— Я считаю, что вся история выеденного яйца не стоит. В подтверждение этого я мог бы оставить дома своей старухе-один глаз и одно ухо, тем более что она глуха и подслеповата.
— Не понимаю вас.
— Я хочу этим сказать, что вы, сударь, заказываете резчику по дереву топорище, которое мог бы сделать любой деревенский плотник. — И Крок не без достоинства взял понюшку табаку из своей табакерки и втянул в ноздри.
Фаи мгновенно оживился, поняв, что хитроумный сыщик согласен взяться за дело. «Я не пожалел бы сейчас и десяти золотых, чтобы заглянуть в его черепную коробку, — подумал Фаи. — Интересно, столько же извилин у него в мозгу, сколько морщин на лице? И что может таиться в этих извилинах?» Он попробовал выудить кое-что.
— А ну, скажите, папаша, почему вы считаете этот случай таким незначительным?
— Потому что нет никакого случая.
— То есть как это? — изумился Фаи.
— А очень просто! — Вот я спрошу вас, сударь, не теряли ли вы, скажем, ключи?
— Не знаю.
— Ну, хорошо, — выходит, что не теряли. Но если вы начнете искать какой-нибудь из ключей и не найдете сразу, вы тотчас решите, что он потерян. Так или нет?
— Может быть, и так.
— Вот видите! Если бы вы не разыскивали графа, вы не считали бы его пропавшим. А если б сейчас в Унгваре мой кум Лепицкий стал разыскивать меня и не нашел, как вы думаете, ваше благородие, означало бы это, что я пропал?
Фаи всерьез начал терять терпение от такой странной логики.
— Послушайте, папаша Крок, — воскликнул он запальчиво, — не считайте меня одержимым манией преследования. Я же не выдумал этого? По всей округе ходят слухи, что Дёри через своих подручных загубил Бутлера.
Крок рассмеялся.
— Как не быть слухам, если ваша милость с излишней поспешностью начинает поиски и этим будоражит всю округу. Вы роняете маленькое семечко, а сплетня подбирает его и возвращает в виде целого куста. Конечно, сейчас вас терзают ужасные предположения, а по существу ничего не случилось, кроме того, что графа Бутлера нет в Бозоше и где он — неизвестно.
— Все же вы милейший человек, Крок. Вы почти успокоили меня; я даже не чувствую больше колик. Черт бы подрал этого доктора! Уж и не знаю, что теперь сказать ему. — И Фаи озабоченно почесал затылок. — Ну, так вы беретесь разыскать графа? Только втайне, без всякого шума.
— Я берусь за все, что приносит деньги.
— И немедленно приступите к розыскам?
— Немедленно. Но, с вашего разрешения, я хотел бы допросить прислугу замка.
— Готов вам содействовать во всем. Распоряжайтесь слугами, экипажами, лошадьми, только спешите, спешите!
— Через двое суток вы будете знать, где пребывает граф.
— Буду вам крайне признателен… И вы останетесь вполне довольны, папаша Крок. Эхе-хе, что же мне сказать теперь этому доктору?
Папаша Крок без промедления взялся за дело и допросил прислугу замка. Он был ласков и обходителен в обращении, — это покоряло и сразу располагало каждого, с кем он заговаривал. Кроме того, он казался весьма достойным господином и производил впечатление почтенного старца. В его взгляде сквозили кротость и доброта, — господь бог иногда по необходимости и злодеям придает обличие добрых людей. Платье Крока тоже никак не соответствовало его душе: весь он, с головы до ног, был одет как настоящий венгерец, а на сафьяновых сапожках даже позвякивали шпоры. И черт не догадался бы, — если только не сам он скрывался под личиной этого человека, — что Крок был когда-то сыщиком в Вене и что по его вине отправилось на эшафот много венгерских патриотов.
Слуги не могли сообщить ничего существенного. Граф пробыл здесь три-четыре дня и за это время не общался ни с кем из посторонних; не было в замке и гостей.
— Где жил граф?
— В комнатах, что выходят на солнечную сторону.
— Проведи-ка меня туда, сынок, — попросил Крок камердинера.
Папаша Крок перерыл все в комнатах, но ничего не обнаружил.
— Кто здесь обычно подметает?
— Служанка.
— Она красива, сынок?
— Что вы, безобразна!
— Ну, слава богу, — проговорил папаша Крок с наигранным облегчением, — по крайней мере, мне не грозит опасность, если ты пришлешь ее сюда.
Камердинер прыснул со смеху и немного погодя втолкнул в дверь женщину лет шестидесяти, вдову одного из батраков.
— Ну, сестричка, кажись, ты убираешь здесь?
Тут старуха ни с того ни с сего послюнявила пальцы и принялась приглаживать ими волосы на голове.
— Я.
— Не выметала ли ты, сердечко мое, после графа каких бумаг? Изорванных и измятых бумажек, понимаешь, на которых было что-нибудь написано?
— Очень даже может быть.
— Не могла бы ты разыскать их? Коли ты это сделаешь, славной будешь бабенкой!
— Обязательно найду. Весь сор отсюда мы выбрасываем в большой ящик. А здесь так редко приходится подметать, что старый мусор еще и сейчас там.
— Ну-ка, сбегай, душа моя!
И старая карга проворно выскользнула из комнаты; пробегая по коридорам, она не устояла перед искушением расхвалить слугам, толкавшимся без дела, этого любезного старого господина: «И слова и обхождение его такие благородные!..»
Вскоре служанка вернулась и принесла в переднике целую кучу обрывков бумаги. Запершись в комнате, папаша Крок сложил из этих клочков часть письма, гласившего: «Милая Пирошка, удивляюсь, что ты не пишешь. Ведь не запретили же тебе и переписку? Это было б ужасно!» На том письмо и обрывалось. Затем Крок восстановил другой отрывок письма. «Милая моя Пирошка! Днем и ночью терзаюсь я мыслью, что ты меня не любишь, ведь если б любила, то писала бы мне. Ты знала бы, что в моем горе не может быть иного утешения. Неужели тебе запретили переписку? Было бы ужасно…» И это письмо осталось недоконченным. По-видимому, графа не удовлетворяло начало, и он разрывал письма. Таких вариантов Крок нашел около шести: во всех — более или менее складно — излагалась одна и та же жалоба.
И все же одно письмо, по-видимому, удалось Бутлеру, и он отослал его Пирошке. В мусоре нашлись обрывки и другого послания, написанного женским почерком. Папаша Крок склеил и эти клочки и с большим трудом прочел следующее:
«Мой милый племянник!
Молю господа, чтоб это письмо застало тебя в добром здравии. Пирошка больна, твои письма только волнуют ее. Ты же знаешь, какая она, бедняжка, нежная. Пощади ее, если она дорога тебе, и люби ее честной любовью. Не сердись, что я так говорю, мой милый Яника, и что письмо к ней я нераспечатанным отсылаю обратно через твоего верного слугу. Послушайся меня, свою тетку, которая молит о твоем благе господа, подвергшего тебя суровому испытанию. Я не хочу, чтоб на доброе имя нашей кроткой овечки, которая и так достаточно страдает (ведь она и болеет-то из-за тебя, милый сынок), пала хоть часть той тени, которую навела десница Господня на ваше счастье. Правда, счастье может вернуться, и оно вернется: у господа бога ведь две руки, и другая — не бойся, сынок, — не отсохла, и он еще коснется вас ею. Но добрую славу, сын мой, этот драгоценнейший клад каждой девушки, нельзя возвратить. И если она с самого начала окажется запятнанной, то никогда уж не сможет считаться безупречной. Что сказали бы люди, если б Пирошка переписывалась или встречалась сейчас с тобой? Вам-то, больше чем кому-либо, надлежит избегать друг друга. Этого требует и светское приличие, и отец дочери, оставивший Пирошку на мое попечение. Сам он старается для тебя в Буде, и ниспошли ему на это господь сил, здоровья и удачи и избави его и всех нас от лукавого (ты ведь понимаешь, о ком я думаю). Мне больно, что по той же причине я не могу позвать и тебя к нам. А как красив наш сад после вчерашнего дождя! Правда, удача сторонится нас сейчас. Часть фруктовых деревьев вымерзла, а Мотылек — верховая лошадь нашего сына Жиги, прыгая через изгородь, напоролась на кол. Ой, какая суматоха царит теперь в доме! Я даже рада, что живу у Хорватов. Хорошо, если б ты осторожно сообщил Жиге о несчастье с Мотыльком, потому что ни я, ни старик не решаемся написать ему об этом. Тысячу раз целует тебя
твоя любящая тетушка.
Бернат.P. S. Найди в себе силы и запасись терпением, мой милый племянник, думай о том, что и другие люди страдают: герцоги, короли и даже императоры. Все суть черви Господни и подчас не могут осуществить сразу всех своих желаний. Вспомни, как шесть лет тому назад я была прикована к постели из-за воспаления слепой кишки и целых два года потом мне было запрещено притрагиваться к фруктам, а я умирала от желания полакомиться ими.
Кстати, чуть не забыла, повариха Видонка больна рожей; бедная, добрая женщина, вряд ли она выживет.
Еще раз целую.
Она же.»Почтенный Крок не нашел в этих письмах никакой путеводной нити, ухватившись за которую он мог бы распутать весь клубок. Старик сумрачно собрал склеенные письма, чтобы показать их Фаи, который к тому времени уже благополучно отделался от унгварского доктора Гриби. Еще когда он во внутренних комнатах совещался с папашей Кроком, в комнату вбежал садовник, некий Андраш Капор, с горестными причитаниями: его жена при смерти, он слышал, что здесь доктор, так, может быть, доктор даст ей чего-нибудь, если, конечно, барин разрешит.
— Ну еще бы! Конечно, даст. Тем более что сам я уже не очень нуждаюсь в помощи доктора. (Фаи страшно злило присутствие доктора, когда он был здоров, и его отсутствие — когда бывал болен.) Какое счастье! Я хотел сказать, какое несчастье. Идите, идите, милейший доктор, к больной.
ГЛАВА ШЕСТАЯ Гриби
На лице тощего, долговязого доктора появилась кислая мина, когда он узнал о внезапном выздоровлении прежнего пациента и неожиданном появлении нового. Тем не менее он с готовностью отправился к больной, захватив инструменты и сумку, в которой таскал свои испытанные средства от всех болезней. Немного погодя он вернулся чрезвычайно спокойный.
— Ну как, помогли ей?
— Помощь была ей уже не нужна.
— Уж не умерла ли она?
— Несомненно умерла; у нее уже не бился пульс. Фаи не удержался и посетовал:
— Ай-яй-яй, бедная, бедная тетушка Капор! А как хорошо она умела готовить вареники.
Затем, чтобы умиротворить доктора, Фаи распорядился подать на веранду прямо-таки царское угощение. Наступил прекрасный теплый вечер. Пока Крок возился с письмами, они беседовали о том, о сем, а главное — о почившем в бозе докторе Медве, о его чудесном искусстве врачевания.
— Да, да! Мы многому учились друг у друга, — снова и снова повторял доктор Гриби.
Фаи уже начинала наскучивать эта беседа, когда, наконец, послышались шаги и в комнату семенящей походкой вошел папаша Крок, держа в руке письма.
Фаи живо бросился к нему.
— Нашли что-нибудь?
— Почти ничего, единственное, что я узнал, — это что молодой граф уехал отсюда далеко не в хорошем настроении.
— Боже мой! Случилось что-нибудь?
— Соблаговолите прочесть!
Фаи пробежал письма; он был подавлен, руки беспомощно повисли.
— Я же говорил! Меланхолия, чувство неудовлетворенности.
— Совсем не следует сразу предполагать наихудшее. Я немедленно выезжаю в Капош.
— Бог вам в помощь! Сказать, чтоб запрягали?
— Извольте, только я хотел бы задать вам еще несколько вопросов. Нет ли здесь портрета молодого графа? Я ведь незнаком с ним, даже не видел его, а портрет мог бы мне очень пригодиться.
— У меня есть его миниатюра, в медальоне на часовой цепочке. Правда, она слишком мала.
— Не беда. К какому времени относится портрет?
— В марте этого года мы были с Бутлером в Энеде, у смертного одра одной из его теток — от нее он тоже получил наследство, — и там его изобразил в миниатюре на слоновой кости — представьте себе! — двенадцатилетний мальчуган, от горшка два вершка, некий Миклош Барабаш *. Я еще сказал тогда главному королевскому судье, чтоб он упрятал в тюрьму этого щенка: с этаким незаурядным талантом из него обязательно выйдет фальшивомонетчик!
— Разрешите посмотреть?
Фаи отцепил золотую безделушку в виде гильотинированной головы Людовика XVI и нажал пружинку. Голова раскрылась, и в ней вместо мозга (впрочем, его и в оригинале было не так-то уж много) оказалась маленькая пластинка слоновой кости с эмалевым портретом Бутлера.
— Гм, граф — красивый молодой человек! Правда, о его сложении нельзя судить по этой миниатюре.
— Строен, как тополь.
— Эх, будь я таким, — вздохнул папаша Крок, — меньше чем на герцогиню и смотреть бы не стал!
— Я думаю, — машинально ответил Фаи.
— Нет ли иного портрета?
— Нет и, думаю, никогда больше не будет.[91] Он слишком скромен и застенчив; я и так, можно сказать, силком заставил его сесть позировать этому сморчку-художнику.
— Могу я взять с собой портрет?
— Не возражаю, старина, но заклинаю вернуть его мне. А если попробуете присвоить этот дорогой для меня сувенир, — пригрозил господин Фаи, — то к будущей зиме придется вам отрастить порядочное брюхо! (Нужно сказать, что простолюдин мог тогда накопить себе жирок только в тюрьме.)
Папаша Крок угодливо улыбнулся.
— Во всех случаях я сохраню его, а пока хотел бы точно знать еще одно: как был одет граф, когда уезжал.
— Ну, это проще всего! Его камердинер наверняка знает, да и кучер тоже. У него и не было большого гардероба. Я сам заказывал для него костюмы в Патаке. Эй, кто-нибудь! — Фаи хлопнул в ладоши; на зов явилась ключница. — Пошлите ко мне, пожалуйста, камердинера!
Камердинера нетрудно было отыскать: подстрекаемый желанием знать, что происходит, он прислушивался к разговору, прячась за колонной.
— Эй, Мартон, как был одет граф, когда уезжал? Хорошенько соберись с мыслями и изложи этому почтенному господину все по порядку.
Мартон задумался, потом, мучительно напрягая память, стал описывать костюм графа.
— Что же на нем было? Что я ему принес? Были на нем, прошу покорно, серые панталоны, такая же… да-да, такая же жилетка и… Я уже сказал о сюртуке?
— Нет, не сказал.
— И серая жилетка…
— О жилетке мы уже слышали, болван… Да что ты все рот разеваешь, как щука на песке.
В этот момент блуждающий взгляд камердинера остановился на сюртуке доктора Гриби. Мартон неожиданно всплеснул руками, словно гусь крыльями, когда вдруг обрывается бечевка, которой он связан.
— На нем был точь-в-точь такой сюртук! — воскликнул он с жаром. — Если не именно этот.
Доктор покраснел до ушей, а Фаи принялся укорять камердинера.
— Ну-ну, не сочиняй! Такой — может быть; мне тоже что-то припоминается, только не говори, что именно этот. Иначе какая же вера твоим словам?
Но Мартон продолжал подозрительно разглядывать докторский сюртук. Глупые серые глаза камердинера готовы были, казалось, выскочить из орбит.
— А мы сейчас увидим, барин, этот или нет, — защищался Мартон. — Пока граф был здесь, я чистил его сюртук; на локте прожжена дырочка величиной с горошину. Его сиятельство нечаянно облокотился на уголек, выпавший из трубки. И подкладка, я знаю, была порвана. Что ж, посмотрим!
Не долго думая, он подошел к доктору Гриби и без всякого стеснения приподнял за локоть его руку.
— Ну, что я говорил? — воскликнул он торжествующим тоном. — Вот она, дырочка величиной с горошину! Я знаю, что говорю, барин! А теперь посмотрим и подкладку.
Доктор растерялся и покраснел, как рак. Камердинер отогнул полу сюртука.
— Прошу покорно, повернитесь, пожалуйста.
Бедный Гриби, остолбенело стоявший перед камердинером, повернулся, и Мартон показал на длинный шов, стягивавший разорванную подкладку.
У папаши Крока от неожиданности свалились с носа очки; счастье еще, что они не разбились о каменный пол веранды.
— Тысяча чертей! — воскликнул он. — Дело начинает принимать серьезный оборот. Усложняется, весьма усложняется! Тут уж не шуткой пахнет. Ну и прекрасно! Здесь и впрямь нужен настоящий Крок, знаменитый Крок, хитроумный Крок! Где вы взяли это платье, доктор?
Побелевший Фаи дрожал как осиновый лист. Ему ли не помнить этот шов, ведь его жена зашивала Яношу подкладку, когда тот однажды зацепился в саду за сучок.
Доктора бросало то в жар, то в холод, он мотал головой, смущенно пытался объяснить что-то, хотя, видно, и сам не очень-то понимал, что происходит. Но тут Фаи вдруг подбежал к нему и схватил его за воротник.
— Эй, сударь! — загремел он. — Где вы взяли этот сюртук? Дело начинало принимать нешуточный оборот, раз сам Иштван Фаи, могущественный магнат и председатель многих комитатских судов, яростно набрасывается на бедного добряка Гриби, который и мухи-то никогда не обидит. Тут нужно говорить правду.
— Это платье, — заикаясь, пробормотал доктор, — с неделю назад привез мне мой брат, хозяин трактира в Капоше. При его полноте этот костюм не подошел ему, а где он взял его, не знаю.
Лицо перепуганного Гриби дышало такой искренностью, что нельзя было сомневаться в правдивости его слов.
Фаи с глубоким вздохом повалился в плетеное садовое кресло.
— Его убили! — прохрипел он и закрыл лицо руками. Так оставался он с минуту; из-под пальцев его заструились слезы.
Но уже в следующую минуту он поборол свою слабость, вытер глаза и, взяв себя в руки, снова стал таким, каким мы уже видели его однажды: не человек, а сталь. Твердым, отрывистым голосом он приказал камердинеру:
— Скажи кучеру, чтоб немедленно запрягал. Я тоже поеду с вами, Крок. Пусть ко мне зайдет управляющий, я дам ему необходимые распоряжения.
Кучер запряг экипаж; откуда-то, со стороны домика садовника, приковылял на своих толстеньких ножках управляющий.
— Несчастье гораздо серьезнее, чем мы предполагали, Будаи, — проговорил Фаи. — Но, что бы ни случилось, следует содержать все в порядке и поменьше болтать. Оставшиеся яровые нужно посеять, отводный канал на участке у Вереницы — восстановить. Доктора пусть отвезет в Унгвар кучер Йожка. Да, еще эта бедная Капор!.. Похороните ее как следует, при двух попах, в ореховом гробу. Справьте и поминки за счет доходов по имению. Она заслуживает этого: на редкость вкусные вареники умела она стряпать!
— Кто знает, сударь, — простодушно заметил управляющий, — может быть, она еще и выкарабкается.
— Да ведь она уже с час как умерла.
— Кто это — сказал?
— Да доктор.
— Что вы, помилуйте! — возмутился управляющий. — Да она сию минуту разговаривала со мной!
Такое преследование судьбы вывело наконец из себя бедного Гриби. Что до сюртука, то бог с ним, он смирился с этой историей. Но чтоб какой-то профан так принижал его познания, этого он уж не мог стерпеть. Кровь закипела в нем, и с презрением во взоре (однако с достоинством ученого) он заявил:
— Она может разговаривать сколько угодно, и все же она умерла: у нее не было пульса.
Экипаж подъехал. Фаи дружески пожал управляющему руку.
— Смотрите за всем хорошенько, мой дорогой Будаи. Возможно, я не сумею скоро вернуться, но если на троицу приедет из Дебрецена Эжаяш, пошлите мне весточку в Патак. (Известный Эжаяш Будаи * приходился братом управляющему.)
Затем Фаи легко вскочил в экипаж.
— Эй, доктор, доктор! — вдруг крикнул он. — Ну и бестолковый же я! Совсем забыл спросить: какой трактир держит ваш брат в Капоше? Вы, Крок, садитесь рядом с кучером: я один поеду в экипаже.
— Трактир «Гриф», ваша милость, — ответил за доктора Крок.
— Трогай!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ Свадьба в трактире «Гриф»
То, что Фаи усадил «милого старичка» не рядом с собой, а на козлы, вызвало среди челяди большое удивление, так как господин их обычно был чужд всякой кичливости. Обычно, если в доме не было гостей, за господским столом всегда обедал кто-нибудь из доверенной прислуги.
И это не было редкостью в кругу помещиков средней руки. Чаще всего подобная барская милость выпадала на долю какой-нибудь старушки — бывшей няньки барина, барыни или их детей. А уж попав однажды по той или иной причине за господский стол, слуга потом в силу привычки, которую венгры почитали во все времена, занимал это место постоянно. Подобная милость служила признаком добрых отношений между господами и прислугой, а кроме того, такой человек был весьма полезен в доме, потому что, в равной степени будучи близок и к слугам и к господам, знал, чем они живут, ловко умел рассеять тучи и смягчить взаимную их отчужденность.
Четверка лошадей стремительно неслась вперед; так и летели в стороны комья грязи, ибо после продолжительных дождей дорога была порядком грязна. Не умели строить дороги наши предки, «грязь на грязь накладывали»; в сухую погоду пыль стояла здесь столбом, а в сырую — грязь коню по брюхо. Но и наилучшая дорога показалась бы длинной господину Фаи, богатая фантазия которого лихорадочно работала, заставляя тревожно сжиматься его сердце — ведь оно было из такого мягкого золота, что на нем оставляло след всякое прикосновение. Он перебрал в уме все самые страшные беды, которые могли постичь Яноша. Порой он видел молодого графа лежащим глубоко на дне Тисы. Над ним проплывали сомы да осетры; вот они-то, а не старина Крок, наверно, знали, где находится Янош. То вдруг воображение рисовало ему другую картину: Янош падает, сраженный пулей, грабители подскакивают к нему, стаскивают с него одежду, чтобы поживиться хоть чем-нибудь… Нет, любая определенность, пусть самая плохая, лучше такого состояния!
— Эй, Петер, далеко еще до этого самого Капоша?
— Уже въезжаем в город.
Стемнело. Небо было сплошь затянуто тучами, а по земле стлалась густая пелена тумана, так что и в двух шагах уже ничего нельзя было разглядеть.
А жаль! Стоило бы описать городок, потому что в те времена города еще не были однообразны, как солдаты в строю, и не подразделялись на категории. Сейчас в Венгрии три сотни таких Капошей, похожих один на другой, словно близнецы; сотня Лошонцей, десятка два Кашш и наконец мать всех городов венгерских — Будапешт. Только эта мать не из тех, что своих детей вскармливают, а наоборот, сама кормится за их счет, и потому они такие хилые, маленькие, малокровные.
Прежде города не были так похожи один на другой, и путешествие было сплошным удовольствием. Тот, кто посетил много городов, испытывал такое ощущение, словно повсюду в большом мире у него знакомые да земляки, и это по тем или иным причинам доставляло удовольствие. Так, например, в Уйхее человек мог купить хорошее вино, в Тисауйлаке — замечательные щетки для усов, в Кёрмёце — такие кружева, будто и не кружева, а пена морская, в Мишкольце — пышные булки, в Римасомбате — фляжку, в Гаче — сукно, крепкое, как кожа, а в Леве — кожу мягкую, как сукно, в Эстергоме — седла, в Сабадке — фартуки, в Шельмеце — трубки, в Дьёре — складные ножи, в Либетбане — можжевеловую водку.
Теперь любую из этих вещей можно получить в каждом городе, в первой же лавчонке на углу, и совсем не нужно отправляться за ними в далекий путь. Однако следует признать, что предметы эти стали не так добротны, как прежде, и обладатель их не ощущает той радости, какую испытывал раньше, приобретая их во время своих странствований.
Что касается Капоша, то этот город славился ситами и решетами. Если капошское сито привозили красавице, жившей где-нибудь в другом конце Венгрии, она охотно награждала дарителя поцелуем. Сейчас же за него дают лишь восемьдесят крейцеров.
Нет, не так уж плох был мир в старину!
— Петер, знаешь ты, где находится трактир «Гриф»?
— Знаю, ваше благородие.
Экипаж загромыхал по булыжной мостовой. Если по грязи лошади еще могли идти рысью, то по остроконечным булыжникам тащились лишь шагом. Путникам казалось, что они едут целую вечность. Наконец они остановились под аркой ворот трактира. У входа висел маленький колокольчик, который господин Фаи тут же принялся нетерпеливо дергать. Ворота освещал тусклый фонарь. Внешне «Гриф» не производил особого впечатления. Это было длинное, низкое и узкое здание, словно стремившееся врасти в землю. Однако унылым оно выглядело только снаружи, внутри бурлила жизнь: играла музыка, было очень шумно, из открытых окон доносились веселые возгласы.
На звук колокольчика появился стройный парень в национальном костюме: черных суконных штанах и жилетке поверх вышитой рубашки с широкими рукавами. По всему было видно, что он шафер. На спину был небрежно накинут расшитый крученым гарусом доломан, круглую шляпу его украшали искусственные розы; опоясан он был малиновым кушаком в мелких белых цветочках.
— Что, комнату? — спросил он, горделиво выпятив грудь.
— Этого мы еще не знаем, хотелось бы прежде поговорить с хозяином. Где он?
— Сейчас с ним поговорить не удастся.
— А вы кто такой?
— Я-то? Буфетчик.
— Почему ж, однако, нельзя побеседовать с вашим хозяином? — вмешался папаша Крок. — Что, у него язык отнялся?
— Нет, он умеет говорить, и даже очень громко.
— Так уж не сошел ли он с ума?
— Ну, что вы! Только сейчас ум просветляться начал.
Папаша Крок решил, что следует действовать более энергично, и прикрикнул:
— Хватит шутки шутить, пустобрех! Не видишь, что с тобой разговаривает важный господин? А ну, шляпу долой, такой-сякой!
Буфетчик покорно снял шляпу. Он был добрый малый и после такого вразумления сильно смутился.
— Да я ничего, просто малость хлебнул сегодня, — оправдывался он с обезоруживающей улыбкой. — Ведь, по правде-то говоря, дело в том, что хозяин танцует сейчас с госпожой Хадаши, а из нее к тому времени, как новое вино поспеет, могла бы получиться такая трактирщица, что лучше и не надо!
— Что же там происходит такое?
— Свадьба, изволите видеть. — Парень как будто даже удивился, что нашлись люди, не знавшие об этом. — Так точно, свадьба. Хозяин выдает замуж свою младшую сводную сестру, ту, что раньше ведала всей кухней в трактире. А теперь уж, должно быть, там станет командовать госпожа Хадаши, потому что она умеет готовить еще лучше; к тому же Хадаши — вдовушка, дородная и молодая, и совсем не чурается мужчин. Тут, глядишь, дело скоро дойдет и до другой свадьбы. Хоть хозяин порядком-таки жирен да драчлив, однако сердце у него доброе, а это означает, что все может пойти прахом: слишком уж много у него всяких голодранцев-родственников, которые в одну минуту готовы все растащить…
Насколько вначале трудно было заставить веселого буфетчика говорить, так трудно было теперь его остановить.
— Ну, не болтай так много, дружище! Поди-ка лучше скажи своему хозяину, чтоб вышел на минутку.
Буфетчик пожал плечами.
— Не выйдет он.
Папаша Крок даже ногой топнул. На счастье, появился гусар господина Фаи, при пистолете и с саблей, который помогал кучеру во дворе управиться с лошадьми. Крок тут же воспользовался его присутствием, чтобы припугнуть буфетчика:
— Молчать! Прикажите гусару, ваше благородие, отрубить этому болтуну голову, если он еще пикнет. Почуяв беду, буфетчик стремглав бросился в комнаты, но тотчас же возвратился с торжествующим лицом.
— Ну, что я сказал? Так и есть — не идет: хоть сам, говорит, наместник Йожеф его зови!
— Что ж, тогда мы пойдем к нему, — решительно заявил Фаи.
— Вот это другое дело! — радостно воскликнул буфетчик. — С этого и нужно было начинать. Так вам вернее удастся поговорить с хозяином.
С этими словами он проводил гостей в заднюю половину трактира, служившую хозяину квартирой.
Словоохотливый папаша Крок по дороге продолжал расспрашивать буфетчика:
— За кого же выходит замуж младшая сестра хозяина?
— Да за некоего Йожефа Видонку, он открывает в Польше собственную столярную мастерскую. Сегодня же после полуночи он сядет о молодой женой в повозку и укатит.
Господин Фаи вздрогнул, услышав знакомое имя. Так это же тот самый Видонка, который сделал для Дёри подъемную машину! Нити начинают распутываться. Вот где гнездо всех преступлений! Они на верном пути!
— Не он ли работал подмастерьем у столяра в Уйхее? — глухо спросил Фаи.
— Он самый, — отвечал буфетчик, — я давно его знаю. Был бедняк из бедняков, а тут сразу разбогател! И вот женится на Катушке, поскольку давно уже мечтал о ней, поскольку Катушка дочь его хозяина в Уйхее и поскольку мать моего хозяина, вдова Гриби, вторично выйдя замуж, стала женой столяра Одреевича в Уйхее и у них родилась вот эта самая Катушка.
— Вот так дела! — со вздохом проговорил удрученный Фаи.
Они шли по коридору, натыкаясь то на кровать, то на стол или буфет, вынесенные из комнат по случаю свадьбы. Фаи заглянул в зал и застыл у двери. В первый момент ему показалось, что комната не стоит на месте, а кружится вместе со множеством раскрасневшихся танцующих женщин и мужчин, по виду мастеровых, лихо колотивших руками по голенищам сапог. Шелест юбок, подымавших ветер, смешанный запах людского пота, трубочной гари, аромата цветов, украшавших женщин, дым и чад от сальных свечей — все это делало комнату похожей на некое подобие ада.
То здесь, то там вырывался из толпы громкий выкрик, покрывающий общий гул. Ну, прямо вельзевулова свадьба! «Э-эх! У-ух!» — это кто-то выражает свое буйное веселье. Вот слышится приглушенный визг — какой-то кавалер ущипнул свою даму. Ну да ничего… Ноги продолжают выстукивать так, что гудят полы и вздымаются облака пыли.
Женщины машут платочками, стремясь отогнать от себя пыль. Один на столике, в углу комнаты, готовит жженку в глиняной миске; другой подталкивает кружащуюся возле столика плясунью, и у нее от горящего спирта вспыхивает огромный бант; третий хватает кувшин и льет воду на пострадавшую, да так, что мокрыми оказываются головные уборы, по крайней мере, десятка ее соседок. Но и в этом нет большой беды — было б весело!
Тут же меж гостей шныряет пара сторожевых собак, и их никак не удается выгнать на улицу, потому что в доме жарко и двери приходится все время держать открытыми. Только прогонишь собак, они опять тут. И собакам нравится свадьба, хотя то и дело им наступают на лапы и хвосты. Надо заметить, что оскорбления эти они сносят далеко не безмолвно — визжат и оскаливают зубы. Вот не утерпела овчарка Бодри и вцепилась госпоже Лани в ногу (неразумное животное, а понимает, что красиво!). Так что сейчас в кухне госпоже Лани прикладывают к ноге примочки, а шельма Пишта Надь — чтобы ему ослепнуть — торчит там же и подглядывает.
В центре комнаты лихо отплясывает жених — коленце за коленцем и так без остановки, до изнеможения. А Катушка — до чего ж она хороша! — извивается, как змея, венчик на ее головке развязался и повис, но даже это идет к ней. Она то вырвется из рук жениха и, покачивая бедрами, примется отплясывать перед ним, то закружится вихрем, так что и венчик на ее голове завертится, задевая концами всех тех, кто окажется слишком близко.
Кружится, кружится, а затем вдруг нырнет в толпу танцующих. Жених за ней — то догонит, то вновь упустит, подпрыгнет, как козел, хлопнет ладонями по сапогам и, раскинув руки, словно собираясь обнять ее, мчится за нею в танце, мчится и напевает:
Сам я пан, важный пан, Вот, красотка, мой тюльпан.Он то и дело позвякивает деньгами в кармане, а то вынет пару талеров *, подбросит высоко в воздух и, поймав на лету, кидает цыганам-музыкантам:
— Эй, цыгане! Это еще не последние! Поняли?
Монеты пролетают поверх людских голов, — хорошо, что мимо: могли бы попасть кому-нибудь в глаз. А впрочем, тут столько прелестных глаз, что стоит ли говорить о потере одного.
Господин Иштван Фаи почувствовал себя дурно в этом смраде, диком реве и людском водовороте. Буфетчик уже успел скрыться из виду, и Фаи обратился к какому-то мужчине в синей бекеше, что стоял неподалеку и щелкал серебряной крышкой своей трубки, которой, судя по всему, весьма гордился.
— Скажите, пожалуйста, кто тут из них хозяин?
Благообразный господин, к которому обратился Фаи, передвинул чубук трубки в угол рта и показал рукой на одного из танцующих:
— Вон тот, жирный, как боров.
Хозяин трактира действительно был очень толст, пудов этак на двенадцать. Однако лицо у него было такое доброе и даже глуповатое, что Фаи облегченно вздохнул: «Ну нет, этот не может быть убийцей».
От всей фигуры хозяина веяло беззаботным весельем. Его маленькие серые глазки сияли детским восторгом, когда он сверху вниз смотрел на дородную госпожу Хадаши, которую держал обеими руками за талию. У вдовушки были белоснежные плечи и озорные, манящие глаза. «О! Господин Гриби — еще мужчина хоть куда! — как бы говорило все его существо. — Он еще в силе!» Пусть он уж не может лихо отплясывать, как вон тот городской писарь, но все же не сдается: подпрыгивает, трясет своей огромной тушей, вертит вокруг себя свою даму, обнимает, прижимает к себе, а то и в воздух поднимет…
Но вот кто-то взмахнул рукой — скрипки неожиданно умолкли, и кавалеры отпустили дам.
Гриби сердито оглянулся, чтобы узнать, кто это сделал. Перед ним стоял незнакомец, по виду из благородных, голос повелительный. У трактирщика наметанный глаз, он сразу может определить важную персону, — кто знает по каким признакам, но может.
— Мне нужно сейчас же поговорить с вами, господин Гриби.
— Пожалуйста! — бесстрастно согласился хозяин.
— Только место здесь не подходящее. Не найдется ли у вас отдельной комнаты?
— Как вам будет угодно. Правда, у меня ни от кого нет секретов, и я сегодня не обслуживаю приезжих, но поскольку ваша милость…
— Благородие…
— Поскольку ваше благородие посетили мое бедное жилище, где каждый для меня — дорогой гость, я, разумеется, сделаю все, что прикажете. Прошу за мной.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ Папаша Крок распутывает нить
Хозяин трактира снял со стены ключ, зажег свечу, провел господина Фаи в дальний конец коридора и открыл одну из комнат для приезжих. Папаша Крок неслышно, как мышь, следовал за ними — он умел при желании ходить бесшумными шагами. Поэтому Гриби был весьма удивлен, когда, поставив свечу на стол и обернувшись, увидел перед собой уже не одного, а двух неизвестных.
— Это мой человек, — пояснил Фаи.
— А с кем имею честь разговаривать? — спросил трактирщик.
— Иштван Фаи, из Патака.
— Слышал, слышал. Опекун графа Бутлера Парданьского? Чем могу вам служить?
Фаи и папаша Крок напряженно следили за каждым его движением, за выражением глаз, но их тревожные опасения с каждой минутой рассеивались все больше и больше.
«Посмотрим, — думали они, — что ты скажешь, когда мы откроем тебе главное!»
— Скажите, пожалуйста, — высоким голосом, с торжественностью, присущей всем обвинителям, начал Фаи, — каким образом к вам попало то платье, что вы подарили вашему младшему брату — доктору Гриби из города Унгвар?
Крок даже очки протер, чтобы лучше читать мысли на лице хозяина.
Почтенный Гриби зевнул.
— Ох, сколько же раз можно рассказывать эту пустяковую историю! Впрочем, оно понятно, ведь у нас в Капоше большие события редки. Живем потихоньку, вот и нет никаких происшествий. Помирать — и то по целым неделям никто не помирает. Недавно уехал отсюда, из «Грифа», один ученый немец; очень хотелось чудаку посмотреть православные похороны. Я посоветовал немцу подождать, пока умрет кто-нибудь из местных жителей. Бедняга прождал почти две недели, и, надо сказать, пришлось ему немало поистратиться. Просто непостижимо, откуда только эти немцы деньги берут! Каждый день он заявлялся ко мне с упреками: «Что ж это такое, до сих пор никто не умер?» Но чудаку не везло: две недели подряд умирали одни кальвинисты да римские католики. В конце концов он разозлился, стал упрекать меня, будто я дурачу его и специально удерживаю пустыми обещаниями. А позавчера я уж не выдержал и выбросил его из «Грифа» — отослал к моему младшему брату, доктору Гриби, в Унгвар: он-то может превратить живого человека в мертвеца, а я не могу.
Хозяин так был доволен своей шуткой, что его большой двойной подбородок заколыхался от смеха, словно студень.
«Убийца не мог бы так смеяться», — подумал Фаи и тоже улыбнулся: он вспомнил случай с тетушкой Капор в Бозоше.
— Очень хорошо, милостивый государь, — холодно прервал развеселившегося хозяина папаша Крок, пронизывая его взглядом. — Но платье-то как к вам попало?
— Ах да, платье! Это и вправду весьма странный случай! Так вот, остановился у меня дней десять назад один щегольски одетый молодой человек. Ну, в этом не было ничего странного, потому что в «Грифе» в свое время ночевал сам герцог Бретценгейм.
Старик Крок стал уже терять терпение.
— Шут с ним, с вашим герцогом! Не отвлекайтесь в сторону. Мы знаем, что и герцоги спят сами и никто не может за них выспаться. Рассказывайте про платье, разве вы не видите, что мы сгораем от нетерпения?
— Так это ж совсем неинтересно. Я вам говорю, что молодой господин, прибыв в «Гриф» поужинал, лег спать, а утром вышел из комнаты одетый простым подмастерьем. Обычно, если такое и случается, то чаще всего наоборот: подмастерье в одно прекрасное утро превращается в элегантного господина. О таких случаях можно часто слышать в Пеште, где немало больших трактиров.
Господин Фаи покачал головой.
— Непостижимо! Ну, а затем?
В наступившей тишине можно было, казалось, слышать, как бьется сердце старого Фаи.
— Он подошел ко мне… я в то время стоял за стойкой, а Катушка пришла спросить, сколько должен мне Михай Сабо и можно ль им еще отпускать в кредит. Я стал рыться в моих счетах (так ведь до сих пор и не нашел, черт бы его побрал!). И вот подходит молодой человек и дает в счет платы за комнату двадцатку. «Я, говорит, съезжаю». — «Ладно, думаю, я тебе сейчас покажу, как дурачить Гриби!» — и говорю: «Да вы со вчерашнего дня успели преобразиться!» Молодой человек сердито взглянул на меня и ответил, что это его личное дело.
А я опять: «Совершенно верно, только я спросил потому, что вы, я вижу, не взяли с собой прежней одежды. Что мне с ней делать?» — «Делайте, что хотите, — отвечал он, — продайте или поступите с ней, как вам заблагорассудится». На том наш разговор и кончился. Молодой человек ушел, а я эту одежду, поскольку мне она не подходила, хоть и была хороша, подарил своему младшему брату.
— Правильно сделали, — похвалил господин Фаи (чувствовалось, что он с радостью отдал бы господину Гриби для его младшего брата и свой собственный сюртук).
— Вот и все, — закончил почтенный Гриби рассказ об этом странном происшествии.
Господин Фаи радостно схватил большую красную руку трактирщика и крепко пожал ее. Настроение у него улучшилось, словно через какой-то невидимый краник ему вдруг пустили в жилы свежей, молодой крови.
— Вы даже не знаете, господин Гриби, какая гора с моих плеч свалилась! Я ведь ожидал куда более страшных вещей, а это, судя по всему, просто глупость. Ах, шельма! Только бы мне узнать еще, что он задумал! Ну, большое вам спасибо за ваше сообщение, господин Гриби.
— Я охотно рассказал вам все, что знаю, — просто ответил тот.
— Но где он взял одежду мастерового?
— Да у моего кума, портного Бодойи, тот хвастался этим на следующий день.
Господин Фаи повернулся к папаше Кроку, впавшему в глубокое раздумье.
— Слышали, Крок? Надо будет разыскать этого портного: может быть, Янош сообщил ему хоть что-нибудь о своих планах.
Папаша Крок вздрогнул, как человек, которого неожиданно разбудили.
— Понемногу все становится ясным, — пробормотал Крок и полез в карман за табакеркой, чтобы подхлестнуть свой мозг.
— Портной здесь, на свадьбе гуляет, — сообщил Гриби, — если угодно, я его сейчас пришлю.
— Вот это удача! — воскликнул Фаи, от удовольствия даже прищелкнув пальцами. — Теперь мне пришло в голову, что неплохо было б и поужинать. Прикажите-ка, дорогой хозяин, принести сюда еды и вина, да самых лучших, что только у вас есть. Мне хотелось бы также обменяться парой дружеских слов с Видонкой, но это потом, а пока что пришлите портного и ужин.
Слушая эти речи, Гриби с обиженным видом качал головой. Нет, они требуют от него невозможного! Раз господа попали на свадьбу, они должны пить и есть вместе со всеми гостями. Как раз сейчас станут накрывать, и он просит их к столу. По крайней мере, это ничего не будет им стоить, а ужин в отдельной комнате обойдется гораздо дороже, хотя и напитки и кушанья подаются туда не первосортные.
— Благодарим за любезность, хозяин, но если вы пришлете что-нибудь получше, то и здесь будет превосходно.
— Все, что есть наилучшего, будет подано на свадебный стол, — хмуро отвечал господин Гриби. — Я знаю, что такое честь, и понимаю разницу между гостем — хоть званым, хоть и незваным — и случайным проезжим. Да иначе и быть не может.
Господину Фаи пришлось поистине пустить в ход все свое красноречие, чтобы уговорить хлебосольного хозяина (как он не похож на своего младшего брата, доктора! Вот что значит не испорченный науками человек!). Им, мол, еще нужно будет посовещаться в этой комнате; у них еще много дел. Кроме того, люди они пожилые, усталые и т. д. и т. п.
Наконец с большим трудом хозяин согласился с доводами Фаи и сказал, что распорядится насчет ужина и пришлет своего кума, добавив, однако, при этом: «Если тот захочет прийти», — потому-де, как говорит пословица, — каждый портной из себя барона корчит.
Но дворяне города Капоша не придерживались этой пословицы и сильно обижались на Бодойи за хвастливую вывеску, которую он прикрепил над дверью своей мастерской напротив «Грифа»: «Дворянин Мате Бодойи де Бодоло и Рина, портной». По мнению городских дворян, портняжное дело было унизительным для их сословия, хоть они и сами были ремесленниками — изготовляли сита и решета, что, однако, не являлось, на их взгляд, столь зазорным, как ремесло портного. Ведь сито в конце концов — игрушка для женщины, его может взять в руки и королева, а шить штаны… да еще штопать их!.. Нет, это уж самое последнее дело! Позор, видит бог, позор! И еще изобразить такую вывеску — с указанием полного дворянского титула! Поэтому они добавили к титулу портного еще два слова и называли его между собой: «Де Бодоло и Рина, утюг и парусина».
Немного погодя в дверь постучали. Это пришел господин Бодойи. Едва он переступил порог, как Фаи узнал в нем того самого человека благообразной внешности, у которого он спрашивал, как найти хозяина.
Портной знал мало; однако и то немногое, что было ему известно, он сообщил с необычайно важным видом. Молодой человек действительно заходил к нему несколько дней назад под вечер, когда уже пригнали коров («Я как раз хлопотал с ними, потому что у меня их, слава богу, шесть штук»), выбрал себе черную куртку с мелкими пуговицами и застежкой из плетеного шнурка, какие обычно носят молодые мастеровые; черные штаны и жилетку. А поскольку господа хотят полной ясности относительно происшедшего, он может добавить, что одежда на молодом человеке сидела так, словно именно на него была сшита, и что молодой человек расплатился за нее сполна.
— Ну, разговор этот нам ничего не дал, — заметил господин Фаи, когда портной удалился. — Однако послушайте-ка, папаша Крок. Вы человек умный, опытный сыщик, что вы думаете обо всем этом теперь?
— Во-первых, что графа не убили и что он не покончил самоубийством, ибо для самоубийства не нужно менять одежду.
— Я того же мнения. Слава богу, что нам хоть это удалось установить.
— Что касается меня, — продолжал папаша Крок, — то я знаю гораздо больше. Я знаю, например, где он и что делает.
— Что вы говорите! — воскликнул Фаи, с сомнением поглядев на своего собеседника.
— Знаю совершенно точно. Только я хотел бы задать вам, ваше благородие, один вопрос. Есть у садовника в бозошском имении подручный?
— Нет.
— Это вы совершенно точно знаете? Подручный по фамилии Михай Вереш?
— Нет, раз я говорю.
— Ну, так пусть меня съедят кошки, если господин граф в эту самую минуту не работает в помощниках у садовника под именем Мишки Вереша!
— Неужели? Да полноте, папаша Крок! С чего бы это взбрело мальчишке на ум? И потом, откуда вы можете все это знать?
Он с подлинным изумлением смотрел на маленького человечка, кружившегося по комнате, суетливо размахивающего руками и смешно морщившего свой озабоченный лоб.
— Откуда? Из тех клочков бумаги! Среди них я нашел документ на имя помощника садовника Михая Вереша, подписанный графом и заверенный его печатью. Но так как печать на документе вышла плохо, граф разорвал бумагу и, по-видимому, написал другую. Тогда я не придал большого значения этой бумажке и даже не склеил ее обрывков.
— Возможно, так оно и есть. Но где же Янош сейчас? Как вы можете знать, где он?
— Он может быть только в двух местах: либо, чтобы способствовать успеху процесса, устроился под чужим именем помощником садовника к Дёри и там втайне следит за своей «женой», либо же в этом же обличье лишь наблюдает за действиями противника.
— Гм, это было бы неплохо. Однако — juventus ventus, — можно ли ожидать от него такой прыти, такой изобретательности.
Папаша Крок самодовольно ухмыльнулся.
— Могло быть и вот что. Прочитав письмо госпожи Бернат и узнав, что мадемуазель Пирошка больна, а старого Миклоша Хорвата нет дома, граф решил, подобно сказочному принцу, поискать работы при дворе своей возлюбленной. Сбрил бороду, подстригся, чтоб его не узнали, и бродит ночью под окном своего недосягаемого кумира, строя различные планы и ловя момент, чтобы хоть издали взглянуть на нее.
Господин Фаи живо вскочил, стукнув по столу широкой ладонью.
— Довольно, довольно, папаша Крок! — восхищенно воскликнул он. — У вас ума палата! Нет никакого сомнения, что граф Янош находится в Борноце. Это так же точно, как то, что я сейчас пущусь от радости в пляс. Даже с этой, как ее, вдовушкой Хадаши. Черт меня побери, если я этого не сделаю!
С этими словами он схватил шляпу и направился к выходу. Уже в дверях он обернулся и сказал Кроку:
— Быстренько поужинайте, Крок, потом немедля берите мой экипаж и поезжайте в Борноц за графом Яношем. Скажите, что я приказал ему тотчас же возвращаться вместе с вами. А я пойду на свадьбу, у меня есть еще одно важное дело.
Проходя по темной веранде, он с благодарностью поднял взор к небу, откуда мириады звезд ободряюще глядели на него, словно хотели вселить в него надежду.
— Глупый мальчишка! — вздохнул Фаи. — Вот так же и пчела: бьется, бьется в закрытое окно, за которым стоит цветок, полный нектара. Эх! А ведь окно-то открывается изнутри!
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Настоящая коровка
Фаи вынашивал в своей голове хитрый план. Он был уверен, что Дёри дал Йожи Видонке денег и теперь отсылает за границу, чтоб лишить Бутлера самого важного свидетеля. Значит, барон не доверяет Видонке. Из этого следует, что Дёри не теряет времени даром: он выставит лишь тех свидетелей, в которых уверен и которые, все как один, покажут на суде каноников, что обряд бракосочетания был совершен по всем правилам.
При таких обстоятельствах было б непростительной беспечностью упустить этого единственного ценного свидетеля, дав ему возможность уехать в Польшу или даже в Америку. Наоборот, любой ценой надо заполучить Видонку и крепко держать его в своих руках. «Это знамение господне, — думал Фаи, — что Видонка встретился мне на пути».
Вот почему он так спешил к гостям, оставив в одиночестве старика Крока. Почтенный господин Гриби очень обрадовался, увидев Фаи (трактирщик с первого взгляда понял, что этот благородный господин — славный человек). А когда Фаи, присоединившись к гостям, пригласил на чардаш вдову Хадаши, Гриби готов был отдать за него жизнь. Фаи едва дождался минуты, когда смог отозвать жениха в угол, чтобы немного позондировать почву.
— Я слышал, молодой человек, что вы покидаете страну?
— К сожалению, да. Но что может поделать бедняк!
— Жалко, что такой молодец, такой на диво способный мастер уезжает на чужбину.
— Да, очень жалко, — согласился польщенный Видонка.
— Я слышал о вас много хорошего.
— Значит, правду говорили. Но что из того? Надо уезжать. Раз нужно, значит нужно!
— Я вот, между прочим, ничего не жалею для того, чтоб помочь отечественным талантам. Что бы вы сказали, если б я пригласил вас в свое имение столяром? Жалованье положу вам приличное. Только работайте, развивайте свои способности и знания.
— Я заплакал бы от досады, но все же ответил, что должен уехать. Лучше не бередите душу, ваше благородие.
Фаи ринулся в бой. Он знал, что сейчас борется с Дёри; это — битва, а на войне все средства хороши.
— Послушайте, а как было б чудесно! Вы жили бы в замке со своей молодой женой, чувствовали бы себя таким же господином, как и управляющий, лакеи звали бы вас не иначе, как «ваша милость».
Видонка вздохнул.
— В имении есть роща вековых ореховых деревьев; таких, что и трое мужчин обхватить не смогут. Можете рубить любое из них и мастерить, что только на ум взбредет.
Видонка застонал. Лицо у него исказилось от боли.
— А потом, одно дело сколачивать ящики да сусеки польским мужикам, а другое — мастерить золоченые шифоньеры, в которых герцогини и графини хранят свои шелковые юбки.
Видонку даже в дрожь бросило. Разбуженное тщеславие овладело всем его существом.
— Кроме большого жалованья наличными, вы будете получать сало, хлеб, дрова. За каждую удачную вещицу, сделанную вами, — еще по нескольку золотых; а сверх того вашей жене я подарю корову.
«Что такое? Корова для Катушки? Настоящая корова, которая будет есть господское сено, а молоко давать нам? Может быть, пеструшка? Конечно, и с большим выменем и пуговицами на рогах, чтоб не забодала Катушку…» Это окончательно сразило Видонку. На глазах у него выступили слезы, они струились все обильнее, а так как начало сказываться выпитое в изрядных количествах вино, то вскоре Видонка сам заревел, как корова.
— Невозможно, никак невозможно, — скулил он, захлебываясь от слез. — Я уже продан.
Господин Фаи не выразил ни малейшего удивления.
— Не беда, мы вернем деньги тому человеку.
Видонка на минуту задумался, по лицу его было видно, что его терзают сомнения. Потом он безнадежно махнул рукой.
— Это не поможет. Все кончено. Тому, кто меня купил, все подвластно. И если уж он что сказал, значит, так и сделает: придет с ружьем и — бум! — выпалит в меня. Фук! — вылетит из меня душа! И уж никогда не бывать мне почтенным столяром в имении, а Катушке — моей женой.
— Ну, положим, это не совсем так, потому что твой могущественный господин страшен только у себя дома, для своей челяди, да, может быть, еще в окрестностях. Но там, куда я увезу вас, есть другой человек, во сто крат могущественнее; перед ним хозяин твой столь ничтожен, что на него даже собаки лаять не станут.
Как известно, господин Фаи обладал большим красноречием и умением убеждать собеседника (недаром, будучи вице-губернатором, он пользовался такой популярностью). Он окончательно сбил с толку бедного Видонку; после этого разговора парень растерянно бродил среди гостей, кружился, как бьющаяся о стекло муха. Но Фаи все казалось недостаточным: чаша весов еще не склонилась в его сторону, а пока только колебалась туда-сюда. Фаи чувствовал, что нужно бросить еще одну гирю. Он втянул в дело и Катушку и господина Гриби, сильно раздразнив их своими предложениями; все трое начали оживленно перешептываться. Катушка и Гриби по очереди пытались уговорить Видонку, внося суматоху среди собравшихся. На гостей подавляюще действовала сумятица в доме хозяев. Они спрашивали друг друга: «Черт возьми, что с ними случилось? Вы ничего не слышали, куманек (или кума)?» И шафер Видонки, косой гайдук барона Дёри — Гергей (правда, здесь он был в господском платье и выдавал себя за губернского присяжного заседателя) учуял своим собачьим нюхом, что творится что-то неладное. Однако стоило ему подойти к группе возбужденно беседующих гостей, как те переводили разговор на обыденные темы. Словом, чаши весов колебались до тех пор, пока на прекрасных глазах Катушки наконец не показались слезы — первые слезы после замужества. Какой огромной всесокрушающей силой обладают эти слезы! Одна слезинка оказалась достаточно весомой, чтобы решить все; она выкатилась из-под пушистых черных ресниц, и чаша весов сразу перетянула в пользу нашего достойного Фаи!
Около полуночи он вернулся в свою комнату, но раздеваться не стал, а принялся ждать, зная, что семя, брошенное им, даст всходы. Поэтому он ни капельки не был удивлен, когда дверь тихо отворилась, и Видонка, осторожно проскользнув в комнату, бросился перед ним на колени.
— Я пришел, мой дорогой патрон, чтобы изъявить свое согласие на все, что вы изволили мне предложить. Господь не наделил меня храбростью, но жена моя отдала мне свою, и вот я осмелел и соглашаюсь на должность титулованного господского столяра и на корову. Но это не все, потому как на шее моей сидит злой дух. Настоящий дьявол. Видонке не под силу стряхнуть его. Кроме того, я дал зарок: правда, боженька, возможно, даже и не слышал его. А если не слышал, то, значит, и простит. Только вот злой дух — от него не отделаешься!..
Затем Видонка признался, что Дёри дал ему тысячу форинтов и обещал еще две: на них гайдук Гергей купит ему в Польше дом и мастерскую. Этот Гергей сегодня ночью отвезет его на крестьянской телеге, которая уже нанята и стоит под навесом. А две тысячи форинтов зашиты в жилетном кармане Гергея. Видонка не умолчал и о том, что поклялся перед Дёри на распятии: пусть покарает его господь, пусть земля не примет его прах, если он раньше, чем через двадцать лет, вернется из Польши, где будет жить под чужим именем! (Однако если он совсем не поедет в Польшу, то, значит, не сможет и вернуться оттуда, а тогда не нарушит и зарока.) Но его зарок — пустяки, вся беда в той клятве, которую дал Дёри: он поклялся, что если встретит где-либо Видонку, то застрелит на месте. Конечно, если он нигде его не встретит, то и не застрелит. Этого тоже можно избежать. Но вот злой дух, которого Дёри приставил к нему, — это уж в самом деле большая опасность! Зловредный гайдук повсюду шныряет за ним и следит за каждым его движением. Против него досточтимому патрону и следовало бы что-нибудь предпринять — тогда дело в шляпе!
Фаи призадумался; он досадовал, что отослал свой экипаж.
— Есть ли у трактирщика повозка? — спросил он.
— Есть.
— Ну, так дело проще простого. Нужно подпоить этого дьявола Гергея; тем временем хозяин запряжет повозку и будет ждать с ней где-нибудь в городе, в условленном месте. Заблаговременно на нее погрузят все сундуки и перины новобрачной. А сама она, ни с кем не простившись, выйдет будто для того, чтобы прикорнуть немного. Мой гусар будет ждать ее на улице перед «Грифом» и проводит до повозки.
У Видонки зубы застучали от страха.
— Ай-яй-яй! Ночью? Гусар? Молодая женщина? Нет, на это я не согласен! Что невозможно, то невозможно!
— Эх, что за глупая ревность! Ведь гусар-то — старая развалина.
— А как бы сначала взглянуть на него?
Тогда придумаем другой план. Выходите-ка потихоньку, словно идете на кухню или в сени целоваться, как это бывает в подобных случаях.
— Бывает, бывает! — радостно подтвердил Видонка, сверкая глазами. — Мы уже раза два выходили сегодня.
— Ну вот, а теперь вы пойдете не в сени, а прямо к повозке, куда отведет вас гусар; сядете на нее — а там ищи ветра в поле! Даже ни разу не остановитесь до самого бозошского замка. Гайдук же мой отвезет управляющему письмо, чтоб тот снабдил вас всем необходимым, немедленно обставил жилье и защитил вас от кого бы то ни было.
— А Гергей? — спросил Видонка, волнуясь.
— А Гергей сперва хватится вас, потом начнет искать, — а вас и след простыл. Добыча уплыла из-под носа!
— А если он кинется за нами?
— Пусть только попробует! Ручаюсь, что домой его отнесут на простыне: я прикажу управляющему, чтоб всыпал ему хорошенько, и Гергей, пока жив, будет помнить об этом! Управляющий у меня такой аккуратный человек, что и проценты выплачивает сразу же.
Видонка расхохотался, ему начинал нравиться такой оборот дела. И он решительно протянул руку:
— Ну, хорошо! Вот вам моя честная рука.
Последовало рукопожатие, и на лице Фаи заблистали лучи радостного удовлетворения. Он глубоко вздохнул, как человек, выполнивший тяжелую работу. Довольный, он подумал: «Ну, теперь процесс мы выиграли! Хотел бы я, чтоб Перевицкий видел, на что способен бывший вице-губернатор». Господину Фаи, разумеется, было уже не до сна. Впереди предстояло еще много дел: договориться с Гриби о повозке, дать указания гусару, написать письмо господину Будаи.
«Domine delictissime.[92] Мой верный друг!
Я нанял мастера Видонку на должность столяра в моем имении. Он будет нашим свидетелем на процессе; поэтому-то барон Дёри своими подлыми махинациями и хотел удалить его с наших глаз.
Позаботьтесь, delictissime, о том, чтобы наилучшим образом обеспечить его и жену; пусть катается как сыр в масле, и пусть все называют его «ваша милость». Такового, конечно, я не мог бы нанять себе де-юре, однако все же нанял, ибо этого требуют интересы дела. Берегите его как зеницу ока, так как возможно, что его будут преследовать, может быть даже попытаются переманить.
Obligatus servus.[93]
Стефанус Фаи де Фаи.P. S. Граф Янош, уехавший по своим любовным делам, нашелся, черт возьми!»
Покончив с письмом, Фаи продолжал бодрствовать до тех пор, пока все не совершилось (после двух часов ночи) так, как он предвидел и наметил.
Тогда он запер дверь, заткнул окно подушкой, чтобы заглушить звуки музыки, разделся и вскоре преспокойно заснул. Ему приснилось, что он — маленький мальчик и находит яйцо дикого голубя. Задыхаясь от радости, он несет яичко домой. Там он, к великому своему удивлению, встречает господина Перевицкого, который вдруг превращается в наседку. Она долбит яйцо клювом, раскалывает скорлупу надвое, и из яйца неожиданно выпрыгивает уродливый черный котенок. Громко мяукая, он бежит к Фаи, стучит лапками так, словно это совсем и не кошачьи лапки, а четыре маленьких молоточка.
Тут Фаи проснулся.
Солнце уже было высоко в небе и заглядывало в комнату через окно, неплотно заткнутое подушкой.
В дверь кто-то действительно стучал. Как хорошо! Значит, черный котенок только приснился!
— Войдите!
— Это я, дорогой опекун.
— Ах, так ты здесь, черт возьми. Не миновать тебе головомойки! Сейчас открою, блудный сын!
Фаи открыл дверь, и взору его предстал мастеровой парень, такой красавец, каких изображают лишь на медовых пряниках и какие в жизни встречаются очень редко, ибо ремесло накладывает на человека свой отпечаток. Мясник толстеет, отращивает второй подбородок, физиономия его лоснится — говорят, от испарений теплых мясных туш, когда он сдирает с них шкуру; портной худеет, глаза у него западают, спина сутулится; от могучих ударов кувалдой на лбу у кузнеца собираются морщины и резче обрисовываются скулы. Словом, каждая профессия накладывает на человека свой отпечаток. Как раз вчера на свадьбе кто-то рассказывал, что в Дебрецене недели две назад сошел с ума ученый профессор, ломавший себе голову над тем, почему все подмастерья сапожников веселые, а сами сапожники мрачные.
Бутлер выглядел очень привлекательно в этом простом суконном платье, в сафьяновых сапогах, с загорелым лицом. Фаи вдруг испуганно попятился: ему пришло в голову, что если Бутлер в таком виде поедет в Бозош, то «его милость» Видонку бросит в жар от ревности и он, чего доброго, еще сбежит со своей Катушкой.
— Ну-ну, входи, садись!
На этот раз объятий не последовало. Фаи даже руки не подал Яношу; он умылся, принялся одеваться, а сам тем временем все ворчал и бранил молодого графа:
— И какую же ты опять выкинул глупость! Если старый Хорват узнает об этом, он рассердится и бросит тебя на произвол судьбы. Ты же знаешь, какой это странный человек. Да и в глазах всех ты предстанешь в невыгодном свете. Создастся мнение, что у тебя слабый характер, что в тебе нет мужественности. А сколько ты упустил за это время! Разве ты забыл мой наказ? Ты должен был попасть в Пожонь и заручиться поддержкой всех собравшихся там сановников, магнатов и святых отцов из высшего духовенства. А ты вместо того едешь вздыхать и бренчать на гитаре. Но пока ты сторожишь возлюбленную в Борноце, здесь ты проигрываешь процесс, а следовательно, теряешь и девушку. Нет, приятель, так тебе не добиться счастья на этом свете!
Бутлер виновато опустил голову и молчал.
— А теперь ищи-свищи депутатов! Их и след простыл, если только не считать следов, оставленных их узловатыми пальцами на пожоньских карточных столах. Сейчас начались полевые работы, и они разъехались по своим имениям. Да и независимо от этого, как можно было так поступать? Разве это достойно венгерского магната? Кто ты — комедиант, или горный разбойник, или эзоповский волк, который столько раз меняет шкуру, сколько ему нужно? А потом — и это самое ужасное — разве достойно кавалера компрометировать невинную девицу? Эх, Янош, Янош, и как тебе не подсказала этого душа дворянина! Как глубоко, должно быть, заснула она!
— Я не совладал со своим сердцем, — глухим голосом ответил Бутлер. — Мне написали, что она больна, и я почувствовал, что умру, если не буду близ нее.
— Глупости! Отчего тебе умереть? Видел ли ты когда-нибудь, чтобы кувшин раскалывался оттого, что не может стоять рядом с резедой в горшке?
— Клянусь вам, мой опекун, что я не имел намерения с ней встречаться! Мне лишь хотелось поминутно знать, как она себя чувствует. Ведь я так несчастен!
Он поднял свои красивые глаза, и в них было столько грусти, столько тоски, что старик пожалел его и начал потихоньку сдаваться.
— Все ты выдумываешь себе несчастья! Таково уж свойство влюбленных. А ведь любовь — большое богатство, глупенький ты! Только она не удовлетворяет полностью. Влюбленный никогда не чувствует себя настолько счастливым, чтоб не испытывать потребности еще в чем-то. Но может ли он считать себя несчастным, если хранит в душе самое заветное, чего не променяет ни на какие сокровища мира?
Мудрые слова Фаи действовали на Бутлера, как бальзам: он смиренно кивал головой, покрытой дорожной пылью.
— Ну, разве я не прав? Ведь ты бы ни за какие богатства на свете не согласился потерять маленькую Пирошку. Разве ты согласился бы, чтоб она любила не тебя, а другого? А? Молчишь? Вот и выходит, чудак ты эдакий, что ты счастливый человек.
Затем, просунув руку в жилетку, он потянулся к Яношу и ласково щелкнул его по голове. Тот сразу заулыбался, ибо это означало полное примирение, к тому же Фаи удалось убедить Яноша в том, что он и в самом деле счастлив.
— Но ты видел ее, по крайней мере? — стал расспрашивать Фаи немного погодя уже шутливым тоном.
— Что вы! Она с тех пор не вставала с постели; сегодня ей впервые разрешили подняться на полчасика и посидеть у окна. Я уже давно мечтал об этом дне, но проклятье тяготеет над Бутлерами: надо ж было моему опекуну именно сегодня послать за мной этого типа.
— Крока? Что правда, то правда! Где ты оставил старика?
— Он пошел завтракать в столовую.
— Ну, братец, не из веселых нашел ты себе развлечение — подстригать деревья, сажать, копать, мечтать. Удивляюсь, как ты еще не сбежал.
— Напротив, я был вполне доволен, потому что от горничных постоянно слышал о Пирошке. Они передавали, что в бреду она говорила о своем женихе, о том, как путешествовала с ним на кораблях, на плотах, парила в облаках, взбиралась к солнцу. До чего сладко было мне слушать все это.
— Так… Ну, а чтобы получать известия, ты, ловелас, конечно, волочился за служанками, признайся?
— Как могли вы предположить такое! — запротестовал граф Янош.
— Ну-ну, не сердись, Иосиф Прекрасный! Я не хотел тебя обидеть, хотя, если уж правду говорить, кот котом и останется, — такого мнения я всегда придерживаюсь. Правда, не всякий кош сожрет мышь — иной с ней только поиграет… Не так ли, а?
От таких святотатственных слов Бутлер покраснел до ушей и отрицательно покачал головой.
— Ладно, ладно, оставим это, — примирительно сказал Фаи, — я ни о чем не сожалею. Мне было бы неприятно, если б тебя кто-нибудь узнал там.
— Я даже близко не подходил к дому, разве что ночью, потому что тетушка Бернат все время там вертелась, и я боялся, как бы она не узнала меня. Правда, раз я чуть было не поддался искушению.
— Ах, скажи пожалуйста! Все-таки поддался?
— С тех пор как Пирошка начала поправляться, садовник каждый день подбирал для нее букет и посылал со служанкой. И вот я задумал собрать букет и спрятать в нем записочку. Но мой хозяин оттолкнул меня да еще сказал: «Убирайся, балбес, что ты в этом смыслишь?»
— И ты не наградил его пощечиной?
— Я все терпел, лишь бы быть там, лишь бы меня не прогнали с места.
— Ну, а как же тебе удалось уехать?
— Садовник не хотел меня отпускать; дескать, теперь, когда он обучил меня делу, я должен пробыть у него, по крайней мере, год. Тогда этот Брок или Крок — чертовски хитрая бестия! — шепнул садовнику, что он, Крок, тайный полицейский агент, и даже показал документы. А про меня сказал, что я знаменитый Деметер Бавтя из разбойничьей шайки Яношика. Узнав об этом, немец — садовника звали Мюллером — пришел в ужас и сразу же рассчитал меня, заплатив за то время, что я пробыл у него, четыре монеты по двадцать крейцеров.
— С собой они у тебя? — спросил Фаи, который в это время стоял перед зеркалом и возился с пробором: неторопливым движением он разделял посредине свои серебряные волосы.
— Здесь, у меня в кармане.
— Хорошенько храни их, мой сын, а когда придет время, передай их своей невесте, — взволнованно проговорил Фаи, — ибо, скажу я тебе, этими четырьмя монетами ты сильнее привяжешь к себе девушку, если у нее доброе сердце, чем всеми поместьями Бутлеров.
— Я так и сделаю, мой опекун.
— Хо-хо, постой! Ты сделаешь это лишь тогда, когда я тебе разрешу, не раньше. Вообще же у меня есть к тебе серьезный разговор, граф Парданьский!
Лицо Фаи приняло торжественное, почти величественное выражение, а голос зазвенел нежно и мягко, как церковный колокольчик.
— Пообещай мне, дай мне слово дворянина, что ни в каком обличье ты больше не попытаешься приблизиться к своей Пирошке, пока я не позволю тебе. И на сем — мир! Никогда не будем больше вспоминать об этом маленьком инциденте и никому не станем рассказывать о нем.
Бутлер протянул руку.
— Как она дрожит! — сказал Фаи.
— Пусть дрожит. Раз я даю руку, я сдержу обещание.
— Я знаю. Возможно, тебе не придется долго ждать, ибо мы-то не теряли здесь времени даром, подобно тебе. Если б ты только знал, к каким изощренным уловкам прибегнул я сегодня ночью, чтоб удержать в качестве свидетеля словацкого парня — того, что сделал подъемную машину в замке Дёри. Дома я расскажу тебе все подробно. Я наобещал ему золотые горы, и рай земной, и даже дворянство, — хотя ты знаешь, как я сердит на словаков после того, как они съели мои тюльпанные луковицы. Но так нужно было! И сейчас этот парень, слава богу, уже у нас дома, в Бозоше. Да и в остальном наши дела обстоят неплохо. Архиепископ Фишер пообещал мне, что примет твою сторону, будущий тесть твой заручился поддержкой наместника, а Перевицкий разъезжает от Понтия к Пилату и пишет, что через три-четыре месяца можно ожидать приговора. Словом, пока я жив, — не бойся!
Бутлер просиял: опекун вдохнул в него новую надежду. Он бросился к Фаи и, склонившись перед стариком, поцеловал ему руку.
— Всей моей жизни не хватит, чтоб отблагодарить вас за го, что вы для меня делаете!
— Да что ты! Я же не поп, — запротестовал Фаи, нахмурившись. — За что ты должен меня благодарить? Не такой уж я глупец, чтоб ломать себе голову и лезть из кожи вон ради твоей благодарности. Меня ждет за это особая награда. Видишь ли, всякий раз, когда мне удается осуществить подобную виртуозную комбинацию, как с этим Видонкой, мне представляется, что моя сестричка Мари, твоя мать, смотрит на меня с небес и говорит там твоему отцу: «Ну и шельма же этот старый Пишта!» И при этой мысли я всегда так смеюсь, так смеюсь.
Он и впрямь попробовал изобразить улыбку и до тех пор растягивал рот и щурил глаза, пока в них не сверкнули вдруг две крупные слезы.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Невидимые руки
Шумят еще леса на унгских холмах, но уже не так, как в ту пору, когда к лесному шуму примешивались громкие вздохи Бутлера.
Много деревьев погибло с тех пор и мало выросло. Стареет земля, остывает. Исполины-животные, могучие деревья и большие страсти покидают ее.
Но ведь еще свивают гнезда птички, еще поют они и чирикают о любви; еще проносятся над Бозошем летящие в сторону Борноца божьи коровки. А есть ли кому до этого дело?
То здесь, то там можно еще увидеть опрокинутый межевой камень с высеченной на нем большой буквой «Б». Но означает ли он сейчас что-либо? Под плугами бозошских пахарей нет-нет да сверкнет блестящая пуговица или пряжка или вывалится из вспоротой груди кормилицы-земли полуистлевший каблук барского сапогами крестьянин, бредущий за плугом, вздохнет: «Э-эх, может, этот сапог принадлежал графу Яношу!»
А затем будут складывать легенды о добром старом времени, как и что было тогда! Как наезжали сюда экипажи и коляски с форейторами и грумами. Даже сам король не носит сейчас такой одежды, в какой разгуливали в те времена гусары Бутлера… Вспомнят о том, о сем, об этом грандиозном процессе и о многом, многом другом.
В ту пору даже крестьянин был сам себе хозяином. Особенно когда дело касалось топки печей. Нынче у нас уж и дров-то не осталось, а тогда повсюду валились деревья, срубленные в барском лесу. Истребление лесов начал еще почтенный Будаи. Каждый, кому было не лень, со всеми своими домочадцами тащил к себе сваленное дерево, и никто не спрашивал крестьянина, где он взял бревно. И никто тогда не видел в этом большего проступка, чем если кто поднимет в наше время с барской земли соломинку, чтобы прочистить мундштук своей трубки.
Огромное бревно с грехом пополам втаскивали в сени, посреди которых, против двери, Стояла печь. В нее совали один конец бревна и зажигали; люди грелись, варили пищу. Когда же часть бревна сгорала и превращалась в угли, его, насколько было возможно, запихивали глубже в печь. Так проходили дни, недели; медленно таял дуб-великан, подобно тому, как укорачивается карандаш у столяра.
Ясно, что, пока не сгорало почти все бревно, нельзя было закрыть наружную дверь дома, оно торчало через порог. Конечно, это было немного неудобно, но и распиливать да рубить тоже было не по душе крестьянину. И вот из этих двух зол он выбирал наименьшее — предпочитал не закрывать дверь. Во всяком случае, это стоило меньших усилий…
Перед домом стоит скамейка, во дворе под шелковицей еще одна, да к тому же то там, то здесь виднеется лавочка. Даже в будни на каждой скамейке, на каждой лавке сидит женщина в кокошнике; так и кажется, что наседки расселись.
Внутри, в доме, на высокой кровати в перинах нежится всю ночь и до позднего утра молодка. Над ней на веревках, спускающихся с чердака, висит люлька, а в люльке лежит маленький, это его колыбель. Стоит ему заплакать — никакой канители: толкнет мать ногой люльку, и та начнет качаться. Утомительное дело качать ее всю ночь, а так толкнуть можно и во сне. Если же люлька качнется слишком сильно, то ребеночек либо выпадет из нее, либо нет. Если не выпадет — хорошо, матери мало забот, а если даже и выпадет, то к ней на колени. Коли не выпадет, но примется плакать, то и на этот случай есть средство — нежная колыбельная песенка, которую в полусне напевает мать своему младенцу:
Спи же, крошка, баю-бай, Поскорее засыпай. Птичку бог принесет, Клетку тятя собьет. Мать тебя накормит, детка, Янош-граф пришлет конфетку…Давно выросли, а затем состарились и превратились в дряхлых, беззубых старух и седовласых стариков младенцы, которые в те поры грызли или сосали эту конфетку, а о «большом судебном процессе» они если и знают, то лишь по рассказам.
Но в свое время он взбудоражил всю страну, от Вены до Мункача. Даже в чужих дальних краях, в Брашове и иных местах, женщины, возвращаясь из церкви, толковали о процессе: «Чем же все это кончится?»
Протестанты и католики, попы и горожане, знатные и незнатные господа — все разделились на два лагеря; страна следила за процессом, словно за событиями какой-нибудь драмы, от развязки которой зависело состояние посевов.
Когда умер Иосиф II, то, несмотря на строжайший надзор, чья-то безбожная рука (полиция так и не сумела доискаться, кто это сделал) наклеила на саркофаге отпечатанный в типографии пасквиль, две последние строчки которого звучали так:
Монаршья голова и сердце не умрут: Они из камня ведь, а камни не гниют.Воистину, это так! Все опасались того, что не умрут традиции Иосифа, столь они были еще свежи.
Церковь оберегала себя и старалась не допускать огласки своих дел. Лучше уж замазать поповские грехи, чем обнажить их, ибо ошибки и промахи отдельных лиц могли бы повредить всему духовенству. Сильные мира сего склонны были делать выводы, основанные на ложных посылках. Сатирические картины того времени недаром изображали Иосифа II с двумя сумками на шее: в одной было духовенство, а в другой — венгерская конституция. Монарх, размахивая руками, по очереди бил то по одной из них, то по другой.
Светские тузы до того привыкли к такому поведению Иосифа, что и после его смерти, когда он навечно оставил изрядно поколоченные сумки, всегда испытывали сильный испуг, если кто-нибудь касался одной из них, словно боясь, что тотчас же придет черед и другой. На самом же деле в одной сумке был рак, а в другой дрожжи, вещи, как известно, совершенно между собой не связанные.
Все равно. Светская знать пришла к мудрому решению, что дело о венчании в Рёске нужно вести с большим тактом.
…Ах, этот такт! Он всегда как назойливая собака, которая у нас в стране вечно путается под ногами истины.
Невидимые руки пришли в движение. Кто знает, как и откуда, но внезапно целые полчища всевозможных посредников, словно стаи саранчи, двинулись одни — в Патак, другие — в бозошский замок.
Интимному другу эрцгерцогини Марии-Луизы, пользовавшейся большим влиянием при дворе, могущественному графу Ференцу Зичи пришло вдруг в голову, что он, собственно говоря, приходится сродни Иштвану Фаи, а посему следует во главе всего семейства нанести ему родственный визит. Когда они сидели в курительной комнате, граф Зичи обмолвился Фаи, что ее светлость эрцгерцогиня Мария-Луиза была бы рада услышать о том, что он, Фаи, готов повлиять на графа Бутлера и уговорить его помириться с женой, вместо того чтобы компрометировать знатные роды и подрывать престиж церкви.
— Но, дорогой мой Ференц, она ведь не жена ему, — возразил Фаи с кислой миной.
— Вот именно. Пусть он признает ее своей женой!
— А если он ее не любит?
— Эх, неужели он не может совладать с собой, если этого требуют общественные интересы?
— Какие же это общественные интересы?
— Мир и спокойствие в обществе, доверие к церкви, которое никак нельзя подрывать у верующих.
— Но если он все-таки любит другую?
— Ах, оставь! Эти рассуждения достойны сапожника, который берет себе в жены какую-нибудь Жофику, и она после этого становится его вьючным животным, его усладой, служанкой, другом, спутницей жизни и советником! Конечно, он держится за ту, которую однажды выбрал себе. Другое дело — дворянин, такой большой магнат, как Бутлер. Жена нужна ему лишь для того, чтобы появляться с ней в свете. А для этого необходимо, чтоб на ней хорошо сидело платье, что же касается любви — бог мой, ведь сколько цветов распускается на белом свете! И пусть Бутлер срывает тот из них, к которому его влечет.
Все это было подано сиятельным Ференцем Зичи под соответствующим соусом, причем особо было подчеркнуто, что в случае благоприятного разрешения вопроса Фаи будет удостоен высокой награды. При этих словах хозяин дома еще сильнее помрачнел; он становился все менее разговорчивым, пока, наконец, не умолк совсем. При прощании Зичи еще раз спросил:
— Так что же все-таки передать эрцгерцогине? Что я должен сказать ей?
— Передай, что я сапожник!
В то же самое время графа Яноша Бутлера посетил в Бозоше граф Антал Мозеш Цираки, ставший впоследствии председателем верховного суда, влиятельнейшей персоной при венском дворе, любимцем императрицы Людовики. Дело изображалось так, будто он поехал в Унт на охоту к графу Шёнборну. Однако, как остроумно заметил один из охотников, Дёрдь Лоняи, «граф прибыл охотиться на кабанов, а хочет убить голубя». Потому что из Унга Цираки направился в Бозош, где познакомился и сдружился с Яношем Бутлером, в течение двух недель развлекался у него, с хитростью заправского дипломата увещая своего нового друга не страдать по Пирошке и оставить все дело так, как оно есть. Случаю угодно было, чтобы одновременно в тех же местах проездом оказался и его преосвященство трансильванский епископ Шандор Руднаи, который ночной порой заехал в бозошский замок, где, опять-таки случайно, встретился со своим любезнейшим другом и школьным товарищем графом Цираки. Тут уже за дело взялся и епископ, и они вдвоем повели разговоры с графом Яношем, а граф склонялся то в ту, то в другую сторону, напоминая собой молодую яблоню, крона которой гнется под сильными порывами ветра.
И все-таки уговоры оказались бесплодными, ибо гнется яблоня, ломаются ее ветки, опадает листва, но есть нечто, чего никак не удается изменить: цветы ее по-прежнему остаются розовыми…
Однако — увы! — и этим дело не кончилось. Невидимая рука перепробовала все. Графу Яношу предлагали высокий пост унгского губернатора — но какой ценой! И он отказался.
Тогда же случилось, что молодой граф Пал Шёнборн, обычно проживавший в Вене, выехал вместе с женой на лето в свой унгский замок. Они привезли с собой известную в ту пору актрису Эржебет Кларетон, которую император называл своей «милой кошечкой». Мадемуазель Кларетон учила якобы петь графиню Шёнборн. Супруги Шёнборн, конечно, пригласили к себе Бутлера, и мадемуазель Кларетон смертельно влюбилась в него, в чем эта очаровательная обольстительница с фигурой лесной феи и призналась ему, целомудренно зардевшись, при второй же встрече в парке; третья встреча не состоялась, так как граф Бутлер отклонил приглашение супругов Шёнборн.
Все это расценивалось «сторонниками Пирошки» как хороший знак. Старый Фаи, приезжая в Бозош «на вареники», как он обычно говаривал, — ибо тетушка Капор, уже было похороненная доктором Гриби, по-прежнему готовила их для Фаи, — весело рассказывал о всех этих искушениях.
— Они чувствуют, что суд каноников расторгнет брачные узы, иначе они не вели бы себя так нагло. Хотел бы я только знать, кто стоит за этими ходатаями и направляет их? Дёри? Он недостаточно силен для этого. Иезуиты? Возможно! Во всяком случае, кто-то тут скрывается. Мы видим лишь перья павлина, саму же птицу не видим.
Так, в планах и надеждах, прошло лето. Перевицкий объехал всех членов суда, шестерых каноников, а главному судье на прошлой неделе послал два золотых блюда из фамильных-ценностей Бутлеров. Затем он разыскал в Лудани, в комитате Ноград, мадам Малипо, которая служила гувернанткой в семье некоего Дюрки. Она рассказала, что приходский поп в Рёске, отец Сучинка, был влюблен в баронессу Маришку Дёри и по утрам самолично клал ей на окно букет цветов. Мадам даже стыдила его за это, ибо считала недостойным подобное поведение учителя по отношению к своей ученице. Однако ничего более значительного против Марии Дёри мадам сказать не могла.
В Бозоше часто совещались. Раза два приезжал туда и старый Хорват. Кроме того, там постоянно обретались многочисленные родственники Бутлера: Майлаты, Стараи, Переньи, Корлаты, старавшиеся добиться расторжения брака. Порою повариха даже не успевала готовить, и в помощь тетушке Капор приходилось звать молодую Видонку, которая в своем шелестящем белом переднике и таком же белоснежном кружевном чепчике тонкой работы была поистине очаровательна. Иногда могущественные магнаты сами забредали на кухню за угольком для трубки и щипали Катушку, нимало не заботясь о том, что за дверью стоял столяр с изуродованной губой и терзался горькими муками ревности.
В древнем замке всегда было многолюдно и шумно. Двор был заставлен множеством экипажей; слонявшиеся без дела господские кучера вовсю волочились за сельскими молодками, хотя отбить жену у дальновидного русина довольно трудное дело. Он ведь и заплаты на свои порты заставляет жену нашивать заблаговременно, чтобы в случае чего на колене разорвались не штаны, а заплаты.
Не только родня, но и именитые дворяне комитата — Оросы, Петроваи, Айтаи, Серенчи, Боты — заметили гостеприимно раскрытые ворота замка. Они устремились к знатному богачу и облепили его, как мухи кусок сахара. Они приучили Яноша к охоте, к картам и вину. А это было ему на руку: когда он пил, то забывался, а когда забывался — бывал счастлив.
Постепенно Бутлер становился весьма компанейским человеком. Он проводил время с гостями, кутил, играл, охотился, принимал участие во всех развлечениях. Втянули его и в общественную жизнь комитата, так что на осенней сессии комитатского собрания он даже выступал, приветствуемый громогласным «виват!». Знатному магнату легко прослыть великим человеком. Бутлер выступал не по такому уж важному вопросу, говорил всего лишь о постройке столбовой дороги, но это не имело значения, — он стяжал лавры, достойные ораторского искусства Кёльчеи *; те, кому довелось слышать Кёльчеи, а теперь услышать Бутлера, ломали голову: кто из них сильнее?
Овации сопутствовали графу и после комитатского собрания; собственно говоря, они лишь теперь начались. Всегда находились поклонники «великого оратора», которые спешили сесть в свои кареты, коляски и брички, чтобы сопровождать его в бозошское имение. Там-то, наверное, их ждет лукуллово пиршество!
Так оно и было. Через пять залов тянулись столы, гнувшиеся под тяжестью яств, подававшихся на чистом серебре; закалывались быки, в жертву приносилось несчетное количество гусей и уток; все женщины села, умевшие сносно готовить, мгновенно созывались нашим достойным Будаи, и тотчас же начиналось пиршество, подобное тому, о каком рассказывал Миклош Эстерхази, вернувшийся на прошлой неделе с коронации русского царя.
Быстро подготовлялось, но долго длилось это пиршество: время клонилось уже к полуночи, а господа все еще сидели за столом; раскрасневшиеся и разгоряченные, они осушали заздравные чаши. Речи текли обильнее, чем вино, и каждый тост славил молодого графа.
Ни в одном саду не найти столько цветов, сколько пестрело в этих речах, а столько меду не сыскалось бы и в сотне ульев. Гости изыскивали все пути, чтобы польстить самолюбию хозяина.
Пили за счастливый исход процесса, — по слухам, через неделю начнется уже допрос свидетелей; пили за здоровье архиепископа Фишера (небольшой задаток не вредит попам). Некий дородный господин Вицманди поднял бокал за «отсутствующую». Все есть в доме магната, не хватает лишь нежной лилии во главе стола — благоухающей лилии, которая томится сейчас в борноцком саду и томится по солнечному свету, скрытому от нее тучами. «Но солнца, господа, не украсть!»
Почтенные комитатских заседатели разразились бурными аплодисментами и громкими здравицами, ибо в те времена действительно нельзя еще было похитить солнце; ныне, правда, тоже нельзя, но комитатские предводители не стали бы теперь устраивать овации по поводу столь прозаического факта.
Пока в залах шла речь о вздохах лилий да об их аромате, за стенами замка разразился сильный ливень. Могучие порывы урагана сотрясали и гнули вековые деревья, струйки дождя проникали сквозь щели в оконных рамах, и несколько слуг были заняты тем, что вытирали лужи.
Гостей в этот раз было такое множество, что на ноги была поставлена вся прислуга; даже сам управляющий имением почтенный Будаи таскал под мышкой бутылки с вином. Катушка подавала черный кофе, а Видонка с неслыханной ловкостью вытаскивал зубами пробки.
Вдруг вспышка молнии осветила парк, и последовавший тотчас страшный удар грома потряс могучие стены; на столах затанцевали чаши и бокалы. Затем наступила гробовая тишина, и граф Янош заметил:
— По-видимому, в дом ударила молния.
В ту же минуту пронзительно заскрипели ворота. Гости напряженно прислушивались: слышно было, как во двор вкатила какая-то тяжелая повозка.
— Видонка, — приказал граф, — ступайте и посмотрите, кто прибыл. Кто бы ни был этот путник, нужно приготовить ночлег и ужин. Дьявольская погода на дворе! Послушайте-ка, Видонка, если приезжий господского звания, можете ввести его сюда.
Через десять минут Видонка вернулся бледный как мертвец; колени его дрожали, зубы стучали.
— Кто же там? — спросил Бутлер. — Вас что, трясет лихорадка, Видонка? Почему вы не отвечаете?
— Их сиятельство графиня здесь, — прохрипел Видонка.
— Какая графиня? — допытывался граф Янош.
— Да супруга вашего сиятельства, Мария Дёри.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ Портреты двух прекрасных женщин
В зале наступила гробовая тишина, которую нарушало лишь торжественное тиканье больших бронзовых часов: тик-так, тик-так. В люстрах ровным пламенем горели свечи, отбрасывая трепещущие тени на стену, сплошь увешанную оленьими и турьими рогами и всевозможными охотничьими трофеями.
Граф Бутлер молча уставился на Видонку, словно перед ним был какой-то страшный призрак. Бокал вина выпал из его дрогнувшей руки и разлетелся вдребезги, а благородный напиток образовал на скатерти желтое пятно, которое поползло в сторону графа Яноша. В другое время раздались бы игривые восклицания: «Ого-го, быть крестинам!» Но сейчас никто не проронил ни слова. Казалось, все боялись нарушить страшное молчание, прогнавшее с уст сотни людей шутки и остроты, и только из соседних зал доносился шум веселья: там еще ничего не знали о происшедшем.
В это время господин Будаи распахнул дверь, первым нарушив тишину. Управляющий вместе с Видонкой вышел во двор на стук экипажа, однако сообразил, что с такой дурной новостью лучше послать вперед столяра, а сам, с вытянувшейся, испуганной физиономией, появился немного погодя. Он и сейчас не решался отойти от дверей и, остановившись у притолоки, смотрел на перекошенное судорогой лицо Бутлера, выражавшее растерянность и нерешительность.
Добряк-управляющий имел дурную привычку думать вслух. Обычно он старался преодолеть ее, но сейчас, напряженно ожидая, что предпримет его господин, Будаи не удержался и тихо сказал, словно беседуя с самим собой:
— А бедная госпожа больна.
Быть может, именно эти слова и предопределили ответ Бутлера в эту роковую минуту.
— Ну, что вы на меня уставились? — гневно воскликнул граф хриплым голосом, не сводя с Будаи своего неподвижного взгляда. — Что вы мне докладываете о подобных вещах? Раз приехала сюда несчастная, так дайте ей приют. Не в обычае Бутлеров прогонять кого бы то ни было, кто приходит под их кров, будь то разбойник, нищий или враг. Они никогда не спрашивали, кто он и как себя именует.
С этими словами Янош схватил со стола другой кубок и одним духом осушил его.
Будаи, сделав несколько нерешительных шагов, подошел ближе и глухим голосом сообщил:
— Госпожа не одна, ваше сиятельство.
— С кем же она?
Управляющий поколебался с минуту — объявить ли такую весть во всеуслышание?
— С нею… с нею…
— Ну, кто же с нею еще?
— Уж и не знаю, как сказать. С нею эта… повивальная бабка из Уйхея, — сказал господин Будаи и поспешил прочь опасаясь той реакции, которую должны были вызвать его слова; он предпочитал услышать об этом от других.
Небо милостивое! Что тут произошло, какая поднялась суматоха! С каким треском лопнули все рамки приличия. Такой случай! Такой неслыханный случай! Как? Она осмелилась явиться сюда, да еще в таком положении?!
Поразительная весть в мгновение ока разбудила в людях завистника, который втайне злорадствует над чужим несчастьем, фарисея, который своими причитаниями отравляет атмосферу, любопытствующего, который хочет все знать, сплетника, жаждущего рассказать больше, чем он знает. Одни вскочили, чтобы разнести эту новость по залам, другие тайком переглянулись, пряча усмешку, а третьи на пальцах принялись высчитывать месяцы, — те, что поделикатнее, — под столом, а те, что поциничнее, — прямо в открытую: май, июнь, июль, август, сентябрь… Итого, пять месяцев! Ха-ха-ха, пять месяцев! За окном ветер продолжал раскачивать кроны деревьев, а порой врывался и в залу, словно повторяя вместе со всеми: «Ха-ха-ха, пять месяцев!» Даже часы, казалось, изменили свое тиканье и выговаривали: тик-так, пять-пять, тик-так, пять-пять!
Граф Бутлер откинулся в кресле, на лбу его выступил холодный пот. Словно молния осветила темные кулисы всего происшедшего, все стало ему ясно: что толкнуло Дёри на это покушение, поспешность, и дикое насилие, и все, все… О позор, вечный позор! Со стен огромной гостиной на него сурово смотрели предки — рыцари из рода Бутлеров, люди в доспехах и шлемах. Они, казалось, угрожающе хмурились, будто желая спросить: «Ну, что ты скажешь на это?» А великан Дердь Бутлер, чудилось Яношу, прямо на него направил свое копье.
Граф вздрогнул и закрыл глаза. Нет, это лишь видение. О боже, ведь все это только кажется. Но если б этот ничем не запятнанный витязь Дёрдь встал сейчас из гроба, то копье его с острым наконечником выглядело бы куда более правдоподобно, чем на картине, где всадник на белом коне торжественно держит его в одной руке, как это приличествует королевскому герольду на коронации, а в другой руке у всадника медная фанфара, тоже неподвижная, нарисованная. Но если бы ожила эта картина, если б всадник мог поднести фанфару к губам, о чем бы протрубила она тогда? В ее звуках прозвучал бы призыв: «Убей!»
Кровь кипела в жилах, грудь Яноша тяжело вздымалась, голова гудела. И казалось, все предки со стен гостиной, будто по сигналу великана Дёрдя, одновременно принялись кричать: «Убей, убей!» Тук, тук! — каждый звук казался ему теперь ударом молотка. Уже множество молотков стучало по голове Яноша Бутлера. Они били и били, вколачивали в нее одну и ту же мысль: «Убей! Убей ее!»
«Ну, хорошо, я убью ее!» — сказал он себе и быстро поднялся.
Взоры всех присутствующих обратились к нему. Стены рыцарского зала, где были накрыты столы для гостей, были увешаны всякого рода оружием: булавами, ружьями, пистолетами. Нужно было взять только одно. Да, но ведь эти люди вырвут у него из рук оружие.
— Разрешите мне удалиться, господа, — сказал он глухим голосом, шедшим словно из-под земли. — Я должен написать моему адвокату об этом неприятном случае. А вы продолжайте веселиться.
Янош направился прямо в свой кабинет. Двое слуг несли перед ним зажженные свечи.
— Можете идти, — отпустил он слуг.
Бутлер выдвинул ящик письменного стола, где всегда лежал заряженный пистолет, и принялся искать его. Пистолет оказался под бумагами, и графу долго пришлось рыться в них, прежде чем он нашел его.
Смотрит Бутлер и видит: под курком лежит свернутая белая ленточка и какая-то сухая былинка. Янош повертел былинку в руках, раздумывая, как могла она попасть сюда, не засорила ли пороховницу? Но пока граф прочищал и продувал пистолет, он вдруг вспомнил, что сухая былинка — это та самая белая гвоздика, искорка, которую первый бумажный кораблик, приплывший по ручейку, привез ему из парка Хорвата в Борноце, а белая ленточка — та самая, которой было перевязано первое письмо Пирошки! Эти реликвии любви, привезенные из Патака, спрятал его камердинер в этом ящике. От милых воспоминаний на душе у Яноша стало теплее, и он не удержался, чтобы не сказать: «Милая, зачем ты пришла сюда сейчас? Чего ты ждешь от меня в минуту, когда я решился на убийство? Ты хочешь стать мне на пути, испортить пистолет? Скажи, чего ты хочешь?» И засохшая гвоздика ответила: «Тогда, помнишь, я предупредила тебя, чтоб ты не трогался с места, оставался, дома и не ходил в лес, — иначе быть беде. Сейчас я повторяю то же самое. Была я белой, теперь пожелтела, но мой совет тебе только один: не двигайся с места, не то приключится беда».
Кто-то постучал в окно. Бутлер вздрогнул от неожиданности и поднял глаза. Ах, ничего особенного, всего лишь птичка, мокрая маленькая ласточка, отбившаяся от своей стаи. Ее подруги еще позавчера улетели большим караваном на юг, а она, бедняжка, отстала и дрожит сейчас под дождем на осеннем промозглом холоде. Она спряталась на подоконнике, но дождь и там продолжал ее преследовать; она ищет убежища. Бутлер сжалился над птичкой: надо впустить ее, ведь это птица девы Марии.
Янош положил пистолет и отворил окно. Ласточка впорхнула и принялась летать по комнате. С ее промокших крыльев стекала вода, капая на пол, на мебель. Наконец птичка уселась наверху большого зеркала в золотой раме, как раз туда, где был вырезан фамильный герб Бутлеров, и весело защебетала. Подняв на нее глаза, граф увидел в зеркале себя — растрепанного, с искаженным болью лицом, с дикими глазами, а позади — кроткое доброе женское лицо, которое глядело на него с портрета, отразившегося в зеркале, с портрета его матери — Марии Фаи. Алые губы ее, казалось, улыбались; ему чудилось, будто он слышит ее милый голос, говоривший: «Сынок, сынок, как же ты можешь убить кого-то, после того как пожалел эту продрогшую птаху?» И он обернулся, чтобы отдаться созерцанию портрета и выплакать перед ним свое горе.
Янош Бутлер опустился в кресло у письменного стола напротив портрета и так долго и пристально смотрел на него, что ему почудилось, будто портрет ожил. Зашуршали кружева белого шелкового платья, облегавшего ее стройный стан, засияли жемчужные нити.
Рядом с портретом матери висел другой, изображавший пречистую деву Марию, отличная копия Тициановой мадонны. У обеих женщин — высокий благородный лоб, ясные глаза. Портреты были расположены так, что лица женщин были обращены друг к другу, — словно для того, чтобы они могли иногда побеседовать между собой.
Что сказали бы они, если б могли?
Святая матерь — недаром она богородица, — наверное, утешила бы другую и сказала ей: «Мой сын нес крест, он был сильным».
На это госпожа Бутлер ответила бы: «И мой сын несет крест. И он будет сильным».
Так гордились бы своими детьми обе матери.
При этой мысли из глаз молодого графа хлынули обильные слезы, облегчившие его измученную душу. Он уронил голову на стол и горько плакал до тех пор, пока пистолет и засохшая гвоздика не стали совсем мокрыми. Только выплакавшись, он почувствовал облегчение. Так уж расплачивается бог с человеком: за влагу — влагу, за слезы — живительный бальзам веры!
Бутлер вытер глаза и вспомнил о гостях. Он поспешил к ним, почти успокоившись, но все залы были уже пустынны: гости разъехались с такой поспешностью, словно их метлой вымело.
Граф позвонил; вошел гусар.
— Все гости уехали?
— Все.
— Тогда оседлайте и мою лошадь.
Несколько минут спустя во дворе уже нетерпеливо ржал его любимый скакун Огонь. Граф в сером плаще прошел по коридору, где в углу заметил Будаи, с печальным видом курившего свою трубку. Узнав господина, управляющий почтительно встал.
— Вы еще не спите, дядюшка Будаи?
— Никак нет, ваше сиятельство. Любуюсь грозой, уснуть не могу.
— И все же идите и ложитесь. Старым костям нужен покой.
— Когда вернетесь, ваше сиятельство?
— Может быть, через неделю, может быть, через год, а может быть, и никогда. Только вы все время делайте вид, дядюшка Будаи, словно со дня на день ждете моего возвращения.
— Так точно, понял. Других распоряжений не будет?
— Нет, не будет. Да, впрочем, вот еще что: в моем кабинете закрыта ласточка, будьте добры, распорядитесь, чтоб ее завтра утром выпустили.
— Слушаюсь. А как относительно той?..
— Относительно нее никаких распоряжений не будет. Бог с ней.
Бутлер вскочил на коня и ускакал. Два дня скакал он без отдыха, останавливаясь изредка в деревнях да в небольших дворянских усадьбах — поесть, попить, накормить коня. Замки магнатов он объезжал стороной; заехал только в свой собственный замок в Иллехазе, но и там оставался всего лишь два дня: его подхлестывала забота, гнала печаль. На третий день он приказал заложить самых резвых из всего табуна лошадей и помчался в Патак, к Иштвану Фаи.
Старик встретил его, надувшись, как индюк:
— Опять наделал глупостей? Почему ты не выбросил эту женщину? Теперь можешь вернуться в свой бозошский замок, если тебе по душе детский плач или если ты хочешь поцеловать мадемуазель Бутлер, которой от роду один день. Нынче утром наш Будаи привез эту весть.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ Горячие дни в Эгере
Все, что было потом, — бесконечные мучения и борьба.
Небо нахмурилось уже с утра. Солнце, еще совсем недавно весело шагавшее в своей пурпурной одежде по свежей росе, скрылось за клочьями туч, и вот уже не видишь его света, не ощущаешь тепла и лишь знаешь, что оно прячется там за облаками. Ждешь, вот-вот оно выглянет и согреет, однако набежавшее облако снова скрывает его. И какое маленькое облачко! Кажется, дунь — и следа от него не останется.
Вот вкратце и вся эта печальная история.
Едва рассеются тучи, появится надежда — глядь, надвигается — новое облако. И опять все сначала, пока не наступит вечер, а за ним и ночь.
Счастлив тот писатель, который в своем повествовании может нарисовать такое небо, какое пожелает. Но я пишу летопись. Граф Янош Бутлер ходил здесь, под этим небом, страдал среди нас; еще на каждом шагу можно повстречать людей, которые в свое время здоровались с ним за руку, глядели в его печальное лицо…
Слушание дела было назначено судом каноников на четвертое октября, однако заседание не состоялось, потому что у председательствующего архиепископа заболел живот. Говорят, он поел каких-то плохих грибов. Каноники, испугавшись, что архиепископа отравили, отложили дело. Бедный Перевицкий в ярости зубами скрежетал:
— Нами все было подготовлено! Все пошло бы как по маслу!
Заседание перенесли на январь.
Однако зима в тот год оказалась слишком суровой.
История приписывает ей две странные особенности: во-первых, в Токае дважды праздновали сюрет *, так как в начале октября, когда урожай винограда еще не был собран, склоны Хедьальи покрыл глубокий снег, стаявший лишь в марте, и виноград собирали уже весной следующего года, а осенью снимали второй урожай. Такова первая особенность.
Вторая особенность, прославившая эту зиму, известна всему миру: в России была разгромлена армия Наполеона. Ее помог разгромить великий русский полководец Декабрь. Остатки ее были уничтожены суровыми морозами.
Впрочем, история умалчивает еще об одном примечательном обстоятельстве — факт этот отражен только в нашей хронике, — а именно, что в Эгере тоже была суровая зима, отправившая на тот свет чуть ли не всех стариков в городе. Ввиду этого обстоятельства архиепископ, имевший обыкновение каждую пасху приглашать к своему столу старцев на так называемый «белый обед», не нашел в городе достаточного количества убеленных сединами людей, и по сему случаю их пришлось собирать по соседним деревням.
Да, страшная была зима! Она и среди каноников скосила сразу троих, в том числе и его преподобие Йожефа Яблонци, генерального аудитора. Как назло, все трое оказались из числа сторонников Бутлера. В особенности тяжелой потерей была смерть Яблонци: он являлся вдохновителем той части духовенства, которая стояла за расторжение брака. Он, бывало, доказывал, что тот, кто вынимает занозу из ноги и излечивает ногу, совершает богоугодное дело. Тот же, кто загоняет занозу поглубже, лишь бы ее не было видно, — не только не вылечивает ноги, но способствует заболеванию всего тела и поступается своей совестью.
Господин Перевицкий узнал о смерти троих каноников; утром Нового года. Он как раз собирался со своими родственницами в церковь и раскаленными щипцами гофрировал себе манишку. Пробежав письмо, адвокат воскликнул: «Обманули, ограбили, бегут с моими тысячами!»
И вдруг он схватился за сердце, выронил щипцы и, испустив такой крик, словно гнался за кем-то, замертво рухнул на пол. Должно быть, придя в волнение, он не удержался и бросился вдогонку за тремя отправившимися на тот свет канониками. Едва ли кто мог теперь позавидовать святым отцам, потому что, если уж Перевицкий задумал, он непременно доберется до них и возьмет свое, в какой бы из трех частей загробного мира они ни находились!
Однако таким легкомысленным поступком он испортил Бутлеру все дело. В руках у Перевицкого были сосредоточены все нити: он с большим старанием и искусством воздвигнул грандиозное здание процесса, сгруппировав все аргументы и разработав план наступления; он создал стратегию и выработал необходимую тактику; ему были известны все рычаги, с помощью которых можно было воздействовать на отдельных членов суда и свидетелей; он знал, где что нужно повернуть, какую кнопку нажать. Колесо остановилось — и огромный часовой механизм больше не двигался.
Неожиданно процесс взялся вести один унгварский адвокат, по имени Михай Сюч. Но так как не оставалось времени просмотреть все дело, ознакомиться с документами и фактами, то теперь уж Бутлеры сами были вынуждены обратиться с просьбой отложить заседание. Снова пришлось ждать до лета.
Все это время Бутлер играл в прятки с Марией Дёри, которая объехала одно за другим все имения графа. Однажды она настигла его в Пардани, привезя с собой запеленатую крошку Марию. Бутлер сидел под липами во дворе и играл с любимой собакой, когда увидел, что во двор въезжает его бозошский экипаж.
Одетая в траурное платье, Мария легко соскочила с экипажа, взяла у няни ребенка и бросилась на колени перед Бутлером прямо на гравий двора.
— О сударь, — умоляюще проговорила она дрожащим голосом, — простите нас!
Ребенок заплакал. Говорят, что мать ущипнула его, как, согласно легенде, ущипнула Мария-Терезия своего маленького Иосифа в Пожони. *
Граф холодно отвернулся от нее.
— Я вас не знаю, но полагаю, что вы не в своем уме.
С этими словами он направился к конюшне, где приказал запрячь лошадей, и через четверть часа умчался в свой вукицкий охотничий замок. Садясь в экипаж, он с горьким юмором сказал управляющему парданьским имением Ференцу Ногалу:
— А все-таки хорошо, когда у человека столько замков. Всегда можно иметь под рукой чистую смену белья.
В этой одной фразе лучше, чем в фолиантах бумаги, исписанных стрекулистами, выразилось глубокое отвращение, которое он испытывал к этой женщине, связанной с ним брачными узами.
Следующим летом суд каноников приступил наконец к слушанию дела.
Дни стояли жаркие, прямо-таки тропически знойные, — возможно, потому, что зима была столь длинной и суровой и что, как считал Иштван Фаи, ни теплу, ни холоду некуда деться — рано или поздно, но они пожалуют.
И все же, несмотря на такую адскую жару, процесс вызвал в городе огромный интерес. На улицах перед дворцом архиепископа собирались толпы народа, чтобы поглазеть на съезжавшихся участников процесса.
Тех героических женщин, которые в свое время изгнали из этого города турок, давно уже нет. * Нынешние женщины отличаются лишь любопытством. Их можно было увидеть в каждом окне, а те, которым не хватило подоконников, высыпали на улицу, подставляя себя безжалостным солнечным лучам. Словом, улица была до того забита людьми, что для поддержания порядка были вызваны конные жандармы.
Первой, на четверке лошадей с бубенцами, приехала Мария Дёри. Она была красива и стройна, на ней было черное платье, а лицо скрывала темная вуаль, сквозь которую, как два агата, смело сверкали большие глаза.
Все участвующие в процессе на стороне Дёри еще накануне прибыли в Эгер и разместились в различных гостиницах. Из-за большого стечения народа, запрудившего сегодня улицы, Марии Дёри-Бутлер пришлось до самого здания архиепископского дворца ехать в экипаже. Рядом с Марией, надвинув белую соломенную шляпу на глаза, сидел старый Дёри. С прошлого года он отпустил седую бороду, местами желтоватую, как оперение канарейки.
Толпа стояла в глубоком молчании, как вдруг какой-то кожевник-подмастерье воскликнул:
— А ведь молодка-то ничего себе! На него зашикали.
Кто-то выкрикнул:
— Виват Пирошке Хорват! Сотни голосов подхватили:
— Да здравствует Пирошка! Пирошка!
— Бре-ке-ке! — прошипел старик, кусая бороду. — Эта чернь осмеливается издеваться над тобой. Посмейся же им в глаза!
— Молчи, отец, молчи! Я и без того готова сквозь землю провалиться!..
Экипаж остановился перед дворцом архиепископа, где происходило заседание суда каноников. Мария вышла из экипажа, слегка приподняв подол черной юбки, так что можно было разглядеть ее маленькие черные туфельки и даже часть стройной ножки в ослепительно белом чулке.
Бородатый студент-юрист, прислонившийся к воротам архиепископского дворца, с восхищением воскликнул:
— Чего же еще нужно графу, если такой красавицы ему мало?!
Мария Дёри была близка к обмороку, но этот непроизвольный и неожиданный комплимент возвратил ей силы. Проезжая по улицам, она чувствовала ненависть окружавших ее людей, и среди шиканья, шума, оскорбительного смеха, даже ругательств это восклицание было единственным, прозвучавшим сочувственно. И слова студента заслонили от нее общую ненависть, подобно тому как цветок, выкопанный кем-то из кучи мусора и положенный сверху, скрывает своей красотой всю ее неприглядность. Мария обрадовалась, сердце ее радостно забилось — ведь она как-никак была женщиной! Она улыбнулась и горделиво, словно пава, стала подниматься вверх по лестнице.
Толпа тем временем набросилась на экипаж и сорвала с дверец и сбруи серебряные гербы Бутлеров. Так народ вынес свой приговор по делу Бутлера. Кучер с козел со смехом взирал на расправу толпы.
Понемногу стали собираться и другие лица, вызванные в суд. Приехали на бричке и гайдук Гергей и тетка Симанчи; на повозке прибыли бойкая горничная Нина Биро и камердинер Йожеф Томани — те, что, войдя утром в комнату новобрачных, «видели их вместе». На третьей повозке подкатили жандармы Кажмари и Есенка, а на четвертой — адвокат барона Дёри — Пал Кальмар, поглощенный разговором со священником из Оласрёске.
Этих участников процесса народ не знал. Даже те, кто лучше других разбирался в деталях дела, только гадали, кем может быть тот или иной из прибывших. Так что пострадал один лишь поп Сучинка: в него бросили из толпы тухлым яйцом, которое, угодив ему в плечо, залило сутану.
— Будьте прокляты, сатанинские крысы! — угрожающе крикнул святой отец.
Немного погодя с другого конца улицы прибыли Бутлеры. Они явились прямо из деревни, так как у Яноша и в этих краях было имение.
Граф Парданьский въехал в Эгер с королевской помпой, чтобы ослепить горожан и произвести впечатление на духовенство, так, по крайней мере, рассчитывал Иштван Фаи. В голове поезда прогромыхали тяжелые телеги, нагруженные постельным бельем, ящиками со всякой посудой, огромными бидонами с топленым салом, с разными копчениями. В Эгере у Бутлера тоже был дворец, обычно пустовавший. В нем-то он теперь и остановился.
За четырьмя подводами, едва уместившись на двух телегах, следовали поварята, повара в белых одеждах и шапочках пирожком. Еще на двух телегах двигался графский оркестр — двенадцать цыган в ярко-красной одежде, расшитой серебряным гарусом. За ними следовали оседланные верховые лошади графа в сопровождении егерей и коноводов.
На этом цепь разрывалась, и только после большого интервала показался верховой в желтом шелковом доломане, оранжевых штанах и с медной трубой на боку. Это был герольд, сигнал которого означал, что все живое должно убраться с дороги, так как приближается важный господин. Затем проследовали на маленьких, но крепких лошадках два факельщика в длинных василькового цвета кафтанах, с ястребиными перьями на шапках и множеством факелов, притороченных к седлам. За ними двигались восемь копейщиков в медных шлемах, ярко сверкавших на солнце. Наконец на горячих танцующих конях белой масти прогарцевали двадцать четыре гусара в желтых сапожках и одинаковых зеленых ментиках, расшитых красным гарусом, — рослые, сильные молодцы, лица которых украшали длинные усы и сабельные шрамы. Еще недавно они участвовали в боях против Наполеона, только тогда их было гораздо больше: опекун графа Парданьского выставил две тысячи лихих гусар.
Над всей этой процессией плыло огромное облако пыли; так уж водилось в те времена — чем важнее господин, тем больше пыли; даже самый важный из господ глотал ее, точно амброзию, — видно, уж очень мила она была ему, потому что обходилась в копеечку.
Наконец в клубах пыли появился экипаж графа Бутлера, запряженный пятеркой вороных жеребцов цугом, на первых трех скакали в седлах ездовые. Рядом с каретой бежал взмокший от пота скороход, тощий парень в шафранового цвета куртке.
Следом за экипажем скакали еще двадцать четыре гусара, но уже в белых доломанах, на буланых конях с белой гривой. Лошадей нельзя было отличить одну от другой, словно они были от одной матки. При виде всего этого великолепия у человека дыхание захватывало от восхищения.
Только экипаж графа был без всяких украшений: простая подержанная бричка. Рядом с Фаи в ней ехал сам Бутлер, одетый в скромное будничное платье и в мягкой шляпе. Все его одеяние не стоило столько, сколько пуговицы на ментике одного гусара. Но именно в этом и заключалось искусство быть магнатом.
Рядом с бричкой на быстрой лошади скакал паж с двумя фляжками на шее: в одной было вино, в другой — родниковая вода. Эту фляжку частенько приходилось наполнять у колодцев и источников, а затем поспешно догонять кавалькаду; для этого и дали пажу самую резвую лошадь.
Подобный кортеж теперь уже редкость, особенно в этой местности. Выше в горах, где-нибудь в Нограде или Нитре, некоторые магнаты — Цобор, Иллеш Хази, Балашша — еще ездят так. А здесь — лишь в торжественных случаях, например при вступлении в должность нового губернатора или епископа, нет-нет да и блеснет роскошью какой-нибудь магнат.
Проехали еще два экипажа, запряженные четверкой лошадей; в одном из них рядом с управляющим имением в Хевеше сидел Жига Бернат, беседовавший с ним о том, насколько лучше было б иметь поменьше гусар, да побольше свидетелей. Замечание справедливое, потому что свидетели Бутлера умещались на одной повозке, так как было их всего двое: Видонка и мадам Малипо. Судя по движению их губ и энергичной жестикуляции, они тоже о чем-то беседовали. Но поскольку мадам говорила только по-французски и по-немецки, а Видонка лишь по-словацки и по-венгерски, для каждого из собеседников навсегда осталось тайной, что говорил другой.
Когда они подъезжали к городу, слева, из кукурузного поля, выскочил заяц и перебежал дорогу перед самым экипажем Бутлера, между гусарами на белых конях. И как только он посмел, бессовестный!
У Бутлера — а он был очень суеверный — даже мурашки по телу побежали.
— В нем сидит черт, дорогой дядюшка!
— Не бойся, — засмеялся Фаи. — Нет в нем никакого черта, могу тебя заверить. Черт не таков. Сам я, правда, его не видел, но есть у меня в Дебрецене друг и мой тезка, некий профессор Иштван Хатвани, так он уверяет, что однажды даже говорил с чертом. Он спросил у него: «Кто ты, мужчина или женщина? В каком виде ты появляешься перед людьми?» А тот и отвечает: «В таком, что тебе и в голову не придет». Ну, а мы испокон веков знаем, что заяц — дурная примета: выходит, что на самом деле он ничего плохого и не означает. Черт не дурак, он знает, что не в заячью шкуру ему надо рядиться, коли хочет нам навредить. Скорее он влезет в какого-нибудь каноника.
В это время они въехали в город и, едва повернули на улицу Хатвани, как люди, столпившиеся там, узнали Бутлера, и приветственные возгласы волной прокатились по толпе. От этих возгласов даже дворец архиепископа задрожал, так что все члены суда каноников сразу догадались: приехал Бутлер.
Некоторые из горожан приветственно махали шляпами, глазевшие из окон — платками; весь город словно опьянел от этого великолепия.
Граф снял шляпу и так, сидя в бричке с непокрытой головой, машинально кивал налево и направо. Вдруг кто-то кинул ему маленький букетик цветов. Цветы пролетели над головами и упали прямо в шляпу Яноша.
Бутлер взял его. В букетике были три красные искорки, связанные тоненькой прядью белокурых женских волос.
Янош обернулся и, посмотрев туда, откуда бросили букетик, воскликнул:
— Пирошка!
На одно мгновение перед ним мелькнуло знакомое милое лицо — те же глаза, та же улыбка, только в каком-то странном обрамлении: на перекрестке двух улиц, Хатванской и Немецкой, стояла стройная крестьянская девушка; ее голова была покрыта белым в горошек платком. Однако, прежде чем Бутлер успел разглядеть красавицу, ее волшебная головка вдруг спряталась в толпе.
Не может быть, — удивился Фаи. — Что ты говоришь?
— Она! Она! Одета крестьянкой, — воскликнул Янош, и лицо его сияло от счастья. — Готов поклясться, что это она!
— Тебе показалось!
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ Святой суд заседает
Экипаж остановился перед дворцом архиепископа; господин Сюч, адвокат, уже ожидал их.
— Сейчас начнется заседание, ваше сиятельство.
— Кто председательствует? — спросил Фаи.
— Аудитор. *
— А не архиепископ?
— У архиепископа болит нога. Какой-то прыщ вскочил, нога распухла, и он не может натянуть сапог.
— Вот он, черт, — вырвалось у Фаи, — на этот раз в виде прыща появился!
Они приехали как раз вовремя: заседание только начиналось. Все судьи были в сборе — шесть толстых каноников; казалось, жир их плавился в этой жаре. А между тем были приняты всевозможные меры, чтобы уменьшить духоту: между оконными решетками проложили зеленые ветки, на стол поставили графины с охлажденной во льду водой, а в карманах ряс было припасено по три-четыре платка, которыми каноники вытирали пот со своих лбов и затылков.
Впереди, за длинным зеленым столом, на котором стояло распятие, восседал председательствующий, главный аудитор Ференц Екельфалуши: позади него — два члена суда, охранявшие незыблемость брака, прокурор и два секретаря суда.
Первым допрашивали Яноша Бутлера. Его откровенный и искренний рассказ о венчании прозвучал убедительно, сильно взволновал судей и поверг их в смущение.
После этого позвали Марию Дёри. Ее благородная осанка произвела благоприятное впечатление на присутствующих. Казалось, вместе с ней в зал проскользнул свежий ветерок, распространяя аромат цветов. С глаз каноников мигом слетела сонливость, как только они услышали шелест тонких кружевных юбок.
— Имя? — спросил аудитор.
— Графиня Бутлер, урожденная баронесса Мария Деря.
— Вероисповедание?
— Римско-католическое.
— Лет?
— Восемнадцать.
— Дети есть?
— Один ребенок, — промолвила она тихо.
— Отвечай мне, дочь моя, по всей совести: правда ли, что во время церковного обряда, соединившего тебя с графом Яношем Бутлером, этот последний на вопрос священника, хочет ли он взять тебя в жены, ответил: «Не хочу»?
Мария Дёри покраснела, но от этого стала еще красивее.
— Почему ты не отвечаешь, дочь моя?
— Потому что не знаю, — пролепетала она.
— Как? Неужели ты не можешь вспомнить такое важное обстоятельство?
— Я была так взволнована.
— Это возможно, — проговорил прокурор.
— Правда ли, что, как гласит обвинительный акт, граф Янош Бутлер на вопрос, любит ли он тебя или нет, ответил: «Нет»?
— Не знаю, я не слыхала ни того, ни другого.
— Так… А правда ли, что уши свидетелей, присутствовавших при обряде, были заткнуты ватой?
— Я не видела!
— А правда ли, далее, что, когда венчавший вас священник хотел соединить ваши руки под епитрахилью, граф Бутлер стал сопротивляться и твоему отцу пришлось прибегнуть к насилию?
Мария побледнела, опустила голову, как бы застыдившись, потом тихо прошептала:
— Неправда.
— Чем же ты тогда объясняешь, дорогая дочь моя, что граф Янош Бутлер выдвигает эти обвинения и настаивает на них?
Мария подняла голову:
— Тем, что он страдает галлюцинациями, глубокоуважаемый святой суд.
— На чем ты основываешь свое утверждение?
— Все его слуги в бозошском имении подтвердят, что Бутлер часто подолгу и громко разговаривал у себя в комнате с портретом матери, словно ему задавали какие-то вопросы.
— Кто это может подтвердить?
— Повариха Видонка, тетушка Капор и Иштван Гуйяш. Аудитор кивнул вице-секретарю, чтобы тот вызвал этих людей в суд, потом снова повернулся к допрашиваемой:
— Я задам тебе, дочь моя, один деликатный вопрос. Соберись с силами, чтобы ответить нам, которыми руководит не праздное любопытство, а стремление соблюсти святость канонических законов, дабы через них приобщиться к источнику истины.
Но прежде чем познать истину, не грех было насладиться и табаком. При этой мысли председательствующий вынул табакерку и понюхал табак. Остальные каноники последовали его примеру, после чего все начали чихать, а помощник секретаря не успевал повторять: «Будьте здоровы!»
Гм, щепетильный вопрос! Каноники уже были знакомы с этой стороной бракоразводных процессов. Их крохотные, заплывшие жиром глазки оживились и замигали, как потревоженный фитилек в лампадке.
— Скажи мне, дочь моя, графиня Бутлер, урожденная баронесса Мария Дёри, сколь соответствует истине утверждение, будто графа Яноша Бутлера путем насилия и коварства на подъемной машине доставили в твою опочивальню?
Мария Дёри изменилась в лице при воспоминании об этой печальной ночи и срывающимся голосом ответила:
— Не знаю…
Она задрожала всем телом, взор ее потух, а лицо, и без того бледное, стало совершенно бескровным.
— Так расскажи нам, что же произошло в спальне?
Она пошевелила губами, хотела что-то сказать, но вдруг вздрогнула и упала без чувств.
Каноники испуганно повскакали со своих мест. Только святой отец Винце Латор, сохраняя спокойствие, склонился над беспомощно поникшей женщиной, приподнял ее и приложил ухо к сердцу, чтобы удостовериться, бьется ли оно. Но — изыди сатана!.. — он припал своим волосатым ухом к ее груди, которая тяжело вздымалась (за такой великий грех это ухо нужно было бы отрезать и положить в спирт, как поступили в свое время с ухом Мартинуци *). Наконец секретарь брызнул водой в лицо баронессы, после чего красавица с усилием подняла веки и устремила на каноника грустный, но вместе с тем чарующий и благодарный взгляд. Святой отец усадил ее на стул, и она постепенно пришла в себя.
— Nomen est omen — vidite Latronem, — завистливо прошептал каноник Йожеф Сентгайи, любивший сочинять злые каламбуры. — Vidite Latronem![94]
— Дочь моя, — проговорил аудитор кротким голосом, — может быть, ты скорее придешь в себя на свежем воздухе. Об остальных подробностях мы допросим тебя как-нибудь в другой раз.
Вслед за тем допросили приходского священника Сучинку, который утверждал, что все протекало в полнейшем порядке и что ритуал, предписываемый кодексом Пазманя, был соблюден пункт за пунктом.
Допрос попа Сучинки занял весьма много времени, прокурор задавал ему всевозможные перекрестные вопросы, пробуя сбить его, но это не удалось. Каноники слишком переутомились и перенесли заседание на следующий день.
Все подробности процесса, хоть он и происходил при закрытых дверях, быстро стали известны публике. Обморок Марии Дёри («Будь я последним дураком, если это не было разученной комедией!» — говорили многие), показания попа, смятение, написанное на его лице, приятные манеры Бутлера, замечания, оброненные канониками дома, в присутствии своих поварих, — все это через несколько часов уже послужило пищей для пересудов на базарной площади; люди обсуждали все «за» и «против», спорили, заключали пари — словом, жители города только и жили этим процессом. Знаменитый процесс и впрямь вызвал большое оживление в Эгере. Со всей округи в город съехалось много дворян; одни хотели встретиться с Дёри, другие — с Бутлером. Приехали, конечно, и такие, которые просто рассчитывали провести несколько интересных вечеров, сдобренных, разумеется, карточной игрой; в город прикатила и труппа Фесписа. Голь на выдумки хитра. Бродячие актеры, подвизавшиеся до этого в Мишкольце, пронюхали, что грандиозный бутлеровский процесс продлится несколько недель и на него во множестве съедется скучающая знать.
И они не просчитались. Господин Фаи, бывший большим меценатом, в первый же день скупил все оставшиеся билеты и роздал их прислуге Бутлера — гусарам, поварам и служанкам, с тем условием, чтобы потом они разыграли этот спектакль на домашней сцене. А так как все дворянство, пребывавшее в Эгере, собралось после ужина в замке Бутлера, то господин Фаи и призвал в большой зал прислугу, побывавшую на представлении. После долгих препирательств служанки Эржи и Жужика вышли вперед и разыграли сценку — разговор двух благородных дам в горностаевых палантинах; одна из них должна была изображать Иоганну Неаполитанскую, другая — ее подругу.
— Почему ты такая печальная, герцогиня Иоганна? — спросила Эржи.
— И вовсе я не печальна, — ответила Жужика.
— Нет, ты печальна. Наверное, у тебя большое горе?
— Да какое тут горе, я же весела.
— Нет, печальна, говорю тебе. Не упрямься, как ослица.
— Ей-богу, я весела, а ежели ты еще раз назовешь меня ослицей здесь, перед благородными господами, я оттаскаю тебя за волосы…
Из-за этого спора, так и оставшегося неразрешенным, дальнейшие перипетии разыгрываемой драмы никак не могли развернуться. Господа еще надрывались от смеха, когда в зал неожиданно вошел старый Хорват.
Он был встречен присутствующими с бурной радостью, а Бутлер — тот прямо бросился ему на шею.
— Как я счастлив, что и вы здесь, дорогой дядюшка! Хорват тоже нежно обнял Бутлера.
— Если уж я полюблю кого, то никогда не покину. Позднее, в более узком кругу друзей, Хорват рассказал, что сегодня пополудни он передал архиепископу письмо от наместника.
— Ты лично передал? — спросил Фаи.
— Да-с.
— Удивляюсь, как это он принял тебя.
— Я заранее уведомил его о письме. Архиепископ лежал на диване с забинтованной ногой, да-с.
— Тебе известно содержание письма?
— Я видел, какое сильное впечатление произвело письмо на архиепископа, когда он читал его. А кроме того, я обзавелся соглядатаем во дворце архиепископа, да-с, соглядатаем… И не далее как сегодня вечером он сообщил мне, что архиепископ втайне покинул свой дворец и посетил викария Екельфалуши. Что, однако, было в письме, я не знаю.
— Зато я-то знаю. Целебная мазь, должно быть, заключалась в нем, — недаром нога у архиепископа сразу перестала болеть.
Подобное сообщение вселило радужные надежды в души сторонников Бутлера, но сам граф Янош не был полностью удовлетворен; ему хотелось узнать еще что-то. Он отозвал Хорвата в сторону, подвел к оконной нише и напрямик выпалил ему:
— Пирошка здесь.
Старик пришел в замешательство, начал говорить запинаясь, обиняками, подыскивая слова:
— Что, Пирошка? Ах, ну да! Пирошка-то? Ну вот, и как могло тебе такое прийти в голову?
— Я видел ее.
— Это тебе показалось.
— Она была повязана крестьянским платком в горошек. Напрасны ваши старания, дорогой дядюшка, вы не умеете лгать.
— А я и не пытаюсь. Признаюсь тебе, я захватил ее с собой, только никому не говори об этом. Я не мог с ней совладать: она во что бы то ни стало хотела взглянуть на тебя. Я разрешил ей и Фриде надеть крестьянское платье и постоять на улице. Скворец всегда смотрит на виноград — вот ты ее и заметил!
— Она и сейчас еще здесь? — шепотом спросил Янош; лицо его стало задумчивым, глаза приняли мечтательное выражение.
Хорват с минуту колебался, потом, как бы решившись на что-то, лукаво подмигнул ему.
— А что ты дашь, братец, если я тайком устрою тебе с ней встречу на полчаса, тайком!..
Лицо Бутлера вспыхнуло, голова пошла кругом, в глазах зарябило, как у человека, которому хмель ударил в голову.
— Нет, нет, — произнес он немного погодя упавшим голосом, опустив руки. — Я дал честное слово, что не приближусь к ней до тех пор, пока не разрешит Фаи.
Хорват дружески пожал ему руку:
— Ты — порядочный человек! За это я и люблю тебя, да-с. Я просто хотел испытать тебя, а Пирошку я уже отправил домой. Сам же останусь здесь, пока идет допрос свидетелей, и буду писать ей письма. Таков был ее строгий наказ. Настоящая тиранка!
— Маленькая моя, бедная голубка! — молвил Бутлер, тяжело вздохнув. — Ах, если бы вы могли писать ей только хорошее!..
— Посмотрим, что принесет завтрашний день, да и все остальные… Да-с, остальные…
— Я уповаю на господа, — благоговейно произнес Янош.
— Я тоже верю в господа, но в слуг его — лишь с оглядкой… да-с, с оглядкой.
Следующий день, казалось, благоприятствовал Бутлеру. Едва начался допрос, председательствующий дал указание вице-нотариусу привлечь communis opinion[95], что случалось только в очень редких случаях.
Апеллирование к communis opinio было, разумеется, предусмотрено церковным процессуальным кодексом.
Идея суда присяжных еще с давних времен находила себе частичное отражение в церковном судопроизводстве, ибо председательствующий обычно спрашивал свидетелей: «Как судит об этом общественное мнение?» В Эгере же блаженной памяти архиепископ Ференц Ксавер Фукс еще более укрепил в церковных законах эту возвышенную тенденцию. Он ввел за правило при разбирательстве особой важности религиозных и бракоразводных дел привлечение, помимо официальных свидетелей обеих сторон (которые могут быть подучены), еще двух-трех, взятых наугад из «нейтральной толпы», и спрашивал их: «Что говорят об этом в селе?»
Когда в смежных залах, где, отделенные друг от друга, из угла в угол слонялись свидетели Бутлера и Дёри, взвешивавшие все происходящее, распространился слух о том, что суд апеллирует к communis opinio, сторонники Бутлера начали весело потирать руки.
— Вот оно, письмо наместника!
А Дёри, скрежеща зубами, возбужденно нашептывал дочери:
— Ты должна нанести визит канонику, Мария… Я не хотел, бог тому свидетель, но иначе дело не пойдет.
Мария побледнела и протестующе подняла руку, как бы пытаясь что-то отстранить от себя.
— Это необходимо, ты должна решиться на это, дитя мое, — прошипел он, — кто-то подкапывается под нас.
Тем временем суд каноников допрашивал гайдука Гергея Варгу. Его долго и с пристрастием расспрашивали; более полутора часов находился он в зале суда. («Что они его, на сковородке, что ли, поджаривают?» — нервничал Дёри.) За ним пришел черед другой свидетельницы венчанья, тетки Симанчи. Оба показали, что граф Бутлер вел себя во время обряда так же, как обычно ведут себя все женихи.
Главный аудитор. Правда ли, что жених противился?
Старуха Симанчи. Все шло как по маслу, святой, отец. Он стоял… ну прямо как агнец!
Главный аудитор. Правда ли, что он отшвырнул обручальное кольцо?
Старуха Симанчи (притворно ужаснувшись). Это такая же неправда, как если б кто сказал, что у меня вместо лица стенка. И какая только глупая голова могла выдумать этакое?
Главный аудитор. Не мели языком попусту, хоть он у тебя и без костей, и не болтай всякую чепуху. Отвечай ясно и понятно — «да» или «нет». Правда ли, что граф вырвался, когда священник хотел соединить руки жениха и невесты.
Старуха Симанчи. Куда там! Их руки, прошу покорно, так тесно соединились, словно клювы двух воркующих голубков.
Главный аудитор. Правда ли, что у вас, у свидетелей, была в ушах вата?
Старуха Симанчи. Точно так. У гайдука Гергея я видела вату, так как в ухе у него стреляло.
Прокурор. Как же так, женщина? А гайдук Гергей Варга показал, что у тебя стреляло и потому ты заткнула ухо.
Старуха Симанчи (смущенно). У меня? Я уж и не припомню, целую рученьки, ноженьки. Я только знаю, что у кого-то из нас стреляло в ухе, но было ли то мое ухо или Гергея, теперь точно не скажу.
Каноник Сентгайи. Ista persona diabolica aberrant a via recta![96]
— Ее попутал нечистый, — прошептал мутноглазый каноник Маршалко сидящему рядом с ним канонику Латору.
— Осторожней, друг, — шепотом ответил тот, — а то задаст тебе дьявол.
Главный аудитор нахмурил брови и, устремив на женщину пронизывающий взгляд, прикрикнул на нее громовым голосом:
— Признайся, во имя святой веры и пресвятой девы Марии, кто научил тебя дать такие показания?
— Никто, — промычала старуха, от страха сжавшись, как жаба.
Она зажмурила свои маленькие глазки, словно ожидая, что вот сейчас обрушатся своды зала, со стен которого на нее сурово смотрели эгерские епископы, некоторые даже в панцирях, с усами и бородой, а один так вовсе невинный младенец — трехлетний прелат Ипполит, шурин короля Матяша, в полном епископском облачении. Этот младенец на стене внушал особенный страх тетке Симанчи: ей казалось, что он смотрит прямо на нее своими умными черными глазенками.
Словом, сегодня все складывалось, по-видимому, неудачно для сторонников Дёри. Впрочем, вскоре допрос свидетелей был приостановлен, так как в полдень во дворце Бутлера давался большой обед, на который были приглашены архиепископ и все каноники. С небывалой пышностью встречал своих гостей молодой магнат; казалось, джинны, ограбив могущественного султана или калифа, силой волшебства перенесли сюда одно из сказочных пиршеств «Тысячи и одной ночи». А владыка в Стамбуле остолбенело глядит на пустой стол и повелевает подряд рубить головы всем своим поварам.
Веселье затянулось до поздней ночи, только архиепископ уехал сразу же после обеда, расцеловав Бутлера в обе щеки и назвав его «своим дорогим сыном». Это обстоятельство уже через полчаса стало известно в трактире «Три быка», служившем резиденцией сторонникам Дёри, так как и бутлеровцы и Дёри окружили друг друга соглядатаями.
— У нас нет ни таких яств, — проговорила Мария упавшим голосом, — ни таких вин.
— Зато у него нет ни таких сладких губ, как у тебя, — ответил Дёри, — ни такой улыбки.
Наверное, вина Бутлера и впрямь были хороши, ибо на следующий день члены суда выглядели очень вялыми и сонливыми, хотя допрашивали одного из главных свидетелей — старика Дёри, который с такой невинной и честной физиономией изложил весь ход событий, что, пожалуй, даже камни уверовали бы в его правоту. Порой в нем чувствовался суровый, неподкупный солдат, отличавшийся какой-то необузданной силой, — особенно это проявлялось, когда Дёри старался нанести удар Бутлеру, рисуя его трусливым и колеблющимся, изнеженным и самодовольным магнатом, за которого он никогда бы не отдал свою единственную дочь, если бы знал его так хорошо, как сейчас.
— Я участвовал в двадцати сражениях, глубокоуважаемый святой суд, на теле моем семнадцать ран, которые я получил, защищая императора и родину. Но ни одна из них не болит так сильно, как восемнадцатая рана, нанесенная мне этим плаксивым юношей, явно поддавшимся на уговоры коварного Хорвата. Его душа мягка, как хлебный мякиш, из которого можно вылепить все, что только вздумается. Весьма печально, уважаемый святой суд, что мне, убеленному сединами старику, приходится опровергать лживую выдумку, придуманную хитрым стряпчим Перевицким, и с краской стыда на лице защищать свою честь и честь дочери. Ведь здесь предаются посмеянию и обливаются грязью такие события, которые являются самыми сокровенными воспоминаниями в интимной жизни семьи. Если бы речь шла лишь обо мне, досточтимый святой суд, я бы с презрением отвернулся от этого заблудшего юноши, который именует себя графом Бутлером; если бы речь шла только о том, что этот авантюрист-лютеранин Хорват путем подлых махинаций отнимает у моей дочери огромное богатство, дабы наделить им свою, я и на это махнул бы рукой, но в вопросах чести я не признаю шуток…
— Ad rem, ad rem,[97] — наставительным тоном заметил главный аудитор.
— Я говорю по существу дела, уважаемый святой суд, ибо не мог не излить перед вами горечь души за надругательство над моей честью. Более того, — закончил старый хитрец, знавший, на что нужно бить, — защищая свою честь, я не остановлюсь ни перед чем. И те, кто осмелится посягнуть на нее, как бы высоко они ни стояли, погибнут от моего меча. Да поможет мне в этом бог!
Дремавшие каноники сразу вскинули головы при звуках этого угрожающего страстного голоса и испуганно переглянулись, как бы говоря: «Per amorem dei,[98] этот чертов солдат съест нас. Извольте-ка теперь голосовать!»
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Глупый кусочек свинца
В тот же день были допрошены Кажмари и Есенка, которые не могли сказать ничего существенного. Их поставили у дверей лишь для того, чтобы не впускать тяжущихся и просителей в канцелярию барона, где происходило венчание, ибо его высокоблагородие уездный начальник строжайше приказал, чтобы его не беспокоили. Поэтому они и не впустили Жигмонда Берната, который порывался войти туда.
— Другой причины не было?
— Не было.
— Правда ли, что жених вырвался было из канцелярии и что вы насильно вернули его туда?
— Неправда.
Так день ото дня колебались чаши весов. Подобно волнам, сменялись настроения, и, как в ловко построенной пьесе, где одно явление запутывает другое, то, что вчера казалось ясным и определенным, сегодня уже представлялось нелепым. Дело в том, что закрытое разбирательство только до тех пор оставалось тайной, пока члены суда не поднимались со своих мест. После обеда уже и воробьи чирикали о том, что произошло, и интересующееся ходом суда общественное мнение тотчас же подводило дневной баланс.
Сегодня, например, шансы сторонников Дёри так поднялись, что в лавках Мария могла бы даже покупать в кредит.
Но сегодняшний день был отмечен и еще одним интересным событием. Миклош Хорват нашел оскорбительными для себя те показания, которые, как передавали, Дёри дал о нем на суде. Напрасно Фаи и Бутлер пробовали убедить его, что с таким человеком не стоит и разговор затевать. Горячий старик отыскал где-то в лавчонке кондитера двух земпленских дворян, Баркоци и Челеи, и послал их к Дёри потребовать у него объяснения, а если потребуется, — и сатисфакции.
Барон Янош Баркоци, придав лицу строгое выражение, залпом выпил свою палинку и заявил, что готов отправиться на поиски старого волка. Молодой Челеи попробовал было отговорить Хорвата:
— Прошу вас, дорогой мой, откажитесь от своих намерений.
— Чтобы я позволил втоптать в грязь мою честь? Нет! Никогда!
— Да нет, не от дуэли откажитесь — это чепуха, дуэль не страшна! Вы от меня откажитесь, потому что я опасен для вас: там, где Челеи, всегда случается величайшее несчастье. Прошу вас, верьте мне. Если к нему направится другое лицо, дело закончится объяснением; если же пойду я — смертью.
— Гром и молния! Я именно этого и хочу.
— Ну что ж, если вы этого хотите, я готов.
Они нашли Дёри в трактире «Трех быков». Сидя за столом, он с большим аппетитом уплетал холодного гуся.
— Добро пожаловать! — крикнул он им. — Официант, принеси-ка еще парочку стаканов!
Но оба посланца остановились перед ним с важным и торжественным видом, как надлежит в Венгрии секундантам, и сказали:
— Мы пришли, сударь, по серьезному делу.
— Бре-ке-ке! — воскликнул Дёри и отложил нож в сторону. — В чем дело?
— Перед судом каноников вы якобы употребляли оскорбительные выражения по адресу Миклоша Хорвата, которого мы представляем.
— Я сказал лишь то, что хотел.
— Намерены ли вы объясниться или взять назад сказанное вами?
Дёри улыбнулся, поднес ко рту гусиную ножку и вонзил в нее зубы.
— Видите ли, господа, жареного гуся я могу проглотить, но сказанное мною однажды — нет.
Баркоци кивнул головой.
— Такая точка зрения возможна, но тогда, как это и приличествует во взаимоотношениях между дворянами, мы просим у вас удовлетворения и предлагаем выбрать вид оружия.
— Неужели? — удивился барон, разражаясь циничным смехом. — А я думал, что мы запустим друг в друга флягами из-под «Розовой наливки», и тот, кто промахнется, лишится репутации честного человека. Впрочем, я не возражаю. Вот только закушу немного и пришлю к вам, господа, двух своих секундантов.
К вечеру прибыли секунданты Дёри: кавалерийский капитан Адам Борхи, из полка Эстерхази, и некий граф Михай Тиге — прилизанный ловелас, постоянно замешанный в какой-нибудь модной истории. Последнее время он увивался вокруг Марии Дёри, сопровождал ее во время прогулок, посылал цветы, а по вечерам захаживал побалагурить к «Трем быкам», чем приобрел немалую известность среди других кавалеров города Эгер.
После непродолжительного спора, можно ли считать слово «авантюрист» настолько оскорбительным, чтобы из-за него драться, секунданты пришли к соглашению, что дуэль на пистолетах состоится завтра в пять часов утра, в рощице Сёллёшке.
Во дворце Бутлера ничего не знали об этом. На следующее утро, едва граф Янош протер глаза, со скрипом распахнулись тяжелые ворота, под сводами которых висели кожаные бурдюки, боевые секиры, пики и булавы, да все таких размеров, что современный человек не смог бы их и поднять.
Бутлер всегда неохотно просыпался по утрам, ибо неодолимая сила сознания железной рукой хватала его и выталкивала из рая, где он только что виделся с Пирошкой.
Сегодня скрип ворот быстро смешал видения его сна и разрушил тот радужный мост из золотого тумана и волшебных теней, который встает обычно на короткие мгновения между сном и явью.
Древние люди верили, что человеческая душа каждую ночь уходит бесцельно бродить, а наутро снова возвращается — это пробуждение; иногда она так далеко уходит в своих ночных скитаниях, что не может вернуться, — это смерть. Как ясно и просто смотрели тогда на смерть!
— Жига, ты слышишь? Кто-то приехал. Во двор вкатил экипаж.
Бутлер спал в одной комнате с Жигой. Еще в бытность свою студентами юридического факультета в Патаке они привыкли быть вместе и по ночам. Иногда они целую ночь напролет вели беседы в темноте, так как госпожа Фаи отпускала им свечи в ограниченном количестве, дабы их глаза не испортились от постоянного света.
Жига громко зевнул и прислушался к шуму, доносившемуся со двора.
— Может быть, приехал кто-нибудь из Эрдётелека. (Эрдётелек был резиденцией хевешских владений Бутлера.)
— Нет, скорее кто-нибудь из родственников, — предположил Жига, — прямо сюда заехал! Из управляющих никто не посмел бы явиться в такую рань. Может быть, это тетушка Анна, супруга Фаи?
— Что-то сердце заныло, Жига, ой, как заныло… Какое-то дурное предчувствие…
Со двора доносились чьи-то незнакомые голоса. Окна спальни были открыты, но спущенные жалюзи заглушали звуки, мешая разобрать, о чем идет речь. Однако суматоха все усиливалась, из разноголосого шума выделялись взволнованные восклицания, шарканье ног; казалось, поднялся весь дом и каждый его камень пришел в движение.
Бутлер звонил уже дважды, но никто не приходил.
— Что это за порядки такие? — вспылил граф Янош. — Стоит ли держать сотню слуг, если ни один не является на зов!
Наконец вошел камердинер, бледный и вместе с тем смешной: одежда в стиле рококо кое-как висела на нем, чулки спустились, жабо сбилось набок, а синяя ливрея оказалась под серой жилеткой с медными пуговицами.
— Кто приехал, Мартон? — торопливо спросил Бутлер.
— Господин Миклош Хорват, — ответил камердинер, заикаясь и до того дрожа, что у него зуб на зуб не попадал.
— Так почему же он не войдет? — нетерпеливо воскликнул граф. — Впустите его немедленно!
— Он никогда не сможет больше войти сюда, ваше сиятельство. Он скончался.
Это прозвучало так, словно в воздухе просвистел камень пущенный из пращи, и угодил Бутлеру прямо в лоб.
Испустив вопль ужаса, юноша рухнул на подушки.
— Умер? Это невозможно!
— Господин Дёри застрелил его на дуэли с час тому назад.
В одно мгновение Бутлер и Бернат спрыгнули с постели; наспех одевшись, они выбежали из комнаты.
В этот момент через большой мраморный вестибюль слуги как раз проносили тело несчастного старика; впереди с поникшей головой шел Фаи, показывая, куда нести. Платье Хорвата было залито кровью, лицо бело, как алебастр, глаза открыты — они вовсе не казались страшными и, не будь такими неподвижными, имели бы кроткое выражение.
— Если есть бог, — воскликнул потрясенный граф Бутлер, — как может он терпеть это?!
— Никакой сентиментальности, никаких причитаний, — сурово оборвал его старый Фаи. — Этим его уже не воскресишь: Старик был молодцом. Он и умер, как настоящий мужчина. Славный конец! Все! Остальное впереди.
— Пуля прошла как раз между двумя верхними ребрами и задела аорту… Эта несчастная пуля причинила столь быструю смерть, — вздохнул доктор, присутствовавший при дуэли, толстощекий господин с мутными, выцветшими глазами.
— Совсем не пуля! Что пуля! — ломал в отчаянии руки Челеи. — Не пуля тому причиной.
— А что же тогда? — рассердился доктор, смерив говорившего уничтожающим взглядом.
— Я, изволите знать, — Челеи. Там, где присутствует Челеи, всегда случается несчастье. Я говорил ему об этом, я молил его, чтоб он выбрал себе другого секунданта, но он и слушать ничего не хотел. Не правда ли, Баркоци? Ты ведь слышал, не так ли? Ведь Форгач поразил Кароя Киша секирой, позаимствованной у Челеи. Когда Людовик Второй * упал в речку и утонул, — проводником у него был Челеи; кстати сказать, речушка-то тоже называлась Челе. Я мог бы привести тысячу примеров. Возьмем хотя бы случай с Атиллой. Атилла на своей свадьбе] когда он женился на Ильдико, танцевал с юной Челеи. И что же? Наутро жена нашла его подле себя на ложе бездыханным в луже крови.
Вряд ли Челеи избрал себе подходящего собеседника, если собирался переспорить доктора. Тот и сам был донельзя словоохотлив и никогда не заботился о том, слушает ли его кто-нибудь.
— Это у меня уже третья дуэль со смертельным исходом, — говорил доктор с удовлетворением страстного коллекционера. — Да что я говорю! Четвертая! Бог свидетель, четвертая! (Он устремил взгляд в пространство, будто где-то перед ним были наколоты на булавках эти три смертельные дуэли и сейчас он прикалывал рядом с ними четвертую.) Да, ничего не поделаешь, ничего не поделаешь! Пистолет — это не кочерга.
Большинство присутствовавших сгруппировалось вокруг Баркоци, который рассказывал о последних минутах Хорвата.
— Он и двух минут не мучился. Легкая была смерть. Упокой господи душу его! Он истекал кровью, но боли почти не ощущал. Когда он упал, я подхватил его на руки. Он становился все слабее и слабее, пока, наконец, не заснул навсегда, тихо, как агнец. Однако рассудок и жало иронии он сохранил до конца и, даже умирая, сумел ужалить противника своими последними словами.
— Что он сказал? Значит, он все-таки что-то сказал? Отдал какие-то распоряжения? — спросили сразу несколько человек.
— Собрав свои последние силы, бедняга сказал как можно отчетливей, чтоб и Дёри слышал: «Я чувствую, что умираю. Тело мое отвезите к моему будущему зятю, к Бутлеру».
Бутлер расчувствовался и разразился громкими рыданиями. Тем временем в большом парадном зале наскоро соорудили катафалк. Фаи снова проявил удивительную энергию: он поспевал повсюду — распоряжался, приказывал, распределял работу. Его слова звучали отрывисто и сухо. Казалось, какая-то мощная рука приводит в движение гигантский механизм.
— Что случилось, того уже не вернешь! Сейчас нет времени на слезы и причитания. Нужно действовать. Ты, Жига, немедленно отправляйся к главному аудитору и попроси, чтобы тебя допросили сегодня же до полудня, потому что после обеда ты, захватив с собой восемь гусар, отправишься в Борноц сопровождать гроб. Вы, господин управляющий, раздобудьте где-нибудь гроб — желательно цинковый, если же не найдете, то ореховый. Сам я выезжаю через час: надо подготовить бедную девушку к тяжелому удару. Этого я не могу доверить никому другому. Пусть сейчас же запрягают в экипаж лучших рысаков. Вы, доктор, получите от управляющего свой гонорар. Секретарь пусть пойдет за лютеранским священником, чтобы он благословил покойника. Гроб следует положить на дно повозки и прикрыть сеном. Гусары пусть следуют за ней на таком расстоянии, будто едут по своим делам, чтобы не вызывать по пути подозрение в суеверном люде. Ты понял меня, Жига?
— Понял, дорогой дядюшка.
— А что будет со мной? — спросил Бутлер, вытирая заплаканные глаза.
— Ничего, ты останешься здесь.
Бутлер упрямо тряхнул головой:
— Я чувствую, что должен ехать. Во-первых, Пирошка нуждается в утешении. Во-вторых, я должен выполнить свой долг по отношению к глубокочтимому усопшему. Он из-за меня погиб, бедный! В подобном случае вам, мой опекун, не следует ссылаться на данное мною обещание. Сама судьба освобождает меня от этого обязательства. Я еду!
— Ни шагу отсюда, граф Парданьский, — загремел Фаи. — Ты и сам в каком-то оцепенении, где тебе провожать усопшего? Если ты хочешь выполнить свой долг по отношению к нему, ты должен вернуться к жизни, чтоб суметь сделать счастливой его дочь, его дитя. Ты должен остаться здесь и быть начеку, чтобы сорвать заговоры и коварные замыслы противника. Или ты белены объелся, что хочешь покинуть поле боя, уступить Дёри? Хорошая почесть усопшему! Нет, Янош, и не думай об этом. Девушка выплачется. Нет никакой нужды подбавлять в слезы розовые капли. Совмещать любовь с трауром — это окаймлять черный цвет красным. Горе само по себе возвышенное чувство. Не хочешь же ты обокрасть усопшего, лишив его полноты дочернего горя и подменив часть этого чувства сладостью встречи? Пусть плачет девушка, а ты будь начеку. Пусть у тебя будет сто ушей и тысяча рук… Да, чтоб не забыть, — пошлите сейчас же конного гонца в Бозош за господином Будаи, — он прибудет сегодня же ночью. Будаи умный и честный человек, прислушивайся к его советам, пока я не вернусь.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ Всеми чествуемый свидетель
Слух о происшедшем быстро распространился по городу и вызвал глубокое возмущение против Дёри и сочувствие к Пирошке. Все спешили поделиться друг с другом новостью, что история в Оласрёске ознаменовалась еще одной жертвой: погиб отец Пирошки. В городе все сокрушались, хотя никто не знал Хорвата. По-видимому, люди по природе своей все же скорее добры, чем злы, — разумеется, в том случае, если для них самих нет ни пользы, ни вреда.
— Бедная маленькая Пирошка! — говорили люди. — Сперва отобрали у нее жениха, а теперь убили отца. И после этого попы еще проповедуют, что мир устроен мудро!
Огромные толпы людей запрудили все переулки возле дворца Бутлера, чтобы услышать подробности. Слуги и служанки, которые должны были отнести цветы, посланные на гроб Хорвата дамами Эгера, с трудом пробирались через людское море. Но еще больше людей толпилось в эти утренние часы на улице Фельнемети (ныне называемой улицей Сечени), перед дворцом архиепископа. Когда прибыл Дёри, поднялся страшный шум; студенты-юристы выкрикивали ругательства, а некоторые из толпы даже бросали в старика комьями земли и камнями. В ответ на враждебное поведение Дёри вынул из кармана пистолет и дерзка пригрозил:
— Тот, кто меня тронет, простится с жизнью!
Даже старики выползли наружу; иные из них стояли у лавчонок, наблюдая волнение толпы; ведь оно не менее величественно и красиво, чем вид разбушевавшегося моря. Среди них был и член муниципалитета, господин Габор Корпонаи; собрав вокруг себя других, поменьше рангом, он ораторствовал:
— Оставьте вы Дёри в покое, он тут ни при чем. Хотя и говорят, что он причастен ко всему дурному, но на этот раз сам Хорват его спровоцировал. Что случилось, то случилось. Пуля не воробей, она не разбирает, куда летит. Глупый кусок свинца, точно майский жук, проносится в воздухе. Дёри тут ни при чем, потому что он тоже жертва попов; это на их совести. Ежели суд каноников заседает и допрашивает свидетелей при закрытых дверях, так почему же попы не держат в тайне всего, что там говорится? Они — первые сплетники.
— Не попы сплетники, — заступилась за них тетушка Надь, которая на расписанной желтыми тюльпанами тарелке несла домой фунт мяса и по дороге остановилась послушать умные речи, — не попы, а их кухарки.
В это время наверху, в архиепископском дворце, первым допрашивали Жигмонда Берната. С большим красноречием он рассказал об идиллической любви Бутлера и Пирошки Хорват.
Исполненный самых горячих чувств к Пирошке, говорил он, Бутлер прибыл в Рёске. Таким образом, рассуждая здраво, никак нельзя предположить, будто эта роковая свадьба могла случиться с согласия графа. Все от начала до конца было настоящим насилием. И поп был приглашен туда раньше, чем Бутлер успел обменяться хотя бы одним словом наедине с Дёри. Вечером он, Бернат, услышал отчаянный крик Бутлера, и когда, идя на зов, отыскал место преступления и заглянул с разрешения жандармов в замочную скважину, то увидел, что Дёри крепко держит за локти более слабого Бутлера. Граф Янош пытался вырваться, а священник тем временем торопливо прикрыл епитрахилью руки жениха и невесты.
Судьи, по-видимому, находились под впечатлением сегодняшней катастрофы. Они сидели молчаливые, с понурым видом, словно в воду опущенные, Только прокурор задал несколько вопросов:
— Следовательно, священник прибыл туда раньше, чем произошел конфиденциальный разговор? Чем объясняет это свидетель?
— Тем, что священник был в сговоре с Дёрн. Мотив совершенно ясен. Святейшим отцам стоит совсем немножко подумать…
— Что свидетель имеет в виду?
— Я имею в виду, — смело отвечал Бернат, — что, если какое-либо дерево плодоносит ранее обычного, значит, оно раньше и отцвело.
— Н-да…
Тут удивительным образом из карманов разом появились все табакерки.
— Ну, а почему жандармы Кажмари и Есенка не упомянули о том, что свидетелю удалось заглянуть в замочную скважину?
— Потому что они попросту подкуплены, пребывают во власти Дёри и показывают лишь то, что ему выгодно.
— Для выяснения данного обстоятельства нужно будет допросить их еще раз, — заметил председатель.
Большие, установленные на четырех алебастровых колоннах часы уже пробили двенадцать, но поскольку суд приступил сегодня к работе позднее обычного, каноники решили продолжать заседание, и гайдук архиепископа, подойдя к помещению где находились свидетели, выкрикнул:
— Йожеф Видонка!
Ответа не последовало.
Адвокат Сюч побежал разыскивать его по коридорам, громко крича: «Видонка! Видонка!» Но ему отвечало только эхо. Ищут, ищут — нет Видонки. «Пять минут назад его видел», — отзывается кто-нибудь то здесь, то там. Видонка как в воду канул.
Суд вынужден был изменить порядок допроса свидетелей и решил заслушать тех двух слуг, которые наутро после венчания заглянули в комнату новобрачных. Но ведь допрос таких свидетелей — своего рода лакомство, которое человек предпочитает вкушать, когда знает, что может почувствовать всю его прелесть; в этом смысле сегодняшний день был явно неудачен.
Впрочем, если говорить о канониках, то смаковать пикантные подробности они готовы даже на похоронах. Что же касается партии Бутлера, то для нее исчезновение Видонки было большой неприятностью. Не отыскался он и к обеду. Адвокат Сюч обыскал весь город, но столяра нигде не нашел. Не оставалось никакого сомнения, что Видонка сбежал.
Тотчас же было приказано всем гусарам сесть на коней и любой ценой догнать беглеца; ведь около полудня он был еще во дворе архиепископа, значит, не мог за это время далеко уйти.
Погоня помчалась во все концы — обследовать гору Вархедь, лесистые склоны горы Хайдухедь, прибрежные ивняки на реке Эгер.
Бутлера окончательно сразил этот новый удар, и он заперся в своих комнатах. Бернат тоже не решался двинуться в путь, хотя повозка с сеном уже стояла наготове под навесом. Как явиться к Фаи с известием, что Видонка сбежал? Ведь это конец всему. И Бернат ждал до вечера в надежде, что, может быть, до тех пор Видонку разыщут.
Однако его ожидания оказались напрасными: посланные в погоню гусары вернулись домой ни с чем.
Вечером все же пришлось отправиться в этот печальный путь. Поверх повозки, на ароматном сене, растянулся Жига Бернат. Двое слуг с фонарями в руках шагали рядом, ибо дороги в Хевеше были в скверном состоянии; поодаль рысцою трусили восемь гусар.
Так и двигались они потихоньку, никто из встречных и не подозревал, что везут на телеге. Ехали шагом. Четверка лошадей могла бы идти и рысью, но сено на повозке, хотя и было прижато бастриком, на ухабах разъезжалось в разные стороны, так что слугам то и дело приходилось оправлять воз. А ночь была темная, хоть глаз выколи. Правда, в небе порой появлялся узенький серп луны, но скоро его снова скрывали медленно ползущие по небу тяжелые черные тучи.
Жига Бернат дремал, выкопав в сене небольшое углубление, но уснуть не мог, так как телегу то и дело подбрасывало на ухабах.
— Не тужите, барич, что не можете заснуть, — утешали слуги, — зато крепко спит тот, внизу.
До полуночи не случилось ничего, а в полночь один из фонарщиков вдруг как заорет благим матом. Он отшвырнул фонарь с такой силой, что тот разлетелся вдребезги, и помчался сломя голову назад к городу. Бернат вздрогнул и проснулся. Другой фонарщик кричал вдогонку своему товарищу:
— Ишток, постой! Что с тобой?! На стекло, что ли, наступил? (Ночь была теплая, и слуги шли босиком.)
Но Ишток не отвечал и с диким воплем бежал дальше. Тогда его товарищ покачал головой, осмотрелся, осветил телегу и местность вокруг, но ничего не обнаружил. Жига соскочил с повозки и приказал вернуть Иштока. Парень, как видно, рехнулся, но гусары быстро поймают его и приведут обратно.
Как только повозка остановилась, в ночной тишине послышался конский топот, а еще немного погодя голос Иштока, о чем-то взволнованно рассказывавшего гусарам.
— Ты что, с ума спятил? — прикрикнул на него Бернат, когда гусары приблизились вместе с фонарщиком.
— Иезус-Мария! Так вы еще живы? — удивился тот. Гусары захохотали, а Ишток ухватился за поводья лошади, прижался к ней и, выбивая зубами дробь, охал и непрестанно крестился.
— Боже, боже! Милостивый боже!
— Что такое ты увидел?
— Как что? Его милость ногу высунул.
— Какая его милость?
— Покойный господин Хорват! Клянусь богом, я видел его сапог и кусок штанины!
— Ты дурень! — корил его старый гусар Йожеф Бордаш. — Он-то уж никогда больше не высунет ноги, потому что сегодня я собственными руками опустил над беднягой крышку свинцового гроба.
Глупости! Приснилось тебе все это, — успокаивал Иштока Жига.
— Нет, барич, могу на распятии поклясться! Я не из тех людей, что боятся собственной тени. Участвовал в трех сражениях, меня сам генерал Хадик * грамотой наградил. Видел я, святая правда, видел! Да я могу и то место показать, откуда он ногу высунул. Посвети-ка, сюда, кум Фитинг.
Фитинг подошел и осветил заднюю часть возка. Там и в самом деле виднелось отверстие, через которое могла высунуться нога привидения. Один из гусар лихо выхватил саблю и с шутливой небрежностью сказал:
— А ну, пощекочу я это привидение, хоть у меня и нет грамоты за храбрость от генерала Хадика! — И с этими словами он дважды ткнул саблей в сено.
Послышался глухой стон, а затем громкий рев. Все содрогнулись, даже у Жиги Берната холодок пробежал по спине, а воинственный молодой гусар от страха выронил саблю из рук.
Все были страшно перепуганы, и даже одна из лошадей, словно поняв, в чем дело, зловеще заржала и принялась биться в упряжке. Только старый Бордаш не отступил; покрутив свои седые усы, он громким голосом, точно парламентер, обратился к привидению:
— Послушай, дух! Обращаюсь к тебе, во имя отца, сына и святого духа! Лучше добром скажи, что тебе нужно. Если ничего тебе не нужно — иди с богом, а не то я сейчас выпалю в тебя из карабина.
О чудо из чудес! Дух ответил, да таким глухим голосом, словно он шел откуда-то из-под земли:
— Ой-ёй-ёй! Я не дух, а всего лишь Видонка!
— Видонка!
Лица у всех сразу просветлели, раздался громкий смех.
Более приятного и веселого разрешения всей этой истории и желать было нельзя. Только гусар, выронивший из рук саблю, чувствовал себя неловко. Зато фонарщик Ишток возгордился, потому что в конце концов он оказался прав, утверждая, что видел ногу. Однако больше всех радовался Бернат: отыскался, наконец, этот ценный свидетель.
— А ну, вылезай! — гаркнул он.
Видонка не заставил себя упрашивать, высунул одну ногу, потом другую, а затем, извиваясь, как червяк, выполз сам.
— Это я, но меня кто-то проткнул.
— А знаешь ли ты, что мы тебя целый день разыскивали? Как ты попал сюда, несчастный?
Видонка с минуту поколебался, не зная, сознаться ему или нет, а потом, пожимая плечами, сказал:
— Да вот так, пошутить решил. Пусть, думаю, меня немножко покатают. Очень уж захотелось повидаться с моей матушкой в селе Мандок, а вы как раз туда едете. Вот я и забрался в сено.
— Но, помилуй бог, как ты не задохнулся под сеном? Не могу понять! Возможно ли это?! Чем ты дышал?
— Ха-ха-ха! — рассмеялся Видонка. — Что ж, даром меня зовут мастером на все руки? Утром приходят ко мне рабочие и просят: «Ваша милость, дайте совет, как нам наладить повозку?» Я им и говорю: «Давайте, я сделаю». В передок поставили гроб, а сзади я положил два мешка с овсом, да так, что между ними остался промежуток, где свободно смог поместиться Видонка, поскольку парень он худой и стройный. Внизу в досках есть небольшая дыра — не больше, чем собака из штанов вырвет. Так что лежит себе Видонка на животе между двумя мешками, спокойненько дышит, а если дело происходит днем, даже дорогу рассматривает.
— А зачем ты давеча ногу-то высунул? — поинтересовался Бернат. — Видно, убежать хотел?
— Что вы, барич? Вспомнил про допрос свидетелей в Эгере. «Беда будет, Видонка, — говорю я себе. — Его благородие господин Фаи шкуру с тебя спустит, возвращайся-ка лучше назад!» Вот я ногу-то и высунул.
— Придется тебе возвратиться обратно, да немедленно! Есть у тебя что-нибудь из провизии?
— Была при мне сумка с хлебом и ветчиной.
Он тут же полез в свою нору и вытащил оттуда сумку.
— Счастливого пути, млади пан! Я пошел.
— Э, нет, Видонка, уж больно ты прыток! Тебя будут сопровождать два гусара, чтоб в дороге с тобой не стряслось какой беды. Дядя Бордаш, возьмите кого-нибудь с собой и берегите Видонку как зеницу ока, даже пуще.
Вот когда Видонка испугался по-настоящему. Он принялся было возражать, что уже не маленький и не боится ни черта, ни дьявола. Однако вскоре понял, что гусарский эскорт дается ему вовсе не для почета. Бросившись на землю, Видонка жалобно зарыдал, называя Берната «Жигушкой», «сердечком», «душенькой» и умоляя отпустить его на все четыре стороны, потому что Дёри обязательно его застрелит, если он выступит на процессе. Ведь застрелил же он такого большого господина, как Хорват. Пусть барин не посылает его на гибель. Что будет делать без него несчастная вдова — Катушка?!
Однако все его мольбы остались тщетными: Жига был неумолим, и двое гусар, словно какого-нибудь преступника, доставили Видонку под конвоем в Эгер. Следует признать, что они соблюли внешние почести, всю дорогу величая его «вашей милостью».
Наутро во дворце Бутлера была большая радость по поводу того, что нашелся Видонка. Однако пришлось затратить немало усилий, прежде чем смогли его доставить в епископский дворец. Он согласился лишь после долгих уговоров, при условии, что его отвезут во дворец в закрытом экипаже, где с ним рядом будут сидеть два вооруженных гусара, которые не покинут его ни на минуту. Гусары проводят его до самого зала суда и дождутся, пока он выйдет обратно. Затем в том же закрытом экипаже, нигде не останавливаясь, они поедут вместе с ним в Бозош, где и передадут его прекрасной Катушке, которая, волнуясь за него, верно уже проплакала свои бархатные глаза.
Все было сделано так, как просил Видонка. Однако, с какой бы помпой его ни везли в суд, для «его милости» это был самый страшный день во всей жизни, — он всю дорогу дрожал как осиновый лист, словно бы его везли на эшафот. Видонка, хоть и не спал всю ночь да к тому же был ранен в плечо, очутившись перед членами суда, удивительным образом осмелел и, решив: «Была не была, пропадать так пропадать», — выложил все начистоту. Он рассказал и о подъемной машине, заказанной Дёри, и о том, как смастерил ее, как ее применили, а затем уничтожили, и обо всех попытках Дёри уговорить его за хороший куш скрыться за границей под другим именем! От всего этого у каноников волосы встали дыбом.
Показания Видонки вызвали небывалую сенсацию. Весь город облегченно вздохнул, и люди стали говорить, что Видонка нанес Дёри окончательный удар. Теперь барон и его сообщники могут идти к черту. Бутлер победил!
Все только и говорили, что о Видонке. Он был, как кто-то тогда сказал, маленькой булавочкой, которая проткнула непомерно раздутый пузырь лжи.
Видонка сразу же прославился. До поздней ночи за ним гонялись два художника (вокруг архиепископского дворца все время околачивалось множество любителей изводить краску), чтобы нарисовать его портрет. За чашкой кофе местные восторженные дамы на скорую руку сплели лавровый венок и послали его Видонке. Но венок не застал Видонку — он был уже далеко: его повозка с вооруженной охраной мчалась по дороге, ведущей к Унгу. Возможно, останься он в Эгере, студенты-юристы устроили бы в его честь факельное шествие, но истинное достоинство — скромность, и Видонка уехал.
В его экипаж были впряжены четыре великолепные выездные лошади, так что встречные, принимая его за герцога, низко кланялись, а колеса в течение всей дороги весело выстукивали: «Катушка, Катушка, Катушка…»
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ Сентенция
Я хотел было привести сравнение с рыбой, ибо она достаточно глупа, но опасаюсь, что не видит она всего того, что отражается в зеркале воды. Поэтому я возьму для своего сравнения водяного клопа-гладыша: он плавает на поверхности и хорошо видит отраженные в воде кроны деревьев. Так вот, если бы такой клоп мог рассуждать, то на вопрос о том, как выглядят деревья, он отвечал бы следующим образом: «Деревья зеленые и удивительнейшим образом созданные творения: внизу у них кроны, а вверху толстые стволы; таким образом, могучие стволы, напоминающие торс дородных купальщиц, опираются на тоненькую ажурную листву. Все это, конечно, могло бы показаться невероятным, — закончил бы свои разъяснения умный водяной клоп, — если б мы, плавая там, где находятся деревья, не убедились, что они и в самом деле бесплотны».
Самообман, вроде того, о котором могла бы поведать нам водяная букашка, свойствен и человеку. Подобно клопу, человек даже не догадывается, как он заблуждается, и судит о вещах по их отражению в воде. Из одного уж примера с водяным клопом можно понять, почему с давних времен человек считает, что алая кровь, пролитая на дуэли, доказывает незапятнанную честь.
Убийство — весьма неприятное дело, даже и в столь «героической» форме, как убийство на поединке. И мы часто говорим о тех, кто совершает его: «Как он только может после этого спокойно спать?» Однако такой человек, как ни странно, приобретает всеобщее уважение, хотя на самом деле он не стал ни чище, ни лучше, а лишь забрызгал свои руки чужой кровью. Ведь он еще больше удалился от хороших людей и приблизился к аду; более того, он до половины уже погрузился в котлы преисподней, потому что ночью уже принадлежит дьяволу. И хоть нам это отлично известно, все же мы считаем, что, убив человека на дуэли, он стал более достойным уважения.
Так случилось и с Дёри после убийства Хорвата. С этого момента его как бы окружил ореол славы. Способ, с помощью которого он выдал свою дочь замуж, вызвал всеобщее негодование и отвращение к нему. А когда Дёри застрелил еще и отца соперницы, этой милой девушки, он из скверного человека превратился в сущего дьявола.
Человек-дьявол — большая сила в Венгрии, всякий хочет выслужиться перед ним. Вместо того, чтобы собраться и прикончить его общими усилиями, все стараются избежать с ним встречи. Понемногу у него создается даже группа приверженцев, потому что выгодно поддерживать дружбу с сильным.
Людская фантазия превозносит его силу и отвагу, выдумывает и приписывает подобному человеку поступки, в действительности никогда им не совершенные, вкладывает в его уста никогда не произнесенные им крылатые фразы.
Так, в архиепископском дворце большой переполох вызвало заявление, якобы сделанное Дёри в трактире «Три быка» одному молодому священнику, который, посетив попа Сучинку, пожаловался, что никак не может продвинуться по службе.
— Теперь будет достаточно возможностей выдвинуться, молодой человек, — заметил Дёри. — Уверяю вас, в ближайшие дни состоятся похороны сразу нескольких каноников.
Кухарка одного из членов суда, каноника Пружинского, подхватила эту новость на рынке и передала ее своему хозяину, добавив от себя, что гробовщик Масли уже закупил изрядное количество сухих ореховых досок.
Начиная с этого дня, из зала заседаний, где шел допрос свидетелей, наружу не просачивалось больше ни одного слова. Более того, ни один из каноников ни дома, ни в обществе уже не делился теперь своим мнением относительно процесса. Если же кто-либо упоминал о деле, святой отец лениво вскидывал брови и отделывался неопределенным «н-да, н-да, гм-гм!». Выходит, что хороший пистолет может быть также и отличнейшим замком.
А между тем заседание суда длилось еще около недели, частично потому, что заслушивали вновь вызванных свидетелей, так называемых «свидетелей общественного мнения», частично в связи с повторным допросом некоторых свидетелей.
Затем участники этой нашумевшей драмы разъехались по домам: Бутлеры — в Бозош, Дёри — в Рёске, и началась бумажная волокита — ристалище адвокатов (эх, вот когда не мешало бы вытащить из могилы Перевицкого!).
Многочисленные «ответы», «возражения», «контрответы», «окончательные ответы» затянулись еще на полтора года. Тем временем осиротевшая Пирошка жила в Борноце, в доме Берната, которого старый Хорват в своем завещании, подготовленном заблаговременно, назначил опекуном девушки.
Фаи и Бутлер не покладая рук трудились в Пожони и в Вене отыскивая могущественных патронов, чье влияние на попов можно было бы кинуть на чашу весов, чтобы выиграть процесс. Не теряли времени и Дёри со своей дочерью. Мария объехала почти всех эрцгерцогов, и придворный Солчани, лицо для того времени весьма осведомленное, писал, что «не было тогда ни одного известного или могущественного человека, который не ввязался бы в знаменитый и странный процесс, и некоторые при этом (добавляет он в скобках) запятнали себя».
Никогда еще не было столь благоприятной почвы для протекций, как в те годы (хотя венгерский климат и в иные времена не очень к ним суров). У эгерского архиепископа не было другой заботы, как найти влиятельных покровителей, которые помогли бы ему занять место архиепископа эстергомского, освободившееся после смерти герцога-примаса * Амбруша (хотя в ту пору его резиденция находилась в Надьсомбате). Что касается эгерских каноников, то и они жили мечтами о том, как бы получить назначение на одну из вакантных должностей епископа.
Поэтому ничто не могло так обрадовать и ублажить его преосвященство архиепископа барона Иштвана Фишера, как предложения нескольких влиятельных особ помочь ему получить сан герцога-примаса. Архиепископу стали вдруг слать несчетное количество писем как от приверженцев той, так и другой стороны. До чего все же хорошо, когда столько людей заботятся о тебе! Уважаемые господа каноники тоже могли быть довольны потому что и их не обошли высокопоставленные особы своими посланиями, обнадеживая относительно возможного получения той или иной епархии. Такие обещания, как пастушечьи костры, сразу осветили каноникам путь, помогая пробираться, сквозь темный лес бумаг, показаний и аргументов.
Вначале все это очень нравилось и архиепископу и каноникам, но по прошествии определенного времени положение стало нестерпимым, потому что одни обещали помочь, в случае если брак Бутлера с Марией Дёри будет расторгнут, другие же — лишь на том условии, что брак останется в силе.
Так что архиепископ и каноники, приходя в отличное расположение духа после нескольких бокалов красного, говаривали: «Хорошо, когда у тебя повсюду есть друзья». Но, будучи в дурном настроении, они со вздохом заявляли: «Ах, сколько у нас врагов!»
Наконец письма, эстафеты, а нередко и дворцовые фельдъегеря с посланиями, полными то угроз, то обещаний, так запутали архиепископа, что он не выдержал и однажды с горечью воскликнул:
— Если этот процесс еще затянется, я попаду в дом умалишенных.
Разумеется, процесс затянулся, потому что и адвокатам нужно было показать все свои знания. По мнению наивной публики, похожему на суждение водяного клопа о деревьях, могучие стволы судебного решения должны опираться на силлогизмы адвокатов, на их остроумно отточенные аргументы — эти тонкие, слабенькие веточки. И долго еще в четырех комитатах вспоминали, что адвокат Сюч сказал то-то и то-то, или хвалили адвоката, нанятого Дёри, который сильно подорвал доверие к показаниям Видонки, заявив, что он просто подкуплен Бутлерами. А явствует это из того, что обыкновенный столяр получает от них (что подтверждается представленными документами) такое же жалованье, как два вице-губернатора вместе, хотя за все время он сделал в имении графа одну лишь скамеечку для коровниц, стоившую, таким образом, дороже, чем в иных странах королевский трон… Из этого делали вывод, что адвокат Дёри лучше бутлеровского Сюча. А ведь от Бутлера, говорили, можно было ожидать, что он выставит адвокатом какого-нибудь новоявленного Демосфена. И в этом не было бы ничего удивительного, потому что Бутлер вполне мог бы в целях красноречия класть ему в рот вместо простых камешков золотые.
Наконец препирательства адвокатов закончились, и в один холодный январский день суд каноников собрался на последнее заседание и тайно, при закрытых дверях, вынес решение.
Три каноника голосовали за расторжение брака, три — против. Но кто был при этом «за», кто «против» — для любопытных так и осталось неизвестным.
Рассказывают, что председательствующий, узнав о разделении голосов, несколько мгновений колебался; от волнения у него пот выступил на лбу, а затем он взял понюшку табака из табакерки и сдавленным голосом произнес:
— Учитывая, что голоса разделились, я во имя отца, сына и святого духа и согласно обычаям церкви присоединяюсь к тем, кто голосовал за сохранение брачных уз.
Таким образом, суд каноников объявил брак Бутлера и Марии Дёри законным. Это был конец.
А мир продолжал существовать и дальше. Зимнее солнце, как и прежде, смеясь заглядывало в окна. Не случилось и землетрясения, которое во имя справедливости должно было разрушить дворец; не выскочили из рам древние епископы, портреты которых украшали стены. Ничто не шелохнулось, словно и бога не было на небесах. Только студенты-юристы, узнав о решении суда, ночью выбили окна у каноников — как у тех, что голосовали против, так и у тех, что были за расторжение брака.
А пока в домах каноников звенели разбитые стекла и в комнаты падали камни и тухлые яйца, во дворце архиепископа царила безмятежная тишина. Архиепископ сладко спал на белоснежных подушках и видел радужные сны.
Ему снилось, что с неба спустилась белка с короной на голове, запряженная в маленькую золотую повозку с красной упряжью. Колеса тележки быстро вращались в молочно-белом воздухе, но казалось, что это совсем не воздух, а крутой склон горы, и что белка катится в бездну с головокружительной высоты. Мимо пролетали два белых голубя, но повозка сбила их, и птицы упали вниз с переломанными крыльями, а белка все мчалась вперед, сверкая своей короной. Белка эта удивительно походила на императрицу Людовику. Затем изящная золотая повозка очутилась на земле и остановилась перед резиденцией архиепископа. Два его гусара — Пали и Дюрка — подскочили к ней, сделавшись сразу крохотными, вроде тех, которых обычно изображают на медовых пряниках, и сняли с повозки груз — золотой орешек. Архиепископ схватил орешек и начал раскусывать его зубом (поскольку у него был всего-навсего один зуб). Раскусил, а внутри орешка что-то красное. Архиепископ стал теребить, разворачивать: видит, красная сердцевина орешка растет, растет и вдруг становится… кардинальской шапкой!
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ Почки под снегом
Почему все должно было произойти именно так? Откуда мне знать? Я думаю, это случилось по той же причине, по какой и реки текут как им вздумается, а не так, как направил бы их человек.
Эти стремительные потоки то туда повернут, то сюда; вот расстилается чудесный край, а они возьмут да и повернут к угрюмым скалам или направят свой бег в бесплодную, суровую пустыню; и все торопятся, спешат, вечно спешат…
Порою же они вдруг сворачивают без всякой причины и некоторое время бегут к тому самому месту, где были вчера… Может быть, они потеряли что-нибудь по дороге? Ничего подобного: они возвращаются вовсе не тем руслом, где могли бы вновь обрести потерянное.
Тогда почему же они возвращаются? Есть в этом какой-нибудь смысл? Если б они не спешили, их возвращение можно было бы как-то объяснить, если б они не поворачивали вспять, понятна и оправдана была бы их торопливость.
Они бегут и бегут сломя голову, так, как им заблагорассудится.
Но постойте! Их ли это воля? — вот вопрос! Не тайные ли властные силы земли управляют их бегом? Не горы ли и скалы преграждают им путь и заставляют сворачивать то в ту, то в другую сторону? Одному богу известно, и достаточно, что он это знает. Бесспорно лишь одно: так или иначе, но в один прекрасный день они прибегут туда, куда спешат: во всепоглощающее море, которое ждет их и больше уже никуда не отпустит.
Подобно тому как воды безудержно стремятся, несутся с лихорадочной быстротой даже к той горе, которая потом преградит им путь (в конце концов они даже и не знают этого), так бурным потоком неслись события бракоразводного процесса Бутлера.
Приговор суда каноников подействовал на всех удручающе, однако Фаи сохранял мужество, не давая пасть духом и Бутлеру.
— Хладнокровие, сын мой Янош, теперь мы передадим дело в коллегию архиепископов.
— Но и там заседают попы.
— Да, но те попы лучше, и потом за их спиной нет этой коварной лисы — Фишера. А если мы и там проиграем дело, существует еще папский суд. У нас есть время. Ведь Пирошка терпеливо ждет. Ты же читал ее письмо?
Дело в том, что после состоявшегося решения суда Фаи спросил Пирошку в письме: готова ли она ждать Бутлера, пока дело пройдет все инстанции (ибо до тех пор всегда есть надежда)?
Пирошка ответила: «Я буду ждать, пока есть надежда, буду ждать и тогда, когда ее не станет».
Разве в состоянии шесть эгерских каноников даже на тысячах фолиантов пергамента написать столько горьких слов, чтобы они смогли испортить сладость этих двух строчек?
Что бы ни говорили поэты, горе не в силах сломить человека. Кажется почти невероятным, сколько горя может принять на себя человек. Есть люди, которым безразлично, сколь велико то горе, которое обрушивается на их плечи, — с фунт оно или во много тысяч раз больше. Маленький муравей с одинаковым проворством ползает и под большой глыбой и под маленьким камешком. Бутлер не мог даже представить себе, что сможет пережить такой исход дела, при котором останется в силе прежнее решение. И что же — он все еще живет и даже продолжает строить планы.
А положение стало куда хуже, чем прежде. Теперь и Мария — Дёри повела себя смелее. До сих пор она втихомолку пробиралась в замки Бутлера, разыгрывала из себя несчастную, достойную всяческого сожаления, которую родной отец выгнал из дома («Убирайся вместе со своим ублюдком к мужу, пусть все видят, что ты там живешь!»), она взывала к милости управляющих, которые не решались выставить ее, рассуждая так: «Дьявол не дремлет, а истина спит: кто знает, может, она еще будет когда-нибудь нашей госпожой». Но теперь иное дело: приговор уже вынесен, и она — настоящая графиня Бутлер. С большой помпой водворилась она в парданьском замке, окружила себя камеристками, горничными и завела собственную гофмейстершу. Так как управляющий Ференц Ногал стал протестовать против этого, графиня обратилась с жалобой к комитатскому собранию. Торонтальский вице-губернатор посетил Бутлера и убедил его, что, поскольку эта женщина носит его имя, граф, как один из первейших магнатов и кавалеров Венгрии, не может допустить — но крайней мере, до тех пор, пока суд не вынесет другого приговора, — чтобы она жила в какой-нибудь дыре, ибо тем самым будет скомпрометировано имя Бутлеров.
Граф ответил на это, что не признает ее своей женой, но, принимая во внимание, что закон остается законом и один приговор суда уже вынесен, разрешает Марии Дёри впредь до изменения этого приговора жить в эрдётелекском замке Бутлера и ежемесячно брать из его казны две тысячи форинтов, с тем, однако, условием, чтобы в других его замках и ноги ее не было.
Итак, Мария обосновалась в эрдётелекском замке. Граф Тиге и эгерские армейские офицеры были ее каждодневными гостями. Шум веселых пиршеств нарушил тишину доселе заброшенного гнезда. И все же соглядатаи Фаи не могли сообщить ничего такого, что свидетельствовало бы о распутном поведении Марии. А между тем в качестве мажордома в замке подвизался сам хитроумный Крок, под именем Яноша Кампоша, и особенно зорко следил за тем, не начнет ли посещать замок поп из Рёске (переодетый или еще в каком-нибудь виде).
Но Мария была умна и умела себя блюсти. Более того, с присущей женщинам хитростью она так преобразила Эрдётелек, словно эта была подлинная резиденция Бутлеров; что касается самого графа, то он «просто-напросто выродок, циник, который бросил свою честную дворянскую семью и рыщет по свету, одержимый бредовой манией».
Надо сказать, что в Германии проживало множество Бутлеров; здесь были и бароны, и просто дворяне, и обедневшие, но достойные рыцари. Была там целая куча детей, уйма старых дев, всевозможные дяди и тети, с которыми Мария завязала родственную переписку, всячески заманивала их в Эрдётелек и даже оплачивала им путевые расходы. Тут они как сыр в масле катались, и не проходило дня, чтобы за столом в замке не сидели четыре-пять человек из рода Бутлеров.
Было поистине удивительно, как ловко сумела она собрать в своем доме столько красноносых пожилых особ, носивших очки, напудренные парики, а также имя Бутлеров. Большинство этих благородных дам в прошлом были фрейлинами при каком-нибудь из тех маленьких немецких дворов, где княгиня запирала на ночь сахарницу, а его светлость князь с возмущением отпихивал стул, если поданный к обеду цыпленок оказывался без одной ножки; за хищение цыплячьей ножки рассвирепевший князь грозил всему двору драконовскими мерами, а если был по природе добросердечен, — то своим отречением.
Бывшие придворные дамы придали эрдётелекскому замку такой лоск, что сливки дворянского общества комитата Хевеш постепенно стали смотреть сквозь пальцы на «предшествующие события», и Алмаши, Брезоваи, Добоцки, Луби и даже пуритане Папсасы не устояли перед искушением повезти своих жен с визитом в Эрдётелек.
Обо всем этом папаша Крок докладывал Фаи следующим образом:
«Придворные дамы ходят в донельзя поношенных шелковых юбках, но окрестным дворянкам нравится их шелест, и они по очереди приезжают в Телек поучиться хорошим манерам.
И все же госпожа Мария несчастна, ее снедает какая-то тайная грусть. Часто она часами бродит в одиночестве по саду, прикасаясь концом зонтика к цветам. А когда женщина прикасается к цветку, она всегда мысленно кого-то целует. Probatum est.[99]
Не могу разобраться, кто засел у нее в голове. Только не граф Тиге. Недавно во время прогулки Тиге попытался было поправить локон, выбившийся у госпожи из-под шляпки, но потерпел неудачу. Рассердившись, она пригрозила ему: «Ведите себя прилично, слышите, господин граф, ибо я хоть и одна-одинешенька, но есть у меня муж или нет, а десять ноготков всегда при мне, и если вы сомневаетесь, я помогу вам в этом убедиться».
С остальными офицерами она, можно сказать, холодна как лед и беседует с ними только от скуки. Удивительная женщина! Свою маленькую девочку, именуемую «графинечкой», она не любит, из чего следует, что не любит и попа, и я напрасно подкарауливаю его…
Позавчера сюда прибыл и сам старик Дёри вместе со своим шимпанзе. Приживалки графини Бутлер проделывают с обезьяной всевозможные шутки. Да они и походят друг на друга.
Недавно я подслушал в замочную скважину следующий разговор между отцом и дочерью. Она сказала:
— Ах, отец, такая жизнь — сущее рабство, и коли продлится долго, станет для меня невыносимой.
— Терпение, терпение, время может поправить все то, что мы упустили.
Госпожа заплакала.
— Даже камень может повернуться в недрах земли, подмываемый подземными ручейками, но его сердце никогда не обратится ко мне.
— Кто знает! Со временем он забудет Пирошку.
— Ты думаешь, папа?
— Уверен в этом.
— Из чего ты это заключаешь?
— Я знаю человеческое сердце: оно пылает, пылает, но время гасит его пыл.
— Так ли?
— Эх, видела ли ты когда-нибудь, чтоб толстое полено непрестанно горело и не сгорало бы, не превратилось в пепел? Видела ли ты нечто подобное? А ну-ка, скажи! Ясно же — такого не бывает! Так и его сердце когда-нибудь охладеет; а когда это случится, то ветер, быть может, принесет к тебе пепел его сердца, особливо если ты проявишь побольше ловкости.
Этот разговор я только потому сообщаю вашей милости, что у меня есть подозрение, что госпожа Мария уже наказана господом, поскольку она втайне любит графа Яноша. Конечно, это только предположение Крока, который лишь чует, но не видит. Хотя очень часто нюх у него куда лучше зрения. Остаюсь преданный слуга вашей милости и т. д.».
Фаи прочитал это письмо, но Бутлеру не сказал о нем ни слова. Он считал более полезным отвлечь внимание графа Яноша от этого злополучного процесса и уговорил его поехать на сессию государственного собрания в Пожонь, чтобы там приобщиться к политике. Конечно, политика — это размалеванная девица, и в конце концов она обманывает человека, но на некоторое время ею можно порядком увлечься.
Между тем время летело, как птица, а процесс полз, как черепаха. Прошел год, прежде чем коллегия архиепископов объявила свой приговор; еще год понадобился для решения этого дела папским судом. Дважды замерзал и дважды оттаивал маленький ручеек в борноцком саду Берната, пока и эти две высшие апелляционные инстанции признали законность брака.
— Ну, теперь нам осталось обратиться только к богу! — воскликнул Фаи с глубокой горечью.
Трудно даже представить себе, как подавлены были сторонники Бутлера. Теперь и надежды никакой не оставалось. А ведь в кладовой у бога надежда хранится в самом большом мешке, который никогда не завязывается, чтобы каждый мог запустить в него руку; лишь в этом одном бог безотказно щедр.
Так случилось и теперь. Не пришлось даже обращаться к богу: он сам вскоре пробудил в них надежду; правда, на сей раз это было сопряжено для него с некоторыми трудностями, ибо сначала ему пришлось взять к себе на небо почтенную тетку Симанчи. Так вот, тетка Симанчи умерла. Поговаривали, — что в ней скопилось слишком много палинки, — от нее старуха и сгорела. Лежа на смертном одре, она позвала к себе сельского старосту и двух соседей: скорняка Йожефа Турпиша и нашего доброго знакомого трактирщика Дёрдя Тоота. Плачущие внуки предлагали послать и за попом, но старуха только головой покачала: дескать, не нужно, потому что она хочет умереть как добрая христианка; ей нужны лишь представитель власти и два соседа.
Когда все собрались у ее постели, старуха, вверяя богу свою душу, заявила, что на совести у нее лежит тяжкий грех, который она не хочет брать с собой на тот свет.
Она чистосердечно призналась, что в Эгере перед судом каноников дала ложные показания: граф Бутлер не хотел жениться на барышне Дёри, отшвырнул обручальное кольцо и угодил ей, Симанчи, в глаз; с тех пор каждое полнолуние она чувствует боль в виске. Граф вырвал свою руку у невесты, не раз повторяя, что она не нужна ни душе его, ни плоти…
Некоторое время это признание передавалось крестьянами из уст в уста под большим секретом; никто не решался говорить о нем открыто из боязни перед Дёри. Однако почтенный Тоот не счел за труд собрать свою котомку и отправиться в путь к тому, кого оно так интересовало. Поскольку граф Бутлер был в отъезде — в Пожони, на сессии государственного собрания, трактирщик поспешил в Борноц, к его невесте, которая вот уже третий год носила траур по своему отцу.
Ах, и до чего же хороша была эта маленькая Пирошка! Никогда в своей жизни не забудет ее старик Тоот. А как она была любезна с ним, как благодарила его! Ему стряпали самые лакомые кушанья, расспрашивали, что и как он любит, словно герцог какой остановился у них в доме; не хотели отпустить из дому на ночь глядя (старик-то пришел к ним поздним вечером), спать его уложили в роскошную постель, и сама Пирошка шла впереди со свечкой, провожая в отведенную ему комнату.
Наш бедный Тоот долго отказывался принимать все эти знаки внимания, смущался, не зная, как себя вести. В комнате он то и дело натыкался на всевозможную мебель, поминутно повторяя, что дело-то не стоит и разговоров, что молодой граф — его хороший знакомый, что сейчас, мол, он свободен от полевых работ и забрел сюда больше прогулки ради. Есть он тоже не очень-то хотел, а при каждом новом блюде вздыхал и сетовал, что-де молодые господа не пожелали тогда съесть у него жареных цыплят, — с этого и начались все напасти.
— Господин Тоот, вы возвратили мне жизнь! — благодарила его барышня и, расшалившись, как маленькая девочка, тут же после ужина забралась на колени к старому Бернату, который принялся ее укачивать. А пожилая госпожа так смеялась, так смеялась, что даже слезы выступили у нее на глазах.
— Старик-то мой, я вижу, еще хоть куда!
Это замечание до того пришлось по душе старому Бернату, что он, хоть на дворе уже была ночь, взял фонарь и сам спустился в подвал (никак нельзя было отговорить его от этого), сказав, что у него в подвале зарыта в песке бутылка токайского вина, которому столько лет, сколько владельцу. Ну, а ему уже немало лет! Вскоре появилась и покрытая паутиной бутылка, которую принес торжествующий Бернат.
— Более дорогого гостя у нас и быть не может, — проговорил старик. — Я всегда сожалел бы, если б распил эту бутылку с кем-нибудь другим.
Бутылку откупорили и вино разлили по бокалам. Хозяйка дома тоже выпила вместе со всеми; Пирошка наполнила ей бокал и произнесла тост в честь почтенного Тоота. Бог знает, что она такое сказала, слова эти он теперь уж забыл, но как только трактирщик заметил, что барышня обращается к нему, одному богу известно, почему у него так защемило сердце, что слезы подступили к горлу, хотя в последний раз он плакал, когда его купала повивальная бабка.
А ночью, когда все спали, бедная барышня своей нежной ручкой принялась писать Фаи и писала почти всю ночь. Она сообщила ему все, о чем поведала перед смертью грешница тетка Симанчи. «За то, что низкие свидетели и злые судьи одну за другой ломали ступеньки на пути к нашему счастью, сам бог подставляет нам теперь спасительную лестницу. Надо снова без промедлений начинать процесс…»
Чтобы не терять ни секунды, внизу дожидался конный гонец, и он понесся сломя голову, спеша доставить письмо в Патак или в Кохань, где мог находиться Фаи.
На рассвете, когда наступило время прощаться с гостем, Пирошка уже была на ногах и выглядела румяной, как яблочко, и веселой, как пташка, которой бросили в клетку кусочек сахара. От этого кусочка бедняжке кажется, что она на воле и покачивается на зеленой ветке. Девушка принялась выспрашивать у Тоота, чем и как она могла бы доставить ему радость. Она упрашивала его принять какой-нибудь маленький сувенир — часы или кольцо, и разложила перед ним столько золотых, вещичек, сколько двадцать сорок не натаскают за всю жизнь.
— Видите, я богата, и мне только приятно будет подарить вам что-нибудь в знак благодарности.
Наш почтенный Тоот густо покраснел и обиженно отодвинул от себя золотые безделушки.
— То, что я сделал, изволите знать, я сделал не ради подарков! Я ведь дворянин, с вашего разрешения!
— И все-таки вы должны принять от меня хоть что-нибудь. Иначе вы меня обидите.
Господину Тооту ничего не оставалось делать, как покориться судьбе, и он задумался, что бы ему выбрать.
— Только обязательно что-нибудь золотое, — добавила Пирошка, догадавшись, что он ищет самую незначительную вещицу.
— Ну что ж, если уж обязательно золотое, — проговорил трактирщик, чувствуя, что затылок его покрывается испариной, — пусть даст мне барышня небольшую прядь своих золотых волос, которую я мог бы вложить в молитвенник дочурки, ибо сам-то я, чего скрывать, не имею обыкновения молиться, потому лишь, что попы советуют это делать. Что может быть доброго в их советах!
— Ай-яй-яй, господин Тоот, — кокетливо погрозила ему девушка, — никогда бы не подумала, что вы такой скверный человек.
Однако вслед за тем девушка тотчас же взяла ножницы и отрезала от своих волос локон. Маленькие ножницы скрипнули, словно заплакали.
Любуясь золотистой прядью и нежно перебирая ее своими узловатыми пальцами, господин Тоот вдруг нарочито сурово сдвинул брови и принялся стращать барышню:
— Хе-хе-хе, что сказал бы теперь его сиятельство граф Бутлер, если б узнал, что у меня есть?
Пирошка улыбнулась.
— Он не мог бы ничего сказать, потому что я вся принадлежу ему, и лишь эти волосы — не его. Когда он просил моей руки, у меня были другие, но за время болезни они выпали.
Барышня Хорват даже проводила Тоота до самого большака и на виду у проходивших крестьян положила свою пухлую маленькую ручку на его большую шершавую ладонь.
— Да благословит вас бог, господин Тоот. И непременно заходите к нам, если случится быть в наших краях.
— И вы к нам пожалуйте, когда станете графиней и судьба приведет вас в Рёске. Вы когда-нибудь бывали в Рёске?
— Нет.
— Хорошее село… — Но тут он вспомнил, что после всего случившегося в Рёске не следовало бы, собственно говоря, упоминать о нем, и добавил: — Чтоб ему провалиться на дно ада! Впрочем, если б студенты съели тогда цыплят, то, возможно, мы и не беседовали бы сейчас друг с другом.
Сказав это, он медленно отправился в обратный путь, погруженный в глубокие думы. В доме Бернатов он пробудил к жизни такие сладкие надежды, что влюбленная девушка могла прожить ими еще несколько лет.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ Блеск императорского двора
После показаний умершей тетки Симанчи борьба вокруг дела Бутлера снова разгорелась, как потревоженные угольки. Оба враждебных лагеря взялись за оружие, чтобы опять стать к барьеру. Представшая в новом свете подоплека этой истории вызвала особое возмущение среди дворянства. Протестанты иронизировали: «До каких размеров дошла коррупция среди католического духовенства». Католики тоже были шокированы. Пал Надь хотел вынести дело на открытое обсуждение, и его еле отговорили от этого. Один из графов Эстерхази заявил якобы, что если не будет исправлена ошибка, то он и сам перейдет в другую веру.
На балу, устроенном наместником, Миклош Драшкович громогласно заявил перед гостями:
— Кого защищает духовенство такой вопиющей ложью? Попа из Рёске. Этому проходимцу следовало бы отсечь по плечо руку, которой он совершил благословение, а его самого привязать к хвостам лошадей и разорвать на части, если только в этой стране серьезно относятся к девизу его величества: «Justitia regnorum fundamentum».[100]
За это время Бутлер приобрел в Пожони много друзей; его девичья скромность, огромное богатство, которое он щедро расточал направо и налево, большое горе, которое носил в себе, — все это привлекло к нему много сердец. Одновременно росла всеобщая неприязнь к архиепископу Фишеру, сознательно допустившему поругание святыни брака. Возмущение было столь велико, что король, намеревавшийся назначить Фишера герцогом-примасом, вынужден был отказаться от своего намерения и назначить на этот пост Шандора Руднаи. При таких благоприятных перспективах Бутлер вновь возобновил процесс в Эгере.
— Ну, на этот раз проиграть уже невозможно!
Сам почтённый ученый Шандор Кёви подбадривал Фаи:
— Сенека говорит, что для бога не существует более приятного зрелища, чем мужчина, сражающийся со слепым роком. Ну-с, теперь такого зрелища больше не будет, ибо ныне и судьба уже за Бутлера.
Так бы оно, разумеется, и было, если б богини судьбы Парки пряли нить жизни всегда из одной и той же кудели и если б никто ее не подменял!.. А тут пришли в движение ультрамонтаны, опасавшиеся, что дело может кончиться сильной компрометацией церкви. Иезуиты еще при Иосифе II пророчили: «Мы вернемся, как орлы!» Они вернулись, это правда, но не как орлы, а как кроты, и принялись в потемках за свою работу. И хотя дело Бутлера было, по существу, мелочишкой в большой политической игре, иезуиты, которые, несомненно, были авторами поговорки: «И малая пташка — дар божий», перешедшей позже к картежникам (редкий случай иезуитской щедрости), — ухватились и за него. Вообще в мире не было ни такого большого дела, взяться за которое они побоялись бы, ни такого малого, заняться которым они побрезговали бы. Сегодня иезуит мучает овцу, чтобы получить с нее шерсть подлиннее, завтра раздразнит льва, чтобы тот разорвал кого-нибудь на куски, послезавтра будет возиться с блохой, чтобы при случае запустить ее в складки одежды какой-нибудь женщины.
Они преимущественно находились при дворе и там плели свою тонкую паутину. Самым ловким и хитрым среди них был некий Леринц Вирке, патер родом из Кашши, духовник эрцгерцогини Марии-Луизы. Придворные круги, а в особенности слабый пол, весьма заинтересовались новым поворотом, произошедшим в деле Бутлера. Еще бы, ведь это дело, на протяжении нескольких лет дававшее пищу стольким занимательным сплетням, сейчас вновь воскресло. Отца Вирке осенила удачная мысль, которой он поспешил поделиться с герцогиней в ее будуаре.
— В этом деле, ваша светлость, до тех пор не будет мира, пока девушка не выйдет замуж.
— Какая девушка?
— Да эта Пирошка Хорват.
— Говорят, она красива?
— Да, очень хороша собой.
Эрцгерцогиня уже давно не была хороша собой. Она приблизилась к такому возрасту, когда женщины обращаются к благодеяниям, дабы накопить небольшой багаж, с которым можно отправиться на тот свет.
— Конечно, конечно, — проговорила она, задумавшись, — если б эта девушка вышла замуж, то граф Бутлер, пожалуй, потерял бы интерес к процессу.
— Наверняка.
— Да, но я не вижу, что тут можно сделать?
— Ваша светлость все может и сумеет спасти церковь от скандала, который неизвестно еще чем кончится.
— Боюсь, отец Леринц, что вы переоцениваете мои силы.
— Ваша светлость может взять ее в придворные дамы и быстро выдать замуж, так как она очень богата.
Эрцгерцогиня улыбнулась.
— Вы хитрец, отец Леринц, большой хитрец! Надо подумать. Только не сегодня, утро вечера мудренее.
— Пусть ангел шепнет вашей светлости во сне, что нужно делать.
Совершенно ясно, что именно он шепнул, ибо через несколько недель к унгварскому губернатору пришла от наместника эстафета, в которой говорилось, что ее светлость эрцгерцогиня Мария-Луиза посетит в Буде семью наместника и что она благосклонно отнеслась бы к тому, чтобы мадемуазель Пирошка Хорват, к которой она питает величайшую благосклонность и сочувствие, предстала перед ее светлостью. Губернатору предписывалось соблюдать в этом деле такт и осмотрительность.
Как справился с этой задачей губернатор, видно из того, что госпожа Бернат и Пирошка прибыли на троицу в Буду * и остановились в гостинице «Семь курфюрстов», что в Пеште *. Расположившись там, госпожа дала гусару следующий наказ:
— Немедленно надень парадную форму, разыщи в городе массажистку и пришли сюда: дорога так измотала меня, что все косточки ноют и просят смазки. Потом ты пойдешь к палатину, только смотри веди себя прилично, не навлеки стыда на мою голову. Там ты доложишь кому-нибудь из доверенных слуг, что мы прибыли, понимаешь, что мы прибыли и ожидаем приказаний. Все, что тебе скажут, ты хорошенько запомни, чтоб, возвратившись домой, мог ясно и толково все передать.
Гусар ушел и, пока дамы разбирали и вынимали из коробок и саквояжей платья и кружева, вернулся с известием, что ни одной массажистки не нашел, потому что «живут они только в деревне».
— Ну, а у палатина был?
— Так точно, был.
— С кем ты говорил?
— С самим палатином, осмелюсь доложить.
— Быть того не может!.. — удивилась госпожа Бернат. — Неужели ты говорил с ним лично? И ты все ему сказал?
— Так точно, сказал.
— И что он велел передать?
— Сказал, что есть комната.
Гусар не успел и договорить, как госпожа Бернат, которая, как известно, была вспыльчива и тяжела на руку, так смазала беднягу по физиономии, что у того искры из глаз посыпались.
— Ну что, есть в Пеште массажистка, а? Ведь ты был в трактире «Палатинус», осел ты этакий!
Пришлось, конечно, еще раз послать его во дворец наместника и дать ему в провожатые привратника из «Семи курфюрстов».
Правда, на этот раз гусар хорошо выполнил поручение, потому что уже на следующее утро за дамами приехал золоченый придворный экипаж.
Долго пришлось бы описывать, как, по моим представлениям, принимали их при дворе, тем более что госпожа Бернат рассказывала об этом тысячу раз, неизменно прибавляя в заключение: «Я и теперь скажу, повидав эрцгерцогиню, ее дочерей и супругу палатина, что самая благовоспитанная, самая красивая из всех — услада души моей, наша Пирошка».
Мария-Луиза приняла Пирошку и ее спутницу в келенфёльдской вилле, где палатин с супругой спасались от рано наступившего в тот год летнего зноя.
Когда экипаж остановился, они очутились у ворот сада, какие можно встретить в любой деревне. Они не увидели там ни часовых, ни лейб-гвардейцев, ни швейцаров в золотых галунах, ни снующей туда и сюда придворной челяди; только старая белая собака помахивала хвостом, высунув красный влажный язык. Среди кустов копался в земле какой-то высокий пожилой человек в поношенном платье. По его лицу, продолговатому и безусому, покрытому морщинами, градом струился пот.
— Скажите-ка, друг мой, — обратилась к нему по-немецки госпожа Бернат, — кому следует доложить о нашем приезде, чтобы ее светлость Мария-Луиза приняла нас?
Старик приподнял широкополую соломенную шляпу и с силой вонзил в землю лопату, показывая тем, что готов проводить их. Он повел их к скромному на вид зданию и, открыв дверь, пропустил дам вперед.
Госпожа Бернат, полагая, что дальше старик не пойдет, порылась в кармане и протянула ему сверкающий талер.
Почтенный мужчина улыбнулся и спрятал руки за спину, но госпожа Бернат дружески подмигнула ему, промолвив:
— Да берите уж, берите.
— Палатин не любит, когда его слуги принимают чаевые, — ответил он кротко. — Отсюда следует, что и сам он не должен брать. Не так ли, сударыня?
— Боже правый! — пролепетала госпожа Бернат, чрезвычайно встревоженная неожиданной догадкой. — Так неужели…
— Именно так, да-с, я и есть палатин. Ничего, ничего, сударыня, не смущайтесь, пожалуйста, — ведь, предлагая талер, вы желали мне добра.
Теперь уже поздно было охать, они очутились в зале, где вокруг стола сидели скромно одетые дамы. Никто на свете не подумал бы, что особы эти княжеского рода. На них не было ни шелка, ни золотого шитья, ни брюссельских или венецианских кружев; а те кружева, что украшали их шеи, ей-богу, были самой простой работы (госпожа Бернат узнала бы их за версту). Во главе стола сидела супруга палатина и раскладывала пасьянс.
— Вот вам, дорогая кузина, — сказал наместник, обращаясь к Марии-Луизе, — та венгерская девушка, которую вы желали видеть.
При этих словах супруга палатина отложила карты. Эта женщина, если хорошенько приглядеться, была не так уж уродлива. Правда, долго надо было приглядываться, чтобы она понравилась. Дочери эрцгерцогини с любопытством повернули головы, и во взглядах их, обращенных к прелестной венгерской девушке, отразилась симпатия. Они сами были уже на выданье, и у любителей худощавых женщин с тонким продолговатым лицом могли бы сойти за хорошеньких. Барышни гладили ангорских кошек, пригревшихся у них на коленях. Госпоже Бернат хотелось подтолкнуть Пирошку локтем и шепнуть ей (если б на то было время и хватило присутствия духа): «Наверняка это новейшая придворная мода».
Старое, морщинистое лицо Марии-Луизы вдруг разгладилось и прояснилось; она встала и сделала несколько шагов навстречу гостьям. Маленькая головка ее с высокой испанской прической покачивалась, словно у какаду; казалось, ее приклеили кое-как, и при каждом шаге возникало опасение, что она вот-вот упадет и покатится по земле. (Впрочем, может быть, подобные мысли возникают при воспоминании об отрубленной голове Марии-Антуанетты.)
Госпожа Бернат низко поклонилась, а Пирошка, которая сегодня впервые сменила траурное свое платье на белое, как полагалось по тогдашнему этикету, сделала реверанс; сейчас она напоминала лилию, надломленную у стебля.
— Подойдите ближе, дитя мое, — просто и без всякой рисовки проговорила эрцгерцогиня ободряющим тоном, протянув правую руку для поцелуя, а левой указывая госпоже Бернат на стул. — Садитесь, пожалуйста, сударыня.
Однако госпоже Бернат не суждено было посидеть спокойно, так как тотчас же к ней подошла супруга палатина в высоком головном уборе из накрахмаленных кружев, шуршавшем при каждом движении головы. В ее голубых глазах отражалась приторная любезность, будто госпожа Бернат была супругой палатина, а она сама — всего лишь ее экономкой.
Госпожа Бернат поспешно встала и, почтительно склонившись (она страдала ревматизмом, и такая поза была для нее самой удобной), с величайшей предусмотрительностью стала отвечать на вопросы супруги наместника. Та осведомилась о муже госпожи Бернат, о сыне, о нынешнем урожае, затем поинтересовалась, много ли у них цыплят и гусят и кормят ли их своим молоком старые куры и гусыни.
Госпожа Бернат исчерпывающе отвечала на все эти вопросы, а тем временем венская эрцгерцогиня удостоила Пирошку несколькими теплыми словами:
— У вас ведь большое горе, дитя мое, не так ли?
— Да, ваша светлость.
— Не падайте духом, дитя мое. Жизнь большей частью полна горечи и разочарований, и утешение дает нам только вера.
— И участие такого отзывчивого сердца, как сердце вашей светлости, — ответила Пирошка.
— Да, вы правильно сказали, моя милая. Я действительно очень сочувствую вам. Вы сирота?
— Да, ваша светлость. Моего отца убили на дуэли.
— Печальный случай, я уже слышала о нем. Он сильно взволновал меня. Уж тогда во мне созрело решение, которое я хотела бы теперь осуществить, если вы послушаетесь моего совета.
— Ваши слова для меня приказ.
— Я хочу взять вас под защиту, под свою личную защиту, — добавила эрцгерцогиня приторно-ласковым голосом, — я сделаю вас своей фрейлиной.
Пирошка вздрогнула, побледнела, хотела что-то сказать, но не могла произнести ни слова. Ее светлость заметила смущение девушки и обратилась прямо к госпоже Бернат:
— Вы ведь отдадите ее мне, сударыня, не так ли? Я хочу сделать ее своей фрейлиной.
— Ах, боже ты мой! Что же мне ответить? — смиренно проговорила госпожа Бернат. — В нашем доме всем распоряжается мой супруг. Мы должны обо всем спрашивать у него.
— Ну, так спросите у него, — сказала эрцгерцогиня, милостиво кивнув головой. — Надеюсь, я не получу от него отказа.
— Уж не знаю, ваша светлость, как там будет. Одно лишь верно, что вы, ваша светлость, можете найти в своих владениях столько дам, сколько пожелаете, а у моего бедного старика одна-единственная любимица.
Эрцгерцогиня только улыбнулась на эти слова, затем благосклонно отпустила дам, взяв с них обещание, что они в самом ближайшем будущем известят ее о семейном решении. Придворный экипаж отвез их в «Семь курфюрстов», где после этого им стали оказывать большой почет.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ «Не жди меня больше, моя голубка»
Так закончился этот высочайший прием, результатов которого с напряженным интересом ожидали в Земплене и Унге. Многие дамы этих комитатов дали бы отсечь свой мизинец за волшебное зеркальце, в котором можно было бы все увидеть и рожок, с помощью которого можно было бы услышать все что говорят и делают в любом уголке земли! Сгорали от нетерпения и Фаи и Бутлер, но особенно волновалась обитательница замка в Эрдётелеке, которая тоже знала, что ее соперницу пригласили ко двору наместника. Ох, чем-то все это кончится!
Фаи с радостью ухватился за предложение эрцгерцогини — очень важно, что Пирошка приобретает сейчас такую могущественную покровительницу.
«Небо проясняется, мой сынок, — писал он Бутлеру. — Пребывание Пирошки при дворе послужит кое-кому серьезным напоминанием о том, что настроение придворных кругов переменилось, и я уверен, что господа эгерские каноники скорее язык себе откусят, нежели проголосуют против нас».
Узнав о «счастье» Пирошки, Бутлер пришел в неописуемый восторг. Было единодушно решено, что ко дню Петра и Павла госпожа Фаи отвезет Пирошку в Вену и сдаст на руки светлейшей герцогине, которая вскоре после этого отправится со свитой в свою летнюю резиденцию в Тироле.
Так и сделали. Однако они ошиблись в своих расчетах. Новая покровительница Пирошки ничего не изменила в ходе событий: процесс от этого не продвинулся ни на шаг. Суд каноников в Эгере по-прежнему продолжал откладывать дело под тем или иным предлогом.
Прошло уже два года. И хотя Бутлер неоднократно обращался с просьбой ускорить разбирательство, он добился лишь допроса свидетелей, бывших у смертного одра тетки Симанчи.
Всякая война имеет две неприятные стороны: во-первых, она дорого обходится, и во-вторых, здесь могут тебя подстрелить. В остальном же это могло бы быть терпимым делом. Подобные же недостатки были присущи кампании, предпринятой Бутлером. В ответ на показания свидетелей, подтверждавших предсмертное признание тетки Симанчи, сторонники Дёри выставили своих свидетелей, которые заявили, что старуха Симанчи в последнее время страдала белой горячкой и была совершенно невменяема, так что нельзя верить ни одному ее слову.
Каноникам же было еще легче. Вопреки ожиданиям Фаи, их вовсе не смутило то обстоятельство, что невеста Бутлера находится при дворе, — ведь они лучше кого бы то ни было знали, для чего она туда приглашена. Иезуиты шепнули Фишеру, что красавица Хорват скоро выйдет замуж, недаром околачивается при дворе столько бравых гвардейцев и любезных кавалеров. Будь у девушки хоть сто сердец, и то она растеряла бы их. Пусть только отцы каноники затянут вынесение решения, а как только девушка будет устранена из игры, с Бутлером они могут расправиться, как им вздумается. Общественное мнение — словно уставшая пчела: не видит больше цветка в траве и возвращается в улей. Значит, надо сорвать этот цветок.
Вскоре и приверженцы Бутлера стали понимать, что приглашение Пирошки ко двору — не что иное, как хитрый ход: ее попросту хотят выдать замуж. Это явствовало и из писем самой Пирошки: на масленице каждую неделю кто-нибудь делал ей предложение. Ловля женихов для Пирошки стала сущим развлечением эрцгерцогини. Однако девушка упорно отказывала одному за другим.
Поняв, в чем дело, Фаи пришел в негодование и бил себя кулаком по лбу.
— Э-эх! Где же у меня голова была? Ведь никогда я не верил немцам, даже мужчинам. И вдруг немка так провела меня!
Вначале он хотел немедленно запрячь лошадей и мчаться в Вену, чтобы забрать Пирошку домой, но его отговорил Бутлер:
— Пусть она остается там! Я верю в ее добродетель и постоянство. Но если б даже не верил, тем более не следовало бы ее брать оттуда. Какое я имею право привязывать девушку к себе, когда у меня так мало надежды жениться на ней? Если она никого другого не полюбит и все будет ждать меня, какой мне от этого толк. Только сознавать ее верность мне приятно. Если ж она полюбит кого-нибудь и выйдет замуж, то от этого она, бедняжка, лишь выиграет. Я же не могу потерять то, что не имею. Только сознавать это горько.
Доводы Бутлера убедили старого Фаи.
— Ты благородно рассуждаешь, граф Янош. Ты прав.
И действительно, надежды было мало. Увидев, что Пирошка и не собирается выходить замуж, каноники, не имея возможности до бесконечности откладывать приговор, в один прекрасный день подтвердили свое прежнее решение. Брак признавался законным.
Однако, пока все это случилось, прошло еще пять лет, и в черных волосах графа Яноша уже начала серебриться седина.
В одно из воскресений управляющий Будаи, ездивший в Эгер продавать быков на убой, привез в Бозош известие о состоявшемся решении суда.
Граф Бутлер с апатичным видом поник головой.
— Я так и знал, — сказал он глухо, и на лице его не было видно никаких следов волнения.
Целый день он молча бродил по замку, по конюшням, осматривая лошадей, коров, старые любимые деревья в саду, словно прощаясь с ними. Под вечер он зашел к почтенному Будаи, поиграл немного с его внучатами, пока управляющий читал Библию, которую, хоть и знал от начала до конца наизусть, перечитывал каждое воскресенье.
— Вы умный человек, дорогой Будаи, — сказал Бутлер тихо. — Хотел бы я вас кой о чем спросить.
— Покорнейше прошу.
— Знаете ли вы такую страну на свете, где нет попов? Будаи задумался.
— Я не склонен думать, ваше сиятельство, что на земле есть такой народ, у которого не было бы священников. Возможно, есть, хоть я мало в это верю.
— Если только есть такая страна, я найду ее, — ответил Бутлер.
С этими словами он отправился к себе, приказал уложить вещи и на следующее утро уехал.
Приехав в Вену, граф остановился в гостинице «Город Франкфурт», в которой обычно жили приезжие венгерские магнаты. Два-три дня он бродил по улицам вокруг дворца Марии-Луизы, вынашивая в голове какой-то план и терзаясь сомнениями. Очевидно, он хотел встретиться с Пирошкой, чтобы сообщить ей о чем-то, но не мог решить, как это сделать.
Наконец в витрине одного ювелирного магазина он увидел изящную игрушку — серебряный кораблик. Граф Бутлер вошел, купил дорогую безделушку и попросил выгравировать на ней по-венгерски слова: «Не жди меня больше, моя голубка». Когда надпись была уже готова, он вдруг испугался: фраза была не очень-то ясная и звучала слишком мрачно. Бутлер попросил ювелира удалить эти слова, но, пока тот искал напильник, Янош передумал и решил оставить как было. Все равно.
Кораблик по просьбе Яноша запаковали и отослали Пирошке. На том Янош и успокоился, а затем отправился странствовать, чтоб вдали от дома забыть о своем горе.
Около года скитался он по свету — все, видно, искал такую страну, где нет попов. Но тщетно пытался он бежать от своих воспоминаний, тщетно искал места, отличные от наших, экзотические деревья, которые не напоминали бы ему о борноцком парке, — нигде не находил он забвения.
И он устремлялся все дальше и дальше. Но ни один край не нравился ему; нигде деревья не выдыхали столько кислорода, чтобы среди них можно было свободно и счастливо дышать; травы целого мира не скопили столько росы, чтобы смыть его печаль; море нигде не рокотало так сильно, чтобы заглушить биение его страдающего сердца.
Своего секретаря Иштвана Бота он с полпути отправил домой, сказав ему:
— Я хочу блуждать по свету один, милый Бот. Тяжело мне видеть возле себя человека, который знает, кем я был.
Он взял себе нового секретаря и нового камердинера, людей такой национальности, о которой он раньше и не слышал, и обучился их языку. Он пытался бежать от себя самого, желая убедить себя, что нет больше Яноша Бутлера. Но если люди и деревья в этих краях были другими, пальмы и фикусы с тупым равнодушием опускали свои ленивые листья, то травы смеялись Бутлеру в лицо — маленькие травинки, точь-в-точь такие же, как и у нас на родине, и они говорили Яношу: «Мы знаем тебя». И солнце было такое же, как у нас. Оно величественно, полное достоинства, плыло по небу точно так же, как в прошлом году, как много лет назад. Оно плыло одновременно над Веной, над Бозошем, над Константинополем. И где бы, на каком бы подоконнике ни выращивался в горшке цветочек, предмет забот какой-нибудь девушки, солнце грело его, ласкало, помогало раскрываться бутонам.
А моря? О, как прекрасны эти морские просторы! Ведь они безлюдны и ко всему безразличны; они ласкают взор и успокаивают. Но их поверхность бороздят большие корабли, и порой кажется, что на бескрайном серебряном листе морской глади они чертят все те же слова: «Не жди меня больше, моя голубка».
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ Милейший архиепископ Пиркер
Через тринадцать месяцев, ничего не сумев позабыть, Бутлер возвратился на родину. Он сильно исхудал и будто даже состарился. Его ожидали дурные вести: умерла чета Бернатов.
Госпожа Бернат только на три дня пережила своего супруга, состоялись грандиозные похороны старого Берната, но не успели еще вернуться по домам дворяне, съехавшиеся на погребение с четырех комитатов, как отдала богу свою благородную душу и хозяйка. Пришлось всем остаться на вторые похороны. Спешно послали на кладбище сказать, чтобы не замуровывали склеп, потому что барыня последовала за своим мужем на тот свет.
Об этом печальном событии уведомили и Пирошку. На перекладных примчалась она из Вены, да и сама заболела. Пока девушка поправлялась, в ней созрело решение, — одному богу ведомо, правильное или нет, — не возвращаться больше в Вену, о чем она известила герцогиню письмом, прося у нее извинения. Теперь Пирошка сама вела хозяйство в Борноце, взяв в управляющие старшего сына господина Будаи — Пала, который за год до этого окончил экономический факультет знаменитого кестхейского колледжа.
Впрочем, смерть не разбирает, кто прав, кто виноват, и вскоре к праотцам отправился и барон Дёри. Пришел конец его злодеяниям (пусть он за них рассчитается на том свете!). Да что толку? Тот, у кого оторвало снарядом ноги, едва ли утешится при известии, что уже разбита и пушка, пославшая этот снаряд.
Говорят, что на похоронах Дёри его не оплакивала ни одна душа, только выла обезьяна и после окончания погребального обряда никак не хотела уходить от могилы, порываясь выкопать своего хозяина из-под земли.
Теперь в темноте ночи Бутлеру светило только единственная звездочка, последняя звезда, а вернее — слабый и обманчивый луч надежды.
Тем временем умер и архиепископ Фишер. И едва только Бутлер возвратился в Венгрию, его посетил доверенный человек Ласло Пиркера, примаса * Далмации. Пиркер сообщил через него, что готов тотчас же возобновить процесс и расторгнуть брак, при условии, если его назначат архиепископом Эгера. Тот же человек сказал Бутлеру, что Пиркер и Фаи уже лично встречались по этому поводу.
Снова вскипела в Бутлере кровь. Значит, есть еще цель в жизни?! Вперед, в последнюю битву!
Бутлер помчался в Патак. Бедный Фаи был совсем плох и едва признал Яноша.
— Уж не больны ли вы, дядюшка?
— А что? Разве я плохо выгляжу? Ты знаешь, я сейчас подобен лампаде, которая еще исправна, но уже совсем без масла. Ну, а где ты бродил, блудный сын?
— Искал такую страну, где нет попов.
— Э, знаю я такую страну, только оставь ее для меня, старика. Впрочем, мы теперь нашли одного достойного попа.
— Знаю, Пиркера. Я как раз по этому поводу и приехал к вам.
— И правильно сделал. А сейчас пойди к своей тетушке, она в кладовой: следит за тем, как катают белье. Иди поцелуй ее, давно она тебя не видела! Затем, не выпрягая лошадей, отправляйся-ка в Пожонь и любой ценой добейся у наших родственников, чтобы этот честный Пиркер был назначен архиепископом. Я уже писал об этом во все концы. Ты когда приехал?
— Четыре дня тому назад.
— Слышал о бедных Бернатах?
— Все на свете преходяще! С тех пор как их нет, словно мир опустел.
Из глаз Бутлера покатились слезы, но старый Фаи поспешил отвлечь его от грустных размышлений.
— Ничего, Борноц остался прежним Борноцем. Ведь ты знаешь, твоя Пирошка сейчас там живет.
Бутлер грустно вздохнул и излил все наболевшее:
— Теперь она уже не моя. Да и как она может быть моей? На земле сотни миллионов людей, и Пирошка скорее принадлежит любому из них, только не мне. Я даже повидаться с ней не имею права.
— Конечно, конечно, — ворчливо заметил старик, — и я тот злой тиран, который стоит на твоем пути.
Бутлер опустил голову и не ответил ни слова. Но господин Фаи подбодрил его:
— Я ведь знаю, как трудно устоять перед искушением. И я когда-то был молод и полон сил. Кто носит платье из легкой газовой материи, не должен подходить к огню, потому что оно вспыхнет. Что вышло бы хорошего, если б ты наезжал в Борноц, если бы по вечерам сидели вы рядышком на канапе? Ну, что ты на меня этак уставился? С канапе ничего бы не случилось, а вот кровь бы заиграла!.. И не удивительно, ведь Пирошка такая хорошенькая, такая милая. Она тут, совсем недавно, пробыла у нас всего какой-нибудь час и так очаровала твою тетушку, что та и до сих пор от нее без ума.
— Не вспоминала она меня?
Как же! Она тоже хотела бы с тобой встретиться, да я отговорил ее.
— Ах, если бы она хоть раз позвала меня!..
— Этого она не сделает, — заметил серьезным тоном Фаи. — ты все еще представляешь ее прежней маленькой девочкой А с тех пор над нашими головами пронеслось десять лет, шутка сказать! Пирошка теперь уже серьезная дама, умная, благовоспитанная, благородная, которая знает, что делает.
— Может быть, она уже и не любит меня? — дрожащим голосом тревожно спросил Янош.
Фаи наморщил лоб и зловещим голосом произнес:
— Ну и хорошо же ты ее знаешь, дружище! Как раз сие упрямство и составляет ее болезнь. До тех пор пока стоит мир — никого, кроме тебя, она не полюбит.
Воодушевленный этим сообщением, Бутлер помчался в Пожонь и, чтобы поддержать назначение Пиркера, поднял на ноги всю свою родню. Однако ультрамонтаны тоже не дремали и, как только заметили, что Бутлеры ратуют за Пиркера, тотчас обратились против него. Снова вспыхнула борьба. Противники Пиркера пустили в ход всех своих тайных союзников: иезуитов, фанатичных аристократок; шансы на победу увеличивались то у одной, то у другой стороны. Бутлер со страстью окунулся в эту борьбу. Сейчас он походил на азартного игрока, поставившего на карту все. И он действительно все привел в движение, даже написал господину Кёви в Патак, изложив ему действия враждующих лагерей и спрашивая совета, что предпринять, к кому обратиться, потому что он хочет и должен победить любой ценой.
Господин Кёви отвечал ему:
«Мой сиятельный друг! Поскольку у вас нет орудий, которые вы могли бы направить на ваших врагов, но есть железные сундуки, целесообразно заставить их заговорить».
Гм! И верно ведь, железные сундуки! Бутлер ударил себя по лбу. Как раньше не пришло ему это в голову?! Ну что ж, пусть заговорят железные сундуки!
— Господин Бот, зайдите-ка на минутку!
Бот вошел и, покачивая головой, наблюдал, как граф, открыв один из железных ящиков, принялся выкидывать из него банковые билеты и золото, пока на столе не образовалась большая груда.
— Сосчитайте, дорогой Бот, много ли тут денег?
Граф Бутлер был простодушным идеалистом и, обладая огромными богатствами, не знал цены деньгам.
— Здесь очень много денег, ваше сиятельство.
— Ну, так вот что: соберите их, отнесите к моему поверенному и скажите, что я дарю эти деньги на Академию Людовика *. Слышали вы о такой?
— Еще бы, она находится под самым Пештом, в усадьбе семьи Орци.
— Как по-вашему, сколько молодых людей может ежегодно учиться на эти деньги?
— Думаю, человек двадцать.
— Скажите откровенно, не маловат ли мой дар?
— Напротив, царский подарок.
Первый сундук произвел большой эффект. Видно, есть у профессора Кёви и практическая сметка. Другие магнаты, воодушевленные примером Бутлера, стали тоже кое-что находить в своих глубоких карманах. Они и до этого делали вид, что шарят в них, только на деле всегда оказывалось, что им лишь хотелось почесаться. Кое-где стали развязывать старые чулки. Имя Бутлера завоевало широкую известность. Даже при дворе настроение стало благожелательным.[101]
Сам император был до невозможности скуп, но очень приветствовал щедрость своих подданных. Бутлер же, видя успех доброго совета Кёви и страстно увлеченный борьбой за Пиркера, пустил в ход содержание остальных железных сундуков — огромные суммы, некогда переданные на хранение и лежавшие в церковных епархиях или отданные взаймы отдельным лицам. Собрав все эти деньги, граф Янош обратил их в золото и уехал в Рим к папскому двору. В Рим Бутлер явился с такой помпой, что об этом заговорил весь город. Его, словно какого-нибудь короля, сопровождала свита гусар, украшенных серебром и золотом, поглазеть на которых стекались многочисленные толпы жителей «вечного города». Но гусары нравились преимущественно женщинам. Бутлер же мечтал об успехе у чернорясников. А для этого нужен был не гусар, а ловкий малый, который с умом заставил бы заговорить железные сундуки, привезенные графом на одной из повозок. И такой человек имелся в распоряжении Бутлера — господин Ференц Ногал, управляющий графскими имениями в Пардани, который говорил по-итальянски, как истый итальянец, а в обращении был хитер и гибок, как дипломат. Ногал по очереди навестил всех святых отцов, самых влиятельных в Ватикане, и так сумел их расположить, что не успел Бутлер возвратиться на родину, как Пиркер уже был назначен архиепископом.
Земля, казалось, готова была задрожать от радости, когда стало известно о назначении Пиркера. Клерикалы взвыли и принялись корить императора:
— Давно надо было обломать рога этому Бутлеру!
Следующей весной Пиркер прибыл в свою резиденцию в Эгере. Сам Бутлер организовал ему подобающую встречу. Новый архиепископ ехал в бутлеровском экипаже, следом скакали бутлеровские гусары с саблями наголо. У ворот резиденции его встретил торжественной речью сам граф. Новый архиепископ не смог дослушать до конца этой речи — до того он расчувствовался. Пустив слезу умиления, он обнял оратора и всенародно, под радостные крики зрителей, дважды поцеловал его. Во дворце он снова бросился к графу на шею, воскликнув:
— Тысячу благодарностей, сын мой, за то, что ты сделал для меня. Теперь мой черед.
Да, теперь черед был за ним! Снова появилась надежда. Еще раз выглянуло из-за туч солнце.
А может быть, солнце вовсе и не появлялось, просто было тепло, как бывает, когда хорошо протопят печь? (Один лишь господин Ногал мог бы сказать, сколько «топлива» он на это потратил!)
Но печь греет до тех пор, пока ее топят, а потом она постепенно остывает и становится холодной и ко всему безразличной.
Граф Карой Майлат, близко знавший Пиркера, наблюдая все эти объятия и излияния чувств, сказал Бутлеру с грубоватой откровенностью:
— Хорошенько всмотрись в архиепископа, Янош, таким ты не увидишь его больше никогда.
Так и случилось. По прошествии определенного времени Бутлер стал поторапливать нового архиепископа с пересмотром дела. Пиркер все обещал, а на самом деле оттягивал. Волнуясь за исход дела, граф Янош напоминал Пиркеру о его обещании, а тот все оправдывался: всегда находились тысячи причин, всегда мешало то одно, то другое. Подобная игра в прятки длилась в течение нескольких лет, пока, наконец, Бутлер не потерял терпение и не сказал Пиркеру в лицо: должен — плати, раз сторговались на расторжении брака! Тут Пиркер сбросил маску!
— Видите ли, милейший граф, то, чего вы требуете, просто невозможно. Теперь это уже не только ваше дело. Вашего в нем так мало, что даже и не видно. Это была грандиозная борьба, любезнейший граф, которая шла между церковью и людьми, косо взиравшими на духовенство. Очень печально, что на том корабле, который мы потопили, находилась и ваша пшеница. Однако нам нужно было потопить корабль, потому что на нем были наши враги, иначе они уничтожили бы наше судно…
— Значит, моя пшеница…
— Ваша пшеница, господин граф, на дне моря, и она останется там навсегда.
— Но ведь вы же когда-то сулили мне совсем другое, господин архиепископ! — с негодованием возразил Бутлер.
— Прошу прощения, дорогой граф, но я не был надлежащим образом информирован.
— Ах, понимаю, — презрительно сказал граф, — я тоже поступил неосторожно. Я тоже не был достаточно информирован относительно вашей совести.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ Экипаж едет в неизвестное
С чувством бесконечной горечи покинул Бутлер дворец архиепископа. Когда он вышел на улицу, весь мир показался ему таким пустым, словно был необитаем. Глубоко задумавшись, как человек, которому негде приклонить голову, стоял он перед дворцом возле своего экипажа, запряженного четверкой. Лошади нетерпеливо били копытами, фыркали и горделиво закидывали головы. Они унесут его куда угодно. На куда? Что сказать кучеру? Ехать в Бозош? А что там делать? Ехать в Патак? К кому? Там лишь одна печаль. Старого Фаи еще в прошлом месяце разбил паралич, и с тех пор он без движения лежит в постели, не в силах даже языком пошевелить. Уже ни устно, ни письменно не может он освободить Яноша от обещания не встречаться с Пирошкой. Он уж никогда больше ничего не скажет… Да и зачем ему теперь встречаться с Пирошкой? После всего случившегося в этом нет никакого смысла.
Погруженный в свои мысли, Бутлер сел в экипаж.
— Куда поедем, ваше сиятельство?
С минуту он колебался, перебирал в уме названия всевозможных местностей, потом вдруг его осенила мысль, что есть еще одно владение, которого он никогда не видел: имрегское имение.
— Поедем в Имрег, Михай.
Он не стремился в Имрег, конечно, нет. Этот Имрег интересовал его не более, чем прошлогодний снег, но теперь все равно: он назвал Имрег — пусть будет так.
Они ехали и ехали, где-то останавливались кормить лошадей… Янош даже не помнил где. Камердинер спросил, не хочет ли граф поужинать.
— Нет.
— Может быть, вы прилегли бы?
— Нет.
— Что ж, ехать дальше?
— Едем дальше.
И снова они ехали и ехали, минуя леса и поля. Шум леса успокаивающе действовал на разгоряченную голову графа Яноша. Ему чудились в нем какие-то таинственные голоса. Дорога пролегала мимо озера, освещенного луной; у самого берега купались птицы и тоже, казалось, прислушивались к шепоту леса.
Необычные думы проносились в голове Бутлера. Ночь в таких случаях незаменимый товарищ; она дает пищу воображению. Горы сдвигаются с мест, из туманного мрака выступают грифы и другие чудовища; облака, послушные фантазии человека, принимают любые образы. Янош погрузился в глубокое раздумье. А интересно было бы встретиться со смертью. Вот если бы та вон гора оказалась смертью и приковыляла сюда со своей косой, — пожалуй, с ней можно было бы сговориться. Ведь только смерть может ему теперь помочь. Смерть ему кума. Что для него император? Ничего! Влиятельная родня, графский титул — все это ничего не стоит. А вот если бы договориться с кумой! Она, уж конечно, не обманула бы его, как Пиркер. Он сказал бы куме: «Послушай-ка, смерть, я отдам тебе половину своих имений, только скоси ты эту женщину, ту, что сидит сейчас в Эрдётелеке». И тогда все сразу разрешилось бы.
Вот снова показался водоем. В этих местах было множество мелких озер, образовавшихся после обильных ливней. Яношу почудилось, будто маленькое озеро, представшее перед его взором, — глаз смерти, лукаво подмигивающий ему. И снова чередой побежали мысли. А что, если смерть скажет: «Мне нужны все твои владения, твой герб и титул, твое имя, — все, что ты имеешь»? Что ж, хорошо, он отдаст все. Но постой, что ты говоришь, кума? Ведь если он отдаст все, что имеет, — имя, титул, богатство, — то не так уж будет и нуждаться в тебе. Ведь тогда он и сам обретет свободу!
Изредка он вздрагивал, потревоженный в своих сумасбродных размышлениях каким-нибудь праздным замечанием секретаря.
— Вы еще не хотите спать, ваше сиятельство?
— Нет.
— Взгляните, видите вон ту звезду? Всю дорогу она стоит над нашими головами.
— Гм.
— А большая, должно быть, штука этот Firmamentum[102].
— Гм… конечно. Не знаете, сколько хольдов?
Он отвечал рассеянно, невпопад, не понимая даже, о чем идет речь, когда к нему обращались, и снова, так же внезапно, погружался в свои думы.
На рассвете они опять где-то остановились покормить лошадей; Бутлер даже не вышел из экипажа; о завтраке он и не помышлял. А в сумках много было всякого провианта, ибо в те времена, как известно, приходилось еще ездить с дорожными сумками.
— Уж не больны ли вы, господин граф? — допытывался Бот.
— Увы! Я даже не болен, вовсе нет!..
Однако к полудню Янош все-таки проголодался и с нетерпением ждал, когда они доберутся до какого-нибудь села. Голод — великая сила, он сломит и самого упрямого человека.
Наконец в долине замелькали среди деревьев маленькие белые домики, похожие на смеющийся ряд зубов в пасти горы.
— Здесь мы остановимся, — промолвил граф Бутлер, — и, если найдется корчма, закажем обед. Я проголодался.
— Есть тут хороший трактир, — отозвался кучер.
— А что это за село? — спросил граф.
— Оласрёске.
Бутлер вздрогнул, но ничего не сказал: он не любил проявлять свою слабость перед слугами. Безразличным взглядом, казалось, он окидывал знакомые ему издавна места.
Да, это Рёске. Он узнает его по колокольне, по холмам…
Печальные мысли снова охватили его, и он поднял голову лишь в тот момент, когда экипаж подъехал к воротам трактира и остановился под навесом. Все здесь было по-старому: навес, подпорки, курятник, даже цыплята бегали по двору мимо поленницы дров — точь-в-точь такие же, как те, которых поразил пращой гимназист в тот достопамятный день.
Но сейчас под навесом стоял еще один крытый экипаж; лошади были выпряжены, только хомут, висевший на дышле, и привязанные позади повозки мешок с овсом да пучок сена свидетельствовали о том, что в трактире остановился какой-то проезжий.
Жив ли еще наш честный Дёрдь Тоот? Еще бы, конечно, жив!
Бутлер торопливо пересек двор по вымощенной кирпичом дорожке, вошел в дом и невольно отпрянул, потом все его существо охватила лихорадочная дрожь: посреди комнаты, за красиво убранным столом, одиноко сидела Пирошка Хорват и чистила ножом яблоко.
— Ах, Бутлер! — пролепетала чуть слышно Пирошка; нож и яблоко выпали у нее из рук, а глаза неподвижно остановились на двери, словно взору ее предстало какое-то видение.
Наступила гробовая тишина, лишь было слышно, как жужжала оса, кружась над блюдом с фруктами. Она не отважилась сесть на сладкие плоды и только вилась, кружилась, опьянев от их аромата.
Бутлер тоже не отваживался приблизиться к Пирошке. Он не отрываясь смотрел на ее милое личико и чувствовал, что не может пошевелиться.
— Вы испугались меня, — проговорила с упреком Пирошка. — Вы даже не хотите подать мне руки?
— О, простите! — смущенно пробормотал Бутлер срывающимся голосом. — Но это так неожиданно… так неожиданно…
Он подошел ближе и пожал протянутую ему девушкой руку. Кровь заиграла в нем. Какая-то сладкая истома разлилась по всем его жилам и нервам, словно он опустил руку в мягкое и теплое гнездо.
— Боже мой, как вы изменились! — вздохнула Пирошка и потупила свои прекрасные глаза.
— На мою долю досталось много забот, — с грустью ответил Бутлер.
— Вы могли бы сказать «на нашу долю», — мягко поправила его Пирошка.
Ее лицо запылало девичьим румянцем, хотя за несколько мгновений до того на нем лежала печать увядания. Правда, она была красива и такой, может быть, даже красивее. Сейчас же вместе с румянцем к ней, казалось, возвращалась юность. Через открытое окно в комнату проникал ветерок, он ласково обвевал Пирошку, но не мог охладить вспыхнувшего в ней пламени.
Наступило неловкое, но вместе с тем сладостное молчание. А ведь наша придворная дама была известна в Вене искусством поддерживать легкий и остроумный разговор; французский посол, частый посетитель Марии-Луизы, однажды сказал о Пирошке: «Если б она заговорила со сфинксом, и тот принялся бы оживленно болтать с ней». Она держалась удивительно непринужденно и естественно, и каждое ее слово было согрето каким-то особым теплом искренности и приветливости. Но сейчас разговор никак не клеился. Сейчас они были одни, наедине друг с другом, у обоих накопилось столько невысказанного, но ни тот, ни другой не знали, с чего начать.
— Какая хорошая сегодня погода.
— Да, это верно.
— Вы даже не присядете?
— Благодарю, если позволите.
— Как странно, что мы здесь встретились.
— Люди могли бы подумать, что мы сговорились.
Вот какими банальными словами обменивались они после стольких лет разлуки! Как это ни было удивительно, они ничего не могли с этим поделать. Таков закон природы. Большие чувства таятся глубоко, их не следует искать на поверхности. Сладкий сок нежных, нестойких плодов и ягод — земляники, черешни, малины — выступает наружу при малейшем прикосновении к ним; те же плоды, которым дано жить дольше, заключены провидением в прочную оболочку. А вот орехи — так те укрыты даже двойной оболочкой, и их сначала нужно расколоть.
— Куда вы направляетесь, Пирошка?
— Я еду домой из Патака… приходится объезжать разлившиеся реки.
— Мы тоже когда-то часто ездили по этим местам.
— Лучше бы вы не ездили здесь никогда.
Это были первые слова, возвращавшие их к прошлому. Казалось, они даже испугались этих слов, хотя ждали и желала их. Снова наступила тишина, но только на мгновенье.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ Вновь вспыхнувшее пламя
Наша достойная госпожа Тоот, желая показать свое глубочайшее уважение к гостье, поставила на стол вазу с ветками дикого каштана. Была как раз пора цветения каштанов, и никаких иных цветов поблизости не было. Пирошка вынула одну веточку и стала слегка обмахиваться ею.
— Что же, вы совсем одна? — спросил Бутлер.
— Нет, со мной горничная, но у нее в этой деревне живет подруга, у старых барышень Ижипь. Она пошла туда на полчасика в сопровождении добрейшего Тоота.
— Что вы делали в Патаке?
— Навещала бедного дядю Фаи. А вы откуда едете?
— Из Эгера.
— И куда направляетесь?
— Никуда.
— У вас, я вижу, очень горько на душе. Что говорит архиепископ?
— Он обманул меня. Все меня обманули, — глухо ответил Бутлер, мрачно нахмурив брови.
Пирошка устремила на него влюбленные и грустные глаза и тихо спросила:
— Как, и я, Бутлер?
Бутлер растрогался и сразу стал кротким. Его взгляд нежно ласкал Пирошку.
— Вы святая, — вздохнул он. — Не хватает лишь венца вокруг вашей головки.
Однако был и венец: каштановая веточка роняла на ее голову белые цветочки, рассыпавшиеся по ее волосам и образовавшие подобие ореола.
При этих словах к Пирошке вернулась ее обычная манера держаться.
Да не будьте же вы таким маловером. Видите, и я страдаю; я ведь тоже разочаровалась в жизни, и меня треплет тот же самый вихрь, что и вас. Но я всегда думаю, что разочарования могли быть еще сильнее. Впрочем, его сиятельство господин граф тоже мог бы еще горше разочароваться.
В голосе Пирошки зазвучали шутливые нотки, что особенно задело графа Яноша.
Это все равно что дважды стрелять в человека, уже сраженного первой пулей, — с горечью возразил он, — однако знатоки утверждают, что могли бы лучше сразить беднягу, пустив еще и третью пулю.
— Вы не правы, Бутлер. Прежде всего, вы еще не умерли.
— Напротив, я уже на том свете.
В этот момент дверь приоткрылась, и в комнату заглянул секретарь Бот. Бутлер с недовольным видом повернулся к нему:
— Это вы, Бот? Закажите, пожалуйста, обед и пусть меня не тревожат.
Бот исчез, словно его ветром унесло.
— Уважаемый призрак, я вижу, все-таки проголодался? — шаловливо сказала Пирошка.
— Последний раз я ел вчера утром.
— О, тогда я должна поверить, что вы и вправду призрак. А почему вы не кушали?
— Потому что я повержен в отчаяние.
— Что же мог сказать вам этот противный архиепископ?
— Он лишил меня даже последней надежды. Брак остается в силе.
— Ну и что же вы намерены теперь делать?
— А что я могу делать? Что вы посоветуете? — спросил Бутлер неуверенным голосом, пытливо глядя Пирошке в лицо, словно она была каким-то высшим существом, способным ответить на мучивший его вопрос.
— Прежде всего пообедайте, — спокойно ответила девушка, — а затем делайте то же, что и я: ждите.
— Я уже не могу больше ждать, — проговорил он с грустной решимостью, склонив голову на руки.
Пирошка испуганно взглянула на Бутлера. Лицо его, несмотря на все переживания, было красиво и благородно.
— Что же вы собираетесь делать, если не хотите ждать?
— Вот над этим-то я и ломаю голову со вчерашнего дня и, признаюсь, придумал немало сумасбродных вещей.
Пирошка сразу стала серьезной и уронила на стол веточку каштана.
— Откройте же мне, что вы надумали? Можете поверить, что меня это тоже интересует!
— Я не скажу вам, — мрачно ответил он.
— Почему? — медленно спросила девушка, побледнев.
— Потому что вы не поймете меня, потому что вы не любите меня так, как я вас.
Грудь его вздымалась, в голосе зазвучало безмерное отчаяние.
— Как вы можете говорить такие слова, — прошептала Пирошка дрожащим голосом, глядя на него широко открытыми глазами.
— Ах, если бы вы любили меня, вы не стали бы говорить о нашей судьбе таким безразличным тоном, почти весело.
При этих словах вся обида Пирошки прорвалась наружу. Она гордо запрокинула свою прекрасную головку, на виске у нее билась тонкая жилка, благородные линии ее белоснежной шеи нервно трепетали; все существо ее кипело и негодовало, каждый мускул ее лица выражал боль.
— Вы упрекаете меня? Вы, приславший мне в Вену серебряный кораблик в знак того, чтоб я не ждала вас больше? Так ли уж сильно вы меня любите? Вы, который в продолжение многих лет могли жить, не пожелав ни разу увидеться со мной? Не перебивайте меня и не качайте головой, я знаю, вы были связаны словом. Но разве это признак больших страстей? Большие страсти сдвигают с места горы, их не могут остановить никакие обещания. Ах, уйдите, оставьте меня!
Пирошка задыхалась, силы покинули ее, слова иссякли: головка беспомощно поникла, словно у раненой птицы.
Как ни странно, но после этой вспышки их роли переменились. Теперь Бутлер обрел спокойствие. Упреки Пирошки целительно подействовали на его душу.
Не проронив ни слова в свою защиту, он вынул из кармана маленький кошелек из лилового шелка и высыпал на стол его содержимое — четыре серебряные монеты по двадцать крейцеров. Потом он пододвинул их к Пирошке, которая смотрела на него с возрастающим ужасом, думая, что он лишился рассудка.
— Вот здесь четыре монеты по двадцать крейцеров, — сказал он тихо. — Уже много лет я ношу их с собой, чтобы когда-нибудь вручить вам, ибо они принадлежат вам по праву. Это единственное, что я приобрел, Пирошка. В течение двух-трех недель я работал подручным садовника при одном господском доме, сносил ругань, окрики ради одной надежды увидеть обожаемое мною лицо; но мне пришлось довольствоваться лишь тем, что удавалось услышать о любимой, так как она лежала тогда больная. Вот мой заработок, Пирошка; эти деньги уплатил мне садовник, некто Мюллер.
Это было слишком. Девушка закрыла лицо руками.
— Боже мой, боже мой! Значит, это вы были тем загадочным и печальным молодым садовником, о котором рассказывали борноцкие слуги?
Задрожали шелковистые ресницы, слезы брызнули из глаз и полились, обильные, как майский дождь.
Итак, скорлупа одного ореха расколота, уже видно самое ядро. Теперь очередь за вторым.
Пирошка подняла голову, попробовала вытереть слезы кружевной шалью, но они все текли не переставая; только теперь они искрились радостью, а пробившаяся сквозь слезы улыбка сияла ослепительнее солнечного луча.
— Ну, так узнайте и вы, — звенящим голосом проговорила Пирошка, охваченная каким-то порывом, — что я была в Эгере, когда вы приезжали на суд; я оделась крестьянкой и стояла в толпе, лишь бы увидеть вас.
— Я знаю об этом, — ответил Бутлер.
— Но и потом я не бросила этой одежды, сохранила ее. Три года тому назад я снова облеклась в нее и нанялась к господину Будаи служанкой в вашем бозошском имении, чтобы хоть краешком глаза вновь взглянуть на вас.
— Это невероятно! Вы, придворная дама, и… — воскликнул смущенный Бутлер и ухватился за стол, словно желая убедиться, не грезит ли он.
— Четыре-пять дней пробыла я там. Но господин граф уехал в Рим, и я взяла да и сбежала от моего хозяина, не получив даже платы; он, наверное, и поныне разыскивает меня.
— Пирошка! — с трудом вымолвил граф. — Неужели это правда?
— Конечно, правда. Я убирала ваш кабинет.
Тут она порывисто встала из-за стола; на одном из стульев лежал ее дорожный саквояж. Пирошка наклонилась над ним (о, как прелестны были изящные линии ее стройной фигуры!) и, порывшись, извлекла из-под платков, шалей, шитья и вязанья какой-то альбом в кожаном переплете. Быстро перелистав страницы, она протянула его Бутлеру:
— Вот, смотрите, я зарисовала его в своем альбоме для набросков!
Да, это был его бозошский кабинет! Канапе, письменный стол с многочисленными серебряными и бронзовыми статуэтками на нем, герб Бутлеров на стене — золотой орел в короне и с серебряным бочонком на груди, изображение девы Марии и портрет его матери. Этот последний был зарисован с особой тщательностью, каждый штрих его казался живым.
Янош взглянул на рисунок, а когда поднял глаза на Пирошку, они горели радостным огнем. Лицо его просияло. Он склонился, чтобы благодарно поцеловать руку Пирошки, их головы сблизились, его опьянил волшебный аромат ее волос, прерывистое горячее дыхание… Он был живой человек! Не мог он больше сдерживаться и, вместо того чтобы поцеловать руку девушки, принялся целовать ее глаза, осушая слезы, а когда их больше не стало, в каком-то страстном упоении стал осыпать поцелуями ее лицо и волосы.
— О дорогая моя пшеничка! Золотистая пшеничка, спрятанная от меня на дне моря.
Над этим можно было бы посмеяться, если б вся сцена не была хороша, как майский сон!
И только солнце позволило себе улыбаться в окошко. Даже оса перестала жужжать, спряталась в маленький колокольчик цветущего каштана и тихо, мирно покачивалась в нем.
— Ах, что вы, что вы, — запротестовала Пирошка, — пустите! Янош, придите в себя! Вы совсем растрепали мою прическу! Извольте сесть на место! Скорее, скорее! Взгляните в окно, разве вы не видите, что идет господин Тоот с моей горничной?
И действительно, рядом с хорошенькой служанкой в шуршащих крахмальных юбках важно семенил трактирщик Тоот. В руке он нес трубку и размахивал ею; шляпа, украшенная зеленым колосом пшеницы, была молодецки заломлена на затылок.
Граф Янош уселся на свое место с видом человека, желавшего скрыть свою проделку, и погрузился в созерцание рисунка Пирошки.
— Теперь-то вы верите, что я люблю вас? — спросила Пирошка.
— Верю! Верю и счастлив!
— И вы расскажете мне, что вы надумали?
— Все, все расскажу.
Он хотел уже было приступить к рассказу, но тут открылась дверь, и в комнату заглянула служанка посмотреть, не задремала ли ее прелестная хозяйка. Узнав от горничной, что барышня и не думает спать, а оживленно беседует с каким-то господином, в комнату осторожно вошел старый Тоот. Он долго смотрел на приветливо улыбавшегося ему Бутлера и, охваченный нахлынувшей на него радостью, швырнул об пол шляпу, воскликнув:
— Salve domine comes illustrissime![103] Вот это событие, черт побери! Такое можно увидеть лишь на медовых пряниках.
Добряк Тоот намекал на картинки, изображающие влюбленную пару — смущенную девушку и мечтательного юношу, сердца которых готовы выскочить наружу от счастья. Подобные картинки кондитеры наклеивают на медовые пряники, что продаются на ярмарках.
Бутлер весело потряс руку старого трактирщика.
— Ну, вот я и приехал, старина Тоот, чтобы съесть тех цыплят, которых мы не съели в прошлый раз.
Да, давненько был этот «прошлый раз». С тех пор голова трактирщика совсем побелела, да и молодость Бутлера уже прошла.
— Ай да молодчина, ай да молодчина! Недаром мне снились сегодня сороки и возвращение Наполеона с острова Святой Елены! Я бы и святому не поверил, что он умер. Это все попы врут. Ну, пойду распоряжусь насчет обеда. Знает ли моя жена о вашем приезде, ваше сиятельство?
— Думаю, что секретарь сказал ей, но пока что она не показывалась.
— Тьфу, старая карга! Верно, она не осмеливается предстать перед таким важным господином. Так оно, по-видимому, и есть. Но я сейчас же наведу порядок.
Сразу почувствовалась хозяйская рука господина Тоота. Со двора донеслись его ругательства, затем послышалось хлопанье дверей, поднялась суматоха, и вскоре стали накрывать на стол. Одно за другим вносили различные блюда — все новые и новые яства, которым не было конца. Такой обед не отказался бы отведать даже император Франц.
За столом прислуживал сам трактирщик. Между делом он справился о Жиге Бернате (о, он сейчас уже депутат в Пожони!); затем перевел разговор на высокую политику и упорно твердил, что великий Наполеон в один прекрасный день еще явится сюда.
— Он уже давно умер, могу вас в этом уверить, — возразил граф.
Тоот покачал головой, не смея оспаривать слова Бутлера, и лишь заметил:
— А если б даже и умер — еще жив его сын! Я слышал, он в Вене, у деда. Недавно, гуляя в саду, мальчик выхватил свою игрушечную сабельку и принялся сбивать желтые цветы. Дед спрашивает его: «Что ты делаешь?» — «Рублю, дедушка, немцев!» Оказывается, красные цветы были у него французами, а желтые немцами. Эх, будет еще здесь заваруха, дайте только малышу вырасти! Я считаю дни и каждый день отмечаю, что он подрос еще на волосок.
Бутлер немного досадовал, что трактирщик мешает ему остаться наедине с Пирошкой, однако взял себя в руки и любезно отвечал трактирщику.
За это он был вознагражден, так как наш достойный господин Тоот без устали нашептывал Пирошке: «Какой замечательный, какой достойный человек! Такой знатный господин, и ни чуточки не гордец! А как он разговаривает с простыми людьми!»
Между тем время неслось стремительным бегом, и наконец пришла пора запрягать экипажи. Вот и минута расставания: один экипаж поедет налево, другой — направо. Бутлер обратился к трактирщику:
— Итак, сколько мы вам должны, дорогой хозяин, за ваш прекрасный обед?
Но спросил он только ради формальности, ибо знал, какой; получит ответ, и потому заранее вложил в молитвенник, лежавший на этажерке, банкноту в тысячу форинтов (боюсь только, что так и не нашел ее при жизни наш почтенный! Тоот).
Старый Тоот даже не ответил, а лишь сердито покачал головой: ай-яй-яй! Он прошелся по комнате, что-то ворча, а затем отвернулся к стене, как бы обращаясь к ней на своей кухонной латыни:
— Edisti coenam nunc edere vis amicitiam meam.[104]
Он продолжал кружить по комнате, все отыскивая, что бы подарить своим гостям. Наконец он увидел на буфете два красных бокала (единственное сокровище дома), которые привез из Чехии его покойный брат, странствующий подмастерье. На них серебром были выгравированы карлсбадские купальни и всевозможные олени; одно наслаждение было любоваться такими бокалами.
Привстав на цыпочки, он снял их и один — тот, что поменьше, — протянул Пирошке, а другой — графу Бутлеру.
— Примите их от меня, rogo humillime[105] и пейте из них иногда в память о сегодняшнем дне.
Как они ни отнекивались, им пришлось принять этот подарок: уж очень просто и сердечно упрашивал их старик. Конца не было трогательному расставанию. Появилась и почтенная хозяйка, по-праздничному разодетая, в черном платье и свежевыглаженном кружевном чепце.
Пирошка надела соломенную шляпку. О боже мой, до чего она шла к ней! Поля ее шляпки были украшены розовыми бутонами, и, казалось, ее личико, бледное и поникшее, было окаймлено рамкой, увитой розами.
Как билось ее сердце, когда они вышли во двор! Сейчас последнее рукопожатие — и конец всему!
Бутлер подошел к ней.
— Пирошка, — сказал он, — мне хотелось бы поговорить с вами несколько минут с глазу на глаз. Быть может, экипажи с прислугой поедут вперед, по дороге, что ведет к холму, а мы с вами пройдемся по аллее?
— Хорошо, — ответила Пирошка.
Итак, экипажи тронулись в путь, а Пирошка с Бутлером вошли в тенистую каштановую аллею, тянувшуюся от корчмы до самой столбовой дороги.
Трактирщик Тоот собрался было проводить их, но, заметив, что они хотят побыть наедине, остался в воротах и вместе со всеми домочадцами любовался, как идут они рядышком и воркуют, словно голубки. Он ждал, что, может быть, они обернутся, помашут ему рукой, но они шли и шли, оживленно беседуя. О господи, у этой Пирошки такая плавная походка, ну прямо-таки музыка. Раз или два они останавливались, вот-вот обернутся и увидят нашего почтенного Тоота. Но нет, они только потому останавливались, что говорили о чем-то очень интересном. То Пирошка принималась оживленно жестикулировать, то Бутлер. Видимо, спорят о чем-то. Ой, только бы не поссорились! Вот опять пошли. Стоп, вот уже и пришли, пожимают друг другу руки. Пирошка садится в экипаж, Бутлер помогает ей. Ох, душеньки мои милые, много же пришлось вам выстрадать, а ведь есть у вас все: большое богатство, огромные леса, луга, земли.
Почтенный Тоот и его домочадцы подождали, пока придорожная пыль не поглотила оба экипажа и прощально развевавшиеся белые платки; только после этого все обитатели трактира вернулись домой и провели остаток дня в воспоминаниях о том, как понравились Бутлеру зажаренный гусь, пончики и жареные почки. А соуса он попробовал дважды. А Пирошка, душечка, все яблоки съела. «Ты молодчина, мать, что сохранила их до сих пор». Выйдя на террасу, достойный Тоот гордо произнес:
— А все-таки, жена, быть трактирщиком — первейшее занятие на земле! Это великое дело! Какие только люди у тебя не бывают! Какие люди! Предложи мне Рёске со всеми окрестными владениями, не стал бы я ни скорняком, ни псаломщиком.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ Неожиданное событие
Граф Бутлер ехал следом за экипажем Пирошки до первого перекрестка.
— Поворачивай налево, Михай!
— Прощу прощения, ваше сиятельство, но поворот на Имрег не здесь.
— А мы и не поедем в Имрег. Мы поедем домой, в Бозош, — сказал граф.
Такое решение пришлось всем по душе. В особенности обрадовался господин Будаи, увидев, что хозяин прибыл в веселом расположении духа.
— Ну, что говорят попы в Эгере? — спросил старик.
— Малость позлили меня, — засмеялся граф. — Но и я в долгу не останусь.
И в самом деле, досаждать католическим попам граф принялся несколько дней спустя. Он пожертвовал огромные суммы на протестантские школы и церкви. В Марамарошсигет и Патакский университет он лично отвез свой дар. Пускай попы-католики лопнут от злости и зависти.
И вообще Янош сильно переменился: повеселел, много времени уделял развлечениям, сзывая, как прежде, своих друзей и полной горстью разбрасывая деньги направо и налево. Он стал так расточителен, что старый Будаи заволновался: «Нашему графу не хватит и сокровищ Дария».
А то вдруг принялся собирать коллекции различных вещей, очень дорогих, хотя, по мнению некоторых, и не имевших никакой ценности. Его агенты разъезжали по свету, разыскивая для него всякие древности, картины Рафаэля и Корреджио, редкостные фарфоровые безделушки. А что в них толку? Всем им уготована одна судьба — однажды их разобьет или попортит неосторожная горничная.
— Кончину предчувствует, — говорили те, кто ближе знал Бутлера.
Как-то осенью Бутлер ехал в Пожонь в своем новом парижском экипаже (тогда только что изобрели бруммеровскую коляску). В ногах у него лежал кожаный футляр с парадной саблей и драгоценностями, стоившими двадцать пять тысяч форинтов.
Хроника повествует о том, что граф сидел, развалившись в своей коляске, и дремал, а так как большой футляр с драгоценностями мешал ему удобно вытянуть ноги, он взял и вышвырнул его из экипажа.
Эта необычайная выходка поистине барской расточительности, свидетельствовавшая о чрезмерной любви к удобствам, вызвала такую зависть Петера Черновича, другого знаменитого в те времена мота и прожигателя жизни, что он стал врагом Бутлера.
А ведь это дурачество графу ничего не стоило, потому что какой-то подпасок подобрал драгоценности на дороге, а исправник, которому их передали, увидев на крышке герб Бутлеров, тут же вернул драгоценности графу.
В Пожони можно было истратить еще больше денег. Для этого имелись там три бездонных пропасти: азартные игры за карточным столом, бега да скачки, а также цыгане. Четвертая пропасть была самой опасной и всепожирающей, но, к счастью, Бутлеру она не угрожала, так как на женщин он не обращал никакого внимания.
Но и эти три пропасти поглощали несметные суммы, и граф стал делать крупные долги. Вскоре он продал свое имение в Имреге, а другие заложил в Вене за огромные деньги.
Люди только головами качали: «Даже если б он ложкой хлебал золото, и то не истратил бы такую тьму денег!» Некоторые предсказывали, что, если так дело пойдет и дальше, через четыре года он совершенно разорится. Кое-кто даже предсказывал: быть Бутлеру писарем в комитатском управлении в Унте; подойдет ли только его почерк для этой должности?
Другие же так полагали: знает человек, что делает. Обидели графа Яноша до глубины души, вот он и не хочет, чтобы после его смерти что-нибудь досталось жене и ее дочке. Наверно, говорит про себя: «Ты навязалась мне на шею из-за моего богатства, ну так погоди, ужо увидишь, что ты найдешь в моем кошельке!» Тот, кто способен так любить, умеет всей душой ненавидеть!
Вполне возможно, что последние были ближе всего к истине, потому что и сам граф не раз говаривал:
— Хотел бы я точно знать, сколько мне еще осталось жить? — Я бы так все тогда рассчитал, чтобы в последний час перед смертью разменять последнюю тысячу.
Но кто может это точно знать?
На рождество члены государственного собрания разъехались на каникулы. Граф Бутлер не поехал домой, сказав:
— Все равно дома меня никто не дожидается, ни стар, ни млад, — поеду я в Вену поразвлечься.
Другим он говорил, что плохо себя чувствует, что у него бывают головокружения и он едет в Вену посоветоваться с врачами.
В Вене у Бутлера тоже был собственный дворец, на площади Кольмаркт. Рассказывали, что будто бы в нем осенью минувшего года граф неоднократно устраивал грандиозные оргии. Но на этот раз он остановился не в своем дворце.
Третья версия, со слов Бота, утверждала, что Бутлер затем и поехал в столицу, чтобы продать свой венский дворец. Что он делал в Вене, установить теперь уже невозможно, одно только было известно совершенно точно: дворец он действительно продал одному банкиру по фамилии Блинд, который немедленно выплатил ему всю стоимость дворца золотыми.
А в праздник крещения примчался в Бозош к управляющему Будаи заиндевевший всадник. Гонец привез известие от секретаря графа — Бота, что в Вене, во время ужина, скончался от разрыва сердца граф Янош Бутлер.
Прочитав это печальное письмо, старый Будаи разрыдался, как малое дитя. «Вот теперь и нашел бедный наш господин такую страну, где нет попов!»
С трудом подавляя рыдания, отдал управляющий необходимые распоряжения: выслать перекладных лошадей на все станции до самой Вены, чтоб гроб с телом графа прибыл в имение как можно скорее; разослать конных нарочных ко всем родственникам покойного, а также в Эрдётелек к «графине», в Патак — к господину Фаи (хотя старик сам уже почти что труп и все равно ничего не поймет), в Борноц — к Пирошке Хорват; приказал также рисовать гербы, шить траурную одежду, напечатать и разослать извещение о кончине Бутлера, уведомить архиепископа в Эгере. (Если есть в нем совесть, он сам отпоет покойника.)
Известие о смерти Бутлера с быстротой молнии распространилось в близлежащих комитатах, вызвав большую сенсацию повсюду. Кто мог подумать, что граф умрет так рано?!
Правда, граф часто жаловался на сердце. Люди, по природе более романтичные, восклицали: «Какая прекрасная смерть! Сердце его разорвалось от любви к Пирошке!» Злоязычные говорили, покачивая головами: «Верно, слишком много вина пил! Да нередко и кофе по десять — двадцать чашек в день поглощал, можно было предвидеть, что плохо кончит!»
Все сходились на том, что подобный исход был для бедняги наилучшим, поскольку на земле все равно уже не было для него никакой радости.
Пока гроб Бутлера, как некогда Хорвата, трясся в повозке с сеном по ухабистым дорогам из Вены в Бозош, пока в ста сорока деревнях, принадлежавших графу, день и ночь звонили колокола, повсюду только и разговоров было, что о нем.
Впрочем, личность самого умершего привлекает людей только в первый день после его смерти. Уже на второй день люди привыкли к тому, что на земле нет больше графа Парданьского: ведь осталось еще так много графов. И на следующий день публику интересовали уже лишь похороны.
Графа должны были хоронить в родовом склепе Бутлеров в Доборуске.
— Интересно, — говорили люди, — приедет ли на похороны «графиня» из Эрдётелека? А Пирошка? Вот будет спектакль, когда обе соперницы встретятся у гроба! Ради одного этого стоит поехать на похороны и поглазеть, что там будет. Только бы не было большого мороза. Бедный Бутлер, и надо ж ему было умереть именно в январе!
В пятницу пополудни приехал Бот, обогнавший погребальную процессию с гробом, которая должна была быть в Бозош только поздно ночью. Повозка въехала во двор через ворота в дальнем конце парка, чтобы не собирать толпу зевак.
Было решено не сооружать катафалка, а выставить гроб в большом зале. На другой день в полдень покойника должны были уже отвезти в Доборуску и водворить рядом с останками его отца.
Секретарь Бот рассказал кое-что о том, как граф продал свой венский дворец и вырученной суммой покрыл карточные долги. На второй день рождества он стал жаловаться на сердце и вскоре, почувствовав себя плохо, составил завещание, один экземпляр которого без промедления отослали в капитул * эгерской епархии, а другой Бот привез с собою.
Ночью, как и предполагалось, гроб прибыл в Бозош, — тяжелый свинцовый гроб с золотыми украшениями и выбитой из золота надписью: «Граф Янош Бутлер Парданьский». Он был так тяжел, что шесть сильных мужчин с трудом сняли его с телеги и внесли в большой зал, где поставили на столе среди огромных восковых свечей. У гроба управляющий Будаи выставил почетный караул из четырех одетых в траур гусар с саблями наголо.
Вместе с почетным караулом Будаи неотлучно оставался подле своего усопшего господина. Захватив с собой Библию и псалтырь, он читал их и, охваченный горем, ронял седую голову и горестно вздыхал:
— Господи боже мой, почему не меня ты взял к себе, твоего старого слугу, почему мне приходится хоронить его, молодого?!
Немало утешительных слов содержат священные книги, но все же старика не оставляли грустные мысли. И как это он даже не попрощался с графом, когда покойный был здесь в последний раз? Даже лица его не разглядел тогда как следует. Старому Будаи вдруг неудержимо захотелось еще раз взглянуть на своего почившего господина, еще раз с глазу на глаз попрощаться с прахом, который совсем недавно был графом Бутлером.
Господин Будаи осмотрел гроб: он был закрыт на замок. Верно, у Бота есть ключ, но бедняга, утомленный долгим путем лег спать, и было бы жестоко его теперь будить.
Как раз в эту минуту в окне показался Видонка, заглянул и исчез. Вот кто может открыть любой замок и без ключа!
— Пусть кто-нибудь позовет Видонку!
Видонка долго отнекивался, уверяя, что ужасно боится мертвецов; с большим трудом одному из гусар удалось втащить его в зал.
— Дружище Видонка, мог бы ты открыть гроб и потом снова закрыть его? — спросил Будаи.
— Нет ничего проще.
— Ну так открой. Взгляну-ка я еще разок на нашего графа. Видонка притащил всякие крючки и отмычки. Повозившись немного, он повернул что-то, и замок, щелкнув, открылся.
— Готово! — сказал Видонка и стремительно бросился к выходу. Уже в дверях он заметил: — Крепкое, видно, у вас сердце, господин управляющий. А вдруг барин вскочит?
— Ах, милый сынок, как бы я этого хотел!
Будаи поднялся и осторожно, с благоговением приоткрыл гроб. Заглянув внутрь, он вдруг побледнел и в ужасе отпрянул, уронив тяжелую крышку гроба, которая с грохотом упала.
— Что с вами? Что случилось, ваша милость? — в один голос спросили гусары, заметив его смертельную бледность.
Старый управляющий погладил дрожащими пальцами свой морщинистый лоб, словно собираясь с мыслями.
— Ничего, ничего, — сказал он наконец глухо. — Страшен лик смерти! Лучше не смотреть. — А затем взволнованно и торопливо добавил: — Бегите за Видонкой, пусть придет и закроет. Скорей, скорей!
Видонка вошел, но, прежде чем приступить к делу, для пущей бодрости попросил глоток вина. Выпив залпом животворный напиток, Видонка снова закрыл гроб.
— Ну что, ваша милость? Говорил я вам, не нужно смотреть, — сказал он, пожав плечами. — Вот теперь и будут мучить страшные сны.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Последние почести
Почтенного Будаи трясла лихорадка, но он не хотел сдаваться; быстрыми шагами расхаживал он взад и вперед по огромному залу. Такая уж была у него привычка, когда он терзался сомнениями, не в силах принять какое-нибудь решение. Он долго раздумывал, что-то бессвязно бормотал и, наконец, по-видимому приняв решение, с силой ударил кулаком по подоконнику, а затем твердой походкой поспешно вышел из зала и велел позвать одного из своих помощников.
— Немедленно пусть запрягают четверку лошадей, — распорядился он своим обычным мягким голосом, сделав, однако, ударение на слове «немедленно». — Скачите в Унгвар и еще до рассвета привезите оттуда жестянщика, чтоб запаял гроб. Ясно?
— Не понимаю, к чему такая спешка, господин управляющий? Ведь если понадобится, мы, сударь, успеем запаять гроб до полудня. Может быть, утром кто-либо из родственников пожелает проститься с покойником.
— Без рассуждений, я ведь ясно распорядился.
Всю ночь Будаи провел на ногах, не решаясь прилечь, пока не приедет жестянщик. Да и весь замок бодрствовал и суетился. В кухне ощипывали птицу, месили тесто, сбивали масло, толкли мак, жарили и пекли в ожидании множества гостей, которые будут обедать здесь после похорон. Не один индюк гибнет на крестинах, когда празднуется рождение знатного господина; гибнут они и на поминках, когда он умирает, так что бедным индюкам все равно, рождается ли кто-нибудь или умирает.
Во всех уголках замка кипела работа. Портные из Капоша и Унгвара чуть ли не в семи комнатах сшивали черное сукно. Им помогала Катушка. Художники на больших листах бумаги рисовали гербы. Мастера тесали колонны и постаменты, которые потом обтянут траурным крепом. За их работой следил Видонка, с явной досадой критиковавший форму и размеры металлического гроба.
— Да, вещь нарядная, да не больно удобная. Я бы выстрогал ему из дерева куда лучше.
После полуночи появился, наконец, жестянщик и быстро запаял гроб. Только теперь господин Будаи мог прилечь. Тяжело вздохнув, он промолвил: «Не просыпаться бы мне больше!» Однако всевышний не внял его словам: ранним утром его уже разбудил шум беспрерывно прибывавших экипажей и колясок. Снова, но уже в последний раз, въехали во двор кареты и сани Стараи, Майлатов, Шеньеи, Лоньяи, знаменитая четверка серых лошадей Пала Ибраньи, пятерка вороных жеребцов Гилани, «музыкальная» бричка Ролли[106] (только машинка сейчас не была заведена). Экипажи подъезжали один за другим, и казалось, все цветы, распустившиеся в теплицах четырех комитатов, прибыли сюда, чтобы отдать последний долг усопшему.
Со всех концов страны, движимые чувством признательности за щедрость покойного, съехались делегации: от ремесленных цехов из Капоша и Унгвара; студенты из Патака с отмороженными носами и ушами; воспитанники Академии Людовика в Пеште, четверо посланцев от немых из Ваца, трое от почетных «молчальников», заседающих в недавно учрежденной Академии наук… Да разве всех перечислишь! Гости заполнили огромное здание. Прелестные дамы, баронессы и графини подкатывали к подъезду, закутанные в шубы из дорогих мехов. Кто привозил цветы, кто венок, и только один человек, в синей бекеше, протянул помощнику управляющего Галлу, присматривавшему за венками, покрытую инеем высохшую веточку.
— А это куда вы тащите? — набросился на него помощник управляющего. — Что это такое?
— Уж я-то знаю что, — ответил ему старик. — Возложите и ее. Если б покойник мог видеть, он бы узнал, что это за веточка.
— Кто ты, приятель?
— Какой я тебе приятель? Я дворянин Дёрдь Тоот из Рёске!
Наш достойный Дёрдь Тоот привез на гроб веточку с тех деревьев, под сенью которых граф Янош в последний раз проходил с Пирошкой.
Едва въезжала во двор новая карета, как господа, а в особенности дамы, собравшиеся в жарко натопленных залах, бросались к окну, снедаемые любопытством, отогревали замерзшие стекла своим дыханием, и, если прибывала какая-нибудь важная персона, возникало всеобщее волнение.
Одной сенсации они все-таки лишились, о чем свидетельствовали их недовольно надутые алые губки.
Приехал из Борноца Пал Будаи-младший, управляющий имениями Хорватов, и сообщил, что его молодая госпожа заболела, лежит в постели и поэтому, разумеется, не приедет.
— Ох, бедная девушка! — восклицали некоторые. — Этот тяжелый удар сразил ее! Больную жалели от всего сердца; однако они предпочли бы, чтоб сначала она все-таки приехала сюда, а потом уж заболела.
Неожиданно поднялась суматоха, все бросились к окнам.
— Кто приехал? Кто?.. — Приехала «вдова»!
— Ах! Ox! Sapristi![107]
Многие, несмотря на холод, распахнули окна и высунулись наружу, иные старались забраться повыше, так что из всех окон торчали головы одна над другой, словно груды яблок, — пусти только стрелу и обязательно попадешь кому-нибудь в череп.
Действительно, приехала вдова в глубоком трауре. Слуги были в черных ливреях; даже лошади — и те черные; со шляп кучера и грума свисали широкие ленты из черного крепа.
Встречать графиню высыпала вся прислуга замка. (А вдруг это их будущая госпожа?) Выстроившись полукругом, склонясь в низком поклоне, они ожидали, пока старый Будаи поможет ей выйти из кареты.
— Посмотрите на эту негодницу, — с ужасом восклицали наверху у окон, — как она важно кивает головой, словно королева!
Послышались возгласы удивления, когда из кареты вслед за нею показалась очаровательная девичья фигурка.
— Что это за милое создание?
— Ее дочь, Мария Бутлер.
— Вот это фигурка!
— Проводите мою дочь, господин Будаи, в какую-нибудь хорошо протопленную комнату, — тихо проговорила Мария Дёри, — она совсем замерзла, бедняжка. А я пойду к нему. Где он?
— В большом зале.
— Могу я взглянуть на него?
— Невозможно, ваше сиятельство: гроб уже запаян. Мария хорошо знала расположение комнат в замке. Она взяла у слуги венок из белых камелий и направилась прямо в большой зал.
В этот момент там как раз никого не было. Караул гусар только что вышел во двор, чтобы присоединиться к остальным, ибо гроб будут с каждой стороны эскортировать по восемь пеших гусар с саблями наголо; впереди же гроба и за ним последуют конные отряды гусар, по пятьдесят человек в каждом. Барин и на тот свет отправляется по-барски!
В зале стояла гробовая тишина. Большой пустой зал, и посредине — мрачный гроб. Время от времени слышится потрескивание свечи или скрип мебели.
Мария, дрожа всем телом, осмотрелась вокруг. Слыханное ли дело оставлять покойника одного! Она уже было повернула назад, как вдруг заметила мужчину, тихо молившегося у гроба.
Хотя в своих бархатных туфельках она ступала почти бесшумно, мужчина все же услышал ее шаги и обернулся. Это был Жигмонд Бернат, унгский депутат.
Мария узнала его; бросив на него полный ненависти взгляд, она прошла мимо и возложила на гроб свой венок.
Бернат приблизился к гробу и с яростью сбросил венок из камелий, который упал на мраморные плиты рыцарского зала.
— Не будьте жестокой, — сказал он дрожащим от гнева голосом, — не тревожьте его! Оставьте его в покое хоть теперь, прошу вас.
Мария только что собиралась опуститься на колени, но при этом неожиданном нападении вскочила, как тигрица, надменно закинув голову.
— Как вы смеете? Кто вы такой? — злобно воскликнула она. — Я его супруга.
— Да, так считают попы, — ответил Бернат с безграничным презрением, — но не бог. А сейчас он у бога! — Бернат не мог больше владеть собою. Глаза его налились кровью, он принялся топтать венок. — Отнесите свой венок попам и скажите им, что вы убили его.
Прежде чем уйти, Бернат метнул на Марию уничтожающий взгляд, который, однако, не пронзил ее — она уже лежала без чувств на каменном полу.
Досточтимый депутат с облегчением вздохнул, как человек, избавившийся от какой-то тяжести, давившей его душу, покинул зал и только во дворе сказал прислуге:
— Посмотрите-ка, там в большом зале упала в обморок какая-то женщина.
Люди, которые нашли графиню и привели в чувство, легко могли бы сказать: — «Пожалуй, она все-таки любила его».
Стоит ли продолжать? Долго пришлось бы описывать всю церемонию и то, как бесконечной вереницей тянулись по дорогам скорбящие и любопытные.
В ожидании духовенства родственники Бутлеров собрались в охотничьем зале. Там сидела в кресле и супруга покойного, бледная как смерть. Там же находились прибывшие из других имений управляющие и префекты, пока читали завещание, привезенное секретарем из Вены.
Покойный граф почти все свои владения, доходы, движимое и недвижимое имущество завещал на благотворительные цели. И только половину доходов от эрдётелекского имения оставил он тому несчастному созданию, которое называло себя его женой, а так как у нее якобы есть дочь, то последняя по выходе замуж получит в приданое гарагошский хутор с четырьмя тысячами хольдов земли.
Некоторую часть своих владений он завещал кое-кому из друзей и родственников. Так, господину Будаи за его «долголетнюю преданность» Бутлер завещал имение во Вребине со всем движимым и недвижимым, что в нем есть, дабы на старости лет он мог спокойно «петь псалмы». Все, что еще останется после этого, все виды доходов, земли и все прочее, — должно принадлежать любимому опекуну графа, Иштвану Фаи, или, вернее, его семье.
Если же выяснится, что какой-либо из поименованных бесчисленных даров достанется такой общине, в которой плодами сего даяния могли бы воспользоваться и попы, то по выяснении этого обстоятельства завещание надлежит считать недействительным, а упомянутое имущество подлежит раздаче среди бедняков бозошского поместья. И так далее, и тому подобное.
Тем временем на четырех экипажах приехали попы (из-за сильных морозов съехались лишь окрестные), и начались похороны, прошедшие мирно, без всяких инцидентов. Все были ослеплены невиданной помпой. Крепостные несли тысячу факелов. И когда первые из них были уже в Доборуске у склепа, катафалк с гробом еще не тронулся с места. Четыре повозки везли только венки и цветы (уж конечно, с Пирошкой Хорват ничего бы не стряслось и честь ее не пострадала бы, если б она послала хоть веточку резеды). Никогда еще здесь не собиралось такого множества народа, как в этот раз; и не только знатные господа, но и простые смертные не ударили в грязь лицом. Тут был весь Унгвар, оба Капоша с их окрестностями. Смотрите, здесь и трактирщик Гриби с пригожей Хадаши (теперь она его жена). Катушка все показывает им и дает всяческие пояснения.
Из-за огромного наплыва знати простому человеку нельзя было пробраться вперед, чтобы увидеть гроб. Сам почтенный Дёрдь Тоот вместе с другими был оттеснен на задний план, хотя вовсе не затем пришел, чтобы любоваться спинами толстенных господ. Он хотел все видеть и покойного оплакать. В досаде он направился в Руску, решив дожидаться процессии прямо у склепа.
Трактирщик пришел туда вместе с первыми факельщиками и, осмотрев склеп — простое кирпичное сооружение под черепичной крышей, с отдушиной наподобие окна, — надумал взобраться на его чердак. Оттуда он мог бы созерцать погребальную церемонию, множество экипажей, знать, мерцающие факелы, цветные гербы, покрытых траурными попонами лошадей, а может быть, разглядеть среди цветов и свою веточку. Там ли она? Взобраться наверх оказалось легким делом, ибо никто не интересовался сейчас живыми. Достойный Тоот залез на чердак и, конечно, лучше других видел все, что происходило и о чем дома будет расспрашивать женушка.
О, все было очень красиво и так невыразимо печально! У склепа знатные господа сняли гроб с катафалка и понесли его на плечах. (Нередко играл покойный в карты с этими господами!) В склеп могли войти лишь немногие. Впрочем, внутри церемония продолжалась недолго: попы скоро закончили ее, так как порядком замерзли. Установили гроб. Всему конец! Последний граф Парданьский прибыл в свою вечную обитель.
Затем повернули щит с гербом: на синем фоне золотой орел в короне, с серебряным бочонком на груди.
Был орел — и нет его!.. Улетел он, унеся ввысь и весь род Бутлеров. Только на старинных саблях да на ветхих переплетах книг он продолжает тащить свою тяжелую, нелепую ношу: серебряный бочонок, которым наградил его когда-то, в незапамятные времена, король — фантазер и весельчак (тогда еще бочонки ковали из серебра). Теперь бочонки деревянные, да и нечего собирать в них на Токайской горе.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ Молчи!
Толпа быстро рассосалась — кто туда, кто сюда; господа сели в экипажи, остальные пошли пешком, еще несколько минут толкуя о покойном.
Самыми последними уходили почтенный Будаи и секретарь покойного. Бот задержался, может быть, случайно, а старый Будаи для того, чтобы большим ключом, который он держал в руке, запереть дверь склепа.
Тогда-то, как рассказывают, и произошло то событие, слух о котором до самой революции передавался из уст в уста * в комитатах Земплен и Унг. Позднее революция отмела и эту легенду. До легенд ли было в такую пору, когда надлежало совершать воистину легендарные дела, когда тот самый юный гимназист из Уйхея, который некогда подбил из пращи цыплят трактирщика Тоота, вдохновлял на битвы свои редеющие полки.
Ну, раз уж пришлось упомянуть трактирщика Тоота, я расскажу об этой легенде, поскольку через него-то она и пошла гулять по свету. Впрочем, это и не его вина, так как никому не раскрывал он своей тайны, если не считать жены (впрочем, он и об этом жалеет). Тем не менее и подобной откровенности оказалось вполне достаточно, чтобы тайна перестала быть тайной.
А Тоот рассказал будто бы следующее. Когда управляющий Будаи остался наедине с Ботом у дверей склепа, Тоот все еще находился на чердаке, так как стеснялся сойти оттуда при столь большом стечении народа, и через щель видел и слышал, как почтенный Будаи, взяв секретаря за лацкан пальто и пристально глядя на него пронизывающим взглядом, угрюмо сказал:
— А знаете ли вы, господин секретарь, что ночью я открывал гроб и тела графа Бутлера в нем не оказалось?
Секретарь испуганно оглянулся вокруг и пролепетал в страхе:
— Что же там было?
— Деревянная кукла в куче песка и стружек.
— Ну, а еще?! — зловеще бросил Бот и посмотрел на старика леденящим кровь взглядом.
— На груди у куклы табличка, — тихо продолжал управляющий Будаи, — на которой написано: «Тасе!»[108]
— Ergo tace![109] — мрачно, с угрозой в голосе заключил секретарь.
Вот какая легенда распространилась в те времена. Но поскольку всегда находятся люди — к числу таких принадлежал и почтенный Тоот, — которые не верят, что их любимые герои, как, например, Наполеон, умирают, а между тем каждый знает, что все люди на земле смертны, то в эту малоправдоподобную сказку и верили и не верили. Узнать что-либо более достоверное было уже невозможно, потому что старый Будаи умер через три недели после похорон графа, а секретарь Бот навсегда исчез из этих краев сразу же после погребальной церемонии. Так что один бог знает, кто прав! Но после того как следующей весной Пирошка Хорват тоже продала свое борноцкое имение одному моравскому графу и покинула здешние места, да и вообще Венгрию, и даже след ее простыл, число поверивших в легенду трактирщика Тоота значительно возросло. А Тоот, покуривая свою неизменную трубку, до самой смерти тешил себя мечтой, что где-нибудь в тихом уголке большого мира живет — непременно живет! — счастливая пара, которая по воскресеньям ставит на стол два красных бокала, украшенных серебряными оленями, и, попивая из них вино, нет-нет да вспоминает его, приговаривая: «Жив ли еще добрый старый Тоот в Оласрёске?»
Долго жила эта легенда даже в кругах высшей знати, то исчезая, то возрождаясь, не получая, однако, слишком широкого распространения. Это видно из того, что гроб до настоящего времени так и не открыли (хоть и об этом был разговор).
Спит спокойно граф Бутлер, если он действительно находится в этом гробу, — мужчина, красивее которого с тех пор не было в комитате Унг. Тихое пристанище, склеп в Доборуске, самое подходящее место для вечного сна: кругом царит молчание, исчезли и леса, не слышно больше их величавого шума. И только лягушки квакают иногда в ближних болотах:
«Прравят попы! Прравят попы!»
1900
ПРИМЕЧАНИЯ
ВЫБОРЫ В ВЕНГРИИ
Роман состоит из трех самостоятельных первоначально частей, созданных писателем в разные годы. Сначала была написана нынешняя вторая часть романа-письма Меньхерта Катанги о парламентской жизни, адресованные жене. По существу, это были очередные «парламентские очерки» Миксата, который, став с 1887 г. депутатом парламента от либеральной партии, регулярно публиковал их к газетах. На этот раз, подписав двенадцать таких очерков именем вымышленного депутата Катанги, Миксат не только давал отчет об очередных заседаниях парламента, но и создал великолепный сатирический портрет — «автопортрет» — депутата-«мамелюка» (сторонника правительства). Жизненность и художественная достоверность этого образа, увлекательность и наивная непосредственность «писем» были таковы, что читатели буквально засыпали редакцию «Пешти хирлап» («Пештский вестник») просьбами рассказать подробно историю Меньхерта Катанги, которого они приняли за реальное лицо, — этого авантюриста-депутата, столь уютно и прочно обосновавшегося под крышей всеядного венгерского парламента. В ответ на эти пожелания Миксат написал сатирически гротескную биографию своего «героя» («Беспокойная жизнь и приключения, падение и возвышение его превосходительства господина депутата Меньхерта Катанги», 1896), рассказал там о женитьбе Катанги, использовав для этого нашумевшую тогда скандальную историю, «героем» которой был польский курортный врач из Глейхенберга, рассказал и о том, как Меньхерт Катанги баллотировался впервые в парламент. Годом позже Миксат опубликовал «Проделку в Кертвейеше» — историю второго избрания Катанги. Так сложился этот увлекательный роман-памфлет, пользующийся и поныне любовью не только венгерского, но и зарубежного читателя, — роман «Выборы в Венгрии» переведен на несколько европейских языков.
Современная Миксату прогрессивная критика, анализируя роман, обращала особое внимание на своеобразие и тонкость сатирической манеры Миксата, на мастерство его в создании типических образов. Любопытно, что в то же время некоторые консервативные критики упрекала Миксата в равнодушии и «бесстрастности» при изображении «жульнических махинаций в общественной жизни».
После 1945 г. роман «Выборы в Венгрии» пользовался исключительной популярностью и выдержал несколько отдельных изданий. В 1950 г, первая часть романа была переработана для театра Балажем Ленделем (пьеса называлась «История одного мандата»). «Проделка в Кертвейеше» также попала на сцену, инсценированная в 1953 г. Андрашем Бекефи и Ференцем Каринти.
«Пешти хирлап» — либеральная газета (1841—1944).
Пожонь — ныне Братислава.
Коложвар — ныне Клуж.
Феньвеши Ференц (1855—1903) — адвокат, депутат парламента от либеральной партии.
Кенеди Геза (1853—1935) — журналист и депутат парламента; газету «Пешти хирлап» редактировал в 1881–1902 гг.
Хуняди Янош (ок. 1387—1456) — известный полководец и правитель Венгерского королевства; родом из трансильванских дворян.
…как бы Яноша Корвина на его мачехе Беатрисе женить и на трон посадить. — Корвин Янош (1473—1504) — сын короля Матяша, не признанный королем крупными феодалами.
…Ференца Кошута хотите женить на какой-нибудь эрцгерцогине, чтобы наш государь Франц-Иосиф тут же полкоролевства ему отписал. — Кошут Ференц (1841—1914) — сын Лайоша Кошута; после смерти отца (1894) вернулся на родину и, основав свою партию, выступал за независимость Венгрии (достижение которой дворянство порой мыслило себе самым нереальным образом, на что и намекает писатель).
Ракоци Ференц II (1676—1735) — национальный герой, трансильванский князь, возглавивший освободительную борьбу венгерского парода против Габсбургов. После поражения (1711) вынужден был уехать в изгнание. Умер в Турции.
Иосиф II (1741—1790) — австрийский император, известный некоторыми либеральными начинаниями.
…давно уже под сводами храма капуцинов покоился. — Иосиф II похоронен, как и остальные Габсбурги, в склепе венской церкви капуцинов.
«Пуристами» (от лат. purus — чистый) назывались в венгерской либеральной партии противники уступок церкви.
Менюш — уменьшительное от Меньхерт.
Штурм Альберт — учитель и журналист, вел отдел парламентских новостей в газете «Пештер Ллойд»; в 1887—1906 гг. редактировал «Парламентский альманах», содержавший портреты и краткие биографии депутатов.
Кашша — ныне Кошице.
Печи Тамаш — деятель либеральной партии.
…родом он из Шарошского комитата. Стоп! Это уже важное отягчающее обстоятельство, — Из Шарошского комитата («шарош» — по-венг. «грязный») у Миксата происходят многие дворянские карьеристы и тунеядцы (см., например, его повесть «Кавалеры»).
Не сдавайся, «ипсилон»! — Намек на дворянство: венгерские дворянские фамилии писались с ипсилоном на конце.
Джентри — укрепившееся в Венгрии за среднепоместным дворянством его английское наименование.
Компосессор — так называли в Венгрии помещиков — совладельцев имения.
Бедного Дожу вон на раскаленный трон посадили. — Дожа Дёрдь — предводитель венгерского крестьянского восстания 1514 г. Феодалы казнили «крестьянскою короля» Дожу, посадив его живым на раскаленный железным «трон».
Пато Пал герои одноименного стихотворения Шандора Петефи, синоним беспечного лентяя.
Барнум Тейлор Финеас (1810—1891) — американский делец, антрепренер и владелец цирков, мастер беззастенчивой рекламы.
«Кайзершмарн» — род бисквита.
Лобковицы — известная к Габсбургской монархии чешская княжеская семья.
Алфёльд — Большая Венгерская низменность.
Палинка — венгерская водка.
Ведь даже из осажденного Магдебурга каждая женщина получила право хоть одного мужчину вынести. — Имеется в виду следующий исторический анекдот: в 1130 г. император Конрад III, осадив Вейнсберг (Миксат по ошибке говорит о Магдебурге), якобы разрешил женщинам покинуть город, взяв с собой лишь самое ценное. Женщины вышли за ворота, неся на спине своих мужей.
Аттила — венгерская куртка.
Батори Иштван (1533—1586) — трансильванский князь, позже польский король (известный под именем (Стефана Батория).
Ты тот самый Альвинци? — Поговорка, восходящая ко времени антинаполеоновского дворянского ополчения (1809), когда в ответ на упреки генерала Альвинци, который стыдил плохо вооруженных им же ополченцев за бегство, один вышел вперед и со словами: «Ты тот самый Альвинци?» — бросил к его ногам негодный пистолет.
Зальцкаммергут — живописная альпийская местность в Верхней Австрии.
Nervus rerum всех вещерум… — Шуточное студенческое видоизменение латинской поговорки «pecunia nervus rerum»: деньги — суть всего (букв.: «всех вещей»).
Надьварад — ныне Орадя.
Подманицкий Фридеш (1824—1907), барон — редактор, писатель, лично знавший Миксата; в течение сорока пяти лет — депутат парламента от либеральной партии.
Чаба — легендарный сын Аттилы, считался родоначальником секеев (трансильванских венгров).
Турул — сказочная птица венгерского фольклора; позже служила эмблемой шовинистов.
Нэмере — холодный восточный ветер в Трансильвании.
Фербли — венгерская карточная игра.
Куны — куманы (половцы; в XIII в. некоторые половецкие племена поселились в Венгрии, слившись с мадьярами).
Деак Ференц (1803—1876) — известный венгерский политик, подготовивший соглашение 1867 г. с Австрией; основатель либеральной партии.
Маймуна — фея сновидений.
Тиса Кальман (1830—1902) — известный деятель либеральной партии, премьер-министр Венгрии в 1875—1890 гг.
Брашшо — ныне Брашов.
Борча — уменьшительное от Борбала.
Со времен истории о цинкотайской кварте… — Одна из народных историй о короле Матяше, где тоже задаются замысловатые вопросы («цинкотайская кварта» — больше обычной).
Британика — сорт сигар.
Геллерт — гора в Буде, где, по народному поверью, ведьмы справляли шабаш.
Векерле Шандор (1848—1921) — деятель либеральной партии; будучи министром финансов, снискал благосклонность австрийского двора; в 1892—1895 гг. — премьер-министр.
Банфи Деже (1843—1911), барон — реакционный политический деятель, председатель палаты депутатов, затем (1895—1898) — премьер-министр Венгрии.
Отъелись небось в Кёсеге за королевским столом. — В городе Кёсеге в сентябре 1893 г. состоялись маневры австро-венгерской армии в присутствии Франца-Иосифа (в свиту которого были приглашены некоторые венгерские министры) и германского императора Вильгельма.
Силади Деже (1840—1901) — прогрессивный деятель либеральной партии; резко выступал против реакционеров, клерикалов. Ему принадлежит заслуга разработки антицерковных законов, принятых правительством Векерле.
Фейервари Геза (1833—1914) — генерал, до 1803 г. — военный министр.
На Лайоша Тису… Я даже вина не пью теперь. — Тиса Лайош — министр по делам королевской особы; Лукач Бела — министр торговли; Хиероними Карой — министр внутренних дел в правительстве Векерле. Бихарский комитат был политическим оплотом либералов (партии Кальмана Тисы). В Капосташмедере была тогда построена снабжавшая Будапешт водопроводная станция.
Юшт Дюла (1850—1917) — депутат от оппозиционной партии независимости (Ференца Кошута); часто враждовал со своими сотоварищами по партии, придерживаясь более радикальных убеждений.
Полони Геза (1848—1920), Этвеш Карой (1842—1916) — деятели партии независимости; первый — крайний националист; второй — разделял демократические взгляды.
Аппони Альберт (1846—1933), граф — глава национальной партии (крупных помещиков-консерваторов).
Хоранский Нандор — депутат от той же партии.
Герман Отто (1835—1914) — ученый-натуралист, депутат партии независимости от Мишкольцкого округа.
…по поводу ответа его императорского величества кёсегским городским властям. — Здесь и ниже речь идет о выступлениях Франца Иосифа, призывавшего к миру между протестантами и католиками, между различными национальностями «двуединой» габсбургской монархии и вообще к охране ее политических основ, установленных соглашенном 1867 г. с Венгрией.
Хелфи Игнац (1830—1897) — депутат от партии независимости, сторонник Лайоша Кошута и противник соглашения с Австрией.
Фабини Теофил — министр юстиции при Кальмане Тисе.
«Немзет» («Нация») — газета либеральной партии.
Гонведы (букв.: «защитники родины») — солдаты венгерской национально-освободительной армии 1848–1849 гг.
…когда наш антиклерикальный законопроект из Вены вернется. — Имеется в виду разработанный Силади и другими законопроект о введении гражданского брака и свободе вероисповедания, против которого ожесточенно выступали церковники и правое крыло либеральной партии.
Васари Колош — кардинал, архиепископ эстергомский.
Кригхаммер Эдмунд — генерал-от-кавалерии, военный министр Австро-Венгрии (1893–1906) (несмотря на существование автономного венгерского правительства, некоторые важнейшие министерства — военное, иностранных дел — были в Австро-Венгрии «общими», едиными у обеих стран).
Барта Миклош (1848—1905) — депутат от партии независимости, националистический публицист и оратор.
Папаи Иштван — возглавлял отдел государственной канцелярии, который переводил для парламента с немецкого официальные документы и королевские рескрипты.
«Пешти напло» — либеральная столичная газета (1850–1939).
Каройи Габор (1841—1895) — депутат от партии независимости; происходил из реакционной графской семьи, которая от него отказалась из-за его симпатий к Кошуту.
…а Кошута кто венгерского подданства лишил? — По закону, принятому парламентом в 1890 г., Кошут, живший в эмиграции, терял венгерское подданство.
Хорват Дюла — депутат от либеральной партии, примкнувший к национальной партии Аппони.
Юришич Миклош — воевода, оборонявший крепость Кёсег от войск турецкого султана Сулеймана (XVI в.).
…Пазманди все испортит. Ты ведь знаешь Дини, какой он: ветреней Лилиомфи, надоедливей Пала При. — Пазманди Денеш — депутат от партии независимости. Миксат части его высмеивал за небескорыстное вмешательство в обсуждаемые дела (Дини — уменьшительное от Денеш). Лилиомфи — влюбленный юноша из одноименной комедии Э. Сиглигети (1814—1878). При Пал — один из популярных комедийных персонажей, синоним «приставалы».
Зач Фелициан — средневековый венгерский феодал, в 1330 г. с мечом напавший на короля и королеву (чей брат, по преданию, обесчестил его дочь).
Молдован Гергей — журналист, по происхождению румын, защищавший националистическую венгерскую политику в Трансильвании.
Братья Легради — известные книгоиздатели, выпускавшие сочинения Миксата, а также газету «Пешти хирлап» (где печатались «Письма» Катанги).
Тарок — карточная игра.
Дарани Игнац (1849—1927) — адвокат, либеральный политик.
Бёти Алджернон — крупный помещик, близкий к семейству Тисы, и депутат от либеральной партии; был известным рассказчиком анекдотов.
…о боксёгском покушении. — Одно из злободневных политических событий того времени: близ станции Боксёг, через которую должен был проезжать Франц-Иосиф, оказались разобраны рельсы, в чем будапештские газеты обвинили румынских националистов.
Хегедюш Шандор — либеральный депутат и журналист.
Микеш Келемен (1690—1761) — приближенный Ференца Ракоци II, разделивший с ним жизнь в изгнании (на острове Родос), о которой рассказал в своих «Турецких письмах».
«Февароши лапок» — столичная газета с литературной страницей.
Гвадани Йожеф (1725—1801) — поэт и автор «Всемирной истории» в шести книгах.
Иванка Оскар — депутат от национальной партии.
Хокк Янош — католический священник, политический деятель.
Ашбот Янош — консервативный публицист и писатель.
Феньвеши я нашел в бильярдной (больше у нас нигде зеркал нет). — Феньвеши слыл образцом мужской красоты, над чем и подтрунивал Миксат.
Квинт — пять карт подряд одной масти (и пикете).
Бекшич Густав (1847–1906) — публицист, депутат; очень умеренный либерал.
Мадарас Йожеф (1814—1915) — участник революции 1848 г.; самый радикальный депутат от партии независимости.
Тали Кальман (1839— 1909) — поэт, историк, занимался эпохой Ракоци; депутат от той же партии.
Феррарис Артур — модный в высшем свете портретист.
Футтаки Дюла редактор правительственной газеты.
Перцель Беньямин — один из секретарей палаты депутатов.
Угронисты — сторонники Угрона Габора (1847–1911) — влиятельного оппозиционного (националистического) политика и оратора.
Шлаух Лёринц — каноник, а позже кардинал, ярый противник законопроекта.
Берзевици Альберт (1853—1936) — консервативный политик и писатель; статс-секретарь министерства культов; с 1905 г. — президент Венгерской Академии наук.
Казино — здесь: столичный аристократический клуб; оказывал реакционное влияние на общественную жизнь.
Сапари Ласло — либеральный политик, из-за антиклерикального законопроекта порвавший со своей партией и назначенный губернатором в провинцию.
Этвеш Лоранд (1848—1919) — известный физик и политический деятель.
Даниэл Эрне — депутат от либеральной партии, впоследствии министр торговли.
Готский альманах — родословная дворянская книга.
Бург — дворец Габсбургов в Вене.
Тиса Иштван (1861—1918), граф — крупный помещик и реакционный политик; впоследствии премьер-министр.
Разве что румыны зашевелятся. — В Бихарском комитате (в Трансильвании) жило много румынских крестьян, которые жестоко эксплуатировались; там же развивалось националистическое движение румынской буржуазной интеллигенции.
«Ракоцианское неистовство» — то есть пылкий венгерский патриотизм.
…Политика — наука о насущных потребностях дня… — изречение Лайоша Кошута.
За эту-то цепь… его и прозвали в городке «Мамелюком». — Намек на «ручных», верных правительству депутатов («мамелюков»), которые у него на «привязи».
Дизраэли Бенджамин (1804—1881) — английский литератор и консервативный государственный деятель.
…как у тебя хватило совести против Кошута в пятницу голосовать! — Руководитель венгерской революции 1848 г. Лайош Кошут, который и в эмиграции все время выступал против соглашения с Австрией, умер 20 марта 1894 г., и прах его был перевезен на родину. В венгерском парламенте тотчас начались бурные споры о том, каким должно быть погребение Кошута. Несмотря на требования оппозиции, венгерское правительство все же не решилось придать церемонии официальный характер.
…про битвы при Шайо и Мохаче. — У реки Шайо (приток Тисы) венгерское войско было разбито татарами (1241). В результате поражения при Мохаче (1526) Венгрия надолго подпала под власть турок.
Конт Иштван (XIV в.) — предводитель дворянского заговора против короля Жигмонда (немца по происхождению), участники которого были казнены.
Куруц — участник национально-освободительной войны Ракоци; здесь: бунтарь.
«Леанька» — легкое венгерское вино.
Шеннеи Пал, барон — консервативный политик.
Квота (по соглашению 1867 г. с Австрией) — доля Венгрии и соответственно Австрии в общегосударственных расходах.
«Боршсем Янко» — популярный юмористический журнал (1868—1938).
Андраши Дюла (1823—1890), граф — политический деятель, вместе с Деаком подготовивший соглашение 1867 г. с Австрией; в 1871—1879 гг. — министр иностранных дел Австро-Венгрии.
…вольный королевский город. — В средние века город, непосредственно подчинявшийся королю, пользовался различными привилегиями (некоторые из них — административного характера — сохранились вплоть до XX в.).
«Картезианец» — роман Йожефа Этвеша (1813—1871), исповедь разбитой любви и неудавшейся жизни.
Сечени Иштван (1791—1860), граф — видный деятель либерально-дворянской антигабсбургской оппозиции перед революцией 1848 г.
Тогда сначала пусть и у них тринадцать генералов повесятся. — После поражения революции 1848 г. австрийский генерал Гайнау расстрелял и повесил в городе Араде тринадцать генералов венгерской национально-освободительной армии.
Кинижи Пал (ум. 1494) — венгерский полководец, о жизни и приключениях которого сложено много легенд и историй.
Ференц Йошка — фамильярное народное прозвище Франца-Иосифа, императора Австро-Венгрии.
Нет больше ни черно-желтых темляков… — Черное с желтым — цвета австрийского флага. Речь идет о бывших оппозиционерах («волках») и их антиавстрийских фразах.
…откуда у змеи камень-змеевик на голове… — Змеевик (серпентин), по народному поверью, — змеиная корона из окаменелой змеиной слюны.
…мост через Кемеше, а на нем… святой Янош Непомук. — Изображения этого канонизированного церковью пражского викария, брошенного королем во Влтаву, обыкновенно помещались на мостах.
Виклер — род плаща, накидки.
Муки — уменьшительное от Непомук (второе имя барона Бланди).
Баконь — лесистое нагорье в западной Венгрии, где скрывались разбойники.
…обещайте, что чертежей моих трогать не будете… — Имеются в виду известные (предсмертные) слова Архимеда, обращенные к римскому солдату: «Не тронь моих чертежей».
О, не покидай нас… — перефразированная строфа из стихотворения Ш. Петефи «Королевская присяга».
Арпад (840—907) — князь, объединивший под своей властью семь венгерских племен, родоначальник первой венгерской королевской династии.
Паннония — римская провинция, существовавшая на месте теперешней Венгрии (изображалась в виде богини).
И это в праздники… — В конце прошлого века в Венгрии отмечалось тысячелетие основания Венгерского государства.
Ласло I, или Святой — венгерский король (1077—1095).
Бела I — венгерский король (1060—1063).
Правда, за занавеской в тот миг мстительный кинжал таился… — намек на зависть к Беле I, тогда еще военачальнику, его старшего брата, Андраша I, который царствовал перед ним и страшился его военных успехов.
Белди Пал (1621—1679) — трансильванский вельможа, обвиненный в заговоре и погибший в тюрьме.
Лендваи Мартон (1807—1858) — известный венгерский актер.
«В отхожее его, а не в Пожонь!» — Одна из предвыборных прибауток тех времен, когда венгерское сословное собрание заседало (до революции 1848 г.) в городе Пожонь.
Что-то молод больно! — По естественному для того времени ходу мысли, слушатели решили, что Катанги причислил себя к эмигрантам — участникам революции 1848 г., которые после ее поражения жили в изгнании.
СТРАННЫЙ БРАК
Роман впервые печатался в 1900 г. с продолжениями на страницах «Пешти хирлап». Много раз издавался отдельными изданиями, входил во все последние собрания сочинений Миксата, переведен на многие языки мира. В 1948 г. Миклош Дярфаш и Иштван Эркень переработали роман в одноименную пьесу, которая в том же году была поставлена в Будапеште, а в 1960 г. возобновлена в Сегеде. В 1951 г. роман был экранизирован.
Мысль о создании «Странного брака» возникла у Миксата во время затянувшегося обсуждения в парламенте законопроекта о гражданском браке (1892—1893). Ожесточенная дискуссия по этому поводу в парламенте и в прессе обнажила политическую и экономическую подоплеку притязаний католической церкви в Венгрии. Миксат безоговорочно поддерживал законопроект, который и был принят венгерским парламентом в 1894 г.
По всей вероятности, Миксат приступил к работе над «Странным браком» в 1895 г., о чем говорят две ссылки в начале произведения. Но основным поводом к завершению романа послужили дальнейшие события политической жизни Венгрии, а именно — объединение в 1900 г. либеральной партии, к которой принадлежал сам Миксат, с национальной и ее компромисс с явно клерикальной «народной партией». В этой ситуации антиклерикальный гуманистский роман Миксата прозвучал особенно остро и гражданственно.
В основу сюжета «Странного брака» легла действительная история, происшедшая в конце XVIII века, когда барон Дёри (Миксат сохранил подлинные имена основных действующих лиц) насильно женил графа Бутлера на своей дочери, и Бутлер затем в течение двадцати лет не мог добиться от церковных властей расторжения этого несчастного союза.
Миксат услышал это предание от своего коллеги, депутата парламента Дежё Берната, отец которого, Жигмонд Бернат, был другом Бутлера и присутствовал якобы при насильственной свадьбе графа. (На самом деле Ж. Бернату было тогда всего два года; но позже он действительно подружился с Бутлером, несмотря на разницу лет.) Миксат располагал также соответствующими архивными документами, однако использовал официальное изложение нашумевшего дела только в основных чертах и опирался, по существу, на ту версию, которая бытовала в народе и была навеяна либеральными идеями периода борьбы за реформы (20—30-е годы XIX в.).
Консервативная и реакционная критика встретила «Странный брак» в штыки. Цепляясь за расхождения между несущественными историческими фактами и их литературным воплощением, они ставили под сомнение право писателя на публикацию романа. Только после освобождения Венгрии роман получил полное и заслуженное признание на родине писателя.
Шарошпатакский университет… — старинный колледж на правах университета в г. Шарошпатак (Патак), комитат Земплен.
Палатин — наместник австрийского императора в Буде, древней столице Венгрии.
Гайдук — сельский полицейский.
…служил он не только нашему императору, его величеству Францу… — Имеется в виду австрийский император Франц II Габсбург (1768—1835) — один из столпов европейской реакции.
…идут куруцы Ракоци — Куруцами называли участников венгерского освободительного движения, возглавленного Ференцем Ракоци II (1676–1735), князем-правителем Трансильвании.
Тугут (1736–1818) — австрийский дипломат и государственный деятель, крайний реакционер; по его настоянию в 1795 г. были казнены руководители республиканского заговора в Венгрии.
Сервус — широко распространенное в Венгрии приветствие, предполагающее обращение на «ты».
Чоконаи Михай Витез (1773—1805) — поэт-просветитель, один из основоположников венгерского литературного языка. «Доротея» — комическая поэма Чоконаи.
Валленштейн Альбрехт (1583—1634) — австрийский полководец эпохи Тридцатилетней войны (1618—1648). Был заподозрен в тайных сношениях с врагом и вскоре убит в городе Хеб (Чехия).
Шимони Йожеф (1771—1832), барон — гусарский полковник, прославившийся в войне против Наполеона.
Купецкий Ян (1667–1740) — выдающийся чешский живописец-портретист.
Андраши — одно из наиболее богатых и влиятельных семейств Венгрии.
Крейцер — мелкая разменная монета в Австро-Венгрии.
Бихари Янош (1764—1827) — венгерский композитор и скрипач-виртуоз, широко использовавший в своем творчестве мелодии народных песен и танцев.
Монтекукколи Раймонд (1609—1680), граф — австрийский полководец, участник Тридцатилетней войны; его девизом было: «Для ведения войны необходимы три вещи — деньги, деньги и деньги».
Диошдёр — промышленный городок в северо-восточной Венгрии, издавна славится производством высокосортной бумаги.
Кантор — руководитель церковного хора.
…в каждом доме, где была печь с трубой… — Печь с трубой в то время имели только зажиточные люди, преимущественно дворяне.
Лочолаш — венгерский народный обычай: юноши на пасху опрыскивают девушек розовой водой или разбавленными водой духами.
…из числа «ходивших в бекеше». — Бекешу тогда носило только мелкопоместное дворянство.
Казинци Ференц (1759—1831) — известный венгерский писатель и публицист, участник республиканского заговора, возглавлявшегося Мартиновичем.
…имя девушки постоянно напоминало о том, какой она должна быть. — «Пирошка» по-венгерски значит — «румяная» (piroska).
…долговязых бестий, которых в свое время отец Фридриха Великого подбирал для своей знаменитой коллекции. — Имеется в виду прусский король Фридрих I (1657–1713), который подбирал для своего гвардейского полка солдат ростом от ста девяноста сантиметров до двух метров.
Хольд — венгерская мера земли, равная 0,57 гектара.
Гусар — слуга у богатых дворян, одетый в гусарскую форму.
Пазмань Петер (1570—1637) — архиепископ эстергомский, иезуит, идеолог воинствующего католицизма, вдохновитель контрреформации в Венгрии.
Каспар Гаузер — таинственная личность, обнаруженная в 1828 г. близ Нюрнберга; в детстве, по-видимому, был похищен неизвестными злоумышленниками, многие годы державшими его взаперти.
…что древние венгры, прибыв на новую родину… — Имеется в виду переселение мадьярских (венгерских) племен, перекочевавших в середине V века со своей прародины — Приуралья — в черноморские степи, а затем, в 895—896 гг., под водительством Арпада пришедших на тисо-дунайскую равнину, где они и обосновались окончательно на территории, в основном совпадающей с пределами современной Венгрии.
Лехел и Ботонд — предводители боевых дружин, совершавших в первой половине X века опустошительные набеги на страны Западной Европы и Балканы.
Иштван I (997—1038) — князь из рода Арпадов, в 1000 году принявший титул короля и положивший начало первой королевской династии в Венгрии; считается основателем венгерского государства.
Кальман (1095—1116) — венгерский король из династии Арпадов. В период его царствования Венгрия достигла большого могущества, отстояв свою независимость от притязаний германских завоевателей и папы римского.
Кемпелен Фаркаш (1734—1804) — известный механик и строитель многих выдающихся архитектурных сооружений в Буде и в Вене.
Телеки Михай (1634—1690), граф — государственный деятель и полководец. Имеется в виду тот эпизод его жизни, когда он в 1672 г. со своим отрядом подвергся неожиданному нападению со стороны немецкого гарнизона комитата Сатмар и ему пришлось спасаться бегством.
…Ножницы венского двора искромсали волшебный край холмов и долин, взрастивший куруцев. — После подавления восстания куруцев и заключения Сатмарского мира (1711) венские правители произвольно изменили исторически сложившиеся границы старинных венгерских комитатов, чтобы ослабить их сопротивление габсбургскому гнету.
Брахиум — так назывались в старых венгерских законах вооруженные силы (полиция, жандармерия, воинские части), находившиеся в распоряжении государственной власти и местной администрации для поддержания общественного порядка.
Септемвиры — здесь члены «Суда семи», верховного суда старой Венгрии.
Чак Мате (1260—1321) — один из самых богатых и могущественных представителей высшей феодальной знати Венгрии.
Гара, Омоде — старинные венгерские знатные роды.
«…мой чешский егерь». — В те времена было принято в охотничьих угодьях феодальных поместий держать специального егеря, которого обычно выписывали из Чехии.
Унгвар — ныне Ужгород.
Мартинович Игнац (1755—1795) — священник, руководитель венгерских республиканцев-«якобинцев», выступавших против власти габсбургской династии, за восстановление независимости Венгрии, отмену дворянских привилегий и феодальных порядков и установление в стране буржуазно-демократического республиканского строя. Члены организованных Мартиновичем двух тайных обществ требовали немедленного прекращения войны с революционной Францией, экспроприации земельных владений князей церкви и предоставления равноправия национальным меньшинствам. Руководители заговора во главе с Мартиновичем были схвачены и 20 мая 1795 г. казнены в Буде.
Барабаш Миклош (1810—1898) — известный венгерский художник-портретист.
Будаи Эжаяш (1766—1841) — реформатский епископ, профессор истории и классической филологии Дебреценского университета; боролся за то, чтобы преподавание в университете велось на венгерском языке вместо установленного немецкого.
Талер — старинная немецкая серебряная монета.
Кёльчеи Ференц (1790—1838) — критик, поэт, автор венгерского национального гимна, выдающийся оратор, один из лидеров либерального дворянства; Кёльчеи считал, что уничтожение в Венгрии крепостного права является необходимым условием завоевания национальной независимости страны.
Сюрет — праздник сбора винограда, обычно справляемый в октябре.
…как, согласно легенде, ущипнула Мария-Терезия своего маленького Иосифа в Пожони. — Миксат ссылается здесь на следующую легенду: императрица Мария-Терезия, явившись со своими детьми на заседание венгерского сословного собрания, якобы ущипнула младшего сына, чтобы он заплакал, и тем самым вызвала сочувствие венгерских магнатов, которые изъявили готовность поддерживать ее в войне за права габсбургской династии (война за Австрийское наследство и Семилетняя война).
…Тех героических женщин, которые в свое время изгнали из этого города турок, давно уже нет. — Имеется в виду героическая защита Эгера (тогда укрепленной крепости) от турок в 1552 г., во время которой особую доблесть и патриотизм проявили женщины.
Аудитор — главный судья церковного суда.
Мартинуци (1482—1551) — католический монах, позднее кардинал, в период турецкой оккупации страны правитель Трансильвании и восточных районов Венгрии, проводил двойственную политику, заигрывая как с турками, так и с Габсбургами; был убит наймитами венских правителей.
Людовик II (1506–1526) — венгерский король, утонул в речке Челе, спасаясь бегством после разгрома венгерской армии турками в битве при Мохаче 29 августа 1526 г.
Хадик Андраш (1710—1790), граф — полководец, возглавлявший войска императрицы Марии-Терезии и Иосифа II; отличался большой храбростью.
Герцог-примас — глава католической церкви в Венгрии.
…прибыли на троицу в Буду и остановились в гостинице… в Пеште. — Буда и Пешт до 1867 г. были административно самостоятельны; в Буде помещалась резиденция палатина — наместника венского двора; Пешт был торговым центром.
Примас — глава церковной епархии отдельной провинции.
Академия Людовика («Людовицеум») — первая в Венгрии военная академия, созданная в 1808 г.
Капитул — коллегия высших сановников католической церкви при епископе.
…слух о котором до самой революции передавался из уст в уста… — Миксат имеет в виду революцию 1848–1849 гг.
Примечания
1
В цвету (лат.).
(обратно)2
Жизнеописание (лат.).
(обратно)3
Саисский храм Богини Нейт в Древнем Египте славился своей гробницей: в его тайном подземном святилище находилась статуя Изиды, укрытая покрывалом. Надпись на статуе гласила: «Я есмь всё бывшее, сущее и будущее, и никто из смертных ещё не снял моего покрывала». Согласно легенде один дерзкий юноша проник в храм и сорвал покрывало со статуи. В тот же миг его сознание помутилось, и через некоторое время он умер не приходя в себя.
(обратно)4
Совладелец (лат.).
(обратно)5
Друзья (лат.).
(обратно)6
До бесконечности (лат.).
(обратно)7
Счастливый случай, непредвиденное обстоятельство (лат.).
(обратно)8
Вечный двигатель (лат.).
(обратно)9
Бруммер — род экипажа (нем.).
(обратно)10
Конца века (франц.).
(обратно)11
«Д-р Меньхиор фон Катанги, врач-бальнеолог» (нем.).
(обратно)12
Слежу за ним (нем.).
(обратно)13
Приличный, благопристойный (нем.).
(обратно)14
Иди сюда, милый Гигерль! (нем.)
(обратно)15
Курортник (нем.).
(обратно)16
Заметь хорошенько (лат.).
(обратно)17
«Кирай» — король (венг.).
(обратно)18
Короче говоря, итак (лат.).
(обратно)19
Уединение, разговор наедине (франц.).
(обратно)20
Государь! (англ., франц.)
(обратно)21
Возвращение в прежнее состояние (лат.).
(обратно)22
После стольких опасностей (лат.). Цитата из «Энеиды» Вергилия.
(обратно)23
Временная, на данный случай (лат.).
(обратно)24
Молодость ветрена (лат).
(обратно)25
Телохранитель (арабск.).
(обратно)26
Протест, жалоба (лат.).
(обратно)27
Пропуск (нем.).
(обратно)28
Изыди, сатана! (лат.)
(обратно)29
Нравится; здесь — одобряется, принимается (лат.).
(обратно)30
От редакции. Наш уважаемый сотрудник господин депутат Меньхерт Катанги, к большому нашему сожалению, в начале сегодняшнего заседания вдруг почувствовал себя плохо, и труд написать настоящую корреспонденцию любезно взял на себя другой сотрудник газеты, также депутат парламента.
(обратно)31
Непременным условием (лат.).
(обратно)32
«Ракоцианское неистовство» (лат.).
(обратно)33
Уступая силе, по принуждению (лат.).
(обратно)34
Вот именно, как же (лат.).
(обратно)35
Полным текстом ее я не располагал, но у меня явилась неожиданная мысль. На другой день (то есть сегодня утром) отправился я к экономке господина настоятеля и попросил показать вчерашние манжеты его преподобия. И в самом деле, на одной из них карандашом слово в слово был нацарапан весь текст импровизации. Прилагаю подлинный экземпляр манжеты для уважаемой редакции. — Л. Р.
(обратно)36
Между прочим, мимоходом (лат.).
(обратно)37
Опасаться неплохо (лат.).
(обратно)38
Друг, дружок (лат.).
(обратно)39
«Моэ и Шандон» (франц.) — марка шампанского
(обратно)40
Любезнейшие (лат.).
(обратно)41
Надо попробовать (нем.).
(обратно)42
В цвету; здесь — в расцвете славы (лат.).
(обратно)43
Промедление опасно (лат.).
(обратно)44
Непременного условия (лат.).
(обратно)45
Всем винам вино — да здравствует (лат.).
(обратно)46
Большая сила; сила силу ломит (лат.).
(обратно)47
Сегодня цветет, а завтра мертв (нем.).
(обратно)48
Аминь; здесь: да, именно (лат.).
(обратно)49
Следовательно, итак (лат.).
(обратно)50
Необходимость ломает законы (лат.).
(обратно)51
Господня воля: да здравствует (лат.).
(обратно)52
По поводу себя, в своих интересах (лат.).
(обратно)53
Ну что же; пусть так (лат.).
(обратно)54
Для памяти (лат.).
(обратно)55
Опоздавшему достаются кости (лат.).
(обратно)56
Превосходно! (лат.)
(обратно)57
Старина Тугут, возможно, и был неплохим дипломатом, но оказался плохим пророком. Я сам впоследствии видел Жигмонда Берната среди депутатов венгерского парламента, когда он в качестве его старейшего члена однажды открывал сессию. (Прим. автора.)
(обратно)58
Невежды не знают стремлений (лат.).
(обратно)59
Знатен и богат (лат.).
(обратно)60
Доктор, любивший игру слов, нарочно произнес эту фразу так, что можно было понять, будто он говорит: «Ваш пес здоров» [Словесный каламбур: «эта больная» (ekbeteg) — «ваш пес» (ebetek)] (венг.).
(обратно)61
Игра слов: medve — медведь (венг.)
(обратно)62
Так толковала мать ответ духа, но, увы, иначе распорядилась судьба. Наш Пишта стал впоследствии тем Иштваном Сирмаи, который в 1857 году, в день приезда в Мишкольц императора Франца-Иосифа, сверкая шитой золотом венгеркой и лихо гарцуя на коне во главе почетного эскорта, вдруг замертво свалился наземь, сраженный апоплексическим ударом. Следовательно, он действительно умер «окруженный королевской роскошью». (Прим. автора.)
(обратно)63
Трансмедиум — согласно положениям спиритизма посредник высшего разряда, который только внешне не меняется во время сеансов, познавательная же сила его разума и способность восприятия возрастают. (Прим. автора.)
(обратно)64
Астрал — парный дух, симпатизирующий медиуму, спутником которого он и становится. (Прим. автора.)
(обратно)65
Срочное, сверхсрочное (лат.).
(обратно)66
Третьего не дано (лат.).
(обратно)67
Szilvasi — букв, сливовый (венг.).
(обратно)68
Эти две реликвии до сих пор хранятся у Дежё Берната, сына Жигмонда Берната. (Прим. автора.)].
(обратно)69
Выслушаем и другую сторону (лат.).
(обратно)70
Юность ветрена… (лат.).
(обратно)71
Образ жизни (лат.).
(обратно)72
Доброе утро! (лат.)
(обратно)73
Предком Вальдштейнов был тот самый Вальдштейн, или, как назвал его Шиллер, Валленштейн, которого в Хебе заколол один из предков Бутлера. (Прим. автора.)
(обратно)74
Надь — известный мастер по изготовлению трубок в Пеште в 90-х годах XVIII века. За его трубки платили по сорок — пятьдесят золотых, что составляло тогда немалые деньги. (Прим. автора.)
(обратно)75
Понимаешь ли, друг? (лат.)
(обратно)76
Вещественные доказательства (лат.).
(обратно)77
Обряд благословения колец во время венчания (лат.).
(обратно)78
Благословение вступающих в брак (лат.).
(обратно)79
Обряд, во время которого руки новобрачных соединяют под епитрахилью (лат.).
(обратно)80
Преподобный отец (лат.).
(обратно)81
Весьма пространно (лат.).
(обратно)82
Право меча — право феодала казнить крепостного (лат.).
(обратно)83
«Искусство поэзии» (лат.).
(обратно)84
Обязательное, непременное условие (лат.).
(обратно)85
Красный рак — герб рода Сирмаи. (Прим. автора.)
(обратно)86
Промедление смерти подобно (лат.).
(обратно)87
Благодарение богу! (лат.)
(обратно)88
Совершил ли ты бракосочетание, господин брат мой? (лат.)
(обратно)89
Нет, господин вице-губернатор, я даже не коснулся ее (лат.).
(обратно)90
Ну, как поживаешь, старина? (нем.).
(обратно)91
Портрет графа Яноша Бутлера в натуральную величину, написанный маслом, висит в актовом зале Ноградского комитатского собрания. (Прим. автора.)
(обратно)92
Достойнейший господин! (лат.)
(обратно)93
Ваш покорный слуга (лат.).
(обратно)94
В его имени — его судьба. Перед вами разбойник! (лат.)
(обратно)95
Общественное мнение (лат.).
(обратно)96
эта чертова особа сбилась с пути истинного! (лат.)
(обратно)97
Ближе к делу, ближе к делу (лат.).
(обратно)98
Во имя любви к господу (лат.).
(обратно)99
Это доказано (лат.).
(обратно)100
Царства основываются на справедливости (лат.).
(обратно)101
Бутлер пожертвовал на Академию Людовика сто двадцать шесть тысяч пенгефоринтов, что было по тем временам громадной суммой. (Прим. автора.)
(обратно)102
Небосвод (лат.).
(обратно)103
Приветствую тебя, мой сиятельный друг! (лат.)
(обратно)104
Ты съел мой обед, а теперь хочешь съесть мою дружбу (лат.).
(обратно)105
Прошу нижайше (лат.).
(обратно)106
Эксцентричный богач, по имени Ролли, заказал себе в Вене бричку, на оси которой была приделана музыкальная шкатулка; когда колеса вертелись, слышалась музыка. (Прим. автора.)
(обратно)107
Проклятье! (лат.)
(обратно)108
Молчи! (лат.)
(обратно)109
Значит, молчи! (лат.)
(обратно)



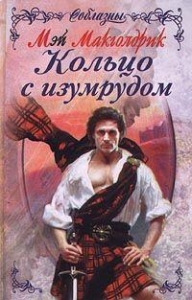
Комментарии к книге «Том 4. Выборы в Венгрии. Странный брак», Кальман Миксат
Всего 0 комментариев