Екатерина Мурашова, Наталья Майорова Звезда перед рассветом
Не утешай, оставь мою печаль Нетронутой, великой и безгласной. Обоим нам порой свободы жаль, Но цепь любви порвать хотим напрасно. Я чувствую, что так любить нельзя, Как я люблю, что так любить безумно, И страшно мне, как будто смерть, грозя, Над нами веет близко и бесшумно… Но я еще сильней тебя люблю, И бесконечно я тебя жалею, – До ужаса сливаю жизнь мою, Сливаю душу я с душой твоею. И без тебя я не умею жить. Мы отдали друг другу слишком много, И я прошу, как милости, у Бога, Чтоб научил Он сердце не любить. Но как порой любовь ни проклинаю – И жизнь, и смерть с тобой я разделю, Не знаешь ты, как я тебя люблю, Быть может, я и сам еще не знаю. Но слов не надо: сердце так полно, Что можем только тихими слезами Мы выплакать, что людям не дано Ни рассказать, ни облегчить словами. (Д. Мережковский)Пролог, в котором два давних друга говорят о важном – о детях и о войне.
– Дети, дети, дети… – Лев Петрович Осоргин побарабанил длинными узловатыми пальцами по подлокотнику кресла, подергал его из стороны в сторону, потом вытянул руку и погладил ластящуюся к его ногам полосатую кошку. – Мы никогда их не понимаем – вот в чем дело!
– Было бы что понимать, – буркнул профессор Юрий Данилович Рождественский и острым взглядом окинул худую и долговязую фигуру друга. – Лео, ты дурно выглядишь. Говорю как врач: тебе стоило бы вплотную заняться своим здоровьем. Все эти истории с непонятыми и непонятными детьми не прошли тебе даром…
– Ах, Джорджи, я просто состарился и уже ни в чем не могу разобраться должным образом. Был век науки и просвещения. Возрастало знание, готовились и проводились реформы. Что происходит теперь? Двое моих сыновей и трое племянников на фронте. Еще двое юношей из нашей семьи – в Алексеевском училище, проходят ускоренный курс подготовки офицеров военного времени. Марселю четырнадцать, его уже два раза возвращали домой после побега. Один раз он почти добрался до действующей армии. Германия, страна Гете и Вагнера, основной экономический партнер России – наш враг…
Угловатый силуэт Льва Петровича, выпрямившегося в кресле, смутно отражался в темном стекле стенных часов, за которым ходил туда-сюда маятник в виде корабельного паруса. Движения маятника и рук Осоргина, не знающих покоя, казались синхронными. За окном, за опущенной бархатной шторой, ровно шуршал бесконечный осенний дождь.
– Лео, дорогой, тебе нельзя так нервничать. Война так война – что мы-то с тобой тут можем поделать? И… да ради бога, возьми ты что хочешь с полки или со стола! Ты же сейчас отломаешь подлокотник или протрешь дырку в жениной кошке. А лучше всего держи вот этот листок, карандаш и нарисуй мне сейчас плывущий кораблик. Я положу его под стеклом на столе у себя в университетском кабинете…
– Да, да, понимаю, я действительно привык, что руки у меня всегда заняты – рисунки, чертежи, макеты, если этого нет, я все трогаю, это раздражает…
– Не говори ерунды, я волнуюсь за твое состояние. Ты был в Петербурге. Что там? Что Луиза?
– Это странно, Джорджи. Люди вели себя так, как будто все давно ждали этой войны. Как избавления, как манны небесной. Говорили, что это «последняя война на свете», «война против войны». На следующий день после объявления о вступлении России в войну на Дворцовой площади собрались тысячи людей, чтобы приветствовать императора. Николай поклялся на Евангелии, что не подпишет мира, пока хоть один враг будет находиться на русской земле, а потом вышел на балкон Зимнего дворца. Тысячи людей встали на колени и запели «Боже, царя храни…». Думаю, что за двадцать лет царствования этого монарха он впервые чувствовал такое единение с народом, которое, наверное, могло бы вдохновить, привести к действительным переменам… Но что я понимаю в монархах?
Луиза по-прежнему находится в клинике, попросту в сумасшедшем доме. Но это в любом случае лучше того, что ей грозило – каторги или казематов Петропавловской крепости. Она тоже очень рада войне. Говорит, что война перейдет в революцию и сметет всю гниль старого мира. Спросил напрямую: вместе с нами, твоей семьей? Она ответила: если понадобится, то – да. Как ты думаешь, Джорджи, может быть, она и вправду безумна?.. Дети, дети… Но вот твой сын Валентин, он ведь кадровый военный, генштабист, у него должны быть сведения из первых рук: когда все это закончится?
– Ах, Лео, грустно говорить такое о единственном сыне, но Валентин у нас, при всех его несомненных достоинствах, получился… как бы это сказать помягче… ну, глуповат, что ли…
– Джорджи, что ты такое говоришь! Я уверен, что в Академии Генштаба не держат дураков. К тому же – в избранной им области знаний Валя всего добился сам, без всякой протекции, на каждом этапе преодолевая еще и твое неприятие его военной карьеры. Это ли не признак…
– В области знаний? Что ты, собственно, имеешь в виду? Его специальность – артиллерия. Стало быть – стрельба из пушек? Поиск наиболее рационального и эффективного способа превращения чудесного человеческого тела, увенчанного потрясающим, великолепным мозгом, – в кровавые ошметки? Прелестный выбор, я просто в восторге! Отец всю жизнь спасает и лечит людей, а сын радеет о том, как их убить или искалечить – побольше и побыстрее… Да, впрочем, ты хотел знать его мнение о войне, так вот – прочти, – Юрий Данилович открыл ящик стола, достал оттуда конверт и вынул из него два листка, исписанных крупным и четким, без всяких завитушек и украшательств подчерком. – Это письмо Валентина ко мне. Не волнуйся, хотя оно и доставлено нам в обход военной цензуры, в нем нет совершенно ничего приватного. Читай!
«Из расположения второй армии, Кржиновлога, июля 25 числа, 1914 года
Приветствую тебя, отец!
Итак, свершилось.
Настало-таки время отложить в сторону перья, градусники и фолианты и поработать пушкам.
Поистине дрожь нетерпения пронизывает мои члены, когда я думаю о том, что на своем веку увижу сбывшимися многолетние чаяния России – контроль над Проливами и возрождение христианских святынь Константинополя. И даже приму в этом самое непосредственное участие. Исторические картины встают перед глазами… Чувствую себя рыцарем в сверкающих доспехах, во славу России воюющим за Гроб Господень!
Однако, обо всем по порядку.
Как ты, возможно, помнишь, после окончания обучения в Академии и присвоения мне звания капитана генерального штаба я получил назначение в Белостокский полк начальником штаба полка, где с увлечением и полной отдачей занимался обучением и воспитанием подчиненных мне солдат и обустройством лагеря.
Нет смысла упрекать штатских жителей столиц в том, что все они не верили в близкую возможность большой войны. Даже в моем полку до последней минуты все было проникнуто тихим провинциальным уютом.
На рынке около лагеря наскоро сколоченные столы ломились под тяжестью розовых яблок, золотых груш, огненных помидоров, синих баклажанов, лилового сладкого лука, шматков тающего во рту трехвершкового сала, истекавших жиром домашних колбас. Над тучными полями звенели жаворонки. В нагретых солнцем садах плыла нега. Полковые дамы варили варенье и бочками солили огурцы. Лагерь содержался мною и моими подчиненными в образцовом порядке – ослепительно белые палатки, разбитые солдатами красочные цветники, аккуратно посыпанные песком дорожки…
И вдруг 16 июля в пять часов из Варшавы прибыл секретный пакет о немедленном приведении всех частей в предмобилизационное положение.
Тут же был отдан приказ о переводе полка из лагеря в зимние казармы. Лагерь предназначался для размещения второочередного Ломжинского полка.
На следующее утро все офицеры полка были собраны в штабе для изучения мобилизационных дневников, хранившихся в несгораемом шкафу. Закипела работа, полк стал походить на гигантский муравейник.
Еще через два дня пришла телеграмма о всеобщей мобилизации русской армии. Вместе с командиром полка и казначеем мы отправились в отделение государственного банка и вскрыли сейф, в котором хранились деньги, предназначенные на мобилизационные расходы.
В тот же день все офицеры полка получили подъемные, походные, суточные и жалованье – за месяц вперед и на покупку верховых лошадей теми, кому они были положены по штатам военного времени.
При этом еще никто не знал, с кем придется воевать, и только 20 июля стало известно, что Германия объявила войну России. Потом дошла весть, что наряду с Германией войну России объявила и Австро-Венгрия, и нам было объявлено, что армейский корпус, в состав которого входил Белостокский полк, должен выступать в поход против австрийцев.
В полк тем временем начали прибывать запасные. По военно-конской повинности уже поступали и лошади. Я получил отлично выезженного гнедого жеребца, которого мой ординарец назвал Вихрем.
К утру пятого дня своей мобилизации полк был готов к походу. Командир полка приказал вывести его на ближайшее к казармам поле и построить в резервном порядке, то есть два батальона впереди и два во второй линии в затылок первым с пулеметной и другими командами и готовым для похода обозом на положенных местах.
Командир полка выехал на золотистой кобыле. Его встретили бравурными звуками военной музыки. Медные, до умопомрачительного блеска начищенные трубы полкового оркестра торжественно горели на солнце, приодетые, вымывшиеся накануне в бане солдаты застыли во взятом на командира равнении, блестели выравненные в ниточку штыки, несмотря на жару, на солдатах были надеты через плечо скатки (может быть, тебе будет интересно узнать, отец, что полная выкладка российского солдата насчитывает 30 кг, против 24 кг у солдата германского – но эта необходимая в военном походе ноша вовсе не тяготит наших солдат-братушек). И, право, построившийся на поле четырехбатальонный, полностью укомплектованный по штатам военного времени пехотный полк не мне одному представлялся внушительным и восхитительным зрелищем.
Командир обратился к солдатам с короткой речью, объяснив, что Россия сама ни на кого не нападала, не начинала войны и лишь заступилась за родственный нам, славянам, сербский народ, подвергшийся вооруженному нападению со стороны Австро-Венгрии. Предложив солдатам чувствовать себя в полку, как в родной семье, он закончил емкой, но трогательной фразой о подвиге, которого требует от нас Россия и верховный вождь нашей русской армии государь-император Николай Второй, и днесь царствующий на русском престоле. Солдаты трижды прокричали «ура».
Так прошла мобилизация и мы все были ею довольны.
На следующий день рано утром, после отслуженного полковым священником молебна, полк торжественно прошел через весь Белосток и, выйдя на шоссе, двинулся к железнодорожной станции, где погрузился в вагоны, чтобы следовать на запад, в район Ломжи и Остроленки.
Дорогой отец, отправляю тебе это письмо с неожиданной оказией, с узловой станции.
Скоро в бой. Мы все в нетерпении. Несмотря на то, что эта война вряд ли продлится больше четырех месяцев, ее наверняка назовут Великой. Потому что по сути это война против всяческой войны. Последнее грандиозное сражение в Европе и окрестностях, которое наконец позволит устроить мир наилучшим образом: так, что Российская империя займет в нем подобающее ей место, удовлетворит свои многовековые чаяния и получит необходимый простор для своего дальнейшего развития и процветания. И верь, отец, твой сын приложит все силы, чтобы Россия и ты могли им гордиться. А если мне суждено пасть на полях сражений, то знай: моя гибель не напрасна – великая и могучая империя на все времена будет мне лучшим памятником!
Передай также мой привет и любовь маме и всем в Москве, кто меня еще помнит.
Остаюсь навсегда преданный ваш, России и Государя Императора сын
Валентин Юрьевич Рождественский,Гвардии майор, начальник штаба Белостокского полка»– Гм-м… Что ж, у твоего Валентина хороший слог, – сказал Лев Петрович, возвращая письмо и снова берясь за карандаш. – И он явно находится на своем месте. Хорошо, если его прогноз относительно продолжительности войны сбудется. А пока – помогай ему Бог!
– Да, да, безусловно, – вздохнул Юрий Данилович. – Совершенно нечеловеческая складывается ситуация. Только Бог нам всем сейчас и поможет. А если Его все-таки нет? Тогда – что?
Будто в ответ ему дернулся крылатый маятник стенных часов, стрелки сошлись, и старинный механизм провозгласил полдень – чистым, рассыпчатым звоном райских колокольчиков.
Глава 1, в которой супруги Осоргины выясняют отношения, а читатель посещает представление детского площадного театрика.
– Это безобразие следует прекратить самым решительным образом! Немедленно! Любовь Николаевна! Люба! Ты меня вообще слышишь?! – Александр Васильевич Кантакузин, хозяин имения Синие Ключи, стоял на парадных ступенях и сверху вниз смотрел, как на аккуратном и все еще зеленом, несмотря на осень, газоне его жена играет сразу с тремя собаками.
Собаки дурашливо лаяли, припадая на передние лапы, и подскакивали, как большие разноцветные мячи.
Лицо помещика, с правильными чертами, скорее картинное, чем по-настоящему привлекательное, выражало, пожалуй что, гнев. Но некоторые сомнения отчего-то возникали – не было ли помянутое чувство изображенным, в реальности не испытываемым?
– Слышу, Александр, разумеется, я тебя слышу, – безмятежно откликнулась Любовь Николаевна, миниатюрная молодая женщина, одетая в просторный плащ с капюшоном, по которому вольно рассыпались темные кудри.
Контрастом к цвету волос – очень белая кожа и светлые, почти прозрачные глаза. Когда Любовь Николаевна смотрела на небо, глаза становились романтически синими. Если же она переводила взгляд на разноцветный по осеннему времени парк, наблюдателю в ее глазах неизменно мерещились отсветы пламени.
– Хотелось бы только уточнить: какое именно безобразие ты имеешь в виду в данном конкретном случае?
Александр покраснел. На высоких скулах заходили желваки. Равнодушие жены к соблюдению всех и всяческих приличий казалось ему вполне объяснимым ее предыдущей судьбой, но, тем не менее, никак не оправданным.
– Весь этот… пошлый балаган, который устроили твои воспитанники. Ты знаешь, что они таскают с собой Капитолину и даже Владимира?!
– А, поняла! Ты имеешь в виду театр Кашпарека? А ты сам-то видел их представление? По-моему, достаточно забавно…
– Забавно?! – вскричал Александр, быстро сбегая по ступеням. – Я глаз не смею поднять, когда наши соседи пересказывают мне своими словами или даже впрямую напевают куплеты, которые исполняет эта его чертова кукла! А завершающий аккорд этого, с позволения сказать, представления тебе известен?
– Я видела только то, что Кашпарек показывал у нас в белом зале. Ты тогда, помнится, отговорился делами в конторе. Представление называлось «Кашпарек идет на войну». Его марионетка проходила мобилизацию, обучалась строевому шагу, боялась унтер-офицеров, пела патриотические частушки, на мой взгляд, достаточно остроумные. Потом все то же самое повторялось со стороны врага, а потом она, уже встав под ружье, встречалась сама с собой в большом зеркале. Конечно, часть куплетов довольно рискованные, но ты же знаешь, что наш Кашпарек фактически с рождения жил среди бродячих комедиантов, и это наложило отпечаток…
Лицо мужчины некрасиво перекосилось.
– Люба, это не наш, это – твой Кашпарек! Он вырос среди лицедеев-психопатов, его дядя убил его отца, его мать утопилась и все такое прочее. Разумеется, он не мог сформироваться нормальным человеком. Кроме того, есть еще Оля – незаконнорожденная дочь прислуги «в людях», и Анна и Борис, которые родились в помойке и начали свою осмысленную жизнь, собирая милостыню на паперти. Хочу заметить тебе: я устал учитывать в своей жизни все (объективные, не спорю!) обстоятельства собранных тобою в усадьбе ублюдков!
Чтобы не глядеть на мужа, Любовь Николаевна присела на корточки и задумчиво гладила и чесала морду одного из псов. Пес довольно жмурил глаза и подергивал задней лапой.
– В своем перечислении ты позабыл о главном, Александр, – негромко сказала она. – Или, скорее, не позабыл, а просто не счел нужным сказать. Главный ублюдок во всей этой компании – я сама, не только Любовь Николаевна Кантакузина, но и Люша Розанова, дочь хоровой цыганки. И обстоятельства моего, как ты выразился, формирования, не оставляют тебе ни грамма надежды на спокойную жизнь… Увы… А дети тут не причем, тут просто – подобное тянется к подобному.
– Хорошо, что ты сама это понимаешь, – резко сказал Александр. – Это дает мне некоторую надежду закончить наш разговор хоть сколько-нибудь конструктивно. Итак: я требую, чтобы ты немедленно прекратила странствования по округе этого позорного балагана. Также мне кажется решительно необходимым оградить мою дочь Капитолину от влияния всех этих социально-искалеченных персонажей. Они близки ей по возрасту, поэтому она прислушивается к ним больше, чем к мнению учителей и прочих взрослых людей. Это совершенно недопустимо…
Любовь Николаевна выпрямилась во весь свой небольшой рост, как будто готовясь дать мужчине достойный отпор, но вдруг словно подавилась чем-то, схватилась рукой за загривок ближайшего пса и прижала ко рту платок.
– Что с тобой? – встревоженно спросил Александр. – Люба? Тебе нехорошо? Пойдем в дом…
– Нет, нет, ничего, – Любовь Николаевна помахала узкой кистью, отрицая все предложения помощи. – Я пойду… туда… ничего… потом…
Быстро и легко шагая, она пересекла двор и исчезла между двумя линиями аккуратно подстриженных кустов, за которыми начинался фруктовый сад и огороды. Собаки, даже не взглянув на Александра, побежали за ней.
Живая изгородь была недостаточно высока, чтобы скрыть ее полностью. По всей видимости, Любовь Николаевна снова присела или встала на колени. Даже не особенно прислушиваясь, Александр различил доносящиеся из-за кустов звуки: не то сдавленный лай, не то рычание.
– Никак, Любовь Николаевну опять тошнит? – сочувственно спросила вышедшая из дома горничная Феклуша, которая уже некоторое время наблюдала за разговором хозяев поместья. – Молочка бы надо с мятой…
– Господи, ну неужели нельзя было в дом?!.. – Александр потер руками виски. – Если плохо себя чувствует, лечь в постель… Феклуша, скажи дворнику, чтобы потом прибрался там, что ли… Там же дети в прятки играют…
– Да ничего не останется, не волнуйтесь, Александр Васильевич, – сказала Феклуша. – Собаки ейные все подожрут. Любовь Николаевна ж только обедала, а оне привычные… И ведь знаете что занятно: как будто у них, у псов какая очередь имеется…
– Фекла, замолчи! – воскликнул Александр. – Меня самого сейчас стошнит!
Молодой помещик развернулся на каблуках и ушел в дом. Фекла осталась наблюдать. Она служила в поместье много лет и хорошо знала, что барыня не любит, когда без спросу вмешиваются в ее дела. Знала еще с тех времен, когда никакой барыни Любовь Николаевны Кантакузиной в Синих Ключах не было и в помине, а была только «бешеная Люба», безумная дочь старого помещика Николая Осоргина. С тех пор все изменилось… Все ли?
Феклуша не знала точного ответа на этот вопрос.
Любовь Николаевна вышла из-за кустов вместе с большой сине-зеленой птицей. Павлин Пава волочил длинный хвост по опавшим листьям и недовольно покрикивал ржавым противным голосом. Собак не было видно, зато из сада пришла невысокая белая лошадь и сильно ткнула женщину в плечо, требуя внимания.
Любовь Николаевна что-то скормила сначала лошади, а потом и павлину, и в сопровождении обоих удалилась по аллее в парк. Собаки выскочили из-за кустов, легко взяли след и потрусили следом.
– Прав Алексан Васильич-то: живем все не то в зверинце, не то – в желтом доме, – фальшиво вздохнула Феклуша и отправилась в кухню, где царствовала кухарка Лукерья, – рассказывать новости.
Взаимоотношения барина и барыни между собой были в Синих Ключах любимой темой для сплетен. И вправду ведь интересно: сколько они еще вместе протянут, прежде чем снова разбегутся… В силу естественных и исторических причин среди слуг и служащих имения существовали «партия барина» и «партия барыни». Одни хотели, чтобы из дому сбежала Любовь Николаевна, а другим более желательным виделось исчезновение Александра Васильевича. Поскольку и то, и другое уже случалось, то интрига сохранялась и живо обсуждалась обеими партиями. Только распропагандированный эсеровскими агитаторами плотник считал, что сгинуть должны все баре без исключения, но попал под мобилизацию и сгинул сам – после разгрома русской армии на Мазурских болотах от него не было ни слуху ни духу. Да никто о нем особо и не жалел – злословный был мужик, хотя мастер изрядный.
Уже к вечеру Любовь Николаевна провела подробное расследование деятельности Кашпарекова театра, который до сих пор действительно как-то ускользал от ее внимания. Ей казалось, что театральное дело в усадьбе устроилось нормальным и даже правильным образом. Все дети заняты в свободное от занятий с учителями время, младшие под руководством старших что-то мастерят, сочиняют, разучивают, репетируют… Чего же лучше?
Однако после расспросов очевидцев и уточнения подробностей выводы получались не слишком утешительными, а общая картина выходила и вовсе довольно скандальной. Если бы речь шла именно о бродячих циркачах, то все было бы и ничего. Но дети из Синих Ключей…
* * *
Заморозки, красные листья с каймой инея по утрам, седая земля. Тонкий, легкий, мелодичный звон, словно придорожные кусты напевают во сне.
Маленькая черная лошадка, запряженная в цыганскую кибитку, неторопливо трусит по подмерзшей дороге. Старую кибитку со сломанной осью Кашпарек купил на первые театральные заработки у проходившего мимо табора. Каретный мастер поменял ось, конюх Фрол дал мальчику большой кусок старого, но еще крепкого брезента. Оля обшила кибитку разноцветными тряпочками, ленточками и развесила колокольцы. Внутри разместили матрац и небольшой сундучок для реквизита. Следующим пунктом Оля с Кашпареком выкупили у жадного трактирщика шарманку и прочий реквизит умершего деда-шарманщика, вместе с которым они выступали до своего появления в Синих Ключах.
Остролицый темноглазый Кашпарек в шапке с пером и тремя бубенчиками идет рядом с лошадкой. Его движения вкрадчиво-точны, и весь он похож на юного лесного разбойника из книжки про Робин Гуда. Ботя и Владимир лежат внутри кибитки на матраце. Ботя дремлет, а трехлетний Владимир сосредоточенно жует воротник своей тужурки. Белокурая Оля сидит на сундучке и держит на коленях клетку с тремя голубями. Дочь Люши и Александра Капитолина в новенькой бирюзовой амазонке едет вслед за кибиткой на своей пятнистой кобылке-пони. Позади всех, высунув розовые языки, бегут запряженные по двое четыре собаки, и тянут за собой легкую, подпрыгивающую на выбоинах дороги колясочку, в которой полусидит полустоит Атя – двойняшка Боти.
Не раннее утро воскресенья. Театр Кашпарека в полном составе едет в деревню Торбеевку. Заслышав вдоль улицы знакомый звон бубенчиков и колокольцев, мальчишки бегут к вытоптанной поляне у околицы, пронзительно крича: «Кашпарек из Синих Ключей приехал! Представлять будет!»
Дети перепрыгивают через изгороди, хозяйки откладывают недошинкованные кочаны капусты, хозяева вытирают ветошью руки и неторопливо идут к калиткам. Старые дедки и бабки сползают с лавок и ковыляют, опираясь на клюки…
Есть в Торбеевке и площадь у почты, но отец Даниил, священник рядом стоящей церкви св. Николы, категорически запретил представлять вблизи храма «непотребные бесовские игрища». Кашпарек подчинился запрету. На просторной поляне у околицы ему показалось даже удобней.
Представление «Кашпарек идет на войну» полностью идеологически расходилось с патриотическими настроениями, которые якобы господствовали в обществе в связи с началом войны. Марионетка Кашпарека (по имени которой называл себя и он сам – настоящего имени мальчика никто в усадьбе не знал) равным образом надсмехалась и над престарелым австрийским императором, и над «братским славянским народом – сербами» (вместе с балаганчиком своих родителей Кашпарек когда-то побывал в Сербии и знал фактуру), и даже над командующим русскими войсками – великим князем Николаем Николаевичем. Самым досадным было то, что чертова марионетка оказалась не только болтлива (полностью отнимая инициативу у своего хозяина – сам Кашпарек в усадьбе иногда по целым дням не произносил ни слова), но и философически настроена. В конце выступления она неизменно проводила параллель: как японская война привела к бунтам и беспорядкам 1905–1906 годов, так и нынешняя война непременно приведет к революции…
Крестьяне, в отличие от горожан, никакого военного патриотического подъема не испытывали, мобилизацию запасных и реквизицию лошадей встретили, стиснув зубы, и потому на подначки лихой марионетки откликались со злобной охотою, а мальчишки (и не только!) вовсю распевали по деревням похабные куплеты Кашпарекова сочинения.
Солнце светит, дождик льет, Петух курочку е…т, За Россию, за Россию, Дружно в бой солдат идет. Мы почти бегом бежали И Галицию сжевали, А в Восточной Пруссии Нам дали по мордусиям!К сожалению, выступлением непатриотической марионетки сомнительные моменты деятельности юных лицедеев из Синих Ключей отнюдь не исчерпывались. Кроме «военного» спектакля, в программе имелись и другие номера. Бо́льшая часть из них не вызывала никаких нареканий. Например, выступления дрессированных животных.
Ботя, который в балагане на Калужской ярмарке видел «козла-математика», немного покумекал и обучил своего пони Черныша считать. На валяный коврик высыпались деревянные чурочки. Из толпы Чернышу задавали простые арифметические задачи, к примеру – сложить два и три. Лошадка думала, а потом встряхивала длинной, зачесанной на одну сторону гривой и копытцем выкатывала с коврика на землю ровно столько чурочек, сколько должно получиться в ответе. Деревянную трещотку, которой Чернышу неслышно для зрителей подавалась команда «стоп», Ботя прятал в кармане штанов. За каждую решенную задачку Черныш получал кусок сахара.
Капитолина выступала с дрессированными голубями. Они садились ей на голову и на руки, бегали по маленькой лесенке и качались на маленьких качелях. Владимир сидел у ног Капочки и либо смотрел на голубей, либо играл с репьями, слепляя из них вставленные друг в друга кольца и маленькие корзиночки.
Атя представляла дрессированную собаку Жулика. Жулик, украшенный пышными бантами на лбу и на хвосте, прыгал через палку и в кольцо, ходил на задних и на передних лапах, делал сальто и отбивал носом мяч, который бросала ему девочка.
Потом Оля и Кашпарек под музыку показывали парные акробатические упражнения. Ботя крутил ручку шарманки. Особенно всем нравился момент, когда Кашпарек держал на отставленном колене длинную палку, на вершине которой на одной руке стояла Оля в белом трико, казавшаяся на фоне неба полупрозрачной. Бабы от страха комкали подол передника и отворачивались, дети повизгивали, а мужики шумно дули в усы. Когда девочка невредимой оказывалась на земле, крестьяне дружно выдыхали, свистели и топали ногами.
В завершение представления Атя, напевая жалобную, еще хитровских времен припевку про бедных сиротинушек, обходила зрителей с большим потертым цилиндром. В цилиндр кидали монетки, но с явной неохотой. В глубине толпы нарастал недовольный гул, в котором вскоре отчетливо угадывалось непонятное слово: «Тяку! Тяку!»
Кашпарек разыгрывал небольшую пантомиму: корчил недовольные гримасы, укоризненно качал головой, разводил руками. Потом, словно поддаваясь напору толпы, командовал: «Владимир, але-оп!»
Услышав команду, малыш, который до этого имел вид совершенно отсутствующий, вскакивал и вытягивался во весь рост.
– Покажи чертяку! – строго велел Кашпарек.
Под жадным взглядом собравшихся мальчик спускал штаны, показывал пальчиками рожки, высовывал язык и выпучивал круглые глаза. Рожица получалась довольно пугающая. Но этим номер не ограничивался. Владимир медленно поворачивался вокруг своей оси и все собравшиеся отчетливо видели удивительное: сзади у мальчика имелся маленький, но отчетливо шевелящийся хвостик, похожий на большого розового червяка.
– Чертяка! Чертяка! – несся возбужденно-испуганный шепот.
Многие крестились.
Одновременно у переносной ширмы снова появлялся Кашпарек-марионетка. На этот раз у него имелось толстое выкаченное вперед брюхо (клок сена, запихнутый под платье) и большой крест на нем.
– Ты покайся, Бог простит, Своего не упусти, Богу деньги не нужны, Но попы-то есть должны?– голосом отца Даниила спрашивала марионетка. И напоминала:
– Грех у каждого из вас, Хочешь ты, чтоб Боже спас? Мать ушла в слепую ночь. Не забудь сынку помочь!Марионетка скрылась на мгновение, и появилась уже без креста и брюха, спиной, на которой круглился горб. Начала неловко, медленно поворачиваться лицом…
– А-ах! – теперь уже крестятся все зрители.
Все понимают, о чем напоминает людям Кашпарек. Три года назад в деревне от брошенного чьей-то рукой камня погибла дочь лесника – горбунья Таня, мать Владимира. Грех, грех…
В цилиндр со звоном наперебой летят копейки, пятаки, даже гривенники и пятиалтынные.
Атя увела и подсадила в кибитку Владимира, снова расслабленного и едва ли не пустившего ниточку слюней.
Представление окончено. Циркачи собирают немудреный инвентарь. Зрители расходятся удовлетворенные совершенно – и посмеялись, и попереживали, и испугались…
* * *
– Александр, ты был прав, театральная деятельность Кашпарека в существующем виде неприемлема совершенно. Я завтра поговорю с ним. Есть некая вероятность, что после этого разговора он просто уйдет из имения.
Парадные комнаты в усадьбе – широкие окна, глядящие на привядший осенний цветник, гнутая английская мебель с обивкой из полосатого сатина, резные кленовые листья на стенных часах и раме большого зеркала, изразцы голландских печей, – все совершенно так же, как много лет назад, когда Александр Кантакузин приехал в этот дом впервые. Быть этого, конечно, не могло, старый дом – это не птица Феникс, которая возрождается из пепла со всеми до единого золотыми перьями. Именно эти комнаты пострадали от пожара сильнее всего… Впрочем, разве это единственная странность удивительного и проклятого дома, который Люба с детства называет Синей Птицей!
– Баба с возу, кобыле легче…
– Мне будет жаль. Он сам никого не любит и ни к кому не привязан, но я к нему привыкла. Он очень талантлив. Если бы можно было отдать его учиться…
– В чем же проблема? Есть театральные школы. Наверное, существует даже школа кукловодов…
– В школе кукловодов ему учиться нечему. А что касается театра… Я ему предлагала, он отказался. Кашпарек – человек дороги, он не сможет на одном месте, в четырех стенах…
– Ты знаешь, Люба, не буду тебе врать: судьба этого неприятного отрока мне совершенно безразлична. Уйдет – скатертью дорога. Останется, и черт с ним. Для меня главное – оградить от всего этого мою дочь.
– Капитолина больше не будет выступать в деревне.
– Очень хорошо! Благодарю, – Александр слегка поклонился жене. – Но что твое здоровье? Тебе было дурно утром. И третьего дня. Не надо ли пригласить доктора?
– Нет, не надо. Со мной все в порядке. Просто у меня будет ребенок.
Александр помолчал, разглядывая узор на обоях.
– Вот как. Могу ли я осведомиться, кто его отец?
– Не можешь. Это не имеет значения. Для тебя.
– А для тебя?
Не отвечая, Любовь Николаевна развернулась на каблуках и ушла по анфиладе. Крошечный рост. Высоко поднятая голова. Темные кудри, высоко стянутые атласной лентой, подскакивают на лопатках.
Александр смотрел ей вслед. Его жена. Мать его дочери. Ему хотелось убить ее и защитить от всего на свете. Одновременно. Он знал, что так не бывает. Но и таких, как она, больше не было. Нигде.
* * *
Глава 2, Которую читатель, знакомый с предыдущими двумя книгами о приключениях Любы Осоргиной (она же Люша Розанова) вполне может пропустить, поскольку в ней излагается краткое содержание этих приключений, а также приводится полный список действующих и действовавших ранее лиц.
Николай Павлович Осоргин, помещик из имения Синие Ключи, что под Калугой, был в своей жизни счастлив, наверно, один лишь раз – когда женился на красавице Ляле Розановой. Была Ляля цыганкой, певицей с чудным голосом, и женитьба проходила по цыганскому обряду. А вот по православному канону Николай Павлович, хоть и любил свою Лялю без памяти, жениться почему-то так и не сподобился. Бог весть, почему. Замкнутая натура его даже для близких всегда оставалась загадкой. Не смогла разгадать ее и Ляля. Да и пыталась ли? Она родила Осоргину двоих детей. Мальчик умер, девочка выжила. Но цыганка не успела порадоваться материнству. И помещицей так и не стала. Ушла вслед за сыном. От тоски по вольной цыганской воле зачахла – так говорили в округе, при этом никто, кроме овдовевшего Осоргина, по ней не горевал. Настоящей барыней и мужики, и соседи по-прежнему считали первую покойную супругу Николая Павловича – Наталию Александровну, урожденную Муранову. С ее родней Осоргин враждовал – из-за того, что спустил все женино приданое на подарки своей цыганке. Ляля, как и все цыганское племя, любила драгоценности. И, продав родовое имение Мурановых – Торбеево, Николай Павлович купил цыганке Ляле знаменитый желтый алмаз «Алексеев» весом в 31 карат.
Увы, все эти драгоценности сохранились только на портрете цыганки, который висел в ее бывшей спальне. Осенью 1902 года распропагандированные эсерами крестьяне, которые уже давно были недовольны барином из Синих Ключей, сожгли и разграбили имение. Осоргин был убит. Считалось, что в огне пожара погибла его двенадцатилетняя дочь Люба вместе со старой нянькой Пелагеей. Пропали и драгоценности Ляли Розановой.
Наследником имения остался дальний родственник Наталии Александровны – Александр Кантакузин, студент Московского университета. За несколько лет до того Осоргин, откликнувшись на просьбу тяжело больной и не имевшей никакого дохода матери Александра, принял над ним опеку. Сделал он это не без дальнего умысла. Дело в том, что Люба, его дочь, считалась душевнобольной. Да что там, она ею и была. Душевным недугом страдал и побочный сын Николая Павловича – от той самой няньки Пелагеи, которой предстояло сгореть, – Филипп… Но Филипп-то что, он жил себе на лесной заимке, отец ему хоть и помогал, но официально не признавал. А Люба росла барышней, наследницей. Однако справиться с нею никто не был в состоянии. Она куда успешнее, чем с людьми, общалась с лошадьми и собаками, со старым домом, который называла Синей Птицей, с родником, давшим название усадьбе… Этот родник, как гласила местная легенда, возник из слез гордой девки Синеглазки, погубившей троих женихов и превратившейся в призрак через свою гордыню. Может, и впрямь, как шептались крестьяне, Синеглазка наложила заклятье на род Осоргиных? Филипп, тот считал ее своей невестой и ждал, когда наконец она к нему явится. Даже как-то принял за Синеглазку одну из осоргинских родственниц – Юлию фон Райхерт, в которую был влюблен Александр Кантакузин. А Люба Осоргина… Некоторые думали, что она – та самая Синеглазка и есть.
Так вот, Николай Павлович, послушав совета своего старого друга профессора Юрия Даниловича Рождественского, решил подыскать Любе мужа, чтобы она тихо прожила за его спиной отпущенный ей земной срок, не потеряв ни имения, ни житейского комфорта. Александр показался ему очень удачной кандидатурой. Когда после гибели Осоргина обнародовали его завещание – оно оказалось очень оригинальным. Все имущество, кроме доли, предназначавшейся Филиппу, предоставлялось Любе и Александру в пожизненное пользование без права отчуждения. А в собственность – их детям, если таковые родятся. А если нет – имущество в конечном счете поступало властям Калуги для организации театра имени Ляли Розановой… Именно этот последний диковинный вариант и вступал в силу, поскольку Люба погибла. Зато Александр получил возможность побыть помещиком… и – попробовать таки устроить свое личное счастье с Юлией фон Райхерт.
И устроил бы, наверно. Если бы в декабре 1905 года, в самый разгар первой русской революции, молодой доктор Аркадий Арабажин, он же – большевик с партийной кличкой Январев, не подобрал на баррикадах красной Пресни раненного парнишку, огольца с Хитровки. Сам он пришел на баррикады с простой и ясной целью – умирать. Другого выхода для себя он не видел – после того, как, поддавшись на провокацию, вывел товарищей прямо к засаде, под пули. Но вот пришлось, вместо расставания со своей жизнью, спасать чужую. Он привел мальчишку к себе на квартиру, чтобы отмыть и вылечить… и там обнаружил, что никакой это не мальчик, а пятнадцатилетняя девица с черными цыганскими кудрями и глазами светлыми и прозрачными, как весенний лед. Люшка, маруха хитровского вора в законе Гришки Черного. Люба Осоргина.
Люба, надо сказать, тут же от Арабажина сбежала. О том, кто она такая, ему рассказал забытый ею дневник. Девочка начала вести его несколько лет назад – после того, как потрясение, пережитое ею на пожаре, разбило стеклянную стену аутизма, которая с рождения отделяла ее от людей. Не от всех людей, впрочем. Ее друзьями были крестьянские дети – Степка и глухонемая Груня, которую Люба научила говорить. Степка и спас ее в ту страшную ночь, пробравшись к уже заполненной дымом детской по крыше. Ее спас, а нянюшка Пелагея погибла. Выйти из детской они бы не смогли – кто-то запер дверь снаружи.
Впрочем, Люша знала – кто. Александр. Она видела его в ту ночь. Сказала об этом только Груне. Из-за него, Александра, и убежала из Синих Ключей куда глаза глядят. Ясно ведь было, что он теперь не оставит ее в покое. Слишком он любил поместье и свою красавицу Юлию. А о завещании погибшего барина тогда еще никто ничего не знал.
Три года бывшая барышня из Синих Ключей провела на Хитровском рынке. Превратилась в заправскую беспризорницу, промышляла мелким воровством, мошенничеством, а то и проституцией. Нашла новую подружку, Марысю; юная полячка мечтала о собственном трактире, а пока подрабатывала в чужом – судомойкой. На Хитровке Люша даже детьми обзавелась! Прохожая нищая солдатка умерла, рожая близнецов Атю и Ботю, а они уцелели благодаря заботам подруг и деньгам Гришки Черного, которого Люша уговорила помочь. Да, она умела уговорить, она много чего умела… Удивительно танцевать, например. Кровь матери жила в ней – недаром Глэдис МакДауэлл, бывшая бродвейская актриса, а ныне певичка из ресторана «Стрельна», в первый миг приняла ее за Лялю Розанову.
В память о старой подруге Глэдис помогла Люше поступить в цыганский хор. Тут-то ее второй раз и отыскал Арабажин.
В поисках Любы Осоргиной Аркадий и его приятель, эсер Лука Камарич побывали в разных любопытных местах. Например, на собрании декадентского кружка пифагорейцев, где познакомились с Александром Кантакузиным, его кузеном Максимилианом Лиховцевым, а заодно и со знаменитым петербургским писателем Арсением Троицким. Наконец, доктор Рождественский свел своего ученика Арабажина с дальним родственником покойного Любиного отца – московским архитектором Львом Петровичем Осоргиным, главой большой и колоритной русско-итальянской семьи. Узнав о Любе, Лев Петрович моментально проникся ее необыкновенной судьбой… и вот, когда беглянка наконец отыскалась, она попала в шумный круг этого семейства. Здесь ей предстояло отогреться, вернуться к цивилизованной жизни и приобрести манеры, которые позволили бы ей занять достойное место в обществе.
Любе все удалось с блеском. Спустя полтора года никто не признал бы в утонченной красавице маленькую босячку с Хитровки. Теперь она могла приступить к достижению заветной цели – возвращению Синих Ключей. Там хозяйничал Кантакузин. Он восстановил дом, наладил хозяйство, готовился к женитьбе на Юлии… словом, жил в свое удовольствие и знать не знал, что расплата за совершенное в ночь пожара уже близка.
Синие Ключи принадлежали Люше, она – им. Так было всегда, и так будет впредь. Если, согласно завещанию отца, для этого ей надо выйти замуж за Кантакузина – она выйдет. Его планы ей не помешают.
И Максимилиан Лиховцев, Арайя, Страж Порога – поэт и философ, понимавший ее, казалось, так, как никто никогда не понимал…
Он тоже – не помешает.
Свадьба состоялась. Спустя положенный срок у Любы и Александра родилась дочь Капитолина. Синие Ключи ожили, там утвердилось все Любино окружение – хитровские близнецы Атя и Ботя, Степан, Груня, старая лошадь Голубка, собаки, птицы… даже горький пьяница дед Корней, учивший близнецов понимать, что к чему в этом мире, и просить милостыню на паперти. Приезжали из Москвы Марыся и итальянские родственники. Особенно часто – Камилла Гвиечелли, музыкантша и художница, тяжело больная чахоткой.
Только Александру Кантакузину не нашлось в Синих Ключах места. Он понял это довольно скоро. И уехал из имения, вообще из России – в Константинополь, заниматься историческими изысканиями.
Итак, Люба Осоргина добилась всего, чего хотела. Когда-то маленькой девочкой она любила разыгрывать сценки в картонных театриках, которые потом сгорели вместе с башенкой усадьбы – головой Синей Птицы, как она ее называла. Башенку Люба восстановила, а вот театрики погибли безвозвратно. Впрочем, они уже и не были ей нужны – потому что от живых людей, ее окружавших, тянулись к ней, точно как от марионеток, невидимые нити. Она всегда знала, когда за какую ниточку следует дернуть. Ну – почти всегда.
Когда-то, еще обитая на Хитровке, она предложила Арабажину расплатиться за спасение на баррикадах собою – простым и бесхитростным образом, и он отказался. А вот его лучший друг, талантливый психиатр Адам Кауфман такую плату получил. Произошло это в Петербурге. Люба привезла к Адаму своего брата Филиппа, которого он взялся лечить. Но плата была не только за Филиппа. Прежде всего – за то, что Адам оказался ей опорой в тот момент, когда она в Петербурге снова встретила Максимилиана Лиховцева. Встретила, шагнула ему навстречу и… получила отказ. Максимилиан и Александр Кантакузин, близко дружившие с детства, к тому времени разошлись. Слишком разными оказались людьми: Макс, философ-визионер, жадно глотающий жизнь, и закрытый в самом себе, как в раковине, Александр. Когда в 1905 году Макс оборонял от черносотенцев Университет, а после угодил в Бутырки, его кузен усердно занимался в библиотеке, не слушая выстрелов и революционных призывов. Когда Максимилиан, узнав от Любы о том, кто запер той осенней ночью дверь детской, приехал в Константинополь – откровенного разговора так и не вышло. Александр его даже не выслушал. Словом, никаких обязательств друг перед другом у них не было. Но…
Так или иначе, визит Любы в Петербург принес пользу только Филиппу. Его душевное состояние улучшилось, а к доктору Кауфману он проникся таким доверием, что рассказал и о своей невесте-Синеглазке, а главное – о том, как во время крестьянского бунта сумел уберечь для нее фамильное сокровище. Драгоценности, оказывается, хранились у Пелагеи (никому иному Николай Павлович не мог их поручить). Второпях, пытаясь спасти их от бунтовщиков, Пелагея вручила заветный сундучок сыну, а тот зарыл его в амбаре. Такого, конечно, никто предположить не мог. Потому драгоценностей до сих пор и не нашли, хотя искал их и Александр, и Любин спаситель Степка, которого наставляла в этих поисках его сестра Светлана…
Узнав историю Филиппа, Адам оказался перед нелегким нравственным выбором. Деньги были ему просто необходимы – для того, чтобы открыть собственную психиатрическую клинику, где можно было бы применять новые методы лечения и двигать вперед психиатрическую науку. Но у драгоценностей была вроде бы позабывшая о них законная хозяйка – Любовь Николаевна Кантакузина. Однако нужны ли они ей? Пока Адам так ничего и не решил…
Филипп рассказал доктору не только о сундучке с драгоценностями. Оказывается, у него, кроме волшебной невесты, была и вполне реальная живая жена! Лесник Мартын, который вместе со своей горбатой дочерью Таней много лет ухаживал за Филиппом, придумал способ, как дотянуться до наследства, которое Осоргин оставил своему внебрачному сыну. Филипп, имея детский рассудок, физически был вполне зрелым мужчиной – и вот Таня уже ждет от него ребенка, а хорошо ли дитяти расти без отца? Совестливый Филипп, не желая, чтобы ребенок повторил его судьбу, конечно, согласился венчаться…
А вот Степан и Груня обошлись без венчания. Груня давно его любила. И хотела от него ребенка. А он смертельно и безнадежно влюбился в итальянскую кузину Любы Осоргиной, умирающую от чахотки Камиллу Гвиечелли. Да так влюбился, что однажды прочитал письмо, адресованное вовсе не ему. Камиша делилась с Любой горьким осознанием того, что ее жизнь уходит бесполезно – ведь она так и не испытала настоящей земной любви, ради которой только и стоит жить. Узнав об этом, Степан решился на сумасшедший поступок. Взял да и похитил Камишу из московского дома Осоргиных-Гвиечелли. Всего на одну ночь… Это было приключение, единственное приключение в жизни девушки – и в ту ночь оно не закончилось.
В похищении Степану содействовала кузина Камиллы – пятнадцатилетняя Луиза. Неисправимая авантюристка, она изнывала без острых ощущений, без жертв и страстей. Главной страстью, конечно, была революция. Она приближалась – все это чувствовали, а Луиза просто сходила с ума. Выведав, что муж ее старшей сестры, англичанин-фабрикант Майкл Таккер, снабжает деньгами подпольную эсеровскую ячейку, она встретилась с одним из революционеров (им оказался уже знакомый нам Лука Камарич) и предложила свои услуги благородному делу террора. Лука, надо сказать, этому совсем не обрадовался. Луиза – ребенок… а у него, ко всему прочему, свои проблемы. Нежданно-негаданно он встретил купеческую жену (а теперь вдову) Раису Овсову, которая в 1905 году спасла его от жандармов. И теперь не мог понять, как же ему быть дальше с этой женщиной, разительно не похожей на тех многочисленных дам, с которыми ему до этих пор доводилось иметь дело. Но партийная дисциплина – вещь серьезная. Луизу, назвавшуюся Екатериной, приняли в ячейку, и Камарич повез ее в Петербург, где готовилось покушение на главу жандармского корпуса Карлова.
Своя заветная цель была и у Юлии фон Райхерт, кузины и бывшей возлюбленной Александра Кантакузина. Цель простая и четкая, как математическая формула: занять высокое место в свете, добиться богатства и независимости. Всего этого ей, признанной красавице, не хватало катастрофически. Отец, модный адвокат, спускал гонорары за игорным столом. Мать из последних сил имитировала житье на широкую ногу… Удачная партия могла помочь делу – и она нашлась. Сережа, единственный сын князя Бартенева – великосветский шалопай, не пригодный ни к какому серьезному делу, в том числе и к продолжению рода – из-за своих особых наклонностей. Зато добросердечный и легкий в общении. Устроить его брак с Юлией предложила обеспокоенной судьбой сына графине Бартеневой ее давняя подруга (еще по Смольному институту) Мария Габриэловна Осоргина, жена Льва Петровича. Та оценила добрый совет, а уж мать Юлии и ее саму долго уговаривать не пришлось. Предстоящая сделка возмутила только господина адвоката… но ему пришлось смириться.
Узнав о предстоящем замужестве Юлии фон Райхерт, Александр Кантакузин вернулся в Россию. Приехал он, конечно, не к любимой. В имение, к законной жене. Впрочем, жены там не застал.
Беда в том, что хозяйка Синих Ключей не могла быть только Любовью Николаевной Осоргиной. Люша Розанова в ней ни в коем случае умирать не собиралась. Хотя бы изредка, сбежав от всех, сменить обличье… Сначала она сохраняла за собой место в цыганском хоре. Но довольно скоро осторожный хоревод Яков Арбузов заявил ей, что держать под своим началом замужнюю даму из общества больше не станет – нехорошо это. Старая подруга матери Глэдис Макдауэлл и тут пришла на помощь: познакомила Любу с экзотической восточной танцовщицей, выступающей под псевдонимом Этери. И та согласилась взять ее в ученицы. В миру Этери звали Екатериной Алексеевной. Любе сразу почудилось в ней что-то неуловимо знакомое…
И тут нам опять следует обернуться к прошлому. К совсем далекому прошлому, ко временам отрочества Николая Павловича Осоргина. Когда его нареченная невеста Наталия Александровна Муранова маленькой девочкой жила в родовом поместье Торбеево, у ее отца был крепостной художник Илья Сорокин. Барин ценил его талант, даже отдал в московское Училище живописи, ваяния и зодчества. Правда, когда вышел императорский Манифест об отмене крепостного права – потребовал, чтобы юноша возместил средства, потраченные на его обучение. Илью это не согнуло. Он тихо и упорно шел к своей цели – стать настоящим, большим художником. И до поры, до времени не отдавал себе отчета в том, что цель его жизни вообще-то – совершенно иная. Она – в любви. Наташа Муранова была для него всем. Он боготворил ее, даже в мечтах не надеясь на взаимность.
И вдруг оказалось, что взаимность возможна. Илья и Наташа начали встречаться. Нет, они еще не говорили о любви. Но однажды он набрался храбрости и попросил ее не соглашаться на замужество с нареченным женихом, Николаем Осоргиным. Это брак, он был уверен, ее погубит. И Наташа сказала, что никогда не сделает этого. Их короткие встречи украдкой продолжались недолго. И тех бы не было, если б не помощь мурановской горничной Марьяны. И вот однажды Наташа к назначенному часу не пришла. Вообще не пришла. Илья прождал ее под осенним дождем до утра и в итоге с жестокой пневмонией оказался в общей палате Голицынской больницы. Пролежал он там долго… Однажды его навестила Марьяна. Сказала, что хозяева выгнали ее за то, что устраивала барышнины свидания. А что же сама барышня? А она вышла замуж за Николая Осоргина и уехала в свадебное путешествие.
Выйдя из больницы, Илья, прежде не бравший в рот ни капли, в первый раз напился. И продолжал пить – месяцы, годы… Иногда наступало просветление. Тогда он возвращался к искусству; увы, того, что он успевал сделать, хватало только для нищенского существования. Однажды он встретил Марьяну – такую же нищую, опустившуюся, да еще и с ребенком. Пожалел, взял замуж. Или она его пожалела?..
А в один прекрасный день к нему пришла Наташа. Наталия Александровна Осоргина. Пришла, чтобы помочь… или просто высказать наконец все то, что и ей, и ему нужно было сказать давным-давно, тогда, когда они еще могли взять жизнь в свои руки. Не сумели, не успели, не хватило духа… А теперь – теперь у нее был муж, а у него Марьяна и маленькая Катенька.
Но что-то сделать все же удалось. После этой встречи Илья, пообещавший себе и Наталии справиться с пьянством, поехал в Торбеево управляющим. С ним отправились жена и Катя.
Вот так Марьяна вернулась в родную деревню. Прожила она там недолго… После ее смерти Катю взяла к себе Наталия Александровна. У нее не было детей, и Илья с радостью отдал ребенка, чтобы скрасить одиночество любимой. Увы, девочка Катиш так и не стала Наталии дочерью. Но относились к ней хорошо. А потом барыня умерла, ее муж встретил свою цыганку, потом… потом умерла и цыганка, и…
Люба знала о существовании Катиш – любительницы читать романы и качаться на качелях. Не знала только, куда и почему она исчезла из имения. Уже после своего возвращения в Синие Ключи она узнала, что Катиш, оказывается, вышла замуж за пожилого сибирского золотопромышленника, нового хозяина имения Торбеево. Правда, брак не сложился. И вот когда Катиш уехала от мужа, она уже пропала окончательно.
Люба и Этери сразу почувствовали что-то знакомое в рассказах о прошлом, но истина выяснилась много позже. Сначала Люба училась у Этери. Потом в Синие Ключи заявились два маленьких акробата, мальчик Кашпарек и девочка Оля. Они пришли, потому что запомнили барыню, похвалившую их выступление на калужской рыночной площади. Она сказала: если будет туго, приходите… И вот старый шарманщик, с которым они выступали, умер, деваться им было некуда, они и пришли. Атя, приемная Любина дочь, сразу поняла, что ничего хорошего из этого не получится. И точно. Наступил день, когда из Синих Ключей бесследно исчезли все трое: Кашпарек, Оля и с ними хозяйка имения, Любовь Николаевна Осоргина.
Если бы Люба задержалась дома еще хоть на день, она, возможно, успела бы встретиться с Максимилианом Лиховцевым, который, как когда-то Илья Сорокин, наконец-то понял, что цель и смысл его жизни ни в чем ином, как в ней – единственной женщине. Сорвался из Петербурга, приехал в родительское имение, в разгар свирепой метели кинулся в Синие Ключи. В одиночку, на лыжах, потому что больше было не добраться никак. Впрочем, он и на лыжах не добрался. Сгинул бы в лесу, под снегом, если б из Синих Ключей не подоспела спасательная команда во главе с Атей и Ботей. Хитровские близнецы ничего не боялись, за жизнь держались цепко и во всех обстоятельствах знали, что следует делать.
Их подвиг все оценили по достоинству, а вот из порыва Максимилиана вышла одна нелепость. Впрочем, долго он в родных краях не задержался – уехал… Вернее, тоже сгинул в неизвестном направлении.
Зато в Синие Ключи приехал Аркадий Арабажин.
С Любой он поддерживал знакомство, изредка обмениваясь письмами… однажды был даже в гостях в имении. Не более того. Но, узнав, что она пропала, тут же начал собираться на поиски. С ним решил было ехать Адам Кауфман (недавно женившийся, по рекомендации родственников, на девушке из хорошей еврейской семьи), но в последний момент вдруг передумал. Зато не отказалась составить Арабажину компанию его давняя, по революционным событиям знакомая Надя Коковцева. В Синих Ключах она тоже бывала – вместе с подругой детства Юлией фон Райхерт, и не прочь была снова повидать те места. У Арабажина завязалось с Надей что-то похожее на роман… В Синих Ключах их замечательно встретили, правда, узнать что-то дельное о Любе никак не получалось. Профессор Рождественский, наблюдавший барышню Осоргину еще в детстве, был уверен, что всему виной ее душевная болезнь: ремиссия кончилась, безумие взяло свое. Обитатели же Синих Ключей, на удивление, не очень тревожились.
У них хватало своих забот. Сначала в тяжких муках разродилась дочь лесника Таня. Арабажину, вместе с деревенской знахаркой Липой (бывшей московской акушеркой), пришлось принимать роды. На свет появился удивительный мальчик Владимир с маленьким хвостиком. Потом, никому ничего не говоря и без чьей-либо помощи родила сына, которого назвала Агафоном, Груня. Да еще – приехал из-за границы хозяин Синих Ключей, Александр Васильевич Кантакузин. Теперь, когда его жена исчезла, он один имел власть распоряжаться жизнью Синих Ключей.
И начал распоряжаться… Арабажин уехал, Люба не возвращалась. Александр взял хозяйство в свои руки. Отправил Груню с Агафоном в деревню, хитровских близнецов – в закрытые пансионы. Нанял для дочери Капочки иностранных гувернанток. И как-то раз, навещая в Москве родственников, встретил Юлию.
Она была уже княгиней Бартеневой. Блистательную свадьбу немножко подпортил обиженный сердечный друг жениха, но все остальное вышло именно так, как она планировала. Возможность тотчас исполнить любой каприз, выезды в Европу, короткое знакомство с императорской семьей и… зависть к собственной кухарке, обнимающейся с пылким ухажером.
Стоит ли удивляться, что спустя недолгое время после встречи Юлия и Александр возобновили отношения.
У них были замечательные планы. Юлия гостила в Синих Ключах, чувствуя себя там уже почти хозяйкой, на очереди была поездка за границу. Князь не возражал, и он, и его мать понимали, что фамилии нужен наследник, и готовы были принять ребенка Юлии, которого она родит от кого пожелает.
И вот, когда все так прекрасно и удобно складывалось – опять, как шесть лет назад…
Впрочем, на самом деле произошло не одно, а несколько событий. Деревенская толпа, узнав, что лесникова дочь Таня окрестила в церкви хвостатого младенца, забила ее камнями. Ребенок выжил, его, прокляв убийц, успела забрать поповна Маша. Умерла, родив недоношенную девочку, Камилла Гвиечелли. Арабажину вновь пришлось принимать роды, и он слышал последнюю просьбу Камиллы: назвать девочку Любовью. И, наконец, в Москве появилась удивительная танцовщица, по которой вот уже два года сходила с ума вся Европа.
Никто о ней ничего не знал, и газеты наперебой смаковали слухи, один другого фантастичнее. Ее искусство действовало магическим образом. Один из ее танцевальных номеров рассказывал историю колдуньи Синеглазки. В других номерах вместе с ней участвовали дети – двое, мальчик и девочка. Был еще мужчина, которого она едва терпела рядом с собой и наконец прогнала.
Благодаря танцу о Синеглазке Этери – Екатерина Алексеевна – Катиш наконец узнала в своей ученице Любу Осоргину, написала ей письмо и рассказала, как погиб Любин отец.
Часть истории Катиш, впрочем, уже была рассказана ученице раньше. Она знала, что девушка сбежала из приютившего ее дома после того, как ее изнасиловал приемный отец. Не знала только, что речь идет об ее собственном, родном отце. И что крестьянский бунт был не случайным, и погиб Осоргин не от случайной руки. Любовник танцовщицы Этери, эсер, отомстил таким образом за свою возлюбленную.
Итак – все сказано, и никому не придет в голову продолжать старую вражду. Екатерина Алексеевна вернулась в Торбеево. Там по-прежнему жил ее муж, спасший когда-то ее от позора. Тогда ей хотелось авантюр и страстей, усадебная жизнь казалась ужасно скучной, а выяснилось, что для нее-то она и создана. И старый художник Илья Сорокин тоже был там. К этим двум старикам она и вернулась.
А Люба приняла приглашение выступить на празднике у Сережи Бартенева. В честь второй годовщины его свадьбы. Князь затеял нечто невероятное, пригласил кучу народа и, между прочим, обоих кузенов жены – Александра и Максимилиана. А Максимилиан накануне празднества приехал к Арабажину, прося о помощи.
Это он был тем мужчиной, что ездил по Европе за прославленной танцовщицей – глядя, как она изо дня в день все безнадежнее сходит с ума. Она не могла быть только Любой Осоргиной, но только Люшей Розановой – еще меньше. Цыганская ипостась сжигала ее, спиртное и наркотики стали обычным делом. Максимилиан далеко не все о ней знал, он не знал, что она постоянно пишет письма. Письма единственному человеку, который не был сумасшедшим, у которого, в отличие от нее, от Макса, от всего мира – было будущее.
И вот фантастическая танцовщица выступила на княжеском празднике, а потом появилась там как Любовь Николаевна Осоргина… и увидела доктора Арабажина, человека, которому она писала письма, гостем в сумасшедшей толпе. Это было слишком.
Аркадий Арабажин остановил приступ безумия, высыпав ей на голову ведерко колотого льда из-под шампанского. И увез ее в Синие Ключи – приводить в чувство.
Хоть и с трудом, но ему это удалось, он был хорошим врачом. И любил ее. К счастью, он понял это не слишком поздно. Так, по крайней мере, ему казалось. К сожалению, пока они не могли не расставаться – у нее все еще был муж, а у него работа. Муж, впрочем, снова уехал, увы, без Юлии, которую утомили его проблемы. Зато в Синие Ключи вернулись Атя и Ботя, хвостатый младенец Владимир, Груня и Агафон.
А потом… не прошло и года после праздника у князя Бартенева – в сербской столице убили австрийского наследника, и началась война. Арабажин отправился на фронт врачом санитарного поезда. В октябре 1914 года Люба получила письмо от сестры милосердия с известием о его гибели.
Немного позже в Синие Ключи вернулся Александр. Все-таки он был хозяином имения, отвечал за этих людей и понимал, что в военное время им нужна опора. Люба, кажется, была с этим согласна. Прошлое больше не стояло между ними. Все было выяснено: дверь в детскую тогда, во время пожара, запер не Александр. Кто? Впрочем, казалось, что сейчас это уже не имело никакого значения.
Список действующих ныне и действовавших ранее героев:
Синие Ключи и окрестности:
Осоргин, Николай Павлович, помещик, убит в 1902 году
Наталия Александровна Осоргина (Муранова), первая жена Николая Павловича, умерла
Лилия (Ляля) Розанова, вторая, невенчанная женая Николая Павловича, цыганская певица, умерла
Офелия Александровна Осоргина, старая бабушка Николая Павловича, умерла
Пелагея Никитина, нянька Люши, в прошлом любовница Николая Павловича, погибла при пожаре в 1902 году
Любовь Николаевна Осоргина (Люша Розанова), дочь Николая Павловича Осоргина и Ляли Розановой
Филипп Никитин, безумец, сын Пелагеи и Николая Павловича
Мартын, лесник Осоргиных
Таня, дочь Мартына, убита торбеевскими крестьянами
Владимир, сын Тани и Филиппа
Илья Кондратьевич Сорокин, художник, в прошлом – управляющий имением Торбеево
Марьяна, его жена, умерла.
Катиш (Этери, Екатерина Алексеевна Сорокина), танцовщица, его приемная дочь
Иван Карпович, сибирский золотопромышленник, муж Катиш и хозяин имения Торбеево
Лиховцева (Муранова) Софья Александровна, сестра Наталии Александровны, детская писательница
Лиховцев Антон Михайлович, ее муж, хозяин имения Пески
Лиховцев Максимилиан Антонович, историк, журналист
Фаина, бывшая няня Максимилиана и Софьи
Кантакузин Александр Васильевич, историк, муж Любы и кузен Максимилиана
Прислуга в Синих Ключах:
Настя, горничная
Феклуша, горничная
Фрол, конюх
Лукерья, кухарка
Акулина, огородница
Филимон, муж Акулины, садовник
Груня Федотова, подруга детства Люши
Степан Егоров, из деревни Черемошня, друг детства Люши
Светлана Озерова, сестра Степана
Иван Озеров, ее муж, механик
Агафон, сын Степана и Груни
Отец Даниил, священник в церкви св. Николы в деревне Торбеевка
Матушка Ирина, жена Даниила
Маша, их дочь (в иночестве Марфа)
Их другие дети, 11 человек, матушка опять беременна
Липа, знахарка (Олимпиада Куняева, московская акушерка)
Мария Карловна, помещица, старая спиритка
Агроном Дерягин
Викентий Павлович, ветеринар
Флегонт Клепиков, священник, бывший торбеевский дьячок
Москва
Арабажин Аркадий Андреевич, врач, большевик
Марина, сестра Арабажина
Осташкова, Елизавета Петровна, графиня, двоюродная бабушка Максимилиана и Александра
Татьяна Ивановна Кантакузина, мать Александра
Александр Георгиевич Муранов, отец Натальи, Софьи и Михаила
Елизавета Маврикиевна, его жена.
Матвей Кудасов, художник из МУЖВЗ
Яков Михайлович Арбузов, хоревод цыганского хора
Глэдис Макдауэлл, артистка оригинального жанра из ресторана «Стрельна»
Декаденты
Троицкий Арсений Валерьянович
Жанна Гусарова, его пассия
Адонис
Май (Никон Иванович), из купцов-старообрядцев
Апрель
Овсов Клим Савельевич, купец 1 гильдии
Овсова Раиса Прокопьевна, его жена
Камарич Лука Евгеньевич, геолог, эсер
Рождественский, Юрий Данилович, врач, профессор Университета
Валентин Рождественский – его сын, военный
Муранов, Михаил Александрович, историк, профессор Университета
Кауфман, Адам Михайлович, психиатр
Рахиль, бабушка Адама
Соня Кауфман (Коган), жена Адама
Егор Головлев, эсер, друг Камарича
Надежда Коковцева, социал-демократка, подруга Юлии
Осоргин Лев Петрович, архитектор
Мария Габриэловна Осоргина (Гвиечелли), его жена
Луиза, их дочь
Альберт, их старший сын
Анна Львовна Таккер, их старшая дочь
Майкл Таккер, ее муж, фабрикант
Роза, их дочь
Риччи, их сын
Камилла Гвиечелли, художница, умерла
Марсель Гвиечелли, кузен Луизы
Юлия фон Райхерт (Бартенева)
Борис Антонович фон Райхерт, адвокат, ее отец
Лидия Федоровна фон Райхерт, ее мать
Бартенев Сережа, молодой князь, муж Юлии
Бартенева Ольга Андреевна, его мать
Рудольф Леттер, авиатор, сердечный друг Сережи
Спиря, бывший камердинер Сережи
Дмитрий, предположительно великий князь
Анна Солдатова
Борис Солдатов – двойняшки, приемные дети Люши
Капитолина Кантакузина, дочь Люши и Александра
Варя Кантакузина, дочь Люши и Арабажина
Люба (Аморе) Гвиечелли – дочь Степана и Камиллы
Кашпарек – бродячий артист, сирота
Оля – сирота, акробатка
Глава 3, в которой рассказывается, как Ленские события 1912 года привели к инсульту почтенного владельца усадьбы Торбеево и как певчие птицы способствовали его реабилитации
– Фапенька ти тосте шаю петлашила? – грузный мужчина с отекшим лицом пошевелился в большом кресле и криво, но дружелюбно улыбнулся гостье.
Любовь Николаевна моментально и искренне ответила на улыбку, однако на жену хозяина усадьбы Торбеево взглянула с растерянностью непонимания.
– Катенька, ты гостье чаю предложила? – перевела для Люши невысокая полноватая женщина, поправила на коленях мужа клетчатый плед и успокаивающе погладила его по плешивой голове. – Разумеется, предложила. Сейчас мы все приготовим, а потом позовем Илью Кондратьевича, Влас тебя отвезет в столовую, и станем все вместе чай с кулебякой пить. А ты пока, Иван, тут нас подожди, птичек вот послушай… – женщина указала на стоящую у окна большую клетку, в которой скакали по жердочкам, брызгались в миске с водой, клевали рассыпанное по полу зерно и чирикали на разные голоса чижи, зяблики, пеночки и другая лесная и полевая птичья мелочь.
– Господи, Катиш! Скажите мне: что ж это такое с Иваном Карповичем?! – воскликнула Любовь Николаевна, когда обе женщины вошли в столовую и плотно закрыли за собой двери.
– Удар был, – пожала плечами Екатерина Алексеевна. – Сейчас получше уже. Мы с Ильей почти все понимаем, что он говорит, ну и ему спокойнее. А вначале был ужас кромешный – мы ничего не понимали, он не понимал, почему мы не понимаем… Злился на всех страшно, от этого еще самочувствие ухудшалось, и речь тоже… Замкнутый круг. Доктор, как осмотрел его, сразу сказал: у него соображение не пострадало почти, только речь и движение. Я-то сперва ему не поверила, уж больно все страшным казалось. А теперь вижу: и вправду, соображает-то Иван обо всем не так уж плохо…
– Когда же это случилось?! Вы мне ничего не писали и потом, когда в усадьбу приезжали, не говорили…
– Зачем тебе? У тебя и прежде, и нынче своих дел хватает… Да и я ж тебя сколько раз в гости звала…
– Простите, простите, Катиш, – Люша покаянно опустила голову. – Конечно, я должна была сразу приехать… Но я сначала была просто никакая, потом собирала детей, потом война, потом… убили Аркадия Андреевича, приехал Александр… Это я, не подумайте, не оправдываюсь, просто рассказываю, как было…
– Сливок принеси! А бульон не надо покуда! Не надо, я сказала! Вечером дадим! – объясняясь с пожилой служанкой, Екатерина Алексеевна сильно повысила голос.
Потом, когда старушка, пришаркивая, вышла с фарфоровой супницей, хозяйка усадьбы снова обернулась к Люше.
– Все старые! – вздохнула она. – Большинство еще крепость и Наталью Александровну барышней помнят. Живу, как в инвалидном доме: мало Ивана Карповича, так и прочие – кто глухой, кто слепой, кто ногу волочит, кто спину разогнуть не может – так крючком и ходит… Думаю: взять, что ли, из деревни кого молодого – хоть для забавы просто. Тебе-то хорошо – детей полный дом…
– Да, – согласилась Люша. – Мне хорошо. А с прислугой могу поспособствовать, коли хотите – хоть завтра из Торбеевки придет Груньки моей сестра. Их там несчитано, выбирать можно. Хотите младшую – злая и до работы охочая, хотите – старшую, она плаксива и собой неказиста, зато шить и кроить умеет.
Екатерина Алексеевна задумалась, потом решила:
– Присылай старшую. Погляжу на нее, может, и вправду оставлю. А молоденькая девчонка тут с нами и вовсе озлеет… Сочувствую тебе. Жаль Аркадия Андреевича, хороший был человек, покойся с миром…
– А вы разве знали его, Катиш?! – вскинулась Люша. – Откуда?!
– Да он же, как тут бывал, всех по случаю пользовал – и из Черемошни, и из Торбеевки, и из Песков даже. Молва шла. Ну, я его тоже к себе зазвала – на Ивана Карповича взглянуть.
– И что ж он сказал? – Люшины прозрачные глаза наполнились такой неуемной жаждой хоть каких-то подробностей о погибшем на фронте враче, что Екатерина Алексеевна не выдержала и отвернулась.
– Да ведь это он и посоветовал мне птиц-то завести. Сказал, Иван будет смотреть на них, слушать, следить за ними и его мозг будет успокаиваться. И тогда не надо будет ему все время лекарства давать, и это хорошо, потому что они для печени вредные. Я сначала-то удивилась: что за блажь такая – птицы! Но потом подумала: а чего мы теряем? Заказала плотнику клетку, мальчишки деревенские птиц наловили… И что ты ж думаешь – так все по его и вышло! Иван по-первости чуть не целый день на них смотрел. Хочет Влас его увезти, в постель уложить или в столовую – покормить, а он мычит и палкой его колотить пытается… И теперь даже, когда уже говорить как-никак может, все равно – каждый день с утра просит: «поедем, Катенька, наших птичек проведаем» и все волнуется: чистая ли у них вода и достаточно ли корма… И диету Аркадий Андреевич нам расписал – чем да как больного кормить, чтоб желудок хорошо действовал и не застаивался. А то уж такие страсти у нас тут были, тебе и знать ни к чему… А теперь – тьфу! Тьфу! Тьфу! – все у нас как часы…
– Вот оно как… – Люша сплела пальцы. – А мне он про Ивана Карповича ничего не сказал…
– Не хотел, видно, тебя попусту волновать. Что б ты сделала? Да ты ведь тогда и сама, как я понимаю, не слишком была здорова…
– Да, – кивнула Люша. – Он меня спас. Два раза. А сам погиб.
С минуту постояла тишина. И стало слышно, как тихо и быстро, будто коготками деловитой мышки, стрекочут часы в простенке между оконными нишами, заполненными молочным, землянично-розовым и темно-алым буйством цветущих гераней. И как в соседней комнате звонко чирикают птицы. Этот стрекот и чириканье, и запах гераней, и солнечные пейзажи Ильи Кондратьевича, висящие по стенам – все вместе создавало особый уют, немного вязкий и сонный.
– А все-таки – когда с Иваном Карповичем такое случилось-то, Катиш? И что ж – нипочему, просто на ровном месте?
– Не совсем так. Иван же из Сибири сам. И все сибирские дела всегда близко к сердцу переживает. Ты Ленский расстрел в апреле двенадцатого, конечно, помнишь?
Люша ничего не ответила, но как будто бы смутилась. Невнимание к сиюминутным общественным процессам она, с подачи покойного Аркадия Андреевича, считала своим недостатком. Но и поделать с ним ничего не могла. Где она, и где эта Лена?
– Во всех газетах тогда писали, а Ивану еще и письмо от какого-то его знакомого из Сибири пришло. Он две недели сам не свой ходил, орал на всех, чуть ли не ехать туда собирался…
Люша пыталась сформулировать вопрос, который не слишком явно обличал бы ее невежество. Екатерина Алексеевна тоже молчала, вспоминая…
* * *
Апрель 1912 года, Калужской губернии Алексеевского уезда имение Торбеево
– Илья Кондратьевич, ты «Капитал» Маркса читал?
– Господь с вами, Иван Карпович! – пожилой художник, бывший управляющий имения Торбеево Илья Сорокин явно с трудом подавил желание перекреститься. – Не читал, конечно. На что мне?
Апрель на дворе. За окном, в ветках помолодевшей на глазах высокой ели, скачут солнечные зайчики. Запрыгивают на подоконник, в комнату, играют в резных стеклах старинного буфета. Там, в буфете – стопки зеленого стекла, с золотыми ободками. И до них добирается солнце, превращает стекло в изумруды. Благодать! Какой еще Маркс…
– А вот, между прочим, зря. Потому что как раз у Маркса черным по белому и сказано: «Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал, если это преступление сулит ему тысячу процентов прибыли». И вот здесь, – Иван Карпович тыкнул толстым пальцем в расстеленную на столе газету. – Именно это и происходит. А вот они, – помещик пренебрежительным жестом переворошил еще с десяток разбросанных по столу печатных изданий. – Ни черта в этом не понимают! Пишут на разные лады какую-то совершеннейшую ерунду. Подумать только: приисковые рабочие вот ни с того ни с сего возмутились. Терпели, терпели, и вдруг… И пошли мирно в сопровождении местного инженера и по его же совету вести переговоры об освобождении стачечного комитета. А солдаты вдруг стали по ним стрелять. И не поверх голов, чтоб разбежались, а сразу – на поражение. И убили не одного-двух, а полторы сотни человек! Я там жил, на этих приисках, и этих рабочих, и этих солдат, и этих инженеров видел каждый день. И потому заявляю тебе ответственно: такого просто не могло быть! Не могло быть никогда!
Иван Карпович стукнул по столу кулаком. Лицо помещика побагровело, пальцы, похожие на колбаски, сжались в кулак.
– Да помилуйте, Иван Карпович, что ж вы так беспокоитесь-то? – удивился и встревожился Илья. – Успокойтесь, голубчик. Вам доктор гневаться не велел. Это ж не на ваших приисках все случилось, ваше-то дело сторона… Прискорбное, конечно, происшествие… Дикость российская…
– Вот! Вот! – вскричал Иван Карпович, бешено вращая глазами, и едва не проткнул вытянутым пальцем впалую грудь Ильи Кондратьевича. – Именно так, как ты, все здесь и в столицах и думают! Сибирь! Дикость! Рабочие – рабы, скотина, десятники – воры и шкуродеры, полиция – дураки, вся Сибирь в медвежьей шкуре и кандалах ходит и по зарубкам на лиственницах дни считает. Оттого все! Ан не-е-ет!
– А как же на самом деле? – совершенно без интереса, только чтоб дать помещику выпустить пар, спросил художник.
Видно было, что этот разговор (так же, впрочем, как и большинство других) ему в тягость. Его бы воля, взял переносной мольберт и ушел на двор, в поля или в деревню. Молча. Чего разговоры разговаривать, если все равно ничего изменить нельзя?
– Жиды и англичашки! Не поделили между собой! 800 процентов прибыли! Строго по Марксу, он знает! Он, правда, вроде бы немец, но, если покопаться, наверняка тоже окажется – еврей! Вот здесь, в «Новом времени» прямо пишут: «Еврейские заправилы Ленского товарищества, жадные до русского золота, не особенно ценят русскую кровь…» И Штольц то же мне в письме сообщает… Он сам немец, метеоролог, старая крыса, на этой Лене жил-поживал годами… У рабочих были только экономические требования, почти в рамках закона. Организация беспорядков и тем более такая чудовищная бойня – в интересах дискредитации старых владельцев, Гинцбургов и Гольденвейзеров. Медвежий угол, кому какое дело, как там рабочие живут… А теперь погляди-ка – раструбили на весь мир, в России, в Европе во всех газетах пишут, сотни тысяч рабочих бастуют в знак солидарности… Кто все это устроил? Оттяпать под шумок контроль над «Лензото» (название компании, на приисках которой произошли беспорядки – прим. авт.) – вот что им надо! А на русских рабочих и русских солдат, и даже на русского царя им наплевать! Август Штольц всегда был моим другом! Но теперь… Я с Пуришкевичем соглашусь! Я на его дело деньги пожертвую! Я вступлю в «Союз русского народа»! Я поеду в Петербург и всем скажу…
(то, что пытается описать Иван Карпович Илье Кондратьевичу, сегодня называется рейдерским захватом. Сам термин в начале 20 века еще не применялся, но операции по захвату компаний проводились в полный рост. Например, рейдерством успешно занимался в конце XIX века Джон Рокфеллер, используя в качестве механизма принуждения льготные цены на транспортировку нефти. Была ли трагедия на Лене в 1912 году связана именно с захватом «Лензото» – вопрос дискуссионный, но есть вполне убедительные данные «за». Заинтересованный читатель может узнать кое-что об истории проникновения английского капитала на золотые прииски Сибири в конце 19 века и составить об этом собственное мнение, а также поближе познакомиться с бароном Гольденвейзером и метеорологом Штольцем. Для этого ему нужно прочесть роман Н. Домогатской «Наваждение» – прим. авт.)
Старый помещик вскочил и забегал по комнате. Полы синего шлафрока развевались за ним. Серебристая кисть волочилась по полу. Молнией выскочила из-под этажерки и, ловя кисть лапой, бесшумно бегала вслед рыжая кошка Екатерины Алексеевны.
– Иван Карпович, голубчик, да что вы… Да будет… – бесполезно и уныло повторял что-то урезонивающее Илья Кондратьевич.
Вдруг Иван Карпович остановился на полушаге, поднял глаза к потолку, словно прислушиваясь к чему-то, происходящему на чердаке, взялся за голову сначала обеими руками, потом перехватился одной рукой за этажерку, и, роняя ее и стоящие на ней безделицы, медленно сполз на пол, невнятно бормоча:
– Голова… Голова… Голова…
Кошка, испугавшись грохота, выскочила в открытую дверь. Илья Кондратьевич бросился к Ивану Карповичу, попытался поднять его, понял, что у него не хватит сил, уложил хрипящего старика на пол, стараясь не заглянуть в закатывающиеся желтоватыми белками глаза. И, торопясь, зашагал внутрь дома, крича на ходу:
– Катя! Екатерина Алексеевна! Скорее! Влас! Кто-нибудь! Ивану Карповичу плохо! Надо немедленно врача!
* * *
– И вот, с тех пор так мы и живем… – вздохнула Екатерина Алексеевна.
– Вы, должно быть, сердитесь на меня, Катиш… – задумчиво сказала Люша. – Я-то вам писала: возвращайтесь, возвращайтесь, будете жить спокойно. А оно вон как вышло… Но кто же мог знать?
– Ну о чем ты говоришь, Люша! – воскликнула Екатерина Алексеевна. – За что мне на тебя-то сердиться? Как такое можно предвидеть? Да и где нынче мое место, как не здесь… Танцы закончились, и я о том, поверь, не жалею. Но кому я теперь нужна, кроме этих стариков? А им нужна… В общем, как это ни странно, мне нынче жаловаться особо не на что…
– Хорошо, Катиш, что вы так видите, – кивнула Люша. – Не всякая бы смогла. Но кто ж нынче Торбеево управляет? Своего управляющего вы выгнали, я о том знаю, потому что мой муж пытался его в Синие Ключи нанять, да я воспротивилась… Может и врали, но говорили мне, что это он моего отца когда-то вконец с Черемошинским миром поссорил…
– Думаю, не врали. Мошенник он еще тот, а на людей, как на скотину смотрит…
– Но кто же у вас? Неужто Илья Кондратьевич?
– Как ни странно тебе покажется, но я сама. Я ведь, пока танцевала, привыкла свои дела вести. Сначала-то, пока молоденькая была, меня обманывали все. Любовники, управляющие, да еще они вечно мешались между собой… Один такой любовник-управляющий сбежал с моими деньгами и бижу и дом себе под Рязанью купил… Ох, как я тогда злилась! А что поделаешь, коли сама дура… Вначале-то я думала, что только мужчины вести дела умеют, а женщинам – оно заказано. Откуда мне? В Синих Ключах, где я росла, и помыслить нельзя было, чтобы Наталья Александровна вдруг в контору явилась и стала там гроссбухи проверять или, тем паче, указывать что-то… А потом я вдруг как-то увидела, что я сама в цифрах понимаю ничуть не хуже мужчин, и считать умею, и договариваться, и планировать, и раскладывать все, и балансы сводить. А математика-то мне еще в детстве нравилась, помню, сижу в парке на качелях и задачки про бассейны решаю. Столько втекло, столько вытекло… Просто для собственного удовольствия, чтоб ответы сошлись…
– Вот чего я никогда для собственного удовольствия не стала бы делать, так это задачек по арифметике решать! – рассмеялась Люша.
– А у меня вот так… И когда я это поняла, я стала по факту сама все свои дела вести. И сразу вдруг денег стало больше, а расстройства и свободного времени, чтоб вино пить и с любовниками путаться, значительно меньше…
– Это важно, – согласно кивнула Люша.
– Именно…И вот здесь, как с Иваном такое случилось, я и решила: а дай-ка попробую! Не выйдет, так не выйдет. По-первости мне Илья что-то подсказал, да Мария Карловна – спиритка…
– Да уж они подскажут! – усмехнулась Люша.
– Ну все ж польза, – возразила Екатерина Алексеевна. – Они-то до этого дела хоть как-то касались, а я прежде никак… Что ж, постепенно вникла во все, можно сказать, даже во вкус вошла. А теперь уж и Иван оправился немного, можно у него спросить… Я тебе вот что, не скромничая, скажу: о прибылях сейчас с этой войной и реквизициями, конечно, можно забыть, но урожай мы собираем хороший, а отношения с деревней у Торбеево нынче и получше будут, чем при Иване, Илье и твоем отце. Деревня теперь сама в растерянности немалой: самые активные из них еще при Столыпине на отруба ушли, а нынче еще мобилизация, и если из двух лошадей одну забрали…
– Мне тоже моих лошадей жаль! – перебила Люша, которая совсем не любила мыслить общественно-политическими категориями и смотрела на окружающий ее мир сугубо практически. – Эфира втроем со двора уводили, он не хотел, бился. Хоть он и злой всегда был, но я чуть не разревелась… Жалко! У меня Голубка ожеребиться должна, а ветеринар говорит: старая, не родит… А она ведь умная, как человек и мне так хочется, чтоб жеребеночек был. Вдруг ему ее ум передастся?
– Тут раз на раз не приходится, – вздохнула Екатерина Алексеевна. – Вон твой отец – умный человек, не поспоришь. А Пелагеюшка-то как умна была, хотя и грамоте толком не разумела! И вот Филиппу, сыну их, много ли передалось?
– Это – да, – согласилась Люша. – Но вы Владимира-то, сына Филиппа и горбуньи Тани, племянника моего, видали?
– Мельком. А что с ним? Правда ль, как в деревне говорят, что у него – хвост? Или болтают?
– Правда, Катиш. Как приедете, я вам покажу. Он им даже вилять умеет!
– Поди ж ты! – всплеснула руками Екатерина Алексеевна. – Ну хвост-то он на попе. А с головой у него – как?
– Странно. Иногда он днями сидит как пень, молчит, еду по комнате разбрасывает, писает в штаны и чуть не слюни пузырями. Если кто его в это время тронет – может орать не по-человечески, драться. Потом вдруг ни с того, ни с сего начинает вполне себе говорить, играть, как детям по его возрасту положено, и всякую аккуратность соблюдать. Тогда подходит ко всем, спрашивает, даже приласкаться иногда может. Но по-настоящему в любом состоянии справляется с ним только Кашпарек. Если он уйдет (а это в любой момент может случиться, у него глаза на дорогу смотрят), прямо и не знаю, как мы с Владимиром будем…
– Да уж, племянничек-подарочек… А с отцом-то он видится?
– Конечно, я регулярно его в гости к деду и отцу вожу. Филипп с ним в лошадки играет и книжки читает. А Мартын в лес гулять водит. Ему вроде там у них больше нравится, чем в усадьбе, но не оставлять же и этого в лесу… Мне колдунья Липа рассказывала: Таня, еще когда Владимиром беременная была, сон видала – будто нечисть лесная собралась кругом и ее ребенка усыновила и в лес за собой увела. Не быть посему!
– Конечно, конечно… – закивала Екатерина Алексеевна, и как в этот момент давешняя старушка-служанка пришла сказать, что хозяин волнуется и требует чай пить. А Влас спрашивает: можно ли везти?
– Пускай везет! – махнула рукой Екатерина Алексеевна и попросила Люшу. – Ты уж хоть иногда делай вид, что понимаешь его, ладно?
– А я и вправду пойму, – улыбнувшись, пообещала Люша. – Я такому быстро научаюсь.
Бывшие крепостные, хоть и древние, на стол накрыли сноровисто и аккуратно. Все, как при прежних барах: чашки тонкого фарфора с хрупким голубым узором, сдоба в корзинках (до той, что печет Лукерья из Синих Ключей, конечно, далеко, но, если забыть про ту – очаруешься ароматом), разные варенья, мед и, на отдельном приставном столике – самовар, благодушно отражающий в блестящих круглых боках окрестное пространство. А над самоваром, на стене – парный портрет (Илья Кондратьевич написал, должно быть, вскоре после свадьбы приемной дочери): молоденькая девочка с диковатыми глазами и совсем еще не старый, почти и не грузный даже, сибирский золотопромышленник… Портрет другой девочки, Наташеньки Мурановой, тоже висел поблизости – небольшой, в овальной рамке – и казался таким же старинным, как мейсенские пастушки в горке за стеклом.
Глава 4. В которой купеческая вдова знакомится с Петроградом и получает печальное известие, а психиатр Адам Кауфман оказывается в окружении разбитых надежд.
Город Раисе не понравился сразу, с вокзала.
Грязные, засаленные подолы юбок, треухи, немытые лица, желтый свет.
Потом – закопченные дома, низкое, недоброе, словно опухшее небо. Извозчик на вокзальной площади запросил огромные деньги и как будто делал одолжение. Раиса сразу пожалела, что не поехала на трамвае. Небось, как-нибудь добралась бы. Заодно и с людьми поговорила – расчуяла бы, что тут и как.
Хотя что тут чуять, если и так видно – дурно. Война. На улицах женщины в черных платьях, везде расклеены агитационные листовки и плакаты с призывами. Мельком увидела на тумбе картину, где призывали жертвовать выписывающимся из госпиталей инвалидам: поддерживая друг друга, стоят два солдата. У одного нет ноги, у другого – руки. Прошептала: голубчики солдатики! – и тут же расплакалась в батистовый платочек. А что если и мой Лука так?!
В клинике для нервных и психических больных, адрес которой был в письме, Адама Кауфмана не оказалось. Красивая, хотя и немолодая медсестра-малороссийка послала Раису в госпиталь Вольноэкономического общества, устроенный на Обводном канале. Адам Михайлович там консультирует по вторникам и средам. А по понедельникам и пятницам в госпитале Технологического института. А по воскресеньям – в частном госпитале у купца Обухова. А в среду – преподает студентам и ведет больных в Бехтеревском институте. Война, хороших врачей не хватает, многие ушли на фронт. «Да, да, голубушка, я знаю, у меня как раз письмо от его друга врача с фронта… А Адам Михайлович хороший доктор?» – Малороссийка поправила туго накрахмаленную косынку и минут пять тоном важного лектора рассказывала о том, каким замечательным, редкостным врачом и одновременно ученым является Адам Михайлович. «После всех работ – еще и в лабораторию! Непременно! И сидит там за микроскопом, и пишет, пишет что-то… Иногда до самого утра! Когда только времени еще и на семью хватает!» – В последней фразе женщины Раисе почувствовалась некая толика лицемерия, но у нее просто не было сил как следует подумать о семейном устройстве Адама Кауфмана, который днем работал в пяти больницах, а по ночам глядел в микроскоп. Узнав, что Раиса только что с поезда, медсестра любезно предложила ей чаю. Женщина всей душой отозвалась на первое встреченное в неприветливой столице дружелюбие, поблагодарила сердечно, но отказалась – внутри ее с самого прибытия мелко вибрировала какая-то жилка и требовала: скорее, скорее!
До госпиталя поехала на трамвае (медсестра объяснила все подробно). Смотрела в окно на поднимающиеся вверх дома. Каждый со своей физиономией, по большей части столично-надменной. В трамвае ругали немцев, и как-то странно говорили об императрице. Раиса поежилась, ей стало неприятно. Царь и царица – это же главное в стране, как мать и отец в семье, почти как Бог и Богородица на небе. Как же можно?!
Потом, неожиданно быстро, потянулись темные окраинные кварталы. Кондуктор назвал ее остановку. Раиса вышла. Над Обводным каналом едва слышно шумел мелкий холодный дождь. Хотя было еще только три часа дня, у подъезда нужного ей дома, разгоняя подступающие сумерки, ярко горел фонарь. Высокая тяжелая дверь скрипнула предупреждающе.
Ровные стены непонятного в желтом электрическом освещении цвета, двери, коридоры в разные стороны… куда идти? За одной из дверей – двустворчатой, с выкрашенными белым стеклами – обнаружилась пальма в горшке, стул и широкая лестница. Было чисто, Раиса это сразу отметила: но пахло, увы, так, что прямо с порога сжималось сердце и хотелось тут же бежать куда-нибудь со всех ног. Не просто больницей – лекарства, дезинфекция, много нездоровых людей на небольшом пространстве… – но еще чем-то пронзительно-кислым, тоскливым, мокрой овчиной, что ли; и кислой ржавчиной. Войной пахнет, подумала она, идя вслед за санитаром к врачебной комнате. Войной, чем же еще.
Адам Кауфман почти вбежал в комнату. Раиса встала и, не удержавшись (знала, что этого – не нужно), подалась навстречу. Невысокий, лишь чуть выше нее. Холодный бархат больших темных глаз, сухие коричневые пальцы, белый, с синевой халат, наброшенный на неширокие прямые плечи. В руках ничего нет, только на шее болтается стетоскоп, но отчетливое ощущение, что в комнату внесли что-то существенное, почти громоздкое. Он сам и внес.
– Кауфман, Адам Михайлович, врач. Мы с вами… Простите, я, кажется, не имел чести…?
– Да, да, простите меня, голубчик Адам Михайлович, что я вас, незнакомого мне человека, побеспокоить решилась. Овсова Раиса Прокопьевна, вдова. Только что из Первопрестольной, с вокзала. Если бы не крайняя надобность, я бы ни за что… Но ведь никого решительно в столице не знаю, не ведаю, с какого края хвататься, а к вам у меня рекомендация, письмо, вот, от вашего друга Арабажина Аркадия Андреевича…
– Письмо от Аркаши?!! – к ужасу Раисы Адам покачнулся и тут же землисто побледнел.
– Голубчик Адам Михайлович, что это с вами?!
– Дайте его мне, дайте скорее письмо! – протянутая рука дрожала, как у нищего на паперти.
Испуганная странной реакцией врача, ничего не понимая, Раиса торопилась, сорвала заусенец на ногте, едва не сломала замочек у сумочки.
– Вот, вот же оно! Вот тут он к вам…
Не слушая, Адам начал читать с начала, с неприличной по отношению к чужому частному письму жадностью.
«Здравствуйте, уважаемая Раиса Прокопьевна!
Пишет к вам по поручению Луки Евгеньевича Камарича Аркадий Андреевич Арабажин, старший врач санитарного поезда номер четыре. Находимся мы сейчас в хххххххххххххх (вымарано военной цензурой) в полутора десятках километров от хххххххххххххх (вымарано цензурой). Мы с Лукой Евгеньевичем знакомы с 1905 года, и с тех пор сообщались регулярно, неизменно испытывая взаимное дружеское расположение. К моему глубокому сожалению, нынешняя наша встреча вышла нерадостной. В бою под хххххххххххххх (вымарано цензурой) Лука Евгеньевич получил тяжелое проникающее ранение, сопровождающееся контузией. Начальник нашего санитарного поезда Петр Ильич Ильинский, блестящий хирург, при нашем скромном посредстве сделал все возможное для стабилизации состояния больного, которого мы уже завтра утром передадим на попечение персонала тылового санитарного поезда, идущего прямиком в Петроград. Там, при благоприятном течении событий и Вашем желании, Вы сможете Луку отыскать и оказать душевное и всяческое другое вспоможение его скорейшему выздоровлению.
Лука попросил непременно Вам написать, что он Вас всей душой любит и уважает, и нынче лишь Ваш светлый образ горит перед ним во тьме его страданий. К Вашим ногам припадая, пьет из прохладного источника Вашей сердечной привязанности, ничуть им не заслуженной, но тем не менее пролившейся на него (Луку Евгеньевича) не иначе как по произволенью Бога, в которого он с четвертого гимназического класса не верил, а теперь, после Вашего явления в его жизни, даже не знает, что по этому поводу и думать… Но благодарит неустанно и любит пламенно.
Вот, пишу дословно.
Не смейтесь, милая Раиса Прокопьевна, над пафосом, ибо раненные после контузии и операции, придя в себя, часто выражаются витиевато. Но неизменна здесь искренность сердечного порыва, потому что (верьте моему опыту фронтового и гражданского врача) человек, находясь на краю, практически никогда не врет ни словом, ни чувством.
Лука, кстати, просит Вас в Петроград не ехать, а ждать от него вестей. Но если Вы все-таки решитесь, то осмелюсь предложить Вам обратиться за содействием к моему лучшему другу Адаму Михайловичу Кауфману, который нынче проживает в Петербурге. Проще всего будет Вам отыскать его на рабочем месте, в клинике нервных и психических болезней на набережной реки Мойки. Думаю, что он, как человек социально ушлый и добрый в глубине души, быстро поможет Вам отыскать след Камарича в недрах нашей госпитальной системы.
С искренними пожеланиями благополучия и всяческих удач,Остаюсь всегда Ваш Аркадий Андреевич Арабажин22 октября 1914 года».Дочитав письмо, Адам как будто бы побледнел еще больше, но тем не менее отчетливо взял себя в руки.
– Благодарю вас, Раиса Прокопьевна. Возьмите. Простите мое, нарушающее все границы, нетерпение. Оно объяснимо вполне, но тем не менее никак не извинительно. Аркадий Андреевич был моим самым близким и, возможно, единственным другом…
– Был?! – Раиса, разом задохнувшись, поднесла ко рту дрожащие пальцы. – Разве он…
– Согласно полученным нами сведениям, Аркадий погиб 24 октября, через два дня после написания этого письма.
– Боже мой! Какой ужас! Бедненький Аркадий Андреевич! И еще больше бедный – вы!
Адам взглянул на женщину с удивлением.
Раиса вытерла слезы и деловито пояснила свою мысль:
– Он-то ведь врач, людей спасал, и погиб за то. Стало быть, сейчас уже с ангелами у Бога, в довольстве, с райским прибытком. А вот у вас, голубчик Адам Михайлович, убыток страшный – лучший друг погиб, и в сердце пустота, так и тянет, и тянет сквозняком и болью…
– Да! – Адам зажмурился, и вдруг перед этой откровенно глуповатой, пухлой, совершенно чужой ему женщиной, высказал то, что носил в себе и не доверял никому. Говоря, торопился, едва не захлебывался словами, словно опасался не успеть. – Именно – пустота! Именно – сердечный сквозняк! Вдруг, ни с того ни с сего – пустое место там, где всегда было наполнено. Мы вместе росли, мужали, но уж давно жили в разных городах, виделись хорошо если три-четыре раза за год. Он писал мне, а я и писем писать не люблю… Но была, была какая-то нитка нерасторжимая. Тянулась от него ко мне. И теперь каждый день, едва ли не каждый час: о, вот это надо непременно Аркаше сказать… А вот с этим Аркашка ни за что не согласится, и славно будет поспорить… Не будет никогда! Невыносимо! И страшно, как в темной комнате в детстве – куда же он ушел без меня?
– Ох вы, голубчик Адам Михайлович! – Раиса шагнула вперед и приняла мужчину в свои мягкие, пахнущие цветочным медом объятия.
Кауфман дернулся было в нервном испуге, но тут же, ослабев, поддался странной ее ласке – не любовной, не материнской… Какой?
А Раиса гладила его по голове, по плечам, по спине и самозабвенно плакала за него, сладкими долгожданными слезами, с подвывом, выплакивая миру неожиданную для самого Адама, звериную тоску по погибшему другу, которому он столько всего не успел сказать, показать, рассказать… И теперь уже никогда-а-а…
После Раиса вытерла покрасневшее лицо, убрала в сумочку промокший платок, достала свежий:
– Слезлива я, за собой знаю, потому всегда запас ношу. Вы уж простите меня, голубчик Адам Михайлович…
Адам, на дрожащих ногах, мучительно стыдясь наступившего столь странным образом облегчения, прятал глаза.
– Что ж, – сказал он наконец. – Вам, как я понимаю, надобно возможно скорее отыскать вот этого человека из письма, раненного, которого привезли в Петроград… как его фамилия?
– Камарич. Лука Евгеньевич Камарич.
– Серб, что ли? Да это не важно, главное – не Иванов и не Петров, думаю, отыщется быстро. Дата нам известна, номер Аркашиного поезда – тоже. Есть у меня один человек знакомый в госпитальном управлении…
– Спасибо вам, голубчик Адам Михайлович, спасибо! Буду молиться за вас…
– Молитесь за тех, кто на фронте, им нужнее, – сухо предложил Адам. – Вам есть где остановиться?
– Я еще не думала. Гостиницы…
– Город переполнен. Мобилизация… Я дам вам сейчас один адрес, там должны быть комнаты. Придете ко мне завтра, после семи вечера, в больницу на Мойке. Может быть, к тому времени уже удастся что-то узнать. Если нет, забросим невод пошире и будем ждать… А вы Луку Евгеньевича давно ли знаете? – не удержался Адам.
Почему-то ему казалось, что перед ним – мимолетная интрижка пылкой пышнотелой вдовушки и лихого Аркашиного приятеля-ловеласа, серьезность и даже трагизм которой придала разразившаяся война. Или ему уже хотелось, чтобы дело обстояло именно так?
– Да уж почти десять годочков, – разом развеяла все предположения Адама Раиса. – С восстания на Пресне. Я его тогда от солдатиков спасла, а он у меня бомбочку и пистолет позабыл…
– Так что ж, Лука Евгеньевич – террорист, что ли?! – нешуточно изумился Кауфман.
Меньше всего Раиса Прокопьевна была похожа на подругу революционера-бомбиста.
– Не без того, спаси его Господи… – вздохнула женщина. – Не без того… Ну так я вас больше от трудов отвлекать не стану. Пойду теперь. А завтречка приду непременно, как вы сказали…
– И зачем только ты, Адамчик, мечтаешь построить в России еще один сумасшедший дом? – пробормотал Кауфман себе под нос, проводив Раису до дверей и оставшись один. – И по каким, собственно, признакам ты, если дойдет до дела, станешь определять: кого туда сажать, а кого оставлять снаружи?
С уходом Раисы у него возникло странное ощущение. Как будто она не только ушла сама по себе, но и унесла что-то с собой. Что бы это могло быть?
Быстрый поиск, предпринятый знакомым Адама, ничего не принес. В сводных списках солдат, находящихся на излечении в петроградских госпиталях, Лука Камарич не значился. В списках умерших – тоже. Среди выписавшихся из госпиталей его фамилия также не встречалась.
– Как же это может быть? – растеряно спросила Раиса у Адама.
– И ничего удивительного, – раздраженно сказал Кауфман. – Простая неточность в списках. Российская бюрократия всегда была тупа и неповоротлива, а уж сейчас, когда ситуация меняется каждый день, огромные массы людей перемещаются туда-сюда и нужно действовать быстро… Понятно, что обычное для чиновников количество ошибок и несогласований возрастает многократно. Что ж, человек не иголка в стоге сена, будем искать дальше.
– Может быть, мне просто самой объехать все больницы?
– Это неподъемно, а главное – не нужно. На сегодняшний день в Петрограде уже имеется 68 госпиталей, где принимают раненных, и едва ли не каждый день появляются новые. Больше половины из них – маленькие частные лазареты на 10–20 коек, открытые в частных домах на средства владельцев – купцов, промышленников, даже артистов и поэтов. Вот буквально на той неделе я консультировал безногого солдата с реактивным психозом в лазарете, который основал мой старый знакомый, писатель Арсений Троицкий… Наверняка в одном из таких мест, не включенном покуда ни в какие общие списки, и находится ваш Лука Евгеньевич. В конце концов мы его непременно отыщем.
– Спасибо, спасибо, голубчик Адам Михайлович…
– Но? Я слышу это «но», Раиса Прокопьевна. Говорите!
– Что же мне покудова делать-то? Я ж не привыкла вовсе без дела, без людей…
– Почему без людей? В Петрограде три миллиона народу, не считая запасных полков. Вам мало? Осматривайте достопримечательности. Сходите в театр, послушайте оперу…
– Да, да…Театр, конечно. Днем оно еще как бы и ничего, а вот к вечеру – безотрадно в особенности. Да еще у вас тут и темнеет как бы не с утра…
– Если желаете, можете вечером оставаться со мной в лаборатории, все равно приходите каждый день новости узнавать, – резко, глядя в сторону, сказал Адам. – Только не ждите, что я буду особенно занимать вас беседой…
– Ой, спасибочки вам, голубчик Адам Михайлович! – розаном расцвела Раиса. – Не волнуйтесь, я вам и минуточки не помешаю, я ж купеческая вдова, свое место знать привыкла…
* * *
Знающая свое место купеческая вдова за несколько дней буквально преобразила жизнь Адама. И дело было вовсе не в сдобных плюшках, которыми Раиса потчевала его ровно в тот момент, когда заканчивался очередной опыт или просмотр препарата (Как она узнавала?). И не в узорах и мережках, которые она вышивала на пяльцах, уютно сидя в углу под лампой в потертом креслице. (Сначала она, чинно сложив руки на коленях, сидела на жестком стуле – других у Адама не водилось, а он сам работал на вертящемся железном табурете. И лишь потом он украдкой, оглядываясь, принес для нее кресло из больничного холла.) Удивительное преображение заключалось в том, что вопреки всем своим правилам и даже чертам характера Адам с Раисой – говорил. Говорил обо всем подряд, вперемешку, словно узник, выпущенный из одиночной камеры Петропавловской крепости. Рассказывал о своей дружбе с Аркадием Арабажиным. О том, что в этой дружбе именно его, Адама Кауфмана, все и всегда считали первым номером, замечая лишь острый и быстрый ум, но на самом деле именно Аркадий, с его гармонией неторопливого ума и любви к людям достоин был уважения и даже подражания. Чуть не впервые в жизни говорил с посторонним человеком и о своей семье – трогательно заботливой и смешной еврейской родне, частично московской, частично приехавшей из Кишинева после тамошних погромов. О мудрой бабушке Рахили. О детях – сыне и дочке. О своей заветной мечте – иметь собственную клинику нервных и психических болезней, в которой можно будет, ни с кем не сообразуясь, применять для облегчения страданий больных самые передовые из имеющихся методов и даже изобретать новые.
Раиса умела слушать. Все принимала. Иногда просто начинала тихо плакать. Адама всегда, с детства бесили женские слезы (в семье Кауфманов плакали и даже рыдали часто, охотно, напоказ). У нее – слезы казались естественными и освежающими, как летний дождь, и пахли лесными фиалками (может быть, фиалками пах весь запас Раисиных носовых платков, но Адам об этом не задумывался). Иногда ему казалось, что она плачет за него – он отчетливо помнил себя с трех лет, но даже в детстве не мог припомнить себя плачущим. Вскоре он поймал себя на том, что объясняет ей каждый этап проводимых им опытов. Она слушала и задавала вопросы, почти всегда впопад. Однажды он не выдержал и спросил с язвительной бесцеремонностью:
– Раиса Прокопьевна, неужели вы понимаете про условные рефлексы и проводимость нервно-мышечных волокон?
– Теперь понимаю, – спокойно ответила она. – Я же у Варвары Тарасовны третьего дня учебничек взяла и, пока в госпитале дежурила, половину и прочитала. Интересно, только мне лягушечек уж очень жалко…
– Вы за полдня прочли половину учебника по нейрофизиологии?!
– А что ж вы удивляетесь, голубчик Адам Михайлович? Я вообще по натуре любопытная, и в Москве всегда на лекции публичные ходила. Голубчик мой муженек меня из последнего класса гимназии замуж забрал, но на лекции завсегда отпускал. Про динозавров вот мне, помню, очень понравилось, и еще про микробов… А уж как мне Лука Евгеньевич интересно про кристаллы рассказывал – заслушаешься…
– Хм-м… – здесь наступил тот редкий случай, когда Адам не знал, что сказать. – А в каком это, позвольте спросить, госпитале вы дежурили?
– Да вот в том самом, где мы с вами в первый раз и повстречались, на Обводном канале, других-то я и не знала. Отчего нет? Красотами столичными я любоваться не обучена, да и погода не располагает. Что ж мне днями дома сидеть? В медицине я, конечно, ничего не разумею, но вот утешить кого болящего, уточку поднести, суднецо, за руку подержать, о доме поговорить, письмецо написать – это ведь тоже в лечении голубчиков солдатиков немаловажно, правда ведь?
– Угу, да, конечно, вы правы, – пробормотал Адам и поймал себя на чувстве совершенно абсурдном: он отчетливо ревновал Раису к тем раненным солдатам, которых она держала за руку и которым подносила утку, чтобы они могли помочиться.
«С ума с ней сойдешь!» – подумал он и отчего-то пожалел сам себя.
* * *
Все закончилось ранним утром в четверг. Он еще не успел толком переодеться, как Варвара Тарасовна зашла к нему в кабинет с многозначительно-участливым выражением на круглом лице:
– Ох, беда-беда…
Адам не любил чужой многозначительности, потому что сам был к ней склонен.
– У кого-то ухудшилось состояние? Что-то еще? Говорите!
– За полчаса до вас телефонировал из госпитального управления Савельев. Велел вам передать по вашему запросу, что вольнопределяющийся Камарич Лука Евгеньевич скончался от ран в тыловом санитарном поезде номер 12 по пути в Петроград 24 октября 1914 года. Сказал, кто хлопочет о нем, может прийти в управление – взять выписку и место узнать, где его похоронили…
– Черт! Черт! Черт! – прошипел Адам. – В один день с Аркашей…
Ему хотелось заорать во весь голос, заплакать и расколотить что-нибудь весомое. Он знал, что ничего этого не сделает.
– Бедная Раиса Прокопьевна… – вздохнула Варвара Тарасовна. – Она так ждала о нем вестей. И вот… Но он ведь ей не мужем приходился…она же вообще-то вдова… И вроде бы строгих правил семья, как она сама рассказывала. Вы ведь, наверное, знаете?
– Не знаю! – рявкнул Адам. – И не желаю ничего знать! Извольте приготовиться к обходу!
Раиса выслушала трагическое известие стоя, комкая в пальцах неизменный платок. В глазах – ни слезинки. Помолчала, потом глубоко поклонилась Адаму и медсестре:
– Что ж, Адам Михайлович и Варвара Тарасовна, вот и кончилось все. Спасибо вам за привет, за ласку, за хлопоты. Теперь схожу я в церковь, да в госпиталь, с солдатиками попрощаюсь, да и на вокзал…
– Раиса Прокопьевна! – воскликнула медсестра. – Да не ходите вы в госпиталь, зачем вам лишний раз душу травить!
– Доброе отношение и кошке приятно, – строго сказала Раиса. – А там небось не котята, люди лежат. Негоже так, пойду. Прощайте, не поминайте лихом. Спасибо вам еще раз. Чудесные вы люди – добрые и душевные. С вами белый свет краше.
Когда ушла, было то же ощущение – унесла с собой. Теперь Адам отчетливо знал, что именно она унесла. Легкие слезы, летний дождь, возможность говорить, быть услышанным и понятым… его душу?..
* * *
Глава 5, в которой Люша разбирается с эротическим развитием двойняшек Ати и Боти и пишет письмо Аркадию Арабажину
– Расселять их надо, Любовь Николаевна, вот что я вам скажу! – Феклуша стояла подбоченившись, с пунцовыми пятнами румянца на щеках.
Люша сидела за столом в кабинете и смотрела за окно, где неостановимо падали с посеревшего неба крупные хлопья первого, влажного снега.
Служанка поежилась. Ей показалось, что в больших прозрачных глазах хозяйки, внутри тоже идет снег. «Это отражается так! – сказала она себе. – вроде как в зеркале.»
– Кого расселять, Феклуша? Куда?
– Анну и Бориса, близнецов ваших. Нельзя им дальше в одной комнате быть, грех.
– Какой грех?! В чем? Они родные брат и сестра, им десять лет.
– То-то и оно! Второй десяток пошел. Самое время для баловства. Нешто вы, Любовь Николаевна, нашу Атьку не знаете?
– Ну что она еще натворила? – покорно спросила Люша и сплела пальцы поверх бумаг, которые она вроде бы должна была просматривать. – Сядь, расскажи.
Феклуша церемонно присела на краешек стула, но, против своего обыкновения, не кинулась сразу в рассказ. Пожевала губами, расправила на коленях фартук…
– Право, не знаю, как вам и сказать, Любовь Николаевна…
– Говори уж как-нибудь, коли взялась.
– Захожу это я к ним нынче поутру… Они-то не ожидали, а я вот щетку где-то позабыла и пошла искать. И вижу – господи, Иисусе: он-то на кровати сидит, а она перед ним на полу и знай петуха ему вылизывает…
– Ага, – вздохнула Люша. – Атька, значит, тоже экспериментирует. Только он с жуками и тараканами, а она – с братом. А Ботя что?
– Как меня увидел, вскочил, покраснел, как рак вареный. Штаны спущены, эта-то штука болтается, бо́льшенькая такая уже… А Атька сразу ластиться: мы больше не будем, это я его уговорила, ты, Феклуша, только Люшике не говори, а я за тебя все серебро перечищу, и хрусталь уксусом вымою…
– А ты?
– Ну, я думаю, что нам таких безобразиев ни с какого боку не надо! Что-то еще будет, если Александр Васильевич узнают!
– Ладно, ладно, Феклуша, ты права, я как-то не сообразила, что они по хитровским меркам взрослые уже.
– У нас тут небось не Хитровка, а приличный дом! – строптиво, но непоследовательно воскликнула служанка.
– Конечно, конечно… Придется их действительно расселить. Куда бы, как ты думаешь? Атя, допустим, пускай с Олей живет. Оля взрослая уже и спокойная, за ней заодно и присмотрит. А вот Боте надо бы отдельную комнату с большим шкафом для всех его коллекций, эксикаторов, формалина и прочего…
– В северном крыле если, – предложила Феклуша. – За бильярдной сразу комната, а к ней еще и каморочка прилагается. Если оттуда весь старый хлам вынести, и полки сделать, так можно и Ботькины коробки и жуков сушеных расставить…
– Да, да, пожалуй, Феклуша, по-твоему мы и сделаем. Скажи там Егору и Насте, что я распорядилась. А Атю с Ботей, как увидишь, пришли ко мне – я им сама объясню, они же всю жизнь вместе, наверняка будут переживать… Хотя Ботька, когда все узнает подробно, может, и не будет, сестра же его все время тормошит, а у него свои интересы… А вот Атька… да бес с ней, она вроде обмылка, изо всего вывернется…
После ухода Феклуши Люша ненадолго задумалась, глядя на все еще падающий снег, потом придвинула к себе лист бумаги и обмакнула перо в склянку с чернилами.
«Здравствуйте, милый Аркадий Андреевич!
В моем умственном и душевном устройстве, а также жизненном опыте нет ничего, что могло бы подтвердить существование «того света» в любом его оформлении. Но равным образом отсутствует и однозначно отрицательный опыт.
Почему бы нет? – ведь миллионы людей как будто бы верят в то, что на том свете счастливо встретятся с близкими. Я знаю доподлинно, что ты сам – не верил. Но разве мир спрашивает нас, как ему устроиться? Мы пришли на готовое много после третьего звонка, застали вот этот акт спектакля и уйдем задолго до финала. Много ли мы успеваем понять?
Но в любом случае: будь проклята эта война и все те, кто ее устроил!
Я сейчас пишу еще и потому, что привыкла обращаться к тебе в минуты тревог. А ты ведь и прежде не особенно баловал меня ответами на мои письма. Что ж теперь… Все рады обманывать себя, вот и я могу думать, что тебе просто недосуг, или ты снова что-то вообразил себе и не считаешь возможным…
Я ведь опять живу с Александром. Моим как бы мужем. Он вернулся в Синие Ключи, и живет тут, и занимается хозяйством. Отношения у нас с ним – ты удивишься! – вовсе даже не плохие. Он занимается своим, я – своим, все вместе даже недурно выходит. Единственный камень преткновения в том, что воспитанников моих (всех вместе и по отдельности) он категорически не жалует. Они ему, само собой, платят полной и такой же категорической взаимностью. Ботя Александра обычно игнорирует, но иногда вдруг (всегда неуместно) выступает с обличениями его некомпетентности по какому-нибудь естественно-научному вопросу. Атя интригует среди прислуги. Кашпарек смотрит зверенышем и окликается на все через свою марионетку, которую Александр, по-моему, ненавидит личностно, как живое, отдельное от мальчишки-хозяина существо. Оля Александра избегает, причем выглядит это почему-то крайне демонстративно, почти как в романах господина Тургенева: дуновение, топоток, летящий край косынки, ветер с веранды, запах сирени, незакрытая дверь, отголоски… оски… оски… «Почти» потому, что у Тургенева все это получается глупо-аристократично, а в Олином «белошвейкином» исполнении приобретает какой-то оттенок вульгарности, словами не описываемый, но ощущаемый весьма отчетливо. А Владимир при первой возможности попросту гадит Александру в сапоги. А потом Атя (лицемерно до последней степени):
– Ах, ах, Александр Васильевич, опять мы за этим паршивцем не уследили! Ах, ах, какая неприятность! Говно-с! В хозяйских сапогах… Как представить… мало того, что наложил, так он там еще и хвостиком своим паскудным… туда-сюда, туда-сюда…
Знает ведь, мерзавка, что Александр брезглив и обладает живым воображением… Приходится мне кидаться, чтоб он не придушил ее ненароком.
Капочка все это видит, конечно, и страшно переживает – она же у нас миротворица и всех со всеми хочет помирить и задружить. Но ума в этом деле пока особенного не проявляет. Недавно пыталась задружить козу Люську с собакой Жуликом – после ей на лоб пришлось шов накладывать. Ветеринар наложил вроде неплохо (ты бы лучше сделал, я знаю, у тебя руки добрые), но шрам все равно останется, а к лицу ли девице? И когда Капитолина сказала, что бык Эдвард такой свирепый от одиночества (ты ж знаешь, он на своем долгом веку двух человек убил, и еще трех покалечил), а был бы у него настоящий друг, он бы и подобрел – я на всякий случай настрого запретила ее в коровник пускать.
Печаль моя – рожая жеребенка, от сердечной недостаточности (так ветеринар сказал) померла моя старая лошадь Голубка. Для меня она была даже не как человек, а еще прежде всех человеков в моей жизни. Я с ней сообщалась вовсю тогда, когда людей еще и понимать не умела, и говорить с ними толком не могла. Свой лошадиный век Голубка прожила сполна, но я все одно – как в кадушку опущенная. Впрочем, она ушла, да не совсем, жеребенок как по заказу – кобылка беленькая, один в один – Голубка. Назвала Белкой, сама пою из соски молоком. Сначала тревожились за нее, а теперь вроде видно уже – выживет без мамки.
Забавно, что единственный у нас ребенок, к которому Александр относится без предвзятости – Грунькин Агафон. Учитывая, что Груню он всегда терпеть не мог, да и Агафонова отца, Степана, не слишком жаловал – оно выходит как бы и странно, но не совсем. Как я по смутным слухам (от Груньки ничего толком не добьешься, а Алекса я, чтобы не спугнуть, расспрашивать не стала) поняла, Александр чуть не присутствовал при рождении Агафона, и потому, видимо, психически назначил себя кем-то вроде восприемника. Увидев мальчишку, непременно сделает ему козу, и уж несколько раз заводил разговор: как бы обеспечить Агафону развитие, коли у него отца нет, мать глуха, а сам он слышит и, стало быть, говорить может нормально. Я его уверила, что все хорошо, и в том не лукавила, потому что в нашем общем таборе Агафон развивается вполне в соответствии с возрастом, хорошо (куда лучше Владимира, который его старше) говорит и понимает все совершенно.
Кстати об отцах, которые материя вроде бы для детского обеспечения и вправду необходимая. Как-то у нас тут с ними не очень складывается. Какая-то моя личная нелепость? Особенность Синих Ключей?
Хотя мы и обговорили это не раз, Александр то и дело не удерживается, и начинает перетягивать Капочку на свою сторону, недвусмысленно предлагая ей выбирать между «по-маминому» или «по-папиному». Капочка, душою привязанная не только (и, может быть, даже не столько) ко мне лично, но и ко всему тесно завязанному на мне усадебному балагану, и одновременно желая угодить отцу, рвется душою напополам, чахнет, чешется и прямо на глазах покрывается какими-то корочками и коростами.
Дальше. Филипп и Владимир. Мой сумасшедший братец и хвостатый племянник. О!
Владимир приблизительно половину времени проводит в усадьбе, но через некоторое время неизменно просится в лес, на лесникову заимку, к отцу и деду. Если к его просьбе не прислушаться, начинает хандрить, потом перестает есть и разговаривать, сидит на одном месте, раскачивается и смотрит в одну точку. Отвозим его в лес, там он сразу оживает.
– Володя, а «они» с тобой разговаривают? – Филипп, встревожено, сыну. Сам он голосов после лечения у Адама почти не слышит, но помнит прекрасно, как это было.
– Конечно, папа! – Владимир отцу.
– Пугают? – отец весь исполнен сочувствия, готов отдать сыну всех деревянных лошадок и любимые книжки с картинками (Владимир в игрушки не играет совсем, ломает их, как и я когда-то. Чтение вслух, впрочем, слушает охотно).
– Неть! Неть! Что ты, папа! – Владимир лучится улыбкой и (уверена!) благожелательно виляет хвостом внутри просторных штанишек. – Я сам «их» пужаю! Они меня боятся!
Филипп горд и счастлив, делится со мной своей отцовской гордостью. Сын еще такой маленький, но уже могучий, всех победил. Я спрашиваю у Владимира:
– Кто такие «они»? Где?
– Там, там, там! – говорит малыш, водит ручкой вокруг (она – увы! – осталась после переломов немного кривой, но вполне работает). – Они же холёсии, чего папа их боится? Смотри…
Тут с дерева слетает птичка, садится ему на голову. Прибегает белка, лезет в карман. По тропинке к нам идет важная осенняя жаба с интеллигентным лицом.
– Это те, которых ты видись, – объясняет Владимир. – А те, которых я визю, они вон там сидят. Это девки Синеглазки лесные слуги…
– Хорошо, хорошо, отпусти их теперь, – говорю я. – Когда подрастешь…
– Когда подрасту, буду кольдуном, как бабуська Липа. Папу раскольдую и всех. И еще накольдую, чтоб на войне не убивали…
Что мне думать? Везти его уже к Адаму или погодить еще?
Еще об отцах.
Грунька про Степку не говорит и как будто не вспоминает, вполне довольная своим одиноко-материнским положением. Мне даже обидно за него иногда делается: что ж, она сама с ним все чуть не силком устроила, а после – как ненужную ветошь: с глаз долой, из сердца вон? Я сама-то за Степкой чуть не каждый день скучаю, да мы ведь и выросли вместе, и жизнь он мне тогда на пожаре спас, и по хозяйству мне ему всегда проще всех объяснить было, потому как слов не нужно почти – он меня еще до слов понимать умел. Знать бы, где он, как… да, может, тоже погиб уже давно…
Будь проклята война!
За что Россия воюет, кто бы мне объяснил?! У нас в Черемошне, и в Торбеевке, и в Песках уже полно вдов в черных платках, и сирот соответственно – что этим крестьянкам Босфор и Дарданеллы? За каким хреном им сдался Константинополь, в котором нынче турки, а прежде жили римляне, греки и еще черт знает кто?!! Им всем нужен ихний живой муж, отец их детей, чтобы пахал землю, косил луг, ел за столом большой ложкой и валял их на перине… Будь проклята!
В газетах пишут какую-то шуршащую чушь. В журналах, там, где претензия на какой-то анализ – чушь, шуршащая высокомерно…
Но все не зря. В каком-то нелепом журнале, среди подборок непонятных мне или откровенно бесноватых стихов вдруг – стихотворение женщины по имени Марина, как будто написанное – за меня:
«Осыпались листья над Вашей могилой
И пахнет зимой,
Послушайте, мертвый, послушайте, милый:
Вы все-таки мой.
Смеетесь! – в блаженной крылатке дорожной.
Луна высока.
Мой – так несомненно и так непреложно,
Как эта рука.
Я Вас целовала, я Вам колдовала,
Смеюсь над загробною тьмой!
Я смерти не верю, я жду Вас с вокзала –
Домой.
Пусть листья осыпались, смыты и стерты,
На траурных лентах слова,
И если для целого мира Вы мертвый,
Я тоже – мертва.
Я вижу, я чувствую – чую Вас всюду,
Что ленты от Ваших венков!
Я Вас не забыла и Вас не забуду –
Во веки веков!
Таких обещаний я знаю бесцельность,
Я знаю тщету -
Письмо в бесконечность,
Письмо в беспредельность,
Письмо в пустоту…»
(стихи М.Цветаевой, написаны 4 октября 1914 года – прим. авт.)
Я жду тебя с вокзала. Будь проклята! Боже мой…»
– Люшика! Люшика! Люшика! Она все тебе наврала! Да! Это совсем не то! Совсем! Но мы все равно больше не будем! – Атя – легкая и хрупкая, как стрекоза, с быстрыми хитрыми глазками орехового цвета, бровями домиком и вечной, неизвестно что означающей полуулыбкой. Обняла, обхватила тонкими руками, прижалась щекой к рукаву платья. Муслиновая занавеска затанцевала от движения воздуха, открыв бледный свет в окне, где падал мокрый тяжелый снег пополам с дождем.
– Не будете, – согласилась Люша. – Потому что ты отныне станешь с Олей жить, а Ботька – со своим микроскопом.
Атю словно ветром отнесло на середину комнаты. Топнула ногой:
– Не хочу с Олей!
– Почему?
– Да она как марля, если ее намочить и выжать – белая и никудышная. Не хочу! Если хочешь Ботьку отселить, давай я тогда с Кашпареком буду жить. Он, как разозлится, за волосья дерет, но с евонной куклой хоть интересно…
– Вот сейчас! – рассмеялась Люша. – Могу себе представить… Не будем пугать Кашпарека, он у нас и так нервный.
– А я? – с обидой спросила Атя.
– А ты – хитровская порода – хоть об дорогу бей!
Атин взгляд из-под насупленных бровей облетел комнату. Все в ней было свое, обжитое до последнего заусенца. Лошади и собаки на большой картине, подхваченный лентами вышитый полог, лампадка под иконой, которую никогда не забывала зажечь Феклуша, еловые шишки и кисти рябины, красиво уложенные между оконных рам… Все – свое, но как будто уже чужое. Прошедшее.
Глава 6 В которой с разных сторон показана фронтовая жизнь наших героев
Приветствую тебя, дорогой отец!
Пишет тебе твой сын Валентин из расположения Белостокского полка.
Спешу сообщить тебе и маме, что я жив и здоров, а также бодр духом и горд своим личным свидетельством Истории. Это поистине Великая битва. Сбываются все надежды России.
Ты знаешь: я люблю войну за ее трагический воздух. Ибо только в ней и становятся мучительно и прекрасно ясны такие подзабытые в сытых салонах и пыльной библиотечной относительности вещи, как честь, героизм, смерть, самообуздание и самообладание.
Однако я помню из твоего предыдущего письма, отец, что тебя не слишком занимает моя жизненная философия, и лишь в подробностях и фактах фронтовой жизни ты готов признать завлекательность моего рассказа. Изволь же.
Восточная Пруссия – житница Германии. Вступив в нее, наши войска нашли там изобилие благ земных. Солдаты из крестьян преуморительно закурили сигары, со своеобразной грацией держат их темными расплющенными пальцами и закатывают от удивления и наслаждения глаза, как дамы полусвета. В огромном, просто невероятном количестве гибнут гуси, утки, индюки, свиньи. В своем полку я борюсь с мародерством неукоснительно и сурово, но иногда даже и меня пробирает смех, потому что дело доходит до ужасных курьезов. Третьего дня я по обязанности подошел к ротному котлу, велел его открыть и был неприятно удивлен, обнаружив в нем какую-то темно-бурую жидкость совершенно несъедобного вида. «Что это у тебя?!» – спрашиваю кашевара. «Так что борщ, ваше благородие!» – отвечает солдат. – «Что ты туда положил?» – «Так что свинины, гуся и утку». – «А почему ж он у тебя такой черный вышел?» – «Так что, ваше благородие, я еще подложил два фунта шоколаду и два фунта какао для навару». – «Ты с ума сошел, все испортил!» – «Никак нет, ваше благородие, уж оченно скусно! И ребята хвалят. Да вот испробуйте сами!» Я, конечно, от пробы отказался…
Рядом с этим забавным и ничтожным в сущности эпизодом, вот тебе важнейшее событие в моей жизни – вместе с командиром дивизиона недавно мне довелось побывать в ставке в Барановичах. Там очень спокойно и витает патриархально-пасторальный дух (я сначала тому удивился, а потом подумал: так и должно быть! Вот это именно домашнее спокойствие, в противоположность немецкой бесчеловечности, как раз и обнажает явственно мирный нрав славянства и вместе с тем нашу неколебимую непобедимость). Доцветают чертополох и поповник среди пожухшей травы, крякают в окрестных прудах утки, собираясь к отлету. Запах углей из самовара (постоянно стоит на столе и парит) и дождя – из открытой форточки. Ко всем притолокам прибиты привлекающие внимание белые бумажки – чтобы наш крайне высокорослый Главнокомандующий не стукался об них головой. Мне посчастливилось обменяться с великим князем двумя фразами. «Капитан, вы ведь из действующей армии? Что скажете о духе войск?» – спросил Николай Николаевич, увидав меня на небольшом плацу, где я, чтобы ни на минуту не терять физической формы в дни испытаний, упражнялся в вольтижировке. «Он превосходен, ваше сиятельство!» – ответил я. – «Благодарю,» – добро улыбнулся мне Великий князь и отправился стрелять уток к обеду.
Австрийцы – несложный противник, но поражает организация немцев, о которой рассказывал мне со слов разведки полковник Отрадный.
Начав войну и наступая в…, немецкие войска, погруженные в железнодорожные составы, ехали через мост. Строго каждые десять минут – состав. И так – две недели! Дисциплина и организация, которой можно лишь позавидовать и пытаться подражать.
Полковник Отрадный исполнен желчи, ты бы, как врач, сказал, что причиной тому – явственные у него проблемы с пищеварением. У нас не хватает паровозов, а царице каждый день везут из Крыма в будуар свежие розы. Считается, что армия в достатке снабжена винтовками, револьверами и патронами, но винтовки старого типа, с тупой пулей, обладающей плохими баллистическими свойствами. Генеральный штаб годами избавлялся от своих неспособных членов, сплавляя их командовать полками, бригадами и дивизиями, и назад в свою среду уже не принимал, вместо того чтобы правдиво аттестовать их непригодными к службе. Запасные, прошедшие японскую войну и наглотавшиеся революционных настроений, фельдфебеля называют «шкурой» и презирают, и даже перед командиром полка ведут себя развязно и вызывающе. Немцы непременно победят нас благодаря совершенству своей военной машины, таланту их стратегов и знаменитой прусской дисциплине. Я посоветовал Отрадному застрелиться, не дожидаясь всех этих печальных событий. Он сказал, что в мирное время непременно вызвал бы меня. Я вежливо ответил, что всегда к его услугам, но не лучше ли в нынешнее время послужить своей жизнью нуждам России?
– А вы точно знаете, Валентин Юрьевич, что ей нынче нужно? – вяло поинтересовался Отрадный.
– Да, – ответил я. – России нужна победа. И она у нее будет.
На сем пока заканчиваю, желаю вам с мамой крепкого здоровья и всяческого благополучия. Остаюсь ваш преданный сын
Валентин
Восточная Пруссия Август 1914 года
– Так что ентого надобно вам непременно различать, а иначе враз с панталыку собьют, – пожилой солдат поскреб толстым желтым ногтем пятнышко на прикладе винтовки, плюнул и вытер ветошью. – Враги бывают внешние и унутренние. Враг внешний – это австрияк, немец и германец, а враг унутренний – это жиды, скубенты и евреи. Прежде все свое место знали, и таких безобразиев не было. Вот, помню, у нас под Мукденом…
Трое молодых солдат, раздевшись до рубах, слушали ветерана русско-японской войны. Двое согласно и методично искали и давили вшей в снятых гимнастерках. Степан Егоров жевал травинку и смотрел в небо. В небе громоздились облака, похожие на стога золотого сена, а иные вроде бы напоминали избы зимой под снегом… или одуванчиковую поляну… собачонку, которая свой хвост ловит… лошадиную морду… или бабу в полушалке… По этим сравнениям, если бы вдруг кому понадобилось, легко было бы угадать все мысли солдата. Но до солдатских мыслей, как и всегда на войне, никому не было дела. На войне важны только мысли военачальников, да и то не все сплошь, а лишь о том, как бы половчее и побыстрее убить побольше живых людей…
Желтая речушка медленно текла в глинистых берегах. В камышах посвистывали кулики и бежала, бежала на одном месте против течения стайка голенастых водомерок.
Вдалеке что-то вяло погромыхивало. Не то гроза, не то пушки.
– Ты – раб! – презрительно бросил разглагольствующему ветерану проходящий мимо длинноносый солдат с темными блестящими глазами. – Рабом всю жизнь прожил, и сдохнешь рабом среди вшей в окопах.
Пока ветеран, прерванный столь бесцеремонным образом, находился с ответом, один из молодых со щелчком раздавил ногтем очередную вошь и спросил черноглазого:
– А как же по-твоему надо? Не воевать, что ли? Пускай приходят и нашу землю берут?
– Много ли у тебя своей земли-то? – серьезно спросил черноглазый. – Пять десятин, шесть на всех? А у помещика вашего? А сколько ртов в семье? А если ты после войны выделиться захочешь? – и не дожидаясь ответа, продолжил. – Неужто вам до сей поры непонятно, что насупротив нас в окопах такие же крестьяне сидят, только германские, австрийские, румынские. И земли у них столько же, и так же помещики на их горбу ездят…За ради чего нам убивать друг друга? Но раз уж все равно винтовки народам раздали, так ясно, как день, что надо теперь обернуть оружие против тех, кто всю эту войну затеял, и сковырнуть их, как вон ты вшей давишь…
– А дальше чего ж будет? – заинтересованно спросил молодой солдат.
– А дальше замириться всем трудящимся людям промеж собой, поехать домой к родителям и своей дивчине, поделить землю по справедливости и растить на ней хлеб и детишек, – негромко и задушевно произнес черноглазый, рукавом стер под длинной ноздрей присохшую соплю и пошел дальше, по своим делам.
– Оно бы так и ладно вышло, да только непонятно… – протянул вслед ему молодой солдат.
– Вот! Что я вам говорил! – возвысил голос ветеран Мукдена. – Зараз все в одном – доподлинный жид, скубент, и еврей тоже наверняка.
– Большевик он, из второй роты, – возразил один из молодых. – Кузьмой кличут.
– Так вот это они самые и есть, как я сказал. Все сплошь, плюнуть некуда, – утвердил ветеран. – От них вся смута идет.
– А что патронов нет и снарядов у артиллерии – это тоже скубенты с большевиками виноваты? – зло бросил молчавший доселе солдат. – Правду говорят: рыба с головы гниет…
Степка выплюнул изжеванную травинку и уточнил:
– Жабры у ней поперву гниют, которыми она дышать приспособлена, – помолчал и закончил. – Душно вот теперь… Дышать нечем…
Не ожидая ответа на свои слова, снова стал смотреть на небо. Все уж переговорено, ничего нового не скажут.
А в небе все менялось ежеминутно. Вот, уже исчезла корова с отвисшим выменем, и стог сена вытянулся вверх, словно занялся розово-золотистым бездымным пламенем, а баба в платке стала еще толще, будто бы на сносях…
«Агафон небось нынче уже болтает вовсю, – вспомнил Степка. – Что там малые-то бормочут? Зовет: мамка, мамка! А Грунька и не слышит. Он тогда: папка, папка! Кто откликнется?.. Никто. Родного отца нет, он на чужой стороне вшей давит…А иного – не будет! – с какой-то мстительной радостью подумал Степан. – Никогда! Кто ж еще на нее, глухую уродину, польстится?»
Вдалеке снова громыхнуло, и было уже ясно, что это – точно, пушки. Канонада. Белые облачка, не похожие ни на коров, ни на бабу в платке, вспухали над дальними горами. Восьмая германская армия наступала неторопливо и методично. Пройдет совсем немного времени – и здесь, на берегу речки, другие солдаты станут рассуждать о том же самом, только на немецком языке.
* * *
Глава 7. В которой Луиза Гвиечелли показывает фокусы в сумасшедшем доме, Глэдис Макдауэлл проводит ночь в необычном обществе, а Атя с Ботей думают о будущем
Алле-оп! – скомандовала худая носатая девушка, одетая в высокие сапоги, мужские бриджи и белую кофту с пышным, явно самодельным жабо. Поверх кофты был накинут темно-синий плащ, сделанный из пикейного одеяла.
Из высокой кухонной кастрюли, стоящей на крашенном белой краской столике, вылетел сизый голубь. К его лапке была кокетливо привязана красная ленточка.
– А-а-ах! – дружно ахнули собравшиеся.
Кто-то свистнул, кто-то зааплодировал.
– Браво! – крикнул из кресла на колесах плешивый старик и застучал об пол клюкой.
– Браво! Браво! Бис! – весело брызгая слюнями, шепеляво подхватили трое молодых мужчин, сидящих в ряд на обтянутой дерматином кушетке.
Средних лет медсестра подошла и по очереди вытерла им лица полотенцем.
Луиза раскланялась и принялась собирать немудреный, полностью изготовленный ею самой реквизит. Фокусы в сумасшедшем доме на сегодня закончились. Всех больных ждал ужин, водные процедуры и отход ко сну.
– Луиза, ты как всегда великолепна, – похвалил девушку Адам Кауфман. – Я видел уже много раз, но, как ни стараюсь, не могу разгадать ни одного твоего секрета. Куда девается тот цветок в горшке и откуда в кастрюле берется голубь?.. Луиза!..
Девушка, не глядя на психиатра и как будто не слыша его, продолжала свое дело – смотала ленты и начала упаковывать в плотную бумагу два небольших зеркала.
– … Ну, хорошо – Екатерина! Теперь ты меня слышишь?
– Разумеется, Адам Михайлович, – спокойно откликнулась Луиза, которая зачем-то неукоснительно требовала от всего больничного персонала, чтобы ее называли исключительно партийной кличкой. – Скажите, когда меня выпустят отсюда? Я чувствую, что еще немного, и я здесь действительно рехнусь…
– В каземат Петропавловской крепости – хоть сейчас, – усмехнулся Адам. – Со всеми прочими вариантами придется обождать. Ты же знаешь, каких трудов и денег стоило твоим родным перевести тебя сюда из тюремной больницы…
– А нельзя ли в ссылку? – задумчиво спросила Луиза. – В принципе, я слышала о Сибири немало хорошего…
– Увы, Сибирь не в моей компетенции. И слава Богу…
– Куда угодно! Почему я не мужчина? Будь так, могла бы пойти на фронт…
– Не обольщайся: нашим выпускникам не дают в руки оружие.
– Я так надеялась, что они устроят мне побег. А они, похоже, обо мне просто забыли…
– «Они» – это террористы из вашей группы? Ножовка в пироге с капустой, подпиленная решетка, спуск по стене на разорванных простынях? Екатерина, тебе уже достаточно лет, чтобы научиться отличать действительность от романных фантазий.
– А где, собственно, я могла приобрести этот важный навык? – язвительно осведомилась девушка. – Домашнее воспитание между двух роялей, боевая группа эсеров, тюрьма, сумасшедший дом – вот вам все без исключения этапы моей биографии. Почти идеальный набор для формирования реалистического взгляда на мир, не правда ли?
– В общем, ты права, – подумав, согласился Адам. – Тем более, что сейчас и в реальном-то мире творятся какие-то совершенно нереальные вещи… Наполеон Начинкин сказал мне, что ты готовишь новый фокус с исчезновением. Это правда?
– У нас в партии его бы уже прикончили, чтоб не выдавал секретов, – равнодушно сказала Луиза. – А здесь я просто пошлю его к черту. Вместо него возьму помогать мне Ворона и Македонского. Один каркает, другой боится убийц, но оба хоть не болтают…
* * *
В приемной оба подоконника и большая цветочная стойка уставлены горшками с растениями, большей частью в цвету. Варвара Тарасовна разводила цветы всюду, где бы ни обосновывалась, свято уверенная, что в процессе лечения скорбных духом природная красота – первое дело. Лимонное деревце роняло душистые зеленоватые лепестки на учетные карточки, которые помощница доктора Кауфмана вдумчиво раскладывала на письменном столе.
– Варвара Тарасовна, я тревожусь за Луизу. Ее дух слабеет медленно, но неуклонно. Она родом из очень большой и дружной семьи. Ей не хватает обыкновенного человеческого общения. Брат часто навещает ее?
– Альберт Львович? Да нет, у него же вечно дела… Хорошо, если раз в неделю заглянет на часик-другой. А с его женой Лиза сама общаться отказывается… Прежде она все ждала кого-то…
– Террористов?
– Нет, женщину какую-то. Сначала так уверенно мне говорила: она непременно за мной придет и меня вытащит. Потом начала, вроде, сомневаться. Сидит, бывало, вечером, смотрит в темное стекло и головой качает: когда же она меня заберет? Когда же она меня заберет отсюда? А теперь-то и вовсе сникла, разуверилась…
– Может быть, мать?..
– Нет, точно нет. Родителей Лиза вовсе не вспоминает.
– Тогда – ее кузина Камилла Гвиечелли. Они были очень близки. Камилла умерла родами, когда Луиза была в тюрьме, но она, быть может, не верит?.. Или призывала ее забрать с собой – на тот свет?
– Нет, Адам Михайлович, другое имя, не Камилла…
– Луиза называла имя?
– Так-то вслух не называла, но на бумажках писала – вроде заговоров каких-то, что ли… А потом стихи еще…
– Стихи?
– Ну да, Луиза же у нас талант – не только фокусы показывает, но и стихи сочиняет. Вы не знали, что ли? С Пушкиным нашим из третьей палаты не сравнить, конечно (он ведь до болезни-то в журналах печатался), и даже Байрон из первой получше будет, но все равно складно… Да где-то у меня здесь в шкафчике было… Сейчас, сейчас… Это письма в Римский сенат… это Конституция российских народов от пятой и восьмой палат…это от Наполеона – план раздела мира после поражения Центральных держав… А вот, я же говорила – нашла! Прочтите…
Адам развернул вдвое сложенный листок и прочел:
В тихий полночный час Опять и опять, заново Я призываю Вас, Люша Розанова. Звезды в ночи горят Мильонов, быть может, двести, Я не могу понять, Почему мы не вместе. В профиль или в анфас, Кого я теперь обманываю? Я полюбила Вас, Люша Розанова. Ваши пути на звезду, Что светит в зимнем окне, Вам наплевать, что я жду, Забыли Вы обо мне. Слезы из вещих глаз, Навек в пустоте оставлена, – Я проклинаю Вас, Люша Розанова.Закончив читать, пробежал глазами еще раз и, аккуратно сложив, убрал листок в карман.
– Господи, вот случай, вот случай… – пробормотал Адам себе под нос и закончил громко. – Варвара Тарасовна, так случилось, что я хорошо знаю Люшу Розанову. Думаю, что следует показать ей эти стихи.
* * *
– Война мне физически неприятна. Как фальшивый мотив, или карточное жульничество, или жужжание навозной мухи под кастрюлей.
Война как-то ускоряет все. Не успеешь с кем-нибудь разговориться, поспорить, глядь – он уж на войне, да там уже и убит, чего доброго… Конечно, надо признать, что в жизни и без войны все то же самое: только поймешь, чего тебе старшие говорили, захочешь уже согласиться, поблагодарить, а они – глядь, уже и умерли все. Да и тебе в общем-то уже скоро… Когда я думаю о том, что в моей Америке уже давно умерли большинство из тех, кого я знала – взрослыми, умными, сильными… это грустно, но закономерно. Но война, повторюсь, все как-то неприятно ускоряет.
Крохотная комната в мансарде – косой потолок, тканый ковер с козочками, водопадом и альпийскими домиками, на широком подоконнике вперемешку горшки с фиалками, реквизит (шапокляк с бантом, платки, сломанное блюдо с фальшивым цыпленком, веер из бумажных цветов), надкусанное печенье, свежий журнал «Нива», наспех заложенный рожком для обуви… Островок безалаберного уюта, который все последние годы казался еще и островом надежности, а теперь вдруг сделался тем, что он есть: кучкой цветного мусора, прибитой ветром к чьей-то глухой стене. Хозяйка, Глэдис Макдауэлл, говорит и ходит от дивана к стене – убирает за ситцевую занавеску сценические костюмы, сваленные грудой, чтобы гостье было на чем расположиться. Впрочем, гостье вполне хватает небольшого угла дивана, она и сама невелика.
– В нашем ресторане сейчас является много стремительно и неправедно разбогатевших на войне подрядчиков. Кутят напропалую и все время испуганно оглядываются. На кого? Как у вас говорят: на воре и шапка горит… Может, как выпьют и ослабят запоры на своем сундучно-накопительном разуме, к ним невидимо приходят души солдат, убитых или умерших из-за некачественных шинелей, сапог, еды, боеприпасов?
А что делается у тебя, Крошка Люша? Что твой муж, детки?
– У меня все по-прежнему. Детки выкаблучиваются кто как может. Александр ходит в сапогах и лысеет со лба. Голубкина дочка Белка таскается за мной как большая собака, точь в точь мать – это греет мне зад, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Расскажи мне еще про хоровых цыган, они меня прогнали, но я, как ни странно, по ним скучаю. Даже во сне иногда вижу, как танцую и пою в хоре… Музыка снится… Что там Яша? Манита, Вера? С кем я там еще зналась…
– Манита… Ты разве в газетах не читала? – Скандал был изрядный.
– Пропустила. Что с ней?
– Офицеры позвали хор в кабинет, потом всех отпустили, а Маниту попросили присесть к столу. Она красавица стала, тут надо признать – губы рубиновые, румянец персиковый, глаза черные с золотом… В общем, час проходит, другой пошел… Отец Манитин сидел, по-русски говорят: как на иголках, потом стал стучать в дверь. Офицер его впустил. Отец увидел Маниту с бокалом вина и велел ей убираться. Офицер был уж сильно пьян, взбеленился, выхватил пистолет и застрелил цыгана наповал…
– Вот сволочь! – воскликнула Люша. – И бедная Манита…
– Суд был, отправили офицера на фронт, в действующую армию…
(описан реальный случай, произошедший в одном из московских хоров в 1914 году – прим. авт.) А у меня через твоих цыган и вовсе диковинная встреча вышла…
– Расскажи!
– Карну Васильевну помнишь?
– Конечно! Жена Яши. Красавица, на мой вкус, хоть и в годах.
– Ну вот. Месяца полтора назад, во втором часу ночи, в ресторане (вся программа закончилась, я уж разгримировываться села), вдруг прибегает Карна ко мне и говорит: «Глэдис, душечка, не спрашивай ничего, а только пойдем сейчас к нам «в табор»». Ну что ж, не спрашивай, так не спрашивай, я подхватилась – пошли. Сама знаешь, до их дома – минут семь пешком, если через Петровский парк, по «аллее вздохов» идти. Так мы, стало быть, идем себе, а мимо – лихачи, «ваньки» с официантами, закусками, вином, фруктами, посудой. Чтобы, значит, к приезду гостей уже стол был накрыт. Но кого же ждем? Карна молчит, я не спрашиваю.
Пришли.
Хоровые расположились в гостиной, официанты в столовой суетятся, я к бабушке их цыганской пошла, чаю с ней выпить. Люблю ее послушать, хоть она и жалуется вечно… – Крупная и тяжелая Глэдис вдруг удивительным образом преобразилась в маленькую высохшую старушку, зябким движением запахнула на груди несуществующую шаль и, посасывая воображаемую трубочку, шамкающим голосом продолжила. – «Вот живу в Москве… И деньги есть, и забот никаких… А все табор снится. И так мне хорошо, так сладко! Песни раздольные, подколесные поют, дымком костровым попахивает… Никаких духов, декалонов не надо! И там цыгане, и тут цыгане, да не те… Здесь о гостях да «лапках» (индивидуальное подношение гостя цыганке – прим. авт.) без конца толкуют, а там люди со степью, с лесом, с дорогой душами срослись и промеж собой тоже – одна душа в другой петь способна…»
Стало быть, гоняем мы вот так вот со старухой за беседой чаи, вдруг цыганенок прибежал: тетя Глэдис, мама вас скоренько кличут!
Вышла. Гляжу – батюшки светы! – у входа в гостевой зал стоят два высоченных жандарма и на меня косятся. Я уж было подумала, что арестовали кого…
Тут как раз хор глянул:
«Григорий Ефимович, Ай да молодец! Изволил ты пожаловать К цыганам наконец! С твоим-то покровительством И мы не пропадем – Да чарочку заздравную Тебе мы поднесем!»Вхожу в зал, присаживаюсь на козетке в уголочек. Хор выстроился у балконной двери. Яша – впереди всех, с гитарой. За столом военные сидят – молчат, тянутся, как аршин проглотили. Посреди всех, как кучер на козлах – сгорбившись, руки на коленях, сидит мужик – косоворотка с васильками, в поддевке, в сапогах. Усы вислые, волосы гладкие и блестят, как у морских котов из цирка. Скучно мужику и маятно – сразу видно. Перепил, может, или просто устал – время-то уже к утру, как-никак.
Распутин! – про которого говорят, что он в России чуть ли не главнее царя. Ух как интересно!
Карна поет:
«Выпьем мы за Гришу, Гришу дорогого – Свет еще не видел Милого такого.Поднесла ему на перевернутой тарелке бокал шампанского.
Хор гремит:
«Пей до дна!
Пей до дна!
Пей до дна!»
Он выпил нехотя. Яша ударил по струнам, все запели, заплясали, захлопали в ладоши, юбками завертели… Ну сама знаешь, как это у цыган бывает – словно цветной дождь по крыше стучит или конфетти горстями сыплют…
«Гришу дорогого» все это явно нимало не занимает – привык, наскучило. Сидит, зыркает глазами, даже не ест не пьет. Карна подошла ко мне, говорит, задыхаясь, чуть не плача:
– Глэдис, душечка, чего ему от нас надо-то? Чем не угодили?
– Да ничего, – отвечаю. – Ему ничего уже от вас не надо – в том и кручина его.
– Может, ты…?
– Ну, вели моих цыплят принести.
Я приготовилась, пожонглировала, как водится, цыплятами на тарелках. Распутин выпрямился немного, велел одного цыпленка ему на пробу подать (я того ждала и уж наизготовку была – подменить), отломил половину – съел, мне показалось, чуть не с косточками.
Карна глазищи свои цыганские таращит:
– Глэдис, прошу!
Я мозгами пораскинула: мужик он и есть мужик, если ему цыганские пляски нынче не в радость, может, американские подойдут?
Хорошо, что цыганские гитары ко всему могут подстроиться, да и бубны у них всегда рядом…
Скоро, честно тебе скажу, стало мне на «дорогого Гришу» в достаточной мере наплевать. Вспомнила я молодость, как в мужском костюме, да еще и под негра загримированная танцевала – кэйкуок, buck-and-wing и прочее такое же.
Распутин спрашивает:
– Где же это такое танцуют? Расскажи, добрая женщина…
Я говорю:
– Раньше негры-рабы на плантациях танцевали, вроде соревнования у них было, а потом – в американских, можно сказать, трактирах. От ирландцев еще добавилось, моих предков, когда они в Америку бежали от своей войны. Вот это движение называется «змеиные бедра», это – «каучуковые ноги», это – «чесотка», это – «лихорадка». Не желаете ли попробовать?
Тут Распутин рассмеялся, положил ладони на стол:
– «Чесотка» – эка, а? А по-нашему можешь?
Я Яше мигнула, он чуть пошевелил гитарой и хор также медленно и чуть слышно запел:
– Барыня, барыня, Сударыня, барыня…Постепенно темп все быстрее, звук все громче. Зал полон песней, у цыган рвутся струны. Военные хлопают, даже жандармы у двери зашевелились, заулыбались.
Я схватила салфетку со стола и пошла в пляс по-русски, взмахивая ею. Распутин тут же что-то, окая, прокричал, тряхнул плечами и пустился в пляс. Пляшет он хорошо – я уж могу судить, приседал ловко, хлопал по голенищам. Все вокруг нас ухало, хлопало, подкрикивало… Сам же пляску и оборвал.
Потом еще ходил звонить, вроде во дворец. Цыганята подслушивали, говорили: называл императрицу «мамой», царя «папой», а цесаревича «Олешей». Потом распахнул поддевку, хвастался всем, что васильки на рубашке «сама вышивала!» Пьян уже был? Не знаю. Глаза острые оставались до самого конца, без всякой мути…
– Чавалы, отъезжую!
– Надоели вы, как черти, – Спать нам хочется до смерти… Спать, спать, спать, Пора нам на покой – Целый день пляши да пой!Вот так. Расплачивался с хором и официантами полковник, из военных за столом. Это его жена привезла «в табор» Распутина. Угощала цыганами, чтобы он поспособствовал – оставил полковника в Москве (его на фронт отправляли). Вроде помогло им…
– Ух ты, интересно! – согласилась Люша. – Мне нравится.
– Что – нравится? – уточнила Глэдис.
– Что царица ему сама рубашку вышивала. И как ты негритянские танцы плясала, а жандармы притопывали. Мир – кружева…
– Пойми тебя! – вздохнула Глэдис и сильно, до хруста потянулась всем своим большим телом.
Плечики с костюмами, которые она как раз кончила развешивать, тут же рухнули, смяли занавеску и расплескались по полу веселой разноцветной пеной.
* * *
Ледяной дождь стучит по крыше, словно сто маленьких барабанов. На дворе и в парке темно, мокро и холодно. В комнате тоже темно и прохладно. Только лампадка синего стекла горит в углу перед иконой. Печи топили уже ближе к вечеру, но на ночь открывали фортку и проветривали. В Синих Ключах не как в окрестных усадьбах – там на зиму окна насовсем закрывают, а во вторых рамах и вовсе форток нет. Но здесь хозяйка считает, что свежий воздух всем полезен. Никто с ней, кроме гувернантки-англичанки, не согласен («Что еще за свежий воздух такой, когда самая стынь на дворе?!» – ворчит в людской Феклуша), но кто ж возьмется перечить? На самом-то деле Любовь Николаевна просто наглухо закрытых окон боится – это все знают, но о том никто не говорит.
Атя и Ботя спрятались на кровати под одним одеялом, как мышата в норке. Атя свернулась в крошечный клубочек, а Ботя обхватил ее сзади руками. Они молча слушают дождь, им тепло и томно.
– Мы будем врозь жить, но все равно вместе, да? – спрашивает Атя. Ее глазки даже под одеялом находят свет и остро поблескивают в темноте.
– Конечно, – соглашается Ботя. Он мысленно составляет план шкафа в своей новой комнате, в котором разместятся его коллекции. Завтра надо будет зарисовать его на листке бумаги, не забыть проставить размеры и объяснить плотнику.
– Нас только двое, а остальные вокруг – благодетели. Так? – настаивает девочка.
Ботя плохо понимает сложное про людей, но опять соглашается. Атя была с ним рядом всегда, сколько он себя помнит. И будет всегда – как же иначе?
– Мы друг у друга есть, это много. У иных и того нет, – задумчиво говорит Атя. Ее слова мягкими катышками падают в ватную тьму. – И у нас все-все впереди. И ничего не держит. Куда захотим, туда и пойдем. Нам ведь с тобой, какие мы есть, ничего не страшно, правда?
– Правда, – говорит Ботя и, предположив, что сестра может огорчиться краткостью его откликов, добавляет, впервые с оттенком чувства. – Я бы вот хотел пойти червей изучать. От них все прочее произошло, потому оно и важно.
– Эх ты, червяк обсосанный… – нежно говорит Атя и трется щекой об руку брата.
– Сама сучка драная, – ласково гладя ее по голове, отзывается Ботя.
За окном бесприютно и одиноко гуляет ветер, треплет ветки деревьев, воет в трубах, заливает стекла дождевой водой.
Атя жалеет ветер, который никогда не пустят под одеяло в теплый дом, но не умеет об этом сказать. Ботя думает о своем новом барометре и стойком, уже три дня продолжающемся снижении давления. Недавно в «Естественной истории для юношества» он прочел, что лягушки умеют предсказывать непогоду, и теперь пытается сообразить, как бы это проверить.
Атя уснула.
Ботя смотрит в темноту. Скоро им с Атей исполнится одиннадцать лет. Теперь, когда у него будет отдельная комната, можно попросить в подарок террариум.
Время в комнате как будто споткнулось и остановилось чуть-чуть передохнуть.
За окном 1914 год.
Все еще впереди.
Глава 8, в которой Адам Кауфман пишет письмо жене и знакомится с колдуньей Липой, а Люша недоумевает и делится своими сомнениями в письме,
Здравствуй, дорогая супруга Соня!
Ты просила описать тебе все впечатления моей поездки подробно, как ты много слышала об этих Синих Ключах и тебе любопытно. А уж сколько я слышал… Писать я, как ты знаешь, не мастак – мне всегда говорить проще и сподручнее. Вот у Аркаши было наоборот – писал он неизменно складно и даже местами с художественной красотой, а вот говорить тушевался… По Аркадию Андреевичу, по всей видимости, носит траур хозяйка Синих Ключей Любовь Николаевна Кантакузина. Сие, если б это была не она, выглядело бы дико и неуместно (при вполне живом-то муже, пребывающем тут же, в усадьбе). С нее же – бывшей босячки, цыганки, леди, эротической танцовщицы эт цетера – все станется. В черном кружевном платье похожа она на сгоревшую розу. Где-то внутри пепельного бутона, впрочем, тлеет искрой непогасший огонек. Если б не крошечный ее рост, что-то в ней от молчаливых, всегда в черном женщин Кавказа – отвесные кручи, ледники, родники, булат и горячая магма внутри…
Однако выполняю твой наказ, дорогая супруга.
Хозяйство в Синих Ключах большое и организовано отменно. Посреди заснеженных садов и огородов стоят четыре больших оранжереи: в одной – персики и мандариновые деревца, в другой – только розы и орхидеи, в третьей – прочие цветы. Четвертая – под овощную продукцию, и каждый день свежая зелень на столе.
Двухсветный зал с бело-сине-голубыми витражами – красиво очень, сделало бы честь и петербургскому особняку. Называется – зал Синей Птицы. Синяя Птица – личное имя дома. Все это знают. У Птицы два крыла – северное и южное, и голова – башня с обсерваторией. Оттуда регулярно смотрят в телескоп на звезды сама Любовь Николаевна, мальчик-акробат Кашпарек и мой пациент – трехлетний Владимир. Прочим звездная канитель побоку, заслоненная более важными вещами.
Далее – белая гостиная с роялем, на котором господин Кантакузин, если придется, весьма сноровисто играет этюды и менуэты. Любовь Николаевна садится к роялю изредка, когда уверена, что никто не войдет и даже не услышит, и играет патетически и драматически все подряд – от школьных упражнений до полек и Моцарта, все – в одинаковой, странно запинающейся манере, как если бы взрослый человек только учился говорить. Все дети обучаются музыке с учительницей, но успехов, кажется, не делает никто, кроме белокурой Оли, которая, впрочем, тоже берет не талантом, а усидчивостью и старанием.
На застекленной и утепленной веранде стоят лавровые деревца в кадушках (летом их выносят на открытую галерею) и пьют чай, любуясь прелестным видом на озеро и раздольные поля с перелесками.
Парк огромен и разумно ухожен. Летом он наверняка предоставляет хозяевам, их детям и гостям усадьбы развлечения в избытке – качели, катание на лодках, на лошадях (для маленьких детей имеются пони), площадки для лаун-тенниса и крикета. Нынче на прудах расчищен каток. В беседке оборудована печка – там переодеваются для катания на коньках. Я пробовал кататься впервые с гимназических лет и имею возможность своей ловкостью гордиться – ни разу не упал. Впрочем, о таких кульбитах, которые согласно выделывают на льду Оля и ее партнер Кашпарек, даже и помыслить страшно – на их номер собираются смотреть со всей округи, и немало расквашенных носов и вывернутых лодыжек возникают окрест в самонадеянности местной молодежи повторить их, изумительной грациозности движения и позы.
Почти все насельники Синей Птицы – отличные лыжебежцы. Сбегать на лыжах за десять верст на железнодорожную станцию может даже восьмилетняя Капитолина. Кроме того, Анна (все зовут ее Атя) диковинным образом запрягает в специальные саночки собак, и с дикими криками носится на этой упряжке по полям и по лесу. С ней часто ездят по очереди малыши – Агафон и Владимир. Взять их вдвоем нет никакой возможности, так как они друг друга терпеть не могут. Крупный и сильный Агафон колотит Владимира до черных синяков и непонятно с чьего голоса дразнит «чертякой» и «нечистой силой». Владимир кличет обидчика «выблядком» и строит в отместку нечастые, но диковинные пакости. К примеру, не так давно в кроватке Агафона вдруг оказалось единомоментно около сорока мышей. Две или три из них укусили мальчика, и укусы болят посейчас. Никто не видел, но все в доме абсолютно уверены, что мышей приманил Владимир. Он и сам того не отрицает. Но как, скажите на милость, он это сделал?!
Для меня несомненно одно: Владимир – психически нездоров (как и его отец). У него уже бывали эпизоды, напоминающие летаргию. Он склонен к стереотипным движениям и эхолалиям. Его фантазии вычурны и болезненны. В общем-то он довольно неприятный и болезненно упрямый ребенок, и уже помянутый мною Кашпарек – единственный в усадьбе, кто может с ним сладить практически всегда. Впрочем, довольно значительную часть времени Владимир проводит в лесу, на попечении своего деда-лесника, психически больного отца (моего бывшего пациента Филиппа Никитина) и «колдуньи Липы», пожилой местной знахарки-травницы. Последнюю я имею намерение посетить – кроме исследовательского любопытства к ней самой, как к явлению, я надеюсь, что она сможет дать мне какие-нибудь полезные сведения о развитии и особенностях Владимира, которого наблюдает с рождения…
* * *
– Мы все попадаем в ловушку к старости. Годами и десятилетиями копим силы, деньги, опыт, развиваем ум, различные полезные навыки, приобретаем мудрость и терпеливость, но когда наконец приходит время всем этим воспользоваться, оказывается, что уже поздно и жизнь списала нас со своих счетов, выпустив на все свои соблазнительные лужайки новую поросль – молодых и бестрепетно нетерпеливых, без денег и совершенно без мудрости… –
Колдунья замолчала, сложив на округлом, обтянутом вышитым передником животе пухлые короткопалые руки.
Адам с интересом оглядывался по сторонам – в избушку-полуземлянку он попал первый раз в жизни, да и сказок русских про бабу Ягу и избушку на курьих ножках ему в детстве не читали и не рассказывали.
Люша, стоя у стены, дразнила травинкой филина Тишу. Огромный и грозный на вид Тиша, не заводясь по-настоящему, сидел на специально прибитом к стене суку и лениво щелкал клювом. Владимир играл с кошками. Большой, угольно черный кот воротником разлегся у него на плечах. Еще один, серо-полосатый, с громким урчанием ходил вокруг сидящего на дощатом полу мальчика, обтираясь боками об его суконную курточку. Рыжий котенок-подросток, грациозно изгибаясь, ловил пляшущий бумажный бантик, привязанный к обрывку бечевки.
Помимо картинно большого и закопченного котла, свисающих с балки пучков сушеных трав, филина, черных кошек и прочих традиционно колдовских атрибутов, явно или неявно предназначенных для запуска работы фантазии посетителей, на грубо сколоченной полке остроглазый Адам разглядел подшивку московского акушерского журнала, справочник по детским болезням и несколько переводных французских романов. А все выстроившиеся на отдельной полке темного стекла склянки (с зельями?) были с наклеенными этикетками и подписаны аккуратным округлым почерком.
«Не такая уж она колдунья из леса», – подумал он.
– Липа, ты это кому про старость рассказываешь? Нам? – спросила Люша.
– Да себе, конечно, – улыбнулась колдунья. – Все, кто долго один прожил, такую привычку имеют – сами с собой говорить…
– А я вот почти и не жил один, – поддержал разговор Адам. – В Москве у меня была большая семья, и сейчас тоже – жена, трое детей. Но, когда я работаю в лаборатории, постоянно сам себе вслух рассказываю, что делаю, иногда даже спорю сам с собой. Отчего так?
– Значит, в этой лаборатории и есть твоя главная жизнь, а в ней ты один-одинешенек, и поговорить-то тебе не с кем…
Адам отметил, как правильно Олимпиада выговорила явно знакомое ей слово «лаборатория» (большинство простолюдинов коверкали его так или иначе), потом кивнул, соглашаясь с сутью высказанного, и видимо закручинился.
««Один-одинешенек» – как это она тепло и верно сказала, – думал он. – Так могла бы сказать Раиса. Но Раиса любила погибшего серба-террориста и уехала в свой московский мир купеческого вдовства… А поговорить на любую научную тему я всегда мог с Аркашей. Но его больше нет на свете…»
– Адам Михайлович, бросьте себя жалеть, – сказала Люша. – У вас от этого какое-то собачье лицо делается. Хотя вы вообще-то красавчик…
– Да, конечно…
Здесь имелась несомненная странность. Он был психиатр и давно привык к самым диким и вычурным реакциям своих пациентов. Но прямые выпады Любовь Николаевны смущали его неизменно и оставляли словно бы голым и беззащитным.
– Так что ж Владимир?..
– Да тут, мне кажется, уже с самых родов, если не с материной беременности смотреть надо. Мы ведь тогда с другом вашим насилу его достали. Воды задолго отошли, всухую рождался, и ручка была вся переломана. Но если б не доктор Аркаша, так и не жить ему вовсе…
– Расскажи, Липа! – потребовала Люша и жадно («Который уж раз? Третий али четвертый?» – попыталась вспомнить колдунья.) выслушала подробности о том, как Липа с Аркадием Андреевичем принимали роды у горбуньи Тани.
– А вот эти его стереотипии, то есть одинаковые повторяющиеся движения… – спросил по окончании рассказа Адам. – Они как-то меняются с возрастом? Их становится больше, меньше?
Липа задумалась, формулируя ответ.
Адам с неудовольствием смотрел вниз, на обтирающуюся об его ногу трехцветную кошку. Аккуратно отутюженная брючина прямо на глазах покрывалась шерстью. Адам хотел было отпихнуть кошку ногой, но потом вспомнил, что ему не придется объясняться по этому поводу с Соней, а о чистоте его брюк позаботятся слуги Синих Ключей, и решил оставить все как есть.
– Когда нервничает или боится, тогда больше, конечно, – сказала колдунья. – Качается, головой может об стену стучать, иногда возьмет плашки деревянные или кружки в обе руки и во дворе у Мартына или у меня на поляне кружится…
– Такие вещи часто усиливаются, когда больному нечем себя занять, – заметил Адам. – Может быть, какое-нибудь развивающее занятие, когда ему скучно, сумеет…
– Да ему скучно никогда не бывает, и никоторый человек ему при том не нужен, – возразила Липа. – Не знаю уж, как это выходит, но Володя не только вон с кошками, но с любым пауком или там крысой сообщаться может. Помнишь, Люша, как на Яблочный Спас он летучих мышей за собой с фонарем по лесу водил? Идет и смеется, а они так и вьются над ним, там и вьются. Одна и вовсе в волосьях его запуталась, после выстригать пришлось…
– Помню, как же, – усмехнулась Люша. – Филипп тогда жаловался, что она его за палец укусила, а в деревне стало одной легендой больше… Когда Владимир в лесу живет, и когда Мартын с Филиппом не забывают ему Липины травки давать, он спокойней и разговорчивей. И фокусов всяких значительно меньше. Но не могу же я его вовсе здесь позабыть!
– Травки, нормализующие психическое состояние? – тут же насторожился Адам. – А не могли бы вы рассказать об этом поподробнее, уважаемая Олимпиада… простите, не знаю как вас по отчеству…
– Все кличут колдуньей Липой, и ты так же зови, – добродушно улыбнулась хозяйка избушки. – В первую голову, это, конечно, пустырник, затем дягиль и аир, то есть корневища его…
Адам с Липой, заинтересованно склонившись друг к другу, принялись обсуждать возможности и тонкости лечения психических болезней с помощью травяных отваров, припарок и настоек. Владимир, словно услышав чей-то зов, с силой распахнул разбухшую дверь, выпустил Тишу и котов в сгустившуюся уже темь, всунул ноги в валенки, накинул шубейку и сам вышел вслед за ними. Люша проводила его взглядом, но даже не попыталась остановить – она знала, что Владимир не теряется в лесу ни днем, ни ночью, ни летом, ни зимой. Простуды его тоже – тьфу! Тьфу! Тьфу! – не брали.
Рассеянно поглаживая оставшегося в тепле рыжего котенка и глядя на темноволосый затылок Адама, Люша пыталась сложить в голове все кусочки никак не складывающейся мозаики или хотя бы понять, что же она своими глазами видела накануне…
* * *
Здравствуй, милый Аркадий!
Пишу тебе, с трудом вырвав минутку.
Вокруг меня нынче столько народу, что как бы людьми не захлебнуться. И дел масса. Куда не спрячешься, везде отыщут. Ты спросишь: мне нравится?
Конечно, нравится, ведь более всего на свете я боюсь возвращения той стены, которая когда-то отделяла меня от всех людей и разбилась в ночь усадебного пожара. Иногда по ночам мне снится, что она снова стоит, и тогда я просыпаюсь от собственного ора, с мокрыми глазами и подмышками, и трясущимися руками и ногами. Ты ведь помнишь, как это бывает? После таких снов ты битый час носил и укачивал меня на руках. Хорошо, что я мелкая и легкая, а ты – кряжистый и сильный. Тут редкий случай, когда я радовалась своим небольшим зверушечьим размерам. А вообще-то мне всегда хотелось быть рослой и величественной, с гладкими тяжелыми волосами – вот как Марыська Пшездецкая или памятник Екатерине Великой в Петербурге около театра.
Теперь меня успокаивать некому. Но я же умею – сама. Всегда умела, а особенно с той минуты, когда Грунька с Голубкой исчезли, растворились за завесой дождя, а я стояла одна и понимала: вот я. И вот передо мной мир. А стены нет.
Все, кто про меня знает, думают: вот, жила себе дворянская девочка припеваючи в усадьбе, все вокруг нее прыгали, ее прихотям угождали, живые люди ей в игрушках ходили. А потом – сразу вот какой ужас: все погибли, а она на Хитровке – голодала, холодала, нищенствовала и продавала себя за кусок хлеба. И я, если придется, киваю важно: да, да… И ты, когда мы познакомились, так же увидал. А ведь это все вранье! Только Марыся правду знает и Камиша-покойница еще, хотя она по своему жизненному устроению вряд ли понимала все до конца. Мне, если с прежним сравнить, на Хитровке было просто замечательно хорошо! Именно потому что стены этой страшной, об которую колотишься вся в невидимую кровь, а тебя не слышат, не слышат, не слышат… не было, и я к этому постепенно привыкала. На Хитровке, как в любой миске объедков и обносков – проще всего отыскать и распробовать любой вкус, любое чувство, любой характер. И никаких тебе ограничений, как после у дядюшки Лео и его итальянцев – тут об этом не скажи, туда не взгляни, это руками не ешь, здесь не харкни и не сморкнись, даже если в горле першит, или сопля течет… Кстати, про кусок хлеба – это тоже неправда. Никогда я за хлеб не продавалась, только за пирожные, и не меньше двух штук – уж очень я их любила… Да ты помнишь, наверное… А я помню, как на Хитровке первое время просто давилась впечатлениями, едва ль не блевала от них. И все равно, как с голодного острова – хватала, хватала жадными пальцами. Если уж вовсе невмочь, пряталась тогда в какую-нибудь щель и сидела закорючкой: большими пальцами уши заткнуты, четырьмя глаза прикрыты и еще двумя – ноздри. Сижу и слушаю, как кровь в голове шумит. Так море, наверное, плещется, но я его безо льда так никогда и не видала и не слыхала…
Сейчас также сижу, спрятавшись ото всех, и тебе пишу. Ты – моя кровь, мое море. Ты – навсегда во мне. Слышишь?
Был бы ты рядом, объяснил бы мне про своего лучшего друга Адама.
Он приехал, привез Луизины стихи ко мне. Зачем? Спрашиваю его: что ж мне следует – поехать в Петербург и украсть ее из вашего желтого дома? На заимке от жандармов спрятать вместе с Филиппом и Владимиром? Будет ли это ей лучше? Или найти этих террористов и попросить их переправить ее через границу? Да ведь нынче война…
Он говорит: безумная ерунда. Чего же хотел?
А вчера и вовсе странное дело. У конюха Фрола заноза на сгибе руки загнила. Я хотела, чтоб Адам посмотрел. Хватилась – нигде его нет, и не сказался никому. Грунька Агафона на саночках с горы за домом катала, указала мне: к амбару он пошел. Я туда. И вправду – Кауфман в старом амбаре, и руки грязные, как будто он землю копал. Я говорю: Адам Михайлович, что это вы тут? Он взволновался весь, побледнел, начал нести какую-то околесицу, дескать ему показалось, какой-то зверек, хотел убедиться… Да он же зверями вовсе не интересуется, если только опыты на них ставить, и даже собак с лошадьми боится, это я еще прежде поняла… Так что же он там? Прятал что-то? Доставал? Нелегальное? Разве он тоже, как и ты, революционер? Вроде нет… Или еще, я слыхала, многие врачи морфинистами делаются… Может, он тоже…? Ведь работал, как рассказывает, в Петербурге едва ли не круглые сутки. Больница, госпитали, лаборатория… И как же мне тогда ему помочь? Или что?..
А может это я все придумала, а он просто гулял себе, и у него от подневольного обжорства внезапный понос случился… Это ведь со многими бывает, кто к нашей Лукерье по первому разу в лапы попадет. А Адам сложения деликатного, и со мной ему, понятное дело, про понос было объясняться не с руки…
Глава 9. В которой княгиня Бартенева злобствует и завидует своей подруге, а Адам Кауфман информирует и наставляет свою супругу.
Стеклянные ширмы, расписанные бабочками и лилиями, кованая лампа в виде цапли, распластавшей крылья, зеркала, гобелены, ажурные решетки, потоки живой зелени. На асимметричном бюро вишневого дерева – развернутый альбом японских гравюр и учебник тригонометрии Глазенапа. Княгиня Юлия Бартенева, хоть и одевалась, согласно последней моде, в текучие мантии из бисера и жемчуга, в интерьере до сих пор предпочитала югендстиль. Она и называла его именно так, на немецкий манер, самым непатриотическим образом подчеркивая свое происхождение по отцовской линии.
– И что же, ты до сих пор, как когда-то в Синих Ключах, склонна ее жалеть и призывать к пониманию? – язвительно спросила княгиня, чуть склонив голову и стараясь вслед эмоциям не кривить лицо, чтобы не образовывались морщины.
Надежда Коковцева, ее гимназическая подруга, ныне преподавательница алгебры и геометрии в женской политехнической школе, пожала плечами и неопределенно промолчала.
– Нет, уж ты изволь теперь сказать! – настаивала Юлия. – У тебя был с этим врачом полновесный роман, и дело, как я понимаю, вполне шло к тому, чтоб он сделал тебе предложение. Вы оба стояли на одной, атеистическо-естественнонаучной идеологической платформе и прекрасно подходили друг другу. Ты от чувств к нему (я же помню чудесно!) просто красавица сделалась, и живостью и прелестью своей, впервые проснувшейся, меня с походом затмила. И первый раз в жизни спросила моего совета о нарядах. Я тогда, при всей своей в свете прославленной холодности, чуть не прослезилась от радости и умиления. Цыганка же в это время танцевала голой в европейских притонах и даже во сне об вас не вспоминала. И что же потом? Она досыта наигралась в свои извращенные игры, и возвратилась только затем, чтобы всем все разрушить. Арабажин моментально кинул тебя, как надоевшую игрушку и бросился ее спасать. Позвольте, но от чего же спасать? От изначальной дефективности и порочности ее натуры? От этого не было спасения в ее детстве, и уж тем паче нету теперь. Наверняка она тогда с избытком потрепала своему спасителю нервы, и – кто знает! – попади он на фронт в ином состоянии духа, может быть, был бы жив и посейчас, на радость тем, кто его действительно любил…
– Джуля, ну это уж нечестно, в конце-то концов! – воскликнула Надя.
– Нечестно?! – позабыв о морщинах, ощерилась княгиня. – Да какое это к ней имеет отношение, если она даже слова «честь» никогда не слыхала! Она же всегда делала только то, что ей выгодно, с холодным расчетом, и…
– Джуля, ты ни с кем Любовь Николаевну не путаешь? – криво усмехнулась Надя. – С собой, например?
– Ладно, пускай, – тут же пошла на попятный Юлия, всегда признававшая психологическую наблюдательность подруги. – Тогда скажем так: она всегда делает то, чего захочет ее левая нога. И если твой Арабажин все-таки ее давний знакомый, то наши с Александром планы она разрушила уж и вовсе походя, может быть, даже этого не заметив…
– Не забывай, Джуля, что как-никак Александр – муж Любы. Они не расторгали брак, у них есть дочь…
– Именно что «как-никак муж»! – скривила губы Юлия. – Это не супружество, а какая-то комедия положений!.. Да, да, да! – почти закричала она, вовремя заметив лукавинку в глазах подруги. – У меня самой тоже такой брак! Я и хотела прекратить это, но она… – Юлия резко оборвала себя, провела тонкими, в дорогих кольцах, пальцами по глазам, как будто снимая паутину, и сбавила тон почти до шепота. – Если хочешь знать правду, Наденька, я тебе просто завидую…
– Ты – мне?! – Надя округлила глаза. – В чем же?
Положение одинокой учительницы-дурнушки и блистающей в свете молодой и несметно богатой красавицы-княгини отличались друг от друга столь разительно, что о зависти последней к первой нельзя было и помыслить.
Но Юлия медлила с ответом, и Надя рискнула предположить сама:
– Ты, наконец, поняла, что человеку нужны не только деньги и драгоценные побрякушки, но и дело, которому можно посвятить жизнь? Джуля, я горжусь тобой! Из твоего нынешнего положения это более, чем нелегко, и очень немногие решаются… Но ты всегда была сильной и умной и, хотя и делала вид, что не прислушиваешься ко мне, в глубине души наверняка понимала, что нам всем никуда не деться от правды: народ не может ждать вечно! Эта, империалистическая по целям, война – удобный случай для того, чтобы все переменить. Ты только подумай о миллионах рабочих и крестьян всех национальностей, взявших в руки винтовки, чтобы в угоду амбициям власть имущих убивать друг друга! Когда они наконец прозреют и повернут оружие против тех, кто веками жестоко эксплуатировал их труд… Я просто вся дрожу, когда представляю себе… Мы вместе должны сделать все возможное, чтобы это произошло как можно скорее, и тем уменьшить количество жертв этой бессмысленной бойни, которое и сейчас уже чудовищно велико! И поверь, Джуля, здесь ты во всем можешь на меня положиться! Для начала я дам тебе почитать последний выпуск «Российского социал-демократа», его как раз накануне привезли из Женевы…
– Наденька, скажи, ведь ты с ним спала? – спросила Юлия.
– С к-кем?! – с запинкой, в совершенном ошеломлении спросила Надя.
– Ну не с «Российским же социал-демократом»! С этим твоим врачом… вы были вдвоем… как мужчина с женщиной?
Надя помолчала, потом высоко вздернула подбородок, загнав обратно выступившие на глазах (больше от неожиданности, чем от горя) слезы:
– Да. Но что тебе…
– Это… это действительно так хорошо, как пишут в романах?
– Намного лучше! – быстро воскликнула Надя и тут же пятнисто покраснела.
Юлия, опустив голову, крутила на пальце кольцо с большим, темно-зеленым изумрудом.
– Джуля, но разве ты…
– Да. Нет, – ровно сказала Юлия. – Мы с Сережей являемся супругами только формально. И дело здесь не во мне. Женщины его в принципе не интересуют…
Надя зажмурилась, потом потрясла головой, переключаясь с общественно-политических тем на личные. Юлия, наблюдая за ней, невольно улыбнулась.
– Ладно – твой муж, я и сама слышала о нем всякое, – выговорила наконец Надя. – Но Алекс? Когда вы вместе уехали в Синие Ключи, я была почти уверена, что ты с ним…
– Мы просто не успели. Он так долго, с детства буквально был влюблен и ухаживал за мной, что когда настало время перейти черту, он, наверное, не мог сразу решиться… Не могла же я сама вешаться ему на шею…
– Почему бы и нет? – спросила Надя и, горько усмехнувшись, вспомнила, как она буквально на себе затащила в комнату почти бесчувственного Арабажина, и осталась у него на всю ночь.
«Перейти черту… Мерзавец! – вслед подумала Надя про Александра Кантакузина. – Небось, с горничной Настей у него никаких черт и в помине не было, а бедная Джулька в это время…»
– Может быть, ты и права. Но я не смогла, – вымолвила Юлия. – Все было хорошо, я получала удовольствие, и думала, что у нас еще есть время. Как всегда, я не приняла в расчет цыганку. И вот итог. Мне тридцать два года. Фактически я – старая дева. А Алекс благополучно живет с цыганкой в Синих Ключах. Хозяйствует… Ты знаешь, он начал лысеть. А ведь Алекс моложе меня… И подумай, какое совпадение, Наденька: нас с тобой обеих бросили из-за нее. Так тебе все еще жалко «бедного ребенка»?
– Мне тебя жалко, – сказала Надя. – Но почему бы тебе не…не… Ведь ты красавица…
– Не завести любовника, ты хочешь сказать? Это не так уж просто в сложившихся обстоятельствах. Все светские кавалеры уверены, что у меня сонмы любовников. И потому не очень ухаживают за мной – что тратить время и пыл понапрасну? Но даже если я наступлю себе на горло и сделаю кому-нибудь авансы… подумай: как я, мужняя жена уже почти четыре года, светская львица – вдруг окажусь… Да это любого испугает… А сейчас и вовсе война, все решительные мужчины воюют…
Надя задумалась. В ее круге общения (учительницы и члены социал-демократической партии), пожалуй, тоже не было никого, кого прельстила бы княгиня-девственница.
Но Юлия, едва ли не в первый раз в жизни, глядела на подругу с надеждой, полагаясь на ее жизненный опыт, который неожиданно оказался более богатым в этой деликатной области. И Надя изо всех сил напрягала свою сообразительность.
– Кажется, я знаю, как это можно попробовать разрешить, и даже не нарушая никаких приличий… – наконец, сказала она.
– Как же? Говори! – выдохнула Юлия.
Сдернула с кресла серебристую песцовую накидку и закуталась в нее, как будто в уютном будуаре вдруг сделалось промозгло, как на улице, под сырым снегопадом.
* * *
Должен сказать тебе, дорогая супруга Соня, что я намерен сократить свое пребывание в Синих Ключах, и вернуться раньше, чем сообщал тебе прежде. Причиной тому назову, что я сильно уже по тебе и деткам соскучился. И дела и работа тоже зовут, как я без них себя ощущаю неловко, будто не делаю того, что мне от веку предназначено, и тем обманываю чьи-то (неизвестно чьи) ожидания обо мне.
Любовь Николаевна при любом удобном и даже неудобном случае расспрашивает меня об Аркадии Андреевиче. О нашем общем гимназическом детстве, о том, каким он был в студенчестве, как к нему товарищи относились, что он любил покушать, что читал, как одевался, какие были шалости и конфузы. Слушает и уточняет так, как будто собирается его на сцене по системе Станиславского играть. Это для меня временами тягостно, хотя тебе и известно, дорогая супруга Соня, как я Аркашу любил и переживал за его трагическую гибель. Но я знаю доподлинно, что Люба не только меня расспрашивает, но и всех в округе, кто с Арабажиным хоть немного сообщался. Это даже нелепо как-то делается. Что ж она теперь, соберет его повсюду по кусочкам, как в мифе Древнего Египта, и воскресит, что ли?
Звериное какое-то, болезненное упорство, направленное не туда. Это же есть и в Филиппе, брате Любовь Николаевны, и во Владимире, племяннике. Явно наследственный случай, тем более интересный, что об отце Любы и Филиппа, Николае Павловиче Осоргине, все согласно отзываются, как о человеке умном и сдержанном, чья жизнь не была отмечена никакими странностями, кроме, быть может, поздней его любви к цыганской певице, матери Любы. Но тут уж, надо признать, не он один отметился, хотя я лично причины пристрастия образованных русских бар к представителям этого примитивного, животно-страстного народа никогда уразуметь не мог.
Помимо Владимира, здесь в усадьбе, как я уже тебе писал, много детей, и у всех, кроме, может быть, Капитолины (в которой принимает участие ее родной отец), воспитание какое-то диковинно-сумбурное. То есть, как бы даже его отсутствие, хотя все они занимаются с учителями. Но ведь даже отменное знание алгебры или географии воспитанного человека не делают! Впрочем, надо и данность учитывать, ибо Кашпарек явный психопат, девочка Оля склонна к истерии… Близнецы здоровы совершенно, все время хитрят, могут казаться воспитанными вполне, но иногда вдруг по настроению начинают изъясняться, как на Кишиневском Привозе. Прискорбно думать, что ждет их всех в будущем, но то не наша с тобой забота…
Не забываешь ли ты в хлопотах заниматься, как я тебя наставлял, с Боренькой и Леней? Я в возрасте Бореньки уже мог газету читать, но тут важна не только кровь, но и правильный метод и регулярная настойчивость – помни о том, дорогая супруга Соня.
На сем кончаю и до скорой уже встречи, каковую жду с нетерпением.
Твой муж Кауфман Адам* * *
Солнце закатывалось за лесом. Окна заиндевели. Просачивающийся сквозь них свет стал удивительного апельсинового цвета. Сани уже стояли у парадного крыльца. Аккуратно упакованные вещи Адама снесены по ступеням и уложены под полость волчьего меха.
Любовь Николаевна – впервые не в трауре. В белом платье с черным кушаком, в черных лакированных туфлях. Темные кудри, стянутые белой лентой. Тень от ресниц на скулах. Высокая посадка головы, выпрямленная спина танцовщицы, вычурно заломленный локоть. Литография, неподвижность.
Он – тщетно пытается сглотнуть пересохшим горлом.
– Что ж, Адам Михайлович, станем прощаться…
– Сожалею, что не смог толком ничего про Владимира вам посоветовать…
– Пустое! Я сама виновата. Рано взвилась: Владимир еще мал и не отделился душою от стихий, сейчас никто не скажет, как оно дальше обернется. Надежда есть, я сама тому порукой…
– Безусловно, следует надеяться… Благодарю за гостеприимство, Любовь Николаевна, и должен с удовлетворением признать: все слышанные мною восторженные рассказы о сем обиталище достоверны вполне. Ваши Синие Ключи – место поистине удивительной красоты и отрадности…
– Простите меня, Адам.
– За что же?! Я приехал нежданно, взволновал вас судьбой Луизы, и с Владимиром ничего не сумел…
– Да бросьте деликатничать! – засмеялась Люша, и как всегда от ее смеха у него по спине побежали мурашки. – Мы ж с вами не чужие друг другу. Вспомните Петербургское взморье. Вы и теперь всю дорогу разве что слюни обо мне не пускали. Да я бы, верьте, и сама не прочь, и не по злобе, но вы знать должны: я ребенка жду, и мне потому показалось с вами невместно. Вам также, я думаю…
– Боже мой, Люба! Что вы говорите! – с почти искренним ужасом вскричал Адам. – Мы с вами интеллигентные люди, а вы все сводите…
– Вы. Не я, – улыбнулась Люша. – Я – вроде Владимира, только старше и лучше маскируюсь. К тому же любой интеллигентный человек обычно сложнее, чем думают о нем другие, и значительно проще, чем он сам о себе понимает.
Он чувствовал: больше всего его обезоруживает не ее женская красота, а вот эта внезапная психологическая проницательность, сопровождающаяся безжалостной чеканностью формулировок.
– Я перед вами как будто без штанов стою, – пробормотал Адам.
– Это ничего, иногда и полезно все проветрить, – утвердила Люша, поднялась на цыпочки и поцеловала Адама в щеку.
– Люшика, так вы уже попрощались? – откуда-то из-за громоздкого буфета шагнул Ботя.
«Господи! – встрепенулся Адам. – Мальчишка был здесь с самого начала?! И что же он слышал и понял?!»
– Можно я тогда уже Адама Михайловича попрошу?
– Конечно, Ботя. Мы же с тобой договаривались…
«Договаривались? Выходит, она знала о его присутствии где-то поблизости?! Боже мой!»
– Не тушуйтесь, Адам, – сказала Люша. – Наш Ботька – как прицел у ружья, нацелен только на то, что ему надо. Прочим не интересуется совершенно.
Ботя шаркнул ножкой и протянул Адаму исписанный листок:
– Не станете ли так любезны, Адам Михайлович, вот эту бы лабораторную посуду и прочее к тому сопроводительное мне по крайней надобности из Петербурга прислать? Люшика все оплатить готова, но разбираться что да как ей неспособно. А вы ведь доктор и ученый и все доподлинно знаете… Простите покорно, что затрудняю вас, но более мне и обратиться не к кому…
Адам механически пробежал глазами список. Продуманное оборудование для небольшой естественно-научной лаборатории. Но кто же будет в ней работать? Этот круглоголовый маленький мальчик с грязными ногтями?
– Если вы по правде с доктором Аркашей дружили, так теперь по совести должны Ботьке помочь! – не выдержав молчания Адама, как ярмарочный чертик из коробочки выскочила откуда-то Атя. – Аркадий Андреевич ему завсегда все объяснял и рассказывал и Люшике говорил, чтобы она за опыты Ботьке трепку не давала, потому что у него это – не живодерство, а испытание естества. Так я ему все равно за птичек вихры выдеру, но червяков мне и не жалко совсем, а что ж ему – удавиться что ли, коли он уродился такой и во всем хочет до сути дойти? А вы хоть в память доктора Аркаши над ним сжальтесь, я вас Христом-богом молю…
– Атька, кыш! – хлопнула в ладоши Люша. – Ты не на паперти!
Девочка-чертик моментально спряталась обратно в коробочку.
– Да, конечно, я закажу все это… через клинику даже проще… с доставкой… – пробормотал Адам.
– Вот и спасибо вам, Адам Михайлович. Близнецы!
Девочка присела в книксене. Мальчик щелкнул каблуками. Потом Атя схватила Ботю за руку и буквально потащила за собой.
– Так господа таки едут или остаются? – вслед за стуком подкованных сапог в дверь просунулась седая лохматая голова Фрола. – Лошади уж застоялись.
– Сейчас, сейчас, – отозвалась Люша. – Идем, идем…
«Как будто оправдывается, – подумал Адам. – Перед слугой? Перед лошадью?! И этот мальчик с его опытами… Абсурдное царство девки-Синеглазки от Филиппа Никитина. Все приличия перепутаны. Люба ждет ребенка? От Кантакузина? Но они же сообщаются между собой, как служащие в одном департаменте… Да какое мне, в сущности, дело! Домой, домой! В тишину, ясность и химическую прохладу собственной лаборатории. К молчаливой Соне, к нормальным, обыкновенным детям, с которыми все понятно… Домой, домой, в Петербург!»
– Что ж, едем скорее!
– Конечно, Адам Михайлович, – Люша улыбнулась, качнула головой и медленно сжала кулаки.
Глава 10. В которой трескаются зеркала, Энни решает открыть салон, а Аморе боится казака Кузьму Крючкова
Аркаша, Аркаша милый!
Печально зимнее небо над Синими Ключами. Печаль в моем мире. Да оно видится законным вполне. Как может быть иначе, если в моем мире нет тебя? Все прочее, хоть это и неправильно по сути, кажется лишь созвучием.
Умер Лев Петрович Осоргин, дядюшка Лео. Мой второй, вместе с тобой, спаситель. Умер, надо сказать, хорошо, благостнее и пожелать нельзя: дома, не мучаясь совсем, сидя в своем удобном кресле, за рабочим столом, склеивая и раскрашивая очередной кукольный домик для Любочки-Аморе, дочери покойной Камиши. Вот для кого настоящая потеря! Ведь Лев Петрович любил Аморе без памяти, поздней, последней (но отнюдь не бессильной стариковской) любовью, которая вся, без остатка и расчетливой экономии, воплощается в страсть отдавания и желание сделать краше и богаче жизнь предмета любви. А если еще учесть, что дядюшка Лео был добр, обеспечен, красив и талантлив…
Юрий Данилович Рождественский, презрев сорок лет своего медицинского стажа и опыта, сформулировал диагноз вполне по-народному: «У Лео было большое сердце, казалось, что на всех хватит, а ему и износу нет. Однако, не так – сердце сносилось…»
Мария Габриэловна держится, как всегда, со спокойным достоинством, за которым бог весть что скрывается, а вот прочее зачарованное итальянское царство… осыпалось, осыпалось как карточный домик, или скорее – как подвески с люстры, с хрустальным, еле слышным звоном…
В день, когда умер дядюшка Лео, треснуло самое большое венецианское зеркало. Вот и не верь после этого в приметы…
И все в доме с его уходом как-то потускнело: глуше голоса роялей, невидимая пыль осела на бархате штор, тусклее вид за окном, пожелтел фикус в гостиной… Я бы подумала, что мне мерещится, но ведь не только мне, всем прочим (каждый сообщил мне по секрету) тоже… Теперь уже можно сказать: вся зачарованная сказка Осоргиных-Гвиечелли, посыпанная золотой пыльцой и украшенная музыкой сфер, держалась на узких плечах чахоточной Камиши и широких костлявых плечах дядюшки Лео. Все прочие – художники, поэты, архитекторы, музыканты – росли из них и вокруг них: любя, пользуясь, оберегая, греясь у их огня, подражая и споря…
Катарина Гвиечелли (почти пятидесятилетняя тетушка Камиллы – старая дева) говорила мне, что призраки обоих умерших по вечерам являются ей в зеркалах и ободряюще улыбаются – дескать, на том свете у них все хорошо… И на том спасибо.
Я подумала сейчас: как мы неблагодарны к мирозданию и всегда желаем большего. Вот вроде бы – какая замечательная, быстрая и спокойная смерть досталась дядюшке Лео, я бы и сама хотела такую. Да куда мне, он же был почти святой по любому счету, хоть по религии считай, хоть без нее. И порадоваться бы за него! Но ведь я все равно недовольна и червячок грызет: ну отчего он прежде не поболел, не полежал в кровати денька три-четыре, чтоб все (да какие к чертям собачьим «все» – я, я, я!) успели приехать, взглянуть, проститься, получить последние наставления, сказать, как мы (я, я, я!) его любим, ценим, благодарим, жалеем, обожаем… А теперь уже никогда… Никогда.
Не откладывать слов любви.
Энни Таккер, самая сильная, взрослая и энергичная из оставшихся, все же не потянула все сразу. Забрала свое и сбежала с накренившегося корабля. Я ее не виню. Каждому ноша по возможностям – кажется, так сказано в Библии, а может быть и где-то еще, но в любом случае – умный человек сказал.
Объяснили производственной необходимостью. У Майкла поставки для армии. Нельзя упускать прибыль. Фабрика работает день и ночь. Он должен присутствовать, но и с семьей не может быть врозь.
Наняли (или купили – не знаю) дом с садом рядом с Майкловой фабрикой и переехали туда своей семьей. Энни там быстренько все перестроила, переделала, переклеила, перевесила. Получилось странно – красиво, но вместе с тем как-то сиротливо-тревожно: прямые силуэты, угловатые цветные тени, острые лучи ламп, словно попытка догнать что-то категорически отсутствующее.
Она любила и уважала отца, а он, в свою очередь, очень высоко ценил свою старшую дочь. Такие раны не скоро зарастают.
Вместе с матерью Энни съездила в Петербург, к Луизе. Нашли ее язвительно-отрешенной и вроде бы даже смертью Льва Петровича не слишком затронутой. Впрочем, с родственницами она не особо и разговаривала, а когда они посетовали на печаль, снедающую их в связи с невосполнимой утратой, немедленно предложила показать им для развлечения пару фокусов ее собственного изготовления.
Мария Габриэловна вернулась из Петербурга совершенно растерянной. Зато Энни, хоть и расстроилась, конечно, из-за сестры, не упустила при том случая познакомиться со столичной культурной жизнью. Подробности мне не очень известны, однако, вернувшись, она на самом высоком возможном для нее градусе эмоций рассказывала и о театрах, и о поэтических вечерах, и даже о каких-то диспутах… Энни и диспут – право, эти две вещи как-то не слишком совмещаются у меня в голове…
Кроме того, Энни определенно заявила, что в столице кипит жизнь, а в Москве все свежее давно прокисло, и все только пьют, едят и зарабатывают деньги на смертельной ниве, норовя при том обмануть друг друга или государство. Интересно, как она относится к тому, что ее собственный муж тоже уже собрал с этой «смертельной нивы» (откуда она ее выкопала?) неплохую жатву? Наизусть читала стихи Блока о войне. На мой взгляд, Анна Львовна несколько со всем этим запоздала (я только вот сейчас задумалась: а сколько, собственно, Энни лет?).
Вообще нельзя не заметить, что после смерти отца и поездки в Петербург Энни как-то враз изменилась. Заставила Майкла продать экипаж, который достался ей по наследству от Льва Петровича, и купить автомобиль. Научилась его водить и теперь ездит на нем по дороге вокруг фабрики.
А еще Энни твердо вознамерилась создать у себя в доме салон и назвать его «Домашняя кошка» (в Петербурге есть «Бродячая собака», возможно, Энни там побывала?). Дома ее никогда нет. Майкл жаловался мне, что, несмотря на специально задуманный переезд, он и дети почти не видят жену и мать, а Роза и Риччи к тому же отчаянно скучают по умершему дедушке и прочим многочисленным, вполне живым, но отринутым от них нынче родственникам. Энни же ездит по магазинам и, видимо, подбирает цвета драпировок и мебель для салона. А еще встречается с художниками, носит платья, похожие на раскрашенные водосточные трубы, и курит папиросы.
Я не знаю, как к этому относиться, поэтому не отношусь никак, но мы с Александром уже приглашены на открытие «Домашней кошки», которое состоится весной. Не уверена, что я смогу пойти, но в сложившихся обстоятельствах Энни, кажется, больше интересует Александр. Возможно, она надеется, что он приведет своего кузена Лиховцева, который был когда-то в нее романтически влюблен. Но я знаю прекрасно, что эти ее надежды напрасны. Во-первых, Максимилиан и Алекс давно не общаются между собой, а во-вторых Лиховцев в феврале заканчивает ускоренный курс обучения в Алексеевском училище и собирается немедленно по получении чина прапорщика отправиться на фронт. Странное сочетание: Максимилиан-Арайя и война…
Мы не видимся с ним, но он иногда из училища пишет мне письма.
А я пишу тебе.
Ты не ревнуешь к нему? Мне было бы приятно, если бы ревновал, но боюсь, что ты и живой не доставил бы мне такого удовольствия.
Что ж, теперь уже оба моих спасителя ушли за Край, отдав мне лучшее в себе и оставив меня здесь… Для чего?.. Пустой вопрос! Не волнуйся за нас, Аркашенька, это была лишь мгновенная слабость, я все понимаю и исполню, как должно…»
* * *
«Уезжал из Песков, решил не заезжать прощаться. Не увидел, не встало перед глазами, как оно могло бы быть. Стало быть – не нужно.
Теперь пишу Вам, Любовь Николаевна, уже из Москвы, на ответ не рассчитывая.
Мотыльковые цветики пестрили дни. Желторой курослепов откачался на пахучих луговых ветрах. Многодревые чащи пели свою летнюю песнь. Меж их стволами, во мшистой влажной глуши заизумрудил ночами мизерный Иванов жучок. Тихоглавые липы сквозили синей летней жарой. Тянулись к востоку закатные проясни, приглашая молча посидеть на крыльце со стаканом ледяной колодезной воды и краюхой свежего, только что испеченного хлеба.
И вдруг – война!
Боже, как нелепо.
Я – юнкер Алексеевского училища. На мне форма, погоны. Вы бы не признали меня. Я, бывает, сам себя не узнаю, и сам с собой в зеркале здороваюсь. Впрочем, думаю, что все это лишь иллюзия собственной значимости, а на самом деле среди юнкерской братии я выделяюсь не очень или даже совсем не… По военному времени в училище набрали не четыре, как обычно, а пять рот. Курс сокращенный, шесть месяцев.
Вокруг – мальчики, «старичков», как я, немного. К тому же образовательный ценз снижен до шести классов. Заботы и забавы тоже, конечно, – мальчиковые. Опишу одну для примера.
Накануне принятия присяги в училище по традиции организуют «похороны шпака». После десяти часов все лежат под одеялом и ждут сигнала. Все офицеры куда-то разом подевались (они тоже были когда-то юнкерами). Вот дан сигнал, все вскакивают, бегут и строятся перед бараками своих рот. Большинство – в кальсонах, мундирах и киверах, студенты в тужурках, кто-то в пиджаке. Но все – без штанов, винтовки на правом плече и прикладом вверх.
Наша рота решила выделиться единообразием. Совершенно голые, но в бескозырках задом наперед, пояс с подсумками, в сапогах и с винтовками. Представьте меня в эдаком виде в строю и, уверен, у Вас надолго поднимется настроение.
Дальше говорятся надгробные речи о забвении всего штатского. Мальчики истошно воют, визжат, плачут. Потом церемониальный марш. Принимает парад фельдфебель роты Его Высочества, тоже без штанов, зато увешанный многими орденами и лентами.
Через полчаса все уже спят в своих постелях здоровым молодеческим сном. Чего и Вам желаю… А я вот пишу…
Было ли все? Или приснилось?
Война – жестокая реальность, я ей даже благодарен, хотя и говорить и думать так безусловно грешно. Но я ли один? В нашем кругу – самая частая в рассуждениях банальность. Но я-то никогда, и Вы это знаете, не боялся быть банальным. Александр всегда банальности страшился. А я о ней, можно сказать, мечтал. Покуда не сбылось, но нынче есть надежда. Погибнуть за Отечество, что может быть величественнее и банальнее? Это не цинизм, драгоценная Люша, это вечерняя печаль. Не обращайте внимания (уверен – не обратите).
Остаюсь всегда Ваш Максимилиан Лиховцев»* * *
Что-то случилось с зеркалами. Нет, они и прежде были не идеальны, но все-таки отражали на совесть; славные венецианские мастера Гвиечелли могли бы гордиться своей работой.
А теперь они взялись – одно за другим – тускнеть, мутнеть, покрываться пятнами и трещинами. Сначала это было не очень заметно, потом сделалось очевидным. Мистически настроенная часть клана Осоргиных-Гвиечелли связывала это явление со смертью Камиллы.
– L'anima della famiglia sinistra (душа семьи ушла), – говорила, глядя в мутнеющее зазеркалье, бабушка, в честь которой была названа умершая. Она теперь не снимала траура и почти не покидала своей комнаты. – Гвиечелли кончились, а с ними и зеркала.
Анна Львовна Таккер, всегда числившая себя рационалисткой, с этим была не согласна. Во-первых, Гвиечелли оставалось еще достаточное количество. А во-вторых, зеркала начали портиться действительно после смерти, но только не Камиши, а Льва Петровича. Было ли это совпадением? Тут рационализм Анны Львовны давал трещину – совсем как большое зеркало в передней, с двумя бронзовыми сатирами, каждый из которых держал его одной рукой, а в другой сжимал подсвечник. Ей было просто невыносимо видеть это зеркало всякий раз, входя в дом. Какое-то время она терпела, потом обратилась к мужу.
– С этим надо что-то делать.
– С чем, darling?
Майкл Таккер, занятый сложными деловыми расчетами, оторвался от бумаг и посмотрел на жену, моргая короткими рыжеватыми ресницами.
– Вот с этим, – Анна Львовна обвела рукой вокруг себя.
Разговор происходил в кабинете Майкла, где давно обрела пристанище большая часть гвиечеллиевских зеркал. Они висели на стенах, стояли на столах, на шкафах и на каминной полке, отражались друг в друге, высасывая воздух из живого пространства и создавая взамен свое – зыбкое, сумрачное. Ненастоящее. Находиться здесь дольше минуты, казалось, было невозможно. Однако Майкл ухитрялся просиживать в кабинете часами и как будто ничего не замечал.
– Sorry, my dear, (прости, дорогая) – он огляделся с видом растерянным и покаянным. – Я, наверно, немножко… как сказать… выбился из жизни?
– Ho allontanato dalla vita, (я отошел от жизни) – усмехнулась Анна Львовна.
– Oh, just that. (Точно – англ.) Но кто бы мог подумать, что такое произойдет? О да, я имею большую прибыль на этих поставках… Но я не могу избавиться от мысли, что не сегодня, так завтра российское правительство окажется несостоятельным должником, и мы разоримся.
– О, нет. Конечно, если ты не будешь больше давать деньги на революцию.
Она тут же пожалела о своих словах: при напоминании о деньгах для революции и, стало быть – о Луизе Майкл немедленно начинал испытывать такие угрызения совести, что терял всякую способность мыслить и действовать. На сей раз он, впрочем, быстро взял себя в руки – Так что мы должны делать, Энни?
– Мы должны уехать отсюда. Неужели ты не чувствуешь, как они… как здесь угнетает?
Таккер встрепенулся и взглянул на жену с удивлением и тревогой:
– И ты… тоже? Except of all, (кроме прочего) я не хотел тебе говорить… ведь это, как бы лучше объяснить, your privacy (здесь: только твое)… это семья…
– У нас есть своя семья. Ты, я, дети.
– Если тебе, darling (дорогая), так будет лучше… – он никогда не спорил с ней, но и помыслить не мог, что она захочет жить отдельно от семьи.
– Dio mio. Мы все сходим с ума, – Анна Львовна зябко повела плечами; и уже вполне деловым тоном заговорила о своих планах.
Мария Габриэловна согласилась со всеми идеями дочери, едва дослушав доводы Энни. Вернее, слушала она по видимости внимательно, даже задавала краткие деловые вопросы, но на самом-то деле – и Анна Львовна видела это с беспощадной отчетливостью – ей было все равно.
Ей как-то сразу стало все равно, как только скончался Лев Петрович. Это мало кто мог заметить, она вела себя почти по-прежнему. И большинство из тех, кто знал ее большую семью, оставался в уверенности, что семья эта как держалась, так и держится именно на ней.
– Forte, Amore, forte, – приговаривала Мария Габриэловна, легонько отбивая такт по крышке рояля и придерживая ручку маленькой девочки, чтобы та как надо ложилась на клавиши. – Paura non, cara, è divertente (не бойся, милая, это весело)…
Девочка не сказать что боялась, но и весело ей явно не было. Она просто была слишком мала. Нетерпеливо вертясь в высоком креслице, пыталась отыскать глазами игрушку – большую яркую бабочку на колесиках, которую вчера подарил ей муж Анны Львовны. Бабочка, когда ее возили на шнурке, открывала и закрывала крылья и громко жужжала, что приводило Аморе в восторг.
– Стоит ли начинать учиться так рано, – не сдержавшись, заметила Анна Львовна, хоть и понимала, что ее слова бесполезны.
Мария Габриэловна пожала плечами.
– Отчего же рано? Вы все начинали в этом возрасте, а ее мать еще раньше.
А ее отец… На сей раз Анна Львовна сумела таки промолчать. Только подумала, а помнят ли в этом доме, кто отец девочки… позволяют ли себе помнить?..
– Он, конечно же, ждал меня с чаем, – внезапно проговорила Мария Габриэловна, глядя поверх головы Аморе куда-то в угол просторной детской. Рояль, хоть и кабинетный, смотрелся в этой детской точно как слон в посудной лавке. – Он ведь привык, что утром я приношу ему чай, за все годы считанные разы бывало иначе – когда у кого-то из вас поднимался жар… В этот раз захворала Аморе, и я всю ночь просидела возле нее. В тот самый момент… да, как раз в тот самый момент я задремала, и никаких предчувствий…
– Мама, – Анна Львовна, подойдя, мягко положила ей руки на плечи, – мы ведь договорились, что ни в коем случае нельзя винить ни себя, ни Аморе.
– Нет-нет, я не о том. Я просто думаю, могло ли это быть случайностью? Едва ли, Энни. Маленькие дети, они ведь чуткие, как эолова арфа. Она чувствовала то, чего мы не замечали. Я думаю…
Итальянская речь звучала приглушенно и мелодично, куда мелодичнее, чем звуки, которые извлекали из инструмента крошечные пальчики девочки. Ветка за окном, покачиваясь от ветра, стучала в стекло, негромко и ритмично, как камертон. Два овальных зеркала на противоположных стенах самозабвенно смотрелись друг в друга. Анна Львовна ждала, что еще скажет мать, обескуражено убеждаясь, что остатки ее рационализма готовы сдаться венецианскому суеверию.
– Мне так больно, что девочка вырастет и не будет помнить дедушки Лео. Не говоря уж о детях Луизы, те его и вовсе никогда не увидят.
– Дети Луизы? – Анна Львовна подавила желание перекреститься.
– Конечно. У Лизы же будут в конце концов дети, как иначе? Да, Энни, я, кажется, еще не сказала тебе – я еду в Петербург. Надо наконец поговорить с этим доктором…
Анна Львовна не могла бы поручиться, что эта мысль не пришла матери в голову только что. Но, так или иначе – ей придется сопровождать ее, в таком состоянии мать нельзя отпускать одну. И заодно повидать брата Альберта, и разузнать, что делается в Петербурге (называть северную столицу Петроградом все Осоргины-Гвиечелли наотрез отказывались), и, может быть, подобрать что-нибудь европейско-столичное для ее собственного дома и оснащения будущего салона, который она твердо вознамерилась организовать…
– Да, мама, – Энни склонила гладко-причесанную голову. – Если ты этого хочешь, мы выезжаем послезавтра.
* * *
– Марсель, но тебе страшно было, скажи, страшно? – Риччи потянул старшего кузена за рукав гимназической куртки.
– Совсем нет! – твердо ответил Марсель. – Я непременно еще сбегу. И георгиевский крест получу.
– А я твою картину сохранила, – Роза нырнула под кровать, сверкнув белоснежной оборкой штанишек, и достала грубо нарисованный лубок, на котором бравый казак Кузьма Крючков рубил шашкой оторопевших кайзеровских кавалеристов. – Мама сняла со стены и сказала: выбросить это убожество! – а я сначала у Степаниды спрятала, а потом – здесь. Мы с Риччи смотрели и о тебе думали все время…
– Спасибо, – улыбнулся Марсель, хлопнул по плечу Риччи и потрепал светло-каштановые кудряшки Розы. – Вы славные малявки.
Сидящая на полу Аморе задумалась, сунув пальчик в рот, потом принесла Марселю «Ниву» с огромным портретом императора и потянулась за своей порцией ласки. Естественно, получила ее полной мерой – малютку, у которой не было ни матери, ни отца, в семье все любили и жалели.
Москва жила войной. О ней везде говорили и повсюду писали.
– Расскажи! – потребовал Риччи. – Ты видел наших геройских солдат и офицеров? А кавалерийскую атаку?
Марсель заколебался. Он был вовсе не дурак приврать, и с тех пор, как помнил себя, редко говорил правду родным. Его единственной конфиденткой в семье была Луиза, про которую теперь всем официально сообщали, что у нее заподозрили начавшийся процесс в легких, и от греха подальше отправили в Италию… Роза и Риччи по вечерам в числе прочего усердно молились за здоровье Луизы, и просили Боженьку, чтобы он пока не забирал ее к себе, как забрал бедную Камишеньку… Марсель доподлинно знал, что Луизу после попытки теракта отправили вовсе не в Италию, а сначала в крепость, а потом – в сумасшедший дом, но, разумеется, не собирался сообщать об этом малявкам. Но что же рассказать им теперь? Про геройских солдат он уже много раз рассказывал в гимназии, где безусловно числили героем и его самого. Марсель как должное принимал восхищение одноклассников, но какая-то тянущая слабость жила посередине его впалой груди, вовсе не похожей на выпяченную грудь бравого казака Кузьмы Крючкова.
– Сейчас все по правде расскажу, – решил он. – Только вам. Гордитесь, малявки. И не перебивать!
Риччи, Роза и даже маленькая Аморе придвинулись ближе.
– С Александровского вокзала ехали сибиряки. На фронт, конечно. Я их специально высмотрел, потому что они в Москве никого не знают, на все чохом глазеют, и специально за мальчишкой следить не станут. Прошмыгнул в теплушку, как крыса, и спрятался за вязанку с дровами. Сидел там до вечера, аж скрючило всего. Как из Москвы поезд вышел, так я и объявился им. Они и не ругались вовсе, дали мне чаю, хлеба и махорки. Хорошо, я прежде курить с Пашкой пробовал, а то бы опозорился. Но то, что мы с Пашкой курили (он у отца сигареты воровал) и махорка – это, скажу я вам, совсем разные вещи… Спрашивали, кто мои родители, да где я учусь. Я все врал, конечно. Сказал, что отец мой сапожник, а сам я в реальном училище, но вот решил – на фронт. Поверили они, нет, не знаю, но только доехал я с ними до Августовских лесов.
Там был пеший переход до города Сувалки. По дороге, в грязи. Пришли, вдали пушки бухают. Тучи над горизонтом висят, снизу подсвеченные, как в театре. Я сначала не понял, что это – дым и пожары видны. Там – фронт.
Сибиряки мои, против прежнего, перестали балагурить, и все прислушивались и крестились. Лица у всех от отсветов пожаров были багровые и строгие, словно индейцы делавары на совет собрались.
Потом наступило утро. Солнышко выглянуло, и все вокруг как будто повеселело. Я пошел бродить по лесу и нашел чьи-то брошенные и наполовину залитые водой окопы. Вот она, война! – в землю втоптаны черные от крови бинты, валяется разорванная шинель, тут же – пробитый осколком котелок. Пошел дальше – на солнечный просвет. Вышел на поляну. Там, ровным рядом, как в строю, в одном нижнем белье лежат солдаты. Все мертвые. Руки у всех скрещены на груди, и у каждого горящая свеча. Вдоль ряда идет православный священник – машет кадилом и что-то нараспев читает. Пахнет ладаном и еще чем-то. А у всех солдат такие восковые лица, как у кукол. И перед этим мертвым строем стоят два офицера…
– Мертвые?!! – не выдержал Риччи.
– Живые, конечно, дурачина! В полной форме, с шашками, и смотрят, как поп ходит.
Ночью наша часть должна была передислоцироваться поближе к фронту и тогда уж вступить в бой. Когда настал вечер, мне дали чайник и в сопровождении солдата отправили на вокзал за кипятком. На вокзале солдат взял меня за руку, так, что я уж вырваться не мог, и передал жандарму. И тут же, через час, меня отправили в Москву…
– То есть ты ни разу не ходил с шашкой в атаку? – разочарованно спросил Риччи. – И никого не убил?
Роза сидела и сосредоточенно листала журнал «Нива», в котором фотографии высокородных сестер милосердия сменялись портретами героев. В конце был опубликован список погибших офицеров. Около каждого имени стоял крестик, похожий на карты «треф».
– Я все равно в гимназии не останусь и еще сбегу, – упрямо согнув тонкую шею, сказал Марсель. Лампа подсвечивала красивым малиновым цветом его оттопыренные уши. – Победить германцев – это главное сейчас для всех дело.
Аморе беззвучно плакала. Она словно наяву видела пронизанную солнцем поляну и строй раздетых до белья мертвых солдат. Почему-то ей представлялось, что всех их убили те два офицера и казак Кузьма Крючков. Ей было страшно, и она знала, что война не может быть главным делом для всех, но слов, чтобы сказать об этом Марселю, у нее еще не было.
* * *
Глава 11. В которой изучают иностранные языки, читают Пушкина и сравнивают коммунизм с царствием Божьим
– Хочется, Маша, хочется, чтобы уже, наконец, была зима-зима, и все снегом засыпало. Все! Белым-белым снегом. Только выйдет ли? Навряд…
– Я Марфа теперь… Да, растеплело нынче изрядно…
Люша и поповна Маша (ныне – сестра Марфа в Свято-Введенском монастыре) стояли у старой водяной мельницы.
Оттепель: крики ворон, тревога в мокром упругом воздухе. Туман, капель, налетают внезапные порывы влажного ветра, запах стелющегося к земле дыма, по мельничному лотку течет черная вода, по краям досок темно-зеленый, почти черный мох, падают со звоном подтаявшие сосульки.
– Мне непривычно тебя Марфой кликать, но я попробую. Как же ты теперь живешь? Нравится тебе?
– В монастырь не для удовольствия идут, а для спасения, – строго сказала Маша. – А так, снаружи, если молитвенного дела не касаться, что ж – обыкновенная жизнь. Летом и осенью в саду или в огороде работаем, зимой рукоделье всякое на продажу. Наш вот монастырь уж почти сто лет изготовляет басму и фольгу для икон, восковые цветы венчальные…
– Да спасайся на здоровье, мне-то что! – фыркнула Люша. – А я тебе тут от Лукерьи пирожков принесла, твоих любимых, с черешней и пареной малиной…
– Грех чревоугодничать-то, – наставительно произнесла Маша, забирая сверток из Люшиных рук, и едва заметно улыбнулась краешком узких губ. – У нас в монастыре стряпают изрядно, но против вашей Лукерьи пирожков кто ж устоит? Батюшка тебе до сих пор Флегонта и Черемошинскую часовню простить не может – не в последнюю очередь как раз из чревоугодия: из деревни-то он каждый раз к вам завертывал и Лукерья его из уважения так кормила, что едва не лопался…
– Ничего, – пожала плечами Люша. – Коли отец Даниил похудеет чуток, так ему только на пользу…
– Соглашусь. Хоть священнослужителю вроде и положено в теле быть, но батюшка в последние годы – жирен уж не в меру. А ты почто ж в трауре?
– Аркадий Андреевич Арабажин на фронте погиб. Помнишь его?
– Помню, конечно. Но ты уж совсем, Люшка, с ума сошла – при живом муже траур по другому мужчине, и не родственнику носить…
– А бывала в своем уме? Напомни, когда ж это? – усмехнулась Люша.
– Может, и не бывала, – подумав, согласилась Маша. – Аркадия Андреевича жаль. Нынче же помолюсь за него…
– Расскажи, как о нем помнишь, – остро взглянула Люша. – Ты Марфа теперь, за Машу не в ответе.
Маша подняла плечи, отвернулась. Туман разошелся, темно и утробно журчала вода, наверху, над головами, метались под ветром деревья.
– Он один и был, кто во мне тревожил… не знаю что… девичество, быть может… Еще в твоих рассказах, как он тебя на баррикадах спасал, когда я его и не видала вовсе. Не ведаю, почему так… Грешно это было, понятно, но даже исповедник мой не знал, по какой части этот грех числить. Помыслы о незнакомом человеке? Да не было никаких таких помыслов… Тревога только и еще прямо словами: «может быть». И все, ничего больше. Потом, когда он на твою свадьбу приезжал, я издаля на него посмотрела, и сразу узнала, будто видала раньше. Именно такой, как и помнился, и знался мне. Как это может быть? Дьявольские игры, тут и сомнений никаких. Ну, я к нему пошла и все как есть рассказала. Думала, он смеяться надо мной станет и все сразу кончится…
– А он?
– Он сказал…
– Маша, ты вот здесь врешь чего-то… Тебя Бог за вранье накажет, а мне правду знать надобно…
– Господи, прости рабу твою грешную!.. Ну, вру… Я сначала больной прикинулась, чтобы он меня осмотрел. У него руки сильные и теплые, до сих пор помнится. Господи, прости! А он понял почти сразу и говорит: «Девушка, милая, вы здоровы вполне, но что-то все-таки с вами происходит? Что же?»… Вот тут я ему все и рассказала. А после мы с ним долго еще говорили…
– О чем же?
– О коммунизме.
– О чем, о чем?!
Маша вздернула узкий подбородок:
– Мы, если хочешь знать, и после того раза еще встречались. Сидели, как и с тобой, на скамейке у Синих Ключей. Он мне книжки приносил почитать и непонятное объяснял. Я Маркса читала – «Манифест». И мы с Аркадием Андреевичем договорились…
– Договорились?! – всплеснула руками Люша. – Промеж собой? Ты – со своим Богом и он – со своим коммунизмом?!
– И нечему тут удивляться! Ты вот всегда только о себе думала, в крайности о тех, кто прямо рядом, а есть, между прочим, и такие, которые о судьбах всего мира скорбеют и утруждаются. Вот, к примеру, христианские подвижники или вот коммунисты. Дурак только не разберет, что ихний коммунизм и царство Божье на земле есть одно и то же. Но вот в методах и социальной опоре мы с Аркадием Андреевичем разошлись решительно. Я так думаю, что надо революционерам объединиться с воинством Божьим. Неправильная установка на крестьян у эсеров или на пролетариат у социал-демократов. Это вторично. Нельзя построить царствие Божье без любви. А Любовь только у Бога… Тогда Аркадий Андреевич сказал, что про Любовь он согласен, но надо ведь как-то разрешить и экономические вопросы…
Люша закрыла лицо руками.
– Ну, Январев, – пробормотала она сквозь пальцы. – Я с тебя просто обалдеваю… Маш, Маш, ты погоди про экономику, ладно? Все равно ни я, ни ты, ни, я подозреваю, бедный Аркаша ничего в ней не понимали и не понимаем. Разъясни-ка мне лучше по своей, по божественной части… Мне так хочется иногда за него молиться… Но я даже бумажку поминальную не смогла подать, и свечку за упокой не смогла поставить, пальцы не держат. Почему так? Я же вроде крещеная, и часовню вон в Черемошне построила… Маша или уж Марфа, ты скажи мне теперь: ты ведь этого Бога живьем чувствуешь? Знаешь? Раз всю жизнь на то положить решилась?
– Ну разумеется, знаю, – снисходительно улыбнулась Маша. – Только ведь Бога, Люшка, за взятку не купишь и не позовешь…
– А как, как оно? Расскажи! Почему я ничего про Него не чую? Ведь вот маленькие всякие, местные вещи, вроде нашей девки-Синеглазки я очень хорошо чую, и душу лесную, и озерную, и прочее… А Бог – он ведь намного, в миллион раз огромней всего этого, как я же могу жить и Его не заметить? Иногда я думаю, что я его знаю и вижу сто раз, но только разобрать не могу, что это именно Он, а не что-нибудь другое еще, потому что меня ведь дома не учили ничему такому, а после у дядюшки Лео решили, что поскольку они католики, а я в православие крещена, так это будет насилие над моей душой, и не надо вообще ничего… Объясни же мне сейчас, Марфа, как ты Бога знаешь?
Теперь Маша отчетливо побледнела, сильно сплела пальцы обеих рук и спрятала их в рукавах…
– Далеко Его не надо искать, – медленно сказала она. – Взять хоть наш лес, у тех же Синих Ключей место, где скит стоял. Там бывает такая тишина, что сколько бы ни шумел ветер, ни звенела вода, ни пели птицы, она только увеличивается. Это Он. И вот как здесь сейчас пахнет сыростью, и где-то заходит солнце, и стволы кругом, потом вдруг далеко ударит соборный колокол на колокольне, и еще, и еще раз, и запоет весь воздух – легким, немного колеблющимся скорбящим гулом. Как будто рыдание Его над этим бедным миром, словно сама вечность плачет о разлуке. И нет доброты и грусти вечерней более глубокой. Это тоже Он. А если поднять голову, то стволов уже не видно в сгустившейся тьме, и только мерцает между ветвей одна звезда, полная невыразимой далекой нежности. И это тоже Он…
– Одна звезда, полная невыразимой нежности… – эхом повторила молодая женщина. – Звезда перед рассветом… Маша! – Люша подалась к старшей подруге и вдруг, как в детстве, прислонилась лбом к ее плечу. Монахиня обхватила ее обеими руками, с силой прижала к себе и некоторое время в сгущающихся сумерках слышались только всякие влажные звуки: журчание воды, сдержанные всхлипы и шмыганье двух носов… – Но почему ж я не могу молиться за него?! Или хоть службу заказать? Мне так хочется!
– Это проще простого объяснить, – отстранив Люшу, без всякого выражения сказала Маша. – Нельзя молиться за упокой живого человека. Люшка в Него не верит, но Он Люшке недолжного сделать не позволяет. Какой же тебе еще нужен знак?
– Ты, Марфа, теперь в монастыре, стало быть – сестра Его? – спросила Люша.
Маша еще не сообразила, что сказать, а молодая женщина уже опустилась на колени прямо в раскисшую грязь и благодарно прижалась сухими и горячими губами к ее руке. Потом вскочила и быстро, не оборачиваясь, пошла прочь.
* * *
– Что ж, допрыгались?! Допрыгались! А я, между прочим, давно тебя предупреждал!
Александр вошел стремительно, гневно раздувая ноздри и подрагивая углом губ. Люша подняла взгляд, не торопясь отложила перо, посыпала песком исписанный лист…
Александр против своей собственной воли («Читать чужие письма – гадость, гадость!») успел ухватить взглядом обращение и болезненно скривился: ««Милый Аркаша!» – боже мой, ну что, что можно тут, в этом доме разрешить, если хозяйка его регулярно пишет письма покойнику и невозмутима при том, как китайский идол. Безумие…»
В памяти всплыли и намертво застряли чьи-то дурацкие стихи еще «пифагорейских» времен:
«Пустынный шар в пустой пустыне Как дьявола раздумие Висел всегда, висит поныне Безумие, безумие» (стихи А.Белого)Она подняла глаза – светлые почти добела, острые почти до боли:
– Александр, что случилось?
– Приезжал уездный урядник Карагосов. Калужское жандармское управление интересуется несовершеннолетним уличным кукольником, называющим себя Кашпареком, и запрашивает в полиции подтверждение, действительно ли он постоянно проживает в имении Синие Ключи. Карагосов к нам с совершеннейшим почтением, но просит войти в положение…
– Где Кашпарек?
– Я бы сам хотел это знать! Чтобы хотя бы раз, по случаю, задать ему знатную трепку!
– Ты с ним не справишься, Алекс, он очень ловкий и сильный, ты же видел, сколько он может держать Олю на вытянутых вверх руках. Ты – не удержишь и минуты. Так его нет в усадьбе?
– Похоже, никто не видел его уже дня три. Я хочу спросить тебя: ты вообще следишь за своими приблудышами?!
– За Кашпареком нельзя следить, – поморщившись от громкого голоса Александра, ответила Люша. – Ему уже исполнилось 14 лет. На улице, среди босяков это возраст полного и окончательного возмужания. Он приходит и уходит, когда ему вздумается, никого особенно собой не обременяя…
– Люба, но это в конце концов невыносимо! Очнись! – вскричал Александр, с трудом сдерживая желание схватить супругу за плечи и хорошенько потрясти. – Ты сейчас говоришь так, как будто бы он, ты, все мы до сих пор живем «на улице»! Но ни я, ни наша дочь никогда на этой треклятой «улице» не бывали, а для тебя период «босячества» давно в прошлом! Неужели ты не понимаешь, что чертов мальчишка действительно достаточно взрослый, чтобы своими выходками подвести всю нашу семью под монастырь?!
– Да, – Люша сложила письмо и убрала его в ящик бюро, поверх уже значительной стопки. – Надо поговорить с ним.
В полутемной, выходившей окном в кусты комнатушке, которую занимал Кашпарек, его не было. Люша беззастенчиво порылась в двух ящиках небольшого стола, сразу же нашла газету от шестого августа с отчеркнутой красным карандашом статьей. Манифест российской чехословацкой колонии. (4 августа российские чехи обратились к русскому правительству с предложением о создании Чехословацкого легиона в составе русской армии – прим. авт.)
«Чехи, дети общей славянской матери, удивительным образом выжившие как часовые на Западе, обращаются к тебе, Великий Суверен, с горячей надеждой и требованием восстановления независимого чешского королевства, чтобы дать возможность славе короны Святого Вацлава сиять в лучах великой и могущественной династии Романовых…»
– Кашпарек – чешский националист. Надо же… – пробормотала Люша. – Чего только в войну не бывает. Но Оля должна хотя бы приблизительно знать, где он теперь.
Оля сидела на козетке и украшала перышками и тряпичными незабудками шляпку Капитолининой куклы. Капочка расположилась на ковре у ног Оли и давала указания:
– Вот это, это перышко еще туда приделай. Рыжее.
– Рыжее с синим не сочетается, – заметила Оля. – Давай лучше белое вот сюда…
– Это у тебя не сочетается, а у меня все сочетается, – возразила Капочка. – Синее небо и рыжее солнышко – что скажешь?.. Ой, мама пришла! Мама, мама, смотри, какая у моей Вари будет шляпка! Как у дамы в журнале!
Капочка запрыгала вокруг Люши.
Оля молча поднялась с козетки и стояла, опустив глаза.
– Ты знаешь, где Кашпарек? – спросила Любовь Николаевна.
– Нет его. Позавчера… нет, третьего дня, сразу, как Владимира к дедушке Мартыну в лес повезли, тем же вечером и Кашпарек ушел… Я ему говорила, что холодно, и я беспокоиться за него стану…
– А он?
– Да ему ведь наплевать, кто чего чувствует, он только долг еще как-то разумеет, что с Володиными причудами справляться надо, а без него – кому же…
– Понимать долг – это уже много, – заметила Люша. – А куда же он ушел? Не говорил?
– Собирался в Калугу. А как на деле вышло… он же, как дедка-шарманщик покойный, легко путь меняет. Когда мы бродили еще… Решили, значит, идти туда-то. Дошли до развилки. Кашпарек говорит: «Вот, там ветер в лицо, а здесь попутный. Идем с ним». И мы идем не туда, куда собирались, а куда ветер дует… Ему это просто, все дороги его…
– Как это чудесно, Оля! – вздохнула Капочка. – Я бы тоже хотела так бродить…
– Не дай тебе Бог! – с испугом воскликнула Оля и перекрестила девочку.
– Кто со мной в Калугу поедет? – спросила Любовь Николаевна.
– Я, я! – закричала Капочка. – А Ате с нами можно?
– Я тут обожду, – сказала Оля. – Урок свой по кружевам закончу…
– Ты просто боишься! – неожиданно сказала Капочка, наставив на Олю палец. – Боишься ехать за ним, увидеть…
– Капа, пальцем тыкать некрасиво, – машинально указала Люша, легко признавая в своем голосе интонации Анны Львовны десятилетней давности.
– Да, боюсь, – спокойно сказала Оля, сложила кукольное рукоделие в корзинку и вышла из комнаты.
* * *
Белка тыкалась бархатной мордой в плечо и шею Люши и ласково пофыркивала, но на нее сегодня никто не обращал внимания и даже ничем не угощал. Кобылка явно обиделась и, изловчившись, откусила помпон с Атиного берета. Атя завизжала от возмущения и стегнула Белку прутиком по морде. Белка оскалилась и мотнула крупной головой, отбрасывая девочку к стене (лошадка была небольшого роста, но, как и ее мать, чрезвычайно головаста). Пес Жулик, крутившийся тут же, с лаем бросился на Белку, защищая хозяйку. Капочка кинулась увещевать Жулика. «Па-ашла-а!» – оглушительно рявкнул Фрол на Белку. Кобылка прижала уши и по-кошачьи присела. Молодой конюх втянул голову в плечи и перестал запрягать сани.
– Люба, ну куда ты собралась? – нервно спросил Александр, который со сложным чувством, играя бровью, наблюдал за происходящим со стороны. – В твоем положении невместно…
– Да черт вас всех побери! – заорала Люша. – А ты чего хотел-то, Алекс, когда ко мне притащился?! Испугался жандармов, очко заиграло?.. Фрол, да запряжете вы когда-нибудь эту падаль, или мне самой с хомутом бегать? Белка, стерва поганая, убью и собакам скормлю! Атька, в кладовке на неделю запру и жрать не дам! А псов твоих кретинских на живодерню отправлю!
– Капитолина, пойдем со мной! – страдальчески скривившись, воскликнул Александр. – Миссис Уилсон ждет.
– Ой, папочка, а я-то забыла миссис Уилсон сказать! – всплеснула ладошками Капочка. – Но ты ведь ей скажешь, да? У нас не будет сегодня урока, потому что мы с мамочкой и Атей едем Кашпаречка искать!
– Люба, ну зачем таскать с собой детей? Ты же сама не знаешь, куда едешь… Не говоря уж о пропущенных занятиях…
– Голый расчет, – сквозь зубы ответила Любовь Николаевна, помогая молодому конюху приладить постромки. – Этот идиот Кашпарек в присутствии девчонок меньше кочевряжится. И этим, кстати, выгодно отличается от большинства других идиотов, которые в аналогичной ситуации кочевряжатся сильнее обыкновенного…
– «Висел всегда, висит поныне… – Александр прикрыл глаза и отвернулся. – Безумие, безумие…»
* * *
В Калуге остановились в гостинице «Феникс». Атя робела и швейцара, и накрахмаленную горничную, и даже официанта в гостиничном ресторане. Капочку (она была в гостинице первый раз) все забавляло. Она крутила краны с холодной и горячей водой, опускала и поднимала шторы на веревке.
Люша оставила уставших девочек в номере, переоделась и, разменяв у швейцара пригоршню мелких монет, отправилась в город на разведку.
Утром поехали уже целенаправленно – по Садовой, мимо Манежа, к Сенной площади. Ледяная изморозь висела в воздухе, сырой снег хлюпал под копытами, цветные вывески казались размытыми, как будто тоже подтаявшими. Выплыл из белесого марева театральный фасад, неспокойная очередь у дверей булочной… За булочной, в широком дворе, тоже толпился народ – веселый, предвкушающий.
Успели как раз к началу дневного представления (согласно полученным Люшей сведениям, случались еще и представления вечерние, в свете факелов – для вернувшихся домой фабричных и мастеровых).
– Давай, Кашпарек, давай, жарь, покажи им! – подначивали собравшиеся.
Кашпарек вышел из-за импровизированной ширмы, составленной из двух деревянных строительных подставок для блоков кирпичей. Высокий, тонкий, весь в черном, с серьезным отрешенным лицом.
«Он нас сейчас узнает…» – шепнула Капочка матери.
«Он никого сейчас не узнает, – ответила Люша. – Он артист. Есть он и есть зрители. И все».
– Рассмеши нас, Кашпарек! – крикнула барышня с рыжим, задорно выбившимся из-под берета локоном.
– Вот еще! – хмуро отозвался Кашпарек. – Хватит из меня дурака-то делать. Поговорим сегодня об умном? Так?
– Так, так! – восторженно отозвались мальчишки-ученики из ближайших лавочек, подпрыгивая от холода на месте и тщетно пытаясь закутаться в худую одежонку. – Жарь про умное, Кашпарек!
– О пользе изучения иностранных языков! – объявил Кашпарек и тут же, как всегда неожиданно, откуда-то у него из-за пазухи выпрыгнула и сразу ожила марионетка, одетая в синий жандармский мундир («Изготовил сам? – удивилась Люша. – Или Оля, никому не сказавшись, сшила втихаря?»)
– Кашпарек, ну что ты все бузишь и мутишь народ?! – обратилась марионетка к мальчику. – Занялся бы лучше чем-нибудь умственным, полезным.
– Я бы с превеликой охотой, вашбродь, – угодливо изогнулся Кашпарек. – Но скумекать не могу: чем же мне таким заняться?
– Да вот, вот… – марионетка, задумавшись, зачесала под мышками и затылок под фуражкой, напомнив с готовностью рассмеявшимся людям ярмарочных обезьянок, а потом, наконец сообразив, радостно взбрыкнула ногами. – Вот! Скоро наши доблестные войска завоюют всю Европу, и стало быть, нам понадобится с ней на ейном языке разговаривать, потому, как они все там дураки и по-русски не разумеют. Учи языки, Кашпарек! Ты ведь, небось, не знаешь…
– Самую малость, ваше благородие!
– А вот я тебя сейчас проверю! – оживился жандарм-марионетка. – Стой смирно и отвечай сразу, по сторонам не виляй!
– Слушаюсь!
Дальше жандарм и Кашпарек заговорили на два голоса, нараспев, под все нарастающий хохот собравшейся толпы:
– По-французски – ле-савон?
– А по-русски – мыло!
– У французов – миль пардон?
– А у русских – в рыло!
– По французскому – рояль?
– А у нас – гармошка!
– У французов – этуаль?
– А у нас – матрешка!
– У французов – все салат.
– А у нас – закуска!
– По-французски – променад?
– А у нас – кутузка!
– По-французски – сосьете?
– А по-русски – шайка!
– У французов – либерте?
– А у нас – нагайка!
Глазастые уличные мальчишки первыми заметили приближающегося к скоплению народа городового, сцепили руки, образовали что-то вроде живой стены и закрыли собой Кашпарека и его зрителей.
– У французов – все фромаж?
– А у нас – бутылка!
– По-французски – ле вояж?
– А по-русски – ссылка!
– По-французски – дилетант?
– А у нас – любитель!
– По-французски – интендант?
– А у нас – грабитель…
Городовой пронзительно засвистел, мальчишки состроили вокруг него что-то вроде бешено крутящегося хоровода, а их главарь крикнул:
– Беги, Кашпарек! Не то в кутузку загребут!
Люди подались в стороны, но не расходились, перемигиваясь, переговариваясь и ожидая вероятного продолжения спектакля – ареста уличного артиста.
Капочка от страха присела и закрыла глаза ладошками. У Ати в беличьих глазах блеснули злые огоньки, она напружинилась и приготовилась к драке или бегству – по обстоятельствам.
Массивный городовой корпусом прорвал окружение мальчишек и шел размашистыми шагами.
– Кашпарек, але-оп! Фляк, ренд-ап, сальто! – крикнула Люша.
Мальчик оглянулся, сунул марионетку за пазуху и, внезапно подпрыгнув, прошел мимо ошеломленного городового, становясь попеременно то на руки, то на ноги.
Люша подбежала к саням, закинула туда Капочку, сгребла Атю, освободив место для запрыгнувшего уже на ходу Кашпарека.
– Гони! – заорала она кучеру, но лошади уже и так неслись, разрезая полозьями саней желтоватый слежавшийся снег.
Обескураженный городовой и хохочущие и свистящие зрители остались далеко позади.
– Это все ерунда! – раздраженно сказала Люша, быстро собирая вещи в гостиничном номере. Атя помогала ей. Кашпарек сидел за столом и пил принесенный горничной горячий сладкий чай, держа чашку обеими руками. – Это все и в газетах пишут. Чего ты еще говорил? На злобу дня и жандармов?
– На злобу дня? – усмехнулся Кашпарек. – Да вроде ничего. Разве Пушкина читал? Но это ведь не считается? Он же умер давно…
– Пушкина? – удивилась Люша. – Что же?
– А вот это:
«Народ мы русский позабавим, И у позорного столба, Кишкой последнего попа Последнего царя удавим…»Это же Пушкин написал?
– О, Господи! – только и сказала Люша, сдавив ладонями мучительно ноющие виски.
Глава 11. В которой у Люши рождается дочь
Роды длились 28 часов. Колдунья Липа, ветеринар из Синих Ключей (он лечил Люшу с самого детства, еще во времена Николая Павловича) и приехавший под утро фельдшер из Алексеевки изнемогли вконец.
Люша смотрела в потолок и вслух считала крашенные в кремовый цвет плашки, которыми он был отделан. Александру, который иногда подходил к дверям и слышал этот мерный счет, казалось, что он сходит с ума. Люша как-то угадывала его появление и громко говорила сквозь зубы: «Займись детьми»
Потом продолжала считать.
Все дети сбились в одной комнате и сидели на двух диванах, похожие на зайцев. Даже также косили от испуга глазами. Говорить с ними или уж тем более чем-то их занимать, Александру не хотелось совершенно.
Он выпил чаю, умылся и лег спать. Заснул вопреки всем опасениям сразу, как убитый.
– Мама ведь не умрет? – спросила Капочка у Кашпарека, положив свои ручки на его высоко поднятые коленки.
– Сложение у нее узкое, – уклончиво ответил Кашпарек. – По-разному выйти может… – он длинными пальцами легко погладил девочку по голове. – А если все ладно пройдет, так ты кого хочешь – брата или сестру?
– Мне все равно, – изо всех сил сдерживая слезы, сказала Капочка. – Но лучше все-таки девочку, потому что из маленьких у нас уже Агафон и Владимир есть.
– Мать-то небось сына теперь хочет, – заметила Оля.
Родилась девочка, с большой головой и круглыми зелеными глазами.
– Как ты ее назовешь? – спросил Александр, навестив роженицу в спальне и фактически отказавшись взглянуть на новорожденную, которую, восторженно мыча, буквально совала ему Груня.
– Мне все равно, – устало сказала Люша. – Объявляю конкурс по усадьбе.
После долгих препирательств девочку крестили Варварой, в честь главной Капочкиной куклы. Самой Люше из предложенного больше всего понравилось имя «Пистимея» (так звали любимую бабушку Феклуши, которая лучше всех в деревне рассказывала сказки), но все прочие этому имени почему-то решительно воспротивились.
Варечка отличалась отменным аппетитом и много спала. У Груни в огромных грудях внезапно появилось пропавшее год назад молоко, и она иногда тайком докармливала Варечку. Люша орала на нее, бешено вращая глазами, и требовала это прекратить. Приехавший с лесниковой заимки Владимир тут же что-то почуял, подсуетился и охотно и ласково сосал Грунино молоко. Агафон молока не любил, но Владимира, если удавалось поймать с поличным, исправно колошматил после каждой трапезы.
Люша подстриглась и как будто еще исхудала. Варечкой почти не занималась (было кому!), ходила по усадьбе как призрак, повсюду сопровождаемая Белкой, которая с рождения обладала странно вкрадчивой, вовсе не лошадиной походкой, становилась злее с каждым днем и в целом, по размерам и повадкам, напоминала не жеребенка, а большую кошку-альбиноса – пардуса или ягуара.
Оля три дня тайком караулила Александра у его кабинета в конторе, а на четвертый он просто случайно придавил ее дверью.
Пропуская ее в кабинет, Кантакузин заметил, что за зиму у Оли выросла вполне симпатичная, трогательно юная грудь, и сейчас она весьма выразительно колышется и волнуется. Волосы у Оли тоже волновались и напоминали спелую рожь под ветром. Впервые за почти два года Александр вспомнил тот проклятый праздник у Сережи Бартенева, на котором Оля изображала маленького ангела, отважно сражающегося с чертом-Кашпареком за душу танцовщицы-Люши.
– Что тебе тут нужно?
Оля расплакалась так, как будто играла сцену «слезы героини» в провинциальном театре. При том Александр должен был признать, что провинциальное искусство достигло цели – девочку (девушку?) хотелось утешить.
– Александр Васильевич, да нешто вы не видите ничего! А как Любовь Николаевна чахоткой больна?! Надо бы ее доктору враз показать! Вот у меня мама так же чахли, чахли, а потом упали да и померли враз…
– Но почему ты пришла с этим ко мне? – нахмурился Александр, голосом выделив местоимения.
– А кто ж ей, кроме вас, скажет? – удивилась Оля. – Вы же Любовь Николаевне законный муж!
– Гм… да, действительно… – несколько даже смутился Кантакузин. Муж. Жизнь сложилась так, что он все время забывал об этом обстоятельстве.
– А что до меня… – продолжала Оля, манерно промокнув слезы изящным кружевным платочком (Александр тут же вспомнил, что на именины девочка подарила ему дюжину носовых платков, обшитых самодельным кружевом… Где-то они сейчас? Надо бы сыскать…). – Глаза-то в усадьбе у всех есть, конечно, но… Вы ж прислугу за людей, которые вам советовать могут, не считаете, так? Кроме, быть может, Насти, но она за Любовь Николаевну ввек слово не скажет. А из ее детей я самая старшая, Кашпарек не в счет, у него глаза в горизонт смотрят…
«Ее дети, – подумал Александр. – А что же я? «Пустынный шар в пустой пустыне…»»
Глава 12, В которой Энни Таккер сожалеет об упущенных возможностях и открывает салон «Домашняя кошка»
Зеркала, зеркала… Кажется, в особняке Гвиечелли не осталось ни одного – все переехали сюда, в просторное помещение, украшенное легкой колоннадой, сразу вызывающей в памяти венецианское Палаццо дожей. Анна Львовна Таккер, в длинной черной ажурной накидке и с сильно завитыми волосами, подхваченными повязкой поперек лба, ходила по залу, отражаясь во всех зеркалах одновременно.
– Сначала я хотела, чтобы это был викторианский уют. Вы понимаете? В противовес… Маленький островок мира и покоя среди всего этого бреда войны. Должны же люди отдыхать где-то. Камины, теплые деревянные панели, веджвудский фарфор… Но они, – от широкого плавного жеста легкие рукава взлетели, открыв округлые руки по локоть, – они этого сделать не позволили.
Максимилиан Лиховцев смотрел на ее запястье, схваченное тяжелым металлическим браслетом, больше всего напоминающим деталь автомобиля или аэроплана. Оно, запястье, осталось таким же соблазнительно нежным, в мягкой розовой тени – как прежде, когда она носила на руках тонкие филигранные цепочки с бриллиантами и сапфирами, и точно так же хотелось прижаться к нему губами… почти так же – до головокружения… Анна Львовна поймала его взгляд и не торопясь опустила ресницы, продолжая как ни в чем не бывало:
– Я не могу их оставить маме и не могу никуда деть. Это мое вечное бремя. Но здесь они ожили. Посмотрите. Вот это было совсем мутным…
Она шагнула вплотную к большому зеркалу, и оно показало ее во весь рост, чрезмерно четко – статную даму, которой подошел бы королевский наряд… впрочем, подходил и этот, под черной накидкой, состоящий словно бы из множества текучих лоскутков. А чуть поодаль – худой мужчина в юнкерском мундире, смотревшемся куда неуместнее лоскутного платья. Светлые волосы над высоким лбом сильнее обычного напоминали нимб. «Это потому, что я лысею… лысею со лба, няня Фаина сказала бы: ум кудри гонит…»
– Как удивительно, что вы совершенно не меняетесь, Максимилиан, – вполголоса произнесла Анна Львовна Таккер. – Сколько бы лет ни прошло, а вы все тот же мальчик.
Трудно поверить, но она говорила искренне. Она, которая изо всех сил хотела измениться – а напрасно. Была царственной чародейкой и ею осталась. Анна – Яблоневый цвет.
– Я так благодарна, что вы пришли мне помочь. В таких вещах у меня совершенно нет опыта. Скажите же, что здесь еще нужно добавить… или изменить?
Меньше всего он был готов сейчас ответить на вопрос, что нужно добавить в этот холодный зал, чтобы он превратился в место, куда захотели бы приходить люди. По чести, что ни добавляй – все бесполезно. Но не говорить же ей.
– С ходу не придумаешь, верно? Как жалко, что совсем не осталось времени. Считанные дни до выпуска, и потом сразу…
Почему нельзя просто поцеловать эту руку, скованную стальным браслетом?..
«Я вовсе не хочу ее целовать. Это надо было сделать в свое время – а я не сумел, и вот теперь прошлое ожило и просит чего-то».
– Как же мы с вами нелепы в этом зеркале.
Максимилиан, который думал о том же, слегка вздрогнул. Анна Львовна повернулась к нему лицом. Она была немного ниже его, и он хорошо видел скрученный серебристый шелк повязки и локоны – продуманно небрежные, каждый уложен и даже, кажется, закреплен там, где должно. Тонкий аромат… и впрямь яблоневого цвета. Взгляд – темный, звездно мерцающий, откровенный абсолютно…
– Мы не отсюда, эта страшная эпоха вытесняет нас. Для своих-то она, может, не страшна, но мы… Вы ведь тоже чувствуете это, Макс? Вы всегда были провидцем! Зачем этот салон, разве он что-то удержит? Я пытаюсь… Скажите, есть ли выход?
Она отнюдь не собиралась говорить так много – он должен был прервать ее и перейти к действиям, но секунды шли, а он молча смотрел на нее, с тенью того прежнего восхищения, смутной, как отражение в старом зеркале.
Анна Львовна умолкла. Помедлив еще чуть-чуть, отступила на шаг и поинтересовалась, поправляя туго закрученную прядь:
– Это из-за нее, да?
Макс даже не сразу понял, о ком она. А поняв, удивился тому, насколько она права.
– Вы были синей птицей и летали в небесах, – усмехнувшись, протянула Анна Львовна. – А потом приземлились в клетке на жердочку, и Люба вас пристегнула цепочкой. Вернее, даже не она, ей это было не нужно. Вы сами… И все кончилось. Как я сразу не разглядела. Бедное дитя.
После этих слов оставалось только откланяться и уйти, но тут хозяйка будущего салона шагнула вперед – к Максимилиану.
– И все-таки, – заявила решительно, совершенно всерьез (впрочем, иронизировать она и не умела), – все-таки вы меня поцелуете.
Что Максимилиан и сделал – тут же, без раздумий и рефлексии. И это продолжалось долго – достаточно долго, чтобы горничная, заглянувшая доложить, что чай подан, постояла в дверях, хлопая глазами, и безмолвно скрылась. Макс ее, само собой, не заметил. Анна Львовна, скорее всего, тоже – впрочем, к ее услугам были зеркала, в которых отражались все двери.
– Я отпущен до завтра, – Максимилиан сумел наконец найти секунду, чтобы вставить слово. – Сейчас сниму комнаты…
– Зачем? Я знаю, у тебя есть. Я приеду…
– Там пыль, там никто не живет…
– Пыль. Как чудесно.
Она засмеялась. За ее спиной, меж двух зеркал, светился в окне розовый зимний закат.
* * *
Ей все-таки удалось. Начать с того, что гости входили не с парадного крыльца, а с черного – в глубине двора, где громоздились наметенные дворником сугробы и торчала воткнутая в снег лопата устрашающих размеров, как раз для того, чтобы совать грешников в жерло адской печи. Об аде напоминал и дрожащий красно-желтый огонь камина, который становился виден сразу, как открывалась дверь – в конце довольно длинного сводчатого коридора, сплошь увешанного зеркалами. Гость шел по коридору, и его отражения повторяли друг друга – справа и слева, утопая в сумрачной бесконечности… а впереди все ярче разгорался свет, и все яснее становилось, что никакой это не ад, а напротив, место отрады и отдохновения. Гулкая несуразная зала благодаря стенным панелям темного дерева сделалась меньше и гармоничнее. В ней появились ширмы, большие диваны и маленькие столики, запахло яблоневыми дровами, сдобой и корицей. Зеркала остались только на стене по обе стороны камина, где стояли кресла, занятые хозяйкой салона (когда она не плыла по зале, даря страждущим улыбки и взоры) и теми, кого хозяйка хотела видеть рядом с собой.
Напротив камина имелся просторный подиум неправильной формы, освещенный электрическими шарами, в которых крутились будто бы снежные искры. Когда Максимилиан вошел, там как раз выступал очень высокий молодой человек в ярко-оранжевой с черными квадратами жилетке (прочих предметов его одежды из-за этой жилетки было просто не разглядеть) – остро модный поэт-футурист. Раскачиваясь и стуча ладонью по крышке испуганно гудящего рояля, он ругал хозяйку салона за то, что она не внемлет духу эпохи:
– …Рроссия с гррохотом рушится в прропасть! Кррабий миррок – меррзость! Сверрнуть дрряблую…
Максимилиан вспомнил, как с год назад водил этого поэта, недавно приехавшего из малороссийской деревни, по московским гостиным, пропагандируя свежий талант – и неловко поежился, чувствуя себя так, будто ему за шиворот насыпали иголок. В следующий миг ему стало футуриста жалко – когда увидел, как Анна Львовна, окруженная гостями, улыбается и аплодирует. Точно так же, в окружении детей, она аплодировала фокусам Луизы или ловким кульбитам Розиной болонки. С той же пленительной улыбкой, дивной, как майский яблоневый сад…
«С чего я его-то жалею? Ведь будущее – за ним, а эта царственная стать, эта улыбка – тень, просто тень от облака, которое гонит ветер…»
– Вот вы, господин юнкер! Да-да, вы! Судя по всему – приняли эту войну всерьез? Стало быть, знаете, кто – кого – и зачем? Так объясните же наконец и нам, бедным!..
– Это не юнкер… это – Лиховцев, Петя! Стыдно…
Макс огляделся, увидев наконец, что зала, оказывается – полна народа, большей частью знакомого, с явным преобладанием театральной богемы. Уютно расположившись на мягкой мебели, они пили коньяк и шампанское, тянулись за тарталетками, кто-то рвался дискутировать, кто-то блаженствовал, погружаясь туманным взором в глубины венецианских зеркал… Анна Львовна, по-прежнему улыбаясь и на ходу кивая кому-то, двинулась к новому гостю. На руках у нее, неведомо откуда взявшись, устроилась дымчатая персидская кошка. Гладко уложенные волосы, простое платье, тонкий обруч на лбу, взгляд – открытый, чистый… Мелизанда.
…Три сестры на башне Ждут в тоске всегдашней…[1]– Все-таки пришел, я уж и не надеялась.
Максимилиан молча поцеловал протянутую руку.
– Жаль, не успел к началу. Было интересно. Даже Майклу понравилось… и он не уехал на свой завод, где производится срочный заказ – удивительно.
Макс невольно посмотрел по сторонам в поисках мистера Таккера, но наткнулся взглядом на футуриста, который сидел на рояле, как на столе, болтая ногами, и, мрачно усмехаясь, говорил какому-то господину из публики:
– …Да, локомотив разрушения… А это неважно, нравится или нет… Не остановить…
– Он прелесть, правда? – шепнула Энни. – И я согласна: я читала Маринетти… В птичьих головках нет мозгов, но их голосами говорит Бог… Агаша, – она оглянулась, – возьми Миу-Миу.
Важная горничная приняла из рук барыни разнежившуюся кошку, коротко, остро глянула на Лиховцева. И тот почувствовал легкий озноб, увидев себя ее глазами: худой, облезлый юноша в мундире, который подходит ему примерно так же, как детские штанишки на помочах.
«Черт! Неправда!»
В глазах Анны Львовны он отражался совсем другим. Впрочем, и это отражение ему решительно не нравилось – и он, чтобы избавиться от нелепых мыслей и ощущений, не нашел ничего лучше, как ввязаться в дискуссию о духе эпохи.
– Почему мы так тяжело живем, так стесненно душой?
– Потому что на нас падает тень грандиозного завтрашнего дня, который не оставит камня на камне от дня сегодняшнего.
– Но радоваться б надо, что вся эта сегодняшняя затхлость будет повыметена.
– Нечему радоваться. В завтрашнем дне места для нас не будет.
– Человек будущего будет сверхчеловеком. Он будет властововать паром, атомом и электричеством, но ему будет чуждо нытье и жевание соплей.
– Да, да, помните у Чехова? – «Все-то мне кажется, что штаны на мне скверные, и пишу-то я не так, как надо, и порошки больным выписываю не те…»
– Этого всего не будет? Тогда один нюанс: сверхчеловек это ведь уже и не человек вовсе. Пар, электричество, атом – вот они, а людей – нету, кончились люди. Вам не страшно?
Кто-то захлопал – и целый хор, во главе с футуристом, принялся азартно возражать. Макс обернулся к Анне Львовне:
– Я, в общем, должен идти. На рассвете – поезд… совестно, что…
– Уже?.. – ахнула она, перебивая, на миг даже показалось – сейчас расплачется. Это Анна-то Львовна!
– Я провожу…
Гости продолжали спорить. Руководимый Агашей лакей ходил среди диванов, ловко меняя тарелки и наполняя бокалы. Всем было хорошо и уютно, хотелось спорить дальше и чтобы бок согревало тепло камина. Собственно, ради этого и задумывался салон Энни Таккер.
Сумрачный коридор с зеркалами сжался, не желая никого выпускать. Анна Львовна шла впереди, ее платье мягко шелестело, духи пахли жимолостью.
– Вот здесь твоя шуба.
Отдернулась портьера между зеркал, за ней, в тусклом электрическом свете – гардеробная: громоздящаяся одежда на вешалках, внизу – ряды зимних сапог с калошами. Острый запах сырого сукна и меха. Анна Львовна резко повернулась к Максу лицом.
– Да что же это такое! Почему же я раньше ничего не понимала?!
Ее глаза блестели, как зеркальца, разбитые вдребезги, голос дрожал.
Потом они довольно долго ничего не говорили, только целовались, в коротких перерывах не сдерживая шумного, лихорадочного дыхания, как будто впереди у них было много времени и возможностей для чего угодно. Ничего, однако же, больше не произошло; в какой-то момент Энни приглушенно вскрикнула, высвободилась… и спустя неизвестно сколько времени Макс, все еще вдыхающий облако жимолости, сообразил, что стоит в одиночестве и сосредоточенно застегивает шинель, морщась и стиснув зубы.
В коридоре никого не было, а во дворе оказался Майкл Таккер, без шубы и шапки, но с большой лопатой в руках, которой он с силой поддевал сугроб. Увидев Максимилиана, он воткнул лопату в снег и стал хлопать себя по бокам, ища, очевидно, трубку, которая торчала у него из нагрудного кармана. Его широкое лицо из-за неровного света фонаря казалось пятнистым.
Макс остановился.
«Вот только подраться мне сейчас не хватает. С английским фабрикантом».
– Вы… едете, значит, на фронт? – услышал он голос, слегка запинающийся, будто английский фабрикант внезапно подзабыл русский язык; и кивнул:
– Да. Еду.
– Just now… Стало быть… – Таккер пробормотал что-то еще, отступая в сторону.
Макс шагнул вперед. Он не хотел смотреть на Энниного мужа, но зачем-то посмотрел и увидел именно то, чего боялся: растерянный, мучительно недоумевающий взгляд… Этот взгляд, он знал, теперь останется с ним надолго – в отличие от облака жимолости, которое выветрилось куда раньше, чем он приехал в казармы.
Глава 13. В которой у артиллеристов не хватает снарядов, богема читает военные стихи, а Юлия Бартенева проводит ночь с собственным мужем
«Приветствую тебя, дорогой отец!
Как же бесконечно досадно, что реформа, предложенная в 1912 году лучшими умами Военного ведомства, не была завершена до войны хотя бы в объеме «Малой программы»!
Я, как ты знаешь, артиллерист.
Без поддержки артиллерии вести современную войну решительно невозможно – это ясно любому, даже, думаю, тебе.
Положение с артиллерией в нашей армии не скажу, что катастрофическое, но все же очень сложное. Только легкие орудия имеются в приблизительно достаточном количестве, но и здесь надо учесть, что каждая германская пехотная дивизия имеет вдвое более легкой артиллерии, чем наша. Не хватает почти половины мортир, тяжелых орудий новых типов практически нет совсем, имеются в наличии пушки отливки 1877 (!!!) года. В осадной артиллерии, как оказалось, совсем не имеется материальной части (как наступать?!) и ее существование только числилось на бумаге. Наличествует только 20 % от необходимого пулеметов, 55 % трехдюймовых гранат для полевых орудий и 38 % для горных. Крайне мало бомб для 48-линейных гаубиц, и в наличии только 26 % от необходимого числа орудийных прицелов новых систем.
К лету 1915 года Артиллерийский департамент заказал на русских заводах девять тысяч пушек. Получено в действующую армию 88.
Суди сам.
Как я могу выполнять свои прямые обязанности?
Жизненно необходимо производство, современное, отвечающее вызову войны. Тыл должен напрячь все свои силы, чтобы мы здесь, на фронте, могли победить врага. Чтобы изготовить современную винтовку, требуется 156 деталей, 1424 операции, 812 замеров. Не лапоть сплести…
Ты, может быть, помнишь, что еще в школьные и кадетские годы я очень любил арифметику, и в напряженные минуты своей жизни всегда утишал душевное беспокойство с помощью несложных, но скрупулезных арифметических подсчетов.
Нынче, как видишь, я поступаю также. Недавно подошел к штабной карте, измерил линейкой и, используя известные мне данные о численности войск, подсчитал, что в настоящую минуту на каждые двенадцать сантиметров фронта приходится по одному солдату.
Невероятная концентрация человеческой энергии.
Как она разрешится?
Одно можно сказать точно: мир после Великой войны не останется прежним.
Отец, пожалуйста, поцелуй за меня маму, и убедительно скажи ей, чтобы она за меня не волновалась.
Остаюсь искренне ваш Валентин Рождественский
Июнь 1915 года»* * *
«Мы – Богема! Беспокойная, бездомная, мятежная Богема, которая ищет и не находит, творит кумиры и забывает их во имя нового божества. В нас созревает творчество, которое жаждет прекрасной формы.
И в этот момент, когда искусство терзают вопли и кривляния футуристов, надутое жеманство акмеистов и предсмертные стоны мистиков, когда храм превращен в рынок, где торгуют рекламой джингоизма (агрессивный шовинизм. – прим. авт.), где справляют бумажную оргию за счет великой и страшной войны, – мы откладываем в стороны личины, бубенцы и факелы, пестрые лоскутья карнавала. Мы обрываем свист, покидаем кабачки и чердаки, мы отправляемся в дальний путь искания новой красоты, ибо в одной красоте боевой меч всеутверждающего жизненного «Да».
Красота венчает форму. Форму, вечно умирающую и вновь рождаемую, так как нет конца исканиям и вечно вдаль уходит божество, недосягаемая идея.
Вас, молодые, одиноко ищущие, мы зовем с собой на этот новый путь. Вас зовет Богема, одна свободная среди несвободных, берущая жизнь, как царь, из своей муки и позора, подобно женщине, творящая формы. Придите к нам. Мы – Богема».
(манифест из журнала «Рудин», Петербург, 1915 год, текст, по всей видимости, принадлежит Л.Рейснер – прим. авт.)
Максимилиан Лиховцев – худощавый человек с венчиком светлых волос вокруг высокого чистого лба отложил журнал, и с выражением некоторого недоумения на узком лице достал из коричневого конверта листочек, исписанный красивым, с завитушками почерком.
«Бесценный Максимилиан Антонович!
Зная и уважая Ваш опыт в издании журналов «Новый народный журнал» и «Новая мысль» и, одновременно, в богемном житии, мы, молодые, но дерзкие решаемся искать Вашей рецензии и Вашего совета относительно плодов нашего нескромного гения…»
В дверь постучали – негромко, но решительно.
– Пожалуйста, войдите, – сказал Макс.
Вошла невысокая женщина, в башлыке, очках и башмаках без каблуков. Огляделась остро, словно прицениваясь к обстановке комнаты на аукционе.
Комната, кстати говоря, вполне такому взгляду соответствовала. Нежилой дух витал в ней – застарелый запах табака, сырой бумаги и еще чего-то мало уютного. Часть книг, прежде теснившихся в шкафу и на полках, теперь увязана бечевкой и сложена в коробки. На опустевшей консоли, предназначенной для растений в кадках – одинокий сухой сморщенный лист. Очевидно, что хозяин заглядывал сюда редко и ненадолго.
– Здравствуй, Макс! Не знаю, право, узнаешь ли ты меня…
– Господи, Надя! Здравствуй, рад тебе! – воскликнул мужчина, поднялся навстречу женщине и дружелюбно забрал обе ее руки в свои длинные прохладные ладони. – Сколько лет. Синие ключи. Разговоры за столом под лампой. Сирень в окно. Молодость. Каким ветром? Что – ты? Что – Юлия? Знаешь ли ты?..
Она узнала его прежнюю манеру говорить – на восходящем тоне, с непременным вопросом в конце.
– Со мной все по-прежнему и все хорошо, Макс. А вот ты – юнкер? Это удивительно не вяжется!
– Отчего же? – он, кажется, почти обиделся. – Я сразу пошел в Алексеевское училище. Ускоренный курс. Через месяц – выпуск в полк…
– «Раньше был он дворником,
Звать его Володя,
А теперь он прапорщик –
Ваше благородие», – не удержавшись от желания поддразнить, Надя напела уличную частушку. Макс тут же поймался.
– Что ж: все могут защищать Россию, даже дворники. А я, на твой взгляд, не могу? Почему, что во мне не так?!
– Окстись, Макс! – вмиг став серьезной, сказала Надя. – В отличие от дворника Володи ты в университете учился. На историческом, между прочим, факультете. Кто на Россию нападал? Когда? Это война империалистов, за экономический передел сырьевого производства и рынков сбыта. Народ России здесь такая же жертва, как и народ Германии…
– Так ты – из «пораженцев»? (пораженцы – сторонники поражения в войне своего государства. Во время Первой мировой войны такой позиции придерживались большевики во главе с В. И. Лениным, рассматривавшие поражение России как способ «превращения войны империалистической в войну гражданскую» – прим. авт.) – удивился Макс.
– Оставь. Я – из здравомыслящих людей. Но не стану спорить с тобой, потому что из прошлого знаю – переубедить тебя невозможно. Тебе удобно жить в мире эфира и алых зорь, экономика – слишком низкая и скучная для тебя материя. Но ты – взрослый человек, и я принимаю твой выбор. В конце концов, сражаться и даже погибнуть на войне – не такой уж плохой жребий для мужчины. Однако я пришла говорить с тобой о другом.
– О чем же?
– Из интересов той самой Юлии, о которой ты меня спрашивал, мне нужны твои связи и твоя осведомленность о жизни богемы – московской и, возможно, петербургской.
– Вот так номер! – рассмеялся Макс и скосил глаза на лежавший на столе журнал, на густо-сиреневой обложке которого был изображен составленный из квадратиков черно-белый чертик. – Я тихо сидел, смотрел в окно. Снег внизу в оттепель обтаял и блестел под фонарем, как глазурь на куличе. Мне было сладенько. Вспоминал молодость, наш кружок «пифагорейцев». Тут же мне принесли журнал с этим дурацким богемным манифестом. А потом – впервые за много лет – ко мне приходишь ты и спрашиваешь опять же про богему. И – говоришь – нет эфира? Объясни-ка тогда с точки зрения экономики и сырьевых рынков – а?
(Впоследствии австрийский психиатр К. Юнг назовет это всем известное в повседневной жизни явление синхронизмом («synchronicity»), но так и не даст ему никакого внятного объяснения. Забавно, что на развитие концепции синхронизма имело влияние знакомство Юнга с Паулем, лауреатом нобелевской премии по физике за исследования над элементарными частицами (а отсюда уже совсем недалеко и до эфира, о котором говорит Лиховцев). – прим. авт.)
– Не стану объяснять, – мотнула круглой головой Надя. – Но ты мне поможешь?
– В чем же конкретно?
– Сейчас я тебе все объясню…
– Тогда – садись. Вот… – развернул кресло, смахнул с него пачку залежавшихся бумаг. Над бумагами взлетело пыльное облачко, и Наде вдруг показалось, что Макс двигается наугад и вот-вот упадет, потеряв равновесие. Она даже шагнула – поддержать… но, конечно же, это была иллюзия, которая тут же исчезла.
* * *
Вошли с заднего входа, со двора, в низкую, узенькую дверь, на козырьке которой лежал узенький кривой сугробик.
В полутемной, сводчатой, но обширной прихожей расписались в огромной книге, которая лежала на подобии аналоя перед большой красной свечой.
«Лейб-гвардейского Его Императорского Величества полка поручик Джулиус фон Райхерт», – написала Юлия. Надя собственноручно поставила крестик, а Юлия аккуратно ниже приписала «и Назар Кукуев – денщик его (неграмотен)»
Через парадный вход, с Итальянской улицы тоже входили какие-то люди.
– А что ж мы-то со двора? – спросила Юлия у Нади.
– Парадный только для «своих», бесплатно, – объяснила Надя. – Свои – это поэты, писатели, музыканты, актеры, художники. А мы с тобой – «фармацевты» или «провизоры».
– «Фармацевты»? – Юлия удивленно подняла брови. – Что ж это значит?
– Это значит – два рубля за билет на необъявленный вечер и от пяти рублей – на объявленный.
– Понятно. Нынче какой вечер?
– Объявленный, конечно. «Щит Марса». Маскарад из истории военных мундиров и чтение военных же стихов.
– Я плачу, ладно? У меня, как выяснилось в последнее время, много лишних денег.
– У нас есть от Лиховцева рекомендательное письмо к писателю Троицкому. Ты случайно не знаешь, как он выглядит?
– Если он не очень загримирован и не очень постарел, пожалуй, узнаю. Когда мне было четырнадцать, я зачитывалась его стихами, а над моей кроватью висел его портрет. «Луна как бледная роза, отцветающая на небесах…» – что-то в этом духе. Но зачем нам письмо, если мы уже заплатили за вход?
– Ты знаешь, я с детства совершенно не понимаю стихов. Никогда не могла отличить плохие от тех, которые считаются гениальными. Но много позже четырнадцати я читала два романа Троицкого и его эссе об интеллигенции. Последнее мне понравилось. Такое, знаешь ли, мужество отчаяния – человек обнаружил, что его поезд уже ушел, но полностью сохраняет достоинство и не опускается до пошлых нападок на служащих железной дороги и более удачливых пассажиров… А касательно письма, что ж: всегда удобно быть немного «своим». Может быть, дадут столик получше…
Гостей встречал хозяин «Бродячей собаки» в костюме Марса. Шлем смотрелся на его крупной голове весьма внушительно, яркие глаза воодушевленно горели («Кокаин или эфир», – шепнула Юлия Наде), а вот обнаженные в соответствии с образом икры были тощие и волосатые. Ширмы, украшавшие зал и создававшие атмосферу, были расписаны батальными сценами от начала человеческой истории в две краски – черная и красная. Народу собралось уже порядочно. Жужжали голоса, лязгали мечи и доспехи, шумели крыльями валькирии.
Надя крутила головой с простодушным интересом (как, впрочем, и положено денщику, внезапно попавшему в расположение «господ»), по сильно загримированному лицу Юлии ни о чем невозможно было догадаться.
– Жаннет, дорогая, умоляю тебя… – Арсений Троицкий потер пальцами висок. – Вон там, за столиком у стены, справа от колонны, сразу под райской птицей… Они, как я понял, из московской знати. Макс Лиховцев прислал письмо, просил оказать покровительство, но я нынче – не могу, не могу… У меня раскалывается голова, болит живот… Опять говорить ни о чем, слушать вздохи и удерживаться от желания поковырять в носу во время многозначительных пауз…
– Вон тот офицер и его денщик? – спросила Жаннет Гусарова, наряженная в полном соответствии с фамилией.
– Да, да.
– Поручик весьма эффектен, – признала Жаннет. – Редко кому идет мундир Павловской эпохи. Для этого нужно иметь идеальные ноги и уметь носить парик. Это мужчины или женщины?
– Черт его знает! «Денщик» сунул мне письмо в самой сутолоке: «Господин поручик имеет честь…» У Макса наверняка есть имена, но я, если честно, даже не дочитал… Да какая, в конце концов, разница! Улыбнись им, покажи быстренько, кто есть кто, и возвращайся. Все-то займет у тебя четверть часа, а я, Бог даст, буду спасен от убитого вечера и ночного приступа мигрени…
– Ладно, Арсений…
– Жаннет, ты – моя спасительница!
«Не боясь собачьей ямы, Наши шумы, наши гамы, Посещает, посещает, Посещает Сологуб…»– Это гимн «Бродячей собаки», – пояснила Жаннет, мастерски выпуская колечки дыма и удовлетворенно наблюдая, с каким, явно врожденным, изяществом обхватили бокал тонкие, но сильные пальцы поручика. – Вообще у нас очень хороший оркестр – Бай, Карпиловский, Хейфец, Эльман… А Сологуб, если вам повезет, будет сегодня читать…
– Я его не люблю отчего-то… – призналась Юлия.
– Где-то я с вами соглашусь, Джулиус, – качнула головой Жаннет. – Этот его душный, загнанный в подполье эротизм…
– В подполье? – переспросила Надя. – Я бы сказал – в корзину для грязного белья. С редким плетением, чтоб можно было разглядеть…
– Да, да, – рассмеялась Жаннет. – А вон там, за роялем – Кузмин, тоже кумир и тоже по-своему воспевает эротизм… видите, вокруг него толпятся поклонники… Хотя нынче он поет о войне…
«Небо, как в праздник, сине, А под ним кровавый бой. Эта барышня – героиня, В бойскауты идет лифт-бой…» (М.Кузмин)– Некоторых его поклонников я знаю, – заметила Юлия. – Вон тот, кажется, молодой князь Бартенев…
– Да, да, – кивнула Жаннет и безжалостно, глядя поручику прямо в глаза, добавила. – У нас часто бывают люди из знати, их, как мух, тянет к гнильце…
– Именно. Как мух, – безмятежно согласилась Юлия.
«Если ж только из-под пушек Станешь ты гонять лягушек, Так такой не нужен мне! Что уж нам господь ни судит, Мне и то утехой будет, Что жила за молодцом. В плен врагам не отдавайся, Умирай иль возвращайся С гордо поднятым лицом…» (Ф.Сологуб)– Он идиот? – спросил Рудольф Леттер у князя Сережи.
– Нет. Он Сологуб, – ответил Сережа. – Стилизация под народную солдатскую песню. А что, разве непохоже?
– Кругом идиоты, – раздраженно сказал Рудольф и огляделся. – Даже здесь. Только в небе можно быть от них свободным…
– Тоже мне, ангелочек нашелся! – рассмеялся Сережа. – В небе! Так тебя там и ждут! И, кстати, знай, Руди, в последнее время ты становишься невыносимо однообразным с этими своими моторами, лонжеронами, «мертвыми петлями»… Пойди выпей еще или понюхай чего-нибудь. А потом возвращайся и давай-ка оглядимся: есть ли тут сегодня что-нибудь замечательное или хотя бы новенькое?..
– Взгляни-ка вон на того павловского поручика в парике… Как он тебе?
– Мне, пожалуй, больше нравится денщик, – весело сообщил Сережа, приподнялся, но тут же рухнул обратно на стул, не в силах удержать равновесие. – Он, во всяком случае, живой и колоритный. А поручик в этих лосинах, пудре и парике похож на заиндевевшую сосульку и одновременно – на мою жену…
– Что ж, – пожал плечами Рудольф. – Значит, ты можешь приударить за ним на почти законных основаниях. Разумеется, если сможешь подняться во весь рост и сделать несколько шагов… Но я, пожалуй, действительно отойду на пару десятков минут…
«Друзья! Но если в день убийственный Падет последний исполин, Тогда, ваш нежный, ваш единственный, Я поведу вас на Берлин» (И.Северянин)– высокий человек с томным лицом простужено пропел последние строчки стиха.
– Мне хочется умыться! – громко сказала Юлия.
– Именно, Джулиус, именно умыться! Как вы это верно сказали! – сверкая глазами, воскликнул Рудольф Леттер. – Когда в сей грозный час я слышу подобные вирши, мне хочется смыть с себя все и обнаженным взмыть в небо…
– Замерзнешь, идиот, – заметил Сережа. – Там холодно.
– … и оттуда, подобно Зевесу, – не слушая, продолжал Леттер, – разить и разить врагов…
– …Только голый Руди Леттер реет гордо и свободно… – процитировал князь.
– Я совершенно согласен! – горячо сказала Надя и залпом допила из рюмки плохой коньяк. – Когда каждый день тысячи людей гибнут на фронтах, писать и уж тем более читать такие стихи – это просто пошло! Вымыться и взлететь!
– У меня всю кожу от этой дурацкой пудры стянуло, – объяснила Юлия.
– Назарчик, вы просто прелесть! – промурлыкал Сережа, тиская под столом толстенькую, но упругую Надину коленку. – А какой у вас в этих дурацких штанишках аппетитный задик…
– Ваше сиятельство, а как же субординация? – пьяно захихикала Надя. – Вы – князь, а я – простолюдин, денщик!
– О, драгоценный Назарушка, это не имеет решительно никакого значения! – воскликнул Сережа и икнул три раза подряд. – Я – князь-демократ. И мне всегда безумно нравились молодые солдатики. Вы были кантонистом (кантонисты – малолетние и несовершеннолетние сыновья нижних воинских чинов, которые образовали как бы особое состояние или сословие лиц, принадлежащих со дня рождения к военному ведомству. Кроме солдатских детей, в школы кантонистов, на основании постепенно издающихся постановлений, направлялись сыновья бедных жителей Финляндии и цыган, там кочевавших; польских мятежников; шляхтичей, недоказавших свое дворянство; раскольников; беспризорных детей, и малолетних евреев-рекрутов, – прим. авт.), Назарушка?
– Кантонисты были упразднены в 1856 году, – сказала Надя. – Мой дед по матери был кантонистом.
– Я так и знал!
– Давайте уедем отсюда! – сказала Юлия.
– Давайте, поручик! – с жаром подхватил Рудольф. – Эти люди – богема, они ничего не понимают в Марсовых делах и только оскверняют своими потугами святое дело войны… За веру, царя и отечество! – вдруг громовым голосом провозгласил Леттер, ловко вскакивая на стул с бокалом в руках. За столиками, отведенными «фармацевтам», с энтузиазмом подхватили его тост. Надя зааплодировала. Князь и Юлия с двух сторон придержали качающийся стул.
– Действительно, Руди, Джулиус прав, поехали в ресторан, – поморщившись, сказал Сережа. – Там, по крайней мере, не будет такого дурного шампанского… Назарушка, вы ведь приехали из Москвы? А где остановились? В «Англетере»? В «Европе»? В ресторане «Европы» неплохо готовят стерлядь и всегда свежие паштеты, а больше ничего хорошего… Ну, решим по дороге…
Двинулись к выходу – через центр зала, мимо обширного пустого стола, на котором, было дело, несравненная Павлова танцевала «Лебедя». Сейчас возле него неподвижно стояла раскрашенная, как японская кукла, и обвешанная тяжелыми украшениями женщина, с глазами огромными и круглыми, как у совы.
– Она и есть – Сова… Хозяйка, – шепнул Сережа, крепче прижимая к себе Надин локоть. – Глядите – вот сейчас… Всем известно, она моментально определяет, талантлив ты или так, пыль придорожная.
Равнодушный взгляд неторопливо скользнул по лицам проходящих, не изменившись ни на миг. Поручик и денщик также остались невозмутимы, а вот князь отчего-то дернулся.
– Мене, мене, текел, упарсин! – провозгласил он, невольно ускоряя шаг. – Взвешены на весах и найдены очень легкими! Ни грамма божественного огня! Руди, тебе это должно понравиться – невесомую сущность поднимет любой аэроплан…
* * *
– Сережа, ну почему у нас в ванной плавает рыба с усами?
Длинная зимняя ночь давно растаяла, за шелковыми шторами цвета незрелого персика тянулось серое утро… или уже день, такой же серый… а, может, уже и подбирался серый вечер. Свет электрических ламп под матовыми абажурами был бы уютен, если б, отражаясь в монументальных зеркалах, не превращал спальню в гостиничном номере в подобие бесконечной бальной залы.
– Это сом, – не поднимая головы, пробормотал спящий на ковре Леттер. Он был совершенно обнажен, если не считать неизвестно как оказавшегося в номере кивера Жаннет Гусаровой, которым Надя целомудренно прикрыла чресла Рудольфа. – Нам должны были его сварить в ресторане «Кавказский», но не успели. Деньги были уже уплачены, и мы взяли его с собой в ведре…
– И что же мне теперь делать, если я хочу принять ванну?
– Джулиус, ну что вы как маленький! – осторожно пошевеливая пальцами голых ног, сказал князь Бартенев, лежащий поперек широченной кровати и одетый в простую ночную рубашку Нади. – Положите его пока в биде и откройте воду, а потом проедемся по набережной, найдем полынью и выпустим бедолагу в Неву…
– Ах, Сережа, я понимаю, что ваша любовь к животным в общем-то должна считаться достоинством, но если бы вы знали, как она мне осточертела еще до заключения нашего брака! – вздохнула Юлия.
Молодой князь взлетел с кровати, словно подброшенный пружиной. Запухшие глаза его округлились и, остро торча из толстых покрасневших век, стали выглядеть как-то откровенно неприлично.
– Юлия?!! Что вы здесь делаете?!!
Рудольф приподнялся на руках, по-кошачьи выгнув спину, обозрел всю сцену целиком и тут же принялся хохотать, катаясь по ковру, суча ногами и прижимая к животу кивер.
– Н-не зря! Н-не з-зря тебе каз-залось! – выдавил он из себя между приступами хохота. – Это н-не просто п-похожа… это… это она и есть!
– Что я здесь делаю? – невозмутимо переспросила Юлия. – Да, собственно, то же, что и вы – прихожу в себя после веселого богемного карнавала. Кстати, этот номер – наш с Надей и чем скорее вы из него уберетесь, тем лучше… Надя, ты можешь взять эту рыбину в руки? Я бы хотела все-таки ванну… Хотя нет, нет, подожди, пусть они сами – вдруг она тебя укусит?.. Сережа, долго мне еще ждать?
– Сейчас я все сделаю, – Руди вскочил с ковра и, всего два раза упав, натянул штаны. Потом сходил в ванную комнату, пустил воду и пересадил сома обратно в латунное ведро с клеймом ресторана.
Вернулся и опустился на одно колено перед Юлией.
– Джулиус! – торжественно сказал он. – Ваша ванна готова. И знайте: в эту ночь мое мнение о Юлии Борисовне Бартеневой поменялось решительно и бесповоротно. Я ничего не помню, но это было божественно.
– Аминь, – усмехнулась Юлия и поплотнее запахнула у горла парчовый, расшитый розами и украшенный собольей оторочкой халат.
Надя надела очки, сунула кулачки в карманы короткого фланелевого халатика и со сложным выражением на круглом лице смотрела на ковер. Точнее, на одно его место. Князь Сережа проследил ее взгляд, посмотрел туда же, со свистом втянул воздух сквозь стиснутые зубы и землисто побледнел.
Глава 14. В которой «пан доктор» вспоминает свое прошлое
Крепкий, пахучий, густой, плавящийся на губах бульон. Вкус – первое вернувшееся впечатление, он был еще до всего, на уровне инфузории или иного простейшего организма. Вот инфузория плавает в насыщенной органическими остатками луже, обволакивает их своей цитоплазмой, шевелит ресничками (обучаясь в университете, он не раз видел это под микроскопом), и ей – вкусно, вкусно, вкусно…
Откуда-то сбоку зазвучала человеческая речь. Разговаривали трое или четверо. Отдельные слова были как будто знакомы, но общий смысл высказываний ускользал совершенно.
Тут же вспомнилось, как в детском дневнике Люша описывала свои, по очереди просыпающиеся чувства. Кажется, там было так: запах, зрение, и только потом слух. Про вкус не упоминалось, но человеческая речь ей вначале казалась именно звучащей впустую, лишенной смысла.
Что же с ним произошло?
Он внезапно вернулся в детство?
Нет, детство было давно. Он это отчетливо знает и помнит. Оно не ушло совсем, как не уходит ничто из когда-то пережитого нами, но скрылось за занавеской из елочной мишуры, спряталось за огромными, до неба, деревьями, растаяло вместе с маминым смехом и ее гладкими, пахнущими розовым маслом волосами, которые падали ему на лицо, когда она целовала его на ночь.
А что было недавно?
При приближении к передовой над поездом поднимали два больших флага с красным крестом.
Полевой санитарный поезд – теплушки, четыре классных вагона, один – операционная. До койки доходил уже с закрытыми глазами, чтобы еще чуть-чуть поспать на ходу. В глазах – постоянная резь, словно время от времени под веки подсыпают песок. Раздевался и ложился на ощупь. Чаще всего раздеваться было лень. Как-то четыре дня не снимал сапоги. Ноги отекли и не вылезали. Старший врач Ильинский лично заставил его разрезать голенища, лежать час с задранными на дощатую стенку ногами, а потом выдал новую пару сапог.
«Я – медик. Когда-то врач общей практики, а после, уже на войне – на все руки».
Стены в операционной постоянно протирали скипидаром, полы мыли карболкой. Но поверх всего в ней постоянно стоял душный, теплый, костно-мясной запах, как будто хозяйка приготовляется варить бульон. Санитары из недоучившихся студентов падали в обмороки, а его даже не тошнило – в нем просто просыпался волк или пес, и хотелось сладко и отчаянно выть на крупную, празднично плывущую в осенних небесах луну, которую он видел иногда, выходя покурить на площадку вагона.
Раненных привозили на фурманках и санитарных двуколках с красным крестом на зеленых брезентовых полотнищах.
Слух становился избирательным после первого же рейса на позиции. Крики, канонада, разрывы желтоватых облаков шрапнели – все это воспринималось как сопроводительные шумы в театре. Основное действие – операционная, освещенная яркими электрическими лампами (в вагоне был свой генератор). Только команды хирурга, если он ассистировал, или вопросы и ответы коллеги, если ассистировали ему самому. Санитары и сестры милосердия учились понимать все без слов.
Отупев от усталости и отключив ненужную сенсорику, он долго не мог понять, почему на станциях рядом с поездом бледнеют мужчины и крестятся и плачут женщины. Они заведомо не могли видеть ничего из происходящего внутри, так как окна вагонов до середины закрашены белой краской. Строгая сестра из монашек по имени Анна заставила его прислушаться, и, стоя на загаженных запасных путях, он вдруг понял: весь вагон с ранеными совокупно и жалобно стонал – непрерывно, на одной, довольно высокой ноте. Это открытие совсем не затронуло его чувств на уровне сознания, но как-то странно отреагировала вегетативная нервная система – ощутимо зашевелились все волосы на теле.
Удивляли и запоминались совсем другие, как будто бы неважные вещи. Например, мертвые лошади. Убитые на полях сражений, они сохраняли те причудливые позы, в которых умерли. Издалека казалось, что скульптор-безумец украсил местность опрокинутыми конными статуями.
И еще мусор, огромное количество мусора, которое почему-то действовало на него успокаивающе. Коробки от папирос «Ира» и «Цыганка Ада», пробитые фляги, обрывки бумаг, левый сапог, раздавленная каблуком деревянная ложка, иконка, австрийский штык-кинжал, уже тронутые ржавчиной, неровно открытые жестянки из-под консервов… Пройдя на закате по месту, где три дня назад шел бой, он спугнул с десяток собак, кошек и черную скрюченную старуху, которая ходила по полю с заостренной клюкой и что-то собирала в грубо плетеную корзину. Потом равнодушно пронаблюдал, как деловитая ворона тянет куда-то заскорузлый от крови бинт. Из залитого водой окопа выпрыгивали лягушата, низкое солнце горело в бутылочном осколке. Теперь он вспомнил свою тогдашнюю мысль и почти улыбнулся ей: похожие мусорные развалы он находил мальчишкой и так же любил подробно рассматривать их на улицах, площадях и в пригородах Москвы после многочисленных и многолюдных праздничных гуляний. Припомнил и многотысячные митинги по поводу начала войны и их приподнятую атмосферу. Кровавая война – как праздник, разгуляй народов? Или все-таки передел империалистических влияний? Есть ли здесь противоречие?
«Оказывается, я – социал-демократ. Почему это кажется мне забавным и одновременно печальным? Что может быть забавного или печального в социал-демократии?»
Вот!
Земля грохотала. В вагонах звенело и дребезжало все, что могло дребезжать. Небо на юге заволокло дымом от горящих деревень. Поезд шел по мосту, внизу была темная вода, которую, как шрапнель, хлестал дождь. Навстречу рысили мокрые беженские обозы. В кирпичных развалинах одиноко стояли уцелевшие печи.
Погрузка. Сортировка. Все – санитары, сестры, врачи – работают слаженно, как одна большая многорукая и многоногая машина.
Раз-два. Раз-два. Десять, двадцать, пятьдесят, сто…
Пули звонко хлещут по рельсам. Звенят выбитые стекла.
Поезд уже полон, но раненые не убывают. Их кладут в коридорах, в проходах, в тамбурах… Сколько же всего уже убили и покалечили людей на этой войне?
Желтое, восковое лицо мужчины. Он молодой или в годах? Не разобрать, страдание уравнивает все возраста. Широко открытые глаза, похожие на вишни, где-то изнутри налитые кровью. Сестра шепотом описала состояние: все внутренности разворочены осколком, даже если выдержит сердце, сепсис почти неминуем.
– Он вас знает, – шепчет Анна. – Спрашивал фамилию. Петр Ильич оперировал полтора часа, сделал все, что мог, но вы сами видите…
– Боже, Камарич! – он наконец узнал это лицо и сразу ужаснулся тому, что ничего больше не предстоит делать, а только в бессилии ждать… – Лука, я…
– Это перст Божий! – прошептал Камарич. – Дайте пить.
– Вам нельзя! Анна, подайте мне чашку…
Он выбеленным пальцем смочил бескровные губы, которые тут же сложились в знакомую лукавую усмешку.
– Мне уже все можно. Сколько у вас есть времени для меня в этом аду?
– Увы, ни минуты. Я только что заступил. Через пять минут операция.
– Когда перерыв?
– Если не случится ничего сверхштатного, то ночью, где-нибудь между двумя и четырьмя часами.
– Приходите в вагон, найдите меня. Я должен с вами поговорить. Четверть часа от силы.
– Лука, вы…вам…
– Не бойтесь, я дождусь вас живым, не сдохну прежде. Это важно для меня, поэтому я выдюжу.
– Ждите, я приду, – твердо пообещал он.
Выходя спустя четырнадцать часов из операционной, он споткнулся об цинковый ящик, в который складывали отпиленные руки и ноги, упал и рассек себе бровь об угол стола. Анна сноровисто промыла и замотала рану, но глаз все равно заплыл и почти перестал видеть. В уцелевшем глазу даже под закрытым веком, раздражая до осатанения, мерцало синеватое пламя спиртовки, на которой непрерывно кипятили хирургические инструменты.
Губы раненого обметало красным, глаза-вишни погрузились внутрь черепа. Но взгляд их оставался ясным.
– Вас тоже ранили?
– Ударился, ерунда.
– Вы должны знать: я – провокатор, я предал…
– Лука, успокойтесь, вы бредите…
– Заткнитесь и слушайте меня. У нас у обоих мало времени. Я много лет работал и на эсеров и на охранку. Не из-за денег и не за идею. Сначала, может быть, стыд, страх разоблачения. Ведь в первый раз меня арестовали гимназистом шестого класса… Потом уже мне казалось, это даже весело, наверное, тут как-то замешана психология власти. Я предотвращал те акции, которые казались мне ненужными, и организовывал те, с которыми был внутренне согласен. По мировоззрению я скорее эсер, чем монархист. В 905 году на Пресне… Помните, вы хотели умереть на баррикадах, потому что незадолго до того привели свою дружину прямо под пули жандармов. Погибли люди. Так вот, вы должны знать – эту провокацию организовал я. Правда, я не знал, что они будут стрелять на поражение. Речь шла об арестах главарей боевых дружин, чтобы предотвратить дальнейшее развитие беспорядков. Когда мы с вами встретились в лаборатории Прохоровской фабрики и вместе изготавливали бомбы, весь этот расклад был мне еще неизвестен. Но потом, однажды, из вашего скупого рассказа я все понял. Это случилось, когда мы с вами уже стали добрыми приятелями и выдавали замуж барышню-цыганку Осоргину… Уже после я пытался своими связями вывести вас из-под удара, но это, конечно, ничего не искупает…
Молчание повисло, как мокрая паутина.
– Вы должны меня ненавидеть.
– Я не знаю… – честно ответил он. – Война все меняет. За три последних месяца я видел слишком много смертей…
– Война меняет, да, – согласился Камарич. – На это я и рассчитывал… Меня почти раскрыли. Партия, эсеры. После покушения на Карлова, в котором участвовала Луиза Осоргина. Почему-то хочу, чтобы вы знали: я не втягивал ее в террор. Это она сама выследила и фактически взяла в оборот меня… Это ни в чем меня не оправдывает, но все же… После акции я скрывался у Раисы Овсовой, может быть, вы помните, я рассказывал вам…
– Вдова? Сектантка? Которая называла себя «богородицей»?
– Именно. Я так у нее и жил… как у «богородицы» за пазухой… Любил ее. Первый раз в жизни. Но… Не смог, сбежал на войну. Не жалею. Даже сейчас…
– Ну конечно, – он заставил себя улыбнуться: сознательным усилием воли направил по нервным волокнам импульс к мышцам, растягивающим губы. Почти почувствовал его упирающийся ход. – Какая же для мужчины жизнь… за пазухой?
– Вы… если я сейчас, в таком состоянии, не заслуживаю даже ненависти… Я могу попросить вас?
Он кивнул.
– Но сначала скажите: что со мной будет?
Из уже имеющегося положения довольно легко удалось растянуть губы шире. Получился почти оскал. Надежда: в полутьме, освещаемой лишь заключенной в железную клетку свечой (в вагонах с ранеными не было электричества), оскал должен был показаться Камаричу гримасой вполне оптимистической.
– Помилуйте, Лука! Кто ж знает… К тому же я не военный врач, а специалист по внутренним болезням. С точки зрения моей специальности вы совершенно здоровый молодой человек… Завтра с утра вас погрузят на тыловой поезд, который, насколько мне известно, идет в Петроград…
– Спасибо. Я вижу, что вы даже сейчас стараетесь быть добрым. Для врача это очень человечно. Для революционера – непростительно и опрометчиво. Вы можете написать за меня письмо?
– Да, если это займет не больше десяти минут. Потом я должен буду вернуться в операционную. У меня как раз есть лист бумаги…
– Благодарю вас. На вас всегда можно было положиться. В отличие от меня… Пишите: «Драгоценная Раиса Прокопьевна! Пишет вам по поручению Луки Евгеньевича Камарича…»
«Я – врач санитарного поезда номер четыре Аркадий Андреевич Арабажин. Я – боевик Январев, член социал-демократической партии с 1904 года.
Вкус бульона на губах. Живительный вкус. Улыбка – благодарность. У меня получилось тогда с Камаричем, получится и сейчас…»
– Ах, пане доктор! Вы очнулись? Слышите меня теперь?
Глава 15. В которой Сережа Бартенев сообщает матери потрясающую новость, а Егор Головлев рассказывает Люше Осоргиной историю своей жизни.
От этого визита за версту несло странностью.
Раннее утро (Люша доподлинно знала, что Катиш редко просыпается прежде полудня – привычка еще артистических времен).
Темные круги вокруг всегда спокойных глаз Катиш. В самих глазах – какое-то тоскливое беспокойство. Ее никому не известный спутник – высокий, немолодой, нескладный, носатый, с большой головой и огненно рыжими волосами. Одет вроде бы прилично, но так, что Люше отчего-то вспоминаются спившиеся литераторы и актеры с Хитровки. В его ореховых глазах – то же выражение, что и у Катиш.
– Ивану Карповичу хуже? – сразу спросила Люша.
– Нет, слава богу, все в порядке, как вообще быть может, – ответила Катиш и представила своего спутника. – Егор Соломонович Головлев, старый знакомый… Любовь Николаевна Кантакузина…
«Отчество, должно быть, подлинное, а имя и фамилия – псевдоним. Или кличка,» – подумала Люша.
– Мы по пути заехали… Я Варечку поглядеть хотела…
– Да ради бога. Но только что ж на нее глядеть? – пожала плечами Люша. – Когда не спит – хнычет, ест или пузыри пускает. Интерес великий.
– Ты не понимаешь, – закатила глаза Катиш.
– Где уж мне, – ответила Люша.
Егор Соломонович молчал, похожий на пугало на оглобле.
– Пожалуйте чай пить…
Лукерья уже приготовила глазурованные горшки с тремя видами каши – пшенная с курагой, ячневая с травами и рисовая с изюмом – и теперь раскладывала по мисочкам повидло, варенье и свежевзбитые сливки. Сама Лукерья редко покидала кухню, но разведка у нее была поставлена прекрасно – касательно гостей она каким-то образом всегда все знала наперед, лишь только они миновали вазы на въезде в усадьбу. Садовник Филимон говорил, что если бы Лукерью обучить немецкому языку и заслать на кухню к кайзеру Вильгельму, так все германские планы были бы у нас как на ладони.
– Нешто Вилхельм этот не человек? – невозмутимо отзывалась Лукерья на инсинуации садовника. – Пришлось бы, и его накормила.
Национальных, сословных и религиозных различий кухарка не признавала категорически и делила всех людей на разряды исключительно по размеру их аппетита. В Синих Ключах на первом месте неколебимо стояла худышка Атя, которая в любое время дня и ночи, похваливая, могла съесть тарелку-другую какого-нибудь блюда Лукерьиного приготовления.
Гости ели плохо: едва поковырялись ложечкой в каше и отщипнули по кусочку от теплой булочки с рассыпчатым домашним сыром. Тянули и тянули крепкий чай – Катиш, прихлебывая, с блюдечка, Егор Соломонович – из чашки с синими васильками, с сахаром вприкуску.
Потом посмотрели на спящую со сжатыми кулачками Варечку. Катиш явно хотела всплакнуть от умиления, но сдержала себя.
Молча перешли в гостиную с Синей Птицей.
«Фокус, что ли, им показать? – подумала Люша. – Или сплясать, может?»
– Я хочу рассказать вам свою жизнь, – сказал Егор Соломонович, глядя в пол и обводя ботинком рисунок паркета.
«Оп-ля!» – подумала Люша и сказала вслух:
– Что ж, извольте!
Головлев, все также глядя себе под ноги, стал говорить короткими, но правильно согласующимися между собой и выдающими давно пишущего человека, фразами.
– Родился в местечке. Отказался от всех традиций. Тогда это было целое движение, что-то вроде запоздавшего на еврейской улице вольтерьянства. Работал в шахте. Оборотная сторона нашей местечковой медали: не получилось быть выше высокого, хотел стать ниже низкого. К тому времени уже был членом партии. Но в шахте революционеров, ходоков «в народ» никто не искал и никто за мной не следил. Оттуда и имя – Егор Головлев – товарищи говорили, что моя голова как фонарь видна. Под этим псевдонимом писал в газету репортажи о шахтерской жизни. Главный редактор заметил меня, вызвал к себе, дал рекомендательное письмо к Глебу Успенскому, в Петербург. Год решался, копил деньги, два раза приезжал на станцию и уезжал обратно. «Тварь дрожащая или право имею?» Потом все-таки уволился с шахты, приехал в Петербург, сразу попал на какое-то литературное сборище столичного народничества. Успенский был, но сразу ушел по делу. Я не успел дать ему письма, сидел, слушал. Потом все стали одеваться и – по домам. Я – ушел со всеми. Но – куда? Знакомых, родных нет, в гостиницу еврею без «правожительства» нельзя. Ходил по улицам час, другой, третий, пятый… Вдруг вижу – идет человек, окликает меня. Оказалось – Успенский, возвращается из гостей. «Что это вы тут делаете?» – «Гуляю» – «Пойдемте» Напоил чаем, уложил на своей кровати, сам сел в ногах: рассказывайте! Я рассказывал-рассказывал и – уснул. Просыпаюсь, он так же сгорбившись сидит у меня в ногах, а по щеке скатывается слеза… одна… другая… В нем была бездна очарования. Я с другими молодыми готов был ему служить (нас называли «Глеб-гвардейцами»), но он не принимал службы, брал бережно в ладони и возвращал каждого ему самому – очищенным и улучшенным. С его подачи писал в журналах. Он говорил: уезжайте за границу, вы талантливы, но вам надо изжить из себя еврейство, жестокость и обиду. Не послушался. Зря. Потом – партийная работа, арест, баррикады в Москве, снова арест… В 1907 году меня приговорили к повешению. В последнюю ночь товарищи организовали побег, помогли мне перебраться во Францию. Жил там, потом в Швейцарии. С началом войны вернулся в Россию. Теперь все решится здесь.
Люша смотрела с недоумением.
Катиш молчала.
– Спасибо, очень занимательно, – вежливо сказала наконец Люша. – Желаю вам исполнения ваших идеологических чаяний. Я была знакома с одним эсером. Его звали Лука Евгеньевич Камарич. Недавно я случайно узнала, что он погиб на фронте.
Егор Соломонович мучительно вздрогнул длинным телом, как лошадь, которую кусают оводы.
– Лука был моим другом, – тихо сказал он. – Это тяжелая тема.
– Почему? Я помню его легким и остроумным.
– Он таким и был. Позвольте откланяться?
– Да, разумеется. Было очень приятно.
* * *
Над головой – переплетенные ветви в инее. Царственная тишина, нарушаемая иногда едва слышным хрустальным перезвоном – где-то в ключе бьются друг об друга крошечные тонкие льдинки. На дне кружки, что стоит на почерневшей скамье, ледяная корка, но вкус воды уже кисловатый, весенний, и ветер на краю обрыва вздыхает со сдержанным ожиданием.
– Девка Синеглазка, что это было? – спрашивает Люша и выпивает три глотка обжигающе вкусной воды.
Ветер чуть-чуть шевелит кружевной свод. Как из решета, сыплется вниз невесомый снежный пух.
– Если ты посвятил жизнь борьбе за светлое будущее всех людей, так вроде бы надо же и совесть иметь… Или необязательно? – сказал Александр, отложил газету и сделал глоток кипяченого молока из своего обеденного стакана. – Одни напрягают все силы, чтобы сохранить здание, в котором все мы живем, а другие изнутри подтачивают устои…
– О чем ты говоришь? – спросила Люша.
– Снова, впервые с начала войны появились агитаторы. Советы, комитеты… Опять двадцать пять! Крестьяне после всех реквизиций и мобилизаций слушают, развесив уши. Абсолютно необучаемый народ. Как будто им неизвестно, кто туда, в эти советы идет и чем все эти комитеты всегда кончаются… Кстати, у тебя рано утром, кажется, была Екатерина Алексеевна из Торбеево? Иван Карпович здоров?
– Насколько возможно.
– А кто это был с ней? Родственник?
Люша помолчала, потом дернула себя за мочку уха.
– Не могу сказать наверняка, но думаю, что это был убийца моего отца.
Александр подавился молоком и, задыхаясь, вытаращил глаза.
Люша спокойно встала, обошла стол и сильно ударила его по спине раскрытой ладошкой.
* * *
За окном чуть светился нежно-сиреневый весенний закат. Еще голые ветки высоких кустов напружинились и весело тянулись к небу. В них уже просыпалась упрямая, своевольная жизнь. Небо после зимы казалось поднятым вверх, как занавес в театре.
И в маленьком будуаре княгини Ольги Андреевны – радостный, чистый уют, яблоневые дрова потрескивают в камине, розовый пейзаж Клевера на стене, над круглым столиком, на котором чашка шоколада курится ароматным паром.
– А потом мы дали извозчику трешницу и он достал из-под сидения какую-то железную палку. Мы с ним вдвоем (Руди остался в санях) спустились к Неве и по очереди долбили лед. Я быстро взмок, сбросил шубу. Люди подходили к нам, узнавали, в чем дело, смеялись, многие вызывались помочь. Когда дело уже подходило к концу, некий расторопный малый сбегал в винную лавку и принес шампанского. Какая-то девица послала мальчика к живорыбным садкам на Фонтанку, и он притащил оттуда двух живых судаков. Проезжавший мимо франт в полосатом пальто (как после выяснилось – недавно разбогатевший на фронтовых поставках подрядчик) добавил кулек с дюжиной сердитых раков. К тому времени зевак собралось уж десятка четыре. Спустился с набережной городовой, но никакой крамолы в происходящем не нашел, и только усмехнулся в усы. В конце концов, под взрывы пробок шампанского и туш на расческах, который сыграли три присоединившихся к нам гимназиста второго класса, сом, два сазана и раки были отпущены в Неву. Чистая публика во главе с нами на пяти санях поехала в ресторан, чтобы выпить за «святую свободу» рыбьего племени, извозчик и мастеровые получили на водку для этих же целей, а гимназисты, которых не пускают в ресторан и мальчик-разносчик, которому пить водку еще рано, побежали в лавку за конфетами. Мне показалось, что «праздник отпускания рыб» вполне удачно завершил нашу «карнавальную ночь», хотя Руди до вечера ворчал и советовал мне попробовать найти себя в устроителе уличных балаганов.
– Ах-ха-ха! Сережа, когда-нибудь ты уморишь меня своими выходками, – Ольга Андреевна с любовью взглянула на сына и с удовольствием прожевала взятую из вазочки марципанку. – Но Юлия-то, Юлия – ты только подумай! – оказалась тебе под стать. Как же ей удалось тебя, вас обоих так провести? За целый вечер в… как, ты сказал, это называется? Арт-кафе? За целый вечер в кафе не узнать собственную жену, пусть даже переодетую военным, но – сидя с ней за одним столиком и беседуя?!
– Понимаете, матушка, – Сережа смущенно потупился. – Мы с Руди были немного… нетрезвы… можно сказать, не совсем четко воспринимали действительность… К тому же там было полутемно, прилично освещалась только сцена. Ну и, конечно, главное – мне просто в голову не могла прийти такая возможность!
– Ах, Сережа, Сережа… Но… Когда же это все случилось? – с внезапным подозрением спросила Ольга Андреевна.
– Где-то в середине января.
– И ты рассказываешь мне об этом сейчас, спустя почти три месяца? Отчего же?
– Просто к слову пришлось…
– Сережа, не пытайся обмануть свою мать! – строго сказала княгиня. – Если дело касается тебя, я всегда обо всем узнаю.
Молодой князь с трудом сдержал нервный смешок. Если бы его мать узнала хотя бы одну десятую… Но он никогда не позволит ей, точнее, не позволит себе… Сережа Бартенев искренне любил свою мать и говорил чистую правду, когда, целуя пухлые, в кольцах руки, уверял ее, что она – единственная женщина в его жизни.
– Признайся: в этом кафе ты и Рудольф вели себя неподобающе, и Юлия решилась-таки требовать развода?
– Нет, нет… Но, мама, вы, конечно, как всегда правы… У меня есть для вас новость, я волнуюсь и поэтому рассказываю всякую чепуху…
– Говори немедленно! – Ольга Андреевна встала, выпрямилась во весь свой невысокий рост и (сделавшись при том похожей на небольшую упитанную козу) нервически прожевала еще пару марципанок.
– Сегодня с утра Юлия посещала врача…
– Боже! Чахотка?! Я давно говорила, что с ее анемичным сложением и нравом летом обязательно нужно выезжать на воды…
– Мама, нет! Юлия по счастью здорова…
Княгиня округлила рот в форме буквы «о» и, боясь поверить, плотно обхватила ладонями предплечья.
– Сережа… Сережа… Неужели это то, о чем я сейчас думаю?
– Да. Сегодня доктор подтвердил определенно…
– Боже, как я рада! Как рада! Но… Сережа, а кто же отец? Разумеется, мы примем этого ребенка в любом случае, но – это же важно! Какого он круга? Здоров ли, по крайней мере? Есть ли у него еще дети? – по этому всегда можно о многом судить… Ты говорил с Юлией? Может быть, я… обещаю, я буду предельно тактична…
– Мама, остановитесь, – молодой князь напряженно улыбнулся. – Я вовсе не случайно рассказал вам историю с переодеваниями. И сама эта история – совсем не стечение обстоятельств. Этот плагиат «Летучей мыши» подстроила Юлия с помощью своей подруги с вполне определенной целью. Отец ребенка – я.
– Сережа! Господи! – Ольга Андреевна упала на стул и разрыдалась. Молодой князь опустился на пол у ее ног. Она обняла его голову мягкими руками и, склонившись, беспорядочно целовала волнистые, уже редеющие волосы. Волосы были обильно надушены и смазаны маслом, но Ольге Андреевне казалось, что сквозь резкий запах духов она чувствует и узнает нежный младенческий аромат волосиков маленького Сереженьки… – Какое счастье! Какое счастье! – не в силах сдержать себя, громко воскликнула княгиня. – Юленька – гениальная женщина!
Сережа кивнул и медленно поцеловал мать в ладонь судорожно сжатыми губами.
Глава 16. В которой находится Степка, теряется Владимир, Люша дерется с Груней, поет колыбельную и целуется с мужем
– Грунька! Грунька! Грунька! – Люша бежала по ступенькам в такт своим собственным воплям.
– Чего кричать, барыня? – сказала горничная Настя, протиравшая перила на лестнице (многочисленные ладошки детей постоянно оставляли на них жирные следы). – Глухая Агриппина-то. Забыли, что ли?
Люша не обратила на ее слова никакого внимания и вихрем ворвалась в детскую. Услышав, а скорее почувствовав ее шаги, Груня попыталась запихать в вырез кофты огромную грудь с длинным коричневым соском и свободной рукой изобразила «козу» Варечке, которая лежала у нее на коленях и готовилась протестующе запищать.
Не останавливаясь, Люша со всей силы стукнула Груню полураскрытым кулаком по мощному загривку. Удар отозвался эхом, как от лошадиного крупа. Варечка сердито кхекнула и потянулась ручонками к явно ускользающему источнику вкусной еды.
– Прекрати, дура, сколько раз тебе говорить: будешь Варьке свое вымя совать, со свету сживу! Гляди вот, что я тебе принесла! Степка нашелся! В плену он! Открытка пришла! – без перерыва выкрикнула Люша.
Груня с виду не выказала никаких чувств.
– Сама дура, – прогудела она. – Что там в твоих фитюльках молока-то? Девка вон какая крупненькая, ей, чтобы расти, все время жрать надо.
– Все время жрать надо корове на лугу, вроде вот тебя! – парировала Люша. – А Варька – человеческий детеныш! Ты про Степку-то услыхала?
– Услыхать-то я ничего не могу, а по роже твоей прочла, – Груня поудобнее разложила Варечку на своих широких, обтянутых коричневой юбкой коленях и принялась двумя пальцами массировать ей животик.
– Пердунчики ее мучают! – объяснила она Люше. – Надо, как покушала, по солнышку тереть…
Варечка прекратила кхекать и довольно заворковала.
Люша стояла посреди комнаты, расставив ноги и опустив руки, в одной из которых крепко держала открытку на стандартном бланке Красного Креста.
Потом поднесла открытку к глазам и, набычась упрямо, прочла вслух:
«Любезна Люба Николавна!
Как я теперь есть ваенопленый у австриакоф,
прашу милости прислать ходь полфунта табаку
а то мочи нет курить хотца. Прочае все впорядке
неранен не волнуся за миня. Поцалуй за миня сына Агафона
а Агрипину ты и так не обидиш. Всем в синих ключах паклон.
Писать магу шест рас в месец таков закон скоро увидемся
Преданый вам Степка
Адрис для посылки Бат. П, рота 11, № 1018. Австрия, город Дебрецен (Debrecen) для военнопленного ряд. Егоров Степан»
Груня смотрела равнодушными серыми глазами, как двигаются Люшины губы, и механически массировала брюшко уже сомлевшей после еды Варечки.
– Будешь табак посылать?! – рявкнула Люша.
– Тебя же просят.
– А ты?
– Я тоже посылала.
– Что? Куда?
– Тебе список дать?
– Какой список? Давай!
Груня аккуратно положила Варечку в кроватку (передвигалась она для своих размеров и конституции удивительно плавно), и ушла в свою комнату, смежную с детской. Там на полу, каждый в своем углу, сидели Агафон и Владимир. Агафон расставлял в ряд раскрашенных солдатиков, а Владимир смотрел, как в оконном проеме спускается на паутинке крошечный паук. Груня легко подняла крышку большого, окованного железом сундука, и достала со дна стопку писем и еще каких-то бумаг, перевязанных красной лентой.
Принесла их в детскую, послюнила указательный палец, прищурившись, перелистала бумаги, выбрала нужный листок и протянула его Люше.
«… двадцать четыре кисета с трубками
табаку «Элоиз» три фунта
ложек двенадцать
пряники сахарные и пряники мятные пять фунтов
портянки тридцать
мыло хвойное и мыло дегтярное от вошей
домашней работы бумазейные рубашки числом двенадцать
куртки на вате три
….
Итого – два пуда, три с четвертью фунта…»
Писано Груниной рукой, печатными четкими буквами (научить Груню скорописи Люше так и не удалось, но зато она почти не делала ошибок, с первого раза и навсегда запоминая как пишется то или иное слово).
– Грунька, что это? – не скрывая растерянности, спросила Люша.
– Я нашим деревенским посылала – братам своим, соседу с сыном… Не бойся, деньги не твои, мои.
– При чем тут деньги?! – возмущенно фыркнула Люша. – Сказала бы, что нужно, я могла бы больше послать.
– Зачем тебе? Вы испокон – черемошинские баре, им и шлете на войну барахлишко. А я – нашим, торбеевцам шлю. Ну и Степану, что попросит.
– Степану?! – ухватилась Люша. – Ты знала о нем?
– Само собой, как иначе послать? – ухмыльнулась Груня. – Вот, – она потрясла тоненькой пачкой писем. – Евонные писульки ко мне. В Торбеевку.
– И ты молчала?!! Я за Степкой испереживалась вся, думала, его как Аркашу убили, и могилки не осталось, а ты… Полено с глазами! Сволочь поганая!
Люша кинулась на Груню с кулаками. Агриппина закрылась толстым локтем, об который, как волны об утес, разбивались удары и гнев хозяйки.
– Не трожь мамку! – из соседней комнаты с рычанием вылетел Агафон и как собачонка, руками и зубами вцепился в подол Люшиного платья.
– Идиот! – заорала Люша, отшвыривая мальчишку с такой силой, что он стукнулся об стену в проеме между окнами. – Твоя мамка – сволочь последняя, собака на сене! Она письма солдатские и от меня, и от тебя спрятала, а тебе он отец, а я с ним уже дружилась, когда Грунька, как ты теперь, еще козюльки из носа выковыривала и жрала!
– Люша, Люша! А у меня разве папка есть? – ошеломленный неожиданным оборотом дела Агафон поднялся на четвереньки.
– Есть, конечно, небось к Груньке святой дух не прилетал! Он нынче в плену сидит, табаку просит…
– Володька! – Агафон торжествующе взвыл, высоко подпрыгнул и прямо как был, на четвереньках, шустро побежал в направлении соседней комнаты, на пороге которой застыл приглядывающийся к происходящему Владимир. – Володька, у меня теперь тоже папка есть, как у тебя! И папка, и мамка! А у тебя мамка колдунья горбатая была, и ее деревенские убили, чтоб она порчу не наводила! А папка у тебя – придурок, а у меня – солдат! Он в плену сидит!
– Как это – в плену? – уточнил Владимир.
Агафон на мгновение задумался, а потом нашелся:
– Как король – на троне! Вот так и сидит!
Владимир кивнул, соглашаясь, и, шаркая ногами, ушел. В груниной комнате он залез на сундук, обхватил колени руками и стал обдумывать вновь открывшиеся обстоятельства. Подтвержденное Люшей наличие у Агафона отца-короля, сидящего в плену как на троне, в корне меняло соотношение сложившихся в усадьбе сил. По этому поводу следовало что-то предпринять.
– Грунька, дай прочесть! – Люша протянула руку к Степкиным письмам и тут же получила по этой руке ребром Груниной ладони, размерами и твердостью похожей на саперную лопату.
– Дура, у меня синяк будет!
– А ты не замай! Не тебе писано!
– Грунька, что значит в его открытке «скоро увидимся»? Как это может быть? Война ж не вот кончится…
– А сбежит он, – спокойно сказала Груня. – Не тот зверь Степка, чтоб в клетке на чужбине сидеть. Жилы сорвет, а сбежит непременно…
* * *
Владимира Люша нашла после долгих поисков, под вечер, в старом амбаре. Он сидел на кипе почерневшего сена, поджав под себя ноги, раскачивался и негромко, размеренно причитал:
– Ах, нихони вы мои, нихони! Что же нам делать-то теперь? Нихони мои…
На колене мальчика большая светло-серая мышь деловито и тщательно мыла хвост, пропуская его перед собой передними лапками. По углам колебалась от сквозняков мохнатая, дышащая, живая паутина.
На гвозде, торчащем из стены, висела керосиновая лампа. Рядом на растрескавшемся чурбачке сидела Оля и вышивала по канве, шевеля губами и морща лоб от сложности рисунка.
– Что ты здесь делаешь? – спросила Люба у Оли.
– Меня Кашпарек послал, – объяснила девушка. – За Владимиром присмотреть, как бы с ним дурного не вышло. Он ведь, когда такой, может и сотворить чего, и сигануть куда… Небось, Агафон его опять разобидел?
– Нет, это не Агафон, – мотнула головой Люша. – Моя вина. А кто такие эти нихони? Ты знаешь?
– Кто они у него – того никто знать не может, ведь нам-то их все одно не увидать-не услыхать. А откуда взялись – могу сказать, мне Атя объяснила.
– Скажи.
– Дед Корней им сказку рассказывал про болотные огоньки. И там было: коли подуть на них они гаснут. Володя услышал: нихони гаснут. Понимаете?
– Понимаю.
– У него еще «бугагашеньки» есть. Про них вообще никто ничего не знает, только Капочка говорит, что они в пруду живут.
– Ты можешь идти, Оля, я тут с ним побуду.
– Я бы лучше с вами посидела, – улыбнулась Оля. – Мне тут спокойнее, дома-то меня Атька гоняет…
– Что за дело?! – Люша подняла бровь.
– Ну… ее раздражает во мне все. Рукоделие мое, то, что я не прыгаю все время, как раскидай на резинке… собак боюсь… услужить всем хочу… ем мало… – перечисляла Оля, вспоминая. – Она говорит: уйди, Оля, или я так сяду, чтоб тебя не видать… у меня от тебя внутри душевное молоко киснет…
– Вот мерзавка! – невольно усмехнулась Люша. – Да ведь ты же такое умеешь, что ей и во сне не приснится…
– Да, когда мы с Кашпареком в усадьбе номера показываем, или на катке, или я на рояле играю, она всегда рядом и даже плачет иногда. Я спрашиваю: отчего ты плачешь? А она мне: от злости!
– Ладно, не расстраивайся, Оля, переделать Атьку нельзя, конечно, но я ее от тебя отселю.
– Атя говорит, что ей моя комната нравится – светло, чисто всегда (я за двоих убираюсь, и постели перетряхиваю каждый день), пахнет хорошо. Если б там еще меня не было…
– Обойдется злыдня! Будет жить около бильярдной, окном в кусты, и с крошками под подушкой!
– Благодарствую вам, Любовь Николаевна!
– Не за что… Владимир, вынь паука из уха (он там, кажется, уже паутину начал плести) и слушай меня: сейчас я тебе расскажу, что такое на самом деле «в плену сидит» и что я с Агафоновым отцом делала, когда мы с ним оба детьми были…
Оля склонилась над пяльцами. Красноватого огонька лампы как раз хватало, чтобы осветить троих и кусок стены с лохматой паклей в щелях. В темноте по углам виднелось что-то бесформенное и громоздкое. Там как будто переминались большие неуклюжие фигуры без лиц – притихнув, тоже слушали Люшу.
* * *
– Настя, ты не знаешь, куда делась Любовь Николаевна? Я ее с обеда не видел. А сейчас уж ночь почти. Уехала куда? Ушла? Никому не сказалась?
– Кто за ней уследит? – пожала плечами Настя. – Днем наверху с Грунькой собачилась. Орали обе так, что посуда в шкафу звякала. Кажись, даже подрались немного… Ну, Грунька победила ее, конечно…
Александр невольно поморщился, сунул большой палец за отворот жилета и сдержал готовую сорваться с губ реплику. Хозяйка усадьбы, устраивающая потасовки с нянькой своих детей на глазах и на слуху у всех в доме! Как это нелепо и даже непристойно! И главное, что раздражает, бесит до морозного покалывания в кончиках пальцев: он ничего, совершенно ничего не может с этим поделать…
– Потом Владимира кликала, спрашивала о нем у всех, – вспоминая, продолжала Настя. – Кажись, у него опять заскок случился… Нашла наверное, раз прекратила метаться, иначе никому в доме покоя не было бы, пока ее племянничка не сыскали… После уж не знаю, но вот Груньку с Феклушей я только что на кухне у Лукерьи видала. Кто ж у Варвары-то?
Александр поднялся наверх, сразу же увидел тонкую и жидкую лужицу света возле двери в детскую и услышал Люшин голос.
Осторожно заглянул. Синяя лампадка и белый ночник в форме китайской пагоды рисовали на стене тонкий, как будто светящийся профиль, падали вниз отросшие неубранные кудри.
Я над этой колыбелью Наклонилась черной елью,– тихо пела Люша, тщательно проговаривая слова. -
Ай-ай-ай, бай-бай-бай И не вижу сокола Ни вдали ни около Ай-ай-ай, бай-бай-бай… (стихи А.Ахматовой – прим. авт)В доме было тепло, но Александра невольно бросило в дрожь. Черная ель над колыбелью… Какой ужасный образ… Хорошо, что там, в колыбели, не его дочь… Дочь сокола?
Синеватые искры света в густых, цвета сказочной ночи волосах. Длинные, заметные даже в полутьме ресницы. Неспешная, совершенная почти до страдания грация движений танцовщицы и дважды выносившей и родившей своих детей женщины. Его жены…
– Люба, – шепотом, чтобы не испугать ни мать, ни ребенка, позвал Александр.
И сразу вышел в коридор. Две ступеньки наверх – в темную галерейку, где на стене видна была смутная тень качающихся веток.
– Что-то случилось? Что? С кем? – Люша тут же поднялась вслед за ним, ожидая, должно быть, услышать какую-то очередную неприятность. У Александра и вправду было что сказать, вернее, было секунду назад… да и теперь было, но только уже другое и тоже очевидно ненужное.
Прошла секунда, вторая – его молчание становилось все нелепее.
– Забыл, с чем шел? Ну, вспомнишь – позовешь.
– Постой…
Он, шагнув следом, перехватил ее у самых ступенек и взял за плечи, вернее, за концы шали-паутинки – резко и неуклюже, и тут же едва не выпустил, удивленный тем, что она его не отталкивает. И, выдохнув сквозь стиснутые зубы, сделал то, чего отчаянно хотел – поцеловал ее волосы, так, чтобы почувствовать, как они щекочутся. А потом, сразу же, поцеловал в губы. Ему пришлось наклониться, ведь она была такая маленькая…
Во дворе зажгли фонарь, и краем глаза он увидел свою тень на стене среди веток – длинную и угловатую, похожую на дятла.
Глава 17. В которой большевик Аркадий Арабажин и жандарм Афиногенов вспоминают восточного мудреца Ходжу Насреддина.
Стараясь поменьше опираться на левую ногу, Арабажин с трудом спустился по крутым ступенькам с положенными прямо на землю досками и нагнул голову, проходя под низкой притолокой. В землянке было накурено, под узкой койкой лежал на боку высокий латунный чайник, на стене висела гитара. За столом сидел дородный жандарм с большими ухоженными усами, спускавшимися по обе стороны красногубого рта.
– Здравствуйте, господин Январев!
– Боже мой! – Аркадий не удержался от тяжелого удивленного вздоха. – А вы-то кто?
– Отвечать я вам вроде бы не обязан, однако отвечу. Командир жандармского полуэскадрона ротмистр Афиногенов Валерий Юльевич, к вашим услугам.
– Вы из железнодорожных жандармов? – с надеждой (подразделение железнодорожных жандармов не занималось политическим сыском – прим. авт.) спросил Арабажин, который по сугубо гражданскому обеспечению судьбы плохо разбирался в тонкостях мундирных отличий жандармских подразделений.
– Никак нет. Третий Сибирский стрелковый полк, первого Сибирского армейского корпуса.
– Но чего же вы от меня теперь хотите, господин ротмистр? Я лишь слегка оправился после ранения…
– А это как раз зависит от того, насколько искренний разговор у нас с вами сейчас выйдет, – плотоядно (как будто бы слегка переигрывая, – подумалось Арабажину) усмехнулся Афиногенов. – Для начала скажите-ка мне вот что: вы, «пане Январев», хорошо ли помните все, что с вами в последнее время происходило? Я предварительно консультировался с вашим лечащим врачом, но он, по-видимому блюдя ваши интересы, дал мне ответ вполне неопределенный…
– Помню, но как будто не все… – словно прислушиваясь к чему-то внутри себя, медленно произнес Арабажин.
– А что же помните?
– Мы ехали назад к нашим позициям после того, как перегрузили раненых в тыловой санитарный состав. Все спали, потому что усталость была страшная. Я тоже спал. Потом… Разбомбили санитарный поезд? Я помню пожар в ночи. Горели вагоны? Но почему-то не помню никаких звуков. Ни взрывов, ни криков, ничего. Я оглох? Вероятнее всего, так и было. Потом поле, уже светает. Как я в нем оказался? Лежу, смотрю, как светлеет небо. После встаю, иду неизвестно куда. Туман, роса. В низине, кажется, течет река. Разрушенный мост? У меня ожоги на ногах и на лице. Воронки, убитые люди. Меня останавливает, должно быть, зовет, а потом попросту тащит за рукав молодая женщина, русинка. Она плачет, кричит: «Пане доктор!» – но я этого опять не слышу, а читаю по ее раскрытым губам. Потом я помогаю каким-то раненным людям, но как будто бы не солдатам. Кто-то приносит воду, тазы, самогон в бутыли, разорванные простыни и вышитые рушники, от которых я жестами велю оторвать рисунки. Кажется, рядом все время горел костер. Лиц, возраста, пола людей не помню, но характер ранений помню отчетливо, даже сейчас мог бы показать на анатомическом атласе. Потом все вокруг начинает подпрыгивать и заволакиваться клубами желто-черной пыли. Возобновился обстрел? Люди бегут, падают… Я смотрю на небо. По воздуху над моей головой летит рушник, красный вышитый петух на нем важно взмахивает крыльями… Дальше провал… Очнулся я на кровати в каком-то доме, скорее всего, деревенском. Меня поили бульоном… Я спрашивал, где я нахожусь и что происходит вокруг, но хозяева дома плохо говорили по-русски, а я воспринимал все словно через огромный комок ваты… Потом опять провал. Снова очнулся уже здесь, в госпитале, где меня по возможности лечили от контузии и осколочных ранений, но уже никто толком не мог мне сказать, откуда я тут взялся…
Жандарм слушал внимательно, крупной головой покачивал в такт и, пожалуй, с сочувствием.
– Да-с… Если говорите правду, так помните вы и вправду немного. Ваш санитарный поезд на перегоне Луженецкий-Тарташи действительно накрыло огнем вражеской артиллерии. Была ли то ошибка, или сознательное нарушение конвенции Красного Креста, мы не знаем. Вагон, в котором жили врачи и медсестры, сгорел, но сумку с вашими документами впоследствии нашли в канаве около путей, из чего сделали вывод, что вы, выбросив ее, пытались сами выбраться из горящего вагона, но не сумели. Я бы, зная вас, обратил внимание на отсутствие в той же канаве докторского чемоданчика, с которым вы, по общему признанию, не расставались…
– Вы опрашивали моих коллег и сослуживцев? – медленно покрутив головой, словно разминая шею, спросил Арабажин. – Они все живы?
– К сожалению, нет. Погибли три медсестры, два санитара. Старшему врачу Ильинскому оторвало руку…
– Боже мой, он был хирург от Бога!
– Безусловно, это ужасно. Но если бы в поезде были раненые, масштаб трагедии был бы неизмеримо больше.
– Согласен, – кивнул Арабажин. – На мой взгляд, в этом и заключается одно из главных паскудств войны: из-за огромного количества жертв в нашей голове ломается какой-то тонкий механизм и от того пропадает, стирается уникальная ценность отдельной человеческой жизни, мы все начинаем мыслить на манер военных стратегов, статистически. Здесь погибло тридцать человек, а там – тридцать тысяч, стало быть, первое как будто уже и ничего страшного. А ведь каждый человек – это уникальный и никогда впоследствии невоспроизводимый набор чувств, впечатлений, воспоминаний…
– Да, – согласился Афиногенов. – Вы, безусловно, правы. Когда я думаю о том, что в Лодзинской операции погибли по меньшей мере полтора миллиона человек, масштаб отдельной личной трагедии в моих глазах как-то поневоле снижается…
– Если уж ваше ведомство все равно собирало обо мне сведения, грех этим не воспользоваться и не заполнить лакуны, образовавшиеся в моей памяти. Итак, 24 октября 1914 года я погиб в горящем вагоне…
– Но это было только началом ваших приключений, – улыбнулся жандарм. – По всей видимости, вас контузило взрывом, и вы, выбравшись из огня и, прижимая к груди тот самый чемоданчик (сумка с личными вещами и документами показалась вам в тот момент вещью менее нужной, и дальнейшие события только подтвердили вашу правоту), двинулись через поля в сторону Тарташей, где и были призваны на помощь их уцелевшими жителями, также жестоко пострадавшими от обстрела. По вашему виду и снаряжению они легко опознали в вас врача… Стало быть, ваш госпиталь, который вы развернули в развалинах костела под открытым небом, вы помните смутно?
– Это были развалины костела? – удивленно спросил Арабажин.
– Да-да, именно так. Ваш пример показывает нам, что настоящий врач может выполнять свой долг даже с фактически отключенным сознанием… Вы шили и оперировали практически без остановки, почти трое суток. Операционным пространством вам служил непосредственно алтарь…
– Это считается кощунством? – неуверенно спросил Арабажин.
Афиногенов расхохотался.
– Право, не знаю! Тем, кому вы спасали жизни, и их близким, думаю, не было до этого никакого дела… Но бои на этом участке продолжались. Возможно, самолет-разведчик принял ваш импровизированный госпиталь за развертывающуюся батарею или еще что-то в этом роде… И вас еще раз накрыло артиллерийским огнем…
– Это я помню!
– Чудесно. Раненного, вас унесли из развалин костела местные жители и размесили в единственном уцелевшем в деревне доме. Они же выхаживали вас в течение почти двух недель, опасаясь ввиду тяжести состояния трогать с места. Все это время вы были фактически без памяти, но иногда в полубреду отвечали на вопросы своих спасителей. Деревенский старик-шорник когда-то участвовал в русско-турецкой войне, а нынче с трудом говорит, но все еще неплохо понимает по-русски. С его-то слов нам и передали вашу фамилию, которую вы ему назвали – Январев, а также что-то неопределенное про Москву, восстание и баррикады…
– Господи, ну это-то как раз понятно! – раздраженно потерев руки и поежившись от внезапно сотрясшего его озноба (хотя в землянке было скорее жарко), сказал Арабажин. – Пожар в поезде, взрывы вокруг вызвали в памяти ассоциативную цепочку, ведущую к 1905 году…
– Да, да, да! – с явным удовольствием закивал жандарм. – У нашего ведомства тоже есть свои, как вы выразились, ассоциативные цепочки. Когда жители деревни поняли, что обстановка вокруг немного стабилизировалась (долина речки оказалась в нашем тылу), а вам так и не становится решительно лучше, они погрузили вас на телегу и отвезли в полевой госпиталь, прилежно передав вместе с вами множество благословений, благодарностей, чемоданчик, а также сведения о том, что вы – житель Москвы по фамилии Январев, возможно военный врач, принимавший участие в каких-то ужасных событиях в местечке под названием «Пресня»…
Афиногенов сделал паузу и подождал реплики Арабажина. Ее не последовало. Тогда он продолжил.
– Мы знали, что Январев медик по образованию, но – наша ошибка! – искали его среди земских врачей. А потом от нашего осведомителя поступили сведения, что Январев перешел на нелегальное положение, а затем эмигрировал и живет за границей, в Берне…
– Так вот, что он имел в виду, когда говорил, что пытался «прикрыть» меня! – пробормотал Арабажин себе под нос. – Дезинформация. А я-то все думал: как же это вышло, что меня до сих пор еще не арестовали и не сослали… Получается, что Лука был тройным агентом, и по совместительству работал еще и на большевиков…
– О ком это вы? – подозрительно спросил Афиногенов.
– Не ваше дело! – огрызнулся Арабажин. – Уже не ваше. Боюсь, что сейчас бедный Лука вне досягаемости для всех без исключения земных властей…
– Однако, о земных властях…
– Что ж… Теперь я, надо полагать, арестован?
– Вы, в первую очередь, мертвы.
– В каком же это смысле? – вздрогнул Аркадий.
– В прямом. Врач санитарного поезда Аркадий Андреевич Арабажин погиб 24 октября 1914 года. Вот здесь у меня в руках – удостоверяющий это печальное событие документ.
– А боевик Январев, как мы с вами знаем, – живет в Берне, – невесело усмехнулся Аркадий. – По всем данным вы беседуете с призраком. Что же делать?
– Вот это нам с вами, Аркадий Андреевич, сейчас и предстоит решить, – бодро сказал Валерий Юльевич и любовно погладил ухоженные усы.
– А что же, имеются варианты? – нешуточно удивился Арабажин. – Надеюсь, вы не станете тратить свое время на то, чтобы вербовать меня?
– Помилуйте. Ваш возраст, репутация, партийный стаж, всеми подтверждаемое бескорыстие, в конце концов – очевидное личное мужество…
– Благодарю. Как вы попали в жандармы, Валерий Юльевич? По убеждению? Или по стечению обстоятельств?
– Я в прошлом офицер. Выбился, как говорят, из низов, сын бедной вдовы с пенсией в 26 рублей в месяц. Женился по любви, а не по расчету, и у нас родилось пятеро детей – два мальчика и три девочки…
– Счастливец! – с искренней завистью воскликнул Арабажин.
– Безусловно. Но всех их надо было кормить, а жалованье жандарма в два с половиной раза превышало мои тогдашние 86 рублей и 60 копеек в месяц. Я выдержал предварительные экзамены при штабе корпуса, вернулся в свою воинскую часть и полтора года ожидал вызова. Все это время местная жандармерия собирала сведения обо мне. Но я не имел дисциплинарных взысканий, долгов, не был также поляком, жидом или католиком, а моя жена была дочерью диакона. (все перечисленные Афиногеновым категории населения по уставу не могли быть зачислены в жандармский корпус. Не допускались также лица, женатые на католичках, – прим. авт). И был зачислен…
– Приятно поговорить с честным человеком. Все жандармы, которых я встречал прежде, говорили, что видят свой долг в том, чтобы защищать «веру, царя и отечество» от таких, как я…
– В начале войны я вместе со многими моими товарищами подал рапорт о переводе в действующую армию. Когда отечеству угрожает такая опасность…
– Валерий Юльевич, вы офицер. Вы поняли, какая именно опасность угрожала нашему отечеству в июле 1914 года? Я лично так и не сумел разобрать, во имя каких целей погибли уже по меньшей мере два миллиона наших солдат, и бог весть сколько еще погибнет…Единственная более-менее умопостигаемая для меня вещь: повинуясь союзническому долгу, мы вроде бы спасли от немцев Париж. Но не велика ли цена – ради экономических и геополитических интересов элиты миллионы русских, немецких, французских крестьян и рабочих жестоко убивают друг друга?
– Аркадий Андреевич, тут нам с вами друг друга не понять, – качнул крупной головой Афиногенов. – Я – за великую Россию, вы за объединение пролетариата всего мира… Между тем, мое прошение о переводе в армию не было удовлетворено, командир корпуса издал специальный запрещающий переводы приказ…
– … И вы остались жандармом. И на прифронтовой госпитальной койке благодаря горячечному бреду удачно разоблачили и поймали хромого и почти неузнаваемого из-за ожогов на физиономии опасного политического преступника. И?..
– Не делайте из меня негодяя, Аркадий Андреевич.
– Упаси боже! Просто я немного устал, здесь душно, у меня кружится голова. Хотелось бы уже поскорее…
– Понимаю. Постараюсь короче. Очевидно, что вам из существующего положения вещей придется теперь возродиться. Но в каком качестве? Если воскреснет Аркадий Андреевич Арабажин, то уже запущенное жандармское производство неизбежно приведет его сначала в тюрьму, а потом, я полагаю, в сибирский острог или на каторгу. Если же возродится Январев, то это – неминуемый переход на нелегальное положение, может быть, отъезд за границу, что в условиях европейской войны представляется весьма затруднительным.
– Послушайте, Валерий Юльевич, а какова же ваша роль во взаимном расположении всех этих событий? – Арабажин взглянул на жандарма с новым и нескрываемым интересом. – Вы что же, собираетесь меня сейчас вот просто так отпустить?
– Это я и пытаюсь понять, это и пытаюсь понять, любезный Аркадий Андреевич, – ухмыльнулся, поглаживая усы, Афиногенов. – А вам-то самому какой вариант милее?
– Сибирская каторга или бессрочная ссылка за границу? – с улыбкой переспросил Арабажин. – Право, оба варианта так привлекательны, я даже и не знаю, что предпочесть… Но говорите же наконец!
– Хотите начать все заново и отправиться в действующую армию? – быстро перегнувшись через стол, спросил Афиногенов.
Карие глаза жандарма острыми иголочками кололи лицо Арабажина. Заныли не до конца зажившие ожоги на лбу, скуле, подбородке.
– Как это возможно?
– Вы понимаете, что сейчас происходит? Мы отступаем. У нашей армии заканчиваются резервы и снаряды. Практически большая часть подготовленного до войны личного состава погибла или ранена. В бой идут новобранцы. Полки пополняются и переформировываются едва ли не еженедельно. Везде – разгром и ужасная неразбериха. Вы станете солдатом, вольноопределяющимся, возвращающимся в армию после ранения. Вашего прежнего подразделения больше не существует, оно погибло, допустим, в Августовских лесах. Чтобы не путаться, вас будут звать, как вы привыкли: Аркадий Январев. Годится?
– Но что вы будете с этого иметь? Не думаете ли вы, что, сделавшись солдатом, я стану доносить вам на моих новых товарищей?! – ноздри Аркадия раздулись от возмущения.
– Не думаю. И ничего не буду иметь. Вы мне просто нравитесь, Аркадий Андреевич. Нравились еще заочно, пока мы собирали сведения о вас. Вы врач, и совсем не похожи на хорошо известных мне «борцов за народное дело», которые увлечены абстрактными теориями и, как правило, не знают и в упор не видят обычных людей. То, что вы, сами будучи ранены, делали в развалинах костела, это – подвиг и заслуживает ордена, а вовсе не сибирской каторги. В армии вы будете все-таки относительно свободны и наверняка сможете принести еще немало пользы. Соглашайтесь, Январев. Арабажин все равно погиб, так пусть покоится с миром.
– Но если все это когда-нибудь всплывет… Как же вы…
– Аркадий Андреевич, вы читали когда-нибудь восточные притчи о мудреце Ходже Насреддине? О том, как он подрядился за двадцать лет обучить читать любимого ишака бухарского эмира? Ходжа, говорили ему друзья, но ведь ишака нельзя научить читать! Конечно, нельзя, отвечал мудрец. Но за двадцать лет практически наверняка случится хотя бы одно из трех событий: либо умру я, либо умрет эмир, либо сдохнет ишак. А деньги-то на обучение ишака уже получены…
– Понял вас, господин ротмистр. Одно из трех событий Ходжи Насреддина в нашем случае это – либо на войне погибну я, либо вы, либо…?
– Либо весь наш мир после войны изменится таким образом, что все нынешнее просто перестанет иметь значение.
– Замечательно. Благодарю вас. После выписки из госпиталя я иду служить в пехоту?
– Разумеется! А вы куда хотели? В кавалерию?
– Нет-нет, я исключительно плохой наездник и в общем-то с детства побаиваюсь лошадей… Скажите, Валерий Юльевич, а отпуск перед новым назначением мне положен?
– Да, – заметно поколебавшись, сказал Афиногенов. – Но будьте осторожны.
– Я буду осторожен предельно, – твердо пообещал Январев.
* * *
– А господа всей семьей к обедне поехали, – молодой конюх в разлапистой шапке осклабился, открывая недостачу переднего зуба. – Отец Флегонт завсегда по пятницам в Черемошне служит, а уж хозяйка непременно любит его послушать…
«Люба с охотой посещает проповедь деревенского священника? Это новость», – подумал Аркадий, кивнул парню и, не слушая дальше, зашагал вниз по дороге, легко, но заметно прихрамывая. Прежде он нарочно подошел к усадьбе со стороны поля и служб, и обратился со своим вопросом к человеку, лицо которого было ему решительно незнакомо.
– … Сказывала: голосит почище всяких театров, – в спину, обтянутую серой шинелью, договорил конюх и, в свою очередь, растеряно вопросил. – А вы, значить, кто же сами-то будете, служивый? И по каковскому до хозяйки делу?..
Часовня стояла на окраине деревни.
Голос отца Флегонта вылетал из открытых дверей, как звук иерихонской трубы и из-за своей неправдоподобной густоты почти переходил границу материальности.
Внутри часовни – запах ладана, перемешенный с запахом молодых берез, смазных сапог и мужицкого пота. Народу много. Сразу заметны глазу черные платки на бабах.
Первым он увидел Александра – в сером пальто, в мягкой шляпе светло-кофейного цвета, в таких же перчатках. Шея обмотана полосатым (серое и коричневое других тонов) кашне. Высокий, высоколобый и прямоносый, с темными, гладко зачесанными назад волосами. Люша стояла рядом с ним, но из-за маленького роста ее трудно было разглядеть среди людей. На руках она держала младенца. Капитолина шевелила губами в такт свершающейся службе и дотрагивалась ладошкой то до беличьего паланкина матери, то до кулька у нее на руках. Атя с некоторым страхом поглядывала на священника и приседала, когда он выдавал особенно грозную руладу. Ботя по обыкновению имел слегка сонный вид.
Вот Александр что-то сказал жене. Она улыбнулась, ответила, он не услышал, тогда она поднялась на цыпочки, он склонился к ней и она повторила ему в самое ухо. Тихо и согласно рассмеялись оба…
Аркадий повернулся и, раздвигая толпившихся у часовни людей, пошел прочь. Раз заглянув в лицо, ему тут же давали дорогу.
Дул ветер, рябили лужи. По небу к сырому горизонту неслись тучи, и скапливались, громоздились там серой горой. Потом пошел дождь. Аркадий стянул фуражку. Холодные тяжелые капли падали на лоб и стекали по скулам вниз. Он слизывал их языком и слабо удивлялся: вода, падающая с неба, отчего-то казалась теплой и соленой на вкус.
Глава 18, В которой Груню зовут замуж, а она не идет – у нее и так дел много
– Люшк, а Люшк! А меня сватать приходили, – похвасталась Грунька, входя в бывший кабинет Николая Павловича и улыбаясь во весь рот.
Зубы у нее были белые и ровные, и улыбка очень красила лицо с грубыми, словно топором вытесанными чертами. Правда, улыбалась Агриппина не часто – все как-то ни к чему было.
Люша читала, свернувшись уютным клубком на большом диване. Груня плюхнулась рядом. Диван застонал под ее тяжелым задом, а легкая Люша подпрыгнула, как на качелях.
– Ну и ну! – сказала Люша, оторвав взгляд от книги. – А ты – что ж? Согласилась?
– Ты спроси: как все было? – велела Груня, вглядываясь в лицо подруги.
– Как все было? – послушно повторила Люша и добавила уже от себя. – А кто ж это решился-то?
– Значицца, так. Это был хромой Аверьян из Торбеевки. Ты его должна помнить. Когда мы малые были, он на покосе вечерами напяливал полушубок и танцующего медведя показывал. Девок пугал…
– Помню, помню, – закивала Люша. – Он ведь вдовец?
– Ага. Вдовый он, жена о прошлом лете от женской немочи померла. Две девчонки остались, большенькие уже – годков по десять-одиннадцать. Он сказал: я на тебе, Агриппина, женюсь, несмотря на твое несчастье и корявую рожу. И выблядка твоего приму и буду в своем дому кормить вместе с дочками, доколе он в возраст не войдет, а после ушлем его куда-нибудь делу учиться. Дочки замуж уйдут. А ты мне непременно еще детей родишь – настоящих. Вон какой у тебя круп знатный, лошадь позавидует… – Груня расхохоталась, широко разевая рот.
– Грунька, так это, должно быть, комплимент был? – неуверенно предположила Люша.
– Может быть, – согласилась Груня. – А как я глухая, так он тут же полез показать, где оно у нас с лошадью есть… Я ручищи-то его быстро отвадила, так он вот эдак строго палец поднял и говорит: тебя, конечно, в господском доме барыня разбаловала, но я это быстро в семейное обыкновение введу – баба, она баба и есть. Все места у ней мягкие, и мозги такожде, промежду прочих членов. Если надо, так и вожжами поучить – енто бабским мозгам только на пользу идет, в порядке отвердения оных…
Люша усилием воли пригасила упрямо расползающуюся по лицу улыбку и спросила, глядя в центр узора расстеленного по полу ковра:
– Так что ж ты-то решила? Аверьян мужик хоть и не молодой, но серьезный и не бедный, как мне помнится. А девочки его и вправду через три-четыре года – невесты. Будет у тебя семья. Если надумаешь, я за тобой приданое хорошее дам, чтобы он там не очень-то о себе понимал…
– Изжить меня хочешь? – насупилась Груня. – Надоела небось? Или Варечке другую, правильную няньку сыскала? Или Александр Васильич таки допек? Знаю, знаю, что ему это ровно нож острый: как это его жена, Любовь Николаевна Кантакузина, с глухой уродой в ровнях себя держит?!
– Не заводи себя, Грунька! – спокойно велела Люша. – Не в драку лезть. Что Аверьяну-то сказала?
– Сказала: ищи, дядя Аверьян, в другом месте. Может, какая и пойдет за тебя, огрызка, вожжами учиться. Мне ж твоих снисхождениев вовек не надо, а тебя самого – и того меньше.
– А он что?
– Кровь ему от злости в глаз брызнула, аж белок весь закраснел…
– Еще бы! А потом?
– А потом плюнул и пошел. На том все сватовство и кончилось… Да, еще кошка твоя, черная с белым галстуком в кухне вертелась и ему под ноги попалась, так он пнул ее сапожищем, ровно галка полетела. Надо бы ее сыскать, да взглянуть, цела ли…
– Сыщу непременно… – Люша захлопнула книгу и снизу вверх заглянула подруге в глаза. – Груньк, ты… не пожалеешь после?
Груня отрицательно помычала и покачала головой.
Помолчали, глядя в окно.
Там в безоблачном небе ласточки ловили мошек, а потом стремительно планировали, приближались – под крышу, к гнездам, и слышно было, как они там шуршат и цвиркают, кормя птенцов.
– Везучая ты, Грунька, – с растяжкой сказала Люша. – Тебя хоть как, но по-любому замуж звали, как порядочную девку. А меня вот никогда…
– Чего мелешь?! – удивилась Груня. – Ты с Александром Васильичем венчалась.
– Да я ж его силком на себе женила. Будто ты позабыла – пожар, отцово завещание и все прочее потом…
– Какая разница…
– Большая! Ты и сама знаешь, прикидываешься только.
– Ну-у… Слушай, Люшка, а вот если, ты говоришь, Александр Васильич тебе матушкиной памятью поклялся, что запор тогда на пожаре на двери не задвигал, и убивать тебя не хотел, так кто ж это был-то? Померещилось тебе, что ли?
– Ничего мне не померещилось! – огрызнулась Люша. – Заперли нас с Пелагеей – я тебе говорю! Он даже лязгал там, когда я дверь трясла…
– Так кто ж запер, если не Александр Васильич?
– Не знаю.
– Чудно…
– Да мало ли на свете чудного?
Небо понемногу тускнело, и ласточки уже не взвивались так высоко. Набежал ветер, подхватил занавеску, дохнул острым запахом свежей, некошеной еще травы. На горизонте проявилось на миг светлое зарево, и донеслось приглушенное ворчанье – будто пушка вдалеке ударила. Собиралась гроза.
* * *
– Любовь Николаевна, вас там с черного крыльца Аверьян Капитонов дожидается. Из Торбеевки пришел. По личному, говорит, делу, – доложил лакей Егор.
– О Господи! – Люша вздохнула, сделала непроницаемое лицо и выпрямившись, словно проглотила аршин, зашагала по лестнице.
Аверьян был темен лицом, смотрел в землю, мял в руках шапку.
Выступление свое явно подготовил заранее, однако почти сразу сбился с лада и заговорил запинаясь, с ожесточенной натугой проталкивая не дающиеся слова.
– Как если добра желаете своей верной слуге… Мальчишке верное направление… Страх Божий и без греха… Готов пренебречь, Господь велел милосердие оказывать… Должно бабскому правильному устроению быть…
– Аверьян Капитонович, – не выдержала наконец Люша. – Я понимаю вполне, что ты к Агриппине с самыми лучшими намерениями касательно создания семьи. Но она – свободный человек. И коли она тебе отказала, я тут ничем над нею не властна.
– Прошу оказать вспомоществование, – Аверьян впервые посмотрел Люше в лицо. Правый белок его действительно заплыл алой кровью, и оттого взгляд казался жутким, как у сказочного василиска. – Как вы есть Агриппинина госпожа и благодетельница с самого детства, так она насупротив вашего слова пойти не смеет, и довод ваш по всякому для нее уважителен.
– Прости, Аверьян Капитонович, но я Груню ни к чему принуждать не стану, – твердо сказала Люша. – Не мил ты ей показался, что ж тут поделать? Смирись.
– Не мил, значит, – снова опуская взгляд, с угрозой проговорил Аверьян. – В шалавах, значит, ей милее. Что ж… Спасибо вам тут на добром слове… Прощевайте покуда.
Он повернулся и, прихрамывая, зашагал прочь, не оглядываясь и на ходу натягивая шапку. Люша озабоченно смотрела ему вслед. Еще с хитровских времен она доподлинно знала, что такие люди, как Аверьян, обид не забывают. В общем-то, она и сама была таким человеком…
* * *
Человек выскочил на дорогу откуда-то из пыльных кустов и сразу же замахал руками, привлекая внимание.
Александр осадил лошадь, остановил бричку, в которой объезжал поля, и досадливо сморщился, рассматривая приближающегося к нему незнакомого корявого мужика средних лет. Мужик отчетливо хромал на правую ногу, и еще что-то у него было с правым глазом.
– Мое почтение, Александр Васильич. Аверьян Капитонов я, с Торбеевки.
«Сейчас начнет чего-нибудь просить, – подумал Александр. – Будет ссылаться на войну, реквизиции, неурожай, расположение звезд и еще что-нибудь в том же духе. Я, конечно, откажу, потому что, если дать, то вслед за ним завтра придет пять таких же корявых, с шапками в руках и почти нескрываемым вызовом в глазах… И ведь специально подкараулил меня одного. Как неприятно…»
– Что ж, слушаю вас.
– Вы, барин, небось, думаете, я тотчас просить чего-нито стану, – проницательно прищурившись, сказал Аверьян Капитонов. – А я-то насупротив того: хочу вас от убытка избавить.
«Какие-то разборы между крестьянами, – догадался Александр. – И вот, этот Аверьян решил подкузьмить обидчику доносом. Тонкая месть, как он должно быть, полагает… Ну что ж, мое дело в их сварах сторона, а реальный убыток ж отчего не пресечь?»
– Спасибо вам, Аверьян. Но только я сам этими делами не занимаюсь. Поэтому, если речь о незаконных порубках, то это вам к лесничему Мартыну нужно обратиться и все ему обсказать. Если потрава на полях, тогда к агроному Дерягину. А за наградой после придете в контору, я распоряжусь.
– Награды от вас, барин, мне не нужно, я чтобы по совести, – спокойно возразил Капитонов. – И убыток у вас не на полях, а в дому…
В лицо Александру как будто холодной водой плеснули. Он отшатнулся и едва удержался, чтобы не прикрыть лицо согнутым локтем. Ему показалась, что сейчас этот вурдалачного вида мужик расскажет что-то такое неслыханное и невозможное о его жене, о Любе, и тогда… Что ж делать? Убить его прямо здесь и пойти на каторгу? Убить Любу? Уехать самому? Но куда? Правильнее всего было бы сейчас отказаться слушать этого проклятого Аверьяна, прогнать его в шею, пригрозить нагайкой и запретить приближаться к усадьбе ближе чем на две версты… Но вот именно этого Александр как раз и не мог сделать… Прогнать – значит не узнать. Как называется этот омерзительный ненасытный червячок, который заставляет раз за разом расчесывать заживающую царапину, сдирать подсохшие корочки с раны, говорить и думать о том, что причиняет боль? … Кажется, в великом и могучем русском языке нет для него имени…
– Что ж, у тебя и доказательства есть? – хрипло спросил Александр.
– Да сами увидите, коли решитесь нынче же со мной поехать, – буднично сказал Аверьян.
– Поехать – куда?
– В Торбеевку, куда ж еще.
– Ну что ж, садись, – поколебавшись, сквозь зубы сказал Александр.
Когда въехали в Торбеевку, солнце стояло уже высоко. Восход и закат над крестьянскими полями, увиденные с околицы, что-то еще будили в душе Александра, а вот дневная деревня казалась какой-то ненастоящей, намалеванной яркими дешевыми красками художником-самоучкой. Из-за низких заборов лупоглазо глядели лохматые подсолнухи и бабы в подвязанных ушками платках. Брехали собаки и шмыгали в канаве куры. Над огородами и пыльной дорогой летали ласточки.
– В Синих Ключах с девчонок глухую Агриппину Михайлову благодетельствовали, так ли? – спросил Аверьян.
– Так, – согласился Александр. – Они с барышней росли вместе. Любовь Николаевна ее и говорить научила.
– Вот щас и увидите, как она за все милости господам отплатила, – коротко пообещал Капитонов.
– Отчего ж здесь? – Александр не скрыл облегченного, со свистом выдоха, но окончательно перестал что-либо понимать. – Груня ведь и сейчас в Синих Ключах живет.
– А родичи-то ее где? Сколько их всего? Они, небось, и сами не знают…
– Да, я слышал, что у Агриппины большая семья. И вроде бы очень бедная…
– Вот! – торжествующе воскликнул Аверьян, значительно подняв вверх палец (именно этот его жест описывала Груня Люше). – Вот тут как раз и собака зарыта! Много лет Федотовы как мыши в амбаре плодились и куска хлеба им не на каждый рот хватало. А гляньте-ко теперь!
– Куда же взглянуть?
– Сей момент все вам и представлю. Вот тут живет ейный старший брат Савва… Эй ты! – заорал Аверьян на босоногого мальчику лет одиннадцати. – Отворяй ворота! Барин из Синих Ключей к вам в гости пожаловал!..
Александр слез с брички, вошел во двор, осмотрелся.
Все ему нравилось, даже то, как пахло свежим навозом и перепревшею соломой. Сильный, живой запах.
За гумном виднелся аккуратный огород, окаймленный ягодными кустами, за ним – конопляник. Вдоль кустов на низких ножках стояли ульи из свежих сосновых досок. Навозная куча, лежащая между гряд, тихо курилась. В приподнятом от земли деревянном срубе зрели розоватые дольчатые тыквы. Напротив высилась большая рига с крепкими тесовыми воротами, дальше виднелся прочный плетневый двор с рублеными закутами, амбаром, клетями; между двором и ригой зеленел лужок, стоял еще амбар с навесом, желтелись высокие ометы, возвышалась круглая шапка отлично прибранного сена. Все постройки были крыты «под начес», красиво, гладко; под навесом, оглобля к оглобле, стояли три сохи с сверкающими сошниками, лежали друг на дружке крепко связанные бороны; ток перед ригой был выметен и утоптан, лужок зеленелся, точно умытый. Нигде не валялось зря ни соринки, все веселило глаз прочностью и хозяйственным порядком.
И везде застыли, как на той же картине, остановились в полудвижении, с опасливым любопытством рассматривая заезжего барина, разновозрастные русоголовые, опрятно одетые ребята или девчонки в платочках. Каждый при своем деле.
Верещали стрижи у недалекой церкви, кудахтали куры, созывая цыплят, стучал копытом жеребец в конюшне. Люди молчали.
В Савве Александр сразу заметил отчетливое сходство с сестрой – мощно слепленная фигура, низкая линия волос, глубоко посаженные глаза.
Но вот картинка ожила, задвигалась.
– Проходите, проходите в избу! Не побрезгуйте пирогов отведать! Сейчас хозяйка квасу подаст. Митрошка, подай гостям руки обмыть. Дунька, неси рушник… Аверьян Капитоныч, что ты столбом встал?
Александр был вовсе не против отведать пирогов в чистой, отапливающейся по-белому избе, но сначала ему нужно было понять…
– Аверьян Капитонович, объясните же мне толком, зачем вы меня сюда привезли? Прекрасная усадьба, нам бы в Синих Ключах такой порядок…Но что мы тут делаем-то?
– Да ничего особенно, глядим просто, – невозмутимо ответил Аверьян. – Да еще может вам, барин, будет способно узнать, что вся вот ента красота на ваши деньги обустроена.
– Как это так?
– А вот так! – Аверьян снова поднял к небу толстый темный палец. – Грунька-то у вас на всем готовом живет, а что украдет, все в родное гнездо тащит. Еще с того времени повелось, как бар в усадьбе вовсе не было, и всем черная кость правила. И потом. Агриппина хоть и не слышит, да грамоте-счету давно разумеет, и Любовь Николаевну ей вокруг пальца обвести – пара пустых. Да разве она и станет с нее спрашивать, разглядывать, выведывать? Сами знаете: не такой у барыни характер. Пустое! Вот, по ниточке, по былиночке – оно и собралось. И изба по-белому, и лошадки, и землица. Раньше все Федотовы с шести годов на отхожие промыслы из пятнадцати рублев в сезон ходили и за счастье почитали. А теперь Саввушка на обмолот сам трех батраков нанимает. И от мобилизации его сестричка откупила, якобы за многодетностью несметной и никому доселе неизвестной хворобой… Что, Саввушка, или я неправду сказал?
От слов Аверьяна Савва землисто побледнел, ребятишки снова застыли дешевой картинкой.
Александр почему-то сразу поверил навету Аверьяна и теперь рассеянно озирался, новыми глазами увидав образцовое хозяйство Федотовых. Во рту появился отвратительный привкус и едко щипало в носу, словно нечаянно раскусил лесного клопа.
Так и не сказав ни слова, Александр направился к бричке. Аверьян, ухмыляясь в пегие усы, двинулся за ним, но Кантакузин предпочел его не заметить.
И Савва, и Аверьян были ему в этот момент одинаково противны.
Когда Александр подъезжал к Синим Ключам, уже вечерело.
«Что ж я скажу Любе? – подумал он и тут же пришел ответ. – Ничего не скажу. Ровным счетом ничего.» – Немного спустя, когда уж видна была башня-головка Синей Птицы между деревьев: «Что ж, я – благороден? Не хочу расстраивать жену, не хочу пользоваться доносом?.. Нет. Я просто убираю полученные мною сведения до времени, прячу их, как карточный шулер прячет в рукаве дополнительного туза… Это если быть честным перед самим собой. Но кто сказал, что нужно быть честным?»
Заря гасла тихо и кротко. Небо розовело свежо, как девичий сарафан. Вдоль холмов за Удольем лиловой оторочкой легла уже сумеречная тень. Дул ровный теплый ветер, рождая в полях странный звук, как будто кто-то вдалеке наигрывал на огромной дуде. Наступала ночь.
Глава 19. В которой князь Сережа несчастен, а Люша берется развлекать артиллерийского офицера
– … Места, где люди убивают друг друга сотнями тысяч, они называют театрами, – отчужденно произнесла Люша. – Мне это кажется символичным.
– Театрами? – Юрий Данилович Рождественский удивленно поднял бровь. – Ах да, действительно – театры военных действий. Ты права…
– Но ведь вы не стали бы звать меня к себе, чтобы поговорить о войне, – проницательно заметила молодая женщина. – Меня – в последнюю очередь…
– Разумеется. Хотя – и это тоже. Впрочем, нет, – Юрий Данилович в явном смущении сплел пальцы и постучал по столу ребром соединенных кистей. – Видишь ли, Люба, у меня есть сын.
– Я помню, – кивнула Люша. – Он военный. Кажется, его зовут Владимир. С ним что-то случилось?
– Валентин. Нет, по счастью нет. Наоборот, он приезжает сюда, в Москву в отпуск. Моя жена летает и трепещет от восторга, как моль, выпущенная из шкафа. А мне, признаюсь тебе честно, весьма не по себе.
– Отчего же? Он ваш, как-никак сын.
– Именно – «как-никак». Я никогда не понимал и не разделял его интересов, а он – моих. С тех пор, как Валентин поступил в кадетский корпус, я общался с ним много меньше, чем со швейцаром в Университете.
– Но что же я…
– Жена вслух рассуждает о том, как мы будем «развлекать Валеньку» в Москве и у меня мороз по коже от ее планов – так они, называя вещи своими именами, глупы и ничему не соответствуют. Но ведь при этом она безусловно права в том, что война – это кровь и смерть, и ему нужно отдохнуть от ее ужасов…
– Вы хотите, чтобы я развлекала вашего сына во время отпуска? Как? Может быть, чтобы он как следует отдохнул от ужасов войны, мне следует его соблазнить?
– Ах, Любочка! Несмотря на все воспитание, полученное тобой в доме незабвенного Лео, все-таки в тебе что-то осталось от того полудикого ребенка, которого Николай…
– Этим ребенком была именно я, и куда бы оно подевалось? – пожала плечами Люша. – Так что – соблазнять не нужно?
– Конечно, не нужно, как ты вообще могла подумать о таком! Валентин уже много лет женат. Его жена приедет вскоре вслед за ним и, наверное, останется жить у нас в Москве до конца войны. Прежде они с женой жили в Варшаве, но – ты ведь знаешь! – Варшава нами оставлена…
– Знаю. Но чего же вы от меня хотите?
– Да если сказать по чести, я и сам толком не понимаю. Но вы же все-таки приблизительно одного поколения, твой муж историк, ты наверняка осведомлена о современной культурной жизни Москвы…
– Мой муж – помещик. Культурная жизнь, о которой я осведомлена – это цыганский хор и ресторанные певички? Хорошо, я все сделаю, – сказала Люша, не делая промежутков между фразами, и в завершение спросила. – Но что ж он за человек?
– Я этого не знаю! В том-то и дело заключается! – с сердцем воскликнул Юрий Данилович. – До войны мы с ним почти не сообщались. Несколько коротких писем к праздникам, один или два коротких визита, во время которых он непрерывно пил и кутил с бывшими однокашниками. Впрочем, с матерью он регулярно встречался на водах, куда сопровождал жену (она у него вечно болеет и лечится). Когда началась война, Валентин осознал, что пришло его время, и неожиданно стал писать мне пространные письма, похожие на барабанную дробь. Долг перед Отечеством, миссия славянства, призыв Государя… – тра-та-та-та-та! У меня от них сразу же начиналась мигрень. Впрочем, здесь же у него обнаружилась наблюдательность и даже некоторые литературные способности. Теперь, после всех поражений, его ликованию, естественно, пришел конец, а взамен наступила паранойя. Русский солдат – совершенный добрый молодец, но ему не дают разбить врага, потому что везде – заговор и предательство. Генерал Алексеев связан с врагами существующего строя, которые скрываются под видом представителей Земгора, Красного Креста и военно-промышленных комитетов (Земгор – Главный комитет по снабжению российской армии. Создан в июле 1915 года деятелями Всероссийского земского союза и Всероссийского союза городов (отсюда и название). Российское общество Красного Креста – общественная благотворительная организация, часть международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, возникшего в середине XIX века для помощи раненым. Военно-промышленные комитеты – организации российских предпринимателей, созданные в мае – июле 1915 года с целью способствовать мобилизации промышленности для военных нужд. Председателем Центрального ВПК в 1915–1917 гг. был А. И. Гучков – прим. авт.). Русская интеллигенция целиком, как обычно, ненавидит монархию. Общественные деятели регулярно посещают фронт, якобы для его объезда и выяснения нужд армии. На самом же деле это происходит с целью войти в связь с командующими армиями. Члены Думы, обещавшие в начале войны поддерживать правительство, теперь трудятся, не покладая рук, над разложением армии. Они уверяют, что настроены оппозиционно из-за «германских симпатий» Императрицы и Распутина, однако чтят Государя и Отечество. Но их речи в Думе, не пропущенные военной цензурой для напечатания в газетах, раздаются солдатам и офицерам в окопах в размноженном на ротаторе виде…
– Ну, вряд ли он придумал про раздачу речей, – пожала плечами Люша. – И, судя по тому, что недавно происходило в Москве, многие московские жители думают так же, как ваш сын (Люша имеет в виду антинемецкие погромы, прокатившиеся по Москве весной 1915 года, в ходе которых пострадало 475 торговых предприятий, 207 квартир и домов, 113 германских и австрийских подданных и 489 русских подданных с иностранными или похожими на иностранные фамилиями. В ходе предшествующих погромам манифестаций тысячные толпы требовали отречения царя и пострижения императрицы-немки в монахини – прим. авт.).
– Позор! Позор! – энергично воскликнул Юрий Данилович. – Я на Большой Спасской улице подобрал наполовину сгоревшие ноты, изготовленные по заказу Рахманинова (в числе прочего была разгромлена и нотопечатная фабрика, принадлежавшая вдове прусского подданного. – прим. авт.) и специально сохранил их в память о современном варварстве. Представь, у нас в Университете в научном обществе внесен проект об исключении лиц с немецкими фамилиями! Я, конечно, выступил и сказал, что тогда и фамилию Рождественский прошу считать чисто немецкой… В общем, если у тебя получится немного отвлечь Валентина от параноидальных мыслей о всеобщем предательстве или хоть чуть-чуть это его тра-та-та утишить, я буду тебе страшно признателен!
– Да если уж он такой тра-та-та, как вы говорите, то как же его больная жена с ним живет? – улыбнулась Люша.
– Как если бы жила с барабаном и литаврами из симфонического оркестра, – ответно усмехнулся Юрий Данилович и вяло помахал рукой собственной супруге, которая уже пятый раз просовывалась в дверь и энергичными жестами показывала, как наливают чай в чашку. – Где-то так. Человек ко всему привыкает.
За приспущенными тяжелыми шторами горит летний закат. Алый луч, протянувшись по подоконнику, добрался до письменного стола, заставил сиять позолоченные корешки книг, окрасил воду в венецианском канале – на рисунке под стеклом. Узкая гондола, изображенная уверенной рукой в два штриха, скользит стремительно и, кажется, вот-вот скроется с глаз… но неизменно остается на одном месте.
* * *
– Господи, да ведь я ее ненавижу!
По мягкому лицу молодого князя Бартенева, как злобные зверьки, ходили под кожей желваки.
Со стен, обтянутых шелком и расписанных рокайлями, венками и рогами изобилия, на него недоуменно поглядывали пухлые прелестницы кисти Пуссена и Буше. Хрупкая мебель вишневого дерева выглядела так, будто простояла здесь, в дворцовой зале, не меняя позиции, лет двести – с момента изготовления. Собственно, так оно и было. Брошенные где попало шарфы и перчатки, бутылка с двумя бокалами, начатая коробка сигар, жокейское кепи и другие следы обитания мужчин – как, в общем-то, и сами мужчины, – казались здесь чем-то совершенно инородным.
Бартенев с размаху, лицом вниз рухнул на укрытую леопардовой шкурой софу. Плечи его мелко тряслись.
– Сереженька, ради бога! – великий князь – высокий, красивый, но уже несколько одутловатый, нерешительно тронул Бартенева за икру, обтянутую узкими брюками – коричневыми с голубой полосой. Сережа строптиво дрыгнул ногой. – Но мне казалось, что ты с Юлией ладишь вполне… Тем более теперь, такая удача для всей вашей семьи… Дас нетте кинд (милый ребенок)! – от нахлынувших чувств Дмитрий перешел на немецкий, который считал своим родным языком (его мать была немкой, выросшей в Германии, и говорила со своими детьми по-немецки, изменив этой привычке лишь недавно, с началом войны, после недвусмысленного пожелания императора). – Знаешь, Сереженька, вот я очень хотел бы иметь сына или дочку. Такие маленькие золотоволосые херувимчики… Я бы сам наряжал их, мастерил бы им игрушки, катал на спине, изображая лошадку… И какая разница, каким образом…
– Есть разница! – поднимая покрасневшее лицо, воскликнул князь Сережа. – Есть, Дмитрий! Ты никогда не был в таком положении и не можешь понять!
– Так объясни.
– Если б я мог, хотя бы себе… Пойми, она распорядилась нашими телами, как, по преданию, Сатана распоряжается душами, попавшими в его ведомство. Это отвратительно! Эдакая бездушная и равнодушная рациональность. Словно запись в амбарной книге толстопузого купчины, захватанной жирными пальцами: Оприходовано!.. После всего этого я не мог спокойно видеть Рудольфа, говорить с ним. А ведь Руди ни в чем не виноват!
– Так ты винишь Юлию в своем разрыве с Леттером? – прищурившись, уточнил Дмитрий. – Не себя?
– Я устал винить себя и бесконечно изображать счастье и довольство для мамочки и всех наших знакомых! У меня просто больше нет сил! Когда Руди был рядом, он казался мне невероятным занудой, а в последнее время еще и раздражал своим восторженным увлечением авиацией и неуемным желанием непременно заразить меня своей страстью. Но теперь… Если Руди погибнет, я не знаю, что со мной станет…
– Где ж он теперь? – сухо осведомился великий князь. – Летает?
– Рудольф еще весной 14 года закончил летную школу под Гатчиной и получил звание пилота. В августе 14, еще до гибели Нестерова (П. Н. Нестеров (1887–1914) – русский военный летчик и конструктор, впервые в истории авиации выполнил маневр «мертвая петля» (август 1913 г.); погиб в бою, применив первый в авиационной практике таран – прим. авт.) он два раза выполнил мертвую петлю… Его опыт на фронте, по-видимому, бесценен. Сначала его направили в 21 корпусной авиаотряд, а теперь он воюет во 2 м армейском…
– Ты запоминаешь названия воинских подразделений? Потрясающе! – усмехнулся Дмитрий.
– Руди так ничего и не понял в том, что произошло. Пишет мне письма, – не обращая внимания на явственно прозвучавший в голосе великого князя сарказм, продолжал Сережа. – Хочешь, я прочту тебе?
На породистом лице Дмитрия обозначилась сложная гамма чувств: от отвращения до нетерпеливого любопытства.
– Что ж, разве ты носишь их с собой? Удивительно… Ну прочти что-нибудь, пожалуй…
«…Каждый полет – это благородное безумие. Как он летит – этот тяжелый остов, смесь ржавых рычагов и тончайших, стрекозьих перепонок из слюды, стальной нити и шлифованного металла?! Но я – я! – уподобившись Фаэтону – управляю его полетом…
Представь: летные очки, жесткая кожа перчаток на руле, пропеллер рвет в клочья ветер. Скорость превосходящая всякое разумение, такая, какой уже нет места на земле. Волны страха, тошноты, неистовой радости. Я лечу среди облаков, над облаками. Величественно и просто. Поэты всех веков своим прозрением предугадали этот ход верениц белых облачных гор, проплывающих в пространстве мимо меня. Лермонтов, Врубель видели их на недосягаемой высоте над собой и создали своих демонов. Я воплощаю их творение…
…Мы, люди, – демоны. Бумажные крылья, еще толком не расправленные, уже обрызганы кровью…
… Проклятые немцы разбомбили санитарный поезд, и в прошлый четверг я возглавил «Налет возмездия» – лично сбросил на вражеские укрепления шесть бомб.
… Я нынче летаю на французском биплане «Voisin», выполняю разведывательные и бомбометательные задания. Это первый в истории летательный аппарат, оснащенный пулеметом. Однако, он весьма тяжел и это усложняет ведение воздушного боя. Думаю о том, как бы приспособить для пулемета разведывательный «Фарман», который я хорошо освоил еще прежде.
…Товарищами своими премного доволен. Вплотную размышляем о создании отдельных истребительных отрядов и одновременно составляем методические обоснования для обучения молодых летчиков практике ведения воздушных боев. Думаем назвать ее с прицелом на будущее «Наставление летчику-истребителю»…»
– Премного интересно! – перебил чтение великий князь. – Особенно про крепкую летную дружбу и написание брошюры. Все вместе, рядом – и радости, и невзгоды, и жизнь, и смерть – ах, как это романтично!
Сережа, ни говоря ни слова, аккуратно сложил письмо и снова спрятал его в карман.
Дмитрий помолчал, потом кашлянул смущенно:
– Сереженька, душа моя, ну что ж ты так изводишь себя! Если уж тебе так дорог этот напыщенный дурачок-авиатор, ведь можно же наверное, организовать ему что-нибудь вроде командировки, например, в Москву, на «Дукс» (московский авиационный завод – прим. авт.). Ты тоже приедешь туда, вы объяснитесь…
– В чем?! В чем нам объясняться?!! – заорал Сережа, вскакивая с тахты и снова принимаясь бегать по залу. – Я же говорю тебе, это – тупик! Она не оставила мне выхода!
– Опять она? – удивился великий князь. – Но я не понимаю…
– Да, да, она! Из-за нее я потерял Руди навсегда! Признаюсь тебе: я хотел, чтобы он погиб! Когда он уезжал на фронт, я даже не простился с ним! Ты понимаешь: мы не поцеловали друг друга! Мне потом рассказали, что он до последнего мига стоял на перроне, курил и искал меня глазами в толпе…
– А ты не пришел?
– Я пришел и, как гимназистка, прятался за газетной тумбой… Вбирал глазами его облик, запоминал поворот головы, пальцы, держащие папиросу, изгиб тени на заплеванном перроне, любил и ненавидел одновременно. Ты можешь понять?
– Это – могу, – с сомнением в голосе согласился Дмитрий. – Не могу понять другого: при чем тут Юлия?
– Она не оставила нам выхода. Я ничего не мог, потому что… потому что отец ребенка, которого ждет моя жена – Рудольф.
– Оп-па! – не сдержавшись, воскликнул великий князь, расхохотался и сильно сжал ладони. – Вот это номер!.. Стало быть, через три месяца тебе предстоит начать воспитание маленького Леттера? А он-то сам, получается, не в курсе дела? Ай да Юленька фон Райхерт! Ловко смастрячено!.. Но объясни: кого же к кому из них ты ревнуешь? Леттера к своей жене, или жену к Леттеру? И в конце-то концов – кляйне (малыш) ведь ни в чем не виноват: ни в том, что маменька у него холодная сволочь, ни в том, что мы с тобой – педерасты…
– Дмитрий, замолчи! – закричал Сережа, зажав уши руками. – Иначе я тебя сейчас вызову…
– Членов императорской фамилии нельзя вызвать, – пожал плечами Дмитрий. – Но – молчу, молчу, молчу…
Он и впрямь замолчал – но тут же, разрушив хрупкую тишину, задребезжал телефонный аппарат. Великий князь, резко развернувшись, уставился на него негодующе – точь-в-точь как оскорбленная пастушка с картины Буше.
Глава 20, В которой Марыся и Люша рассуждают о чувствах и борются со сплином кухарки Лукерьи
– У меня очень мало души, а та, что есть – ленива и своекорыстна. Зато все остальное во мне – в достатке и отменного качества, – с гордостью сказала Марыся Пшездецкая, повела пышными плечами и на кончике ножа попробовала паштет. – Я бы базилика добавила, – заметила она в сторону молодого повара в очках.
Молодой человек кивнул, достал из кармашка карандаш и склонился над мелко исписанным по-французски листом.
– В Париже стряпать учился – во как! – сказала Марыся и тут же уточнила. – А скорее и врет все, чтоб цену себе набить…
В кухне было светло и жарко. На деревянных карнизах вдоль высоких окон колыхались газовые занавески, но под потолком все равно в изобилии роились мелкие мухи, которые ближе к осени становились кусачими. Сверху свешивались липкие ленты. На некоторых из них мухи омерзительно шевелились.
– Марысь, у тебя тут дело какое? Мы можем уйти отсюда? – спросила Люша.
– Да я тут круглый день толкусь, – удивилась Марыся. – Куда ж мне идти? Мне в своем трактире спокойнее всего, да и за людьми догляд нужен. А тебе что тут? Воняет, что ли?
– Так, ничего, пустое… Слушай, Марыська, давно хотела тебя спросить: пускай души в тебе мало, но ведь тела-то – как в хорошей квашне. Неужто оно своего не требует? Только трактир и ничего больше?
– Отчего ж не требует? – усмехнулась Марыся. – Требует исправно. У меня для этих дел письмоводитель имеется. По соседству со мной живет. Аккуратный человечек, вежливый, вдовец. И оченно меня за мою конституцию уважает. Говорит, что я на королеву Елизавету похожа. Была такая?
– Была, – кивнула Люша. – И у нас в России, и в Англии. Не знаю уж, которую он имеет в виду. Письмоводитель вдовый… Марыська! Ты ж молодая еще, красивая, неужто тебе никогда не хотелось чего-нибудь… ну, с чувствами, что ли…
– С чувствами – это как? – переспросила Марыся и пожевав губами, вспомнила. – Ага! У меня как-то раз поэт был. Недолго. Он на ночь мазал губы помадой, а лицо борным вазелином. А, бывало, грел ноги в тазике (они у него вечно холодные были, как лягушки) и читал стихи. Как раз про чувства – запретная страсть, вожделение, темная звезда, все такое. Мне не понравилось, письмоводитель лучше, он мне во всем угодить готов, карточки с надписями дарит и сам на них вензелечки пририсовывает. Ты про это спросила?
Люша безнадежно махнула рукой.
– Марыська, мне надо развлечь одного человека, офицера. Он с фронта приедет. Я к тебе с ним в пятницу в трактир приду, ладно?
– Конечно, приходи, – кивнула Марыся. – Обслужим в лучшем виде. Молодой, красивый? Комнату у меня приготовить? Есть хорошая, на втором этаже, окна в палисад, можем сейчас взглянуть. Или в гостиницу поедете?
– Марыська, бесстыжие твои глаза! – воскликнула Люша и пнула приятельницу локтем в бок. Полячка лишь чуть колыхнулась. – Это же совсем по другой части, меня профессор Рождественский просил устроить его сыну культурную жизнь. Он в отпуск приезжает. Я даже думаю Алекса с собой взять, если согласится, пускай он с ним про войну разговаривает…
– Ага! И что ж вам подать? Сколько перемен? Пятничный пост господин офицер соблюдает? – тут же перестроилась Марыся и, не скрывая любопытства, поинтересовалась. – А профессор тоже будет? Сколько живу, никогда профессоров не видала…
– Не, ни в коем случае, у профессора от военного сына мигрень… Он и хочет его сбыть подальше…
– Тоже, папаша! – презрительно сощурилась Марыся и решительно сказала. – Ладно, приводи всех! Мы с моим французишкой липовым уж для вас расстараемся! Про тебя-то мне с Хитровки известно: ты пирожные с кремом обожаешь…
– Как главный гость есть боевой офицер, можно изготовить торт в виде мортиры, – всунулся молодой повар, незаметно прислушивавшийся к разговору подруг. – А внутрь вставить бутылку в специальной сеточке. В торжественный момент вечера мортира выстрелит шампанским…
– Ловко придумал! – одобрительно ухмыльнулась Марыся. – Я бы не догадалась.
– Торт! – с осененным видом воскликнула Люша. – Конечно, торт! Марыська, это мое к тебе второе дело…
– Говори.
– Понимаешь, у моей кухарки Лукерьи в Синих Ключах – сплин.
– Что у нее?! – вылупилась Марыся.
– Ну это у англичан так хандра называется, – пояснил повар.
– Точно. Лукерья прежде была такая бодрая, всех лупила и кастрюли швыряла, и стряпала лучше всех в округе, а теперь плачет все время или просто сидит на лавке, руки свесив. Я с ней попробовала поговорить, так она сказала, что видит себя как лошадь на молотилке: все по кругу ходит, и все время одно и то же, а нового и взять негде. Я говорю: что ж тебе нового, Лукерья? Она говорит: я только одно дело знаю – стряпать. Я говорю: хочешь, я тебе поваренных книг куплю, будешь стряпать по-новому. А она: я неграмотная, я только от людей могу научиться, а кто ж меня научит, если все окрестные стряпухи до самой Калуги у меня сами учились, и ко мне ездят совета просить! – и опять плакать…
– К старости люди часто плаксивы делаются, – пожала плечами Марыся. – Что малый, что старый. Вот у меня бабка, помню, тоже…
– Так я Лукерью тоже сюда зараз привезу, ладно? – перебила ее Люша. – Загодя даже. А твой повар или еще кто покажет ей, как торты делать и пирожные. Она торты не умеет, только пироги всякие, ватрушки, кулебяки и прочее. А пирожных, небось, даже не видела ни разу. Я сама-то первый раз попробовала, как в Москву после пожара попала. И ты ей еще скажешь по секрету, что Люшка-де еще с тех лет за пирожные готова была… ну не будешь говорить, на что готова… соврешь там что-нибудь… и что всякие дети непременно пирожные и торты любят… А она взамен научит вас свои пирожки печь: с яйцом и жаренным луком и с малиной и сливками – вкусные донельзя и сами во рту тают. Что, Марыська, по рукам?
Марыся замешкалась, а молодой повар поправил очки, шагнул вперед и уверенно сказал:
– По рукам, Любовь Николаевна! Привозите, значит, свою…гм… деревенскую специалистку. Не обидим, научим и рецепт восхитительных пирожков примем с благодарностью!
Марыся, приподняв соболиную бровь, смерила его взором – сверху вниз. За ее спиной, развалившись на длинном чеканном блюде, горделиво ухмылялся только что вынутый из духовки поросенок, румянобокий, с венчиком петрушки в оскаленной пасти.
* * *
– Лукерья, значит так: ты с нами в Москву едешь. В ресторан моей подруги. Посмотришь там все. Тебя лично там французский повар ждет. Молодой, в очках. Он тебя будет учить торты делать, а ты его – пирожки печь. И ему и тебе выгода. Торты у нас все обожают, только взять негде, из Калуги не навозишься, да они и портятся враз.
– Не поеду никуда, – хмуро сказала Лукерья, глядя в дощатый пол.
Вместо нее на Люшу сурово уставился святой Николай-угодник – с бумажной, щедро обрамленной цветами иконки в красном углу тесноватой комнатки, куда кухарка заглядывала только чтобы переночевать. Кажется, идея с французским поваром показалась святому прямо-таки непристойной.
– Вот еще в Первопрестольной позориться. Поглядите, люди добрые! Я – и к хранцузу в ресторан! Будет молодой над деревенской чернавкой глумиться…
– Поедешь как миленькая! – спокойно сказала Люша. – А не своей волей, так силком повезу. Пирожных охота… Помню, как я в первый раз нищенкой хитровской с той же Марыськой (у которой теперь ресторан, а тогда она посудомойкой была) в ресторан попала… А там красота – птички поют, зелень всякая, фонтаны журчат, на сцене артисты выступают…
– Да кто ж вас, замарашек, пустил? – невольно заинтересовалась Лукерья. – И на какие шиши?
– Да нас два вора как своих марух повели, – объяснила Люша. – Одного из них я потом зарезала, а другой уж и не знаю, куда подевался…
– Чур меня! – с испугом воскликнула Лукерья и быстро три раза перекрестилась.
– Значит, выезжаем в среду после завтрака, – утвердила Люша. – Вещички загодя собери (чтоб было, в чем по Москве пройтись) и реши, кого за себя оставишь, чтоб дети голодными не сидели.
* * *
– Люба, что за сражение происходит у нас на кухне? – недовольно спросил Александр. – Пожар, наводнение, кто-то умер? Нам скоро выезжать, а все до одного слуги куда-то подевались… Судя по твоему виду, ты тоже причесывалась и одевалась сама? Где Настя? Феклуша? Где все?
– Они все собирают и уговаривают Лукерью, – пояснила Люша. – Советы дают, просят чего прикупить, юбки подшивают и прочее разное. Она уж три дня, как снова в своем нраве, поэтому, чтобы с ней справиться, нужно много народа.
– Собирают? А что, Лукерья тоже куда-то уезжает? – удивился Александр.
– Да, она едет с нами. Разве я тебе не сказала?
– Лукерья? С нами в Москву?! Но – зачем?
– Избавляться от сплина. Сейчас я тебе все объясню…
Люша старалась вполне искренне, но абсолютно не преуспела. Совмещение их семейной поездки с заботой о профессиональном росте пожилой неграмотной кухарки по-прежнему казалось Александру совершенно неуместным.
– Ну и черт с тобой, – закончила, наконец, Люша. – Если у тебя какая-то такая специальная несовместимость с кухарками, о которой я прежде не догадывалась, можешь не ехать. Мы с Лукерьей вдвоем поедем, а кто с Валентином Юрьевичем будет о войне говорить, как-нибудь уж там на месте решим. Найду кого-нибудь, наверное…
Александр только развел руками и пошел натягивать сапоги. Лакей Егор, по всей видимости, тоже, как и прочие, был занят сборами Лукерьи в Москву.
* * *
Глава 21. В которой Марыся знакомится с Валентином Юрьевичем, а потом идет в атаку и рассуждает о том, как хорошо было бы стать шпионкой
Тягучий летний вечер – пыльный, ветреный, неприютный, будто посреди большой дороги. Ветер гонит по мостовой обрывок газетного листа; а по тротуарам – редких прохожих, которые торопятся сгинуть, пока на улице не появился еще кто-то, с кем бы не хотелось встречаться. Впрочем, большие окна трактира сияют весело, точно как до войны. И извозчики тянутся к парадным дверям, которые довольно часто распахиваются, выплескивая на тротуар свет и музыку, а заодно и довольных жизнью господ в разной степени опьянения. И на какое-то время начинает казаться, что все идет как надо и улица – не призрак, да и трактир самый настоящий, а уж если войти, сесть за стол, накрытый крахмальной скатертью в красно-белую клетку да заказать, скажем, расстегаи с семгой… да вдохнуть, пока ожидаешь заказанного, бесподобные ароматы…
– Первоначально ядовитые газы использовали во вполне мирных целях – для борьбы с кровососущими насекомыми. В Египте и Китае ими окуривали жилые помещения. Китайцы же первыми усовершенствовали это хозяйственное изобретение. В китайском тексте 4 века до н. э. приводится пример использования ядовитых газов для борьбы с подкопами врага под стены крепости. Обороняющиеся нагнетали в подземные ходы с помощью мехов и терракотовых трубок дым от горящих семян горчицы и полыни. Ядовитые газы вызывали у атакующих приступы удушья и даже смерть. Позже в Китае были опробованы на поле боя бомбы, начиненные смесью из ядов, пороха и смолы. В Европе также предпринимались попытки использовать отравляющие вещества в ходе боевых действий. Токсичные дымы использовались во времена Пелопонесской войны в 431–404 годов до н. э. Леонардо да Винчи составил целый реестр отравляющих веществ, включавших в себя соединения мышьяка и слюну бешеных собак. В 1855 г. во время Крымской кампании английский адмирал лорд Дэндональд разрабатывал идею борьбы с противником путем применения газовой атаки… – профессор Муранов аккуратно отрезал и поместил на вилку кусочек серо-розовой пасты. Отправил его в рот, тщательно прожевал. – Вкус просто божественный! Что же это такое?
– Варварство! – резко сказал Валентин Рождественский. – Я говорил и буду говорить, что газовые атаки – это варварство и дикая, ничем не оправданная жестокость. Вы знаете, что почти в трети случаев за время атаки ветер успевает смениться и ядовитый газ несет на позиции тех, кто его выпустил? И тем не менее у нас в России спешно строят заводы по изготовлению газовых снарядов…
– Марыська, ну иди же ты сюда! – прошипела Люша, ухватила подругу за пышную оборку и притянула к себе. – Сядь! Что ты то вертишься вокруг, как юла, то стоишь, как соляной столб – бывшая жена Лота! Я же специально для тебя профессора привела, чтоб ты поглядела. Это Алекса дядя – Михаил Александрович Муранов. Видишь, ему еда нравится. Он спрашивает, что это… Да ответь же, ты же хозяйка заведения!
– Крем из дичи с замороженным гарниром, французское блюдо… – с медленной улыбкой сказала Марыся, в полной прострации наблюдавшая за сменой выражений на мужественном лице Валентина Рождественского и энергичными движениями его крупных и сильных кистей.
– Среднее время жизни новоиспеченного прапорщика на передовой – 12 дней! Кадровых офицеров осталось по пять-шесть человек на полк! Мальчишки ведут в бой взводы, роты, даже батальоны! И как ведут! Представьте, Александр Васильевич и Михаил Александрович: впереди – сплошная черная стена разрывов. И вот туда безвозвратно уходит пехота и впереди нее эти юнцы с вытянутыми цыплячьими шеями, беззвучно орущие что-то воинственное… Они где-то начитались иди наслышались, что в бой пристойно идти с сигарой во рту, с тупой шашкой, подозрительно смахивающей на театральный реквизит, если есть – в белых перчатках и только впереди нижних чинов… Боже мой! Вчерашние гимназисты и семинаристы!.. Унтер-офицеры, прошедшие учебную команду или получившие звание за отличия на фронте, конечно, были бы куда эффективней… И все они гибнут там, за этой черной стеной, а мы даже не можем стрелять, прикрыть их своим огнем, потому что у нас – по пять-десять снарядов на орудие…
– Но почему же нет снарядов? – спросил Александр.
– Мы слишком понадеялись на наш воинский дух и численность нашей армии, – пояснил Валентин. – Технически Германия обогнала нас лет на десять. Теперь ясно: война – это еще и бесперебойное производство всего, от снарядов до сапог и кружек. Сейчас доходит до смешного – Англия вынуждена через нейтральные страны покупать у Германии красители, которыми англичане красят солдатские шинели (исторический факт – прим. авт.)…
– Крем замечательный, Мария Станиславовна, – сказал Михаил Александрович. – И суп – просто амброзия. Я, по чести сказать, и вообще не помню, когда так вкусно обедал. Утром и вечером я обычно обхожусь чаем с сухарями или баранками, обедаю – в университетской столовой… Моя прислуга говорит, что сейчас стало трудно купить самые обыкновенные продукты.
– Все дорожает, это правда… Я рада чувствительно, что господину профессору нравится… Сейчас жаркое из индейки и поросенка подадут… оценить изволите… – бессвязно откликнулась Марыся, отрешенно и плотоядно (так кошка наблюдает за прыгающей в клетке птицей) следя за тем, как Валентин Юрьевич, рассказывая Алексу о немецких бронированных автомобилях, отщипывает кусочки кулебяки у себя на тарелке.
На небольшой сцене играли два скрипача, и молоденькая певичка, пританцовывая, пела куплеты:
«Без женщины мужчины Что без паров машина, Что без клапана кларнет Без прицела – пистолет…»Люше отчаянно хотелось стукнуть Марысю ребром ладони по шее, чтобы она пришла в себя, или хотя бы сбегать на кухню и посмотреть, как там договорились между собой Лукерья и молодой повар.
– Любовь Николаевна, вам скучно слушать про войну? – проницательно заметил Валентин Юрьевич.
– Я б им всем шеи посворачивала, – хмуро сказала Люша. – Тем, которые придумали всей Европой воевать. Всем против всех – это разве дело? Когда это кончится, Валентин Юрьевич, вы-то должны знать?
– А чем оно, собственно, кончится – вам безразлично? – уточнил Рождественский. – Исход этой войны вас совсем не заботит?
– У моей жены, к счастью или к сожалению, нет общественного чувства, – сказал Александр. – Сейчас ее скорее всего заботят не 235 тысяч русских солдат, погибших на фронте за этот месяц, а переживания нашей старой кухарки, которую мы привезли в Москву из деревни, на стажировку в трактир Марии Станиславовны.
– Какой же исход у войны? – пожала плечами Люша. – Кто-то на шинелях и солонине забогатеет, как вон те, что за соседними столами гуляют, кто-то обеднеет вконец, а иные и просто в землю костьми лягут. Что же еще?
Крепко выпившие подрядчики заказали певице «чувствительную» песню и она, закатывая глаза и причудливо заламывая кисть, завела:
«Положи свою бледную руку, На мою исхудалую грудь…»Люша решительно поднялась:
– Я сейчас приду, только нос напудрю, – сказала она. – Марыська, напомни мне, как у тебя в кухню пройти!
Профессор Муранов посмотрел вслед Люше и от души рассмеялся:
– Александр, твоя жена удивительно органична!
– Во внешности Любовь Николаевны есть какая-то восточная нота? – полувопросительно заметил Валентин Юрьевич. – Это придает ей особый шарм.
– Безусловно, дядюшка, – согласился Кантакузин. – Именно органична, то есть легко осваивает любой подвернувшийся ей субстрат – от бриллиантов до навоза. Безусловно, вы правы, Валентин Юрьевич. Люба – наполовину цыганка. Так сказать, дитя природы…
* * *
Комнаты Марыси Пшездецкой располагались в непосредственной близости от кухни ее же трактира, и пахло в них всегда сдобными тестом, французскими соусами, запеченными окороками и прочими приятностями – от одних ароматов почувствуешь сытую тяжесть в желудке, и потянет прилечь на обширный диван с подушками, на которых переливаются шелковые кисти и цветут яркими красками вышитые жар-птицы. Сейчас хозяйке было, впрочем, не до кулинарных благоуханий. Она даже не бросила ни одного горделивого взгляда на любовно подобранную обстановку комнаты – что было ну никак не в ее обычае.
– Ну что, как там твоя кухарка? Понравилось ей? – рассеянно спросила у Люши Марыся, поглаживая розовыми, чисто вымытыми пальцами складки на красной люстриновой юбке и как будто бы собираясь с духом.
– Впечатлена и благодарствует весьма. Французу твоему нижегородскому от меня спасибо передай – врет он там тебе или не врет, но хороший человек, не побрезговал неграмотной деревенщиной. Лукерья один раз в Кремль к обедне сходила, а теперь ходит исключительно по московским кондитерским, глазеет на торты и пирожные. Старается все запомнить. Я ее пару раз пирожным угощала, так она говорит, что на красоту-то оно лучше, чем на вкус. И еще, если человек в кондитерской ей приветливым покажется, так она…
– К черту твою старуху! – решительно прервала Люшин рассказ Марыся. – Почему ты не познакомила меня с Валентином Юрьевичем раньше?!
– Окстись, Марыська! Я сама видела его первый раз в жизни. До войны он служил в Варшаве, потом воевал…
– Он поляк? Я сразу подумала… Стать, глаза, кровь…
– Обойдешься. Он не только не шляхтич, но даже не из родового дворянства. Его дед был православным попом где-то в провинциальной России.
– Моя прошлая жизнь протекла мимо кассы. Я никогда не видела таких мужчин!
– Действительно. Откуда бы тебе? Впрочем, если тебя это утешит, я тоже не видела. Только, пожалуй, в водевилях…
– Скажи мне названия, я завтра пошлю мальчишку купить билеты. Что мне сделать, чтобы он обратил на меня внимание?
– Мужчина не может не обратить на тебя внимания. Ты как сахарная голова на прилавке магазина. Другое дело: любит ли он сахар?
– Что мне сделать, чтобы полюбил?
– Заинтересоваться артиллерией.
– Уже. Люблю пушки, пулеметы и эти… калибры. Страшно возмущена нехваткой снарядов в наших войсках. Еще? – деловито спросила Марыся. – Говори все. Тебе оно ближе, ты с благородными да образованными больше зналась.
– Перестань на него облизываться, как кот на сметану. Это кого хочешь испугает. А Валентина Юрьевича особенно. Ты думаешь, военный на войне с кем воюет?
– Я думаю, с врагом.
– А я думаю, со своим страхом. Он и в армию-то от папаши своего сбежал, который все норовил его в блинчик раскатать.
– Ерунду ты говоришь. Это твой Арабажин-покойник и тот, другой, его приятель, который в Петрограде безумцев лечит, тебе мозги запудрили.
– Я потом еще журналы читала. Может быть, и ерунда. Но иногда очень похоже на правду.
– А что же делать?
– Марыся, помни, он на тебе не женится. У него есть жена.
– Мне все равно. Что же?
– Говори про артиллерию. Держись прохладней и выжидай. Можно еще проявить женскую слабость, слегка пустить слезу, вояки да и вообще мужчины на это покупаются. В подходящий момент – прыгай.
– Непременно. Ага. Ты ему скажешь, что теперь он должен вас с Алексом в театр на водевиль сводить?
– И тебя прихватить? Это как Гришка Черный с Ноздрей нас с тобой в ресторан водили? – Люша нехорошо усмехнулась. – А что, подруга, мне потом Валентина резать не придется? (эта трагическая история времен хитровского детства обеих подруг описывается в романе «Пепел на ветру» – прим. авт.)
– Только тронь. Я тебя саму зарежу, – сумрачно пообещала Марыся.
И оглядела таки комнату – но не с гордостью, а сердито, будто искала глазами подходящий кинжал.
* * *
– Если ты не хочешь сесть к ним, тогда пошли в ложу! – решительно сказал Александр Кантакузин. – Мне надоело бродить в фойе, как тень отца Гамлета…
– Да, да, Алекс, – рассеяно подтвердила Люша. – Кажется, они все-таки как-то зацепились…
– Люба, может быть, ты обратишь внимание, что мы в театре, а не на рыбалке или ловле скворцов…
– Конечно, ты прав, это действительно театр, кто бы мог подумать! – послушно согласилась Люша и, уцепившись за локоть мужа, повлекла его к устланной бордовой дорожкой лестнице в ложи. – Пойдем теперь в зал, тем более, что второй акт уже давно начался…
В зале взволнованно и празднично колыхалась тьма, пронизанная блестками, дыханием, шорохами. Тьма обрывалась перед сценой, освещенной так ярко, что в первую секунду казалось невозможным разглядеть, что же там делается; громкие, раскатистые голоса наполняли пространство, объединяя темноту и свет.
– Когда снаряды различных калибров рвут на части живых людей, это мне мало интересно, – холодно заметила Марыся Пшездецкая, отставив мизинец и откусывая кусочек от крошечной тарталетки с черной икрой. Ее крупные белоснежные зубы хищно блеснули в свете стоящей на столике театрального буфета свечи. – Но ведь на войне – вы согласитесь с этим, Валентин Юрьевич? – обостряются все чувства, пробуждаются все страсти, от самых благородных до самых низменных. Темная сила Марса, ежедневная близость собственной смерти и гибель друзей рождают в человеке потребность все испытать, мутят слабый человеческий разум и… (перед глазами Марыси с огромной скоростью мелькали образы Люши, намазанного вазелином поэта и почему-то – покойной Камиллы Гвиечелли) и… и заставляют его искать там, где прежде виделись лишь чужие огороды, заросшие к тому же сорняками… То есть, я хотела сказать, это… сейчас… Вот! На базе пробудившихся инстинктов у человека возникают нестандартные мотивации. И это представляется мне чрезвычайно захватывающим!
За высокими окнами – поздние, пронзительно-синие сумерки, в них отражались огни, лица, цветные блики. Публика, радостно жужжа, поглощала десерты и бутерброды – в таком количестве, будто второму действию спектакля предстояло продлиться как минимум сутки. Театральная публика, надо сказать, всегда такова, и война тут не при чем.
Валентин Рождественский, не скрывая удовольствия, смотрел на невероятно красивую, ярко, но безвкусно одетую полячку и, сохраняя на лице выражение вежливого внимания (освоенное им еще в родном доме, в среде университетской профессуры), с некоторым ошеломлением слушал ее речи. Временами ему казалось, что он говорит с несколькими разными людьми одновременно. Одним из этих людей была, несомненно, полуцыганка Кантакузина, а остальные – кто? И как различить среди них саму Марысю?
– Ну что же вы скажете, господин майор? Расскажите хоть чего забавное, что ли…
Марыся от нетерпения заглотила тарталетку целиком – по ее белому горлу прокатился комок, и Валентин заворожено проследил за ним, борясь с искушением протянуть руку и дотронуться пальцем до места, где тарталетка провалилась куда-то внутрь Марыси.
– Да, разумеется! – темпераментно воскликнул он и буквально уцепился за последнюю фразу. – Бывает очень смешно. Например, мы входим в городок Вилленберг. Все немецкие воинские соединения ушли, но на колокольню местной кирхи поднимается с ручным пулеметом (как затащила?!) семидесятипятилетняя немецкая старуха, уже потерявшая на войне нескольких сыновей и внуков, и встречает русскую пехоту ураганным огнем. Казаки, естественно, попытались стащить ее с колокольни, так она еще троих вывела из строя в рукопашной: кусалась, царапалась и отбивалась клюкой. Пришлось ее прикладом по башке треснуть…
– Ужасно! Бедная женщина! – твердо сказала Марыся, достала из кармана завернутую в платок очищенную луковицу, поднесла ее к лицу и незаметно откусила небольшой кусок. На ее глазах тут же выступили огромные прозрачные слезы.
– Боже, простите! Я так неловок: хотел вас развлечь, но только расстроил! – сокрушенно воскликнул Валентин и двумя пальцами прикоснулся к запястью руки, которой Марыся, как бы в смущении от своей слабости, прикрыла глаза. – И с женой у меня всегда так же получается… Я не умею тонко говорить и смешить женщин – мое место в казарме. Но вот, (не плачьте, Мария Станиславовна!) смотрите, это забавно: мой однокашник работает в контрразведке. Когда мы встречаемся, он пьет коньяк и рассказывает удивительные вещи. Все ловят шпионов. И у нас, и у немцев. Вдоль линии фронта, с обеих сторон (!!!) закрыли еврейские мельницы, потому что они движением крыльев передавали сигналы врагу. Наши евреи немцам, а немецкие – кому? Потом всерьез проверяли сообщение, что немецкие агенты роют 15‑верстный подкоп под Варшавой. Или вот, установленные приметы немецких шпионов: новые сапоги и остроконечные барашковые шапки…
– Но кто же верит такой ерунде? – вытерев ненужные больше слезы, удивленно спросила Марыся.
– Все верят, – сказал Валентин. – Тем более, что действительность подтверждает: все возможно. Например, с самого начала войны на железной дороге немцы стали использовать сирот-подростков – для краж офицерских сумок в поездах. Так вот неудача постигла эту затею именно потому, что аккуратные немцы одевали всех подростков в одинаковое чистое платье, и наши жандармы легко их узнавали и задерживали… Но самые страшные шпионки, конечно же, женщины…
– Почему это? – в глазах Марыси зелеными искрами зажегся неподдельный интерес.
Валентин почувствовал, что тонет в ее глазах как в болоте, и постановил себе не откладывая посетить первый же бордель, который сумеет отыскать в Москве.
– Потому что они сначала соблазняют беззащитных перед их чарами мужчин, а потом выуживают у своих любовников всякие военные тайны, – с невероятным удивлением услышал он сам себя. «Боже, что я несу?!» – в смятении подумал артиллерист и продолжал почти машинально. – Мой приятель рассказывал мне о донесениях, в которых бдительные граждане сообщали о том, что немецкие прачки вывешивают белье на просушку в соответствии с сигналами азбуки Морзе… А недавно шестнадцатилетняя английская кухарка заявила, что она была под гипнозом завербована германским шпионом, который заставил ее нарисовать план Бристольского канала и работать на сигнальном устройстве для поддержания связи типа «Хит-Робинсон»… А одна молодая французская герцогиня, давняя поклонница кайзера, как будто бы передавала в Варшаву взрывчатку в статуэтках католических святых, которые она жертвовала для костелов… И еще странная история вышла с одной сестрой милосердия… (все истории, которые рассказывает Марысе Валентин Юрьевич, опираются на реальные документы из истории различных разведок времен Первой мировой войны – прим. авт.)
* * *
Подруги сидели в Марысиной гостиной и пили портвейн, заедая его хлебом и паштетом. Вина в бутылке оставалось на донышке. Напротив сидящей на диване Марыси висел ее ростовой портрет, подаренный ей когда-то Камиллой Гвиечелли. У Люши, которая сидела на высоком стуле, положив локти на накрытый синей льняной скатертью стол, двоилось в глазах: ей казалось, что две Марыси перемигиваются между собой.
– Дочка-то ее жива теперь? – спросила Марыся, указывая вилкой на портрет. – Ты говорила, она совсем хилая родилась…
– Любочка? Аморе? Жива, но болеет часто. Хотя ей уделяют много внимания – учат языкам, играть на пианино… Когда дядюшка Лео умер, я хотела по случаю ее в Синие Ключи забрать, на травку, но не получилось…
– Так они тебе свою игрушку и отдали… А почему у Валентина Юрьевича детей нет? – Марыся вылила в Люшин бокал остатки вина и поставила пустую бутылку под стол.
Потом, запахнув розовый капот, тяжело поднялась с дивана, дошла до обширного буфета со стеклянной дверцей и распахнула ее, выбирая следующую жертву.
– Вроде жена у него больная… – сказала Люша, отхлебывая вино. – Марысь, может уже хватит нам?.. Ну ладно, давай французское. А как там у вас… вообще… Поговорили?
– Ты знаешь, я всегда думала, что война – это грязное, скучное и совершенно неженское дело, – воодушевленно сказала Марыся Люше. – А теперь вижу, что и там женщинам вполне есть чем заняться.
– Марыська! – с подозрением спросила Люша. – Не собираешься ли ты в маркитантки?
– Не, – полячка помотала головой. – Трактир не на кого оставить. Французишка мой стряпает изрядно, но в людях уважения не имеет…
– И то ладно…
– А как бы славно было заделаться шпионкой! – сладко прижмурилась Марыся. – И подобраться к самому кайзеру… Вон у меня намедни в трактире офицеры, и не особо пьяные вроде, а божились, что у нас вокруг императрицы одни немецкие шпионы, а может… – тут Марыся слегка понизила голос. – А может и она сама… немка ведь…
– С королями у нас вообще полный швах, Марыська, – твердо сказала Люша.
– Это почему это?
– Все Гогенцоллерны, включая английскую королевскую семью, – немцы. А все немцы, по-твоему, шпионы. И на что после этого надеяться союзникам?
– Не на что, – согласилась Марыся и допила вино из своего бокала. – Вот и Валентин Юрьевич говорит… А солдатики говорят: измена! Вот если бы мне шпионкой заделаться, он бы меня уважал… А что ему трактирщица…
– Не журись, Марыська, прорвемся! – сказала Люша, пальцем размазывая паштет по куску хлеба.
Глаза у нее закрывались.
– Я тебя уважаю, – Марыся шмыгнула носом. – Я тебя уважаю, Люшка, за твой атпи… за твой оптимизм… вот сколько тебя знаю, ты из любого дерьма чирикать готова… И это правильно вполне! Давай обнимемся!
– Только не удави меня! – предупредила Люша, обошла стол и не без удовольствия погрузилась в мягкие объятия подруги.
Через четверть часа обе спали: Марыся – раскинувшись на диване и негромко размеренно похрапывая, Люша – свернувшись в клубок у нее под рукой и уткнувшись носом ей подмышку.
Глава 22 В которой Адам читает лекцию о войне и сексуальности, а Арсений Троицкий посещает «Лунную виллу» и имеет там неожиданную встречу.
– Итак, медсестра – молодая красивая полька, выуживающая информацию у русских солдат и офицеров. Она проживала в отеле «Бристоль» в Варшаве, который имел репутацию шпионского центра. Только что прибывшие с фронта офицеры с удовольствием бросались в омут любовных наслаждений. Над ее постелью висела карта, на которой каждый попадающий в эту постель военный отмечал местоположение своей роты, якобы для того, чтобы после она смогла легко его отыскать. В конце концов один из офицеров заподозрил неладное в таком пристрастии к военной тактике и известил польские власти. Женщина была арестована и конечно же оказалась германской шпионкой…
Самая большая аудитория Бехтеревского института была полна до краев. Воздух в ней колыхался дыханием и движениями множества людей, как вода в миске. Летний вечер пах мелом и пылью. Рубашки мужчин темнели под мышками. Девушки утирали лица платками. Вокруг горящих высоко под потолком ламп плавали радужные круги. Слушатели сидели на подоконниках, на ступенях в проходах. Из-за большой трехчастной доски, которая скрывала вход, выглядывали вовсе не поместившиеся. Почти каждая фраза лектора вызывала отчетливую и часто противоречивую реакцию зала – слушатели аплодировали, шикали, свистели, смеялись, выкрикивали: «В точку!» «Браво!», а также «Долой!» и «Позор!»
Перед Адамом на кафедре лежал всего один лист бумаги с написанными на нем тезисами и тоненькая брошюра с французским заголовком. Резким и звонким голосом он бросал в зал провокационные, специально заточенные его разумом фразы и чувствовал себя так, как будто взялся дирижировать морским прибоем:
– Скрытой основой, глубинной стороной войны является сложнейшая борьба индивидуального, сексуального и этнического начал…
Лекция так и называлась: «Война и сексуальное начало». Помимо студентов Бехтеревского института, универсантов, медиков и вольнослушателей, послушать пришли несколько солдат – в шинелях или коричневых халатах. Раненным уступили место на выкрашенных черной краской скамьях, в нижних рядах амфитеатра. Несколько сестер милосердия сидели под самым потолком. Платки делали их лица неотличимыми друг от друга.
«Доктор, вы молоды, и вы можете лечить – почему вы не на фронте?» – выкрикнул кто-то.
Несмотря на жару, спину Адама кололи острые морозные иголки. Он не откажется ни от одного из своих тезисов. Покойный Аркаша мечтал о революции. Он понял недавно – Аркашина революция покуда не случилась, но его, Адама, революция уже происходит здесь и сейчас. Назвать все то, что есть в человеческой натуре, своими именами. Не прижимать к носу платок, не отводить взгляд, не затыкать уши. Сказать. И услышать. За этим и пришли сюда все эти люди. Он не обманет их ожиданий.
– Война по всей Европе позволила усомниться в том, что женщина из буржуазной семьи должна быть прикована к «святыне домашнего очага». Взгляните вокруг себя: женщины заместили мужчин, ушедших на фронт. В трамвае и в трактире, в школе и на фабрике. Не побоюсь сказать: война открыла в женщине новые силы и одновременно породила у мужчин страх перед ее освобожденной сексуальностью. Этот страх воплотился в двух образах, на первый взгляд совершенно противоположных: шпионки-куртизанки и сестры-милосердия. Это две стороны одной медали. Взаимопроникновение образов. Мы рассмотрим их по отдельности, а потом с ловкостью циркового фокусника соединим в один.
Мы все наблюдаем сейчас охоту на шпионов, которую по размаху можно сравнить только с охотой на ведьм в 17 веке. В странах союзников, в Германии и Австро-Венгерской империи – то же самое. Шпионы повсюду. Но намного страшнее обольстительная шпионка. Искусительница, от которой веет тайной, тревогой, опасностью… Любая работающая женщина может быть шпионкой. Больше всего подходят артистки кабаре, танцовщицы, дамы полусвета, но равным образом годятся и аристократки, школьные учительницы, белошвейки и прачки. Разброс, как видим, более чем велик.
Еще опасней коварство и вероломство, скрываемое под личиной матери нации или самоотверженной сестры милосердия. Единственная женщина, с которой мужчины общаются на войне. Единственная общественно одобряемая возможность для женщины из буржуазной семьи расширить свои горизонты. В том числе и в области познания мужчин…
Возгласы из зала: «Вы с ума сошли! Вы оскорбляете целомудрие и милосердие наших женщин!»
– Я не сошел с ума, – твердо сказал Адам. – В человеческой природе ничто не исчезнет от того, что мы сделаем вид, будто его не было и нет. Точное знание всех тех ловушек, которые таятся в глубине нашей психики, унаследованной нами от предков-животных, не оскорбляет нас, а помогает нам понять себя, и на основе этого выстроить тактику совладания… Беспомощность, кроме сочувствия, пробуждает и желание властвовать. В том числе и властвовать сексуально. Это для вас новость, мужчины? А почему вы думаете, что женщины устроены иначе? Беспомощность раненного на койке…
«Жидовские штучки!» – ожидаемо вполне (Не удержавшись, Адам даже кивнул головой).
«Причем тут жиды? Что вы все в одну кучу!»
«Как это причем? Ихние женщины еще когда своих мужиков гнобили. Почитайте хоть в Ветхом Завете…»
Адам показал залу лежавшую на кафедре брошюру:
– Не я один. Французский академик Фредерик Массон написал книгу, в которой рассматривает развившийся во Франции «культ раненых», и на основании проведенного им исследования утверждает, что многие женщины (особенно не первой молодости и из высших классов), выхаживая больных мужчин, испытывали половое возбуждение… (работа Массона действительно существовала, была издана в Париже в 1915 году – прим. авт.)
Зал буквально взорвался возмущенными криками. Женщина в шляпе визгливо кричала: «Долой!» и размахивала рукой, как будто отгоняла птицу. Студент аплодировал, встав на скамью. Один из раненных вскочил и стал молча стучать костылем в пол. Что он хотел этим сказать, оставалось непонятным, но Адаму почему-то показалось, что инвалид стучит скорее в поддержку, чем в осуждение его слов.
«Прекратить!»
«Это гнусное безумие!»
– Да, безумие! – немедленно согласился Кауфман. – Война сама по себе создает атмосферу психоза, паранойи. Она извлекает на поверхность все скрытые в подсознании страхи и одновременно является разрешением главного страха, страха смерти, делая его почти скучной повседневностью…
Они все, даже самые разозлившиеся, замолкали, чтобы услышать, что он скажет дальше. Это было великолепно и вдохновляюще. Адам мотнул головой, отбрасывая со лба прилипшие от жары волосы. Сегодня к обычным обиженно-восторженным, поддерживающе-осуждающим эманациям зала добавлялось что-то еще. Нечто, что он никак не мог классифицировать. Что-то вроде слегка ироничного, почти родственного приятия – как если бы в зале сидел кто-то из его семьи, например, тетя Сара или зейде Ицик: «Ну, наш Адамчик! Уж он всегда такое скажет, что добрым людям хоть со стула вались…»
Это было решительно невозможно.
– А вот что пишут немцы: «Сейчас вся страна кишит женщинами, тайными агентами вражеской разведки, действующими под эгидой Красного Креста…». Здесь мы опять наблюдаем слияние двух образов (сестры милосердия и шпионки) в один, и должны понимать, что это слияние во многом предсуществует не столько в реальности, сколько в мужском подсознании…
После лекции Адам старался сразу уйти. Он хорошо и уверенно чувствовал себя на кафедре перед аудиторией и один на один с пациентом или его семьей, но, окруженный толпой, всегда начинал нервничать. Однако уйти не получалось – всем хотелось что-то сказать, спросить, доспорить или, наоборот, выразить поддержку. Адам отвечал рассеянно и глядел поверх голов – странное ощущение родственного присутствия не проходило.
Тужурки, перья на шляпках… Солдатская шинель – это самое сложное. «Господи, но что же я скажу человеку, который был там…»
– Мало ли что где напишут?! – молодой человек с лицом, похожим на лукошко с прыщами, протиснулся вплотную к Адаму. – Вот я вчера в серьезном вроде бы журнале прочел статью, где автор утверждает, что преданность кайзеру является врожденным качеством для всех людей, родившихся в Германии. Вы верите в эту чепуху?
– Научный поиск не может быть вопросом веры. Только исследование…
– Адамчик, ничего не говори, не прыгай и не разевай рот, – прозвучал позади Адама тихий спокойный голос. – Я буду ждать тебя у лечебного корпуса, справа от входа, за водостоком.
Краем глаза Кауфман заметил ту самую солдатскую шинель и последовательно проделал все то, о чем его только что предупредили: воскликнул: «О Боже!», дернулся всем телом и раскрыл рот.
– Что с вами? – спросил прыщавый студент.
– Мне душно! Здесь совершенно нечем дышать! – с манерностью декадента заявил Адам. – Мне нужно выйти. Немедленно. Позвольте, позвольте!
– Адам Михайлович, вы не можете уйти! Вы же обещали сегодня мне разъяснить…! – полная женщина в очках цепко ухватила Кауфмана за рукав пиджака.
– Ой-вэй, мадам, не разрушайте мои нервные клетки! – с почти невыносимым еврейским акцентом воскликнул Адам. – В них живут мои нервные тигры!
Двух секунд общего замешательства ему хватило, чтобы прорвать круг и достичь выхода из аудитории.
– Как дела? Я вижу, ты популярен… Больше не прячешься в лабораториях?
– Аза ёр аф майне соним! («Такого года моим врагам!» – идиш, идиоматический ответ на вопрос «Как поживаешь?» – прим. авт.) – со слезами в голосе воскликнул Адам и изо всех сил толкнул Арабажина в плечо.
Тот, отшатнувшись, стукнулся об стену. Задетый водосток отозвался гулким стоном. Где-то наверху, в кроне липы, недовольно вскрикнула спросонья потревоженная галка.
– Сволочь, Аркаша, ты что, не мог дать знать?!!
– Да не мог! Истинно не мог! Без памяти валялся – сначала в русинской деревне, а потом в госпитале. А после меня жандарм в оборот взял…
Адам плотно, до боли зажмурился, постоял так, а потом притянул Аркадия к себе. Арабажин осторожно обнял приятеля с выражением некоторого недоумения на физиономии.
– Да, да, да, ты знаешь, что я не выношу чужих прикосновений! – пробубнил Адам, уткнувшись носом в грубое сукно, пахнущее мокрой псиной. – Ты помнишь, как в первом гимназическом классе наш милейший словесник, Тарас Игнатьевич Перепечко, желая утешить, приобнял меня за плечи, а я укусил его за палец… но я должен же почувствовать наконец, что ты – настоящий!
– Ничего, ничего… Конечно, Адамчик, я настоящий, – Арабажин отстранился, держа Кауфмана за плечи, заглянул ему в лицо и, поколебавшись долю секунды, жесткой ладонью стер выступившие сквозь зажмуренные веки друга слезинки.
Адам содрогнулся всем телом и отвернулся. Минута слабости миновала.
– Так ты что, сбежал от жандармов? – глухо спросил он. – На нелегальном положении? Что за личина? Агитатор в войсках?
– Не совсем так. Но светиться мне в любом случае не стоит.
– Едем ко мне в клинику. Там ко всему привыкли и никто не спросит. Скажу: с фронта на консультацию.
– Хорошо, едем.
* * *
– Воистину: встать напротив окна и выть на луну. Право каждого: валяться в канаве, – сказал поэт и писатель Арсений Троицкий старшей медсестре частной психиатрической клиники «Лунная вилла» Варваре Тарасовне.
Варвара Тарасовна молча кивнула. Ее трудно было чем-нибудь удивить, к тому же в ее вязании настало время поворачивать пятку, что требовало некоторой сосредоточенности.
– Как вы полагаете: огонь, который горел, может догореть… совсем? Или, если от него ничего, совсем ничего, ни малейшей искорки не осталось, значит – что-то было не так с самого начала? Но ведь я был талантлив… был, несомненно… Так Адам Михайлович, вы говорите, будет?
– Наверняка я вам не скажу, – Варвара Тарасовна закрыла последнюю петлю. – Но обыкновенно после лекции приезжает и еще часика два-три журналы читает или за бумагами сидит…
Ехали на извозчике. Сначала их сопровождали зеленые призрачные огни, бегущие по трамвайным проводам. Потом потянулись маленькие дома с окошками в крестовых переплетах.
– Да что ж это такое?! – Аркадий изумленно оглядел уютный холл с окном в наклоненной крыше, опустил руку в бассейн, из которого глупо таращились на него золотые рыбки, погладил лист склонившейся к бассейну пальмы. – С ума сойти – «Лунная вилла» – твоя воплощенная мечта!.. Адам, признавайся, ты ограбил банк?
– Нет, Аркадий. Я никого не грабил. Все произошло благодаря тебе.
– Благодаря мне?! Ты сошел с ума! Меня же не было, я погиб…
– Но прежде успел прислать ко мне за справкой Раису Овсову. Помнишь?
– Да, конечно. Возлюбленная бедного Луки. Он…?
– Скончался от ран, не доехав до Петербурга. Выяснить это удалось не сразу. Раиса Прокопьевна довольно долгое время провела в Петербурге. Мы, можно сказать, успели подружиться…
– Гм-м… Бедный Камарич… Бедная Соня…
– Аркаша, немедленно извинись!
– Прощу прощения, – склонил голову Арабажин. – Так вы подружились и…
– В числе прочего я, конечно, рассказывал Раисе Прокопьевне о своих планах по созданию клиники для лечения душевнобольных, построенной на самых передовых принципах, и одновременно пригодной для исследования природы человеческой психики… Каковы же были мои изумление и радость, когда буквально вскоре после отъезда Раисы Прокопьевны я получил от нее письмо с предложением открыть клинику на ее пожертвования и в честь ее покойного мужа…
– «Лунная вилла» имени купца Овсова… Изрядно! –
Аркадий от души рассмеялся. Адам смотрел почти с обидой. Луна с любопытством заглядывала в верхнее окно.
– Раиса Прокопьевна очень богатая и одновременно чрезвычайно душевная женщина…
– Я знаю, Лука рассказывал мне, – кивнул Аркадий. – Может быть, тебе будет интересно узнать, что ее муж был не только купцом, но и сектантом, а она сама – сектантская «богородица».
Адам растерянно молчал.
– Но какая, в сущности, разница! – продолжал Аркадий. – Главное, что сбылась твоя мечта…
– Да. Война изменила соотношение цен на недвижимость. Я задешево приобрел требующий ремонта особнячок на окраине вместе с большим запущенным садом и ты видишь, что…
– Адам Михайлович, как хорошо-то! А я уж думала, что напрасно человека обнадежила и вы не приедете вовсе – вас тут второй час дожидаются… – Варвара Тарасовна, чуть переваливаясь, спускалась по лестнице и буквально светилась улыбкой навстречу молодому врачу.
– Господи, как не вовремя! – поморщился Адам. – Наверняка какой-нибудь хронический неврастеник… Варвара Тарасовна, дорогая, я очень занят, у меня сложный случай… Нельзя ли теперь как-нибудь отослать его: сказать, что я не приехал, сломал ногу по дороге, меня растерзали на лекции, и пригласить хоть на завтра…
– Нет, нет, драгоценный Адам Михайлович, у вас никак не получится отослать меня, – пророкотал сверху густой баритон Арсения Троицкого. – Мне срочно, срочно нужна ваша консультация, иначе я не знаю, что с собой сделаю! Я не ел два дня. Жаннет буквально выгнала меня сюда… Но я согласен делиться вашим драгоценным вниманием с… Боже мой! Кого я вижу! Доктор Арабажин! Сколько лет… Но… Позвольте! Вы же… Адам Михайлович говорил мне… Вы…
– Да, да, – спокойно кивнул Аркадий. – Доктор Арабажин погиб при пожаре санитарного поезда. Вольноопределяющийся Аркадий Январев, к вашим услугам. Надеюсь на ваше понимание.
Троицкий подтянулся, внимательным и острым взглядом оглядел обоих друзей.
– Понимаю, – кивнул он. – Не стану мешать. Будьте спокойны на мой счет: в доносчиках и болтунах никогда не числился.
– Спасибо, Арсений, – просто сказал Январев. – Адам, может быть, если уж так все вышло, мы теперь все вместе выпьем чаю?
– Но почему же только чаю?! – мигом оживился Троицкий. – Я знаю тут неподалеку одно чудесное местечко…
– Только чай и только в моем кабинете! – строго сказал Адам. – Арсений, вы помните о состоянии своей печени?
– Увы мне… – снова понурился Троицкий.
Аркадий улыбнулся, а Варвара Тарасовна отправилась будить служителя и организовывать чаепитие. Для Адама Михайловича («вернется с лекции непременно голодный!») у нее были припасены в кастрюльке любимые им домашние тефтельки с перчиком, но при нынешнем обороте событий они становились неактуальными…
– Все дело в том, что обычным людям чрезвычайно сложно уразуметь, как устроена душа творческого человека и что в ней происходит, – сказал Троицкий, почесывая морщинистый подбородок разместившейся у него на коленях Гретхен. – Художников всегда не понимали.
– А с плотниками как? – спросил Январев, отхлебывая горячий чай.
– Простите?
– Плотников – понимают? Вот вы, например, вполне ли уверены, что достаточно понимаете плотников, чтоб им невозможно было пенять на непонятость вами? Что?
– У вас парадоксальный ум, Аркадий, я заметил это еще в нашу первую встречу…
– Тогда я был пьян, и все парадоксы моего мышления проистекали от этого прискорбного факта, – усмехнулся Аркадий. – Вообще-то я мыслю линейно и совершенно тривиально. Оригинальность и дерзновенность у нас по части Кауфмана. Что ж, Адам, исполнение твоей мечты как-то продвинуло твои исследования психики?
– Несомненно. Боже… – Адам прикрыл глаза. – Как я пенял судьбе на то, что ты, именно ты, Аркадий, никогда не услышишь и не прочтешь того, что пришло мне в голову в течение этого года… Но вот, мой глас услышан… Арсений, простите мою высокопарность, но вы должны понимать, как я взволнован воскрешением Аркаши…
– Безусловно! – энергично воскликнул Троицкий, размачивая в чашке с чаем половинку жесткой баранки. – Я сам взволнован! У меня даже прошла хандра и вернулся аппетит… Господа, может быть, мы все-таки покинем эту юдоль страданий и поедем в ресторан? Я угощаю…
– Нет, Арсений, и не просите… Впрочем, вы, конечно, совершенно свободны распоряжаться своим временем и местоположением в пространстве.
– Да, да… Я все понимаю и… мы с Гретхен прощаемся с вами… Аркадий Андреевич, надеюсь, что мы еще увидимся. Где-нибудь, когда-нибудь… Какие имена мы будем носить тогда? Какие звезды будут светить над нами?..
– К утру напьется в стельку, – вздохнул Адам. – Хорошо, если не расскажет случайным собутыльникам о твоем чудесном воскрешении…
– Может быть, нам надо было задержать его?
– Что бы это изменило? Ведь есть еще завтра, послезавтра…
– Ты прав. Так что же относительно твоих теорий? Но прежде… та девушка, что сидит в кресле в углу (прежде ее, кажется, не было) – это правильный ход событий в твоем заведении?
– Аркадий Андреевич, вы, должно быть, меня не помните. Я Луиза Гвиечелли, кузина Камиллы.
Девушка не спеша поднялась с кресла, подошла к окну, остановилась, глядя в сад. Профиль в лунном свете – углы и гротеск. «Кажется, за истекшие годы ее нос еще вырос», – с сочувствием подумал Январев.
– Луиза! – воскликнул Адам. – Это новый фокус? Ты научилась проходить сквозь стены?
– Можно сказать и так, – равнодушно кивнула девушка. – Мне не спалось. Ваши тени пляшут на ветках сада, а голоса колеблют эфир. Я вам не помешаю – ведь безумцы живут за невидимой стеной, и их можно не учитывать, сократить, как члены уравнения.
– Адам…
– Увы… Заболевание развивалось исподволь, и думаю, началось еще прежде того, как она стреляла в жандарма. Уловка покойного Льва Петровича, к сожалению, оказалась пророческой… В общем-то, Луиза может открыть любой замок и уйти отсюда, но, как видишь, не делает этого… Как и большинство обитателей виллы, она понимает, что здесь ей самое место… Хочешь чаю, Луиза?
– Спасибо, нет.
– Ты не должна никому говорить, что видела здесь Аркадия Андреевича. Это связано с его партийной работой – ты легко можешь это понять.
– Я понимаю и никому не скажу.
– В отличие от Троицкого, она действительно не скажет. В ней умирает любая тайна.
– Хорошо. Через неделю я буду в действующей армии. Думаю, что любой слух просто не успеет меня догнать… Так прежде, чем я начну засыпать: что же там с человеческим мозгом?
– Сейчас мне представляется, что функция мозга, нервной системы и органов чувств главным образом очистительная, а не производительная. Мозг не машина, которая производит, а веник, который сметает лишнее. Судя по все накапливающимся в науке данным, каждый человек в принципе способен вспомнить все произошедшее с ним в каждое мгновение его жизни и воспринять все, происходящее в данный момент во Вселенной. Функция нервной системы состоит в защите нас от переполнения этой массой. Мы ограничены телом и потребностями биологической жизни, в которой наша цель вполне биологична – выжить и размножиться. Каждый из нас в потенции является Мировым Разумом. Но, чтобы выжить, Мировой Разум приходится пропускать через фильтр нервной системы. Кстати, у безумцев этот фильтр работает не совсем обычно. На выходе мы получаем жалкий ручеек, который позволяет нам выжить на поверхности этой планеты в данном биологическом теле. Способ функционирования всего этого – языки и символы нашей цивилизации. Мы склонны принимать понятия за данность, а слова за что-то реально существующее…
«Все это безумно интересно…» – подумал Аркадий, засыпая.
Луиза слушала заворожено. В глазах ее мерцал лунный свет.
– …Ты, кажется, не очень понимаешь… – проницательно заметил Кауфман.
– Замечательно! – воскликнул Аркадий и потряс головой. – Я предвижу, какие потрясающие дискуссии возникнут, когда ты это опубликуешь…
– Да, конечно, – вздохнул Адам. – Ты, как всегда, добр и великодушен, но мы такие разные…
– У нас больше общего, чем вам кажется, – сказала Луиза.
За окном уже серела листва. Короткая летняя ночь подходила к концу.
– У нас с Аркадием? Или у нас троих? – уточнил Адам.
– Троих.
– Но что же это? Как будто бы нет совершенно ничего… Аркаша, ты понимаешь?
– Мы все трое любили одну женщину, – ровно произнесла Луиза.
Над «Лунной виллой» истаивала летняя, короткая, голубовато-серебристая петербургская ночь.
Глава 23. В которой над Синими Ключами бушует гроза, женщины и девочки поют, а Александр Кантакузин решает наконец свершиться.
Над холмами грохотало с утра. Чуть после полудня упало несколько десятков капель, скатавших шариками мягкую пыль. И только к вечеру, сквозь покрасневшее уже солнце – грянуло. Удолье моментально пропало из виду, дождь злобно стучал в стекла, а молнии освещали ярко-лиловое небо фосфорическим светом.
Все живое словно на корточки присело.
От дома к конюшням, сопровождаемая двумя мокрыми, истерически лающими псами, пробежала под дождем Атя в прилипшем к телу платьице, с развевающимися патлатыми волосами, в которых едва ли не просверкивали синие искры. Во время буйных летних гроз девочка необыкновенно воодушевлялась и все ее худенькое тело как будто пронизывала электрическая дрожь нетерпения. О чем было это нетерпение и куда направлено – не знала и она сама.
Люша помнила, что в детстве у нее было точно также, а нынче ей больше нравились затяжные осенние дожди, тоскливо путающиеся в жидком золоте облетающего парка. В грозе, как и в войне, было слишком много ненужного пафоса. Люше казалось, что гроза кричит, и если внимательно прислушаться, можно даже разобрать ее громкие, пустые, ничего в сущности не значащие слова. Молодая женщина проводила взглядом Атю и собак, потом легла на диван, укрылась пледом и взяла томик Чехова.
Оля боялась грома и молний, во время грозы закрывала все окна и сидела на кровати, зажмурившись и закрыв уши руками.
Шагов Кашпарека она не слышала, да он и вообще ходил почти бесшумно.
Он взял ее за запястья, отвел ее руки от головы и тут же шагнул назад.
Оля вздрогнула и снизу вверх взглянула на него. Он молчал, глядел темными непроницаемыми глазами, в которых отражающийся свет лампы вздрагивал с каждым ударом грома.
– Мне страшно, – сказала Оля.
– И мне, – чуть кивнул Кашпарек. – Что ты хочешь?
– Я? – Оля непонимающе распахнула глаза.
– Да, ты. Ты ходишь как приоткрытая дверь, из которой торчит розовый высунутый язык. Что это значит для меня?
– Дверь? Высунутый язык?.. – Оля поставила брови жалобным домиком. – Я не понимаю, о чем ты говоришь.
– Ты все понимаешь, – упрямо мотнул головой Кашпарек. – Я слишком часто держал тебя в руках, чтобы обмануться.
Из-за пазухи его выпрыгнула марионетка, заплясала на тряпичном прикроватном коврике, потом сделала неприличный жест.
– Танцуй, баба, танцуй, дед, Может дам, а может, нет, Котик наш сметанку ест, Куры влезли на насест, Коршун поверху летит, На цыпляточек глядит…У Оли на глазах выступили прозрачные слезы.
– Ты всегда меня дразнишь… – прошептала она.
– Я? Тебя? – переспросил Кашпарек своим собственным резким и глуховатым голосом. – Я по ночам вылезаю из кровати, ложусь голым на доски, и нет мне покоя. Иногда думаю: не спать ли мне на гвоздях, как герой какой-то дурацкой книжки?
– Кашпаречек, милый… мне тебя так жалко… Но что же я сделаю?
Жалостливая гримаска сделала ангельски красивое лицо Оли почти приторно-сладостным. Сквозь слезы явственно просвечивало удовольствие.
Кашпарек не смотрел, укладывая за пазуху марионетку.
– Ладно, я сам, – сказал он. – Больше мы с тобой с номерами выступать не станем. Скажи всем, чтоб не приставали. Будут о причинах допытываться, можешь, как знаешь, на меня валить.
– Кашпаречек, но почему же…
– Заткнись уже! – зло оборвал Олю Кашпарек. – Зачем только мы с дедкой тебя тогда подобрали!.. Лучше б другой кто…
Оля прижала ладошки к лицу и отчаянно, с наслаждением зарыдала.
Кашпарек вышел, не оборачиваясь.
Люша видела, как юноша какими-то странными рывками, застывая под струями воды едва ли не на одной ноге, двигался от дома к парку. Брови его были сведены в один мучительный отрезок, темные губы плотно сжаты, и казалось, что кто-то двумя резкими линиями, углем перечеркнул лицо забытого на помостках базарного арлекина. А арлекин вдруг, каким-то немыслимым усилием невесть откуда взявшейся воли ожил и побрел прочь с майдана…
Люша поежилась и плотнее закуталась в плед, отгоняя морок: на мгновение ей и впрямь отчетливо увиделось, что сквозь дождь уходит не хорошо знакомый ей мальчик-акробат Кашпарек, а, бредет, дергаясь и содрогаясь от непривычности самостоятельных двигательных усилий, поглотившая его жизнь жутковатая марионетка.
Александра Кантакузина дождь томил. Казалось, если бы не было его шуршаще-гремящего присутствия, хозяин усадьбы немедля занялся бы какими-то важными, неотложными вещами, и уже с успехом завершил их, и перешел к другим, не менее важным… Понимал прекрасно, что все это лишь иллюзия, и никаких особенных свершений не сулила ему сегодня даже и совершенно сухая погода, но раздражение от этого понимания не убывало.
Пробовал работать в конторе, потом в кабинете, слонялся по дому, ни в чем не находя удовлетворения. Из пустого совершенно наорал на лакея, пытался читать газеты, но длинные списки погибших, публиковавшиеся на последних страницах, притягивали взгляд и навевали все более гнусные мысли.
Хотелось пойти куда-нибудь, сесть, твердо и серьезно поговорить с кем-нибудь понимающим о важном, исторически детерминированном и потому логически безупречном. Никого не было. Макс на фронте, да они ведь и не разговаривали с ним последние годы. Дядюшка далеко, однокашники все куда-то подевались. Соседи давно варятся в своем собственном соку, опасаются глубоких мыслей, как раскрытого колодца, думают мелко и сиюминутно. Люба, жена? Что он знает про нее, как про собеседника? Ничего. Да если бы она и могла говорить, так ведь не стала бы. С ним – не стала бы. С конюхом, кухаркой, глухонемой нянькой – всегда пожалуйста. Что и обидно.
В конце концов Александр услышал голоса в бильярдной и пошел на них.
Представившаяся ему картина вызвала почти судорогу в его и без того сильно сжатых челюстях.
На двух обтянутых бархатом стульях расположились Настя и Феклуша. В дождевых сумерках их лица казались старыми и посеревшими. Феклуша низко и сильно выводила запев:
– Все кукует, кукует кукушечка, Долгий век обещает мне, глупая, А того ты не знаешь, кукушечка, Как живется на свете на белом мне… (слова М.Вольпина – прим. авт.)Груня сидела на полу у ног Насти и, чувствуя вибрации широкой спиной, мычала в такт. На ее коленях возилась с обмусоленным сухарем Варечка. Оля со светящимся, промытым слезами лицом стояла на коленях, прислонившись боком к Феклуше, и подпевала несильным, но чистым голоском. Капочка, поднявшись на цыпочки, выкладывала корону из светлых Олиных волос и, слегка фальшивя, тщательно выпевала немудреный мотив:
– Не подняться березке без солнышка, Не цвести без любви красной девице, Так зачем ты кукуешь, кукушечка – Долгий век обещаешь мне, глупая?..Стертые полутьмой лица женщин, девочек и девушек казались одинаковыми в своей почти животной тяге к чему-то неназываемому и потому фактически опасному. В свете единственной свечи вся сцена туманно колыхалась, и в ней как будто бы бездумно голосило одно многоглавое и многоглазое существо.
Александр резко развернулся на каблуках и почти побежал по коридору. Песня прервалась, собравшиеся в комнате проводили хозяина усадьбы задумчивыми взглядами.
– Жалко Александр Василича, – сказала Оля. – Одиноко ему.
– Аристотель – трава, – пробурчала Груня.
– Чего это? – удивилась Феклуша.
– Ложный силлогизм, – объяснила женщина, пальцем выковыривая из-за щеки подавившейся Варечки размокшую сухарную массу. – Трава живая. Аристотель живой. Значит, Аристотель – трава… Да нам это ни к чему. Давайте лучше еще споем…
* * *
– Это совершенно невыносимо! Я чувствую себя старомодным пиджаком, забытым в заплесневелом шкафу! В мире происходят великие трагические события, на глазах меняется карта Европы, а здесь… здесь…Здесь какие-то кукушечки кукуют!
Люша подняла глаза от книги, взглянула на Александра и криво улыбнулась.
– Ты хочешь уйти на войну, как Арайя? Что ж, иди…
То, что она назвала Максимилиана его юношеским, романтическим псевдонимом, почему-то кольнуло больнее всего. Даже больше ее явного равнодушия к его предполагаемому отъезду на фронт, может быть, гибели…
– Я не собираюсь…
– Но чего же ты хочешь?
«Чтобы кончился дождь, – хотелось сказать ему. – И еще, чтобы ты меня выслушала.»
Он не знал толком, что он хотел бы сказать, но при том желал быть выслушанным – непременно.
– Что ты читаешь? – спросил он.
– Чехова, – ответила она.
– Маленький человек и его такие же маленькие интересы… Кто бы знал, как я все это ненавижу… Крыжовник, это так близко…
– У Чехова не маленький, а несостоявшийся, несвершившийся человек, – возразила Люша. – Теперь тебе само время дает возможность свершиться. Подлецом или героем, как пожелаешь. Да впрочем, оно часто лишь от точки зрения зависит…
Он вдруг понял, что именно это и хотел услышать. Подошел, взял ее руку и поцеловал запястье.
– Да, да, Люба, ты безусловно права. Настало время, – веско сказал он, впервые за долгое время чувствуя себя живым и красивым.
Люша зевнула, потрясла поцелованной лапкой и грациозно, совершенно по-звериному изогнулась под пледом (он тут же болезненно ощутил, что она вполне могла бы быть частью недавно увиденной им картины, в которой ему самому места решительно не было):
– Алекс, когда пойдешь свершаться, – попросила Люша, – пожалуйста, шугани Атьку из лужи и вообще со двора. Судя по лаю и воплям, она там купается вместе со своими псами. Пусть сейчас же пойдет наверх и переоденется в сухое.
* * *
Спустя время после ухода Александра Люша поднялась наверх в детскую. Варечка уже спала, а Груня сидела рядом с кроваткой и листала «Ниву». Промытое небо над Удольем яснело звездами. От верхушки малышки-месяца тянулся в пространство тонкий лучик.
– Как будто на ниточке висит, – сказала Люша.
– Ага, а повыше в небеси гвоздик прибит, – кивнула Груня.
От вида спящего ребенка или от прошедшего дождя у Люши сделалось лирическое настроение.
– Смотри, когда маленькие спят, – сказала она, указывая на Варечку, – у них какая-то серьезность появляется в лице и можно угадать, какие они взрослые станут.
– Ага-ага, – опять согласилась Груня. – А когда мужики и бабы спят, так можно угадать, какими они покойниками во гробе глядеться будут. Особливо, если рот во сне раззявят.
– Противная ты, Грунька, – беззлобно огрызнулась Люша. – Но умная – этого не отнять… Правда ведь, Варька на Аркадия Андреевича похожа?
– Не-а, ничуть не похожа.
– Мерзкая ты баба… От Степки есть чего?
– Не-а, – Груня покачала головой. – Давно уж.
– И что ж это значит?
– Сбежал, должно быть, по новой. Не сдержать его в клетке-то, не та натура. Теперь либо уж вовсе убьют, либо рано или поздно сюда, в родные места заявится…
Глава 24 В которой рассказывается, как Степка жил в плену, о его побегах и о том, как он повстречался с Максимилианом Лиховцевым
Степка стоял в чистом белье и ждал смерти. Все четыреста тридцать человек пленных три дня назад так решили: умрем, но нипочем не будем против своих утруждаться и строить укрепления. Козьмодемьяновский – унтер из бывших семинаристов, сказал, что и по закону австрияки не имеют права заставлять. Если там картошку копать или на фабрике – это пожалуйста, на то и пленные, вроде бесплатных рабов. А по военному делу – ни-ни.
И вот, время ультиматума лагерного начальства истекло.
Венгры (а в охране пленных были только они – чехам австрияки не доверяли) бегали растеряно. Вид почти полтысячи бородатых русских мужиков в чистом исподнем, выстроившихся в строю, вытянувших руки по швам и только время от времени размашисто крестившихся – явно смущал их до крайности. Убить их всех? А Бог-то как же?
Прошло не менее двух часов. Бледное солнце медленно ползло в дымке над горами. Четверо русских солдат лишились чувств и повалились снопами – от голода и устатку. Сторожевые собаки, нервничая, рвались с поводков и пенились оскаленными мордами. Трое начальников-австрияков орали на охранников и совещались между собой, то и дело давая какие-то наставления чеху-телеграфисту.
По виду венгров Степка вскоре понял, что убивать всех прямо сейчас не станут. Опять будут пугать, морить голодом, вешать на столбах унтеров и, может, кого-то прямо сейчас затравят собаками. Нелюди – что с них взять.
Но, если не немедленный расстрел, значит, опять начнется неразбериха, будут разделять, сгонять куда-то… Если возникнет возможность бежать, Степка упускать ее не собирался. Не в первый раз.
Венгры тем временем притащили котел с дымящейся брюквенной похлебкой. Русские не ели горячего почти месяц, а последние три дня их вообще не кормили.
– Кто хочет есть – выходи, ешь, спи, а утром на работу, – почти без акцента крикнул по-русски старший охранник. – Ваши войска отступили везде. Варшава сдана. Война скоро закончится. Кто будет есть и работать – поедет домой, в Россию. Кто не будет – ляжет в землю, вот там, – охранник махнул рукой.
Все пленные знали, что там, куда он указывал, в ложбине, в безымянных могилах под грубо сколоченными крестами похоронная команда зарыла уже около тысячи русских, умерших от голода, эпидемий и жестокого обращения.
– Я согласен работать! – крикнул стоящий за два человека от Степки молодой парень. – Я хочу вернуться домой!
– И я!
– И я тоже!
– Предатели! – звучно рявкнул унтер Козьмодемьяновский. – Продались даже не за тридцать сребреников, а за миску брюквенной похлебки! Родина вас проклянет!
– Да разве не все равно ей? – невнятно пробормотал пожилой солдат, стоящий слева от Степана. – Хранцузам-то вон печенье да варенье ихняя родина шлет, да одежонку теплую исправно, а нам – шиш да маленько…
Строптивого унтера потащили прочь, кто-то, стукнув себя кулаком в раскрытую грудь, ринулся следом, сухо треснули выстрелы, брызнула в пыль кровь, ругательства, крики, немецкие команды, поверх всего истерический вой, в котором уже мало человеческого:
– Не убива-а-айте, братцы!
Степка сориентировался почти мгновенно, упал на карачки, чтобы не угодить под шальную пулю, и резво побежал в ту сторону, где собрались предатели.
Мягко оттеснив венгра-кашевара, огромной кружкой зачерпнул из котла и, обжигая рот и помогая себе пальцами, торопливо выхлебал с пол литра похлебки – не то, чтобы Степке так уж хотелось есть (нервное возбуждение глушило голод), но знал: горячее в утробе всегда пригодится. Потом вытащил из стоящей тут же корзины ломоть серого сырого хлеба (его пекли с добавлением мякины), есть не стал, спрятал за пазуху.
Венгр-охранник схватил Степку за руку, что-то прокричал, оскалив белые зубы.
– Ихь бин очень сильный русский мужик и завтра буду зер гут арбайтен! – отделяя слова друг от друга, внушительно сказал ему Степан.
Венгр закивал и отвернулся, прислушиваясь к командам начальника-австрийца, а Степка снова опустился на корточки и ловко, как в русском танце вприсядку, практически не попадая на линию взглядов мечущихся людей, стал продвигаться к боковой калитке в ограждении, сквозь которую недавно внесли котел с похлебкой. Он был уже близко к своей цели, когда в прямом смысле нос к носу столкнулся с псом-охранником, которого в сутолоке спустили с цепи. Оба на секунду замерли. «Р-рав! Р-рав! – строго сказал Степка, стоя на четвереньках и глядя прямо в желтые, косящие от злобы глаза. – Пошел вон!» Ошалевший от неожиданности пес прянул в сторону и побежал дальше.
Степка почти ползком преодолел незапертую калитку, и сразу же скатился в заросшую травой канаву, полную холодной вонючей воды.
– Ну, собакой я уже побыл, – сказал он сам себе и, вспомнив картинку из книжки, которую Люша показывала ему в далеком детстве, добавил. – А теперь трошки побуду зверем крокодилой.
* * *
Очутившись в неприятельском лагере в качестве пленного, Степка бежал из него при первой возможности, не считая ресурсов, не строя планов на дальнейшее и даже не особенно рассуждая о происходящем.
Его, как дикого зверя, вел инстинкт. Воля!
Разумеется, ловили.
Били нещадно, ногами, прикладами, резиновой плетью. Степка валялся на земле на гнилой соломе, оклемывался и опять бежал. На месте немцев и австрийцев Степка давно бы такого, как он, прикончил за полной бесполезностью и обилием хлопот. Те же этого почему-то не делали и даже не особенно удивлялись – бежали из плена в основном русские.
Переводили из лагеря в лагерь. Вопреки всякому разумению, с каждым разом становилось лучше.
Самым кошмарным запомнился первый лагерь под Кюстрином. Неотапливаемые бараки из рифленого железа, поставленные прямо на земле. Огромная скученность, каждый день – десятки смертей от холода, ран, желудочных болезней. Трупы по двое суток лежали рядом с живыми.
Кормили раз в день, непонятной бурдой. Вода для питья желтая с мутью, пить ее страшно, а не пить – нельзя.
Пленным французам едва ли не каждый день передавали посылки с галетами, консервами, теплыми одеялами. Русским не передавали ничего, кто хотел выжить, прислуживал французам на манер денщиков – кипятил воду, охранял место, чистил и стирал одежонку. Французы расплачивались за услуги галетами. Степка в основном услужал молодому французу по имени Жан Поль. Жан Поль был легкомыслен и глуп, и в плену не столько страдал, сколько скучал. Очень любил собак, и если кого-то ими травили, обязательно шел смотреть. Мать и пять старших сестер прислали ему любовно собранные посылки и передавали деньги. Любимым развлечением Жан Поля, которое ему никогда не надоедало, было кидать Степке галеты и одновременно командовать «Апорт!» Кидать он старался подальше, из расчета, что кто-то еще постарается галету перехватить. Свары между русскими нравились Жан Полю почти также, как собачьи бои.
Используя десяток немецких и десяток выученных французских слов Степка уговорил Жан Поля бежать из лагеря. Жан Поль вообразил себе славное приключение в компании верного «Пятницы» и возвращение в семью героем. Используя подкуп и сноровку Жан Поля в обращении с собаками, им удалось ночью миновать линии ограждений. Степка настаивал на том, чтобы уходить как можно дальше и быстрее. Но Жан Поль вскоре устал, закапризничал, замахнулся на Степку и в конце концов улегся спать под раскидистым деревом, показав Степке пальцем на место у своих ног. Степка стукнул его по голове подвернувшимся поленом, раздел, забрал все деньги и еду и деловито потрусил дальше, по-звериному раздувая ноздри и жадно вдыхая незнакомые запахи чужих лесов и чужой жизни.
В последующих лагерях условия были получше, бараки отапливались, больных, а уж тем паче покойников отделяли от здоровых, выборный лагерный комитет (в него обычно входили учителя, священники и прочие образованные люди) следил за порядком и представлял интересы пленных перед австрийцами.
Степка почти ни с кем из товарищей по несчастью в сообщение не входил, потому что не понимал в том толку – дела общего не было, а пустые рассуждения его мозгам и языку никогда не давались. Но чужие разговоры слушал исправно и внимательно. Поражения русской армии вызывали в нем тяжелую бессильную злость. Рассказы о мошенничестве интендантов и предательстве в верхах заставляли по-звериному скалить крепкие зубы. Касательно же отношения союзников к России и русским он после знакомства с Жан Полем все понимал сам и в разъяснениях не нуждался.
* * *
Женщина была доброй, теплой и приятно-упругой в теле, хотя с лица казалась очень немолодой. Ее муж – высокий и усатый (Степка видел на стене фотокарточку) – уже пять месяцев находился в плену в России: может и его кто пригреет? «Ага, Грунька моя, красоточка!» – с внутренней веселой злостью усмехнулся сытый и даже слегка пьяный Степка, вставая из-за стола и надевая поверх чистой рубахи зеленую куртку австрийца, у которой ему пришлось подворачивать рукава.
Взрослая дочь австрийца, на вид слегка слабоумная, молча оттопыривала и без того висячую нижнюю губу, а в овине, где мать с дочерью устроили Степке дневную нору, норовила прижаться к нему грудью или мосластыми коленками. Мать, несмотря на возраст, нравилась Степке больше – елозя под ним на свежем хрустящем сеннике, она мелодично подвывала и как-то очень приятно, по-немецки аккуратно и размеренно царапала спину чистыми округлыми ногтями.
Властям на четвертый день донес брат мужа, живший по соседству.
Драться Степка умел, и сил, несмотря на голод и лишения последнего года, у него доставало, но что ж поделаешь голыми руками (ну пусть не голыми, а с жердиной) против пятерых вооруженных людей?
Словосочетание «бешеный русский зверь» он понимал уже на немецком, чешском и венгерском – слышал не раз. То, что после того, как подстрелили, его опять не добили и не прикопали тут же, на месте, а поместили в лазарет на кровать с тюфяком и даже делали перевязки – удивляло Степку безмерно. Он сам, доведись ему решать, поступил бы иначе.
На второй день Степка начал, скрежеща зубами, вставать, удивляя австрийских лекарей, сестер милосердия и сотоварищей, которые предпочитали лежать в бездельном полузабытьи. Чтобы не вызывать до времени подозрений, тут же включился в грязную хозяйственную работу по бараку.
«Зер гут!» – сестрам милосердия нравился усердный русский мужик, который и часа не мог сидеть без дела.
В том же бараке была отдельная палата для раненных офицеров.
Степке там делать было решительно нечего, но однажды выпало сопровождать туда молоденькую медсестру с тяжелой корзиной. У одной из коек, на которой беспокойным сном спал светловолосый человек с запавшими глазами, Степка остановился.
– Что ты хочешь? – спросила медсестра.
– Я его знаю, – сказал Степка. – В России мы жили по соседству.
– Хорошо, – тут же сказала женщина. – Он всегда в дурном расположении духа и очень страдает. Ему будет приятно увидеть тебя. Посиди здесь. Не надо его будить, он не спал ночь…
Степка послушно сел на табурет у кровати, сложив руки на коленях. Когда медсестра ушла, он взял с тумбочки раскрытую тетрадь. Медленно, шевеля губами, прочел:
«Три главных состояния русского солдата на войне.
Первое. Без начальства. Тогда он брюзга и ругатель. Грозится и хвастает. Готов что-нибудь слямзить и схватиться за грудки из-за пустяков. В этой раздражительности видно, что солдатское житье его тяготит.
Второе. Солдат при начальстве. Смирен, косноязычен. Легко соглашается, легко поддается на обещания и посулы. Расцветает от похвалы и готов восхищаться даже строгостью начальства, перед которым за глаза куражится. В этих двух состояниях солдат не воспринимает патетики.
Третье состояние – артельная работа или бой. Тут он – герой. Он умирает спокойно и сосредоточено. Без рисовки. В беде он не оставит товарища. Он умирает деловито и мужественно, как привык делать артельное дело.
В сущности, это собирательный образ народа-крестьянина на войне…»
Максимилиан Лиховцев открыл глаза. Первое, что он увидел: солдат с перевязанной головой читает его личный дневник. Темное лицо солдата, окаймленное светло-рыжей бородой, непроницаемо и кажется смутно знакомым.
– Ну что, братец, узнаешь себя? – с усвоенной за время недолгой строевой службы бодростью спросил Максимилиан, сочтя за лучшее предположить, что солдат худо-бедно грамотен и разглядывает тетрадь не просто так.
– Никак нет, ваше благородие, – усмехнувшись, ответил Степка. – Вас – как есть узнал, а себя – не узнал. Либо уж вы, Максимильян Антоныч, совравши, либо не про меня писано…
– Ты меня знаешь? – удивился Максимилиан и в тот же миг словно волной накатили запахи, звуки, быстро сменяющие друг друга картины: Синие Ключи! Крестьянский дружок Люшиного детства… – Егор?
– Степан. Степан Егоров.
– Рад тебя видеть.
– И я, ваше благородие, – сказал Степан с таким откровенным сомнением, что Максимилиан, не удержавшись, улыбнулся.
В палате пахло плохим табаком, пригоревшей кашей, кровью, мочой и зверем, изготовившимся к прыжку. Последний запах, несомненно, исходил от Степана.
– Максимильян Антоныч, вы по-германски говорите? – спросил между тем Степка.
Макс кивнул.
Помолчали сосредоточенно, словно невидимой линейкой измеряя что-то друг в друге.
– И долго ль вы тут еще вылеживаться собираетесь? – наконец нарушил молчание Степка.
Макс почувствовал, как от этого простого вопроса, впервые со времени почти беспорядочного карпатского отступления, что-то изменилось в самой атмосфере вокруг него. Как будто прошла гроза, или рассветный ветер пронесся, колебля кроны чуть розовеющих сосен.
– Правильно ли я понял, что ты мне что-то предлагаешь, Степан? – спросил он.
* * *
Максимилиан удивлялся, как легко оказалось с ним разговаривать.
Сначала казался темным, корявым, потом разглядел, что Степка по-своему, по-мужицки даже красив. Раз увидав, уже не мог понять, куда смотрел раньше.
Он слушал, как большая собака или лошадь – всем собой. Отвечал непонятно откуда, иногда – с изумляющей точностью.
– Степан, ты бежал не раз. Не боялся разве, что убьют?
– Знамо, боялся. Страх это и есть – смерть. Другое и не страх вовсе.
– Смерть – совершенство. Ее абсолютная необратимость дана нам как точка отсчета, чтобы мы уяснили для себя, насколько поддается нашему усилию все остальное. И не боялись его совершить.
Сейчас, когда так много людей увидело так много смерти, все изменится. Люди поймут, как много зависит от них самих и перестанут воспроизводить прошлое, в котором изменения могли быть только случайными. Они все станут делать так и это будет совсем новый мир. Он грянет очень быстро. Мы его еще увидим. Ты понимаешь, Степан?
– Может быть, понимаю. Но сначала убьют еще многих, потому что это легче всего, и потому что двери открыты.
– Наверное, ты прав.
Максимилиан замолчал, слушая, как за стеной барака подвывает ветер. Тихо и безнадежно – будто ветру тоже было что сказать по обсуждаемой теме, будто и у него наболело… да только нет смысла, все равно ведь никто не выслушает.
* * *
Офицер говорил по-французски грамматически правильно, но с жестким немецким акцентом.
– Максимилиан Лиховцев? Я – Август Шнитке, гауптманн. Есть ли у вас какие-то жалобы, пожелания?
– Благодарю вас, нет, – Макс помотал головой.
Присловье старой няни Фаины про мышеловку и бесплатный сыр вертелось у него на языке. Но он все еще категорически не понимал происходящего. Что может быть нужно от него немцу? Никаких военных тайн он не знает…
– Правильны ли наши сведения о том, что на родине вы были противником режима? Даже сидели в тюрьме. Это так?
«Так вот оно что! – мысленно воскликнул Макс. – Предлагает стать шпионом!»
– То, что я сразу после начала войны поступил в юнкерское училище, а по его окончании немедленно отправился на фронт, по-моему, весьма красноречиво говорит о моих нынешних взглядах, – усмехнулся Макс. – Предавать родину я не собираюсь ни под каким видом.
– Ну что вы, господин Лиховцев! Как вы могли подумать! – почти издевательски усмехнулся Шнитке.
Видно было, что гауптманн нисколько не уважает собеседника, и даже не слишком надеется на успех своей миссии, в чем бы она ни заключалась. Макс слегка приободрился. Говорить с доброжелательным и заинтересованным врагом ему было бы на порядок труднее.
– Напротив. У нас есть для вас совершенно замечательный пакет предложений. Что вы скажете, если бы я сообщил вам, что мы готовы предоставить вам свободу и даже немного финансово поспособствовать переустройству российского государства на принципах, которые вам самому кажутся целесообразными и справедливыми? Отказ от насквозь прогнившей и дискредитировавшей себя монархии. Демократическая республика? Выборный парламент с широким народным представительством? Обширные государственные льготы для крестьян, как для самой многочисленной части населения – опоры России?
У Максимилиана моментально пересохло во рту и запершило в горле. Сколько достойных и замечательных людей в России сто лет до этой проклятой войны мечтали о том, о чем с такой небрежностью говорил сейчас аккуратный немецкий капитан! И сразу – практическое: сколько из них нынче оказались в плену?.. Но может быть, все это ложь, пошлая ловушка для того, чтобы все-таки получить какие-то сведения?
– Зачем вам республика в России? – казалось, что голос царапал горло почти до крови. – Ведь у вас в Германии – кайзер Вильгельм…
– Немцы – рациональная нация, вы с этим согласитесь? – теперь Шнитке казался серьезным и целиком сосредоточенным на разговоре. – Мы прекрасно понимаем, что даже после самого сокрушительного поражения Российский колосс будет фактором, с которым предстоит считаться созданной нами Миттельойропе. («Миттельойропа» – концепция политической стратегии Германии 1914–1915 гг., впервые изложенная в одноименной книге Ф. Науманна. Ее суть заключалась в разрыве связей Запада и России, сплочении Запада под главенством Германии и Австро-Венгрии (при второстепенной роли других стран, прежде всего Франции) и максимальном ослаблении России – прим. авт.). Перестраивать Россию снаружи сложно и хлопотно. Почему бы нам, как рачительным смотрителям европейского пространства, уже сейчас не озаботиться ее перестройкой изнутри, и не заключить взаимовыгодный контракт с теми из русских мыслящих людей, кто хочет и может способствовать переустройству и развитию своей страны? Вы историк и прекрасно знаете, что объективно на протяжении предыдущих двухсот лет ни одна европейская страна не сыграла в техническом и экономическом развитии России даже половины той роли, которую играла Германия. Все ваши цари, начиная с Петра 1, это хорошо понимали и использовали на благо своей страны и народа. Монархия, которая упустила из виду это естественное союзничество, обречена…
«Я же могу получить свободу и даже взять деньги, а потом, уже в России – ничего не делать, – подумал Макс. – Уеду в Пески, помирюсь с Алексом, буду разводить пчел и лошадей… Вернусь к милым штатским радостям, допишу роман (у меня теперь масса нового психологического материала!), назначу Люшу своей дамой сердца, может быть, женюсь на разночинке. Могу даже беседовать со Степаном (надо будет взять его с собой в качестве денщика) о римской республике и слать им фальшивые отчеты об агитации среди крестьян… – и тут же понял. – Не могу. Я – не смогу. Они это знают и бьют наверняка…»
– Я должен подумать, гауптманн, – вслух сказал он, глотая слюну, чтобы оберечь ободранное нервным потрясением горло. – Немного. Дня два-три. С вашего позволения, я бы просил разрешить мне на эти дни прогулки в саду при госпитале. Такова моя личная особенность – мне всегда лучше думалось на ходу. В России, у себя в имении…
– Разумеется, господин Лиховцев, разумеется, – взгляд Шнитке из острого снова стал презрительно-скучающим. – Вам будет дано соответствующее разрешение. До встречи…
* * *
До вечера следующего дня Макс проводил интенсивное расследование. Медсестры, в общем симпатизировавшие красивому, но всегда печальному русскому офицеру, не могли нарадоваться – к раненному явно вернулось желание жить: он ел, гулял, и даже читал в чахлом саду Гейне и еще какие-то непонятные, но очень мелодичные русские стихи старшей сестре – фройляйн Бильгартен.
К вечеру второго дня удалось выяснить, что с гауптманном Шнитке беседовали еще пятеро пленных – двое украинцев, еврей, ефрейтор-грузин Амонашвили и прапорщик-эсер с непонятной по национальной принадлежности фамилией Заортач. Историческое образование и приятная доверительная беседа с Амонашвили (откуда грузины везде умудряются доставать вино?!) позволили Максимилиану уложить мозаику полученных сведений во вполне стройную картину.
(Картина эта отнюдь не придумана автором, а отражает реальное положение вещей накануне русской революции 1917 года. Правители Германии всерьез рассматривали идею сокрушения России посредством комбинации социальной и национальной революций. Они даже использовали для этого известного российского революционера Парвуса-Гельфанда. Слабым местом его тщательно разработанной и представленной немецкому командованию программы было то, что лидеры меньшевиков во главе с Плехановым оказались патриотами. Ленин, представляя большевиков, еще в сентябре 1915 года выставил условия, на которых он согласен заключить мир с Германией в случае своего прихода к власти в России: республика, конфискация латифундий, восьмичасовой рабочий день, автономия национальностей. Впрочем, вопрос о степени финансового и организационного участия Германии в подготовке революционного переворота в России в исторической науке изучен еще далеко не до конца и остается дискуссионным – прим. авт.)
Кто-то убедил правящую верхушку Германии, что русская демократия может реализовать свои цели только посредством полного сокрушения царизма и расчленения России на национальные государства. Это можно сделать путем комбинации социальной и национальной революций. На Украине имеет смысл сделать ставку на всегда имеющихся там националистов и на крестьян, которые будут требовать раздела огромных богатых поместий, принадлежащих выходцам из Центральной России. На Кавказе предполагается опора на христиан – грузин и армян, противостоящих мусульманскому влиянию. Революционизация Сибири станет делом ссыльных. Естественным центром революционного движения должен стать промышленный Петербург, а могучим механизмом влияния – всеобщая политическая стачка под лозунгом «Свободы и мира». Где-то (кажется, в Копенгагене) уже собирается конференция русских социалистов всех политических оттенков, с участием германских социал-демократов, наделенных соответствующими полномочиями…
И ведь оно может получиться! – с трепещущим в груди ужасом думал Максимилиан, вытянувшись на узкой койке, заложив руки за голову и глядя в выкрашенный белой краской, засиженный мухами потолок. – И распад фронта, и военные действия прекратятся сами собой, ведь русская армия состоит из крестьян… Вопрос денег? Сколько марок истощенная войной Германия готова вложить во влажные от нетерпения жадные ручки российских социал-демократов? И не страшно ли немцам, что поднятая ими социальная волна перекинется через линию фронта, в Германию, и дойдет до кайзеровского Берлина?..
* * *
Фройляйн Бильгартен, похожая на честную рабочую лошадь, зашла перед сном проверить, все ли в порядке, и заодно – пожелать герру Лиховцеву спокойной ночи. Степка тащился следом за ней, служа на посылках – поменять разбитый поильник, вынести судно, помочь переложить раненного…
Макс быстренько прочел скромно ожидающей фройляйн раннее стихотворение Арсения Троицкого, начинающееся так: «Давно завял мой бедный сад, я больше не вернусь назад, ищу, покинут и распят, где был Господь и светл и свят…» – и многозначительно мигнул Степке за ее спиной.
Степка кивнул и, притворившись хлопочущим возле постели тяжело-раненного и второй день лежащего за ширмой без памяти француза, остался в палате после ухода сестры.
– Ну что, Максимильян Антоныч, что гауптманн-то вам вчерась сказал? – любопытство светилось в глазах Степана. Эти глаза чем-то напоминали Максу маленьких серо-рыжих мышат, шныряющих на излете лета в сметанных стогах.
Если я расскажу все как есть, – подумал он, – Степан скажет: что ж тут судить, ваше благородие, берите скорее ихние марки и меня, и – айда на родину!
Понятие чести в моем понимании для него не существует. Есть только могучий звериный инстинкт «воли» – пока жив и способен двигаться, бежать или даже ползти из любой клетки туда, где свой лес и своя нора. Главный и единственный распорядитель в лесу в целом – Господь Бог, на конкретных полянах есть свои звери-распорядители, установленные опять же естественно-эволюционным порядком, а все прочее – ересь и ерунда. Надуть фрицев в таком контексте – богоугодное и почти святое дело.
– Гауптманн Шнитке меня на предательство склонял, – медленно, принимая решение с каждым словом, произнес Максимилиан. – Я, как офицер, и слуга царю и отечеству, на это пойти не могу. Дал на подумать отсрочки несколько дней и разрешил в саду гулять. Если откажусь – тюрьма.
– Там в одном месте в ограде дыра колючей проволокой замотана, но раздвинуть можно, – быстро сказал Степка, выделив важное для себя и, как и предполагал Максимилиан, ничуть не заинтересовавшись сутью уже отвергнутого предложения гауптманна. – Что ж, ваше благородие, вы, как я вижу, решились, что ли?
– Да.
– И правильно сделали. Если оно не выйдет, так тюрьма-то вас все одно дождется, да и помирать сподручнее всего свободным… Но я думаю, нам теперь свезет, от австрияков утечем и до дому доберемся, не случайно же она нас вместе свела-связала…
Кто это она, которая нас «связала»? – Макс догадался не сразу, а когда понял, подумал с мимолетным изумлением: неужели Люша и вправду спала с этим мужланом, как болтали по округе?!
– Ты имеешь в виду Любовь Николаевну?
– Люшка-то тут причем? – в свою очередь, удивился Степка. – Я про Синеглазку говорю. Мы оба родом из ее владений. И вот, она теперь нас к себе обратно и приведет…
Какая причудливая смесь! – подумал Макс, задумчиво глядя на гайтан на крепкой Степкиной шее. – Ведь он наверняка считает себя православным христианином и одновременно – на полном серьезе – вассалом девки-Синеглазки из волшебного источника. Как странно и как вместе с тем трогательно и закономерно… Вот об этом и надо бы написать…
– Стало быть, слушайте теперь сюда, ваше благородие, – сказал между тем Степка, понижая голос и присаживаясь на корточки у кровати, чтобы его голова оказалась на одном уровне с головой лежащего Максимилиана. – Для начала нам с вами вот что нужно приготовить…
Глава 25. В которой читатель узнает подлинную историю любви «пифагорейцев» Мая и Апреля
– Камфара по показаниям и, пожалуй что, все, – сердито сказал врач, провел рукой по глазам, как будто убирал с них паутину, и, шаркая подошвами по дощатому некрашеному полу полевого госпиталя, перешел к следующей койке.
Высокая некрасивая медсестра прикрыла раненного одеялом, и, поймав его взгляд, вопросительно приподняла кружку с водой, стоящую на тумбочке. Раненный еле заметно кивнул, с трудом сделал два хлюпающих глотка и хрипло прошептал:
– Что, сестричка, приговорил меня, видать, дохтур-то? Так? Последний, стало быть, денек Ваньке настал?
– Ничего никому доподлинно не известно! – строго сказала медсестра. – Бывает, и не от таких ранений выздоравливают, а бывает, что и от царапины мрут. Пей вот водичку, Иван, отдыхай и не забивай себе голову…
– Сестричка, – торопливо прошептал раненный. – Погоди, сестричка, не уходи! Скажи-ка мне, а солдатики-то тут, четвертый батальон, еще стоят? Не перебросили их?
– Стоят, куда ж они денутся? – сестра подняла широкие плечи и по-птичьи прикрыла веками глаза, обведенные коричневыми кругами застарелой усталости или печали. – Весь фронт стоит. Никого никуда не перебрасывали.
– Сестричка, тогда я тебя просить буду… нельзя мне теперь умирать… четверо ребятишек у меня и того… ребята говорят, что скоро в деревне землю делить будут… как же без меня… – речь раненного прерывалась то влажными, то сухими хрипами. На желтом лбу выступил пот. Грудь под одеялом тяжело вздымалась. – Ты мне найди Знахаря… Вдруг он вспоможение окажет, и я, того, оклемаюсь еще?
– Какого тебе знахаря?! – удивилась сестра. – Здесь госпиталь, врачи… Только что тебя врач смотрел, ты что, позабыл? Успокойся, милый, поспи, – девушка обтерла лицо страдальца мокрой тряпкой и погладила по слипшимся волосам.
По всем признакам вот-вот должна была начаться агония.
– Знахарь… Ты здесь новенькая, не знаешь еще… У солдатиков спроси, тебе, того, покажут… Савелий у окна помирал совсем, загнило у него, дохтур хотел ему ноги по самые помидоры отрезать, да и все одно, сказал, ему крышка… Знахарь какие-то нашлепки дал, из паутины вроде паучьей, и отвар… Выжил Савелий-то, и ноги при нем, на поезде в тыл отправили… Мне помирать никак нельзя… спроси, сестричка… ты иди, иди теперь, я того… подожду…
– Хорошо, хорошо, – закивала сестра, не в силах выносить молящего взгляда раненного. – Я сейчас же пойду, узнаю…
Раненный тут же успокоился и, вцепившись пальцами в край одеяла, закрыл глаза.
Сестра, раздвинув марлевый, а потом брезентовый полог (ни тот, ни другой не спасали от мух – вездесущих, сине-зеленых, отвратительно жужжащих и живым ковром ползающих по полу, кроватям и лицам раненных), вышла на порог госпиталя.
Рассвело часа два назад. Сквозь листву струился утренний, дымно-золотистый свет. В прохладной кроне большого дерева пересвистывались маленькие желто-зеленые птички. Крупный поползень шустро бегал по ребристому стволу и выклевывал личинок.
Медсестра поправила туго накрахмаленную косынку и с какой-то преувеличенной решительностью (ее смена только что закончилась, она не спала уже больше двадцати часов и ноги ступали неровно) зашагала по непросохшей от ночного дождя дороге.
Усатый солдат сидел на колоде, и через специальную дощечку с прорезями надраивал мелом пуговицы на шинели. Увидав подходящую к нему сестру милосердия, он поднял загорелое лицо и дружелюбно улыбнулся:
– Чего тебе надобно, сестрица? Аль ищешь кого?
– Да, ищу… – смущенно потупилась сестра. – Раненный меня попросил… Но может, того и вовсе на свете нету… лихорадка у солдатика-то… Знахарь мне нужен…
– Ну, так бы сразу и сказала, – солдат поднялся, накинул шинель. Пуговицы весело блестели на солнце. – Сейчас покличу. А ты жди здесь. Коли Знахарь отыщется, так сюда придет. А не отыщется, так не обессудь, ему после передадут, что с госпиталя искали. Тебя как звать-то?
– Ангелина.
– Вот и ладушки. Жди, Геля, туточки, вот присядь пока, я ж вижу, что у тебя глазыньки-то сами собой закрываются…
Она присела на колоду и, должно быть, заснула. Он осторожно тронул ее за плечо. Она с трудом разлепила веки. Небо сияло. Белый луч солнца преломлялся в ресницах сполохами разноцветного пламени. Уже полдень?
– Вы меня искали?
Его явление показалось ей продолжением сна. Сон был из прошлого. У его ног стоял потертый чемоданчик.
– Доктор Арабажин?
Он грустно улыбнулся и приложил палец к губам:
– Арабажина нет. Он погиб при пожаре санитарного поезда. Я – Аркадий Январев, рядовой из вольно-определяющихся 4 роты Самогитского пехотного полка. А вы? Мы с вами встречались в мирное время? Или уже на войне? Простите меня, я был контужен и…
– Даже если бы вы не были контужены, Аркадий, вы вряд ли узнали бы меня в нынешнем обличье. Воистину, война – время перевертышей. Но если вы попробуете представить меня мужчиной…
– Боже! Апрель! – Аркадий отшатнулся в изумлении. – Так вы все-таки – женщина?! Или…? Простите, я уже ничего больше не понимаю… И – где же Май? Он всегда был где-то рядом с вами…
И без того некрасивое, бледное лицо сестры милосердия скривилось в гримасе отчаяния, напомнившей Аркадию маску из греческого театра.
– Май погиб, – глухо сказала она. – Его убили в начале ноября четырнадцатого года.
– Соболезную. Меня убили приблизительно тогда же, – вздохнул Аркадий. – Как мне вас называть?
– Я – Ангелина. Ангелина Домодедова, – и только тут она сообразила. – А вы – тот самый Знахарь, спасающий безнадежных больных?!
– Увы, да… – Аркадий вздохнул еще раз. – По легенде, я – земский статистик из Воронежа, не имеющий к медицине никакого отношения. Но как выяснилось, на войне врачу очень трудно притвориться не врачом. С самого начала я то и дело обнаруживал себя – то, забывшись, вскрою нарыв товарищу, то в каком-нибудь городке машинально выпишу жене почтмейстера рецепт средства от желудочных колик… конечно, все это привлекало внимание и я был буквально в шаге от провала… Пришлось мне срочно выдумать бабку-знахарку, которая растила меня в лесной глуши и учила своему искусству… Вообще-то я действительно знал одну такую и даже записывал народные рецепты… Можно представить себе, как радуются легендам о всемогущем бабушкином внуке госпитальные врачи… Думаю, рано или поздно они просто устроят мне «темную»…
– Идемте, – на лице Ангелины появилось сосредоточенное, упрямое выражение. – Идемте скорее, и так уже много времени прошло. Вас там ждут…
Ждать было некому – Иван умер. Даже койку уже перестелили.
Ангелина присела на шаткую трехногую табуретку и закрыла лицо руками.
Аркадий сначала стоял рядом с беспомощным выражением лица, но уже через пять минут его кто-то тихо окликнул, потом к нему приблизился раненный на костылях и что-то прошептал на ухо. Аркадий подхватил чемоданчик, тихо коснулся плеча женщины и ушел.
Встретились они только после захода солнца, незадолго до того, как у нее должно было начаться очередное дежурство.
Крупные звезды горели в ветвях, как рождественские фонарики. Летучие мыши, охотясь на мошкару, едва не задевали крыльями лица.
– Вы – на нелегальном положении? – оглянувшись по сторонам, деловито спросила Ангелина.
– Нет, просто живу по чужим документам. Подарок от жандармского управления.
Она взглянула непонимающе.
– Я сам не понял, – кивнул он. – Но чудеса, как видите, случаются.
– Для меня время чудес закончилось, – тихо сказала она.
– Но оно же было? – спросил он. – Юноша Апрель не приснился мне?
– Нет, не приснился, – кивнула Ангелина, и какое-то подобие румянца окрасило ее сероватые щеки.
– Расскажите мне – что это было? Я хорошо помню пифагорейцев – дискуссия об апокалипсисе, пудра, румяна, разверстый гроб, в котором с цветком в пасти бегает муза петербургского поэта… Это было совершенно особое впечатление для медика-ординатора…
– Я приехала в Москву из Кеми. Это на севере – огромные рубленные дома с маленькими окошками, деревянные мостовые, запах сетей и йода, закрытые как ставни души. Люди могут годами жить вместе, обмениваясь в день двумя-тремя словами. Так жили мои родители, и бабка с дедом. Я много читала, что-то писала сама, даже посылала в журналы, а потом сбежала, не смогла… В Москве я сразу встретила Мая. Звонили колокола. Он стоял на улице и смотрел в небо. А все его обходили, как будто он был такая круглая тумбочка. Я спросила: «Что там?» – Он сказал: «Колокольный звон. Вон он летит». – Я сказала: «Да» – и действительно увидела. Звон был, как стая полупрозрачных птиц. «А чего ты вообще здесь стоишь?» – спросила я. Он сказал: «Жду тебя. Разве непонятно?»
С тех пор мы были вместе.
Представьте, Аркадий, всё – против нас. Вы видели нас вместе молодыми людьми: комичнейшая пара. А когда я выглядела девицей? Никон был ровно на голову ниже меня. Он – пухляв и миловиден, я худа и страхолюдна. Я начитанна, со страстью к поэзии, образованию, политическим движениям. Он, кроме своих староверческих книг, почти ничего не читал и даже школу закончил фактически за взятку – его дед подарил гимназии еще один особнячок для младших классов. У него была строгая семья, очень богатая, очень верующая. Весь дом – в кованых киотах. С детства буквально ему была сосватана невеста, из такого же толка семьи. Май – очень живой, веселый, никак не вписывающийся в семейные рамки, но притом обожающий своих родных. Как он хотел представить меня семье! Но в каком же качестве? Цирковым номером? Да еще не забыть про его невесту… Мы ничего не могли придумать и строили несбыточные планы – обвенчаться и уехать учительствовать на Беломорье, заработать денег и уплыть в Северо-Американские штаты… А пока Май с гордостью показывал мне московские чудеса – водил куда я захочу. Я пила московскую жизнь, как путник после перехода по пустыне пьет воду из источника. Диспуты, семинары, маскарады… На одном из них нас и осенило. Маскарад! Он с детства удавался мне – ведь едва не с рождения мне приходилось скрывать от родных почти все свои чувства и порывы. Так я стала поморским старовером. Семья Мая приняла меня радушно, как единоверца и лучшего друга Никона. И одновременно я стала пифагорейцем Апрелем… Одного мы не учли – в раскрепощено-богемной обстановке Май, куда более непосредственный, чем я, не мог скрыть своей любви ко мне. И тогда ему тоже пришлось надеть маску. Он очень переживал – ведь вы наверняка знаете, как христианство относится к содомскому греху, а он, несмотря ни на что, был искренне верующим в Христа человеком. А наша выдуманная содомия казалась Никону еще более предосудительной, чем если бы существовала в действительности…
– Какая причудливая история любви… – вздохнул Январев.
– Да… Непосредственно перед началом войны семья Мая стала готовиться к его свадьбе – дальше тянуть было нельзя, невеста и ее семья и так уже заждались развязки. Бедняжка Май ничего не мог – ни признаться семье в многолетнем обмане, ни жениться на чужой и нелюбимой женщине. Когда началась война, он плакал от облегчения и со страхом шептал мне: «Геленька, скажи: это ведь не из-за меня все началось? Оно ведь само по себе, правда? А то мне было так сильно надо, чтобы что-то случилось, а эти символисты так мне голову задурили…»
Май и война, солдатчина – трудно было представить себе что-то более несовместное. Он ушел вольноопределяющимся на четвертый день войны. Сказал, что вернется высоким, стройным брюнетом-героем и женится на мне. Через три месяца он погиб, кого-то там спасая. Георгиевский крест передали семье… В Москве между тем было все то же – символисты, футуристы, имажинисты… От всего этого за версту несло мертвечиной. Я окончила курсы медсестер и уехала на фронт… А теперь простите – мне пора заступать на дежурство…
Аркадий взял шелушащиеся от карболки руки женщины в свои и ласково сжал их:
– Из штаба полка просочился слух – мы выступаем на рассвете…
– Прощайте, Знахарь! – сказала Ангелина. – И не поминайте нас лихом.
– Прощайте, Апрель!
Когда он уходил, она перекрестила его вслед.
Глава 26. В которой Марыся попадает в сказку, а Валентин Рождественский обретает смысл жизни.
«… Как это было?
Немецкие разведгруппы одевали в австрийскую форму, чтобы мы ни о чем не догадались. Германские офицеры с холмов видели наши позиции, как на ладони.
У нас – недостача оружия и боеприпасов катастрофическая. Прибывшие из отпуска рассказывают: солдаты вновь сформированных полков имеют одну винтовку на троих.
Я бы не стал, как нынче модно в войсках, валить все на нашу промышленность и нерасторопность Англии.
В моем подразделении не было недостатка винтовок. Я историк и потому мы их раздобывали самым простым, веками проверенным и очевидным на войне способом. Свидетельствую сам и повторяю со слов солдат-очевидцев: в этой войне все армии, кроме нашей, собирают оружие на поле боя.
Даже в таком положении против войск «лоскутной империи» мы могли бы держаться еще долго. Но немецкая военная машина это нечто, в соприкосновении с чем живое не выживает. Сражаясь с ними, я чувствовал себя луддитом. Может быть, их следовало бы травить крысиным ядом. Немцы вывезли все местное население, чтобы никто не мог нас предупредить. Генерал Дмитриев понял положение только к концу апреля, но почему-то не запросил подкреплений.
1 мая – день международной солидарности трудящихся – четыре часа гаубичного ада. Потом бросок германских штурмовых групп генерала Макензена. Мы отступили сначала из Горлицы, потом из Тарнова. Через неделю наша армия просто перестала существовать.
Я попал в плен раненным, но сейчас чувствую себя хорошо. Ни в чем особенно не нуждаюсь. Некоторое время вестей от меня, возможно, не будет…»
– Что это значит? Почему – не будет? – Люша с тревогой взглянула на Валентина Рождественского. – Вы можете понять, что он имеет в виду?
– После госпиталя его должны будут определить и доставить в какой-нибудь лагерь, а это всегда неопределенность и бюрократическая волокита, – пояснил Валентин. – Ваш сосед офицер, а для офицеров у них есть отдельные лагеря, там, по отзывам, вполне сносные условия, надо благодарить Бога, что остался жив… Ведь он попал в самую мясорубку. Я подсчитал: 1 мая немцы выпустили десять снарядов на каждый шаг своей пехоты. Если бы мы могли себе такое позволить, Проливы давно были бы нашими…
* * *
Валентин Рождественский уже вторую неделю гостил в Синих Ключах. Его жена, хрупкая Моника Рождественская, отказалась ехать в «какую-то деревню», где летом все – «пыль и мухи», и осталась в Москве шептаться со свекровью.
Юрий Данилович, провожая сына, нежно обнял Люшу за плечи и прошептал: «Спасибо тебе, девочка!»
Люше испытала неловкость, что вообще-то случалось с ней крайне редко.
* * *
Марыся Пшездецкая неторопливо наряжалась в отведенной ей комнате в южном крыле Синей Птицы. Полосатая юбка с широким поясом и сатиновая кофточка на кокетке с рукавами-буфф отлично подчеркивали все, что нужно было подчеркнуть в богатой Марысиной фигуре.
На круглом наборном столике стояли кувшин с парным молоком, высокий стакан синего стекла и тарелка с большим куском расковыренного ложкой вишневого торта с шоколадной глазурью. Сказать по чести – Лукерьины пирожные лишены были всяческой воздушности, а торты выходили тяжеловаты и как-то подозрительно напоминали сладкие кулебяки, исполненные в форме кирпичей или колес. Однако свое экспертное мнение Марыся держала при себе, потому что Люша и усадебные дети лопали Лукерьины кондитерские изделия с удовольствием, а Атя и толстенький Ботя даже норовили ими злоупотребить, после по привычке страдая поносом от сладких излишеств.
С удовольствием глядя в овальное, в бронзовой раме зеркало, Марыся чуть подчернила жженной пробкой брови и тронула губы карминовой помадой. Потом присела на стул, пошевелила аккуратными пальчиками голой ступни, легко склонившись, провела пальцем: нет ли на ногтях какой шероховатости или заусеницы. Заодно, поставив ногу на носок, проверила пятку – не затвердела ли по краям, ведь только вчера купалась с Люшей, Валентином Юрьевичем и детьми в мельничном омуте на Сазанке, а потом играла с ними и бегала босиком по поляне, заросшей разными травками, которые смешной, вытянувшийся за лето на полтора вершка Ботя все знает по именам…
Пятка оказалась в полном порядке.
Марыся взяла с подзеркальника скатанный бубликом розовый шелковый чулок и принялась осторожно натягивать, то и дело оглаживая двумя руками гладкую белую ногу. Рассеянная улыбка блуждала по ее полным губам. Только что начавшийся, наполовину летний, наполовину раннеосенний день обещал молодой трактирщице множество удовольствий.
Лакей Егор, стоя в приоткрытых дверях с тарелкой испрошенных Марысей (вместо не угодившего торта) пирожков, потел, облизывал пересыхающие губы, переминался с ноги на ногу от возникших в нижней части тела неудобств и чуть слышно сопел – представившаяся ему картина волновала его чрезвычайно и истинно по-мужски. Среди мельтешащих под ногами усадебных недоростков, увядших по возрасту горничных, субтильной барыни и ее кирпичеобразной конфидентки Груни – Мария Станиславовна казалась не чуждому романтичности лакею полностью распустившейся и благоухающей розой, усыпанной капельками росы. Никаких субординационных терзаний от нахлынувших на него чувств Егор не испытывал, ибо до кухни и людской не раз доходили красочные рассказы Любовь Николаевны о московской дружбе двух девочек и временах, когда великолепная Марыся Пшездецкая работала помощницей судомойки в трактире.
* * *
Днем катались на лодке.
Горы зелени, нависшей над прудом. Капли падают с весел со стеклянным, гулким звоном. У берега, в тени прячется утка с выводком утят. У них трогательные маленькие клювики и веселые поблескивающие глаза.
Верхами ездили к Синим Ключам. Пили из запотевшей кружки обжигающе холодную воду. Дети собирали в корзинку крепкие боровики со сливочной бархатной изнанкой, играли в прятки среди огромных папоротников, а потом, строя страшные рожи, в лицах изображали для Валентина легенду о девке-Синеглазке.
Марысе казалось, что она попала в волшебную сказку, которую маленькая Люша рассказывала ей когда-то под нарами хитровской ночлежки. Тогда она не верила в существование Синих Ключей и Синей Птицы и считала подружку просто повредившейся умом побродяжкой. Все оказалось иначе – предивно устроен Божий мир, и не нам судить, что в нем может, а что не может свершиться.
Ночь легла на усадьбу теплым, уютным одеялом – уже темная, предосенняя.
Как хорошо, что на свете, кроме светлого дня, есть ночи! Когда гаснут огни, затихают голоса, когда засыпают дети, лошади и собаки, а те, кто не спят, говорят друг другу задыхающимся шепотом самые главные ночные слова, чтобы наутро снова считать их пустяками…
Только звезды лукаво смотрят с далеких небес и все про всех знают, но никогда, никому, ничего не скажут…
* * *
Валентин Рождественский, совершенно обнаженный, стоял у окна. Луны не было видно, она взошла с другой стороны дома, но от ее света весь пейзаж, расстилавшийся перед его взором, казался усыпанным серебряной пылью.
Озеро вдали блестело, как огромная чаша, налитая ртутью. Почти без удивления Валентин увидел, как без седла скачет в одиночестве куда-то в поля хозяйка усадьбы. Ее надобность в этой дикой призрачной прогулке казалась ему сейчас прописанной на скрижалях. За белой лошадью – серебряный шлейф лунной пыли. Если бы мог, никого не обеспокоив, он непременно присоединился бы к ней – почти наяву увидел себя рядом на вороном жеребце в черном развевающемся плаще минувших времен.
Улыбнулся пригрезившемуся, нелепо-романтическому образу, обхватил себя руками, почувствовав горячими ладонями крепкие, захолодавшие плечи, потом – раскинул руки в стороны и тихо засмеялся.
Валентин и чувствовал, и понимал, что впервые в жизни по-настоящему влюблен.
Но не в чудесную женщину, которая сейчас, вольно разметавшись на широкой кровати, спала за его спиной. Она была совершенна в своей чувственной естественности и стремилась угадать все его желания. Она смеялась замечательным смехом, на который отзывалось все тело, и который волнами расходился по ее груди, плечам, бедрам. В городе он никогда не видел женщины, которая умела бы так смеяться. А его собственная жена и вовсе – только слабо улыбалась.
Но Марыся была только частью целого.
Он влюбился не в нее, а в Синие Ключи.
Впервые в жизни он понял отца. Беседуя с ним об отъезде, Юрий Данилович сказал: «Ты обязательно должен там побывать, Валя. Оно того стоит, поверь мне. «Синие Ключи» – знаковое место. Там никто не остается прежним…»
«Знаковое» – какое исключительно верное слово нашел отец! Каждый час его пребывания здесь, в Синих Ключах подает ему особый знак, преображает его. Они с отцом впервые в жизни чувствуют и видят мир одинаково – понимание этого грело ладони и середину широкой груди Валентина и наполняло его душу мятной морозной свежестью. Получившийся температурный контраст субъективно воспринимался как блаженство.
Всю жизнь Валентин Рождественский хотел быть боевым офицером и стал им. Он много раз слышал, а потом и сам не раз говорил перед строем про «веру, царя и отечество» и безусловно верил в то, что слышал и говорил. Когда пришла война, он естественнейшим образом отправился воевать. Но никогда толком он не решался задать себе вопроса: что такое это самое отечество для него лично? Московское детство вспоминалось тяжелой темной мебелью, химическим запахом отцовского кабинета, гулкой холодностью отца и душноватой суетливой привязанностью матери. Петербург – высокородный призрак, замкнутый сам в себе и пускающий на свой теневой карнавал лишь избранные, смутные и спутанные души. Анемичная Моника, на которой он женился, потому что ее семейство прикладывало к тому усилия, а ему пришла пора остепеняться… Они понимали друг друга не больше, чем его мать и отец, а всю свою слабую страстность его жена отдавала мечтам о независимости Польши…
Синие Ключи. Родники, бьющие из-под разноцветных каменных плит. Ручей в тени леса. Ранняя седина скромной лесной березы. Хлопотливый муравейник под розовокожей сосной. Дети, играющие на запруде. Прекрасная женщина, доверчиво спящая за его спиной. Лунная всадница в полях. Серебристые просверки рыб в черном омуте. Шумно-глазастое, васильковое золото ржи…
Широко зевнув, он отвернулся от окна, в три шага пересек комнату и нырнул в пышную, нагретую жарким Марысиным телом постель.
В тепле почти сразу стал засыпать, уплывая, чувствуя необыкновенное умиротворение и целостность. Уже совсем проваливаясь в сон, с границы бессознательности и небытия сформулировал причину того:
Впервые, отныне и навсегда Валентин Рождественский определенно знал, за что он воюет.
Глава 27. В которой обсуждают музыкальную одаренность Степана Егорова
«Здравствуй, драгоценная Любочка!
В первых строках не могу не поинтересоваться, как поживают твои замечательные детки – умница Капочка и милая крошка Варечка? От всей души надеюсь, что они премного благоденствуют…»
Люша оторвалась от чтения письма и улыбнулась смутной улыбкой.
Мария Габриэловна писала по-русски, по всей видимости внутренне не рассчитывая на то, что Люша сумеет правильно разобрать письмо на каком-нибудь другом, более близком для отправителя языке. Русский письменный у Марии Габриэловны всегда был слегка архаичен, и напоминал о временах, когда юная Итальяночка была пансионеркой Смольного института.
Кроме того, никаким либертианским усилием Мария Габриэловна не могла заставить себя принять тот факт, что безродные дети из Хитровской помойки и прочие сомнительные приемыши имеют в Люшиной жизни и душе точно такое же представительство, как и родные.
«Они сами образовывали меня, учили языкам и прививали хорошие манеры, – подумала Люша. – Но ни она, ни Лев Петрович так до конца и не поверили в результат. И правильно сделали, в сущности. Дикого зверя можно сделать относительно ручным, но никак нельзя окончательно – домашним…»
«… С трепетом душевным приступаю к вопросу, нынче волнующему меня изрядно. Не прими, ради Господа Нашего, что-либо в упрек и не сочти пустым любопытством, кое, льщу себя надеждой, никогда не входило в число моих недостатков. Не изводя более бумагу словесными экивоками, хочу тебя спросить: как вы были близки с бедной Камишей, не знаешь ли ты про отца нашей Любочки-Аморе, ибо это важно…»
– Знаю! – вслух воскликнула Люша, вскакивая и в возбуждении обегая стол. – Конечно, знаю! – повторила она, сосредоточенно глядя в темные заснеженные просторы за окном. – Как же не знать, если я с ним выросла, да я же его и с Камишей познакомила, когда он человека спас… – желая как-то отметить в окружающем ее пространстве наступившее прозрение итальянского семейства, Люша вернулась к столу и повернула рычажок лампы, увеличив накал. – Степка жив, хотя сейчас в плену, но это неважно, он оттуда непременно выберется, и… сейчас я вам все объясню и мы вместе решим, как…
Она схватила письмо, чтобы прочесть его до конца.
«…Если ты, Любочка, по чистому совпадению что-нибудь слыхала об этом человеке, то не известен ли тебе случайно следующий, чрезвычайно нужный для меня сейчас факт: если обстоятельства его жизни сие позволяли, то не заметна ли была в нем как-нибудь проявляющая себя музыкальность? Пристрастие к пению или хоть игре на пастушьей дуде? Драгоценная Любочка! Умоляю тебя, не спеши, пожалуйста, с выводами о моем умственном состоянии. Я, в соотнесении с постигшими меня горестями и утратами, пребываю в возможно полной здравости рассудка, чему не последняя причина – необходимость заботиться о бедной крошке-сироте, о нашей Аморе. Камиша, как ты, наверное, помнишь, весьма сносно играла на рояле и, как все в нашем семействе, недурно импровизировала. Но это никогда не было ее коньком и даже ее пристрастием. Исполнительские способности бедной Камиши были весьма ограниченны, и ее же мастерство в обращении с акварелью много их превосходило. Но Аморе – совершенно другое дело, и так (что чрезвычайно важно!) кажется не только мне одной. Возможно, она – маленький Моцарт…»
Пользуясь одиночеством, Люша вволю посмеялась над честолюбивыми иллюзиями Марии Габриэловны своим странным, необаятельным смехом, а потом отложила письмо и задумалась, опершись локтями на стол и угнездив подбородок в ладонях: «Музыкален ли Степка?»
Как ни старалась, Люша не могла припомнить его поющим. Роялем, стоящим в бильярдной, он тоже вроде бы никогда, даже в детстве, не интересовался. Как и все деревенские мальчишки, Степка умел вырезать камышовые дудочки и наигрывать на них несложные мелодии, но делал это без всякого усердия и больше для Люши, чем для себя самого. «Чо, Люшка, хошь покривляться?» – спрашивал Степка и брался за свой немудреный инструмент. Простые, на три-пять нот, но завораживающие мелодии камышовой дудочки действовали на девочку как на змею из корзинки индийского факира. Степка поощрял танцы своей подопечной, потому что они давали возможность следить за ней, не двигаясь с места, и одновременно на следующие два-три часа уменьшали обыкновенное количество каверз, которые девочка изобретала в единицу времени.
Что же, ничего нет? Люша представила, как ей придется разрушить надежды Марии Габриэловны, и уже плела в своем воображении легонькую, никого ни к чему не обязывающую паутинку лжи, как вдруг вспомнила…
Память не сохранила обстоятельств: как и почему они со Степкой оказались в нижнем зале постоялого двора в Алексеевке? Когда это было? Был ли с ними кто-то еще? Должно быть, был… Может быть, Светлана, Степкина сестра, или ее муж Ваня? Но в картине Люша помнила как действующих лиц только себя, Степку и пожилого скрипача-еврея. Скрипка пела и плакала, люди вокруг ели, пили, обсуждали свои дела, рыгали и засыпали прямо за столами, не обращая на скрипача никакого внимания. Только Степка стоял столбом на усыпанном соломой полу, комкая в руках картуз, а Люша дергала его за рукав рубахи: «Пойдем! Пойдем!»
– Погоди! – отмахнулся от нее Степка и, побледнев от непонятных Люше чувств (веснушки испятнали лицо), подошел к скрипачу:
– Можно мне? Потрогать… Как оно? Христом богом молю…
– Иисус не мой бог, мальчик, – усмехнулся старый еврей. – Ты хочешь подержать мою скрипку? Попробовать извлечь звук?
Степка яростно закивал.
– А что я с этого буду иметь? Запомни, мальчик: в этом мире ничего не дается даром. Скрипка – это все, что у меня есть. Я видел, как ты, единственный из всей здешней публики, слушал мою музыку, но какой твой аргумент, чтобы я рискнул и положил мою скрипку, мою девочку, в твои грязные неловкие ручонки?
Степка судорожно порылся в карманах, вытащил оттуда большой зеленоватый пятак и протянул его скрипачу. Еврей покачал головой.
– Люшка, у тебя деньги есть? – хрипло спросил Степка.
Люша потрясла головой, а потом, сообразив, молча вынула из ушей золотые сережки.
– У твоей сестры лицо идиотки, но большое доброе сердце, – сказал музыкант.
– Она просто не понимает ничего, – буркнул Степка.
– Она все понимает, – возразил еврей и взял сережки из разомкнутого кулака девочки. – Если ты ничем не повредишь моей скрипке, я верну девочкины сережки обратно и возьму твой пятак.
Как ни старалась, Люша так и не смогла вспомнить, что именно делал Степка со скрипкой старого еврея. Но сережки ее матери Ляли явно остались при Люше (она носила их все детство, в них бежала из усадьбы и рассталась с ними только в Москве, на Сухаревке – понесла продавать в нелегкую минуту, и сережки у нее просто украли)… Но теперь Марии Габриэловне можно было сказать наверняка – Степка как-то по-своему чувствует музыку…
«… Есть сложность – Аморе боится роялей. Она называет их бетамогами (бегемотами) и говорит, что по ночам наши рояли разевают пасти и хотят ее съесть. Когда проходит мимо, на всякий случай грозит им кулачком. Фортепиано у нее такого ужаса не вызывает, но и доверия, а уж тем паче любви – тоже. Я по старой памяти осмелилась просить совета у друга моего незабвенного Лео – Юрия Даниловича Рождественского. Он приехал к нам вместе со своим сыном. Валентин Юрьевич произвел на всех нас самое благоприятное впечатление и, как ни странно, именно он, боевой офицер, во вполне комичном контексте навел нас на мысль относительно Любочкиного обучения. «Оставьте девочку в покое, – сказал он, когда я изложила Юрию Даниловичу наши проблемы. – Пусть играет в куклы». – «Но Аморе любит музыку, – возразила я. – Она с удовольствием высиживает длинные концерты, может воспроизвести практически любую услышанную мелодию, знает ноты и если на грифельной доске нарисовать нотный стан, она даже записывает на нем мелодии, сочиненные ею самой…» – «Тогда купите ей барабан! – заявил майор. – Любочка, ты не боишься барабанов?» – «Нет, – тут же ответила Аморе (вообще-то она остерегается чужих мужчин, но к Валентину Юрьевичу почему-то сразу прониклась доверием и даже залезла к нему на колени). – Барабаны – глупые, но веселые. А я хочу скрипку. Она розовая и нежная, как яблонькины цветы. Я давно знаю, что моя скрипка меня где-то ждет…» – и тут же напела пару мелодий, из тех, что жиды играют на мещанских свадьбах. Откуда только она их взяла?! Валентин Юрьевич сказал: «Ну вот все и разрешилось!»
Ты понимаешь, что мне было нелегко принять это. Девочка со скрипкой… Но что же делать?
Мы обошли все музыкальные магазины и мастерские, где есть скрипки 1\8. Аморе на все говорила: это не моя скрипка. В конце концов, когда я уже отчаялась, она встретила «свою» скрипку на стене у нашего знакомого музыканта. Инструмент принадлежал его маленькому умершему сыну. Он отдал нам скрипку бесплатно, и теперь Аморе с ней не расстается, кладет футляр с собой в постель и разговаривает с инструментом, как с живым существом, причем откуда-то называет его Джованни – именем того умершего ребенка (а ей вообще никто не рассказывал ни про мальчика, ни про его смерть)… Видит Бог, как меня все это тревожит, я стала такая мнительная, а Аморе так часто болеет… Возможно, надо было настаивать на фортепиано?»
Любочка, ищу твоего совета. Может быть, ты что-то сможешь мне подсказать? И яснее увидеть? Ведь ты молода, а я уже стара, слегка блуждаю в зеркалах и так часто плачу о моих дорогих покойниках…»
Вспоминая огромную квартиру Осоргиных-Гвиечелли, было так легко представить себе, как бесшумно блуждает по ней, отражаясь в зеркалах, хрупкая пожилая женщина с темными глазами. И там, в зазеркалье с тихой улыбкой она встречает своих умерших детей, мужа, «бедную Камишеньку»…
Люша взяла лист бумаги и, покусывая губы, начала писать – крупными, угловатыми буквами:
«Дорогая Мария Габриэловна!
Конечно, Любочку, коли ей хочется, надо учить играть на скрипке. Ее отец очень музыкально одаренный, но по обстоятельствам и бедности образования не получал. Однако тоже всегда любил именно скрипку, а однажды на моих глазах все деньги отдал, лишь бы ее в руках подержать. А еще надобно для укрепления ее здоровья непременно привезти Аморе в Синие Ключи, можно, коли вы захотите, со скрипкой и учителем. Любочке здесь будет весело, это я вам обещаю…»
Оторвавшись от листка, Люша взглянула в окно. Час волка – середина ночи. Над горизонтом лежала тьма без единого огонька. Облака над Удольем слабо светились. Казалось, что с неба на ночную землю смотрит огромное лицо. Люша попыталась угадать его выражение и не сумела.
«Наверное, ему все равно. Но мы и сами – с усами,» – пробормотала она и, высунув кончик языка, обмакнула перо в чернильницу-непроливайку.
Глава 28. В которой Борис фон Райхерт осознает свое призвание, старая нянька спасает младенца, а Юлия Бартенева пишет важные письма.
– Аннексия российских территорий на северо-западе неизбежна, – энергично заявил Борис фон Райхерт и отпил из хрустального бокала почти бесцветное сухое вино. Этикетка на стоящей рядом бутылке была вызывающе немецкой, с вычурным готическим шрифтом. – Российскую деспотию следует отбросить к допетровским границам!
– Папа, ты бредишь? – слабо поинтересовалась Юлия.
Она, откинувшись, сидела на диване с голубой шелковой обивкой и рассеянно поглаживала резную ручку подлокотника. Бледное лицо женщины казалось одутловатым, живот остро выпирал сквозь широкий халат, расшитый китайскими драконами.
– Нет, впервые за много лет я совершенно серьезен и специально приехал в этот ненавистный мне дом, чтобы поговорить с тобой.
– А чем же так ненавистен тебе дом Бартеневых?
– Меня здесь не уважают.
– Ах, боже мой! – Юлия подняла брови. – А уважение должно было бы выражаться в оплате твоих карточных долгов?
– Ты пытаешься все опошлить и разозлить меня, чтобы я прекратил этот разговор и ушел, оставив тебя в покое, – проницательно предположил Борис Антонович. Юлия, чуть улыбнувшись краем губ, кивнула головой. – Но сегодня у тебя ничего не выйдет. Это очень важный вопрос, и он касается будущего. Ты – моя единственная дочь, а твой будущий ребенок…
Улыбка Юлии перешла в оскал. Как ей все это надоело! Этот ребенок! Кто только не имеет на него планов!
Она сама никого больше не интересует. И она готова согласиться со всеми – беглый опасливый взгляд в зеркало показывает ей неуклюжую распухшую уродину с тусклыми волосами, обвисшими подглазьями, и темными пятнами на лбу. Кто бы захотел смотреть дальше!
Впрочем, на отсутствие внимания Юлия пожаловаться не может, потому что мать, Ольга Андреевна и многочисленная прислуга Бартеневых как никогда ранее заботятся об исполнении малейших ее прихотей. Но ради чего или точнее – кого? Странно и даже противно чувствовать себя чем-то вроде бархатного футляра, в котором до времени хранят важное фамильное сокровище. Уникальная драгоценность, наподобие того пропавшего бриллианта Любиной матери-цыганки… Почему она в последние дни так часто о нем вспоминает и как будто наяву видит странные желтоватые отблески, которые его грани отбрасывали на стены, потолок, на портрет цыганки с этим самым алмазом?.. Нельзя сейчас вообще думать о цыганах, это к худу…
– … После своей победы, которая, как ты понимаешь, не за горами, Германия может твердо положиться на остзейских немцев, к которым и относится наша фамилия. С Литвой все ясно – это уже готовая часть будущего Рейха, достаточно лишь дать местным крестьянам допуск на германский рынок и депортировать оттуда поляков. Сложнее с Лифляндией, Курляндией и Эстонией – здесь еще предстоит найти способы консолидации местного населения под руководством остзейцев. Но десяти процентов сильной германской крови, уже имеющейся там, я полагаю, будет достаточно. Там, где возникнут трудности, поможет поток германских колонистов – их можно расселять на землях русской короны, в поместьях русских землевладельцев, на землях церкви…
– Папа, что ты говоришь?! – Юлия, несмотря на боль в пояснице, выпрямилась и взглянула удивленно. – Мы живем в России. А это… твои слова, это же – предательство!
– Предательство – чего? – с горячностью воскликнул Борис Антонович. – Русское государство никогда не было продуктом естественного развития. Оно – лишь конгломерат народов, удерживаемых вместе монархией, выродившейся в деспотию. Первое же историческое испытание должно было сокрушить это искусственное образование – российские интеллектуалы всех национальностей уже полвека говорят об этом. И вот – этот момент настал. Российская империя трещит по швам и не сегодня-завтра падет. Каждый народ в таких обстоятельствах имеет право на сецессию. И мы, балтийские немцы, должны думать об интересах своего народа. Ты должна понимать, что именно сейчас, с падением Ковно, на наших глазах сбывается давнишняя мечта прусских юнкеров (В Германии (прежде всего Пруссии) юнкерство – влиятельный социальный слой помещиков-землевладельцев, сторонников консервативной государственной политики – прим. авт.) – впервые со времен Петра появилась возможность вытеснить Россию из прибалтийских провинций. Первым делом надо возобновить там цивилизаторскую работу, которой немцы занимались многие столетия. Население, представляющее собой беспорядочную смесь рас, не может создать собственную культуру. Поэтому Литва и Курляндия должны быть заселены немецкими переселенцами из Германии и России и управляться германским принцем. Мы, балтийские немцы из «Лиги инородческих народов России», в которую я недавно вступил, как раз сейчас работаем над этим. Курляндию я лично тоже вижу частью будущей Великой Германии. Это можно сделать быстро, буквально за одно поколение. На оккупированных территориях эта работа уже начата: учителя в школах – только немцы, язык обучения – только немецкий… Ты, как моя дочь, должна понимать…
– Папа, я дурно себя чувствую, я ничего не понимаю… – Юлия заслонилась рукой. Ей вдруг сделалось почти невыносимо, по-детски, страшно. Как если бы из-за украшенной в гостиной рождественской елочки вдруг выглянул настоящий лесной серый волк с оскаленными клыками. – У меня кружится голова… Мама, мама! Иди сюда!
Тут же, распластав руки, как курица, защищающая цыплят, в комнату ворвалась Лидия Федоровна:
– Борис, немедленно уйди! Ты клятвенно обещал мне, что поговоришь с Юленькой о хорошем и важном, а вместо этого расстроил ее! Ты опять просил денег?! Как ты смеешь?!! Дочь плохо себя чувствует, страдает, а ты…Ты что, – голос Лидии Федоровны сжался и сузился до страшного, почти змеиного шипения. – Ты хочешь повредить – ребенку?!!
Юлия уткнула лицо в сгиб локтя и бессильно зарыдала.
Борис Антонович удалился маршевым шагом, подкручивая усы. Женские истерики больше не волновали его. Впервые за много лет он чувствовал себя настоящим мужчиной, германцем, человеком, занимающимся стоящим делом, рассчитанным на многие годы… да что там годы – века!
* * *
– Мама, скажи, почему я как будто бы единственная, кто ничего не чувствует к этому ребенку? – Юлия смотрела почти умоляюще. – Ведь он же на самом деле только мой, сидит у меня в животе, шевелится там… Все знакомые дамы и даже девицы рассказывают мне о том, какое счастье, что у нас с Сережей наконец-то будет малютка. Мария Габриэловна, подруга Ольги Андреевны, буквально завалила меня советами и совершенно обворожительным – сплошные венецианские кружева! – детским приданым. Но я…
Крылатая кованая лампа, решетки, ширмы, девы и лозы на тканых шпалерах – все эти приметы югендстиля все еще сохранялись в будуаре молодой княгини Бартеневой, но странным образом перестали замечаться. Они словно потеряли оригинальность, превратились в просто вещи… Обесцветились – точно как сентябрьское небо за окном, как подурневшее лицо беременной Юлии.
Лидия Федоровна умиленно и светло улыбнулась:
– Юленька, деточка, не расстраивай себя и не думай об этом. Мы можем тысячу раз слышать или читать в книгах о чем-то безусловно важном, и оно оставляет нас совершенно равнодушными. Но наступает миг, что-то происходит (не снаружи, а в нас самих), и мы видим сияющий свет в том месте, где еще вчера были скучные сумерки, увитые пылью и паутиной. Вот, например, женщины. Сколько раз с раннего детства мы слышим о чувственной, плотской любви и счастье материнства! Взрослея, мы даже сами повторяем эти слова – но до времени они для нас все равно остаются пустым звуком. Но вот приходит час – и однажды тебя окатывает сладкозвучный сверкающий водопад, и ты понимаешь, что это случилось – ты полюбила. А потом, после родовых страданий, тебе навстречу сияет улыбка и протягиваются ручки твоего ребенка и ты так же внезапно осознаешь, что это за великое, ни с чем не сравнимое счастье – быть матерью…
Юлия слушала внимательно и сосредоточенно, словно выполняла какую-то работу или решала алгебраическую задачу. Потом вдруг, как будто получившийся в задаче ответ ее безмерно удивил, спросила:
– Мама, так ты, значит, в жизни счастлива была?!
Лидия Федоровна молча кивнула. От прихлынувших воспоминаний ее пергаментные, увядшие щеки окрасил молодой теплый румянец.
Пряча лицо, она внезапно порывисто обняла дочь (Юлия, потерявшая подвижность, не успела отстраниться) и сказала:
– Юленька, ты сейчас волнуешься и сомневаешься в себе перед великим событием твоей жизни – это совершенно естественно. Но потом все сомнения отпадут сами собой, поверь. После рождения ребенка ты просто станешь иным существом, которому наш сегодняшний разговор покажется темной и смутной иллюзией.
– Иногда мне вся моя жизнь кажется смутной иллюзией. К чему бы это? – вздохнув, пробормотала Юлия, высвободилась из объятий матери и, тяжело ступая, отошла к окну.
За окном, в палисаде ронял жидкое золото листьев молодой клен, а под почерневшей от времени скамьей, съежившись, прятался от промозглого сентябрьского дождя тощий бродячий пес.
«Если Сережа зайдет, надо будет ему сказать, – подумала Юлия. – Пусть распорядится, чтоб собаку накормили, ведь он животных любит…»
Молодой князь Бартенев по непонятной никому причине, даже находясь дома, избегал заходить в покои своей беременной жены. Впрочем, домашнему досугу он всегда предпочитал театры, клубы и рестораны. Не пришел он и в этом вечер.
* * *
Из характера, сложения и возраста Юлии Бартеневой ожидали долгих и тяжелых родов. Однако все закончилось неожиданно быстро. Увидав показавшуюся в родовых путях огромную головку ребенка, пожилой опытный акушер, приглашенный по рекомендации Марии Габриэловны, на сильной потуге сделал быстрый и длинный разрез, отбросил в сторону скальпель и буквально поймал в большие белесые ладони окровавленное тщедушное тельце.
Бегло осмотрев ребенка, он сразу сказал:
– Скорее всего, не жилец. Если непременно хотите крестить, так лучше не откладывать, больше двух дней он не протянет.
И успокоил роженицу, которая была в сознании и, приподнявшись на подушках, наблюдала за происходящим:
– Не расстраивайтесь, мадам, вы рожаете хорошо, и возраст у вас с князем еще не критический. Родите других, Бог даст, они лучше получатся.
От слов акушера с Лидией Федоровной случился припадок. Ее откачали, буквально облив нашатырем, и оттащили в розовую гостиную. Там же, под предлогом оказания поддержки страдалице, спряталась и Ольга Андреевна. Поддержки, впрочем, не получилось – каждый занимался своим делом: Лидия Федоровна истерически рыдала в углу дивана, а княгиня одну за другой поедала из вазы конфеты и миндальное печенье, запивая их лимонадом. Молчаливая горничная, явно подавленная домашним несчастьем, то и дело меняла пустые вазы на полные и выливала в опустевший кувшин новую бутыль лимонада.
Пожилой акушер принял послед, а потом, усыпив роженицу эфиром, заштопал разрез со всем возможным тщанием и вниманием, в предвидении будущих родов у еще сравнительно молодой, красивой и отважной княгини. После с удовольствием получил причитающуюся ему немалую плату от заплаканной Марии Габриэловны, отпил из заветной фляжечки крепчайшего ароматного напитка, который уже много лет поддерживал его в минуты испытаний, и отбыл восвояси, размышляя по дороге в трактир о том, что вот, ни богатство, ни княжеский титул не прибавляют человеку счастья в самых главных человеческих делах, хотя, конечно, деньги, если их иметь, доставляют по случаю множество приятных возможностей…
Сережу отыскал в ресторане старый князь Бартенев, привез домой, собственноручно вывалил ему на голову ведро колотого льда и объяснил, что ребенок, мальчик, родился, но скоро помрет, жена Юлия в относительном порядке, а мать с тещей в розовой гостиной, где первая в одно рыло скушала уже три фунта конфет, и горничная просит распоряжений: подавать барыне дальше или не подавать, а то как бы внутри все не склеилось.
Оставив сына переваривать новости и как-то на них реагировать, старый князь счел свой семейный долг исполненным, кликнул лакея и казачка, спустился в охотничью гостиную, выбрал там на стене штуцер и уехал в свое подмосковное имение Рождествено – охотиться на кабана и пролетающих мимо по осеннему времени гусей.
Новорожденный младенец с огромной головой и тоненькими ручками-ножками лежал на столике на шерстяном одеяльце и иногда слабо попискивал. Перед отъездом его троекратно перекрестила и поцеловала Мария Габриэловна.
Видя, что до дитяти вроде как никому нет никакого дела, младенчика завернула в чистую холстинку и забрала к себе в каморку Тамара, старая нянька Сережи, которая много лет страдала сердечной болезнью и из милости жила в доме Бартеневых.
Там, с помощью дряхлого старика – бывшего дворецкого, который также, как и она, доживал свой век в приживалах, Тамара крепко обтерла новорожденного шерстяной варежкой, обложила нагретыми на плите кирпичами, и попыталась по деревенскому обычаю дать пососать тряпочку, вымоченную в чуть разведенном и подслащенном коровьем молоке. Младенец сосать тряпочку отказался и явно задыхался, открывая и закрывая ротик. Тогда Тамара развела в сладкой водичке капельки, которые прописывал ей доктор «от сердца» и насильно, с ложечки влила младенцу в рот. Большую часть он выкашлял, но что-то все-таки попало внутрь.
После этого Тамара села на ватное лоскутное одеяло, которым была покрыта ее кровать, положила младенца себе на колени и стала поглаживать его по животику, постукивать по спинке, ручкам, ножкам, нажимать пальцем на носик и даже пощипывать за щечки и крохотные ушки. Время от времени предлагала ему всю ту же скрученную тряпочку, опущенную в миску с молоком.
– Почто ты его теребишь? – шамкая, спросил старик-дворецкий, который сидел у стены на лавке и внимательно наблюдал за действиями бывшей няньки. – Пущай бы дитё отдохнуло…
– На том свете все отдохнем, – огрызнулась Тамара. – Нынче его душа как раз решает: уходить ей обратно, откуда пришла, или здешний жребий принять. Вот она и прислушивается: что здесь? Рад ли ей хоть кто-нибудь? А тут тебе как раз и тетка Тамара: зову его, болезного, телешу, покоя не даю…
Словно в ответ на реплику няньки младенец наконец взял в рот тряпочку и принялся потихоньку, прерываясь, сосать. Молоко в мисочке постепенно убывало. Старик и Тамара торжествующе переглянулись и беззубо улыбнулись друг другу.
Ни один, ни другая не заметили, как их улыбки слабым эхом отразились в такой же беззубой улыбке младенца.
* * *
Вопреки неутешительным прогнозам акушера, новорожденный пережил и первую, и вторую, и десятую ночь своей жизни. Ему быстро подыскали кормилицу и вместе с ней поместили в просторные, богато украшенные покои на втором этаже особняка. Маленькое сморщенное личико, выглядывающее из пены сливочных или синевато-белых венецианских кружев, выглядело на удивление непривлекательным. На огромную голову подошел лишь чепчик, предназначавшийся для полугодовалого. Приглашенные для консилиума детские врачи поправляли цепочки, торчащие из карманов жилетов, и отводили глаза, выписывая настой наперстянки. Никто из них не мог сказать ничего определенного ни по одному из интересующих семью Бартеневых вопросов: будет ли ребенок жить? Что, собственно, с ним такое? Чем он болен? Есть ли хоть малейшая надежда на то, что он поправится и будет нормально развиваться?
Мать ни разу не попросила принести к ней сына, объясняя это тем, что не хочет лишний раз беспокоить больного и слабого ребенка. Когда Юлия начала вставать, она заходила в детскую всего один раз и пробыла там минут сорок, из которых около получаса беседовала с кормилицей – толстой и добродушной калужской бабой. В доказательство своей профпригодности баба с недвусмысленной гордостью демонстрировала княгине огромные продолговатые груди, похожие на двух молочных поросят. Юлия улыбалась бабе, расспрашивала ее о жизни в деревне и избегала даже смотреть в сторону красного дуба, резной фамильной колыбели Бартеневых, завешенной кружевным пологом. Уходя, она, видимо преодолевая себя, все-таки откинула полог и даже взяла на руки запеленутый кулек: ей нужно было проверить одну вещь, которую она как будто бы заметила еще в день родов. Но тогда она все-таки была сильно не в себе. Померещилось или нет?
Сытый младенец спал, но почувствовал изменение своего положения в пространстве, недовольно закряхтел и открыл глаза. Юлия вздрогнула и едва не уронила кулек: из овальных глазниц прямо на нее смотрели прозрачные, светло-желтые глаза, каждый из которых жутковато напоминал знаменитый алмаз «Алексеев», который много лет назад Юлия держала в руках и который неоднократно вспоминала буквально накануне родов (история пропавшего алмаза описывается в книге «Пепел на ветру» – прим. авт.)
Сережа также посмотрел на ребенка всего один раз, воскликнул:
– О Господи! Чего ж он сразу-то не умер?! – а потом засунул пальцы в свою все еще богатую шевелюру и в такой позе, с задранными наверх руками и отставленными в стороны локтями, почти выбежал из комнаты.
– Ох уж этот мне Сереженька, как родились, так и по сей день – никак без театров не могут! – проворчала ему вслед караулящая у дверей Тамара, всегда готовая сменить ленивую бабу-кормилицу в уходе за младенцем.
Назвали мальчика Германом.
Борис Антонович, ни разу младенца не видевший и состояния его не понимавший, наименованием внука почему-то ужасно возгордился, и напыщенно говорил соратникам по «Лиге», что Германик, возмужав, непременно продолжит их дело, а Юлия всегда была дочерью своего отца и дальновиднее многих.
* * *
Окно было распахнуто – Юлия хоть и боялась простуды, но была уверена, что будуар следует проветривать постоянно не день и не два, чтобы изгнать из него тот невыносимый затхлый дух, настоявшийся за месяцы ее беременности. Впрочем, в Москву ненадолго заглянуло бабье лето, и ночи стояли теплые, почти как в августе.
Положив локти на стоячее бюро, Юлия обмакнула перо в чернильницу и начала бегло, по-немецки, почти не задумываясь, писать красивым, похожим на узор почерком. Она прекрасно знала, что письма, писанные в действующую армию, активно перлюстрируются, а немецкий язык, которым пользуется отправитель, вызовет особенное подозрение, но все это нимало ее не задевало, ибо презрение к безымянным военным чиновничкам было в княгине Бартеневой поистине безграничным – пусть прочтут, коли кому охота:
«Дорогой Рудольф! (думаю, после некоторых событий Вы позволите мне так к Вам обращаться)
Нынче я считаю правильным сообщить Вам, что у Вас 7 октября сего года родился сын, которого по моему желанию назвали Германом. Я подумала, что как мы с Вами оба немецких кровей и урожденных фамилий, так станет верно. К сожалению, Герман родился хотя и в срок, но слабым и болезненным ребенком, и, должно быть, не проживет долго. Но все же Вам следует знать, что он есть. Он блондин, с желто-карими глазами, по словам кормилицы, спокойный.
Сережа ребенка официально признал, но к нему не подходит, и, кажется, как и все прочие, ждет смерти несчастного малыша.
Ваша заочная любовь, которую Вы, без малейшего затруднения для себя, можете подарить Герману, отчего-то кажется мне уместной в каком-то, если хотите, обще-космическом смысле, хотя я в принципе не привыкла мыслить подобными категориями. Если вдруг Герман доживет до Вашего возвращения с фронта, вы, коли пожелаете, обязательно сможете его увидеть – это я Вам твердо обещаю.
На сем остаюсь желающая Вам всех благ и непременных успехов в воздушных боях
Юлия Бартенева, урожденная фон Райхерт».Запечатав конверт, Юлия достала из ящика письмо Рудольфа, украденное ею у мужа, и аккуратно списала с него адрес. Рудольф недавно прошел стажировку во французских авиационных частях, воевал на Юго-западном фронте и был уже командиром авиа-отряда.
Мысленно пожелав Леттеру удачи в его опасном небесном ремесле, Юлия взяла из стопки чистый лист с лиловым водяным знаком князей Бартеневых и, явно волнуясь и облизывая верхнюю губу кончиком языка, написала по-русски:
«Милый Александр!
Я из третьих рук знаю, что ты нынче в Москве и потому только осмеливаюсь тебе писать и даже просить о встрече, так как обстоятельства и состояние души моей дошли до возможной крайности. Если просьба моя покажется тебе нынче неуместной, так не отвечай ничего.
Твоя кузина Юлия»
Письмо было отослано с курьером, и уже через час с небольшим был получен лаконический ответ:
«Юлия, назначай время и место, ничто в мире не помешает мне там быть.
Всегда твой Александр»
Прочитав записку, Юлия набросала ответ, выпроводила курьера и, оставшись одна, впервые за много месяцев с удовольствием взглянула на себя в зеркало – морщины на лбу и возле рта почти разгладились, в глазах появился блеск. Однако все же завтра, чтобы хорошо выглядеть, придется изрядно поработать – Юлия критически оглядела строй баночек и коробочек на подзеркальнике и звонком вызвала служанку: ей следовало немедля отправиться во французскую парфюмерную лавку и купить недостающее.
* * *
Голубое небо, красная стена Кремля, желтые листья солнечным ковром под темными стволами лип. Юлия назначила встречу в Александровском саду – без всякого умысла, а сейчас поняла, что умысел таки был… и что? Кого она ожидала увидеть? Блестящего кавалергарда былых времен?
Он выглядел провинциальным помещиком. Больше всего ей бросились в глаза две вещи: глубокие залысины в его темных, гладко зачесанных назад волосах, и то, что он был в сапогах.
Однако именно этот мужчина, пожалуй, единственный, кто любил ее и принимал такой, какая она была. И есть? Многое могло измениться, ведь беременность, роды и годы никого не красят, а он нынче опять живет со своей цыганкой…
– Юлия, ты прекрасна, – сказал Александр Кантакузин, склонившись к ее руке.
Она вырвала руку и заплакала, уткнувшись лбом в его плечо. Он знал ее с детства, но первый раз в жизни видел ее слезы. Они потрясли что-то в глубине его существа, потрясли без всяких иносказаний и метафор: в районе солнечного сплетения родились волны крупной дрожи, разошедшиеся потом по груди и животу. Как будто ему во внутренности бросили камень. Он обнял ее так, как будто она была изваяна из тончайшего китайского фаянса и стал целовать ее волосы.
Она почувствовала, как он дрожит, и поняла, что мечтала об этом.
* * *
Глава 29. В которой Юрий Данилович оглашает свое заключение о состоянии Германа, а горничная Настя дает княгине Бартеневой урок на тему мужской сексуальности
Александр ненавидел себя за то, что не мог смолчать. Ему казалось, что своими словами он разрушает и предает все то, что было, есть и будет светлого и чистого в его душе. Он постановил себе молчать с самого начала, но обнаружил себя уже говорящим, причем в самых пошлых обстоятельствах: за обедом, между гороховым супом и тушеной в овощах телятиной. Его тон – небрежный и слегка скучающий – казался в этих обстоятельствах естественным и одновременно был отвратителен ему самому.
– Кстати, Люба, забыл тебе рассказать: в Москве я встречался с Юлией Бартеневой, моей кузиной. Ты помнишь ее?
– Прекрасно помню, – кивнула Люша, зачерпывая плавающие в подливе овощи. Она умела есть вилкой и ножом, но не любила этого и вне официальных трапез обычно пользовалась только ложкой и куском хлеба, как простая крестьянка. Александра это всегда раздражало. – Как она поживает?
– Юлия очень несчастна, – сказал Алекс. – У нее недавно родился сын, как я понял, с какой-то неизлечимой болезнью. Он и не живет, и не умирает. Все это очень тягостно…
– Еще бы! – сочувственно воскликнула Люша. – Бедные они!
– Тем более, – продолжал Александр. – Что других детей у них с князем, скорее всего, не будет, и все так ждали этого ребенка, а теперь там кругом одно разочарование и тоска…
– Конечно! Я не понимаю, как Юлия сумела этого-то ребенка заполучить, ведь князь Сережа, мне всегда казалось – законченный педераст…
– Мама, а что такое «педераст»? – с любопытством спросила Капочка, опуская нож на тарелку. (По настоянию отца она ела вилкой и ножом. Так же, по всем правилам, неизменно ела и Оля. Остальные дети началам столового этикета были теоретически обучены, но на практике, как и хозяйка усадьбы, исходили из обстоятельств.)
– Люба! – воскликнул Александр.
– Я тебе потом объясню, после обеда, – быстро пообещала Капочке Атя. Ботя под столом пнул сестру ногой. Атя опустила глаза и ловко запихала в рот большой кусок мякиша с подливой, смяв его пальцами.
Александр поморщился с отвращением.
Временами его дом и его как бы семья причиняли ему почти физическую боль. И почти всегда – физические неудобства.
– А что же врачи говорят по поводу ребенка? – спросила Люша у Александра.
– Как всегда – ничего. Все тянется и тянется, в княжеском доме – гнетущая атмосфера обманутых неизвестно кем ожиданий, Юлия там просто с ума сходит, хочет за границу ехать, да ведь нельзя, пока с ребенком не разрешится…
– А знаешь что, Александр, – вдруг живо воскликнула Люша. – Пригласи-ка ты Юлию в Синие Ключи! Прямо с этим ее ребенком. У нас тут, сам понимаешь, уродов не занимать, а ей и вправду сменить обстановку полезно будет. Ребеночка колдунье Липе покажем, ветеринару нашему или даже Юрия Даниловича на консультацию пригласим – может, они что дельное посоветуют: в таком деле, чем больше разных мозгов, тем лучше…
– Люба! – Александр смотрел с изумлением. – Ты это серьезно?
– Да конечно! Гляди: она на время избавится от этих родственничков, которые ребенка из своих планов ждали, а не ради его самого. Ребенок либо уж помрет тут, либо на свежем воздухе, да на своих харчах – чего не бывает! – на поправку пойдет. А тебе она кузина и ты всегда с ней дружен был – вам обоим тоже повеселее. Поселим ее… – Люша прищурилась и деловито наморщила лоб, уже прикидывая детали. – Поселим ее в северном крыле, в комнате перед выходом в контору, там как раз недавно обои меняли и пол выкрасили. Печь там всегда была хорошая, и выход отдельный в сад – ей понравится, я же помню, что она в юности нашу сирень любила… Горничную она, может, с собой свою привезет, а можно к ней и одну из Грунькиных сестер приставить – их достанет…
– Да, да, папа, пускай твоя кузина к нам приезжает, – поддержала мать Капочка. – Мне уж так младенчика жалко, разве ж он виноват, что таким родился, а в Синих Ключах так хорошо, чего бы ему у нас не поправиться?
Александр выглядел потрясенным, такой реакции на свои слова он не мог ожидать никак. Его жена всегда сумеет удивить. Кого угодно.
Однако бредовая на первый взгляд Любина идея все больше захватывала разум и душу Алекса, вползала туда, как коварный змей-искуситель. Чаепития на веранде долгими зимними вечерами… Уютные разговоры в библиотеке… когда-то они с Юлией и Максом читали одни и те же книги и любили втроем обсуждать прочитанное, спорить… Как давно это было! Прогулки в санях в Алексеевку, Торбеево и Черемошню, белейший снег, скрип полозьев, блеск солнца в ресницах, лунные тени в лесу, охота на зайцев… Все не так! Ты бредишь, обманываешь сам себя! – обрывал свои неуместные мечты Александр. – Но почему нет? Люба сама предложила, и как будто не видит в таком положении ничего противоестественного или невозможного. Но Юлия? Она никогда не согласится… Но она измотана, в полном отчаянии, я никогда не видел ее такой, ей нужна поддержка, моя любовь… Это безумие! Юлия всегда терпеть не могла Любу, а Люба… удивительно, но я ничего про нее не знаю. Что ее ведет?.. Синие Ключи действительно странное место, вдруг эта их знахарка и вправду сумеет помочь ребенку?
– Хочешь про педерастов узнать? – прошипела Атя, склонившись к Капочкиному уху. – Тогда давай мне скорее твой пирог, я его быстренько доем, и побежали в кладовку, что за Ботькиной комнатой. Запремся там, и никто нам не помешает.
– А про младенчика поговорим? – спросила Капочка, послушно придвигая Ате свою тарелку с десертом. – Такой уж он жалостный выходит…
– Конечно, поговорим, – кивнула Атя и невнятно, уже с набитым ртом, добавила. – Хотя чую я, что что-то тут с ентой кузиной нечисто…
* * *
– Дитя карнавальной ночи! Увы! – Юрий Данилович Рождественский стряхнул воду с кончиков длинных морщинистых пальцев. Феклуша подала ему льняное полотенце, вышитое стилизованными оленями.
Оленей вышивала Оля. Атя исподтишка всем говорила, что у оленей на Олиных полотенцах такие же глупые лица, как у самой вышивальщицы. Люша, узнав о дискредитации Олиного искусства, выдала Ате пару затрещин, однако после, видя этих оленей, уже не могла не находить отмеченного противной девчонкой сходства.
Люша и Александр, сидя на стульях в голубом зале, смотрели одинаково вопросительно. Синие, серебряные, фиолетовые отблески плясали по паркету. Синяя Птица, разметав крылья на весь витраж, бесконечно и безнадежно стремилась ввысь, к настоящим небесам.
– Так деликатно мой покойный друг Лев Петрович Осоргин и его итальянская семья называли детей, зачатых в момент праздничного и как правило пьяного разгула, – пояснил профессор. – Александр Васильевич, я не только осмотрел ребенка, но и поговорил с вашей родственницей. Юлия Борисовна вполне признает, что в момент зачатия Германа она была не слишком трезва, а будущий отец так и просто мертвецки пьян. Алкоголь для живых клеток это, видите ли, яд. Его воздействие может вызывать различные болезни, а также уродства плода, иначе называемые тератогенезом…
– Да что же с ним? – не выдержал Александр. – Что будет дальше? Что вы сказали Юлии?
Люша вздохнула и посмотрела на Александра с грустной укоризной, как обычно глядела на не очень злостные проказы усадебных детей.
Юрий Данилович замолчал, явно сбитый с мысли. Люша с печалью отметила, как он постарел, и, воспользовавшись паузой, вспомнила о добром дядюшке Лео. Потом спросила:
– А почему у Германа такая большая голова?
– По всей видимости, это гидроцефалия, расширение мозговых желудочков с накоплением жидкости в них.
– Это лечится?
– Иногда компенсируется само, но чаще приводит к весьма печальным последствиям, жидкость сдавливает мозг…
– Он умрет? – Александр, с детским нетерпением. – Когда?
– Послушайте, да почему вы все его непрерывно хороните?! – рассердился наконец Рождественский. – Я осмотрел ребенка, у него, несомненно, есть пороки развития, и при его рождении весы наверняка колебались весьма существенно. Юлия Борисовна сказала мне, что опытный акушер признал родившегося ребенка нежизнеспособным, и, надо думать, у него были для этого какие-то основания. Но сейчас, в три месяца, уже произошла компенсация. Все системы организма малыша работают в общем-то нормально. Я поговорил с кормилицей: он хорошо ест, спит, регулярно испражняется. Надо отметить некоторую мышечную слабость конечностей, особенно с правой стороны. Отчетливо прослушивается небольшой порок сердца и неизвестен прогноз гидроцефалии…
Люба с внимательным интересом слушала медицинские подробности, касающиеся состояния Германа, а Александр чем дальше, тем больше испытывал парадоксальное и совершенно ни с чем несообразное желание: придушить почтенного и явно очень знающего профессора и скорее бежать к Юлии… Что он ей сказал? В каком она сейчас состоянии?.. Просто встать и уйти посреди его разглагольствований выйдет явно неприлично…
– Что же, Юрии Данилович, это сдавление мозга скорее всего и на его уме отразится? – спросила Люша.
– К сожалению, скорее всего, да. Та или иная степень умственной отсталости, и что еще печальней – постоянные головные боли…
– Ох-хо-хонюшки! Так а что же мы можем…?
– Простите! – Александр решительно поднялся. – Я должен… мне, понимаете, сейчас непременно нужно…
– Куда это он? – с удивлением спросил Юрий Данилович, когда за хозяином усадьбы с ощутимым хлопком закрылась дверь.
– К Юленьке побежал, – равнодушно ответила Люша. – Утешать ее. Да только, на мой-то взгляд, ей ее Герман нужен, как Феклуше Константинополь…
– Увы, вынужден признаться, что мне тоже так показалось, – вздохнул Юрий Данилович. – Тамара, приехавшая из Москвы вместе с Юлией Борисовной пожилая женщина, и та как будто больше привязана к ребенку, чем родная мать… Кстати, Люба, имей в виду: у Тамары очень выраженная болезнь коронарных сосудов. Я прослушал ее и выписал ей лекарство, нужно, чтобы она регулярно его принимала, иначе в любой момент можно ждать самых печальных событий…
– Поняла, – кивнула Люша. – Герман вот прямо сейчас помирать не станет, а любящая его Тамара – может вполне… Учтем… А что там Валентин Юрьевич? Пишет вам?
Юрий Данилович оживился.
– Любочка, у меня все как-то не было случая поблагодарить… Я тебе так признателен за Валю! Он приехал из Синих Ключей прямо преображенным!.. Бодрым, посвежевшим, помолодевшим лет на семь-восемь. Уехал в полк в прекрасном настроении. Я ему даже позавидовал, честное слово… Вспомнил Николая Павловича, твоего отца, как мы с ним когда-то… В общем – спасибо тебе!
– Ну, тут вообще-то не меня благодарить надо… – слегка смутившись, пробормотала Люша.
– Знаю, знаю, Синие Ключи сами по себе – волшебное место…
Старый профессор раскинул руки, и в этом театральном жесте не оказалось ничего нелепого или пафосного. Весь голубой зал самым уютным образом поместился в его объятья – а затем и вся усадьба, с ее гостиными, каморами и кладовыми, пропахшими копченым окороком, медом и перцем, с деревянными лестницами, крытыми галерейками и тупичками… потом и сад, и аллея к дороге, потрескавшиеся вазоны, в которых Филимон каждую весну высаживал петуньи и анютины глазки… луга за Удольем, мелкие камешки на дне Сазанки, древние ели в лесу, избушка колдуньи Липы, родник…
* * *
Первым, что услышал Александр, на несколько мгновений остановившись в коридоре перед дверью отведенных Юлии покоев, было его собственное имя:
– Да Алексан Васильич у нас…
– А что же Александр Васильевич…?
Оживленно обсуждали его персону двое: Юлия и Настя. Настя причесывала Юлию, полный рот шпилек не мешал ей делиться с давно знакомой и явно весьма заинтересованной барыней пикантными подробностями усадебной жизни. Не сказать, чтоб Александру это особенно понравилось. «Надо будет поговорить с Настей, – постановил он и внезапно сообразил, что уже очень давно с горничной, которую как-никак видел в доме каждый день, не обменивался даже парой фраз. – Надо поговорить!» – окончательно решил Кантакузин, входя в комнату.
Герман лежал в старой, качающейся на полукруглых деревянных полозьях кроватке, которую специально принесли с чердака. Возможно, в этой кроватке когда-то спала Люба.
Атя и Ботя, склонившись над кроваткой, щекотали Герману пятки и одновременно совали ему в обе руки красные деревянные шарики. Герман пускал мутные пузыри и безуспешно пытался обхватить шар слабыми пальчиками.
– Ох и страхолюдина же он! – почти с восхищением сказала Атя брату. – Почище, чем наш Володька был…
– Да ну тебя, малыш, как малыш, – Ботя пожал круглыми плечами. – Дай-ка лучше мне кружку, да головку ему придержи. Пора уж ему ту травку давать, что Липа велела. Мы и дадим, а то у Тамары руки дрожат, а матери-то с кормилицей и дела нет… Ну-ка, Герман, пастеньку-то откроем… – Ботя двумя пальцами нажал на щечки ребенка и ловко сунул десертную ложку с отваром в рефлекторно раскрывшийся ротик.
– Эка у тебя выходит! – удивилась Атя. – Мы с Олей намедни совали, совали, всего его перегваздали… Где это ты наловчился?
– Ежиков выкармливал, – объяснил Ботя. – Помнишь, у меня о том годе целый выводок в кладовке зимовал?
– Помню-помню, – усмехнулась Атя. – Володька с Агафоном, как кто их обидит, так тому в сапоги – твоих ежей. У Фрола раз чуть родимчик не приключился… ветеринар его потом настойкой для телящихся коров отпаивал…
Рядом с кроваткой на табурете сидела Тамара и из разноцветных катушечных ниток вязала крохотный чулочек. Капочка и Оля с интересом наблюдали за ее работой.
– Тамарочка, а моей кукле Варе ты такие можешь связать? – спросила Капочка. – А нашей Варечке?
– А если накрахмалить? – спросила Оля.
– Свяжу непременно, – отвечала Тамара. – А с крахмалом – ты права, детонька! – можно такие салфеточки прозрачные делать для господской услады или на продажу, только стирать их надо, на основу подшивая…
– Александр, милый, – отослав Настю и значительно понизив голос, сказала Юлия. – Я тебя просить хочу… Знаю, что это нехорошо даже, как мы здесь в гостях, но все же… Нельзя ли всех этих ваших детей… ну… как-нибудь убрать отсюда? Понимаешь, они ходят почти непрерывно – один за другим, вроде с Германом заниматься, от маленьких совсем до почти взрослой девушки (вон она и сейчас там стоит) – кто-то песни поет, какие-то ужасно тоскливые, крестьянские совершенно, кто-то игрушки тащит, старые, обмусоленные, высокий такой, чернявый мальчик целое представление показывал, Тамара так смеялась, что ей потом с сердцем плохо стало… и… ты только не обижайся, Алекс, но у них у всех ухватки какие-то дикарски-примитивные, как будто они вовсе никакого воспитания не получили. Я даже не могу разобрать, кто из них ваши с Любой дети, а кто – так… Один маленький мальчик влез другому на закорки и начал как-то над Германом руками водить. Я его спрашиваю: что ты делаешь? Он молчит, только глаза закатывает, как безумный, а другой за него отвечает: «Не мешай ему, он взаправду колдует, чтобы Германчик поправился!»
– Это должно быть, Владимир с Агафоном, – ухмыльнулся Александр. – Надо же, договорились как-то промеж собой, обычно-то они воюют…
– Алекс, я даже испугалась тогда, честное слово! У этого Владимира такое странное лицо, не менее странное, чем у Германа… Ты знаешь, я, в сущности, не люблю детей, и от всего этого очень устаю…
– Тут, Юленька, так. Прогнать всю эту усадебную свору решительно невозможно. Если уж они чего решили, то ты их – за дверь, а они – в окно. Еще скажи спасибо, что они приходят без своих собак, кошек, птиц, лошадей…
– Чего мне здесь, в комнате не хватало, так это лошади, – нервно рассмеялась Юлия. – По счастью, она здесь просто не поместится. Кстати, один раз девочка действительно принесла котенка и хотела его Герману в кроватку пустить, но тут уж Тамара воспротивилась и прогнала ее…
– Лошадки у них маленькие, пони, и я несколько раз заставал их в доме… Но мы можем сделать вот что: отселим Германа с Тамарой и кормилицей, и пусть тогда дети навещают его столько, сколько им заблагорассудится. Или ты станешь все время тревожиться?
– Это было бы чудесно, Алекс… – сказала Юлия и мечтательно прикрыла глаза.
* * *
Он проводил с ней все дни. Казалось, вернулась юность – они понимали друг друга с полуслова, читали вслух, гуляли по парку рука об руку, катались верхом. Часто говорили о пропавшем без вести Максимилиане, один раз, преодолевая себя, даже съездили к его родителям в Пески. Скучали во время визита показательно: чай отдавал веником, печенье – жучками, прожекты Антона Михайловича – позапрошлым веком, портреты Макса со стен глядели упреком, новая сказка, которую читала им Софья Александровна, показалась просто жуткой. «Ею только детей пугать!» – прошептал Алекс Юлии.
На обратном пути дурачились как дети: соскочили в поле с саней, хохотали, кидались снежками, потом роняли друг друга с дороги в рыхлый белый снег. Поднимались, протягивая руки, снова падали, уже в объятия друг друга, целовались, как будто пили золотистое холодное вино.
Он проводил с ней все дни. Но по ночам она ждала его напрасно. Спросить – не решалась, ее не учили спрашивать о таком.
Злые ночные слезы впитывались в подушку, а слово все время вертелось на языке. Однажды оно не удержалось там и – упало.
Настя вынула шпильки изо рта, аккуратно положила их на столик.
– Да вы не гадайте, Юлия Борисовна, – спокойно сказала она. – Алексан Васильич ко мне ходит. Давно уж не ходил, постарела я, сами видите, а нынче – снова здорово. А к вам-то его всегда тянуло, оно любому заметно было, да он не решается теперь, видать, боится, как бы конфуза не вышло, со мной-то оно всяко привычнее…
– Какого конфуза?! – не удержалась Юлия.
В свои 35 лет, являясь свету замужней женщиной и матерью трехмесячного сына, княгиня была осведомлена об устройстве половой жизни мужчин и женщин намного меньше, чем одиннадцатилетняя Атя и даже состоящая у нее в конфидентках Капочка.
– Ох-хо-хонюшки! – вздохнула Настя и принялась, как умела, объяснять.
Глава 30. В которой Аркадий Арабажин описывает газовую атаку, игру «вшанка» и прочие детали фронтового быта
Дневник Аркадия Арабажина
Война, как хронический, периодически обостряющийся, массовый психоз человечества… Так было у Адама в лекции или я выдумал это сам?
У России в этой войне нет целей, только потери. А может ли вообще быть цель – у войны? Убить «лишних» людей? Когда-то я читал об этом, уже не помню где. Наверняка тот, кто писал, сидел в полутемном кабинете за широким столом с обтянутой кожей поверхностью, смотрел на дрожащий огонек лампы или свечи, на свои высохшие пальцы с пером и чувствовал себя никому не нужным…
К четырнадцатому году все устали от тревожного ожидания. Звали бурю? Звали, не отпирайтесь. И я звал, со всеми. Глас услышан. И вот – явилась война. Теперь что же?
Я – Знахарь. Меня боятся, ненавидят, мною восхищаются. Необыкновенно странно для меня быть объектом такого сильного чувствования. Мой недостаток: я боюсь чувств. Своих и чужих. Любых.
Наверное, поэтому я здесь.
Падает медленный белый снег. По улицам городка под большими черными зонтиками ходят евреи в длинных пальто и черных шляпах. Я никогда не курил, а теперь курю – отсыревшие кисловатые папиросы. Заглядываю в окна, тянет, как гвоздь магнитным камнем, хочется увидеть обычную жизнь. Но ее нет. Впрочем, кое-где, как в мирное время, пылает из-за оконных стекол герань.
Стреляют – далеко или близко – почти непрерывно. При каждом орудийном ударе где-то наверху звякает церковный колокол.
После артподготовки на поле боя часть солдат временно сходит с ума – они бегут и кричат, не разбирая дороги. Иногда их расстреливают свои, как дезертиров. Они не дезертиры, это просто шок – человеческий мозг не приспособлен для современного ведения войны. Приспособится?
Окопы часто роются наспех. Удержим ли эту позицию? Отступление вызывает злость и желание отомстить врагу только вначале, потом – тупая апатия. Колючая проволока в больших мотках лежит на земле. Все смертельно хотят спать. Я тоже. Интуиция? Какие-то смутные, не вышедшие в сознание наблюдения и обобщения, когда уже в сумерках я осматривал в трофейный бинокль позиции немцев? Я заставляю солдат моего взвода собрать хворост, сложить его большими кучами, придавить крест накрест столбами, приготовленными саперами для опор ограждений. Рядом кладем подгнившую солому с разрушенной кровли, обливаем ее водой из вонючего полупересохшего болотца. Солдаты, ворча, подчиняются. Если Знахарь говорит, значит, надо делать. Иначе – себе дороже. Справа и слева от нас все уже спят в окопах и землянках. Прапорщикам Галиулину и Мануйлову по 22 года. Бородатые солдаты называют их «внучками» и воруют у них папиросы и конфеты. Галиулин уже почти полтора года на фронте. У него четыре ордена, два ранения и одна реактивная психопатия. Иногда ночью он выскакивает из землянки в одном белье и начинает из пистолета палить в небо, видя там несуществующие самолеты. Тогда ординарец или кто-то из подвернувшихся солдат обливают его грязной водой из ведра и плотно заворачивают в одеяло. Галиулин стихает, а утром помнит все так, как будто видел фильму в синематографе. Его давно надо отправить в тыл и лечить. Я мог бы это устроить. Галиулин угощает меня консервами и папиросами из офицерского пайка и почти униженно умоляет этого не делать: он уверен, что жить в тылу уже не сможет. Кажется, он прав. Сколько таких Галиулиных по обе стороны фронта?
Численность только русской армии чудовищна. 15 миллионов мобилизованных!
Мой сон в ту ночь бежал. Сижу, пишу при свете заранее припасенной свечи. Письмо от никого в никуда? (Арабажина нет на свете, он никому писать не может, а у Знахаря во внешнем мире просто нет знакомцев-адресатов). Дневник?
Справа в окопах какой-то шум, топот, звяканье котелков… Немцы? Нет криков, нет выстрелов. И вдруг – сладкая удушливая волна. Соображаю мгновенно и первое желание – заорать во всю глотку. Давлю его, потому что понимаю прекрасно: один вопль с сопровождающим его гиперкомпенсационным вдохом, и дальше я уж никому ничем пригодиться не сумею. Затаив дыхание, нащупываю маску и пузырек в кармане шинели. Прежде, чем натянул, слышу дикий крик справа: «Га-азы! Ма-аски-и!» Кричит, кажется, Мануйлов. У офицеров противогазы Зелинского-Кумманта, но в них нельзя кричать. Мальчишка!
Зажигаю дымовую шашку, бросаю на пол, выскакиваю из окопа, оборачиваюсь влево, прижав к лицу мокрую маску, кричу: «Маски! Поджигай хворост по всей линии! Всем к кострам!»
Справа последовательно взлетают три красные ракеты.
Я поджигаю хворост у ближайшего ко мне костра, ложусь.
Газ поднимается теплом и дымом, уходит в тыл.
Рядом со мной, головами к костру, лежат солдаты моего взвода.
– «Каинов дым» – говорит один из них. Так называют отравляющие газы в «Памятке солдату», которую я недавно читал им вслух (в моем взводе треть солдат неграмотны, а «памятка» – почти две страницы текста)
– Знахарь, я пузырек потерял, а воды нет.
– Помочись на маску.
– Так вонять же будет.
– Вонючий, зато живой-здоровый. Потом отмоешься.
Смеются, зубы блестят сквозь бороды.
– Я маску потерял. Как все побежали, не знаю, куда она, стерва, подевалась.
– Держись костра, если придется уйти, бери с собой сырую солому, дыши через нее, поверх замотай голову полотенцем, башлыком.
Когда рассвело, стало видно, как идут газы. Не сплошной стеной, а разорванными клубами. Каждый участок шириной восемь-десять сажен. Из желтого клуба, как черные шевелящиеся гидры, торчат ветви деревьев.
Ветерок тихий, газ движется медленно.
Отойдешь вправо или влево – и газ пройдет мимо. Уже не страшно и солдаты сразу начинают дурачиться: смеются, толкают друг друга в клубы газа.
В бинокль видно, как немцы выпускают газ. Зрелище мерзкое. По-видимому, это вижу не только я.
– Ого-онь! – орет неуемный Галиулин.
Стрелков мало. Я вижу мертвых людей и людей, корчащихся от рвоты. На тряпках, которые они прижимают к лицу, алая кровь.
У немцев на позициях играют рожки – отбой газовой атаки.
Несколько солдат с непокрытыми головами стоят над мертвым Мануйловым. «Как же это ты, внучек?!» – бормочет кто-то. Рядом валяется на земле, рыдает и царапает землю ногтями молодой солдатик из недоучившихся студентов – Мануйлов отдал ему свой противогаз.
– Когда же кончится это издевательство над людьми?!! Где Бог? Где Бог, я вас спрашиваю?!! – кто-то кричит и топчет свою шапку. Прочие выжившие даже не оборачиваются в его сторону.
– Не ходить за водой на болото! Там в низине – газ! Воду из реки и колодца – обязательно кипятить или отстаивать несколько часов! Она отравлена! – мой голос похож на лай злой собаки, я сам это слышу.
Сейчас в лазарете будет много работы. Помощь Знахаря понадобится там. Иду медленно, иногда останавливаюсь кашлять: мокрые маски – редкостное дерьмо, но хорошо, что есть хотя бы они.
Трава вдоль дороги местами пожелтела, клеверное поле погибло. На дороге валяются мертвые воробьи, среди них – жаворонок. Зачем-то поднимаю его, отношу и укладываю на выкаченный с поля камень. Маленькое тельце еще не успело остыть, клювик раскрыт.
Над лазаретом развевается большой флаг с красным крестом.
Рядом, за забором – артиллерийский склад. Командиры надеются, что немцы не будут кидать бомбы в лазарет. Я-то еще из прошлой жизни знаю, что надеются напрасно. Кто кого обманет.
Снарядов теперь достаточно. Но воевать уже никто не хочет.
Часть персонифицированных во мне страхов не имеет ко мне никакого отношения. Страх смерти – в основе всего.
Люди так быстро наклоняют головы, уворачиваясь от пули или пугаясь взрыва, что сами ломают себе шейные позвонки и умирают. (Исторический факт, впервые документально зафиксированный медиками именно в Первую мировую войну – прим. авт.)
Я придумал, как лечить истерические параличи. Говорят, моя методика распространилась по всему фронту. Проще простого: практика по хирургии на четвертом курсе. Эфирный наркоз, первый этап – возбуждение. Начинает брыкаться ногами. Здоров, готов в строй, в атаку.
Меня ненавидят, один раз даже караулили, пытались убить или покалечить. Вестовой покойного Мануйлова вовремя предупредил.
Как дети. Когда нет боя и смерти – играют.
Солдатская игра «вшанка». Берут кусок фанеры, чертят на нем круг углем. Делают ставки. Каждый снимает с себя вошь, сажает ее в центр круга. Чья вошь первой выползла за круг – тот и победитель.
«Куда смотрит Бог?!»
Бог никуда не смотрит. Его нет. Закончить войну могут только сами люди.
Глава 31. В которой Люша бьет бутылки, боевой офицер плачет, а Марыся пытается спасти от разорения усадьбу Торбеево.
Марыся спрыгнула с саней еще до того, как лошадь встала, и побежала к ступеням по расчищенной дорожке. Алексеевский крестьянин-возница радостно осклабился и прицокнул языком ей вслед – в розовом пальто, отделанном белым кроликом и красным атласом, в розовой же шляпке с оранжевым пером, полячка была похожа на Жар-птицу из русских сказок.
– Не могла заране предупредить? – попеняла Люша подруге. – Зря я, что ли, за земский телефон плачу?
– Не хотела, – отрезала Марыся. – Али так мне не рада?
– Не пори ерунду! Есть новости?
– Две. Одна тебе, должно быть, понравится, а другая уж и не знаю, как… С которой начать?
Они сидели в угловой комнате, которая еще при Наталии Александровне – давным-давно покойной первой жене Люшиного отца – называлась музыкальной. Прежде здесь стоял рояль, а теперь – изящное пианино грушевого дерева, с подсвечниками в виде изогнутых лоз. В его полированном боку отражалась горка яблок на блюде и узкая бутылка мозельского. Светлое вино, разлитое в стаканы, вспыхивало радостными искрами.
– С той, которая точно понравится, – усмехнулась Люша. – Хорошего-то каждому охота.
– Скоро революция будет! Вот! – вытаращив зеленые глаза, выпалила Марыся.
– Гм-м… – Люша задумалась. – А у тебя-то откуда верные сведения могут быть? Ты в партию какую, что ли, вступила?
– Глаза у меня есть и голова к ним – того достаточно, – отрезала Марыся. – Ты в деревне живешь, а я-то – в Первопрестольной. Очереди за хлебом и бакалеей засветло стоят. Все вздорожало в разы. Сахар по карточкам, муки пшеничной не хватает. В Петрограде, люди говорят, все то же. Поезда ходят через пень колоду, все эшелонами забито. Солдаты с фронта бегут. Лавки уже громить начали… Ничего тебе не напоминает?
– А с чего ты взяла, что мне все это понравится?
Теперь задумалась, покусывая розовый ноготь, Марыся.
– Ну ты же у нас в прошлый раз революционерка была. И Арабажин твой… Хотя теперь-то ты помещица выходишь…
– Да, – кивнула Люша. – А ты – трактирщица, и революция нам обеим вроде как не с руки. Но может обойдется еще… А что же вторая новость?
Марыся опустила взгляд и по-девчачьи ковырнула пол носком прюнелевого ботинка.
– Замуж я вышла…
– Опаньки! – Люша присела, словно готовясь к прыжку, потом пружинно распрямилась и протанцевала по гостиной замысловатый агрессивный пируэт. – Вот это да! А какого же хрена ты, сволочь, меня на свадьбу не пригласила?
– Да что я тебя, не знаю, что ли?! – в тон окрысилась Марыся. – Ведь ты бы, дура настойчивая, сразу взялась докапываться, и, того гляди, испортила бы мне все…
– Точно так, – согласно кивнула Люша. – А кто же у нас муж?
– Да письмоводитель, я тебе как-то рассказывала о нем.
– Ага, стало быть, письмоводитель. А теперь объясни внятно: зачем оно тебе сдалось?
Марыся опять немного помолчала, покусывая чуть припухшие губы.
– Ребеночка я жду.
– Так… Так… Так… – Люша энергично продолжила танец, потом, давая еще один выход чувствам, села за пианино и взяла подряд несколько бравурных аккордов.
Марыся с удовольствием, отхлебывая вино из высокого стакана, наблюдала за подругой – она знала о Люшиной предвоенной карьере танцовщицы, но собственно танцующей видела ее крайне редко. Уверенные, упруго-совершенные, отчетливо говорящие движения молодой женщины притягивали взгляд и завораживали полячку.
– Кто отец? – сбросив кисти с клавиатуры на колени, спросила Люша.
– Валентин Юрьевич.
– Ага. Он знает?
– Нет, конечно. А ты что, думаешь, мне надобно ему сообщить? Так боюсь я…
– Да. Нет. Да, тут надо очень хорошо подумать, все взвесить, – важно закивала Люша. – Это не сейчас. Сейчас – вот! – Люша вскочила, отняла у Марыси почти пустой стакан с вином и швырнула его на пол. Потом сгребла со столика бутылку и разбила ее об круглую крутящуюся табуретку. Осколки полетели под пианино и бильярдный стол.
– Ты чего, опять рехнулась, что ли?!! – испуганно взвизгнула Марыся, отпрыгивая к двери.
– Не, – спокойно кладя бутылочное горлышко на подоконник, сказала Люша. – Я в порядке. А коли ты беременна, так тебе спиртное пить нельзя. Ни капли. Алкоголь для плода – яд. Так отец Валентина сказал. А коли не веришь, я тебя нынче же с Германом познакомлю, убедишься вполне… Ты теперь иди, располагайся, отдыхай, ванну прими, я насчет твоих любимых пирожков уже распорядилась, сейчас там Лукерья всех убьет и спечет немедля… Коли еще в чем надобность возникнет, так зови Настю или Феклушу. А мне… мне тут нужно кое-чего… я после к тебе зайду, если ты почивать не будешь…
И унеслась куда-то, как дух Синей Птицы, легкая и обманчиво хрупкая. Марыся повела плечами – то ли зябко, то ли сладко. Острый винный дух колол ноздри, и воздух тихо гудел, как туго натянутый электрический провод.
* * *
Темношерстной куницей промчавшись по лестнице в библиотеку, Люша схватила лист бумаги, чернильницу, перо, прыгнула с ногами на важный диван, причудливо, по-куньи же изогнулась, водрузив письменные принадлежности и локти на рядом стоящий журнальный столик, и принялась быстро писать, скорее даже рисовать буквы своим крупным, но нечетким почерком. Губы ее кривила улыбка, глаза задорно блестели, чернильный локон падал на нос и она, не прерывая своего дела, выдвинув вперед нижнюю губу, то и дело сдувала его в сторону. «Если бы у меня был хвостик, – мимоходом подумала Люша, с детства осознававшая некоторую «зверушестость» своего облика. – Я бы им сейчас возбужденно помахивала… Но мне хвостика, увы, не досталось, только Владимиру…А забавно бы было, только я пушистый хочу…»
«Валя, Валька, Валентин, зайчик лопоухий! – писала Люша. – Радуйся, радуйся, стучи лапками в барабан, с которым ассоциирует тебя испуганное воображение твоего милого отца, Юрия Даниловича. Я говорила ли тебе, что вы с ним с годами сделались одуряюще, просто глупо похожи? Еще когда мы с тобой встретились в Варшаве, мне все казалось, что ты на кого-то мне хорошо знакомого смахиваешь, но там я сообразить не сумела – мундир военный, должно быть, мешал. А нынче! – эти складки вдоль носа, и брови, и лоб, и пальцы длинные и ровные, как палочки, и торчащие вверх и в стороны огромные уши, и манера складывать домиком ладони, и утишать голос, когда волнуетесь… Прыгай, стучи, зайчик мой, – все ваши складочки и ушки передадутся дальше, в мир незнаемый, потому что моя Марыська нынче ждет от тебя ребеночка! И только посмей мне сказать, что ты не рад – я тебе самолично глаза выцарапаю!
Я уж думала с трескучей сухой печалью, что Марыськин розан пустоцветом засохнет среди трактирных будней, и маслом прогорклым и подгоревшей кашей из обжорки мне от тех мыслей в нос шибало. Ан врешь, не возьмешь нашу хитровскую породу! Нашла-таки Марысенька свой идеал – тебя, Валечка! Мне нынче от радости хочется танцевать, как когда-то, голой, можно даже на столе, да негде – в Европе война, да и «Стрельну», ресторан мой с цыганами, закрыли – там нынче госпиталь. Но с последнего мне не только убыль, но и прибыток вышел – Глэдис Макдауэлл (моя первая эстрадная учительница) у меня в Синих Ключах до весны (весной ресторан обещают обратно открыть) живет и от скуки усадебную ребячью стаю всяческими штуками развлекает. Кашпарека нашего (темный, злой, с куклой) помнишь? Так вот Глэдис даже к нему какой-то подход нашла, и порою длинные разговоры ведет…
Юрию Даниловичу и жене своей малахольной Монике Станиславовне передавай привет и пусть она не печалится: в общем-то, оно все по-правильному выходит – ребеночек получится как раз наполовину поляк, отец у него правильный и польского деда Станиславом звали!
Осторожней там, на войне, там ведь, знаешь ли, бывает, что убивают.
Я не хочу, чтоб тебя убили, Валя, и сей же день давно мною прикормленному попу, отцу Флегонту денег дам, чтобы он за вас всех (с нерожденным младенчиком) молился и всякое потребное по этой части делал. Вдруг оно и вправду помогает?
Шлю тысячу горячих поцелуев.Люша Розанова* * *
– Все плохо, Люшенька…
– Что, Катиш, что?! Что-то дурное с Иваном Карповичем?
– Нет-нет, он все так же, смотрит на птиц и плачет…
– ?!
– Он нынче легко плачет: но не как человек, а как сыр. Сыр со слезой. И в лице у него что-то сырное – мягкое и жирное одновременно…
– Катиш, Катиш… Объясните же мне! Это меланхолия?
Марыся сидела за столом, смотрела и слушала внимательно, ела пирожки. После того, как Люша решительно запретила ей пить вино, полячка поглощала свежую выпечку в каких-то прямо пугающих количествах. Лукерья не могла нарадоваться гостье.
В углу комнаты под присмотром Груни Агафон играл с Варечкой. На пестром тряпичном коврике мальчик строил башенки и воротики из гладко обтесанных деревянных чурочек, а Варечка с глупым счастливым смехом рушила их.
– Милая Люша, наверное, я просто устала и запуталась. Иван Карпович ничего не может мне подсказать. Илья Кондратьевич совсем состарился и живет в каких-то своих мирах. Все вздорожало. Крестьяне обманывают, воруют где только можно, а потом еще требуют платы за работу вдвое больше той, о которой условились. Торбеевский староста – только представь! – выучил слово «инфляция». Да еще бывший управляющий, которого я выгнала, везде, где только можно, строит мне козни, строчит доносы…
– Доносы?! В каком же это смысле?
– Егор…
– Тот самый, с которым вы тогда приезжали? Он разве все еще здесь?
– Приезжает… иногда… Люша, я всего лишь бывшая танцовщица, я ничему больше не училась… Наверное, мне придется продать Торбеево… Есть один покупатель, калужский подрядчик из новых, но он предлагает так мало денег, и мне кажется, что в сговоре с тем же управляющим… Обманет… А если и нет, то на что же мы станем дальше жить? Деньги ведь обесцениваются с каждым днем… Найти другого покупателя? Но как это устроить, и, главное, что мне делать потом со всеми моими стариками? Переезжать в Москву?
– Ни в коем случае, – твердо, хотя и не слишком внятно (из-за недожеванного пирожка за щекой) сказала Марыся. – Я сама-то из Первопрестольной, а теперь тут у вас поглядела и скажу доподлинно: нельзя сейчас в город из деревни, от своего хозяйства, переезжать. Нынче в городе еще сохраняется какой-то порядок, но уже в следующую минуту, я чую, все стронется с места, перемешается, как варево в кипящем котле. Вы со стариками в том котле зараз первыми и пропадете…
– Но как же мне поступить? Откуда взять денег? Надо хоть проценты залога выплатить, потом весной людей нанять и до нового урожая дожить. Про дом я уж и не говорю…
– Екатерина Алексеевна, поехали сейчас же к вам! – решительно сказала Марыся, поднимаясь с козетки. – Посмотрим все на месте, может, что-то и придумаем.
– Ну и я поеду, – кивнула Люша. – Ивана Карповича с Ильей Кондратьевичем навещу. Варечка, хочешь много птичек поглядеть? Грунька, поехали, собирай ее, заодно с сестрой повидаешься, которая в Торбеево служит.
– А я? А я? – подпрыгнул Агафон. – Я – птичек! А Володьку не возьмем…
– Да я хоть сейчас у амбара столько птичек соберу, – презрительно заметил Владимир, внезапно обнаружившийся за тяжелыми оконными шторами, – что они тебе всю твою дурацкую башку засрут…
Агафон схватил самую большую чурочку и запустил во Владимира. Мальчик насмешливо замяукал и спрятался за шторой. Варечка поняла предложенную Агафоном игру и начала ловко обстреливать Груню чурочками поменьше. Из-за второй занавески испуганно порскнул большой полосатый кот. Агафон побледнел (ему показалось, что Владимир перекинулся котом), скрестил пальцы и принялся вслух молиться.
Все заклубилось.
Катиш взглянула на молодых женщин с осторожной надеждой.
* * *
Дорогая Любовь Николаевна! Милая Люша!
Каждая (даже заочная, через письмо) встреча с Вами буквально переворачивает мою жизнь.
Как тогда в Варшаве, когда Ваше искусство совершенно заворожило меня, и я готов был бросить все и мчаться за Вами в Париж в числе прочих Ваших поклонников.
И потом, когда я отнюдь не вдруг узнал Вас в светской замужней даме, к тому же давней знакомой моего отца.
И после – Ваше любезное приглашение и три недели в великолепных Синих Ключах, где, среди тонко волнующей природы, я словно бы получил ключ к самому себе.
И наконец теперь, когда от Вас же я узнал…
Я боевой офицер, но мне не стыдно слез на моих глазах.
Моя жена никогда не сможет родить, и я с этим, как я думал, смирился, но лишь сейчас понял, что это был самообман. Я зрелый мужчина и страстно хочу продолжить, передать дальше, но не только складочки и оттопыренные уши, о которых Вы так мило изволили упомянуть… Я хотел бы действенно передать своему ребенку (о, если бы Господу было угодно послать мне мальчика!) всю свою любовь и все силы и находки моей жизни… Дорогая Любовь Николаевна, осмелюсь спросить Вас и положиться на суждение Ваше, как человека, знакомого с чудесной Марией Станиславовной многие годы: как и что мне должно теперь сделать? Я женат католическим браком (я верую и почитаю Творца в единстве Его, а для моей жены и ее семьи очень важны были конфессиональные тонкости), развод в нем весьма труден, но не невозможен в принципе. Следует ли мне задуматься в этом направлении? В какое время и каким образом я мог бы писать непосредственно Марии Станиславовне? Она не сочла нужным известить меня, и я могу лишь печально догадываться о причинах сего. Не пусты ли мои упования?
Все лучшее во мне говорит, что я должен немедля стать надеждой и опорой Марии Станиславовне и нашему ребенку…
Но идет безжалостная и бесчеловечная война, в которой я – самый непосредственный участник, и все человеческие и даже Божьи установления разделяют меня и мое светозарное счастье. Однако верьте, Люша, теперь, когда я так бесконечно усилен и осиян Вашим письмом, меня ничто не остановит, и я найду способ…»
«Валентин, во-первых, успокойся и не мечись, как мартовский заяц на лунной поляне.
Марыська (как и я сама) не из тех людей, которые ищут «надежду и опору» где-то снаружи от себя. Только в себе.
Если что-то снаружи ее не устраивает, она тут же меняет это так, как ей потребно.
Вот тебе свежий пример. Знаешь песню про дуб и рябину? «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина… Но нельзя рябине к дубу перебраться…» – и все такое. Так вот у нас в Синей Птице и в деревне часто ее поют. Марыся слушала, слушала, потом говорит:
– Знаешь, Люшка, хорошая песня, но что-то мне конец не нравится, безнадежно как-то, я по-другому сочинила.
И вот, в следующий раз, когда все пропели, Марыська одна дальше голосит:
– Но однажды ночью
Страшный треск раздался -
Это дуб к рябине
Все же пе-еребра-а-ался!!!
Как тебе? У нас теперь, после ее отъезда, только так и поют.
Уезжала она в Москву, соскучившись за своим трактиром, на двух санях и одной волокуше. И не потому это, что всем приспичило в Алексеевку ехать ее провожать. Я только провожала, да Екатерина Алексеевна из Торбеево. Просто в Москве, как ты знаешь, нынче дороговизна страшная, и уж наша Марысенька не упустила своего, отоварилась по случаю в деревне по полной. Одних яблоков, груши и вишни сушеных увезла четыре мешка. Я говорю: Марыська, зачем тебе столько?! А она: нешто ты, Люшка, как знатный борец за трезвость (я ей из-за беременности алкоголь по рекомендации отца твоего пить запретила), не знаешь, что как война началась, не только монопольки (В России несколько раз вводилась государственная монополия на торговлю крепкими спиртными напитками. Действовала она и в предвоенные годы. Лавки, где торговали водкой, так и называли в народе – монополии, или монопольки. С началом войны эти лавки были закрыты, торговля спиртным запрещена – прим. авт.) позакрывали, но и спиртное в трактирах подавать запретили? Я ей: и причем же тут груши и яблоки? Неужто те, кто шампанское с коньяком привык за обедом пить, на компот согласятся? Она мне: коньяк мы теперь в чайниках подаем, как во всех других порядочных заведениях, а к нам-то за другим идут. За десертом. Повар-то у меня француз или где? Я: скорее «или где», да в чем же дело? Марыська: а в том, что готовит он на десерт французское блюдо «маседуан» (смесь фруктов, свежих или бланшированных, политая спиртом или вином – прим. авт). И так вкусно у него выходит, что некоторые по три порции зараз берут…
А окромя того еще крупа, мука, картошка, свекла, соленья, грибы сушеные, копченья, сало, яйца и еще бог весть чего в деревне накупила. Гордая панночка – я б ей и так дала, да вишь, не захотела.
Лимонов, что у нас в оранжерее растут, коробку всучила, их нынче в Москве ни за какие деньги не достать, велела чай пить, обещалась, дак ведь соврала, небось, все в трактир пойдет – в этот же маседуан. Жадная она, Марыська, до прибыли, своего нигде не упустит, этого не отнять.
И еще.
Моя знакомая Екатерина Алексеевна в соседнем имении запуталась с делами совсем. Старики у нее на руках – муж старый после удара в кресле сидит, да приемный отец-художник, уж вовсе не от мира сего. Слуги все дряхлые, не выгонишь и не спросишь с них, дом и службы ремонта требует, крестьяне и всякая мелкая чиновничья сволочь наглеют, ее слабость чуя. А тут еще старый знакомец, левый эсер-террорист (годами сравнительно с ней молодой) объявился, и сделался теперь, как я понимаю, любовником, которому, быть может, тоже деньги нужны на какие-нибудь революционные дела.
В общем Марыся все изучила и взялась ей помочь. Чтоб ты думал – на волокуше? Сундуки, а в них картины старого художника Сорокина (он из торбеевских крепостных еще, но, как я знаю, в Академии сколько-то учился) и всякие древние платья и аксессуары, которые остались от моей… ну я даже не знаю, как правильно сказать… в общем от первой жены моего отца (а для художника Ильи Кондратьевича она была любовью всей его жизни). Мы с Катиш Марысе все это с чердаков отдали, чихая и недоумевая: за каким чертом тебе за эту рухлядь пополам с молью живые деньги платить? А она говорит: я надеюсь, Екатерина Алексеевна, что это только начало, и потом я вам еще немало заплатить сумею. Дело, дескать, в том, что нынче в столицах настали последние дни старого мира (Марыська уверена, что скоро будет революция), и потому все идет вверх дном и вразнос. На военных подрядах многие ничтожные люди разбогатели несметно и неправедно, и из своего ничтожества тянутся ко всему старинному, роскошному и как бы аристократическому. А на роскошь нынче всякие запреты и реквизиции. И вот, у нее, Марыси, есть знакомая портниха, которая из этих старых платьев, шляпок, кружев, бус, поясков, воротничков и прочего сделает такие конфеты в коробке, что жены этих новых богатеев просто удавятся, в драку полезут и назначенные деньги отдадут. А, кроме того, эти же люди, что к Марысе в трактир ходят, изображают из себя знатоков искусства и скупают его, друг перед другом чинясь, по любой цене. Вот им-то и предназначаются картины Ильи Кондратьевича, которые, кстати сказать, сами по себе очень неплохи и в отличие от многого современного искусства понятны (аллея похожа на аллею, а играющие дети – именно на детей, а не на лиловые кубики с красными глазами). Я, когда маленькая была, один из его портретов отцовой жены даже за икону держала, а нынче мы все, что было, отдали Марыське, а бедный Илья Кондратьевич, кажется, даже и не заметил…
Впрочем, зайчик Валентин, не буду дальше увешивать лапшой твои пушистые серые ухи. Марыся, ни на что не надеясь и нимало не дожидаясь, пока ты определишься с Моникой и католицизмом, уже все решила и вышла замуж за какого-то незаметного и давно бывшего при ней человечка. Характер у него, как я поняла, слабый и добрый, Марыську он любит, а ребеночка, который уж через пару месяцев должен родиться, признает за своего. Это ее решение, Валя.
Не плачь теперь, никого не проклинай, и не лезь под пули. Взгляни на меня. Уж я-то на своей шкуре доподлинно знаю: жизнь порой может обернуться вокруг себя так, что и в бреду не представишь. Вполне может сложиться, что ты им еще очень даже понадобишься. Обоим. Держи себя в руках и помни, что я люблю тебя, зайчик мой опереточный. Все возможно. Я же, видишь, держусь – и ничего.
Целую тебя Люша Розанова.Глава 32. В которой погибает авиатор Рудольф Леттер, а Люша мечтает о полетах
«Дорогой Серж!
Ты знаешь, я не люблю отвлеченных умствований – но мысль, которая засела мне в голову, хоть и банальна, все же важна. А для нас с тобой так и очень важна – потому что мы о подобных вещах, согласись, никогда не задумывались. Мы просто жили, и жили безобразно… нет-нет, не жди моралей – моя нынешняя жизнь, благодаря которой я, собственно, это и понял (хоть я и летаю, и счастлив поэтому) – едва ли меньше безобразна. Потому что это война! Как хорошо, что ты ее не видишь. Оттого я и рад нашей ссоре… Однако – вот теперь послушай. Если рождаются дети… если Господь позволяет им рождаться… Ты понимаешь?..»
Письмо осталось незаконченным и теперь лежало в планшете, вместе с тоненьким золоченым карандашом, который Рудольфу когда-то подарил все тот же Серж. Руди просто не знал, как его закончить. Он вообще не знал, как отнестись к факту существования этого ребенка и в письме скорее убеждал самого себя.
А поскольку с убеждениями любого рода у Руди Леттера дела всегда обстояли неважно, то, видимо, и пытаться не стоило. Да, он боялся… он ужасно боялся за жизнь этого червячка там, далеко в Москве или в Петрограде… где они сейчас? – и хотел сказать Сержу, чтобы уж постарался, ведь они оба, черт возьми, отцы…
Не успел.
Он был уверен, что отпуск дадут, учтя боевые заслуги – но не тут-то было. На фронте готовились к большому наступлению. Это была, конечно, тайна – но не для летчиков, которые каждый день отправлялись фотографировать позиции неприятеля. С Рудольфом летал угрюмый штабной майор, присланный специально для исполнения секретного задания. Он почти не разговаривал ни с кем из отряда и наверняка не отличил бы лонжерон от элерона – но в воздухе держался хорошо и замечательно управлялся как со съемочной техникой, так и с пулеметом.
Хуже другое – этот тип, не нюхавший неба, в полете считался командиром и имел право приказывать – ему, асу!
Вот он и приказал. На самом деле Рудольф мог бы не подчиниться, но…
Колючий ветер доставал то справа, то слева – а внизу он сдувал сухой снег с просторных пологих склонов, обнажая длинные полосы темной каменистой земли. Черно-белый пейзаж, будто расчерченная тушью диспозиция на карте. Размытые пятна голых рощиц нарушали геометрию; впереди, в широком распадке, темнели сосны и на их фоне кучкой грязноватого хлама – палатки, строения… деревянная вышка в стороне… Сквозь гул ветра и треск механизма Руди слышал, как майор за спиной возится со своей фотокамерой – снимает и снимает, он еще не сделал всего намеченного, а надо было уже возвращаться, топлива осталось только-только вернуться. Это если чертов «Фоккер» опять не выскочит прямо из тучи!
Мешающего обзору солнца не было – ясный белесый простор, облака слишком высокие, чтобы помешать полету. И серой жестянке, исчерченной крестами – черными на белом – конечно, совершенно неоткуда было выскакивать. Этот «Фоккер» появился в январе и успел за недолгое время погубить три истребителя – пока до пилотов не дошло, что от этого черта надо удирать, а не меряться силой…
Ну что, пора? В который раз он спросил, в пятый или в шестой? Но теперь майор подал сигнал: пора! – и стрекозка на широком развороте набрала высоту. Ветер швырнул Рудольфу в лицо ворох жгучей ледяной изморози – на миг он ослеп, а когда прозрел, впереди слева оказалось неуклюжее летающее нечто… и это, конечно, был проклятый «Фоккер».
К счастью, он был еще далеко. Но приближался быстро… слишком быстро для жестянки всего с одной парой крыльев. И по прямой не удерешь – поймал на вираже, как раз со стороны наших позиций… вот что он там делал? Кого уничтожил на этот раз? Эх, давно бы двинуть ему по крестам!..
Сзади послышалось резкое движение – это майор взлетел к пулемету, очередь прошила воздух… зачем?! Далеко же! Майор и сам видел, что далеко, и подал нетерпеливый сигнал пилоту: давай! Сближайся!
«Он, что, идиот?..»
Да нет, какое там. Просто и ему, как всем, надоел этот наглый немец – а его правда совсем нельзя подстрелить?
Ага, на беззащитном «Вуазене», который вспыхнет, как лучина, от одной пули, попади она в бензобак!
«Ничего ему не надоело – просто славы хочет, штабной придурок… А фотографии, значит, псу под хвост. Вот кто бы мог подумать? Опьянел от высоты?»
«Да сближайся, тебе говорят! Струсил?!»
«Кто струсил, я?!»
Руди заорал вслух – и был уверен, что слышит, как точно так же яростно орет майор. На самом деле это ветер гудел в ушах и стрекотал мотор – а потом все звуки вытеснил пулемет. Они все-таки приблизились к немцу – аккуратно, на одну очередь, а потом – резко в сторону, стрекозка сумеет, она все может!
Конечно, она сумела. Очередь из «льюиса» прошила серое крыло с крестами, и «Фоккер» сразу дал резкий крен, а затем, ниже, вспыхнул огненным цветком. «Вуазен», будто танцуя, обогнул его по широкой дуге – он был куда маневреннее, и вот, оказывается, что надо было делать с самого начала!
Но почему молчит майор?
И что это влажное и теплое как будто бы течет по шее?
Надо скорее возвращаться…
Раненный Рудольф Леттер, собрав все силы, дотянул-таки до своего аэродрома и скончался на следующий день в окружении восхищенных его подвигом и благодарных боевых товарищей.
Орден Святого Владимира 4‑й ст. с мечами и бантом, французский «Военный крест» с двумя пальмами и планшет с незаконченным письмом передали семье.
Сережа Бартенев, узнав о смерти Леттера из газеты, рыдал три дня, потом пил неделю, потом еще десять дней страдал от печеночной колики и наконец твердо постановил себе посетить могилу Руди, где бы она ни находилась, и поставить там прекрасный памятник белого мрамора, увековечивающий Любовь. Рисунок памятника прикидывали вместе с великим князем, который все время страданий неотступно находился рядом с другом и самоотверженно его поддерживал всеми доступными ему способами.
* * *
Снег уютно поскрипывал под ногами. В заснеженных кустах боярышника мелькали алые грудки снегирей.
– А что же говорит Александр? – Надя Коковцева подняла слегка побитый молью воротник пальто и спрятала в него покрасневший от холода нос.
– Он говорит, что мой приезд вдохнул в него силы для новой жизни. И это правда.
– Но тебя в этом что-то не устраивает?
– Всего лишь то, что его «новая жизнь» не имеет ко мне ровным счетом никакого отношения. Только представь: в Александре Кантакузине (!!) внезапно проснулся общественный темперамент. Он сделался активным деятелем Земгора, организует каких-то кустарей в помощь фронту, выступает в уездном и губернском комитетах, по вечерам пишет тексты своих будущих речей и докладов…
– Земгор? Крупная буржуазия и обуржуазившиеся помещики? Масоны во главе с князем Львовым? Да, согласна, это не лучший выбор. Сейчас, когда преступный и антинародный характер этой войны становится все более явным для рабочей и крестьянской массы…
– Надя, мне плевать на политическую платформу Земгора! – Юлия раздраженно крутила в руках горностаевую муфту. – Пойми, мне хочется очень простой вещи: я осмеливаюсь желать, чтобы хоть кто-то ценил меня ради меня самой, а не рассматривал Юлию Бартеневу в качестве ступени развития своей индивидуальности или как ключ к разрешению каких-то своих личных проблем…
– Джуля, поверь, мне тебя очень жаль, но рассуди здраво: разве ты сама не относилась всегда к людям именно так, как только что описала?
Взрезая полозьями снежную пыль, по расчищенной и утоптанной парковой дорожке мимо подруг пронеслись диковинные Атины санки с запряженными в них тремя рослыми псами. Атя, стоя на запятках саней, диковато и весело поблескивала глазами. Следом бежали еще две собаки и трое деревенских мальчишек – в валенках и армяках. На некотором расстоянии сзади трусил похожий на мохнатый бочонок пони Черныш, на котором восседал Ботя.
– Какие чудесные! – рассмеялась Надя.
– Дикость, – пожала плечами Юлия. – Блоковские скифы с «раскосыми и жадными очами»… Да, да, да, Надя, вполне может быть, что я безумна в своих ожиданиях. Но все эти надежды и разочарования кругом меня, связанные с рождением Германа, просто оказались последней каплей…
– Я это понимаю. Но ведь именно Александр предоставил тебе убежище от всего этого…
– Надя, скажу тебе честно: в Синие Ключи меня позвала Люба. Это была чисто ее инициатива. Александру даже в голову такое не пришло, он сам мне в этом признался.
– Ничего себе…
– Как ты понимаешь, я тоже не в восторге. Но это так, и надо иметь мужество смотреть правде в глаза. В Синих Ключах Герман явно окреп и поправился, да и я чувствую себя в общем-то неплохо. Любу я почти не вижу (благо размер дома и парка это позволяет), а Александр, надо признать, со мной очень мил…
– Джуля, всем известно, что именно ты всегда пробуждала в его в общем-то вялой душе сильные чувства. Видишь, теперь он благодаря тебе занялся общественной деятельностью. В принципе, ты могла бы стать его соратницей… Я, кстати, не раз видела в среде товарищей такие случаи, когда любовная связь между женщиной и мужчиной приводила второго члена пары (даже и из буржуазных или аристократических классов) к пониманию сущности исторических процессов, классовой борьбы и роли пролетариата в грядущих общественных преобразованиях…
– Любовная связь?! – Юлия резко остановилась, развернулась к Наде лицом и с силой швырнула муфту на дорожку. Всегда бледные щеки ее горели. – Да у меня нет с ним никакой любовной связи! И у его жены Любовь Николаевны – тоже нет! Александр Кантакузин спит со старой служанкой, с которой (как мне однажды, весело смеясь, рассказала Люба) спал еще Любин отец, Николай Павлович!
Надя ошеломленно поморгала короткими ресницами, потом молча наклонилась, подняла муфту и принялась с преувеличенной деловитостью отряхивать с нее снег.
Юлия сжимала и разжимала кулаки и глотала злые слезы, которые, если им все-таки удавалось пролиться, на морозе моментально высыхали и стягивали кожу вокруг глаз.
* * *
Снегирь перелетел с куста на куст, словно кто-то кинул красное, наливное яблочко. Молодая кобылка Белка сунулась мордой в кусты и отпрянула, наколовшись об шип, злая и обсыпанная сухой снежной пудрой. Люша натянула поводья, остановила гнедого конька-пятилетку и оборотилась к Глэдис Макдауэлл, которая ухватисто расположилась в седле на рыжем, бокастом мерине.
– Глэдис, отчего люди не летают? Это нечестно в конце концов. Если человек действительно царь природы, то ему должно либо летать, либо уж уметь жить в океане. Смотри, большинство тварей живут в трех измерениях: птицы и насекомые в воздухе, рыбы, улитки, всякие там раки – в воде, червячки, мышки, кроты – в земле. И только мы по плоскости ходим, как шахматы по доске…
– Крошка Люша, ты права, но мне уже не нужны эти три измерения. Моя прерия плоская как стол, но она – единственное, по чему я скучаю… Все остальное как будто бы в дымке…
– Не печалься, Глэдис, скоро откроют твой ресторан…
– И что тогда? Что я буду делать в нем? Зачем? Я забыла все причины… Помню только прерию на рассвете, этот оранжево-апельсиновый свет, я никогда не видела его в России… Наверное, это называется старость…
– Глэдис, Большая Глэдис, ты еще вовсе не старая!..
– Да, конечно, Крошка Люша, ты права, the Show must go on («представление должно продолжаться» (англ.) (подразумевается – любой ценой), девиз Бродвея, Глэдис – бывшая бродвейская актриса – прим. авт). Мы с тобой, каждая на свой лад, артисты. А для артиста грех и неуважение к играющей труппе уходить с середины представления. Должно досмотреть все до конца…
– Вон, смотри, у снежной крепости, – указала Люша. – Кашпарек и Оля. Кажется, они опять ругаются… Поедем к ним…
– С Кашпареком нельзя ругаться, – возразила Глэдис, тут же поймавшись на Люшину удочку и вглядываясь в напряженные силуэты дальнозоркими глазами. – Он у вас всегда молчит. За него говорит марионетка. А Оля – кроткая девочка.
– Эта Оля своей кротостью может довести до бешенства кого угодно…
Кашпарек в темном пальто, Оля в светленькой шубке – тьма и свет. Молчат, кажется, даже не смотрят друг на друга. Холод и сверкающий острый снег. Режущие края молодости – об них так легко пораниться, легче, чем об шипы в кустах. Люша не удивилась бы, увидев на снегу вместо снегирей капли алой крови.
– Кашпарек, Кашпарек! – закричала она. – Большая Глэдис потеряла все причины, и помнит только свою прерию, в которой ничего в сущности и нет. А я думаю, что человек – убогое создание, раз не может ни летать как птица, ни в море плавать, как рыба…
Кашпарек двинулся почти незаметно и марионетка голубым с лиловым пятном прыгнула на снег. Против обыкновения не стала дергаться и скакать, только провела рукой по лицу, словно стирая, утишая злую гримасу. После сказала звучно и весомо:
– Есть Бог, есть мир, они живут вовек, А жизнь людей мгновенна и убога Но все в себя вмещает человек Который любит мир и верит в Бога. (стихи Н.Гумилева – прим. авт.)«Господи, да он уже совсем взрослый, – подумала Люша. – Что с ним будет?»
– Люшика! Люшика! – Атя кубарем скатилась с санок прямо к ногам гнедого конька. Белка прянула назад и оскалила зубы. Псы коротко, по очереди взлаивали.
– Атька, что?! – черные глаза Кашпарека полыхнули какой-то сумасшедшей надеждой.
«Он все время ждет, – поняла Люша. – Ждет какой-нибудь опаляющей, преобразующей или разрушающей мир новости. Ему в общем-то все равно, что это будет. Но он надеется, что когда это все-таки случится, мир внутри его и мир снаружи наконец-то придут в равновесие. А пока его юность, его страсть сжирает его изнутри и он живет с постоянным ощущением разрывающей боли…»
Она наклонилась вперед и потрепала по шее конька, который все еще беспокоился из-за снующих вокруг собак.
– Люшика, бросай все и поскакали! Ты еще не знаешь – Сарайя вернулся! – торжествующе прокричала Атя.
Хозяйка Синих Ключей распрямилась в седле, медленно поднесла к губам холодную перчатку и осторожно, но сильно вцепилась в нее зубами.
* * *
Глава 33. В которой Максимилиан Лиховцев встречается со старыми знакомыми и рассказывает о своих фронтовых впечатлениях
Груня возвышалась за спиной Люши, как бастион. У ее ног, скомкав в кулаке подол юбки, упрямо насупясь, стоял маленький мальчик, черты лица которого отчего-то показались Максимилиану смутно знакомыми.
– Любовь Николаевна… Люша… я так рад вас… тебя видеть…
Он знал, что Агриппина глуха, но зачем она вообще здесь? И мальчик… Ему показалось, что Люша защищается от него. Он хотел видеть ее одну, говорить с ней наедине.
– Я тоже рада видеть тебя живым и здоровым. Верно ли я поняла, что ты бежал из австрийского плена?
– Да.
Он стоял посреди комнаты, наполненной сияющим снежным светом. От этого света комната казалась ненастоящей – со своими изразцами, зеркалом в резных кленовых листьев, чиппендейловским диваном, обитым блестящим полосатым сатином… как музейная экспозиция в витрине. Впрочем, возможно, музейным экспонатом, заключенным в сияющее стекло, был как раз он, Максимилиан Лиховцев.
– Забавно. У нас в усадьбе работают несколько пленных австрийских солдат. Разговаривая с ними, я вспомнила немецкий, которому меня учили в детстве. Для лучшего запоминания мой учитель обливал меня холодной водой…
Он не хотел ее детских воспоминаний. Не хотел светской беседы под внимательным, тяжелым взглядом двух пар глаз – матери и сына. Она, как всегда, уловила несказанное из воздуха и деловито спросила:
– Атя сказала, что ты в плену встретил нашего Степку? Так?
– Так, – кивнул Максимилиан. – Мы со Степаном вместе бежали из госпиталя для военнопленных.
– И что же? – Люша подалась вперед. – Где Степка теперь? Он жив?!
– Надеюсь, что да, – Макс пожал плечами. – Во всяком случае, когда мы с ним расстались в районе Луцка, он был жив и здоров. Мы решили пробираться через линию фронта поодиночке, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.
Груня и ребенок молча развернулись и вышли из комнаты – как будто линкор с канонеркой выполнили запланированный маневр.
Люша сжала руки перед грудью нервическим жестом из прошлого – он узнал его, и ему моментально стало жарко и тесно от воспоминаний. Хотелось открыть окно и глотнуть морозного воздуха. Стремясь в Синие Ключи изо всех сил, он как будто бы точно знал, что ей скажет. Куда же оно все подевалось? Или он собирался говорить с одной Любой, а его опять встретила – другая? Она всегда меняется, и никогда нельзя угадать, какую из ее ипостасей застанешь…
– Два месяца я шел пешком по миру, разоренному войной, и не было часа, в который я не вспоминал о тебе, – все же сказал он.
– Ага. Красиво, – деловито кивнула она и как будто загнула палец.
– Боже мой, Макс! – дверь распахнулась и вместе с клубом морозной свежести в комнату быстро вошла Юлия, а за ней – Надя Коковцева. – Ты жив, как я рада, ты перестал писать, все уже не знали, что думать, твои родители испереживались, мы с Алексом ездили их навещать…
– Юлия… Ты здесь?! Надя… – Максимилиан выглядел ошеломленным.
– Да-да, – рассмеялась Люша, и от ее жутковатого смеха у собравшихся побежали по спине мурашки. – Мы с Алексом пригласили Юлию Борисовну с сыном пожить в Синих Ключах…
– С сыном?
– Да. Господь наконец послал Юлии и князю Сереже наследника. Герман очарователен, ты обязательно познакомишься с ним…
– А где же Алекс? – Максимилиан поневоле ухватился за последний понятный ему мотив причудливой усадебной мозаики.
– Он уехал выступать на съезде Земгора, вернется, должно быть, к пятнице.
Юлия и Надя, невразумительно и радостно щебеча и явно желая прервать странную сцену, подхватили Макса под руки и забросали вопросами про войну, про плен, про побег. Глаза женщин блестели, щеки румянились с мороза, мех Юлиной шубки переливчато играл в солнечном луче, который бесцеремонно влез в окно комнаты и теперь медленно шарил по ней оранжевыми пальцами.
Люша сделала два шага назад и ушла в тень, мгновенно потеряв третье измерение и сделавшись почти декорацией, черно-белым рисунком. Этот ее жест он тоже немедленно вспомнил.
Она уступала его кузине и ее подруге.
Всегда, всем.
Это было обидно, потому что он отчетливо знал:
за то, что им было действительно нужно, и Люша Розанова, и Люба Осоргина неизменно сражались – решительно и бескомпромиссно.
* * *
– Подростком я пережил русский бунт. Тот самый, о котором говорил классик, – бессмысленный и беспощадный. Мой опекун погиб от рук крестьян, наш дом сгорел. На мои плечи легло все порушенное огнем и бунтом хозяйство. С тех пор я тесно общаюсь с крестьянами и поневоле знаю их мировидение, их нужды и все уловки, на которые они готовы идти и идут ради их удовлетворения…
В окна наискосок светило низкое зимнее солнце, и тени от деревянных, выкрашенных белой краской колонн полосами ложились на массивные стулья и сидящих людей.
Люди в зале собрались все больше солидные – в добротных, пошитых на заказ недурными портными костюмах, с массивными серебряными, а то и золотыми брегетами в карманах жилетов, туго обтянувших не впалые животы.
Докладчика слушали внимательно. В зале губернского дворянского собрания не слышно было обычного бормотания и гула, который всегда сопровождает скучные, даже если и дельные сообщения. Оратор казался сравнительно с собравшимися молод, аккуратен собой, черты лица, слегка по-деревенски обветренного, имел правильные, дикцию – внятную, чего нельзя было сказать об основной мысли выступления. Но разве в этом главный интерес?
По регламенту выступлений до перерыва оставалось еще десять минут. В соседней комнате уже был накрыт чай с благотворительными пирогами и кулебяками, которые пекли приближенные к губернскому Земгору дамы. Приехавшие из города и просто проголодавшиеся с интересом поводили значительно расположившимися на лицах носами.
– … Объединение кустарных производств и военно-промышленные комитеты уже сейчас оказывают существенную поддержку в снабжении армии. Но этого мало. Чтобы выиграть эту войну, мы должны сделать так, чтобы правительство и Дума услышали наконец спасительный голос здравомыслящих и образованных людей России, занимающихся – на фабриках и заводах, на земле и на транспорте – конкретным делом, а не пустыми мечтаниями и политическими разглагольствованиями. Реальность же такова: если мы сегодня не пообещаем по 16 акров земли каждому воюющему солдату, то максимум через год получим полный развал фронта. Ему это непременно пообещает кто-то другой, и армия, по преимуществу крестьянская, пойдет за этим другим. Куда она пойдет? Разумеется, к поражению в войне, анархии и краху тысячелетней русской государственности. Кого мы должны будем за это винить?..
– Смело, однако… Он не социалист?
– Ни в коем случае. И, кажется, он именно знает, что говорит.
– Как его фамилия?
– Кантакузин. Так что же – кадет?
– Кажется, да. Племянник покойного Осоргина, из какой-то обедневшей ветви…
– Остро говорит, надо думать, далеко пойдет.
– И правильно сделает. Такие люди, молодые, но умеющие говорить на языке старой аристократии, в нашем движении очень нужны…
– … Мы должны добиваться правительства народного доверия!! – почти выкрикнул оратор.
Общие аплодисменты. Время выступления истекло. Вопросов пока нет, они будут заданы докладчику в кулуарах. Общее движение, стук отодвигаемых стульев. Земгусары (так в России иронически именовали служащих Земгора – прим. авт.) устремились к пирогам.
* * *
Блеклая столовая, в которой хозяйка имения «Пески» совсем недавно поила Александра и Юлию чаем из треснувших чашек, встрепенулась и обрела некое подобие уюта – благодаря начищенному самовару, который сверкал медальными боками, фыркал и пускал пары день напролет. Визитеров принимали нынче уже третий раз. Наконец приехал и Алекс Кантакузин из Синих Ключей – молодцеватый, стройный, в военной форме с вензелями ВЗС (Всероссийский земский союз – прим. авт.)на погонах. Софья Александровна, проявив не очень-то свойственную ей обычно тактичность, оставила кузенов поговорить наедине. И теперь стояла в коридоре за дверью, слушая бодрый голос Александра – этот голос казался ей медно сверкающим, как начищенный самоварный бок…
– Война за Проливы? Ты с ума сошел, Алекс?! Точнее, ты просто не видел этого отступления нашей армии. Я его видел. Даже два раза – один раз со стороны армии, и еще один – вот сейчас, когда бежал из плена и пробирался по России. Так называемая эвакуация. Я не знаю, кому и зачем это понадобилось, но это несомненно преступление. Даже если не было предательства и все произошло по незнанию или неумению, то все равно… Тактика выжженной земли? Как в 1812 году?
Светлые волосы Лиховцева, полные электричеством, вставали дыбом над высоким белым лбом. Глаза беспокойно бегали из стороны в сторону. Руки и ноги временами беспорядочно дергались. Александру хотелось завернуть Максимилиана в большой носовой платок и уже так, плотно запеленутым, подарить Кашпареку. Пускай разбирается.
– Ты – земгусар, Алекс? Как странно… Впрочем, что нынче не странно?.. Этим людям, евреям и другим, давали 24 часа на сборы. Казаки грабили и поджигали дома еще до того, как их покинули люди. Ничтожная их часть смогла уехать по железной дороге, в товарных вагонах, как скот, но все-таки… Ты знаешь, что железнодорожное сообщение было расстроено с самого начала войны. Сейчас, я думаю, это обрело уже необратимый характер… Остальные пошли по шоссейным и проселочным дорогам. По ним же отступала армия. Иногда и проселочных дорог не хватало. Тогда люди со своим скарбом шли просто по полям и лесам, вытаптывая хлеб, портя посевы, потерявшие имущество, достоинство, надежду, как саранча, бросая на обочинах мертвых лошадей, младенцев, полуживых стариков… Представь: мимо них, на полном скаку проносятся обозы отступающей артиллерии… на пушке я видел обрывки перины, на ободе телеги лоскутья женской косынки… На обочине сидела оцепенелая мать с мертвым младенцем на руках, а ребенок постарше, лет двух, пил из лужи воду, перемешанную с лошадиной мочой, зачерпывая ее горстями… Алекс, ты помнишь, у нас в пифагорейском кружке была дискуссия об Апокалипсисе? Я делал заглавный доклад, он всем очень понравился, мне долго аплодировали… Должен признать: готовясь к тому докладу, я прочитал массу книг, но так ничего в нем и не понял. Теперь я знаю об Апокалипсисе намного больше… Ты считаешь, это безумие должно продолжаться? Сколько? Еще год, два?
– Россия уже совершила огромные усилия в этой войне и принесла огромные кровавые жертвы на ее алтарь, – весомо сказал Александр («Он теперь на стуле сидит, а вещает так, как будто бы с кафедры выступает, – подумал Максимилиан. – Что это с ним сделалось?») – Нельзя допустить, чтобы все жертвы оказались напрасными. Сейчас обстановка на фронтах более благоприятная, чем та, которая сложилась в 1915 году. У нас, в том числе и благодаря усилиям Земгора и Военно-промышленных комитетов, есть винтовки, боеприпасы, амуниция для армии. Были удачные наступления сразу на нескольких участках фронта. Критически нужно вместе с союзниками совершить последнее усилие и сокрушить германский империализм, добившись попутно выгодных для России геополитических пересмотров… После безусловно придется внимательно изучить уроки произошедшего и сделать соответствующие выводы. Наступил момент, когда в судьбе России должны принять непосредственное участие люди, которые занимаются конкретным делом, а также знают и понимают нужды государственного устройства на современном этапе развития цивилизации. Россия безусловно переросла этап царского абсолютизма. Также нет больше возможности полагаться на олигархию, война уже показала это со всей отчетливостью…
Дряхлая сгорбленная служанка, похожая на вставший на задние лапки высохший трупик ящерицы, бесшумно подошла к Максимилиану сбоку и осторожно прикоснулась к его колену сморщенной ручкой. Александр брезгливо поморщился, а Макс ласково улыбнулся и слегка сжал погладившую его лапку.
– Фаина, – объяснил он кузену. – Все никак не может поверить, что я на самом деле вернулся. Старенькая совсем, у нее, видать, уже явь с неявью мешаются, вот она и ходит то и дело меня трогать – настоящий ли… Любит меня очень, за что – бог весть…
– Что ж ты собираешься дальше делать?
– Как только разберусь с военным ведомством и врачами, поеду в Петроград. Уже телефонировал Арсению. Он меня очень ждет, говорит, что тоскует, дескать, совсем никого не осталось, словом перемолвиться не с кем…
– Арсений всегда тоскует.
– Ну что ж, он по такой мерке скроен. Однако, несмотря на тоску, обещал мне помочь устроить журнал…
– Опять? – усмехнулся Александр.
– Да. Я знаю, что в Петрограде нынче издается без малого полтысячи журналов, но это то, что я умею делать. И кажется, теперь мне наконец есть что сказать миру, помимо смутных отражений зазвездных веяний… Может быть, я ошибаюсь…
– Во всяком случае я желаю тебе удачи. Ты виделся с Любой?
– Да, но я ничего не понял в происходящем у вас, в Синих Ключах.
– Когда же это с моей женой можно было что-то понять? – усмешка Александра сделалась почти циничной. – Кстати, я, быть может, тоже поеду в Петроград, повезу Милюкову разработанную нашим комитетом программу, касающуюся взаимодействия ВПК с комитетами обороны. Признаюсь тебе: я многого ожидаю от этой встречи. Все-таки, как ни крути, а Милюков сейчас не только один из самых образованных и трезвомыслящих людей России, но и возможный лидер…
Максимилиан совсем не знал, что на это сказать. Перед его внутренним взором стояли раздутые трупы лошадей, разломанные телеги, сожженные деревни и разоренный нищий скарб на обочинах дорог, в ушах гремели разрывы снарядов, плач женщин и религиозные песнопения еврейских стариков из товарных вагонов. Он пытался увидеть сквозь эти картины ухоженное лицо либерального профессора Милюкова и услышать блестящие, тщательно выстроенные по всем правилам ораторского искусства речи кадетского лидера. Ничего не получалось. Александр казался бесконечно чужим и неожиданно, вопреки реальному календарю – старшим годами.
Софья Александровна молча крестилась, стоя за дверью. Она всегда считала себя дамой передовых взглядов, и речи вроде тех, что вел Александр, должны были быть близки ее сердцу. Она и сама вела подобные речи… когда сын учился на офицера и потом… Но сейчас ей было только страшно. Очень страшно; и хотелось вытолкать этого молодцеватого земгусара вон, чтобы он и дорогу в Пески забыл.
Глава 34. В которой Илья Кондратьевич возвращается в далекое прошлое, Александр предлагает Юлии вступить в партию большевиков, а Юлия ненавидит Любовь Николаевну Кантакузину.
После тепла вдруг ударил заморозок. Схватило лужи тонким, с белыми пузырями ледком, затвердела перемешанная с навозом грязь на дороге.
Резкий весенний ветер как щенок треплет подолы и косынки баб, волнами, с громким шелестом гонит по главной улице Торбеевки мертвые прошлогодние листья, вытаявшие из-под снега.
Нерезко очерченный лимонный круг солнца резво взбирается в небо по пестрому куполу Михайловского собора.
– В храме он, – объяснила Люше Катиш. – Все службы посещает, говеет, причащается, молится у себя по вечерам. Не пойми с чего началось. Никогда у Ильи Кондратьевича особой тяги к божественному не было… Но вот, может, в старости пожелал грехи замолить…
– Ум ослабел, видать, опоры ищет, – предложила свое объяснение Люша. – И что ж – не рисует совсем?
– Начисто забросил. Холсты за шкафом пылятся, краски засохли. У мольберта нога отвалилась, так и стоит.
– Вы тут останьтесь, а мы с Екатериной Алексеевной внутрь пройдем, – распорядилась Люша, обращаясь к Боте и Капочке, которые еще с вечера напросились с нею в Торбеевку.
– Так я пока к Акимке сбегаю… – напомнил Ботя.
– А, ну да, держи, – Люша протянула мальчику двухгривенный.
За 20 копеек младший попович Акимка обещался Боте сбегать в специальное «затворенное место» и наловить там целую банку «зверовидных мохнатых червей». Ботя предполагал, что «затворенное место» – это навозные кучи за деревней, а «зверовидные черви» – многощетинковые Polychaeta, но с Акимкой предпочитал не спорить. Черви были нужны ему для научных занятий, а 20 копеек казались вполне разумной ценой за нелазание в навозе и прилагающиеся к добыче Акимкины фантазии.
– Ты с Ботей пойдешь? – спросила Люша у дочери.
– Не-а, я червяков боюсь, – ответила Капочка. – Ботя мне рассказывал, что они внутри, в кишках или в печенках могут жить. И что ты кушаешь, то и они съедают. Я потом всю ночь заснуть не могла, мне все казалось, что у меня внутри кто-то ползает и присасывается… Ну их!
– Глупости! – авторитетно сказал Ботя. – Даже если в цикле развития кого-то из Nematodes человек является промежуточным или окончательным хозяином, соблюдение обычных правил гигиены позволяет…
– Пошли, Катиш! – быстро сказала Люша. – А то он сейчас как заведется про своих червяков…
Илья Кондратьевич стоял на коленях в левом приделе церкви у иконы Божьей матери Нерушимая Стена и молился, бесшумно шевеля губами. Катиш преклонила колени рядом с ним, а Люша быстро перекрестилась, воткнула перед иконой и зажгла три свечи (купленные у входа у юной тихой поповны) и чуть склонившись, прошептала:
– Илья Кондратьевич, выйдемте сейчас! Дело к вам есть!
Старик поднял выцветшие глаза и строго спросил:
– Какое дело может быть в Божьем храме, кроме прославления Его?
– Ой, да разные могут быть дела! – усмехнулась Люша. – Я вот помню маленькой всегда в церковь карамельки в карман брала, обсасывала их потихоньку и приклеивала, пока мокрые, куда-нито. На тех, кто молится или даже на иконы. Вот, небось, потом отец Даниил удивлялся: на иных иконах миро образуется, а у нас, в Торбеевке, – леденцы!
Старик против воли улыбнулся и Люша осторожно потянула его за рукав:
– Отойдем вот хоть туда!
Они отошли в угол, за дубовый прилавок с разложенными для продажи свечами, бумажными образками и лампадками. Сейчас там никого не было – не помешают поговорить.
– Иван Кондратьевич, миленький, вы помните ту красивую полячку, мою подругу, что ваши картины увезла? Так вот, она уж бо́льшую часть продала, а вы нынче благодаря тому по Москве знаменитым сделались. «Последний романтик, хранитель бесценных традиций старой школы, крепостное дарование, оплот на пути вырождения и упадка русской живописи» – вот как-то так… Это все вы, понимаете?
Илья Кондратьевич взглянул на церковный свод, на маленькое окошко с синим стеклом и промолвил с горестью, которая вдруг сковырнула корку с какой-то из многочисленных царапин в Люшиной душе:
– Поздно, девочка моя, поздно мне. Все ушло, и все ушли. Лишь я задержался.
Люша быстро сжала и разжала кулаки и продолжила:
– А деньги, что Марыся прислала, я Катиш отдала. Вам теперь никуда из Торбеево уезжать не придется. И ваших картин теперь сколько угодно продать можно. Только их надо нарисовать… ну, написать, как художники говорят. Марыська вам и краски новые прислала…
– Ты кто? – неожиданно спросил Илья Кондратьевич, по-птичьи поворачивая голову.
– Я Люба, дочка Николая Павловича Осоргина, ученица Катиш.
– Николай и женщины… да… Ты не печальна?
– Н-нет, – с долей неуверенности вымолвила Люша. – Кажется, так про меня не скажешь. Но вы – вы ведь хотели же когда-то быть знаменитым художником!
– Все поздно, – старик снова потерял интерес к разговору. – Вот если бы Наташенька была жива и увидела… – дальше пошло какое-то неразборчивое бормотание.
– Бесполезно, Люша! Илья, мы идем домой – обедать надо! – решительно сказала Катиш. – Что уж тут! Ведь он прав – ушло его время, – и подумав, добавила. – Всехнее время ушло… а чье настало?
– У Марыси мальчик родился. Назвала Валентином. Его?
– Низкий поклон твоей Марысе за ее об нас хлопоты. И здоровьичка – и ей, и мужу, и сыночку их.
– Ну в этих хлопотах Марыська себя, я уверена, не забыла…
За разговором вышли за порог церкви, на крыльцо, спустились по деревянным ступеням. Илья Кондратьевич механически переставлял ноги и вроде бы не до конца понимал, куда и с кем идет.
Раздухарившееся к полудню весеннее солнце растопило лед в лужах, разбросало по небу легкие белые облачка, приласкало набухшие соком ветки деревьев.
Тонконогая девочка сорвала с темно-пепельных волос легкую шапочку и побежала к крыльцу:
– Мама, Катиш, дедушка Илья! Идите, идите сюда скорее, а то он совсем улетит! Да вот же он, вот, какой огромный! Дедушка Илья, смотрите, он к вам полетел!
Капочка подпрыгивала от нетерпения, а Илья внезапно вздрогнул всем телом, с силой, неожиданной в высохшем теле, вырвал свою руку у Катиш, остановился как вкопанный и прошептал:
– Майский жук! Наташенька… Наталья Александровна…
Катиш обескуражено взглянула на Люшу, но та и сама ничего не понимала (история с майским жуком и вообще история любви крепостного художника Ильи Сорокина и аристократки Натальи Мурановой подробно описывается в книге «Танец с огнем» – прим. авт.):
– Илья Кондратьевич, это не Наталья, это Капитолина Александровна, наша с Александром Кантакузиным дочь. Вы ж ее знаете…
– Наташенька с майским жуком… Портрет пропал, ива над разливами… надо снова написать, пока весна…
– Надо, Илья, непременно надо! – Катиш, привычная к кульбитам стариковского сознания, сориентировалась быстрее Люши. – Вот тебе и красочки привезли, и мольберт починим, и Капочка, если попросим хорошенько, согласится тебе попозировать где ты скажешь. Ведь согласишься для дедушки Ильи, девонька наша, правда?
Майский жук, важно гудя, улетел вдоль улицы вниз, к реке. Капочка проводила его взглядом и охотно закивала:
– Да, да, пусть дедушка Илья меня нарисует. Мне и самой поглядеть охота.
– Вот и договорились, – решила за всех Люша. – Сейчас, значит, в Торбеево обедать, а потом Илья Кондратьевич нам укажет то место над разливами, где он Капочку рисовать будет. И сдается мне отчего-то, что та ива с тех пор значи-и-ительно подросла…
Налетел свежий сырой ветер от реки, поиграл с березовыми ветками, взбил мелкой рябью лужу – и стих, и видно стало, как тянутся невесомым паром, переливаясь на солнце, от земли вверх талые воды.
* * *
К началу мая по всему дому выставили вторые рамы и сколько возможно держали окна открытыми. Дни стояли теплые, запахи весны бродили по комнатам вольно. В библиотеке залетевший ветер трепал загнувшуюся карту – атлас был разложен на столе, Алекс теперь изучал его каждый день.
– Иногда мне кажется, что немедленный сепаратный мир с Германией действительно единственный ход, который может спасти Россию от окончательного краха, – задумчиво глядя в окно, сказала Юлия.
Почки на сирени уже набухли и стали похожи на маленькие розовато-лиловые минареты.
– Что ты говоришь! – воскликнул Александр. – Сейчас, когда у нас наконец в достатке оружия, патронов, налаживается дело с амуницией для армии, Брусиловский прорыв продемонстрировал Германии и Союзным державам нашу силу и несгибаемость воинского духа…
– Александр, на войне убивают…
– Это естественно. На войне всегда убивали, чуть ли не от сотворения мира. Помнишь Каина и Авеля?
– Каин убил Авеля, приревновав его к милости Божьей. Это малодостойно, но понятно любому. А здесь люди вовсе не понимают, зачем. Какая ревность у ваших крестьян к Константинополю или Проливам? В соседней деревне выступали агитаторы, а потом этот ваш странный мальчик, Кашпарек, пародировал их с комментариями для слуг и детей своей марионеткой… Признаюсь, я заслушалась. А после, может быть, впервые подумала: как странно мы живем – все классы рядом, голос слышно, как в соседнюю комнату, но как будто в разных мирах… Надя много лет говорила мне, что это непременно должно быть изменено, но я никогда не желала ее услышать…
– Юлия, не вступить ли тебе теперь в партию большевиков? – иронично поинтересовался Александр. – Или лучше – меньшевиков?
– Ты полагаешь, что это смешно?
– Я полагаю, что это странно. Общественная активность пристала мужчине, как переустраивающему, изменяющему мир началу. Женщины же самой природой созданы для другого.
– Для чего же? – живо переспросила Юлия, оборачиваясь к Александру и глядя ему прямо в глаза.
– Для… для стабилизации, сохранения, преумножения…
– Александр!
– Для любви! – решился наконец Кантакузин.
– Вот с этого места мне хотелось бы подробностей, – напряженно улыбнулась Юлия.
– Пожалуйста, – он с самого начала знал, чего она ждет, но направленное внутрь себя вопрошание почему-то не давало ему ответа – как далеко он готов зайти здесь и сейчас?
Почти пугающее недоумение: отчего так? – ведь много лет он покорно ждал малейшего отклика с ее стороны. Разве с тех пор она стала для него менее привлекательной? Ничуть, его по-прежнему тянуло к ней! Видеть ее каждый день, говорить с ней, держать ее руку, касаться губами шеи, вдыхая нежный, чуть горьковатый аромат ее духов… Так что же, черт побери, с ним происходит?
– Юленька, ты же знаешь, что я всегда…
Редкий случай, когда внезапное появление Любовь Николаевны показалось ему уместным.
Вместе с ней в комнату хлынула волна самых разнообразных запахов: только что оттаявшая земля, густая смесь пряных конюшенных ароматов, южный ветер, расцветающие в парковой тени крошечные фиалки, влажная собачья шерсть (сопровождающий ее пес встряхивается, роняя на паркет холодные капли).
– Юлия, я бы вас просила: поговорите с вашей кормилицей, чтоб она поняла. Лукерье кол на голове теши – она готова кормить любого, хоть покойника на отпевании. Вчера уговорила вашу кормилицу накормить Германа пюре из распаренных яблок с медом. Ну ладно – пол ложечки. Так ведь та полную чашку ему скормила. А у него желудок нежный – нынче весь сыпью покрылся и в дерьме по уши. Отмывать не успевают… В общем – решите с ней, я вашей служанкой распоряжаться не возьмусь, а Лукерья, повторяю, безнадежна… Александр, у тебя из прошлого нет ли знакомств в художественном мире? Галереи какие-нибудь, где картины выставляют, или журналы? Только мне не современное надо, из зеленых квадратиков с глазами, а такое… ну, понимаешь, старое, как раньше… И, кстати, простите за вторжение: вы, может, о чем важном беседовали?
– О положении на фронтах, – ровно сказал Александр, стараясь не встречаться с Юлией взглядом.
– Что мы знаем? В газетах все врут, письма цензурируются. Как догадать по правде? – Люша пожала плечами.
– Ну отчего же, бывают корреспонденции с фронта, которым веришь. Вот, чтоб далеко не ходить, ты читала ли Максов журнал?
– Нет, не читала. Думала, что там все как всегда – дуновения, воздыхания и скрежетания. А что, стоит прочесть?
– Возможно. К нашей теме: у него появился загадочный фронтовой корреспондент, пожалуй что из вольноопределяющихся, который присылает ему очень интересные материалы. Например, последний был про игры на войне.
– Игры?!
– Да, игры, в которые играют наши солдаты в окопах или на отдыхе. Очень интересно и жанрово, например, оказывается, можно использовать вшей…
– Александр, ради Бога! – воскликнула Юлия.
– Прости, Юленька… В заключение очерка он подводит почти философскую базу – война как игра. Описывает случай: немцы захватили французский городок, потом вывешивали перед корпусом, сформированным из данного городка, плакат: «корпус рогоносцев». А эти французы, вопреки всем конвенциям, добивали всех пленных-немцев. (действительный факт из истории Первой мировой войны – прим. авт.) Мальчишеская игра?
– Кошмар изрядный, – согласилась Люша. – Но что же таинственного в Максовом корреспонденте?
– Он, по всей видимости, солдат, а солдатам, как ты наверное знаешь, запрещено не только ездить в вагоне трамваев, но и писать в газеты. Поэтому он присылает свои корреспонденции через третьи руки и печатается под псевдонимом – Знахарь.
– Как странно… – сказала Люша, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. – Наверное ты, Александр, дело говоришь, и мне действительно следует прочесть очерки этого Знахаря…
– Кстати, то, что ты спрашивала. О живописи и галереях. Макс наверняка в курсе, и сам его журнал имеет статус литературно-художественного – какая-никакая, да площадка.
– Да-да, ты прав, ты прав, – пробормотала Люша. – Я обязательно напишу ему. И прочту. Да.
Она ушла, ступая бесшумно. Пес вскинул голову, взглянул на остающихся людей, явно намекая на подачку. Александр отрицательно покачал головой, и пес убрел вслед за хозяйкой, уныло опустив длинную морду и громко цокая когтями по паркету.
– Знаешь, Александр, – тихо, но внятно сказала Юлия. – Я нынче смотрю на вещи шире, чем прежде, и признаю за твоей женой много достоинств. Но, Господи свидетель, как же я ее, несмотря на это, ненавижу!
* * *
Глава 35. В которой происходит детский праздник, Капочка угощает медведя, а Агафон с Владимиром впервые дерутся из-за Любви.
«Милая Любочка!
Мы очень рады были бы видеть тебя и твоих чудесных дочек на именинах нашей драгоценной Аморе, которые мы планируем отпраздновать 28 сентября сего года. Мне кажется, что в нынешнее печальное время всем, особенно детям так нужны праздники! А у нас, как встарь, будет детский праздник с конкурсами и фейерверками. Энни, несмотря на все ее нынешние, и, признаюсь, не очень понятные мне увлечения, согласилась мне помочь. Ах! Бедный Лео так любил, когда дети веселились и резвились вокруг него! Увы, нынче только его душа сможет посетить нас. Но ты приезжай обязательно, мы все очень соскучились по тебе, да ведь и у тебя именины тоже… все наши домочадцы будут иметь чудесную возможность поздравить тебя и подарить наши скромные подарки. Ждем с нетерпением.
Неизменно любящая тебя Мария Габриэловна– Грунька! – Люша, подобравшись тихонько, сильно стукнула Груню по плечу. Та вскинулась, резко отмахнулась локтем. Люша, опахнутая воздухом от Груниного движения, отскочила, смеясь.
– Вот и дура выходишь! – проворчала Груня, оборачиваясь и откладывая в сторону Агафоновы штаны, к которым пришивала заплатку. – А коли б я тебя зашибла?
– Не-а, я же ловкая, а ты – неуклюжая, как медведица…
– Вот и дура два раза. Медведи, если им надо, – они знаешь какие поворотливые! Вспомни, как мы девчонками были, зверинец в Калугу приезжал, еще твой отец нас возил – так чего они там вытворяли… Я досель помню!
– Да, – кивнула Люша. – Про медведей, ты, пожалуй, права. Хочешь еще дрессированных медведей и других зверей поглядеть и Агафону показать?
– Чего это? – Груня собрала в три толстые складки узкий лоб, взглянула с подозрением.
– А того. Собирайся сама и Агафона собирай – в Москву поедем, к Гвиечелли на детский праздник. Мария Габриэловна зовет.
– Без нас, – предельно лаконически отреагировала Груня.
– С вами, – притопнув ногой, в тон ей сказала Люша. – А будешь кобениться, уговорю Агафона (скажу, что Владимир не поедет и цирк со зверинцем, так он хоть в пекло) и увезу, а ты и знать не будешь.
Капочку, скажи Феклуше, тоже собирайте. А Олю с Кашпареком я сама обрадую.
– Мальчишка с тобой не поедет, – мрачно сказала Груня. – Он с каждым днем дичает. Как бы кусаться не начал… Ольку жалко, извел ее вконец…
– Еще кто кого извел, – усмехнулась Люша. – Кашпарек – не твоя печаль. Агафона собери, да возьми ему и себе чего-нито из господских одежек – как-никак в приличный дом едем, и праздник опять же…
– Не стану.
– Да кто тебя, дубина стоеросовая, спросил?!
* * *
Выехали поутру на своих, целым караваном – карета, бричка и телега, в которой с самым вызывающим видом, вытянув ноги в больших грубых башмаках, сидела на сене Груня. Наряд ее составлял армяк поверх русского сарафана. Толстые косы высоко уложены на голове и покрыты повойником. Агафон в курточке примостился рядом с матерью, крутил круглой головой и время от времени вставал на четвереньки и подпрыгивал от возбуждения.
Поля сжаты. Над стерней носятся стаи черных птиц – ворон и галок. В бледном небе клином тянутся к югу и кричат гуси.
Уже в Алексеевке, когда настало время выходить на платформу, из-под сидения в большом экипаже на четвереньках вылез Владимир. Встал, аккуратно отряхнул колени, поправил воротник матросского костюмчика, нагнулся, вытащил вслед небольшой, перевязанный крест-накрест узелок.
– Хочу тоже поглядеть, как медведи по приказу пляшут, – спокойно сказал он с изумлением воззрившимся на него Люше, Оле и Капочке.
– Вот паршивец! – всплеснула руками Люша. – Ты только подумай, а?! Чуяло мое сердце, что неспроста он притих! Надо было его загодя к деду Мартыну отправить. Вот сейчас посажу тебя в телегу и с Фролом поедешь Синие Ключи…
– Не-а, – Владимир помотал головой. – Я по дороге сбегу и в лес уйду. Всей Черемошней искать станете, не найдете. Меня навки укроют.
– Кто такие навки? – с интересом спросил Кашпарек, соскочивший с облучка брички.
– Да какая разница! – раздраженно воскликнула Люша. – Коли нам это отродье теперь в поезд с собой тащить…
– Не волнуйтесь, – сказал Кашпарек. – Я за ним присмотрю.
– И то хлеб… – вздохнула Люша.
На платформе сразу сделалось тесно от их компании. Капочка два раза пробежала вдоль длинного деревянного строения с часами на башенке, устала и упала на скамейку. Агафон чинно ходил и осматривал все, что попадалось: фонарь, урну для мусора, места общественного пользования, кусты сирени с темно-зеленой к осени, будто жестяной листвой… Владимир стоял неподвижно и, задрав голову, слушал, как звенит холодный воздух от крика далекого еще поезда.
* * *
Во всех комнатах сияли электрические огни и звучали детские голоса. «Как раньше, как раньше,» – словно заклинание повторяла Мария Габриэловна и то и дело уединялась в дальней комнатке – вытереть кружевным платочком увлажнившиеся глаза.
Самое большое внимание детей, конечно же, доставалось Марселю. Он ходил с важной миной на круглом лице и как будто бы носил на голове кастрюлю с водой. Георгиевский крест сдержанно светился на свежеотглаженной гимнастерке.
– Мио Дио! Ах, Боже мой! Майн Гот! – все эти возгласы Марсель принимал со снисходительным дружелюбием, и с нотками явно наигранной усталости в сотый раз рассказывал желающим о том, как, проводя разведку, захватил вместе с четырьмя товарищами австрийскую батарею и был награжден за это Георгиевским крестом и чином унтер-офицера.
– Так ты, Марсель, прежде, чем война кончится, пожалуй, и в офицерский чин выйдешь? – допытывались гости.
– Это я и не тороплюсь особо, – растягивая слова, отвечал мальчик.
– Отчего же так?
– Я человек молодой, должен на войне бывалых слушать. А они нынче в офицеры не торопятся. Надобно вам знать, что есть все-таки разница между солдатом и прапорщиком в пешем строю, в бинокль она видна превосходно, так все офицеры с шашками ходят, и немцы прицельно бьют сперва их. А мне еще желательно до победы дожить, гимназию закончить, и вообще помирать рановато. Жалованье офицерское, конечно, вдвое, но я в деньгах не так чтобы уж очень нуждался, а что до славы, так я и нынче командую полуротой, и по производстве разницы не будет…
Дети внимали восторженно, взрослые – со сложными чувствами, Риччи не отходил от кузена и чтобы усадить мальчика за рояль, его пришлось буквально отдирать от Марселя. Просьбы гостей не оказывали на ребенка никакого действия, и повиновался он только после того, как кузен сам сказал ему, что хочет послушать – на фронте, дескать, все больше другая музыка слышна, картечь да снаряды.
Риччи сел, раскрыл ноты и заиграл Гайдна. Музыка плыла как дым над разоренной землей.
Марсель закрыл глаза, вспоминая.
Развороченный артиллерией городок на Волынщине. Жители ушли. Перерыв в боях. Никто толком не понимает: отступаем мы, наступаем или выравниваем фронт. Часть размещается в уцелевших домах. Унтер Чернецов зовет Марселя – в комнате с провалившейся крышей стоит старое фортепиано с огарками свечей в подсвечниках. Ноты лежат на полу, как мертвые птицы с распростертыми крыльями. Одинокий треугольный осколок зеркала в пустой раме на стене, остальные осыпались вниз.
– Ну! – говорит Чернецов, огромный ростовский крестьянин, который однажды в одиночку захватил в плен четверых австрияков.
В осколках зеркала дробится комната и боковым зрением видится какое-то движение.
Марселя настигает видение. Та же комната, полная негромкого жилого уюта. Горят свечи, некрасивая еврейская девушка в темном платье, чем-то похожая на кузину Луизу, неуверенно подбирает простую, но очаровательную в своей простоте мелодию. Потом кто-то вбегает, кричит на непонятном языке. Девушка испуганно вскакивает, ноты падают, большие глаза девушки влажно блестят в темноте…
Отчего-то Марсель точно знал, что сейчас девушки уже нет в живых.
Он поднимает валяющуюся в углу круглую табуретку и садится к инструменту. Пятая часть клавиш не отзывается на его прикосновение. Раненная музыка, спотыкающийся шаг. Бессмертный Реквием Моцарта по погибшей девушке.
Слезы застилают глаза, пальцы вспоминают и играют сами. Какое-то неотчетливое движение сзади. Дрожь в позвоночнике от чужого присутствия. Марсель оборачивается и видит, что комната полна солдат. Все слушают, замерев, иногда шикая друг на друга. Он играет венский вальс, потом, до хруста стиснув зубы, итальянский народный танец, потом «Яблочко», «Шар голубой» и еще что-то услышанное уже в окопах, краем уха… В семье Гвиечелли издавна передается талант к музыкальным импровизациям… Солдаты сначала притопывают, а потом пускаются в пляс, кружатся, как дети, взявшись за руки. Кто-то зажигает огарки, а потом меняет свечу. Звезды смотрят в пролом крыши. Поручик Иващенко, только что вернувшийся в часть после лечения в госпитале, стоит на пороге, поигрывая стеком и желваками на скулах. В похожей на серый мох бороде унтера Чернецова блестят капельки… пота?
Кружится, кружится детский хоровод.
Уже показали кукольный спектакль, попили чаю с настоящим сахаром и бисквитными пирожными (далеко не всем нынче доступная роскошь). Весело сверкают блестки костюмов, переодетая Коломбиной тетушка Катарина веселит самых маленьких. В углу, за кадкой с большой пальмой спрятался Агафон. Вытащить его оттуда невозможно даже насильно – он распяливается об стенки и кадку всеми руками, ногами, спиной и головой, как краб, о котором когда-то рассказывала Риччи и Розе покойная Камилла Гвиечелли.
Вокруг Кашпарека собрались дети постарше и кое-кто из взрослых. Марионетка все время в движении, пародирует гостей и время от времени отпускает рискованные шутки.
Потом слабым, но очень верным голоском поет итальянскую арию Роза, а Энни аккомпанирует ей. Вслед Оля танцует в белом трико и крохотной пачке. В ее гладко уложенных волосах – сверкающий хрустальный венчик, в маленьких ушах сережки-капельки. Несмотря на костюм, танец девушки отчетливо тяготеет не к императорскому балету, а к уличной ковровой акробатике. Растяжка Оли такова, что она может стоя прижать длинную ногу к уху. Дети и подростки клана восторженно повизгивают (все Гвиечелли музыкальны и художественно одарены, но неуклюжи в крупной моторике и к тому же сравнительно коротконоги). Мужчины закатывают глаза. Марионетка и Кашпарек демонстративно отворачиваются и смотрят в окно. Владимир (единственный из малолеток, кто не боится марионетки) разворачивает ее руками к импровизированной сцене и, присев, шипит кукле в ухо:
– Смотри, Кашпарек, смотри! Надо смотреть, когда красиво, и отворачиваться, когда страшно или с души воротит!
– Ты еще малый, – отвечает сверху Кашпарек. – Не понимаешь покуда. Мне нынче от красоты этой как раз страшно так, что мочи нет.
– Тогда ладно, – сразу же отходит Владимир. Его самого так часто не понимают окружающие, что его ум, несмотря на малый возраст, легко вмещает в себя идею множественности позиций.
По окончании Олиного танца Майкл Таккер аплодирует оглушительно, с почти неприличным энтузиазмом.
Когда возбуждение, вызванное едой и выступлениями, стихает, и просторные комнаты старой квартиры постепенно заволакивает светлая, как золотистая пыль, детская удовлетворенная усталость, в гостиную выходит маленькая Аморе в черных бархатных башмачках и серебристом газовом платьице. В ее светлорусых волосах – большой бант. В руках у нее – крошечная скрипка. На лице – гримаска недетской и отстраненной сосредоточенности.
– Боже, глядите, скрипачка! Именинница! Просим, просим! – с умиленно увлажнившимися глазами восклицают собравшиеся.
Аморе вскидывает инструмент к подбородку, пробует струны смычком и вдруг начинает играть с неожиданной яростной экспрессией, плотно зажмурив глаза и содрогаясь всем худеньким телом.
– Мио Дио! Аморе! Мы же договаривались… – прижав дрожащие пальцы к губам, шепчет Мария Габриэловна.
Гости слушают и смотрят в немом ошеломлении.
Кашпарек делает шаг вперед. Владимир присаживается и трогает пол ладонями, словно ловит от наборного паркета таинственные вибрации, сопровождающие игру маленькой скрипачки.
Из-за кадки торчит круглая голова Агафона, на его лице выделяются обычно малозаметные, а сейчас жадно распахнутые и как будто бы даже приподнявшиеся на стебельках (как у того же краба) серые глаза.
– Что это? Что она играет?!
Среди собравшихся есть профессиональные музыканты. Даже они не могут угадать произведение, которое исполняет Аморе.
– Этого никто не знает… – вздыхает Мария Габриэловна. – Я просила ее, она мне обещала, что сыграет «Аллеманду» Верачини…
– Но это же удивительно… Вдохновенно… Такая маленькая и столько страсти… Восторг!
– Увы! После такого она обычно заболевает… – Мария Габриэловна стискивает старые кружева, как будто бы ворот синего платья душит ее.
– Сиротиночка наша!.. Не знают оне, чего она играет, как же… По матери она тоскует, вот оно музы́кой наружу и выходит… А потом жар, лихоманка и – в постельку. Чего уж тут не понять… А без мамки-то, как ни крути, какая жизнь?!
Груня со Степанидой пьют чай вприкуску в каморке Степаниды. Четвертьведерный самовар уютно сипит. У иконы, увитой бумажными цветами, горит красная лампадка.
– А без папки? – спрашивает Груня.
– Э-э, милая! – удивляется старуха. – Да ты никак разумеешь, чего я говорю! А говорили: глухая, глухая!
– Я по губам разбираю. Ты на меня гляди и говори, оно и ладно будет.
– Вон оно как… Да ведь папка-то что – мужик… Его дело мужиковское. Вон мужа моего через год после свадьбы в солдаты забрили и сгинул, а теперича даже и лица-то его вспомнить не могу… Дите вот не уберегла – это и доселе жаль! Унесла сыночку моего горловая болезнь… Тогда с горя и в город в прислуги подалась, и к Камилочке Аркадьевне с рождения ее душою привязалась… Да видно несчастливая моя доля – и ее пережила. А уж как нынче Любочка начнет кашлять да на горлышко жаловаться, так у меня сразу все внутри и крутит, и крутит… Не ровен час тоже помрет…
– Типун тебе, Степанида, на язык! – рявкнула Груня. – Ты хоть и не глухонемая, а ведь когда и промолчать не грех!
– Верно оно, верно – зря я болтаю! Прости, Господи, и не слушай меня, дуру старую, – истово закивала Степанида и, оборотившись к иконе, трижды перекрестилась.
Люша поманила Агафона пальцем. Он отвернулся и принялся ковырять пальцем стену, обитую голубой тканью.
– Пойдем, важное скажу.
Агафон неохотно простился с пальмой и боком, оглядываясь и словно отовсюду ожидая нападения, поплелся за Люшей.
Тут же из-под рояля на четвереньках вылез Владимир и двинулся следом.
– Ты – останься, – безапелляционно велела Люша.
В полутемной комнате были наспех свалены театральные ширмы и костюмы, пахло пудрой, блестки на пышных юбках светились как льдинки в снегу. Зеркало – одно из тех, что, кажется, уже ничего не могло отражать – казалось открытой дверью непонятно куда.
– Ты чего такой? – спросила Люша у Агафона. – Лесной Володя и то бойчее тебя сегодня выглядит, он даже в хоровод один раз ходил и Кашпареку представлять помогал. А ты как мешком стукнутый… Может болит чего?
– Мамка сказала: вперед не вылазий, а лучше и вовсе подале держись. Эти люди-итальянцы не нам, черной кости, чета. Да я и сам теперь гляжу, не дурак небось…
– Гм-м… А вот отец твой в свое время по-другому счел… – пробормотала Люша. – Но я тебя сейчас вот что спрошу: ты тайны хранить умеешь?
– Умею, – набычился Агафон. – Хочешь побожусь?
– Божись!
– Вот ей-богу никому не скажу!
– Ага. Значит никому – ни Атьке с Ботькой, ни Володе, ни даже Груне, мамке твоей, никогда нипочем не скажешь. Так. Теперь тебе придется мне на слово поверить, и объяснений не просить, потому что их у меня для тебя нет. В общем такое дело. Ты Аморе, маленькую девочку, которая на скрипке играла, видел?
– Видел, – кивнул Агафон. – Она ангел?
От его слов Люша закусила губу и судорожно сглотнула:
– Черт! Черт!.. Это я не про Аморе, конечно, и не тебе… Просто именно этими словами твой отец спросил про мать Аморе, когда ее впервые увидел… Агафон! Ты должен запомнить эту девочку. Сейчас ее зовут Любовь Львовна Гвиечелли, она считается сиротой, и она навсегда, что бы ни случилось, и как бы не обернулась твоя, ее и общая жизнь – под твоим покровительством. Ты должен будешь оберегать ее, помогать ей всем, чем сможешь… Ты станешь делать все это потому…потому что сирота Люба-Аморе – твоя сестра по крови. И ни о чем меня не спрашивай! Это так – и точка.
– Хорошо, Люша, – серые глаза Агафона зажглись радостью и торжеством. – Я еще немного подрасту и все сделаю, как ты сказала.
– Я на тебя надеюсь, – закончила Люша и со свистом выдохнула воздух сквозь сжатые челюсти.
В тусклом зеркале за ворохом батиста и газа легко сдвинулись бесформенные тени.
Медведь в зоологическом саду стоял на задних лапах, а переднюю протягивал зрителям в ожидании подачки.
– Ишь, сахарку просит, – ни к кому особенно не обращаясь, сказал стоящий рядом с Люшей и детьми солдат, опирающийся на костыль. – А кто ему даст? Самим не хватает, люди по всей Москве с утра в хвостах за хлебом стоят, а сахар и вовсе по карточкам…
Капочка развернула и бросила медведю конфетку. Мишка ловко поймал ее и тут же слизнул.
– Ах ты! – зло сказала баба в платке, поднявшая ребенка, чтобы тот мог получше разглядеть медведя. – Лучше бы моему дитю отдала! Третье лето ему минуло, а конфет никогда не пробовал… Когда только эта проклятая война кончится!
– Да баре лучше зверю отдадут, чем тебе! – насмешливо сказал кто-то позади бабы. – Им же и война в толк идет, вон, гляди, какие детишки гладенькие…
– Не довольно ли уже народной кровушки пролили-попили?
Капочка растерянно оглянулась, на глазах у нее блеснули слезы – другой конфетки у нее не было.
– Пошли дальше посмотрим, – резко сказала Люша.
На сцене-раковине играл оркестр. Прочие двинулись дальше, а Агафон заворожено смотрел на огромный, завернутый спиралью, блестящий раструб бас геликона.
– Бу! Бу! Бу! – передразнил он его и, потрясенный музыкальной мощью неизвестного ему инструмента, оборотился к остановившемуся позади него Владимиру. – Володька! Во как?!
– Глупо, – тут же оспорил Владимир. – Глупая труба. Девочка-ангел играла лучше. Ее музыка – почти как наш ручей весной, в половодье.
Агафон тут же помрачнел.
– Ты, Володька, про тую девочку позабудь совсем, – тихо и веско сказал он. – Она во все дни моя.
– С чего это? – Владимир одновременно оттопырил губу и зад, и повернулся боком, чтобы Агафон видел, как шевелится в штанах хвостик – мальчик знал, что это как-то особенно бесило его вечного противника.
– А с того. Люша мне навсегда поручила, я ее стану охранять, а ты иди в лес, с пнями разговаривать. Там тебе самое место!
– Люша? Тебе?! – Владимир на мгновение задумался. Агафон при всех его недостатках не отличался склонностью к фантазиям на ровном месте. Но – девочка-ангел и Агафон, деревянный, словно вытесанный из полена человечек Пиноккио, про которого недавно читала мальчикам Оля… – Да не может того быть!
– А вот и есть!
– Врешь!
– Не вру!
…
Когда прибежавшие на шум Люша и Кашпарек растащили мальчишек в разные стороны, оба были в грязи и в юшке из разбитых губ и носов, и оба рычали, как дикие звери, которым самое место именно в зверинце. Владимир, против обыкновения, даже не пытался увернуться или убежать, и дрался также зло и отчаянно, как Агафон. О причинах столь радикального сражения в публичном месте ни один из мальчиков ни сразу, ни потом не обмолвился ни словом.
Глава 36. В которой Макс Лиховцев принимает решение о публикации романа, а Аркадий Арабажин печалится о своей недостаточной затронутости социальными вопросами и вспоминает родинку на руке Люши.
Бледная девица с губами вампира и косой челкой поперек лба принесла только что написанный ею роман «Тебе Единому согрешила». Требовала публиковать по главе в каждом номере, обещала просветление публики уже к четвертой главе и непременное окончание войны к седьмой. Всего глав было сорок девять. Эстетический анархист (в миру ветеринар с обширной городской практикой) принес Манифест своей организации. В первом абзаце манифеста было сказано: «Любая власть является высшим злом! И Зло, и Власть – имманентно притягательны для человека. Поэтому Власть возьмем мы – эстетические анархисты! И этим примем на себя все Зло мира и одновременно искупим его!» Дальше на целую строчку шли восклицательные знаки. Максимилиан пообещал, что напечатает Манифест без редактуры, если автор позволит заменить в нем все восклицательные знаки вопросительными. Это придаст разделу нужную дискуссионность.
«Ну вот, все, все издеваются, – плачущим, капризным голосом сказал ветеринар. – Но вы еще узнаете!»
Журнал назывался просто – «Мысль». В прокуренном насквозь помещении царила вечная путаница в бумагах, умах и деньгах. Перед каждым выпуском казалось, что не хватит денег. Как-то выкручивались. После каждого номера ожидали непременного закрытия журнала от цензуры. Не закрывали. Но не потому что не за что (утешали себя создатели журнала), просто цензоров, видать, не хватает – разве уследишь за всеми 534 петербургскими журналами?
Смелые мысли (свои и чужие) главный редактор Максимилиан Лиховцев ловил для журнала сачком. Они (мысли) проворно уворачивались. Нет мыслей, есть постепенно высасывающая подкожный жирок обывателя дороговизна, вырастающие каждый день очереди за хлебом, усталость от войны и всеобщее (но у каждого на свой манер) ожидание «последних дней». Иногда хотелось прямо так и написать. Но тогда уж точно – журнал закроют.
А пока графоманствовали, дискутировали ни о чем, утонченничали, срывали покровы, обнажали язвы… Доколе, дамы и господа? Скучно… надоело…
Однажды вдруг заявился Кантакузин. Как решился уехать – от Юлии, Синих Ключей – в Петербург? Невозможно, однако факт налицо. Оказалось – приехал по делам Земгора, встречался с Милюковым, делал доклад в Координационном Совете по поводу повышения роли кустарных производств Калужской губернии в деле снабжения армии. Разговаривал непривычно тепло, вспоминал со смехом совместные детские проказы, гимназический журнал, в котором Макс тоже был редактором, говорил об ответственности, которой нынче никто не может бежать, тем паче люди с научно-историческим взглядом на события, которых и всегда-то было наперечет… С его слов можно было понять, что нынче таких (с ответственностью и историческим взглядом) осталось всего двое: Лиховцев и Кантакузин. Точнее, не так: Кантакузин и Лиховцев. Когда Макс наконец понял, куда клонит кузен, с трудом удержался, чтобы не рассмеяться тому в лицо. Александр, кажется, вообразил, что из родственно-дружеских связей ему удастся сделать журнал «Мысль» чем-то вроде рупора его внезапно проснувшегося кадетско-либерального красноречия. Небось и в ложу уже вступил по примеру прочих известных земгусаров…
– Алекс, избави меня Бог! – искренне воскликнул Лиховцев.
– Действительность нас рассудит, – обижено-высокопарно ответил Александр, неожиданно напомнив Максу эстетического анархиста-ветеринара. – Самодержавие отжило свое и вот-вот падет, чтобы спасти державу, мы непременно придем к ответственным министерствам, и в этих обстоятельствах альтернативы Павлу Николаевичу я просто не вижу…
– Исполать, исполать вам – тебе и Милюкову, – нервно пробормотал Максимилиан, выпроваживая кузена. – Без меня…
Подсунутая Люшей история Ильи Сорокина – крепостного художника, который вдруг оказался жив и доныне, пришлась как нельзя кстати. Макс хоть душу отвел. Сам ехать не решился (родители, соседи, Александр…Люша, Люша, Люша), но послал своего лучшего корреспондента расспросить старика. Тот расстарался изо всех сил, что-то действительно узнал у постепенно выживающего из ума художника и его близких, где-то додумал, где-то приукрасил… История получилась слегка приторно-карамельная, но уставшая от повседневных ужасов третьего года войны публика, как выяснилось, именно этого и хотела. Фотографии картин Сорокина – лирические пейзажи, жанровые сцены деревенского быта – подтверждали каждую букву обширного, растянувшегося на два номера очерка. Наталия Александровна в очерке явилась бледновато, а вот сам Илья и его оппонент Николай Павлович Осоргин получились, на Максов взгляд, отменно:
«…И тогда, глядя на проникновенную картину Сорокина, где была изображена вторая жена Осоргина, тоже уже умершая, Николай Павлович спросил:
– Что со мной не так, Илья?
– Не знаю, – отвечал ему Сорокин. – Кто я, чтобы вас судить? Но как художник я отчетливо вижу, что ваши женщины всегда печальны…»
В конце очерка автор ввернул что-то об оскудении «дворянских гнезд» и завершил очерк неожиданной фотографией: «Илья Кондратьевич Сорокин за мольбертом, в усадьбе Торбеево (Алексеевский уезд, Калужской губернии), снято третьего дня»
Читатели, а особенно читательницы, плакали светлыми слезами, желали старому художнику творческого долголетия и писали в редакцию грустные письма о том, что теперь, в дни извращения и упадка, подобной любви уже не бывает. Известная в Петербурге галерея Сметанкина срочно отправила гонца в Москву и за очень хорошие деньги купила у молодой трактирщицы, которая почему-то оказалась держательницей большинства работ старого художника, все, что у нее еще оставалось. Экспертам салона Киттера, давнего конкурента галереи Сметанкина, после недолгих, но активных поисков удалось отыскать в разных местах еще десятка два сорокинских работ, которые были немедленно выкуплены у пожилых владельцев, обрамлены в новые рамы и выставлены на Большой Морской. Одна из сравнительно новых картин художника, называвшаяся «Убили ведьму», произвела поистине фурор. Крестьянские фигуры с камнями в руках, стрижи над дорогой, сам воздух картины – все буквально звенело от напряжения. Юная монашенка с младенцем убитой ведьмы на руках, на фоне собирающихся из-за озера туч, смотрелась как аллегория. По всему было видно, что художник не придумал сюжет, а прожил его, являлся непосредственным участником событий.
В первый же день выставки картину за огромные деньги купил разбогатевший войною кожевенно-обувной подрядчик, по сословию – крестьянин Владимирской губернии.
Максимилиан с любопытством наблюдал за внезапным возращением из небытия неплохого художника и с предвкушением ждал заслуженной, как ему казалось, благодарности от Люши. Не дождался. Любовь Николаевна прислала набросок усадебного дома в Песках, сделанный рукой Ильи Кондратьевича (Макс повесил его над своим редакционным столом) и короткое, сумбурное письмо-записку: «…и кстати, Арайя, забыла тебя спросить: как ты относишься к эсерам? Ибо вполне может быть, что твоя деятельность по прославлению бедного Ильи Кондратьевича в конечном итоге идет на финансирование их партии… А кто этот Знахарь, что у тебя в журнале военные материалы пишет? Ты его живьем видал ли? И каков из себя?..»
– Все к черту! – вслух сказал Максимилиан, бросил Люшино письмо в корзину для использованных бумаг и поставил в августовский номер первую главу романа «Тебе Единому согрешила».
* * *
Дневник Аркадия Арабажина
Миллионоустый крик с накренившегося, гибнущего корабля, из шторма, из ночной темноты: Спасите наши души!
Не слышат. Не хотят услышать, потому что союзнический долг, потому что война до победного конца, потому что нужно продолжать… потому что свободная воля, насупротив утверждениям попов, дана далеко не каждому. Если посмотреть правде в лицо – мало кому дана. Те, малая часть, движутся по жизни сами, и делают лишь то, что считают нужным, а остальные – так, дергаются понемногу на веревочках, как Кашпарекова марионетка…
Два миллиона убитых. Столько же в плену. Полтора миллиона раненных. Безропотно, безбрежно, безнадежно… Впрочем, один миллион уже дезертировал.
У моих однокашников-солдат статистически достоверно наблюдаю только два состояния духа: героическое воодушевление и апатия. От одного к другому они переходят практически без всякого промежуточного звена. К упорной целенаправленной поступательной деятельности, к которой, судя по всему, в высшей степени способны германцы, наши в такой же степени не склонны. Скажу даже более того: она им органически неприятна и внутренне безмолвно осуждается какой-то их психической структурой.
По большей части – крестьяне. Откуда бы взялось иное? Я горожанин, но работал на эпидемиях, жил в деревне. Видел все, как оно есть. Полное отсутствие пасторали. Пыльные рябины, погрызенные лошадьми. Крестьянские лошади в коросте, шишках, ссадинах, дети с бытовым сифилисом. Отхожие промыслы: если себя соблюдать (не пить) – 25–50 рублей в год. Девочки с семи лет за ткацким станком.
Когда все упадет и забудется, скажут: при царе была благодать. Не было.
Благородные дамы приехали в военный госпиталь, чтобы поддержать раненных солдатиков. Собственноручно делали перевязки, сидели у кроватей умирающих, утешали, читали Библию. Одна из них – белолицая, белокурая, совсем девочка, увидела на рукаве у хирурга огромную серую вошь и умилилась: «Ах, какая у вас ползет симпатичная… божья коровка!»
Нет исхода, кроме немедленной социальной революции. Даже в офицерских землянках (оплот царизма!) уже не обсуждается: будет революция или не будет? Обсуждается: когда будет?
Где мое место в грядущем и настоящем? Почему я, член партии большевиков, находящийся в самой гуще событий, искренний противник этой бессмысленной войны, до сих пор вне пропагандистской работы? Неужели от страха? Или из ложно понятой благодарности?
Мой недостаток: при достаточном системном понимании событий у меня мало общественного чувства.
После боев и госпитальной механической суеты мне снится родинка. Идеально круглая коричневая родинка чуть повыше локтя. Из нее растут два темных волоска. Во сне я трогаю их губами, а Люша смеется и отбивается от меня, потому что боится щекотки. Я обнимаю ее со всех сторон (это легко, ведь она такая маленькая, да еще норовит всегда свернуться в комочек!) и она стихает. Во сне мне не нужны социальные революции и социальное равенство. Я просто хочу быть с ней.
Ведущее психическое состояние фронта на исходе 1916 года – упадок духа и пассивная покорность судьбе. Что-то в тылу?
Глава 37. В которой Люша рассказывает Аркадию о домашних и московских делах, а Настя сравнивает хозяина с петухом.
«Милый Аркадий Андреевич!
Вот и еще один год почти прошел.
Варечка наша уж уверенно ходит, залезает на стулья и диваны, забирается по лестнице, говорит «мама» «Атя» «Ботя» «Гема» (это Герман, сын Юлии Бартеневой, больной уродливый мальчик, но притом ласковый и, когда не болит его огромная голова, спокойный) и прочие усадебные имена, животных даже больше, чем людей. Из глаголов только «Дать!» «Пить!» и «упала» (всегда в женском роде). Себя называет в третьем лице, «Вара», четко, к общему удивлению, произнося букву «р». «Мама, Вара дать пить!» «Вара упала!» Почему-то боится павлина Паву и Кашпарекову марионетку (притом, что самого Кашпарека любит).
В деревне глухо и тихо, как бывает внизу у озера перед грозой – где-то над холмами уже собрались тучи и сверкают зарницы, а здесь лишь едва заметная рябь пробегает по поверхности, да птицы перестали петь.
Решили в этом году рассчитать репетиторов и отправить старших детей в Москву, учиться. Домашнее образование неплохо само по себе, но доколе же? Предприятие удалось очень отчасти. Кашпарек отказался наотрез: учиться ничему не хочу, а если в тягость вам, скажите прямо, уйду завтра же. Кто ж станет при таком раскладе настаивать? Понять бы: откуда он берет сюжеты для своих мини-спектаклей? Как умудряется быть в курсе современной политики и даже поэзии? Откуда знает классические тексты, которые его марионетка обильно цитирует? Вне обязательных уроков с репетитором, я ни разу не видела его с книгой, газетой или журналом.
Оля сразу со мной согласилась, выбрала по журналу обучаться в школе народных ремесел, а потом изобразила для всей усадьбы такую васнецовскую Аленушку, отправляемую по барской прихоти «в люди», что ко мне сначала ходили депутации от прислуги «оставьте девчонку хоть при кухне, прикипела она душой, больно ж глядеть, как, возразить благодетелям не смея, бессловесная убивается…», потом Юлия предложила взять ее себе в горничные, а под конец и Александр явился, которому она, как я понимаю, в самом буквальном смысле «в ноги кинулась». Я, как ты понимаешь, плюнула и сама же утерлась.
Атя и Ботя поступили в гимназии на полный пансион и уехали. После Атькиного отъезда на следующий день исчезли и два ее любимых пса. Интересно, куда они направились?
У Бориса, как ты знаешь, наклонности естествоиспытателя едва ль не с младенчества. За прошедшее время они не только не угасли, но укрепились и расцвели пышным цветом. Представь – одна из выполненных им работ про каких-то червей даже была опубликована в настоящем научном журнале! (это Адам Кауфман устроил, с которым Ботя регулярно переписывается). Журнал смачно называется «Новости паразитологии», но Ботя все равно публикацией безмерно гордится и правильно делает. В общем, ему в гимназии все нравится, он там на хорошем счету, особенно по естественно-научному циклу, где, как нам преподаватель сказал, он опережает сверстников года на три-четыре. Скучает только по своей лаборатории, но три воза склянок с какой-то гадостью я в Москву везти решительно отказалась, да и разместить их там негде.
А вот упрямая Атька, согласившаяся уехать в Первопрестольную только ради брата, ровно через месяц из гимназии исчезла, не сумев (или, скорее, – не захотев) освоиться с тамошними порядками, и доселе пребывает неизвестно где. Александр, словно желая меня позлить, с удовольствием рисует всякие ужасы ее судьбы и выводит их то из моего неправильного воспитания, то из изначально порченной Атькиной плебейской натуры (интересно, как же с последним согласуется Атькин близнец-Ботька, опережающий сверстников в развитии?). Лукерья, лишившаяся главного едока, тихо роняет слезы в кастрюли. Феклуша тоже считает Атьку погибшей и ставит свечи в часовне. А я как-то знаю, что с ней все хорошо, и она еще явится как ни в чем ни бывало. Мои аргументы таковы: во-первых, убегая из гимназии, она обчистила там всех, включая классную даму, и одежку выбрала по своему вкусу, то есть голод-холод ей на первое время не грозил ни с какого бока. Во-вторых, Атька всегда умела за себя постоять, и воровать, и даже на паперть пойти, если понадобится, не застесняется ни разу. И на крайний случай: ей неполных 14 лет (мне было меньше) и, хотя она худышка и недомерка, заработать собой на пропитание и приют всегда сумеет. Когда я подробно изложила все свои доводы за Атькино благополучие Юлии и Александру, княгине, кажется, стало слегка дурно. Почему бы это, как ты думаешь? Неужели она никогда не продавалась? Или продать себя за золото и разукрашенные палаты менее зазорно, чем за кусок хлеба и крышу над головой?
Я по всем этим ученически-гимназическим делам в Москве часто бывала и даже жила у Марыси. Ее Валентин-младший – душка, такой карапуз толстощекий, ушастый, и на Валентина-старшего похож как маленький зайчишка на большого зайца. Показать, думаю, что ли его бабке с дедом? Только вот как это устроить, чтобы Моника наверняка не прознала? Письмоводителя Марыськиного жалко очень. Он ее любит без дураков, ну вот как мой муж Алекс в юности Юлию фон Райхерт любил. Смотрит на нее все время так, словно она пирожное, а он – сладкоежка. А она… Ну, она Марыська и есть… Придумала при трактире своем что-то типа салона: «Милая старина», новый флигель сняла и от него галерейку навесную в трактир выстроила. В салоне всякие кружевочки, статуэточки, салфеточки, шляпки, горжетки, картины-картинки. Зачин всему – рухлядь с Торбеевского чердака и из нашей гардеробной, да рисунки старика Сорокина, а нынче уже – свои завсегдатаи из интендантских жен. Эспри со страусиными перьями до войны 25–40 рублей стоило, а нынче уж 250, вот и считай прибыль. На новый год у ней уж заявлено представление и все столики раскуплены… Сейчас в Москве много такого развелось, на первых этажах, в подвалах, даже название появилось: «веселые уголки».
Мотовство страшное, удаль дурацкая. Марыська говорит: чем дороже цену поставишь, тем скорее вещь купят. Спекулянты-однодневки, богатые беженцы с европейских пределов. Последний день Помпеи.
«Стрельну» опять открыли, Глэдис от меня съехала.
Навещала ее, заодно старых цыганских знакомцев повидала. На вид в ресторане все по-прежнему, но Глэдис говорит: все как в жару, в лихоманке.
В клубах – Английском, Купеческом, Охотничьем – мечут банк и за одну ночь сумасшедшие деньги проигрывают нажившиеся на поставках деляги с Лубянки и Китай-города, а люди с той же ночи занимают очередь в хлебные лавки, и не всем хватает.
Обманутая толпа становится страшной – мне ли о том не знать! Ломают прилавки, бьют окна и двери, говорят, что хлеб и сахар прячут жиды, а немецкие агенты отравляют муку. Таких погромов было уж немало. Не забыть и «духовную жизнь» москвичей. Ходят по рукам, распространяются шепотком всякие записочки, стихи, откровения «божьих людей» и «странников», эпиграммы, картинки…
«Хвосты», «хвосты» везде по городу – хлебные, молочные, мясные, яичные, керосиновые.
Говорят, вчера городским указом запретили выпечку тортов, пирожных и печений.
По ночам к Брестскому вокзалу, как на бал привидений, позвякивая и посверкивая, съезжаются белые санитарные трамвайные вагоны. У них внутри пружинные подвесные двухэтажные койки, которые все до отказа заполняются ранеными из прибывших с фронта эшелонов. Тихие женщины в темных одеждах неизменно присутствуют при разгрузке, плачут беззвучно, суют раненым какую-то еду, ищут своих – мужей, сыновей, братьев, любимых…
От ужаса и беспросветности жизни всегда что спасало? – водка. А спиртное нынче есть для богатеев, подрядчиков и нету для всех остальных. Сухой закон. Так чего только на Москве не пьют: от денатурата до киндер-бальзама! Вернувшийся из Калуги Кашпарек спрашивает Олю: Ты ханжу пробовала? Нет? Ну и дура. С клюквенным квасом знаешь как хорошо идет!
Юлия уезжала в Петербург к мужу (Германа оставляла у нас) и вернулась. Говорит, в столице глухие, нехорошие разговоры и откровенно мертвечиной несет. Верю ей, у нее обоняние всегда тонкое было.
Александр все носится с недавней речью своего Милюкова: «…что это? – глупость или измена?»
Я ему говорю: да какая разница?! – сходи ты в деревню, спроси: нужны ли им ответственные министерства?
Чем-то все разрешится?
Я иногда виню себя: смотрю на все со стороны, будто и не участвую во всем. Живу ли я? По всем формальным признакам: живу каждый день, с раннего утра до глубокой ночи.
А после? Какой-то глухой шум в голове. Шорох, плеск, холод – словно ледяной горох сыплется в темную воду. Седлаю лошадь или иду в парк. Снег сиреневый и пахнет замороженными фиалками. «Это твои бугагашеньки по ночам не спят!» – говорит Владимир. Он один умеет усыпить меня. Мальчик, ребенок. На сколько хватит моих и его сил? Я поручила Агафону Аморе. Ботя и Атя всегда удержатся друг за друга. А остальные?
Если б ты был со мной, все было бы иначе. Хоть на денек, на час, на минуту увидеть тебя… Или не видеть даже, просто знать, что ты есть, ходишь под этим же небом, и, может быть, мы с тобой одновременно смотрим на одну и ту же звезду, полную невыразимой нежности… Мне бы хватило, ты ведь знаешь, что я с детства привыкла довольствоваться малым, в моей стене было слишком мало окошек.
Аркадий… Аркаша…Аркашенька…»
Пасмурным днем синие, голубые и фиолетовые перья Синей Птицы светились сами по себе, разбрасывали отблески по залу. Юлия Бартенева в узком платье цвета фиалок вписывалась в интерьер идеально.
– Юленька, я так рад, что ты вернулась! Я сходил с ума и проклинал себя, думая, что чем-то обидел или расстроил тебя, что больше тебя не увижу…
– А что думает по поводу моего возвращения твоя жена? Не в тягость ли ей Герман и наши с тобой отношения?
– Моя жена? – картинно удивился Александр. – Она по ночам скачет на лошади, а днем переписывается с покойниками. Какое ей до нас, а нам до нее дело!
– Мне нравится, как ты говоришь, – Юлия улыбнулась медленной улыбкой и протянула Александру обе руки. Он жадно схватил их и покрыл мелкими частыми поцелуями.
«Как голодный петух зерно в грязи собирает», – подумала горничная Настя, забрала сметку для пыли и вышла из голубой залы.
Глава 38, В которой Атя встречает революцию
Длинные афиши мокнут под снегом, лоснятся в свете электрических огней. Везде плакаты, призывающие жертвовать на помощь раненным, беженцам и военным сиротам. На плакате, призывающим жертвовать на полевые бани для солдат, почему-то нарисована не вошь или отмытый солдат, а Лев Толстой (в своих военных воспоминаниях Л. Толстой описывал устройство и превозносил пользу переносной бани – прим. авт.). Комитет солдатских приемных матерей объявляет сбор теплых вещей…
Гудящие клаксонами автомобили, роняющие пену рысаки на улице перед кинематографом. Люди, как закипающее варево, спирально движутся, толпятся между экипажами, перед входом. Как красива Кавальери! (Лина Кавальери – кинодива того времени – прим. авт.) Вот если бы у Ати когда-нибудь отросла такая грудь и такие ресницы… Но ведь, сволочи, не отрастут…
– Ай, кошелек стащили!
Если немного пошнырять в толпе, то можно набрать на ужин и даже на билет. Но нужно быть осторожной, чтобы не нарваться на конкурентов, воровскую братию – у чужачки всю выручку отберут, да еще и по шее накостыляют.
Но в темном зале кинематографа так тепло и уютно! Фильма называется «Чары неги и страсти» – под нее так приятно помечтать о будущем… Какое у героини кольцо! Бриллиант размером с фрикадельку! Говорят, у Люшикиной матери-цыганки тоже был такой, но во время пожара делся куда-то… Интересно, кто его украл?
27 февраля газеты не вышли вообще. Атя вместе с хитровскими огольцами, которые с восторгом приветствовали любую смуту, задаром взялась распространять листовки, отпечатанные на ремингтонах, гектографах и шапирографах.
– Восстание в Петрограде! – звонко кричала она, размахивая сероватой пачкой и норовя сунуть листовку барыням и господам понадутее с виду. – Революция, как в Париже! Призрак Красной Пресни бродит по Москве!
Откуда разом взялось столько красных знамен?
«Мануфактуру какую разгромили, что ли?» – думает Атя.
Студенты идут к Думе, взявшись за руки. Рабочие с Симоновской слободы поют грозные революционные песни. Атя с восторгом подпевает:
– Проверьте прицел, заряжайте ружье, Вперед, пролетарий, за дело свое! Вперед, пролета-а-а-арий…Говорят с верхних ступенек, ораторы сменяют друг друга. Вся Воскресенская площадь запружена народом – солдаты, разодетые дамы, гимназисты, рабочие и работницы. Что говорят – Ате не слышно. Да и какая разница? Вместе с мальчишками Атя залезает на крышу трамвайного павильона, чтобы лучше видеть происходящее.
Какого-то оратора несут на руках и качают. Кажется, это офицер. Может быть, он пообещал, что теперь война закончится?
Со стороны Красной площади едут конные жандармы и городовые… Ух ты! Что теперь будет?! … Ничего, просто проехали, народ расступился, городовых проводили улюлюканьем.
Рабочий Военно-промышленного завода рассказал, что казаки, вставленные в заслонах командующим московскими войсками генералом Мрозовским, добровольно пропускали их на митинг. Рабочие завода Михельсона явились вооруженными – принесли с собой самодельные ножи, гайки и болты.
Говорили, потом опять пели, потом опять кого-то качали. Атя замерзла сидеть и стоять на павильоне и пошла вместе с частью толпы к Спасским казармам – агитировать солдат за революцию. Когда вынесли ворота, некоторые солдаты были уже готовы встать на сторону народа – спускались из окон на связанных простынях и ласково обнимались и целовались с приветствовавшими их рабочими. Другие еще колебались – ведь никому неизвестно, как дальше обернется, а за измену присяге их ждал военно-полевой суд.
Атя опять пела со всеми «Вы жертвою пали» и «Варшавянку» (словам ее еще прежде научил Фима Михельсон, последний из репетиторов и член «Бунда» (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России, стоящий на марксистских позициях – прим. авт.) и кричала «Долой самодержавие!» (под «самодержавием» она понимала гимназические порядки, городовых, околоточных приставов и кондукторов в трамвае, с царизмом это слово у нее никак не связывалось). Окончательно утомившись, отправилась на Хитровку – спать. По пути поживилась чем Бог послал. Чувствовала, что впереди еще много веселого.
Так и оказалось. Первыми разоружили и провели по Тверской малиновых, толстых, бородатых городовых. Потом еще кого-то арестовывали, выпускали, разоружали и наоборот вооружали, по всему городу носились грузовики с солдатами и людьми в штатском. Ездили как будто бы беспорядочно – как-то Атя стояла у тумбы на перекрестке, грызла семечки, так одна и та же машина проехала мимо нее четыре раза в разных направлениях. Атя катающимся на грузовиках отчаянно завидовала (среди них попадались и девицы, с блестящими от свободы и кокаина глазами), но не могла сообразить, как туда попасть – не бросаться же под колеса!
На другой день после митинга перед Думой город просто затопило красным. У всех буквально были красные банты, галстуки, повязки, косынки, кокарды и прочее. Некоторые дамы даже обтягивали пуговицы красной материей. Атя тоже завела себе большой красный бант, и носила постоянно, как знак своей полной и категорической революционности.
Выпустили из Бутырок политических заключенных. Вместе с ними под шумок бежали и уголовники. Вечером на Хитровке и Грачевке была большая революционная гульба – море ханжи (спиртной напиток из разведенного денатурата с различными добавками – прим. авт.) и «мельницы» (разновидность рулетки, жарг. – прим. авт.), работающие безостановочно. На следующий день во время облавы многих повязали обратно – напившись в стельку, воры не могли ходить, и милиционеры, заменившие полицию, грузили их в кузов, как дрова. Атя с теми из фартовых, кто не потерял головы, укрывалась под землей, в трубе, по которой текла Неглинка. Бояться ей вроде было нечего, но – приключение!
Очень понравился Ате парад, когда над толпой низко-низко летали аэропланы, пускали листовки и даже сбросили букет цветов для Грузинова – командующего революционными войсками.
Как-то очень странно показалось, что теперь совсем не будет царя. Атя была тихо влюблена в царевича Алексея и думала, что после отречения Николая II царствовать будет он. Эта мысль ей очень нравилась, она обожала Ростана, без затруднений переносила происходящее в его «Орленке» на российскую почву и почему-то была уверена, что при Алексее в России мигом прекратится война и наступит всяческое благоденствие.
Когда узнала, что Николай отрекся и за сына тоже, немного поплакала над развеянной мечтой.
Потом по призыву Совета прекратилась забастовка, начали ходить трамваи и вроде бы поменьше стали «хвосты». Что ж, революция закончилась? – разочарованно подумала Атя. – А как же война?
С подножия памятника Скобелеву напротив дома генерал-губернатора огромный человек сначала читал стихи, скачущие, как град по листьям капусты, а потом кричал: Теперь война не та! Теперь она наша! И я требую клятвы в верности! Требую от всех и сам ее даю! Даю и говорю – шелковым бельем венских кокоток вытереть кровь на русских саблях! Урра! Урррра!
Фамилия поэта была Маяковский. «Вот чем клятвы давать и от других требовать, сам бы и шел на эту войну, – неприязненно пробормотала Атя себе под нос. – Как доктор Аркаша ушел, или Сарайя, или Агафонов отец. А то вишь ряшку какую наел и разорался…»
В воскресенье, 12 марта, на Театральной площади была демонстрация солидарности с петроградскими рабочими, свергнувшими царизм. Атя ходила смотреть и не пожалела. Москва предстала перед ней чудесно-радостной, весенне-свободной и восточно-пестрой. Сарты (самоназвание оседлых узбеков – прим. авт.) в халатах несли плакат, написанный арабскими письменами. Сине-желтое знамя украинцев и крики: «Нехай живе Интернационал!» У евреев, одетых в темные одежды, кроме красных, есть и черные знамена. Синяя форма кондукторш трамвая. Море алых знамен у конников. Сияние солдатских штыков. «Долой Вильгельма и да здравствует революция в Германии!» Марсельеза, превращенная солдатскими глотками почти в частушку: «Эх, да-и эх – отречемся от старого мира!» И, наконец, главное – чудесный дрессированный слон от клоуна Дурова! Слон покрыт алой революционной попоной, на которой золотом вышито: «В борьбе обретешь ты право свое!»
«Вот я и видела революцию, – засыпая под нарами в родной ночлежке и по-обезьяньи почесываясь, думала Атя. – Ботьке-то все равно, его только червяки интересуют, а вот в Синих Ключах все точно обзавидуются…А Володька, как я ему про слона расскажу, так прямо умрет! А Люшика, может быть, грустить перестанет… Свобода! Теперь все-все будет по-другому… А мы с Ботькой еще такие молодые и все увидим…»
Эпилог
Звезды плавали в озере. Ленивая волна выбрасывала их на берег, они немного ползли по песку, а потом гасли.
– Откуда ты узнала, что сможешь найти меня тут? Ночью, на озере?
– Для сумасшедших это нетрудно… – у девушки были набухшие, воспаленные, словно яростно искусанные губы.
– Почему ты не обратилась к родным? К брату в Петербурге? К матери и сестре в Москве?
– Они бы нашли случай отправить меня обратно.
– Но почему сейчас? Адам говорил, что ты могла сбежать из лечебницы в любой момент…
– Революция. Ты разве не слышала о ней? В прошлом мире для меня не было места. В новом я надеюсь его найти.
– Луиза, ты помнишь своих эсеров? Как ты пыталась убить главного жандарма?
– У моей памяти хороший вкус. Помнится только существенное.
– Что ты собираешься делать теперь? Ты думала об этом там… на «Лунной вилле»?
– Ты знаешь лучше меня: мысль о мести бывает спасительна для погибающей души. Нельзя уйти немедленно, сначала нужно восстановить нарушенный баланс. Кажется, что его можно восстановить еще одной смертью. Потом, когда все минуло, понятно, что только жизнью.
– Да, ты права, я это хорошо знаю. Чем я могу тебе помочь?
– Мне нужны деньги, одежда и хоть какие-нибудь документы. Думаю из своих связей тебе удастся все это организовать.
– Наверное. Но мне понадобится время. Как я понимаю, ты не хочешь, чтобы в Синих Ключах знали о тебе. Стало быть, тебе придется пока пожить либо в лесном домике у Мартына, либо в избушке колдуньи Липы.
– Если можно выбирать, я предпочла бы колдунью.
– Договорились.
– Спасибо тебе. И не думай, что я буду неблагодарной. Я решила все запрошенное у тебя не выпросить, но купить.
– Купить? – удивилась Люша. – А что же будет платой?
– Разумеется, любовь, – наполовину отвернувшись, пожала плечами Луиза. В свете луны и звезд ее профиль отбрасывал на светящийся песок причудливую тень. – Что же еще?
Люша помолчала. Потом заговорила медленно и мягко, подбирая слова:
– Луиза, я понимаю вполне твое желание не быть обязанной и благодарна тебе за твои чувства. Но по самому своему устройству я не могу ответить на них так, как тебе, быть может, хотелось…
– Какая разница, чего бы мне хотелось! – хрипло рассмеялась Луиза. – Тебе безразлична, может быть даже неприятна моя любовь, я это давно знаю – и что же с того? Я может быть сумасшедшая, но не дура, и за нужное мне предлагаю настоящую плату – ту единственную любовь, которая нужна тебе.
– Любовь, которая нужна… мне? – Люша прищурилась и поднесла руку к горлу. – Лиза… что… что ты имеешь в виду?!
Девушка молчала.
– Я покупаю, Луиза, – решительно сказала Люша. – Ты сможешь потом назначить любую цену, потому что за это я, не торгуясь, отдам все, что у меня есть. Говори сейчас!
Луиза удовлетворенно и торжествующе улыбнулась.
– Вообще-то я обещала ему не говорить тебе, а Адам Михайлович сказал, что это несправедливо, потому что в космическом смысле именно ты снова собрала его по кусочкам, как Исида Осириса. Но все это было в том, старом мире, в котором еще не было революции. Я думаю, что теперь, в мире новом, поменяются все законы, и сами собой отменятся старые клятвы… Чтобы вышло подороже, я собрала все сведения, которые сумела раздобыть, и теперь не только верну тебе его жизнь, но даже смогу сказать, как его сейчас зовут…
– Лиза, я, кажется, знаю… – медленно выговорила Люша, опускаясь на песок. – Знахарь. Его зовут Знахарь. Ведь так?
Луиза чуть слышно вздохнула и едва заметно кивнула головой.
А за озером, над лесом, во всем своем предрассветном великолепии всходила зеленая весенняя звезда.
КОНЕЦ
Примечания
1
М.Метерлинк Пеллеас и Мелизанда. Действие третье, картина вторая. Пер. В.И. Брюсова.
(обратно)

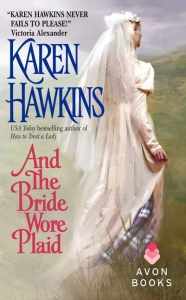


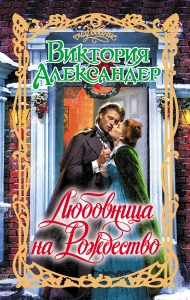
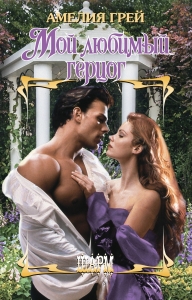
Комментарии к книге «Звезда перед рассветом», Екатерина Вадимовна Мурашова
Всего 0 комментариев