Уйда Последняя из Кастельменов
(Новелла Уйда.)
Цецилия Кастельмен была краса своей семьи и в то же время самая красивая из всех женщин в роде Кастельменов, когда бывало проходила по громадным залам замка Лиллиесфорд. То было давно, полтора столетия тому назад. Весь город сходил по ней с ума. Ее красота — более могущественная сила, чем сама ненависть партий — одинаково признавалась как вигами Сен-Джемса, так и тори Бокао, как красавцами Гаррауай, так и мелкими владельцами Озинды.
Везде — на Сенной площади, равно и в опере или на королевском балу — ее окружали самые высокопоставленные, самые выдающиеся люди из ее современников; прекрасный же пол партии вигов от души ненавидел ее, так как она до мозга костей принадлежала партии тори и в душе была сторонницей короля Якова III: она поклонялась Болингброку, ненавидела Мальбороу и принца Евгения; сильно верила во все ужасы той программы, которую, как говорили, приготовили виги для годового праздника на 1711 год, и ею же, как подозревали, была внушена знаменитая сатира на прекрасных дам, занимающихся политикой, которые были выведены в № 81 «Зрителя», под именем Розалинды и Нигранилль.
Цецилия Кастельмен — еще красивее в двадцать четыре года, чем в семнадцать — была еще не замужем, несмотря на то, что самые знаменитые люди в государстве готовы были предложить ей свою руку. Стоя выше кокетства своих подруг, презирая игру веером и светское жеманство, блестящая, гордая, не имеющая себе равных, она всецело принадлежала самой себе; ни один из самых блестящих джентльменов в городе не мог похвалиться в обществе своих товарищей, не прибегая для этого к более нахальной лжи, чем сам Том Уартон, что осчастливлен хоть единым ободряющим взглядом дочери графа Кастельмена. Напрасно советовал ей отец не пренебрегать партиями, которым завидывали все придворные дамы; и когда ее прелестные подруги, истые кокетки, смеялись над ее холодностью, сильно завидуя ее победам, она, только слегка улыбалась и качала головой. Но она, может быть, просто бессердечный человек? Цецилия не оспаривала такого взгляда.
— Ну, разве не милы эти люди?
— Пожалуй, милы.
— Например, его светлость Бельамур?
— Человек умный, нет сомнения.
— А лорд Мильамонз?
— Забавник, но хвастун; у него красивые руки. Жаль только, что он постоянно об этом думает.
— А сэр Гай-Риверс?
— Такой же внимательный влюбленный человек, как выведенный в комедии «Светская дорога». Но она слышала, что он смеялся над женщинами, когда пил шоколат в Озинда.
— А граф Даржан?
— Храбрый воин; но какая возлюбленная в состоянии будет соперничать в его сердце с игральными костями Грум-Портера?
— А лорд Филипп Бельяр?
— Настоящий джентльмен, образец придворных, изящный, безупречный молодой человек; нравится всем, но не нравится ей.
Очень может быть, что она была слишком разборчива, слишком спесива, как про нее говорили; но что же делать, если она была такая? Да и к чему желать ей пересоздаваться, когда она и так была счастлива?… Что касается до нее, то она в свою очередь не могла понять, как можно так затрачиваться на игру веером, на выбор и подбор лент, на упражнения перед зеркалом в выделывании поклонов — и все только для того, чтобы добиться взгляда, улыбки людей, которым они сами не придавали никакого значения. Красивая и гордая женщина должна была стоять выше этих притворств и мелких побед.
Так думала Цецилия Кастельмен и гордо шла своею дорогой, оставаясь всегда победительницей и никогда побежденной.
Ричард Стиль, наверно, думал о ней, когда под именем «Набожной кокетки» писал в своем дневнике: «Я уважаю тех, которые могли бы быть кокетками, но не хотят, и от души презираю тех, которые хотели бы быть, но, отчаявшись в возможности, не находят слов, чтобы достаточно очернить своих соперниц, более счастливых, чем они сами».
Итак, Цецилия Кастельмен была в то время царицей. Когда бывало она сидела в театре, в своей ложе, на той стороне, которую занимали виги, то самые горячие поклонники мистрис Олдфильд и мистрис Портер едва ли слышали тогда хоть одно слово из «Девы-героини» или из «Влюбленной вдовы», и изящный молодой человек, всего более напыщенный своим собственным превосходным костюмом, смотря на нее, когда она сидела с видом царицы и когда на ее челе блестели бриллианты Кастельменов, забывал о своих перчатках с серебряною бахромой, о табакерке с рисунками, о чудной трости и о храбрых подвигах, о которых он мечтал.
Какова должна была быть радость ее подруг, когда 22 июня большая семейная карета с тремя раскрашенными цаплями на дверцах, изображающих герб, с шитыми ливреями, с позолоченною сбруей, тяжело колыхаясь, катила из Лондона по отвратительным проселочным дорогам, а крестьяне, выходя из своих хижин, изумленно смотрели на княжескую пышность дорожной повозки милорда.
В городе ходили слухи, что известная духовная особа, священник графа Кастельмена, слишком нескромно болтал в «Кафе Чайльд» о политике своего патрона, что будто после Утрехтского мира, когда снова можно было привозить французские товары, через Ламанш провозили шифрованные письма в палочках шоколата; что некоторые высокопоставленные особы были сильно заподозрены в замыслах, враждебных спокойствию государства; что граф от одного из своих высокопоставленных родственников, между прочим, получил совет — оставить на некоторое время двор, где на него дурно смотрели, и тот город, где за самое ничтожное, неблагоразумное слово его могли препроводить в каземат, — и ехать в свое имение Лиллиесфорд, где олени не берут на себя роли шпионов и где буковые леса хранят тайны.
Прекрасные дамы, зная, что на весь сезон у них будет свободное поле, радовались при мысли, что Цецилия закупорена в своем замке, и от всего сердца наслаждались историей шифрованного письма, злыми речами в кафе вигов, дурною славой, которую оставил в Сент-Джемсе граф, и в особенности — что, впрочем, входит в правило человеческой природы вообще, будет ли та женская или мужская — несчастием своих друзей.
То было в июне 1715 года. Тори глухо волновались. Арест Орнонда и Болингброка ускорил удаление новоприбывших из Ганновера. Джентльмены побитой партии начали нетерпеливо относиться к вторжению немцев и с сожалением думать о законной династии; они также начали понимать усиливающееся раздражение своих соотечественников на севере, которые давно бились, как стая благородных гончих, которых держат на привязи. Эмиссары то и дело разъезжали то в Сен-Жермен, то к благородным якобитам. Католические священники принимали участие в этих интригах. Доставлялись письма в ничем неповинных пучках кружев и планы войны, завернутые в конфекты. То было страшное время, переполненное заговорами и противозаговорами, опасностями и кознями, — один из тех моментов, когда люди, живя постоянно над миной, привыкают любить неизвестность и уже находят жизнь безынтересной, если не предвидится с минуты на минуту возможности расстаться с ней.
Граф Кастельмен счел за лучшее последовать данному совету — оставить Лондон, отчасти для своей личной безопасности, отчасти для того, чтобы подвинуть свое дело, так как и тому и другому было бы лучше от его пребывания в графстве, нежели от соседства вигов в столице.
Замок Лиллиесфорд — громадная постройка времен норманов — скрывался на западе в густых лесах. Когда приехала туда Цецилия, чтобы разделить уединение своего отца, стада оленей паслись под буковыми деревьями и лебеди смотрелись в зеркальную речку так же, как пасутся и смотрятся и в настоящее время, когда ее имя и ее титулы красуются уже на гробнице, где она покоится в мавзолее по ту сторону парка. Вся деревня нарядилась в свою зеленую ливрею Иванова дня, и розаны засыпали своими душистыми лепестками бархатный газон, по которому ступала прекрасная изгнанница.
Было безоблачное утро, когда она спускалась по большой лестнице, где дамы и кавалеры — ее предки, рисованные Лели и Джейсоном, казалось, следили за ней из глубины своих полированных рам; она прошла по площадке своей гордой и легкою поступью и поднялась на террасу, возвышавшуюся над парком. Сам Ван-Дик с удовольствием бы стал рисовать портрет этой молодой девушки, которая стояла теперь на балконе вся окруженная цветами и облитая светом. С любовью бы перенес он на полотно ее руку, грациозно покоившуюся на голове борзой собаки, ее прелестную и величественную осанку, ее глубокие голубые глаза, ясный лоб и игру света в складках ее шелкового со шлейфом платья. Но ее портрет, рисованный самим Ван-Диком, этим истинным учителем изящного, не был бы так верен, как тот набросок, который был сделан несколько позднее любящим ее человеком. Этот набросок и теперь еще можно видеть в большой галлерее Лиллиесфорда, освещенной падающими из западных окон лучами солнца.
Цецилия долго стояла на террасе, смотрела на лес, на холмы, по-прежнему положив руку на голову борзой собаки. Она не замечала пейзажа, который расстилался вокруг нее: ее мысли были далеко; они были заняты разбором шансов за и против того дела, которое она так близко принимала к сердцу, — опасностями, которым подвергался отец, и теми далекими перспективами, которые сулили ей возврат счастья для дома Стюартов, единственного, который Кастельмены когда-либо признавали за дом своих королей. Она с сожалением покинула город; но то, о чем жалела она, был не Бельамур, не сэр Гай-Риверс; она сожалела о жизни, об уме, о прелестях света, где она — царица дня — привыкла царить. Но воспоминанию прошлого она отдала всего несколько минут. Когда, в первое утро своего изгнания, она стояла на террасе, ее мысли постоянно уносились к честным джентльменам севера или ко двору Сен-Жермена. Казалось, она улыбалась какому-то видению победы, вызванному самолюбием и фантазией. Когда раздался топот лошадиных копыт, она быстро подняла глаза и увидала всадника. Он скакал по аллее к главному подъезду дворца. Лошадь под ним была покрыта пеной и, казалось, сильно заморилась от долгой езды; сам он казался не менее утомленным, но тем не менее, проезжая у подножия террасы, он снял шляпу и низко поклонился.
«Уж не посланный ли это, которого ждут из Сен-Жермена?» — спрашивала себя лэди Цецилия в то время, как ее собака злобно заливалась на проезжего.
Вернувшись к себе в комнату, она рассеянно принялась вышивать свой носовой платок. В это время ей пришли сказать, что «его милость» просят ее пожаловать в осьмиугольную комнату. Там она встретила приезжего, которого отец представил ей как одного из самых верных своих друзей, сэра Фульке Равенсуорса, того самого, которого они ждали. Цецилия поклонилась с тем видом уверенного в себя достоинства, которое нельзя назвать снисходительностью, но которое, казалось, навсегда исключало всякую фамильярность и как бы воздвигало вокруг нее непроходимую преграду.
Сэр Фульке Равенсуорс был высокий, красивый мужчина с благородною наружностью; его лицо, загорелое от лучей чужого солнца, теперь побледнело от усталости с дороги; его платье, шитое золотом, еще было покрыто пылью. Но тем не менее, когда он поклонился, Цецилия Кастельмен тотчас заметила, что ни лорд Бельамур не мог иметь лучшей грации, ни лорд Мильамонт — такого величественного придворного вида. Однако она скоро стала внимательно слушать рассказ отца относительно новостей, привезенных сэром Фульке из Сен-Жермена, — привезенных с лихорадочною торопливостью среди тысячи опасностей и многих переодеваний. То было шифрованное письмо от Якова Стюарта к своему верному и многолюбимому поданному Георгу Герберту графу Кастельмену, письмо необычайной важности, которое в те опасные дни, когда фигуры на обоях, казалось, подслушивали за вами, а собака, которая спала около вас, казалось, готова была прочесть и выдать вашу мысль, — надо было читать при закрытых дверях.
Тотчас уехать из Лиллиесфорда было бы одинаково опасно как для посланного, так и для графа: оставить его у себя — был единственный исход. Тот, кто не за деньги исполнил такое поручение, не мог так скоро удалиться и снова подвергнуть себя всем опасностям, стараясь достигнуть берегов Франции. Граф дал понять это посланному. Тот благодарил, соглашаясь на его предложение.
Может быть красавица, у которой, он видел, блестели глаза от радости и гордости, когда она читала царское приветствие, — может быть именно она заставила его с удовольствием согласиться продолжить здесь свое пребывание, а может быть его вообще мало интересовало, где он проведет время в ожидании определенной минуты двинуться в поход на жизнь и смерть за «Белую Розу и длинные волосы». Он был не больше как простой солдат «счастья», бедный джентльмен, без всякого состояния, кроме своего имени, без всяких знаков отличия, кроме своей шпаги, и преданный такому делу, которого звезда с давних пор потускнела. В продолжение нескольких лет его жизнь представляла ряд опасностей и приключений — то на войне под Бервиком в Альманце, то рискуя жизнью при исполнении опасных поручений, которые Яков Стюарт не мог доверить никому другому. Храбрый до безрассудства, он тем не менее обладал тонкостью дипломата, и изгнанный двор таким образом имел в нем самого дорогого слугу: совершенно по-княжески, а также и совершенно по-человечески, Стюарты старались воспользоваться его услугами, но всегда забывали вознаграждать его за его подвиги.
Леди Цецилия несколько скучала. Выслушивать по воскресеньям замечания насчет бесконечных проповедей капеллана, играть в крамбо[1], принимать или самой навещать живущих в деревне жен пэров, которые не бывали в Лондоне со времени коронации королевы Анны, принимать кавалеров или охотников за лисицами, которые не знают другой музыки, кроме лая своих гончих — все это для нее было плохим утешением. Даже присутствие посланного от Стюартов теперь не было для нее безразлично.
В начале она мало его видала; она говорила с ним только за столом, с тем вежливым достоинством, которое так не похоже на легкие манеры высоких современных ей дам, с тем спокойным и холодным видом, который наполовину леденил самые сладкие речи на устах Бельамура и превращал в нерешительные самые смелые дела.
Мало-помалу она увидала, что сэр Фульке был знаком со многими странами, что он знал язык и литературу Франции, Италии и Испании, наконец, что он прошел науку светского человека в салонах Версаля при приеме герцогини Мэн и при дворе Сен-Жермена. Он говорил с увлечением, но серьезно и решительно, о необходимом кризисе, который приближался, и его разговоры больше нравились Цецилии, чем тот вздор и пустяки с претензией на что-то, к которым ее приучили в Лондоне. Там, среди обожателей, которые оспаривали друг у друга ее веер, она, без сомнения, едва ли бы заметила бедного офицера. Здесь не она снисходила и слушала поверенного короля, снисходила до улыбки, и какой улыбки? — такой редкой и такой прекрасной на ее гордых устах… Когда он рассказывал ей о придворных дамах других стран, а иногда — он это делал неохотно — и о своей жизни, полной случайностей и опасностей, она интересовалась. Она любила затягивать с ним беседу, когда они вместе возвращались верхом по буковым аллеям или когда, стоя на террасе замка, они оба любовались закатом солнца. Джентльменты и дамы Сент-Джемса с своими французскими романами, с своими цитатами из «Aurungzebe» совсем не приучили ее в подобным разговорам.
Фульве Равенсуорс никогда не льстил ей, и лесть всегда была противна вкусам Цецилии. Он спокойно при ней осмеливался хвалить красоту других женщин; он даже имел смелость не всегда соглашаться с ее мнением. Хотя он был солдат, но он умел владеть карандашом и кистью; он читал ей вслух поэму Тасса или комедии Лопе-де-Вега. И этот бедный дворянин, без будущего, говорил о жизни и своих надеждах, — говорил с такой смелою решительностью, какой она до настоящего времени еще ни у кого другого не встречала. Одним словом, во время этих длинных летних дней лэди Цецилия нашла в посланном из Сен-Жермена собеседника по своему вкусу. Она уже меньше искала уединения в своей комнате и охотно слушала его по вечерам, когда роса переполняла лепестки роз и звезды смотрелись в воде промежду кувшинок. Какое-то сладкое чувство овладевало ею тогда, — ею, которая хвалилась тем холодным равнодушием, на которое так часто жаловались ее обожатели; это сладкое чувство и придавало ее красоте ту тайную прелесть, которой до этих пор не доставало прелестной Кастельмен. Когда она грустно проводила рукой по перьям своего сокола, когда она слушала стихи, где Петрарка и Конгрева говорят о любви, можно было видеть, как время от времени ее щечки и лоб покрывались легкою краской, так быстро исчезавшей, как отражение вечерних облаков на белой мраморной статуе. Затем она овладевала собой, отгоняла свои мечты и по-прежнему становилась горда, холодна, как бриллианты Кастельменов, которые она носила в волосах.
Так проходило лето. Желтела нива, листья буковых деревьев принимали осенние краски. Как рожь спеет только ради превращения и листья на деревьях золотятся для того только, чтоб умереть, точно также и сильнейшее людское честолюбие и самые сладкие надежды растут собственно для того, чтобы погибнуть в разочаровании.
Четыре месяца прошло с тех пор, как посланный от Стюартов приехал в Лиллиесфорд, — четыре месяца, которые для него прошли как сон; настала минута, когда он должен был исполнить полученный приказ — скорее ехать в Шотландию и отвезти инструкции и депеши к графу Мэру: претендент на престол готов был соединиться с верными шотландцами. Если судить по отваге Фульке Равенсуорса, то победа казалась верной; поражение вследствие внутренних усобиц или измены было невозможно. Может быть успех даст ему право, — ему, который, кроме чести и шпаги, ничего не имеет, — даст ему право добиться….
Цецилия Кастельмен стояла в амбразуре своего окна; лучи октябрьского солнца играли в опалах ее корсажа; она держала руку у сердца, как будто там ей было что-то больно. Для нее было совсем ново это беспокойство, эта усталость, эта тяжесть, которые она чувствовала и которые ее не покидали. Не опасение ли это, — говорила она себе, — за общее дело, не от опасностей ли, которым подвергается ее отец? Но как это было слабо, по-детски, недостойно женщины из рода Кастельменов!… А между тем тоска не покидала ее.
Собака, — она спала возле нее, — с глухим ворчанием подняла голову, когда послышались мужские шаги в святилище ее госпожи; затем, узнавши друга, она снова улеглась спать. Цецилия медленно подняла голову; она знала, что лошади уже ждут; она думала избежать церемонии прощанья и никак не предполагала, чтобы кто-нибудь был настолько дерзок и осмелился бы войти в ней прощаться, не испросив предварительно на то позволения.
— Леди Цецилия, я не мог уехать, не услыхав от вас ни одного слова. Простите, что я осмелился придти за ним сюда!
Каким образом случалось, что прямые и краткие слова Равенсуорса нравились ей всегда больше, чем позолоченные и вкрадчивые речи всех других, ему самому трудно бы было это объяснить, если только это происходило не от того, что в тоне его голоса было нечто честное, серьёзное, совсем новое как для ее слуха, так и для сердца.
Она сильней сдавила в руке опалы — признак тоски — и улыбнулась:
— Пусть Бог не оставит вас, сэр Фульке, и пусть хранит вас от всякого несчастия.
Он тихо поклонился, затем, выпрямившись и смотря на переливы света в ее опалах, произнес:
— И это все, чем вы наградите меня?
— Все!… А вы хотели бы большого, сэр Фульке? И это у же много, — я не сказала бы так другим.
— Простите! Действительно это много, и я не стал бы просить вас о большем, если бы действовал благоразумно и согласно с рассудком. Я не имел никакого права требовать большого; подобные просьбы дозволительны только любимцам счастия, у бедняка же не должно быть ни чувства, которое может его заставить страдать, ни гордости, которую могут оскорбить, — это все достояние счастливых.
Губы Цецилии побледнели, но она с гордостью ответила:
— Ваша речь странна, сэр Фульке, я не понимаю ее.
— Значит, вам ни разу не приходила мысль, что здесь, подле вас, я подвергаюсь более смертельной опасности, чем на поле сражения? Вы не догадались, что я имел безумие, имел гордость любить вас?…
Она покраснела до ушей, а потом сильно побледнела. Первым ее движением было чувство оскорбленной гордости. Бедный дворянин говорил ей о любви, — слово, которое самые смелые люди едва осмеливались произносить возле нее шепотом. И он смел чувствовать к ней любовь и даже отважился сказать это!…
Равенсуорс заметил чувство досады и гордости, которые выражались в каждой черте ее прелестного лица, и, когда она захотела было говорить, он остановил ее:
— Погодите! Я знаю, что вы хотите сказать. Вы находите, что с моей стороны это — дерзость, для которой нет имени, что это безрассудство…
— Так как вы хорошо угадываете мои мысли, то не лучше было бы избавить меня и себя от этого бесполезного и неожиданного свидания. Зачем?
— Зачем? — Затем, что может быть вы никогда не встретитесь со мной в этой жизни и может быть вспомните с теплотой и прощением о том оскорблении, которое я вам нанес (если только можно оскорбить вас тем, что полюбить вас больше жизни и меньше только самой чести), когда узнаете, что я погиб за общее дело, нося в сердце ваше имя, дорого хранимое: оно никогда не слетит с моих уст. Искренняя любовь не может быть ни для кого оскорблением. Елизавета Стюарт нисколько не считала себя униженной от преданности Вильяма Кравена.
Цецилия не отвечала; она гордо держала голову, которую обливали лучи осеннего солнца. Ее гордость не умалялась, но сердце ее билось непривычно. Она глубоко страдала при мысли, что какой-то бедный беглец осмелился говорить ей о любви. Что же такое сделала она, что сказала она, чтоб он мог позволить себе такую свободу? А между тем она чувствовала, что сердце ее бьется от беспредельного чувства удовольствия, которого она еще никогда не испытывала. Но она тотчас подавила это чувство, как признак слабости и безрассудства, недостойных последней из Кастельменов.
Он хорошо видел, что происходило в ней, что туманило ее взор, обычно спокойный, и заставляло дрожать ее гордые губы; он нагнулся к ней и голосом дрожащим от сильного чувства сказал:
— Лэди Цецилия, выслушайте меня! Если в войне, которая предстоит, я приобрету славу и отличие, если победа будет на нашей стороне и если король вспомнит обо мне в дни своего счастия, если впоследствии я явлюсь перед вами с известием о победе, с именем, которое Англия научится знать, — тогда… тогда позволите мне сказать вам то, что не желаете выслушивать теперь, и позволите надеяться получить от вас более благосклонный ответ?
Она посмотрела ему прямо в лицо и увидала в его глазах беспредельную надежду, а на челе — великую отвагу смелой души; она слышала при окружающей тишине биение его сердца; ее глаза сделались мягче, добрее и, оборачиваясь в нему с своим царственным видом, она произнесла вполголоса: «Да».
Это слово, которое едва можно было расслышать, было произнесено спокойно и с достоинством. Краска, разлившаяся по ее щекам, придавала ей еще больше красоты вследствие гордости, которая мешала появиться слезам и не позволяла произнести более нежного слова.
Но это «да», произнесенное Цецилией Кастельмен, считалось за слишком многое.
Носовой платок, прекрасно вышитый ее собственными руками, с ее гербом и вензелем, упал в ее ногам. Он поднял его и, пряча у сердца, сказал:
— Если меня постигнет неудача, я возвращу вам его, как знак, что я отказываюсь от всякой надежды; если же я вернусь с честью и славой, то этот платок будет мне залогом, что я имею право говорить и вы выслушаете меня, — не правда ли?
Вместо ответа она наклонила свою благородную голову. Горячие уста молодого человека прильнули на минуту к ее руке. Затем она осталась одна у окна, чувствуя, как болезненно билось ее сердце. Ее глаза блуждали по окрестности, где листья один за другим падали с деревьев, где река, протекавшая по парку, казалось, шептала горькие сожаления о хороших днях прошлого.
Через два месяца голые ветви буковых деревьев колыхались от холодного декабрского ветра и снег покрывал террасу замка, где повислые льдинки заменяли теперь цветы розанов. По всей стране ходили зловещие слухи, которые несли с собой уныние и страх в сердца людей, верных Белой Розе. Гонцы, скачущие в галоп и останавливающиеся на минуту у дверей трактиров, крестьяне, ведущие беседу вокруг разведенного огня кузницы, духовенство вигов, прославляющее бога войны за его видимую благодать — все рассказывали одну и ту же историю, историю сражения при Шериф-Мюире и про бегство претендента престола.
Дурные известия достигли до Лиллиесфорда, где граф приготовлялся развернуть на западе царское знамя, вышитое руками его дочери, и объявить Якова III властелином и королем Великобритании и Ирландии. Дурные вести продолжали прибывать, и Цецилия Кастельмен в отчаянии проливала горькие слезы при мысли, что один из Стюартов мог пуститься в бегство при виде изменника Аргилла, и что там были люди, которые предпочли жизнь геройской смерти. О, зачем она — женщина, зачем она сама не была в Престоне, чтобы пристыдить их за их слабость и показать им, как нужно умирать вместе с осужденным на смерть городом, а не отдаваться в плен!…
Быть может, к ее горю о короле присоединялось еще нечто более мучительное, более жгучее — воспоминание о честном и отважном лице, так недавно обращенном к ней с выражением надежды и безграничной любви; а теперь это лицо, быть может, бледное, холодное, смотрит в лагере Шериф-Мюира на зимние звезды.
Двенадцать месяцев прошло с тех пор, как золотая карета Кастельменов с своей княжескою свитой приехала на запад в графство. Скелеты белели в гробах лондонской тюрьмы, прибитые черепа в храме Бэр чувствовали зимний снег и весеннее солнце; Кеншоир погрузился в глубокий сон и Дервентуатер потерял свою молодую и красивую голову за нестоящее дело; вереск цвел там, где пали мертвые при Шериф-Мюире.
Еще новое лето наступало в Англии. Розы наклоняли свои нежные головки на террасу Лиллиесфорда, цапли на берегу реки расправляли свои серебристые крылья, ласточки быстро описывали свои круги около высокой башни и голуби ворковали в зелени; но графиня Кастельмен, ставшая единственной представительницей своего рода и единственною владетельницей громадных имений, которые расстилались перед ней, не находила ни радости в блеске солнца, ни прелести в пении птиц.
Она была последняя из Кастельменов. Ее отец, разбитый несчастиями, разразившимися при Шериф-Мюире и Престоне, умер в тот самый день, когда его заключили в лондонскую тюрьму. Наследников мужского пола после него не оказалось, и потому его титул перешел к дочери. Распространился слух о конфискации имуществ графа Кастельмена и об опасности, угрожавшей самой Цецилии. Были люди, которые в тайне от нее заботились о ней и хлопотали о том, о чем бы она сама просить не стала, так как была слишком горда. Жадность «гановерской клики» пощадила земли и леса Лиллиесфорда. Цецилия облеклась в траур и удалилась от людей; она так замкнулась в своем уединении, что никто не осмеливался в ней заглянуть. Еще более холодная, еще более гордая, чем когда-либо, она плакала о погибшем деле своего изгнанного короля; она не хотела ничего знать о тех, кто участвовал в этих несчастиях, и только одна ее собака могла подметить на ее лице какое-то томление, когда она, наклоняясь, ласкала ее.
Она стояла у своего окна, как бывало прежде. Ее взор блуждал по пустому парку; губы были бледны, как водяные лилии. Может быть, она сожалела о сказанных ею словах тому, кого она больше никогда не увидит; может быть, она думала о вышитом своими руками платке — залоге любви, который должны были принести ей в день победы и который теперь, обагренный кровью, без сомнения, лежал на сердце, переставшем уже биться: во весь этот длинный год до нее не долетело ни одного слова о Фульке Равенсуорсе.
Ее гордость была ей дорога, дороже всего на свете. Она имела право сказать так, как сказала и как вполне приличествует одной из Кастельменов. Если б она поступила иначе, то это была бы слабость… Кто он такой? — бедный солдат, осмелившийся поднять на нее глаза. Но траур, который носила она, был трауром не по одном только отце; не из-за изгнанных Стюартов только потускнели от слез ее очи, и не потому Цецилия Кастельмен — красота, одинаково восхваляемая как по всему городу, так и при дворе — с месяца на месяц оттягивала свое пребывание в Лиллиесфорде.
На башне замка пробило 12 часов и блестящее утреннее солнце, казалось, сильнее давило ей сердце; ничто не могло развлечь ее: ни жужжание насекомых, ни звон серебряного колокольчика у ее любимого оленя. Сидя неподвижно и рассеянно смотря на голубую даль, она не слыхала шагов по траве и не заметила, как олени испуганно пустились бежать и как вдруг перед ней из кустов папоротника предстал молоденький мальчик, подошел к террасе и почти детским, но в то же время решительным голосом заговорил в ней о прощении. Она обернулась. Ребенок, одетый в лохмотья, осмелился предстать перед ней, графиней Кастельмен!… Но в манере, с которой он поклонился, заметна была развязность пажа.
— Простите, миледи! Мой господин приказал мне видеть вас, если бы мне пришлось ждать даже до полночи.
— Твой господин?…
Розовая краска на минуту покрыла ее лицо, но тотчас же оно покрылась сильною бледностью.
Мальчик не обратил внимания на ее слова и продолжал громким, взволнованным голосом, боязливо оглядываясь кругом, как заяц, который боится охотников:
— Он приказал мне, когда увижу вас, не говорить его имени, а только передать вам этот залог, чтобы вы видели, что хотя и все погибло, но он не забыл ни своей чести, ни вашей воли.
Цецилия не отвечала. Она протянула руку: то был ее вышитый платок с ее графской короной и с ее именем.
— Так твой господин жив?
— Он мне приказал ничего больше не говорить; вы получили его посылку — и это все.
Она положила свою белую, нежную руку на плечо мальчика; но эта рука показалась ему железными тисками.
— Отвечай мне, дитя, или берегись!.. Говори мне о том, кого ты называешь своим господином, — говори все, скорей, скорей!
— А вы принадлежите к его друзьям?
— Царь Небесный… да говори же!
— Он под страхом своего гнева приказывал не говорить вам ничего больше. Но если вы его любите, то я уверен, что мне позволено будет сказать то, что вам уже должно быть известно. Разве тот любит действительно, кому приходится спрашивать — умер или жив его друг?
Бледное лицо графини покрылось краской. Царственным жестом она отдала мальчику приказ говорить, — она не привыкла к неповиновению, а то, что он сказал, разрывало ее сердце на части.
— Сэр Фульке завтра уезжает к берегам Франции, — сказал он с беспокойной поспешностью. — Когда с одной стороны бежали наши, а с другой — приверженцы Аргилла его приняли за мертвого и оставили на поле битвы, то, если б он не был такого крепкого сложения, он, конечно, умер бы тогда же, в ту ужасную ночь: раненый, без всякой помощи, он лежал на холодном ветру. Он не был из числа тех, которые бежали, — это вы, конечно, сами знаете, если знаете его. Перед рассветом нам удалось его унести; я и Дональдо — мы спрятали его в шатер. С ним сделалась горячка и он не сознавал, что мы с ним делали; но этот клочок кружев он не выпускал и держал в руках в продолжение нескольких недель. Какая волшебная сила скрывалась там?… А может быть, там была именно та волшебная сила, которая наконец спасла его: ведь, очень странно, что он выздоровел. Мы делали все, что могли; охотно отдали бы за него всю жизнь. Весь год мы провели в горах Шотландии, скрываясь и стоя настороже. Жизнь не манила сэра Фульке и, я думаю, он не особенно благодарит нас за свое спасение. Но как бы сильно ему пришлось страдать, когда бы эти бесчеловечные виги связали ему назад руки и повесили его, как мясники вешают баранов? Но теперь самая большая опасность миновала, и завтра мы переправимся через Ламанш. Англия — больше не место для моего господина.
Рука Цецилии Кастельмен конвульсивно сжимала носовой платок — залог, так честно возвращенный назад. Юноша пристально посмотрел на нее. Весьма возможно, что из горячечного бреда своего господина он узнал кое-что из истории этого вышитого лоскутка.
— Если вы его друг, милэди, то может быть, у вас найдется ему слово на прощание?
Цецилия Кастельмен, которую ничто никогда не смущало, при этом пустом вопросе опустила голову. Любовь боролась в ней с гордостью; ее глаза затуманились; она прижала в своей груди вышитый на платке герб, герб великого рода, который ни перед чем никогда не сгибался.
— Так вы ничего не велите ему сказать, милэди?
Ее губы полураскрылись; она сделала знак, чтоб он удалился, — ребенок не должен был видеть ее слабости. Разве графиня Кастельмен не сильнее этого?
Юноша не двигался и не спускал с нее глаз.
— Так я скажу сэру Фульке, что у несчастных нет друзей!
Она подняла голову с тою величественною грацией, которая не покидала ее в дни торжеств среди блестящего двора, и, снова вручая залог юноше, сказала:
— Ступай, отдай это твоему господину и скажи ему, что несчастие делает нам друзей дороже, чем успех. Он поймет!
Вечерний звон раздавался вдали. Папоротники колыхались под вечернею росой. Звезды сверкали на дрожащих листьях. Тишина царила над лесом.
Цецилия опять была на террасе, уставленной розанами, под тенью буковых деревьев. Она ждала, она сторожила, она прислушивалась ко всякому шелесту листьев, но ничего не слыхала, кроме страстного биения своего сердца. Она забыла свою гордость, — ей осталось только одно беспокойство любви.
Среди пустынной тишины она узнала знакомые шаги, почувствовала близость… Она закрыла лицо руками. Для нее были новы эта слабость, этот ужас, эта мука любви. Она хотела овладеть собою, призывала свою силу, презирала себя… жалела… И вдруг чья-то рука схватила ее руку и послышался страстный голос: «Цецилия, Цецилия! правда ли это? Неужели в своем несчастии я более счастлив, чем когда-либо? Или я мешаюсь, или то видение рая?…»
Она смотрела на него тем величественным взглядом, который ему был так хорошо знаком; но ее губы дрожали и она не находила слов. Затем ее прекрасные глаза наполнились слезами, взор стал ласковее и выражал какую-то особую прелесть. Ее голос, слабый как дуновение ветерка среди цветов, прошептал на ухо Фульке Равенсуорсу в то время, как обожаемая головка склонилась к нему на грудь:
— Останьтесь, останьтесь!… Или же, если вы должны уехать, ваше изгнание будет моих и ваши опасности — моими.
Вышитый платок хранится, как святыня, в семействе Цецилии Кастельмен и напоминает еще и теперь об ее тайном браке в капелле замка, об ее изгнании с мужем по ее собственному выбору и об их возвращении в Лиллиесфорд. Этот платок переходит из поколения в поколение к прекрасным молодым дамам, которые унаследовали от своей прабабки голубые глаза и царственную осанку… Вот он передо мной с своим разноцветным вензелем, такой же, каким покоился в былые дни на сердце бедного солдата Стюартов. И так долго живет то, что не обладает ни страстью, ни жизнью, между тем как жизнь человеческая проходит, словно песня, которая замирает в воздухе, и забывается так же скоро, как пропетая песня. Стихи Ронсара: «Идет время, бежит оно, но не исчезает, как мы» — составляют прекрасный припев к нашему собственному, быстро исчезающему, существованию.
Примечания
1
Приискивание рифм к слову.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


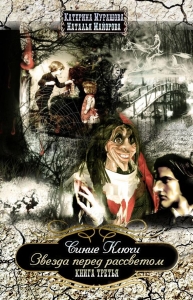

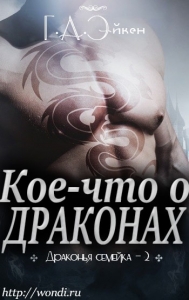
Комментарии к книге «Последняя из Кастельменов», Уйда
Всего 0 комментариев