Ги Бретон Версаль на двоих
Анна Австрийская и кардинал Мазарини
Поразительно, до каких глупостей могут дойти мужчина и женщина, если им приходится таиться.
Андре Фабр20 апреля 1643 года Людовик XIII, чувствуя близкую кончину, призвал к себе членов парламента и зачитал им, в присутствии Анны Австрийской, свою последнюю волю, весьма оскорбительную для королевы:
– Пока мой сын не достигнет совершеннолетия, королевством будет управлять регентский совет, а не регентша. В этом совете королева будет обладать правом одного голоса, и все решения будут приниматься большинством голосов.
Анна Австрийская смертельно побледнела, а в комнате установилось тягостное молчание.
Уже давно всем было известно, что Людовик XIII не доверяет своей супруге; но никто и помыслить не мог, что она подвергнется подобному публичному унижению. Однако этим дело не кончилось. Король вновь заговорил и, обращаясь к членам парламента, слабым голосом произнес, «что королева все испортит, если станет регентшей, как покойная королева-мать».
На этот раз Анна Австрийская в слезах бросилась к изголовью мужа. Однако Людовик XIII приказал ей подняться, ибо он хорошо ее знал и испытывал к ней презрение.
Общее смущение еще более усилилось.
Чтобы действовать наверняка, монарх потребовал от Анны поставить свою подпись под только что прочитанным завещанием. Сам же он еще прежде начертал собственноручное примечание: «Изложенное выше есть моя последняя твердая воля, которую всем надлежит исполнять».
Королева подписала, рассудив, что в подобный момент спорить не следует; но на следующий же день после смерти короля, случившейся 15 мая, она явилась в парламент и, добившись отмены королевского завещания, получила «право свободно и полновластно распоряжаться делами королевства» на время малолетства Людовика XIV, «призывая на свой совет особ безупречной честности и обладающих опытом, число коих она сама определит… но при этом никоим образом не будет обязана следовать решению, принятому большинством голосов».
Это был настоящий государственный переворот.
Сразу же ко двору стали во множестве стекаться те, кто был изгнан Людовиком XIII. Все они нашли королеву преобразившейся. Всего за несколько дней легкомысленная и ветреная женщина обрела подлинно королевское величие.
Впрочем, она вовсе не жаждала власти и, отменяя королевское завещание, преследовала только одну цель: поставить во главе государства своего любовника. Первым министром стал Мазарини.
Весь Париж был потрясен до глубины души. Никто не ведал, с помощью каких пружин удалось удержаться кардиналу, который открыто признавался, что хочет вернуться в Италию. Когда же стали известными «Мемуары» Ла Порта, камердинера Анны Австрийской, то все поняли, что королева и Мазарини с первой же минуты действовали заодно. С тех пор начались весьма нелестные толки относительно привязанности королевы к этому министру, обладавшему очень красивой наружностью.
Всегда вольные в речах, парижане стали без стеснения говорить, что «каждый раз, когда Мазарини пускает в ход свою «пипку», он потрясает устои государства».
Король Людовик XIII
В самом деле, все были убеждены, что эту женщину сорока двух лет и этого итальянца, который был на год младше, связывают самые нежные узы. Над любовниками потешались в открытую, а школяры, дерзкие и непочтительные во все времена, именовали регентшу «шлюхой кардинала». Вскоре это прозвище вышло за пределы Латинского квартала и было подхвачено кумушками на рынке, а также мелкими торговцами. Тогда мадемуазель де От-фор решилась намекнуть ее величеству, что в городе ходят дурные слухи.
Анна Австрийская была умна. Она ответила, улыбаясь:
– Все эти толки не имеют под собой никаких оснований. По той простой причине, что кардинал не выносит женщин. Он родом из страны, где у мужчин совсем другие наклонности.
Из чего следует, что регентша, дабы отвести от себя подозрения, готова была обвинить любовника в содомском грехе.
Однако никого это не обмануло, и Ла Порт, а затем мадам де Бриен также сочли своим долгом уведомить Анну о том, что в народе продолжает ходить худая молва о ее связи с кардиналом. Но если первого постигла такая же неудача, как и мадемуазель де Отфор, то второй, напротив, удалось добиться некоторой откровенности.
– Признаюсь тебе, что люблю его, – сказала королева, покраснев до ушей, – даже больше того: люблю пылко, но чувства мои не затронуты; это мой разум пленился возвышенной красотой его ума.
И она поклялась на образке, что отныне прервет любую беседу с Мазарини, если тот позволит себе завести разговор на темы, не связанные с государственными делами.
Однако поздним вечером она вновь впустила в свою спальню кардинала, который, как и в прошлые ночи, утолил все ее желания.
Вспомнила ли она о своем обещании, пока любовник «наполнял ей корзинку», как изящно выражались в те времена?
Такое трудно предположить…
* * *
В одно октябрьское утро 1643 года парижане узнали, что Мазарини выиграл в пикет дворец Тюбеф.
Мгновенно из уст в уста начали передаваться шутки, весьма нелестные для регентши.
Когда же стало известно, что первый министр собирается переехать из Клевского дворца, что стоял рядом с Лувром, на улицу Тюбеф, простонародье шумно возликовало.
– Семейка-то развалилась, – судачили кумушки, прыская со смеху. – Королева и кардинал расстаются.
Радость оказалась недолгой. 11 октября Анна Австрийская, которой не терпелось вернуть приятное соседство, покинула Лувр и обосновалась в Пале Кардинал, подаренный королю герцогом де Ришелье: теперь, чтобы попасть к регентше, Мазаринн нужно было всего лишь пройти через сад. Министр приказал пробить потайную дверь в стене, окружавшей сад, и ничто отныне не препятствовало ему каждую ночь «задавать корм» вдове Людовика XIII.
Бедная женщина, давно лишенная мужской ласки, ждала этого момента с нетерпением, которого не могла скрыть. Прижавшись лбом к стеклу, она неотрывно глядела в сад и бледнела, едва заслышав шуршание сухих листьев под шагами Мазарини.
Однажды он не пришел. Не помня себя от тревоги, регентша послала на улицу Тюбеф верного Ла Порта. Камердинер вернулся с ужасной вестью: кардинал заболел желтухой.
В народе эта новость вызвала веселое оживление, и вновь стали распространяться язвительные шутки по адресу Анны Австрийской.
– Без причины никто не желтеет, – говорили тогда.
Но и на этот раз королеве удалось пресечь досужие разговоры.
Проявив изумительную отвагу, она заявила 19 ноября в присутствии всех членов совета, что «ввиду недомогания господина кардинала, ввиду того, что ему тяжело каждый день проходить через сад, дабы попасть в Пале Рояль, и учитывая, что ежечасно происходят события, о которых ему следует докладывать, она считает необходимым предоставить ему апартаменты в Пале-Рояль, дабы иметь возможность должным образом обсуждать означенные дела».
Решение королевы было одобрено под рукоплескания господ министров.
Министры имели полное право аплодировать, ибо на сей раз влюбленные соединились под одной крышей.
Кардиналу отвели покои во дворе, который выходит на улицу Бонзанфан; отныне счастливому любовнику, чтобы попасть к королеве, нужно было лишь подняться по потайной лестнице.
Необыкновенная отвага со стороны женщины, которая еще два месяца назад краснела при одном упоминании Мазарини и стремилась всеми средствами – вплоть до самых экстравагантных – скрыть свою связь с ним, настолько удивила публику, что вскоре в городе стали шептаться, что любовники вступили в тайный брак.
Так впервые было высказано предположение, над разгадкой которого будут биться многие поколения историков.
Прежде чем мы в свою очередь займемся им, предоставим слово современникам.
Автор «Гражданского прошения», вышедшего в свет в 1649 году, пишет, например, о королеве и кардинале следующее: «Если правда, что они тайно поженились и что отец Венсан утвердил брачный контракт, они вправе делать то, что все видят, и много больше того, что всем известно».
Автор брошюры «Следствие умолчания на кончике пальца», также появившейся в 1649 году, вторит предыдущему: «К чему порицать королеву за любовь к кардиналу? Это ее обязанность, если правду говорят, что они поженились и что отец Венсан утвердил их брак, полностью его одобрив».
И уж совсем категорична принцесса Пфальцская. В своих «Мемуарах» она без тени колебаний утверждает: «Королева-мать, вдова Людовика XIII, не только была любовницей кардинала Мазарини, но и вступила с ним в брак; он не был священником и не давал обета безбрачия, а потому ничто не мешало ему жениться. В Пале Рояле до сих пор можно видеть потайную лестницу, по которой он каждый вечер отправлялся в покои королевы. Об этом тайном браке знала старуха Бове, главная камеристка регентши, и королеве приходилось сносить все прихоти своей наперсницы».
Итак, Мазарини и Анна Австрийская, судя по всему, состояли в тайном браке. Впрочем, дополнительным подтверждением может служить поведение священнослужителей и монахинь.
Анна Австрийская отличалась набожностью и регулярно навещала монастырь в Валь де Грае. Однако совершенно немыслимо представить, чтобы святые сестры так долго терпели связь, о которой не могли не знать и которую, конечно, сочли бы преступной.
Следовательно, в силу того, что с королевой не порывал будущий святой Венсан де Поль и что сама она продолжала с должным благочестием исполнять все предписанные обряды, есть все основания полагать, что сожительство двух прославленных любовников было введено в надлежащие рамки.
Королева Анна Австрийская
Остается выяснить, отчего союз этот пребывал под покровом тайны, хотя оглашение его пресекло бы все пересуды, оскорбительные для репутации королевы. Ибо никаких формальных препятствий не существовало: Мазарини был светским кардиналом и не давал обета безбрачия. Граф де Сен-Олер вкладывает в уста сторонников брака аргумент, не лишенный оснований: «Сохранение тайны преследовало политические цели: избежать в сто раз худшего скандала, ибо к любовной связи народ отнесся бы гораздо снисходительней, нежели к замужеству королевы; избежать толков, которые привели бы публику в еще большую ярость, что нерушимость брачных уз означает несменяемость министра…»
Итак?
Видимо, можно почти наверняка утверждать, что королева, обращаясь к Мазарини, имела полное право называть его Жюль, супруг мой или же монсеньер…
Два любовных письма и план убийства Мазарини
Переворот в сердце женщины почти всегда предвещает переворот в делах.
М. ТомаПока Анна Австрийская и кардинал устремлялись к небесному блаженству путями, не вполне согласными с учением катехизиса, несколько красивых женщин с успехом превращали двор в подобие осиного гнезда.
Франция находилась тогда в состоянии анархии, но к сражениям примешивались шутки, а мятежи напоминали водевиль. Всем тогда заправляли женщины. В ту эпоху они были проникнуты фракционным духом, отнюдь не чуждым, как обыкновенно полагают, их природе. Одни обладали способностью затевать интригу, другие присоединялись к ней. Каждая строила козни и конспирировала в соответствии со своими интересами и склонностями. Все заговоры составлялись по ночам, а душой их была женщина, лежавшая в постели или раскинувшаяся в креслах. Самые значительные события происходили вследствие тайных слабостей. Пружиной всех интриг была любовь.
Подтверждением этому служит необыкновенная драма, разразившаяся в конце 1643 года.
Самыми красивыми женщинами при Дворе считались в то время мадам де Лонгвиль и мадам де Монбазон. Трудно было бы найти большее различие во внешности: первая походила на белокурого ангела с бирюзовыми глазами, а вторая была брюнеткой с пышными формами, громким голосом и заливистым смехом. К физическому несходству добавлялась разительная противоположность семейных связей, вкусов и политических пристрастий. Мадам де Лонгвиль была дочерью принца Конде и сестрой герцога Энгиенского (будущего Великого Конде). В силу этого она пользовалась безусловным расположением регентши и Мазарини.
Напротив, мадам де Монбазон стала очень молодой свекровью неисправимой герцогини де Шеврез, которая уже начала конспирировать против кардинала. Итак, она принадлежала к знаменитой группе «важных особ», намеревавшихся изгнать – или даже убить – Мазарини, что вызывало справедливые опасения королевы.
Наконец, вражда обеих женщин покоилась и на любовных связях: белокурая герцогиня, отказавшись стать женой герцога де Бофора, по приказу отца вышла замуж за старого герцога де Лонгвиля, тридцатью годами старше ее. Между тем темноволосая мадам де Монбазон, сочетавшая вулканический темперамент с крайним легкомыслием, была любовницей одновременно герцога де Бофора, отвергнутого воздыхателя мадам де Лонгвиль, и самого герцога де Лонгвиля…
Естественно, обе дамы люто ненавидели друг друга, хотя мадам де Лонгвиль относилась к похождениям своего супруга с полным безразличием. Она никогда по любила старика, с которым вынуждена была делить ложе, и даже радовалась, что он обзавелся любовницей, ибо теперь ничто не мешало ей наслаждаться нежной идиллией с Морисом де Колиньи…
Ситуация была несколько запутанной, но все это продолжалось довольно значительное время, как вдруг на приеме у мадам де Монбазон одна из ее придворных дам заметила на ковре два письма, оброненных по оплошности кем-то из гостей. Едва развернув их, она поняла, что это любовные послания, и тут же передала письма герцогине, которая забавы ради стала читать их вслух. Присутствующие дружно смеялись, а затем на смену веселью пришло любопытство, на смену любопытству – подозрение, переросшее почти в уверенность, что записочки выпали из кармана недавно ушедшего Колиньи, который, если верить слухам, был страстно влюблен в мадам де Лонгвиль.
В одно мгновение мадам де Монбазон составила план, достойный Макиавелли, намереваясь одним ударом очернить репутацию соперницы и уязвить гордых Конде, соперничавших с «важными особами».
Вот эти письма:
«Я гораздо меньше сожалела бы о том, что вы переменились ко мне, если бы полагала, что не ответила должным образом на вашу любовь. Признаюсь вам, она казалась мне искренней и сильной, вы же получили все, что могло бы удовлетворить самые страстные ваши желания. Но теперь не ждите от меня ничего, кроме уважения, к которому обязывает меня ваша скромность. Я слишком горда, чтобы делить с кем бы то ни было любовь, в которой вы мне столько раз клялись, и наказанием за ваше пренебрежение будет лишь мой полный отказ от чувства к вам. Прошу вас не приходить более ко мне, поскольку я лишилась права приказать вам это».
К записочке, декларирующей разрыв отношений, было приложено второе послание, написанное тем же почерком:
«На что вы надеялись после столь долгого молчания? Разве вы не знаете, что гордость, заставившая меня ценить ваше былое чувство, ныне запрещает мне страдать от его ложной видимости? Вы говорите, что мои подозрения и непостоянство делают вас несчастнейшим человеком в мире. Позвольте сказать вам, что совершенно в это не верю, хотя и не могу отрицать, что вы действительно пылко меня любили, равно как и вы должны признать, что были должным образом вознаграждены. Будем справедливы по отношению друг к другу, и я сохраню доброе чувство к вам, если ваше поведение не нанесет ущерба моей чести. Мои доводы показались бы вам более убедительными, если бы вы спросили свое сердце; теперь же ваша страсть пробуждается из за невозможности увидеться со мной. Я страдаю от недостатка любви, а вы от излишней пылкости. Нам следует все переменить, и я сумею исполнить свой долг, тогда как вы не должны пренебрегать своим. Это не означает, что я забыла, каким образом вы провели со мной эту зиму, и я говорю с вами столь же откровенно, как и в былые времена. Надеюсь, это пойдет вам на пользу, а мне самой не придется впоследствии сожалеть, что была побеждена моя решимость более не возвращаться к прежнему. Квартиру я оставляю за собой, но буду появляться там только по вечерам; вам известно, чем это вызвано…»
Эти любовные письма могут показаться вполне невинными, если сравнить их со страстными и откровенными посланиями королевы Марго…
Но не следует обманываться на сей счет. Возникшая в то время изумительная непринужденность в обращении с французским языком позволяла выразить все, сохраняя внешнюю благопристойность. И люди того времени прекрасно умели возвращать словам их подлинный смысл. Фраза «я не забыла, каким образом вы провели со мной зиму» означала для них весьма откровенное признание: «я с наслаждением вспоминаю о ночах, полных неги, проведенных нами в одной постели…».
Мадам де Монбазон в совершенстве владела подобным языком, и по письмам любой счел бы ее святой женщиной, помышлявшей лишь о платонической любви, тогда как в действительности она вела себя, как настоящая потаскуха. Одного примера будет достаточно. Однажды на балу в ее доме на улице Барбет придворная дама обратила внимание на странно колыхавшиеся бархатные занавески. Вообразив, что там спрятался шпион, нанятый Мазарини, она призвала на помощь герцога де Гиза.
Тот, обнажив шпагу, резко раздвинул портьеры.
А потом не знал, куда деваться от смущения.
Ибо за занавесками находилась мадам де Монбазон в компании с неким дворянином, и оба исступленно занимались любовью в амбразуре окна.
Итак, для соперницы мадам де Лонгвиль не составляло труда перевести на общепонятный язык письма, и мадам де Монбазон проделала это с присущим ей злобным остроумием. На следующий день весь Париж со смехом повторял, что белокурая герцогиня – любовница Мориса де Колиньи.
Принцесса Конде с большим неудовольствием узнала, что мадам де Монбазон распространяет клеветнические слухи о ее дочери, и обратилась за защитой к регентше. Двор тут же разделился на две враждебные партии: «важные особы» поддерживали мадам де Монбазои, а противостояли им друзья Мазарини.
Анна Австрийская, ощущая неловкость от того, что приходится вмешиваться в любовную историю, приказала все же выяснить все обстоятельства дела. Обнаружилось, что послания, написанные вовсе не мадам де Лонгвиль, а мадам де Фукроль, были адресованы графу де Молеврье.
Под давлением всего семейства Конде королева объявила, что мадам де Монбазон должна принести публичные извинения принцессе.
«Важные особы» расценили это решение как чрезвычайно несправедливое, оскорбительное для Вандомов и Гизов. В результате был составлен заговор с целью убийства Мазарини…
Последствия могли быть сокрушительными для всего королевства. Таким образом, трон едва не рухнул из-за двух любовных писем…
* * *
В назначенный королевой день мадам де Монбазон, «роскошно одетая», водрузив на голову плюмаж из красных перьев, унизав пальцы драгоценными перстнями и скривив рот в презрительной улыбке, явилась во дворец Конде.
Едва завидев ее, обрадованные лакеи поняли, что дело добром не кончится, и поторопились занять лучшие места, дабы ничего не упустить из предстоящего зрелища.
Мадам де Монбазон провели в гостиную, где в окружении многочисленных друзей ее ожидала принцесса. Герцогиня вошла с полной непринужденностью. Смерив высокомерным взором мать своей соперницы и не сочтя нужным поклониться, она стала зачитывать извинение с листка, приколотого к вееру. Она вела себя чрезвычайно надменно, и на самом лице ее, казалось, было написано: «Все эти жалкие слова я не ставлю ни в грош».
Дойдя до фразы «заклинаю поверить мне, что всегда буду с должным уважением относиться к вам, равно как и к мадам де Лонгвиль, чьи добродетели и достоинства общеизвестны», она громко фыркнула, и это привело присутствующих в негодование.
Взбешенная принцесса Конде, скрипя зубами, произнесла несколько любезных ответных фраз, подсказанных ей регентшей, и в гостиной установилось тяжелое молчание. Мадам де Монбазон насмешливо улыбнулась и, не простившись, удалилась.
После этой сцены принцесса Конде, раздосадованная наглым поведением герцогини, попросила избавить ее от общества мадам де Монбазон. Однако через какое-то время мадам де Шеврез затеяла небольшой пикник в саду Ренара, примыкавшем к Тюильри: там обосновалась кондитерская лавка, и придворные щеголи частенько захаживали сюда, чтобы съесть пирожное и послушать серенады, исполняемые на испанский манер. Королева очень любила этот уголок. Она с удовольствием приняла приглашение мадам де Шеврез и попросила принцессу Конде сопровождать ее.
– Будет ли там мадам де Монбазон?
– Нет, – ответила королева, которая была в курсе всех событий, – у нее несварение желудка, и она принимала слабительное сегодня утром.
Мадам де Монбазон
Разумеется, никакое слабительное не помешало мадам де Монбазон появиться в саду: всюду слышались раскаты ее громкого голоса и звонкий смех. Принцесса хотела уйти потихоньку, чтобы не портить праздник, однако королева, которой пришла в голову необычная мысль, удержала ее. Подозвав одну из своих придворных дам, она сказала:
– Будьте любезны передать мадам де Монбазон мою просьбу почувствовать себя плохо, дабы она могла удалиться отсюда без ущерба для своей репутации.
Получив этот странный приказ, герцогиня расхохоталась, а затем, надувшись, отпустила несколько грубых шуточек по адресу принцессы Конде и отказалась покинуть сад.
Разгневанная Анна Австрийская немедленно вернулась во дворец в сопровождении своей подруги.
На следующий день мадам де Монбазон было велено оставить Париж и без промедления отправиться в Рошфор, где у нее был дом…
* * *
Это изгнание привело в ярость «важных особ», которые словно сорвались с цепи. Они сочли себя униженными и оскорбленными и помышляли только о мести. Герцог де Бофор, чье самолюбие было жестоко уязвлено, неистовствовал: в этом конфликте страдала не только его репутация, но и любовь. В Вандомском дворце уже давно обсуждались самые крайние меры, но теперь решено было перейти к действиям, и был составлен план убийства Мазарини.
На сей раз «важные особы» приступили к исполнению своего плана незамедлительно.
Однажды вечером Мазарини был приглашен ужинать в Мезон, к Рене де Лонгею. На дороге были расставлены убийцы, получившие соответствующие инструкции. Вандомы, Гизы и мадам де Шеврез, пользуясь тем, что двор разделился из-за путаного дела с любовными письмами, желали одним ударом избавиться от Мазарини, припугнуть регентшу и обрести прежнее влияние, сделав своего друга Шатонефа первым министром.
Итак, они с удовольствием смотрели, как кардинал садится в карету. Все шло, как было задумано. Но в тот момент, когда слуга собирался закрыть дверцу кареты, на пороге появился принц Гастон Орлеанский – оживленный и радостный, ибо дом Рене де Лонгея славился своими поварами.
– Минуточку, – воскликнул Гастон Орлеанский, смеясь, – я поеду с вами в Мезон. Хороший ужин превыше всего.
И он сел в карету рядом с кардиналом. «Важные особы», следившие за отъездом, были сражены наповал. Едва карета скрылась из виду, как они послали к убийцам всадника с приказом ничего не предпринимать.
Нельзя же было, в самом деле, рисковать жизнью герцога Орлеанского, первого принца крови. Так Мазарини избежал смерти благодаря чревоугодию герцога Орлеанского…
На следующий день некоторые из убийц изливали свою досаду столь громко и откровенно, что привлекли внимание полиции кардинала. Мазарини, извещенный о заговоре, предпринял все необходимые меры, согласовав их с регентшей: герцог де Бофор был арестован.
Вандомам было предложено удалиться из Парижа; мадам де Шеврез была отправлена в изгнание сначала в Дампьер, а затем в Анжу, Шатонеф – в Турень, епископ Потье – в Бове. Одним словом, группа «важных особ» прекратила свое существование, и мадемуазель де Монпансье сообщает нам, что «при дворе в самое короткое время все разительно переменилось; эта решительная расправа очень укрепила власть кардинала Мазарини».
А через некоторое время в Париже стало известно о любовном приключении мадам де Монбазон в ее рошфорском заточении. История наделала много шума и выставила в самом смешном виде нимфу Эгерию, вдохновлявшую своими советами «важных особ».
Однажды герцогиня принимала у себя любовника, когда ее муж, занимавший спальню этажом ниже, поднялся к ней и отворил дверь.
– Мне послышался какой-то шорох, – сказал он, – наверное, это была крыса?
– В самом деле, – ответила мадам де Монбазон, – но не волнуйтесь, я ее уже держу.
Эта невероятная наглость имела самые неожиданные последствия: любовник, спрятанный под простынями, не выдержав, захохотал во все горло. Несчастному пришлось удирать из спальни голым, спасаясь от разъяренного старого герцога…
* * *
Казалось, дело с письмами завершилось. Однако оставался еще один персонаж этой драмы, который до сих пор не проронил ни слова (по просьбе мадам де Лонгвиль), а в декабре 1643 года вдруг обнаружил желание защитить честь как свою, так и дамы сердца. Это был Морис де Колиньи. Поскольку Бофор и Вандомы оказались вне досягаемости, он решил вызвать на дуэль единственную «важную особу», оставшуюся в Париже, – герцога де Гиза.
Поединок состоялся на площади Рояль в присутствии мадам де Лонгвиль, которой, видимо, хотелось увидеть собственными глазами схватку, где вновь сошлись Гиз и Колиньи… Последнему, впрочем, не повезло: он был ранен в руку, которую пришлось ампутировать, и парижане уже на следующий день стали распевать сочувственные куплеты:
Утрите ваши глазки, Прекрасная Лонгвиль, Утрите ваши глазки, Он жив, ваш Колиньи. Его вы не браните, Он хочет жить затем, Чтоб вы его любили, Чтоб быть у ваших ног.Увы! У несчастного началось заражение крови, и спустя пять дней Колиньи умер.
«Таким образом, – говорит мадемуазель де Монпансье в своих «Мемуарах», – завершилась комедия, нанесшая большой ущерб королевской власти и посеявшая первые семена разногласий и беспорядков… Можно сказать, здесь таится исток смуты, так долго сотрясавшей Францию».
В самом деле, из интриг и заговоров, возникших вследствие двух любовных писем, выросло движение против королевской власти – Фронда…
Чтобы остановить Фронду, Конде хочет дать Анне Австрийской любовника
Слабый пол принимал большое участие в событиях Фронды, и эта шутовская революция была почти целиком делом рук женщин.
Ж.-А. де СегюрВ начале 1644 года нападки на Мазарини потеряли свою остроту. Народ, не способный к продолжительной ненависти, лишь повторял со смехом и с перемигиваниями то, что впоследствии напишут историки в своих трудах: «Кардинал был первым министром при Анне Австрийской».
Шутка эта не отличалась тонким остроумием, но обладала достаточной скабрезностью, чтобы парижане вели себя спокойно в течение четырех лет.
Но в 1648 году из-за пустякового повышения налогов вдруг разразился с необыкновенной силой мятеж против человека, разделявшего ложе королевы.
Внезапно парламент, охваченный демагогическим рвением, восстал против своего первого министра, потребовав сократить подати, защитить доходы и учредить специальную палату правосудия, дабы «должным образом карались лихоимство и злоупотребление в сфере финансов».
Разногласия не были серьезными и могли быть легко улажены, если бы в дело не вмешалось несколько красивых дам, чрезмерно возбужденных начавшимися беспорядками. Нужно сказать, что женщины, которые, как мы уже видели, часто служат причиной великих потрясений, более восприимчивы, нежели мужчины, к безумным помыслам. Между тем Европа сотрясалась в мучительных конвульсиях. Англия, под водительством Кромвеля, подняла руку на собственного монарха – короля Карла I судили и обезглавили подданные, а в это же время янычарами был удавлен султан Ибрагим…
Словно бы опьяненные порывами отравленного ветра, женщины неожиданно впали в самое настоящее исступление. Мадам де Лонгвиль, мадам де Шеврез, мадемуазель де Шеврез, мадемуазель де Монпансье, чье затянувшееся девство болезненно влияло на рассудок, прекрасная Анна де Гонзага, будущая принцесса Пфальцская, вдруг занялись политикой и стали командовать мужчинами, подстрекая их к крайним мерам.
Очень скоро болезнь поразила всех дам и юных барышень королевства. Сент-Бёв рассказывает нам, что говорил Мазарини о современных ему француженках первому министру Испании дону Луису де Аро: «Добродетельная женщина не ляжет спать с мужем, а доступная бабенка с любовником, не обсудив с ними прежде государственные дела; они желают все видеть, все слышать, все знать, но и это еще не самое худшее, потому что им хочется во всем принимать участие и во все вносить смуту. В особенности три дамы – герцогиня де Лонгвиль, герцогиня де Шеврез, принцесса Пфальцская – привносят в нашу жизнь такой беспорядок, какого не испытывал даже Вавилон».
Смута и в самом деле оказалась настолько беспорядочной, что почти невозможно написать последовательную историю этой необыкновенной гражданской войны.
Под влиянием легкомысленных, безрассудных или капризных женщин такие люди, как Ларошфуко и Конде, без конца меняли союзников, переходя из правительственного лагеря в партию самой радикальной оппозиции и обратно. Непостоянство было отличительной чертой Фронды, которую один из историков сравнивает с балетом…
* * *
Все началось, как известно, с ареста Брусселя, влиятельного члена парламента. За несколько часов парижане извлекли из своих погребов все пустые бочки, и 26 августа в городе возникло около двух тысяч баррикад.
К утру 27 августа сто тысяч вооруженных людей охраняло улицы…
Столица восстала, подстрекаемая тайными агентами весьма странного священнослужителя, который радостно потирал руки, оставаясь все время за кулисами.
Его звали Поль де Гонди, и он занимал должность коадъютора при парижском архиепископе. Однако известность он обретет под именем кардинала де Реца.
Этот человек, которому суждено было стать одним из величайших смутьянов XVII века, выплыл на поверхность политической жизни довольно неожиданно. Вероятнее всего, он так и остался бы в безвестности, если бы – отметим этот факт, ибо благодаря ему лишний раз подтверждается значение любви – не имел такой склонности к распутству. В самом деле, возвышением своим он был обязан женщине. История эта весьма любопытна; предоставим слово одному из авторов XVIII века:
«Страстное увлечение женским полом обнаружилось у знаменитого кардинала де Реца уже в ранней юности: камердинер его, заметив это, стараясь ублажить хозяина, делал все, чтобы удовлетворить его похоть. Недостойный слуга рыскал всюду, отыскивая привлекательных девиц и соблазняя их деньгами. Наконец, он уговорил одну гнусную владелицу булавочной лавки продать ему за полторы тысячи ливров племянницу, которой было всего четырнадцать лет и которая отличалась ослепительной красотой. Юная жертва алчности и блуда была доставлена в Исси, где ее ожидало бесчестие; при ней находилась старшая сестра, дабы подготовить ее к этому ужасному испытанию.
На следующий день молодой аббат примчался в Исси; но едва он подступил к несчастной девочке, как та залилась краской, на глазах у нее выступили слезы, вся она затрепетала от страха, почти потеряв сознание.
Добродетель всегда вызывает к себе уважение, и в ее присутствии порок умолкает. Аббат де Гонди, совершенно забыв о цели своего визита, помышлял теперь только о том, чтобы утешить несчастную, и расстался с ней, так и не удовлетворив своих желаний.
Однако он не мог забыть о прелестном создании и, чувствуя, как все сильнее разгорается в нем страсть, на следующий день снова устремился в Исси, намереваясь потребовать то, что принадлежало ему по праву. Девица стала говорить, что он прогневит небо, если обесчестит ее против воли; что не подобает ему пользоваться низостью и за деньги покупать девственность.
Наконец, голос ее пресекся от слез и тяжелых вздохов. Она упала перед молодым аббатом на колени. Тот был потрясен до глубины души добродетелью столь юной девушки: краснея при мысли, что намеревался посягнуть на такую чистоту, он решил должным образом обеспечить будущность девицы.
Когда стемнело, он усадил ее в карету и повез к своей тетке мадам де Меньеле, которая отличалась чрезвычайной набожностью. Рассказав всю историю, он попросил ее взять молодую особу под свое покровительство».
Набожная тетушка, растроганная поступком племянника, тут же рассказала о нем епископу де Лизье.
Следует признаться, что нам это намерение кажется довольно странным, но, очевидно, мадам де Меньеле была права. Ибо прелат пришел в восторг, узнав, что Гонди добровольно отказался от мысли изнасиловать девочку четырнадцати лет.
– Это святой человек! – вскричал он. – Он должен быть вознагражден. Я поговорю о нем с королем и с кардиналом де Ришелье.
И в тот же вечер епископ рассказал во дворце историю прекрасной булавочницы.
«Людовик XIII, – продолжает наш автор, – превыше всего ценил честь и порядочность, а потому проникся к аббату де Гонди любовью и уважением и перед смертью приказал королеве даровать ему коадъюторство при парижском архиепископе, говоря, что никогда не забывал об этом молодом человеке с тех пор, как епископ де Лизье рассказал ему историю с племянницей булавочницы».
И наш автор заключает не без ехидства: «Вот как случилось, что слезы молодой девушки вознесли молодого аббата на ту высоту, где его таланты обольстителя развернулись в полную меру, благодаря чему он сумел разжечь во Франции гражданскую войну».
Действительно, коадъютор, мечтавший встать во главе партии и занять первенствующее положение в Париже, с большой ловкостью использовал свои таланты. Пока парижане натягивали цепи через улицы, называя себя «фрондерами» по имени игры, которой забавлялись мальчишки на городском валу, де Гонди, облачившись в самую красивую свою сутану, размышлял в тиши кабинета во дворце архиепископа, каким образом свести счеты с Мазарини.
Тот вскоре осознал грозившую ему опасность. В полном смятении приказав упаковать вещи, 13 сентября в шесть часов утра он покинул Париж вместе с Анной Австрийской и маленьким королем, дрожавшим от страха.
Парижане, раздосадованные этим бегством, в отместку сочинили множество похабных песенок о регентше и кардинале. Появились невероятные по дерзости памфлеты, которые переходили из рук в руки и пользовались бешеным успехом. В одном из них, под названием «Шкатулка королевы признается во всем», Анну Австрийскую обвинили в том, что именно она приобщила кардинала к пороку, который обычно приписывается итальянцам.
* * *
24 октября был подписан Вестфальский договор, закончивший Тридцатилетнюю войну в Европе. Это придало Мазарини уверенности и несколько укрепило его власть. Вскоре регентша и король вернулись в Париж.
Для коадъютора это было ударом. Отныне ему нужна была поддержка человека, обладающего достаточным влиянием, чтобы служить знаменем партии и внести успокоение в сердца парижан. Он обратился к Конде, однако тот, хоть и терпеть не мог Мазарини, все же не желал участвовать в предприятии, грозившем опрокинуть трон, и встал на сторону королевы.
Взбешенный Поль де Гонди решил тогда переманить в ряды фрондеров родного брата Конде – принца де Конти.
Этот принц, отнюдь не блиставший умом, – коадъютор говорил про него, что «это ноль, способный умножать только в силу своей принадлежности к принцам крови», – с момента вступления в половую зрелость не сводил глаз с собственной сестры – мадам де Лонгвиль, безумно в нее влюбившись. На руке он носил одну из ее подвязок, и многие злоязычные люди не стеснялись утверждать, что мадам де Лонгвиль, тронутая этой пылкой страстью, дарила его иногда своими милостями.
Хорошо зная все эти пересуды, Поль де Гонди нанес визит мадам де Лонгвиль и убедил ее, что она может сыграть выдающуюся роль в делах Фронды.
Красивая герцогиня пришла в необычайное возбуждение. Уже давно она лелеяла мечту, что Конде станет регентом вместо Анны Австрийской, и теперь с радостью ухватилась за представившуюся возможность, пообещав, что Конти непременно войдет в коалицию.
Вечером одного ее слова хватило, чтобы принц де Конти без колебаний присоединился к партии коадъютора.
Желая польстить влиятельной женщине, коадъютор принял решение, что все совещания будут происходить у нее. Итак, почти каждый вечер маршал де ла Мот, герцог Буйонский, Бофор, Конти и все прочие собирались в Нуази ле Руа, рядом с Версалем, где обосновалась сестра Великого Конде.
Они болтали и шутили, стремясь превзойти друг друга в остроумии, а между делом готовились ввергнуть Францию в кровавую бойню…
Естественно, коадъютор вскоре пал жертвой бирюзовых глаз прекрасной герцогини. «У меня возникло сильнейшее желание, – пишет он, – поместить ее в центре между мадам де Гемене и мадам де Помре. Не скажу, что она сама согласилась бы на это: скажу только, что эта мысль, поначалу очень для меня желанная, была оставлена мною отнюдь не из-за невозможности ее осуществления».
Он счел все же более разумным не домогаться любви герцогини, чей брат Конти был необходим Фронде, чей муж герцог де Лонгвиль мог быть полезен и чей любовник Ларошфуко также заслуживал внимания…
Тем временем Анна Австрийская, обеспокоенная положением дел, вызвала к Парижу Фландрскую армию, которой командовал Конде, и в ночь с 6 на 7 января 1649 года под порывами ледяного ветра вновь оставила столицу, отправившись в Сен-Жермен вместе с Мазарини и королем.
Парижане очень удивились, узнав об их отъезде. На следующее утро кумушки весело переговаривались, стоя на пороге своих домов:
– Наверное, они решили заняться своими мерзостями на природе, – посмеивались одни.
– В любом случае, – возражали другие, – в такую погоду им придется где-нибудь спрятать задницу!
Эти легкомысленные речи продолжались недолго; вскоре на улицах появились агенты Гонди, которые неустанно внушали народу:
– Регентша приказала окружить Париж, чтобы уморить нас голодом. Это объявление войны.
И все завертелось по-прежнему.
Укрывшись в алькове мадам де Лонгвиль, коадъютор вновь подстрекал парижан к гражданской войне. Каждый раз, когда ему сообщали об убийстве сторонника Мазарини, он возводил очи к небу, преклонял колени перед распятием и со смиренным видом произносил молитву об отпущении грехов…
На сей раз его план был составлен очень тщательно. Он обладал хорошо вооруженным войском; превосходно зная нрав парижской толпы, он приказал печатать песенки и пасквили непристойного содержания, направленные против Мазарини, лицемерно оправдываясь за них перед своими друзьями… Чтобы иметь возможность платить солдатам и куплетистам, он обратился к Испании, которая с радостью стала финансировать предприятие, грозившее Франции крупными потрясениями.
Разумеется, об этом несомненном предательстве ничего не ведал добрый народ Парижа: доведенный до исступления гнусными песенками, он возводил баррикады, как всегда твердо веруя, что «против него поднят кровавый флаг тирании».
Однако Поль де Гонди почувствовал, что к гражданской войне готовятся без того энтузиазма, на который он надеялся. Обеспокоенный, он предпринял необходимые расследования и узнал, что парижане подозревают знатных фрондеров в двойной игре.
Желая успокоить народ, коадъютор нашел гениальное средство. Послав принца де Конти, герцога де Лонгвиля, герцога Буйонского и маршала де ла Мота в парламентскую армию, он приказал поселить мадам де Лонгвиль и герцогиню Буйонскую вместе с их детьми в Ратуше, дабы они были в глазах парижан заложницами, отвечающими за верность их мужей.
Благодаря этому решению «все подозрения развеялись как дым, и настроение парижан мгновенно переменилось. На Гревскую площадь толпами стекался парод, и не было никого, кто сдержал бы слезы радости при виде этих дам, которые вышли на ступени Ратуши в домашних платьях, держа на руках детей, столь же красивых, как их матери.
Мадам де Лонгвиль была тогда на последних месяцах беременности. Это нисколько не мешало ей принимать участие в совещаниях и произносить зажигательные речи. В конце января, когда войска Конде наглухо блокировали столицу, она, собрав вокруг себя друзей, разрешилась от бремени мальчиком, которого нарекли Париж.
Несмотря на эти комические сцены, гражданская война продолжалась.
Через неделю Конде наголову разбил гарнизон Шарантона, оставив на месте более двух тысяч убитых. Вождей мятежа это не взволновало. Никакие жертвы не могли привести их в дурное расположение духа. В то время как у ворот столицы происходила резня, мадам де Лонгвиль устраивала скрипичные вечера в своей спальне (где обычно заседал военный совет Фронды), а мадам де Буйон танцевала. Что до коадъютора, то во дворец архиепископа каждый вечер приводили маленьких белошвеек с ласковыми руками, и те помогали ему на время забыть о политике при помощи хорошо известных средств…
В течение многих недель под стенами Парижа велись сражения. Смерть косила тысячами солдат королевы и солдат Гонди, ничего не понимавших в этой странной войне. Несчастные крайне удивились бы, если бы им сказали в последнюю минуту, что гибнут они из-за добродетели прекрасной булавочницы…
* * *
Вскоре ветер Фронды задул с такой силой, что под его напором зашатался трон.
Конде был испуган угрозой, нависшей над короной, и ему пришла в голову одна мысль. Зная, что ярость народа направлена, в сущности, против одного Мазарини, он решил удалить итальянца, подобрав королеве нового любовника. Выбор его пал на молодого маркиза де Жарсе. Это был самодовольный щеголь, благосклонно принятый при дворе. Принц внушил ему, что королева с недавних пор смотрит на него жадным взором.
– В возрасте ее величества начинают интересоваться молоденькими мальчиками. Постарайтесь быть с ней как можно более обходительным, и ваша будущность обеспечена.
Ослепленный надеждой, маркиз устремился во дворец и, быстро сговорившись с главной камеристкой королевы мадам де Бове, начал с блеском играть роль нежного воздыхателя.
Поначалу регентше, казалось, польстило это ухаживанье, и Конде потирал руки в предвкушении успеха. Он был убежден, что Анна Австрийская, чья пылкость была ему хорошо известна, не устоит перед бархатными глазами Жарсе и что царствованию кардинала скоро придет конец.
Когда он счел, что настал подходящий момент, то послал молодому человеку записку с одним словом: «Нападайте!»
Юный фат ожидал только этого приказа. Отправившись в гостиную, где сидела королева, он приблизился к ней почти вплотную, не сводя с нее зовущего томного взора. Анна Австрийская тогда еще не подозревала о ловушке, подстроенной Конде; однако ей, безумно влюбленной в Мазарини, крайне не понравилось поведение молодого человека.
– Послушайте, господин де Жарсе, – вскричала она с раздражением, – вы просто смешны со своей назойливостью! Мне сказали, что вы строите из себя моего поклонника. Подумайте, какой отчаянный волокита! Мне просто жаль вас. Правда, безумие ваше не должно никого удивлять, ибо оно у вас в роду!
Бедняга был так поражен, словно в него ударила молния. Расстроенный и бледный, он немедленно удалился.
Ф. Буше. Аллегория
Маневры Конде потерпели неудачу. Королева осталась верна кардиналу.
А Фронда продолжалась.
Благодаря усилиям Гонди она внезапно распространилась по всей Франции.
Тогда королева по совету Мазарини, который начинал дрожать под своей сутаной, согласилась вступить в переговоры. Парламент отправился в Сен-Жерменак Ле, и, несмотря на все козни коадъютора, 1 апреля был подписан мир. Анна Австрийская капитулировала, сделав огромные уступки и даровав амнистию всем участникам Фронды; но против Конде, подославшего к ней маленького маркиза де Жарсе, затаила злобу 18 июня 1650 года принц был арестован вместе с братом и герцогом де Лонгвилем. Парламентская Фронда завершилась. Начиналась Фронда принцев.
* * *
В 1651 году Мазарини, которому по-прежнему не давали покоя опасные и влиятельные подстрекательницы, приказал изгнать нескольких графинь. По Парижу тут же разошлись ядовитые куплеты, написанные Клодом де Шувиньи, бароном де Бло. В них, правда, больше доставалось не кардиналу – «иностранцу без роду и племени», а Анне Австрийской, которую автор песенок именовал шлюхой, выражая надежду, что ему удастся когда-нибудь ее придушить.
Мазарини был крайне недоволен, но смолчал. Однако через несколько недель полиция доставила ему новые куплеты, где кардиналу предлагалось убираться вон, поскольку для госпожи Анны, если она захочет, можно подобрать всадника получше, чем Его преосвященство.
На сей раз кардинал вышел из себя. Он заявил королеве, что не желает оставаться в Париже, ибо народ его ненавидит. Анна Австрийская разрыдалась. Мысль о том, что придется вернуться к целомудренной жизни, приводила ее в ужас. Всю ночь она горько плакала, ворочаясь в постели и испуская пронзительные крики, но кардинал остался непреклонен.
6 февраля 1651 года, надев красный мушкетерский плащ и шляпу с перьями, он тайком выскользнул из Лувра в этом необыкновенном костюме, а неделю спустя уже находился в полной безопасности у епископа Кёльнского…
Покинутая королева впала в отчаяние, на которое придворные взирали с понимающей улыбкой. Добрые же парижане отпускали добродушные, хотя и несколько фамильярные шутки:
– Она сама не своя, когда рядом нет кардинала, чтобы положить ей руку на задницу.
Надо признать, это было очень далеко от изысканного языка, каким будут изъясняться в сходных ситуациях персонажи Расина.
Вскоре Анне Австрийской пришла в голову безумная мысль самой отправиться к возлюбленному, без которого она не могла существовать. Она поделилась своими планами с несколькими доверенными лицами, в результате чего о ее намерении бежать из столицы стало известно фрондерам. Коадъютор вновь поднял чернь, и разъяренная толпа окружила Пале Рояль.
Тогда королева решилась на удивительный поступок. Приказав открыть двери дворца, она велела гвардейцам впустить непрошеных гостей. Народ устремился в гостиные. Анна Австрийская с улыбкой встретила своих подданных.
– Я пригласила вас, – сказала она, – потому что окружена врагами и только с вами чувствую себя в безопасности.
Это был ловкий ход, и толпа остановилась в замешательстве. Тем не менее раздались голоса:
– Мы узнали, что вы собираетесь покинуть дворец сегодня ночью, и что король уже одет. Это правда?
Анна была готова к подобному вопросу. Она повела присмиревших парижан в королевскую спальню, отдернула полог маленькой кроватки и показала им мирно спящего Людовика XIV.
Потрясенные манифестанты удалились из спальни на цыпочках.
После событий этой ночи регентша, осознав, какую роковую ошибку едва не совершила во имя любви, отказалась от мысли воссоединиться с Мазарини. Впрочем, через некоторое время кардиналу удалось переслать ей необыкновенно нежное послание. Вот оно. На нем стоит дата – 10 мая 1651 года. Читая его, хорошо понимаешь, насколько смешны утверждения историков, полагающих, что кардинала и регентшу связывали только узы дружбы…
«Боже мой, как я был бы счастлив, если бы мог дать вам возможность заглянуть в мое сердце. Тогда вы согласились бы со мной, что нет чувства, равного моей привязанности к вам. Признаюсь вам, что вы занимаете все мои помыслы, и прежде я представить себе не мог, что буду способен думать только о вас.
Верю, что ваши чувства преодолеют все испытания и что они именно таковы, как вы говорите; но мои чувства еще сильней, ибо каждый день я упрекаю себя, что не сумел дать вам надлежащих доказательств моей привязанности, и в голову мне приходят очень странные мысли, повелевающие мне предпринять нечто неслыханное и отчаянное, лишь бы вновь увидеть вас; меня удерживает только то, что я могу нанести этим ущерб вам. Ибо я давно бы уже испробовал тысячу путей, дабы выбрать один, и если я не получу в моей скорби скорого утешения, то не отвечаю за себя, поскольку эта осмотрительность не сочетается с пылкостью моих чувств к вам.
Возможно, я не прав и в таком случае прошу у вас прощения, но мне кажется, что будь я на вашем месте, то приложил бы все усилия, чтобы позволить другу встретиться с вами… Известите меня, прошу вас, увидимся ли мы и когда: ибо так дольше продолжаться не может. Со своей стороны клянусь, что это случится в ближайшем времени, даже если мне придется погибнуть… Я возлюбил бы от всего сердца и больше жизни злейшего своего врага, если бы он помог мне вновь увидеться с вами».
Это послание, совсем не похожее на письмо министра, адресованное своей королеве, заканчивается подлинным криком отчаяния:
«Поверь мне, что со времен Адама никто не страдал так от разлуки, как страдаю я…»
Между тем Фронда продолжалась. Конде, только что выпущенный на свободу, стремился отстранить при помощи знати Анну Австрийскую от власти, а также отложить до восемнадцати лет объявление короля совершеннолетним, имея тайную мысль самому взойти на трон.
Мазарини, получавший информацию от секретных агентов, с тревогой следил за хитроумными маневрами победителя при Рокруа. Из своего маленького кабинета в Кельне он предпринимал все усилия, чтобы защитить корону своей возлюбленной. Теперь его любовные послания сопровождались политическими советами, написанными на шифрованном языке. Каждое утро королева получала очередную порцию нежности и указаний, благодаря которым с успехом разрушала замыслы мятежников.
С особой очевидностью это проявилось в сентябре: шестого числа Конде открыто выступил против регентши; седьмого числа Людовик XIV был объявлен совершеннолетним… Только Мазарини мог нанести этот мгновенный ответный удар, спасший Францию.
* * *
30 января 1652 года кардинал, наконец, вернулся в Париж. Однако Фронда еще не завершилась. Конде, став союзником испанцев, безжалостно разорял Гиень, а в Орлеане мадемуазель де Монпансье, окруженная воинственными амазонками, строила планы по созданию оплота против королевской армии, намереваясь затмить славу Жанны д’Арк.
Увы! Только в одном мадемуазель де Монпансье могла сравниться с храброй лотарингской крестьянкой; не случайно насмешники величали ее не иначе, как Старшая Орлеанская девственница…
Вероятно, любовнику удалось бы укротить пыл этой опасной истерички, но она желала сохранить чистоту, мечтая выйти замуж за короля, которого уже именовала «своим милым муженьком».
Эти надежды рассыпались в прах вследствие весьма неразумного поступка, и мадемуазель долго еще пришлось нести тяготы мучительного девства.
В начале июля армия Конде, теснимая войсками Тюренна, подошла к Парижу, надеясь укрепиться в столице. Но городское ополчение было начеку. Принц обнаружил перед собой запертые и охраняемые ворота. Сверх того, он обнаружил с неприятным изумлением, что со стороны Сен-Антуанского предместья на него движутся полки Тюренна, не скрывающие своих враждебных намерений. Мушкетные залпы подтвердили правильность первого впечатления, и под стенами столицы завязался ожесточенный бой. В течение всего утра солдаты противоборствующих армий с увлечением истребляли друг друга, хотя враждебные действия иногда прерывались забавными интермедиями. Стояла изнурительная июльская жара: время от времени бойцы останавливались, чтобы обтереть потное лицо или снять раскалившийся панцирь. В один из моментов битвы сам Конде, обливаясь потом, отошел в сторону и, раздевшись догола, стал кататься в траве, словно лошадь; затем он натянул на себя одежду и снова ринулся в схватку.
После нескольких часов отчаянной резни мятежного принца прижали к стенам Парижа; казалось, ему грозило неминуемое поражение, но внезапно заговорили пушки Бастилии…
Ядерный град обрушился на королевскую армию. Многие всадники были убиты, началось смятение, которым немедленно воспользовался Конде.
Кто же пришел ему на помощь? Мадемуазель де Монпансье. В сопровождении своих разряженных «маршалов в юбках» она поднялась на эспланаду крепости и приказала бить из пушек по армии Тюренна…
Надо признать, что со стороны женщины, мечтавшей выйти замуж за Людовика XIV, подобная выходка была чистейшим безумием.
Вечером она торжествовала: веселилась, танцевала, опустошила несколько бутылок вина и пронзительно хохотала, тогда как ей следовало бы запереться в спальне и оплакивать уплывшее счастье.
Разумеется, она спасла Конде и поразила народное воображение, подарив прекрасный сюжет сочинителям легенд, но, говоря словами Мазарини, в этот день «она потеряла мужа своих грез».
Многие годы несчастная испытывала невыразимые муки, ибо затянувшаяся девственность пагубным образом влияла на ее рассудок и отравляла ей кровь. Глаза у нее от этого становились все больше и блестели сильнее обычного, а во взоре все явственнее проступало смятение.
Бедняжка!..
Камеристка лишает невинности Людовика XIV
Мы часто нуждаемся в том, кто меньше нас.
Народная мудростьВ то время как Конде и мадемуазель де Монпансье сотрясали трон, равнодушный к политике Людовик XIV с возрастающим интересом присматривался к округлым формам придворных дам.
Правда, ему было уже четырнадцать лет, и неведомые доселе желания посетили его душу. Он развивался настолько быстро, что королеве-матери несколько раз приходилось вмешиваться, дабы уберечь его от преждевременного знакомства с особенностями подданных женского пола…
В двенадцать лет он страстно влюбился в жену маршала Шомбера, которой был безумно увлечен еще его отец в те времена, когда она носила имя мадемуазель де Отфор. Он целовал ее, ложился к ней в постель, гладил руки и прижимался лицом к волосам – и все это с таким пылом, что Ле Муан нарисовал феникса, возрождающегося из пепла, добавив девиз: «Me quoque post patrem» («Вслед за отцом и я»). Хотя юный король обладал куда большими физическими возможностями, нежели Людовик XIII, для удовлетворения желаний своей избранницы, ему так и не довелось стать любовником прекрасной маршальши.
Анна Австрийская, стоя на страже добродетели своего сына, приказала не спускать с него глаз, и камердинеру было велено следить, чтобы он не оставался с женщинами наедине.
Все придворные дамы, надо сказать, прилагали массу усилий, чтобы завлечь короля в свою постель, ибо каждая считала за честь – равно как и за удовольствие – лишить его невинности.
Одни пытались пробудить в нем чувственность, показываясь ему на глаза полуодетыми, другие ненароком расстегивали в его присутствии корсаж, наконец, третьи, встречаясь с ним, позволяли себе весьма определенные, хотя и не вполне пристойные жесты.
Одна из них, герцогиня де Шатийон, так старалась приманить короля, что навлекла на себя насмешки всего двора, и, как всегда, в скором времени появились ехидные куплеты:
Шатийон, берегите Вашу прыть для другого, Вы, конечно, готовы, Но король не готов…Однако прекрасная герцогиня пренебрегла мудрыми советами, и однажды вечером ее застали вместе с королем за ширмой, где оба излишне распустили руки…
Естественно, встревоженная Анна Австрийская поторопилась оградить сына от этих рискованных шалостей, и мадам де Шатийон было велено покинуть двор.
* * *
Однако вскоре случилось весьма странное происшествие, о котором нам сообщает Ла Порт, и королева поняла, что оберегать короля следовало не только от женщин.
Двор, без конца кочевавший с места на место, находился тогда в Мелене. В один из летних дней 1652 года король был приглашен на ужин к кардиналу, при доме которого был сад, подходивший к берегам Сены. Около шести часов вечера Людовик XIV, прервав беседу с глазу на глаз с Мазарини, послал за своим камердинером, сказав, что хочет искупаться в реке.
Через полчаса он вышел из дома и направился к берегу, где все уже было приготовлено для королевского купания. Ла Порт обратил внимание, что король выглядит чрезвычайно взволнованным и смущенным. Раздевая его, слуга вдруг заметил «ужасную вещь»: кто-то воспользовался невинностью подростка, дабы совершить по отношению к нему действия злокозненного характера.
Камердинер был в отчаянии. После долгих колебаний он отправил королеве-матери письмо следующего содержания:
«Мадам!
Король, ужиная вместе с кардиналом, приказал мне приготовить ему ванну в реке около шести часов… Когда король пришел туда, он показался мне более грустным и бледным, чем обычно. Мы стали раздевать его, и совершенное над его особой покушение при помощи рук предстало столь явственным, что отец Бонтан и Моро тоже это увидели; но они оказались лучшими придворными, чем я: мне следовало бы промолчать, но мои верность и рвение сильнее меня… Ваше Величество помнит мои слова: король выглядел бледным и грустным, и это доказывает, что все случилось без его согласия. Мне не хотелось бы обвинять кого бы то ни было, Мадам, поскольку я боюсь впасть в ошибку».
Ла Порт не назвал имен, но королева догадалась, что он подозревает Мазарини. Она в слезах побежала к кардиналу, который, разумеется, с негодованием отверг обвинение и потребовал отослать слугу.
Изгнанный Ла Порт в отместку стал рассказывать эту историю направо и налево, а насмешники принялись лицемерно защищать кардинала, говоря, что тот «хотел всего лишь немного расширить круг королевских развлечений»…
Если же исходить из фактов, то никто в точности не знает и, видимо, не узнает никогда, действительно ли Ла Порт заметил нечто необычное, раздевая Людовика XIV перед купанием.
* * *
Как бы то ни было, это таинственное происшествие имело самые неожиданные последствия: Анна Австрийская стала опасаться, что сын может приобщиться к «итальянскому греху», столь распространенному при дворе, и ей пришло в голову, что лучшим средством избежать дурных путей будет свободное общение с дамами.
По ее приказу прежний строгий надзор за подростком был несколько смягчен. Смягчен до такой степени, что главная камеристка королевы мадам де Бове, в молодости бывшая изрядной распутницей, почуяла, что ей представился долгожданный шанс: как-то раз она подстерегла короля, увлекла его в свою комнату и, быстро задрав юбки, преподала ему первый урок любви.
Людовику XIV было пятнадцать лет, мадам де Бове – сорок два…
Все последующие дни восхищенный король проводил у камеристки, чей огненный темперамент великолепно гармонировал с юношеской пылкостью неофита. Затем он пожелал разнообразия, и, как говорит Сен-Симон, «все ему годились, лишь бы были женщины».
Он начал с дам, желавших получить его девственность, а потом приступил к методичному завоеванию фрейлин, живших при дворе под надзором мадам де Навай.
Каждую ночь – один или в компании с несколькими друзьями – Людовик XIV отправлялся к этим девушкам, дабы вкусить здоровое наслаждение физической любви с первой же фрейлиной, которая попадалась ему под руку.
Иногда двери запирались на ключ; в таких случаях король без колебаний карабкался на крышу и спускался к своим красавицам по водосточной трубе. Однажды он проник в свой сераль через камин…
Естественно, об этих ночных визитах в конце концов стало известно мадам де Навай, и она приказала поставить решетки перед всеми отверстиями, через которые мог бы протиснуться мужчина. Людовик XIV не отступил перед возникшим препятствием. Призвав каменщиков, он велел пробить потайную дверь в спальне одной из радушных мадемуазель.
Ж.-О. Фрагонар. Свидание
Несколько ночей подряд король благополучно пользовался секретным ходом, который днем маскировался спинкой кровати. Но бдительная мадам де Навай обнаружила дверь и, не говоря худого слова, распорядилась замуровать ее. Вечером Людовик XIV, намереваясь пройти к своим нежным подругам, с великим удивлением увидел гладкую стену там, где накануне был потайной ход.
Он вернулся к себе в ярости; на следующий же день мадам де Навай, равно как и ее супругу, было сообщено, что король не нуждается более в их услугах и повелевает им немедленно отправиться в Гиень.
Уже в возрасте пятнадцати лет Людовик XIV не терпел вмешательства в свои любовные дела…
Через некоторое время после всех этих событий юный монарх сделал своей любовницей дочь садовника. Вероятно, в знак признательности девица родила ему ребенка.
Анна Австрийская встретила эту новость с большим неудовольствием, придворные же посмеивались. Однако многие были шокированы неразборчивостью Людовика XIV. Во время балета с участием Его величества, исполнявшего «роль развратника», Бенсерад вложил в уста одного из танцоров невероятные по дерзости стихи, в которых королю выражалось суровое порицание за то, «что бегает за всеми юбками без разбора».
Увы! Публичное осуждение никак не повлияло на монарха, чьи шалости будут продолжаться в течение полувека…
Мария Манчини превращает Людовика XIV в Короля-Солнце
Если бы не она, он так и остался бы довольно неотесанным.
Пьер ЛенбарЕсли по ночам Людовик XIV развлекался с фрейлинами королевы матери, то днем его чаще всего видели в обществе племянниц Мазарини.
Кардинал, принимавший близко к сердцу дела семьи, выписал из Италии дочерей двух своих сестер – мадам Мартиноцци и мадам Манчини. Первая партия маленьких итальянок появилась в Париже в 1647 году: она включала в себя Анну Марию Мартиноцци, Лауру Мартиноцци, Олимпию Манчини и Лауру Манчини. Вторая партия, прибывшая позже, состояла из трех новых Манчини: Гортензии, Марии-Анны и Марии, судьба которой впоследствии вдохновит Расина.
Все эти девушки считались почти уродливыми. Мемуаристы единодушны в их описании: они были чернявыми и смуглыми, с курчавыми волосами и желтоватой кожей, с чересчур большими глазами, слишком худые и угловатые. Вместе они напоминали стайку испуганных козочек…
Пучеглазые, как совы, Кожа зеленей капусты, Брови выписаны углем, Лица вымазаны сажей.Такие куплеты сочиняли о них при дворе. Это нисколько не помешало им стать подружками Людовика XIV. Они целыми днями играли в саду Пале Рояля (однажды короля чуть не утопили в одном из фонтанов); позднее стали затевать балы и другие развлечения, позволявшие придворной молодежи чуть надкусить яблочко греха, не выходя за рамки невинных забав.
Именно тогда король внезапно влюбился в свою ровесницу Олимпию – вторую из сестер Манчини.
Двор узнал об этой идиллии на Рождество 1654 года. Демонстрируя свои чувства без всякого стеснения, Людовик XIV сделал Олимпию королевой всех праздничных торжеств последней недели года. Мадам де Мотвиль сообщает нам, «что он не расставался с ней ни на секунду, постоянно приглашал танцевать и отличал так, что казалось, будто балы, пиры и гулянья устраивались только ради нее».
Естественно, придворные посмеивались при виде этих преувеличенных знаков внимания, а по Парижу вскоре распространился слух, что Олимпия станет королевой Франции.
Регентша не на шутку рассердилась. Она готова была закрыть глаза на чрезмерную привязанность сына к племяннице Мазарини, но ее оскорбляла сама мысль, что эта дружба может быть узаконена.
И юной Олимпии, которая обрела слишком большую власть над королем в надежде завоевать трон, было приказано удалиться из Парижа.
Мазарини быстро нашел ей мужа, и вскоре она стала графиней де Суассон…
* * *
Столь скоропостижное завершение идиллии, забавлявшей придворных, ошеломило всех. Впрочем, вопреки ожиданиям, Людовика XIV не слишком опечалил внезапный отъезд Олимпии. Через несколько дней он возобновил свои ночные похождения, овладевая фрейлинами с прежними методичностью и усердием.
Однако у этих девиц были свои маленькие тайны, и пытливого исследователя подстерегали неприятные неожиданности. Поэтому придворному врачу Валло в скором времени пришлось внести в «Дневник самочувствия Людовика XIV» следующие строки:
«В начале мая месяца 1655 года, незадолго до отъезда в действующую армию, мне сообщили, что рубашки короля испачканы. Следовало выяснить, не болезнь ли тому причиной. Лица, известившие меня об этом, не могли ничего сказать о характере и природе хвори, поразившей короля, но полагали, что речь идет об отравлении или же о болезни венерической. Внимательнейшим образом изучив все признаки, я пришел к другому выводу».
Славный Валло ошибался. Король действительно подхватил одну из тех скверных болезней, что являют собой оборотную сторону любовных утех. Налицо были все симптомы. Но врач, не желая их видеть, возлагал всю вину на увлечение короля верховой ездой:
– Вы слишком часто ездите на лошади, – говорил он, – и не щадите должным образом те органы, кои несут ответственность за деторождение. Вам нужно беречь себя. Откажитесь на время от вольтижировки…
Король улыбнулся при мысли о весьма специфической верховой езде, ставшей причиной его болезни, но ничего не ответил. Валло прописал ему безобидные лекарства. Время шло, и примерно через месяц состояние больного ухудшилось. Смирившись, Валло признал очевидность факта.
Чрезвычайно встревожившись, он приказал ставить королю клизму, что, надо признать, было довольно странным способом одолеть венерическую болезнь…
Правда, впоследствии лечение стало более целенаправленным. Мы читаем в «Дневнике» Валло: «Его величеству был подан обычный отвар из оленьих рогов и слоновой кости, в котором я растворил два зернышка марсовой соли». Затем нижнюю часть живота больного промыли раствором муравьиной кислоты. Увы! Ничего не помогло; во все время фландрской кампании король сильно страдал от венерической болезни и не мог уделять должного внимания военным действиям, хотя Валло и давал ему ежедневно настой из синеголовника.
Король Людовик XIV
После семимесячного лечения – порой совершенно невообразимого – Людовик XIV наконец почувствовал себя здоровым. «Поврежденные места» пришли в порядок, и он с новыми силами устремился к прежним развлечениям с фрейлинами королевы…
В 1657 году он впервые удосужился взглянуть в лицо одной из фрейлин, знакомых ему лишь по тому органу, который моралисты считают хранилищем чести, и немедленно в нее влюбился. Звали счастливицу мадемуазель де ла Мот д’Аржанкур.
Мазарини с досадой отнесся к появлению новой фаворитки, избранной вне тесного семейного круга, и тут же сообщил королю, что малышка ла Мот была любовницей герцога де Ришелье; как-то вечером их застали врасплох, когда «они занимались любовью на табурете».
Эти подробности не понравились Людовику XIV. Он порвал все отношения со своей красавицей и, чтобы развеяться, отправился изображать из себя полководца в северную армию – правда, прихватив на всякий случай маршала Тюренна…
* * *
Пока король с похвальной предусмотрительностью играл в военные игры, в Кузьере, что находится возле Тура, происходили весьма странные события.
Именно здесь поселилась после смерти мужа прекрасная и пылкая мадам де Монбазон, бывшая соперница мадам де Лонгвиль. Она выбрала это место, чтобы жить поближе к любовнику – молодому и красивому канонику, архидиакону Тура по имени Арман Жан ле Бутийе де Ранье.
Связь эта, наделавшая в свое время немало шума, была известна всем. Обитатели Тура распевали насмешливые куплеты, где доставалось обоим любовникам, а маршал д’Окенкур, который давно ухаживал за герцогиней, впоследствии написал об этом так: «Прекраснейшая женщина в мире попросту водила меня за нос… Вокруг нее постоянно увивался некий аббат де Ранье: на людях он говорил с ней о небесной благодати, с нею наедине вел совсем иные беседы»…
В апреле 1657 года мадам де Монбазон заболела «крапивницей» (нечто вроде злокачественной кори) и скончалась. Немедленно были вызваны плотники, чтобы снять мерку для гроба. Трудно сказать, что произошло: то ли они недосмотрели, то ли перебрали крепкого местного вина, но вечером, когда им надо было укладывать покойницу, гроб оказался короток.
Кому другому, может быть, и пришла бы в голову мысль переделать негодную работу. Однако турские плотники не привыкли зря расходовать материал. Недоуменно переглянувшись и почесав в затылках, они поплевали на ладони, вооружились тесаками и отрубили голову мадам де Монбазон. Безголовое тело легко поместилось в гроб. Будучи людьми аккуратными, славные туренцы уложили голову на кресло и удалились.
Два часа спустя в Кузьер примчался Ранье, которого только что известили о болезни любовницы. Представшее перед ним зрелище настолько потрясло его, что он, если верить легенде, совершил поразительный поступок: схватив голову той, которую так любил, завернул ее в скатерть и унес собой.
Это происшествие сильно взволновало Пале Рояль. Но нашлись злоязычные люди, которые стали распускать шутки весьма сомнительного свойства. Напоминая, что в постели мадам де Монбазон побывали не только все придворные, все послы, все генералы, но и все лакеи во главе с камердинерами, остряки добавляли, что при мысли о таком количестве любовников в смертный час вполне можно было потерять голову…
А затем о мадам де Монбазон забыли и думали уже только о войне. Людовик XIV пребывал тогда под Дюнкерком.
Увы! после захвата города (12 июня 1658 года) он заболел тяжелейшей лихорадкой. Его перевезли в Кале, где он окончательно слег. В течение двух недель монарх был на грани смерти, и все королевство возносило Богу мольбы о его выздоровлении. 29 июня ему внезапно стало так плохо, что было решено послать за священными дарами.
Считая, что он без сознания, люди из свиты на несколько мгновений оставили его одного. И в этот час, когда взоры придворных уже устремлялись к будущему монарху, умирающий король вдруг увидел перед собой залитое слезами лицо высокой девушки, которая плакала не переставая.
Это была Мария Манчини, еще одна племянница Мазарини. В ту пору ей было семнадцать лет.
Она уже давно любила короля, никому в этом не признаваясь. Людовик со своей постели смотрел на нее глазами, блестевшими от жара. «Она была чернявая и желтая, – рассказывает мадам де Мотвиль, – в больших темных глазах еще не зажегся огонь страсти, и оттого они казались тусклыми, рот был слишком велик, и, если бы не очень красивые зубы, она могла бы сойти в то время за уродину».
Однако король понял, что любим, и был этим взволнован.
В этот момент появился врач, принесший больному лекарство из винного настоя сурьмы. Эта удивительная микстура оказала чудодейственное воздействие: Людовик XIV стал поправляться на глазах и выразил желание вернуться в Париж, чтобы скорее оказаться рядом с Мари…
Увидев ее, он понял по биению своего сердца и другим признакам, что влюбился, однако не признался в этом, а только попросил, чтобы она вместе с сестрами приехала в Фонтенбло, где он решил оставаться до полного выздоровления.
В течение нескольких недель там происходили сплошные увеселения: водные прогулки в сопровождении музыкантов, танцы до полуночи, балеты под деревьями парка. Королевой всех развлечений была Мари.
Мария Манчини
* * *
Затем двор вернулся в Париж. Девушка была на седьмом небе от счастья. «Я обнаружила тогда, – пишет она в своих мемуарах, – что король не питает ко мне враждебных чувств, ибо умела уже распознавать тот красноречивый язык, что говорит яснее всяких красивых слов. Придворные, которые всегда шпионят за королями, догадались, как я, о любви Его величества ко мне, демонстрируя это даже с излишней назойливостью и оказывая самые невероятные знаки внимания».
Вскоре король осмелел настолько, что признался Мари в своей любви и сделал ей несколько изумительных подарков. Отныне их всегда видели вместе.
Вскоре про нее сочинили следующий куплет:
Как счастлив Деодот Целовать такой рот, Что от уха до уха идет.Чтобы понравиться той, кого уже считал своей невестой, Людовик XIV, получивший довольно поверхностное воспитание, стал усиленно заниматься. Стыдясь своего невежества, он усовершенствовал познания во французском и начал изучать итальянский язык, одновременно уделяя много внимания древним авторам. Под влиянием этой образованной девушки, которая отличалась необыкновенным умом и знала наизусть множество стихов, он прочел Петрарку, Вергилия, Гомера, страстно увлекся искусством и открыл для себя новый мир, о существовании которого даже не подозревал, пока находился под опекой своих никудышных учителей.
Благодаря Марии Манчини этот король впоследствии займется возведением Версаля, будет оказывать покровительство Мольеру и финансовую помощь Расину. Однако ей удалось не только преобразить духовный мир Людовика XIV, но и внушить ему мысль о величии его предназначения.
Королю было двадцать лет, а он все еще покорно подчинялся матери и Мазарини. Ничто в нем не предвещало могущественного монарха: при обсуждении государственных дел он откровенно скучал и предпочитал перекладывать на других бремя власти. Мария пробудила в Людовике XIV дремавшую гордость; она часто беседовала с ним о славе и превозносила счастливую возможность повелевать. Будь то тщеславие или расчет, но она желала, чтобы ее герой вел себя, как подобает коронованной особе.
Таким образом, можно прийти к заключению, что Короля-Солнце породила любовь…
Женитьба Людовика XIV
Сердце принцессы было принесено в жертву государственным интересам…
Франсис ТомаВ течение многих месяцев Людовик XIV и Мария Манчини прогуливались рука об руку по садам Пале Рояля, не обращая внимания на несколько иронические улыбки придворных.
Король любил впервые в жизни. Он вздрагивал при звуках скрипок, вздыхал лунными вечерами и грезил о сладких объятиях восхитительной итальянки, которая хорошела день ото дня.
Но Мария была целомудренной. Кроме того, честолюбивые мечты, еще не вполне ясные ей самой, подсказывали, что она не должна смешиваться с почти безымянной толпой любовниц юного монарха.
Однако она чувствовала смятение, оставаясь наедине с королем. Чувства ее не были спокойны; как признается она сама, «я ощущала, что во мне разгорается пламя».
Это мучило и тревожило девушку. Но, невзирая на голос природы, требовавшей своего, молодые люди были счастливы, когда внезапно разразилась буря, которая унесла с собой сладостный покой этих дней.
Действительно, при дворе начались разговоры, что король в скором времени женится на принцессе Маргарите Савойской.
Мазарини, желавший принудить Испанию подписать мир и закрепить его браком Людовика XIV с инфантой Марией-Терезией, предпринял чрезвычайно ловкий маневр: короля Испании следовало припугнуть, сделав вид, что свадьба с савойской принцессой – дело почти решенное. Естественно, истинных намерений Мазарини не знал никто, в том числе и Людовик XIV. Мария Манчини взволновалась необычайно.
Напротив, юный монарх встретил эту новость с полным спокойствием и попросил возлюбленную сопровождать его в Лион, где он должен был увидеться с Маргаритой Савойской…
25 октября король покинул Париж вместе с королевой-матерью и многочисленной свитой. Кортеж состоял из двадцати карет, не считая телег, на которых везли ковры, кровати, покрывала, посуду и все прочее, без чего двор не мыслил своего существования. В целом это была чрезвычайно внушительная кавалькада, неторопливо продвигавшаяся вперед среди радостных кликов крестьян, сбегавшихся посмотреть на это диво с таким же энтузиазмом, как их правнуки, жаждущие взглянуть на участников велосипедного пробега Тур де Франс…
Стояла прекрасная осенняя погода, и Людовик XIV вскоре оставил карету, пересев на лошадь. Мария Манчини последовала его примеру, и они провели это путешествие самым приятным образом, воркуя вдали от нескромных ушей.
В Лион прибыли 28 ноября.
Через несколько дней двор получил известие, что са-войские принцессы приближаются к городу. Людовик XIV со сверкающими глазами бросился к лошади, совершенно забыв о Марии Манчини, и поскакал навстречу Маргарите, которую ему не терпелось увидеть.
Ибо предварительно было решено, что брак состоится лишь в том случае, если король найдет принцессу по своему вкусу. Кардинал предусмотрел эту статью, поскольку опасался навязать Людовику XIV уродливую жену в ситуации, когда маневр с испанцами мог закончиться и неудачей.
Анна Австрийская с нетерпением ожидала возвращения сына. Он вернулся в самом веселом расположении духа и чрезвычайно довольный.
– Ну как? – спросила королева мать.
– Она такая же миниатюрная, как жена маршала де Вильруа, – ответил Людовик XIV, – но фигура у нее необыкновенно красивая. Она чуть смугловата, но ей это идет. У нее красивые глаза, вообще, она мне очень нравится и вполне мне подходит.
Тогда савойские принцессы подъехали в своих каретах к городским воротам. Там их встретила королева-мать, и Людовик XIV выказал необычайную любезность по отношению к Маргарите.
Вечером все стали расходиться на ночлег по домам, расположенным на площади Белькур, и к королю, который уже мечтал о том, как он проведет первую ночь с изящной савойской принцессой, подошла Мария Манчини. Радость его померкла.
Бедная девушка плакала. Мадемуазель де Монпансье, злорадствуя, уже успела пересказать ей слова Людовика XIV относительно Маргариты Савойской.
Взволнованный король не смел поднять глаз, ожидая грозу. Видя это, Мария воспрянула духом и произнесла с горячностью:
– Разве это не позор, что вам подсовывают такую уродливую женщину?
Беседа, которая продолжалась до поздней ночи, принесла свои плоды. На следующий день от любезности Людовика XIV не осталось и следа. Он был крайне холоден с Маргаритой, и принцесса Савойская не могла скрыть своего изумления.
Вечером королева-мать давала прием в честь гостей. Король вел себя вызывающе грубо. С Маргаритой он не заговорил ни разу и сидел в стороне, весело болтая с Марией.
Савойские принцессы встревожились, и дальнейшие события подтвердили справедливость их опасений. В самом деле, хитрость кардинала вполне удалась. Уже утром в Лион прибыл посланник испанского короля с предложением заключить брак между Людовиком XIV и инфантой. В скором времени об этом стало известно мадам де Савуа, и она немедленно отправилась к Мазарини, требуя объяснений.
– Я крайне огорчен, – сказал первый министр, – но долг повелевает королю любой ценой прекратить войну, которая длится уже двадцать лет, и подарить Франции мир. Единственным же средством достигнуть этого является брак с Марией-Терезией Испанской.
Принцесса Савойская, побледнев как смерть, едва не лишилась чувств.
– Могу ли я надеяться, – пролепетала она, – что о моей дочери не забудут, если король не женится на инфанте?
На сей счет она получила письменное обязательство. В тот же вечер ей был вручен скрепленный подписью короля акт, к которому прилагались алмазные серьги, драгоценные перстни и флакончики с духами. Через день принцессы, не в силах скрыть слез, покинули Лион и вернулись в Савойю, утешаясь лишь тем, что их приезд позволил Франции подписать мир с Испанией.
* * *
Когда двор в начале 1659 года возвратился в Париж, Мария Манчини приобрела такую власть над королем, что Анна Австрийская и Мазарини встревожились.
Кардинал поручил мадам де Венель не спускать с влюбленных глаз и не оставлять их наедине в комнатах, где имелась кровать.
Добрая женщина принялась за дело с большим рвением и однажды ночью, заслышав какие-то странные звуки, вошла в спальню Мари (которая всегда спала с открытым ртом). Ощупывая подушку, она нечаянно засунула палец между зубов девушки.
Проснувшись, словно от толчка. Мари сразу же поняла, что к ней прокралась шпионка, посланная дядюшкой, и изо всех сил укусила ее. Та неистово завопила, переполошив спавших на этом этаже. Наутро весь двор потешался над несчастной мадам де Венель, которая, впрочем, и без того была всеобщим посмешищем. Король, жаждавший избавиться от нее, подстраивал ей чисто мальчишеские пакости.
«Как-то раз, – рассказывает один из мемуаристов, – государь раздавал конфеты придворным дамам, в красивых коробочках, перевязанных разноцветными лентами. Мадам де Венель, получив свою, открыла ее: и каков же был ее ужас, когда оттуда выскочило с полдюжины мышей, которых, как всем было известно, она смертельно боялась. Первым ее побуждением было бежать со всех ног. Но вспомнив, что обещала королеве не терять из виду мадемуазель Манчини, она опомнилась и вернулась назад. Король, который уже успел сесть на софу рядом с мадемуазель Манчини, поздравляя себя с успехом своего предприятия, весьма удивился и сказал:
– Как, мадам, неужели вы так быстро успокоились?
– Напротив, сир, – отвечала та, – я по-прежнему трепещу и потому пришла искать защиты у сына Марса».
В следующем месяце Пимантель, посланник испанского короля, прибыл в Париж, чтобы подготовить мирный договор, первым условием которого был брак между Людовиком XIV и инфантой. Бедная Мари, совершенно потеряв голову, стала прилагать все усилия, дабы сорвать переговоры. Каждый день она подолгу беседовала с королем, пуская в ход то слезы, то нежность, то упреки, и старалась убедить его, что нет ничего ужаснее женитьбы без любви.
– Вы будете несчастны! – говорила она.
Он знал это, но страшился оскорбить испанского посла и нанести ущерб хитроумной политике Мазарини.
Однажды разнеслась весть, что двор переезжает в Байонну, где мирные переговоры должны были завершиться. Мари, не помня себя от отчаяния, побежала к королю и упала перед ним на колени:
– Если вы любите меня, то не поедете! – воскликнула она.
И залилась слезами, повторяя только:
– Я люблю вас! люблю…
Король, очень бледный, поднял ее со словами:
– Я тоже люблю вас.
– В таком случае вы не должны покидать меня, – сказала Мари, – ни за что, никогда…
Король в необычайном волнении, обняв, прижал к себе девушку и долго не отпускал.
– Я вам это обещаю.
Затем он отправился к Мазарини и объявил без всяких предисловий, что хочет жениться на его племяннице.
– Не вижу лучшего способа, – добавил Людовик XIV, – вознаградить вас за долгую безупречную службу!
Мазарини был ошеломлен. Вначале его ослепила мысль, что благодаря этому браку он станет дядей королевы Франции. Забыв свой долг и все политические расчеты, он пошел к королеве, которой и рассказал в нарочито небрежной манере, дабы скрыть смущение, о потрясающем предложении ее сына.
Анне Австрийской хватило нескольких слов, чтобы спустить его с небес на землю.
– Не думаю, господин кардинал, – промолвила она сухо, – что король способен на такую низость; но если он вздумает сделать это, предупреждаю, что против вас восстанет вся Франция, что я сама встану во главе возмущенных подданных и поведу с собой моего младшего сына.
Мазарини осознал свой промах и удалился, не поднимая головы. Тогда королева призвала к себе сына и стала ему выговаривать. Король, разгорячившись, объявил, что никогда не откажется от своей любви и что испанская инфанта может искать себе другого мужа…
Тогда было решено отправить Марию Манчини в изгнание.
На следующий день Мазарини холодно предупредил племянницу, что она должна собирать вещи.
– Вместе со своими сестрами вы отправитесь в Бруаж, что находится недалеко от Ла Рошели. Ваше присутствие здесь более невозможно, ибо вы стали причиной прискорбной смуты. Прошу вас известить об этом короля.
Мари, заливаясь слезами, побежала в комнату Людовика XIV и сообщила ему, что должна ехать в Вандею.
– Никто не разлучит вас со мной! – вскричал он громовым голосом.
Гвардейцы, приникшие к замочной скважине, отпрянули, услышав подлинно королевский рык.
Затем Людовик XIV обнял девушку, и осмелевшие гвардейцы смогли по очереди полюбоваться этой приятной сценой.
Однако и на этот раз «Мазаринетта», несмотря на охватившее ее волнение, нашла в себе силы устоять. Король был крайне раздосадован; неудовлетворенное желание было таким жгучим, что все помутилось у него не только в глазах, но и в голове. Он устремился в покои матери, упал на колени перед Анной Австрийской и Мазарини и стал умолять их позволить ему жениться на Мари.
Не в силах прогнать от себя образ вожделенной красавицы, он плакал, обнимая ноги матери и называя кардинала «папой»…
– Я не могу без нее жить, – кричал он, – я обещал, что женюсь на ней, и я это сделаю. Разорвите договор с Испанией. Я никогда не вступлю в брак с инфантой. Я должен жениться на Мари!
Мазарини счел необходимым прекратить эту сцену. Суровым тоном он объявил, что был избран покойным королем, отцом Людовика XIV, а затем и королевой-матерью, дабы помогать ему советом, и что, с нерушимой верностью исполняя свой долг до сего времени, не злоупотребит доверием и не уступит недостойной короля слабости; что он волен распоряжаться судьбой своей племянницы и что готов скорее собственноручно заколоть ее кинжалом, нежели допустить ее возвышение путем величайшей государственной измены.
Этого оказалось достаточно.
Опомнившись, Людовик XIV поднялся с колен, вышел из комнаты без единого слова и поднялся к Мари, ожидавшей его с нетерпением. Она надеялась услышать, что отъезд в Бруаж отменяется, и была безутешна, когда король передал ей слова дяди.
– Вы любите меня, – говорила она, – вы король, но мне приходится уезжать!
В смятении Людовик XIV поклялся ей, что только она взойдет на французский трон, и они расстались в слезах.
* * *
Через несколько дней – 22 июня 1659 года – Мари в сопровождении мадам де Венель и сестер Гортензии и Марии-Анны села в карету, которой предстояло отвезти ее на Атлантическое побережье. Король стоял у дверцы. По лицу его текли слезы, и он даже не пытался скрыть своего отчаяния.
Мари, рыдая, целовала ему руки. Наконец был отдан приказ трогаться, и все услышали, как пронзительно вскрикнула девушка. Вне себя от скорби, она повернулась к сестрам со словами:
– Я брошена!
Король долго смотрел вслед карете, уносившей самую большую и, может быть, единственную любовь его жизни. Когда на дороге уже ничего нельзя было разглядеть, он с покрасневшими, полными слез глазами поднялся в свою карету и сразу же уехал в Шантийи, где собирался провести несколько дней, чтобы прийти в себя…
Естественно, между королем и Мари тут же завязалась почти ежедневная переписка. Кардиналу, который находился тогда в Сен Жан де Лю и был занят подготовкой мирного договора, сообщила об этом мадам де Венель. Необычайно встревожившись, он написал королеве:
«Не могу выразить вам, как меня огорчает поведение конфидента, который не только не пытается излечиться от своей страсти, но и делает все возможное, чтобы ее усилить».
И поскольку собственный его роман с Анной Австрийской все еще продолжался, закончил письмо выражением благодарности «за ваши нежные чувства, навсегда запечатленные в моем сердце, которое устремляется с любовью, сравнимой только с ангельской»…
Между тем переписка между Бруажем и Лувром становилась все интенсивнее, и Мазарини счел себя обязанным воззвать к разуму короля:
«В посланиях из Парижа, Фландрии и других мест меня уверяют, что вас нельзя узнать после моего отъезда, но не из-за меня, а из-за кое-чего, что мне принадлежит; что вы принимаете на себя обязательства, которые помешают вам даровать мир всему христианскому миру и сделать счастливыми подданных вашего государства; что если вы даже согласитесь на брак во избежание пагубных потрясений, то особа, на которой вы женитесь, станет несчастной, будучи ни в чем не виновной. Говорят, вы постоянно сидите, запершись от всех, чтобы вам не мешали писать особе, которую вы любите, и что вы тратите на это больше времени, нежели на разговоры с ней, когда она еще была при дворе.
Я знаю, впрочем, что проявил излишнюю снисходительность, когда в ответ на ваши настоятельные просьбы разрешил вам осведомляться иногда о здоровье означенной особы и сообщать ей о своем; однако это превратилось в постоянный обмен письмами: вы пишете ей каждый день и каждый день получаете ответы, а когда случается пропуск за неимением гонца, следующий везет столько писем, сколько не было послано вовремя, что делает эту ситуацию скандальной и в довершение всего наносит ущерб как репутации означенной особы, так и моей собственной».
Наконец, Мазарини затрагивает и ту тему, «которая не давала ему спать» во время переговоров с Испанией:
«Но и это еще не все. Из ответов сей особы на мои письма, в которых я самым дружеским образом пытался наставить ее на путь истинный, а также и из других посланий, пришедших ко мне из Ла Рошели, я понял, что вы всемерно стараетесь укрепить ее в напрасных надеждах, обещая ей то, что не в силах исполнить ни один человек вашего положения и что невозможно осуществить по многим причинам».
В самом деле, Людовик XIV по-прежнему уверял в каждом письме «свою королеву» (так он именовал Мари), что возложит на нее французскую корону…
* * *
В течение многих недель Мазарини, дело жизни которого оказалось под угрозой из-за чар Марии Манчини, без устали слал послание за посланием в надежде вразумить короля. Однажды, потеряв терпение, он даже пригрозил, что покинет Францию и вернется в Италию, если Людовик XIV откажется сочетаться браком с инфантой. Но король так страстно желал свою восхитительную итальяночку, что все увещевания кардинала пропадали втуне.
Естественно, положение Мазарини осложнялось еще и тем, что испанцы, для которых намерения короля не были секретом, периодически осведомлялись, не ведутся ли мирные переговоры для отвода глаз.
Однако кардинал, проявляя чудеса ловкости и изворотливости, упорно гнул свою линию. Направив к Филиппу IV официального посланника просить руки Марии-Терезии, он пригласил двор в Сен-Жан-де-Лю.
Людовик XIV, не желая портить отношения с Мазарини, согласился на встречу с испанцами, но при этом твердо решил вести себя с инфантой так же, как с Маргаритой Савойской. Вдобавок он потребовал сделать крюк в Вандею, чтобы увидеться с Мари.
Свидание состоялось в Сен-Жан-д’Анжели. Влюбленные бросились друг к другу с такой радостью, что все свидетели этой сцены были взволнованы, и король, томимый желанием, еще раз пообещал своей нежной подруге, что женится на ней и разорвет мирные переговоры с Испанией.
На следующий день он с легким сердцем отправился в путь, не подозревая, какие страдания готовит ему Мари, которая решилась на величайшую жертву во имя своей любви.
Зная в деталях о ходе переговоров с Испанией, девушка, столь же сведущая в политике, как в музыке и литературе, внезапно осознала, что страсть Людовика XIV может иметь самые роковые последствия для всего королевства. И 3 сентября она написала Мазарини, извещая его, что отказывается от короля.
Эта новость повергла Людовика XIV в отчаяние.
Он слал ей умоляющие письма, но ни на одно не получил ответа. В конце концов он велел отвезти к ней свою любимую собачку. У изгнанницы достало мужества и решимости, чтобы не поблагодарить короля за подарок, который, однако, доставил ей мучительную радость.
Тогда Людовик XIV подписал мирный договор с Испанией и дал согласие жениться на инфанте. В этот день праздничные колокола гремели по всему королевству, а в Бруаже Мари заливалась горючими слезами. «Я не могла не думать, – писала она в мемуарах, – что дорогой ценой заплатила за мир, которому все так радовались, и никто не помнил, что король вряд ли женился бы на инфанте, если бы я не принесла себя в жертву»….
Жертва Марии Манчини позволила Мазарини довершить дело Ришелье. Могуществу испанских Габсбургов пришел конец; Франция получила Руссийон, Сердань, Артуа, а также несколько крепостей во Фландрии и Люксембурге.
Ж.-О. Фрагонар. Дама с собачкой
Благодаря чистой и бескорыстной любви этой девушки Франция превратилась в самую мощную державу Западной Европы.
Договор был подписан 7 ноября 1659 года – в день, когда над Пиренеями бушевала снежная буря. Когда начали обсуждать дату свадьбы, Мазарини объявил, что немыслимо заставлять короля Испании путешествовать по горам в такую погоду, и было решено, что Людовик XIV сочетается браком с инфантой будущей весной.
* * *
Пока же следовало всеми силами его развлечь и привести его чувства в порядок, дабы он не предпринимал попыток снова завязать переписку с Мари. Мазарини действовал без колебаний. Он поручил Олимпии Манчини, ставшей графиней де Суассон, напомнить королю о прежней привязанности. Ловкой красотке это вполне удалось, и через несколько дней в большой квадратной постели она получила несомненные доказательства любви от юного монарха, которому вынужденное целомудрие становилось уже в тягость.
Олимпия обладала и пылкостью, и коварством: по словам одного из мемуаристов, она привязала к себе короля «не столько нежностью, сколько искусством в любовных делах». И король, испробовавший все кровати дворца вместе с племянницей кардинала, вскоре увлекся настолько, что почти забыл о маленькой итальянке, которая горько плакала в Бруаже.
Именно в это время он решил, дабы спастись от суровых зимних холодов, посетить Прованс и Лангедок, где ему еще не доводилось бывать. Разумеется, Олимпия сопровождала двор в этой поездке, и никого не коробило, что король за полгода до свадьбы обзавелся любовницей. Напротив, Анна Австрийская, разделявшая опасения кардинала, не скрывала радости, выходившей за рамки приличия. Свидетельством тому может служить донесение полицейского агента Барде: «Королева в восторге, что король вновь сблизился с графиней де Суассон». Далее следует лукавая ремарка:
«Полагаю, ей было бы еще приятнее, если бы эти новости дошли до Бруажа, что, вероятно, в скором времени и произойдет».
Барде был прав, ибо Анна Австрийская, желая отомстить ненавистной Марии Манчини, приказала Олимпии известить сестру о своих добрых отношениях с королем. Несчастная изгнанница, принесшая столь мучительную жертву, не удержалась от жалоб. Она написала дяде трогательное письмо. Вот оно:
«Хотя предыдущее мое послание было отправлено всего два дня назад, осмелюсь еще раз потревожить Ваше преосвященство, ибо положение мое становится весьма затруднительным. Судите сами, права я или нет. Графиня де Суассон сообщила мне, что король оказал ей честь, беседуя с ней, как в былые времена… Умоляю вас о двух вещах: во-первых, пресечь их насмешки надо мной, во-вторых, оградить меня от злоязычия, выдав замуж, о чем прошу со всем смирением.
Разумеется, я не высказывала свою обиду графине, напротив, написала ей самое любезное письмо, поскольку мне хотелось показать, что я сохраняю силу духа в любых обстоятельствах. Только вам признаюсь я в слабости, так как от вас жду защиты. Надеюсь на вашу доброту, ибо нет никого, кто был бы более предан вам.
Мария».Прочитав это письмо, Мазарини расчувствовался и одновременно встревожился. Он опасался, что король в конце концов узнает о кознях королевы-матери против Мари и что испанский брак вновь окажется под угрозой. Чтобы покончить с жалобами, он запретил Олимпии сноситься с сестрой, а затем объявил Мари, что она в скором времени выйдет замуж за коннетабля Колонна, арагонского вице-короля – красивого, молодого и богатого. Помимо прочего, жениху принадлежало два роскошных дворца в Риме.
Путешествие же Людовика XIV в южные провинции продолжалось без всяких помех.
Весной двор вновь отправился в Пиренеи. 25 апреля 1660 года была сделана остановка в Оше, и король на минутку оторвался от своих развлечений с Олимпией, чтобы черкнуть пару слов невесте. Читатель может убедиться, что послание оказалось чрезвычайно любезным:
«Мадам, я с величайшим удовольствием пользуюсь данным мне разрешением, дабы написать Вашему величеству и уверить в пылкости моих чувств по отношению к Вам. Я завидую счастью дворянина, который сможет увидеться с Вами раньше, чем я, и хотя ему приказано должным образом изъяснить Вашему величеству, как я буду счастлив выразить лично мою любовь, сомневаюсь, что он сумеет передать это так, как я бы желал. Я изнемогаю от нетерпения, и если бы меня не утешала мысль, что мы движемся навстречу друг другу, ничто не помешало бы мне немедленно устремиться к Вашему величеству. Пока же я наслаждаюсь, беседуя о ваших совершенствах, ибо со всех сторон до меня доходят суждения, в коих Ваше величество превозносится до небес.
Преданный Вашему величеству всей душой
Людовик».Очарованная этим письмом, Мария, конечно, и помыслить не могла, что король поджидает ее, проводя все время в героической любовной борьбе с графиней де Суассон.
3 июня в соборе Святого Себастьяна произошло венчание по доверенности: дону Луису де Аро было поручено сочетаться браком с инфантой от имени короля Франции. На этом подобии свадебных торжеств все дело ограничилось невинным соприкосновением рук, а затем епископ Памплоны, служивший торжественную мессу, объявил Людовика XIV и Марию-Терезию мужем и женой.
На следующий день Анна Австрийская встретилась на Фазаньем острове посреди Бидассоа со своим братом, королем Испании, которого не видела сорок пять лет. Оба заплакали, а потом сели на линии, разделявшей два королевства; затем Мария была представлена тетке. Королева порывисто обняла племянницу.
Когда же инфанта захотела сесть, возникла проблема: на чьей территории – испанской или французской – должно располагаться ее седалище? Вопрос обсуждался долго. Наконец были принесены две французские подушки и положены на испанскую землю: таким образом, молодая королева заняла место в соответствии со своим двусмысленным положением.
* * *
Людовика XIV не пригласили на эту встречу, ибо по этикету новобрачным не полагалось видеть друг друга. Однако ему не терпелось взглянуть на жену, и он стал бродить вокруг дома, где гостям был приготовлен ночлег. Мазарини заметил его в окно.
– Там ходит незнакомец, – сказал он, – который мечтает, чтобы его впустили сюда.
Анна и Филипп IV, посовещавшись, ответили:
– Пусть ему откроют.
Караульные гвардейцы распахнули двери, и на пороге появился король. Поскольку он пребывал здесь инкогнито, Филипп IV сделал вид, что принимает его за обыкновенного дворянина из свиты, однако дочери подал знак глазами. Мария обернулась к Людовику XIV и стала вдруг очень бледной.
Пока супруги в молчании смотрели друг на друга, испанский король прошептал сестре:
– У меня красивый зять!
Тогда Анна Австрийская спросила инфанту, нравится ли ей этот дворянин.
– Еще не время, – возразил Филипп IV, – она не должна отвечать.
– Когда же она сможет сказать?
– Когда за ним закроется дверь.
– А что думает ваше величество об этой двери? – спросил, улыбаясь, герцог Орлеанский.
Мария покраснела, как пион.
– Дверь кажется мне очень красивой и очень доброй, – пролепетала она.
Молодой король, вполне довольный тем, что получил в жены очаровательную белокурую испанку с голубыми глазами, направился в Сен-Жан-де-Лю, где его ждала Олимпия…
9 июня юных супругов, каждому из которых было двадцать два года, благословил в церкви Сен-Жан-де-Лю епископ Байонны. Пышность этой церемонии предвещала роскошное великолепие празднеств Версаля.
Затем начались свадебные торжества, и незаметно подступил вечер. Мадам де Мотвиль, бывшая на пиру, с сочными подробностями описывает приготовления к первой брачной ночи: «Их величества и Месье[1] отужинали прилюдно, с соблюдением всех обычных церемоний, а затем король объявил, что пора ложиться. Молодая королева со слезами на глазах обернулась к своей тетке Анне Австрийской и жалобно произнесла:
– Es muy temprano! (Еще слишком рано!)
С момента прибытия она впервые выказала недовольство, что вполне можно извинить ее скромностью; когда же ей сказали, что король уже разделся, она поспешила сделать то же самое и так торопилась, что уже не обращала внимания на окружающих, хотя прежде изгоняла из своей спальни всех мужчин, вплоть до самых незначительных слуг. Услышав, что король лег, она нетерпеливо воскликнула:
– Presto! Presto! quel ry m’espera! (Быстрее, быстрее, меня ждет король!)
В этом послушании угадывалась страсть. Получив благословение королевы, их общей матери, они легли вместе в общей опочивальне».
Их первая брачная ночь оказалась достаточно бурной и изрядно позабавила лакеев, горничных и фрейлин, которые подслушивали, согласно обычаю, у дверей спальни…
Мария-Терезия, жена Людовика XIV
Шесть дней спустя двор выехал в Париж. Когда кавалькада приблизилась к Сен-Жан-д’Анжели, король внезапно объявил, что желает совершить верховую прогулку Выйдя из кареты и вскочив на коня, он поскакал в Бруаж, откуда только что уехала Мария Манчинн, получившая разрешение вернуться в столицу Он молча вошел в комнату той, которую продолжал любить, ласково провел рукой по ее креслу, склонился над букетиком засохших цветов, а затем в волнении остановился возле постели, с трудом удерживаясь от слез. После чего, по-прежнему не говоря ни слова, повернулся и вскоре нагнал свою жену Саму же Мари он увидел вновь в Фонтенбло. Во время официального представления Марии-Терезии девушка, дрожа, присела перед ней в реверансе, а потом подняла глаза на короля. Она встретила ледяной взгляд и едва не лишилась чувств.
Она не знала, что только так может держать себя король, когда желает скрыть свое смятение.
Женоподобный брат короля
Мужчина рано сбивается с пути…
Народная присказка26 августа 1660 года под рукоплескания толпы численностью примерно в миллион человек, приехавших со всех концов королевства, Мария совершила торжественный въезд в столицу. Устроенные по этому случаю празднества по роскоши и великолепию превзошли все виденное ранее. Утром королева покинула Венсенский замок и остановилась на самой окраине Сен-Антуанского предместья, где был сооружен помост, застланный коврами: здесь вместе с королем она принимала знаки почитания своих новых подданных.
После полудня в окружении многотысячной свиты – пажей, мушкетеров, швейцарских гвардейцев, трубачей и герольдов – она вступила в Париж, двигаясь по Сен-Антуанскому предместью. Зевак приводила в восторг ее карета, словно бы сошедшая со страниц волшебных сказок. «Эта колесница, – говорит нам один из очевидцев, – сверкала на солнце так, что от нее нельзя было оторвать глаз. На этом движущемся троне не было ни одной детали из железа: колеса и оси были из золота или в крайнем случае из серебра. Изнутри все было украшено золотыми кружевами. Балдахин с фестонами и кистями держался на двух колоннах; на нем серебряной нитью были вышиты королевские лилии. Колесницу везли шесть датских лошадей жемчужно-серой масти, чья упряжь по богатству вполне соответствовала убранству самой кареты».
Король ехал в нескольких шагах впереди на великолепном испанском жеребце.
За королевской четой следовали принцы, герцоги, маршалы, канцлеры и более двухсот дворян. Всех их шумно приветствовала толпа, гудевшая, будто улей.
Вскоре кортеж поравнялся с дворцом Бове. Король, приподнявшись на стременах, поклонился дамам, смотревшим на него из окон. На втором этаже стояли Анна Австрийская, королева английская и принцесса Пфальцская. Этажом выше можно было увидеть печальную девушку, которая взирала на празднество с грустью. Наконец, у окна на верхнем этаже находилась некая молодая особа: она не была принята при дворе, но пользовалась всеобщим уважением за ум и красоту. Не сводя с короля блестящего взора черных глаз, она, вероятно, уже обдумывала письмо, которое отправит подруге на следующий день. Одна из фраз этого послания доказывает, что воображение унесло ее на много лет вперед: «Королева ляжет вечером спать, сознавая свое счастье; она, конечно, довольна выбранным ею мужем».
Печальная девушка была Мария Манчини, а любительница писать письма – мадам Скаррон, будущая мадам де Ментенон, последняя любовница короля…
Таким образом, по прихоти злокозненной судьбы Мария в день своего вступления в столицу могла увидеть одновременно первую любовь и последнее увлечение своего супруга.
* * *
Мазарини не принимал участия в этих грандиозных торжествах. Прикованный к креслу приступом подагры, он был способен только удовлетворенно созерцать дело своих рук.
И в самом деле, ему было пятьдесят восемь лет, и после стольких потрясений, стольких забот и усилий здоровье его пошатнулось. Поэтому он чаще всего проводил время в своих покоях, среди изумительных ковров, картин лучших мастеров и коллекции редких книг. Дворец его был полон сокровищ, собранных за долгие годы, и искусство стало теперь его единственной страстью. Поскольку ему было трудно подниматься по лестнице, ведущей на галереи первого этажа и в библиотеку на втором, он изобрел хитроумную систему приспособлений из веревок и блоков, при помощи которых кресло поднималось наверх. Эту машину можно считать прообразом современного лифта.
Любовно осматривая свои богатства, кардинал трясся от страха при мысли, что на них неизбежно должны покуситься воры. Надо признать, опасения эти имели под собой почву. То было время прискорбного падения нравов.
Рассказывают, что когда кардинал Барберини пришел со своей свитой в мастерскую художника Дю Мустье, буквально на глазах у присутствующих испарилась книга в роскошном переплете. Взбешенный художник стал обыскивать священнослужителей, и искомый том был обнаружен под сутаной монсеньера Памфилио.
Хорошо зная вороватые повадки соплеменников, Мазарини старался принимать как можно меньше гостей и не любил оставлять дворец без собственного присмотра. Однако в начале 1661 года он обессилел настолько, что смирился с необходимостью покинуть Париж. 7 февраля его перевезли в Венсенский замок, а на следующий день туда примчалась заплаканная Анна Австрийская: она устремилась к изголовью больного с компрессами и примочками, намереваясь заботиться о нем, как подобает преданной супруге.
Кардинал давно уже не питал к королеве нежных чувств и вел себя, словно ворчливый муж, утомленный семейной жизнью. Он обращался с ней хуже, чем с горничной. Когда ему говорили, что она поднимается в спальню, он хмурил брови и начинал брюзжать, не стесняясь слуг:
– Эта женщина меня в гроб вгонит. Как же она мне надоела! Когда только она оставит меня в покое?
А любящая Анна Австрийская, не замечая дурного расположения кардинала, ухаживала за ним неумело и назойливо, тогда как он позволял себе бесцеремонные выходки даже в присутствии посторонних.
Однажды он лежал в постели, и Анна Австрийская, придя навестить его, спросила, как он себя чувствует.
– Очень плохо! – ответил он.
И без лишних слов откинул одеяло, обнажив ноги и бедра, чему несказанно удивились не только королева, но и все остальные, бывшие при нем. Он же сказал ей:
– Взгляните, мадам, эти ноги лишились покоя, даровав его Европе.
Ноги и бедра его действительно выглядели ужасающе: иссохшие, мертвенно бледные, покрытые фиолетовыми пятнами. Жалко было смотреть на них, и несчастная королева, громко вскрикнув, заплакала. Он походил на Лазаря, вышедшего из могилы.
Жестоко страдая, Мазарини не забывал о Марии Манчини и тщательно готовил ее свадьбу с коннетаблем Колонна. Девушка, которой все, казалось, теперь стало безразлично, не препятствовала ему, и 25 февраля брачный контракт был подписан.
Через десять дней, 6 марта, кардинал скончался.
Едва он испустил последний вздох, как Анна Австрийская рухнула в кресло, почти лишившись чувств. В соседней же комнате Мария, Гортензия и Филипп Манчини, переглянувшись, сказали в едином порыве:
– Слава богу, наконец-то подох!
Из чего можно заключить, что этим молодым людям никоим образом не был присущ отвратительный порок лицемерия.
* * *
Через несколько недель после смерти Мазарини, 31 марта 1661 года, в самом узком кругу – ибо Анна Австрийская была в трауре – отпраздновали еще одну свадьбу. Между тем соединили свою судьбу две весьма важные персоны: Месье сочетался браком с Генриеттой Английской.
Пока епископ Валенсийский служил торжественную мессу, друзья новобрачного перешептывались о вещах совершенно немыслимых.
– Лишь бы он не испугался, когда она станет раздеваться, – говорили они, – он же никогда не видел женского тела.
Действительно, Генриетте Английской на редкость не повезло: Месье был привержен итальянскому греху!
Однако это произошло не по причине природной ущербности принца, а потому, что такое решение принял Мазарини. Кардинал знал, какой опасной фигурой может стать брат короля. Помня об интригах Гастона Орлеанского, он хотел избавить Людовика XIV от забот, омрачивших существование его отца. По распоряжению министра в маленьком принце старались подавить любые проявления мужественности. Его одевали в платьица, приучали к бантикам, румянам и мушкам, поощряли стремление прихорашиваться перед зеркалом, одаривали духами и серьгами. В друзья ему выбрали мальчика, который больше всего походил на очаровательную девочку – это был будущий знаменитый аббат де Шуази. «Меня наряжали девочкой каждый раз, когда к. нам в дом приходил маленький Месье, – сообщает этот двусмысленный персонаж, имевший как любовников, так и любовниц, – а бывал он у нас два или три раза в неделю. У меня были проколоты уши, и я носил бриллиантовые серьги. Это очень нравилось Месье, и он осыпал меня ласками. Как только он появлялся в сопровождении племянниц кардинала и нескольких фрейлин королевы, все начинали заниматься его туалетом: ему делали сложные прически, снимали камзол и надевали на него женскую юбку с корсажем – корсаж же был обшит кружевами. Говорят, так поступали с ним по приказу кардинала, который хотел сделать его женоподобным».
Успех этого замысла превзошел все ожидания. Людовик XIV мог спать спокойно: благодаря предусмотрительности Мазарини Месье не проявлял никакого интереса к политике, став принцем извращенцев!
Между тем напомаженному, завитому, походившему на девушку принцу, чьи устремления, как говорит аббат де Коснак, «не были направлены в сторону женщин», досталась в жены самая красивая принцесса эпохи.
Генриетта Английская пленяла всех своим изяществом, хрупкостью и элегантностью, а взор ее был способен внести смятение в самую целомудренную душу. Мы можем судить об этом по портрету, начертанному рукой святого человека, епископа Валансийского, павшего жертвой ее прекрасных глаз, из-за которых он, можно сказать, забыл о спасении собственной души:
«Никогда Франция не видела принцессы прекраснее, чем Генриетта Английская, ставшая супругой Месье: у нее были бархатные черные глаза, и пред огнем их не мог устоять ни один мужчина; казалось, они воспламеняются тем желанием, которое пробуждали в других. Не было принцессы более любезной и ласковой, чем она, и этим она влекла к себе все сердца. Она была полна очарования; ее любили и устремлялись к ней, следуя движению души. Поистине все лежали у ее ног, и все сердца ей принадлежали».
Не подлежит сомнению, что сердце достойного прелата принадлежало ей всецело. Однако эту чарующую улыбку она пронесла через долгие годы бедствий и страданий.
* * *
Генриетта приехала во Францию в 1646 году в возрасте двух лет вместе со своей матерью Генриеттой Бурбонской, дочерью Генриха IV и супругой Карла I Английского. Они были изгнаны революцией, которую возглавлял Кромвель. Но французский двор сам испытывал известные нам затруднения, отбивая атаки фрондеров, и в течение восьми лет беглянкам никто не мог помочь. Зимой Генриетте часто приходилось оставаться в постели, поскольку в доме не было дров, и единственной ее пищей была жидкая овощная похлебка. Королева Английская вынуждена была продать свои платья, мебель, драгоценности, оставив себе лишь маленькую фарфоровую чашечку, из которой пила.
К этим бедствиям добавлялись и муки иного свойства: девочка лишилась отца, которому отрубили голову в 1649 году, а мать явилась во Францию с любовником. Его звали лорд Джермин. Ограниченный, скупой, грубый, он часто позволял себе отвратительные выходки. Однажды он отвесил пощечину королеве, которая, как и подобает дочери Генриха IV, не осталась в долгу, со всей силы ударив его ногой пониже живота; тут между любовниками завязалась настоящая драка, и все это происходило на глазах испуганной маленькой Генриетты…
Когда в 1654 году положение дел во Франции улучшилось, Мазарини вновь стал платить изгнанницам пособие, и они поселились в бывшем загородном доме маршала де Бассомпьера на холме Шайо. Королева Генриетта, став очень набожной, решила преобразовать это жилище, видевшее столько любовных утех, в монастырь под покровительством святой Марии из Шайо. Затем нужно было найти аббатису, и, желая иметь подле себя хорошо знакомых людей, она выбрала мать Анжелику, которая была фавориткой Людовика XIII в те времена, когда носила имя Луизы де Лафайет. Дождливыми днями обе женщины проводили вместе много времени, беседуя о дорогом усопшем…
Наконец, Кромвель умер, и 29 мая 1658 Карл II, брат принцессы, взошел на английский трон. Королева Генриетта вместе с шестнадцатилетней дочерью немедленно отправилась в Лондон, где стала устраивать роскошные балы. Во время этих увеселений знатные господа и дамы являли пример величайшей распущенности нравов. Именно тогда в Генриетту безумно влюбился молодой герцог Бэкингем. Он следовал за ней неотступно, бросая вызов приличиям и совершая самые экстравагантные поступки, дабы доказать свою страсть, которая, как говорит один из мемуаристов, «и без того была даже слишком заметна».
Когда она вернулась во Францию, он ринулся за ней, повторив спустя сорок лет безумства, совершенные его отцом ради Анны Австрийской.
Королева-мать чрезвычайно взволновалась, узнав о приезде в Париж сына человека, которого она так любила. Объявив, что берет его под свое покровительство, она разрешила ему пробыть некоторое время во Франции. В конце концов он вынужден был уехать в Англию – с рассудком, почти помутившимся от страсти, которую внушила ему Генриетта…
* * *
Вот эту-то принцессу, смущавшую покой всех нормально устроенных мужчин, ввел в свою опочивальню Месье 31 марта 1661 года. Большого удовольствия он не получил, ибо, говоря словами мадам де Лафайет, «никому из женщин не дано было совершить чудо, воспламенив сердце этого принца».
Однако в силу нездорового любопытства он решился ступить на неизведанный путь, что привело к последствиям, которых он сам не ожидал. Природа взяла свое, будучи испорченным не безнадежно, он стал мужем своей жены.
Увы! законные радости брака вскоре ему прискучили, и он вновь обратил взор на молодых придворных, открыто домогаясь их расположения. Одним из таких юношей был Бриенн, который рассказывает нам, как едва не стал жертвой превратных вкусов принца. «Я был очень красив, – говорит он, – и отличался необыкновенной гибкостью. Однажды Месье стал распекать меня и одновременно ощупывать через одежду. Я был крайне смущен и покраснел. Он нашел меня по своему вкусу и с тех пор, встречая меня, всегда задерживался… Я понимал, чего он хочет. Когда он говорил со мной, то приходил в волнение, и дыхание у него учащалось. Он подходил ко мне очень близко, крепко жал руку и гладил по бедрам… Признаки были слишком явными, чтобы я мог ошибиться… Больше я ничего не прибавлю. Я не посмел, подобно многим другим, воспользоваться счастливой возможностью и не ответил взаимностью на любовь принца».
В свою очередь Генриетта, оставшись в одиночестве после нескольких ночей, проведенных с Месье, стала подумывать об утешении.
Сделать это было нетрудно: она могла выбирать из целой своры юных дворян с горящими глазами, только ждавших сигнала…
В то время как Мадам готовилась наставить рога Месье, король и Мария Манчини переживали последний акт своей драмы. После смерти Мазарини Людовик XIV предпринимал усилия, чтобы разорвать брачный контракт Мари с коннетаблем Колонна – это позволило бы девушке, которую он по-прежнему любил, остаться во Франции. Как-то вечером она пришла к нему и сухо попросила не чинить ей препятствий.
– Я не желаю, – сказала она, – становиться вашей любовницей, потому что могла стать вашей женой.
Король смирился, и 11 мая в Париже узнали, что все формальности относительно этой свадьбы улажены и в Риме контракт подписан женихом.
Король находился на заседании своего совета. Прервав обсуждение государственных вопросов, он тут же направился к Мари.
– Мадам, – произнес он с грустью, – судьба, повелевающая даже королями, распорядилась нашей судьбой вопреки нашим желаниям; но она не помешает мне дать вам доказательство любви и уважения, в какой бы стране вы ни очутились….
Мари вышла из комнаты, ничего не ответив.
Через несколько дней она уехала в Милан, где ждал ее будущий муж. Король со слезами на глазах проводил девушку до кареты и простился с ней самым трогательным образом.
Больше они никогда не виделись.
Через две недели племянница Мазарини стала супругой коннетабля Колонна, который с изумлением убедился в ее девственности и поделился радостью со всеми, кто желал его слушать. «Этот муж, – говорит Гортензия Манчини, – и помыслить не мог, что любовь королей бывает целомудренной. Удостоверившись в обратном, он пришел в такой восторг, что счел былую привязанность за безделицу. Как и все итальянцы, он полагал, что женщины во Франции отличаются распущенным поведением, но теперь отказался от этого предубеждения, дав своей жене полную свободу, поскольку она доказала, что умеет ею пользоваться».
Чтобы быстрее забыть о Марии Манчини, Людовик XIV направился вместе с двором в Фонтенбло, где были организованы грандиозные празднества. Естественно, на всех балах появлялась изящная, пылкая, ослепительная Мадам.
Король, который в былые времена находил ее тощей и именовал «кладбищенским скелетом», был очарован и восхищен.
Однажды вечером, во время увеселений на природе, он увлек ее в лес. Вернулись они только в три часа ночи – крайне утомленные, но счастливые…
Генриетта нашла утешение, которое искала.
* * *
Празднества в Фонтенбло превратились тогда в ежедневное возвеличение Генриетты Английской со стороны Людовика XIV и двора.
«Она царила на всех балах и повелевала всеми развлечениями, – говорит мадам де Лафайет, – все делалось по ее прихоти, и, казалось, королю доставляло удовольствие только то, что радовало ее. Стояла середина лета. Мадам каждый день отправлялась купаться; она выезжала в карете из за жары, а возвращалась верхом, в сопровождении роскошно одетых дам с тысячами перьев на голове, окруженная всей придворной молодежью, предводителем которой был король. После ужина садились в легкие коляски и под звуки скрипок совершали ночные прогулки вокруг канала».
Но когда двадцатилетний юноша – будь то король или знатный дворянин – гуляет со своей милой при свете луны, у него очень быстро начинается, если можно так выразиться, любовный зуд. Поэтому молодые люди время от времени выходили из колясок и устремлялись в кусты, причем каждый вел под руку «источник грядущего удовольствия».
Ж.-О. Фрагонар. Пикник
Сигнал подавал Людовик XIV, который скрывался в зарослях вместе с Генриеттой: их примеру следовали все остальные, и вскоре рощи Фонтенбло наполнялись нежными вздохами влюбленных пар.
Эти шалости на природе продолжались допоздна; когда же король чувствовал желание отдохнуть, молодежь вновь занимала места в колясках, и все возвращались в замок, обмениваясь сальными шуточками. Впрочем, этот двор, имеющий репутацию самого изысканного и изящного в мире, в основном пробавлялся непристойностями. Вопреки распространенному мнению, дамы и господа – и монарх в их числе – изъяснялись с грубостью, превосходящей всякое воображение. На одном из приемов мадам де Шуази, обернувшись к г-ну де Кандалю, никуда не выходившему в течение нескольких часов, бросила непринужденно:
– Да прогуляйтесь же, наконец, в прихожую. Вы наверняка хотите ссать!
В прозвищах, которыми награждали друг друга в Лувре, также не было ничего аристократического: королеву-мать именовали старухой, мадемуазель де Тонне-Шарант (будущую мадам де Монтеспан) – толстой торговкой требухой, мадам де Бове – кривой Като, мадемуазель де Монтале – потаскухой и т. д.
Кроме того, двор обожал фарсы самого дурного тона. Чтобы получить представление об их характере, достаточно будет одного примера. В роли шутника выступил г-н д’Эстублон – всеми уважаемый за благородство манер и по заслугам носивший звание честного человека. «Однажды, – рассказывает Сен-Симон, – он проходил мимо комнаты мадам де Брежи. Дверь, выходившая на галерею Сен-Жермен, оказалась приоткрытой, и он увидел, что мадам де Брежи лежит на постели с голым задом, а возле постели положена спринцовка; он проскальзывает в комнату, осторожно засовывает спринцовку в нужное место, опорожняет ее, кладет обратно и уходит. Горничная, отлучившаяся на несколько минут, вернулась и предложила своей хозяйке занять нужное положение. Та смотрит на нее с изумлением и говорит, что ей пора перестать спать на ходу. Обе начинают вопить друг на друга. Наконец, горничная, заметив, что спринцовка пуста, клянется, что не прикасалась к ней, и мадам де Брежи не знает, что и думать – разве только сам дьявол зашел сделать ей промывание… Когда же она появилась у королевы, король и Месье стали шутить над ее клизмой, так что она – с вполне понятной яростью – последней при дворе узнала, какую шутку сыграл с ней Эстублон».
Равным образом, обстановка за столом Людовика XIV никак не характеризовалась тем сдержанным величием, которое пытаются изобразить официальные историографы. За едой Генриетта рассказывала о своих менструациях, а также во всех подробностях вспоминала, сопровождая свои слова непристойными жестами, последнюю ночь любви с королем. А для самого Людовика XIV не было большей радости, чем дразнить мадемуазель де Монпансье и мадам де Тианж. «Он забавлялся тем, – рассказывает один из мемуаристов, – что подсовывал волосы им в тарелку и совершал другие пакости того же свойства; их тошнило и даже рвало, он же хохотал от всей души. Мадам де Тианж уходила из за стола, поносила его на чем свет стоит, а порой делала вид, что собирается швырнуть эти гадости ему в физиономию».
Ф. Буше. Дама на канапе
Другое свидетельство исходит от герцога де Люина: «Когда Людовик XIV ужинал с принцессами и дамами в Марли, случалось, что забавы ради он кидался хлебными шариками и позволял, чтобы ему отвечали тем же. Г-н де Лассуа, будучи очень молодым человеком, никогда не бывал прежде на подобных ужинах: он признался мне, что был поражен, увидев, как в короля кидают не только хлебными шариками, но даже яблоками и апельсинами. Утверждают, что мадемуазель де Вантуа, которой король нечаянно сделал больно, швырнула в него тарелку с салатом».
После этих шумных пиршеств господа выходили в коридор, где и орошали стены, тогда как дамы обычно присаживались под лестницей и, быстро подобрав юбки, делали свои дела…
Ни малейшего смущения никто не испытывал; единственным неудобством были дурные запахи, раздражавшие придворных. О восхитительных ароматах, царивших при дворе Людовика XIV, можно судить по фразе из мемуаров принцессы Пфальцской: «Пале Рояль весь провонял мочой».
* * *
Из сказанного становится ясно, какие шутки могли иметь успех в Фонтенбло, когда монарх, дамы и молодые сеньоры сходились вновь после доходившего до головокружения прославления греха. Чувства их были настолько умиротворенными, что даже самые смелые шутки казались безобидными, ибо не могли уже разжечь огонь страсти и пробудить утоленное желание.
Увы! Весьма скоро об этих ночных развлечениях стало известно Марии-Терезии, которой пришлось вернуться в Париж по причине беременности. Молоденькая королева, очень любившая Людовика XIV, не смогла сдержать горьких слез, а потом побежала жаловаться свекрови. Анна Австрийская, крайне недовольная поведением сына, стала выговаривать ему, но король – впервые в жизни – сухо оборвал ее. Королева-мать, придя в ярость, отправилась к Месье и, зная, как он ревнив, сообщила ему, что его жена «не столь чужда галантных похождений, как следовало бы».
Месье, целиком поглощенный своими миньонами, ни о чем не подозревал. Взбешенный, он обрушился с бранью на Мадам и даже не удержался от упреков королю. Фонтенбло стало ареной прискорбных сцен, за которыми с жадностью следил обожавший скандалы двор. Людовик XIV, который не желал ни ссориться с братом, ни расставаться с Мадам, понял, что репутация его под угрозой. Необходимо было прибегнуть к уловке, и хитроумная Мадам нашла выход:
– Притворитесь, что любите другую женщину, – сказала она, – и слухи, что так досаждают нам, немедленно прекратятся.
Было решено между ними, что король станет оказывать знаки внимания одной из придворных дам, и они обратили взор на тех, кто подходил для подобного предприятия. Сначала их выбор пал на двух фрейлин королевы: мадемуазель де Пон и мадемуазель Шемеро. Однако первая, догадавшись о предназначенной ей роли, спаслась бегством в провинцию, а вторая, будучи особой честолюбивой, возомнила, что сможет привязать к себе короля. Кокетство сослужило ей дурную службу, ибо Людовик XIV немедленно порвал с ней и принялся искать другую жертву.
Тогда Мадам пришло в голову, что для такого дела вполне подойдет одна из ее собственных фрейлин: молоденькая наивная простушка семнадцати лет, с большими чистыми глазами.
Эту девушку звали Луиза де Лавальер…
Луиза де Лавальер – стыдливая любовница Людовика
Человек мнит свое положение прочным, как вдруг является женщина…
Поль БуржеЭто была робкая и чуть пугливая блондинка. Всего несколько месяцев назад покинув свою родную Ту-рень, она еще не успела обрести плутоватую развращенность, присущую другим придворным дамам. Кроме того, она немного прихрамывала, и Мадам, чересчур уверовав в силу своих чар, вообразила, что эта маленькая провинциалочка не представляет никакой опасности.
Вероятно, она была единственной, кто не удосужился взглянуть пристальнее на восхитительную Луизу, прелести которой вызывали повышенный интерес у молодых ловеласов, иначе вряд ли совершила бы такую ошибку. В самом деле, все современники говорят о мадемуазель де Лавальер с неподдельным восторгом: «Звук ее голоса проникал в сердце», – пишет мадам де Кайлюс. «…С прелестью лица соперничала красота серебристых волос», – добавляет мадам де Лафайет, а принцесса Пфальцская заключает: «Невозможно выразить очарование ее взора…»
Неудивительно, что король, увидев в первый раз это чудесное создание, остался чрезвычайно доволен выбором Мадам. Он с улыбкой поклонился и возвратился к себе в очень веселом расположении духа, не считая нужным сообщать любовнице, какие приятные мысли навестили его при взгляде на Луизу де Лавальер…
На следующий день, весьма увлеченный этой любовной комедией и собственной ролью в ней, он с непринужденным видом нанес визит фрейлине, которая, со своей стороны, явно смущалась и держалась очень скованно. Во время первой беседы Людовику XIV не удалось выяснить, какие чувства испытывает к нему Луиза. Узнал же он об этом благодаря весьма любопытному случаю. Гуляя по террасе Фонтенбло, он увидел, как четыре девушки вошли в рощицу, чтобы поболтать там вдали от чужих ушей. Он незаметно последовал за ними и, спрятавшись за деревом, стал слушать.
Молодые особы, усевшись на скамейках, обвитых плющом, стали беседовать о празднествах, состоявшихся накануне у Мадам, и о балете, в котором принимали участие король со многими молодыми придворными. Принялись обсуждать танцоров, дабы решить, кто из них превзошел других: одна назвала маркиза д’Аленкура (впоследствии маршала де Вильруа), вторая – господина д’Арманьяка, третья – графа де Гиша. Четвертая молчала, но от нее потребовали ответа. Тогда раздался самый нежный и самый пленительный голос, какой только можно вообразить:
– Разве можно, – сказала она, – говорить о тех, кого вы назвали, когда рядом находился король?
– Ах вот как! Чтобы вам понравиться, надо быть королем?
– Вовсе нет. Не корона делает его неотразимым, она лишь уменьшает опасность обольщения. Если бы он не был королем, перед ним нельзя было бы устоять; но рядом с ним все остальные меркнут, и это предохраняет от увлечения.
Людовик XIV в сильном волнении покинул рощу и возвратился в замок, где провел бессонную ночь, обдумывая услышанное. На рассвете он написал Луизе письмо и робко, словно школьник, попросил у нее свидания. Отнести записочку было поручено поэту Бенсераду, но тот вернулся с известием, что молодая особа чиста и никогда не согласится принять короля в своей комнате.
Тем не менее поэт обещал, что добьется помощи у мадемуазель д’Артиньи, чья спальня была смежной с покоями мадемуазель де Лавальер. Фрейлины размещались на верхнем этаже замка, и туда можно было взобраться по водосточным трубам; однако проникнуть внутрь было возможно лишь через окна, выходившие на террасу. Было решено, что мадемуазель д’Артиньи откроет свое окно и что Людовик XIV пройдет через ее комнату к Луизе.
Этот план, весьма странный для монарха, у которого было множество других забот, и на которого пристально смотрела вся Европа, был исполнен в точности. В тот же день около полуночи король, взволнованный и возбужденный, взобрался по водосточной трубе на террасу, оказался у открытого окна и вошел к мадемуазель д’Артиньи, которая проводила его к двери в спальню мадемуазель де Лавальер.
Та вернулась к себе всего четверть часа назад и, сидя в кресле, перечитывала письмо короля: вдруг она слышит, как открывается дверь, поворачивает голову, видит Людовика XIV, вскрикивает от неожиданности, приподнимается и тут же падает, почти лишившись чувств, в кресло.
Король бросается к ней, замечает письмо, которое она не выпустила из рук, понимает, что она думала о нем, – чрезвычайно растроганный, он пытается утешить ее, уверяя, что чувства его при всей их пылкости чисты.
Мадемуазель де Лавальер отвечает потоком слез; а затем обращает к королю несмелый упрек, потому что из-за этой дерзкой выходки ее ждет бесчестие.
Король уверяет, что никто ничего не узнает; он клянется, что отныне все будет делаться лишь с согласия мадемуазель де Лавальер; затем спрашивает, как она относится к нему. В этом признании ему с твердостью отказывают, тогда он объявляет, что слышал разговор в роще. Мадемуазель де Лавальер, закрыв лицо руками, вновь начинает плакать.
Людовик ведет себя столь деликатно и почтительно, что ему удается немного ее успокоить. Мадемуазель д’Артиньи является с напоминанием, что близится рассвет, и король тут же исчезает…
Луиза де Лавальер
Эта ночь стала решающей. Король принялся настойчиво ухаживать за мадемуазель де Лавальер. Однажды вечером во время иллюминированного празднества в парке он привел Мадам, которая по-прежнему ни о чем не догадывалась, вместе со всеми фрейлинами к роще, где происходил знаменитый разговор, и где Луиза раскрыла свою тайну: все деревья были украшены гирляндами из лилий и освещены множеством свечей…
Этот тонкий знак внимания со стороны влюбленного короля чрезвычайно взволновал мадемуазель де Лавальер. Тем не менее, она продолжала отважно защищать свою невинность, но силы ее были на исходе, – и однажды вечером она, не выдержав, уступила…
Тогда у Мадам внезапно открылись глаза. От гнева и от досады она слегла. Вместо извинений король сказал ей, что они затеяли опасную игру, в которой всегда можно проиграть.
Разумеется, эти объяснения вряд ли удовлетворили Генриетту Английскую.
* * *
Новым увлечением короля интересовалась не только принцесса. За всеми этапами этого романа пристально следил из Во ле Виконт суперинтендант финансов Никола Фуке, который держал в Фонтенбло своих шпионов.
Человек необычайно честолюбивый, умный и хитрый, Фуке сколотил значительное состояние благодаря ловким махинациям с государственной казной. Он имел титул вице-короля обеих Америк, обладал флотом, способным потопить все королевские корабли, и мечтал стать новым Ришелье.
Однако король начал догадываться о лихоимстве суперинтенданта; тот узнал об этом из донесений своей агентуры и почувствовал, что над ним нависает угроза…
В конце июля 1661 года, удостоверившись, что мадемуазель де Лавальер приобрела полную власть над сердцем короля, он решил превратить ее в свою союзницу. Не допуская и мысли, что фаворитка может любить короля бескорыстно, суперинтендант совершил роковую ошибку, поручив старой своднице, мадам дю Плесси Бельевр, предложить Луизе двадцать пять тысяч пистолей. Оскорбленная в лучших чувствах девушка сухо ответила, что не свернет на дурной путь ради двухсот пятидесяти тысяч ливров. Этот факт засвидетельствован в письме, где сводня извещает Фуке о полной своей неудаче:
«Я выхожу из себя и теряю голову, если кто-либо осмеливается идти вам наперекор. Я не могу прийти в себя от гнева, когда думаю об этой маленькой Лавальер, которая именно так и поступила. Чтобы польстить ей, я стала восхищаться ее красотой, хотя она и не так уж велика, а затем сообщила ей, что вы желаете ей добра и сделаете так, чтобы она никогда ни в чем не нуждалась. Когда же я хотела передать ей двадцать пять тысяч пистолей, она ополчилась на меня, говоря, что не свернет на дурной путь ради двухсот пятидесяти тысяч ливров; она повторила это несколько раз с величайшей надменностью, и хотя я всячески старалась смягчить ее, прежде чем расстаться с ней, боюсь, как бы она не рассказала обо всем королю. Полагаю, надо опередить ее. Может быть, вам следовало бы первому сказать, что она просила у вас денег, а вы ей отказали».
Фуке не последовал этому коварному совету. Он решил, что будет честнее – а возможно, и умнее – поговорить с фавориткой наедине, превознести достоинства короля и ее собственные, дабы та сменила гнев на милость.
Из этой беседы мадемуазель де Лавальер не поняла ни слова и решила, что суперинтендант, не выказывая явно своих намерений, пытается ухаживать за ней. О своих подозрениях она рассказала Людовику XIV. Тот, зная о многочисленных победах Фуке, ощутил укол жгучей ревности.
Король увидел в Фуке не только суперинтенданта, берущего деньги из казны, чтобы завоевать расположение королевской любовницы, но и донжуана, возомнившего себя соперником монарха. Когда подобное случалось с временными любовницами, принимавшими подношения, он винил в этом их самих и платил им в отместку величественным равнодушием. На сей раз ему показалось, что у него оспаривают женщину, дорогую его сердцу. Это было покушение на любовь, которой не коснулась еще никакая грязь, – подобное чистое чувство не могло быть предметом грязного торга. Такое злодеяние можно было искупить только смертью. Судьба Фуке была решена…
Между тем суперинтендант, желая уверить всех, и прежде всего самого себя, в прочности своего положения, вскоре пригласил короля в Во ле Виконт. Увидев роскошный дворец, который впоследствии станет образцом при строительстве Версаля, Людовик XIV почувствовал, как в сердце его растут ревность и злоба. Кольбер, ненавидевший Фуке, склонился к уху монарха.
– Такой богатый человек, сир, – коварно произнес он, – должен иметь большой успех у женщин.
Людовик XIV побледнел как смерть.
Две недели спустя Фуке был арестован в Нанте.
Мадам Генриетта берет в любовники «миньона» своего супруга
Друзья наших друзей – наши друзья.
Народная мудростьЛюдовик XIV настолько любил Луизу, что окружил свои отношения с ней непроницаемой тайной. Они встречались ночью в парке Фонтенбло или же в комнате графа де Сент-Эньяна, но на людях король не позволял себе ни одного жеста, который мог бы раскрыть секрет его сердца.
Их связь обнаружилась благодаря случаю. Однажды вечером придворные прогуливались по парку, как вдруг хлынул сильнейший ливень. Спасаясь от грозы, все укрылись под деревьями. Влюбленные же отстали, Лавальер из-за своей хромоты, а Людовик – по той простой причине, что никто не ходит быстрее своей любимой.
На глазах у двора король под хлещущим дождем повел фаворитку во дворец, обнажив голову, чтобы укрыть ее своей шляпой. Естественно, такая галантная манера обхождения с юной фрейлиной вызвала поток сатирических куплетов и эпиграмм, написанных злоязычными поэтами.
Через некоторое время ревность вновь заставила Людовика XIV забыть о своей сдержанности. Один молодой придворный по имени Ломени де Бриенн имел неосторожность немножко поухаживать за Луизой де Лавальер. Встретив ее как-то вечером в покоях Мадам, он предложил ей позировать художнику Лефевру в виде Магдалины. Посреди разговора в комнату вошел король.
– Что вы здесь делаете, мадемуазель?
Луиза, покраснев, рассказала о предложении Бриенна.
– Не правда ли, это удачная мысль? – спросил тот.
Король ответил с неудовольствием, которого не сумел скрыть:
– Нет. Ее надо изобразить в виде Дианы. Она слишком молода, чтобы позировать в роли кающейся грешницы.
Затем он повернулся и вышел.
Бриенн провел бессонную ночь. На следующий день он в сильном смущении предстал перед королем, который впустил его в свой кабинет. Между ними произошла совершенно невероятная беседа.
Вот как излагает ее сам Бриенн:
«Король повернулся ко мне:
– Вы любите ее, Бриенн?
– Кого, сир? Мадемуазель де Лавальер?
Король ответил:
– Да, я хочу говорить именно о ней.
Тогда я воспрянул духом и произнес очень твердо, полностью владея собой:
– Нет, сир, еще нет, хотя должен признать, что она мне очень нравится, и если бы я не был женат, то предложил бы ей руку и сердце.
– Значит, вы ее любите! К чему лгать? – сказал король резко и не удержавшись от вздоха.
Я возразил почтительнейшим образом:
– Сир, я никогда не лгал Вашему величеству. Я мог бы полюбить ее, но пока не люблю, она мне по душе, но не настолько, чтобы я назвал себя влюбленным.
– Достаточно, я вам верю.
– Сир, – сказал я, – коль скоро Ваше величество оказывает мне такую честь, могу ли я говорить со всей откровенностью?
– Говорите, я вам разрешаю.
– Ах, сир, – отвечал я с тяжелым вздохом, – вам она нравится больше, чем мне, и вы ее любите.
– Оставим это, – промолвил король, – люблю я ее или не люблю, неважно, только бросьте затею с портретом, и вы доставите мне большое удовольствие.
– Ах, возлюбленный государь, – произнес я, обнимая его бедро, – ради вас я готов и на большую жертву: я никогда больше не заговорю с ней, и я в отчаянии от того, что произошло. Простите мою невольную оплошность и забудьте о моем неосторожном поступке.
– Обещаю, – сказал король с улыбкой, – однако и вы держите слово, а об этом никому не рассказывайте.
– Избави Бог! У Вашего величества нет более преданного и почтительного слуги, чем я.
При этих словах я не смог сдержать слез, потому что у меня в мозгах и в глазах много сырости. Король же, заметив это, сказал:
– Вы с ума сошли, зачем плакать?.. Любовь тебя выдала, бедный мой Бриенн: признайся же мне в своей вине.
– Мне не в чем признаваться, – ответил я, – я плачу из любви к вам, а она здесь совершенно ни при чем.
– Пусть будет так. Не будем больше об этом говорить, я и без того сказал тебе слишком много.
– Ваше величество слишком добры ко мне, однако я надеюсь, что никогда больше не совершу подобной ошибки.
Король благосклонно дал мне время оправиться и велел выйти через ту дверь, которая вела в комнату гвардейцев, приставленных к его супруге».
Но Бриенн не сдержал слова, и вскоре весь двор узнал, что король влюбился до полной утраты чувства юмора. Легко представить, какими насмешками сопровождалось это открытие.
* * *
Мадам Генриетта, которой приходилось терпеть при себе Луизу де Лавальер, с трудом сдерживала раздражение. Чтобы утешиться, она решила обзавестись новым любовником и выбрала самого красивого юношу среди придворных – Армана де Грамона, графа де Гиша.
Это был насквозь испорченный молодой человек, в котором изящество и элегантность облика сочетались с крайней грубостью, как, впрочем, довольно часто бывает.
Вот образчик одной из его шуток в изложении очевидца: «Однажды граф, наблюдая за игрой у королевы, за столом которой сидели принцессы и герцогини, заметил, что рука одной из дам юркнула в то место, которое не совсем уместно называть, он же прикрывал его своей шляпой. Когда дама повернулась к соседке, он коварно убрал шляпу; все присутствующие, рассмеявшись, стали шушукаться, а несчастная буквально сгорела со стыда. Он каждый день устраивал дамам подобные мелкие гадости, однако те все равно бегали за ним». Впрочем, надо признать, что и сами дамы вели себя в обществе далеко не лучшим образом.
Когда Мадам начала проявлять интерес к Гишу, молодой красавец уже имел интимную связь: он был любовником Месье. В самом деле, того окружала целая группа миньонов: любимым их развлечением было переодеться в женские платья и развлекаться с друзьями, еще не вступившими на ту же дорожку.
Гиш выделялся своей развращенностью даже среди них, а потому был любимцем принца, с которым обращался, как с ровней, и позволял себе абсолютно все. Однажды во время бала-маскарада граф начал сильно теребить Месье и даже ударил его ногой под зад. Подобная фамильярность показалась всем вызывающей.
Впрочем, Гиш проявлял интерес и к дамам: злые языки говорили, что «он зажигает свечку с обоих концов…»
Генриетта без труда овладела сердцем этого двусмысленного донжуана и допустила его в свою постель. Узнав об этом, Месье был неприятно поражен. Мало того, что миньон изменил ему с женщиной, так эта женщина была в довершение всего его собственной женой. Он кричал, топал ногами, а затем велел призвать к себе Гиша и устроил ужасную сцену с воплями и обмороками. Наконец, он объявил, что прерывает все отношения с прежним любимцем, и удалился в спальню, дабы привести в порядок прическу и заменить серьги…
О новой связи Мадам вскоре стало известно, и по всему Парижу разошлись язвительные куплеты в форме диалога между Генриеттой Английской и Анной Австрийской, где королева-мать в ответ на похвальбу невестки говорила, что «Мазарини, хоть и скряга, но как любовник был не чета Гишу».
Впрочем, при дворе уже назревал новый скандал…
* * *
Осенью 1661 года, когда все только и занимались связью Людовика XIV с мадемуазель де Лавальер, королева безмятежно готовилась стать матерью.
Ослепленная любовью, она единственная не подозревала о том, что происходит, и с полным спокойствием взирала на фаворитку, которая от смущения не смела поднять глаз. При виде королевы она бледнела и дрожала. Робкая и набожная Луиза испытывала несказанные муки, ясно сознавая, что с ложа короля, дарующего мгновения счастья, трудно шагнуть на дорогу, ведущую к райскому блаженству.
Несколько раз она делала попытку отказаться от свидания, ссылаясь на недомогание, из-за которого не может прийти. Но король находил тысячи способов увидеться с ней. Однажды она вызвалась сопровождать Генриетту в Сен-Клу, где надеялась укрыться от него. Он тут же вскочил на лошадь и под предлогом того, что хочет осмотреть строительные работы, за один день посетил Венсенский замок, Тюильри и Версаль. В шесть часов вечера он был в Сен-Клу.
– Я приехал поужинать с вами, – сказал он брату.
После десерта король поднялся в спальню Луизы. Он проскакал тридцать семь лье только для того, чтобы провести ночь с Луизой, – поступок совершенно невероятный, вызвавший изумление у всех современников.
Несмотря на это свидетельство пылкой страсти, наивная девушка поначалу надеялась, что король станет благоразумнее в последние недели перед родами своей жены. Она не предполагала, что вскоре произойдет дипломатический инцидент, который окончательно сблизит их. Любовь часто приходила на помощь политике – на сей раз политика вознамерилась отдать долг любви…
В начале октября на лондонской улице эскорт испанского посла не пожелал уступить дорогу посланнику Людовика XIV. В последовавшей за этим стычке шестеро французов были убиты.
Узнав эту новость, король, полагавший, что Франции по праву принадлежит первенство во всем мире и при любых обстоятельствах, пришел в страшную ярость и за столом позволил себе несколько нелицеприятных слов по адресу испанского короля, своего тестя.
Уязвленная Мария надулась, что совсем ее не красило, ибо подбородок у нее и без того был тяжеловат.
– Во всяком случае, – добавил король, – я запрещаю вам сноситься с Мадридом.
Королева стала возражать, затем начала защищать отца: в результате супруги поссорились, что позволило королю целиком посвятить себя любовнице. Такой возможности он не мог упустить. И Луиза, которой казалось, что она может вернуться на истинный путь, теперь проводила с ним почти каждую ночь, испытывая в его объятиях и несказанное наслаждение, и сильнейшие угрызения совести…
Согласно этикету того времени, любовники не должны были запираться, дабы ни у кого не возникло дурных подозрений. Но им можно было никого не опасаться, ибо они были защищены от непрошеного вторжения столь же надежно, как если бы на двери был наложен железный засов.
Первого ноября королева произвела на свет сына, которого назвали Людовиком. Это счастливое событие на время сблизило коронованных супругов. Однако едва дофин получил крещение, как монарх снова вернулся в постель мадемуазель де Лавальер. На этом ложе, согретом грелкою, фаворитка познавала радости, утолявшие томление тела, но одновременно вносившие смятение в душу…
Тайным свиданиям оказывала всяческое содействие подруга Луизы мадемуазель д’Артиньи, молодая бесстыдница, которая не отказывала себе в удовольствии подглядывать за любовниками.
Когда король возвращался в Лувр, фаворитка запиралась в своей комнате с другой фрейлиной, посвященной в тайну, мадемуазель де Монтале, и, краснея, делилась с ней некоторыми подробностями своей нежной дружбы с королем. В свою очередь, мадемуазель де Монтале посвящала ее в детали романа Мадам с графом де Гишем. Тема адюльтера была настолько захватывающей, что за болтовней обе девушки часто не замечали, как наступает рассвет, потому что они взяли за обыкновение ложиться в одну кровать…
Однажды король спросил Луизу о любовных похождениях Генриетты. Фаворитка, обещавшая подруге хранить тайну, отказалась отвечать. Людовик XIV удалился в сильном раздражении, хлопнув дверью и оставив в спальне рыдающую Луизу.
Между тем при самом начале своей связи любовники договорились, что если им доведется поссориться, то ни один из них не ляжет спать, не написав письма и не сделав попытки к примирению.
Поэтому Луиза с нетерпением ждала вестника, который постучится к ней в дверь. Так прошла ночь. На рассвете ей пришлось признать очевидное: король не простил обиды. Тогда, придя в полное отчаяние, она решилась на необыкновенный поступок. Завернувшись в старый плащ, она покинула Тюильри и побежала в монастырь Шайо.
Увидев ее расстроенное лицо и распущенные волосы, настоятельница догадалась, что речь идет о какой-то сердечной драме, и попросила остаться пока в прихожей. Луиза, сломленная бессонной ночью, улеглась на полу и принялась тихонько плакать…
* * *
Несколько часов спустя Людовик XIV принимал в Лувре Кристобаля Гавириа, испанского посла. О бегстве Луизы король не подозревал. В зале толпилось множество придворных. Внезапно из одной группы послышались какие-то невнятные восклицания, а затем раздался громкий голос герцога де Сент-Эньяна:
– Как? Лавальер у монахинь?
В этот момент король, расслышавший только имя, повернулся в сильном волнении и спросил:
– Что такое с Лавальер?
Герцог объяснил ему, что фаворитка укрылась в монастыре Шайо. К счастью, с послом уже успели проститься; ибо эта новость привела короля в такое смятение, что он мог бы забыть о приличиях. Приказав подать карету, он не стал дожидаться и вскочил на лошадь. Королева, присутствовавшая при этом, сказала, что он совершенно не владеет собой.
– Ах, мадам! – воскликнул он, разъяренный, словно молодой лев. – Пусть я не владею собой, но сумею владеть теми, кто бросает мне вызов.
С этими словами он вонзил шпоры и помчался галопом в Шайо. Приезд его всполошил весь монастырь. Одним прыжком он оказался в прихожей и обнаружил Луизу, по-прежнему распростертую на полу. Он с нежностью поднял ее.
– Ах, – произнес он, обливаясь слезами, – вы совсем не думаете о тех, кто вас любит!
Она хотела ответить, но рыдания помешали ей. Король стал умолять ее покинуть монастырь. Она долго отказывалась, ссылаясь на дурное обращение с ней со стороны Мадам. Наконец она согласилась уйти вместе c королем. Монашенки, толпившиеся у порога, дружно достали носовые платки.
– Клянусь честью, – тихонько сказал Роклор, сопровождавший короля, – на эти заплаканные лица невозможно смотреть без смеха…
Осторожные друзья посоветовали ему замолчать.
Людовик привез Луизу в Тюильри в своей карете и прилюдно ее поцеловал, так что все свидетели этой сцены пришли в изумление… Они были детьми великого века и утеряли молодецкую удаль своих отцов: их приводило в ужас то, над чем хохотали бы сорок лет назад, во времена короля-повесы Генриха IV.
Дойдя до покоев Мадам, Людовик XIV стал подниматься очень медленно, не желая показать, что плакал. Затем он начал просить за Луизу и добился – не без труда – согласия Генриетты оставить ее при себе… Величайший король Европы превратился в униженного ходатая, озабоченного только тем, чтобы мадемуазель де Лавальер не проливала больше слез.
Вечером Людовик посетил Луизу и преподнес ей «меру вкусного овса». Увы! Чем большее она получала наслаждение, тем сильнее мучилась угрызениями совести. И томные вздохи смешивались с искренними сетованиями…
На следующий день весь Париж с жаром обсуждал приключение в Шайо. Поведение короля шокировало многих. По общему мнению, Его величеством были явлены непростительное пренебрежение по отношению к королеве и крайнее легкомыслие в тот момент, когда в Париже находился испанский посол.
Два дня спустя на кафедру королевской часовни поднялся аббат, недавно прибывший из Меца, и обратился к монарху с невероятным по смелости увещеванием. Гневно возвысив голос «против ложных любезностей и трепетных желаний, получивших название пороков честного человека», он в заключение произнес:
– Вот где божественное слово должно обрести спасительную ярость: да сокрушатся им все идолы, да опрокинутся все алтари, на коих приносятся жертвы обожаемому созданию.
Мадемуазель де Лавальер вздрогнула, а Мария насторожилась…
Мадам де Монтеспан служит «черную мессу», чтобы завоевать Людовика XIV
Женщины считают невинными самые дерзновенные свои поступки.
Жозеф ЖуберТолько поэтам свойственно восторгаться свежим дуновением весны. На самом деле с ее приходом воспламеняются те органы человеческого тела, о которых из соображений приличия лучше не упоминать. Вот и Олимпия Манчини, ставшая графиней де Суассон, в апреле 1662 года почувствовала себя внезапно так, словно села на раскаленные головешки: она испускала вздохи, больше походившие на стоны, раздувала ноздри и подгибала колени, содрогаясь всем телом. Вскоре этот внутренний жар лишь ему ведомыми путями достиг сердца, где и обрел благородное наименование любви.
Олимпия вновь ощутила непреодолимое влечение к королю и исполнилась ревности к фаворитке. Графиня де Суассон не любила мадемуазель де Лавальер, полагая, что та похитила у нее расположение короля. Три страсти терзают души людей – честолюбие, любовь, зависть; и ими была потрясена эта душа.
Олимпия тут же стала строить планы, как разлучить Людовика XIV и Луизу. Чтобы отправить последнюю и изгнание, достаточно было вызвать скандал, уведомив королеву об измене мужа. В союзники она избрала своего любовника маркиза де Варда и графа де Гиша, нежного друга Мадам. Оба отличались коварством и злобностью. Им пришло в голову написать письмо по-испански и отправить его королеве в конверте, пришедшем из Мадрида. С помощью подкупленного слуги они раздобыли такой конверт в корзинке королевы.
Однажды утром донья Молина, первая камеристка Марии-Терезии, получила пакет, надписанный рукой королевы Испании. Однако пакет был небрежно запечатан, и это внушило ей некоторые подозрения. Она сорвала печать и прочла письмо. Сразу же догадавшись, что дело нечисто, она в смятении побежала к Анне Австрийской, которая посоветовала ей отнести послание королю, не уведомляя об этом королеву.
Она так и поступила, и Людовик XIV впал в ярость, читая письмо, изобличающее его любовную связь, ибо не мог поверить, что кто-либо из подданных осмелился вмешаться в то, что он считал своим личным делом.
Решив немедленно найти и покарать виновных, король обратился за помощью к маркизу де Барду – человеку большого ума, которому вполне доверял. Именно ему было поручено выследить авторов письма. Дознание, однако, не принесло результатов…
Потерпев неудачу, Олимпия не признала свое поражение. Она посетила ворожею, которая приготовила ей весьма сложное снадобье и научила магическим заклятьям. Ничего не помогало. Тогда она решила устранить Луизу, подсунув королю другую любовницу – мадемуазель де ла Мот-Уданкур.
Король едва не угодил в расставленные сети. Он несколько раз встречался с приятной молодой особой, которая была должным образом подготовлена графиней де Суассон и вследствие этого пылала страстью. Не желая огорчать ее – всем известно, как безукоризненно вежлив был Людовик XIV по отношению ко всем женщинам, даже самого низкого положения, – король исполнил просимое, а затем, поклонившись, возвратился к себе.
Дальше этого дело не пошло.
Олимпия, потерпев вторую неудачу, заболела желтухой.
Версальский дворец
Раздосадованная мадемуазель де ла Мот Уданкур предприняла попытку еще раз завлечь мимолетного любовника. Но король не мог позволить себе две связи одновременно: он был слишком занят – он строил Версаль.
Вот уже несколько месяцев он старался с помощью архитекторов Лебрена и Ленотра возвести самый красивый дворец в мире. Для молодого короля двадцати четырех лет от роду это было упоительным занятием, которое поглощало все его время.
Когда же ему случалось отодвинуть в сторону чертежи, загромождавшие письменный стол, он принимался писать нежное письмо Луизе. Однажды он даже написал ей изысканное двустишие на бубновой двойке в ходе карточной партии. А мадемуазель де Лавальер с присущим ей остроумием ответила настоящей маленькой поэмой, где просила писать ей на двойке червей, ибо это более нежная масть.
Когда же король возвращался в Париж, он немедленно бросался к Луизе, и оба любовника испытывали тогда такую радость, что напрочь забывали об осторожности.
Результат не заставил себя ждать: однажды вечером фаворитка в слезах объявила королю, что ждет ребенка. Людовик XIV, придя в восторг, отбросил прочь привычную сдержанность: отныне он стал прогуливаться по Лувру вместе со своей подругой, чего раньше не делал никогда.
* * *
Королева, которую Анна Австрийская всеми силами стремилась оградить от внешнего мира, казалось, по-прежнему ничего не замечала. Закрывшись в своих покоях, она днями напролет болтала с доньей Молиной и другими приближенными, и те содрогались при мысли, что она узнает о постигшем ее несчастье. Но как-то вечером, когда дверь в комнату оказалась приоткрытой, королева увидела проходившую мимо мадемуазель де Лавальер и тут же подозвала мадам де Мотвиль, сказав ей:
– Esta Donzella con la arracadas de diamantes es esta que el Rei quiere. (Вот эту девушку, у которой бриллиантовые серьги, любит король.)
Сверкнувшая молния не так ошеломила бы присутствующих, как эти безмятежные слова. Все переглядывались, не смея ничего ответить. Наконец мадам де Мотвиль нарушила молчание: «Я пыталась убедить ее, – рассказывает она, – что мужьям приходится изображать неверность, ибо того требует мода».
Объяснение было не самым лучшим, и королеву оно не удовлетворило. Она внезапно опечалилась, отчего нос ее стал казаться еще длиннее, и все поняли, что ей известно больше, нежели предполагалось.
Прошло несколько месяцев. Людовик XIV отправился воевать с герцогом Лотарингским и вернулся 15 октября 1663 года, покрыв себя славой и во главе победоносной армии. Луиза ждала его с нетерпением. Она уже не могла скрывать свою беременность.
Король, слегка раздраженный этим, призвал к себе Кольбера и поручил ему отыскать неприметное жилище для любовницы. Министр нашел небольшой двухэтажный домик недалеко от Пале Рояля, и фаворитка без сожалений рассталась с мансардой, которую занимала в качестве фрейлины Мадам. Едва она перебралась на новое место, как у нее уже появились слуги – благодаря Кольберу, который не упускал из виду ничего. Послушаем его самого: «Чтобы ухаживать за ребенком при полном сохранении тайны, как и было приказано королем, я нанял некоего Бошана с женой. Они прежде находились в услужении в моей семье и проживали на улице Урс. Я объявил им, что один из моих братьев сделал ребенка даме, занимающей видное положение в обществе, и что ради спасения чести их обоих я вынужден позаботиться о новорожденном, а потому доверяю его их попечению, на что они с радостью согласились».
Министр нашел также акушера, умевшего держать язык за зубами, по имени Буше. Все было приготовлено, и оставалось только ждать.
19 декабря в четыре часа утра Кольбер получил от акушера следующую записку: «У нас мальчик, сильный и здоровый. Мать и дитя чувствуют себя хорошо. Слава Богу. Жду распоряжений».
Распоряжения оказались жестокими для Луизы. Матери было позволено провести с сыном только три часа. В шесть часов, еще до наступления рассвета, как и было условленно заранее, Буше забрал ребенка, пронес его через Пале Рояль и согласно полученным инструкциям передал Бошану с женой, которые ждали на углу, прямо напротив Буйонского дворца. В тот же день новорожденного отнесли в Сан Ле: по тайному приказу короля он был записан как Шарль, сын г-на де Ленкура и мадемуазель Элизабет де Бе.
Луиза, испытывая невыразимые муки, решила спрятаться в своем убежище и не покидать его. Но горничная вскоре сообщила ей, какие слухи ходят по Парижу. Люди начали шептаться, что у короля родился незаконный ребенок. Итак, нужно было обязательно показаться на публике…
24 декабря, мертвенно-бледная, едва держась на ногах, она отстояла полуночную мессу в часовне Кенз Вен. Придворные смотрели на нее с ироническими улыбками. Понимая, что никого не удалось обмануть, она в слезах вернулась к себе…
Всю зиму Луиза пряталась в своем доме, не принимая никого, кроме короля, очень огорченного этим затворничеством. Весной он привез ее в Версаль, который был почти достроен. Теперь она занимала положение официально признанной фаворитки, и куртизаны всячески заискивали перед ней.
Но и подобного триумфа Людовику XIV было недостаточно. В апреле 1664 года он решил устроить в честь Луизы празднество еще не виданной красоты и поручил графу де Сент-Эньяну озаботиться организацией увеселений, чтобы зрители могли увидеть музыкальные и театральные представления, балет и феерию, а также фейерверк. Молодой граф, избрав темой пребывание Роже на острове волшебницы Альсины, поставил необыкновенный спектакль, получивший название «Забавы волшебного острова». В подготовке торжеств, оставивших по себе незабываемую память, принимали участие Мольер, Люлли, Бенсерад. Король, любивший танцевать, исполнял роль Роже. Он появился в серебряном панцире и золотом плаще с алмазными фестонами. На голове его сверкал шлем, увенчанный длинными перьями огненно-красного цвета.
Луиза, увидев его в таком наряде, зарделась и смутилась. Праздник был посвящен ей; король ради нее танцевал главную партию в роскошном балете; величайшие творцы эпохи трудились, чтобы заслужить ее одобрение. Наконец, 13 мая, словно бы венчая эти удивительные дни, на сцене предстал один из шедевров французского театра: это был «Тартюф» Мольера, поставленный в ее честь…
Версальский дворец. Будуар
Но она не умела быть счастливой и потому плакала. Но она плакала бы еще горше, если бы знала, что носит под сердцем второго маленького бастарда, зачатого в предыдущем месяце.
Ребенок этот родился под покровом глубочайшей тайны 7 января 1665 года и был окрещен как Филипп, «сын Франсуа Дерси, буржуа, и Маргариты Бернар, его супруги». Кольбер, которому по-прежнему приходилось заниматься обустройством младенцев, вверил его попечению надежных людей.
* * *
Двор не воспел в сатирических куплетах рождение второго сына Луизы только потому, что внимание его было поглощено грандиозным скандалом: совсем недавно обнаружилось, что группа молодых людей, входивших в число ближайших друзей Месье, образовала весьма любопытное общество, назвав его орденом тамплиеров. Они ставили своей целью объединить всех приверженцев Содома.
Великими магистрами этого ордена были герцог де Грамон, шевалье де Тийаде и маркиз де Биран. Под камзолом они носили позолоченный серебряный крест, на котором был изображен мужчина, попирающий ногами женщину по примеру креста святого Михаила, где этот святой попирает ногами демона.
Собрания происходили в удаленном загородном доме и заканчивались каждый раз отвратительной оргией.
Устав этой секты стал известен двору и поверг в изумление самых искушенных, много повидавших людей. Вот его статьи.
1. Перед вступлением в орден неофиты должны подвергаться осмотру, дабы великие магистры могли убедиться, что все части их тела здоровы и способны вынести истязание.
2. Они должны дать обет послушания и целомудрия по отношению к женщинам; замеченный в нарушении изгоняется из братства навсегда и не может в него вернуться ни под каким предлогом.
3. Каждый включается в орден на равных правах с остальными, что не исключает подчинения строгостям испытательного срока, который длится до тех пор, пока подбородок не зарастет волосом.
4. Если один из братьев вознамерится вступить в брак, он должен поклясться, что делает это только для улучшения своего имущественного положения, или по настоянию родных, или по необходимости оставить наследника. Одновременно он должен обещать, что не будет любить свою жену, что будет спать с ней лишь до того момента, как означенный наследник появится; но и в последнем случае он должен просить на это разрешения, которое предоставляется только на один день в неделю.
5. Отцы будут разделены на четыре класса, дабы каждый Великий приор имел столько же, сколько остальные. Что до тех, кто вступает в орден, четыре Великих приора будут иметь их по очереди, дабы не возникла между ними ревность, которая может нанести ущерб их единству.
6. Члены ордена должны оповещать друг друга обо всем, что происходит, в частности затем, чтобы вакантная должность доставалась по заслугам, каковые и будут определяться в соответствии с рвением.
7. Посторонним людям не дозволяется открывать тайны ордена и рассказывать им о празднествах; кто совершит это, будет лишен к ним доступа на неделю и даже на больший срок, если стоящий над ним Великий магистр сочтет нужным.
8. Однако дозволяется откровенно говорить с теми, кого намереваются вовлечь в орден, но делать это должно с осторожностью, пока не будет полной уверенности, что предложение будет принято.
9. Те, кто сумеет провести братьев в монастырь, в течение двух дней будут пользоваться теми же правами, что и великие магистры; разумеется, они и в этом случае обязаны пропустить великих магистров впереди себя и довольствоваться тем, что останется после их насыщения.
Этот устав наделал много шума. Кроме того, вскоре стало известно, что члены братства, заманив к себе вечером куртизанку, привязали ее обнаженной к постели и засунули осветительную ракету в известное место. После многих отвратительных шуток и издевательств один из великих магистров поджег фитиль, и все страшно веселились, видя, как фейерверк появляется из «овчинки» мадемуазель.
Несчастная, получившая ужасные ожоги, на следующий день пришла с жалобой в полицию; королю немедленно дали об этом знать, и он предпринял самые энергичные меры, дабы уничтожить гнусное сообщество.
* * *
В начале года все умы были поглощены этой историей, за которой Луиза следила с замирающим сердцем. Подобные мерзости превосходили ее воображение, и королю приходилось почти каждый вечер успокаивать ее.
В конце концов это стало ему надоедать, и он начал подумывать о менее наивной любовнице. Именно тогда он обратил внимание на принцессу Монако. Она была молода, обаятельна, остроумна и необыкновенно привлекательна; но в глазах короля самым большим ее достоинством было то, что она делила ложе с Лозеном, прославленным обольстителем, и, стало быть, должна была обрести богатый опыт.
Людовик XIV принялся усердно ухаживать за принцессой, которая с радостью позволила соблазнить себя.
Вскоре Лозен узнал о постигшей его неприятности. Оскорбившись, он сыграл с монархом довольно скверную шутку.
Узнав, что король назначил свидание принцессе, он загодя отправился к королевским апартаментам и спрятался в шкафу, стоящем в коридоре. Король, вернувшись к себе, оставил снаружи ключ для своей красавицы. Одним прыжком Лозен оказался у дверей, запер их, а ключ положил в карман. В коридоре уже слышались шаги. Он быстро юркнул в шкаф и увидел принцессу де Монако, которую сопровождал Бонтан, камердинер короля. Не обнаружив ключа, тот постучал.
– Кто там? – спросил монарх, стоявший за дверью.
– Это я, – ответила мадам де Монако.
Людовик XIV хотел отворить дверь. Она не поддавалась. Тогда он стал трясти замок. Все было тщетно. Жалобные стенания и вздохи – и обоим любовникам пришлось смириться с мыслью, что сегодня им предстоит лечь раздельно. Лозен же, сидя в шкафу, радовался.
Однако мадам де Монако, заподозрив неладное, поделилась сомнениями с королем. В отместку тот приказал Лозену отправиться с инспекцией на полгода в Беарнский полк. Лозен отказался. Через несколько дней его препроводили в Бастилию, где он и просидел шесть месяцев.
Через три недели король расстался с принцессой Монако, поскольку нашел ее живость несколько утомительной для себя, и вновь вернулся к мадемуазель де Лавальер…
* * *
В конце лета королева мать неожиданно почувствовала себя очень плохо. Врачи, обнаружив рак груди, сделали операцию, отчего состояние ее значительно ухудшилось. Однако до зимы она протянула, более всего сокрушаясь из-за отвратительного запаха, стоявшего в комнате.
– Господь наказывает меня этим, потому что я слишком любила красоту моего тела, – говорила она.
20 января 1666 года Анна Австрийская испустила последний вздох.
Вместе с ней исчезла последняя преграда, хоть немного удерживавшая короля в рамках приличия. Вскоре в этом убедились все. Через неделю мадемуазель де Лавальер стояла рядом с Марией Терезией во время мессы…
Именно тогда постаралась привлечь внимание короля одна молодая фрейлина королевы, которая поняла, что обстоятельства складываются для нее благоприятно. Она была красива, коварна и остра на язык. Звали ее Франсуаза Атенаис де Мортемар: уже два года она была замужем за маркизом де Монтеспаном, но при этом не отличалась безупречной супружеской верностью.
Ее легко представить себе по портрету, оставленному нам современниками: «У нее были белокурые волосы, большие глаза цвета лазури, красивый орлиный нос, маленький рот с алыми губами, очень красивые зубы; одним словом, в этом лице не было изъянов. Что до ее сложения, то она была среднего роста и очень стройная».
Помимо этого, мадам де Монтеспан отличалась живым воображением и забавлялась странными играми. Герцог де Ноай говорит, что «она запрягала шесть мышей в маленькую золоченую карету и позволяла им кусать свои прелестные руки». Ей также нравилось выращивать поросят и козочек в своих роскошных версальских апартаментах.
Людовик XIV вскоре подпал под ее чары. Не бросая Луизу, которая вновь была беременна, он стал порхать вокруг Атенаис.
Скромная фаворитка быстро поняла, что отныне не только она интересует короля. Как всегда незаметно разрешившись от бремени, она затаилась в своем особнячке и приготовилась втихомолку страдать.
Но Король-Солнце не любил потаенных сцен. Этому театральному любовнику нужно было, чтобы все происходило на глазах у зрителей. Поэтому он устроил празднества в Сен-Жермене под названием «Балет муз», где Луиза и мадам де Монтеспан получили совершенно одинаковые роли, дабы всем стало ясно, что обе на равных правах будут делить его ложе.
Это была шутка довольно дурного тона, однако двор веселился от души, чему немало способствовала и Мария; пребывая в полном неведении, она аплодировала гораздо громче, чем все прочие.
Людовик XIV в костюме пастушка исполнил изящный сольный номер, а затем приблизился к мадемуазель де Лавальер и, глядя ей прямо в глаза, с изумительной бесцеремонностью прочел стихотворение, написанное Бенсерадом специально для этого случая:
Вас не хочу гневить, но лишь предупреждаю, Что прежних чувств к вам больше не питаю, И на прощание открыто вам скажу я, Что не свободен, ибо полюбил другую.Мадам де Монтеспан
Повернувшись на каблуках, он покинул Луизу, раздавленную горем и стыдом. Угадывая иронические улыбки публики, несчастная продолжала танцевать до самого конца спектакля. Но едва только ей представилась возможность ускользнуть, она бросилась к себе, упала на постель и стала горько рыдать, как всегда делала в подобных обстоятельствах…
* * *
Любовные приключения не мешали королю заниматься своими прямыми обязанностями. В течение двух лет он от имени жены предъявлял претензии на наследство Филиппа IV, умершего в 1665 году. Испанский король оставил только одного сына от второго брака – четырехлетнего Карла II. Между тем Мария-Терезия родилась от первой жены: по законам же Нидерландов отцовское достояние принадлежало или отходило к отпрыскам первого союза. В силу этого Людовик XIV считал себя обязанным защищать права жены.
Испания, естественно, отказалась удовлетворить эти требования, поэтому король стал готовиться к войне. Пока Лувуа собирал войска, он заключил союз с немецкими князьями и уверился в том, что Англия будет соблюдать нейтралитет. Обеспечив себе дипломатическое прикрытие, он решил лично проинспектировать войска и, зная, как возбуждают дам маневры и парады, пригласил королеву с соответствующей свитой.
Был воздвигнут роскошный воинский лагерь. «Я увидела громадную равнину, на которой симметрично располагалось множество палаток, – пишет мадам Шатрье, состоявшая на службе при семействе Конде. – Шатер короля, в котором я побывала, имел три залы и одну спальную комнату с двумя кабинками, причем все они блистали золотом. На подушках китайского атласа восседали прекрасные амазонки: они могли бы скорее привлечь врагов, нежели нагнать на них страху. В этот эскадрон, возглавляемый Его величеством, входили Мадам, мадемуазель де Лавальер, мадам де Монтеспан, мадам де Ровр и принцесса д’Аркур. Дневную жару они пережидали в палатке, и туда же им подавался обед; ели они отнюдь не по-походному, и сервировка была великолепной. По вечерам они катались на лошадях месте с его величеством: войска брали на караул, раздавались мушкетные выстрелы, никому не причинявшие вреда».
Впрочем, дамы интересовались не только военными приготовлениями. Они сплетничали и судачили. Король намекнул, что кое-кому будет оказана честь увидеть настоящее сражение, и им не терпелось узнать, кто же отправится на театр военных действий. Мадемуазель де Лавальер или же мадам де Монтеспан?
Обе женщины пребывали в сильной тревоге. Но если Луиза только вздыхала, запершись в своей комнате в ожидании решения повелителя, то Франсуаза Атенаис воззвала к самым страшным силам, дабы устранить соперницу и привязать к себе короля.
В самом деле, благородная маркиза регулярно навещала некую Катрин Монвуазен (которую именовали попросту Вуазен), чьи таланты ворожеи и колдуньи начали привлекать всеобщее внимание.
Это была маленькая брюнетка лет примерно тридцати, с самой заурядной внешностью, но с пугающим взором. Она обитала в лачуге, около которой находился сад, служивший ей кладбищем, ибо она, как говорили, «помогала малышам появиться на свет, но чаще – перейти в мир иной». В глубине сада она соорудила нечто вроде грота, где была устроена печь. Там она и занималась приготовлением своих адских снадобий, сжигая человеческие кости и вываривая жаб.
Вот эту достойную особу и навещала иногда Франсуаза, чтобы раздобыть приворотное зелье для обольщения Людовика. В 1666 году она даже согласилась принять участие в «черной мессе», которую отслужил в часовне замка Вильбуссен около Монлери аббат Гибур, погубивший душу священник, приятель Катрин Вуазен.
Закрыв лицо вуалью, она легла обнаженной на алтарь с зажженными свечами, и Гибур поставил ей на живот чашу, обернутую салфеткой. Литургическое действо было совершено по всем правилам – только по завершении его аббат прикоснулся губами не к алтарю, а к подрагивающему телу прекрасной маркизы.
Освящение завершилось ужасной сценой. В большинстве случаев подручные Вуазен довольствовались недоношенными младенцами, однако в эту ночь все было сделано по высшему разряду. Гибур зарезал живого ребенка: он его купил за одно экю, сказав несчастной матери, доведенной до отчаяния голодом, что намеревается отдать его женщине, у которой «соски болят от обилия молока».
Прочитав нараспев символ веры, священник приступил к заклятию:
– Астарот, Асмодей, князь дружбы и любви, молю тебя принять в жертву этого младенца и исполнить в благодарность то, о чем прошу. Молю вас, духи, чьи имена записаны на этом свитке, содействовать желаниям и намерениям особы, ради которой была отслужена месса.
Мадам де Монтеспан, по-прежнему лежа на алтаре, выразила свою волю в следующих словах:
– Хочу обрести любовь короля и получать от него все, что попрошу для себя или своих близких, чтобы слуги мои и приближенные были ему приятны, чтобы он отринул и не смотрел больше на Лавальер.
Затем Гибур перерезал ребенку горло ножом, и кровь его стекла в чашу. Подручные же вырвали сердце и внутренности маленького страдальца, дабы совершить еще одно жертвоприношение, сжигая их на медленном огне и растирая в золу, предназначенную для Людовика Бурбонского.
Разумеется, накануне отъезда Людовика XIV мадам де Монтеспан решила прибегнуть к помощи магии и поспешила к колдунье из квартала Бон Нувель. На этот раз Вуазен посоветовала ей повидаться с аббатом Мариетом и чародеем Лесажем.
Через несколько дней очаровательная маркиза, которой вовсе не нужно было прибегать к подобным средствам, чтобы обольстить короля, отправилась на улицу Танри, в грязную лачугу, где колдуны установили свой алтарь. Были зажжены свечи; Лесаж воззвал к силам ада, а затем Мариет в священническом облачении произнес богохульственные заклятья перед дароносицей, в которую положили сердце голубя. Наконец, возложив Евангелие на голову коленопреклоненной мадам де Монтеспан, он прочел из него отрывок «в сатанинском духе». Когда церемония завершилась, Франсуаза добавила от себя:
– Желаю, чтобы любовь короля ко мне не иссякала, чтобы королева стала бесплодной, чтобы король покинул ложе ее и стол ради меня. Пусть меня почитают и любят знатные сеньоры, дабы я принимала участие в королевском совете и знала все, что там происходит. Пусть любовь короля ко мне удвоится, пусть оставит он мадемуазель де Лавальер и отринет королеву, чтобы я могла выйти замуж за короля.
Любопытно, что всего за один год дурные молитвы маркизы претерпели существенное изменение. Теперь она хотела не просто быть фавориткой короля, но вступить на престол…
* * *
После этой необычной мессы Франсуаза вернулась к себе, уверенная в победе. Однако следующий день принес ей большое разочарование. В самом деле, 14 мая около полудня разнеслась удивительная новость. Стало известно, что король только что даровал титул герцогини мадемуазель де Лавальер и признал своей дочерью третьего ее ребенка – маленькую Марию-Анну (два первых сына умерли в младенчестве).
Мертвенно-бледная мадам де Монтеспан поспешила к королеве, чтобы узнать подробности. Мария рыдала. Вокруг нее придворные шепотом обсуждали жалованную грамоту, уже утвержденную парламентом. Изумлению не было предела. Говорили, что подобного бесстыдства не случалось со времен Генриха IV.
Франсуаза вскоре узнала полный текст грамоты. Вот он:
«Людовик, милостью Божией король Франции и Наварры, обращается к вам с приветом.
Поскольку милости короля являются внешним признаком заслуг тех, на кого обращены, и служат к вящему прославлению подданных, ими отмеченных, мы сочли, что не можем яснее выразить благоволение дорогой нашему сердцу и преданной нам всей душой Луизе де Лавальер, как даровав ей высшие титулы отличия, ибо уже несколько лет испытываем к ней чувство совершенно особенной привязанности, порожденное редким совершенством ее натуры. И хотя скромность ее часто противилась нашему желанию поднять ее на высоту, соответствующую нашему к ней уважению и ее добрым качествам, привязанность наша к ней и чувство справедливости не позволяют больше медлить с изъявлением нашей признательности за хорошо известные нам ее заслуги, равно как и скрывать, вопреки требованиям природы, нашу нежность к внебрачной дочери Марии-Анне, отмеченной нашей милостью в лице ее матери. Мы даруем ей земли Вожур в Турени и баронство Сен Кристоф в Анжу; оба ленных владения обладают значительным количеством вассальных земель и приносят немалый доход…»
Далее следовала установленная формула, согласно которой земли Вожур становились герцогством и пэрством, «дабы этот титул принадлежал названной мадемуазель Луизе де Лавальер, а после ее кончины – нашей дочери Марии-Анне, упомянутой выше, ее наследникам и потомкам, как и мужского, так женского пола…»
Потрясенная мадам де Монтеспан немедля побежала к Вуазен и закатила ей ужасную сцену. Колдунья тут же приступила к вымачиванию жаб в кобыльей моче….
А в это время две женщины, не переставая лили слезы: Мария, которая не могла смириться с оскорблением, нанесенным ей королем, и Луиза де Лавальер, угнетенная тем, что внебрачная связь окончательно вышла наружу. Кроме того, ее мучила еще одна мысль: возможно, все эти почести, которыми одарил ее король, были прощальным подарком? Вскоре она получила подтверждение, что страхи не были напрасными.
15 мая Людовик XIV объявил, что только королеве и ее фрейлинам (среди которых была мадам де Монтеспан) будет позволено сопровождать его в Нидерланды.
– А я? – спросила Луиза.
– Вы останетесь в Версале.
Узнав, что суверен намеревается завоевывать спорную провинцию в обществе мадам де Монтеспан, фаворитка, ожидавшая в то время четвертого ребенка, удалилась в слезах.
* * *
20 мая король отправился на север в большом экипаже, в сопровождении армии, королевы и придворных дам. Эта военная кампания начиналась как загородная прогулка.
А в Версале тихо плакала Луиза, сокрушаясь при мысли, что король уехал на войну, ничего не сделав для ребенка, которого она должна была произвести на свет.
24 мая, вне себя от горя, она написала ставшее знаменитым письмо своей подруге мадам де Монтозье:
«Мое новое высокое положение причиняет мне такое беспокойство, что я не могу скрыть тревогу, хотя ожидала от этих почестей совсем иного. Зная вашу отзывчивость, хочу поделиться с вами тем, что лежит у меня на сердце, а также моими соображениями на сей счет.
Следуя обычаю, все разумные люди, прежде чем завести новых слуг, уведомляют об этом старых посредством выплаты им положенного жалованья или же словами признательности за их труды. Боюсь, как бы со мной не случилось подобного. Возможно, король, пожаловав меня столь высоким титулом, предупреждает тем самым об отставке и, желая пробудить во мне тщеславие, надеется, что честолюбие возьмет верх над любовью, так что унижение покажется мне не столь тяжким.
Если вы дадите себе труд пристально взглянуть на состояние моих дел, то согласитесь, что нет никого, кто заслуживал бы большего сострадания.
Король смертей, он собирается воевать; если с ним произойдет что-нибудь ужасное, что станется со мной? Что станется с отпрыском королевской крови, который уже беспокойно шевелится в моем чреве? Король знает об этом, он уверен, что будет сын, но ничего не сделал для ребенка.
Мне крайне необходимы ваша помощь и ваш мудрый совет… Луиза…»
А в это время радостный и беспечный король двигался победоносным маршем, захватив Шарлеруа, Ат, Турне, Фюрн, Армантьер, Куртре с такой легкостью, как «если бы просто чихнул»…
Дамская баталия перед королевскими войсками
Нет ничего ужаснее, чем вражда и схватка двух женщин, оспаривающих одно сердце…
Сент-ЭвремиКороль оставил Марию-Терезию, мадам де Монтес-пан и придворных дам в Компьене, где они развлекались как могли в ожидании, когда им разрешат отправиться к действующей армии.
– Наверное, нам придется долго сидеть здесь, – с досадой говорили они друг другу, – ведь войска Его величества вознамерились, кажется, пройти Нидерланды от начала до конца.
Но и на сей раз в ход событий вмешалась любовь, обманув все догадки и предположения…
9 июня Людовик XIV, несмотря на то, что враги поспешно отступали перед ним, прервал свое триумфальное шествие и вернулся в Авен, иными словами, на границу. Европа была ошеломлена. Что мог означать этот неожиданный поворот? Все объяснилось, когда король призвал к себе двор. Многие люди тогда не побоялись бросить упрек монарху, говоря, что он упустил верную и быструю победу в войне ради желания повидать мадам де Монтеспан.
Узнав о решении короля, Франсуаза, которая хорошо знала, что военные действия были остановлены ради нее, почувствовала себя на седьмом небе. Что до прочих дам, то они грезили об ожидающем их во Фландрии прекрасном зрелище, ибо каждая представляла себе войну в виде приятной прогулки по полям, где цветут маргаритки и лежат в красивых позах убитые враги…
Но известие об этой поездке произвело совсем иное впечатление на Луизу, по-прежнему тоскующую в Версале. Несчастная женщина, всегда столь робкая и покорная, впервые не смогла скрыть обиду и, к вящему удивлению своей свиты, впала в состояние нервного возбуждения. Наконец, не в силах больше терпеть, она села в карету и приказала кучеру везти себя во Фландрию, к королю…
20 июня королева, только что прибывшая в Ла Фер, по обыкновению села играть в карты, когда ей сообщили, что приближается экипаж мадемуазель де Лавальер. Эта неожиданная новость нарушила мирное течение вечера. Прежде всего, Мария, чей желудок обладал повышенной чувствительностью, извергла из себя обед, а затем, как рассказывает мадемуазель де Монпансье, бывшая свидетельницей этой сцены, дамы заметались по дому с испуганными криками и улеглись спать в весьма растрепанных чувствах…
На следующее утро Луиза приехала в Ла Фер. Поднявшись, мадемуазель де Монпансье обнаружила, что она сидит на сундуке с утомленным видом и с красными от бессонной ночи глазами.
Мадемуазель де Монпансье немедленно поднялась к Марии-Терезии, которая также не спала, обсуждая с мадам де Монтеспан странную выходку мадемуазель де Лавальер. Всю ночь ее рвало, она плакала и продолжала чувствовать себя очень плохо…
– Взгляните, в каком состоянии королева, – говорила Франсуаза лицемерным тоном.
Выходя из церкви после мессы, Мария не ответила на поклон Луизы, а когда настал час обеда, приказала метрдотелю не кормить нежданную гостью. Однако тот не посмел морить голодом девицу, имевшую честь принимать в своей постели короля, и украдкой принес ей еду…
После полудня королева села в карету вместе с мадемуазель де Монпансье, мадам де Монтозье, мадам де Монтеспан и отправилась в Авен. Примерно в ста шагах сзади катилась карета мадемуазель де Лавальер. В пути Франсуаза умело подогревала негодование Марии-Терезии, настраивая ее против Луизы.
– Какая возмутительная дерзость, – говорила она, – явиться к королеве без предупреждения, прекрасно зная, как это будет воспринято. Я убеждена, что и король не вызывал ее.
Когда же Мария-Терезия стала всхлипывать, мерзкая женщина добавила с непревзойденной наглостью:
– Боже меня сохрани стать любовницей короля! Но, если бы такое произошло, я не посмела бы так оскорблять королеву.
Наивная Мария безраздельно доверяла мадам де Мон-теспан, которая, чтобы подольститься к набожной испанке, каждый день ходила к святому причастию. Вот и теперь, услышав эти слова, она по-дружески пожала руку новой фаворитки…
* * *
Двор остановился на ночлег в Гизе. Это был последний этап перед Авеном. Луиза к обеду не вышла.
Королеву внезапно обуял страх, как бы фаворитка не опередила ее и не увиделась первой с королем. Она приказала, чтобы никто не смел выехать перед ней; офицерам же, прибывшим с войсками для эскорта, было дано распоряжение никому не выделять солдат для сопровождения.
Итак, Луизе пришлось остаться в Гизе вместе со всеми, а затем вновь ехать вслед за каретой королевы…
Кортеж двигался вперед без всяких приключений, как вдруг недалеко от Авена на одном из холмов показался король, который отправился навстречу дамам. Тогда мадемуазель де Лавальер, совершенно потеряв голову, поступила самым неожиданным образом. Свернув с дороги, она приказала гнать карету через поле во весь опор по направлению к Людовику XIV.
Королева, высунувшись из окна, увидела эту хитрость и, будучи вне себя, завопила отчаянным голосом:
– Остановите ее! Остановите ее!
Всадники из эскорта пустили лошадей в галоп. Но им не удалось догнать карету, которая мчалась, грохоча и подпрыгивая на земляных кочках. Вскоре она остановилась перед королем. Луиза быстро выбралась из нее и, не обращая внимания на остолбеневших офицеров свиты, дрожа всем телом, склонилась к ногам своего любовника.
Король не терпел подобных сцен. Кроме того, он приехал в Авен, чтобы увидеться с Франсуазой. Естественно, ничто не могло досадить ему больше, чем внезапное появление Луизы. Он встретил несчастную с ледяной холодностью.
Изнемогая от горя и стыда, она поплелась к карете, испуская тяжкие стоны, которые очень веселили солдат. Уехав, она не показалась до вечера.
На следующий день король смягчился и велел передать ей, что она может присоединиться ко двору. Обезображенная бессонной ночью, Луиза предстала перед королевой, дабы сопровождать ее на мессу. Хотя в королевской карете больше не было мест, Людовик XIV приказал ей садиться. Королеве и придворным дамам пришлось потесниться, и они едва сдерживали бешенство, что, понятно, не способствовало созданию благостной атмосферы, которая приличествовала бы святой литургии.
Во время мессы мадам де Монтеспан кипела от возмущения, и можно только догадываться, с какими мольбами обращалась к небу эта демоническая женщина. За обедом ревность ее удвоилась, ибо король пригласил Лавальер сесть рядом с королевой. Означало ли это, что Луизе была возвращена милость монарха? Вовсе нет. Просто Его величеству доставляло удовольствие стравливать двух женщин, боровшихся за его расположение.
Тем же вечером он проследовал в спальню за мадам де Монтеспан на глазах у Луизы и приободрившейся королевы.
Перед тем как лечь, он снял с поста часового, охранявшего этаж, поскольку предчувствовал, что в эту ночь ему понадобится полная свобода маневра. Затем, закрыв двери, он разделил ложе с прекрасной Франсуазой, чья пылкость наконец-то была вознаграждена…
Первый опыт оказался удачным. Людовик XIV был удовлетворен и на следующий день отправился в спальню Монтеспан, уже не особенно таясь, а бедной Лавальер оставалось только беспомощно наблюдать за этим и глотать насмешки безжалостного двора. В самом деле, вскоре всем стало известно, что у короля новая любовница – мадам де Монтеспан. Не ведала об этом только бедная королева: как всегда опаздывая, она продолжала ненавидеть Луизу.
«Однажды вечером, за ужином, – рассказывает мадемуазель де Монпансье, – королева пожаловалась, что супруг ложится слишком поздно, и, повернувшись ко мне, сказала: «Вчера король пришел в спальню в четыре часа утра. Было уже совсем светло. Не знаю, чем он так занят». Он сказал ей: «Я читал донесение и писал ответы». Она ему сказала: «Но вы могли бы сделать это в другое время». Он улыбнулся и, чтобы она не увидела, отвернулся ко мне. Мне очень хотелось поступить так же, но я сидела, не отрывая глаз от тарелки».
Вскоре эта новость достигла Версаля, и с особым вниманием к ней отнеслись послы, оповестившие об этом всех европейских монархов, поскольку подобная информация всегда ценилась власть имущими. Так, английский посол, прервав другие важные дела, немедленно отправил послание своему государю:
«Мадам де Монтеспан добилась первенства в этом путешествии, что приводит в содрогание отвергнутую даму, которой предстоит испытать муки ревности, обычные в этом положении».
Народ же, как всегда, потешался и злословил. Зная, что не так давно любовником Франсуазы был молодой красавец граф Фронтенак, парижане сочинили дерзкие куплеты, в которых короля иронически поздравляли с тем, что ему достались «объедки с чужого стола»…
Это, впрочем, было истинной правдой!
Во Франции три королевы
Изобилие благ порой приносит вред…
Народная мудрость10 августа 1667 года, когда двор уже вернулся в Компьен, Людовик XIV встал лагерем перед Лиллем, который очень желал захватить.
Несмотря на неизбежные мелкие стычки и, соответственно, некоторое количество убитых, осада была выдержана в тонах самой изысканной любезности. Начать с того, что губернатор г-н де Брюэ прислал гонца с просьбой извинить его за намерение защищать город до последнего. Затем он пожелал узнать, где находится командный пункт, дабы не нанести Его величеству оскорбления нечаянным пушечным выстрелом.
– Мой командный пункт повсюду! – ответил Людовик XIV.
Наконец, г-н де Брюэ предоставил своему обидчику все, что необходимо в походной жизни: в частности, каждое утро он присылал лед для охлаждения вина. Однажды король подозвал к себе дворянина, выполнявшего это почетное поручение:
– Попросите господина губернатора давать мне больше льда, потому что очень жарко.
– Сир, – ответил испанец с полной серьезностью, – он бережет лед, потому что надеется на долгую осаду и опасается, что вашему величеству его запасов может не хватить.
Невозможно было бы изъясниться с большей галантностью и большим достоинством.
Король улыбнулся, а испанский дворянин, поклонившись, хотел уже удалиться, когда граф де Шаро крикнул ему:
– Передайте г-ну де Брюэ, чтобы он не вел себя подобно губернатору Дуэ, который сдался самым трусливым образом.
– Вы сошли с ума, Шаро? – воскликнул король.
– Нет, сир, просто граф де Брюэ мой кузен…
Вот таким манером велись военные действия в 1667 году.
Время от времени превратности войны заставляли противников стрелять друг в друга, но это делалось с величайшей вежливостью и как бы против воли; жертвы же этих столкновений отправлялись в мир иной без всякой досады…
Эта необыкновенная осада длилась девятнадцать дней, а затем Лилль капитулировал. Испанцы без боя отошли к Брюсселю и Монсу.
Король, весьма гордый собой, покинул поле сражения и отправился в Компьен, где мадам де Монтеспан увлекла его в постель, дабы доказать, что умеет должным образом выразить свое восхищение победителю.
Затем он вернулся в Сен-Жермен с королевой и придворными дамами, тогда как Луиза де Лавальер, удрученная больше, чем когда либо, укрылась в уединенном доме, чтобы произвести на свет четвертого королевского бастарда. 3 октября она родила сына, которого тут же унесли. Ему предстояло получить имя графа де Вермандуа.
Это событие несколько сблизило короля с нежной Лавальер, и встревоженная Монтеспан поспешила к Вуазен. Та вручила ей пакет с любовным порошком из обугленных и растолченных костей жабы, зубов крота, человеческих ногтей, шпанской мушки, крови летучих мышей, сухих слив и железной пудры.
В тот же вечер ни о чем не подозревавший король Франции проглотил это отвратительное зелье вместе с супом. Однако в силе колдовских чар усомниться было трудно, поскольку король почти сразу забросил Луизу де Лавальер, вернувшись в объятия мадам де Монтеспан.
* * *
В начале июля 1668 года Людовик XIV, влюбленный более чем когда либо, решил устроить празднество в честь новой любовницы, которое должно было продлиться семь дней и пышностью превзойти предшествующие увеселения. Однако за две недели до начала торжеств в Париж прибыл человек с мрачным взором, пребывавший вдали от двора благодаря предусмотрительности короля. Это был г-н де Монтеспан.
Славный маркиз, которому Лувуа, по приказанию Людовика XIV, дал очень хорошую должность в Руссильоне, явился в Париж, никого не предупредив, чтобы доставить удовольствие милой женушке. Далекий от всяких подозрений, он поначалу совершенно не понимал язвительных намеков, которыми встретил его двор. Итак, он отправился на версальские торжества без задней мысли и 19 июля, сидя рядом с Франсуазой, аплодировал даже громче, чем другие, наслаждаясь комедией Мольера с очень забавным сюжетом. Пьеса называлась «Жорж Данден, или Одураченный муж»…
Увы! Через несколько дней это доброе расположение духа исчезло без следа. Маркиз начал замечать, что супруга его излишне развязно держит себя с королем; затем он обратил внимание на льстивую угодливость куртизанов по отношению к Франсуазе, что было весьма странным для простой фрейлины королевы. Его подозрения превратились в уверенность, когда он вырвал признание у некоторых своих друзей.
Будучи сангвиником, он не последовал примеру тех дворян, которые покорно мирились с изменой жен, привлекших внимание короля. Придя в неистовую ярость, он ворвался в спальню преступницы, устроил ужасающую сцену, стал кричать на нее и осыпать оскорблениями, надавал пощечин и даже позволил себе нелестным образом отозваться о монархе. Маркиза в смятении и страхе воспользовалась минутой затишья, чтобы покинуть семейный очаг и укрыться в покоях мадам де Монтозье.
Тогда г-н де Монтеспан принялся обличать неверную супругу при дворе, но достиг только того, что поведение его сочли более чем странным, а характер – невыносимым. Послушаем, например, мадемуазель де Монпансье:
«Г-н де Монтеспан, человек экстравагантный и чрезмерно обидчивый, словно сорвался с цепи, узнав о чувствах короля к его жене; он переходил из дома в дом со своими смехотворными жалобами. Когда он вознамерился читать нотации в Сен-Жермене, мадам де Монтеспан пришла в отчаяние… Он часто приходил ко мне. Он мой родственник, и я его журила. Однажды он навестил меня и прочел речь, с которой хотел обратиться к королю: там было множество цитат из Святого писания, намеки на царя Давида и прочее, а в конце он требовал вернуть жену и угрожал судом Господним. Я сказала ему: «Вы сошли с ума. Никто не поверит, что вы сами написали эту речь, и обвинять станут архиепископа Санского, вашего дядю, который враждует с мадам де Монтеспан»».
Из уважения к этому прелату г-н де Монтеспан отказался от своего намерения.
На следующий мадемуазель де Монпансье отправилась в Сен-Жермен. Она нашла Франсуазу в сильном расстройстве и раздражении.
– Мой муж здесь и ведет себя самым скандальным образом, – сказала фаворитка. – Мне стыдно, что он развлекает толпу на пару с моим попугаем.
Затем герцогиня направилась к мадам де Монтозье и застала ее дрожащей от ярости.
– Только что сюда ворвался, словно безумный, г-н де Монтеспан, наговорил мне гадостей про свою жену и вел себя с невообразимой дерзостью. Я благодарю Бога, что со мной находились только мои женщины. Если бы здесь был кто-нибудь из мужчин, г-на де Монтеспана просто выкинули бы в окно…
Но г-н де Монтеспан не ограничился одними гневными словами. Ему вдруг пришло в голову заразиться венерической болезнью, чтобы передать ее королю через жену. Этот план потерпел неудачу, поскольку маркиза отказалась исполнять супружеские обязанности, и несчастный остался, как говорится, при своих…
Тогда он оделся в черное с ног до головы и пришел к королю за разрешением покинуть столицу. Монарх удивился:
– По ком вы носите траур, господин де Монтеспан?
– По моей жене, сир!
Подобные выходки становились невыносимыми. 30 сентября Людовик XIV приказал отправить мужа своей любовницы в тюрьму Фор л’Этек.
Этот арест, говорит Сен-Симон, вызвал «угрожающий ропот и наполнил ужасом сердца всей нации». Через неделю Людовик XIV, несколько пристыженный, отдал распоряжение выпустить маркиза на свободу, а сам бросился в Шамбор, в надежде, что обширный парк, обнесенный стеной, оградит его от встречи с одержимым человеком.
При выходе из тюрьмы г-н де Монтеспан получил следующее распоряжение:
«Именем короля!
Его величество, выражая крайнее неудовольствие поведением маркиза де Монтеспана, приказывает начальнику королевской стражи города Парижа сразу же после того, как означенный маркиз будет выпушен на свободу по приказу Его величества из тюрьмы Фор л’Эвек, где он содержался в заключении, вручить ему уведомление покинуть Париж в течение двадцати четырех часов и немедленно отправиться в земли, принадлежащие маркизу д’Антену, его отцу, расположенные в Гиени, и оставаться там вплоть до нового распоряжения, в силу запрета Его величества удаляться от этих мест под страхом кары за ослушание».
Тогда г-н де Монтеспан уехал.
Получил ли он, как утверждают некоторые историки, кругленькую сумму за ущерб, нанесенный его чести? Зная характер маркиза, в это трудно поверить, и никаких доказательств подобной сделки не существует. Сен-Симон, мимо которого не проходила ни одна сплетня, не говорит об этом даже в форме предположения, а в королевском казначействе, где тщательно сохранялись все расписки за деньги, выплаченные частным лицам, не осталось ни малейших следов автографа обманутого мужа…
Все это, по-видимому, не более чем домыслы и легенды: маркиз удалился в свою родную Гиень с тяжелым сердцем, но с пустыми руками.
В начале ноября 1668 года он уже был в Бонфоне. Сразу же по приезде собрав родственников, друзей и слуг, он объявил им о «кончине» своей жены, после чего потребовал от священника отслужить погребальную мессу по живой женщине, навеки для него умершей. На следующий день в замке состоялось необычное богослужение. Окружив пустой гроб под черным покрывалом, певчие несли зажженные свечи с пением De Profundis. Сзади шел маркиз де Монтеспан с двумя детьми, подаренными ему супругой…
Перед тем как войти в часовню, он приказал отворить настежь главные врата. Когда же люди стали выражать удивление перед этим странным новшеством, он громко возгласил:
– Мои рога так велики, что я не пройду через боковые двери!
Наконец гроб был опущен в землю: на могильном камне было выбито имя мадам де Монтеспан.
Новость об этом вскоре достигла Версаля и не доставила большого удовольствия фаворитке…
* * *
Поскольку смешные претензии г-на де Монтеспана едва не всполошили все королевство, Людовик XIV решил придать своим любовницам официальный статус, дабы продемонстрировать величественную непринужденность и пренебрежение ко всякого рода моралистам. Итак, в начале 1669 года он поместил Луизу и Франсуазу в смежных покоях в Сен-Жермене.
Сверх того, он потребовал, чтобы обе женщины поддерживали видимость дружеских отношений. Отныне все видели, как они играют в карты, обедают за одним столом и прогуливаются рука об руку по парку, оживленно и любезно беседуя.
Король же безмолвно ждал, как отреагирует на это двор. И вскоре появились куплеты, весьма непочтительные по отношению к фавориткам, но сдержанные в том, что касалось короля. Людовик XIV понял, что партию можно считать выигранной. Каждый вечер он со спокойной душой отправлялся к своим возлюбленным и находил в этом все большее удовольствие.
«Тогда это называли «визитом к дамам», – говорит мадемуазель де Монпансье. – Сначала король входил в комнату Луизы и в соответствии с настроением либо укладывался в постель вместе с ней, либо следовал дальше к Франсуазе».
Разумеется, предпочтение почти всегда отдавалось мадам де Монтеспан. Та не скрывала своего восторга. Ей очень нравилось обращение короля, и она, конечно же, нуждалась в особо бережном отношении после грубых выходок мужа. Людовик XIV ласкал ее со знанием дела, поскольку читал Амбруаза Паре, который утверждал, что «не должно сеятелю вторгаться в поле человеческой плоти с наскоку». Зато после этого можно было действовать с отвагой мужа и короля.
Такой подход не мог не принести плодов. В конце марта 1669 года мадам де Монтеспан произвела на свет восхитительную девочку.
Зная, что г-н де Монтеспан имеет полное право забрать ребенка, король стал тут же подыскивать надежную и скромную воспитательницу. Франсуаза подсказала ему кандидатуру, идеально соответствующую требованиям. Эту даму звали Франсуаза д’Обинье: она жила одна после смерти своего мужа, знаменитого поэта Скаррона…
Вдове намекнули, и она согласилась. Ребенок был немедленно передан в ее руки, и она тут же сняла дом с садом в пригороде Сен-Жермен, дабы взращивать там королевское дитя вдали от любопытных взглядов, в компании лишь нескольких слуг, но крики новорожденной все-таки дошли до ушей прохожих, и в Париже стали поговаривать, что мадам Скаррон затворилась здесь либо от великого раскаяния, либо для великого предприятия.
К ней стали являться с неожиданными визитами и заметили, что она краснеет. Тогда она решилась на необычную меру: чтобы не заливаться краской, приказала отворять себе кровь. Но это ни к чему не привело – изнемогая от слабости, она заполняла кровью целые лохани, но все равно краснела до ушей, стоило кому-нибудь застать ее врасплох или взглянуть вопросительно.
Короче говоря, скоро все поняли, чем занимается мадам Скаррон, и лишь королева по-прежнему не подозревала, что в мире существуют, помимо монсеньера дофина, и другие принцы…
В то время как мадам Скаррон успешно исполняла роль кормилицы без молока, продолжалась совместная жизнь обеих фавориток, которую несколько омрачал лишь злобный характер Франсуазы. Маркиза де Монтеспан злоупотребляла своим преимуществом, стараясь превратить мадемуазель де Лавальер в камеристку: до небес превознося ловкость соперницы, она утверждала, что может вверить себя лишь в эти руки. Мадемуазель де Лавальер принималась за дело с рвением горничной, вся жизнь которой зависит от расположения хозяйки.
Сколько же унижений и насмешек пришлось ей вынести, пока она оставалась при дворе, можно сказать, в свите новой фаворитки!..
Мадам де Монтеспан была так обласкана королем, что 31 марта 1570 года родила второго ребенка – будущего герцога Мэнского. На сей раз ребенок появился за свет в Сен-Жермене, «в дамских покоях», и мадам Скаррон, которую король недолюбливал, не посмела прийти туда. Но за нее все сделал Лозен. Он взял ребенка, завернул в собственный плащ, быстро прошел через покои королевы, пребывавшей в неведении, пересек парк и подошел к решетке, где ждала карета воспитательницы. Через два часа мальчик уже находился вместе со своей сестрой.
* * *
Освободившись от забот, связанных с отцовством, Людовик XIV решил предпринять путешествие во Фландрию и взять с собой многочисленную свиту. По этому случаю было построено огромное сооружение на колесах, которое больше походило на передвижной гарем, нежели на карету, потому что он устроился там в обществе королевы, мадемуазель де Лавальер и мадам де Монтеспан.
Сидя между этих двух женщин, Мария-Терезия напоминала человека, проглотившего аршин. Однако, будучи особой чрезвычайно воспитанной, она стойко переносила боль и время от времени любезно заговаривала со своими соперницами.
Но в Ландреси одно комичное происшествие привело ее в сильнейшее раздражение: река вышла из берегов, и двору пришлось остановиться на ночлег в хижине бедного крестьянина, где была только одна кровать. Слуги быстро застелили пол соломой и одеялами.
– Как? – воскликнула королева. – Мы ляжем здесь все вместе?
– Что тут такого? – ответил король. Затем он спокойно разделся, оставшись в ночной рубашке и колпаке.
Все последовали его примеру, и вскоре Месье, Мадам, мадемуазель де Монпансье, маркиза де Бетюн, герцогиня де Креки, мадам де Монтеспан, мадемуазель де Лавальер легли вповалку на полу, в то время как в соседнем хлеву потревоженные коровы принялись громко мычать.
Ф. Буше. Притворщица
Королева, поджав губы, забралась на кровать и бросила подозрительный взгляд на короля.
– Не задергивайте полог, – сказал он, смеясь, – и вы все увидите.
Затем он, в свою очередь, улегся между мадемуазель де Монпансье и Генриеттой Английской. Через час весь двор мирно спал в этом необыкновенном дортуаре, освещенном огнем деревенской печи.
Но уже на следующий день эта комичная ночь была забыта, ибо города, только что завоеванные Францией, восторженно встречали своего повелителя. Отовсюду слышались радостные крики, толпы людей бурно приветствовали королевскую карету, и добрые фламандцы с почтительным изумлением показывали друг другу Марию-Терезию, Франсуазу и Луизу.
– Это три французские королевы! – говорили они.
И все восхищались мужской силой Людовика XIV…
Увы! Подобные сцены не могли привести в умиление парижан. Узнав, что король совершает прогулки в обществе жены и двух любовниц, народ пришел в негодование; когда двор вернулся в Сен-Жермен, перед дворцом состоялось несколько враждебных выступлений – вещь доселе невиданная и неслыханная!
Однажды какая-то женщина, потерявшая сына, который случайно погиб при строительстве Версаля, выскочила на дорогу перед королем и стала осыпать его оскорблениями, называя «королем-развратником».
«Монарх, – сообщает мемуарист, – не веря своим ушам, спросил, к нему ли она обращается, на что та ответила утвердительно и продолжала поношение».
Тогда несчастную схватили гвардейцы и препроводили ее в Птит Мезон, где она была подвергнута публичной порке. А через некоторое время сослали на галеры, предварительно вырвав язык, мужчину, который во всеуслышание заявил, что королевством правит «охотник за п…».
«Развлечения» брата короля
Увлечения мужчины часто становятся пагубными для мира между народами.
ЛакордерЧтобы осознать важность событий, происходивших в конце июня 1670 года в замке Сен Клу, следует вернуться немного назад.
Начиная с 1667 года семейный союз Месье и Мадам был омрачен присутствием молодого шевалье де Лоррена, лотарингского кавалера, блестящего, честолюбивого и красивого, словно нарисованный ангел. Принц влюбился в очаровательного юношу, и с тех пор они не расставались, проводя время «в непонятных развлечениях», согласно выражению простодушного аббата Коснака.
Бесстыдство их не знало границ. Они занимались только своим туалетом: красились, примеряли серьги и кружева, ставили мушки и завивались. Дело дошло до того, что на одном из балов в Пале Рояле брат короля, нарядившись в женское платье, танцевал со своим шевалье…
Во время Фландрской кампании молодой лотарингец был легко ранен в ногу. Месье, выказавший в сражении храбрость, которой никто от него не ожидал, тут же в слезах бросил свой полк, помчался к палатке любовника и стал ухаживать за ним, словно сестра милосердия…
По возвращении в Сен-Клу они вновь занялись своими малопристойными играми. Их встречали в обнимку в коридорах, в садах и в парке, и многие видели, как они гладят друг другу плечи и колени со счастливым видом…
Месье расставался со своим спутником только для весьма специфических воинских упражнений: «Дамы заметили, – говорит аббат Коснак, – что пребывание в армии пошло ему на пользу. Он расставлял стулья в одну линию, укреплял альков картинами, гравюрами и медальонами, размещал зеркала в стратегически важных точках, защищал фланги столов при помощи табуретов, словом, содержал свой мебельный полк в образцовом порядке».
Целыми днями Месье с победоносным видом, нахмурив брови, расхаживал по апартаментам, измеряя их шагами, отдавал распоряжения и неустанно воевал с собственной мебелью.
«Я смотрел на это пустое времяпрепровождение с досадой, – признается аббат Коснак, – и пришел к выводу, что справедливо утверждают: человеческую природу почти невозможно переделать».
К подобным выводам приходил не только он, ибо Мадам с болью и с отвращением наблюдала за шалостями супруга. Надо признать, что забавы эти порой превосходили всякое воображение и переходили все границы. Однажды, пируя с шевалье де Лорреном и прочими сотоварищами по разврату, Месье придумал следующее развлечение. В компании находился некий полковник, который был феноменально толст. Звали его Валлон. Принцу пришла в голову мысль, что было бы чрезвычайно интересно попробовать съесть яичницу, положенную на жирное брюхо этого полковника. Все пришли в восторг, и Валлон, сняв рубашку, разлегся на земле. Повар шмякнул пылающую яичницу на голое брюхо, и сотрапезники приступили к делу, не обращая внимания на ужимки полковника, который боялся щекотки.
После этого ужина Месье и шевалье де Лоррен решили отправиться с друзьями в Париж, чтобы завершить ночь у знаменитой куртизанки по имени Ла Неве. Эта веселая особа держала дом, предназначенный для подобных развлечений. Они оставались там до рассвета и успели совершить множество безумств, которые не вполне удобно описывать.
Внезапно принц предложил устроить одну маленькую шутку. Он послал за комиссаром полиции якобы от имени соседей, обеспокоенных шумом. Комиссар прибыл в сопровождении солдат и обнаружил Ла Неве, лежавшую в постели между принцем и Валлоном; вся остальная компания спряталась в соседней комнате.
Комиссар, понятия не имевший, кто эти мужчины, приказал им немедленно сойти с кровати; а когда те стали насмехаться над его распоряжением, велел своим людям вытащить их силой. В этот момент из соседней комнаты появились друзья принца: обнажив голову, они приветствовали его самым почтительным образом, а затем стали наперебой предлагать свои услуги, чтобы помочь ему одеться.
Комиссар, поначалу изумленный всеми этими почестями, онемел от ужаса, узнав принца по знакам его достоинства. Упав к ногам Его высочества, он стал умолять о пощаде, на что принц ответил: «Успокойтесь, я не буду вас строго наказывать». Затем он приказал построить всех девок таким манером, чтобы они показывали голый зад честной компании. Комиссар со свитой все еще не могли понять, что их ждет. Им было велено раздеться до рубашек, а затем все они поочередно со свечой в руках принесли публичное покаяние филейной части этих девиц. Исполнено сие было с соблюдением полагающегося церемониала.
* * *
Вот каковы были развлечения Месье. Вполне понятно, что мадам Генриетта глубоко страдала и желала избавиться от шевалье де Лоррена, непременного участника и организатора всех этих бесчинств. Однако Месье не хотел расставаться с фаворитом: на упреки Генриетты он отвечал грязными оскорблениями, и между обоими супругами постоянно происходили ужасные сцены. Однажды у него сдали нервы; он стал топать ногами, разорвал скатерть, опрокинул кресла и закричал:
– Если вы не оставите в покое моего друга, отошлю вас в Англию.
Потрясенная Генриетта побежала к королю, чтобы уведомить его об этой угрозе. Людовик XIV необычайно взволновался.
В самом деле, вот уже два года он пытался заключить союз против голландцев с Карлом II Английским, братом Генриетты. Мадам, которую английский король нежно любил, выступала в роли посредника и вела, не уведомляя о том Месье, тайную переписку двух монархов, поскольку послов решено было не привлекать. Несколько раз, благодаря ее тонкой дипломатии, удавалось благополучно улаживать возникшие недоразумения. В таких обстоятельствах развод мог иметь самые катастрофические последствия: Англия в отместку окончательно перешла бы на сторону Голландии и Испании, создав таким образом коалицию, крайне опасную для Франции.
– Шевалье де Лоррен настраивает мужа против меня, – сказала Мадам.
Этот молодой Гиз уже давно раздражал Людовика XIV Король ставил ему в вину не только оргии в замке Сен-Клу, но и то, что Месье, являясь ко двору, всегда вел себя с подчеркнутым высокомерием и дерзостью. Монарх ждал только предлога, чтобы удалить от брата фаворита, оказывающего столь вредоносное влияние. Вскоре ему представился случай, не имевший никакого отношения к распрям Месье и Мадам.
В конце января 1670 года скончался епископ Лангрский, оставив два богатых аббатства, принадлежавших к уделу Орлеанского дома. Месье тут же передал их своему другу, даже не посоветовавшись с королем, который не терпел вольностей подобного рода. Он сказал брату, что не дает согласия на этот дар. Взбешенный Месье, подстрекаемый Гизом, объявил, что собирается покинуть двор, причем позволил себе тон, оскорбительный для любого монарха.
Вместо ответа Людовик XIV 30 января приказал арестовать шевалье де Лоррена в Сен-Жермене…
Узнав эту новость, Месье испустил пронзительный крик и лишился чувств. Его тут же окружили остальные миньоны, стали хлопать по щекам, поднесли к носу нюхательную соль, смочили лоб водой – и он пришел в себя, дабы немедленно разразиться потоком слез.
Немного оправившись, он велел зажечь факелы и прямо среди ночи отправился к королю. Это была смехотворная сцена: принц махал руками, стонал, плакал, заикался от гнева, взывая к Людовику XIV, который оставался непреклонен.
– Верните мне шевалье де Лоррена.
– Нет.
– Ах, так! Тогда я уезжаю. Я отправлюсь в замок Вийе Котре и заберу с собой жену.
Король отпустил брата без малейших возражений, но был крайне раздосадован. В самом деле, из-за истерики Месье он лишился преданного друга и союзницы, а главное, под ударом оказались все дипломатические усилия, ибо именно сейчас ему была необходима Генриетта, чтобы прийти к соглашению по самым деликатным статьям договора. Предполагалось, что Мадам, уже получившая приглашение брата, отправится в Англию в конце весны.
Разумеется, Месье понятия не имел об этих планах и не подозревал, в какое затруднительное положение он ставит короля.
На рассвете 31 января Месье вместе с Генриеттой и свитой выехал в направлении Суассона, а шевалье де Лоррен был тем временем отправлен в Лион.
В Вийе Котре Генриетте пришлось очень тяжко, поскольку Месье считал ее причиной опалы молодого Гиза. Почти каждый день он получал письмо от фаворита, дышавшее злобой к Мадам, а вечером происходили ужасные сцены, которые обыкновенно кончались слезами. Вскоре супруги прекратили делить ложе.
В Англии уже начали беспокоиться за судьбу Генриетты, и Карл II написал Людовику XIV, выражая неудовольствие по поводу обращения с его сестрой.
Король, чрезвычайно расстроенный таким оборотом дел, приказал поместить шевалье де Лоррена в каземат замка Иф, содержать его там в примерной строгости и пресекать всякую попытку сообщения с внешним миром.
Месье был, наконец, огражден от влияния злобного миньона, и Генриетта могла вздохнуть с облегчением.
Если бы она знала, что ее ждет!..
Любовь маршала Тюренна становится причиной смерти Генриетты Английской
В суровой груди маршала билось сердце белошвейки.
Робер МикельЛишившись писем своего фаворита, Месье поначалу впал в глубочайшую скорбь. Лежа ничком на постели в запертой комнате, он время от времени оглашал дом пронзительными воплями, от которых вздрагивали стены и ежились слуги.
Это продолжалось примерно неделю, и все обитатели Вийе Котре дружно делали вид, что ничего не слышат. Таковы были требования хорошего тона.
Но время бежит быстро, благотворно воздействуя на страсти и на рассудок. Настал день, когда брат короля вдруг умолк. В самом деле, посреди рыданий он внезапно осознал, что вернуть свободу шевалье де Лоррену может только покорность.
И когда Кольбер, посланный королем, которому никак нельзя было обойтись без своей посредницы, передал Месье распоряжение вернуться ко двору, тот не сделал ни малейшего возражения.
Вечером 24 февраля он прибыл в Сен-Жермен. Брат встретил его с распростертыми объятиями, и он обосновался в замке Шато-Неф.
Мадам немедленно возобновила свои тайные совещания с Людовиком XIV. Каждый вечер они закрывались на несколько часов, исправляя, изменяя и улучшая каждый параграф будущего договора.
Однако ей приходилось отвечать на бесчисленные вопросы Месье: тот исходил ревностью, подозревая, что от него прячут какой-то секрет.
– Чем вы занимались у короля?
– Мы говорили об охоте.
Эти предосторожности были необходимы, чтобы держать в неведении Голландию и Испанию, ибо Месье, если верить Сен-Симону, «был болтливее многих женщин, вместе взятых, и не способен был хранить тайну».
Поэтому ему ничего не сообщали о предполагаемом путешествии в Англию. Людовик XIV собирался посетить вместе с двором недавно завоеванную Фландрию: оказавшись в Дюнкерке, король предложит Генриетте, как если бы ему только что пришло это в голову, навестить брата, который уже давно призывал к себе сестру. Благодаря этой маленькой хитрости Месье никогда не узнает о том, какую политическую роль сыграла его жена.
Наконец, чтобы окончательно успокоить брата и заставить его забыть о возвращении в Вийе Котре, Людовик XIV отдал распоряжение освободить шевалье де Лоррена.
Месье, не помня себя от радости, горячо поблагодарил короля.
Казалось, в этом хитроумном плане не было изъянов. Людовик XIV не принял в расчет любовь…
* * *
Миньон не стал задерживаться в Марселе. Полный ненависти к Мадам, которую считал виновницей своего заточения, он перебрался в Рим и вновь стал слать письмо за письмом брату короля. От друзей он получал подробнейшие известия обо всем, что происходило при дворе, и в руках его снова оказались ниточки, при помощи которых он управлял надушенной марионеткой, имевшей титул Месье.
Последний вошел однажды в кабинет Людовика XIV со злым огоньком в глазах и с мрачным выражением лица..
– Я только что узнал, – сказал он, – что вы готовитесь послать мою жену в Англию. Мне известно, о чем вы тайно совещались, но я пришел спросить вас, почему мне ничего об этом не сказали? Значит, меня считают нескромным или неспособным? Вы сделали из меня посмешище, и этого оскорбления я никогда не прощу. Если вы повелитель королевства, то я повелитель моей жены, и я запрещаю ей ехать в Англию.
С этими словами Месье, повернувшись на каблуках, направился к выходу, а Людовик XIV в смятении смотрел ему вслед. Он был ошеломлен, подавлен. Кто же мог выдать тайну? Только четверым был известен «английский проект»: Лувуа, Тюренну, Лионну и Мадам. Король счел виновной Мадам…
Он приказал послать за ней.
– Сестра, мы меня предали, – сказал он. – Брат мой знает секрет, а это значит, что мой секрет гуляет в ваших покоях.
Генриетта поклялась, что никому не доверяла тайну, поэтому проговориться никто не мог.
Король, весьма заинтригованный, призвал к себе Месье, дабы выяснить эту загадку. Желая задобрить брата, он рассказал ему, что с Англией вскоре будет заключен договор. Месье, польщенный этой фальшивой откровенностью, признался тогда, что узнал новость о путешествии Мадам от шевалье де Лоррена.
– Кто же ему рассказал? – спросил король.
– Мадам де Коакен.
Людовик XIV понял все. Этой обворожительной молодой особе, бывшей некогда любовницей шевалье де Лоррена, удалось пробудить безумную страсть в старом сердце маршала де Тюренна. Великий полководец совершенно потерял голову от любви: не было никаких сомнений, что именно он выдал тайну. Зная, что Мадам собирается взять с собой свиту из хорошеньких придворных дам, и желая угодить своей любезной, он рассказал о путешествии и прибавил, что добьется ее включения в эскорт.
Король, призвав к себе Тюренна, обратился к нему напрямик и без подготовки.
– Признайтесь мне, как своему исповеднику. Вы говорили кому-нибудь о моих намерениях относительно Голландии и о путешествии Мадам в Англию?
– Как, сир, – произнес, запинаясь, Тюренн, – неужели о секрете Вашего величества стало известно?
– Это не имеет значения, – продолжал настаивать король, – вы об этом кому-нибудь говорили?
– Разумеется, я не проронил ни слова о ваших намерениях относительно Голландии, – ответил Тюренн. – Я скажу Вашему величеству всю правду. Мадам Коакен опасалась, что ее не возьмут в свиту, и я обещал оказать ей содействие. А чтобы она подготовилась заранее, я упомянул о намерении Мадам повидаться со своим братом королем. Но больше я ничего не говорил и прошу прощения у Вашего величества за допущенную мной оплошность.
Король, засмеявшись, спросил:
– Так вы, значит, влюблены в мадам де Коакен?
– Нет, сир, – отвечал Тюренн, – вовсе нет, но она принадлежит к числу моих близких друзей.
– Хорошо, – сказал король, – что сделано, то сделано. Но больше ничего ей не рассказывайте. Если же вы ее любите, то мне придется огорчить вас: она влюблена в шевалье де Лоррена, обо всем его уведомляет, а тот из Рима оповещает моего брата…
Смущенный Тюренн еще раз попросил прощения и удалился, пристыженно понурив голову.
Король же несколько успокоился, поскольку дипломатические его переговоры оставались тайной для всех, и приказал готовиться к поездке во Фландрию.
28 апреля 1670 года двор со свитой в три тысячи человек выехал из Сен-Жермена. Месье, подстрекаемый Гизом, продолжал дуться. Он принял твердое решение не пускать жену в Англию, раз его самого не допускали к переговорам; а во время путешествия всячески старался уколоть Мадам. Однажды ей нездоровилось, и он объявил:
– Мне было предсказано несколько жен, и я в это верю. Мадам в таком состоянии, что, судя по всему, долго не проживет, и ей было предсказано, что она скоро умрет…
Эти слова не остались незамеченными, и через некоторое время придворным пришлось о них вспомнить.
В Куртре Генриетта получила официальное приглашение от своего брата. Карл II по чистой случайности предпринял прогулку к берегам Ла-Манша и передал, что будет счастлив повидаться с сестрой в Дувре.
Месье сделал попытку удержать жену при себе. В дело вмешался сам король:
– Мадам поедет в Англию. Такова моя воля.
И Генриетта отправилась в Дюнкерк, тогда как брат короля заперся в своей комнате, чтобы привести в порядок расстроенные нервы.
Морская прогулка оказалась чудесной, и все путешественницы были в восторге. В свите Мадам находилась восхитительная двадцатилетняя блондинка, которую звали Луиза де Керуаль, – ей предстояло сыграть весьма существенную роль в переговорах. Сам король выбрал ее, зная влюбчивую натуру Карла II. Он полагал, что для Лондона не найти лучшего посла, чем красивая, распутная и хитрая француженка.
Генриетта провела в Англии две недели. 1 июня был подписан Дуврский договор, скрепивший союз Франции и Великобритании против Голландии.
Это была большая дипломатическая победа. Мадам, гордясь делом рук своих, возвратилась в Сен-Жермен 18 июня, осыпаемая похвалами и покрытая славой. В постели своего брата Карла II она оставила молодую Луизу де Керуаль, которая эффективно продолжала укреплять англо-французскую дружбу…
* * *
После подписания Дуврского договора у Месье открылись глаза. Обнаружив, что его опять провели, и ревнуя к Генриетте, которой доверили важное государственное дело, он написал горькое письмо шевалье де Лоррену.
Тот понял, что ему никогда не вернуться в Сен-Жермен, если его ненавистница еще более усилит свое влияние при дворе. Тогда он раздобыл итальянский яд неизвестный во Франции, и отправил его с верным человеком в Сен-Клу. 30 июня Мадам стало плохо, и в тот же день она умерла…
Вот как мадам де Лафайет описывает начало болезни, которая свела в могилу Генриетту Английскую: «Покинув Буафран, принцесса приехала к мадам де Мекельбур. Пока они разговаривали, мадам де Гамаш принесла подслащенной воды, которую Мадам незадолго до того попросила; ее камеристка, мадам де Гурдон, подала ей чашку. Она выпила и едва успела поставить чашку на блюдце, как, схватившись рукой за бок, произнесла голосом, выражавшим глубокую муку: «О, как мне больно! Я этого не вынесу!»
Говоря эти слова, она покраснела, а мгновение спустя побелела, как полотно, что всех нас испугало; она продолжала стонать и велела, чтобы мы ее уложили, сказав, что не может держаться на ногах.
Мы взяли ее под руки, она с трудом передвигала ноги и шла согнувшись. Ее быстро раздели, я поддерживала ее, пока ей расшнуровывали корсаж. Она тяжело дышала, и я заметила, что в глазах ее стоят слезы. Меня это поразило и тронуло, ибо я знала, что никого нет терпеливее, чем она.
Целуя ей руки, я сказала, что она, должно быть, сильно страдает; она ответила, что этого даже представить нельзя. Ее уложили в постель, но она стала кричать еще сильнее, чем раньше, и начала метаться из стороны в сторону, как человек, которому приходится испытывать невыносимую боль. В это время уже послали за ее лейб-медиком, г-ном Эспри. Он пришел и, объявив, что это желудочные колики, прописал лекарства, обычные при подобных обстоятельствах. Однако страдания Мадам не уменьшались. Она сказала, что болезнь ее серьезнее, чем все думают, что она умирает, чтобы немедля послали за священником…
Все, о чем я рассказываю, произошло меньше чем за полчаса. Мадам продолжала кричать и говорила, что у нее страшно болит живот. Внезапно она велела осмотреть ту воду, которую пила, говоря, что в ней был яд, что бутылки перепутали, что ее отравили, она в этом уверена, и ей нужно дать противоядие…
Я стояла в алькове рядом с Месье. И хотя я считала его неспособным на такое преступление, любопытство, присущее испорченной человеческой натуре, заставило меня внимательно поглядеть на него. При словах Мадам в лице его не выразилось ни удивления, ни смущения…»
Несколько часов спустя, после мучительной агонии, Мадам скончалась, несмотря на все усилия беспомощных врачей.
Хотя мадам де Лафайет великолепно описала симптомы неожиданной болезни и на сей счет существует несколько точных свидетельств других современников, некоторые историки все-таки полагают возможным оспаривать тот факт, что Генриетту Английскую отравили. Однако сейчас нам достоверно известно, как все это произошло.
Шевалье де Лоррен, ставший в Риме любовником Марии Манчини (которая после замужества с коннетаблем Колонна превратилась в весьма пылкую особу), завел знакомство со всеми авантюристами и проходимцами, посещавшими дом экзальтированной красавицы. Стало быть, ему ничего не стоило сойтись поближе с одним из подозрительных знахарей или колдунов, которые снабжали ядами итальянскую знать. Ибо на полуострове отравление процветало. Каждый месяц на кладбище отправлялось множество жен, мужей, любовников и конкурентов. По окончании официальных торжественных обедов нередко можно было видеть, как влиятельный политик вдруг оседал в кресле, отведав отравленного десерта; а во время конклавов кардиналы, имевшие шанс на избрание, погибали, как мухи, под воздействием смертельных порошков или эссенций.
Отравление стало фактом обыденной жизни, и его даже не считали за преступление. Это было одним из способов обеспечить себе спокойную жизнь.
Впрочем, о приличиях не забывали, и алхимики непрерывно совершенствовали яды, дабы их нельзя было обнаружить в организме жертвы. Некоторые из них были медленного действия, подобно знаменитому яду Борджиа, убивавшему в точно назначенный день; другие поражали мгновенно и приготовлялись совершенно ужасающим образом, если верить некоторым авторам. Алхимик отравлял свинью; затем туша несколько дней разлагалась; затем жидкость, исходившая из гниющего тела, подвергалась перегонке, и экспериментатор получал несколько капель яда, обладавшего сокрушительной силой.
Добыв один из таких ядов, шевалье стал размышлять, как переправить его во Францию. Сначала он подумал о своем брате Марсане, который приехал к нему в Рим, но тот не смог бы вернуться в Сен-Жермен, не привлекая к себе внимания. Здесь требовался человек, никому не известный.
В конце концов шевалье де Лоррену удалось отыскать исполнителя, подходящего во всех отношениях: это был уроженец Прованса по имени Антуан Морель – малый умный, хитрый и развращенный.
Чтобы отвести от него подозрения, ему вручили послание, исходящее от Ватикана. Правда, Гизу с братом и Морелю оставалось решить еще один важный вопрос. Послушаем принцессу Пфальцскую, которая узнала всю подноготную этого дела, став второй женой Месье: «Когда негодяи составили план, как отравить несчастную Мадам, они принялись совещаться, следует ли им предварительно уведомить Месье. Шевалье де Лоррен сказал: «Нет, не надо ему ничего говорить, он не сможет промолчать. Если он не проговорится в первый год, то отправит нас на виселицу через десять лет». Поэтому они уверили покойного Месье, что голландцы отравили Мадам медленным ядом, который подействовал в назначенный день».
Приехав в Париж, Морель узнал, что Месье с Мадам отправились на лето в свой замок Сен-Клу. Тогда он тайно встретился с маркизом д’Эффиа, соратником Гиза по многим кутежам, передал ему яд, и исчез.
Настала очередь дЭффиа действовать. Каким образом удалось ему подсунуть смертельную отраву Генриетте Английской? Обратимся вновь к свидетельству принцессы Пфальцской: «Д’Эффиа, – пишет она, – отравил не подслащенную воду Мадам, а ее чашку, что было чрезвычайно хитро придумано, ибо другие могли тоже попробовать эту воду, тогда как никто не пьет из чужой чашки.
Камердинер состоявший при Мадам, а затем и при мне (сейчас он уже умер), рассказывал, что в то утро, когда Мадам и Месье были на мессе, д’Эффиа подошел к буфету, взял чашку и вытер ее изнутри бумагой. «Сударь, – спросил его слуга, – что вы делаете возле нашего шкафа и зачем вы трогаете чашку Мадам?» Тот ответил: «Я умираю от жажды. Мне захотелось попить, и, видя грязную чашку, я вытер ее бумагой». После полудня Мадам попросила подслащенной воды. Едва сделав глоток, она крикнула, что ее отравили. Те, что были при ней, пили эту же воду, но из других чашек, вот почему с ними ничего не случилось. Мадам пришлось отнести в постель, ей становилось все хуже, и через два часа после полуночи она умерла в страшных мучениях. Когда хотели осмотреть чашку, то обнаружили, что она исчезла. Затем ее все-таки нашли. Ее нужно было прокалить на огне, чтобы очистить от яда».
* * *
После смерти герцогини Людовик XIV погрузился в глубочайшую скорбь. Подозревая отравление, он уже 30 июня предпринял собственное расследование, и вечером Бриссак привел к нему Пюрнона, главного мажордома Мадам.
Увидев его, король тотчас отослал Бриссака и своего камердинера. На лице его появилось такое выражение и заговорил он таким тоном, что любой бы устрашился:
– Друг мой, – сказал король грозно, – если вы мне во всем признаетесь и скажете правду о том, что я хочу узнать, то я прощу вам, что бы вы ни совершили, и никогда больше речи об этом не будет. Но берегитесь, если сделаете попытку скрыть от меня хоть что-нибудь, потому что в этом случае вы умрете раньше, чем выйдете отсюда… Мадам была отравлена?
– Да, сир, – ответил тот.
– Кто отравил ее, – спросил король, – и каким образом это было сделано?
Тот ответил, что сделано это по распоряжению шевалье де Лоррена, который послал яд Беврону и д’Эффиа. Тогда король, удвоив и ласки, и угрозы, задал вопрос:
– А мой брат? Знал ли он об этом?
– Нет, сир, среди нас троих не нашлось глупца, чтобы рассказать ему; этой тайны он не знает, иначе он мог бы нас погубить.
Услышав этот ответ, король громко сказал «А!», как человек, которому удалось сбросить страшную тяжесть и вздохнуть полной грудью.
– Хорошо, – произнес он, – это я и хотел узнать. Затем он приказал отвести этого человека куда-нибудь подальше и отпустить на все четыре стороны…
Убедившись, что Мадам действительно была отравлена, король испугался не на шутку. Действительно, он сразу подумал о Дуврском договоре: англичане непременно разорвут его, если узнают об отравлении своей дорогой принцессы. Всех политических последствий этого преступления невозможно было даже предвидеть. Любой ценой нужно было уверить двор, что Мадам умерла естественной смертью.
На глазах у всех Людовик с должной торжественностью распорядился произвести вскрытие, но на тайном совещании с врачами приказал не искать следов яда.
Медики подчинились: было объявлено, что Мадам умерла от холеры, и Карл II Английский сделал вид, что верит этой сказке. Дело рук Мадам – Дуврский договор – было спасено…
Поскольку никто не должен был подозревать о преступлении, король, естественно, не мог привлечь к ответу виновных. Напротив, через несколько лет он разрешил шевалье де Лоррену вернуться ко двору.
Месье встретил своего друга с нежностью…
Любовь старой девственницы мадемуазель де Монпансье
По ее наущению Король-Солнце погрузил Лозена во мрак…
Леон ФушеНа следующий день после смерти Мадам Людовик XIV, призвав к себе мадемуазель де Монпансье, сказал ей:
– Кузина, появилось свободное местечко, не хотите ли занять его?
Мадемуазель побледнела. Конечно, она все еще пребывала в девственницах на сорок втором году жизни и страдала от этого мучительными мигренями, но у нее не было никакого желания вручить гомосексуалисту сокровище, которое она с такой убежденностью хранила в течение многих лет. Сверх того она прониклась страстью, заставлявшей трепетать ее чресла, к молодому Антонену Нонпару де Комону, герцогу де Лозену. Это был признанный донжуан эпохи, и она намеревалась выйти за него замуж.
Через несколько дней Лозен навестил ее. Притворившись, что не замечает влюбленных взоров, он сказал ей:
– Король хочет, чтобы вы стали женой Месье. Вам следует подчиниться. Подумайте о том, какое положение, занимает Месье – выше него стоят только король и монсеньор дофин; а перед вами будет только королева, вы будете окружены всеобщим благоговением. Король будет заходить к вам каждый день. В вашу честь станут задавать балы, ставить комедии, словом, вы окажетесь царицей всех увеселений.
Мадемуазель де Монпансье, которая жаждала менее невинных развлечений, обиженно возразила герцогу:
– Вы забыли, что мне уже не пятнадцать лет, а то, о чем вы говорите, – это забавы для детей.
Вот уже десять месяцев она скрывала безумное желание и страшно мучилась, поскольку даже ночью ее настигали нечистые сны. Вот и теперь она сочла за лучшее скромно потупиться, а затем отправилась к королю объявить о своем решении не выходить замуж за Месье. После чего сразу же вернулась к Лозену:
– С делом Месье покончено, и слава богу. А вот с вами мне надо поговорить.
Ее глаза сияли, в ее угловатой неловкости, напоминавшей застенчивость впервые влюбившейся девочки, было что-то трогательное. Она не знала, как сказать Лозену, что выбрала его себе в мужья, и строила ему глазки в надежде, что он сам поможет ей сделать первый шаг. Но хитрый гасконец, которому очень нравилось приданое возлюбленной, ожидал ее признания с невинным видом.
Мадемуазель де Монпансье, ерзая, как подросток в неблагодарном возрасте, наконец решившись, воскликнула:
– Господин де Лозен, я хочу открыть вам один секрет: пока король воображал, что меня можно выдать замуж за Месье, я уже выбрала себе мужа…
– Это просто превосходно!
– И вы не спросите, как его зовут?
– Я не смею.
Мадемуазель де Монпансье нервно захихикала:
– Разрешаю вам задать мне этот вопрос…
– Мне неловко злоупотреблять вашим доверием.
– Раз вы боитесь меня спросить, я скажу вам сама. Это…
– Это?
– Не могу…
– Так скажете мне завтра, – предложил вежливый Лозен.
Старая девственница Фронды была суеверна.
– Завтра нельзя, потому что пятница. Подойдите поближе, я подую на зеркало и напишу на нем.
Она выдохнула на блестящую поверхность и начала выводить: «Это…» Затем она резким движением стерла слово, говоря:
– Нет, не могу, решительно не могу!
Эта уморительная сцена продолжалась более двух часов. В полночь воспитанный герцог откланялся. Тогда старшая мадемуазель, проклиная себя за робость, схватила листок бумаги, написала «Это вы» и торопливо запечатала.
На следующий день она передала записочку объекту своих любовных грез. Лозен, прочитав написанные два слова, опечалился и сделал вид, что глубоко обижен тем, что над ним насмехаются. Трепеща от волнения, мадемуазель де Монпансье поклялась, что ничего не может быть серьезнее.
Тогда герцог с тоской взглянул на морщинистую и долговязую старую деву, потерявшую половину зубов и начавшую седеть. Ее двойной подбородок не способствовал вдохновению, и Лозен, как ни силился, не смог выдавить из себя ни одного комплимента.
К счастью, мадемуазель де Монпансье приписала эту сдержанность робости и принялась строить планы на будущее. Далее все стало развиваться стремительно. Через несколько дней, получив согласие жениха, она написала королю письмо, прося разрешения на этот брак.
Вот что оно гласило:
«Ваше величество удивится, узнав, с какой просьбой я обращаюсь, а именно: я хочу выйти замуж… Замужество есть вещь столь обыденная, что, полагаю, никому не придет в голову бранить меня за подобное намерение. Мой выбор пал на г-на де Лозена; более всего мне понравились в нем его достоинства и преданность Вашему величеству».
Надо полагать, в последней фразе мадемуазель не сказала всей правды, но ее не следует винить, ибо в письме обо всем не расскажешь…
* * *
Людовик XIV весьма холодно относился к Лозену, который некогда был любовником мадам де Монтеспан. Он призвал к себе кузину и сказал ей:
– Вы уже в том возрасте, когда можно отличить хорошее от дурного; мне не хотелось бы вас ни к чему принуждать. Я не стану ни помогать счастью г-на де Лозена, исходя из ваших интересов, ни вредить ему. Я вам ничего не советую и ничего не запрещаю; я просто прошу вас как следует все обдумать. Многие не любят г-на де Лозена. Примите это к сведению.
Эти разумные слова ни к чему не привели, ибо 15 декабря герцоги де Монтозье и де Крекч, маршал д’Альбре и маркиз де Гитри пришли к королю просить руки мадемуазель для маленького гасконца.
Людовик XIV, желая дать пример, что простой дворянин, имеющий заслуги, может жениться на принцессе королевской крови, удовлетворил их просьбу. Вскоре об этом узнал изумленный Париж, и мадам де Севинье сообщила дочери «о новости самой удивительной, самой неслыханной, самой поразительной, самой сказочной, самой оглушительной, самой невероятной, самой восхитительной, самой чудесной, самой ослепительной, самой потрясающей, самой изумительной» в своем остроумном письме.
Взбешенные принцы и принцессы крови восприняли этот брак не только как грандиозный мезальянс, но и как личное оскорбление, нанесенное им всем.
Месье заявил, что мадемуазель де Монпансье следует отправить в Птит Мезон, а принц де Конде пообещал, что выкинет Лозена из окна. Однако ничто не могло сравниться с яростью мадам де Монтеспан.
В самом деле, ей было трудно смириться с мыслью, что бывший любовник, женившись на богатейшей наследнице Европы, станет кузеном короля, герцогом, пэром и обладателем неисчислимых благ, тогда как она всего лишь фаворитка, судьба которой зависит от постоянства короля…
Тем же вечером она подступила к Людовику XIV с упреками за снисходительность и потребовала помешать этому браку.
Король, всецело подпавший под чары этой обольстительной женщины, чьи таланты расцветали под простыней, обещал не раздумывая.
Мадам де Монтеспан не в первый раз подкладывала свинью Лозену. Несколько лет назад ее «заступничество» перед королем привело к тому, что герцога обошли в важном назначении. Он узнал об этом поразительным способом. Послушаем Сен-Симона: «Не понимая, в чем причина неудачи, он прибегнул к средству совершенно невероятному, но весь тогдашний двор это подтверждает.
Он спал с камеристкой фаворитки (мадам де Монтеспан), поскольку не брезговал ничем, чтобы быть в курсе происходящего и прибегать к покровительству важных особ; и тогда он совершил самую дерзкую выходку, о которой я когда-либо слышал. Король, имея столько любовных связей, ночевать всегда приходил к королеве, иногда очень поздно, но никогда не позволяя себе от этого уклониться, а чтобы чувствовать себя свободнее, послеполуденные часы обычно проводил под простынями любовниц. Пюигийем (так звали тогда Лозена) с помощью камеристки спрятался под постель, на которую король вскоре лег с мадам де Монтеспан. Из их разговора он узнал, что Лувуа противился его назначению, что король разгневался, считая, что он ведет себя дерзко и за это не получит командование артиллерией, на которое рассчитывал. Он услышал также, что любовница, обещавшая ему свое заступничество, вместо этого всячески ему вредит. Кашель, малейшее движение, любая случайность могли бы обнаружить дерзкого, и что тогда с ним бы сталось? Когда рассказываешь о таких вещах, испытываешь ужас и одновременно не можешь удержаться от смеха.
Счастье оказалось сильнее неразумия, и он не был открыт.
Когда король с фавориткой оставили постель и спальню, Лозен выбрался из своего тайника и отправился на поиски мадам де Монтеспан, которой предстояло участвовать в репетиции балета.
Он взял ее под руку, ласково и почтительно осведомился, может ли он льстить себя надеждой, что она не забыла о своем обещании замолвить за него слово перед королем. Она стала уверять его, что неустанно напоминала о нем королю и сочинила в доказательство целую историю, как она совсем недавно защищала его и просила даровать ему обещанное назначение. Он же иногда прерывал ее, задавая доверчивые вопросы, чтобы она глубже заглотила крючок, а затем сказал ей на ухо, что она лгунья, мерзавка, мошенница, шлюха и повторил слово в слово разговор между ней и королем. Мадам де Монтеспан пришла в такое смятение, что не смогла ни слова вымолвить в ответ; с трудом добравшись до места, где могла бы скрыть дрожь в ногах и во всем теле, она все же не вполне пришла в себя и, оказавшись на репетиции балета, упала в обморок. Там уже собрался двор. Король, не скрывая испуга, бросился к ней; ее пришлось долго приводить в чувство.
Вечером она рассказала королю о том, что произошло, уверяя, что только дьявол мог так быстро и точно пересказать Пюигийему разговор, который они вели в постели. Король был весьма раздражен оскорблением, нанесенным мадам де Монтеспан, и заинтригован, каким образом удалось Пюигийему сразу же получить столь достоверные сведения».
* * *
С того дня мадам де Монтеспан дожидалась случая, чтобы отомстить, и такая возможность теперь представилась.
Дав обещание расстроить брак, король призвал к себе мадемуазель де Монпансье.
– Мне сказали, что я принес вас в жертву ради господина де Лозена. Это может повредить мне в глазах других государей.
Несчастная влюбленная бросилась в ноги Людовику XIV.
– Сир, вы убиваете меня!
Она умоляла, рыдала. Король был непреклонен.
– Короли должны прислушиваться к мнению своего окружения, – сказал он.
Мадемуазель вернулась в свои покои в полном отчаянии, немедленно легла в постель и целые сутки провела в полубессознательном состоянии. Через день она пришла в себя и в горести воскликнула: «Он был бы здесь! Он был бы здесь!» И страдальческим жестом указала на место рядом с собой. Увы, постель ее была по-прежнему пуста.
Прошло несколько месяцев, и при дворе полагали, что мадемуазель, на которую жалко было смотреть, все же сумеет уговорить короля…
Но все надежды оказались тщетными, и некоторые историки считают, что мадемуазель де Монпансье и Лозен обвенчались втайне. Один отрывок из воспоминаний мадемуазель де Монпансье может служить подтверждением подобных предположений: «Кругом говорили, что мы поженились, мы же ничего не отвечали, ни он, ни я. Разумеется, только ближайшие друзья осмеливались спрашивать нас, но мы только смеялись, ничего не добавив, кроме как: королю все известно…»
В конце осени мадемуазель де Монпансье казалась почти счастливой. Именно тогда по требованию мадам Монтеспан Лозен был арестован (это произошло в ноябре 1671 года) и препровожден в крепость Пиньероль, где уже томился суперинтендант Фуке. Он провел там одиннадцать лет. Одиннадцать лет. В течение которых бедная мадемуазель де Монпансье, вновь приговоренная к целомудрию, все больше и больше усыхала…
Но он был еще несчастнее, ибо условия в Пиньероле были весьма тяжкими. Правда, это не помешало ему несколько раз продемонстрировать свое мастерство соблазнителя. Так, он воспользовался визитом мадемуазель Фуке к отцу, чтобы стать ее любовником…
В 1681 году мадемуазель де Монпансье, не оставившая мысли освободить любимого человека, объявила, что готова сделать своим наследником герцога Мэнского, сына мадам де Монтеспан от короля. Фаворитке пришлась по душе подобная сделка, и Лозен покинул Пиньероль, где умер Фуке и куда уже доставили нового узника – Железную маску…
За одиннадцать лет мадемуазель де Монпансье сильно изменилась. Она еще больше стала напоминать драгунского капитана, и Лозен, чьи манеры явно не улучшились в Пиньероле, не смог скрыть разочарования. Он тут же стал волочиться за всеми юбками, насилуя пастушек, развлекаясь с девками и преследуя молоденьких белошвеек, словно пытался наверстать упущенное за время заключения. Естественно, мадемуазель де Монпансье вскоре донесли о поведении мужа. Разгневавшись, она накинулась на него с кулаками, исцарапала ему лицо и выставила за дверь. Они расстались…
Окончательно освободившись, Лозен целиком посвятил себя хорошеньким девочкам. А в 1695 году, два года спустя после смерти мадемуазель де Монпансье, он в свои шестьдесят три года женился на прелестной мадемуазель де Дюрфор, которой было всего четырнадцать.
Мадемуазель де Лавальер становится монахиней
Есть нечто страстное в раскаянии после любовной страсти.
Сент-ЭвремонВ 1671 году празднование карнавала при дворе превзошло все ожидания. Это было блестящее торжество. Во время маскарада в Тюильри более ста пятидесяти девиц потеряли девственность, а число обманутых мужей так возросло, что их невозможно было сосчитать – из чего следует заключить, что праздник вполне удался.
Однако многим дамам этого было мало: им хотелось бы еще большей свободы в эти дни, когда церковь, в неизреченной мудрости своей, дозволяет безумствам и разврату изливаться, дабы дать выход чувствам, которые приходится сдерживать весь год. К тому же многие грезили о восхитительных оргиях итальянского карнавала. В самом деле, посланники в Риме не уставали сообщать все новые подробности о праздничных бесчинствах, что сотрясали полуостров во время Скоромного вторника.
Маски, закидывая друг друга круглыми бумажками под названием «конфетти», обнимались и предавались любви прямо на улице, на мостовой и тротуарах, у порога домов и на лестницах, на чердаках и даже, если верить некоторым свидетельствам, на колокольнях… Среди обезумевшей толпы находились личности, которые совершенно безнаказанно сводили старые счеты, подкалывая то там, то здесь соперника или конкурента… Каждый освобождался тем самым от тяжести, лежавшей на душе, и обретал душевное равновесие, позволявшее жить счастливо до следующего карнавала…
Подобные истории настолько прельщали придворных дам, что некоторые из них поддались соблазну устроить маленький «итальянский карнавал» в собственном жилище – и уж тут позволяли себе самые немыслимые забавы.
Но все рекорды побила некая мадам де Фонбур, чей муж, правда, отсутствовал, находясь в действующей армии. Она пригласила около пятидесяти друзей, предложив мужчинам нарядиться женщинами, а женщинам – мужчинами. Когда все собрались, хозяйка провозгласила, что каждый должен дать полную свободу своим инстинктам и забыть на время о принадлежности к человеческой расе.
– Этой ночью, – добавила она, – мы будем необузданными и похотливыми животными.
Празднество началось под звуки скрипок и сразу приняло весьма специфический характер. Словно сговорившись, лжеженщины бросились к лжемужчинам и стали раздевать их опытной рукой, оставив им только черные полумаски, скрывавшие лица. Изумленные музыканты увидели тогда, как эти «дамы», которые и прежде казались подозрительными из-за бесстыдного поведения, проявляют горячий интерес к округлостям и промежностям обнаженных подруг. Во мгновение ока гостиная обратилась в альков. Возбуждение вскоре достигло крайнего предела, и начались более прихотливые забавы, которые затруднительно описать.
Начавшаяся оргия оправдала все ожидания мадам де Фонбур. Утром грациозная баронесса, дойдя до полного изнеможения, прикорнула на канапе. Вокруг нее набирались сил остальные гости, развалившись на коврах, на подушках, в креслах; и некоторые дамы, пребывая в объятиях Морфея, являли собой весьма нескромное зрелище.
Именно в этот момент в дом вошел вернувшийся из Фландрии г-н де Фонбур. Увиденное повергло его в изумление. Сей грубый вояка не отличался быстротой соображения, однако здесь сразу понял, что чести его нанесен непоправимый ущерб, и разразился такими яростными проклятиями, что все проснулись: дамы, устыдившись своего вида, попрятались кто куда, а кавалеры не раздумывая стали выпрыгивать из окон.
Испуганная мадам де Фонбур немедленно упала в обморок; но пара звонких пощечин быстро подняла ее на ноги…
* * *
Разумеется, подобное происшествие не могло не развеселить двор, и хотя уже наступила Пепельная среда, все утро придворные со смехом обсуждали подробности, принесенные музыкантами.
Но радостное оживление длилось недолго. Внезапно разнеслась ошеломительная новость: мадемуазель де Лавальер, тайно покинув Двор во время бала в Тюильри, отправилась на заре в монастырь Шайо…
Отчего это произошло? По очень простой причине: Луиза, униженная мадам де Монтеспан, заброшенная королем, придавленная горем и терзаемая угрызениями совести, решила, что только в религии может найти утешение.
Людовику XIV сообщили об этом, когда он уже собирался покинуть Тюильри. Бесстрастно выслушав новость, он поднялся в карету вместе с мадам де Монтеспан и мадемуазель де Монпансье, и многим показалось, что бегство Луизы оставило его совершенно равнодушным. Однако едва карета выехала на дорогу в Версаль, как по щекам короля потекли крупные слезы. Увидев это, Монтеспан зарыдала, а мадемуазель де Монпансье, которая всегда с охотой плакала в Опере, сочла за лучшее присоединиться к ней…
В тот же вечер Кольбер привез Луизу в Версаль по распоряжению короля.
Несчастная застала своего любовника в слезах и поверила, что он все еще ее любит, тогда как она была, говоря словами Бюсси Рабютена, «всего лишь ширмой для маркизы»…
Вновь началась совместная жизнь, а вместе с ней вернулись и прежние унижения. Правда, у Луизы вдруг появилась новая подруга – как ни странно, это была Мария-Терезия. Королева, которая также страдала, однажды пришла к бывшей сопернице, чтобы протянуть руку примирения, и теперь обе женщины могли плакать вместе, что у обеих всегда очень хорошо получалось…
В течение долгих месяцев Луизе пришлось исполнять роль жалкого прикрытия для связи короля с мадам де Монтеспан; она вынуждена была повсюду сопровождать двор: ее расстроенное лицо и покрасневшие глаза можно было видеть как в Версале и в Париже, так и во Фландрии. Время от времени Людовик XIV из жалости задерживался в ее спальне, но эти краткие мгновения удовольствия лишь усиливали раскаяние набожной Луизы.
Наконец, ей было нанесено оскорбление, которого она не вынесла. 18 декабря 1673 года в церкви Сен-Сюльпис король вынудил ее быть крестной матерью очередной дочери мадам де Монтеспан… Тогда Луиза и приняла самое важное решение в своей жизни.
Через несколько дней она отправилась в монастырь кармелиток предместья Сен-Жак, попросила объяснить ей устав этого ордена и выразила желание поступить в послушницы. Настоятельница в ответ поджала губы. Кармелитками могли стать девушки безупречного поведения, а не женщины со столь скандальной репутацией…
Луиза, понурив голову, возвратилась к себе, но на следующий день вновь пришла молить о разрешении поступить послушницей. Так продолжалось два месяца. Сердце настоятельницы дрогнуло, и она дала согласие.
Не помня себя от радости, фаворитка вернулась в свои роскошные покои и с этого, дня стала втайне носить власяницу…
Монастырь наконец открыл перед ней двери. Однако чтобы обрести покой, ей оставалось преодолеть еще одно тяжелейшее препятствие – уведомить короля о своем решении. «Я с легким сердцем удалюсь от мира и приму постриг, – писала она г-ну де Бельфону, – но мне бесконечно трудно заговорить об этом с королем».
Преодолев свои страхи, она в конце концов увиделась с возлюбленным. Свидание было кратким, и оба плакали. После этого она простилась с королевой, а 18 апреля 1674 года в последний раз ужинала в Версале.
19 апреля, после мессы, которую она отстояла рядом с плачущим королем, ей подали карету, и она отправилась в монастырь. Здесь она без тени сожаления облачилась в грубую шерстяную рясу, чтобы не снимать ее до конца жизни.
Вечером эта герцогиня, обитавшая а самых великолепных дворцах мира, легла спать в маленькой келье на дощатый топчан, прикрытый соломенным матрасом. Из мебели и предметов обихода здесь были только рабочий столик, табурет, тазик и кувшин с водой.
Со следующего дня она с жаром принялась исполнять самую тяжелую работу; ей приходилось вставать в пять утра, а ложиться в одиннадцать; все были потрясены ее мужеством и благочестием.
2 июня, в возрасте тридцати лет, она приняла постриг и стала милосердной сестрой Луизой. И это имя она будет носить до самой смерти, иными словами – в течение тридцати шести лет.
Возбуждающие средства мадам де Монтеспан
Никто не обращает внимания на факт чрезвычайной важности: Монтеспан в буквальном смысле слова отравляла Людовика XIV любовными напитками, возбуждающими похоть, и это продолжалось многие годы.
Луи Бертран10 апреля 1675 года около пяти часов вечера мадам де Монтеспан села в карету в Сен-Жермене и приказала везти себя в Версаль, где более тысячи рабочих трудились над возведением для нее замка, словно сошедшего со страниц волшебных сказок.
В двух шагах от дворца Людовика XIV фаворитка пожелала обрести собственное жилище, и архитекторы Жюль Ардуэн Мансар и Ленотр постарались ей угодить.
С удовлетворением отметив, что строительство замка приближается к концу и что будущие сады не уступят ему своим великолепием, маркиза, очарованная этим маленьким подарком короля, направилась в небольшую версальскую церковь.
Перед Пасхой ей нужен был снисходительный исповедник, и она полагала, что деревенский кюре не посмеет отказать в отпущении грехов могущественной фаворитке. Преклонив колени, она тихо назвала себя. Это произвело самый неожиданный эффект. Старый аббат грозно нахмурился.
– Как? – воскликнул он. – Вы и есть маркиза де Монтеспан, поведением которой возмущена вся Франция? Ступаите прочь, мадам, откажитесь от ваших преступных склонностей, а затем возвращайтесь, чтобы молить Господа о прощении.
Один из залов Версальского дворца
Взбешенная Франсуаза немедленно вернулась в Сен-Жермен и побежала жаловаться королю. Но в глубине души Людовик ощутил приязнь к этому исповеднику; в самом деле, монарх в течение всего поста являл признаки угрызений совести, подпав под влияние вкрадчивого красноречия проповедника Боссюэ.
Не зная, что ответить Франсуазе, нервозность которой его изрядно раздражала, он призвал проповедника, и тот, естественно, целиком и полностью одобрил поведение версальского собрата.
Мадам де Монтеспан вернулась в свои покои крайне недовольная. Едва за ней затворилась дверь, Боссюэ шепотом, от которого дрогнули стены, стал умолять короля покончить с постыдной связью. К этим просьбам тут же присоединился и Бурдалу.
– Ах, сир, – сказал он. – Скольких грешников, павших духом и отчаявшихся, могли бы вы спасти! Они стали бы говорить друг другу: «Вот человек, который погибал в разврате, подобно нам, но он обратился и смирил гордыню».
Это был чрезвычайно ловкий довод, ибо Людовик XIV в глубине души был набожен, и даже самые беспорядочные интрижки не могли отвратить его от религии. Проведя всю ночь в тяжких раздумьях, страшась, что его не допустят к исполнению пасхальных обрядов, он решил уступить священнослужителям. Бледный и расстроенный, он приказал мадам де Монтеспан покинуть двор…
* * *
Франсуаза впала в страшную ярость. Нанеся большой ущерб мебели, она призвала к себе Боссюэ и пообещала помочь ему обрести самое высокое положение в государстве, равно как и в среде церковных иерархов, если король переменит свое решение. Прелат вышел, не удостоив ее ответом.
Тогда фаворитка, внезапно попавшая в немилость, оставила Сен-Жермен и, спасаясь от насмешек, укрылась в своем парижском доме на улице Вожирар.
Двор пришел в волнение, а враги маркизы тут же принялись распевать непочтительные куплеты, в которых говорилось, что «шлюха изрядно повеселилась в Сен-Жермене, а теперь в Париже каждый из ее любовников может сыграть роль короля».
После разлуки с фавориткой Людовик XIV, причастившись перед Пасхой, обещал своему духовнику больше никогда не встречаться с мадам де Монтеспан. Казалось, он полностью покорился церкви. Однажды утром его сын, которому было четырнадцать лет, занимался под руководством Боссюэ; последний, заметив вошедшего короля, обратился к мальчику, возвысив голос:
– Избегайте соблазна удовольствия. Слабость сгубила многих великих государей!
Эта сентенция не отличалась глубиной и свидетельствовала скорее о дурном вкусе, но на короля она произвела впечатление. Взяв дофина за руку, он произнес:
– Сын мой, бойтесь пагубных увлечений и не следуйте в этом моему примеру.
Положительно, король совершенно преобразился, и добрые священники искренне радовались: они одержали великую победу.
Увы! Победа эта оказалась весьма недолговечной…
В Париже мадам де Монтеспан не сидела сложа руки. Готовая на все ради того, чтобы вернуть расположение монарха и одолеть влияние церковников, она решила, что лучшим способом будет заключить союз с дьяволом.
Ее верная подруга и сообщница Вуазен тут же ввела ее в одно из сатанинских обществ, которых тогда существовало множество. В них состояли в основном придворные, желавшие избавиться от соперников или от обременительных семейных уз. Эти красивые господа и прекрасные дамы возносили мольбы сатане на сходках, более напоминающих шабаш, – происходили подобные сборища в укромных местах и заканчивались обычно ужасающими оргиями.
Вполне понятно, что мадам де Монтеспан без всяких затруднений вступила в этот своеобразный круг.
Обратившись к опыту восьмилетней давности, она стала непременной участницей «черных месс», в ходе которых совершались чудовищные жертвоприношения. Она ложилась в обнаженном виде на алтарь, в полнолуние выходила в сад вместе с колдуньями и священниками-расстригами, дабы воззвать к помощи духов зла; наконец, постоянно посылала в Сен-Жермен любовные порошки, которые затем при посредстве подкупленных слуг подмешивались в пищу короля. Поскольку эти порошки содержали шпанскую мушку и прочие возбуждающие средства, Людовик XIV вновь стал бродить вокруг апартаментов молодых фрейлин, и многие девицы обрели, благодаря этому обстоятельству, статус женщины…
В конце концов, король безумно возжелал свою любовницу и попросил у Боссюэ разрешения поговорить с ней «по-дружески». Прелат, свято веривший королевскому слову, согласился, и встреча состоялась. Послушаем, как рассказывает об этом лукавая мадам де Кайлюс:
«Оставалось одно затруднение. Должна ли мадам де Монтеспан предстать перед королем без всякой подготовки? Следовало сделать так, чтобы они встретились заранее, иначе на людях могли бы произойти какие-нибудь неприятные неожиданности. Итак, было решено, что король зайдет к мадам де Монтеспан; но, дабы не давать ни малейшего повода для злословия, договорились, что свидание произойдет в присутствии уважаемых дам и что король ни в коем случае не должен уединяться с мадам де Монтеспан. Король зашел к ней, как и было условлено; затем он потихоньку увлек ее к окну: они довольно долго беседовали шепотом, оба плакали и говорили все то, что полагается в подобных случаях; потом они поклонились почтенным матронам и удалились в соседнюю комнату; за ними последовали мадемуазель де Блуа и граф Тулузский…»
Все завершилось благополучно для мадам Монтеспан, но она получила серьезное предупреждение. Твердо решив продолжать борьбу, она обратилась к нормандским колдунам, которые стали регулярно снабжать ее любовными напитками и возбуждающими средствами для Людовика XIV. В течение многих лет король Франции, не подозревая дурного, пребывал под воздействием наркотических препаратов, заказанных опасной истеричкой…
* * *
Зелье оказывало на короля более сильное воздействие, чем хотелось бы мадам де Монтеспан. Монарх стал испытывать ненасытную потребность в половой близости, в чем скоро пришлось убедиться многим фрейлинам.
Первой, на кого обратил внимание король, была Анна де Роган, баронесса де Субиз, восхитительная молодая женщина двадцати восьми лет, которая почтительно уступила не слишком почтительному предложению. Монарх встречался с ней в апартаментах мадам де Рошфор. Получая от этих свиданий бесконечное наслаждение, он старался действовать максимально осторожно, чтобы никто ничего не проведал, ибо красавица была замужем.
Но Людовик XIV терзался напрасно. В отличие от маркиза де Монтеспана, г-н де Субиз был хорошо воспитан и обладал покладистым характером. Сверх того, это был деловой человек. Увидев в своем бесчестье верный источник дохода, он не стал протестовать, а потребовал денег. «Гнусная сделка совершилась, – пишет Гран Картере, – и знатный негодяй, в баронскую мантию которого пролился золотой дождь, купил бывший дворец Гизов, получивший имя Субиз. Он сколотил себе миллионное состояние».
Когда кто-нибудь выражал восхищение его богатством, снисходительный муж отвечал с похвальной скромностью:
– Я здесь ни при чем, это заслуга моей жены…
Прелестная Анна Субиз была столь же алчной и ненасытной, как и ее супруг. Она облагодетельствовала всех родных: это семейство было осыпано милостями короля.
Из баронессы де Субиз фаворитка превратилась в принцессу де Субиз и сочла, что может теперь смотреть сверху вниз на мадам де Монтеспан. Это было не слишком умно с ее стороны. Маркиза, люто ревновавшая соперницу, побежала к Вуазен и раздобыла новое зелье, дабы отвратить Людовика XIV от Анны. Трудно сказать, стал ли этот порошок причиной опалы, но король внезапно оставил свою молодую любовницу и вернулся в постель Франсуазы.
Явление мадам де Субиз было столь же кратким, как блеск молнии. Все вошло в свою колею. Мадам де Монтеспан вновь обрела счастье. Как-то вечером она непринужденно положила голову на плечо друга. Похоже, этим нежным жестом она хотела сказать: «Мне хорошо, как никогда»…
Увы! продолжая пичкать короля возбуждающими средствами, она, конечно, получала в награду бурные ночи, но одновременно навлекала на себя новые неприятности. В конце 1675 года Людовик XIV, одарив своим расположением сначала мадемуазель де Грансе, а затем принцессу Марию Анну Вюртенбергскую, влюбился в камеристку Франсуазы. С тех пор, направляясь к фаворитке, король неизменно задерживался в прихожей, занимаясь вместе с мадемуазель дез Ойе не слишком пристойными забавами.
Та была слишком счастлива, чтобы держать язык за зубами. Позднее Прими Висконти напишет в своих «Мемуарах»: «Мадемуазель дез Ойе, доверенная камеристка мадам де Монтеспан, не скрывала, что король несколько раз оказывал ей внимание. Кажется, она даже хвасталась, что имела от этой связи детей. Она не отличалась красотой, но король оставался с ней, когда ее хозяйка была занята или больна. Эта дез Ойе говорила мне, что у короля было много забот и что он порой целыми часами просиживал у огня, о чем-то задумавшись и испуская тяжкие вздохи».
* * *
Мадам де Монтеспан очень быстро обнаружила, что ее опять обманывают. В ярости она поручила надежным друзьям обратиться к овернским знахарям и раздобыть у них зелье более сильное, нежели порошки Вуазен. Вскоре ей доставили таинственные флаконы с мутной жидкостью, которая затем оказалась в пище короля.
Впрочем, результаты обнадеживали: Людовик XIV, не терпевший однообразия, оставил мадемуазель дез Ойе, – и мадам де Монтеспан прониклась еще большей верой в силу любовных напитков. Она приказала приготовить другие возбуждающие средства, дабы вновь стать единственной любовницей короля, но добилась обратного.
В очередной раз монарх не смог удовлетвориться чарами фаворитки; ему понадобилась еще одна «сладостная плоть», чтобы утолить исступленное желание. Он вступил в связь с мадемуазель де Людр – изумительно красивой фрейлиной из свиты королевы. Увы! И эта женщина проявила нескромность, как явствует из записей Бюсси Рабютена: «Мадемуазель де Людр вызвала суматоху в Сен-Жер-мене и не на шутку напугала мадам де Монтеспан».
Маркиза, обуреваемая ревностью, стала изыскивать еще более сильные средства и в течение двух недель пичкала ими короля, который, надо признать, обладал могучим здоровьем, если ухитрялся переваривать препараты, содержащие в себе толченую жабу, змеиные глаза, кабаньи яички, кошачью мочу, лисий кал, артишоки и стручковый перец.
Как-то раз он зашел к Франсуазе, находясь под воздействием зелья, и подарил ей час наслаждения, о котором не в силах забыть ни одна женщина, если ей довелось пережить нечто подобное. После чего отправился к Марии-Терезии, с трудом переводя дух.
Недаром один из мемуаристов писал: «Если бы король знал, к каким средствам прибегает фаворитка, он мог бы использовать те же методы, чтобы избавиться от нее. Чары можно отвести способом, хорошо известным деревенским колдунам. Я прочел об этом в старом сборнике магических заклятий: «Если женщина приворожила мужчину, чтобы добиться его любви, а он хочет освободиться, то должен взять свою рубашку за воротник и правый рукав, а затем оросить ее собственной мочой. Тогда злые козни будут бессильны против него». Увы! король этого способа не знал…
Девять месяцев спустя, 4 мая 1677 года сияющая маркиза разрешилась от бремени дочерью, которую окрестили Франсуазой Марией Бурбонской. Впоследствии она была признана законной дочерью короля под именем мадемуазель де Блуа.
Итак, Франсуазе удалось закрепиться в прежнем качестве единственной любовницы? Вовсе нет, ибо прекрасная мадемуазель де Людр, желая сохранить свое «положение», решила сделать вид, что также забеременела от короля. Мадемуазель де Людр вела искусную игру, двор поверил, что она в тягости. Исходя из одного лишь предположения, что ее любит король, все принцессы и герцогини вставали при появлении новой фаворитки даже в присутствии королевы и садились по знаку мадемуазель де Людр, которая подражала в этом мадам де Монтеспан. Последняя же была вне себя от ярости.
Между двумя женщинами часто происходили ужасные сцены. Однажды утром король, возвращаясь с мессы, взглянул на мадемуазель де Людр и что-то мимоходом сказал ей. Когда днем эта дама пришла к мадам де Монтеспан, та чуть не задушила ее и обрушилась на нее с проклятиями.
Франсуаза уже заказала новое зелье у провансальских алхимиков. В ожидании она именовала соперницу «грязным отребьем» и рассказывала всем, что у той все тело в лишаях…
Наконец сообщники доставили ей коробку с серым порошком, и, по странному совпадению, Людовик XIV совершенно охладел к мадемуазель де Людр, которая окончила свои дни в монастыре Дочерей святой Марии в пригороде Сен-Жермен.
* * *
Однако монарх, излишне воспламенившись от провансальского препарата, вновь ускользнул от Франсуазы: по остроумному выражению мадам де Севинье, «опять запахло свежатиной в стране Quanto».
Среди фрейлин Мадам Людовик XIV разглядел восхитительную блондинку с серыми глазами. Ей было восемнадцать лет, и ее звали мадемуазель де Фонтанж.
Именно о ней аббат де Шуази сказал, что «она красива, как ангел, и глупа, как пробка».
Король немедленно ощутил сильнейшее желание. Однажды вечером, не в силах более сдерживаться, он покинул Сен-Жермен в сопровождении нескольких гвардейцев и отправился в Пале Рояль, резиденцию Мадам. Там он постучал в дверь условленным сигналом, и одна из фрейлин принцессы мадемуазель дез Адре, ставшая сообщницей влюбленных, проводила его в покои подруги. Таким образом он в первый раз овладел Фонтанж.
К несчастью, когда он на рассвете возвращался в Сен-Жермен, парижане его узнали, и вскоре мадам де Монтес-пан получила исчерпывающие сведения об этой любовной авантюре. Ярость ее не поддается описанию. Возможно, именно тогда ей и пришла в голову мысль отравить из мести как короля, так и мадемуазель де Фонтанж.
Это более чем правдоподобно. Многочисленные сообщники Вуазен обвинят ее в этом в следующем году, когда начнется следствие по делу отравителей.
Как бы то ни было, она вновь побежала к колдунье за порошком и получила ужасное зелье, которое, без всякого сомнения, должно было воздействовать скорее на внутренности, чем на сердце Людовика XIV.
Этот визит к отравительнице оказался последним. Вскоре, а именно 12 марта 1679 года, Вуазен была арестована по распоряжению Лувуа.
Через три дня мадам де Монтеспан, обезумев от страха, внезапно оставила Сен-Жермен и укрылась в Париже. Современники, не ведавшие о связях маркизы с колдуньей, неправильно истолковали это бегство и приписали его размолвке между любовниками: «Все говорят, – писал Бюс-се, – что в семействе случилась ссора из-за молодой фрейлины Мадам по имени Фонтанж. Кажется, король уже имел ее по обоюдному согласию, но надо подождать. После всей этой истории с Людр я не слишком верю в успешное продолжение новых связей…»
Спустя несколько дней Франсуаза, уверившись, что ее имя не было названо, слегка успокоилась и вернулась в Сен-Жермен. Однако по прибытии ее ожидал удар: мадемуазель де Фонтанж расположилась в апартаментах, смежных с покоями короля…
«Дело об отравителях»
Женщинам присуще большее постоянство в ненависти, нежели в любви.
ГольдошЧерез несколько дней странное действо совершалось в одном из подвалов Витри. Вокруг маленького столика, на котором стояла слепленная из белого воска статуэтка короля, собралось трое человек весьма подозрительного обличья.
Это были Гибур, Ла Уссе и еще один священник. Произнеся формулу магического заклятия, они стали колоть восковую фигурку булавками, читая при этом молитвы, которые при всем желании трудно было бы назвать католическими.
Сцена эта повторялась в течение девяти дней, и во время последней сходки три колдуна подожгли восковую фигурку. Король зашатался, рухнул, оплыл и превратился в белую пластинку, которую один из троих мужчин благоговейно поместил в шкатулку.
На следующий день шкатулка уже была в руках мадам де Монтеспан. Фаворитка спрятала ее в потайном ящике шкафа.
С тех пор как Франсуаза обнаружила на своем месте мадемуазель де Фонтанж, она твердо решила умертвить короля. Сначала ей пришло в голову устранить его при помощи прошения, пропитанного сильным ядом. Трианон, сообщница Вуазен, приготовила отраву столь сильную, что Людовик XIV должен был умереть, едва прикоснувшись к бумаге. Задержка помешала исполнению этого плана: мадам де Монтеспан, зная, что Ла Рейни после ареста отравительниц удвоил бдительность и усиленно охранял короля, решила в конечном счете прибегнуть к порче, а не к яду.
Однако в отношении мадемуазель де Фонтанж ее намерения не изменились, но она предпочла использовать медленный яд, дабы создалось впечатление, что соперница зачахла от горя и тоски после кончины короля.
Совершенствование медленных ядов было целью всех колдунов той эпохи, и мадам де Монтеспан уже в течение долгого времени производила ужасающие опыты. За несколько лет до этих событий Мадлен Шаплен, одна из сообщниц, снабжавших фаворитку наркотиками, отравила по ее приказу молодого лакея. У юноши началось обильное кровотечение, и его поместили в госпиталь Шарите: добрая хозяйка приходила к нему с визитом ежедневно, дабы собственными глазами видеть, как прогрессирует болезнь…
Через двенадцать дней несчастный умер, потеряв всю кровь, и Мадлен Шаплен была крайне расстроена. В самом деле, яд, оказал слишком быстрое воздействие на организм, а потому было опасно пользоваться им при устранении видного лица. Подобное кровотечение выглядело неестественным…
Неистощимые на выдумку сообщники маркизы применили новые составы, опробовав их на слугах, родственниках и знакомых. Наконец им удалось получить отраву, убивавшую в течение многих недель, не вызывая никаких подозрений у медиков.
* * *
Пока мадам де Монтеспан подбирала смертельное вещество для мадемуазель де Фонтанж, король с ужасом читал протоколы допросов Вуазен и ее приспешников. Убедившись, что королевство, пораженное гангреной магии, кишит колдунами, он принял решение действовать с чрезвычайной строгостью и учредил специальную комиссию, призванную беспощадно и сурово карать преступления и правонарушения, совершаемые при помощи яда.
Эта комиссия, заседавшая в Арсенале, получила название Огненной палаты, поскольку суды, вершившие дела по этим страшным преступлениям, происходили в те времена в зале с черной драпировкой и при свете факелов.
Узнав о создании комиссии, мадам де Монтеспан смертельно испугалась и на какое-то время затихла, опасаясь что-либо предпринимать. Но ненависть была сильнее осторожности, и вскоре она сговорилась с двумя негодяями (их звали Руманн и Бертран), в верности которых не сомневалась.
Было условленно, что Руманн проникнет в покой мадемуазель де Фонтанж под видом торговца тканями, а Бертран будет сопровождать его в качестве слуги. Все их товары были отравлены: полотняные простыни, шелковые занавеси, перчатки и прочее было «подготовлено» в соответствии с рецептами колдунов.
В последний момент маркиза, которой, вероятно, дали знать, что Ла Рейни вышел на след ее сообщников, приказала отложить визит к герцогине.
Тогда наступил момент короткой передышки: обе фаворитки, казалось, жили в добром согласии. Мадемуазель де Фонтанж делала подарки Франсуазе, а Франсуаза перед вечерними балами собственными руками наряжала мадемуазель де Фонтанж…
Людовик XIV, не подозревая о том, какой черный ангел обитает рядом с ним, оказывал внимание обеим своим султаншам и был, казалось, наверху блаженства… «Король, – говорит Прими Висконти, – живет с обеими фаворитками, словно в законной семье. Королева принимает их, равно как и внебрачных детей, так, будто это ее священная обязанность, ибо все должно происходить по воле монарха и в соответствии с заслугами каждой. Когда они слушают мессу в Сен-Жермене, то размещаются следующим образом: мадам де Монтеспан со своими детьми на возвышении слева, прямо перед всеми остальными, а мадемуазель де Фонтанж – справа; тогда как в Версале мадам де Монтеспан стоит по одну сторону от алтаря, а мадемуазель де Фонтанж – по другую, на высоких ступенях. Они молятся, перебирая четки или держа в руках молитвенник, поднимают в экстазе глаза к небу, Точно святые. Поистине, французский двор являет собой самую прекрасную комедию в мире…»
Но за этой комедией назревала драма. Молодость и изящество мадемуазель де Фонтанж приводили в исступление маркизу, достигшую сорокалетнего рубежа и страшно растолстевшую. «Она так раздалась, – пишет все тот же Прими Висконти, – что однажды, когда она выходила из кареты, я обратил внимание, что каждая из ее ног была толщиной с меня».
Правда, галантный итальянец добавляет: «Справедливости ради должен сказать, что я очень похудел».
Тем не менее, мадам де Монтеспан разбухала на глазах, и соответственно возрастала ее ненависть.
* * *
Одно маленькое происшествие ускорило развязку. Как-то раз во время охоты мадемуазель де Фонтанж появилась в амазонке, украшенной кружевами, и элегантность ее костюма так выгодно подчеркивала изящество фигуры, что глаз нельзя было оторвать от этой изумительной красавицы. Несколько перьев, венчавших капризно уложенные волосы, оттеняли яркий цвет лица и тонкость черт. Когда ближе к вечеру поднялся небольшой ветер, она сняла капор и завязала голову лентой, так что бант оказался на лбу. Эта прическа, обязанная своим появлением скорее случаю, нежели кокетству, чрезвычайно понравилась королю, и он попросил мадемуазель де Фонтанж не менять ее. На следующий день все дамы украсили голову лентой, и эта случайная мода стала господствующей: двору принялась подражать столица, за Парижем последовала провинция, и вскоре эта прическа, получившая название «Фонтанж», проникла в сопредельные страны…
Ж.-О. Фрагонар. Качели
Мадам де Монтеспан не могла вынести, что новая фаворитка превратилась в законодательницу мод. Она вновь обратилась к своим преступным замыслам…
Внезапно, 23 января 1680 года, в городе и при дворе с величайшим изумлением узнали, что в отношении нескольких весьма видных особ принято постановление об аресте в связи с причастностью к делу об отравителях.
В полдень стали известны имена: граф де Клермон, две племянницы Мазарини – графиня де Суассон и герцогиня де Буйон, принцесса де Тент, маркиза д’Аллюн, графиня дю Рур, Мари де ла Марк, жена кавалерийского полковника де Фонте, герцогиня де ла Ферте, маркиза де Фекийер, маркиз де Терм, наконец, знаменитый полководец, ученик Великого Конде, Бутвиль Монморанси, герцог Люксембургский и маршал Франции…
Вечером разнеслась новость, что графиня де Суассон скрылась, признав тем самым свою виновность…
Скандал был оглушительным.
Парижане, которые в 1676 году с большим удовольствием наблюдали за казнью мадам де Бренвилье – также уличенной в отравительстве, – требовали послать на костер всех обвиняемых…
20 февраля колдунья Вуазен была сожжена на Гревской площади.
Но решимость мадам де Монтеспан не смогли поколебать ни суровость судей, ни гнев народа. Твердо уверовав в свои медленные яды, она приступила к устранению мадемуазель де Фонтанж.
В апреле месяце у молодой фаворитки, которая в январе родила сына, вдруг открылось кровотечение, как некогда у лакея Мадлен Шаплен. Через месяц кровотечение повторилось, и мадам де Севинье сообщила дочери, что «потеря крови была очень значительной», добавляя далее: «молодая герцогиня не встает с постели и мечется в жару. Она даже начала уже распухать, и ее красивое лицо стало чуть одутловатым»…
14 июля мадемуазель де Фонтанж, обезображенная болезнью, в полном отчаянии удалилась в аббатство Шель.
Мадам де Монтеспан, которой претило бездействие, подкупила одного из лакеев соперницы, чтобы довести до конца свое преступное намерение, и несчастная герцогиня, отравляемая медленным ядом, угасала на глазах.
Она умерла 28 июня 1681 года после агонии, длившейся одиннадцать месяцев, в возрасте двадцати двух лет. Сразу же пошли толки об убийстве, и принцесса Пфальцская отметила: «Нет сомнений, что Фонтанж была отравлена. Сама она обвинила в своей смерти Монтеспан, которая подкупила лакея, и тот погубил ее, подсыпав отраву в молоко».
Разумеется, король разделял подозрения двора. Страшась узнать, что его любовница совершила преступление, он запретил производить вскрытие усопшей.
Дальнейшее расследование дела отравительниц откроет ему глаза на многие гнусные деяния.
* * *
Однажды г-н де Ла Рейни, начальник королевской полиции, вошел в кабинет министра Лувуа. Он был мертвенно-бледен и держал в руках толстую папку.
– Читайте, – сказал он.
Министр склонился над бумагами. Через несколько минут он поднял голову и, дрожа всем телом, взглянул на Ла Рейни.
– На сей раз сомневаться не приходится. Мы должны уведомить короля.
Они переглянулись. Никогда еще им не попадал в руки столь неприятный документ.
В самом деле, бумаги, принесенные начальником полиции, содержали полную запись признаний Маргариты Вуазен, дочери сожженной колдуньи, и каждое слово этих показаний было обвинением против мадам де Монтеспан.
Лувуа с очевидной неохотой отправился к королю. Когда Людовик XIV узнал о преступлениях, коими замарала себя женщина, которую он сделал в глазах Европы подлинной королевой французского двора, женщина, подарившая ему детей, которых он признал законными, он был сражен и попросил время подумать.
Спал ли он в эту ночь? Весьма сомнительно. Ему предстояло найти выход из невероятно тяжелой ситуации. Если бы враги Франции узнали, что он связал свою жизнь с преступницей, с отравительницей, с колдуньей, навсегда исчез бы величественный ореол, ослепивший Европу… Нужно было любой ценой замять скандал, нужно было уничтожить компрометирующие бумаги.
На следующий день он приостановил заседание Огненной палаты. Затем приказал г-ну де Ла Рейни перенести к себе и спрятать в надежном месте все документы, где фигурировало имя маркизы.
Отведя, таким образом, самую непосредственную угрозу, король приказал продолжить в строжайшей тайне расследование: он пожелал, чтобы была допрошена особа, часто поминаемая в показаниях Маргариты Вуазен. Речь шла о фрейлине фаворитки – той самой мадемуазель дез Ойе, которая стала его любовницей в момент, когда он находился под сильнейшим воздействием возбуждающих средств.
Сообщники Вуазен утверждали, что она много раз приходила к колдунье за зельем.
На допросе молодая женщина категорически отвергла все обвинения. «Мадемуазель дез Ойе, – писал Лувуа, обращаясь к Ла Рейни, – с невероятной твердостью заявляет, что не знает никого из тех, кто назвал ее, и, чтобы уверить меня в своей невинности, требует очной ставки с теми, кто дал против нее показания. Она клянется своей жизнью, что ни один из них не угадает, кто она».
Очные ставки состоялись в Венсенском замке, и все обвиняемые подтвердили свои показания в присутствии мадемуазель дез Ойе.
На сей раз король был не просто сражен – он был убит. Преступницей, заслуживающей казни на костре, оказалась не только мадам де Монтеспан, но и мадемуазель дез Ойе – женщина, подарившая ему дочь.
Две отравительницы среди любовниц – это было уж слишком. Призвав к себе Ла Рейни, король приказал сделать так, чтобы уличающие показания не попали в руки судей.
Между тем признания Франсуазы Филастр имели чрезвычайно важное значение для процесса отравителей. Ла Рейни понимал это. На какое-то мгновение он заколебался, но затем ему пришла в голову мысль, как избежать непоправимого ущерба для своего короля и одновременно расчистить дорогу правосудию.
Через несколько дней Государственный совет издал по его просьбе указ, которым предписывалось представить суду протокол допроса Франсуазы Филастр, за исключением некоторых отрывков, «поскольку Его величество, исходя из высших соображений, касающихся блага государства, не желает, чтобы рассмотрению палаты подлежали некоторые факты, не имеющие прямого отношения к процессу, производимому названной палатой».
Успокоившись на сей счет, Людовик XIV приказал возобновить заседания Огненной палаты, которая приговорила нескольких человек – среди них и Филастр – к сожжению на костре. Однако перед судом не предстали обвиняемые, которые дали показания против мадам де Монтеспан. Они были отправлены в различные крепости, расположенные в Юра или Франш Конте, где им и суждено было окончить свои дни.
Лувуа счел нелишним принять дополнительные меры предосторожности:
«Все это люди весьма предприимчивые, – извещал он коменданта Шовлена, – и содержать их нужно в чрезвычайной строгости. Особое внимание следует обратить, чтобы никто не слышал тех глупостей, которые они могут выкрикивать, поскольку им часто случалось говорить о мадам де Монтеспан разные вещи, не имеющие под собой никаких оснований».
21 июля 1682 года Огненная палата была объявлена распущенной. Она послала на костер тридцать шесть человек. Но одна из главнейших преступниц оставалась на свободе.
Только после вскрытия архивов Бастилии в XIX веке частично прояснилась роль мадам де Монтеспан в деле отравителей. Увы, только частично! Ибо в 1709 году, через месяц после смерти Ла Рейни, Людовик XIV собственноручно сжег бумаги начальника королевской полиции…
* * *
Хотя королю приходилось вести себя с маркизой так, словно ему ничего не было известно, он все-таки не мог по прежнему разыгрывать влюбленного.
Такое нагромождение пороков внушало ему отвращение. Незаметно удаляясь от этой женщины с черной душой, которая собиралась убить его, он вновь обратился к религии и вернулся к Марии-Терезии.
Надо сказать, что на этот путь он вступил не без помощи мадам Скаррон, которая потихоньку обретала влияние, действуя в тени, но чрезвычайно ловко и осмотрительно.
Людовик XIV видел, с какой любовью воспитывает она детей, заброшенных мадам де Монтеспан. Он уже успел оценить ее ум, честность и прямоту – и, не желая признаться в том самому себе, все чаще искал ее общества.
Когда она в 1674 году купила земли Ментенон в нескольких лье от Шартра, мадам де Монтеспан выразила крайнее неудовольствие:
– Вот как? Замок и имение для воспитательницы бастардов?
– Если унизительно быть их воспитательницей, – ответила новоявленная помещица, – то что же говорить об их матери?
Естественно, это не улучшило отношений двух женщин.
Тогда, чтобы заставить замолчать мадам де Монтеспан, король в присутствии всего двора, онемевшего от изумления, назвал мадам Скаррон новым именем – мадам де Ментенон. С этого момента и по особому распоряжению монарха она подписывалась только этим именем.
Прошли годы, и Людовик XIV привязался к этой женщине, так не похожей на мадам де Монтеспан. После же дела отравителей он, естественно, обратил взоры к ней, ибо его смятенная душа требовала утешения.
Но мадам де Ментенон не жаждала занять место фаворитки. «Укрепляя монарха в вере, – говорит герцог де Ноай, – она использовала чувства, которые внушила ему, дабы вернуть его в чистое семейное лоно и обратить на королеву те знаки внимания, которые по праву принадлежали только ей».
Мария не верила своему счастью: король проводил с ней вечера и разговаривал с нежностью. Ибо прежде он не обращал на нее никакого внимания: вот уже тридцать лет, как она не слышала от него ни единого ласкового слова.
Легко представить себе ее радость.
В то время как королева начинала новую жизнь, мадам де Монтеспан безмолвно сносила опалу и связанные с ней унижения. Она так трепетала перед костром, что стала боязливо приникать к религии.
Да и пора уже было ей подумать о душе…
* * *
Вот в такой буржуазной, чинной и елейной атмосфере двор завершил бы 1682 год, если бы не случился забавный скандал, слегка напомнивший прежние веселые времена.
В Париже тогда существовала группа молодых дворян, организовавших очень любопытное сообщество. Каждый член его обязан был раз в неделю предложить друзьям необычное «галантное развлечение». Первый устроил ужин, на котором приглашенных обслуживали обнаженные девицы, изумительно красивые и слегка диковатые. Второй предложил знакомой даме без предрассудков медленно раздеться на глазах у гостей, предвосхитив, таким образом, появление стриптиза. Третий выставил на стол огромный пирог, откуда вышла восхитительная блондинка, «облаченная только в свою невинность». Затем начались увеселения более разнообразные и затруднительные для описания…
И вот декабрьским вечером 1682 года граф де Жанблен, у которого собралась компания молодых распутников, распорядился подавать с каждым блюдом гравюру непристойного содержания. Разгорячившись, все дружными рядами отправились сразу же после десерта в один из самых злачных домов Сен-Антуанского предместья.
Здесь все и произошло. Когда Жанблен вошел, то заметил, что одна молодая женщина, сидевшая на коленях у грузчика, убежала, оставив своего ухажера в полном недоумении. «Почему эта девка скрылась, увидев нас? – воскликнул граф. – Пусть ее вернут!» Отвратительная хозяйка заведения принялась уверять дворян, что новенькая сейчас вернется. Подождав немного, г-н де Жанблен, придя в сильное раздражение, отправился искать робкое создание. Он обнаружил молодую женщину на кухне: закрыв салфеткой лицо, она упорно отказывалась показать себя. При помощи подоспевших друзей граф притащил ее в общую залу и принялся ногтями раздирать салфетку, которую бедняжка по-прежнему прижимала к лицу. Но силы были неравны: г-н Жанблен отвел ей руки и замер, будто пораженный молнией. Перед ним стояла его супруга…
Так при дворе все узнали, что очаровательная графиня Жанблен обладает столь пылким темпераментом, что не гнушается заниматься проституцией, дабы найти у грузчиков утешение, коего не получала от распутного супруга.
Тайный брак Людовика XIV и мадам де Ментенон
Они поженились так, словно совершали нечто постыдное.
Пьер БюрльеВ начале лета 1683 года король предпринял вместе с двором весьма утомительное путешествие по Эльзасу. Для королевы оно оказалось последним. У несчастной начался жар с бредом, и она очутилась у врат смерти.
Слабым голосом королева позвала мадам де Ментенон. Франсуаза прибежала в слезах; обе женщины, плача, обменялись какими то невнятными фразами, а затем Мария, сняв с руки кольцо, надела его на палец мадам де Ментенон.
Этот жест произвел сильнейшее впечатление на всех присутствующих. Людовик XIV, очень взволнованный, в свою очередь, подошел к постели и произнес несколько слов по-испански, несказанно растрогав этим королеву. Затем его попросили удалиться, ибо этикет запрещал королю Франции быть свидетелем смерти. Вскоре Мария испустила последний вздох.
Ей было сорок пять лет.
Когда к Людовику XIV пришли с печальным известием, он сказал просто:
– В первый раз она меня огорчила!
Все нашли, что это было высказано прелестно. Впрочем, с такой оценкой вполне можно согласиться.
В этот момент мадам де Ментенон, бывшая с Мари-ей-Терезией до конца, направилась в свои покои. Герцог де Ларошфуко, остановив ее, показал жестом на апартаменты короля:
– Не следует сейчас покидать его!
Совет был совершенно излишним. Экс-гувернантка королевских бастардов вовсе не собиралась расставаться с монархом. Вскоре это стало ясно всем.
Один вопрос напрашивается сразу же. Любила ли она Людовика XIV?
Утверждать это трудно.
Мадам де Ментенон, суровая и набожная, хотя и провела, согласно уверениям многих, довольно бурную молодость (ведь это ее именовали «потаскухой», «шлюшкой»), теперь отличалась удивительной разумностью и сдержанностью. Она относилась к монарху с чрезвычайным почтением, восхищалась им и считала себя избранной Богом, дабы помочь ему стать «христианнейшим королем», ибо, по правде говоря, до сих пор этот титул был не более чем величественной этикеткой. Однако никаких чувств к нему она, судя по всему, не испытывала.
В течение нескольких месяцев она встречалась с ним ежедневно, подавала превосходные советы, умело и ненавязчиво вмешивалась во все дела и в конечном счете стала для монарха необходимой.
Людовик XIV смотрел на нее горящими глазами и «с некоторой умильностью в выражении лица». Без сомнения, он жаждал заключить в объятия эту прекрасную недотрогу, переживавшую в свои сорок восемь лет блистательный закат.
Любил ли он ее? Некоторые историки слишком поторопились с ответом, уверяя, что речь здесь может идти только о благородном уважении. Нижеследующий отрывок из сочинения мадам Сюар показывает, что они ошибаются:
«Король, – пишет она, – любил мадам де Ментенон со всей пылкостью, на которую был способен. Он не мог расстаться с ней ни на один день, почти ни на одно мгновение. Если ее не было рядом, он ощущал невыносимую пустоту. Эта женщина, которая запретила себе любить и быть любимой, обрела любовь Людовика Великого, и это именно он робел перед ней».
Мадам де Ментенон
Впрочем, существует письмо, подтверждающее, что король был влюблен. Вот оно:
«Я пользуюсь отъездом из Моншеврея, чтобы заверить вас в истине, которая мне слишком нравится, чтобы я разучился ее повторять: она состоит в том, что вы мне бесконечно дороги, и чувства мои к вам таковы, что их невозможно выразить; в том, наконец, что как бы ни была велика ваша любовь, моя все равно больше, потому что сердце мое целиком принадлежит вам. Людовик».
Он полагал неприличным делать любовницу из женщины, которая так хорошо воспитала его детей. Впрочем, достойное поведение и сдержанность Франсуазы д’Обинье исключали всякую мысль об адюльтере. Она была не из тех дам, которых можно легко увлечь к первой попавшейся постели.
Сделать ее королевой Франции? Это был деликатный вопрос. Разве не была она женой Скаррона? Людовик XIV опасался и за нее, и за себя, ибо такой брак неизбежно вызвал бы насмешки народа. По Парижу и без того уже ходили куплеты, эпиграммы, сатирические рисунки. Появились коробки с конфетами, и на их крышках изображали мадам де Ментенон, помещенную между королем и его поэтом-паралитиком. На других король стоял между ней и мадемуазель де Лавальер: последняя прикасалась рукой к сердцу Людовика, а мадам де Ментенон – к его короне…
Оставался только один выход: жениться на ней втайне. Людовик, решившись, послал однажды утром своего исповедника, отца де Лашеза, сделать предложение Франсуазе.
Ожидала ли она этого? Нам сообщают, что «она была столь же очарована, сколь удивлена, и поручила священнику передать королю, что полностью ему принадлежит»…
Брак был заключен в 1684 или 1685 году (точной даты не знает никто) в кабинете короля, где новобрачных благословил монсеньер Арле де Шанваллон в присутствии отца де Лашеза.
В течение нескольких месяцев никто ни о чем не подозревал. А затем придворные старожилы по множеству малозаметных деталей поняли, что отныне мадам де Ментенон перестала быть такой же женщиной, как все остальные. Она прогуливалась в Марли наедине с королем; она занимала апартаменты, ничем не уступающие королевским; Людовик XIV называл ее Мадам, выказывал к ней величайшее почтение и проводил в ее покоях большую часть дня; она на несколько секунд поднималась, когда входили дофин и Месье, но не считала нужным утруждать себя для принцев и принцесс крови, которых принимала только после прошения об аудиенции; наконец, она была допущена на заседания Государственного совета, где сидела в присутствии министров, государственных секретарей и самого монарха…
Придворные не знали, что и думать о подобной немыслимой милости, пока Месье, зайдя как-то к королю, не застал его «в неглиже» рядом с мадам де Ментенон.
– Брат мой, – сказал Людовик XIV, – по тому, что вы видите, вы можете понять, кем для меня является Мадам…
Многие тогда стали догадываться о тайном браке короля с Франсуазой. Но на поверхность это не вышло, ибо каждый старался хранить секрет. Одна лишь мадам де Севинье, перо которой было столь же неудержимым, как и ее язык, написала дочери: «Положение мадам де Ментенон уникально, подобного никогда не было и не будет…».
Народ же не ведал о вторичной женитьбе короля до 1690 года. Когда же об этом стало известно, Версаль был буквально затоплен волной оскорбительно-дерзких куплетов, в которых чаще всего поминался «маленький горбун», которому наставил рога величайший король мира.
* * *
Пока народ зубоскалил, король начал сожалеть, что связал свою жизнь с этой целомудренной ханжой.
По правде говоря, его восторги быстро сменились разочарованием, ибо он не получал должного удовлетворения в объятиях мадам де Ментенон. Холодная и чрезмерно стыдливая, она постоянно терзалась мыслями о грехе и не выносила даже малейшего прикосновения к себе. Ей с трудом удавалось скрывать раздражение, когда король, со всем пылом сорокавосьмилетнего мужчины, желал доказать, что он хороший супруг.
Наконец Людовик XIV пожаловался исповеднику жены, монсеньеру Годе де Маре, епископу Шартрскому, и тот написал Франсуазе довольно игривое послание, дабы склонить ее к исполнению супружеских обязанностей: «Должно служить убежищем слабому мужчине, который без этого неизбежно погубит себя… Как отрадно свершать по велению добродетели то самое, что другие женщины ищут в опьянении страсти…»
Эти галантные наставления мало что изменили, и Франсуаза с великим отвращением соглашалась на то, что некогда так нравилось мадам де Монтеспан.
Впрочем, подобная ужасающая стыдливость проявлялась во всем, и король не мог скрыть досады. Однажды, когда он стал напевать песенку на стихи Кино, положенные на музыку Люлли, она произнесла, поджав губы:
– Эти куплеты проникнуты опасным сладострастием… Вам следует приказать Кино, чтобы он исправил некоторые места.
Людовик XIV пришел в сильнейшее раздражение:
– Но такие куплеты пелись всегда! Королева, моя матушка, которая была очень набожна, и королева, моя супруга, которая причащалась три раза в неделю, слушали их с таким же удовольствием, как я, и это их нисколько не шокировало.
Через некоторое время мадам де Ментенон вновь продемонстрировала свое преувеличенное благочестие. Она только что основала в Сен-Сире воспитательное заведение для девиц знатного происхождения, но без состояния, и Расин отдал свою «Андромаху» ученицам для постановки в школьном театре. Увидев, с каким увлечением девушки декламируют прекрасные стихи, посвященные любви, мадам де Ментенон пришла в ужас и тут же, схватив листок бумаги, написала поэту:
«Наши девочки сыграли «Андромаху», и сыграли настолько хорошо, что больше играть ее не будут, равно как и любую другую из ваших пьес».
Король в очередной раз глубоко опечалился…
* * *
Разумеется, над излишней суровостью мадам де Ментенон, – которую мадам де Севинье прозвала «вечно простуженной», – вскоре стали смеяться.
Старожилы двора жалели Людовика XIV, ибо его пылкий темперамент был им хорошо известен, а некоторые стали втихомолку поговаривать, что он «допустил в свою постель толстую и холодную гадюку».
Но тут протестанты во всеуслышание заявили, что мадам де Ментенон гадюка не такая уж холодная, как полагают, а если говорить всю правду, то попросту похотливая. Люди шушукались, что она взяла в любовники одного из своих камердинеров, и рассказывали по этому поводу забавные, но не слишком пристойные история. Послушаем Бюсси Рабютена, который повествует о них с явным удовольствием:
«Однажды лакей, служивший ей для любовных упражнений, отпросился у нее на два дня в деревню, но то ли он встретился с кем-то из знакомых, то ли хотел набраться побольше сил, он задержался там дольше, чем было условлено. Его не было целую неделю, и мадам де Ментенон, которая не привыкла к столь долгому воздержанию, написала ему послание и отправила с ним доверенную девицу».
Однако к этой девице, продолжает Бюсси Рабютен, уже давно пристраивался другой воздыхатель прекрасной Франсуазы. Этим воздыхателем был не кто иной, как преподобный отец де Лашез, исповедник Людовика XIV. Ему удалось выпросить у девицы послание, отрывок из которого мы приводим:
«Возвращайся и не оставляй меня в одиночестве при короле: я люблю тебя в десять раз больше, чем его. Если не хочешь, чтобы я заболела или умерла, приходи в полночь прямо в мою спальню, я распоряжусь, чтобы дверь не закрывали, и ты сможешь войти…»
Прочитав записочку, священник тут же придумал план, как ему занять место лакея. Если верить Бюсси, он тут же написал молодому человеку, сообщая, что отец его тяжело заболел, а сам назначил свидание в полночь фрейлине мадам де Ментенон.
Придя в назначенное время, он обнаружил поджидавшую его сообщницу. Дальнейшее пусть расскажет Бюсси своими собственными словами: «Он разделся, надел ночную рубашку и колпак, которыми пользовался лакей, после чего вошел в спальню, приблизился к постели, осторожно проскользнул под простыню и, ни слова не говоря, пошел на штурм. Хотя она уже заснула, но, почувствовав ласку, пробудилась; полагая, что к ней подвалился знакомый бычок, она сжала его в объятиях с такой страстью, что бедный отец едва не отдал Богу душу, почти задохнувшись в мощных руках своей прелестницы. Игры их были столь сладостными, что им было не до разговоров, и, возможно, так бы прошла вся ночь, но простуженный отец де Лашез вдруг не к месту раскашлялся. Мадам де Ментенон вскрикнула и хотела броситься вон из постели; но он удержал ее, принеся свои извинения…»
«В общем, – продолжает Бюсси, – они пришли к доброму согласию и развлекались до утра, а потом и в другие дни, и так будет продолжаться, пока у них хватит сил; ибо она только для короля была мулом, а для лакея мустангом и для Лашез а кобылицей…»
Подобные истории взволновали двор, и многие спрашивали себя, уж не таится ли под широкими юбками мадам де Ментенон огонь более жгучий, нежели тот, что предназначался для монарха? А принцесса Пфальцская, которая не могла простить королю мезальянса и в выражениях не стеснялась, напрямик заявила, что Франсуаза д’Обинье «всем шлюхам шлюха»…
* * *
Затем пронесся слух, что мадам де Ментенон играет при Людовике XIV малопочтенную роль сводни и что школа в Сен-Сире была основана только для того, чтобы поставлять молодых любовниц стареющему монарху. Обратимся вновь к писаниям Бюсси: «Страшась подступающей старости и опасаясь, что король с его долгой молодостью отвратится от нее, как от многих других, она выказала себя достаточно ловкой и предприимчивой, чтобы учредить сообщество молодых девиц в Сен-Сире, дабы иметь возможность развлекать время от времени короля и привлекать его внимание к тем, кто мог бы ему понравиться.
В похвалу мадам де Ментенон можно сказать, что она никогда не принадлежала к числу докучных любовниц и ревнивых женщин, которые жаждут удовольствия только для себя. Я знаю, что многие критики именовали это заведение сералем, но они не правы, ибо некоторые девицы вышли оттуда такими же целомудренными, какими вступили.
Однако мадам де Ментенон сочла, что с помощью этого заведения всегда останется распорядительницей интрижек короля, и нашла способ навечно сохранить его расположение, ибо в любовных связях он во все времена отдавал предпочтение самым доступным.
Не буду рассказывать в деталях, что происходит в этом прекрасном доме, куда никого не допускают без разрешения; но знаю точно и из самых надежных источников, что едва король обратит внимание на какую-нибудь юную нимфу, как мадам де Ментенон берет на себя труд уговорить ее и приготовить таким манером, чтобы она должным образом ответила на честь, оказываемую ей королем».
Именно тогда супруга короля, уязвленная до глубины души, пожелала, чтобы о браке было объявлено публично. Она стала умолять Людовика XIV сделать ее королевой Франции, дабы пресечь порочащие слухи. Монарх заколебался. Возможно, он и уступил бы, но тут в дело вмешался Лувуа, восставший против этого намерения с необыкновенной резкостью. Сен-Симон рассказывает: «У этого министра повсюду были свои шпионы; он узнал, что у короля в минуту слабости вырвали обещание раскрыть тайну и что это должно вот-вот совершиться. Он идет к королю и просит его удалить лакеев.
Те, конечно, выходят, но оставляют двери открытыми, так что могут всё слышать и наблюдать за свиданием в зеркала. Лувуа объясняет монарху причину своего прихода, напоминает, что тот обещал ему самому ни под каким предлогом не раскрывать тайну своего брака. Он с горячностью уверяет, что это навлечет великий позор и приведет к самым неприятным осложнениям. Людовик XIV не смеет ему возразить и пытается прибегнуть к хитрости: начинает расхаживать по комнате, чтобы, улучив момент, выскочить за дверь и избавиться от докучливого министра. Лувуа преграждает ему путь, падает на колени и, протянув маленькую шпагу, которую всегда носил на боку, эфесом вперед, произносит:
– Убейте меня, чтобы я не был свидетелем гнусности, которая обесчестит вас в глазах всей Европы.
Монарх, трепеща от нетерпения, хочет выйти, но министр наседает на него все сильнее.
– Ах, сир! – восклицает он. – Едва вы поддадитесь этой слабости, как умрете, не вынеся позора и отчаяния.
И он добился второго обещания никогда не объявлять публично о браке с мадам де Ментенон».
* * *
Униженная и опечаленная, Франсуаза закрылась в своей комнате с прялкой, к великой радости мадам де Монтеспан, которая с вполне понятным злорадством подсчитывала небольшие поражения соперницы.
На самом деле маркиза и не думала покидать двор после женитьбы короля. Она занимала все те же апартаменты в Версале. Именно ей по-прежнему принадлежала основная роль в организации праздников, балов и прочих увеселений. А король, не умевший менять привычек, продолжал навещать ее дважды в день, как в прежние времена. Нужно признать, что мадам де Ментенон обладала столь унылым характером, что Людовик XIV, почти забыв о деле отравительниц, находил отдохновение в обществе остроумной и веселой мадам де Монтеспан.
Изучив распорядок дня Его величества, можно даже задаться вопросом, которая из двоих была истинной супругой. Вот что сообщает Данжо:
«С девяти до половины первого король запирался и работал со своими министрами. После мессы, которая заканчивалась в два часа, он шел к мадам де Монтеспан и оставался у нее до обеда, затем входил на минутку к Мадам Дофине, работал один или же выходил гулять. Вечером, в семь или в восемь часов, он шел к мадам де Ментенон, выходил от нее в десять, чтобы поужинать, возвращался к мадам де Монтеспан и оставался там до полуночи, играл со своими собаками, давая им пирожные, и ложился обычно в промежутке от полуночи до часа ночи».
Порой он поднимался, чтобы навестить супругу. И несчастной приходилось четверть часа выносить его присутствие. Это было так тяжело, что однажды она сказала сенсирским барышням: «Невозможно представить, до какой степени простирается власть мужей. Мы вынуждены покоряться им вплоть до почти немыслимых вещей…»
Король запрещает адюльтер во Франции
Причиной всех этих великих деяний является женщина.
ЛамартинВ одно мартовское воскресенье 1685 года король, пребывая в игривом настроении после завтрака, зашел в комнату мадам де Ментенон и стал жестами показывать, что хотел бы почтить ее своим вниманием.
Она улыбнулась и отступила на шаг назад, а затем подошла поцеловать его.
– Я знаю, что вы хотите, – сказала она. – Пойдемте, это принесет пользу нам обоим.
И повела его на мессу…
Король был несколько удивлен. Однако он без возражений последовал за женой в церковь, где вежливо проскучал все то время, что Франсуаза, со времен гугенотского детства сохранившая любовь к церковным гимнам, провела за пением псалмов.
Через неделю, в присутствии изумленного двора, она увлекла его к вечерне, которую он некогда именовал «литургией для старых дев». Затем это вошло в привычку.
Каждое воскресенье они посещали службу, после чего Людовик XIV в парике, пропахшем елеем, отправлялся в покои мадам де Ментенон: здесь оба долго беседовали о спасении души.
Франсуаза убеждала супруга, что прошлая его жизнь была бесчестной и позорной и что теперь он должен «искупить перед небом свои скандальные любовные связи».
Будучи женщиной умной и ловкой, она умела облечь увещевания в убедительную форму:
– В течение многих лет, – говорила она, – вы умножали блудный грех своими изменами. Святой же Фома говорит, что вторжение или посягновение на чужое брачное ложе есть злокозненное деяние. Следовательно, вы оскорбили Господа. Сверх того, вы подали пагубный пример своему народу. Вы должны исправить ущерб.
* * *
В конце концов эти речи лишили покоя Людовика XIV, который все больше и больше терзался, ища способ вернуть себе милость небес. Под влиянием мадам де Менте-нон, которую нельзя было испугать ни трудностями, ни насмешками, он издал указ, поставивший адюльтер вне закона во всем французском королевстве.
Даже рогоносцы встретили громовым хохотом это потрясающее распоряжение. Послушаем мадам де Монморанси:
«В один из таких моментов религиозного рвения фаворитке пришла в голову мысль, что король должен предписать непостоянным мужьям и неверным женам: одним жить в согласии с женами, а другим – в согласии с мужьями. Не смейтесь, прошу вас, и не думайте, что это выдумка, которой я хочу вас позабавить; клянусь вам, это истинная правда, и мадам де Ментенон в самом деле вообразила, что подобными указами можно заставить жен и мужей не изменять друг другу».
Добрая женщина добавляет не без коварства: «Это решение короля доказывает, что все совершается по желанию мадам де Ментенон, которая, видимо, еще не забыла время, когда подобное распоряжение могло и к ней самой относиться…»
Надо ли говорить, что этот призыв к добродетели не произвел никакого впечатления на бравых подданных французского короля, которые продолжали с прежним усердием награждать «высокими и красивыми рогами» ближних своих.
Людовик XIV был крайне раздражен этим обстоятельством. Убедившись, что искоренить разврат в собственном народе невозможно, он стал искать другие пути примирения с небом и обратил взор на протестантов.
Кальвинисты уже давно волновались и, судя по полицейским донесениям, желали найти союзников за рубежами государства, дабы вступить в борьбу с королем. Как писал Мишле, «Франция, чьим успехам положила предел Голландия, чувствовала в чреве своем еще одну Голландию, которая радовалась успехам первой». Людовик XIV решил, что, принудив их отречься от своей веры и возвратиться в лоно католической церкви, он одним ударом поразит две цели: восстановит религиозное единство, без которого не может быть единой страны, и обретет прощение за прошлые грехи.
Тогда началось широкое движение по обращению гугенотов. Самые знатные дамы Версаля сочли своим долгом принять в этом участие, и стало очень модным иметь собственных «обращенных». Легко догадаться, что мадам де Ментенон не была в числе последних из тех, кто побуждал протестантов вернуться к мессе.
Эта бывшая протестантка, сама отрекшаяся от веры отцов, теперь желала привести к отречению всех бывших братьев по вере – начала же она с обращения многих членов своей семьи.
Затем она организовала еженедельные моления дам в версальской церкви. Здесь возносились молитвы о примирении реформатов с истинной религией и собирались денежные взносы в пользу бедных.
Славный аббат Юшон каждый раз обращался с увещеванием к дарительницам, дабы побудить их к большей щедрости. Однажды он превзошел самого себя, сказав им:
– Милые дамы, я знаю, что у вас понизу дырка на дырке (просторечное выражение, означавшее прохудившийся кошелек), но ведь и нам многого недостает! Умилитесь же сердцем, откройтесь навстречу членам, оцепеневшим в холоде и лишениях.
Эти простодушные слова были встречены безумным хохотом: дамы, задыхаясь от смеха, принуждены были покинуть церковь. На следующее моление никто не посмел явиться, и затея мадам де Ментенон провалилась.
Между тем антипротестантская кампания приняла ошеломительные масштабы. Наставляемые Лувуа и Боссюэ миссионеры при содействии вооруженных до зубов драгун обращали в католичество гугенотское население Лангедока. В средствах, естественно, не стеснялись.
От протестантской веры отрекались целые города. Алее, Юзес, Вильнев, Монпелье перешли в католичество всего за несколько дней. Узнавая об этих успехах, король потирал руки и всерьез начинал верить, что искупил былые грехи.
Он не подозревал, что все шло не так уж гладко, как ему докладывали, и что многие кальвинисты наотрез отказывались переходить в католичество. Эти несчастные оказывались в полной власти разъяренных драгун и испытывали «притеснения» – такое удачное определение нашел один из мемуаристов. Иными же словами, им вспарывали животы, вешали их или в лучшем случае отправляли на галеры…
Таким образом, был отменен Нантский эдикт о веротерпимости, подписанный за сто лет до этого Генрихом IV.
Странные вкусы старшего дофина
Он так и остался ребенком.
Пьер БуазарМайским утром 1691 года Версаль был потрясен неожиданным происшествием. Около десяти часов лакей, гулявший по саду, вдруг услышал во дворце необычный шум. Устремившись туда, он увидел, как двое крепких мужчин безбоязненно выкидывали мебель из окон апартаментов, принадлежавших мадам де Монтеспан.
– Вы сошли с ума? – воскликнул потрясенный слуга.
– Нам приказано, – отвечали два чужака.
И тут же швырнули роскошный шкаф на обломки восхитительных кресел. Испуганный лакей побежал за подмогой, и вскоре все во дворце узнали, что мадам де Монтеспан переезжает весьма странным образом.
Отовсюду сбежались придворные, с восторгом предвкушая скандал. Однако раньше всех подоспели гвардейцы. Встав под окнами, они стали кричать рабочим, чтобы те немедленно прекратили калечить мебель. В этот момент появился герцог Мэнский:
– Это я распорядился, – сказал он.
Сей молодой человек двадцати одного года от роду был сыном мадам де Монтеспан от короля. Возросший под крылом мадам де Ментенон, он с обожанием относился к бывшей воспитательнице; мать же свою искренне презирал.
Естественно, супруга короля использовала его в той глухой борьбе, которую вела с бывшей фавориткой. А та, устав от унижений и завуалированных оскорблений, исходивших от кроткой мадам де Ментенон, в минуту раздражения заявила Людовику XIV, что собирается удалиться в монастырь Сен-Жозеф.
Король, подстрекаемый женой, немедленно дал согласие и принял решение передать ее апартаменты герцогу Мэнскому.
Этот превосходный молодой человек не стал ждать ни секунды. Устремившись к матери, он без излишних церемоний передал ей приказ короля. Поскольку мадам де Монтеспан притворилась, что не понимает, он призвал двоих слуг, дабы очистить помещение, отныне предназначенное ему самому.
«Переезд» начался тут же. Когда первые стулья полетели в окно, мадам де Монтеспан уложила свой жалкий багаж, села в карету и вернулась в Париж; там она сказала, что вовсе не собирается покидать Версаль, что иногда будет встречаться с королем, что, по правде говоря, ее мебель перевезли «с излишней поспешностью».
Мадам де Монтеспан могла сколько угодно скрывать свое поражение; у двора не осталось никаких сомнений, что царствование ее окончательно завершилось и что мадам де Ментенон одержала безоговорочную победу. Закрывшись в своей комнате, погрузившись в глубокое кресло с балдахином, закутавшись в шали, шарфы, мантилью, она безмолвно наслаждалась триумфом.
Разумеется, она ничем не выдала радости и торжества. Напротив. Когда несколько месяцев спустя аббатиса монастыря Фонтевро, где нашла убежище мадам де Монтеспан, отправила ей письмо с приветом от бывшей фаворитки, мадам де Ментенон отозвалась елейно-лицемерным посланием:
«Я счастлива получить весточку от мадам де Монтеспан. Я опасалась, что она неверно истолкует мои намерения. Ведает Господь, заслужила ли я подозрения. Мое сердце навеки с ней».
Сидя под балдахином из розового шелка, полуприкрыв черные блестящие глаза, супруга короля держала в руках все нити Версаля.
Однажды, в ходе совета, Людовик XIV сказал ей:
– Пап именуют ваше святейшество; королей – ваше величество, принцев – ваша милость; а вас, мадам, надо было бы называть ваша твердость.
Очень довольный своей шуткой, он отныне только так и обращался к ней. И можно представить себе, какое выражение появлялось на лицах у иностранных послов, когда король во время официальных приемов поворачивался к мадам де Ментенон со словами:
– Что скажет об этом ваша твердость?
* * *
В конце 1691 года эта женщина, которая занималась решительно всем, постановила, что мадемуазель де Блуа, сестра ее любимого «ребенка», герцога Мэнского, должна выйти замуж за герцога Филиппа Шартрского, сына Месье и принцессы Пфальцской.
Мадемуазель де Блуа было пятнадцать лет, герцогу Шартрскому – семнадцать.
Этот юноша уже начал свою блистательную карьеру на любовном поприще. Правда, в этом ему оказал неоценимую помощь наставник – аббат Дюбуа. Вечером, завернувшись в плащ, достойный священнослужитель отправлялся на поиски молоденьких белошвеек, покладистых горничных или пухленьких прачек, чтобы отвести их в покои своего ученика.
И юный герцог до рассвета исправно выполнял домашние задания, руководствуясь богатым жизненным опытом воспитателя.
«Уже в тринадцать лет мой сын стал мужчиной, – с гордостью писала принцесса Пфальцская, – его обучила одна знатная дама».
Речь шла о мадам де Вьевиль, чьи наставления не пропали втуне. В пятнадцать лет Филипп, желая поделиться накопленными познаниями с приближенными, заманил в свою спальню тринадцатилетнюю девочку Леонору, дочь привратника в Пале Рояле. Увы! не овладев еще в должной мере наукой любви, он излишне затянул момент наивысшего наслаждения, хотя ему следовало подумать о последствиях. В результате Леонора забеременела.
Рассерженный привратник пришел жаловаться принцессе Пфальцской. Та, расхохотавшись, заявила, что счастлива: сын уже научился преподносить подарки девушкам.
Когда же отец Леоноры сделал попытку возмутиться, она наговорила ему таких вещей, что бедняга был совершенно оглушен. В качестве последнего аргумента он услышал от нее следующее: «если бы его дочь не давала другим надкусывать свой абрикос, то ничего бы и не случилось».
Привратник ушел в ужасе. Он и представить себе не мог, что принцесса способна изъясняться подобным образом.
Однако принцесса Пфальцская ни в чем не походила на обычных принцесс. Эта толстая баварка, дочь курфюрста Пфальцского, разительно отличалась от изящной Генриетты Английской, которую заменила в постели и в сердце Месье.
Свою собственную внешность она описывала с юмором: «Жир мой располагается не самым лучшим образом, что меня не красит. У меня, простите великодушно, задница устрашающих размеров, огромные бедра и плечи, обвислое брюхо, плоские шея и грудь; говоря по правде, я безобразна, но, по счастью, меня это совершенно не волнует…»
А в заключение она добавляет: «Я квадратная, как игральная кость…»
У этой женщины не только бицепсы были, как у грузчика, – она и выражалась соответствующим образом, и король несколько раз делал ей замечания по поводу излишне вольных словечек. Сохранилось любопытное письмо, где она жалуется на головомойку, полученную от Людовика XIV.
Вот оно:
«Король прислал своего исповедника к моему и закатил мне сегодня утром жуткую головомойку, упрекая в трех прегрешениях. Во-первых, я несдержанна на язык и посмела сказать Монсеньеру дофину, что у него „ни кожи, ни рожи“. Во-вторых, я позволяю своим фрейлинам заводить ухажеров; в-третьих, я шутила с принцессой де Конти по поводу ее ухажеров, и эти три вещи так рассердили короля, что он запретил бы мне появляться при дворе, если бы я не была женой его брата. Я же отвечала: что касается Монсеньера дофина, то я и в самом деле ему это сказала, однако мне всегда казалось, что нет большого греха, если женщина не испытывает влечения к мужчине… А если я говорила откровенно об его… (следуют два слова, которые невозможно цитировать), то здесь вина короля, а вовсе не моя. Он сто раз повторял при мне, что в семейном кругу скрывать нечего. Если он больше так не думает, то надо было меня предупредить…»
Принцесса Пфальцская не только изъяснялась как кучер и писала непристойные письма, но и вела себя чрезвычайно неприлично. Так, она любила принимать друзей, сидя на стульчаке, и вести с ними разговоры, сюжет которых несложно угадать; и в целом она обожала непристойности, шокирующие общество, к чему, в частности, был очень чувствителен Людовик XIV.
* * *
Несмотря на столь вольные манеры, принцесса Пфальцская очень гордилась своим высоким положением и смотрела сверху вниз на прочих придворных. Когда она узнала, что король и мадам де Ментенон собираются женить герцога Шартрского на мадемуазель де Блуа, то впала в ярость и заявила:
– Не желаю, чтобы мой сын вступал в брак с незаконной дочерью шлюхи…
И добавляла с чувством, отчего начинал гневно колыхаться ее двойной подбородок:
– Конечно, подобное могла придумать только эта старая задница…
Она имела в виду мадам де Ментенон.
В своем раздражении баварка надавала тумаков Месье, который принял предложение короля, а официальное объявление о помолвке завершилось грандиозным скандалом.
Ожидая окончания совета, все, как обычно, собрались на галерее, дабы затем сопровождать короля к мессе. Пришла туда и принцесса Пфальцская. Сын приблизился к ней, чтобы по заведенному порядку поцеловать ей руку. В этот момент принцесса вкатила ему такую звучную оплеуху, что было слышно в самых дальних концах, и это в присутствии всего двора! Несчастный принц не знал, куда деваться от стыда, а многочисленные зрители застыли в величайшем изумлении.
Брак, тем не менее, состоялся 18 февраля 1692 года, и будущий регент вскоре убедился, что супруга совершенно не заслуживает полученной им пощечины. Болезненно тщеславная, она не желала признавать, что была всего лишь незаконной дочерью короля, и, по забавному определению Сен-Симона, «вела себя как принцесса крови даже на стульчаке».
Сверх того, она отличалась необыкновенной леностью. Она всему предпочитала постель и зеркало, целыми днями валяясь и прихорашиваясь. Это была самая высокомерная и самая вялая из женщин. Она вставала, чтобы пойти к мессе или навести красоту; затем снова ложилась на диван, откуда ничто не могло ее согнать, разве только наступал час, когда можно было отправляться спать.
Эта леность была столь велика, что герцогиня Шартрская опасалась пылкости мужа. Любовь ее утомляла. Когда вечером Филипп приходил к ней «с династическими намерениями», она отговаривалась головной болью и слабым голосом просила не беспокоить ее.
Молодой герцог, впрочем, не настаивал. Взяв шляпу и поклонившись жене, он отправлялся к какой-нибудь оперной певичке, чей пылкий темперамент более соответствовал его жажде наслаждений.
В течение некоторого времени он еще сохранял надежду, что герцогиня обретет жар в нужном месте, а не только в голове, но вскоре ему пришлось смириться. Дочь мадам де Монтеспан не унаследовала от матери страстность и рвение в делах любви…
Отвратившись от семейного ложа из-за ленивой холодной женщины, Филипп быстро превратился в «коллекционера». Любые его прихоти немедленно исполнялись, и аббат Дюбуа вновь начал охотиться за молоденькими красавицами, обитающими в мансардах и на чердаках, и приводил их, дрожащих и испуганных, к своему любимому ученику, который мужал день ото дня.
Вскоре герцог превратился в образцового развратника. Став регентом после смерти Людовика XIV, он превратит французский двор в настоящий вертеп, и его чудовищным оргиям будет дивиться вся Европа.
* * *
Эта распущенность, под знаком которой пройдет весь XVIII век, явилась на свет, будучи естественной реакцией на невыносимое лицемерие одного из самых ханжеских периодов французской истории. Под влиянием мадам де Ментенон, которая, сдвинув колени и поджав губы, продолжала дело по очищению нравов, Версаль превратился в такое скучное место, что, как тогда говорили, «даже кальвинисты завыли бы здесь от тоски».
При дворе были запрещены все игривые выражения, мужчины и женщины более не смели вступать в откровенные объяснения друг с другом, а красотки, сжигаемые внутренним огнем, вынуждены были прятать томление под маской благочестия.
Это было царство святош.
Разумеется, манера одеваться также изменилась, и костюмы стали чрезвычайно благопристойными. Декольте были изгнаны с позором. Чтобы укротить женщин, не отказавшихся от демонстрации своих прелестей, славный аббат Буало издал труд, озаглавленный «О злостном оголении плечей», из которого мы приведем весьма характерный отрывок: «Нельзя сравнивать открытое лицо с оголенной грудью. Мы живем в естественном сообществе и вступаем в сношения друг с другом, узнать же человека можем только по лицу, а потому и возник среди мужчин и женщин обычай открывать лицо, хотя женщинам и в данном случае надо соблюдать большую осмотрительность, нежели мужчинам. Но к чему, скажите, дамам оголять горло и плечи, что может их к этому понудить, если только не имеют преступных намерений; зачем показывать то, что должно быть спрятано?»
Удручающая скука поразила Версаль, и молодые принцы объединились, чтобы бороться с той, кого принцесса Пфальцская с присущей ей любезностью именовала «старой потаскухой великого человека». Желая бросить вызов чрезмерной суровости и показному благочестию, утвердившимся под влиянием мадам де Ментенон, они стали устраивать невиданные ранее оргии.
На эти вечера приглашались девицы из всех слоев общества. Утром они покидали гостеприимные дома знатных кавалеров, обогатившись опытом…
Сверх того, остроумцы принялись втихомолку сочинять иронические куплеты о жене короля. Король не на шутку рассердился; впрочем, его ожидали куда более серьезные неприятности.
* * *
Старший дофин, единственный оставшийся в живых из детей, подаренных ему Марией-Терезией, уже давно вел безалаберную жизнь.
Этот тридцатипятилетний толстяк, потерявший в 1690 году свою супругу Марию-Анну Баварскую, краснел до ушей при виде любой хорошенькой женщины. Он унаследовал влюбчивость от отца и весьма часто обманывал несчастную дофину. Овдовев, он сделал любовницей мадам Резен, жену актера. Это была толстая красивая женщина, с пухлой грудью и необыкновенно пышными бедрами; к этим прелестям принц был чрезвычайно чувствителен. Он воспылал к ней страстью, увидев, как она играет, и сделал ей ребенка, вероятно, по рассеянности, потому что, как говорили, радостям зачатия предпочитал, со снисходительного разрешения любовницы, наслаждение ласкать ее прекрасную грудь.
На смену этой дородной даме пришла мадемуазель Морен, с которой в Нормандии случилось необычное происшествие. Однажды, когда она гуляла по берегу моря, внезапный ураганный порыв ветра поднял ее в воздух, так что она пролетела примерно двести метров, прежде чем опуститься на землю.
В память об этом приключении дофин стал называть ее «ангелом», придворные же лукаво добавляли, что тогда «ей впервые в жизни удалось хоть немного приподняться над грязью».
В 1694 году любовницей наследника трона стала мадемуазель Эмилия Шуэн, фрейлина принцессы де Конти. Эта молодая особа привлекла внимание принца полнотой.
В самом деле, принцесса Пфальцская описывает ее следующим образом: «Она была мала ростом и уродлива. Но такой обширной груди, как у нее, никто никогда не видывал; это очень нравилось Монсеньеру, который любил звучно хлопать по ее сиськам».
Их связь вскоре стала официальной, и пошли разговоры, что наследный принц устраивает вместе с мадемуазель Шуэн в Медоне званые вечера, где сцены похоти и разврата намного превосходят то, что позволительно делать в приличном обществе…
Именно тогда в игру вступила мадам де Ментенон. Стараясь не показывать, как это важно для нее, и не позируя в роли снисходительной мачехи, она побудила дофина заключить тайный брак с мадемуазель Шуэн.
Это был изумительно ловкий ход: поставив пасынка в такое положение, какое занимал король, она приобретала союзника и почти сообщника. В самом деле, отныне он не стал бы противиться публичному признанию ее брака с Людовиком XIV.
Мадам де Ментенон все просчитывала заранее. Узнав о предполагаемой женитьбе сына, монарх, не любивший мадемуазель Шуэн, был весьма недоволен, однако согласие дал, ибо, «возлюбив добродетель, с огорчением смотрел на шалости дофина».
Таким образом, с 1697 по 1711 год (дата смерти наследного принца) во Франции король и дофин имели жен, с которыми вступили в тайный брак.
Надо ли говорить, что подобного не бывало никогда.
Мадам де Ментенон хочет стать королевой Франции
Заходящее солнце закатывалось в ее постели.
Робер де МонтескьеЖелая получить официальное признание в качестве «супруги короля» и стать тем самым королевой Франции, мадам де Ментенон прибегла к необычным методам.
В те времена жил в городе Салоне молодой кузнец по имени Франсуа Мишель. Мать его была в родстве с Нострадамусом. Юноша был очень набожен и часто ходил молиться в небольшую часовню, расположенную за городом, на Марсельской дороге. Однажды вечером, исполнив свой христианский долг, он возвращался домой, как вдруг, сообщает нам Сен-Симон, «его ослепил яркий луч света, шедший из за деревьев».
Внезапно перед ним предстала с факелом в руке светловолосая красивая женщина в белом одеянии. Назвав его по имени, она неземным голосом произнесла, что он видит перед собой королеву Марию-Терезию, умершую четырнадцать лет назад.
Испуганный Франсуа Мишель хотел было бежать, но призрак удержал его, обхватив за плечи:
– Не бойся ничего. Я пришла возвестить тебе именем Господа, что ты должен отправиться в Версаль и поговорить с королем. Ты докажешь, что послан Богом, рассказав то, что известно лишь ему одному: тридцать лет назад, когда он охотился на оленя, перед ним явилось сверхъестественное существо, при виде которого лошадь его встала на дыбы, и ему было приказано покончить с развратной жизнью… Сейчас я скажу, что ты должен ему передать. Но запомни: открыть это ты можешь только королю и никому больше. Если ты нарушишь приказ или откажешься выполнить порученное тебе, то будешь наказан смертью…
После этого призрак наклонился к Франсуа Мишелю и сказал, что именно следует передать королю Людовику XIV от имени Господа.
Потрясенный кузнец, продолжает свой рассказ Сен-Симон, «обещал все исполнить, и призрак королевы тут же исчез. Франсуа Мишель очутился в темноте у подножия дерева и прилег там, не зная, вправду ли было ему видение или он грезит наяву. Затем он пошел домой, уверив себя, что это безумие и обман, и никому об этом не стал рассказывать.
Через два дня, идя той же дорогой, он встретил то же видение и выслушал те же речи; но на сей раз призрак упрекал его в непослушании, грозил карами и, наконец, повторил свой приказ идти в Версаль. Однако ему было разрешено отправиться сначала к губернатору провинции и рассказать о видении, чтобы получить необходимые средства для путешествия. Теперь кузнец перестал сомневаться в истинности происходящего, но не знал, на что решиться, страшась как угроз призрака, так и невероятной трудности предприятия.
Целую неделю молчал он о том, что видел, и пребывал в колебаниях; в конце концов твердо решил отказаться от путешествия, но опять повстречался на том же месте с видением и услышал тот же приказ и угрозы столь страшные, что сразу пустился в дорогу. Через два дня он оказался в Эксе у губернатора провинции, который, не раздумывая, велел ему продолжать путь и дал денег, чтобы оплатить место в карете».
* * *
9 апреля 1697 года Франсуа Мишель прибыл в Версаль и попросил дать ему частную аудиенцию у короля. Над ним, естественно, посмеялись, но он пришел на следующий день, а затем через день. В конце концов, слух о настойчивом просителе проник во дворец и о нем стало известно Людовику XIV.
– Объясните этому человеку, – сказал он, – что я не принимаю первого встречного.
Франсуа Мишель, свято уверовавший в свою миссию, попросил передать королю, что расскажет о таинственных вещах, никому, кроме него, не известных, так что не останется никаких сомнений, является ли он божественным посланцем.
Король вновь отказал.
– Тогда пусть меня отведут к одному из государственных министров, – заявил ясновидец.
Монарх приказал направить его к своему старшему лакею Барбезье. Однако Франсуа Мишель, презрительно расхохотавшись, ответил, что его принимают за дурачка. Двор был ошеломлен. Послушаем Сен-Симона: «Больше всего удивляло то, что этот кузнец, едва здесь появившийся, а до приезда ни разу не покидавший своих мест и занимавшийся только своим ремеслом, не пожелал разговаривать с Барбезье и сразу же сказал, что просил встречи с министром, а Барбезье вовсе не министр. И прибавил, что ни с кем, кроме министра, беседовать не будет».
В итоге король заинтересовался провинциалом, который проявил такую осведомленность в жизни двора. Он отдал приказ министру Помпону принять его. Министр надолго закрылся с Франсуа Мишелем, а затем отправился докладывать монарху. На следующий день Людовик XIV дал личную аудиенцию кузнецу. «Он не стал этого скрывать, – пишет Сен-Симон, – и принял посетителя в собственном кабинете. Через несколько дней он опять призвал к себе кузнеца: и оба раза беседовал с ним больше часа, отдав распоряжение, чтобы их разговору не мешали. На другой день после первой встречи, когда король отправлялся на охоту, г-н де Дюра, бывший тогда в большом фаворе и говоривший все что вздумается, начал высмеивать этого кузнеца и вспомнил дурную пословицу, что либо сей человек безумен, либо король не дворянин. Тут монарх остановился и, повернувшись к маршалу де Дюра, сказал:
– Стало быть, я не дворянин! Ибо я беседовал с ним очень долго, он говорил со мной самым рассудительным образом, и могу вас заверить, что он вовсе не безумец.
Последние слова король произнес подчеркнуто серьезно, и это очень удивило всех присутствующих, широко раскрывших и глаза, и уши.
После второй встречи король признал, что этот человек рассказал ему о происшествии, случившемся тридцать лет назад, о котором никто, кроме него самого, не знал, потому что он никогда и никому о нем не рассказывал, и добавил, что с этим призраком некогда встретился в лесу Сен-Жермен, но также никогда об этом не упоминал».
Через несколько дней Франсуа Мишеля отвезли в Прованс за счет казны. Он дожил до 1726 года; но в Версале его больше не видели.
* * *
О чем поведал он Людовику XIV? Естественно, весь двор жаждал это узнать. «Никто из тогдашних министров не желал говорить на эту тему, – сообщает Сен-Симон. – Самые близкие их друзья всячески старались выведать секрет, заводили об этом речь много раз, подбирались к ним то так, то эдак, но не смогли вырвать у них ни слова; те отшучивались или переводили разговор на другую тему, ничем себя не выдавая».
В конечном счете многие при дворе пришли к выводу, что речь идет о дерзком мошенничестве, и что ясновидца из Салона подослал некто, желавший поразить воображение короля.
Тогда стали шептаться, что у истоков заговора стоит мадам де Ментенон, взявшая себе в сообщницы подругу детства мадам Арнуль – жену интенданта марсельского флота. «Видение и приказ обратиться к королю, – утверждал Сен-Симон, – были ловкой выдумкой этой женщины, а поручение, данное кузнецу трижды являвшимся ему призраком, состояло в том, чтобы принудить короля объявить мадам де Ментенон королевой».
Столь же определенно высказывается и принцесса Пфальцская в письме от 21 сентября 1715 года: «Я всегда считала, что историю с кузнецом затеяла эта дама (мадам де Ментенон), потому что коварнее ее никого на свете нет».
Франсуазу обвиняли не напрасно. В 1750 году старик из Салона рассказал автору «Энциклопедии Прованса», как совершили эту мистификацию мадам Арнуль и некий священник, действовавшие по указанию мадам де Ментенон, Сам он узнал истину от аббата, не умевшего удержать язык за зубами… «Один лишь Франсуа Мишель, – добавил он, – ни в чем не усомнился до конца…»
Увы! труды Франсуазы, поставившей эту занятную мизансцену, пропали даром. На какое-то мгновение Людовик XIV заинтересовался откровениями молодого провансальца, но выполнять «божественное распоряжение» не стал. Донесли ли ему о роли, сыгранной мадам Арнуль? Заподозрил ли он Франсуазу? Произвел ли собственное расследование? Вполне возможно.
Как бы там ни было, после этой неудачи мадам де Ментенон окончательно лишилась надежд взойти на французский престол.
Галантная посланница Короля-Солнце
Там, где терпит поражение дипломатия, преуспевает женщина.
Арабская пословицаВ 1702 году на улице Мазарини существовал довольно подозрительный игорный дом, куда стекалось множество самых живописных личностей, причем некоторые приходили не только затем, чтобы перекинуться в картишки. Притон процветал благодаря белокурым кудрям хозяйки, мадемуазель Мари Пти.
Это была необыкновенно красивая молодая женщина двадцати семи лет, ее голубые глаза, уверяют нас, источали обольстительный свет, а покачивание бедер при ходьбе доводило до исступления.
Резкая и грубая с теми, кто ей не нравился, она была обворожительно мила с мужчинами, которых хотела затащить в постель, что, безусловно, экономило время. А историки, неистощимые в подборе эвфемизмов, говорят, что «она обладала даром привлекать к себе сердца…».
Любовников она заводила на месяц, на неделю, на ночь, на два часа – в зависимости от желания, которое они в ней возбуждали, но в любом случае она всегда оставалась хозяйкой положения…
Она царила над столом, покрытым зеленым сукном, где сдавались карты для игры в ландскнехт, и в постели под шелковым балдахином, безжалостно изгоняя как нечистых на руку шулеров, так и возлюбленных, «если те пытались ухватить ее за задницу, не дожидаясь позволения».
Ж.-О. Фрагонар. Поцелуй украдкой
Однажды в дом этой очаровательной молодой особы зашел мужчина лет пятидесяти, с пылким взором и хорошо подвешенным языком, и она немедленно подпала под власть его чар. В три часа ночи, когда ушел последний игрок, она увлекла незнакомца в спальню. Здесь они познакомились: гостя звали Жан-Батист Фабр, он был крупным торговцем из Марселя. Это ее нисколько не смутило. Раздевшись, она ловко освободила г-на Фабра от одежды, уложила в постель и занялась с ним самым сладостным из всех промыслов.
Полчаса спустя, вымотавшись до предела, они отдыхали под шелковым балдахином, и Фабр рассказывал очарованной мадемуазель Пти историю своей жизни. Он сказал, что его семейство держит в своих руках торговлю с Турцией и что сам он в 1675 году завел коммерческое представительство в Константинополе. Он описал свой роскошный дом, ничем не уступавший дворцам парижской знати, и сообщил, что марсельские негоцианты в течение последнего века фактически взяли на содержание посла, который без их денег просто не смог бы существовать.
– Я знаком с великим визирем, – добавил г-н Фабр, – со всеми пашами и, само собой разумеется, с послом. Господин де Ферьоль стал моим другом. Пока он не получил назначения, я даже исполнял его обязанности, а потом занял пост управляющего делами, потому что в Версале меня очень ценят.
Все рассказанное г-ном Фабром было истинной правдой. Он только забыл упомянуть, что оказался в долгу, как в шелку, что кредиторы с нетерпением поджидали его возвращения в Константинополь и что жена его стала любовницей г-на де Ферьоля…
Наконец, на рассвете г-н Фабр поведал прекрасной содержательнице игорного дома, что г-н де Поншартрен намеревается отправить его послом к персидскому шаху.
Молодая женщина, ослепленная и очарованная этими рассказами, попросила взять ее в путешествие.
Мысль пришлась г-ну Фабру по нраву, и он согласился.
* * *
Прошло несколько дней. Каждый вечер негоциант появлялся на улице Мазарини и уединялся с Мари, которая уже грезила, не признаваясь в этом, о восточной роскоши и изысканных наслаждениях.
Она не предавалась бы столь упоительным мечтам, если бы узнала, что будущий посол бродит по Парижу почти без гроша в кармане. Впрочем, однажды Фабр признался любовнице, что переживает некоторые финансовые затруднения. Будучи человеком очень хитрым, он дал ей понять, что недостаток денег может повредить ему при дворе и что тем самым окажется под угрозой их отъезд в Персию.
Славная женщина расстроилась. У нее были кое-какие сбережения – она отдала их г-ну Фабру.
Вскоре ей пришлось продать свое заведение.
– Благодаря моим деньгам ты добьешься успеха. Я ничего для этого не пожалею, обещаю тебе.
Она любила Фабра и доверяла ему, а потому с восхитительной наивностью написала довольно легкомысленное обязательство:
«Я, нижеподписавшаяся, даю обещание сопровождать г-на Ж.-Б. Фабра в Константинополь или же в другое место, куда ему придется поехать либо по делам службы короля, либо по собственным делам, и оказывать ему всяческую помощь в его предприятиях, не требуя за то никакого возмещения и ни при каких условиях не отказываясь от намерения следовать за ним.
Мари Пти».Когда мадемуазель Пти подписывала это обязательство, ей казалось, что отныне жизнь ее преобразится.
Она не ошибалась, хотя в то мгновение и представить себе не могла, какие приключения ей предстоит пережить…
Освободившись от денежных забот, негоциант стал встречаться с влиятельными людьми. Ему удалось обворожить всех министров своими глубокими познаниями в сфере отношений с Востоком.
Вечерами он излагал Мари суть своей миссии. Нужно было завязать тесные сношения с Персией, в которую уже начали проникать английские, голландские и португальские торговые компании, добиться безопасности для христиан, утвердить преимущество французской коммерции и подготовить проникновение в Индию.
Проект не отличался новизной, однако для его осуществления требовалась изрядная дерзость; все предыдущие попытки добиться этого потерпели неудачу, а в данный момент материальные затруднения, казалось, обрекали предприятие на провал.
В январе 1703 года г-н Фабр получил официальное предписание отправиться в Персию. Мадемуазель Пти, не помня себя от радости, стала немедленно готовиться к отъезду. Пока она паковала сундуки, Людовик XIV, со своей стороны, набрасывал список подарков, предназначенных для шаха. Приведем небольшой отрывок:
«Настенных часов – 3 штуки, ручных часов – 24, из них 12 – с репетицией, винных погребков из хрусталя – 6, атласов – 3, канделябров – 2, сверх того – несколько картин, из которых одна – с изображением монарха…»
Чтобы собрать все эти вещи, потребовался почти год.
Когда все было готово, марсельскому негоцианту вручили верительные грамоты, и новый посол, в сопровождении своего племянника Жозефа Фабра и мадемуазель Пти, переодетой в мужское платье, отбыл в Марсель в конце 1704 года.
Наконец, 2 марта 1705 года многопалубный корабль «Тулуза» поднял якорь и направился в открытое море, унося с собой г-на Фабра с его свитой! Никто не знал, что на борту находится молодая женщина.
Однако, едва Марсель исчез из виду, красивый кавалер с голубыми глазами удалился в свою каюту и вскоре появился вновь, но уже в женском обличье. С тех пор мадемуазель Пти, не считая нужным скрывать свою привязанность к послу, начала обращаться к нему несколько вольно, что сильно веселило экипаж.
8 апреля посол и бывшая содержательница игорного дома прибыли в Александрию. Пять дней спустя они уже двигались к Алеппо, куда и приехали 17 апреля.
Здесь мадемуазель Пти вновь пришлось прибегнуть к маскировке, ибо здешние жители могли бы удивиться и даже не одобрить тот факт, что посланник Людовика XIV путешествует в обществе своей любовницы. Итак, г-н Фабр стал представлять ее в качестве жены главного мажордома миссии, г-на дю Амеля.
Увы! шаловливой мадемуазель было трудно смирить свою натуру. Пылкий темперамент подводил ее, и отцы-иезуиты, обитавшие в Алеппо, были изумлены некоторыми неосторожными словами и жестами предполагаемой супруги мажордома. Отец-настоятель предпринял собственное маленькое расследование и достоверно установил личность веселой мадам дю Амель.
Решив пресечь скандальное путешествие преступной четы уже в Малой Азии, дабы в Персии не узнали об этом прискорбном обстоятельстве, настоятель отправился к паше и попросил задержать г-на Фабра в Алеппо.
Паша согласился, и в течение полугода караван не мог двинуться дальше.
Мадемуазель Пти сочла своим долгом развлекать свиту посла: каждый вечер она созывала гостей, и ужин заканчивался восхитительной оргией. Со времен игорного дома она сохранила умение веселить компанию и знала множество песенок весьма игривого содержания. Таким образом, в этих вечерах жители Алеппо могли видеть Версаль в миниатюре – это было чрезвычайно забавное отражение двора Короля-Солнца…
В октябре 1705 года, убедившись, что паша не собирается менять гнев на милость, Фабр и Мари тайком покинули Алеппо, добрались до моря и отплыли в Константинополь, где персидский посланник спрятал их, перед тем как переправить в Эривань.
Добравшись до места, г-н Фабр узнал, что хан Абдель-массин ненавидит французов. Это его страшно напугало. Тогда мадемуазель Пти, надев самое красивое платье, отправилась во дворец Абдельмассина и стала его любовницей.
Благодаря этому простому и разумному решению все затруднения разрешились незамедлительно. Уже через неделю г-н Фабр получил из Исфагана извещение, что верительные грамоты приняты и посольству будет оказан радушный прием.
Удачное начало вдохновило мадемуазель Пти и добавило ей смелости вступить на тяжкий тернистый путь дипломатии.
Через несколько дней после отъезда из Эривани г-н Фабр внезапно заболел. Метаясь в жару, корчась от невыносимой боли, он кричал, что его отравили. 15 августа лицо его приобрело фиолетовый оттенок. 16 августа он отдал Богу душу.
На одно мгновение мадемуазель Пти растерялась. Что станется с ней в этой чужой стране, среди враждебных людей?
И тогда в голову ей пришла изумительная мысль. Гениальная мысль! Обыскав труп любовника, она нашла ключи от сундуков и шкатулок, разыскала секретные бумаги и провозгласила себя главой посольства «от имени принцесс Франции».
Спутники взирали на нее в изумлении.
– Мне поручено, – сказала она, – обучить персидскую королеву французским придворным манерам. Я исполню это любой ценой, а если меня попытаются задержать, то я готова принять мусульманство и прогнать иезуитов.
Эти слова произвели должное впечатление на слушателей.
– Пока же нам нужно вернуться в Эривань, – добавила очаровательная посланница.
Маленький отряд повернул назад, и вскоре мадемуазель Пти оказалась под надежной защитой хана.
Через два часа после прибытия она лежала обнаженная на меховой постели, и ее пылко обнимал Абдельмассин, «который считал, что кожа ее слаще меда, внутренний же огонь жжет сильнее перца».
В этом положении она провела несколько недель, «укрепляя свой дипломатический статус».
Это был ловкий маневр: хан, испытывая признательность за дарованное ему наслаждение, добился того, чтобы Исфаган признал Мари в качестве официальной посланницы.
Так благодаря любви Король-Солнце обрел своего представителя при персидском дворе…
* * *
Мадемуазель Пти, заручившись поддержкой хана, решила найти союзников и среди французов. Союзником, разумеется, мог быть только любовник.
На всякий случай она обзавелась двумя. Они поселились вместе с ней в большом доме, ставшем ее резиденцией, и она заказала кровать соответствующих размеров.
Это произвело неприятное впечатление на местных жителей, которым казалось естественным, чтобы мужчина имел нескольких жен, тогда как женщина, имевшая нескольких мужей, воспринималась как нарушительница устоев.
Ее стали осуждать, а обозленные иезуиты, полностью отказавшись от милых их сердцу эвфемизмов, прибегли в отношении Мари к крепким и откровенным выражениям, коими славился конкурирующий с Братством Иисуса Орден доминиканцев.
Они дошли до того, что прямо назвали ее шлюхой.
Люди же из миссии Фабра оказались не столь суровыми – они просто смеялись.
Глава христиан Персии монсеньер Пиду де Сен-Олон отнесся к этому гораздо более серьезно. Он написал хану Тебриза, большого города, власти которого контролировали дорогу на Исфаган, и предостерег его от всяких сношений с мадемуазель Пти.
«Только одному человеку принадлежит право именовать себя послом Франции, – добавил он. – Это звание перешло к юному Жозефу Фабру, племяннику покойного».
Хан Тебриза, получив это уведомление, оказался в весьма затруднительном положении. Пока он раздумывал, как поступить, Мари не теряла времени даром: ее постель была гостеприимно открыта для всех желающих, и, надо признать, такой способ заводить друзей доказал свою чрезвычайную эффективность.
Таким образом, она стала любовницей нескольких влиятельных чиновников.
Рвение всегда вознаграждается: вскоре в Тебриз, в Эрзерум и в Исфаган полетели послания, в которых мадемуазель Пти превозносилась до небес, и вредоносное влияние писем монсеньера Пиду де Сен Олона было подорвано.
Однако затем в Эривань пришли весьма огорчительные новости из Константинополя: французский посол г-н де Ферьоль по собственной инициативе решил послать в Персию одного из своих друзей, некоего Мишеля – молодого человека двадцати восьми лет, дабы он занял место Фабра и отстранил от дел мадемуазель Пти.
В декабре 1706 года Мари получила известия о приближении каравана. Она испугалась: спешно собрав багаж, приказала подавать верблюдов и нежно простилась со всеми любовниками. Нужно было любой ценой опередить конкурента и первой предстать перед шахом.
Вечером она выехала в Исфаган.
Узнав об этом, Мишель впал в ярость и решился на отчаянное предприятие. Полагая, что французская посланница путешествует, подчиняясь неторопливому ходу караванов, он вообразил, что сможет легко догнать обоз, похитить мадемуазель Пти и заменить ее на посту главы посольства. Чтобы действовать наверняка, он бросил свой багаж, пересел на коня и галопом помчался в Нахичевань. Прибыв туда одним прекрасным вечером, он узнал, что мадемуазель Пти находится здесь всего лишь с утра, и поздравил себя с успехом.
Однако радость его оказалась недолгой: бывшую содержательницу игорного дома уже успели признать посланницей французского короля, ибо персы были совершенно очарованы любезностью ее обхождения. Сверх того, хан Нахичевани оказал ей полную поддержку: став его любовницей, она, как говорили, совершенно его околдовала.
Короче говоря, она завоевала неприкосновенность, и Мишель понял, что план похищения был чистейшим безумием.
Не задерживаясь в Нахичевани, он поскакал в Тебриз и попросил аудиенцию у хана, получившего послание монсеньера Пиду де Сен-Олона.
– Вы видите перед собой посланника Людовика XIV, – сказал он.
– Значит, вы Жозеф Фабр?
– Нет, господин Жозеф Фабр – мальчик, и его прибрала к рукам авантюристка.
– Ах, так! – ответил хан. – Я буду ждать приезда этого мальчика. Что до женщины, о которой вы говорите, то я получил на сей счет точнейшие указания, и должен вас предупредить, что не потерплю ни малейших посягновений, направленных против нее…
Мишель понурил голову. Он не думал, что содержательнице игорного дома удастся обрести столь могущественных покровителей.
Через два дня французский караван вступил в Тебриз. На самом красивом верблюде в плетеной кабинке восседала мадемуазель Пти, которая непринужденно приветствовала толпу. Вокруг нее, оказывая ей все знаки почтительного внимания, держалась группа персидских сановников, которых она, с присущим ей тактом, отблагодарила ночью.
Узнав, что соперник уже представлялся хану, она отправилась к нему в дом и ласково попросила не затевать против нее интриг.
Мишель ответил, что должен исполнить возложенную на него миссию. Тогда, рассказывают нам, она задрала юбку и спустила чулок…
Ножка была восхитительной, но молодой человек устоял против козней Мари: он упорно глядел в окно.
Она очень рассердилась и, уходя, хлопнула дверью.
Через несколько дней ей удалось полностью расквитаться за это маленькое поражение: из Исфагана пришло официальное разрешение, в силу которого шах соглашался принять мадемуазель Пти, тогда как Мишелю предписывалось вернуться в Эривань…
В персидской столице ее ожидал блистательный прием. Представ перед шахом, она преподнесла ему подарки Людовика XIV, превозносила до небес достоинства своего монарха, остроумно и живо описала Версаль, Париж, французские нравы и обычаи. Шах был очарован ею.
На время пребывания посланнице был отведен великолепный дворец; повсюду ее сопровождала почетная стража. Даже в самых смелых мечтах содержательница притона, которую именовали в Персии «франкской принцессой», не возносилась на такую головокружительную высоту.
Стала ли она любовницей шаха, как утверждали некоторые? Это кажется маловероятным. Разумеется, до целомудрия она не опустилась, и, похоже, прекрасная исфаганская весна пробудила в ней новый пыл, так что многие молодые паши совершенно потеряли голову в вихре удовольствий и наслаждений.
* * *
Пока весь Исфаган восторгался голубыми глазами мадемуазель Пти, в Версале получили известие о смерти Жана-Батиста Фабра.
Впрочем, кроме г-на де Поншартрена, никто не обратил на это внимания. Другая новость занимала умы придворных: 27 мая 1707 года умерла мадам де Монтеспан, и все разговоры крутились вокруг ужасного происшествия, случившегося с останками бывшей фаворитки.
Покойная завещала передать свои внутренности аббатству Сен-Мен, и одному молодому крестьянину было поручено доставить подарок монахам. В дороге юношу стал донимать зловонный запах, шедший из сосуда. Поскольку ему не сочли нужным сказать, что именно находится в урне, он из любопытства приподнял крышку и, увидев содержимое, решил, что над ним злобно подшутили. Рассвирепев, он опорожнил сосуд в придорожную канаву, куда через несколько минут явилось стадо свиней. Они с большим аппетитом стали уписывать внутренности прекрасной маркизы де Монтеспан.
В этом была своя зловещая символика: так завершился земной путь женщины, чей обнаженный живот служил алтарем для отвратительнейших колдовских церемоний.
Никто не сожалел о ней.
Один из придворных сказал даже:
– Внутренности? Сомневаюсь, что они у нее были. Что до Людовика XIV, то в ответ на известие о смерти бывшей любовницы он произнес с полным равнодушием:
– Слишком давно она умерла для меня, чтобы я оплакивал ее сегодня…
В то время как двор судачил о кончине мадам де Монтеспан, г-н де Поншартрен, обеспокоенный судьбой персидского посольства и подстрекаемый Ферьолем, который представил ему мадемуазель Пти воровкой, прельстившейся подарками для шаха, подписал верительные грамоты на имя Мишеля.
Тот получил их только в начале 1708 года. Тем временем мадемуазель Пти, вспомнив наставления Фабра, решила заключить с шахом торговый договор. Эта удивительная молодая женщина начала длительные переговоры, обсуждая каждую статью соглашения с ловкостью и хитростью профессионального дипломата. Проект был принят монархом. Отныне Франция вполне могла конкурировать с английскими, голландскими и португальскими торговыми компаниями. К несчастью, Мари, слишком щедро жертвуя своим телом (во имя процветания восточной политики Людовика XIV), заболела, и ей пришлось прервать переговоры. Недомогание надломило ее: бледная, ослабевшая, она вдруг ясно представила себе кончину в чужой стране, и ее охватила ностальгия по улице Мазарини.
В конце июня, уложив вещи и любезно переспав на прощание со всеми любовниками, она пустилась в обратный путь во Францию.
После короткого пребывания в Константинополе, где она была принята своим врагом г-ном де Ферьолем, который, пленившись ее красотой, стал горько сожалеть, что причинил ей столько неприятностей, она прибыла в Марсель.
Здесь ее ожидали непредвиденные осложнения: она была арестована по обвинению в воровстве. Клевета Мишеля достигла цели. В течение долгих месяцев она оставалась в тюрьме, где от нее требовали признаний, что часть подарков, предназначавшихся шаху, перешла в руки ее любовников.
В это же время новый посол вручал верительные грамоты в Исфагане и подписывал торговый договор с Персией, явившийся на свет благодаря усилиям мадемуазель Пти…
Впрочем, ему недолго пришлось хвастаться этим успехом. Г-н де Поншартрен, не дожидаясь оправдательного вердикта истории, в конце концов признал заслуги Мари и вернул ей свободу. Через два года, в 1715 году, сбылась заветная мечта бывшей содержательницы притона: персидский шах, никогда не направлявший послов к иностранным монархам, пожелал иметь своего представителя при дворе Короля-Солнца…
Возможно, это было сделано в память о прекрасной «франкской принцессе»?
* * *
Празднества, организованные в честь Мехетмета Ризабега, которого все парижане именовали «марабу», дали Людовику XIV еще одну возможность поразить мир великолепием своего царствования.
Между тем последние семь лет дела Франции шли очень плохо, а казна была пуста. В результате военных поражений возникли ужасающие дипломатические осложнения. В переплавку на золотые монеты была передана даже королевская посуда. Долгое правление Людовика XIV завершалось национальной катастрофой.
Иногда он, не в силах выносить блеска официальных приемов, удалялся в полном отчаянии в свои покои, спеша найти поддержку у мадам де Ментенон. Здесь король, превратившись в обычного человека, плакал.
Франсуаза, по воле которой назначались бездарные министры и неспособные маршалы, склонялась над ним, утешая с истинно материнской нежностью.
Что еще ей оставалось делать?
Весной монарх сделал попытку исправить положение дел. Он отказался от прежней политики, подписал договор о торговле с Англией, подготовил заключение союза с Россией, принял предложения финансиста Лоу.
Эти здравые решения не могли сразу же принести результат. Обескровленная страна изнемогала. Голодный обозленный народ всю свою ярость обращал против мадам де Ментенон, считая ее главной виновницей бедствий, и во всей Франции распевали язвительные куплеты, в которых поносилась «шлюха-святоша».
К счастью, в конце весны празднества, организованные в честь персидского посольства, слегка разрядили атмосферу.
Приободрившийся двор словно бы вспомнил о веселье былых времен, молодые маркизы, не таясь, гонялись за юными фрейлинами, и все на какое-то мгновение забыли о суровых правилах, введенных мадам де Ментенон.
Да и сам король немного оживился. Он улыбался барышням, и вокруг стали шептаться, что, несмотря на свои семьдесят шесть лет, он слегка наставил рога строгой супруге…
Эти слухи вскоре распространились по Парижу, и народ, радуясь, что «наш непобедимый Луи» еще способен совершать подвиги во имя любви, начал распевать куплеты, где утверждалось, что королю «больше нравится племянница старой любовницы, нежели она сама».
Разумеется, это было преувеличением. Молодая Франсуаза д’Обинье, племянница мадам де Ментенон, ничем не заслужила подобных обвинений, но добрым парижанам доставляла удовольствие сплетня, унизительная для супруги короля.
13 августа посол нанес прощальный визит монарху, и Людовик XIV преподнес ему богатые подарки. Перс поблагодарил, не признаваясь, что уже успел разжиться прекрасным французским сувениром. На следующий день он покинул Париж, увозя с собой жену одного трактирщика…
Пока он увозил в Руан парижанку, о которой больше никто ничего не слышал, король слег. Его чрезвычайно утомила аудиенция, данная Мехетмету Ризабегу: в течение долгих часов он вынужден был, не снимая парадного облачения, прощаться с послом в соответствии с требованиями сложного церемониала. У него разболелась нога, которая уже давно раздулась и посинела. 15 августа он не смог пойти к мессе, и его отнесли на руках. 20-го лихорадка усилилась, и ему внезапно стало так плохо, что двор перепугался. 26-го Марешаль, главный хирург, решил произвести кровопускание из больной ноги и обнаружил, что мясо сгнило до кости.
Этим обстоятельством все были крайне поражены.
Заметив странное выражение на лицах окружающих, король потребовал объяснений. Тогда ему со всем почтением сообщили, что нога поражена гангреной.
Это его очень расстроило.
– Разве у вас нет пилы? – спросил он. – Разве нельзя ее отрезать?
Врачи, заливаясь слезами, бормотали что-то невнятное.
– Я умру? – спросил тогда Людовик XIV.
Солгать ему не посмели, и он выказал большое мужество, узнав правду.
– Вот уже десять лет как я готов к этому, – прошептал он и спокойно закрыл глаза.
Врачи, потрясенные этим великолепным смирением, разнесли ответ короля по всему дворцу. Фраза была встречена общим восторгом. Однако вскоре злые языки стали говорить, что подобная сила духа объясняется страстным желанием побыстрее расстаться с мадам де Ментенон…
* * *
Пока в дворцовых коридорах шушукались, Людовик XIV, застыв под вишневым бархатным одеялом с золотым кружевом, казалось, дремал.
Не выпуская руки мадам де Ментенон, с которой прожил тридцать лет, он ждал смерти.
25 августа его соборовали. 26-го он велел позвать Филиппа Орлеанского – бывшего герцога Шартрского – и громко сказал ему:
– Племянник, назначаю вас регентом королевства. Вы увидите одного короля в могиле, а другого – в колыбели. Помните всегда первого и не забывайте об интересах второго.
Этим королем в колыбели был пятилетний герцог Анжуйский, единственный законный наследник Людовика XIV.
В самом деле, все принцы, которые могли бы взойти на престол, умерли за несколько лет до того довольно странным образом. 8 апреля 1711 года неожиданно скончался от оспы в возрасте пятидесяти лет старший дофин Людовик. В 1712 году с интервалом в несколько дней корь унесла его сына и сноху – герцога и герцогиню Беррийских. Они оставили двух сыновей: пятилетнего герцога Бретонского и герцога Анжуйского, которого еще не отняли от груди. Потрясенный Людовик XIV тут же провозгласил герцога Бретонского дофином Франции.
Но бедному мальчику недолго пришлось носить этот титул: через день после смерти родителей он тоже заболел (равно как и его маленький брат) и вскоре скончался.
Такое нагромождение трупов, конечно, вызвало толки, и в народе толковали, что уморил всю родню не кто иной, как Филипп Орлеанский: все знали, что принц страстно увлекается оккультными науками и химией.
– Он хочет посадить на трон своих, – говорили тогда. Намек был вполне понятен: старшая дочь Филиппа Мария Луиза Елизавета вышла замуж за второго сына дофина, герцога Беррийского, которого теперь отделял от трона только хилый младенец.
– Вот умрет герцог Анжуйский, – повторяла толпа, – и герцогиня Беррийская станет королевой Франции…
Умер, однако, герцог Беррийский.
Все хитроумные предположения рассыпались прахом, но это нисколько не смутило обвинителей – на смену тут же явились новые гипотезы:
– Он убил зятя, чтобы самому взойти на трон, – уверяли друг друга добрые обыватели, уже забыв о прежних подозрениях.
Филипп, крайне уязвленный этими слухами, потребовал, чтоб над ним был устроен суд. Король отказал и обелил его остроумной фразой:
– Мой племянник бахвалится несовершенными преступлениями…
Вот этому необыкновенному человеку – умному, образованному, тонкому, изящному, но вместе с тем порочному, развратному, безбожному – Людовик XIV передавал в управление Францию до совершеннолетия герцога Анжуйского, будущего Людовика XV.
Мадам де Ментенон, которая ненавидела Филиппа, видя в нем воплощение зла, смертельно побледнела при словах короля. Она так надеялась, что регентство будет доверено герцогу Мэнскому, сыну мадам де Монтеспан.
Однако Людовик XIV слишком уважал приличия, чтобы передать королевство в руки одного из своих бастардов…
29 августа старый монарх сумел проглотить лишь два небольших печенья. 30-го он потерял сознание, и мадам де Ментенон объял ужас. Зная, как ее ненавидят, она испугалась оскорблений, коими часто осыпают тех, кто был в милости, когда они все теряют, и поспешила укрыться в Сен-Сире…
31 августа Людовик XIV впал в состояние комы и 1 сентября, в четверть девятого утра, испустил последний вздох.
Через четыре дня ему должно было исполниться семьдесят семь лет. Царствование его длилось семьдесят два года.
* * *
Пока во дворце провозглашали нового короля, священники, врачи и служанки перенесли тело покойного на парадное ложе. Находясь в сильном душевном волнении, они не обратили внимания на одну пикантную деталь, которая приобретает значение символа. Вот как рассказывает об этом Матье Маре: «Тело короля было выставлено в Версале на постели с изумительным балдахином; было замечено, что это тот самый балдахин, что заказала для него мадам де Монтеспан и что там был изображен портрет этой дамы; но обнаружили это только когда балдахин стали сворачивать, так что король пролежал под ним десять дней, и все десять дней на него глядело изображение мадам де Монтеспан».
Таким образом, до самых врат могилы Людовика XIV сопровождало воспоминание о незаконной любовной связи…
Народ встретил кончину этого короля, который слишком долго правил, громадным вздохом облегчения, и 9 сентября, в день похорон, на дороге, ведущей из Версаля в Сен-Дени, веселилась громадная праздничная толпа. Всюду продавали сласти и прохладительные напитки. Люди пели, танцевали, хохотали, пили, играли на скрипке. «Всех обуяла, – пишет Дюкло, – преступная радость, и многие имели наглость выкрикивать оскорбления вслед процессии, увозившей тело».
Вечером на площадях устроили иллюминацию.
Впрочем, ликовала не только чернь: развратные друзья регента отпраздновали кончину старого монарха, устроив в Версале чудовищную оргию.
Правда, они имели право веселиться – начиналось их царствование…
Странные ужины регента
С женщинами только стыдливые проигрывают.
Теофиль ГотьеКак только закрылись глаза Людовика XIV, члены парламента направились в Большую палату, приказали открыть железную дверцу, скрывавшую углубление в стене, и вынули документ, запечатанный восковой печатью. Это было завещание короля.
Первый президент зачитал его: к вящему удивлению присутствующих, обнаружилось, что, вопреки словесно выраженной воле короля, управление делами королевства возлагалось на регентский совет, а герцог Орлеанский назначался всего лишь его председателем.
Второе потрясение ожидало парламент, когда был обнародован состав совета: среди его членов значился герцог Мэнский, сын короля от мадам де Монтеспан и любимый воспитанник мадам де Ментенон.
Итак, это было следствием интриг «старой потаскухи». Понимая, что власти ее придет конец, если регентом станет Филипп Орлеанский, Франсуаза, можно сказать, продиктовала решение королю, с твердым намерением по прежнему вершить всеми делами через посредство герцога Мэнского.
За несколько часов до смерти Людовик XIV, сожалея о своей слабости, провозгласил племянника регентом; но завещание так и оставалось нетронутым в тайнике.
Филипп не пал духом. Будучи в высшей степени одарен красноречием, он произнес блистательную речь, в которой доказывал, что регентство должно принадлежать ему по праву рождения, а затем предоставил собранию право выбирать между ним и герцогом Мэнским.
После короткого совещания все члены парламента, которых, возможно, пугало возвращение унылой мадам де Ментенон, постановили считать завещание аннулированным.
Значение этого решения трудно переоценить. Из страха перед старой ханжой парламент совершил акт, имевший неисчислимые последствия. Приняв сторону герцога Орлеанского, собрание открыло перед Францией путь вольномыслия, наслаждения и удовольствия. Страна, словно охваченная эротическим безумием, вдруг порвала с традицией здоровой плотской любви предшествующих веков и устремилась в изнурительное познание порока.
Едва получив официальное признание в качестве опекуна Людовика XV и регента королевства, Филипп назначил государственным советником верного аббата Дюбуа. Этот священник, погрязший в распутстве, познавший все пороки и излишества, равно как и сопряженные с ними постыдные последствия, пришел в полный восторг. Достигнув столь высокого положения, он мог теперь безбоязненно дать волю дурным инстинктам.
Отпраздновать назначение он решил оригинальным способом: взять, наконец, в любовницы торговку скобяным товаром с улицы Сен-Рош, на которую уже давно положил глаз. Поскольку муж этой дамы его несколько тревожил, он призвал на помощь одного из своих пажей:
– Переоденься торговцем, – приказал он, – пойди к этому мужлану и пригласи его выпить, чтобы и близко к дому не подходил.
Тот исполнил все в точности. Переговорив около четверти часа, слуга с мужем дружно направились в соседний кабак, тогда как аббат наблюдал за ними из кареты. Убедившись, что место освободилось, он одним прыжком оказался в лавке, а вторым прыжком – у ног своей прелестницы, которой, не чинясь, объяснил причину своего появления. На счастье, торговка скобяным товаром отличалась веселым правом и пылким темпераментом. Предложение ее позабавило: осмотрев аббата и удовлетворившись увиденным, она увлекла его в чулан и отдалась ему на сундуке с платяными щетками….
В дальнейшем аббат стал предпочитать собственное жилище. Каждый вечер он приводил сюда стайку молоденьких белошвеек: он говорил, что ему нравится их «шаловливость»…
* * *
Между тем сам регент также установил для себя приятный жизненный распорядок.
В девять утра он садился работать, читал донесения, отвечал на депеши или принимал послов – все это длилось до обеда. После десерта он возвращался в свой кабинет и вел заседания совета; но когда часы били пять, он кланялся своим министрам и, оставив на завтра все дела, уходил, дабы целиком отдаться удовольствиям.
Каждую неделю он менял любовницу, однако все они его обожали. Подобный успех у женщин изумлял принцессу Пфальцскую:
«Мой сын, – писала она, – не красавец и не урод, при этом у него совершенно отсутствуют качества, за которые его можно было бы полюбить; он не способен испытывать страсть, и все его привязанности недолговечны. Да и манеры его не настолько любезны или обольстительны, чтобы он мог заставить полюбить себя. Он крайне нескромен и рассказывает обо всех своих приключениях; я сотни раз говорила ему, что не понимаю, отчего женщины бросаются за ним толпами, тогда как им следовало бы бежать от него без оглядки. Однако он отвечал мне со смехом: «Вы не знаете нынешних распущенных женщин. Им доставляет удовольствие, когда мужчины рассказывают, как спали с ними!»
Расслабившись с одной из своих любовниц, регент порой совершал небольшую прогулку до Люксембургского дворца, где жила его дочь, герцогиня Беррийская, а в девять часов вечера собирал в Пале Рояле друзей на один из тех знаменитых ужинов, о которых все историки повествуют с воодушевлением и восторгом.
На подобных ужинах присутствовали друзья и любовницы регента, любовницы друзей и друзья любовниц. Этот кружок состоял из дюжины дворян, которых принц отличил и приблизил к себе: большей частью это были законченные негодяи, достойные виселицы, и по этой причине регент называл их не иначе, как своими «висельниками».
Каждый вечер к столу приглашали новых гостей: поэтов, остроумцев, оперных певичек и тому подобное. Сюда являлись куртизаны, погубившие душу, и развратники всякого рода, у которых не осталось ничего святого ни в речах, ни в поведении: здесь обо всем говорили с шутливой вольностью и постигали самые утонченные формы порока…
Для этих веселых вечеринок нужно было найти королеву. И она появилась в сентябре 1715 года. Ей было двадцать два года, в число ее прелестей входили чувственный рот, бархатные глаза, великолепные ноги и округлые бедра. Остроумная и сообразительная, обладающая темпераментом, пылкость которого была равна «селитре и лаве», она оказалась именно той женщиной, что могла бы взять бразды правления на этих скандально известных оргиях.
Принцесса Пфальцская именовала ее «восхитительным куском свежего мяса». На самом же деле она носила имя Мари Мадлен де Ла Вьевиль, графиня де Парабер.
Регент как-то раз увидел ее у герцогини Беррийской, чьей фрейлиной она была, и немедленно влюбился.
– Кто эта молодая женщина? – спросил он у одного из своих друзей.
– Ее называют «святой недотрогой» за невинный вид, – ответил тот, – но она еще никого не разочаровала. Вам понравится.
Регент был очарован и, не откладывая дела в долгий ящик, пригласил мадам де Парабер в уединенный дом, который по его указанию был отделан надлежащим образом. В каждой комнате стояла элегантная мебель, все стены были украшены картинами, возбуждающими чувственность, всюду стояли вазы со свежими цветами, наполняющими воздух своим пьянящим ароматом. Мадам де Парабер, быстро справившись со смущением, признала, что этот очаровательный и таинственный уголок более всего подходит для любви принца. Он был любезен, был настойчив, и он обрел счастье…
Мари-Мадлен де Парабер
Когда дело завершилось к обоюдному удовольствию, произошла забавная сцена: пока Мари Мадлен лежала обнаженной на кровати, приходя в себя после бурных объятий, Филипп хлопнул в ладоши: двери с шумом распахнулись, и вошло около десятка человек, поджидавших сигнала в прихожей, – они принялись шумно и весело аплодировать.
Тогда регент, в том же костюме, что и мадам де Парабер, поднялся и торжественно провозгласил новую любовницу королевой всех празднеств. Во время этой речи мадам де Парабер пыталась скрыть хоть часть своих прелестей, загородившись шляпой Филиппа, но это ей не вполне удалось…
* * *
Эта первая встреча оказалась решающей. Регент, вдохновившись пылкостью и живым воображением молодой женщины, решил сделать ее своей официальной фавориткой. Дабы окончательно завоевать расположение избранницы, он уже на следующее утро преподнес ей богатый подарок.
Он подарил ей кольцо с алмазом ценой в две тысячи луидоров и коробочку в двести. У дамы был ревнивый муж; но она отличалась таким бесстыдством, что пошла прямо к нему и сказала, что люди, которым срочно нужны деньги, предлагают ей эти вещи за бесценок. Муж поверил и дал жене денег. Сердечно его поблагодарив, она положила деньги в кошелек, коробочку в сумочку, а кольцо с алмазом надела па палец. Вечером она оказалась в изысканном обществе, и ее спросили, откуда появились кольцо с коробочкой. Она ответила:
– Мне преподнес их господин де Парабер. Муж был рядом и подтвердил:
– Да, это мой подарок. Разве можно скупиться, имея благородную жену, которая любит только своего мужа и безупречно ему верна?
Над этими словами посмеялись, ибо не все были так простодушны, как муж, а некоторые знали, откуда взялись дорогие подарки у этой дамы…
Став «султаншей королевой», мадам де Парабер стала руководить всеми развлечениями на ужинах в Пале Рояле. Она была не только хозяйкой дома, но и любовницей всех гостей, что придавало этим встречам неповторимый шарм. Рвение ее было настолько велико, что она совершала подлинно героические деяния на ниве любви, каждого из которых хватило бы честной женщине для сладостных воспоминаний до конца дней своих.
Под влиянием этой неутомимой женщины оргии приняли такой размах, что историки, посмевшие прикоснуться к сей опасной теме, прибегают обычно к эвфемизмам и не отваживаются описывать детали…
В сравнении с подобными, почти невероятными увеселениями, столетней давности шалости королевы Марго – для своего времени весьма дерзкие – могли бы показаться невинными шутками престарелых дам, вспоминающих молодость.
Франция была в руках распутного пьяницы и обворожительной истерички…
Франция на пороге катастрофы
Мадам де Парабер всегда боялась не успеть…
Луи ФуконьеУ регента было множество забот. Каждый день министры доносили ему о прискорбном положении, которое сложилось в финансовых делах. Государственная казна оскудевала с пугающей быстротой, и в конце 1716 года дефицит достиг 140 миллионов ливров.
Филипп Орлеанский был в отчаянии. Все средства, к которым можно было прибегнуть: переплавка монет, пересмотр государственных обязательств, продажа поставок и откупов (сбор косвенных налогов), – оказались исчерпанными. Страна находилась на пороге катастрофы.
Именно тогда мадам де Парабер, по просьбе одного из своих новых любовников Носе, имевшего некоторые познания в сфере финансов, уговорила регента испробовать систему шотландского банкира Лоу. Система отличалась простотой: Лоу хотел распространить на всех способ расчетов, принятых между негоциантами, – иными словами, заменить монеты банковскими билетами.
Чтобы эти бумажки могли завоевать доверие публики, они должны были иметь поручительство мощного и богатого предприятия. Он решил создать при поддержке влиятельных лиц банк, который мог принимать платежные поручения торговцев, выдавая им взамен собственные билеты, которым и предстояло заменить прежние деньги.
Наконец, чтобы развеять все сомнения, было обещано, что банковские билеты (в отличие от платежных поручений торговцев) будут оплачиваться при первом предъявлении: вернув их в банк, любой человек мог потребовать, чтобы ему было заплачено за них золотом или серебром.
Лоу рассчитывал, что доверие к этим билетам позволит превратить их в настоящие деньги, с помощью которых можно будет расплачиваться с кредиторами государства.
Регенту эта идея показалась соблазнительной, и он разрешил Лоу учредить банк, который тут же приобрел бешеную популярность у публики.
Тогда Лоу, сильный поддержкой Носе и мадам де Парабер, решил расширить свою систему: он намеревался привести к расцвету торговлю и погасить задолженность путем учреждения компаний, которым король даровал бы монополию на ведение дел. Так была основана в 1717 году «Индская компания», акции которой шли нарасхват.
Регент, по наущению мадам де Парабер, жаждавшей обогащения, передал Лоу в аренду королевские земли. Тогда выпустили 300 000 новых акций по цене 5 000 ливров за штуку. Сначала запись была свободной; но ажиотаж приобрел такие размеры, что акции стали продавать только тем, кто расплачивался банковскими билетами. Это превратилось в соревнование, кто быстрее освободится от своего золота.
Тут пронесся слух, что в Луизиане обнаружено несколько золотых месторождений и что на их разработку Индская компания получает от Королевского банка аванс в двадцать пять миллионов банкнотами. Отныне ничто уже не могло удержать золотую лихорадку. Всеми овладело какое-то исступление. За несколько дней цена акций взлетела с 5 000 до 25 000 ливров. Улица Кенкампуа, где находился дом Лоу, была местом встречи спекулянтов, и каждый мог любоваться их безумствами. Бывало, что лакеи, приехавшие туда в понедельник на запятках карет своих господ, в субботу возвращались, восседая в них и небрежно разваливаясь на бархатных подушках.
* * *
Все эти пертурбации не мешали парижанам интересоваться интимной жизнью регента. В мае 1718 года столицу потрясла новость и в самом деле скандальная. Филипп только что приказал выпустить новое издание «Дафниса и Хлои» с двадцатью восемью гравюрами собственного изготовления, и пополз слух, что Хлою он рисовал со своей дочери Марии Луизы Елизаветы, герцогини Беррийской, причем та позировала обнаженной.
– Что ж тут удивляться, – говорили осведомленные люди, – ведь она его любовница.
В самом деле, в Париже уже давно поговаривали, что регент приглашает дочь на оргии в Пале-Рояле.
По утверждениям некоторых всезнаек, у этой кровосмесительной связи было необыкновенное начало. Как-то вечером герцогиня Беррийская, которая втайне обвенчалась с Риом, простым гвардейским капитаном, позвала отца к себе, дабы упросить дать согласие на оглашение брака. Во время ужина, происходившего без свидетелей, Филипп, опасаясь гнева матери и жены, отказал дочери наотрез. Герцогиня не стала настаивать.
Переменив тему, она подошла к регенту и нежно обняла его со словами:
– Если вы меня любите, то скажете одну вещь. Я бы все отдала, чтобы узнать об этом… Кто скрывается под Железной маской?
– Об этом никто никогда не узнает, – ответил Филипп.
Тогда Мария Луиза Елизавета, если верить все тем же всезнайкам, принялась уговаривать отца, ибо имела свою корысть: узнав тайну, она могла бы сказать регенту: «Дайте согласие на оглашение брака, иначе я расскажу всем об узнике Пиньероля».
Однако регент не сдавался. Демоническая герцогиня, которую ничто не могло остановить, села на колени к Филиппу и якобы сказала ему:
– Если вы доверите мне тайну, я стану вашей любовницей.
Не выдержав искушения при мысли, что будет обладать этой красавицей, чьи амурные похождения были ему хорошо известны, он раскрыл секрет…
После чего, уверяли сплетники, Мария Луиза Елизавета простерлась на канапе, а ее отец поступил с ней на манер древних героев…
Эта история, которой так возмущался Мишле, похоже, была выдумана от начала и до конца кумушками обоего пола с чересчур живым воображением. В течение многих недель публика зачарованно внимала невесть откуда взявшимся подробностям.
Когда об этом сообщили регенту и его дочери, они только улыбнулись. Добрые люди сочли это признанием вины и стали сочинять куплеты примерно такого свойства:
Толстуха Валуа делает с папочкой То самое, что Эдип проделывал с мамочкой.Вот так дочка, вот так папа!..
Вскоре за дело принялись писатели. 18 ноября 1718 года Вольтер поставил «Эдипа» – пьесу, в которой было множество намеков на происшествие в доме герцогини Бер-рийской. Весь двор с замиранием сердца ждал, какова будет реакция Филиппа – он присутствовал на представлении вместе с дочерью.
Регент ничем не уронил достоинства знатного вельможи. Когда актер Дюфрен, имевший наглость скопировать не только его парик, но даже жесты, вышел кланяться, Филипп стал шумно аплодировать, а затем отправился поздравлять Вольтера, пенсия которого на следующий день возросла с четырехсот экю до двух тысяч ливров…
Подобная непринужденность несколько озадачила славных парижан, и они снова обратились к тому, что происходило на улице Кенкампуа.
А здесь по-прежнему ловкие спекулянты за несколько часов сколачивали себе состояние, наживаясь на акциях.
Естественно, мадам де Парабер также вела биржевую игру. Но кто мог сравниться с ней, если она даже не платила за акции. Регент ей их просто дарил! Филипп также предоставил ей двенадцать поместий, благодаря чему она получала ренту в восемьдесят тысяч ливров и смогла купить герцогство Данвиль у графа Тулузского за триста тысяч ливров.
Через месяц она приобрела землю в Берри Блан на сумму в одиннадцать сотен тысяч ливров, и эта земля приносила мадам де Парабер двадцать восемь тысяч ливров ежегодного дохода.
* * *
Финансовый бум продолжался всю зиму 1719 года. Однако в начале 1720-го было замечено, что у банка появились некоторые затруднения. Герцог Бурбонский, встревожившись, немедленно предъявил билеты к оплате и увез домой шестьдесят миллионов на трех каретах. Тут же с невероятной быстротой распространились тревожные слухи, и весь Париж оказался во власти чудовищной паники. Акции упали в цене на 30, 40 и 60 процентов. Уличный торговец продавал пирожки за двести банкнотов; банк, выпустивший три миллиарда бумажных денег под гарантию семисот миллионов наличных, оказался не в состоянии платить. Система шотландца завершилась грандиозным банкротством…
Толпа, собравшаяся под окнами Лоу, требовала повесить того самого человека, которого накануне превозносила до небес. Отцы семейств в отчаянии кончали с собой. Носе и мадам де Парабер поносили на всех углах в памфлетах и песенках: подозревали, что именно они оказали протекцию финансисту Шотландцу в конце концов пришлось укрыться в Пале Рояле, ибо чернь могла растерзать его.
Назревал бунт. Всего лишь через несколько дней регент смог убедиться в этом лично. Отправляясь в Аньер к любовнице и проезжая через деревню Руль в окружении гвардейцев, он услышал яростные крики:
– Ату его! Ату его! Этот человек увозит наши бумаги и наши деньги!
Филипп не повел и бровью, но подобные демонстрации произвели на него самое тягостное впечатление.
Через несколько месяцев Лоу вынужден был бежать из Парижа. Столица же была на грани мятежа. Тогда мадам де Парабер, которая благодаря советам Носе сделала на «системе» состояние, испугалась, что придется возвращать деньги, и побудила регента упразднить «Индскую компанию». Постановление было подписано 7 апреля 1721 года. С этого момента акционеры могли считать свое золото безвозвратно потерянным, и Матье Маре, адвокат парламента, записал в дневнике с привычным хладнокровием; «Подданных короля разорила дворцовая интрига, затеянная фавориткой. Cunnus teterrima belli causa».
Последнюю фразу можно перевести следующим образом: «П… стала причиной ужаснейшей войны…»
В этом великолепном афоризме заключена значительная часть мировой истории…
Регент умирает в объятиях мадам де Фалари
Никогда не знаешь, чем закончится свидание…
Марсель ПревоВ августе 1721 года регент вдруг заинтересовался прекрасной Адрианной Лекуврер и поручил кардиналу Дюбуа лично отправиться в дом актрисы на улице Маре, дабы известить ее о своем желании.
Прелат проявил чудеса изворотливости и такта. Но Адрианна была целомудренна и отказалась удовлетворить прихоть регента.
– Прошу передать мою бесконечную благодарность Его королевскому высочеству, – сказала она, – но я решила целиком посвятить себя искусству.
Раздосадованный кардинал прочитал ей небольшую проповедь, еще раз доказав, что не зря носит высокий церковный сан, и всячески убеждал непокорную вступить, наконец, на путь греха, присущий всему роду человеческому.
Адрианна была доброй христианкой и заупрямилась. Тогда Дюбуа заговорил отеческим тоном, уверяя, что наслаждение с лихвой покроет небольшой ущерб, нанесенный добродетели, и что она, сверх того, свершит богоугодное дело…
– Регенту сейчас приходится очень тяжело, и вы одна можете даровать ему утешение, к которому он стремится…
Однако все эти льстивые слова пропали втуне. Адрианна не пожелала исполнить свой христианский долг, и кардиналу пришлось несолоно хлебавши возвращаться в Пале Рояль, где его ожидали упреки в никчемности и бездарности…
Впрочем, Филипп быстро забыл неудачу с актрисой. В то время он был целиком занят делом чрезвычайной важности, а именно бракосочетанием Людовика XV. Дружеские отношения между Францией и Испанией следовало скрепить династическими браками, и регент вел переговоры о замужестве двух своих дочерей с испанскими принцами, а также о женитьбе двенадцатилетнего короля Людовика XV на инфанте.
В начале сентября 1721 года испанский король Филипп V сообщил Людовику XV, что отныне тот помолвлен с инфантой Анной Марией Викторией, которой было три с половиной года. Король, «пугавшийся неожиданностей», ничего не ответил. Регент, маршал де Вильруа и г-н де Фрейюс, расстроенные этим молчанием, попросили короля сказать хоть что-нибудь, поскольку его согласие было необходимо для продолжения переговоров.
Несчастный мальчик, еще больше оробев, упорно не размыкал губ. Наконец Вильруа, не выдержав, наклонился к нему:
– Ну же, мой повелитель, соглашайтесь, дело того стоит!
Вжав голову в плечи и уткнувшись взглядом в носки туфель, Людовик XV еще в течение часа терзал безмолвием троих мужчин, которые уже и не знали, что обещать ему, лишь бы он дал согласие на брак с инфантой. Наконец король решился и с глазами, полными слез, произнес «да» еле слышным голосом…
Будущая супруга короля прибыла в Париж 2 марта 1722 года… Людовик XV приехал встречать ее в Бур ла Рен и поцеловал в лоб, не сказав ни единого слова.
Все последующие дни, когда маленькая испанка бурно радовалась торжествам, устроенным в ее честь, король не раскрывал рта, чем приводил в отчаяние двор.
Однажды инфанта, которой уже исполнилось четыре года, объявила:
– Мой жених очень красивый, только он не разговаривает, как мои куклы.
Ввиду такого затруднения было решено в начале июня перебраться в Версаль, дабы к королю вернулись дар речи и умение улыбаться. Людовик XV обожал этот дворец, а потому пришел в полный восторг. 15-го он совершил торжественный въезд в свою загородную резиденцию.
На следующий день сюда привезли Марию Анну Викторию, и они заняли апартаменты, некогда отведенные для Людовика XIV и Марии-Терезии…
Двор же, не обращая никакого внимания на двух коронованных детей, ударился в неслыханный разгул. Если в Париже у этих мужчин и женщин еще оставалось какое-то подобие стыда, то буйно цветущая природа вызвала у них такой приступ эротической лихорадки, что они не смущались более ничем. Парочки бегали друг за другом вокруг фонтанов, а затем беззастенчиво совокуплялись прямо на лужайке…
Самой же распутной из всех дам была герцогиня де Рец (которая вследствие этого получила красноречивое прозвище «Мадам Воткни Мне»).
Она обладала поразительно пылким темпераментом. Однажды вечером в ответ на упреки своего любовника Риона она ответила, что он должен благодарить ее за снисходительное отношение, ибо она бережет его силы, потому что не может заснуть, если ей не сделают приятное восемь раз.
* * *
Пока Людовик XV рос, непостижимым образом сохраняя чистоту посреди всей этой грязи, регент, истощенный оргиями и развратом, слабел день ото дня.
Хотя он был в цвете лет, его пресытила жизнь, исполненная порока. По утрам он испытывал тяжкое похмелье после ночной попойки; постепенно он расходился, но прежней быстроты соображения лишился: равным образом, ему были теперь не под силу продолжительные занятия, а чтобы оживить его, требовались все более шумные развлечения.
В Версале он томился: ему недоставало ужинов в Пале Рояле, где собиралась живописная и разнородная компания. Он скучал по своей маленькой ложе в Опере, куда приглашал танцовщиц и певичек. Но, главное, он чувствовал себя глубоко изношенным и признавался, что перестал получать удовольствие от вина и что не способен уже доставлять наслаждение женщинам.
Последнее, впрочем, не вполне соответствовало действительности. Несмотря на свою очевидную и прогрессирующую немощь, Филипп Орлеанский по-прежнему оставался дамским угодником.
В конечном счете, это будет стоить ему глаза. Однажды вечером, позволив себе «чрезмерную вольность» с маркизой д’Арпажон, он получил от молодой женщины удар каблуком в лицо.
На следующий день регент окривел.
Это досадное происшествие не отвратило его от слабого пола. Напротив, он проявлял живейший интерес даже к веяниям моды. Послушаем Матье Маре: «Вот уже несколько дней раздаются жалобы, что женщины позволяют себе приходить в укороченных платьях даже в церковь. Регент же сказал, что, будь его воля, он бы это категорически запретил: потому что всю жизнь задирал дамам юбки и не желает, чтобы люди говорили, будто во времена своего правления он довел дело до того, что они сами стали заголяться».
25 октября в Реймсе состоялось коронование Людовика XV, и Филипп присутствовал на церемонии вместе с мадам Левек. Впрочем, царствование этой очередной фаворитки также близилось к завершению. В ноябре месяце ей было приказано покинуть Версаль под предлогом, что ее пребывание здесь нарушает приличия и может послужить дурным примером для короля. Правда, некоторые люди утверждали, будто регент износился настолько, что «бедняжке оставалось лишь пришивать пуговицы к рубашке»…
После исчезновения мадам д’Аверн Филипп Орлеанский стал любовником своей кузины, мадемуазель де Ша-роле; затем он заинтересовался знаменитой мадемуазель Аиссе.
Это была молодая красивая черкешенка, которую г-н де Ферьоль, французский посол в Константинополе, купил на невольничьем рынке за восемь тысяч франков, намереваясь сделать ее своей любовницей.
Когда его отозвали во Францию, он привез с собой юную Аиссе – ей было тогда восемнадцать лет – и попытался затащить в постель, но, если верить Сент-Бёву, который защищает добрую память Аиссе с поразительной горячностью, потерпел полную неудачу.
Когда регент встретился с ней в одном из салонов, она была уже не угловатым подростком, а красивой женщиной двадцати пяти лет. Влюбившись в нее, он с обычной своей непринужденностью предложил ей пройтись в спальню.
Однако у бывшей рабыни оказалось больше гордости и достоинства, нежели у придворных дам: она ответила, что никогда не согласится стать его любовницей, а если он будет принуждать ее, то немедленно удалится в монастырь.
Удивившись, регент не стал настаивать и несколько дней спустя обрел утешение с изумительно красивой мадемуазель Уэль, племянницей мадам де Сабран. Ей было семнадцать лет, она еще не знала мужчин, но, как говорили, «обладала огнем, пылавшим в нужном месте». Он же в свои сорок восемь лет превратился уже в полную развалину.
Девушка, весьма разочарованная вялостью утомленного жизнью любовника, вскоре вернулась к тетке. Тогда Филипп позвал к себе женщину, которую знавал еще в те времена, когда его любовницей была мадам де Парабер, – ее звали мадам де Фалари.
Это была изящная блондинка с голубыми глазами и пышными формами: про нее говорили, что «любовные утехи ей не в тягость». В возрасте двадцати пяти лет она имела множество любовников.
Когда стало известно, что она заняла место официальной фаворитки, появились куплеты, в которых высмеивались как необъятное лоно мадам де Фалари, так и мужское бессилие регента.
Возможно, она и в самом деле не получала от совместной жизни с Филиппом того удовлетворения, на которое надеялась, однако она его не бросила. Проникшись жалостью к этому помятому, изношенному, прогнившему насквозь человеку, с трудом ковылявшему от кресла до кресла, она превратилась в преданную сиделку и нежно ухаживала за ним, а по вечерам перед сном читала ему рыцарские романы или волшебные сказки. Пора веселых ужинов Версаля прошла…
Иногда Филипп, очнувшись от тяжкой полудремы, проявлял интерес к нынешним похождениям своих бывших любовниц – ив его единственном глазу зажигался тогда веселый огонек. Он оживлялся, когда ему рассказывали пикантные подробности недавних скандалов, и радовался, узнавая, что многих дам «испортили» и что королевскому хирургу Ла Пейронни приходится заниматься в основном дурными болезнями.
Регентство завершалось в гнилости и мерзости самого отвратительного разврата.
* * *
8 декабря 1722 года в возрасте семидесяти одного года скончалась принцесса Пфальцская. Народ придумал ей жестокую эпитафию: «Здесь покоится праздность, мать всех пороков».
Филипп был потрясен смертью матери и впал в полную прострацию. Когда 16 февраля 1723 года Людовик XV достиг совершеннолетия, это было встречено общим вздохом облегчения.
Злосчастные герои эпохи регентства стали исчезать с такой быстротой, словно речь шла об актерах дурной комедии, которая наконец закончилась. В начале лета слег, чтобы больше не подняться, кардинал Дюбуа. У него было воспаление мочевого пузыря, следствие его распутства, и он втайне от всех приглашал к себе самых искусных врачей – не потому что стыдился своей болезни, а оттого, что, как и все министры, старался скрыть недомогание.
В августе наступило обострение, и было решено делать операцию. Ла Пейронни, принеся глубочайшие извинения кардиналу, который отвечал проклятиями, отрезал насквозь прогнившие гениталии.
На следующий день, 10 августа, Дюбуа умер без покаяния, лишившись, как говорит Матье Маре, даже утешения забрать с собой в мир иной то, что ему отхватили начисто…
С этого момента регент стал стремительно приближаться к своему концу. Ему угрожала апоплексия, поэтому врачи каждый день прибегали к кровопусканию.
2 декабря, отяжелевший, с побагровевшим лицом, он сидел в розовой гостиной в обществе мадам де Фалари. Закрывшись с ней, он забавлялся в ожидании часа, когда надо будет работать с королем; молодая женщина, распустив белокурые волосы, положила голову на колени принцу, но тот внезапно тихо сказал:
– Друг мой, я немного устал, и в голове у меня тяжесть. Почитай мне какую-нибудь сказку, у тебя это так хорошо получается. У меня страшно ломит затылок.
Герцогиня тогда села в кресло рядом со своим любовником. Внезапно герцог Орлеанский покачнулся и упал ей на руки. Увидев, что он потерял сознание, молодая женщина принялась звать на помощь. Она кричала изо всех сил, но никто не откликался. Тогда, кое-как прислонив бедного принца к спинке кресла, она побежала в кабинет, затем в спальню, в прихожую, но никого не встретила и бросилась на галерею, а потом и во двор.
На бегу она повторяла: «Иисус, Мария, сжальтесь надо мной». Наконец ей попался слуга, который и поднял тревогу во дворце. В кабинет, где лежал регент, ринулось множество людей. Один из камердинеров, уложив его на пол, попытался пустить ему кровь. В этот момент вошла мадам де Сабран. Злобная натура ее взяла верх над состраданием, и она закричала:
– Не надо делать кровопускание. Пусть эта дрянь о нем заботится!
Рыдающая мадам де Фалари проглотила оскорбление, а камердинер произвел операцию. Но все было тщетно. В семь часов вечера регент скончался, не приходя в сознание.
Потрясенная мадам де Фалари бежала в Париж.
Тело регента, замаранное развратом, претерпело поношение и после смерти. Вот как рассказывает об этом Барбье: «Ужасная и необыкновенная вещь случилась после кончины герцога Орлеанского. Как обычно, тело вскрыли, чтобы набальзамировать, а сердце захоронить в Валь де Грае. В это время в комнате находилась датская собака принца, которая внезапно, так что никто не успел вмешаться, схватила сердце и проглотила почти целиком. Судя по всему, это свершилось во исполнение какого-то проклятия, ибо пес этот всегда ел досыта и никогда ничего не брал без позволения. Об этом происшествии старались никому не рассказывать и скрывали его как могли, но все это истинная правда».
* * *
Так ушел в небытие человек, чьи безбожие и беспутство, глубоко возмутив народ, поколебали устои монархии, ибо престиж ее оказался подорванным самым опасным образом. «Регентство представляет собой пролог революции, – написал один из историков, – оно уничтожило прошлое и посеяло зерна будущего».
Разумеется, женщины несут свою долю ответственности за это уничтожение.
Если Мария Манчини своей образованностью, Генриетта Английская своим политическим чутьем, Луиза де Лавальер изяществом, мадам де Монтеспан хитроумным коварством, мадемуазель де Фонтанж элегантностью, а мадам де Ментенон умом способствовали расцвету Великого века Людовика XIV, то мадам д’Аверн, мадам де Парабер и прочие излишне доступные и легкомысленные женщины своим развратным поведением произвели переворот в умах.
А вслед за ними явятся другие, не столь беззаботные, но столь же бесстыдные – и процесс разрушения обретет неудержимую силу. В царствование Людовика XV вся власть окажется в руках нескольких восхитительных женщин, но воспользуются они ею с удручающим легкомыслием.
И здесь остается только развести руками в изумлении: в течение целого тысячелетия женщины благодаря своему шарму, обаянию и красоте играли решающую роль в возведении и укреплении французского трона, и всего за семьдесят лет с помощью все тех же шарма, обаяния и красоты они добьются того, что здание французской монархии рухнет с оглушающим треском.
Примечания
1
Месье (с заглавной буквы) – обращение, принятое к брату короля. – Ред.
(обратно)
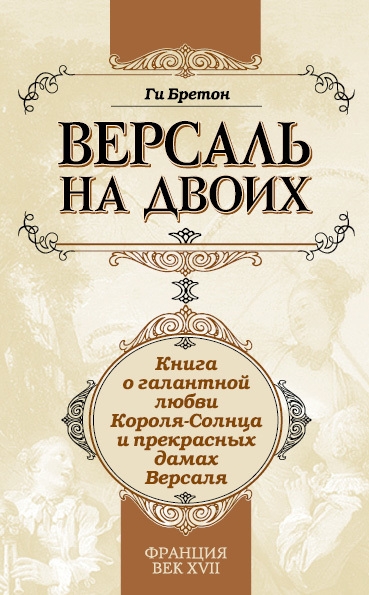


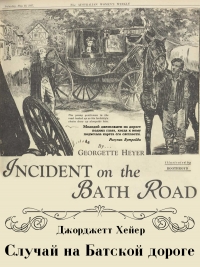
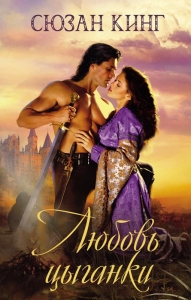


Комментарии к книге «Версаль на двоих. Книга о галантной любви Короля-Солнца и прекрасных дамах Версаля», Ги Бретон
Всего 0 комментариев