Последствия любви непредсказуемы.
СтендальПРОЛОГ
От Парижа до Марселя три дня пути в карете. Три дня!.. Но это — для других: более разумных, предусмотрительных, а главное — более удачливых. И подумать только: этот кузнец из Мон-Нуар [1], здоровенный детина, который завораживал взглядом лошадей, когда они бились и не давали подковать их, — он так перепугал Марию мрачным просверком исподлобья (словно и она была глупой, строптивой кобылкою, которую нужно подчинить своей воле), что путешественница отпрянула назад, в карету, и велела Дени поскорее погонять, решив, что уж лучше поискать по пути другого кузнеца, чем терпеть этот необъяснимый страх. Но демоны ужаса уже успели завладеть ее душою; да, наверное, настигли они и Дени (который, вообще-то, был просто старый, упрямый Данила). Чуть ли не впервые в жизни он не стал пререкаться с хозяйкою, а поворотил карету вновь на проезжую дорогу к Мон-Нуар, через который им надлежало проехать. А в этом городе, как известно, улицы вымощены маленькими, острыми булыжниками, чем-то похожими на груши. Человек, по ним идущий, напоминает подагрика, ну а уж лошадь со сбившейся подковою… Через пол-лье подковы слетели у трех лошадей враз, а четвертая ступала так, словно вот-вот готова была охрометь. Пришлось волей-неволей поворачивать.
Нет, Мария, все еще зачарованная смутной тяжестью в душе, не нашла в себе сил снова увидеть кузнеца: она сошла, чтобы переждать в гостинице, имевшей вполне благопристойный вид и поименованной «Bon Roi» — «Добрый король». Это-то название и расположило Марию к заведению, хотя в пору нынешнего кровавого revolte [2] звучало почти непристойно. И как же местные жители не сбили вывеску или хотя бы не изменили эпитет на вовсе противоположный, удивилась Мария; не иначе — так привыкли к этому названию, что даже перестали вникать в его смысл.
Как бы то ни было, «Bon Roi» оказался к Марии вовсе не добр. Данила необъяснимо задерживался: уже смерклось, а его все не было; поэтому Марии пришлось спросить ужин. На ужин подали полусырого и подгоревшего гуся, зажаренного на вертеле. На возмущение постоялицы отозвался хозяин, по гостеприимству и приветливости сравнимый только с кладбищенским сторожем. Он стал жаловаться на отсутствие припасов и хорошего повара, а в утешение посоветовал отведать старого бургундского, которое помнило еще его деда. Бургундское, как известно, не очень вкусно первый и второй год, но потом ничто не может с ним сравниться; однако через 12–15 лет оно начинает портиться, поэтому в достоинства столь древнего напитка верить не стоит. Хозяин же, судя по всему, верил, а главное, очень желал, чтобы поверила Мария. Она же только учтиво улыбалась в ответ. Пощипывая жесткое гусиное мясо, путешественница уговаривала себя, чтоб достало осторожности отмолчаться: горничная, смазливая, хоть и немытая девка, уже поглядывала на ее нарядное платье голодной волчицей… Мрачный городишко этот Мон-Нуар, и люди в нем мрачные, тоскливо думала Мария, до боли в сердце желая лишь одного: в сей же миг очутиться на палубе «Сокола», который ждал ее в Марселе, и чтобы ветер бил в паруса… вечно попутный ветер… и чтобы через все моря — домой, в российские пределы! Если бы еще получить весточку, что предприятие их удалось, что та, другая, карета, проследовавшая на север, добралась до места благополучно… Но никакого известия так скоро, конечно же, случиться не могло, разве что на «Соколе» Мария что-нибудь узнает.
Наконец-то появился Данила — с вытянутым от усталости и огорчения лицом, и Мария поняла, что прокисшее бургундское — еще не последняя досада нынешнего дня.
Так оно и оказалось. Двух лошадок подковали, а третьей в копыто забился осколок камня, который кузнец брался извлечь лишь завтра, при дневном свете.
Хочешь не хочешь, а в «Добром короле» предстояло ночевать.
Лицо Данилы еще более удлинилось, когда он увидал и отведал свою долю ужина. Чревобесием [3] тут и не пахло!
— Гусь — птица неудобная. Одного на жаркое мало, двух много, — пробормотал он себе в утешение и впился немолодыми своими зубами в птичье мясо.
Мария же направилась в предоставленные ей отдельные покои, как пышно поименовал хозяин убогую каморку, где ей предстояло провести ночь. Впрочем, Даниле не повезло получить даже lit а́ part — отдельную постель, несмотря на принадлежность к нынешнему как бы господствующему сословию: пришлось ночевать вместе с другими слугами на сеновале.
Мария отказалась от услуг неопрятной горничной; она мечтала о том, чтобы никогда больше ее не видеть. Однако ни утром, ни днем тронуться в путь не удалось. Кузнец не появлялся в кузне до самого полудня, а потом возился с лошадью до темна. Мария уже соглашалась оставить охромевшую и купить другую лошадь, да узнала, что продажных в городке нет. Не имелось таковых и во всей округе: все реквизированы народной полицией.
Повторный ночлег в «Добром короле» покоя не принес: за стенкою горничная шумно ублажала хозяина; и чуть рассвело, Мария была на ногах. Данила, слава Богу, уже возился с каретой, так что первый луч солнца еще не коснулся высокого шпиля ратуши, когда Мария вновь была в пути. Выезжая из проулка, где ютился «Bon Roi», она оглянулась — дернула же нелегкая! — и укололась о темный взор полуодетой горничной, свесившейся из окна вслед повозке знатной постоялицы. Ну и злобные же взгляды у них, в Мон-Нуар, подумала Мария, словно все они тут, вместе с городом своим, — и впрямь порождение Горы ночи. С этой минуты Мария не переставала ожидать от судьбы новой каверзы, которая вскоре и не замедлила случиться.
Ехали по отвратительной дороге — все спуски да подъемы. Обочь стояли хилые деревья с обрезанными наголо ради вязанки хвороста стволами. Навстречу тянулись длинные обозы из Прованса, а раза два-три огромные телеги с впряженными в них четверками лошадей чуть не разбили легкую карету. Данила уворачивался молча, с перекошенным лицом и стиснутыми зубами: при малейшем отпоре провансальские возницы — самые вспыльчивые и грубые на свете — охотно избили бы кнутами кучера богатого экипажа.
Мелькнул впереди объезд, Данила тотчас повернул — и через полчаса неровной, мучительно-тряской езды случилось вот что: карета жалобно запищала, потом закачалась, словно некий великан решил позабавиться и потрясти ее, — и вдруг села с хрустом на «брюхо», а Мария, падая с сиденья, успела увидеть в окно, как весело катится прочь колесо.
Через несколько минут, когда она выбралась из кареты и подошел, хромая, Данила, выяснилось, что укатились два колеса. Враз.
Какие только чудеса не случаются на дороге, — но чтобы сломались одновременно две железные чеки…
Убедившись, что барыня жива, невредима и даже не сильно лютует, Данила осмотрел место слома — и долго стоял остолбенелый, обнаружив явственные следы подпилов. Сделавший это даже не позаботился скрыть свою злокозненность! Мария, однако же, не очень удивилась: она ждала чего-то подобного; а вот Данила, тот совершенно ошалел — хватаясь то за одну, то за другую половинку сломанной чеки, он то и дело повторял:
— Mais pourquoi, pourquoi [4], черт меня задери?..
Здесь следует пояснить, что Данилу, дворового парикмахера, матушка дала среди прочих слуг Марии с собою, когда та уезжала из России. Куафер быстро привык носить французское платье разных цветов и резонерствовать по поводу и без повода, коверкая что свой родной, что чужой язык. В доме баронессы Корф старались говорить по-русски, но вполне чужеземного поветрия, конечно, оберечься не могли. Несмотря на привившуюся любовь к спорам, в душе Данила оставался тем же русским крепостным, что и прежде, так что нынешних безумствований французских не принимал, не понимал — и понимать не желал, называя революцию не иначе как «злобесием» и «некошным», то есть нестоящим, негодным делом; а потому сейчас он плюхнулся Марии в ноги, как отцы и деды его делывали, и заголосил по-старинному:
— Не вели казнить — вели миловать, Марья Валерьяновна! Завела меня сюда не злая моя воля, а чаробесие!
У Марии рука чесалась на старого куафера-кучера: зачем недосмотрел, зачем колеса не проверил?! — но без «чаробесия» тут и впрямь не обошлось, она и сама не сомневалась в этом, тем паче что Данила кучером лишь по нужде содеялся. Поэтому, оттолкнув его носком туфли, она велела распрягать лошадей, чтобы седлать их к верховой езде.
— Верхом! По такой-то задухе [5]?! — закудахтал Данила. — А добро ваше, а сундуки? Неужто бросим?!
— Ты что, вовсе обезумел? Узлов навяжем, навьючим на свободных лошадей! — Мария сердито скинула с плеч шарф: жара и впрямь подступала жестокая.
Конечно, милое дело — дождаться вечера, ехать по прохладе, но у марсельского причала нетерпеливо пританцовывает на зеленой волне «Сокол» — легкокрылый «Сокол», готовый улететь в родимую сторонку… Нет силы ждать до вечера!..
— Седлай, — велела Мария уже не столь сердито — видение корабля смягчило ее гнев.
Она направилась к карете: кроме узлов, что предстояло навязать, следовало забрать еще кое-что тайное и очень важное не только для нее. И тут Данила громко ахнул. Мария обернулась. Облако пыли клубилось по дороге совсем невдалеке; раздавался стук копыт, возбужденные окрики — к ним приближались всадники.
Первой мыслью было, что весело несется навстречу кавалькада охотников-дворян, но то была иллюзия, воспоминания о минувшем, с которым тотчас же пришлось расстаться: за плечами одного из всадников развевался трехцветный шарф офицера народной полиции.
— Приветствую тебя, гражданка! — весело закричал всадник, осадив коня. Лицо офицера было лукавое, смуглое, волевое — лицо гасконца. Он окинул Марию взглядом, который польстил бы любой, самой привередливой красавице, но следующие слова его тотчас разрушили очарование: — Вижу, тебя настигла беда в дороге, однако сочувствие выразить не могу: для нас это — большая подмога!
И тут Мария увидела его отряд. Кроме нескольких солдат национальной гвардии и крестьян, там были и двое знакомых; узнав эти лица, она в гневе затрепетала. Пресловутый кузнец — все с тем же мрачным, гнетущим взглядом из-под насупленных бровей, — и злая красивая девка с полуобнаженной грудью и заткнутым за пояс пистолетом. Девка сидела верхом по-мужски, ветер, закидывавший вверх ее юбку, обнажал выше колен смуглые точеные ноги, на которых едва удерживались сабо — грубые башмаки из толстой кожи на деревянной подошве. Хотя выглядела она совсем иначе, чем вчера, Мария узнала ее тотчас: это была горничная из «Доброго короля»! И только теперь возник у Марии вопрос, который, конечно же, следовало бы задать себе сразу же, как только сломались подпиленные чеки: почему это произошло? кем и зачем было содеяно?..
Но теперь времени на раздумья не было. Теперь, подымая пыль, кружили вокруг кони, теснили путников, так что перепуганный Данила вскричал на своем ужасном французском:
— Mais eaissez moi done, messieurs, êtes — vous fous?! [6]
Он не успел договорить: кузнец накинулся на него с веревкой; и девка тоже спорхнула с коня, угрожающе надвинулась: в глазах ее горела даже не ярость — чистое безумие! У Марии ослабли ноги, она покачнулась… Но тут кто-то стиснул ее локоть железными пальцами — и боль вернула силы. Яркие глаза офицера блеснули рядом; голос его зазвенел насмешливо:
— Угомонись, Манон! Ты сделала свое дело — теперь дай слово мне.
Девка возмущенно подалась к нему. От этого движения грудь ее вся выпрыгнула из корсажа. Данила и кузнец — оба замерли: один с вывернутыми за спину руками, другой — вцепившись в него; и оба разом сглотнули слюну. Голая девкина грудь, казалось, жила своей собственной жизнью.
И снова прозвучал насмешливый хрипловатый голос офицера:
— А в средние века, между прочим, пышный бюст был не в моде. Женщины, обладавшие такими вот формами, носили корсет, который, сжимая грудь, скрывал ее, насколько возможно…
Он хохотнул, но не отпустил руку Марии и подтолкнул ее к карете:
— Позвольте побеседовать с вами наедине, мадам.
Просьбу это мало напоминало, но спасибо — он хоть перестал называть ее гражданкой! Мария ненавидела это слово, которое звучало теперь повсюду: в лачугах и во дворцах, в полях и на площадях. Гражданка — слово грубое и бессмысленное, словно звон коровьего бубенца, и в то же время — пугающее, напоминавшее похоронную дробь барабана…
Полумрак кареты, знакомые запахи бархата и духов вернули Марии самообладание. Она села, неторопливо разложила вокруг пышные складки платья и небрежно кивнула офицеру, который все еще стоял, полусогнувшись, — был слишком высок, чтобы распрямиться в этой тесной, уютной коробочке.
— Вы можете сесть, сударь.
— Вы так добры, баронесса, — сказал он с иронией в голосе.
Сердце Марии екнуло. В следующее мгновение она выхватила из шелковой сумочки свои дорожные бумаги и ткнула ими в лицо офицеру:
— Да, я баронесса Корф. И что же? Мои документы в порядке, на них подпись самого Монморена…
— Да, да, русский посол господин Симолин и наш министр иностранных дел оказались настолько легкомысленными, что поверили в вашу байку: мол, собираясь в дорогу, вы нечаянно, вместе с прочим мусором, сожгли только что полученные документы, согласно которым собирались ехать во Франкфурт с двумя детьми — какими? чьими, позвольте спросить? — а также с камердинером, слугами, горничной и еще Бог весть с кем! Отчего же вы изменили свои планы и попросили новые документы — на выезд в Рим в сопровождении одного лишь слуги?
Только Симолин и Монморен знали о суете с документами, но лишь русский посол мог догадываться о том, что за всем этим кроется. Что же подозревает, о чем догадывается, что знает доподлинно этот офицер?..
Мария была слишком упряма, чтобы сдаться без борьбы. Она заносчиво спросила:
— А какое вам дело, сударь, до того, почему женщина вдруг изменила свои намерения? Да, документы сгорели, вдобавок я сочла, что холодный воздух Франкфурта не пойдет мне на пользу — и предпочла теплый, итальянский.
Офицер глядел сочувственно, кивал понимающе:
— Да, о да, мадам. Клянусь, вы меня убедили, к тому же я снисходителен к женским причудам… Скажите только, что же нам теперь делать с двумя баронессами Корф?
Сердце Марии снова екнуло. Она с трудом перевела дух.
— Как… с двумя?
— Да так. С вами, баронессой Марией Корф, глаза темные, волосы русые, рост высокий, двадцать девять лет, — и еще с одной, по документам — тоже двадцать девять, а на деле — тридцать восемь. И волосы у нее седые, и при ней увалень муж по фамилии Капет, который ехал под документами этого вымышленного камердинера. Плюс двое детей, верная подруга… — Он на секунду замолчал, глядя в ее побледневшее лицо. — Продолжать?..
Мария едва заметно покачала головой. И вдруг, встрепенувшись, ухватилась за последнюю соломинку:
— Вы сказали — седые волосы? Почему — седые? Тут какая-то ошибка!
Он помедлил с ответом, явно наслаждаясь ситуацией. Затем, чуть усмехнувшись, проговорил:
— Никакой ошибки, мадам. Волосы той, что ехала на север под вашим именем, волосы Марии… Марии-Антуанетты, которую французский народ справедливо прозвал австрийской волчицей, — волосы ее поседели за одну ночь — после возвращения из Варенна, где ее задержали.
Мария смотрела на него расширившимися глазами.
Все, конец. Вот теперь и впрямь — конец.
* * *
Варенн! Но ведь это совсем близко от Парижа! Почему же так скоро их схватили? Почему их вообще схватили? Что произошло, что не сработало в тщательно выверенном плане?!
Господи, как долго они готовились… Королева оказалась, как всегда, гораздо решительнее своего мужа. Людовик XVI никак не мог поверить, что его bon peuple [7] желает теперь лишь одного: низложения и смерти своего Bon Roi. Но устроить бегство королевской семьи — дело нелегкое, деликатное и опасное: следовало раздобыть деньги, фальшивые паспорта, карету, кучера, лошадей, охрану, провизию, нужно было договориться о подставах в дороге, вывезти монархов из Тюильри, доставить их к границе… Документами занималась Мария. Добыть их удалось без особого труда. Деньги раздобыли Жан-Аксель Фергзен, верный рыцарь несчастной королевы, ее наперсница Элеонора Сюлливан и старая графиня Строилова, тетка Марии. Элеонора, кроме того, заказала у каретника Жана-Луи огромную берлину [8], которая могла вместить и монархов, и свиту. Фергзен… Фергзен, казалось, был повсюду, принимал участие решительно во всем, и во время всех этих хлопот Мария впервые взглянула с уважением на красавца-шведа: да, любовь к королеве и впрямь — звезда путеводная его жизни!.. Когда все было готово, слажено, подогнано одно к другому, словно части хитроумного механизма, пришлось помедлить еще несколько недель, чтобы дождаться отпуска одной из горничных Марии-Антуанетты, которой побаивались, подозревая в ней демократку. И вот три дня назад одна баронесса Корф со свитой и семейством выехала на север, направляясь во Франкфурт, другая, почти в то же время, — на юг. И… и что же случилось? По какой причине столь тщательно слаженный заговор провалился?
Мария сжала кулаки — ногти вонзились в ладони. Однако туман в глазах от боли начал рассеиваться.
Так… Воистину, воля Господа неисповедима, и что случилось — то уже случилось. Но она еще узнает, как это произошло и можно ли все исправить. Правда, узнает и исправит лишь в том случае, если будет иметь такую возможность. А для этого надо поскорее воротиться в Париж, а еще прежде — избавиться от вертопраха-полицейского, нагло развалившегося напротив и не спускающего с нее своих бесстыжих глаз.
Гасконец! Со времен Анри IV все рисуют себе гасконцев в радужных красках и не знают в том никаких сомнений. Однако этот офицер — последний человек в мире, которому поверит и доверится Мария!
— Да, — задумчиво проговорила она, — быстро же вы до меня добрались…
— Это времена такие нынче — быстрые, даже стремительные. К тому же — счастливая судьба! — Он сделал попытку галантно поклониться, но задел макушкой потолок кареты и остался сидеть. — Правда, на сей раз судьбе помог один бдительный гражданин, друг народа… да вы его видели, наверное: кузнец из Мон-Нуар. У него возникли подозрения на ваш счет. Чтобы проверить их, он решил по мере сил и фантазии задержать вас в пути… а тут гонец из Парижа с известием о вареннском бегстве. Мы ринулись в погоню за вами — а вы нас уже здесь поджидаете!
Он явно издевался, но Мария и бровью не повела: что без этой мрачной твари, кузнеца, не обошлось, она уже давно поняла.
— Ну что же, гражданин, — ее передернуло от отвратительного вкуса этого слова, — вы прекрасно знаете: я — русская, я подданная Ее Величества Российской императрицы Екатерины Алексеевны, — а значит, могу себе позволить убеждения иные, чем у вас и ваших vignerons (от волнения Мария позабыла, как по-французски «кузнецы», и сказала «виноградари»). Не вижу оснований задерживать меня, а тем более — ломать мою карету. Извольте следовать своим убеждениям, а мне предоставьте следовать своим — и своей дорогою!
— Народ судит не за убеждения, а за действия! — проговорил офицер столь напыщенно, что сразу сделалось ясно: он повторяет чужие слова. Но тотчас в глазах его зажегся прежний нагловатый огонек, а рука медленно поднялась к плечу Марии и слегка коснулась его. — Горничным много хлопот с вашими туалетами, — снова заговорил гасконец. — Все эти застежки, крючки, шнурки… Mon Dieu, зачем? Я бы не стал медлить. Р-раз! И я бы кинжалом вспорол дорогую оболочку! — Он так резко провел указательным пальцем по корсажу к самому мыску лифа, от которого расходились складки юбок, что Мария невольно вскрикнула, словно он и впрямь оголил ее тело.
Он на секунду замолчал, затем заговорил очень медленно, словно с трудом подбирал слова:
— Но потом… потом я бы не спешил… я бы медлил, медлил, пока ты не взмолилась бы… и мои губы… твои губы… не отрывались бы…
Пока же не отрывались друг от друга только их глаза — распаленные взоры слились, как в поцелуе, но вдруг оба содрогнулись, точно при грохоте выстрела: рядом кто-то громко и грубо выругался.
Злющая горничная, девка из Мон-Нуара, вскочила на подножку кареты и теперь стояла, пригнувшись, точно кошка, готовая к прыжку, осыпая обоих отборной бранью.
Что и говорить, в моде у дам того времени были резкие и даже грубые манеры, но эта девка выражалась уж вовсе по-площадному, то есть настолько грязно, что Мария невольно заслонилась от нее ладонями.
А гасконец весело посмеивался, словно появление злобной девки было лишь удачным продолжением шутки.
— Venus en fureur [9]! — воскликнул он сквозь смех. Потом, увидев лицо Марии, добавил: — Нет, две разгневанные Венеры!
— L'aspic [10]! — прошипела Мария, отворачиваясь, но тут же вновь ощутила на своей руке его цепкие пальцы.
— Я был так увлечен беседой с тобою, гражданка, что не успел сообщить: именем французского народа мне предписано арестовать тебя!
— Арестовать?! — вскричала Мария — и ей эхом отозвалась девка:
— А-рес-то-вать?! Эту шлюху? Эту поганую аристо [11]? — И, высунувшись из кареты, она завопила: — Вы слышали, друзья?! Он хочет арестовать пособницу австриячки!.. Нет, братья свободы, не допустим этого! Не допустим!
И Мария ахнуть не успела, как ее вырвали из рук офицера, вытолкнули из кареты и бросили на дорогу. Девка уселась на нее верхом, вцепилась в распустившиеся волосы и закричала:
— Клянусь, она не доедет до тюрьмы! В петлю ее! A la lanterne [12]!
Словно темный туман окутал все вокруг, дыша смрадом немытых, разгоряченных тел.
— В петлю аристо! — раздавались дикие голос. — Повесить ее, повесить! A la lanterne!
— Опомнитесь, граждане! — вмешался наконец-то офицер. — У меня приказ Конвента. Это соучастница преступления, нам нужны ее показания…
Но в голосе офицера не было твердости, и мятежники не обратили никакого внимания на его слова, только девка, исступленно дергая Марию за волосы, выкрикнула:
— Показания?! На черта нужны ее показания, если булочник Капет [13] уже схвачен? Ее место у тетушки Луизы [14], но у той и так много поживы. Зачем ждать? Доставим себе удовольствие! В петлю ее! В петлю!
И снова на Марию накатилась тьма, ударяя по глазам отдельными просверками: разинутые в крике рты, связанный Данила, неловко привалившийся к боку кареты, а в глазах его — ужас; озабоченное лицо гасконца — он пытается остановить толпу, но люди, опьяненные жаждой крови, спорят, кричат, беснуются; девка, задрав юбку, скачет перед офицером, виляя голыми бедрами, визжит, хохочет, слова сказать не дает и вот уже все хохочут, и офицер тоже смеется, и наконец-то, махнув рукой, грубо хватает девку, лапает, целует… Он согласился, он сдался — и отдал им Марию.
Они повесили бы ее сию же минуту, но оказалось, что в спешке не захватили с собой веревки.
* * *
Мария немало прожила во Франции и знала, что французам, как никакому другому народу, свойственна врожденная склонность к беспорядку. Погнались вот за беглянкой, желая непременно ее повесить, — да забыли о веревке. Однако эта мысль — повесить, непременно повесить! — настолько овладела их взбудораженным сознанием, что никто даже не вспомнил о пистолетах. А что касается веревки — то сама мысль о хорошо намыленной, крепкой веревке до того прочно засела в их головы, что никто и не вспомнил о ременных гужах или поводьях, которые в палаческом деле — подспорье не из последних.
Словом, судьба подарила отсрочку: сгонять за веревкой в Мон-Нуар вызвалась девка (ее по иронии все той же насмешницы-судьбы звали Манон [15]), а без нее, словно она была тем кресалом, который распалял мужчин, они сделались посмирнее и, оставив в покое пленников, с упоением принялись грабить карету.
Вытащили сундуки, корзины, содрали бархатную и шелковистую обивку… Мария с Данилой встревоженно переглядывались, но поделать ничего не могли — им оставалось лишь взывать к Господу в глубине сердец своих. Разумеется, не о багаже были их тревоги, но пока, к счастью, никто из грабителей не орал истошно и торжествующе, не выскакивал на дорогу, прижав к груди заветную шкатулку. Наконец из разоренной кареты вылез последний крестьянин с пустыми руками и недовольным лицом. И надежда вновь осенила Марию своим крылом…
Корзины с припасами тотчас распаковали и невдалеке, на полянке, устроили пирушку. Мария и Данила снова переглянулись. Ну, если не теперь, то уж и никогда! Прикусив губу до крови, Мария сумела-таки вызвать на глаза подобие слезинок и закричала как могла жалобнее:
— Господин офицер! Во имя неба, выслушайте меня!
Офицер тоже направлялся к раскинутым скатертям, заваленным провизией. Досадливо оглянувшись на Марию, словно она была не той самой женщиной, к которой он только что отчаянно вожделел, он процедил сквозь зубы:
— Я ничего не могу сделать для вас, баронесса. Молитесь — пусть Бог дарует вам последнее утешение.
— О том я и прошу! — вскричала Мария, с такой силой заломив связанные руки, что от боли слезы хлынули из глаз ручьем. — Позвольте мне помолиться, как того требует моя вера! Мы, русские, — православные, и наше последнее обращение к Богу требует уединения и полумрака. Позвольте мне войти в карету, собраться с мыслями, вверить Господу душу мою…
В глазах гасконца вспыхнуло любопытство:
— Да, я что-то такое слышал. Вы, русские, — прямые потомки монголов и до сих пор остались идолопоклонниками. — Он задумчиво оглядел Марию. — Ну что ж, эту последнюю малость я могу вам позволить.
Видно было, что жалость робко постучалась в его сердце, но слишком много глаз было устремлено на них; вдобавок сотоварищи его уже ели, пили… Гасконец судорожно сглотнул, рывком поднял Марию и втолкнул ее в карету.
— Молитесь, — сказал он. — Молитесь, баронесса! — И прикрыл за нею повисшую на одной петле дверцу; шелковые шторы были сорваны, однако кожаная обтяжка пока осталась нетронутой.
Мария рухнула на колени, шепнула, зная, что Данила ее слышит: «Уповай на Господа!» — и с трепетом воззрилась на пол. Оказалось, что грабители облегчили ей задачу — иначе как со связанными руками отодрать обшивку, чтобы обнажить доски? А теперь ясно видна заветная планочка — чуть темнее других. Мария нажала на нее, чуть повела вперед — и в полутьме, пропахшей потными мужскими телами, потянуло легким, сладковатым дуновением из открывшегося тайника.
Какое счастье, что кинжал она положила сверху: обе руки не пролезли бы в узкую щель. Теперь же оставалось лишь подцепить его пальцами и укрепить в щели стоймя, чтобы перерезать веревку. Это оказалось легче задумать, чем осуществить, а время, чудилось, летит со свистом мимо, обжигая лицо!.. Но едва с рук Марии упала последняя петля, как что-то зашевелилось сзади.
Мария резко обернулась — так что волосы закрыли глаза. Сдула их нетерпеливо, но все равно — какой-то миг смотрела слепо, ничего не видя от ужаса. И даже не взором — всей похолодевшей кожей узнала: кузнец!
Сейчас он был совсем другой — это Мария тоже почуяла мгновенно. Так два зверя, сойдясь на узкой тропе, сразу чуют слабое место противника, и если осторожный хочет жить, он уходит. Но сейчас вся мрачная сила кузнеца осела в его чресла, и эта похоть была его слабостью. Он даже тайника не заметил! Одежда его была с готовностью раскрыта, и, увидев то, что предстало глазам ее, Мария с трудом подавила позывы тошноты.
— Какая наглость! — прошипела она, и эти слова на миг замедлили порыв насильника; Мария же поудобнее перехватила кинжал и повернулась.
Выражение тупого изумления и обиды, появившееся на лице кузнеца, едва не заставило ее расхохотаться; а ледяное, привычное прикосновение стали к ладони тотчас вернуло ей самообладание.
— Ну что? Желаете скрестить оружие? — прошептала она насмешливо, поигрывая кинжалом и глядя на кузнеца, чей боевой меч, только что бывший, так сказать, наизготовку, вдруг неудержимо начал опускаться; теперь от смеха просто невозможно было удержаться, так что Мария едва не пропустила мгновение, когда кузнец разинул рот, собираясь окликнуть сотоварищей.
В тесноте кареты метать кинжал было неудобно, и все же Мария попыталась. И тотчас с бульканьем хлынула кровь из горла кузнеца, и Мария, одолев отвращение, с силой дернула его за руку, чтобы он упал в карету, а не вывалился наружу. Вот был бы сюрприз его сообщникам!
Однако тяжелое кровоточащее тело навалилось на тайник, так что мороки прибавилось. У Марии подгибались колени, когда ей наконец-то удалось своротить мертвеца в сторону. Вдобавок за стеной постанывал Данила, все нудил под руку:
— Поспешите, матушка-барыня, ради Господа, ради Боженьки!
Так бы и сняла башмак, так бы и поколотила дурня! Кузнец-то влез в карету с противоположной дверцы, миновав Данилу, тому и невдомек было, чего там копошится барыня.
Брезгливо отерев кинжал о рубаху кузнеца, Мария поднесла острие к груди — и одним махом распорола себе платье до пояса. Опалило воспоминание о том, как дерзкий палец гасконца проделал тот же путь… О нет, подумала Мария, просто так она отсюда не уйдет, что бы потом ни случилось! Нужно отдать долг офицеру, и если удача сейчас перешла на ее сторону, то хоть за волосы, хоть силком, но Мария удержит при себе эту капризную даму еще хоть ненадолго!
Брат когда-то рассказывал ей, что гусар должен в две минуты одеться, оседлать лошадь и открыть огонь. Седлать и стрелять пора еще не настала, но Мария мгновенно содрала с себя платье и облачилась в крестьянскую рубашку и юбку с высоким корсажем. Грудь свободно заколыхалась — крестьянки ведь не носят корсетов, — и Мария потуже стянула рубаху у горла. Перекрестилась — и осторожно выглянула из кареты.
Веселая компания все еще пировала, и Мария, лежа за каретой, ухитрилась разрезать Даниловы путы. Его скрутили, при этом изрядно помяв, но вся боль враз забылась, когда он увидел, какая же забота так задержала его госпожу. Крови из кузнеца набежало уже море, и Мария поскорее вытащила из тайника шкатулку, заботливо стерев с нее несколько темно-красных капель.
— Боже, во имя твое, спаси! — пробормотал Данила, перекрестившись. Затем схватил барыню за руку: — Бежим, бежим, скореича!
— Погоди. Куда в ливрее? Тебе нужна другая одежда. А вот и она идет!
«Она» приближалась к ним на плечах крестьянина, ноги которого заплетались от выпитого; он шел к карете, сопровождая чуть более трезвого офицера: тот, видно, счел, что времени вручить Богу свою душу у пленницы было предостаточно. А может, в опьяненном мозгу зародились те же намерения, что и у кузнеца: душа, мол, Богу, тело — мне…
Данила вновь затаился в углу, изготовившись разобраться с простолюдином, а Мария зашла с другой стороны. Выждав, когда офицер сунулся в карету и остолбенел, увидев вместо плачущей женщины окровавленный труп кузнеца, она поймала его за руку и дернула с такой силой, что тот, влетев в карету, растянулся на полу — с кинжалом, приставленным к горлу. К тому же Мария успела выхватить оба его пистолета; один сунула за пояс, как носила Манон, а на другом, заряженном, взвела курок.
Хотя гасконец находился в весьма незавидном положении, лицо его вновь приняло насмешливое выражение.
— Признаюсь, чего-то в этом роде я все время ожидал, сударыня. Хотя женщина умная и умеющая пользоваться своим умом — большая редкость. А вам, вдобавок, и силы не занимать… кто бы мог подумать, глядя на ваши шелка! — пробормотал он, кося взглядом в вырез рубахи Марии. — И должен сознаться, что сей наряд вам очень к лицу…
— Nullité [16], — прошипела Мария, хотя ей хотелось обрушить на поганца-француза всю самую злокорную русскую лайку и срамочестие — именно по-русски, дабы облегчить душу. Да не к поре пришлось, не ко времени: Данила подтащил своего супротивника (видно, угостил его, как говорят французы, а coup de bâton, то есть отлупил основательно!) и, проворчав: «Пей, да не пропивай разума!» — принялся переоблачаться в его одежонку — тоже с гусарской сноровкою.
— Morbleu [17]! — пробормотал офицер, словно бы только сейчас осознал, что же произошло. — Да с меня шкуру заживо сдерут в трибунале, гражданка, если я вас упущу!
— Не успеют, уверяю вас, — усмехнулась Мария, наслаждаясь своей властью над ним, вспоминая, как они сливались взорами…
— Вы меня убьете? — Голос офицера был спокоен, но в глазах вдруг словно погасло что-то… — О, как вы мстительны, прекрасная дама! La belle dame sans merci [18]! — Он нервически хихикнул. — Так уж делайте скорее свое дело: вот-вот воротится Манон — и мои санкюлоты снова возбудятся от запаха ее юбок.
Мария брезгливо поморщилась.
— Эта девка еще свое получит! — пригрозила она — и твердо знала в этот миг: все сбудется по ее! — Но вам я вот что скажу на прощание, граж-да-нин… Я была совсем еще девчонкой, когда поняла: ужасен и отвратителен слепой и неправедный народный гнев, но это гнев детей или животных, стада… и народ всегда достоин прощения. Не заслуживает же его, вдвойне, втройне мерзок и отвратителен дворянин, который продает честь своего сословия за право жить — и пляшет перед диким стадом, забавляя его своим бесчестием!
Лицо его сделалось бело, как бумага, глаза горели, а нужные слова, очевидно, не шли на ум — слишком крепка оказалась пощечина, и Мария подумала было: «Как истый гасконец, он не простит мне всю жизнь, что не сумел ответить!» Потом вспомнила, что пришел его час умирать, и захотела дать ему последнюю возможность найти ответ, — но он сам рванулся вперед, наткнувшись на кинжал. Острие скользнуло по ключице, пропороло рубаху и вонзилось в горло. Мария замерла, вдруг до боли в сердце пожелав вернуть его к жизни, а он выдохнул:
— Ничто не в силах противостоять красивой женщине! — И кровь забулькала в его горле, но улыбка не растаяла: успел-таки оставить за собой последнее слово!
— Le pauvre [19]! — проворчал рядом Данила. — Гасконец, что с него возьмешь?
— Как ты сказал? — вся дрожа, обернулась Мария. Кучер понял: госпожа сейчас не в себе. Он крепко взял ее под руку.
— Помните, как у нас говорят: «Нижегород — либо вор, либо мот, либо пьяница, либо жена гулявица!» А здесь сказывают: однажды гасконец попался черту на зубок, и тот предложил выбирать: либо языка лишиться, либо бабьей радости, а не то — и вовсе жизни. Ухарь наш таково-то долго выбирал, что черт плюнул с тоски — да и провалился обратно в свое пекло. С тех пор они и остались бабники да острословы, гасконцы те!
Нижегородская, родимая скороговорка немного успокоила Марию, пропала дрожь, и она смогла стоять сама.
— Седлай, не медли. Чего в самом деле ждем — пока та курва воротится или эти олухи набегут? — велела она хрипло. — Да кинжал возьми, слышишь? — Обернуться, еще раз взглянуть на мертвого не находила сил.
Данила зашел сзади, бормоча:
— Жизнь — копейка, голова — ничего! — Потом замолк, как бы подавился, и слышно было, как он вытирает нож о траву…
Мария тяжело перевела дух.
Убивать невозможно привыкнуть, даже если не в первый раз, даже если защищаешь свою жизнь. К тому же эта смерть, она была совсем иной, чем смерть насильника-кузнеца. Мария твердила себе, что случившееся — нечто не стоящее внимания, и старалась припомнить, как это выразить по-французски. Сколько лет прожила здесь — а в тяжкие минуты слова чужого языка словно вымывало из памяти… А, вот, вспомнила: quanfité négligeable, да, именно так!
Раздался протяжный, влажный вздох: Данила подвел коня, взялся за стремя.
— Садитесь. Тем-то упырям, пока суд да дело, я ремни под седлами порезал. Да они уже и так лыка не вяжут от барских вин! — В голосе Данилы звучала обида слуги за господское добро, и Мария невольно усмехнулась.
Они довели коней до зарослей тамариска — и только тогда сели верхом.
— А теперь, Данила, гони! — велела Мария.
— В Марсель прикажете? — спросил куафер-кучер.
— В Париж! — крикнула Мария, хлестнув коня поводьями, так что он с места взял рысью. — В Париж!
— Эх, с ветерком, родимые! — завопил Данила, и дорога послушно легла под копыта.
* * *
Мария пригнулась к шее коня. Ветер бил в глаза. Но не ветер мешал ей смотреть вперед. Не в Париж возвращалась она сейчас — в прошлое.
Глава I СКОРОБЕЖКА
Маше Строиловой не исполнилось еще и двенадцати, когда пожар пугачевщины опалил нижегородские земли. Это было в июле 1774 года, но уже с прошлой осени из Поволжья и с Урала долетали слухи один страшнее другого, слухи о самозванце, назвавшем себя царем Петром III Федоровичем — крестьянским царем, который у помещиков отнимает крестьян, дает им волю, а господ казнит за их издевательства над народом. Слухи эти не повторял только ленивый! Двадцатипятитысячная армия — крестьяне, яицкие казаки, калмыки, башкирцы и другие племена, — вооруженная копьями, пистолетами, офицерскими шашками, штыками на длинных палках и просто дубинами, за неимением другого оружия, неслась по степям, опустошая губернию за губернией, осаждая крепость за крепостью. Названия тех городов и крепостей, которые держались, даже если их жителям приходилось утолять голод вареными овчинами, как в Яицкой крепости или в Оренбурге, передавались из уст в уста, словно имена из Священного Писания.
Отец то и дело наезжал в Нижний, где губернатор Ступишин собирал дворян для совета, и возвращался раз от разу все мрачнее; но от детей самое страшное старались утаить. Однако чего не договаривали отец с матерью или Татьяна с Вайдою — эти старые цыгане весь дом держали в ежовых рукавицах! — о том Машенька с Алешей узнавали на кухне, в людской, в девичьей. А здесь, понятно, судачили только лишь о победах мятежников, смакуя подробности их жестокосердия к поверженным врагам. На всю жизнь запомнила Маша судьбу защитников Татищевской крепости, которую Пугачев захватил лишь после троекратно отбитого штурма, воспользовавшись пожаром. Офицеров, после жестоких пыток, кого перевешали, кому отрубили головы. С полковника Елагина, командующего гарнизоном крепости, человека тучного, содрали кожу; вырезав из него сало, злодеи мазали им свои раны. Жена Елагина была изрублена. В то время в крепости оказалась и дочь Елагиных. Мужа ее, коменданта Ниже-Озерной крепости, храброго секунд-майора Харлова, самозванец казнил незадолго до того. Вдова славилась удивительной красотою — и вся эта красота пошла в добычу злодею: более месяца он продержал у себя молодую женщину как наложницу, а семилетнего брата ее назначил своим камер-пажом. Низкие душонки, окружавшие Пугачева, во всяком, даже редчайшем, порыве доброты его видели измену; уступая их требованиям, самозванец приказал расстрелять несчастную красавицу и ее брата. После ружейного залпа, еще живые, они, истекая кровью, добрались друг до друга и, обнявшись, испустили дух…
…Иногда рассказчик умолкал, и тогда на кухне надолго воцарялась тишина. Печь еще не погасла, и отблески пламени высвечивали в лицах то, что должно было скрыть молчание: и отвращение к жестокосердию, и восхищение им же, и давно лелеемую жажду отмщения, и жадность при мысли о том, что Пугачев все захваченные крепости, города и деревни отдавал своим людям в полное разграбление… В глазах же иных девиц пылала даже зависть к участи прекрасной вдовы, сумевшей хоть на месяц, но увлечь самозваного царя. То, что она жизнью своей и всех, кого любила, оплатила эту позорную «честь», как бы и не имело значения: каждая из девок не сомневалась, что смогла бы всецело овладеть сердцем крестьянского царя. Ведь удалось же это дочери яицкого казака Устинье, с которой Пугачев повенчался от живой жены Софьи, да еще приказывал, чтобы на выносах и эктениях [20] поминали Устинью Петровну как императрицу. Правда, сказывали, что три священника, при Пугачеве находившиеся, отказались за неимением Синодального [21] указа именовать Устинью императрицей, хотя и поминали самозванца как императора Петра III…
Все эти тайные и явные чаяния были Маше омерзительны, однако в тот вечер к ней пришла догадка: если чьи-то Глашки и Петьки, крепостные и дворовые, радостно предают своих господ смерти и присягают злодею, то подобное может случиться со строиловской дворней и крестьянами. Маша поняла, твердо усвоила: если одурманит народ сладкая сказка, он соленую, надежную быль сам в крови утопит! Народ — пустой мечтатель, для него настоящее — ничто в сравнении с будущим. И если один, отдельный человек согласится, что синица в руках — лучше, чем журавль в небе, и хорошо там, где нас нет, но дома все же лучше, то народ, толпа, желает только журавля — и туда, где нас нет.
Конечно, Маша была еще несмышлена — она все это не словами высказала, не разумом осмыслила, а всем своим существом ощутила. И вся дальнейшая жизнь только подтвердила, что догадка ее применима не к одному лишь русскому народу…
Но все это потом было, позже, а пока, выслушав леденящую душу историю и представив, как умирающие брат и сестра ползут друг к другу, в последнем усилии жизни соединяя окровавленные руки, Маша зашлась таким ужасным криком, что в людской содеялся превеликий переполох. Сбежались матушка, Татьяна; девочку чуть не в беспамятстве уложили в постель; и Вайда учинил дознание и, поскольку дворня всегда рада доносительствовать, вскорости вызнал, что явилось причиною припадка барышни, а стало быть, тем же вечером виновные отведали добрых плетей.
Такие неприятные обязанности в отсутствие хозяина всегда ложились на плечи Вайды, ибо у княгини характер был мягкий, а у Елизара Ильича, управляющего, — мягче втрое. Отец (собственно, был он Маше отчимом — ее родной отец, граф Валерьян Строилов, вместе с полюбовницей пал когда-то жертвой собственной лютости, от которой много страданий приняла его жена, Машина мать. Впоследствии, после многих тягот и страданий, она вышла за давно любимого ею князя Алексея Михайловича Измайлова, и он никогда никакого различия между Машенькой и своим сыном Алешей не делал, хоть падчерица его и оставалась графиней Строиловой, а сын — будущим князем Измайловым) — итак, отец всегда каждый поступок Вайды одобрял, но на сей раз, о порке узнавши, брови свел то ли задумчиво, то ли осердясь. В нынешнюю сомнительную пору, когда началось немалое бегство нижегородцев в повстанческую армию Пугачева, кое-кто из бар ужесточился с крестьянами, кое-кто, напротив, нрав укротил: иные едва ли не заискивали перед теми же, кого вчера драли на конюшне и продавали с торгов. Алексей же Михайлович полагал, что вести себя следует с достоинством, но и с осторожностью: по несомненным сведениям, Пугачев рассчитывал пополнить свои отряды за счет нижегородских крестьян; к тому же через Нижний проходил прямой путь в центр страны, прежде всего — на Москву, а это не могло не привлечь мятежника. Манила его также губернаторская казна, хранившаяся в Нижнем: один миллион рублей денег, семь миллионов пудов соли и четырнадцать тысяч ведер вина. Каждое лето через Нижний проходило более двух тысяч судов с числом работных людей до семидесяти тысяч, — и ясно было, как поведет себя бурлак или грузчик, окажись у него возможность легкой добычи! И пусть князь Измайлов, недолюбливавший губернатора Ступишина, ворчал порою: «Губернией править — не рукавом трясти!» — все же он прекрасно понимал, что наступающая опасность не уменьшится, окажись на месте Ступишина другой человек; а значит, следовало считаться прежде всего именно с этой неминучей опасностью.
Любавино — наследственное имение Строиловых — находилось невдалеке от Нижнего, в центре губернии, и хотя Измайлов не любил его, памятуя, сколько страданий пришлось принять его жене в этом прекрасном доме, стоявшем на высоком волжском берегу, однако он понимал, что в такое ненадежное время семье в Любавине — вполне безопасно: чтобы до него добраться, пугачевцам надо пройти почти всю губернию; к тому же Любавино от торных путей в стороне. Поэтому князь не очень-то уговаривал жену отъехать в его Ново-Измайловку, что близ Починок. Однако внезапное известие поломало все расчеты: старый князь Измайлов прислал верхового сообщить, что княгиня Рязанова рожает. Княгиня Рязанова — то есть Лисонька.
Лисонька была родной сестрою Алексея Измайлова и названой сестрою жены его, княгини Елизаветы, еще с той поры, в когда в мрачном доме на Елагиной горе подрастали две девочки: Лизонька и Лисонька. Мать Елизаветы, Неонила Елагина, сохраняла в тайне родство с ней; из мести к своему давнему возлюбленному, Михаилу Измайлову, завязала она судьбы девочек таким крепким узлом, что понадобилось почти пять лет, дабы узел этот распутать и все загадки разгадать. Связь Елизаветы и Алексея с Лисонькой была куда крепче, нежели родственная, а потому известие о ее страданиях не могло оставить их равнодушными… Десять лет назад Лисонька разрешилась мертворожденным младенцем, и с той поры детей у нее больше не было, к вящей печали ее мужа. И вот теперь… Невозможно было усидеть в Любавине при такой судьбоносной новости, а потому князь Алексей ни словом не поперечился, когда жена его тоже решилась ехать. Лисонька всегда желала видеть крестной своего ребенка любимую племянницу — пришлось взять в дорогу Машеньку. Обычно сговорчивый Алешка-меньшой такой крик поднял, узнав, что к деду отправляются без него, что родители сдались почти без боя. Так что компания собралась немалая: князь с княгинею, двое детей да неотвязные Вайда с Татьяною. В Любавине привычно был оставлен Елизар Ильич — человек пусть тихий, но дело свое управляющее разумеющий.
* * *
Кончался июль. Лето выдалось раннее — даже и май истомлял жарою! — а нынче налетели совсем уж августовские ветры: кипели в вершинах деревьев, даруя днем отрадную прохладу — и принося первые ночные холода. Разнотравье и разноцветье летнее, истомленное безжалостным солнцем, уже не радовало взора; только розовела кое-где дикая гвоздика да синел журавельник, небывало буйный этим летом, — словно осколки небесной синевы нанесло ветром из безбрежной выси, разметало средь пожухлой зелени…
Отец ехал верхом, Вайда — на козлах, за кучера, остальные — в карете; и Маша удивлялась, почему с ними — матушка, которая была лихой наездницей, в каретах езживала только на балы, когда жили в городе, или с торжественными визитами. Сегодня же ее оседланная лошадка плелась, привязанная к задку кареты, глотая пыль, а княгиня Елизавета сидела, забившись в уголок, обняв обоих детей, сидела, притихшая и не очень веселая, да поглядывала в окошко на статную фигуру мужа, следила за игривой побежкой его коня.
— Стойте! — Окрик князя прогнал Машину дрему.
Вайда натянул вожжи, но кони заупрямились, забеспокоились. Он сердито прикрикнул на них по-своему, по-цыгански, но матушка выскочила из катившейся еще кареты и, подхватив юбки, побежала по знойной луговине к мужу, который стоял на коленях у обочины.
Дети тоже повыскакивали из кареты, как ни удерживала их Татьяна, и Маша увидела, что отец быстро поднялся, обнял матушку и на мгновение прижал к себе, словно успокаивая, а потом они вместе склонились над чем-то, напоминающим ворох цветастого тряпья. И еще прежде чем Маша разглядела, что это — человек, залитый кровью, она поняла: вот надвинулось, свершилось то, что изменит всю их жизнь!
В те поры русские баре, живущие в отдаленных имениях, держали у себя скоробежек, иначе говоря, скороходов, курьеров. Одевали их в легкие куртки с цветными яркими лентами на обшлагах; на головах же у них красовались шапочки с разноцветными перьями: такое яркое, стремительно продвигавшееся пятно можно было частенько увидеть на обочине дороги, а то и на пешеходной тропке. Лошади имелись в достатке не у всех помещиков — да и стоили дорого, а скоробежек кормили легко — вернее, держали впроголодь, чтобы резвее бегали. Господа использовали их как почтальонов и гонцов, отправляя с разными поручениями в соседние усадьбы.
Один такой скоробежка и лежал сейчас в траве, и его нарядная курточка была сплошь залита кровью из разрубленного плеча — удар сабли почти отделил руку от туловища.
— С коня рубанули, — определил Вайда.
Князь кивнул. Их, бывалых вояк, не смущал вид крови, да и Елизавета многое повидала в жизни. Но тут вдруг все заметили, что дети рядом. Татьяна, запыхавшись, подбежала, молча схватила их за руки и повлекла к карете; но Маша с Алешей уперлись; Алешка даже повалился на траву, вырываясь из Татьяниных сильных рук, — тоже молчком, не издавая ни звука.
— Оставь их, — тихо молвила матушка. — Что ж теперь… — Она быстро перекрестилась, попыталась закрыть мертвому глаза, но он уже окоченел; тогда она достала две медные монетки и положила их на полуопущенные веки.
Все принялись креститься; дети, понукаемые Татьяною, опустились на колени, шепча молитву. Только князь задумчиво смотрел на мертвого; потом вдруг наклонился, сунул руку под его окровавленную куртку и вытащил — Маше показалось, какой-то лоскут, пропитанный кровью, но то была четвертушка — ни слова, ни буквы не прочесть!
— Это батюшкин скоробежка! — воскликнул князь Алексей. — Цвета его ливрей. Как это я сразу не догадался? А вот и письмо, что он нес. Батюшка его послал… куда? к кому? — Он настороженно осмотрелся. — Уж не нас ли велел перехватить в дороге? Не зря же бедняга бежал по обочине…
— Ну что ты, друг мой, — возразила Елизавета, — ежели что спешное, батюшка бы верхового к нам послал!
— Так-то оно так, — задумчиво кивнул отец, — а все ж куда-то поспешал этот несчастный.
— Дозвольте слово молвить, — вмешался Вайда. — Иной раз пеший скорее конного до места доберется, потому как в степи ему схорониться легче: упал за куст — опасность и пронеслась мимо.
— Однако ж он не схоронился. Да и таким фазаном разоделся, разве что слепой его в зеленях не приметит, — возразил князь.
Его задумчивый взгляд словно бы летел над лугом — и вдруг остановился, сделался пристальным и цепким. Голубые глаза сощурились, худое лицо посуровело.
Все разом обернулись.
Поодаль в просторную луговину мыском вдавалась дубовая рощица, и сейчас из нее выехала ватага верховых.
Даже на расстоянии было видно, что это — не регулярный отряд, а и впрямь — ватага: одеты с бору по сосенке, вооружены кто чем, вдобавок нестройно горланили песню, перемежая ее криками и хохотом.
Вдруг один из всадников вскинул руку — ватага замерла, вперившись в карету, а затем со свистом и улюлюканьем ринулась вперед.
Но князь спохватился на мгновение раньше. Одной рукой он подхватил сына, другой тащил Машу. Вайда увлекал за собою женщин.
Отец забросил детей в карету, выхватил из-под сиденья шкатулку с заряженными пистолетами и сунул их за пояс, к которому — Маша и не заметила, как и когда, — уже успел пристегнуть саблю.
— Алексей!.. — отчаянно выкрикнула Елизавета, хватаясь за его стремя; князь уже сидел в седле, но на миг склонился, притянул к себе жену — и тотчас опустил ее на землю; и конь его понесся по полю навстречу всадникам.
— Вайда! Я их задержу, а ты к батюшке всех в целости доставь! — донесся до них голос князя, потонувший в Алешкином отчаянном реве.
Но суровый Вайда, сунувшись в карету, бесцеремонно отвесил княжичу оплеуху — и тот смолк, словно подавился от изумления.
— Вайда!.. — простонала Елизавета, заламывая руки.
Единственный глаз старого цыгана блеснул в ответ:
— Ништо, милая! Сам знаю!
В одно мгновение он вытащил из-под кучерского сиденья еще два пистолета и саблю, отвязал запасную лошадку, вскочил в седло, успев еще приобнять и Татьяну, и Елизавету. Потом крикнул:
— Гоните что есть мочи! — и, ударив лошадь каблуками, припал к гриве вслед князю.
Дети переглянулись. Все произошло так быстро, что они даже испугаться толком не успели.
В карету заглянула матушка — в ее серых глазах мерцали непролитые слезы, — торопливо перекрестила детей и велела:
— Крепче держитесь!
Потом захлопнула дверцу и вскочила на козлы, где уже теребила вожжи Татьяна.
— Ну какой из Татьяны кучер, — пренебрежительно сказал Алешка, вмиг забывший о слезах. — Дали бы мне — я бы показал…
Его прервал пронзительный свист… нет, не свист даже, а некий звук, в коем слились воедино и свист, и вой, и улюлюканье — дикий, истошный звук! Кони тотчас рванули с места, рванули так, что дети повалились на пол.
Маша подхватила брата — не ушибся ли? — но он только хохотал, закатывался.
— Вот тебе, — усмехнулась и она, — а ты говорил, не сможет, мол, Татьяна.
Алешка выскользнул из ее объятий и высунулся из окна, но тут же повернул к сестре ошалелое от восторга лицо:
— Я же говорил! Я же говорил! Это не Татьяна, а матушка!
Маша, едва удерживаясь на ногах — карету на ухабистой дороге швыряло из стороны в сторону, будто лодчонку в бурном море, — тоже высунулась. Глянула — и не поверила своим глазам: княгиня Елизавета правила стоя, русая коса ее летела по ветру, юбки надулись парусом… Татьяна, полулежа-полусидя, цепко держала ее за талию, не давая упасть. А княгиня все нахлестывала лошадей, но пуще кнута погонял их, точно сводил с ума, этот ее пронзительный клич, так что кони летели, как на крыльях.
Маша высунулась из окошка сколько могла далеко — глядела назад, но дорога уже повернула, и она не увидела ни отца, ни Вайды — только широкий луг, по которому ветер гнал мелкие желто-зеленые волны.
Глава II ИЗМЕНА
Скоробежка и впрямь принадлежал старому князю Измайлову, и впрямь был им послан навстречу сыну, а в письме, которое невозможно было прочесть, содержался наказ немедля возвращаться и ни в коем случае не приезжать в Ново-Измайловку: в округе уже пошаливали мятежники. Михайла Иваныч дал письмо своему самому быстроногому гонцу, наказав одеться по-крестьянски, чтобы не бросаться в глаза лихому человеку (он тоже рассудил, что пешему затаиться, в случае чего, проще), но не учел тщеславия этого паренька, лишь недавно взятого от сохи в барскую усадьбу: тот просто не нашел в себе сил расстаться с нарядной, многоцветной одеждою, из-за того и расстался с жизнью. И как всегда бывает — ничтожная причина породила множество трагических последствий.
Но все это еще впереди, неразличимо, а пока что перепуганные, измученные тряской княгиня Елизавета с детьми и Татьяна, уже умытые и поевшие с дороги, сидели в гостиной ново-измайловского дома и пили чай, который разливал сам старый князь. Лисонька благополучно разрешилась сыном, однако сейчас она спала, и будить ее опасались: роды, настигшие ее не дома, в Рязановке, а в отцовской усадьбе, прошли тяжело; вдобавок муж ее, князь Рязанов, еще третьего дня отправился в свое имение, которое, по слухам, захватили пугачевцы, — и как в воду канул. Сказать Лисоньке, что он еще не вернулся — опасались… Узнав об этом, княгиня Елизавета едва нашла силы сдержать слезы: участь Алексея и Вайды тоже оставалась неведомой! Но хоть гостеванье начиналось невесело, все же старый князь не скрывал радости видеть любимую невестку и внуков.
Михайла Иваныч был видный старик, статный, подтянутый. Сын Алексей был очень на него похож — тот же хищный нос с горбинкой, те же яркие голубые глаза… Татьяна, помнившая князя Измайлова смолоду, рассказывала, что он слыл красавцем. Строгое щегольство в одежде — то, что французы называют элегантностью, — он сохранил и доныне: седые волосы, причесанные в три локона, чуть припудривал, носил черный бант и косу в кошельке [22].
Отблески горевших свечей играли на его худощавом, словно из камня выточенном лице, а голос был по-молодому звучен и грозен:
— Здесь тоже с зимы случались подсылы — изменники с грамотками своими. Но у меня расправа короткая: запрещено даже имя супостата произносить, а тем паче — вести о нем передавать! До нынешнего месяца мы держались, а тут, гляжу, дрогнул народишко: как замелькали слухи про отряды пугачевские, которые то тут, то там объявляются, — так и поползли иные недоумки за этой волею! На кой она им? Что им с нею делать? Только злобе своей, которую Господь в них прежде усмирял, выход давать? А народ зол — ох, зол и дик… В Сурове гулящие люди подстерегли господина своего на мельнице, раздробили поленьями голову и сбросили тело под мельничное колесо. Мол, был он тиран и супостат, понуждал нас к работам… Да коли вас не понужать, вы с голоду перемрете! А убивши безвинного человека, разве не сделались сами тираны и супостаты? Известное дело: что ново да громко звенит — то дитятю и манит. А крестьяне — они дети! Любят речи сладкие, что пряники медовые. С недавних пор появился тут лиходей из приближенных Пугачева, Аристов, а зовут — Илья. Разврат [23] несет повсеместный, велеречив и краснобай. Подлейшая душонка! Сам из костромских мелкопоместных дворянчиков, а поди ж ты — за неуказанное винокурение был разжалован в солдаты, бежал, скрывался от властей, пока не приблудился к самозванцу. Продал свое сословие! Теперь у него в чести — Пугачев. Тот как стал в Сундыре, послал этого прохвоста с семисотным отрядом для заготовки продовольствия и фуража, а он — вон куда подался пограбить! Манят его императорские конезаводы в Починках. Жжет, убивает, грабит, насильничает над имущими людьми почем зря! Страх навел такой, что мужики и впрямь поверили, будто господская власть закончилась. Что делают подлецы! На заставы, в отряды охранительные, не идут. От принуждения ударяются в бега, узилища отворяют схваченным воровским лазутчикам. Ну, коли мне такого злодея приводят, у меня расправа короткая: плетьми бить до полусмерти, а что останется живу — под конвоем в город.
Князь резко, крест-накрест, рубанул ладонью воздух, и Маша, испуганно сморгнув, успела заметить, как матушка с Татьяною, сидевшей в дальнем углу, быстро переглянулись.
Наслышанная семейных историй, Маша знала, откуда на смуглом лице Татьяны взялись два розовых, неисцелимых шрама: когда-то хлыст обезумевшего от горя князя рассек лицо цыганки, в которой он подозревал убийцу своей дочери. Тот же хлыст выбил глаз Вайде… Много воды утекло с тех пор, что-то забылось, что-то простилось; Татьяна о былом не вспоминала. Измайлов принял «барскую барыню» [24] своей снохи со всей возможной приветливостью, а все же в этот миг Маша почувствовала: точно какая-то искра вспыхнула между старым князем и цыганкою — искра незабытого, многолетнего горя… — и князь, почуяв общую неловкость, вдруг круто поворотил разговор, приобняв за плечи внуков:
— А вы что притихли, мои милые? Застращал я вас своими россказнями? Ништо! Бог всемогущ — и за нас, случись что, заступится. Будем же молиться — беда и минет нас. Посмотрите-ка лучше на мой мундир.
Маша с Алешей посмотрели — мундир как мундир, петровской еще поры, потертый, но вполне крепкий.
— Видали? Как новенький! — выпятил грудь старый князь. — А ведь его еще дед мой нашивал! Вся штука в том, что он пошит из особенного сукна, вытканного по дедову заказу из шерсти одной рыбы, которую он сам поймал в Каспийском море.
Доверчивый Алешка вытаращил было глаза, но тут в комнату прошаркал старый-престарый дядька Никитич и шепнул князю на ухо нечто такое, от чего тот вскочил:
— Аристов?!
Елизавета зажмурилась, Татьяна в своем углу встрепенулась, а дети в испуге схватили друг дружку за руки.
Аристов? Тот самый страшный злодей, пугачевец? Аристов уже здесь?
Алешка сморщился, словно собрался разреветься, но почувствовал, как дрожит рука сестры в его руке, — и скрепился: все-таки мужчина! Сжал ее пальцы, бросил ободряющий взгляд на матушку, которая уже обрела спокойствие, без страха глядела на дверь, — и изобразил презрительную мину, которая тут же сменилась изумленною, когда вместо чернобородого громилы в красной рубахе — косая сажень в плечах, на вострую саблю насажена отрубленная человеческая голова, ручищи по локоть в крови (так вообразился детям Аристов) — дядька Никитич втолкнул в покои невысокого худощавого мальчишку и плотно затворил двери.
Повинуясь взгляду князя, слуга засветил еще три шандала, и в ярком свете все увидели, что пришедший зеленоглаз, рыжеволос и, несмотря на смышленое, даже хитроватое лицо, лет ему — не более двенадцати!
Крепко сжимая в руке треух, мальчишка поклонился князю и княгине. На Машу с Алешкой глянул мельком, словно они не заслуживали его почтения. Татьяну же будто и вовсе не заметил.
Алешка побагровел от возмущения, напыжился, но теперь уже сестра стиснула его руку, успокаивая; а сама наблюдала за лицами взрослых, смотреть на которые сейчас было очень любопытно.
Никитич глаза закатил, словно ужасался чему-то. Матушка удивленно подняла брови, но тут же прижала ладонь к губам, скрывая усмешку. Князь смотрел пренебрежительно, а у Татьяны… у Татьяны было такое лицо, словно она увидела привидение! Она отвернулась и торопливо перекрестилась; потом сделала пальцами загадочный ворожейный знак. Маша знала, что это цыганский оберег против злой силы — столь могучий и секретный, что Татьяна почти не пользовалась им, дабы «от одной беды уберегшись, не назвать другой», как объяснила она однажды Маше, строго-настрого запретив повторять это движение.
Впрочем, когда Татьяна опустила руку, лицо ее было по-прежнему спокойным, лишь в глазах светилось любопытство.
— Ну-ну? — спросил, наконец, князь незваного гостя. — И кто же ты есть таков?
— Гринька! — ответил тот — и Татьянина рука тотчас же вновь взлетела к лицу.
Да что ж это за мальчишка такой, чем он напугал старую цыганку?!
Незнакомец молчал, но в этом молчании не было почтительного ожидания слуги, — он молчал нарочно, желая подогреть интерес к себе, но подогрел до крайности лишь общее раздражение: Никитич, приметив, как встопорщились на переносице седые брови князя, сильным тычком сшиб наглеца на пол, на колени, а сам пояснил с поклоном:
— Это мальчишка Акульки, что на краю деревни живет. Дареная вам была господином Куролесовым вместе с двумя борзыми на день вашего ангеля. Давно уж, за десяток лет, — вы небось и запамятовали. Дарена была как искусная белошвейка. Но стала баба к водочке потягиваться — вы ее и согнали со двора. Жила она со вдовцом Семеном Ушаковым, а как тот успокоился, мирскою табакеркою сподеялась. — Никита смущенно улыбнулся. — У каждого свой промысел! Парнишка же сын не ее, а сестры умершей — она не ваша была, беглая, — а от кого прижит, Акулька и сама не ведает, а может, просто помалкивает, скрывает.
— Акулька Ульки не хуже, — вдруг сказала Татьяна, и все недоумевающе оглянулись на нее: при чем тут эта поговорка?
Князь пожал плечами:
— Да мне что за печаль, под каким кустом мальца сработали и чем та Акулька промышляет? Пусть лучше объяснит — зачем говорил про Аристова? Иль заявился сюда глумиться надо мной?!
Старческая, сухая, но вполне еще крепкая рука Никитича не давала Гриньке шевельнуть прижатой к полу головой, так что снизу доносилось лишь невнятное бормотание; Никитич же, взявший на себя роль толмача [25], пересказывал с его слов:
— Акулька сия ходила по малину и в лесу повстречала мужика — ладного, одетого как барин, сказавшего ей, что он — первейший друг и посланник крестьянского царя Петра Федоровича III — тьфу, прости меня, Господи! — а имя его Илья Степанов сын Аристов. Выспрашивал, где какой припас для его отряда взять можно, богатое ли село, барин лют ли? Акулька, видать, смекнула, что ежели его орава в Ново-Измайловке поживится, волю, может, крестьянушки и обретут, а вот животы у них наверняка потом надолго подведет, — и отбрехалась как-то. Однако тот мужик ей приглянулся, она ему — тож, и вот уже какую ночь он к ней похаживает, между делом про крестьянские недовольства выведывает да про барские запасы оружия выспрашивает…
— Так, — кивнул князь. — Ну а нашему Гриньке тот ухарь чем не пришелся по нраву? Чем перед ним провинился, что он с доносом на теткина полюбовника прибежал?
Гринька пробурчал что-то злобное, а Никитич растолковал:
— Дескать, хотел мальчишка ружье Аристова разглядеть, а тот его вздул крепко. Ну и не стерпел парнишка обиды…
— Месть, значит, — задумчиво проговорил князь, глядя в темное окно.
Из угла, где недвижно сидела Татьяна, донесся прерывистый вздох. Князь вскочил и, отстранив Никитича, вздернул мальчишку на ноги.
— Вести ты мне принес заманчивые, — сказал он, комкая у Гриньки на груди его затасканную голошейку и сурово глядя в покрасневшее от натуги лицо мальчишки. — Сейчас толком объяснишь мне, когда Аристов к Акульке приходит, как, которою дорогою. Сегодня ночью я сам туда пойду… Молчать! — грозно оборвал он единый возглас Никитича и Елизаветы. — Молчать, говорю вам! Ты, Никитич, собери десяток из охраны — самых толковых и надежных. Чтоб оружие досмотрели, чтоб без осечек! К утру воротимся, повязав злодея, дабы не сеял смуту.
— Батюшка! Зачем?! — бросилась к нему Елизавета, и Маше показалось, что дед сейчас сердито оттолкнет княгиню, но он ласково проговорил:
— Ближний к Пугачеву человек — хорошая добыча. По слухам, он верных своих бережет, не бросает пленных, норовит сменять. Мало ли, на кого этого Аристова обменять при случае можно!
Князь многозначительно повел глазами, и Маша поняла: дед имеет в виду пропавшего князя Рязанова, мужа Лисоньки. Но у Елизаветы вдруг задрожали губы, она прижала их ладонью, отошла, вся поникнув, — думала о своем муже, Алексее Измайлове, который, спасая семью, ринулся безоглядно в сечу — и нет о нем ни слуху ни духу, а посланный князем к месту стычки отряд тоже еще не воротился…
Князь поглядел на нее печально, покачал головою. Потом молвил:
— Уходя, одно скажу: будьте усердны к Богу, верны государыне, будьте честными людьми, ни на что не напрашивайтесь и ни от чего не отказывайтесь! А теперь — храни вас Бог. Пошли, Никитич.
И пока он шел по гостиной, гоня в тычки Гриньку — мальчишке предстояло сидеть запертым в чулане, покуда князь не воротится с победой, чтоб не разболтал о его намерении, — Маша успела увидеть умоляющие глаза матушки, обращенные к Татьяне.
Чего ждала она от старой цыганки? На что надеялась? Что хоть Татьяна — словом ли, ворожбою — отвратит князя от опасного предприятия? Опасность и беда так и реяли в воздухе, их нельзя было не чуять, тем более вещей цыганке… Но Татьяна, которая и в самых малых мелочах была осторожна и осмотрительна (ежели увидит, например, на полу нитку, всегда ее обойдет, потому что неведомо, кем положена эта нить, не со злым ли умыслом!), сейчас сидела молча, безучастно, словно не видела и не слышала ничего.
И князь ушел.
* * *
Вечером матушка сходила навестить сестру, но та по-прежнему крепко спала. Елизавета поглядела на ее малыша, лежащего в зыбке под надзором нянюшки, а потом вернулась в спальню к своим детям. Татьяна уже уложила их и задернула занавеси, чтобы багровый закат не томил глаза.
— Постели мне здесь, — велела княгиня.
— Что так? — удивилась цыганка. — Или комнату по нраву не выберешь?
Маша тоже удивилась: дедов дом был просторен; странно даже и то, что их с Алешкою разместили в одной спальне, — но чтобы и Татьяна, и матушка остались здесь же…
Елизавета склонила голову, устало переплетая тяжелую косу. Пальцы ее проворно перебирали русые пряди, а глаза были устремлены в пол, словно сосредоточенно следили за игрой теней.
— Томно мне, — сказала она вдруг. — Томно, страшно… Где они? Почему не дают о себе вестей?
Татьяна тихо вздохнула.
— Ничего, ничего. Все избудется. Ты сердце свое слушай!
— Да, — молвила Елизавета. — Сердце! — И, отбросив косу, быстро опустилась на колени под образами.
Она смотрела в печальное лицо Спасителя, но не крестилась — руки ее были прижаты к груди, и хотя губы шевелились, словно истово творили молитву, Маша почему-то знала, что мать не к Богу обращается — зовет мужа поскорее вернуться.
Посреди ночи в дверь сильно, страшно застучали, и раздался истошный крик Никитича:
— Беда, матушка-княгиня! Отворите!
Маша вскинулась в постели. На своей кровати сонно протирал глаза Алешка; Татьяна, уже одетая, со свечою, пыталась одной рукой снять с двери засов. Подбежала матушка — чудилось, они обе вообще не ложились, — и помогла впустить Никитича. В руках его горел трехсвечник; в комнате сразу посветлело, и горестное лицо старика сделалось отчетливо заметным.
— Князь не вернулся? — деловито спросила Елизавета, и ее голос слегка приободрил Никитича.
— Схватили его, матушка-барыня, — ответил он уже спокойнее. — Похоже, упредил кто Аристова. Люди, с нашим князем бывшие, побиты, а сам он повязан и в погреб брошен в избе проклятой Акульки.
Несколько минут царило молчание.
— Ну и что же ты стоишь? — сурово спросила наконец княгиня. — Подымай народ, веди на воровское гнездо!
— Эх-эх, барыня моя милая! — совсем уж по-стариковски вздохнул Никитич и, не спросясь, тяжело опустился на стул у двери. — Мужички-то наши и пособляли мятежнику! Беда у ворот: дошла и до нас смута. Только Силуян прибежал, головой рискнул: спасаться, мол, надобно не мешкая, не то постигнет нас та же участь, что лесозаводчика господина Дербенева, коего свои же лесорубы точно на доски потесали!
Никитич тут же спохватился, прихлопнул рот ладонью, но поздно — страшные слова уже были произнесены.
Елизавета стиснула руки на груди, постояла так мгновение, будто заколдованная, потом повернулась:
— Татьяна, одень детей. Да побыстрее. Пойдете через сад в лес. Бог даст, выйдете на дорогу к Нижнему…
— Окажите милость, ваше сиятельство, примите мое смиренное гостеприимство! — вдруг послышался глуховатый голос, как бы с некоторым усилием произносящий слова, и в комнату, кланяясь, вступил немолодой, чисто одетый, благообразный мужик, при виде которого Елизавета на миг расцвела своей чарующей улыбкою:
— Силуян, голубчик!
Они знали друг друга давным-давно, еще с той поры, когда две робкие сестрички жили в Елагином доме под присмотром суровой тетушки, и сейчас княгиня обняла крестьянина и сказала, глядя влажными глазами в его доброе бородатое лицо:
— Здравствуй, Силуян, милый. Спасибо на добром слове, только…
— Не перечьте, ваше сиятельство, — сурово возразил Силуян. — Ведь все село наше обложено, все дороги перекрыты. Попадутся ваши птенцы в лапы хищные — не помилуют их злодеи, даром что пред ними дети малые. А у меня в дому есть под сеновалом тайничок. Тесноват, конечно, для четверых будет, да куда ж деваться? Переждете там малое время, день ли, другой, а уж мы с бабою моей найдем способ, как вас вывезти из села, в бочках ли пустых (я ж бондарь), под сеном ли, а то в кузовах. Ну, будет день, будет и пища, а пока собирайтесь, не медлите!
Княгиня стиснула тонкими пальцами его большую грубую ладонь:
— Спаси детей моих — и я за тебя век Бога буду молить. Уводи же их поскорее! — Она подтолкнула к Силуяну наспех одетых сына и дочь и, резко вскинув руку, остановила вопрос, готовый вырваться у всех разом: — А я с Лисонькою останусь.
И никто слова против не вымолвил, хотя затрепетало каждое сердце. И взрослым, и малым было ясно: княгиня не могла бросить на произвол судьбы прикованную к постели сестру, вдобавок с новорожденным младенцем. И дети молча приняли от матери крест и прощальный поцелуй, своей трагической торжественностью похожий более на последнее целование, — приняли без слез, возможно, впервые ощутив, что бывают в жизни такие мгновения, когда молчание звучит громче самых надрывных речей.
Дети вышли вслед за Силуяном в сопровождении Татьяны, и последнее, что услышала Маша, прежде чем за ними закрылись двери, был вопрос матушки, обращенный к Никитичу:
— Одного не пойму — кто же предупредил Аристова, что князь за ним явиться намерился? Кто сей презренный предатель?
И тут Машенька почувствовала, как задрожали пальцы Татьяны, сжавшие ее руку…
* * *
Мятежники пришли наутро, уже засветло. Елизавета смотрела сверху, из окна Лисонькиной светелки, на толпу, входящую в ворота барской усадьбы сперва робко, подбадривая себя криками, — и ощущала даже некое облегчение оттого, что наконец-то окончилась эта ночь, это тягостное ожидание неминуемой смерти.
Топот и крики разносились по дому. Уже слышался шум опрокинутой мебели, звон разбитой посуды, уже что-то волокли по ступенькам, уже доносились со двора отчаянные, протестующие крики Никитича, пытавшегося отстоять барское добро, когда в залу наконец просунулась конопатая физиономия молодого мужика с вытаращенными от возбуждения глазами. Впрочем, завидев спокойно сидящую на шелковом диванчике нарядную барыню, он сдернул было шапчонку, поклонился по привычке в пояс — да, спохватившись, скрылся за дверью с криком:
— Илья Степанович! Погляди, какая цаца тут сидит!
Сердце Елизаветы глухо стукнуло в горле. Она стянула кружевную шаль на груди.
И тут дверь снова отворилась, и вошел уже другой человек.
Был он среднего роста, с лицом как бы комковатым, неровным, но при этом смышленым и быстроглазым. Был он острижен в кружок, как водилось у пугачевцев. Однако к его круглой голове был привязан капустный лист, и при виде этого знака жесточайшего похмелья страх Елизаветы сменился брезгливостью. О Господи, она читала молитвы, дабы оберечься от этого человека, будто от беса, а перед нею — обычный пьянчужка!
Елизавета равнодушно глянула в небольшие карие глаза незнакомца — впрочем, она не сомневалась, что перед нею сам Аристов! — и приподняла брови:
— Что вам угодно, сударь?
Он мягко, неслышно приближался в своих черных плисовых сапогах, приближался чуть улыбаясь:
— Наслышан о вас премного, ваше сиятельство, но такой чудной красоты зреть не чаял!
Елизавета поморщилась. Экое чуфарство [26]! Увы, пред нею стоял человек дерзкий и неотесанный, стало быть, на милосердие и благоразумие его рассчитывать не приходилось. Однакого же говорил он не по-крестьянски, и, вспомнив рассказ старого князя о дворянском происхождении Аристова, Елизавета почувствовала даже не брезгливость, а отвращение.
— Счастлив увидеть вас в добром здравии! — продолжал между тем Аристов, без приглашения усаживаясь в кресло против Елизаветы; он так заботливо расправлял полы своего куцего, не первой свежести кафтанишки, словно тот был, по меньшей мере, шит золотом. — А где же дитя новородившееся?
— Вам-то какова забота? — нахмурилась княгиня.
— Жалко дитя малое без матушки оставить! — улыбнулся Аристов, с видимым наслаждением глядя, как побледнело ее лицо.
— Ну так не оставляйте, коли жалко! — отрезала Елизавета, вцепившись в кружево шали с такой силой, что затрещали нитки.
— Нынче власть уже не ваша, — покачал он головой, и лицо его — от резкого движения — вдруг исказилось болью: — О-о, черт!
— Лучше бы вы платок смочили уксусом с водою да приложили, — не удержалась Елизавета.
— Ничего, обойдусь, — проворчал Аристов. — Однако за заботу — благодарствую. Многие тут радешеньки о моем здравии позаботиться! Не далее как нынче ночью одна ворожка посулила: мол, тогда у тебя голова болеть перестанет, как с нею простишься. Да прежде она со своею головою простилась, дура старая…
— Что с князем? — перебила Елизавета. — Извольте отвечать!
— Он жив, жив, — закивал Аристов. — Жив… пока!
Елизавета молча глядела на него, нервно комкая шаль на груди. Да, все в мире смешалось! Что ж, случалось и прежде: в тех или иных имениях крестьяне возмущались против барина, жгли, грабили усадьбу, но убийство помещика было крайнее средство, к нему прибегали только отчаянные натуры, наперед согласные идти под кнут или на каторгу.
— Что вы хотите за жизнь князя? — тихо спросила Елизавета. — Я отдам все, чем владею!
— Все? В самом деле? — ухмыльнулся Аристов, и Елизавета едва не задохнулась от прихлынувшей к лицу жаркой волны: Аристову и так принадлежало здесь все — деньги, вещи, само имение; выходит, она предлагала ему себя?.. — Ну что ж, сударыня, я воспользуюсь вашим любезным предложением, коли придет охота, но покуда…
Он не договорил. Елизавета скомкала шаль и швырнула ему в лицо.
— Не забывайся, самозванцев холуй! — выкрикнула княгиня, охваченная тем опаляющим гневом, который порою заставлял ее терять всякую осторожность и наделял такой отвагой, что и мужчины робели.
Аристов протер слезящиеся глаза и, свернув шаль, положил ее на комод.
— Я сюда явился не для споров с вами! — еле сдерживаясь, проговорил он. — Помилосердствуйте над собою, вообразите, что с вами станется, коли я, разгорячась, кликну сюда мужиков! И хоть отрадно мне будет, когда его сиятельство узрит вас истерзанною, однако сие зрелище лишь укрепит его гнев и ненависть, а у меня имеется иной, более изощренный, план.
— Бога ради, о чем вы говорите? — вмиг сникнув, прошептала Елизавета. — Князь… увидит меня?
— Вздернуть господина Измайлова — дело нехитрое. Однако желательно мне, чтобы накануне казни видел он печальную участь родных своих… подобно тем крепостным, коих разлучал он с детьми и женами, поодиночке распродавал их жестокосердным помещикам.
Пафос, звучавший в его речах, был насквозь фальшивым, это Елизавета почувствовала сразу. Он тешился, вздымая на гребне могучей волны слепого гнева народного, коя затопила едва ли не пол-России, утлую лодчонку своего тщеславия, не заботясь о том, каков погубен может быть итог сего безрассудного мореходства. Гибель его была близка, неминуема — Елизавета чуяла это всем существом своим, — но кого еще утянет с собою в бездну сей дворянин, бросивший честь и благородство своего сословия под ноги черни?
Она напряженно смотрела на Аристова, моля Бога воротить ей силы, и даже не вздрогнула, когда мятежник высказал, наконец, то, за чем пришел:
— Берите ребенка и следуйте сей же час за мною!
Она уставилась невидящими глазами в это неказистое, как бы засалившееся от возбуждения лицо, и Аристов подумал, что барыня-гордячка от страха лишилась дара речи. Елизавета же до онемения была ошеломлена догадкою: он ведь принимает ее за Лисоньку! Он ее не знает!.. И ослепляющая надежда спасти сестру ударила в сердце, заставила его забиться живее, вернула краски в лицо, дала силу сказать с насмешливым сожалением:
— Да вы припозднились, сударь. Дитяти моего здесь уже давно нет…
Аристов замер, не веря ушам своим. А Елизавета молилась только о том, чтобы за тяжелыми гобеленами он не разглядел дверей, ведущих в спаленку сестры, да чтобы дитя не раскричалось некстати, а Лисонька не вздумала пробудиться.
— Как это — нет! — обескураженно проговорил Аристов, и Елизавета не замедлила перейти в наступление:
— Да так! Сестра моя, дети ее и служанка ушли еще с вечера, взяв с собою сына моего. Князь предвидел беду и строжайший наказ дал — уйти, затаиться. Их уже и след простыл.
Аристов свел брови в задумчивости. Это было похоже на правду: в доме-то ни души господской! Но недоверие взяло верх:
— А вы пошто не ушли с ними?
— Я… я… — пролепетала Елизавета, — ну, я ведь после родов, мне не под силу такое путешествие.
Аристов смотрел на нее, насупясь. Чувствовалось, что подозрения одолевают его, вынуждая размышлять, искать — что же тут нечисто? И Елизавета поняла, что надежды ее едва ли осуществятся… Но тут дверь распахнулась — и в залу ворвался Никитич: весь разлохмаченный, ободранный, словно из драки, с бледным, безумным лицом, — и заголосил с порога:
— Ваше сиятельство, да что же это делается?!
«Разбудит Лисоньку!» — ужаснулась Елизавета: лишь это заботило ее сейчас.
— Мужики проклятые ушли, но все добро разграбили, лошадей со двора свели, припасы больше изгадили, чем приели. А какое бесчинье в комнатах содеяли! Картины — ножами; фарфор, зеркала — вдребезги! Цветы вокруг дома вытоптали! Это ж красота человеческая, а вы, нелюди, ее губите! — бесстрашно выкрикнул Никитич в лицо Аристову и схватил его за грудки: — Презренный тать, разбойник!
Ну, это было уже слишком! Побагровев, набычась, Аристов оторвал от себя старика и отшвырнул его с такой силой, что Никитич, пролетев полкомнаты, ударился о стену — да так, что пейзаж, висевший на стене, сорвался с крюка, и тяжелая деревянная рама пришлась углом по голове.
Никитич рухнул плашмя, дернулся раз, другой, вытянулся, и Елизавете почудилось, что она видит, как светлая душа верного слуги оставляет его тело…
Аристов подскочил к молодой женщине, схватил за руку, потащил за собою, и потрясенной Елизавете даже не понадобилось притворяться, будто у нее нет сил идти после болезни: ноги подкашивались, она вовсе упала бы, забившись в слезах, когда б не поддерживала последняя надежда: Аристов — поверил ли он ее лжи, забыл ли обо всем от ярости на Никитича, — но не стал искать Лисоньку!
Теперь бы еще как-то дать знать Татьяне, чтоб воротилась в дом господский, пригледила оставленную там молодую мать с ребенком… Ах, если бы ее провели мимо Силуяновой избы, если бы он сам или жонка его увидали ее, сказали бы о том Татьяне! А та уж сообразит, что делать!..
Елизавета не знала, что в ту пору ее названой матери уже не было в живых.
Глава III АРИСТОВ ОВРАГ
В погребе, куда Силуян привел беглецов окольной тропкою, продираясь сквозь ночь, было тесно и так темно, что, даже подняв руки к лицу, Маша не смогла их различить. А в глазах еще мельтешили огни факелов, зажженных в селе, в ушах звучал возбужденный рокот толпы. Когда достигли Силуянова дома, стоявшего последним в порядке, у самой околицы, и, охваченные крепкими, ласковыми руками его жены, были препровождены в тайник, сопровождаемые жарким шепотом: «Храни вас Бог, ваши сиятельства, дитятки!», то затхлый, сладковатый запах сена в погребе показался даже приятен, а сам погреб — уютным и безопасным. Однако вскоре тут сделалось душно, тяжко. Вообразив, что в этом тайнике придется просидеть, возможно, не один день, Маша ощутила такую тоску, что едва сдержалась в голос не зарыдать. Ах, если бы матушка была здесь — или хоть Татьяна обняла бы, успокоила!.. Маша потянулась во тьму, но цыганку, которая только что была рядом, не нашла. Из противоположного угла доносились всхлипывания и бормотание, и Маша, вслушавшись, поняла: Татьяна говорит что-то Алешке, утешая, а тот мечется, рвется, стонет…
— Нет! Не могу! — вдруг воскликнул он тоненько и залился слезами, и Маша с ужасом вспомнила: да ему же нипочем не выдержать долго в такой тесноте и темнотище!
Эту Алешкину странность обнаружили случайно два года назад: за какую-то провинность Вайда запер княжича в чулан, а спустя час, услышав истошные крики, дверь отомкнули и нашли мальчишку в полубеспамятстве-полубезумии от страха перед закрытой дверью и тьмой. Впрочем, стоило Алешку выпустить, как ему сразу полегчало, и он лишь посмеялся над своим испугом.
Когда первый переполох прошел, князь Алексей переглянулся с женой. Это теперь судьба была к ним благосклонна, а десяток лет назад оба претерпели множество злоключений, в том числе и тюремное заточение и даже злое рабство, и эту их ненависть к неволе, очевидно, унаследовал сын. Потом князь с княгинею узнали, что недуг Алешки имеет неудобопроизносимое научое наименование и, увы, неизлечим, поэтому его больше никогда, даже при немалых шалостях, не сажали под замок, не запирали в чуланы и погреба… до нынешней ночи, когда от этого заточения зависела его жизнь!
Алешке же, видать, сделалось совсем худо. Маша слышала, как он бьется в руках Татьяны, стонет, пытаясь одолеть свой страх, но тот становился все сильнее, неодолимее — и вот вырвался сдавленный крик:
— Выпустите меня! Выпустите меня! — и следом послышался грохот: это Алешка заколотил в стены кулаками.
— Алешка, тише! — шепотом вскрикнула Маша.
— Тише, ради Бога, Алешенька! Ты погубишь всех! — подхватила Татьяна, пытаясь удержать мальчишку, но страх удесятерил его силы: он всем телом ударился о стену — и в ней вдруг открылась неширокая щель.
Это было невозможно, невероятно: Маша помнила, как громыхнул задвинутый засов: вдобавок Силуян предупредил, что навалит на крышку погреба вязанки сена. Как же Алешка смог?.. Но тут она разглядела бледные, предрассветные звезды на небе и сообразила: не верхний люк открылся, а совсем другая дверь. Наверное, тот потайной выход, ведущий на задворки, о котором упоминал Силуян и о котором, по его уверениям, никто не знал. Чудеса! Ну хорошо, Алешка мог учуять выход из гибельной тьмы, — но неужели тот выход был не заперт? Или кто-то услышал шум и крики в погребе и открыл его? Кто же? Силуян? Или…
Маша не успела додумать. Ее брат протиснулся в щель и исчез во тьме.
— Стой! — раздался окрик. — Стой! Держи его!
Послышались топот, треск сломанных ветвей, крики… Погоня удалилась было, наверно, потеряв след, вернулась.
Замелькали факелы, раздались недоумевающие голоса:
— Откуда он взялся, сила нечистая? Словно из-под земли выскочил!
Рука Татьяны легонько, прощально коснулась Машиного лица, а вслед за тем цыганка, словно тень, выскользнула из погреба и проворно задвинула доску, прикрывавшую погреб. Она успела сделать только шаг — и оказалась схвачена грубыми руками.
— Поймали! Гляди, Илья Степаныч! Поймали кого-то! — закричали вокруг.
А старая цыганка всем ужаснувшимся существом своим ждала: вот сейчас закричат, что нашли какой-то лаз… вот сейчас вытащат из укрытия Машеньку!.. Но нет, все внимание толпы было обращено к ней, и мало-помалу Татьяна смогла овладеть собой, помня только одно: во что бы то ни стало надо заставить их забыть об исчезнувшем Алешке!
Звезды кололи ей глаза, ночь дышала в лицо. Ветер трепал деревья, а Татьяна уже не понимала, то ли шелестят листья, то ли кровь шумит в ушах. Тело как бы растворялось в этой тьме, холод растекался по жилам, и, едва завидев невысокого человека, перед которым подобострастно расступались другие мужики, даже не разглядев его лица, Татьяна выпалила:
— Тогда у тебя голова болеть перестанет, когда с нею простишься! — И только потом увидела, что голова его обвязана капустным листом — от похмелья, а лицо и впрямь искажено гримасой боли.
Когда-то, давным-давно, мать наворожила Татьяне смерть, если та посулит смерть другому человеку; и с тех пор, гадая, она никогда не забывала об этом предсказании и даже нарочно лгала людям, если видела на их лицах печать скорой кончины. И вот теперь настал ее час! Потому что не вернуть ни одного сказанного ею слова, не обратить вспять пророчество… Но собственная жизнь в глазах Татьяны была слишком малой ценой за спасение Алешки, Машеньки и Елизаветы, а потому цыганка бестрепетно смотрела, как медленно, невыносимо медленно вытаскивает Аристов саблю из ножен, как заносит ее, опускает… Свист разрезаемого сталью воздуха показался ей оглушительным; но прежде, чем смертоносное лезвие коснулось ее шеи, неким тайным зрением Татьяна успела увидеть виновника всех их последних бедствий, того, кто станет бичом и проклятием для Елизаветы и ее семьи еще на долгие, долгие годы. Ох, как много открылось ей в это роковое мгновение, да вот беда — рассказать о том было уже некому… некогда.
Обезглавленное тело ее упало на доску, прикрывавшую тайник: в последнем усилии жизни Татьяна защитила Машу от преследователей.
* * *
А Маша ничего этого не знала… Ночь проведя в слезах и боязни, она наконец забылась сном, но, чудилось, почти сразу ее разбудил тревожный шепот Силуяна:
— Проснитесь, барышня! Выходите поскореичка!
Утро было в разгаре, свет высокого солнца ослепил Машины глаза.
— Ох, Силуян, — сказала она жалобно, — брат мой убежал неизвестно куда, и Татьяна ушла следом. Где они, знаешь ли?
Силуян отвел глаза.
— Ничего не слыхал, кроме шума, и участь их мне неведома. Будем молиться, Господь милосерд, — уклончиво отвечал он. — А пока идите в дом, покушайте да переоденьтесь, и нынче же я вывезу вас из деревни.
— Прямо средь бела дня? Что-то случилось? — насторожилась Маша; и Силуян старательно улыбнулся: — Чему ж еще случаться? И так бед довольно. А нынче уехать нам удобно, потому как к полудню народишку велено собраться на площади у околицы… на сходку… — Он говорил запинаясь, словно опасался сказать лишнее. — Вот мы и улучим миг — и на свободу-то и выскользнем.
В избе на столе были хлеб и молоко, и Маша, несмотря на волнение, с охотой принялась за еду. Неожиданно подняв от чашки взгляд, увидела, что Варвара, жена Силуяна, украдкою смахивает слезы, а Силуян сурово грозит ей. Сердце замерло: случилось что-то ужасное, о чем ей остерегаются говорить! Но она не задавала вопросов: да, страшно ничего не знать, но горькие вести еще страшнее. Пусть уж как судьба велит…
Силуян не торопил Машу, но она понимала, что медлить нельзя, и быстро встала из-за стола. Варвара провела ее в бабий кут [27], где на лавке лежали приготовленные рубахи и сарафан, чистые, выкатанные, пахнущие речной свежестью — и почти впору Маше, разве только чуть длинноватые. Варвара помогла ей переодеться, заплела пышные, кудрявые, как у матушки, волосы в тугую косу, убрала пряди ото лба, а высокий, серьезный лоб прикрыла цветной тесьмою.
Что-то зашуршало за печкой — и Маша увидела двух девочек ее лет или чуть помладше, которые, таясь, разглядывали гостью. Сразу полегчало на душе при виде этих румяных, круглых лиц. Завидев ее улыбку и сообразивши, что бранить их никто не станет, девочки выбрались из-за печи. Они были одеты в точности, как Маша, обе русоволосые, но сероглазые. Варвара, увидев дочек рядом с барышней, невольно всплеснула руками:
— Воля твоя, Господи, все три — ну как одна! Отец, ты бы поглядел! И впрямь, Бог даст, — выберемся неприметно.
Силуян отодвинул занавеску, поглядел, кивнул одобрительно, но улыбка не могла скрыть тревоги, затаившейся в его глазах: кто-то шел по двору! Варвара приникла к волоковому оконцу и тут же отпрянула, схватившись за сердце.
— Свят, свят, свят! Прячьтесь, барышня, милая моя!
Маша со страху не смогла двинуться с места, и Силуяновы девчонки схватили ее за руки с двух сторон, потащили было за печь, прятаться, да не успели: дверь распахнулась, двое мужиков, на вид пугачевцы, вступили в избу.
— Ты, что ли, бондарь Силуян? — не перекрестясь и не поздоровавшись, спросил один из них.
Силуян прижал шапку к груди, кивнул, не в силах слова вымолвить. Глаза его сторожили каждое движение незваных гостей. Варвара неприметно отступила, заслоняя собой замерших у печи девочек.
— Твоя, что ль, телега во дворе? Ехать куда навострился? — грозно вопрошал первый мужик, в то время как второй без спроса ухватил со стола горшок, да молоко все оказалось уже выпито, и он, сплюнув, швырнул горшок на пол (разлетелись во все стороны осколки), потом схватил краюху и принялся громко жевать. Варвара всплеснула руками, но не сказала ни слова.
— А тебе что за дело? — разлепил наконец высохшие губы Силуян.
— Поговори у меня! — рявкнул первый мужик. — Куда ехать готовился, спрашиваю?
Хозяин молчал. Второй мужик от такой отчаянной Силуяновой дерзости даже перестал жевать и, отложив недоеденную краюху, потянул из ножен саблю. Варвара торопливо перекрестилась, а сестры стиснули Машины руки.
— Ты что, ума решился? — спросил первый мужик с некоторой даже растерянностью в голосе: верно, не знал, как быть со строптивым хозяином.
— Решишься тут! — мрачно усмехнулся Силуян. — Тебя не поймешь: то молчи, то говори. Семь пятниц на неделе!
— Ладно, — ухмыльнулся мужик. — Говори давай.
Силуян пожал плечами:
— Ну, моя телега. Ехать же к тетке мне нужно, в Караваево. Хворает тетка, просила наведать ее, да чтоб со всем моим семейством. Еще бочку новую пора ей свезти — давно обещался.
— Никуда не поедешь. Всем же велено быть в полдень на сходе — и не моги ослушаться!
— Так ведь тетка же… — неуверенно возразил Силуян.
Однако мужик вновь принял грозный вид.
— Не помрет твоя тетка. А ты за ослушание схлопочешь плетей от нашего атамана, не то и вовсе с головой простишься.
— Он и всегда человек суровый, а нынче — так и вовсе не в себе, — поддакнул второй мужик; он углядел другой горшок, на сей раз полный молока, выпил все залпом, а потому подобрел: — Лучше уж иди с нами, от греха подальше.
Силуян только руками развел. Потом обернулся к жене:
— Так и быть, я пойду с ними, а ты, Варя, гляди, тетку не обидь: поезжай к ней с дочками, да будьте там потише, не ерепеньтесь перед старухой, посматривайте, когда гроза пройдет…
Смысл его иносказаний был до того прозрачен, что Маша вся сжалась: вот сейчас набросятся на него с допросом! Его и впрямь перебили — первый мужик опять разъярился:
— Ох, договоришься ты у меня! Ох, добрешешься! Или оглох на старости лет? Я ж сказал: всех собрать до едина велено, стара и мала. Все ступайте на сход!
— И дочек брать?! — ужаснулась Варвара.
Пугачевец только раз посмотрел на нее — но так, что она, перекрестясь, умолкла. Маша же успела поймать мгновенные взгляды, которыми Силуян обменялся с дочерьми.
— Ну что же, пошли, девоньки, коли велено! — слабым голосом позвала Варвара. — Аринка, Полинка… Машенька… все пойдемте!
Девочки не отпускали рук гостьи: смышленые, вострые оказались дочки у Силуяна, все в отца с матерью! И их крепкие пожатия давали знать Маше: ее не выдадут, не дадут в обиду.
Ее встревожило — откуда у пугачевцев такое особенное внимание к Силуяновой семье, не заподозрили чего? Однако, сойдя со двора, она увидела, что чуть ли не из каждой избы пугачевцы гонят людей к месту схода; и лица у всех были столь озабоченные, даже испуганные, что никто как бы и не видел, что с Варварой да Силуяном идут три девочки вместо двух! И Маша подумала: а вдруг и впрямь все обойдется? Вдруг в толпе никто не заметит ее, а кончится сход — Силуян снова ее спрячет, увезет из села…
Она успокаивала себя как могла, но недобрые предчувствия теснили, теснили сердце… Маша уже знала: ей придется сейчас увидеть нечто страшное. Да вот что?.. И такая неизвестность была втрое страшнее.
* * *
Все это время, что они сидели на теплой пожухлой траве под забором, с краю окольной площади, ожидая, покуда мятежники соберут нужное им число зрителей для экзекуции над бывшими господами, князь говорил без умолку, словно душегубов и не видел. Он рассказывал смешные истории о своих соседях-помещиках, среди которых и впрямь немало было чудаков и оригиналов: один предавался несусветной, прямо-таки библейской скупости; другой, чудом спасшись от смерти, продал имение и на все деньги выстроил церковь, при которой служил теперь сторожем, третий любил пошалить: зашивал себя в медвежью шкуру и пугал прохожих-проезжих на большой дороге… И хотя все эти истории были с изрядной бородой, особенно рассказ о медведе-помещике, давно уж помершем, Елизавета делала вид, что слышит их впервые, у нее даже сводило челюсти от непрестанной, будто приклеенной улыбки.
Но вскоре ей стало не до улыбок: к пленникам направлялся Аристов.
— Эх, не знали мы своего счастья! — тяжко вздохнул князь. — В былые-то времена каждый жил в своем кругу, имел общение с людьми, равными себе по рождению, а не братался со встречным и поперечным. В иное время я мимо этого самояда [28] и пройти погнушался бы, а нынче разговаривать с ним принужден!
Лицо Аристова, только что сиявшее довольством, изменилось, как по дьявольскому мановению. Словно черная желчь ударила ему в голову и помутила разум, заставив броситься на князя с криком:
— Держите ему голову!
Два дюжих пугачевца повиновались беспрекословно, оттолкнув Елизавету и сдавив горло князя будто в тисках. Задыхаясь, он открыл рот; высунулся язык. Аристов схватил саблю — Елизавета закричала страшно…
Аристов, не замахиваясь, чиркнул лезвием возле самых губ князя и с брезгливым торжеством стряхнул на траву какой-то красный комок. Князь глухо стонал, захлебываясь кровью, и Елизавета, вглядевшись в его искаженное мукой лицо, поняла: Аристов отрезал ему язык за неосторожное слово! И тут же изверг подтвердил эту невозможную, страшную догадку:
— Пусть и остался ты злоустым, старый дурак, но злоязыким тебя уже никто не назовет!
Толпа волновалась, не видя толком, что делают с пленными, но чуя кровь и беду даже издали, как животные чуют пожар. На вопль Елизаветы отозвалось несколько женских и детских слезных кликов. Кто-то бросался наутек, да пугачевцы хватали беглых и снова заталкивали их в толпу.
Впрочем, Елизавета ничего толком не видела и не слышала, кроме князя, который выхаркивал кровавые пузыри, пытаясь что-то сказать, но мог исторгнуть только яростное мычание. Горели, горели ненавистью глаза его! Смахнув кровь с губ, он вскинул свою окровавленную руку и ткнул ею в Аристова, который со злорадной усмешкой склонился над ним, ткнул прямо в лоб — да так, что кровавый след от его пятерни запечатлелся на этом лбу, словно Каинова печать.
Новая волна злобы помутила разум Аристова.
— Держите его! — вновь закричал он, и Елизавета не успела охнуть, как сверкнула рядом сабля и обрушилась на плечо князя.
Страшный крик сотряс окрестности и отозвался, точно эхо, воплем толпы, и Елизавете на миг почудился в этом общем крике голос дочери, но все это, конечно, был бред, а явью был залитый кровью Михайла Иваныч, упавший на траву… Рядом нелепо, ненужно валялась его рука, отрубленная почти по плечо.
* * *
Аристов стоял, глубоко дыша, словно наслаждаясь сладким запахом крови; а глаза его сплошь затекли чернотой расплывшихся зрачков — глаза безумца! И Елизавета понимала: он не остановится, пока не замучает князя до смерти. Князя, любимого деда Алешки и Маши, отца Лисоньки. Отца Алексея!
Она вспомнила, что Аристов сулил предъявить князю зрелище ее терзаний и, обрадовавшись этому воспоминанию, как спасению, даже не дав себе мгновения поразмыслить, бросилась в ноги разбойнику.
Он отшатнулся было, но тут же искривил рот усмешкою: гордая барыня лежала пред ним во прахе, униженно моля:
— Помилосердствуй, ради Господа Бога! Пощади! Ты уже отомстил ему за злое слово и дерзкий поступок — прости ж его! Он старик. Оставь его, оставь! Позволь мне перевязать его!
Аристов молчал, покусывая губу. Глаза его померкли, взор сделался спокойнее: возбуждение утихало. Елизавета поняла, что он уже слышит ее слова, и вновь взмолилась:
— Он истечет кровью, если не перевязать его раны.
Аристов задумчиво кивнул, и Елизавета метнулась к старику. Не обращая ни малейшего внимания на столпившихся кругом мужиков, она задрала подол и, распустив завязки нижней юбки, стащила с себя льняное полотно. Надкусив шов, с трудом порвала крепкую ткань на полосы.
Из плеча князя все еще била кровь, торчали острые осколки кости, свисали клочья кожи и мышц. Подступившая тошнота заставила содрогнуться, однако Елизавета не отвернулась, а принялась стягивать плечо князя тугим жгутом, останавливая кровь, зажимая пальцами порванные сосуды… Наконец перевязка была закончена, и хотя кровь еще просачивалась сквозь всю толщину льняных накладок, Елизавета знала: кровь вот-вот остановится.
Князь лежал без сознания, и это было для него благо. Сейчас бы его унести в постель, приложить к плечу лед, дать лекарств, призвать хирурга, который зашил бы рану! А если удастся уговорить этого безумца? Может, он уже натешил кровью свою лютую душу?
Она с мольбою подняла глаза и наткнулась на взгляд Аристова — не злой, а как бы любопытствующий — вселяющий надежду?..
Слова не шли с языка — она с немой мольбою простерла к нему руки.
— Сколько у тебя таких юбчонок, красавица? — усмехнулся Аристов; и Елизавета безотчетливо улыбнулась в ответ, не понимая и не веря тому, что слышит:
— Что?..
— Юбчонок, говорю, сколько? Ежели все раны перевязывать станешь, какие я ему нанести намерен, так скоро останешься в чем мать родила!
Глаза Аристова похотливо блеснули, и Елизавета, словно защищаясь, скрестила руки на груди, но тут же опустила их, поднялась с колен, неотрывно глядя на Аристова:
— Если меня возьмешь, его отпустишь ли?
— Отойдите-ка, — небрежно мотнул Аристов головою, и пугачевцы неохотно попятились.
— Чтоб тебя разок взять, мне твоего согласия и не надобно, — проговорил Аристов, не отводя от нее взора, и Елизавета, к своему изумлению, увидела, как смягчаются его маленькие жестокие глаза. — Откроюсь: мы уходим из села, отступаем. Михельсоновы [29] части теснят! — И вскинул руку, гася искру надежды, вспыхнувшую в ее взгляде, добавил: — Однако я помилую сего старика и деревню жечь не стану, если ты сама пойдешь со мною — по своей воле и навсегда.
Елизавета жалобно заморгала. Что это он такое говорит? Как осмелился, паскудник? А дети? А муж возлюбленный!.. И тут же она едва не стукнула себя по лбу с досады. Да что угодно можно ему посулить — такая клятва недорого стоит в глазах Господа! Наобещать — даже проще, чем отдаться его похоти. Надобно увериться в безопасности князя — а там только ее и видел Аристов!
Глаза Елизаветы жарко блеснули, и от этого взгляда Аристов весь залоснился, заиграл, как новенький грош. Он робко потянулся взять ее за руку, и Елизавета внутренне скрепилась перед этим омерзительным прикосновением, как вдруг кто-то, тяжело топая, подбежал к ним и с маху так ударил Аристова по руке, что тот вскрикнул от боли. Повернулся взглянуть на обидчика — да так и застыл с открытым ртом!
Елизавета тоже обернулась, однако увидела не грозного великана, как можно было бы ожидать по виду перепуганного Аристова, а низенькую, но дородную бабу — про таких говорят: «Поперек себя шире» — с грубо нарумяненным, несвежим лицом и косо сидящей на голове кичкою [30]. При этом она была одета как девка: в сарафан, туго перехваченный под дебелой грудью, и рубаху, ворот которой врезался в жирную шею.
— Ах ты, змеиный выползень! — взревела молодка. — Очно только и знаешь, что мне подол задирать, а заочию другую обсусолить норовишь?!
Наверное, это и есть та самая Акулька, которая привела Аристова в Ново-Измайловку, догадалась Елизавета. Бог ты мой! И перед гневом такого чучела сникает, даже как бы уменьшается Аристов, — словно проколотый рыбий пузырь!
Елизавета брезгливо передернула плечами и, отвернувшись, склонилась над все еще беспамятным князем. Она едва успела коснуться его лба, покрытого тяжелой испариной, когда сильный рывок заставил ее выпрямиться.
— Охти мне! А эту версту коломенскую ты где откопал? — пренебрежительно озирая Елизавету, которая и впрямь была гораздо выше ее ростом, пропела Акулька.
И Аристов, стоя пред нею чуть ли не навытяжку, отрапортовал:
— Это же дочерь князева, я ее вместе с отцом…
— Погоди-ка! — перебила Акулька, изумленно глядя на Елизавету. — Погоди, голубок!
Маленькие ее глазки, наливаясь злобным торжеством, чудилось, выползали из-под набрякших век.
— Князева дочка, говоришь? Лизавета Михайловна, княгиня Рязанова? Да где там! Не она это!
— Ну как же, как же? — закудахтал Аристов. — Я ее в барском доме пленил. Говорит, мол, все утекли, а она по нездоровью, мол, после родин…
— Умолкни! — рявкнула Акулька.
Аристов умолк, словно подавился.
— Это не дочь князева, а сноха его, по первому мужу — графиня Строилова из Любавина, что близ Нижнего. Чего слюни распустил, олух царя небесного? Думал, пред тобою белая лебедушка, а это — ворониха черная, у коей и клюв, и когти в кровище. Душегубица она своим крестьянам, каких мало!
От изумления Елизавета даже не испугалась. Ведь эта Акулька бесстыдно клевещет на нее… Но почему, зачем? Только ли из ревности за этого перепуганного недомерка? Нет, какое-то зло таит она на Елизавету — давно таит, такое сильное, что готова на смерть ее обречь. И, кажется, ей сейчас это удастся…
Аристов, решительно собрав губы в куриную гузку, вновь потянул саблю из ножен. Елизавета сокрушенно покачала головой. Любившая наблюдать род человеческий и с течением лет все более склонная к психологическим обобщениям, она поняла, что судьба, увы, свела ее с нередким типом мужчины-подкаблучника, полного раба своей жены или сожительницы, у которого тлеет в груди неосознанный протест и злоба на угнетательницу, с коей он сквитаться не может — храбрости маловато, — однако как бы видит ее во всех других женщинах, а оттого омерзительно груб и злобен с ними — даже с теми, которых вожделеет тайно или явно. Все, нет больше у Елизаветы власти над Аристовым! Она для него теперь всего лишь воплощение Акулькиной тирании, и, снеся ей голову, он как бы восторжествует над своей угнетательницей…
Словно завороженная, смотрела Елизавета, как, зловеще поблескивая, ползет из ножен сабля Аристова, на которой не высохла еще кровь князя, и сжала свой венчальный крест, скомкав на груди платье… но тут хор пронзительных голосов разорвал гробовую тишину, воцарившуюся было на площади:
— Медведь! Медведь!
* * *
Какой еще медведь? Что это за шутки?!
Народ разметал пугачевцев-охранников, рассыпался в проулки, но никакого медведя Елизавета не видела — видела только высоконькую девочку, которая, путаясь в слишком длинном сарафане, бежала через площадь, а следом, охая и всплескивая руками, не поспевал Силуян. Волосы девочки были забраны в тугую, длинную косу, и потрясенная Елизавета не тотчас узнала дочь, а узнав, только и могла, что обхватить ее, прижать к себе… Она была так изнурена переживаниями, что не нашла сил оттолкнуть Машу как чужую, притвориться — пусть ради ее спасения. Таким счастьем после потрясений нынешнего дня было прижать к себе Машеньку, целуя милую, теплую, русую головку!..
Силуян набежал, встал рядом, тяжело, сокрушенно вздыхая:
— Ох, неладно! Ох, как неладно!..
Да, поздно, поздно было притворяться. Востроглазая Акулька, вмиг все смекнув, расхохоталась, подбоченясь:
— Вот и графинюшка молодая Строилова тут как тут! А право слово, сарафан ей пристал! Может, и правда баяли: не граф Валерьян ей батюшка, а Вольной-атаман?
Елизавета невольно вскрикнула при звуке этого рокового для нее имени, а Маша недоумевающе, растерянно взглянула на мать. И тут же глаза ее, скользнув в сторону, расширились от ужаса, и она завизжала так пронзительно, что у Елизаветы подкосились ноги, и она так и села, увлекая за собою дочь. И, глядя поверх ее головы, она увидела нечто такое, что и впрямь могло пригрезиться лишь в кошмаре.
Медведь… да, верно, медведь — огромный самец с бурой, лоснящейся, сыто нагулянной шерстью переваливался вдоль по улочке то на двух, то на четырех лапах, бросался вправо-влево, с хриплым ревом взмахивая когтистой лапою, и от его ударов люди падали замертво, обливаясь кровью. Вот он увидел ражего пугачевца, который, подвывая от страха, вжимался за угол избы, выталкивая вперед себя бабу с ребенком, которые пытались спрятаться здесь прежде него, но принуждены были уступить праву сильного. Медведь, взревев, кинулся к избе, отшвырнул, будто ненужную, крестьянку вместе с дитем, а пугачевца вздернул так, что он врезался затылком в обоконки [31]. Огромная когтистая лапа скользнула по лицу и груди смутьяна — и тот упал, обливаясь кровью, а медведь, не обращая ни малого внимания на обеспамятевшую бабенку, ринулся вперед.
Вот он поднялся в дыбки: мелькнуло белое пятно на груди; задрал голову, принюхиваясь, осматриваясь, — и тяжело, вразвалку пошел на группу людей, замерших посреди площади.
— Меченый! С пятном! Меченый — бешеный! — тоненько взвизгнул Аристов, отмахиваясь от надвигающейся на него бурой глыбы. — Господи, помилуй!
Силуян толкнул Елизавету с дочерью прямо на недвижное тело старого князя, а сам упал сверху, прикрывая их. Но Елизавета выпросталась из его крепких рук, уставилась на медведя, не веря — и все отчаянно желая поверить догадке, промелькнувшей у нее, когда она осознала, что зверь не тронул ни одного крестьянина: жертвами его пали только пугачевцы. И тут она враз все поняла… Меж кривых когтей зверя, в правой лапе, поблескивало лезвие ножа!
Выходит, не медведь это, а человек, одетый в медвежью шкуру, точь-в-точь как тот стародавний помещик, о котором рассказывал князь. И существовал на всем белом свете только один человек, способный на такую проделку: старый медвежатник Вайда!
Елизавета даже прикрыла рот ладонью, чтобы невзначай не окликнуть, не выдать его. И тотчас невольно содрогнулась, услышав рядом пронзительный визг Акульки:
— Это не медведь! Это цыган! Цыган!
«Ну откуда она всех нас знает?!» — мелькнула у Елизаветы недоумевающая мысль. И она резко повернулась к Акульке, чтобы сейчас, сию же минуту заткнуть рот предательнице, но та вдруг выхватила из-за пояса ошарашенного Аристова заряженный пистолет и выстрелила из обоих стволов прямо в белое пятно на груди медведя — он-то был уже в двух шагах…
Зверь совсем по-человечески прижал левую лапу к груди — кровь брызнула, пятная белую и бурую шерсть, — какое-то мгновение стоял, покачиваясь, чуть не падая, а потом тяжело, всем телом подался вперед — и рухнул, успев-таки достать правой лапой с привязанным к ней ножом предательницу Акульку.
* * *
Акулька опрокинулась наземь, Аристов же так и стоял, будто пораженный громом. Не шевельнулся он и тогда, когда Елизавета вырвала у него саблю из ножен. Только судорога страха пробежала по его лицу, ибо он ждал, что сейчас эта сабля прервет нить его жизни. Однако Елизавете было не до него: она опустилась на колени подле Вайды и острым лезвием вспорола тяжелую шкуру, высвободив его окровавленную грудь и похолодевшее лицо.
— Вайда! Вайда, мой хороший!
Она гладила его кудлатую голову, ничего не видя от слез, слыша, как рядом рыдает Машенька. И вдруг единственный глаз цыгана приоткрылся, и с пересохших губ сорвалось:
— Лизонька… деточка…
— Да, да, но ты молчи, молчи! — всхлипнула Елизавета, пытаясь нащупать края раны и еле сдерживаясь, чтобы не закричать от ужаса: вся грудь Вайды была разворочена двойным выстрелом в упор; чудо, что он не умер на месте! Но кровавая пена уже пузырилась на его побелевших губах, предвещая близкую смерть.
— Князь жив ли? — с трудом проговорил цыган.
И Елизавета закивала:
— Жив, жив. Он в беспамятстве, но…
Ее прервал чей-то жалобный стон. Она обернулась и увидела, что Машенька и Силуян приподнимают голову князя. Глаза его были открыты и полны слез, а уцелевшая рука тянулась к Вайде.
Увидав кровь на лице князя и кровавый ком вместо руки, Вайда вовсе помертвел:
— Не успел я… Эх, не успел!..
— Успел, родной мой, — уже не таясь, плакала Елизавета. — Ты всем нам жизнь успел спасти: и князю, и Машеньке, и мне. Еще минутка — и зарубил бы нас проклятый!
Вайда глубоко вздохнул, пытаясь улыбнуться, но воздух не проходил в простреленные легкие, и он забился, задыхаясь.
— Вайда, ох, Вайда! — всхлипывала Елизавета.
— Князь… и ты, дочка… за все… — пробормотал цыган, и губы его навеки сомкнулись; и еще какие-то последние слова так и не расслышала Елизавета: то ли «прости», то ли «не грусти»…
Плакала, заливалась слезами Машенька, бормотал молитву Силуян, стонал, истекая слезами и кровью, старый князь, а Елизавета всем своим измученным существом подивилась новой насмешке судьбы, которая свела этих двух стариков, ненавидящих друг друга всю жизнь, породнив их всепрощением смерти…
Сердце у нее разрывалось от горя, голова разламывалась от боли. Она встала, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь кровавые круги в глазах; и наконец нечто бледное и плоское, будто непропеченный блин, выплыло из кровавой мглы. Но минуло немалое время, прежде чем Елизавета поняла, что это — лицо остолбенелого Аристова, который так и не двигался с места.
— А-а, — хрипло выговорила Елизавета, — ты еще здесь, тварь?
Руку ее оттягивало что-то тяжелое, и, поведя глазами, она увидела саблю. Какой-то миг недоуменно глядела на нее, а потом перехватила обеими руками и неловко занесла через плечо…
Аристов глухо охнул и проворно зашарил за поясом, вытаскивая другой пистолет. Темные стволы глянули в глаза Елизавете, но даже полыхни они огнем, это не остановило бы ее. Она сделала шаг вперед… палец Аристова вполз на правый курок… И вдруг лицо его исказилось гримасой ужаса: он увидал позади Елизаветы нечто такое, от чего, забыв даже про пистолет, с воплем бросился наутек, петляя по площади и явно норовя укрыться в овраге, зиявшем на окраине села и уводившем в лес.
Жаркое дыхание и конский топот пролетели мимо Елизаветы, и она мельком увидела лицо князя Алексея, припавшего к лошадиной шее и на скаку обернувшегося к жене.
— Батюшка! Батюшка! — зашлась в радостном крике Машенька.
— Слава Богу! Слава Богу! — твердил, крестясь, Силуян.
А Елизавета молча смотрела, как Алексей нагнал Аристова на краю спасительного оврага и на всем скаку полоснул его саблей. Тут Елизавета закрыла глаза руками и стояла так до тех пор, пока Алексей не очутился рядом и не отвел ее ладони от лица, чтобы покрыть его поцелуями.
* * *
Маша смотрела на них, и восторг сжимал ей горло.
И тогда Елизавета вдруг оторвалась от мужа, и оглянулась, и вскрикнула изумленно, словно бы только сейчас наконец-то увидела дочь.
— Машенька! Господи! Машенька, ненаглядная моя!
И девочка с радостным криком бросилась на шею к матери и припала всем телом к ее ласковому, родному теплу. Но она еще не успела согреться этим теплом и надышаться им, когда матушка отстранилась и встревоженно заглянула ей в глаза:
— Как же ты здесь очутилась, моя родная? А где Алеша? Татьяна где? Скажи, Силуян, почему…
Силуян стоял бледный, переминаясь с ноги на ногу: его пытка только начиналась!
— Не велите казнить, матушка-барыня. Татьяну зарубили злодеи, да и сыночка вашего я не уберег…
— Что?! — выкрикнула Елизавета, хватая его за руку и стискивая так, что боль исказила грустное лицо Силуяна. — Где…
Она не договорила, сомлев, и князь Алексей едва успел подхватить жену, сам почти теряя сознание от страшной вести.
Маша воздела руки, в отчаянии озираясь, — и вдруг замерла, ибо ей почудилось, что она бредит или видит некий счастливый сон: по дороге, ведущей к барской усадьбе, бежали два мальчика: один постарше — Маша видела его вчера вечером в доме деда! — а второй был лет десяти… Боже мой… Боже мой!
— Алешка! — бросаясь к брату, завизжала она, да так громко, что княгиня услыхала это имя из своего забытья и открыла глаза.
Князь, все еще держа Елизавету на руках, подбежал к сыну, но подскользнулся на траве, не удержался и, сбив с ног Машу, сам упал. Алешка повалился рядом, и какое-то время это была счастливая куча-мала, на которую, крестясь, с изумлении смотрел Силуян. Смотрел на них и мальчишка Гринька — смотрел своими странными, прозрачными и в то же время непроницаемыми зелеными глазами.
И опять смешались слезы, и поцелуи, и слова, и выкрики, и рассказы о том, как князь Алексей и Вайда чудом спаслись от мятежников, наткнувшись на отряд регулярных войск Михельсона, который они привели с собой в Ново-Измайлово, и как Алешка, себя не помня, выбрался из погреба Силуяна (тот за голову хватался, недоумевая, почему же все-таки оказалась отворена потайная дверца!) — и бежал куда глаза глядят, пока не наткнулся на пугачевцев, да тут, откуда ни возьмись, появился Гринька и задурил мужикам головы, уверив, что Алешка — его брательник [32]. Ребята отсиделись в лесу, а утром, дождавшись, когда уйдут грабители, забрались в барский дом, где уже проснулась и места не находила от страха Лисонька. Почти до полудня они втроем не могли решить, что делать и откуда взять подмогу, да вдруг во двор влетел на взмыленном коне князь Румянцев, который отстал от своего отряда, чтобы разузнать, что приключилось с его женой и близкими в захваченном пугачевцами Ново-Измайлове.
Елизавета бессчетно благодарила Бога, узнав, что ее сестра жива и невредима, но тут пришли крестьяне, принесли обезглавленное тело Татьяны и уложили рядом с мертвым Вайдою и старым князем Измайловым, который тихо и неприметно оставил сей мир, обессиленный потерей крови, лютой болью и непосильным уже бременем вернувшегося счастья… И долго еще в этот день чередовались радость и горе, лились попеременно слезы счастья и слезы печали, и слишком многое было впопыхах забыто — чтобы потом, гораздо позже, напомнить о себе новой болью и новыми ранами.
Глава IV ПРИЕМЫШ
Всем известно, чем завершился пугачевский бунт, когда Бог-мздовоздатель принялся наконец за дело. Самозваный император был захвачен в одной из казачьих станиц и, закованный в кандалы, в железной клетке, в конце октября 1774 года провезен Александром Суворовым, будущим великим полководцем, через Арзамас в Москву; там и казнен был на Болотной площади. Сообщников его наказали с примерной жестокостью. В отмстительных мерах тоже много пролилось кровушки! Из каждых трехсот человек один был повешен. По Волге плыли на плотах виселицы с телами казненных — нижегородский губернатор Ступишин изливал свою ненависть к смутьянам в этом изобретении, призванном вселить неизбывный страх в оставшихся в живых: чтоб впредь неповадно было! Для вящего наказания велено было тела казненных хоронить вдоль проезжих дорог. Так возникли в южной части Нижегородской губернии придорожные кладбища, на коих было строжайше запрещено поминать казненных. И все-таки чьи-то сердобольные руки не боялись приносить сюда иконы. Ветер, солнце и дожди скоро стирали с них лики, оставляя только темные доски, на которых ничего не было видно…
Память же людская оказалась прочнее, и слезы о погибших лились еще долго: равно горькие и в крестьянских избах, и в господских домах. Все усадьбы, где проходили пугачевцы, были истреблены с корнем или так залиты кровью, что невозможно было жить там, не тревожась бесчисленными призраками погубленных, замученных.
Не составляло исключения и Ново-Измайлово. Спровадили неприятеля, схоронили погибших (они все так и легли рядышком на новом кладбище близ часовни в парке имения — князь Михайла Иваныч и цыгане Вайда с Татьяною), и князь Алексей, поселив в усадьбе управляющего-немца — умелого, бесстрашного и бессердечного, — дал ему полную волю во всех мерах, которые тот счел бы нужным применить для восстановления барского дома и всего разоренного хозяйства; потом отправил Лисоньку с мужем и малым сыном в Рязановку, а свою семью увез в Любавино, надеясь, что время когда-нибудь развеет воспоминания о кровавой резне в Ново-Измайловском имении.
Все больше привязываясь к Любавину, кое было и впрямь и красиво, и расположено прекрасно, и в умелой руке приносило немалый доход, князь тем не менее теперь частенько подумывал о возвращении в отчу и дедню вотчину — в Измайлово-подмосковное, когда-то в горести покинутое Михайлой Иванычем, а ныне вполне готовое к возвращению его наследников. Каждый год князь Алексей собирался весной, по просухе, съездить туда, однако всегда находились дела, отменявшие его планы. К тому же императрица, озабоченная среди прочего и состоянием русских интересов на Балканах, нередко призывала князя Измайлова в Санкт-Петербург для совета и беседы, ибо мало кто в России так знал о положении братьев-сербов и мало у кого так болела душа по этой разоренной славянской стране. Впрочем, пока решение балканского вопроса ограничивалось одними лишь советами да беседами, хотя времени эти поездки у князя отнимали немало.
Шли годы, и многое забывалось. Все реже терзала княгиню Елизавету тоска по погибшим Вайде и Татьяне, однако по-прежнему томило недоумение: что же все-таки произошло той ночью, когда был схвачен старый князь, когда чуть не погиб Алешка? Кто в сем повинен? Нет, Елизавета и помыслить не могла, чтобы Татьяна решилась причинить вред ее сыну, но все чаще мучило подозрение: а не повинна ли цыганка в пленении старого князя? Не она ли выдала его Аристову? Уж больно странно держалась Татьяна в тот вечер, странные слова говорила, а при разговоре о мести, как теперь вспоминали Елизавета и Маша, и вовсе сама не своя сделалась… А ведь ей было, ох, было за что гневаться на Михайлу Иваныча, за что мстить ему, — вдруг да не удержалась? И святые, говорят, искушаются — Татьяна же отнюдь не была святой! Имя цыганки обрастало с течением лет новыми и новыми слухами — все более страшными, даже жуткими. Елизавета только удивлялась, откуда они берутся, хотя знала, что крестьяне да дворня горазды посудачить о всякой небывальщине. Даже ее дети порою слушали эти байки, уши развесив, — что же говорить тогда о всяких Наташках, Агафьях, Агапках с Лукьяшками, да и о том же Гриньке?..
А Гринька, к слову сказать, так и прижился у Измайловых, превратившись из приемыша гулящей бабы Акульки в приемыша княжеского. Алексей и Елизавета, обуреваемые благодарностью за спасение сына, находили, что и самое щедрое воздаяние будет малой ценою за такое благодеяние; а поскольку Алеша нипочем не желал расстаться со своим новым другом и названым братаном [33], то и было решено: взять Гриньку с собой в Любавино и растить его вместе со своими детьми, как родного. Так и случилось, так и повелось, и все скоро привыкли, что вместе с баричами воспитывается приемыш.
А что? Люди и не к такому привыкают!
Гринька стоял по возрасту как раз между Машей и Алешкою: на год младше одной и на год старше другого. Однако человек, не знающий таких подробностей, не усомнился бы, что в этой троице именно он — старший, поскольку был коновод и заводила. Нет, нельзя сказать, чтобы он подбивал княжичей на ненужные шалости. Сам озорничать любил, что верно, то верно, но буйного, азартного Алешку всегда от крайностей остерегал, Машу же оберегал как зеницу ока — и тогда, в порыве этой заботы, и впрямь казался старше своих лет.
Дети были неразлучны как в забавах, так и в обязанностях своих: учились вместе у гофмейстера и мадам, наемных воспитателей-иностранцев, на всех уроках сидели рядом. Хотя учение в то время состояло в том, чтобы уметь кое-как читать да кое-как писать, и много было весьма знатных барынь, которые едва, с грехом пополам, могли подписать свое имя каракулями (да разве кавалеры их опережали в грамотности? По слухам, приходившим из столиц, изо всей придворной знати только двое — Потемкин и Безбородко — писали по-русски правильно; что же спрашивать с людей не столь высокопоставленных?!), — так вот, несмотря на все это, княгиня Елизавета за качеством знаний детей своих, а стало быть и Гриньки, следила: история, литература — классическая и новая российская, а также английская и французская; языки — латынь, греческий, итальянский, французский, английский…
Маше полагалась еще и отдельная, особенная муштра, ибо Елизавета всецело согласно была с мнением императрицы, что «Доброй походке и наружности ничем лучше не выучиться, как танцеванием».
Машеньке исполнилось шестнадцать: по меркам того времени, она созрела для замужества. Охотники со всей губернии — охотники за красотой и приданым графини Марии Валерьяновны Строиловой — непрестанно ей делали засады, однако сия юная девица с разбором глядела на мужчин, хотя и была приучена вести себя приветливо с каждым порядочным человеком — в особенности равным себе по положению.
Правда, Машеньке порою недоставало обходительности, когда за столом или на балу какой-нибуль расфранченный чудак принимался сладко (или, наоборот, косноязычно — результат всегда был один) изъясняться ей в чувствах. Поэтому красавицу графиню считали недотрогою. Маша же на всех знакомых ей молодых людей глядела как на детей малых и неразумных, как на маменькиных сынков! Плоть от плоти, кровь от крови своей пылкой и неустрашимой матери, Машенька могла полюбить только человека, ее превосходящего. Она не думала ни об особенной красоте, ни о богатстве, ни о положении в обществе этого неизвестного. Только бы он был герой!
Таковым в ее окружении оказался только один человек. Тот самый приемыш Гринька.
Надобно сказать, что никто уже не звал его этим пренебрежительным детским прозвищем. Теперь он был Григорием и вполне этому дерзкому и бесшабашному имени соответствовал. Невозможно было признать заморыша, коего когда-то втолкнул старый Никитич в гостиную ново-измайловского дома, в этом высоком, еще худощавом, но уже с развернувшимися, широкими плечами юноше, быстроногом и проворном как в движениях, так и в мыслях.
Просто удивительно, до чего он был востер. И хотя в науках гуманитарных Алешка далеко опережал его живостью своего воображения, однако же в дисциплинах точных, где требовались расчет, сметливость и быстрота соображения, Григорию не было равных.
Изменилось и лицо его. Зеленые глаза стали настолько ярки и хороши, что прежде всего именно они обращали на себя внимание; и в свете этих глаз меркла та недобрая хитроватость черт, которая шла от прежней забитости и недоверчивости, — или почти меркла. Она проявлялась лишь порою, в минуты озабоченности… скажем, когда Григорий задумывался о том, что, при всей любви к нему князя, княгини и их детей, он всего лишь приемыш, то есть никто, человек без роду, без племени, без состояния, всецело зависящий от милости своих покровителей… Впрочем, отношение к нему было самое лучшее, но все же неопределенность его положения не могла не заботить Григория, и он в лепешку разбивался, чтобы стать в этом доме человеком нужным и даже незаменимым.
Любавино в твердой руке князя Алексея сделалось как бы маленьким государством, подобно тем средневековым владениям, кои вполне обходились своим натуральным хозяйством. Понятно, что в доме были свои мастеровые всякого рода: столяры, кузнецы, каретники; и столовое белье ткали дома; были и ткачи для полотна, шелкопряды и шерстобиты; были свои кондитеры — и так далее, и тому подобное. А стены господских покоев украшали полотна доморощенных художников.
Имелся в деревне и кирпичный заводик, приносивший немалый доход. Причуды же погоды мало влияли на заботливо возделываемые, ухоженные поля и огороды — как барские, так и крестьянские. А каковы были сады в Любавине! Яблоки, груши, вишни, сливы, орехи самых разных сортов… Словом, в Любавине был немалый простор для приложения рук, и Григорий, в своей ретивой благодарности и в стремлении к надежному будущему, всякого дела попробовал. Да вот беда: при всем своем усердии успеха не достиг ни в чем.
Как и многих юношей его лет, больше всего привлекали Григория кони. Князь Алексей живо интересовался коневодством, мечтал вывести русских рысаков, не уступающих арабским и аглицким, а потому, в преддверии осуществления такой идеи, держал небольшой, но ценный конезаводик. Григорий был в седле отважен и неутомим, но почему-то всякий скакун норовил его сбросить и чаще всего своего добивался. При его появлении в конюшне глаза у лошадей наливались кровью, с губ слетала пена, как после изнурительной гонки, или будто в стойло забежала ласка, или почуяли немытика [34]. Ну а если Григорий присутствовал при случке, то у самого ярого жеребца и самой соблазнительной кобылки враз остывал взаимный пыл. Конюхи — люди приметливые и суеверные — вскоре перестали даже близко подпускать Григория к лошадям. Князь Алексей, по наущению сына, пытался за его друга заступиться, да вскоре и сам понял, что зряшное это дело, и посоветовал Григорию заняться чем-нибудь другим.
Увы! Ни в чем, начиная от гончарного ремесла и кончая полеводством, он не преуспел, да и то — за грубые эти и подобные им ремесла хватался больше от отчаяния и неудачи во всем остальном. Всякое дело любви к себе требует, руки умелые бывают только у любящих труд, ну а Григорий оказался человеком сугубо практическим: во всяком ремесле он видел прежде всего неприятные стороны — пыль, грязь, шум, боль в спине, мозоли на руках — и пытался эти беды искоренить и труд облегчить, дела вовсе не зная; а потому еще более усугублял сии неудобства и лишь вредил самому делу.
Пожалуй, единственным, что безусловно задалось у Григория, была охота, и она стяжала ему истинную славу, причем не столько среди крестьян, для коих она — всего лишь промысел, то есть не удовольствие, а та же работа, сколько среди помещиков, которые в лес съезжаются, дабы позабавиться и удаль свою показать. И вскоре пронесся окрест слух, что у князя Измайлова появился новый егерь — истинное чудо! Мало того, что Григорий стрелял с небывалой, почти чрезъестественной меткостью, — он словно бы чуял зверя, птицу ли за версту: силки, им поставленные, никогда не оставались пустыми; солонцы, где сутками напролет томились охотники, напрасно дожидаясь добычи, исправно посещались оленями, если в засидке поджидал их Григорий; ну а коли он брался загонять дичь, можно было не сомневаться, что с полем [35] воротится домой всякий ловчий.
К сему надобно добавить, что Григорий обладал таким чутьем, что не смог бы заплутаться в лесу, даже если бы старался изо всех сил; по болотинам, мшавам и даже чарусам [36] он проходил аки посуху — словно бы кто-то незримый стелил ему под ноги незримую же гать! А если еще сказать, что Григорий не только лягушками и ужами не брезговал — мало того, что в руки их брал — ужаков и вокруг шеи обматывал! — но и ядовитые гады пред ним цепенели, вели себя вполне дружелюбно: ползали вокруг, но не нападали, он даже приручил малого змееныша, — если учесть еще и это, понятно становится, почему в деревне перешептывались: мол, не иначе с матерью Гринькиной леший как-то раз побаловался, а не то — сам Гринька его покровительством и помощью пользуется черт знает за какие услуги!
Григорий понабрал себе в охотничью команду с десяток удальцов-молодцов, глядевших ему в рот, но никто из этих ловких егерей с ним даже по малости сравняться не мог!
Князь с княгиней, конечно, рады были, что воспитанник их пристроился к делу такому необычайному, почетному и выказывает в нем явное превосходство над прочими. Но больше всех, хотя и не явно, радовалась этому Маша, ибо загадочный талант Григория немало добавлял к тому героическому ореолу, коим после спасения брата он был окружен в ее глазах.
Впрочем, и здесь все было не так-то просто, и сказать, что Маша в Григория влюблена, оказалось бы разом и правдою, истиной — и ложью, натяжкою. В лабиринтах своей мечтательной души она и сама могла бы заблудиться, когда б дала себе труд туда заглянуть; что же говорить о досужих наблюдателях?! Для них это был неразборчивый почерк, непроходной путь, дремучий лес… единственный, в коем с первого шага заплутался Григорий!
* * *
«Тили-тили-тесто, жених да невеста!» — так отродясь не дразнили Машу с Григорием даже самые бесшабашные деревенские задираки. Княжичи играли с крестьянскими ребятишками, даже езживали с ними в ночное — пусть так, однако свое место каждый в Любавине хорошо знал. И в голову никому не могло взбрести, чтобы на Марию Валерьяновну какой-то егеришка, приемыш, выблядок черт-те чей, мог поднять нескромный взор! И даже княгиня Елизавета просмотрела тот миг, когда эти два юных сердца начали взаимно трепетать. Впрочем, она никогда и ничего дальше носа своего не видела — вернее, дальше своего сердца, переполненного неизбывной любовью к мужу. Разве тут до дочери, в самом-то деле?
Началось все вроде бы ни с чего. Машенька ничего особенного в неразлучности своей с Григорием не видела, а что на душе у нее по-особенному теплело в его присутствии, — так ведь он был ей как брат родной! Но вот как-то раз случились в Любавине гости. Приехали дети Потапа Семеныча — Елизаветина друга и спасителя в прежние, еще при жизни графа Строилова, времена. Собралось человек восемь-десять. Все они в Любавине были вполне своими людьми и уже привыкли, что где господа, там и молодой, пригожий егерь. Барышни с ним любезничали и жеманничали, как и с прочими кавалерами, однако более — для оттачивания своего чаровного мастерства, нежели всерьез.
Затеяли играть в жмурки. Водить по жребию выпало Григорию, и пока он кидался то за одним, то за другим, Машеньке сие наскучило. Она углубилась в ореховую аллею, и хотя с кустов давно были обобраны даже и молочные орешки, она вдруг заметила рясную ветку нетронутых бранцов. (Надо пояснить, что бранцами называются самые спелые орешки, последыши, которые остаются на кустах необобранными.) Обо всем забыв, Маша принялась очищать орешки от шубок и щелкать. Этот-то ретивый треск и услышал Григорий, который ломился по кустам с завязанными глазами, уже отчаясь поймать проворных игроков.
— Ага! Попалась! — закричал он торжествующе, хватая Машу в охапку.
Она едва не подавилась орехом, но стояло тихо, чуть сдерживая смех: по условиям игры тот, кто водил, должен был еще и угадать, кого он поймал, — в том-то и состояло самое интересное!
Маша повела глазами и увидела, что вся компания повысунулась из кустов и, зажимая рты ладошками, следит за ними с Григорием: хитрецы, оказывается, бесшумно следовали за ним по пятам. Алешка строил сестре невообразимые рожи, надеясь, что та расхохочется и выдаст себя, однако у Маши почему-то весь смех пропал. Григорий же как схватил ее, словно и окаменел весь: стоял, уткнувшись губами в Машину косу, скрученную на затылке, и почти не дышал. Она же ощущала плечами тепло его рук и груди, к коей была притиснута, — нет, не тепло, а жар!
Маша удивилась: отчего это он такой горячий, ну как печка, и тут Григорий вздохнул судорожно, словно ему не хватало воздуху, и проговорил хрипло:
— Узнал, узнал! Это вы, Ольга Потаповна!
— Проиграл, проиграл! Штраф, плати штраф! — закричала, загалдела веселая компания, окружила Григория, сорвала повязку (он тер глаза кулаками, — наверное, завязано было слишком туго), затормошила, вынуждая прыгать на одной ножке через канаву, кричать петухом, лаять собакою и проделывать разные прочие чудачества, кои только могли взбрести на ум разошедшимся гостям.
Одна Маша не принимала участия в общем гомоне, недоумевая: да как же это смог Григорий не распознать ее с Оленькою? Та и толще Маши в два обхвата, и ростом с вершок, и голову не скручивает косой… По правде сказать, не коса у Оленьки, а какое-то охвостье! Машу вдруг затрясло от злобы на эту добродушную толстушку — она даже сама себе удивилась. И такая обида на Григория взяла за сердце, что даже слезинки ожгли глаза. Вот нелепица, в самом-то деле! Как он мог не узнать?!
Она сердито тряхнула головой и огляделась. Ее друзья снова затевали жмурки, и опять водил, понятное дело, позорно проигравший Григорий. И тут запала Маше в голову шальная мысль — выяснить, впрямь ли он не узнал ее или просто глумился на глазах у всех?
Старательно хохоча, она перебегала от одного игрока к другому, шепотом подбивая обхитрить бестолкового водилу и потихоньку убежать, оставив его играть в жмурки с кустами да деревьями. Конечно, окажись на его месте Алексей Измайлов-меньшой, или Гавриил, Оленькин брат, или молодой граф Шемякин, или кто другой из именитых, гости, пожалуй, посовестились бы его бросить. А церемониться с приемышем…. да что ж тут такого?
Словом, не прошло и пяти минут, как озорники через сад убежали к реке и начали кататься на лодках, забыв о Григории и даже не приметив, как Машенька улизнула от них. Однако когда она воротилась к месту игры, Григория там тоже не оказалось. Наверное, разгадал, что его бросили, да ушел. Итак, Машина задумка провалилась. Впрочем, это ее не больно-то огорчило: обида на Григория уже прошла. Еще раз оглядевшись, Маша решила хоть яблочком угоститься. Срок снимать их еще не настал — до яблочного Спаса оставалось больше чем полмесяца, однако Маша уже принялась трясти ближнее к ней деревце — да так и ахнула, когда кто-то внезапно заключил ее в объятия, да такие крепкие, что она головы не могла поднять. Впрочем, она и без того сразу узнала Григория. А вот узнает ли он ее на сей раз или опять примет за Оленьку?
Однажды, оплошав, Григорий не торопился с отгадкою, а стоял неподвижно, как бы приглядываясь к своей добыче, но не глазами, которые были у него завязаны, а как бы телом. Маша, вынужденно прильнувшая к нему, поразилась, как колотится его сердце, — бегом, что ли, бегал Григорий, разыскивая игроков-обманщиков? Вон как тяжело дышит!
Вслушиваясь в это тяжкое дыхание, Маша вдруг ощутила, что сердце Григория, только что бившееся ей в бок, теперь колотится в самую грудь ее. Как же это он успел повернуть Машу к себе лицом, что она и не заметила? Не заметила и того, что руки его более не лежат каменно на ее плечах, а медленно гладят спину, спускаясь к талии, а жаркие губы ползут по щеке, по шее, и вот уже уткнулись в нежную ямку там, где шея смыкается с плечом. Наконец глухой, сдавленный голос прошептал:
— Машенька, душа моя!
«Все-таки узнал меня!» — мелькнула у Маши мысль, да тут же и исчезла в сумятице других. Эта мысль принадлежала той Маше, которой она была всего минуту назад, но за прошедшую минуту она успела унестись от себя — прежней — бесконечно далеко. Да и задыхающийся шепот Григория отнюдь не напоминал его прежнюю веселую скороговорку. Изменились и тела их: он был горяч, как огонь, тверд, как камень, он весь вжимался в Машино тело, которое податливо льнуло к Григорию, как растаявший воск льнет к пальцам. Грудь ее смыкалась с его грудью, колени — с его коленями, губы — с его губами… а потом губы их неумело, но жадно впились друг в друга.
Нет, это лишь Машины губы были безвольно мягки, а Григорий целовал ее крепко, умело, прижимаясь к ее языку так, что Маша невольно застонала… и тут они вовсе потеряли голову!
Его руки жадно обнимали ее всю, — их, чудилось, было множество, они враз спускали кружева с ее плеч, и касались груди, и поднимали юбки, и гладили бедра, все ближе подбираясь к трепещущей девичьей сути. Маша обмякла в руках Григория, клонилась долу, и он клонился вместе с нею, что-то жарко шепча в ее тяжело дышащий рот… И вдруг, не сдержав пыла, так больно впился зубами в Машины губы, что она ощутила вкус своей крови и громко вскрикнула.
Звук собственного голоса показался ей чужим и жалким, но отрезвляющим, и Маша, упершись руками в грудь Григория, попыталась отскочить… Открыла глаза — да так и замерла, узрев, что лиф ее расстегнут, голая грудь наружу, розовые юбки из линобатиста смяты и заткнуты за ее же пояс, ноги… ох, ноги обнажены не то что выше колен, а до самой самости! Повязка с глаз Григория сбилась ему на лоб, лицо горело, взор блуждал, пояс его был распущен, а из-под задранной рубахи… о Господи…
— О Господи! — выкрикнула Маша и, бросившись под яблоневые ветви, побежала прочь, едва успевая отстранять от лица сучья и листья, ничего не видя перед собой, кроме того неведомого, что сейчас, впервые в жизни, открылось вдруг ее взору.
* * *
Сведущие люди говорят, что невинность покидает девицу не в тот миг, когда она въяве согрешит, а когда лишь возмечтает согрешить. И если сие правда, то Маша перестала быть невинною девушкою именно в те мгновения, когда стремглав неслась прочь от Григория, равно снедаемая отвращением к себе и к нему — и неистовым желанием утолить жар в чреслах.
Кое-как оправив одежду в кустах, она окольной тропинкой пробралась к дому, да тут, на крыльце, наткнулась на матушку. По счастью, рассеянная Елизавета, увидев кровь на губе дочери, не заметила беспорядка в ее платье, и Маша впервые поняла, насколько невнимательна и легковерна ее матушка. Ничего не стоило уверить ее, что, разыгравшись-разбегавшись, дочка споткнулась, упала и прикусила губу… хотя, чтобы укусить себя за верхнюю губу, надо ох как постараться!
Маша не помнила, как отдышалась, умылась и переоделась в своей светелке, как спустилась к ужину, как избыла этот день до вечера. Она с ужасом ждала, что вот появится Григорий — и все сразу поймут: между ними произошло нечто постыдное. Ее словно молнией пронзило, когда он вошел: бледный, с мокрыми волосами и воротом, словно обливался прямо из ведра, не раздеваясь. Встретиться с ним взглядом было невозможно, и Машины глаза, воровато скользнув по его груди, уперлись ниже пояса, в то место, где был край рубахи… и уже знакомый жар внезапно опалил ее чресла. Маша мысленно взмолилась, чтобы Господь немедленно повелел дню закончиться, не ведая, что скоро будет молить Его сократить и ночь, ибо ночь сия оказалась для нее бессонной и мучительной.
Сроду она такого не испытывала! Выпадали мгновения, когда Маша спохватывалась, что уже отворяет окошко или отодвигает задвижку на двери, готовая как есть, в одной рубахе, бежать к Григорию, чтобы вновь ощутить его жар, его поцелуи, чтобы вновь увидеть, увидеть…
Эти воспоминания на какой-то миг охлаждали жар в ее крови, наполняя душу стыдом, даже отвращением, но тут же вновь уступали место неутоленному желанию, заставлявшему мысленно лететь по дому, по лестницам и переходам, искать Григория по комнатам… А вдруг кто-то из гостей еще не спит, спохватилась Маша, что, если кто-нибудь из молодых людей увидит ее полунагую? Ну, окажись тут Матвей Шемякин, этот повеса своего не упустил бы! Говорят, после того, как отец свозил его в столицы, к родне, двоюродная тетка Матвея, молоденькая вдова, потом приезжала в Шемякино, племянника подстерегала и едва ли не прилюдно в штаны к нему лазила… Уж, наверное, Матвей горяч не только во взорах, коими он так и прожигает дамские декольте! Губы у него припухшие, словно нацелованные…
Маша провела языком по своим пересохшим, жадно приоткрывшимся губам — и опрометью кинулась в угол, под иконы. Упала на колени, заколотилась лбом об пол, внезапно открыв для себя страшную истину: нет, не Григория алчет ее тело, а просто греха, любодействия… и, кажется, все равно с кем!
Вот так и вышло, что Григорий возмутил ее плоть, не затронув сердца, и отныне, общаясь с ним, она чувствовала лишь неловкость и стыд, особенно когда вспоминала свои горячечные сновидения, в коих буйствовала с Григорием… впрочем, он был лишь одним из сонма тех воображаемых любовников, кои распаляли и тешили ее в снах!
Маша похудела, замкнулась в себе, как бы пригнулась под бременем несвершенного, но оттого не менее тягостного греха. Воспитанная в страхе Божием, она не могла не сознавать греховности своих мечтаний. Но, что матушка страстно, безумно любила князя Алексея и ночи их были полны любострастия, Маше казалось вполне естественным и не стыдным: они ведь были супругами. Вот если бы Григорий оказался ее мужем, тогда дело другое. Мысль о matrimonio secreto [37] на время захватила ее воображение. Вспомнились рассказы знакомых девиц — рассказы о похищениях, о тайных венчаниях, о том, как двери церкви запирались наглухо, а на случай погони за беглянкою-невестою на страже стояли офицеры, друзья жениха…
Но все же она была графиня, а ее отчим — князь; он и матушка обласканы императрицею, а Григорий — кто такой? Восхищаться им, даже целоваться с ним — это одно, но дать роковую клятву… родить от него детей?! Гринька — он Гринька и есть, Гринькой и останется. Как ни влекло ее по ночам к пригожему егерю, как ни очевидно, что молодыми умами руководит одно сердце, но все-таки над Машиным сердцем властвовало не истинное чувство, а всего лишь восторг первого желания, — так что днем она вполне трезво могла благодарить судьбу за то, что их с Григорием амурства заглушены гласом рассудка, так и не развившись.
Сие предполагала Маша, но она не приняла в расчет Григория, который хоть и понимал, какое чрезвычайное расстояние существует между фортунами богатой красавицы-наследницы и бедного егеря-приемыша, но обладал терпением и хитростью дикаря, а потому не намеревался плестись на поводке своей злосчастной судьбы.
Глава V ЧЕСТНОЙ ЛЕС
На Нижегородчине испокон веков пошаливали. Да и как не шалить, когда сами Дятловы горы, на коих стоял Нижний, названы, по слухам, именем какого-то баснословного разбойника Дятла! Вот и плодились его духовные наследники что в лесах, что на горах [38], не давая спуску и добрым, и недобрым людям — все едино, лишь бы мошна тугая.
Не было такого уезда в Нижегородской губернии, откуда бы не доносились то и дело тревожные вести: «Шалят!.. Пошаливают!..» — и туда мчалась воинская команда на разбор. Места, удобные для шалостей, были известны всем: пешим и конным, всадникам и экипажам, одиночкам и обозам. В окрестностях Нижнего наиболее опасными для проезжающих считались: урочище Смычка, поле около деревень Утечкино и Грабиловка, лес близ села Кстова. Арзамасская провинция «славилась» Бреховым болотом и рощей у деревни Кудеяровки Лукояновской округи… Да и вообще на Волге и Оке почти каждый остров, пустырь или крутой поворот реки служили убежищем вооруженным удальцам.
Любавино вот уж лет пятнадцать Господь уберегал от разбойничьей напасти — с тех самых пор, как повязали всю шайку Гришки-атамана по прозвищу Вольной, а сам он был убит своим сообщником в лесной чаще. Однако с зимы 1779 года потянулись, поползли, подобно едкому дымку от сырых дров, слухи один другого неопределеннее про какого атамана с диковинным прозвищем Честной Лес да про шалости его ватаги. Была она невелика — двенадцать готовых на все удальцов, — зато деловита не в меру. Пробавлялась мелкими грабежами на почтовых перегонах, сперва мало чем отличаясь от других, собирающих на большой дороге «пошлину» с купцов. Однако более чем дерзкое ограбление Сергиевского монастыря в десяти верстах от Любавина враз поставило имя Честного Леса рядом с такими зубастыми предводителями шаек, как Янька, Галанка Григорьев, Костя Дудкин [39], да и сам Вольной!
Дело было так. Стены обительские высокие, ворота крепкие. Разбойники не решились ломиться в монастырь через ограду или разбивать железные ворота. Монахи в случае тревоги могли бы уйти тайным подземным ходом, прихватив казну. Честной Лес со товарищи задумали проникнуть в монастырь хитростью. Знали они, что чернорясники привечают у себя богомолок-женщин, несущих подаяние со всей округи в Сергиевскую обитель и дающих ей изрядный доход. Нарядились все двенадцать молодцов в женскую одежку — и обманули доверчивого привратника.
Пробравшись хитростью за ограду, принялись действовать обычным путем: поджаривать настоятеля и братию на вениках, требуя выдать спрятанную казну… Все, что ценного нашли, разбойники похитили; деревянные же строения перед уходом зажгли — тут уж не до погони за ними было!
Обычно, совершив удачный набег, ватаги «залегали». Чуть не в каждой деревне, в тех местах, где орудовала шайка с репутацией, имелись избы-приюты, в которых могли на время укрыться переодетые «свои», «знакомцы», «странники», «нищие» и прочие. Провиант же целиком доставлялся доброхотами из местных жителей. Однако у Честного Леса, по всему вероятию, не было подобной берлоги; стремился он урвать как можно скорее и как можно больше, и ватага его пошла «в помещичьих домах псалмы петь»: совершился налет на усадьбу, стоявшую посреди большого села Орликова. Это уж, считай, под боком у Любавина! Граф Орликов, сын его Андрей, приятель Алешки Измайлова, вместе со старостами и приказчиками встретили разбойников ружейным огнем. Произошло настоящее сражение, с обеих сторон оказались убитые и раненые. Разбойники взяли верх; Орликов со товарищами принуждены были спасаться бегством, унося молодого графа, раненного в голову. Воротясь, нашли дом разграбленным, но взяты были только деньги и драгоценности — то есть то, что легко унести, да еще кое-какое продовольствие, но немного.
В этом деле впервые удалось увидеть ватажников Честного Леса. Это были крепкие, рыжие удальцы, одетые с бору по сосенке, однако схожие между собою, как родные братья: у всех были волосы особенного, соломенно-рыжего цвета, кудлатые и нечесаные, и тяжелые бороды и пышные усы, скрывавшие лица.
Лишь только слух о злодейском налете на Орликово разнесся по округе, ко всем соломенно-рыжим начали подозрительно присматриваться, но из них никто не носил такой варварской бороды и усов, и умные люди поговаривали, что этот Честной Лес оказался весьма хитер: небось обрядил своих в поддельные волосы, чтобы никого не опознали. Тут у людей догадливых мысли далее текли: коли так, коли кого-то из ватаги могут узнать, выходит, она своя, местная! Догадка подтверждалась и тем, что разбойнички своих раненого и убитого не бросили на месте свалки: даже труп унесли с собою, — очевидно, и в мертвом сем была опасность для них, и он мог их невольно выдать! Итак, Честной Лес и его шайка были для крепостного люда истинною змеею в траве: нападают внезапно, а откуда и куда потом скрываются — поди узнай!
В любавинских лесах, увы, тоже спокойствия не было. Откуда ни возьмись появились там браконьеры и нагличали чрезвычайно, расставляя кругом самострелы. Егеря во главе с Григорием в лесах дневали и ночевали, силясь извести хитников, но кончилось это печально: один из егерей, Никишка, погиб — вся грудь была разворочена выстрелом! — другой оказался ранен, да не стрелою, а пулею. И вот что диковинно: получалось, что браконьерничали в любавинских угодьях не голодные крестьяне, у коих самострел, он и есть самострел — со стрелою, а люди достаточные, коли не скупились на дульное оружие и недешевый к нему припас. А поскольку шайка Честного Леса была оснащена отличным стрелковым оружием, то долго думать не стали и сию злокозненность приписали этому разбойнику, тем паче, что беда с егерями совпала по времени с перестрелкою в Орликове.
Теперь в лес ходить остерегались. А ведь стояла пора летняя, грибная, ягодная! Девки, бабы, ребятишки пропустили землянику — так, пощипали кое-что на опушках. В Семик и Троицу почти не выходили из села, но когда в июле начала рясно поспевать малина, первые смельчаки все-таки рискнули в лес сунуться. А когда ничего не случилось, повалили валом и прочие: урожай на малину был необычайный, а на самострелы пока еще никто не напоролся. Может, убрали их? Или смекнули, что охота в июне-июле — малая добыча, зверь еще не нагулян? Да и Честной Лес больше не давал о себе знать: или насытил душеньку, или решил в другие края податься.
Маша не была особенной любительницей дальних лесных прогулок, предпочитала речные берега, но в начале августа случилось нечто, изменившее ее пристрастие: в конюшне князя Измайлова появилась новая лошадка, купленная им именно для падчерицы, — истинное чудо! Она была медово-золотистая, как небо на закате, тонконогая, необычайно изящная и резвая. Куплена она была на знаменитом Орловском конезаводе, обошлась в немалые деньги. Однако стоило только взглянуть на эту прелесть, и величина суммы казалась чем-то второстепенным.
Больше всего на свете золотистая Эрле любила скачку с препятствиями, а не ровный, спокойный бег по просторным волжским берегам. Извилистые лесные тропы и поваленные стволы привлекали ее куда больше; ну а Маша ради нее готова была смириться с сырым зеленым полумраком. Матушка умоляла ее не ездить одной, без сопровождающих, но вот беда: в имении не было ни одного коня, который сравнился бы в скорости с Эрле, — ни одного, кроме Алешкиного Зверя, но то был истинный зверь: идущую рядом лошадь он норовил искусать до крови, и даже нежная прелесть Эрле его не смягчала. Егеря тоже не могли сопровождать молодую графиню: Григорий никому из них не доверил бы ее безопасность, а может быть, втихомолку ревновал эту горячую штучку уже ко всем подряд. Сам он верхом не ездил: как известно, лошади его не терпели даже десяти минут — бесились и норовили сбросить. Вот так и получалось, что Маша ездила обыкновенно одна. И доездилась!
Она направила Эрле по обычной тропе: через березовую рощу, потом сквозь ельник, сменявшийся чахлым лиственничком, — в объезд болота, к заброшенному охотничьему домику. Это была немного мрачноватая, но красивая тропа. Однако день выдался хмурый, бессолнечный; над папоротниками стелился серый туман, то и дело выползавший на тропу. Серые призрачные фигуры колыхались и над болотом — жутковатое зрелище. Да еще и разбухался бухало [40], словно бы отмеряя каждый скок Эрле; да выпь поскрипывала в камышах. Кататься расхотелось… Эрле охотно не пошла на второй круг и резко свернула на тропу, ведущую к дому. Тут выпь наконец не выдержала, заорала что было мочи, издав мучительный, точно предсмертный вопль! И случилось нечто диковинное: поперек тропы рухнула корявая лиственка — рухнула, словно испугалась этого ужасного крика. Эрле запнулась только на мгновение, потом вздыбилась — и сразу же взяла препятствие, как бы даже и не заметила его, и полетела дальше, подгоняемая страхом, легкая, освободившаяся от своей ноши, — ибо всадница не удержалась в седле и осталась лежать, подкатившись под лиственничный, утыканный сломанными сучьями ствол.
* * *
Она очнулась оттого, что чьи-то руки грубо тащили ее по земле. Открыла глаза — и едва успела отвернуться от острого сука, норовившего пропороть ей щеку. И сразу все вспомнила; загудело от боли тело. Маша со стоном приподнялась, пытаясь оторвать от себя эти жесткие, злые руки, которые тащили и тащили ее, хотя угрожающие ветки лиственницы остались уже позади, — и дыхание у нее пресеклось, когда она увидела совсем рядом потное, чумазое мужичье лицо в обрамлении соломенно-рыжих волос и кудлатой окладистой бороды.
Честной Лес!
На мгновение Маша снова лишилась сознания, но тут же и очнулась, потому что горячая пятерня больно сдавила ей грудь.
Маша завопила что было сил, а мужик только хрипло рассмеялся.
— Кричи, кричи, птаха! — закатывался он. — Как раз со всего леса сюда мои сподельники и слетятся. То-то потешимся!
Маша онемела, зажмурилась, но когда мужик резко рванул на ней платье, оголив грудь, она снова испустила истошный крик, но захлебнулась, когда пятерня стиснула ей горло. Другой рукой мужик взялся за свою одежду, но вдруг глаза его изумленно выпучились, он замер, постоял, качаясь вперед-назад, а потом тяжело рухнул ничком, едва не придавив Машу. И к ней склонилось бледное, с потемневшими глазами лицо Григория.
— Машенька, душенька! — прошептал он, задыхаясь. — Он ничего тебе не сделал, нет?
Это было похоже на чудо… хотелось броситься к нему, прижаться, но Маша сидела, схватившись за горло, не в силах слова молвить. Григорий прижал ее к себе, обхватил, чуть покачиваясь, словно баюкая, забормотал:
— Ничего, уже все прошло. Тише, тише…
Но едва только Маша расслабилась, притихла в его объятиях, как Григорий отстранился и замер, насторожившись: совсем рядом раздался волчий вой — заливистый и протяжный, оборвавшийся… о Господи, оборвавшийся раскатистым хохотом!
— Оборотень! — шепотом вскрикнула Маша.
Григорий рывком поставил ее на ноги.
— Нет, — сказал он, — не оборотень. Это Честной Лес! Бежим!
Они кинулись было по тропинке, надеясь перелезть через поваленное дерево, но из лесу вывалилась на тропу высокая фигура, выдергивая из-под пояса топор. Еще кто-то ломился сквозь чащобу, перекликаясь, переговариваясь, слева и справа. Григорий попытался улыбнуться в ответ на отчаянный Машин взгляд, но у него ничего не получилось. Глянув еще раз на тропу и сокрушенно покачав головою, он бросился бежать кругом болота, волоча за собою Машу, направляясь к охотничьему домику. Сзади свистали, орали, улюлюкали — все ближе, ближе… Погоня уже дышала в затылок, когда беглецы наконец влетели в избушку, с силой захлопнув за собой тяжелую бревенчатую дверь и наложив на нее мощный засов.
Маша так и села, где стояла, а Григорий забегал по домику, закрывая два волоковых окна крепкими дощатыми щитами. В избушке сгустился полумрак, Маша судорожно, со всхлипом, перевела дух, и Григорий тотчас оказался рядом, обнял, прижал к себе, сам тяжело, запаленно дыша. Но даже громкий стук его сердца не мог заглушить насмешливого окрика:
— Эй, добрый молодец! Выкинь нам свою девку, — а сам иди подобру-поздорову. Жив останешься! Ты нам не надобен! А хоть — заберешь потом, что после нас останется. Отвори дверь-то, слышь?
Мелькнуло шальное воспоминание об одном из ее горячечных, непристойных сновидений, но тут же Машу затрясло от отвращения. Она только сейчас осознала, что платье ее разорвано до пояса, и торопливо стянула платье на груди, брезгливо передернувшись: отпечатки грубых мужичьих лап, казалось, жгли кожу! С мольбой взглянула на Григория, но тот стыдливо, виновато отвел глаза. И Маша, ткнувшись лицом в колени, громко разрыдалась.
* * *
Шло время. Бессолнечный, серый денек, должно быть, уже перевалил за полдень. Не меньше часу Маша с Григорием томились в заточении.
Иссякли уже слезы, только жгло измученные глаза и горели щеки. Она тихо сидела, подтянув колени к подбородку, и безнадежно, невидяще смотрела на Григория, который понуро стоял у заложенного щитком окошка.
Гнилые словеса доносились из-за двери непрестанно, и Маша уже устала пугаться от этих намеков, — мол, кто из разбойничков будет «еть» ее первым, кто последним, что и как именно они сделают с нею. Грубые, мерзкие выражения уже не оскорбляли ее слуха. Но настойчивость рыжебородых была поразительна! Причем они постоянно повторяли, что, натешившись, Машу сразу же отпустят, зла против нее они не держали никакого, и постепенно вся их неутоленная алчность обратилась в злобу против княжеского егеря, коего они признали в Григории, — видать, успел он им крепко насолить, уничтожая самострелы! И мало-помалу зазвучали новые речи: ждет Григория самая лютая казнь, когда удастся проникнуть в дом, но если «девка-красавица» выйдет к ним сама, добровольно, то ему только дадут раза по морде — и тоже отпустят. И опять, и опять твердили это, снова и снова, однообразно, тупо, докучливо, словно разъяренные осы; жаль только, что от их криков нельзя было отмахнуться, как от надоедливого жужжания.
— Погубят они нас, — вдруг тихо сказал Григорий, не отрываясь от щелочки, в которую следил за разбойниками. Это были первые слова, что он произнес за долгое время, и Маша медленно перевела на него опухшие от слез глаза. — Сушняк, хворост носят…
Маша с трудом встала на затекшие ноги и приникла к другой щелке.
И верно — действия разбойников не оставляли сомнения в их намерениях! Видимо, отчаявшись вышибить двери и окна, которые словно бы и впрямь были заранее рассчитаны на долгую осаду, ватажники решили выкурить их, как бортники выкуривают из гнезда лесных пчел. Они обкладывали сушняком стены избушки, оставляя, однако, свободной полосу на крылечке — на тот случай, если осажденные решат наконец сдаться.
Маша следила за спорыми движениями разбойников, за мельканием одинаковых соломенно-рыжих голов, напоминающих охапки сухого липового лыка, — в этой одинаковости было нечто завораживающе жуткое! — и все яснее понимала ужас и безнадежность своего положения. Ох, не миновать, по всему выходит, не миновать ей сей горькой чаши! Верно, Бог решил наказать ее за блудные желания — вот и наслал на нее такую напасть.
Да, пришло время расплаты за греховные мысли, недопустимые для девушки ее возраста и положения. Не смешно ли, что гордячка графиня, отвергшая любовь егеря потому, что он ей не ровня, теперь достанется грязным мужикам? И поделом, поделом ей!
Маша уткнулась лбом в сырое дерево.
Сама погибнет и Григория погубит. Его-то за что? Он-то чем здесь виноват?! Разве только тем, что появился на тропе не вовремя, помешал тому мужику взять свое. Не появись тогда Григорий, разбойники, натешившись, уже ушли бы, кинув свою игрушку, и только Машино дело было бы выбирать — идти сразу топиться в болото или попытаться жить; но только она одна была бы жертвою! А теперь… Экая глупость! Уж лучше бы ей тогда, под яблонями, упасть на траву с Григорием, отведать этой запретной сладости, чем теперь отдать свое нетронутое девичество на растерзание рыжебородым чудищам!
— Ну, вот чего, голубки! — бросив у крыльца новую охапку сухих листьев, проревел высокий, статный мужик, верно, предводитель разбойников, может быть, даже сам Честной Лес. — Вы там еще поворкуйте, посоображайте, а мы покудова пообедаем чем Бог послал. Но глядите! Лишь только последний кусок проглотим, так за вас и примемся! — На последних словах он вдруг дал петуха, закашлялся, и Маша подумала: какие странные голоса у всех этих разбойников — какие-то утробные, ненатуральные, словно бы они нарочно стараются говорить таким страшным басом!.. Впрочем, сия никчемушная мысль тут же и ушла. И Маша тоскливо задумалась о своей участи, с которой постепенно начинала смиряться.
Сведения ее о любодействе были весьма неопределенны, воображаемые сцены далеки от действительности, однако она нередко слышала — краем уха, конечно, таясь! — рассказы дворовых девок о том, как Симку, Нюрку, Ольку ли какую-нибудь «ссильничали» то ли после посиделок, то ли в лесу, когда отбилась от подруг. Ну а уж о пугачевцах до сих пор ходили россказни, как они целыми отрядами брали баб да девок без разбору, что богатых, что бедных. И ничего! Ни разу не слыхала Маша о том, чтоб какая-то девка утопилась или удавилась с горя! Насильничанье было, конечно, обстоятельством позорным, да как-то забывалось в деревенском обиходе, ну а уж если о нем никто не знал, если молчали обидчик и жертва… Маловероятно, что слух о происшествии с Машею дойдет до Любавина: ну, поимели мужики непотребно девку, да и пошли своей дорогою. И если ей удастся перетерпеть боль и унижение, все скрыть, смолчать — у нее хватит сил и хитрости обвести вокруг пальца свою простодушную, невнимательную матушку, а коли и дознается она, то никогда дочь свою ничем не укорит и будет всячески помогать сохранить в тайне от других ее несчастье, — так вот, если хватит сил перекипеть в этом унижении и сделать его своей тайной — позорной, да, но принадлежащей только ей! — тогда, может быть, удастся когда-нибудь все забыть!.. Мелькнула страшная мысль, что она может понести от кого-то из этих страшилищ, но Маша тут же прогнала ее. Об этом она как-нибудь позаботится, если такая беда стрясется. Нет, уж такого Бог не должен допустить, хватит с него того, что с нею сейчас содеют эти пятеро извергов! Она мысленно погрозила Богу кулаком, отчаянно выторговывая у него две уступки: остаться бездетной после этой ужасной случки и жизнь Григория.
На миг улыбка надежды тронула ее запекшиеся от слез губы, но тут сдавленный голос Григория прервал ее задумчивость:
— Не бывать этому, пока я жив, поняла?!
Маша встрепенулась. Григорий стоял перед ней подбочась, гневно сверкая глазами.
— Ты что же это задумала? — прошипел он. — Себя, как тряпку, этим подлюгам кинешь, а мне как потом жить? Нет уж, будет пробиваться с боем!
Он выхватил охотничий нож, и слезы вновь навернулись Маше на глаза, так бесконечно дорог был он ей сейчас в своей безрассудной, безнадежной отваге! Она не питала никаких надежд на спасение, но как согрело сердце это желание Григория: лучше умереть — да не покупать жизнь ценою ее позора!
Она глядела на него с восхищением, тихонько всхлипывая, но не замечая слез. А он вдруг отшвырнул нож, шагнул к Маше и порывисто обнял ее, уткнувшись в корону растрепанных кос.
— Бедная моя, милая! — зашептал он прерывающимся шепотом, и Маше показалось, что Григорий с трудом сдерживает слезы. — Красавица моя, желанная! Что гоношусь-то я попусту? Ну, одного уложу из этих нехристей, ну, другого… Нет, не сладить со всеми пятью! Не миновать мне лютой смерти, а тебе, моя лебедушка белая, их грязных лап! Ох, судьба, ох, кручина!
Он отчаянно замотал головой и со стоном вновь уткнулся в Машины волосы.
— Что ж, знаю, живут девки и после таких надругательств, а как подумаю, что тебя, милую, нежную, яблочко сладкое, да недозрелое, первым отведает мужло премерзкое!.. Я, я мечтал об том денно и нощно, жизнь бы за то отдал, не задумываясь… — Он задохнулся.
Маша стояла недвижно, только сглотнула комок, закупоривший горло. Как легко стало вдруг у нее на сердце! Конечно, Григорий прав, прав. Ей будет куда легче выдержать злое насилие, если первым будет у нее он… нежный, любящий, любимый! Да, в это страшное мгновение Маша истинно любила Григория, и это помогло ей поднять голову и коснуться губами его губ.
Он задрожал весь, и сердце его заколотилось так, что передало трепет свой Машиному телу. Она враз забыла, что этот шаг ее — всего лишь уступка злой судьбе, и ощущала одно лишь желание, такое же пламенное, как и то, что сжигало Григория.
Губы их слились, но Маше приходилось приподниматься на цыпочках, поэтому Григорий легко приподнял ее и, шагнув в сторону, посадил на грубо сколоченный стол. Теперь лица их оказались на одном уровне, и Маша так самозабвенно отдалась бесконечному, сладостному поцелую Григория, что даже не замечала, что его руки осторожно подняли ее юбки и гладят ноги, поднимаясь все выше и выше колен, ласково, но настойчиво вынуждая ее подчиняться. Она сидела, он стоял перед ней; и вдруг какое-то резкое, непонятное движение его заставило Машу откинуться на локти, вскрикнув от боли. Но Григорий, не отрываясь от ее губ, навалился сверху, тяжело дыша, больно придавливая Машу к неструганному столу. Это было нестерпимо, она мечтала только об одном — вывернуться, оттолкнуть его, но он словно пригвоздил ее к доскам, и губы его уже не были нежны — как и в первый раз, он искусал ее губы в кровь.
Наконец Григорий оторвался от нее, но еще какое-то время стоял, опираясь на стол и тяжело дышал.
Она медленно подняла отуманенный взгляд, уставилась в лицо Григория, мечтая найти в нем отсвет прежней нежности и любви, но черты его были безразличны, а рот вдруг расплылся, и Григорий сладко, с подвывом зевнул.
— Ух, вздремнуть бы сейчас! — с усилием выговорил он. — Ох, мочи нет! Ноженьки подкашиваются! — Он засмеялся, отвернувшись от Машиного испуганного взгляда. — Ну что, вздремнем чуток? Отдохнешь — или сразу пойдешь к мужикам, пока печка не остыла?
Маша смотрела на него, не веря своим ушам.
Что он такое говорит? Куда девался тот Григорий, который несколько минут назад готов был жизнь за нее отдать? Этот — другой: сытый, торжествующий… И это не было торжеством счастливого любовника, наконец-то вознагражденного. Сей безродный приемыш наслаждался как личным реваншем тем, что обладал графинею! Да он и пальцем не шевельнет, вдруг поняла Маша, когда ватажники распнут ее на этом же самом столе! Отсидится в уголке, а не то улизнет втихаря!
Эта догадка была так ужасна, так позорна, что силы вдруг вернулись к Маше. Нет, Григорий и не собирался драться с разбойниками! Он просто хотел получить с Маши свое, а что будет с нею потом — ему безразлично.
И ей вдруг тоже стало все безразлично.
— Не надейся, что тебе все это с рук сойдет, — процедила Маша. — Я им расскажу, как ты меня первым взял, как обманом то получил, что им досталось бы. А потом, когда вернусь в имение, скажу князю, чтоб тебя плетьми драли, пока не издохнешь!
Но Григорий не слышал ее последних слов. Он хохотал, покатывался со смеху, с трудом выталкивая из себя слова:
— Им рас-скажешь? Мол, я первым был? Им бы досталась?! Ох, не могу! Нашла, чем пугать!
И он снова залился смехом, да таким громким, что Маша не сразу расслышала крики за стеной, а потом — выстрел. Выстрел!..
Маша враз ожила, кинулась к окошку, рванула ставень и высунулась, не думая об опасности, уже почти зная, что увидит! Она в глубине души все время надеялась: добежит Эрле до дому, увидят ее без всадницы — и поймут, что беда приключилась, и, зная, по каким тропам любит ездить Маша, бросятся искать ее. И вот, вот же…
Верхом на Звере, с пистолетами в обеих руках, сабля за поясом, управляя только коленями, Алексей вылетел на поляну, отчаянно выкликая имя сестры. Разбойники в панике метались вокруг избы.
— Я здесь! Я здесь! — закричала Маша, смеясь и плача одновременно.
Алексей выстрелил дважды и, отбросив пистолеты, выхватил саблю. Два разбойника упали замертво, третий юркнул в кусты. Оставшиеся двое носились по поляне, уворачиваясь от сабли Алексея и от страшных копыт Зверя. Одного достал Алексей, второго сшиб конь. Первый разбойник лежал недвижимо, залитый кровью, а другой, привстав на колени, вцепился в свою рыжую, косматую шевелюру и… вдруг сдернул ее с себя вместе с бородой.
— Барин, помилосердствуйте! — выкрикнул он в ужасе. — Это я! Пров!
Алексей успел осадить коня и ошеломленно смотрел в лицо парня, который оказался вовсе не рыжебородым злодеем, а перепуганным, русоволосым и кудрявым егерем из команды Григория.
* * *
Алексей еще оставался неподвижным, а в Машином обостренном страданиями уме вмиг сложилась и обозначилась вся зловещая картина предательства, замышленного и осуществленного Григорием. Но думать об этом сейчас не было времени. Она метнулась к двери и с неожиданной силой отодвинула в сторону засов, успев выскочить на крыльцо прежде, чем Григорий опомнился и кинулся вслед.
Алексей увидел ее и невольно ослабил крепко натянутый повод. Зверь не удержался в дыбках и обрушил передние копыта прямо на голову Прова, с хрустом проломив ее.
У Маши подкосились ноги, она покачнулась — и упала бы, когда б не поддержал под руку Григорий. Но хватка его была жестока, немилостива, и пуще боли в заломленной руке отрезвило Машу ледяное прикосновение стали к горлу.
— Стой тихо, — прошептал Григорий, и она замерла.
Вид сестры, застывшей на крыльце с обнаженной грудью, в рваной юбке и лезвием у горла, потряс Алексея еще пуще, чем смерть Прова.
Он осадил коня и тяжело слез с него, выронил саблю, но даже как бы и не заметил этого, а медленно побрел к избушке, безоружный; и когда Маша поняла, какую великолепную мишень представляет сейчас ее брат, она невольно застонала. Этот жалобный стон и вырвал Алексея из оцепенения.
Остановившись в двух шагах от крыльца, он крикнул властно:
— А ну, пусти-ка ее, Гринька!
Это полузабытое, детское, пренебрежительное прозвище заставило Григория на миг потерять уверенность в себе. Нож в его руке дрогнул, опустился… но только на миг. Григорий тотчас овладел собою и держал Машу по-прежнему крепко.
Алексей покачал головой.
— Что ты с ней сделал, тварь? — тихо спросил он.
Григорий прошипел-просвистел в ответ сквозь стиснутые зубы:
— Что хотел, то и сделал.
Алексей на миг зажмурился, но, когда открыл глаза, голос его звучал по-прежнему холодно и спокойно:
— Как же смел ты решиться на такое лютовство? Или не знаешь, что ждет тебя за это?
— Как — что? — ухмыльнулся Григорий. — Под венец графиня молодая со мной пойдет, чтоб позор свой прикрыть. Статное ли дело — распечатанной девкою остаться?
Брат и сестра обменялись взглядами, и Алексей сказал то, что прочел в ее глазах:
— Да она скорей умрет, ты разве не понимаешь?
В его голосе была такая печаль, что Григорий вдруг понял: а ведь это правда! И, потрясенный, перевел дыхание, не в силах поверить, что рушится такая хитрая его задумка.
— Меня на сие любовь подвигла. Разве может быть любовь виновата? — выкрикнул он фальшиво, и эти слова были Маше как нож в сердце.
— Любовь?! — в ярости закричала она, рванувшись и не замечая, что лезвие слегка чиркнуло ей по шее и тоненькая струйка потекла на жалкие лоскутья, едва прикрывавшие грудь. — Любовь тебя подвигла меня обманом взять? Любовь подвигла сговорить ватажников Честного Леса напасть на меня, а потом стращать блядными словами и непотребствами смущать?
Она осеклась, потому что Григорий вдруг каменно замер за ее спиной, словно бы даже дышать перестал, а черты Алексея исказились страданием.
— Опомнись, сестра, — с болью выговорил он, не сводя глаз с лица затаившегося Григория и читая по нему, как по книге. — Да ведь он сам и есть атаман Честной Лес!
* * *
Нет, не может быть, невероятно! Это слишком страшно, чтобы быть правдой!
У Маши подогнулись колени, но Григорий не выпускал ее руки, заставляя стоять, и она услышала его тихий, торжествующий смех. Да, изрядно потешил его тщеславие молодой князь, не сумев скрыть своего ужаса! — Какие же мы дураки были, какие глупцы! — Алексей схватился за голову и в отчаянии покачивался из стороны в сторону. — Искали браконьеров?! Как же! Напоролись на самострелы?! Где там! Вы напали на Орликово, Никишку там и подстрелили до смерти! Вот почему ватажники унесли мертвого — опознали б его, вам бы сразу конец… Хитро, хитро все придумали.
— Хитро, верно, — прохрипел Григорий. — Востер я, сам знаешь.
— Знаю… знаю… — Голос Алексея вдруг задрожал, и Маша увидела перед собой не сурового мстителя, каким он был мгновение назад, а растерянного, обиженного мальчишку. — Ну зачем, зачем ты это сделал, братан? Зачем?!
Алексей сейчас, наверное, вспомнил, кем был для него Гринька-Григорий последние пять лет, и сердце его разрывалось от горечи и недоумения: «За что, почему сие содеяно?» Слезы блеснули в его глазах, и Маша тоже невольно всхлипнула, вспомнив широкую дорогу от Ново-Измайловской усадьбы и двух мальчишек, бежавших по ней, взявшись за руки.
Однако Григорий, видно, нимало не страдал от воспоминаний, потому что голос его был сухим, чужим:
— Зачем, говоришь? Рад буду пояснить, брате-ельник! — Он насмешливо растянул это заветное для Алешки слово. — Только сперва ты мне ответь: что такое Честной Лес, что сие значит?
Алешка передернул плечами:
— Ты сам не ведаешь, что ли?
— Говори давай! — вскричал Григорий, с необъяснимой внезапностью впадая в ярость и укалывая Машу острием своего ножа.
— Леший. Честной Лес — так лешего в народе зовут, — подсказала она растерявшемуся брату.
И тот послушно повторил:
— Леший… А и впрямь — говорили, что ты сын лешего, больно уж свой в лесу!
— Тепло, тепло! — вскричал Григорий, словно при игре в горелки. — А какими еще словами лешего называют?
Он возбужденно дергал Машу, едва не выламывая ей руку из плеча, и брат с сестрою наперебой выкрикивали, в ужасе уставясь друг на друга:
— Лешак!
— Лесной барин!
— Дикарь, дикинький мужичок!
— Ну, еще, еще! — азартно кричал Григорий.
— Негодный!
— Щекотун!
— Вольной!..
— Вот! Вот именно! — взревел Григорий — и крик его внезапно оборвался рыданием. — Вольной…
Алеша глядел по-прежнему недоуменно, а у Маши холодок прошел по спине.
В отличие от младшего брата она немало наслушалась от княгини Елизаветы рассказов о былых ее приключениях и прекрасно знала, сколь дорог был ей в молодости разбойничий атаман по кличке Вольной. А как же его звали? Ох ты, Господи… Да ведь звали его Григорием!
Почувствовав, как дрожь охватила ее тело, Григорий понял, что она обо всем догадалась.
— Вот так вот, графинюшка моя молодая, — протянул он с издевкою. — Княгиня Елизавета когда-то мою мать, горничную свою, из дому брюхатую выгнала за то, что Вольной барыне служанку предпочел. Где она свою голову сложила — никто не знает. Меня тетка вырастила, сестра материна. Она-то мне все про графьев Строиловых и поведала, всю подноготную!
Его хихиканье перешло в истерический смех, заменивший злые слезы этому сожженному, измученному мстительностью существу.
— Это все я сделал! Я — Честной Лес, сын Вольного! — кричал он, не то рыдая, не то хохоча. — Все — я! И там, в Ново-Измайлове. И деда вашего на засаду навел… и погреб Силуянов отворил, чтоб Аристов вас нашел. А когда ты убежал, я уже знал к тому времени, что Михельсонов отряд близок, вот и решил тебя как бы спасти, чтоб к семейству вашему поближе подобраться. Вот вам всем от меня! Вот вам всем!..
Маша едва не оглохла от этих безумных воплей возле самого ее уха; страх и внезапность этих ужасных саморазоблачений лишили ее последних сил, а потому она не сделала даже попытки сопротивляться, когда Григорий вдруг сорвался с крыльца, толкая ее перед собой, и прежде чем Алешка успел ему помешать, подбежал к Зверю, одним махом забросил в седло Машу, а сам вскочил сзади, на мощный круп.
Зверь взревел не лошадиным, а каким-то медвежьим ревом, осел на задние ноги, пытаясь сбросить седоков, но это ему не удалось. Григорий, яростно оскалясь, кольнул коня в бок ножом, и тот с места взял такой рысью, что чудилось, содрогнулась земля.
Сначала они кружили по поляне — Григорий никак не мог справиться с поводьями, и Маша, вцепившись в гриву коня, краем глаза увидела, как из лесу на свист Алексея выбежала Эрле — значит, он нашел ее в лесу, она не успела добежать до Любавина, — вот почему Алексей появился один! Вмиг оказавшись в седле, Алеша погнал Эрле вслед за Зверем, но как ни резва была золотистая кобылка, ей не под силу оказалось даже приблизиться к Зверю, разгоряченному болью и страхом.
Алексей что-то отчаянно кричал, но Маша не слышала, не понимала. Ей казалось, что Григорий сошел с ума, — круто заворотив коня, он направил его в самую болотину, туда, где жутковато колыхались серые, сотканные из тумана фигуры.
Почуяв опасность, Зверь враз присмирел, притих и ступал осторожно, направляемый Григорием точно в те места, которые только и были безопасны в этой гиблой трясине, кое-где утыканной островками-кочками.
Зверь сделал шаг, и другой, и десятый, обрызгивая мох илом; а Эрле, почуяв неуверенность своего всадника, заартачилась на берегу, не пошла в болото. Алексей зажал рукою рот, сдерживая крик ужаса, понимая, что сейчас любое неверное движение Зверя может стать роковым для его сестры, и молясь лишь о том, чтобы Григорию удалось выбраться из болота, хотя как потом отыскивать его, как спасать Машу, было невозможно представить.
Но крик все-таки вырвался у него, когда перед Зверем вдруг громко лопнул болотный пузырь. Коротко заржав, до одури перепуганный конь завертелся на месте, так что по бабки ушел в воду, а Григорий, сидевший у него на крупе, соскользнул в болото; Маша же удержалась только потому, что легла на шею коня, словно слившись с ним своим телом.
Алексей стоял ни жив ни мертв, глаза его были прикованы к сестре. Он знал, что, когда свирепый конь разойдется, его не уймешь: ярость туманила его разум! Надо было ожидать, что Зверь, рассвирепев, станет кидаться, метаться, соступит, в конце концов, с потайной тропы, погибнет сам и погубит Машу. Однако ярость коня вмиг остыла, когда он сбросил с себя ненавистного Григория. С необыкновенной осторожностью, мелко переступая, он развернулся почти на месте и в два легких, невесомых скока достиг берега. Здесь, правда, он поскользнулся, упал на колени — но, чудилось, сделал это нарочно: для того, чтобы Маше было удобнее слезть с него, — точнее сказать, удобнее Алеше разомкнуть онемевшие руки сестры и стащить ее с коня.
Несколько мгновений брат и сестра сидели обнявшись, мешая беспорядочные, бессмысленные слова и слезы, как вдруг странный, протяжный звук заставил их оторваться друг от друга и взглянуть на болото.
Это был крик большой, мохнатой, ржаво-желтой птицы, покрытой бурыми пятнами, с торчащими над ушами пучками перьев и черным крючковатым клювом. Медленно пролетев над водой, едва не касаясь ее размашистыми крыльями, болотная сова взгромоздилась на чахлую, уже полумертвую сосенку и опустила взор своих желто-стеклянных, немигающих глаз на небольшую кочку, цепляясь за которую в болоте бился человек. Григорий…
Он был уже весь покрыт черно-зеленой болотной грязью — верно, Зверь сбросил его в самую топь, в такую зыбь, откуда даже лешему не так-то легко выбраться. И немало, должно быть, затратил он не замеченных Алексеем и Машею усилий, пока не добрался до этой кочки и не вцепился в нее, переводя дух.
Брат и сестра, крепко схватившись за руки, смотрели на него, и эти три перекрестившихся взора, чудилось, способны были высечь искры даже из сырой, насыщенной гнилостными испарениями мглы, висевшей над болотом. Но ни Алексей, ни Маша не шелохнулись, чтобы подать хоть какую помощь гибнущему егерю, — хоть слегу [41] протянуть, — мольба, вспыхнувшая было в его глазах, исчезла, уступив место прежней ненависти.
Он покрепче ухватился за кочку, подтянулся, с видимым усилием вытягивая тело из черной жижи, — да так и замер, уставясь куда-то расширенными глазами; но Маша с Алексеем не сразу разглядели, что же произошло; да и потом какое-то мгновение думали, будто глаза их лгут, ибо им почудилось: болотные травы вдруг ожили и медленно, осторожно поползли по рукам Григория.
Но то были не травы, а змеи.
Змеи…
Черные болотные гадюки и зеленые ужи, коих гнездовище было на этой кочке, потревоженные отчаянными усилиями Григория, накинулись на непрошеного гостя… но отнюдь не для того, чтобы опробовать на нем свои жала и ядовитые зубы. Нет! Они словно бы даже рады были этому человеку, и увидав, как беспечно снуют змейки по рукам и плечам Григория, Алешка вспомнил все слухи о его загадочной власти над болотными гадами и о взаимной между ними приязни. Теперь он сам видел, насколько правдива была болтовня егерей, но сие зрелище оказалось столь омерзительно, что Маша с трудом сдержала спазм рвоты и отвернулась.
Алексей же смотрел да смотрел и с изумлением заметил, что, едва змеи вползли на Григория, тот перестал биться, а замер, по-прежнему держась за кочку, но больше не делал попыток выбраться на нее. И Алексей вдруг сообразил, что Григорий оказался на страшном, погибельном перепутье: продолжая отвоевывать себе пространство на кочке, он рисковал так раздражить змей, что они могли позабыть о своей к нему симпатии, разозлиться и закусать до смерти; а оставаясь недвижимым, чтобы задобрить их, он неизбежно будет затянут в топь. Спасения с этого перепутья не было, и Алексей, обожженный внезапной жалостью, вдруг закричал:
— Гринька! Братан! Держись!
Он рванулся, и Маша, вцепившись в брата, лишиться поддержки коего боялась хоть на миг, обернулась к болоту. Увидев голову Григория — только она одна теперь торчала из воды, оплетенная змеиными телами, словно вся проросшая страшной, шипящей, извивающейся травою, — поймав его уже безумный взор, Маша сникла наземь, погружаясь в милосердное беспамятство. Но к Алексею судьба не была жалостлива, и ему пришлось увидеть, как названый брат его Григорий, разбойный атаман по кличке Честной Лес, с протяжным, нечленораздельным криком вдруг сам резко погрузился в черную воду с головой. Змеи порскнули прочь, расплылись по болоту, вновь забрались на свою обжитую кочку, и только множество мелких пузырьков на этом месте еще долго толклись, лопались, снова появлялись, словно душа человеческая рвалась, рвалась из топи, да так и не смогла вырваться на вольный белый свет.
Глава VI НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ СПАСТИСЬ ОТ ОБМОРОКА НА БАЛУ
Акулька Ульки не хуже! — воскликнула княгиня. — Акулька Ульки не хуже — так вот что это значило!
Елизавета уткнулась в ладони, еле сдерживая слезы. Эти странные, как бы в бреду произнесенные слова Татьяны теперь непрестанно приходили ей на ум. Почему, ах, почему она была так забывчива, не обратила внимания на имя своей бывшей горничной?! И сходство между Гринькою и Вольным теперь казалось очевидным, однако же прежде Елизавета не замечала ничего знакомого в этих прищуренных зеленых глазах. Слепа, глуха, бесчувственна, неосторожна!.. Однако же и Татьяна… почему смолчала? Почему не открыла своих подозрений? Тогда, возможно, и старый князь, и Вайда, и сама Татьяна остались бы живы! Или и впрямь цыганка поддалась искушению не перечить судьбе, сочтя Гриньку этаким орудием высшей мести старому князю? Но Татьяна не могла предвидеть, что у Гриньки окажутся свои планы отмщения! Или… могла? Или вещей душою заранее знала о всех тех бедах, кои сын Вольного принесет дочери Елизаветы, погасив своей гибелью то пламя страстей, которое вспыхнуло почти двадцать лет назад в глухом, болотистом приволжском лесу?.. Нет, поведение Татьяны было необъяснимо, но зачем сейчас тревожить ее память подозрениями и упреками? Да и сестра Улькина, Акулька, передавшая Григорию свою ненависть к Елизавете, — ее тоже нет в мире живых. И Вольного давно нет, а теперь — и Григория. «Из болота он пришел — в болото и сгинул, этот леший», — суеверно твердила Елизавета, вспоминая свою первую встречу с Вольным, вспоминая Григория; и образы двух зеленоглазых разбойников, отца и сына, сливались воедино в ее воображении. «Сгинул — и конец! И надо забыть о нем скорее!»
Елизавета, увы, сама успела забыть, как умеет насмехаться над людьми судьба. Конца сему делу не предвиделось, но об том пока никто не знал.
Даже со своим целительным умением отмахиваться от любых неприятностей, упрятывать их на дно памяти, чтобы не мешали жить, Елизавета теперь никак не могла сказать дочери свое любимое: «Все, что ни делается, — делается к лучшему!»
Без памяти любившая всю жизнь только одного человека — князя Алексея Измайлова, Елизавета тем не менее по прихоти судьбы или по своей воле не раз сворачивала с торного пути, поэтому слюбись ее дочь с Григорием по сердечной склонности, княгиня Измайлова, обнимавшая в своей жизни и графов, и ханов, и табунщиков, не выказала бы ни малейшего кастового негодования. Но эта подлая, расчетливая ловушка, в которую попалась Машенька!.. Вот что возмущало, вот что доводило до исступления! Князь же Алексей выходил из себя до такой степени, что сердечный припадок едва не уложил его в постель; бесился от неизжитой, хотя и тайной, невысказанной ревности к отголоскам бурного прошлого жены, а еще пуще оттого, что теперь никак, ну никак, хоть душу дьяволу заложи, не отомстить этому вражьему отродью! Хотя, впрочем, смерть Григория была так страшна, что сама по себе указывала на высшую справедливость.
Теперь главным было помочь Маше забыть о надругательстве как можно скорее. Князь Алексей желал бы примерно наказать хотя бы семьи егерей, принимавших участие в издевательствах над дочерью: самих-то их было уже не достать — всех положил неистовый княжич! Однако Елизавета сему замыслу решительно воспротивилась. Ее быстрый, по-женски практический ум и любящее сердце подсказали: тайна — вот лучшее лекарство для Машеньки, вот лучшее средство поскорее позабыть случившееся! По счастью, в усадьбе и в деревне никто не видел, как Алешка в сумерках привез домой беспамятную сестру. У него хватило сообразительности не тащить ее сразу в дом, на обзор и оханье вездесущих девок, а спрятать в саду, в шалаше, где держал свой мастеровой припас садовник, и вызвать к ней отца с матерью. Машу привели в чувство, переодели, и она под руку с братом неторопливо вошла в дом — и благодаря наследственной гордости и силе духа колени у нее даже не подгибались.
Дворне было сказано, что молодая графиня упала с лошади и расшиблась. Ни слова не произнесли о кровавой расправе возле охотничьей избушки; а гибель Григория — он просто сгинул бесследно. Однако князь Алексей распустил слух, что его приемыш уехал в подмосковное Измайлово с важным и срочным поручением — настолько срочным, что даже не простился ни с кем. Возмездие ватажникам Честного Леса тоже надлежало сохранить в тайне: ведь ими оказались пять любавинских егерей, это бросило бы страшную, позорную тень на семью князя Измайлова, да и истинная роль Григория могла сделаться ясной какому-нибудь ушлому здравомыслу. Под покровом ночи, содрогаясь от омерзения и ненависти, отец и сын сбросили пять мертвых тел в болото, которое уже поглотило их атамана; перекрестились, постояли несколько мгновений, глядя в черную, чавкающую мглу, и крепко обнялись.
Елизавета, немало перенявшая у старой цыганки в искусстве врачевания, осмотрела дочь и с облегчением вздохнула: телесному здоровью ее излишнего ущерба нанесено не было. Речь могла идти лишь о здоровье духовном, но и тут судьба помилосердовала к Маше: созерцание повитой змеями головы Григория оказалось столь потрясающим, что даже несколько сгладило воспоминания о насилии. Теперь, думала Елизавета, надо так повернуть дочкину жизнь, чтобы новые, радостные впечатления как можно скорее прогнали страшных призраков.
Да только как сие сделать? Любимейшее развлечение Машеньки в былое время — верховая езда — исключалось пока напрочь. Отправиться в Ново-Измайловку? Нет, там на каждом шагу — тени Акульки и Гриньки. Балы, прогулки, праздники, поездки в Нижний? Да ведь последние годы на таких забавах их сопровождал Григорий, и не миновать разговоров и расспросов о нем. Хватит и того, что у Маши сердце само собой кровоточит, а тут не упустит случая какая-нибудь болтунья невзначай рану еще пуще растравить!
Маша поправлялась быстро, через два дня уже была на ногах; но ее матушка думала еще быстрее. Елизавета была с детства решительна, нравом отважна, навстречу любой беде шла, гордо вскинув голову, однако твердо усвоила: на всякое несчастье свое счастье где-то запрятано, дело лишь за тем, чтобы его отыскать поскорее. Теперь это счастье, вернее, средство развеять печаль дочери она видела только в вихре новых, необычайных впечатлений и, наскоро посовещавшись с мужем, порешила: непременно свезти Машеньку в северную столицу. Ехать хотели все вместе, однако судьба велела иначе: из Петербурга прибыл курьер, доставивший князю секретное предписание императрицы выполнить их уговор и немедленно выехать в Киев, а оттуда, через Вену, — в Сербию и Черногорию с ответственной дипломатической миссией.
Несколько отступив от нашего повествования, поясним здесь, что загадочная и трагическая личность бывшего императора Петра III (Елизавета не могла вспоминать без слез об их единственной встрече!) вызвала к жизни самозванцев не только в России. Откуда ни возьмись, последователь Емельяна Пугачева объявился и в Черногории! Какой-то человек вдруг провозгласил себя всенародно императором Петром III, низверженным с престола. Черногорцы поверили ему, признали его своим правителем и, несмотря на его деспотизм, не выдали его туркам, с которыми вели из-за него кровопролитную войну. Князь Измайлов благодаря своим непрекращающимся связям с сербами знал, что сей самозванец — лекарь родом из Крайны, а имя его — Стефан Малый. Надлежало выяснить, какую опасность этот человек может представлять для российских интересов на Балканах — кроме той, разумеется, что компрометирует в Европе имя государыни. Для сего и направлялся князь Измайлов в Сербию как можно скорее, да не один, а с сыном, ибо князь полагал, что и его уже пора приобщать к делам государственным.
Вот так и вышло, что через десять дней после рокового приключения возле охотничьей избушки от Любавина в разных направлениях отъехали: на юг, по Арзамасской дороге, в легкой, спорой карете, — два князя Алексея, а в северо-западном направлении — княгиня Елизавета с дочерью. Изрядно озадаченная внезапностью этой разлуки и тем, что сынок ее столь рано отправился, как говорят поляки, на волокитство за фортуною (в поисках счастья), Елизавета все же пребывала в уверенности, что Санкт-Петербург излечит Машины горести, а счастливое воссоединение всей семьи не заставит себя долго ждать.
* * *
Шел к исходу август, близился день Семена-летопроводца, но уже сейчас казалось, что лето ушло. Солнце светило, и небо сияло, но осень вплела в косы берез и осин золотые, нарядные ленты, принакрыла золотистыми ковриками лужайки, и ночи были уже студеные — по утрам роса блистала на траве ледяным алмазным блеском, — и вода в Волге обрела тот сизый цвет, который вернее всего говорит о начале осени. Истомное тепло царило вокруг; край был полон сладкой, нежной прелести, от которой, однако, становилось печально на душе, ибо прелесть та была прощально-обманчива: стоило пронестись даже самому легкому порыву ветерка, как ознобной рябью покрывались недвижно-синие ручьи и озерца, на траву медленно опускались первые опавшие листья, реявшие в воздухе паутинки панически уносились прочь, и невольная дрожь пробирала от этих стылых поцелуев красавицы Осени.
Ехали быстро, потому что почти на всех почтовых станциях у Измайловых были свои подставы. Отдыхали только по ночам и уже через неделю приблизились к Санкт-Петербургу. Но ни утомление от тряской дороги, ни прекрасные картины за окном не могли отвлечь мать и дочь от их печальных размышлений. Эта поездка была не более чем невкусным, горьким лекарством… А вот принесет ли оно желанное облегчение? Елизавета, много в жизни испытавшая бед, твердо усвоила одну истину — все проходит! Знала она также, что никогда и никого чужие ошибки не вразумляли — каждый совершает свои…
Однако Елизавета была полна решимости сделать все возможное, чтобы устроить Машенькино счастье. И ведь дочь ее так мила, хороша собой, богата — очень богата! И образованна! Конечно, деревенские платья из линобатиста и кисеи могут показаться простоватыми, но уж Елизавета ни за какой ценою не постоит, чтобы порадовать дочь новыми туалетами… Вот говорят, что по холоду теперь носят бархатные шубы с золотыми петлицами и муфтами собольими или — новая мода! — из ангора с длинной шерстью. Елизавете пошла бы такая шуба — синяя или зеленая, а Машенька, с ее орехово-карими глазами и ярким румянцем, будет хороша в малиновой… да и в изумрудно-зеленой тоже, если на то пошло!! Увлекшись, Елизавета уже видела роскошную петербургскую гостиную: бойкий говор, французская речь, гармонические звуки гобоев и клавесинов, скользящие по паркету легкие, грациозные пары, танцующие менуэт. Но царица общества, притягивающая к себе взоры, — она, юная графиня Строилова, в изумрудно-зеленой бархатной шубке и в собольей муфте… Стоп! Елизавета спохватилась, мысленно сорвала с дочери шубу и соболей, оставив платье из скользкого изумрудно-зеленого шелка, с кружевом цвета слоновой кости. Да, она, кареглазая, русоволосая, высокая и тонкая, с белыми плечами и сверкающим взором, — она на первом месте, окруженная благоговением и поклонением, утонченной лестью и тайными признаниями. Елизавета мысленно перебрала всех воображаемых поклонников и выбрала для Маши самого богатого, самого красивого, самого доброго — они полюбят друг друга, конечно же, с первого взгляда и на всю жизнь! Она мысленно пролила слезу на их венчании, мысленно перекрестила закрывшуюся за ними дверь почивальни… Но тут грубое прикосновение реальности развеяло блаженные мечты. Легкий стон донесся с сиденья напротив, и Елизавета, встрепенувшись, увидела, что ее дочь, бледная в прозелень, словно бы на нее бросали отсветы тяжелые складки того самого богатого платья, в коем ей предстояло покорить Санкт-Петербург, полулежит на подушках, дрожащей рукой пытаясь пошире открыть окошко.
— Что случилось? — воскликнула Елизавета, а Маша едва успела выговорить: «Меня укачало» — и ее вырвало, к счастью, на пол.
Пришлось остановиться у придорожного ручья, мыть, чистить, проветривать карету. Пока слуги трудились, мать с дочерью вышли, раскинули на солнечном припеке теплые пледы, прилегли. Постепенно Машино лицо вновь обрело краски, она даже решилась съесть яблоко.
Елизавета ругательски ругала себя за то, что, стремясь как можно скорее увезти дочь от прошлого, забыла про ее слабость: Маша всегда плохо переносила дорожную тряску. И то диво, что за неделю пути ее лишь первый раз укачало.
Нет, надобно немедленно устроить для нее передышку. Решительная княгиня готова была расположиться на ночлег прямо здесь, да вот беда: поднимался ветер, собирались тучи к дождю, и предстоящий ночлег в чистом поле сулил больше хлопот и неудобств, чем радости. Надо было все-таки добираться до постоялого двора. Карета стояла уже вычищенная и готовая к пути, но Елизавета медлила, приглядываясь к окрестностям. Если ей не изменяет память, в версте отсюда находится вполне приличный трактир. Конечно, Елизавета надеялась, что они остановятся только на почтовой станции, где и поменяют лошадей, но туда добираться еще часа четыре. Нет, на сегодня хватит! Лошади прекрасно отдохнут за ночь, а главное — Машенька дух переведет.
Взойдя на пригорок и разыскав трактир взглядом, Елизавета отправила карету и слуг вперед — спросить комнаты да заказать ужин, а сама с дочерью отправилась пешком (один вид дормеза вызвал у Маши спазм!) в сопровождении одного только Данилы-волочеса, верного сотоварища прежних разбойных проделок графини Строиловой. Они были обязаны друг другу жизнью, и Елизавета безмерно доверяла Даниле.
Они шли да шли. Маша была не то сонная, не то задумчивая, и на ее бледном лице застыло какое-то странное, недоумевающее выражение. Она словно бы прислушивалась к чему-то… напряженно размышляла о чем-то. Елизавета решила не беспокоить ее и ни о чем не спрашивала; она шла, переговариваясь с Данилою о разных пустяках.
Вот и трактир приблизился. Вошли в чистый, выметенный двор, окруженный конюшнями, поднялись на крыльцо. Дом был невелик — в пять комнат, одна из которых была общей столовою, вторая — стряпка; две другие отдавались подряд всем заезжим, а последняя, подороже ценою, приятно убранная, предназначалась для богатых проезжающих, желавших ночевать отдельно. На эти покои и рассчитывала Елизавета, и каково же было ее огорчение, когда горничная Пелагея, встретившая княгиню у ворот, поведала, что «барская комната» занята какой-то важной дамою, едущей из Санкт-Петербурга, и в путь свой, давая отдохнуть лошадям, она тронется не раньше утра, а в общих комнатах полно всякого народу с бору по сосенке, набившегося сюда в предчувствии непогоды.
Решительная Елизавета, конечно, отправилась бы дальше, на почтовую: подумаешь, четыре часа пути! Но Машино недомогание? Но тяжелые тучи, которые уже бились одна о другую, глухо ворча?.. Она растерянно застыла на пороге, как вдруг Маша, мгновенно побледнев, привалилась к стенке… сползла по ней… села, пытаясь поднять голову, — да и завалилась неловко на бок.
Пелагея завопила, как резаная, а Елизавета рухнула на колени перед дочерью и сжала ладонями ее бледное, похолодевшее лицо с закатившимися глазами. Она пыталась позвать Машу, уловить стук ее сердца, но Пелагея вопила, как по покойнику, и ничего нельзя было понять от этого крика.
Но вдруг раздался резкий звук пощечины, и суровый женский голос проговорил:
— Silence, merde [42]!
Конечно, Пелагея ничегошеньки не поняла, и немедля умолкнуть ее заставила только пощечина; Елизавета же, мало привычная к подобному обращению с крепостными, с изумлением обернулась, но разглядела в проеме двери лишь темный силуэт с непомерно большой и какой-то вихрастой головой и столь широкой юбкою, что она вовсе перекрыла вход. И эта странная фигура, подбочась, задумчиво изрекла:
— Не стану отрицать, что обмороки нынче вошли в большую моду! Ну, там, обмороки Дидоны, капризы Медеи, спазмы Нины, ваперы Омфалы, обморок кстати, обморок коловратности… Но этот, сдается мне, более чем натурален… — В речи ее звучал приятный французский акцент, который враз исчез, когда она вновь рявкнула, теперь обращаясь к Даниле: — Чего стал, ерonvantail [43]? А ну, бери барышню, неси в покои!
— Так ведь свободных нетути… — пискнула Пелагея, но незнакомка так грозно взглянула на нее, что горничная с перепугу оступилась и слетела с крыльца.
Данила же легко поднял Машеньку и проследовал через весь трактир за властной барыней. Елизавета, не чуя ног, поспешала следом.
Вся процессия ворвалась в знакомую Елизавете комнату, благоухающую духами, и Данила осторожно уложил барышню на диванчик. Незнакомая дама быстро что-то сказала по-французски; из-за занавески выбежала молоденькая хорошенькая девушка в кокетливом платьице и передничке и проворно засуетилась вокруг Машеньки с горячими салфеточками, льдом и какими-то пузырьками.
Елизавета сунулась было к дочери, но незнакомая дама взяла ее за руку:
— Успокойтесь, madame. Моя камеристка отлично знает свое дело. Умоляю вас, поверьте: обморок вашей дочери тотчас пройдет!
Елизавета, сморгнув слезы, обратила на даму признательный взгляд — и невольно замерла от изумления. Право же, особа, стоявшая перед нею, имела внешность презамечательную!
Было ей, верно, за пятьдесят, однако волосы ее оказались не седыми, как можно было ожидать, а густо напудренными фиолетовой пудрою и уложенными в виде округлой корзины, в которой колыхалось множество цветов, — правда, несколько примявшихся. Ручка корзины, также сплетенная из волос, была вдобавок повита перьями. Данила, разинув рот, завистливо смотрел на сие произведение парикмахерского искусства, позабыв всякую почтительность. Да и Елизавета на какое-то мгновение забыла обо всем на свете, даже о дочери; она не сводила глаз с чрезмерно декольтированного (старческая морщинистая грудь, тщательно напудренная и украшенная мушками, производила впечатление каких-то покрытых пылью древних развалин) черного платья из дивного шелка, затканного алыми розами, — платья с такими пышными фижмами, что талия казалась неправдоподобно тонюсенькой. Лицо дамы, все в грубых складках, было набелено, нарумянено и накрашено, и дама эта распространяла крепкий запах кармской мелисной воды [44], однако умный взор больших и красивых черных глаз заставлял забыть обо всех диковинных причудах ее туалета.
— Умоляю, — снова произнесла она, не по-русски выговаривая русские слова, — не волнуйтесь. Ваша дочь сейчас очнется. Пока же позвольте представиться. Я — графиня Строилова.
Елизавета рот раскрыла от изумления.
— Не может быть! — воскликнула она и тут же, краснея, извинилась: — Простите, сударыня, мою вольность, но я…
— Быть может, мы знакомы? — прервала дама. — Однако моя ужасная рассеянность… Прошу прощения тысячу раз! Ради Бога, напомните ваше имя…
— Я княгиня Измайлова, — сделала неловкий реверанс Елизавета, — но моя дочь носит титул графини Строиловой.
Насурмленные дуги бровей взлетели еще круче; черные глаза дамы недоверчиво раскрылись.
— Позвольте… — тихо проговорила она — и вдруг резкие, грубые черты ее как бы разошлись, разгладились: — Ах нет, не может быть! Неужели правду говорят, Il n'éapas de bonheur que dans les voies commnes [45]?! Вы — la princesse [46] Елизавета Измайлова? А это несчастное дитя — ваша дочь?
Елизавета захлопала ресницами:
— Да… но каким образом…
— Дорогая Louize! — воскликнула дама, внезапно заключая ее в свои объятия и обдавая запахами духов, пудры и помады. — Ах нет, в это невозможно поверить… Встретиться с вами здесь, случайно?! Ведь я отправилась из Петербурга три дня назад, желая посетить Любавино и повидаться с вами и моею племянницей!
— Племянницей? — переспросила Елизавета. — Так вы…
— Ну конечно! — закивала графиня так энергично, что один цветок выпал из ее прически и упал на плечо Елизаветы. Та безотчетно сняла его — цветок был шелковый. (Вот оно что, а она-то удивлялась — откуда в конце августа такие свежие маки?!) — Конечно! Я — кузина вашего покойного свекра, Петра Строилова, прихожусь вам по мужу — ах, Валериан! Страдалец! — Она на мгновение приложила к глазам кружевной платочек. — Прихожусь вам тетушкою, ну, а этому милому ребенку, — она экстатически воззрилась на Машеньку, которая в этот миг застонала и приоткрыла глаза, — троюродной grand-maman [47]. Хотя, конечно же, было бы гораздо приятнее, если бы и она называла меня просто ma tante [48]. — И графиня, округлив напомаженный рот, добродушно хохотнула: однако тут же и осеклась, с тревогою, невольно тронувшей Елизавету, оборотясь к кровати.
— Матушка, — сквозь слезы проговорила Маша, — я… ох, мне дурно!
Она поперхнулась. Проворная камеристка успела выхватить из-под кровати фарфоровый ночной сосуд и пригнуть к нему голову молодой девушки, прежде чем ее снова обильно вырвало.
Елизавета покачнулась и тяжело опустилась на табурет, очень кстати оказавшийся рядом. Теперь уже нельзя, невозможно было гнать от себя смутные подозрения, промелькнувшие у нее, еще когда они с Машею выскочили из перепачканной кареты. Нет, ах нет, не может быть!..
«Будь проклят Григорий! Вот участь моего ангела!»
Елизавета зажала ладонью рот, чтобы не закричать в голос от ужаса.
Мельком взглянув на ее враз осунувшееся лицо, старая графиня Строилова схватила под локоть Данилу и в мгновение ока вытолкала его за дверь, заботливо прикрыв ее. Потом подошла к Маше, обессиленно откинувшейся на подушки, обменялась быстрым взглядом с хорошенькой субреткою, обтиравшей бледное, покрытое каплями пота лицо девушки. Наконец, взяв Елизавету за руку, мягко и деликатно проговорила по-французски:
— Paudonnez — moi ma franchise [49]… — И почему-то уже по-русски — с грубой прямотою ляпнула: — Наша малютка брюхата, n'est-ce pas [50]?..
* * *
Маша подняла свой пышный, страусовый eventail [51] и спряталась за ним. Мягкий запах лавандового одеколона, исходящий от веера, показался вдруг удушливым, нестерпимым. Ее внезапно замутило, и сейчас она выцарапывала из-за края перчатки мятную пастилку. Ну вот, наконец-то. Сохраняя на лице прежнее безмятежное выражение, Маша сунула пастилку в рот, и тотчас же тошнота отступила. Маша несколько раз обмахнулась веером и медленно опустила его. Кажется, никто ничего не заметил, а вон тот высокий полковник, с явным интересом взглянувший на одиноко стоявшую девушку, пожалуй, решил, что она с ним кокетничает, оттого и забавляется с веером. Здесь, в Петербурге, надо было держать ухо востро с такими мелочами! И эта наука была едва ли не сложнее, чем французская грамматика. Веер — ладно, но даже мушки, бывшие в большой моде, оказывается, могли говорить! Большая, наклеенная у правого глаза, называлась «тиран», крошечная на подбородке — «люблю, да не вижу», на щеке — «согласие», под носом — «разлука»… Все это было так сложно! Однажды от бдительного взора тетушки ускользнуло, что мушка, бывшая накануне на правой Машиной щеке, теперь перекочевала по нечаянности на левую, и веселый щеголь, вчера кидавший на юную красавицу робкие, безнадежные взгляды, сегодня осмелел и принялся говорить ей весьма недвусмысленные комплименты. Оказалось, что перенесенная мушка означает поощрение! С того дня тетушка особенно придирчиво проверяла все детали Машиного туалета; а смелый кавалер был холодно отвергнут. А как, интересно, показался бы тетке этот полковник?
Маша перевела дух, почувствовав, что спазм отпустил горло, и несколько раз взмахнула веером, освежая покрытый испариной лоб. Ну вот, к запаху духов вернулась былая приятность!
Какая благодать эти пастилки, истинное спасение для Маши! Хороша бы она была, когда б ее то и дело выворачивало наизнанку! Уж, наверное, ледяные глаза полковника не смягчились бы так при взгляде на стройную девицу в изумрудно-зеленом пышном платье с кружевами цвета старой слоновой кости! Маше даже неуютно сделалось под его пристальным взором. Куда это запропастилась тетушка? Она бы сразу дала знать Маше, стоит ли глядеть на того господина благосклонно — или же следует выказать ему ледяное равнодушие. С виду он очень богат… правда, старше лет на 15, но тетушка велела ей вбить в голову перво-наперво, что возраст жениха никакого значения не имеет… ибо на этих балах Маша не просто веселилась — ей срочно искали жениха.
Вообще говоря, дело было вполне обычное: при элегантном и любившем роскошь екатерининском дворе многие весьма успешно для своих взрослых дочерей ловили женихов… но не так, не так виделось все это в мечтах!
Канули в прошлое матушкины намерения развлечь дочь — чтобы стерлась в ее памяти отвратительная сцена в охотничьей избушке! Теперь она не вспоминала о браке по любви для своей дочери. Любовь! Любовь — это не для Машеньки Строиловой. Честь бы ее спасти! Однако стоило тетушке заикнуться о каких-то средствах, снадобьях, как Елизавета встала на защиту нерожденного дитяти с яростью тигрицы. Прежде всего она защищала жизнь дочери, ибо не могла забыть, как одна за другой умирали в Любавине девки, пытавшиеся вытравить плод. И Маша помнила об этом; и панический страх перед болью, кровью, смертью оказался сильнее соображений благопристойности.
Тетушка принуждена была согласиться.
— Ну что ж! — изрекла она, оценивающим взором оглядев Машеньку. — Elle est souple… elle est bien attray — ante [52]!.. Можно подумать, что она наилучшим образом воспитана во Франции. — В устах графини Евлалии это была наивысшая похвала! — Счастье от нее не уйдет! — И она так властно стиснула кулак, будто это самое счастье находилось у нее на службе и трепетало ее подобно горничной девушке Николь (она была француженка) и прочей челяди.
Елизавета и Маша теперь всецело зависели от расположенности к ним старой графини Строиловой. Начать с того, что поселились провинциалки у нее в премилом особняке близ Адмиралтейской площади. Там было гостям вполне удобно, ежели не обращать внимания на две причуды обихода графини Евлалии: в зимнем саду содержалось столько разных птиц — попугаев, скворцов, канареек, — что за криком их невозможно было иногда слышать друг друга; и даже если двери сада были все время закрыты, птичьи голоса все же разносились по дому, который вдобавок весь пропах «амбровыми яблоками»: графиня испытывала панический страх перед чумою, а эти «яблоки» считались наилучшим средством от эпидемических болезней.
В остальном же все было замечательно: дом обставлен на французский манер, ибо тетушка полжизни провела во Франции, была принята там в самом высшем обществе, о королеве Марии-Антуанетте отзывалась запросто! Да и в России графиня была везде принята и у себя всех принимала, нисколько не сомневаясь, что рано или поздно сделает удачную партию для племянницы, попавшей в беду. Нет, слова «рано или поздно» здесь не годилось. Рано, только рано! Счет шел даже не на дни, а на часы, ибо Машиной беременности исполнился уже месяц.
Нет слов, очи знатных женихов на нее были обращены благосклонно, — но, как заставить одного из них сделать предложение немедля? И сыграть свадьбу не позднее октября? И где найти такого идиота, слепого и глухого — ведь его жена родит гораздо раньше срока! Порою эта задача казалась Елизавете и Машеньке невыполнимой, однако графиня не теряла надежды.
Елизавета, которая не привыкла ни от кого зависеть и не признавала ситуаций безвыходных, уже нашла решение на самый крайний случай — ежели замысел графини Евлалии все же рухнет. Тогда она увезет дочь за границу, а воротясь, объявит родившегося ребенка своим — то есть братом или сестрою Маши и Алеши. Иногда, после особенно тяжелого дня на балу (светское, притворное веселье, когда на душе кошки скребут, еще более причиняло ей скорби, чем гореванье в одиночку), этот выход казался ей наилучшим, но она слишком много перестрадала в свое время, слишком много перечувствовала, чтобы не понимать, каким горем может обернуться для Маши невозможность признать впоследствии свое дитя. Это сейчас оно кажется ей нанавистным и нежеланным, а настанет время… Елизавета на собственном опыте убедилась, что такое время — самозабвенной любви к своему дитяти — для всякой женщины непременно настанет, потому и не хотела лишать дочь такого счастья и, вставая с восхождением солнца, долго молилась перед образами за удачу наступившего дня.
Снова заиграли менуэт, и какой-то мужчина склонился перед Машей, приглашая на танец.
Она безотчетно улыбнулась, присела, подала руку, досадуя на тетушку: зачем запропастилась? зачем не подает знак — тратить ли время на этого кавалера?
Под ее обнаженным локтем оказалось что-то мягкое, шелковисто-ворсистое. Маша повела глазами — рукав мундира… Ее пригласил какой-то военный, а она даже не заметила кто. Ничего, менуэт начинается in quarte, значит, предстоит меняться кавалерами, тогда она его и разглядит.
Ей почему-то не пришло в голову повернуться и посмотреть на него прямо сейчас. Мысли сделались какие-то вялые, неповоротливые. Маша вдруг поняла, что не может вспомнить, как танцевать менуэт in quarte, но продолжала медленно идти под руку со своим кавалером, будто обреченная. И с глазами творилось что-то непонятное. Зала то вытягивалась непомерно, и танцоры отодвигались куда-то далеко… словно на другую улицу, — а то съеживалась, будто коробочка, и все наваливались на Машу, начинали толкать ее, душить…
Она вдруг ощутила острый, как прикосновение, взгляд своего кавалера, посмотрела на него, узнала того самого полковника и попыталась справиться с нахлынувшей слабостью. Но уже не могла. Ноги подкашивались, голова кружилась, вкус во рту был свинцово-мятный. Даже пастилка не помогла! Все ее тело словно бы расплывалось, и Маша понимала, что вот-вот лишится чувств. Все-таки не миновать ей позора — обморока на балу… и тогда уж не скрыть ее тайны… и не поймать жениха, как того хочет тетушка. И все про все узнают!
Настало мгновенное просветление, но тотчас же сознание вновь заволокло туманом. Перед глазами уже понеслись бредовые, обморочные видения: Маше почудилось, будто ее кавалер, пристально поглядев на нее сбоку своими холодными светлыми глазами, вдруг точным, быстрым и незаметным движением сбил стоявший на высокой подставке канделябр; пламя охватило занавес, затейливо спускавшийся с потолка, и тонкая ткань тут же вспыхнула…
Как смешно! Какая-то парочка, скрывавшаяся вон в том укромном уголке, выпорхнула с воплями… причем декольте у дамы было какое-то перекошенное…
Несколько мгновений Маша неотрывно смотрела на жадный пламень, летевший вверх по занавеси, подобно алой птице. Слабость ее вмиг прошла, вернулась острота ощущений, и крики ужаса, раздавшиеся со всех концов залы, показались оглушительными, заглушили даже музыку. Впрочем, оркестр тотчас нестройно умолк.
«Боже мой! Надо бежать, спасаться!» Маша испуганно огляделась, высматривая в толпе тетушку, и тут ее глаза снова натолкнулись на холодноватый, пристальный взгляд. Легкая улыбка тронула губы полковника, и он, сдернув со стены пылающую занавесь, со сверхъестественным проворством и ловкостью погасил ее с помощью тяжелого гобелена, который сорвал так легко и небрежно, словно это тоже была тонкая кисея.
Пожар был моментально потушен. Слуги бежали с кувшинами и графинами со всех сторон, однако вода уже была ненадобна. Запах гари плыл по залу, лакеи бросились отворять окна: несколько дам от страха лишились чувств. «Ну, теперь и мне бы не страшно грохнуться, — подумала Маша с облегчением, — никто бы ничего и не понял!»
Однако именно сейчас она чувствовала себя превосходно! Легкость во всем теле была необычайная, безудержная веселость охватила душу. Ах, как жаль, что нельзя теперь же начать танцевать!..
Но тут, словно почуяв ее нетерпеливое желание, распорядитель бала подал знак на хоры, и оркестр вновь грянул менуэт, отгоняя все страхи.
— Vous permettez, mademoiselle [53]? — проговорил рядом звучный, уверенный голос, и Маша повернула голову.
Да, это он, опять он приглашал ее!.. Радостно улыбаясь, она доверчиво вложила свою ладонь в его, и какое-то мгновение они стояли, держась за руки.
— Ради Бога, скажите, — вдруг выпалила Маша, забыв о приличиях, — зачем вы это сделали, сударь?!
Ее тут же бросило в жар от своего faux pas [54]. Какая в самом деле наглость: обвинить человека в таком преступлении! Что он сейчас сделает? Назовет ее лгуньей? Отвернется с холодным презрением?.. Она почувствовала, что покраснело не только лицо ее, но и шея, и грудь во всей глубине нескромного декольте. Сдаваясь на милость победителя, Маша подняла робкие, подернутые слезою смущения глаза — да так и замерла, наткнувшись на мягкую улыбку:
— Простите меня pour la grande liberte [55], но не мог же я допустить, чтобы моя дама лишилась чувств на балу!
С этими словами полковник повлек ее в круг, но, видно, не судьба им была сегодня танцевать. Откуда ни возьмись, налетела графиня Евлалия, столь бледная от еще неизжитого ужаса, что истинный цвет ее лица оказался на сей раз даже белее пудры; нарумяненные щеки на фоне этой бледности казались как бы окровавленными: тетушка сильно румянилась по тогдашнему обычаю, потому что, не нарумянившись, приехать куда-нибудь значило бы выказать свое невежество. И вот сейчас это подобие призрака затормошило Машу, восклицая бессвязно:
— Это ужасно, дитя мое! А вы… вы наш спаситель!
Графиня так неожиданно надвинулась своей внушительной фигурой на спасителя-поджигателя, что отважный кавалер невольно отступил. И тут нарисованные тетушкины брови взлетели так высоко, что вовсе скрылись под волнами взбитых кудрей:
— Барон! Возможно ли?! И вы в Петербурге? Нет, это невероятно! Всего лишь месяц назад… в Тюильри… какое temps fortune [56]… — Она внезапно умолкла, словно поперхнулась этим воспоминанием, но тут же ее быстрые глаза оглядели пару, которая так и стояла, держась за руки, и улыбка величайшего удовольствия расплылась по лицу графини Евлалии.
— Дорогой Димитрий Васильевич, — проговорила она, — знакомы ли вы с моей племянницею? Mary… мой старинный друг, барон Димитрий Васильевич Корф!
Голос тетушки был теплым, мурлыкающим: этот человек, поняла Маша, оказался той самой дичью, которую они, как две терпеливые охотницы, выслеживали на балах уже другую неделю. Но имя знакомо, да, знакомо! Маша напрягла память: бригадир Корф! Это ведь он доблестно громил пугачевские полчища в оренбургских занесенных снегом степях, он участвовал во множестве кровопролитных сражений. В одном из боев Корф взял в плен Шелудякина, наставника и любимца самозванца. Пленник был предан жестокой пытке и при величайших истязаниях долгое время хранил упорное молчание; наконец, нестерпимая боль вынудила его признаться во всех преступлениях. Пугачев, любивший его как отца, подсылал несколько раз казаков к стенам Оренбурга с просьбою о возвращении Шелудякина. Посланные говорили, что «батюшка их» даст взамен пять тысяч своих людей. Осажденные отвечали, что они пленника не отдадут, а чтоб был приведен к ним в Оренбург сам Пугачев, за которого обещали выдать пятьсот рублей. Шелудякин через пять дней умер, раскаиваясь в своих злодействах. Между тем положение жителей Оренбурга становилось все затруднительнее по причине недостатка в съестных припасах, и бригадир Корф был принужден вынести голод и другие тяготы осады наравне с мирными жителями, иногда предпринимая весьма болезненные для мятежников вылазки. Сердце Маши преисполнилось еще большей благодарности! Пролепетав что-то, она улыбнулась барону и встретила ответную улыбку… Они втроем присели тут же, в сторонке. Тетушка и барон, улыбаясь, предавались воспоминаниям. Потом тетушка рассказала барону о Маше, об их родстве, о княгине Елизавете…
Маша с восторгом и благодарностью поглядывала на барона — сражавшийся с пугачевцами имел вдвойне, втройне право на ее расположение, к тому же его подвиг несколько минут назад!.. — несколько смущенная тем, что Дмитрий Васильевич не сводит с нее глаз, хотя вроде бы беседует с тетушкою.
И тут до нее долетел обрывок речи графини Евлалии: «Во Франции никогда не жаловали королей, слабых в любви!» И Маша поняла, что уши должны гореть у французского короля Людовика XVI: тетушкиной любимой темой было обсуждение его недостатков (при этом она слыла отъявленною монархисткою).
Не вслушиваясь более в их беседу, Маша украдкой любовалась твердыми чертами худощавого, точеного лица Димитрия Васильевича, его удлиненными глазами цвета глубокого льда, — при встрече с Машиным взором они заметно теплели. Мягко вьющиеся волосы Димитрия Васильевича не были убраны модными и смешными al aile pigeon, голубиными крылышками, а просто зачесаны назад и слегка припудрены, но Маша видела, что виски его крепко тронуты сединою. Весь его облик казался ей необыкновенно привлекательным. Ему никак не могло быть более тридцати пяти лет, но для Маши это был почти преклонный возраст, а потому она трепетала, сплетала ледяные пальцы, силясь сдержать волнение, но еще пуще выдавая его. Чтобы успокоиться, начала вспоминать, как дрогнули в улыбке эти твердые губы, как мягко, как ласково он проговорил: «Не мог же я допустить, чтобы моя дама лишилась чувств на балу!» Но вдруг холодок необъяснимого страха пробежал по ее спине при другом воспоминании — при воспоминании о том, что именно он сделал для ее спасения.
Глава VII «КОРОЛЬ МАРК»
И вот уже позади пышное венчание в Александро-Невском соборе; и блестящий прием в доме барона, который он снимал в Санкт-Петербурге и где Елизавета сейчас поджидала дочь; и поздравление императрицы жениху — дипломатическому агенту русской миссии в Париже, кавалеру многих орденов, барону Димитрию Корфу и его невесте графине Марии Строиловой («Теперь баронесса Корф!» — Елизавета торопливо, благодарно перекрестилась). А что за платье было на Машеньке! Какой же она выглядела прелестной и невинной в этом платье! При взгляде на невесту не приходилось удивляться любви к ней Димитрия Васильевича — любви, вспыхнувшей так внезапно и воспламенившей его столь сильно, что он сделал предложение Машеньке на другой же день после знакомства — после головокружительно быстрого ухаживания, более напоминавшего штурм, — а через две недели, лишь только мало-мальски позволили приличия, повел ее под венец. Вдобавок Корфа ожидали неотложные дела в посольстве, и такая торопливость, показавшаяся бы неуместной во всякое другое время, теперь вполне устраивала и невесту, и ее матушку с тетушкой.
Право слово, удача. Впрочем, какая удача… Счастье! Жених не стар, но уже в возрасте, — она будет за ним как за каменной стеной. «Place, messieurs place! Malame Korph passe!» [57] — словно бы услышала Елизавета в своем воображении, и, когда дверь из туалетной дочери распахнулась, она сделала глубокий реверанс дивному созданию в нежно-розовом, с сиреневым отливом, пеньюаре. Чепчик, из-под которого струились русые кудри, был обрамлен пышным кружевом того же цвета, что и пеньюар; и все оттенки сиреневого играли вокруг тонкого лица Маши, делая кожу белоснежно-матовой и выгодно оттеняя светло-карие глаза, казавшиеся огромными в обрамлении длинных, круто загнутых ресниц. «Боже мой, в ее годы я и на четверть не была такой красавицей. Погодите-ка, эта селяночка за своими юбками еще пол-Парижа поведет!»
Елизавета невольно расхохоталась — такой сконфуженный вид сделался у Машеньки, когда она увидела мать, склонившуюся в поклоне. Дочь тут же бросилась поднимать Елизавету, та крепко обняла дочь — и обе повалились на ковер, безудержно чмокая друг друга и хохоча от восторга.
Но вот Машенька оборвала смех и приподнялась, поправляя кокетливое кружево сбившегося чепца, — да так и пригорюнилась.
— О чем ты, моя радость? — тихо спросила Елизавета, но тут же и прикусила язык: она знала, о чем беспокоится дочь, потому что сама непрестанно тревожилась о том же.
— Мне страшно, маменька, — глухо проговорила Маша; кудри занавесили ее лицо пепельно-русой вуалью.
Елизавета молча пожала ее руку.
— Как вы думаете, может быть, сказать барону… — Маша осеклась, будто поперхнулась своим безумным намерением.
Она ожидала, что мать обрушится на нее с уговорами, но Елизавета лишь вздохнула, все так же лежа на ковре и глядя на дочь снизу вверх. Не слыша ответа, Маша повернула голову и с изумлением увидела, что матушка едва заметно улыбается. Говорят, дочь не может быть более нравственной, чем мать, и все же честность Маши приятно поразила княгиню.
— Знаю, Димитрий Васильевич тебе по сердцу…
— По сердцу! — жарко подхватила Маша. — Ах, конечно же! В том-то и беда!
— Как ты думаешь… — осторожно проговорила Елизавета, приподнимаясь и прижимая голову дочери к своей груди, — а ты могла бы… полюбить его?
Маша молчала. Два впечатления боролись в ней, два воспоминания: одно — о том, как сомкнулись длинные, светлые ресницы Димитрия Васильевича в тот миг, когда перед алтарем он впервые поцеловал невесту… нет, жену! — от этого воспоминания у нее почему-то счастливо замирало сердце; и второе — об огне, заметнувшемся по кисейной занавеси в большой зале. И она не знала, что сказать матери… она хотела бы сказать «да», но боялась это сказать.
Полюбить!.. Бог весть, способна ли она полюбить мужчину после той пытки, которую приуготовил для нее Григорий… чтоб ему вечно гореть в геене огненной, дьявольскому отродью! До сих пор еще страшно подумать, как она вожделела его в своих мечтах — и как груба, кровава оказалась действительность!
Но ведь… но ведь не у всех так бывает. Любовь ее матери к отчиму… она и страстна, и светла, Маша знала это. Бог ты мой, да она ведь даже толком не представляла, что же происходит между мужчиной и женщиной, кои принадлежат друг другу не воровски, а по Божьему согласию. Во тьме ли обнимет ее Димитрий или при свечах? Она впервые, даже в мыслях, назвала его лишь по имени и словно бы вновь ощутила губами его твердые теплые губы. Как он сказал ей, еще не отстранясь после первого поцелуя, — тихо, почти беззвучно, почти выдохнул: «Toute ma jeunesse est refugiee dans mon coeur!» [58] Да ведь он полюбил ее, полюбил, потому и захотел жениться так скоро! И сердце подсказывало Маше, что этот сдержанный, холодноватый, даже суровый на первый взгляд человек сумеет быть столь страстным, что перевернет все ее девические, путаные представления о любви и, может быть, отворит для нее врата к тому самому блаженству, постигнуть которое в полной мере могут лишь двое.
«Я смогу быть с ним счастлива, — подумала Маша, удивляясь собственной уверенности. — Я… я даже смогу полюбить его!»
Она вскинула голову, желая тотчас же поделиться с матушкой своим открытием, как вдруг заметила, что на устах княгини блуждает тихая, печальная улыбка, а по щеке ползет слезинка.
— Что вы, матушка? — испугалась Маша, стыдясь, что мысли ее угаданы.
Елизавета подняла на дочь свои прекрасные глаза:
— Ты выросла, моя родная…
Ее взор светился любовью, и Маша с облегчением уткнулась лицом в милую впадинку между шеей и плечом матушки. Они обе были благодарны судьбе, что Димитрий Васильевич не возражал, чтобы княгиня Елизавета и Евлалия Никандровна пробыли с Машенькой до наступления ночи: его отвлекло от юной жены прибытие курьера из Парижа; Маша уже успела понять, что дела на благо отечества будут для ее супруга прежде всего на свете.
Впрочем, он намеревался долго не задерживаться, и графиня Строилова, которую тоже пригласили в кабинет барона, ибо она, по всему вероятию, была посвящена во все тонкости его дипломатической работы, обещала заранее известить Машу, когда барон освободится от государственных дел для дел супружества.
А вот, пожалуй, и она… да, это ее грузные, но торопливые шаги раздаются в коридоре, ее рука отворяет дверь, она входит, нет, врывается в комнату… О Боже, но почему в таком виде?! Парик снежной белизны сбит набок, и из-под него торчат седовато-пегие жиденькие волосы: старческая грудь вот-вот готова выскочить из тесного корсета, и тетушка так тяжело дышит. Ох, да ведь ее сейчас удар хватит!..
Елизавета с Машей вскочили, захлопотали враз, усаживая Евлалию Никандровну в покойные кресла, подставляя под ноги скамеечку, распуская тугую шнуровку корсета, поднося под нос соли и обрызгивая водою с перышка — легонько, чтобы не расплылась краска на лице.
— Тетушка, что с вами, тетушка?! — восклицали они в испуге.
Но графиня сидела, глядя прямо перед собою неподвижным, безумным взором. Вконец устрашенная, Елизавета вспомнила о проворной Николь и кинулась к звонку, чтобы вызвать камеристку — та ожидала свою хозяйку в людской, — однако в это мгновение Евлалия Никандровна разлепила свои пересохшие, бледные губы и прохрипела:
— Не… надо. Не зовите ее… пока.
— Да что стряслось, тетушка?! — вновь набросилась на нее Елизавета с Машей, обрадованные, что графиня наконец заговорила.
И Евлалия Никандровна, обратив на них страдальческий, потухший взор, с трудом вымолвила:
— Все пропало… мы погибли… Позор, позор… — И голова ее бессильно откинулась на спинку кресла.
* * *
Можно вообразить, каких страхов натерпелись Елизавета и Маша, покуда приводили в чувство старую графиню! В любое мгновение мог явиться за молодою женою Димитрий Васильевич — и что бы он сказал, застав в своем доме этакий бабий переполох! Но, конечно же, еще страшнее было допустить до себя догадку о том, что означали бессвязные слова графини о каком-то позоре, о погибели… Впрочем, для матери с дочерью, у коих совесть, уж конечно, была нечиста, они значили только одно: барон каким-то образом прознал о случившемся с Машей и намерен выгнать из своего дома всех трех обманщиц, уловивших его в сети очаровательной, но лживой невинности. Елизавета и ее дочь были до такой степени угнетены сей мыслью — а они уже и не сомневались в правильности своих предположений! — что не сразу поняли, какой — еще больший! — ужас таится в словах тетушки, произнесенных, едва она очнулась, и сперва показавшихся совсем обыденными:
— Он сказал, что Машенька для него — воплощение мечты о невинности!
Видя, что княгиня с дочерью никак не могут понять, что же ее так подкосило, Евлалия Никандровна от раздражения на их недогадливость враз оправилась и поведала следующее.
По отбытию курьера, который привез из Франции — от посла Барятинского — требование к барону Корфу незамедлительно воротиться в Париж, ибо его ждут там некие безотлагательные дела, Димитрий Васильевич остался наедине с графинею и еще раз поблагодарил за счастье знакомства с ее очаровательной племянницей.
— Она обладает редкостным свойством придавать очарование всему, что приходит с ней в соприкосновение, — с восторженной нежностью проговорил он. — И вы даже не можете себе вообразить, графиня, сколь много значит для меня невинность этой perle des princesses [59]!
Без сомнения, барон был утомлен прошедшим днем и взволнован предстоящей ночью, иначе он не был бы так безудержно откровенен с графиней — и его извиняло лишь их взаимное и давнее сердечное расположение.
— Мало кому ведомо, ваше сиятельство, — говорил барон, выпивая для спокойствия рюмочку кларету и потчуя графиню, — что я уже был женат…
— Вы?! — вскричала достопочтенная дама, пораженная до глубины души не столько самим фактом, сколько тем, что она — она! — не имела об этом доселе ни малейшего представления.
— Да, я, — подтвердил барон. — Брак мой свершился давно — мне было тогда едва ли семнадцать. Полжизни тому назад! А длился он всего лишь два месяца и не принес мне ничего, кроме несчастья, поэтому, надеюсь, извинительно мне стараться не вспоминать о нем. Подчеркиваю — я был молод и страстно влюблен в соседку нашу по имению… умолчу здесь с подробностях ее звания, скажу лишь, что семья моей обожаемой была куда как богаче и знатнее моей, и у меня не было никаких шансов добиться расположения милейшей Оленьки — ни у нее самой, ни у родителей ее, — так как вокруг вились самые завидные женихи. Я горевал… Чтобы излечиться, уехал к родственникам в Ригу, а воротясь через месяц, нашел Оленьку совершенно ко мне переменившейся! Словно бы разлука оказалась тем вихрем, который раздул искорку чувства, затаенного даже и от нее самой, в бушующий костер. Бывают дураки на свете, и я в ту пору был из их числа! — заметил барон как бы скобках, и графиня, не понимавшая, куда он клонит, вежливо, но сочувственно улыбнулась в ответ. — Ну, что долго тянуть с рассказом… я сделал предложение — оно было радостно принято. Чванливые родители Оленьки лили над нами умиленные слезы и не перечили, когда я заспешил со свадьбою. Минул едва месяц… нет, недели две моего жениховства («Какое совпадение!» — мысленно усмехнулась графиня), а я был уже обвенчан с любезною моею. Но, как ни был я в ту пору прост и невинен — родители мои, как вы знаете, умерли, едва я вышел из младенческого возраста, и некому было меня вовремя вразумить или остановить, опекунам моим было не до меня! — все же я кое-что знал об отношениях полов. Страшное подозрение зародилось у меня в нашу брачную ночь; но Оленька была так мила и нежна со мною, что я гнал его прочь от себя. Вы же знаете, как слепа любовь!
— Да, знаю, — машинально проговорила графиня; ее вдруг начала бить дрожь.
— Прошел месяц блаженства нашего, — продолжал барон. — К концу его я усомнился в любви ко мне жены… чудилось, я ее раздражаю несносно! Впрочем, она вообще была нервна: чуть что, падала в обморок, ее мутило от запаха еды… Вскоре я узнал, что буду иметь счастье оказаться отцом.
Графиня поперхнулась и отставила свою рюмку.
— И вот однажды, — продолжал барон, сурово глядя в какую-то книгу, словно читал там о свом печальном прошлом, — однажды жена моя оступилась на лестнице, упала… у нее случился выкидыш, и она умерла от потери крови.
— Какое несчастье! — чужим голосом воскликнула графиня.
— Горе мое было ужасно… однако усугубляло его то, что жена моя выкинула трехмесячный плод, хотя со времени нашей свадьбы минул лишь месяц!
Все враз сделалось мне понятно. Я мечтал о любви, а меня поймали, как дурака! Мною пользовались, как куклою без чувств и мыслей! Горше всего было то, что я сознавал: ежели бы она призналась!.. Ежели попросила бы у меня помощи!.. Я счастлив был бы спасти ее от позора, ибо любил ее без памяти. Но… но случилось то, что случилось. И это совершенно изменило меня самого и жизнь мою. Я более не мог удовлетворяться участью богатого недоросля, каким был прежде. Я начал учиться, поступил в армию, затем в дипломатическую службу. Судьба с тех пор была ко мне благосклонна… женщины не обходили меня своим вниманием, да и я не обижал их отсутствием своего, что скрывать! Но еще тогда, в тот день, когда я узнал о тайне жены моей, я поклялся себе: если решусь жениться — о, в ту пору сие казалось несбыточным! — то женою моею станет юная, неиспорченная, невинная девица. Лишь увидев Марию, я понял — судьба и впрямь благоприятствует мне! Замкнулся круг моих исканий… что с вами, графиня?! — Димитрий Васильевич испуганно вскочил.
— Ни-че-го… — Графиня отвернула от него побелевшее лицо. И тотчас ее бросило в жар, да так, что она начала задыхаться. Надо было уйти во что бы то ни стало! В последние минуты ей чудилось, будто барон каждым словом своим вгоняет ей раскаленные иглы под кожу. Еще мгновение — и ее хватит удар! — Я немного устала. Простите, но…
— О, это вы простите меня! — Барон поцеловал похолодевшую руку Евлалии. — Я… сам не знаю, что за болтословие на меня нашло. Покойной ночи, дорогая тетушка. Не откажите в любезности сказать Марии Валерьяновне, что я буду у ней самое большее через полчаса. Ванна моя уже простыла, вероятно… ну что ж, тем скорее я ее завершу!
Он вышел, оставив графиню в состоянии, близком к умопомешательству, но все ж у нее еще достало сил добраться до комнат, где ее ожидали Елизавета с дочерью, достало сил произнести: «Мы погибли… позор…»
Какое-то время в будуаре царила гробовая тишина. Елизавета и Маша смотрели друг на друга испуганными глазами, и если бы кто-то взял сейчас труд понаблюдать за ними, он засмеялся бы: до того мать с дочерью в эту страшную минуту сделались похожи одна на другую, хотя в иное время их сходство было весьма условно. Однако наблюдать за ними сейчас было некому, тем паче — смеяться: единственный свидетель, графиня, в полной прострации, с закрытыми глазами, полулежала в креслах, бормоча себе под нос одно только слово:
— Позор… позор…
В конце концов Елизавета, которой нестерпимо сделалось видеть в глазах дочери это затравленное выражение, не выдержала:
— Полно вам, тетушка! Что вы, право, заладили: позор да позор! Думать надо, чем делу помочь, а не твердить одно и то же!
Тетушка Евлалия Никандровна от изумления примолкла вдруг, подумав, что доходившие до нее слухи о нелегкой жизни племянника Валериана с этой особою, пожалуй, были верны.
Быстрый, не выносящий никакой безвыходности ум Елизаветы вмиг осмыслил ситуацию и выдал ответ.
— Мы должны во всем немедля признаться барону! — проговорила Елизавета, глубоко вздохнув, словно в ледяную воду бросалась, — и невольно улыбнулась, увидав, каким облегчением осветилось Машенькино лицо.
— Благослови вас Бог, матушка! — вскричала она пылко. — Я бы только этого и хотела. Димитрий Васильевич такой добрый, ласковый — грех, ну грех же его обманывать! И он простит меня, я знаю, я это чувствую!
— Да вы, никак, спятили обе?! — взвилась Евлалия Никандровна; от возмущения такой глупостью слабость ее как рукой сняло. — Точно, спятили! Где вы раньше были, такие честные? Раньше, раньше признаваться надо было! А теперь… после всего, что он мне поведал… теперь как? Как теперь признаться, скажите-ка?!
Елизавета и Маша вновь остолбенели, уставясь друг на друга. Маша задрожала, вспомнив вздох, нежно коснувшийся ее губ: «Tonte ma jeunesse est refugiee dans mon coeur!» Вот уж воистину: вся юность его воротилась к нему! Боже мой, Боже… И эти бесповоротные слова: «Я мечтал о любви, а меня поймали, как дурака! Мною пользовались, как куклою без чувств и мыслей!»
Она беспомощно взглянула на дверь, ведущую в опочивальню, и, рухнув на ковер, беззвучно заплакала, затряслась всем телом, забилась вся…
Елизавета, почти в беспамятстве от зрелища этого горя, кинулась было к ней, да тетушка удержала.
— Погоди рыдать! — проговорила она. — Не до того теперь! Делать что-то надо, ты понимаешь?!
Легко сказать… Больше всего на свете Елизавете сейчас хотелось бы сделать вот что: велеть заложить какую ни есть карету — и умчаться с Машенькой подальше отсюда, в родимое, любимое Любавино, довериться судьбе… нет, судьбе нельзя доверяться, ее руки жестоки, немилостивы, коли она завлекла любимое ее дитя в такую пропасть!
«О Боже, помоги, подскажи, как быть?!» — всем существом своим взмолилась Елизавета.
Княгиня, уязвленная болью в самое сердце, встала так порывисто, что тяжелые складки ее платья опрокинули маленький резной столик, на котором лежала книга, — кто-то читал ее здесь, да забыл.
Шепотом чертыхнувшись, Елизавета подняла столик, потом книжку, безотчетно, по привычке, взглянув на переплет. «Тристан и Изольда», старинный рыцарский роман… Чудесная книга, сколько раз ее перечитывала Елизавета. Образы невольно всплывали в памяти. Вечная, неизбывная страсть; верность; предательство; любовь и смерть… Тристан, Изольда, любовный напиток, самоотверженная Бранжьена, добрый король Марк…
Ее вдруг в жар бросило от внезапной догадки!
— Боже мой… — прошептала княгиня. — Я знаю! Король Марк!.. Я знаю, что делать!
Глаза Елизаветы и Евлалии Никандровны встретились, и княгиня с изумлением поняла, что тетушка думает о том же, что и она.
* * *
Комнаты все были устланы коврами, но старый паркет рассохся, а потому негромко, вкрадчиво поскрипывал под шагами, особенно если они были так тверды и решительны, как те, в которые с таким трепетом вслушивалась Маша.
Она сидела среди белоснежных вышитых подушек пышной, мягкой постели, и ей чудилось, что кровать под ней мелко трясется. На самом же деле дрожь била Машу. Ее волосы, совсем недавно струившиеся по плечам, сейчас были заплетены в косу; маняще-розовые, кисейные пеньюар и чепчик заменены на белые, льняные, едва-едва украшенные прошвами.
— Слишком уж соблазнительный у тебя вид, — неодобрительно заметила тетушка полчаса назад, после того, как все уже было тщательно продумано. — Нельзя допустить, чтобы он так вот сразу на тебя накинулся. Проще следует выглядеть, поскромнее!
Они с Елизаветой стояли, уперев руки в боки, и придирчиво оглядывали Машу. А та чувствовала себя дура дурою — как и подобало актерке, играющей роль, которой она не знает, в пьесе, развязка которой неведома. И в этот миг Маша почувствовала даже неприязнь к матери, которая во имя приличий вынуждала дочь совершать поступок малопристойный; она едва не взбунтовалась против всей этой затеи, однако тотчас же поняла, что ей не выстоять против объединенной решимости двух женщин, естественным свойством натур коих была воля к победе — во что бы то ни стало, какой угодно ценой… даже если потом выяснится, что победа сия как бы даже и не была надобна. Она подумала, что бледная от страха, в этом белом, наглухо закрытом одеянии похожа не на невесту, ждущую жениха, а на покойницу в саване.
Однако наряд сей был предпочтен не только лишь из соображений скромности, а и потому, что оказалось в Машином гардеробе два таких, одинаковых, пеньюара и чепца.
— Времени тратить на переодевания не стоит, — говорила графиня Евлалия с видом полководца, обдумывающего очередную стратегму. Елизавета кивала, во всем с теткой согласная, а Николь только улыбалась краешком губ, принимая из рук графини невинно-белые одежды…
Да уж, подумала Маша, вид у нее сейчас, должно быть, столь же невинный, как у повешенного убийцы! И, стиснув на груди руки, она взмолилась… не зная, какого святого призвать в покровители обмана. Она молилась своей судьбе, чтобы та помогла ей пройти испытание этой ночи.
Дверь приотворилась — в спальню вошел Димитрий Васильевич со свечою в руке. Сквозняк пригнул пламень, Димитрий Васильевич заслонил свечу ладонью. Его лицо озарилось, и сердце Маши глухо и больно стукнуло: никогда его тонкие черты не казались ей более красивыми… и более суровыми!
Димитрий Васильевич был в синем шелковом шлафроке [60], и Маша увидела, что в синих отсветах сделались пронзительно синими и глаза его, а тонкая ткань как нельзя более выгодно обрисовывает широкие плечи и стройный стан.
Он подошел к кровати и поставил свечу на столик рядом с огарочком, который только и оставила себе Маша, дожидаясь часу свершить свое преступление.
Димитрий Васильевич молча, с легкой улыбкою смотрел на молодую жену, и Маша, чувствуя, как запылали под этим пристальным, ласковым взглядом ее щеки, чуть отклонилась в тень бархатного полога.
— Ты похожа на видение, — сказал Димитрий Васильевич, удерживая ее за руку и начиная медленно перебирать ее пальцы. — Сейчас мне кажется, что все эти долгие годы я видел тебя во сне, но никогда не верил, что он может сбыться.
Маша разомкнула пересохшие губы, пытаясь хотя бы улыбнуться ему, но не смогла. А уж о том, чтобы взглянуть в его глаза — о том и речи не было!
Но он, казалось, не ждал ни взгляда ее, ни ответа, сидел на краешке кровати, не делая попытки приблизиться, и поглаживал ее руку. Он всего лишь перебирал пальцы Маши и смотрел на нее, однако тепло, исходящее из его рук и глаз, проникло в ее ледяную ладонь и согрело все тело. Ей хотелось сидеть так вечно, с полузакрытыми глазами, ощущая его ласку, как солнечный пригрев в пасмурный ветреный день… Но вот пальцы Димитрия Васильевича скользнули по ее руке чуть выше, к локтю, и сердце Маши бешено забилось.
— Прошу вас, Ди… — она не осмелилась выговорить его имя, — прошу вас… мне хочется пить!
— Охотно услужу вам, моя радость. — Нежность его голоса и это слово заставили ее глаза увлажниться. — Вы хотели бы выпить вина? Кларет, бургундское?.. А может быть, просто воды?
— Вон там, на столике, — испуганным кивком указала Маша, — кувшин с… такая кисло-сладкая настойка… клюквенная… Она хорошо освежает.
Димитрий Васильевич поднялся — Маша любовалась каждым его легким, сильным движением, — налил из хрустального кувшина розовый пенистый напиток в высокий бокал, чуть пригубил — сердце Маши пропустило один удар — и подал ей. Но Маша не взяла, а взволнованно смотрела на Димитрия Васильевича снизу вверх, изо всех сил вынуждая себя сладко улыбаться:
— Прошу вас, Ди…митрий… — как ласково льнет к губам его имя! — Выпейте это. Вам понравится, я знаю.
— После вас, madame! — Он с поклоном подал Маше бокал.
Это было не совсем то, что надо, они-то с матушкой и тетушкой распланировали все совсем иначе, и все-таки она заставила себя сделать глоток, уповая на то, что с одного глоточка с нею ничего не случится, а потом вновь протянула бокал мужу:
— Пожалуйста, выпейте! Это очень вкусно, уверяю вас! — Ей чудилось, что она говорит кокетливо, а на самом деле в голосе ее звучала мольба. — Выпейте, Димитрий Васильевич! Говорят, когда муж и жена пьют из одного бокала, они живут долго и счастливо.
— Вот довод, которым меня можно убедить сделать что угодно, — усмехнулся Димитрий Васильевич. Их взоры встретились; Маша поспешно опустила глаза.
Пригубив питье, барон вдруг подошел к окну:
— О! Кажется, поднялся ветер!
Он чуть сдвинул тяжелую штору.
— Да, деревья просто ходуном ходят…
Маша увидела, как он поднял бокал, и с облегчением прикрыла глаза.
— Сегодня будет тревожная ночь, моя милая! — Голос мужа зазвучал совсем рядом, и Маша встрепенулась. — Да вы совсем спите… нет, прошу вас подождать! — Он со стуком поставил на столик бокал, и Маша, метнув туда вороватый взгляд, мысленно перекрестилась: бокал был пуст! Она вздрогнула: барон стоял совсем рядом и смотрел испытующе.
— Пожалуйста, — Маша изобразила улыбку, — погасите свет!
— Вы не боитесь темноты? — Почудилось — или и впрямь в голосе его уже нет прежней нежности?
Машу будто холодком обвеяло, но тут Димитрий Васильевич дунул на свечи, погасил обе разом. Теперь горела только лампадка под образом, едва-едва рассеивая тьму. Постель же была вся затенена, и Маша расслышала, что барон подавил зевок.
— Вот уж не думал, что окажусь способен зевать в свою первую брачную ночь! — проговорил он.
А потом зашуршал шелк сброшенного шлафрока, слегка скрипнула кровать под тяжелым телом, и Маша почувствовала на своих плечах горячие руки. Его губы коснулись ее губ, и потребовалось почти невозможное усилие воли, чтобы не примкнуть к этому животворному, надежному теплу, а, отвернувшись, пролепетать:
— Я… мне… одну минуточку, я сейчас…
И прежде чем Димитрий Васильевич сказал хоть слово, Маша выскочила из постели и бесшумно пробежала по ковру к двери, ведущей в будуар. Тень ее, в свете лампадки уродливо изломившись, скользнула по стене и потолку, и Маша ощутила какой-то суеверный ужас; вдобавок внизу, в столовой, часы вдруг начали отбивать полночь.
Дверь отворилась без скрипа, Маша вбежала в будуар, где тоже едва мерцал лампадный огонек. За занавесями, у окна, таилась белая фигура, которая при появлении Маши выдохнула:
— Est-ce le temps [61]?
Маша не могла говорить, только слегка подтолкнула Николь к дверям. Часы в столовой ударили в двенадцатый раз, когда молоденькая француженка, одетая точно в такой же чепец и пеньюар, как Маша, с точно так же заплетенной косою, босая, бесшумно вбежала в спальню, чтобы занять место в ее постели, рядом с ее мужем, потому что нищая, безродная камеристка обладала тем сокровищем, которого не было у богатой и знатной баронессы Корф — девственностью.
* * *
«Только немножко! — дрожа от ярости, думала Маша. — Я должна буду потерпеть какой-нибудь час! А потом она уйдет отсюда, и я никогда в жизни не переступлю порога тетушкина дома ни здесь, ни в Париже, доколе там будет эта девка, эта распутница!»
Маша горько улыбнулась — она не могла не признать, что смешно называть распутницей девушку, которую сама же толкала на путь разврата, вдобавок если она и впрямь девица, а ты, так сказать, женщина с опытом.
Что и говорить, Николь, услышав оскорбительное, невероятное предложение своей хозяйки, повела себя совсем не так, как предполагала Маша.
Не выразив никакого возмущения, как говорится, бровью не поведя, Николь кое-что деловито уточнила: об одежде, например, о том, как ей вести себя, если барон пожелает говорить с ней (тут-то и было задумано спешно изготовить усыпляющее питье, которое Маше надлежало непременно, под любым предлогом, дать барону), а потом заломила такую цену за утрату своего драгоценного девичества, услышав которую графиня Евлалия только крякнула.
— Я прекрасно понимаю, что после случившегося mesdames [62] не пожелают меня больше видеть, — скромно опустив глаза, сказала Николь, — а посему я должна обеспечить свое существование. Едва ли сыщется порядочный человек, который пожелал бы взять в жены грешницу…
— Придержи-ка язык! — проговорила княгиня Елизавета негромко, спокойно, однако Николь осеклась на миг и тут же принялась просить прощения, уверяя, что не хотела… что сказала не подумавши…
Графиня Евлалия громко и грубо выругалась — точно пьяный бурлак, подумала Маша и вдруг захихикала, вообразив тетушку идущей на сворке в бурлацкой артели. Матушка мельком взглянула на нее — Машу поразило, как осунулась, погасло нынче вечером ее красивое лицо, — и тотчас смех ее оборвался.
— Я согласна с вашею ценою, — холодно проговорила княгиня, не глядя на Николь.
На том дело и сладилось.
Не похоже было, чтобы Николь до смерти оказалось жаль расстаться с этим сокровищем… верно, прежде не утратила его не оттого, что слишком уж блюла себя, а просто-напросто охотников не нашлось на такую-то невзрачную девку, с ненавистью подумала Маша. Впрочем, она была к Николь несправедлива. Та была вовсе даже недурна: высока и стройна, как Маша, — что облегчало задачу нынешней подмены, — к тому же обладала пышными каштановыми волосами и черными глазами, небольшими, но бойкими.
Цвет волос и глаз Димитрий Васильевич во тьме не различит, а бойкость Николь посоветовали поберечь до другого случая. Однако, как ни была Маша неопытна, она не могла не видеть, что в Николь есть, как говорят французы, le piquant [63], а это мужчины, конечно, ценят.
Не описать, что испытала и пережила Маша за время, проведенное в будуаре! Не было рядом тетушки и матушки — обе принуждены были уехать еще до начала aventure, ибо странно и подозрительно могло показаться барону столь долгое их присутствие в его доме в эту ночь, предназначенную лишь для двоих, — так вот, их не оказалось рядом, и Маше некому было излить печаль свою.
Впрочем, печалиться Маша начала не сразу. Сначала она с замиранием сердца ждала гневных криков Димитрия Васильевича и жалобных оправданий разоблаченной Николь — о да, сперва Машу беспокоило лишь возможное разоблачение. Однако из спальни не доносилось ни звука… царила полная тишина, и Машина тревога переросла в страх. А что, если барон просто убил обманщицу на месте, задушил ее, к примеру, подушкою, и теперь сидит там один, не зная, что делать?! Понимая всю бредовость таких домыслов, Маша все-таки не удержалась — любопытство оказалось сильнее страха, сильнее осторожности! — и на цыпочках прокралась к двери.
Нет, тишина. Она приложила ухо к едва различимой щелочке, пытаясь унять бешено колотящееся сердце, и минуло какое-то время, прежде чем она с трудом расслышала слабый ритмичный скрип. Несколько мгновений недоумевающе вслушивалась в него, пытаясь понять, что это такое, как вдруг догадка обожгла ее с такой внезапностью, что Маше почудилось, будто ее ударили наотмашь по щеке. Это скрипела кровать… скрипела кровать! Итак, подмена свершилась, и суровый барон Корф наконец-то сделался обладателем того, чего так желал — невинности девушки, которая разделила с ним постель в его первую брачную ночь.
Обман удался! Ее честь спасена!
Маша, не чуя ног, отбежала от двери под образа и собрала пальцы щепотью, чтобы совершить крестное знамение, но рука бессильно упала.
Сердце так заныло, что Маша, охнув, схватилась за грудь. Тоска, ох, Боже мой, какая тоска одолела вдруг! Но почему?.. Она не знала. Не знала также, въявь ли слышит этот постыдный скрип или он уже просто чудится… Душа болела, болела, и, сломленная этой болью, она забилась в уголок под образа, села прямо на пол, подтянув колени к подбородку, уткнулась в них и глухо застонала, не в силах даже плакать и не понимая, почему ей так больно.
Слезы полились позднее. Внизу, в столовой, часы отбили час, потом два и три, а Маша все еще оставалась в будуаре. Вдобавок этим часам вторили другие, в гостиной, но они отставали, били чуть позднее, и Маша принуждена была дважды выслушивать отсчет каждого часа, отчего ей и казалось, что сидит она здесь не три часа, а по меньшей мере шесть; в голове же безостановочно крутилась история влюбленных Тристана и Изольды, которые не устояли пред своей любовью, а поскольку Изольда была невестою короля Марка, то заменить ее на супружеском ложе в первую ночь пришлось служанке Бранжьене, которая, подобно Николь, ухитрилась сберечь свою девственность. Король Марк оказался весьма доверчив, и обман удался… как тот, что свершился нынче в спальне барона. И еще вспомнила Маша, как Изольда, боясь разоблачения, послала Бранжьену на смерть, а потом пожалела и оставила в живых. Она вообразила себя Изольдою, перед которой слуги просят не убивать верную Николь, и словно бы услышала свой ледяной голос: «Нет, никакой пощады! Убейте ее скорее!» Да, в эту ночь были мгновения, когда Маша могла бы убить Николь собственными руками!
Несколько раз она приближалась к двери, но остерегалась вслушиваться, чтобы вновь не услыхать все тот же ужасный звук. Хотела молиться, но не было ни в мыслях, ни в сердце никакого желания, кроме одного: чтобы эта пытка закончилась как можно скорее, чтобы она могла воротиться, и лечь рядом с мужем, и встретить утро вместе с ним. Почему-то казалось, что утро все изменит к лучшему, все поставит на свои места!
Но время шло, и Маше, окоченевшей в одной рубашке, отупевшей от беспокойства, стало казаться, что ночь никогда не изойдет, Бранжьена-Николь никогда не воротится, и она даже не поверила своим ушам, своим глазам, когда дверь спальни тихонько приотворилась и белая фигура неслышно скользнула в комнату, шепча:
— Ваше сиятельство! Вы здесь?
— Да, — хрипло проговорила Маша, с трудом поднимаясь — затекло все тело. — Долгонько же… — Она не договорила, почувствовав, что сейчас зарыдает в голос, набросится на Николь, закричит, изобьет ее!..
— Ну, скажу я вам! — возбужденно хихикнула Николь и зажала рот ладошкою — ее разбирал смех. Глаза ее сияли в темноте, коса была распущена, волосы все сбились. — Пробудешь тут долгонько, коли он четырежды… — Она захлебнулась блаженным вздохом. — Mon Dieu, quel homme! Guel mâle!.. Oh, pardon, madame! [64] — спохватилась Николь. — Он сейчас спит. Идите же скорее! Ручаюсь, он ничего не заподозрил. Я опасалась, что его смутит мой голос, однако у нас не было ни минуты, свободной для беседы. — Она снова нервически хихикнула, а Маша, резко отвернувшись, пошла к двери, но была остановлена тихим вскриком Николь:
— Постойте, madame! Вам придется переодеться!
Маша непонимающе взглянула на француженку. Белые зубки Николь посверкивали в хитроватой улыбке:
— Осмелюсь сказать, сударыня, на вашей рубашке отсутствуют необходимые следы, — она деликатно замялась, — следы урона, причиненного девичеству! — И, не дожидаясь, пока спешившая Маша произнесет хоть слово, принялась стаскивать с себя измятую рубаху, обдав Машу потным, мускусным запахом своего разгоряченного тела.
Ну, это уже было невозможно вытерпеть! Со стоном, более напоминавшим рычание, Маша подалась к Николь, да тут же и замерла, схватившись за горло: такой подкатил позыв тошноты, что все силы ее сейчас ушли на то, чтобы осилить этот приступ. В глазах потемнело, а когда Маша вновь обрела способность видеть, полуголая Николь уже исчезла невесть куда.
Ноги сделались от слабости как ватные; еле переводя дыхание, Маша добрела до постели и легла рядом с ровно дышавшим мужем… их с Николь мужем! И тут вдруг вспомнилось, как графиня Евлалия, дама не весьма скромная, рассказывала одну фривольную историю, услышанную ею во Франции. Некий купец влюбился в служанку своей жены и, желая переспать с этой девицею так, чтобы жена не узнала, велел одному из молодых приказчиков на ночь занять его место в постели жены, взяв с него предварительно обещание, что он до хозяйки не дотронется. Тот малый, по молодости своей, не смог удержаться и сделал даже больше того, что обычно делал муж. На следующий день жена, полагая, что это был ее супруг, ибо тот вернулся и лег подле нее незадолго до рассвета, подала ему чашку бульона и пару свежих яиц, хотя и раздражала мужа прежде своею скупостью. Купец удивился необычному завтраку. «О, — воскликнула жена краснея, — вы его вполне заслужили!» Тут-то тайна ему и раскрылась. Впоследствии он обвинил этого молодца в том, что тот его обокрал, и привлек к суду. Приказчик объяснил, почему хозяин его ненавидит и клевещет на него, и суд его оправдал. Жену купца судьи признали порядочной женщиной, а мужа объявили рогоносцем… по своей воле. И Маша подумала, что если слова «носить рога» можно отнести к женщине, то она нынче ночью сама себе рога наставила, и когда б история ее глупости сделалась достоянием гласности, все, ее слышавшие, хохотали бы до упаду! Не до смеху ей, лежавшей на измятых, влажных простынях.
Маша плакала долго, пока слезы вконец не обессилили ее и она незаметно для себя не забылась сном.
* * *
Проснулась она как от толчка — и первое же воспоминание о случившемся вызвало к жизни ту же сердечную боль, которая затихла было во сне.
Верно, уже давно рассвело: бледный свет пасмурного сентябрьского утра сочился сквозь щель меж тяжелых портьер.
Маша украдкой повернула голову — Димитрий Васильевич лежал рядом тихо, неподвижно. Длинные светлые ресницы его были сомкнуты, — казалось, он крепко спал. Маша немного приободрилась: у нее было несколько минут на обдумывание того, как вести себя. Вчера вечером (чудилось, год мучений миновал с тех пор!) матушка с тетушкой, от беспокойства утративши стыд, будто две опытные сводни, наставляли ее, едва пробудившись, тотчас же к мужу прильнуть и соблазнить его своею ласкою, дабы забыл он свои ночные впечатления и помнил только утренние. Конечно, Маша понимала, что совет сей весьма разумен, но никак не могла заставить себя последовать ему. Барон пал нынче ночью жертвою ее же интриги, однако она почему-то сердилась на него, как на изменника-прелюбодея.
Да, забавные шуточки шутит с нею нечистая совесть! Маша собралась с духом и, повернувшись, положила ладонь на юношески гладкую грудь мужа, видную в прорези рубахи. Она успела почувствовать трепет его сердца, вмиг передавшийся ее сердцу и заставивший его забиться быстрее, еще быстрее… Но тут Димитрий Васильевич открыл глаза, и Маша вздрогнула: они были ясные, незамутненные сном — и холодные, такие холодные!
— Рад видеть вас, Mary, — сказал он буднично, равнодушно, вызвав этим тоном сонм перепуганных мыслей в бедной Машиной голове: неужто именно так здороваются мужья с женами после первой ночи супружества? Вчера, прежде чем Маша его покинула, он был совсем другой… впрочем, может быть, Бранжьена… тьфу, эта, как ее, Николь, чем-то разочаровала его, оттого он столь холоден… Последняя мысль почему-то обрадовала, ободрила Машу. Коли так, надо к нему непременно приласкаться! И она легонько погладила его грудь, однако Димитрий Васильевич небрежно сбросил ее руку. Повернувшись на бок и приподнявшись на локте, промолвил вдобавок:
— Не трудитесь, сударыня. Ночными ласками я сыт по горло!
Бесстыдная, обнаженная откровенность этих слов поразила Машу, как пощечина. Она медленно опустилась на постель, ничего не видя перед собой. Кровь стучала в ушах, и голос барона доносился как бы издалека:
— Хочу рассказать вам одну сказку, сударыня. Я услышал ее еще в детстве от моей нянюшки. Сказка нехитрая, старая, как мир. Чудовище напало на город, и, чтобы умилостивить его, решено было ежедневно отдавать ему на съедение прекрасную девицу. Когда оно всех переело, дошла очередь и до королевской дочери. Сидела она на камушке, ожидая, когда чудовище явится ее пожрать, да тихонько плакала, как вдруг явился витязь-богатырь и после яростного сражения убил чудовище, а хвост его отрубил на память да спрятал. Утомившись, прилег витязь отдохнуть в холодочке, посулив отвезти спасенную деву домой, да тут, откуда ни возьмись, наскакал какой-то прохожий-проезжий человек, чудище мертвое в море скинул, скрал красавицу и повез ее к королю, по пути застращав: откроешь, мол, истину — и я тебя убью. Девица и промолчала, когда сей нечестивец похвалялся несвершенным подвигом. Король в награду посулил ему дочку свою в жены, однако едва начали играть свадьбу, как явился на пир незнакомец и попросил жениха поведать о своем подвиге. Пройдоха наплел семь верст до небес, слушатели рыдали от восторга, а незнакомец возьми да и спроси: скажи, мол, герой, а каков же хвост был у сего чудища? Тот в памяти порылся да и брякнул: «Не было у него хвоста никакого вовсе, когда я его в море скинул!» — «Конечно, не было! — согласился незваный гость. — Хвост я отрубил давеча, после того, как убил чудовище!» Тут королевна осмелела, во всем созналась. Самозванца повесили или голову ему отрубили, уж и не припомню, а девицу с героем повенчали. И жили они долго и счастливо… но счастье-то по усам текло, а в рот не попало…
При последних словах в голосе барона прозвучала вдруг такая горечь, что Маша решилась повернуть голову и взглянуть на мужа, не в силах сообразить, к чему была ей рассказана сия старинная прибаска [65]. Тот держал на ладони что-то белое, кругленькое и задумчиво смотрел на этот предмет. Приглядевшись, Маша увидела пуговку, сделанную из обточенной речной жемчужины: на такую точно пуговку застегивались рукава ее рубашки. Так и есть, на правом рукаве белеется пустая петелька, а пуговка — вот она, у Димитрия Васильевича.
Ну и что? Почему он глядит на нее таким холодным, презрительным взором, словно это не пуговка, а доказательство преступления?
— Ue le bonheur s'ecoule avec vitesse! [66] — произнес Димитрий Васильевич, и Маша от волнения не вдруг поняла, что же сие означает, а когда поняла, воззрилась на него с изумлением, но тут же Димитрий Васильевич это ее изумление разрешил:
— Вчера, когда вы ушли, Mary… эта пуговка закатилась мне под плечо, и я ее подобрал, намереваясь отдать вам, когда вернетесь. Но вы вернулись, и, взяв вас за руки, я, к изумлению своему, обнаружил, что обе пуговки на месте. Чудеса, верно? Однако взгляните на ваш рукав сейчас — ее там опять нет, как хвоста у того чудовища. Странно, правда?
У Маши похолодели пальцы.
— Странно, странно… — задумчиво повторил барон. — Вот и березка, которую я напоил напитком, что вы мне столь заботливо предлагали вчера ночью, — до сих пор спит мертвым сном…
Следуя за его взглядом, Маша посмотрела в угол, где в кадке поникла тоненькая березка (спальня была украшена множеством живых растений, словно уголок зимнего сада), еще вчера весело зеленевшая, словно за окном царила весна, а не осень. И только тут до Маши дошел смысл его слов!
— Боже мой… Боже мой… — Горло у нее перехватило. Не в силах ничего сказать, она огромными, исполненными ужаса глазами вглядывалась в лицо барона, и, отвечая на все ее невысказанные вопросы, он кивнул:
— Я все знаю, Mary. Я все понял, так что не трудитесь новой ложью усугублять старую.
Он разжал пальцы, и жемчужинка покатилась по подушке, скрылась в складке простыни. «Не могла ты там вчера остаться, что ли?» — подумала Маша с такой ненавистью, словно эта несчастная пуговка была единственной виновницей свершившегося. А барон, разгадав ее мысли, невесело усмехнулся:
— Дело совсем даже не в ней. Это так… мелочь, маленькая деталь общей картины, которая начала вырисовываться передо мной еще две недели назад, когда надменная графиня Строилова, одна из ближайших наперсниц княгини Ламбаль, фаворитка королевы Марии-Антуанетты, двойной агент, равно старающийся и для канцелярии Безбородко, и для Монморена [67], член женской масонской ложи, вдруг на том знаменательном балу бросилась мне на шею и принялась на блюдечке преподносить руку и сердце своей прелестной племянницы. Но она забыла, с кем имеет дело! Возможно, лучше мне было бы оставаться в неведении, но моя работа приучила меня всегда держать ухо востро. Впрочем, красота ваша меня околдовала! Я голову потерял, я подумал, почему не взять то, что в руки идет, ежели моей женою сделается сие воплощение красоты и невинности?
В голосе его не прозвучало ни малейшей иронии, но Маше это великодушие было как нож в сердце.
— Итак, я позволил вашей тетушке всячески ускорить нашу свадьбу… да я и сам желал этого всем сердцем.
Я гнал свои сомнения, однако вчера вечером, по какому-то наитию, я поведал графине Евлалии историю моего первого брака… вы видели, не сомневаюсь, после этого свою тетушку и знаете, что ее чуть удар не хватил. Теперь мне кажется, я все понял еще тогда… или немного позднее, когда вы чуть ли не силком вливали в меня это самое питье! Но Боже мой, Mary, я не гневался на вас даже тогда! Я каждую минуту ждал вашего признания!
«Да ведь я только и желала, чтоб во всем вам открыться!» — хотела крикнуть Маша, но из ее груди вырвался лишь слабый стон, даже не услышанный Корфом.
Он продолжал:
— Я ведь не зря сказал вашей тетушке, что простил бы Ольгу, когда б она созналась мне во всем. Я ждал вашего признания, как манны небесной, мечтая о близости меж нами не только лишь телесной, но и духовной. О, les illusions de l'amour! [68] Вы ушли… а на ваше место явилась эта девка.
Маша привскочила на постели, глядя на него во все глаза: — Так вы узнали сразу?!
— Mary, какое вы дитя! — холодно произнес Димитрий Васильевич. — Неужто вы не знаете, что любимого человека окружает для любящего некий ореол? Я всего лишь раз коснулся ваших губ, но вкус их уже не смог бы спутать ни с какими другими. Ваш запах, ваше дыхание, шелковистость ваших кудрей… — У него перехватило дыхание, и он не тотчас смог продолжать. — Неужто вы думаете, что я смогу спутать свою любимую со случайной шлюхой, которая развязно залезла ко мне в постель и сразу принялась срывать с меня последние одежды?
Нет, не эти постыдные подробности потрясли Машу. Нет, но… ежели он сразу распознал подмену, ежели его так оскорбили заигрывания Николь, что же… почему же… Она вспомнила скрип кровати — и вдруг почти закричала, вне себя от ревности:
— Да коли так, отчего же вы сразу не вышвырнули прочь эту девку, а оставили ее при себе на целых три часа?!
Если Маша надеялась увидеть смущение в его лице, то напрасно. Взор его был по-прежнему бесстрастен.
— В первую минуту я был столь потрясен, уязвлен в самое сердце, что совершенно растерялся. Я никак не мог переварить ту новую nourri ture de mes pensees [69], которой попотчевала меня злая судьба. Но через некоторое время… сознаюсь, через некоторое время J'y suis reste par curiosite [70]! Эта девственница, которая действовала с проворством и навыками первейшей парижской кокотки, и l'ours [71] зимой могла бы поднять из его берлоги!..
А что, сударыня? Вас это уязвляет? Вы предпочли бы видеть меня ничего не ведающим рогоносцем или несчастным, несостоявшимся любовником? Вам не по душе, что я решил извлечь максимум удовольствия из той гнусной ситуации, в которую был вовлечен вашею волей?
— Не мучьте меня! — в отчаянии выкрикнула Маша. — Ради Бога, не мучьте!
— Да… — тихо проговорил Димитрий Васильевич. — Это мне теперь уже все равно, а ведь вчера, когда обман ваш сделался мне явствен и я готов был вскричать со слезами: «Не мучьте меня!..» — Он поднялся с постели и запахнулся в шлафрок.
Сейчас, с растрепавшимися волосами, осунувшийся после бессонной ночи, он казался совсем молодым. Синим, холодным огнем горели глаза его, и сердце Маши защемило от ощущения невосполнимой, безвозвратной потери.
— Объяснимся до конца, сударыня, — сурово произнес барон по-французски; и говорил далее только на этом языке, словно бы враз отгородившись чужой речью от всего того родного тепла, что еще оставалось в его душе к жене… если еще оставалось! — Мне необходимо знать, понадобился ли я вам просто как выгодный супруг или мне уготована более почетная роль?
— Я… не понимаю… — робко подняв на него глаза, проговорила Маша.
Корф цинично усмехнулся в ответ:
— Неужто, мадам?! О, сбросьте вашу маску! Невинность вам пристала, не спорю, но нежные краски ее несколько поблекли, поистерлись нынче ночью! Вы меня не поняли — так я спрошу еще раз: означает ли наш скоропалительный брак то, что вы беременны и мне предстоит дать свое имя вашему ублюдку?
Маша, стоявшая на коленях в постели, покачнулась. Сейчас она впервые от всего сердца пожалела, что нож Григория, приставленный к ее горлу, не соскользнул и не перерезал вену… Право слово, даже утонуть в болоте казалось ей теперь милее, чем то, чем обернулась их с тетушкою «удачная охота» на балу! Говорить она не могла, только едва заметно кивнула, но Корфу этого было вполне достаточно.
— Та-ак… — проговорил он хрипло. — Та-ак…
Какое-то время в комнате царило гробовое молчание. Наконец Корф изрек столь спокойно, кратко и точно, словно несколько часов обдумывал свои слова:
— Положение мое, а прежде всего — интересы дела и, стало быть, отечества не дозволяют мне пойти на скандальный развод. То есть мы принуждены оставаться в супружестве, но ежели не судьба нам стать Филемоном и Бавкидою [72], уж не моя в том вина! Однако, сами не зная того, вы поставили своего ребенка в очень печальное положение: я не смогу признать его.
— Ах! — вскрикнула Маша, как подстреленная, и барон сделал невольное движение поддержать ее, но тут же, словно сам себя устыдившись, спрятал руки за спину.
— Дело не только и не столько в моей жестокости. Увы, Mary, я бездетен, и, к несчастью, в Париже есть люди, которым об этом известно. Так что вы сами понимаете: появление у меня жены с ребенком будет всеми воспринято однозначно. А уж когда люди сопоставят сроки нашей свадьбы и ваших родин, тут уж последнему дураку все ясно сделается. У меня нет ни малейшей охоты делать из русской миссии посмешище для французского двора, а это значит, что вы отправитесь рожать в Любавино — с тем, чтобы явиться ко мне в Париж, чуть только позволит ваше здоровье.
На миг опаляющая радость овладела всем Машиным существом: так он не прогоняет ее от себя вовсе, не ссылает в деревню! Она приедет к нему в Париж, а там… а там, быть может, все еще как-нибудь уладится. Ведь он же говорил, что любил ее, а раз так… Но тут же отрезвление настигло ее, заставив спросить:
— Мне явиться в Париж? А как же дитя?
— Дитя останется в России, — произнес Корф, и Маше почудилось, будто не муж ее стоит здесь, а палач, выносящий смертельный приговор. — Вы будете жить при мне, вы — жена моя, и вы повинны предо мной. Я предпочитаю сразу ставить все точки над i. Вы жена мне, однако, клянусь и призываю в свидетели Бога, никогда барон Корф и баронесса Корф не лягут более вместе в супружескую постель. И в этом вы просчитались, сударыня: я отнюдь не король Марк!
Маша даже не шелохнулась, только горько усмехнулась про себя: «Вот почему там лежала эта книжка… „Тристан и Изольда“!».
Но тут ледяной голос барона дошел до ее сознания:
— А поскольку женатому мужчине не к лицу шляться по девкам, я предпочту оставить при себе ту, которая отдала мне свою нетронутую невинность. Отныне Николь будет жить в нашем доме на положении камеристки хозяйки и метрессы [73] хозяина. Попросту говоря, на балы я буду вывозить вас, а спать в моей постели будет она! Вам все ясно?.. Молчание — знак согласия. Ну что же — честь имею, сударыня!
И Димитрий Васильевич вышел, так хлопнув дверью, что картина, висевшая рядом с косяком, сорвалась и грохнулась об пол. Золоченый багет разлетелся на куски.
Маша, слетев с постели, кинулась было вслед за бароном, да ноги ее подкосились, и она растянулась на ковре. Сознание заволокло туманом, но вовсе не эта ставшая уже привычной слабость не давала подняться, а обессиливающий своей внезапностью приступ ярости!
Она лежала, касаясь щекой острых осколков багета, но не чувствовала боли. Последние слова Корфа своей обдуманной жестокостью потрясли ее до глубины души. Робкая, зарождающаяся любовь, ревность, стыд и раскаяние — все это исчезло, все сгорело в пожаре нового, неодолимого чувства. Ненависть властно овладела всем ее существом, не оставляя места ни для чего другого.
Ненависть!..
Она знала, что будет ненавидеть мужа до конца дней своих.
Глава VIII В ДАЛЕКИЕ СТРАНСТВИЯ
Маша родила в мае 1780 года. Срок свой она переходила чуть не на полмесяца и была рада этому несказанно! Все равно люди должны были считать дитя недоношенным — предполагалось ведь, что оно зачато в исходе сентября, когда свершилась свадьба с бароном Корфом. Так что чем позже роды, тем лучше.
Их с матушкой поспешный отъезд из Санкт-Петербурга после объяснения с бароном был похож на позорное бегство — или следование в ссылку. Да уж, натерпелись стыда!.. Маша вообще не знала, как бы пережила эти муки, если бы не матушка. Жизнь приучила Елизавету на переживания попусту сердца не тратить: ежели дело поправимое, то надобно все силы употребить, чтоб его поправить; ну а ежели безнадежно, так чего зря надрывать душу? Случившееся же с дочерью, едва остудив дорожным ветром пылающие от стыда щеки и поразмыслив, княгиня перестала полагать делом безнадежным и несчастным. Да, тяжело, да, кажется, невыносимо — только легкие умы уверены, что все легко! — однако это лучший из возможных выходов. Барон-то Димитрий мог не ограничиться теми жестокими словами, которые пришлось выслушать его молодой жене, а потом и Елизавете с графинею Евлалией. Он вправе был и к святейшему Синоду за разрешением на развод обратиться, а уж тут огласки и позору истинного было бы не избежать — Машенькино имя сделалось бы навеки запятнанным… А так, ну что ж, все обошлось и осталось сокрытым в своей семье. И еще счастье, благодарила Бога Елизавета, что возлюбленный муж ее никак в сем предприятии замешан не был! Случись он в России в пору сватовства и всего, что за ним последовало, — не миновать ссоры посерьезнее, а то и дуэли! Все-таки, что ни говори, а против женщин никакого иного, кроме слов, не сыщешь оружия… слова же, хоть и больно ранят, со временем забываются. Вот на это самое, на время, и надеялась пуще всего Елизавета как на лучшее лекарство для воспаленных умов и разбитых сердец.
Пока Маша проклинала свою горькую судьбу и не находила ответа на вопрос, который терзает от веку всех страждущих: «За что и почему именно на меня обрушился Вышний гнев, за что?!» — Елизавета только и могла, что побуждать ее к терпеливому ожиданию срока родин. Она хорошо помнила, как искала душою утешения у нерожденного еще ребеночка своего, хотя Машенькиного отца едва ли меньше ненавидела, чем та ненавидела Гриньку. Но, видно, дочь оказалась потверже матушки и пока еще никак не была готова открыть свое сердце для любви к дитяти. Знала Елизавета, какие кошмары мучают Машеньку, мол, не изойдет ли на свет дьявольское отродье в яви — с копытами, рогами, все в шерсти?! — и нипочем не позволяла ей о том думать. Мать и дочь до самых родин, почитай, и не расставались, тем более что князь Алексей да Алешка-меньшой все еще из своих дальних странствий не воротились и некому было внимание княгини от дочери отвлечь.
Елизавета часами просиживала с Машей на лавочке на волжском берегу под яблонями, листья которых сперва пожелтели, потом побурели, потом опали и долго мокли под занудными дождями, пока не прихватило их заморозками и не запорошило первым снегом. А потом и сугробы, пышные сугробы сонно залегли вокруг; принакрывала и Волгу белокипенная, белее горностаевой, шуба, над которою вились-завивались, пели-перепевались метели-вьюги… но пришла пора — и затихли они перед хором весенних ветров; солнце растопило сугробы, высушило сырые дорожки в саду, и на них проглянула первая травка.
Красота небесных течений, солнечного хода и лета облаков неуклонно и неприметно врачевала Машино сердце. Вдобавок никогда еще не водилось в барском доме столько котят и щенят, не приносили скотницы в дом столько новорожденных телят и ягнят, не приводили тонконогих, нетвердо ступающих жеребят, якобы чтобы их «подомлить» — сунуть головою в устье печи и тем навек приучить к дому и его хозяевам, а на самом деле — повинуясь строгому наказу княгини: всякую новорожденную живность непременно и как бы невзначай показывать барышне. Исподволь, ненавязчиво пыталась Елизавета растопить сердце Маши, охолоделое, ожесточенное против будущего ребенка, убедить ее: все, все дети хороши да милы, их нельзя не любить, их нужно любить, это самою природою в сердце женское вложено, нельзя сему насильственно противиться!
Бог весть, удалось бы упорной, неотвязной Елизавете своего добиться, нет ли… Ребенок — мальчик — мертвеньким родился после тяжелых, мучительных материнских судорог: ее тело не пролагало дитяти путь к жизни, а извергало его, как нечто пагубное и страшное.
Конечно, нельзя было допускать, чтоб Маша так долго переходила нормальный срок, и случись в ее жизни все иначе, не будь сие дитя плодом злодейства, уж давно позвала бы Елизавета опытную повитуху, чтобы та вызвала роды нарочно. А теперь, глядя на убогонькое, крошечное тельце — нездорово мал был ребеночек, княгиня с дочерью еще втихомолку радовались, что беременность явно себя не обличает, — Елизавете оставалось лишь казниться, что, оберегая честь дочери и, вероятно, честь барона Корфа, она взяла грех на душу и пусть невольно, бессознательно, но загубила ребеночка… Несколько утешили ее искренние слова дочери: «Слава Богу!» — и ее исполненные облегчения, а не жалости слезы. Однако обе они знали, что отныне в синих блуждающих огоньках, кои мерцают в лесу и на болоте по ночам (а ведь всем известно, что в них воплощаются души детей, умерших некрещенными), им будет мерещиться укоряющий взор младенца, неповинного в грехе отца и печали матери, умершего безымянным, даже не успев хоть одним глазком взглянуть на Божеский мир.
* * *
Итак, вроде бы все уладилось к общему спокойствию. Но не долго Елизавета пребывала в этом блаженном заблуждении! Не прошло и двух дней, как Машенька, опамятовавшись и поразмыслив, рано утром вбежала в опочивальню матери — еще покачиваясь от слабости, — и выкрикнула:
— Так значит, все было зря?!
И Елизавета не нашлась, что ответить…
Неужели и впрямь? Да если бы знать, чем все закончится, не лучше ль им с Машей было уехать в какое-нибудь потаенное местечко, а после родов воротиться как ни в чем не бывало? Да если бы знать заранее, стоило ли им подвергать себя мучениям в Санкт-Петербурге?! Выходит — что? Выходит, брак с Корфом вовсе и не нужен был?! Да что же это за издевательство приуготовила Маше судьба?!
Отчаяние от таких мыслей могло кого угодно поколебать, но не такую стойкую натуру, как Елизавета. Что делать? — вот первый вопрос, который встал перед неугомонной княгиней, и Бог весть, до каких решительных мер она бы додумалась, когда б не воротились из Сербии Алексей Михайлович с сыном. Конечно, восторги встречи надолго отвлекли Елизавету с Машею, но хочешь не хочешь, а пришлось осведомить князя, что любимая падчерица его вдруг оказалась замужем и теперь носит имя и титул баронессы Корф — со всеми вытекающими отсюда последствиями…
Поведав о «последствиях», Елизавета первый раз в жизни увидела в глазах мужа гнев, — который, впрочем, сразу и погас, ибо Алексей Михайлович всегда полагал, что женщина вправе любыми средствами защищать себя в этом мире, который принадлежит мужчинам и всею сутью своей враждебен ей. Елизавета хотела ведь только добра и блага своей дочери — ну, а истину о благих намерениях, коими вымощена дорога в ад, каждый постигает, увы, на своем собственном горьком опыте. Князю оставалось лишь скорбеть над судьбою Машеньки — и вместе с женою размышлять, как исправить положение.
Да, в решении сего вопроса могла принимать участие только одна сторона, ибо за все минувшее время барон никак знать о себе не давал и о судьбе жены своей не осведомлялся. От тетушки Евлалии Никандровны (при известии о ней князь только головою покачал, удивляясь, какие прихотливые тропинки порою пролагает судьба перед идущими путем неправедным) пришла лишь одна маловразумительная писулька, из коей можно было понять, что графиня Строилова возвращается в Париж, куда незадолго перед этим спешно отбыл Димитрий Васильевич. Ни слова о том положении, в котором — не без ее горячего участия! — оказалась Маша, «ma tante», она же «grand-maman», не написала. Очевидно, барон никоим образом не желал поддерживать связь со своей новой «родней», так хладнокровно и расчетливо использовавшей его доверчивость.
Понятное дело, и Машенька менее всего на свете желала бы и впредь быть связанной с этим человеком. Душа ее была настолько потрясена, что порою Маше казалось, будто лишь в тиши монастыря отыщется для нее успокоение. Несколько дней она размышляла о монастырском уединении и даже вполне всерьез поделилась этой мыслью с Алешкою. Юноша и без того был потрясен происшедшим с сестрою, даже дальние и довольно опасные странствия по Балканам не утишили тех впечатлений, а услышав о Машиных замыслах, он ужаснулся еще более, — ведь Маша будет там совсем одна… без родных, без близких, без подруг — дружба монастырская бывает ли? Кто об сем слышал? Младым своим умом Алешка безотчетно понимал, что уединение приятно лишь тогда, когда оно есть отдых, но беспрестанное уединение есть путь к неизбывной тоске и унижению. Ужас Алексея был столь велик, что передался и сестре. Вечно размышлять о том, что с ней содеялось, вечно смаковать свое несчастие — о нет, сие было не для нее! Ну хорошо, молитвы — молитвами, а кроме них-то что? Что делают сестры Господни, когда не молятся? Молодые небось в печали ходят по темным аллеям монастырского сада, смотрят на вольное солнышко или лукавый месяц да вздыхают из глубины сердца. Ну а старые — бранчливы, грубы и скучны… все ворчат небось!..
Короче говоря, очень скоро Маша замышление о черном постриге [74] отринула с тем же пылом, с коим поначалу возмечтала о нем. Дни шли за днями, а вопрос о том, что же ей делать, так и оставался неразрешенным. Собственно, ответа могло быть только два, но оба они были столь остры, что на первый взгляд казались неприемлемыми.
Ответ первый — оставаться, так сказать, соломенной вдовою при далеком муже, жить, как живется, предоставив барону ту же участь. Это прежде всего пришло в голову Маше, для которой ее первая брачная ночь стоила десяти лет супружеской жизни. Однако ее матушка, которая четыре года именно соломенной вдовою и прожила, прекрасно представляла себе все невыгоды такого положения. Ожесточенный против своей жены мужчина может извлечь массу выгод даже из такого межеумочного положения, но женщине, да еще такой и страстной, и строгой враз, какой была Маша, жизнь вдали от супруга, но в путах супружества счастья не даст. Мало того, что ее вечно будут преследовать выражения оскорбительного недоумения и еще более оскорбительного сочувствия со стороны света и общества (известно, что во всех своих несчастьях женщина сама виновата, так же, как и в бедах мужчин); Елизавета видела и другую сторону медали… Для нее жизнь была немыслима без любви, и обречь на унылое безлюбье или тайные, постыдные связи дочь свою она ни за что не хотела. Да и вообще — вечно пребывать в ожидании повелительного знака из-за границы от полумифического супруга? Это постыдно и унизительно!
Таким образом, вскоре единственно возможным признан был на беспрестанных семейных советах выход другой: списаться или свидеться с Димитрием Васильевичем и рассудить, как жить дальше. В конце концов, он пострадал при всем случившемся немало, он был Машею обижен и оскорблен, а стало быть, окончательный приговор следовало выносить ему.
Идея переписки тоже была отвергнута по зрелому размышлению. Не та ситуация, чтоб тратить месяцы на неверную почтовую дорогу! А потеря письма с той или другой стороны вообще может оказаться роковой. Значит, оставалось одно: несчастливым супругам встречаться так или иначе.
Никому не улыбалось Бог весть сколько ожидать нового приезда барона Корфа в Россию. На это могли уйти годы… жизнь! Вот и выходило, что предстояло Машеньке ехать к мужу в Париж и там, на месте и вместе, решать их общую судьбу.
Хлопотать о проездных документах для Маши взялся сам князь. Он же готов был сопровождать ее хоть бы и до самого Парижа, хоть бы и с Корфом объясняться, но тут Маша проявила такую твердость, что отчим с матушкой несколько даже оторопели. Она объявила, что отныне судьбу свою намерена решать сама, а потому поедет во Францию безо всяких провожатых, с бароном объяснится сама и даже осведомлять его о своем приезде не намерена!
Елизавета со всею своею пылкостью попыталась было вмешаться, да Алексей Михайлович так стиснул ее локоток, что она осеклась, вспомнив, что уже сыграла свою роль в судьбе дочери, понурилась и только шепнула:
— Судьба твоя, девонька…
И вот так оно и случилось, что в апреле 1782 года, едва подсохли дороги, отправился от Любавина к Москве удобный дормез о четырех лошадях, столь нагруженный багажом, что едва выдерживали стальные рессоры, бывшие в ту пору дорогостоящим новшеством: чаще карета подвешивалась на ремнях, которые крепились к выступам ходовой части. Однако уж тут никто не скупился!
Никакой челяди, кроме горничной девки Глашеньки и, понятно, кучера, Маша брать с собою не пожелала. Елизавета пришла было в полное отчаяние: ну как отправить дочку за тридевять земель безо всякой защиты? — да вдруг куафер ее Данила бросился в ноги доброй барыне, Христом-Богом умоляя отпустить его в Париж с молодою барышнею. Данила был в своем мастерстве волочеса наипервейшим по всей губернии, плоды его трудов в завистливое изумление повергали и столичных модниц. Делу сему изящному выучился он, можно сказать, самоучкою, однако же мечта о постижении секретов парижских куаферов всю жизнь его будоражила, оставаясь до поры неосуществимою. А тут — такая предоставилась благодатная возможность…
Противу Елизаветиных опасений Машенька о Даниле спорить не стала: с радостью согласилась взять его с собою, зная и любя его с самого детства. Этим согласием она несколько успокоила свою измученную слезами и раскаянием матушку. А слезы, как известно, заразительны, особенно слезы безвозвратной разлуки… много было их пролито при этом прощании… но вот уже сказано последнее прости, брошен последний тоскливый взгляд, присвистнул кучер, прищелкнул кнут, зазвенел колокольчик, лошади помчались… все кончилось, и Бог весть — начиналось ли сейчас что-то новое или этот путь вел тоже к некоему печальному концу?..
Глава IX ПОПУТЧИК
Дороги к Москве Маша почти не заметила, столь быстро домчались: и на этом пути были у Измайловых свои подставы. В Москве не задержались ни дня, двинулись дальше. Но и теперь Маше было не до красот дорожных: плакала, не осушая очей. Иногда устремляла остекленелый от слез взгляд в каждое дерево, кустик придорожный, каждый дом — это были для нее драгоценные памятники минувшей жизни, столь краткой, но изобильной страданиями. И опять принималась рыдать, побуждая к тому же и горничную Глашеньку. Девка сия, казавшаяся в Любавине сметливой и расторопной настолько, что княгиня увидела в ней возможную опору для дочери на чужбине, враз изменилась, едва сокрылись из глаз знакомые окрестности. Когда б не ее слабый пол, Глашеньку позволительно было бы сравнить с Антеем, оторванным от земли и враз потерявшим всю свою мощь и силу. Вдобавок Глашенька плакала не печально и беззвучно, как ее госпожа, а со всеми ухватками заправской плакальщицы. Поначалу они с Глашенькой чуть ли не до истерики друг друга доводили рыданиями своими. Данила слушал, слушал, утешал, утешал, даже и прикрикивал и на барышню, и на горничную, а потом не выдержал, плюнул — да и пересел на козлы к кучеру Василию, рассудив, что лучше уж зябнуть на ветру, чем слушать этих двух ревушек.
Впрочем, у Машеньки тоже терпение поиссякло, а может, запас слез у нее был поменее, чем у Глашеньки; и едва молоденькая горничная начала по третьему разу повторять все свои плачи и причеты, как Маша столь яростно на нее цыкнула, пригрозив немедля, сейчас же, выкинуть девку на проезжую дорогу (а ехали по дремучему лесу, и вечерело, и собирались в небе тучи), ежели та не утрется и не прекратит плакать вовсе, что Глашенька, никогда барышню свою во гневе не видевшая, тотчас умолкла, лишь напоследок вымолвила:
— Тогда и вы, барыня Марья Валерьяновна, не плачьте, не то мои слезы вослед за вашими потекут, пусть и против моей воли!
Маша неожиданно для себя самой рассмеялась… и вдруг почувствовала, что плакать-горевать ей более и не хочется. Она с изумлением обнаружила, что слезы ее надолго высохли и она с интересом глядит в окно, даже любуется окрестностями, и подивилась переменчивости сердца человеческого, которое властно влечет нас от печали к удовольствиям, неуклонно побуждает к мечтам воображения. Маша вспомнила, как они с Алешкою рассматривали географические карты и думали: «Вот хорошо было бы видеть все те земли, которые изображены здесь, на бумаге!» Теперь мечта ее отчасти сбывалась, пусть даже и глядела она тогда на очертания Африки и Америки, а ныне ехала по Западной России, приближаясь к Германии.
Погода стояла превосходная; в день проезжали верст семьдесят. В придорожных корчмах находили привычные блюда: суп или щи, жареное мясо, яичницу.
Миновали Ригу — это еще была Россия, несмотря на непривычную архитектуру, мощенные камнем, косые да горбатые улочки.
Три дня ехали по Курляндии. Только и радости, что в здешних корчмах везде находился кофе! Дорога была довольно пуста, окрестности занавесились пеленою дождя, и Маша почувствовала, что к ней подступает болезненная скука долгого пути.
Однако тут же судьба подарила ей нежданное «развлечение».
Едва проехали польскую границу. Осмотр таможенный был не строгий, Машеньке на слово поверили, что ничего запретного нет в ее вещах.
Дождь усилился; не сделав обычного верстового дневного урока, пришлось стать на ночлег. День нынче выдался скучный, какой-то особенно утомительный. У Глашеньки глаза с утра были на мокром месте, да и сама Маша едва сдерживалась, чтобы не предаться хандре всецело, и вяло ковыряла ложкою неизбежную яичницу.
В корчме они были единственными постояльцами, но не успела Маша взяться за чай, как распахнулась дверь и в комнату ворвался человек в насквозь промокшем плаще и в шляпе, с полей которой изливались целые потоки воды. Даже не сделав попытки отряхнуться или раздеться, он обратился к хозяину на таком бешеном польском, что Машенька, которая языка сего вовсе не знала, даже уши невольно зажала, ибо польский язык, как известно, изобилует шипящими звуками, а приезжий от ярости еще и присвистывал, то и дело срываясь на крик.
У бедного хозяина ноги со страху подкашивались, но своим явным страхом и покорностью не смог он смягчить свирепого гостя. У него, видимо, не было того, о чем просил, вернее, чего настойчиво требовал вновь прибывший, и он снова и снова разводил руками, а лицо его все более вытягивалось, словно ему грозила некая страшная кара.
Маша, с трудом сдерживая смех — было что-то комичное в этой сцене, несмотря на ужас бедного трактирщика, — пыталась разобрать хоть слово в этом свистяще-шипящем диалоге, как вдруг незнакомец воскликнул совершенно по-русски:
— Матушка Пресвятая Богородица! — и отчаянным жестом сорвал свою мокрую шляпу, с которой полетела туча брызг, окропивших даже Машу, сидевшую поодаль, так что она невольно вскрикнула.
Незнакомец живо обернулся к ней и рассыпался во французских извинениях самого изысканного свойства, однако Маша прервала его с улыбкою, — ибо не могла не улыбаться, глядя в сие добрейшее, курносое да румяное, юное лицо.
— Прошу вас говорить по-нашему, сударь, — сказала она. — Мы завтра пересечем прусскую границу, и Бог весть, когда мне вновь придется беседовать с соотечественником.
Лицо незнакомца тотчас омрачилось.
— Ах, сударыня! — Он порывисто схватился за голову, причем изящный пудреный парик с черной лентою съехал на сторону, открыв светло-русые вихры, куда более идущие к этим простым чертам и свежему цвету лица, нежели суровые букли парика. — Ах, сударыня, судьба оказалась ко мне неблагосклонна. Впрочем, с вашего позволения мы могли бы продолжить путь вместе, обозом, знаете ли, ведь пошаливают и в цивилизованной Пруссии!
— Не трудитесь меня пугать, — улыбнулась Маша. — Вы присядьте, обсохните, выпейте чайку — глядишь, все беды и не такими страшными покажутся.
Она сама подивилась взрослой, женской мудрости и спокойствию, прозвучавшим в ее голосе, хотя этот юноша по виду был ей ровесником, а может быть, и на год-другой постарше. Просто ей почему-то подумалось, что ничего дурного не может случиться с обладателем такого наивного лица и голубых детских глаз, которые, однако же, вдруг подернулись слезами.
— Ах, сударыня! — воскликнул незнакомец трагически, падая головою в стол с таким стуком, что подпрыгнули миски, а на лбу непременно должна была явиться преизряднейшая шишка. — Я несчастнейший человек на свете! — И он залился слезами столь искреннего и заразительного отчаяния, что даже кучер, корчмарь и Данила враз зашмыгали носами, а Глашенька так и зашлась рыданиями, сопровождая их уже знакомыми Маше сладкими всхлипами и подвываниями.
Маша, Бог весь почему, и так едва-едва смех сдерживала — а тут и вовсе разошлась. Впрочем, дрожь ее голоса и судорожные заикания (она пыталась не дать прорваться обидному хохоту) плачущий юноша принял за сочувственные всхлипывания и, чуть подняв от стола зареванное лицо (на лбу, и точно, вызревала опухоль), прерывающимся голосом поведал, что имя его и звание — граф Егор Петрович Комаровский, состоит он при министерстве иностранных дел курьером и послан был неделю назад в Париж, к русскому послу Барятинскому, с подарками для передачи министрам французского двора по случаю очередной годовщицы заключения торгового трактата между Россией и Францией. Графу Анри де Монморену, бывшему воспитателю христианнейшего короля Людовика XVI, а ныне министру иностранных дел, предназначался перстень с прекрасным солитером, подобный же перстень — фельдмаршалу де Кастри, а графу Сепору, министру военному сухопутных сил, — соболий мех и полная коллекция русских золотых медалей. Подарки сии уложены были в двух ящиках и являли собой немалую ценность, хотя и невеликую тяжесть. Для сохранения тайны своей миссии и скорости передвижения Комаровский поехал в партикулярном платье [75] и на перекладных (так было принято среди правительственных курьеров в то время).
Едва миновали границу и граф Комаровский пересел на польских почтовых, как настигла его беда великая: начало смеркаться; кучер, молодой человек, почти мальчик, который, по его словам, впервые ехал сей дорогою, сбился с пути; а через еще малое время повозка с лошадьми угодила в огромную топкую лужу и увязла в ней по самые ступицы. Сколько ни бились Комаровский с возчиком, они насилу смогли вытащить лишь одну из пристяжных лошадей. Комаровский не знал, что делать — послать ли кучера на ближнюю почтовую станцию за помощью, или самому поехать? Кучер, впрочем, уверял, что его на перегонной никто почти не знает — он в деле своем новичок, — и новых лошадей просто так, без обмена, ему нипочем не дадут. Тогда Егор Петрович решился идти сам. Вооружив кучера на всякий случай своими двумя пистолетами и саблею, он сел верхом на отпряженную лошадь и поехал, сам не зная куда. Блукал он, блукал, покуда не наткнулся на сию корчму, оказавшуюся вовсе не почтовою станцией; вдобавок здесь нельзя было сыскать ни лошадей, ни подмоги, и куда теперь ехать во тьме — хоть глаз выколи, — где искать помощь, он не представлял и почитал жизнь и честь свою вовсе пропащими.
Тут, разумеется, последовал новый взрыв отчаяния, с готовностью поддержанный добросердечною Глашенькою.
Маша поглядела на Данилу с кучером и увидела, что они оживленно обсуждают что-то шепотом. И неведомое прежде ощущение — некий будоражащий, азартный холодок — вдруг охватило ее. Она еще не знала, что этот холодок — предчувствие нового опасного приключения — на долгое время станет для нее заменою счастья, одним из движителей ее существования, ибо судьба наделила ее, в придачу к нежнейшей, женственнейшей внешности, отвагою и азартом заправского бретера, и опасность, вернее, одоление страха перед опасностью, скоро сделается для юной баронессы Корф необходимейшей приправою к унылой будничности существования. Сейчас же она понимала лишь, что непременно должна помочь этому пригорюнившемуся, отчаявшемуся мальчику. И не только должна — ей этого безумно хотелось!
— Вот что, сударь мой, — проговорила Маша и снова подивилась твердости своей речи, — сколь мне понятно, оставлять поклажу вашу Бог весть где на ночь нежелательно?
Тот вяло кивнул.
— Так чего же вы сидите здесь?
Граф безотчетно вскочил, в недоумении уставясь на юную незнакомку, говорившую столь повелительно.
— Но я же… я не знаю, где…
— Погодите, — прервала его Маша. — Вы совсем промокли! Данила! Разбери-ка чемоданы свои и дай графу приличного платья!
Егор Петрович что-то залепетал, отнекиваясь, но Маша так убедительно доказала ему, что уже через час пребывания в холодной, мокрой одежде он свалится в жестокой лихорадке и не только поисков продолжать, но и вовсе миссии своей никогда выполнить не сможет, что граф послушно отправился переодеваться, тем более что Данила содержал себя всегда не только в чистоте и опрятности, но даже и в немалом щегольстве. Тем временем Маша велела кучеру оседлать трех лошадей из своей упряжки для верховой езды, а сама, весьма немилостиво ткнув под ребрышки не в меру заплакавшуюся Глашеньку, велела и свои вещи разобрать да подать ей амазонское платье. Переодевшись в два счета (скорее графа, который от горя своего несколько отупел и шевелился медленно), Маша вновь вышла в общую горницу и вместе с кучером и Данилою приступила к хозяину корчмы с придирчивыми вопросами об окрестных местах. Человек он оказался сметливый: едва только от страха, в какой вогнал его граф, оправился, мигом прикинул, что лужа, столь тонкая, чтобы в ней телега безнадежно увязнула, могла находиться только верстах в пяти восточнее корчмы. Ежели ехать к границе и на первом же повороте свернуть с проезжей дороги на лесную тропу — а она, уверял хозяин, для лошадиных копыт весьма удобная, — то не более чем через час удастся выехать на край той топи.
Появился переодетый в сухое Егор Петрович, в сухом плаще, и был удивлен до остолбенения, узрев уже вполне готовую в путь спасательную экспедицию. Его робкие, невразумительные возражения Маша отмела небрежным пожатием плеч и вскочила в седло по-мужски, благо широкая юбка вполне позволяла сие. Она и прежде не больно-то любила сидеть боком в ненадежном дамском седле и была весьма довольна, что в конюшне корчмы не сыскалось сего неудобного сооружения.
— Вперед! — скомандовала Маша и ринулась безоглядно во тьму и мокрядь с такой радостной готовностью, словно бы ей предстояла упоительнейшая скачка по залитому солнцем цветущему лугу.
Данила и кучер Васенька, ошеломленные столь внезапным преображением своей печальной барышни в отважную поленицу [76], беспрекословно ринулись следом, держа привязанные к шестам фонари и еще запас крепких ременных гужей, чтоб, ежель понадобиться, повозку вытянуть, и даже два топора — рубить деревья, ежели потребуется мостить гать. Впоследствии оказалось, что предусмотрительность сия оказалась весьма кстати, но до этого еще предстояла целая ночь блужданий и поисков.
Проехавши тем путем, которым посоветовал следовать корчмарь, добрались до какого-то обширного топкого места, и ободренный Комаровский начал изо всех сил кликать по имени своего кучера. Звали того Зигмунд, и очень скоро надсаженный голос Егора Петровича, беспрестанно выкликавшего имя сие во тьме, стал казаться усталой Маше сиплым кликом какой-то ночной бессонной птицы. Тщетно звал Комаровский — Зигмунд не давал ответа.
Проехали еще несколько верст по краю топи, ежеминутно сами рискуя угрязнуть, но успеха не достигли.
Егор Петрович утратил последнюю надежду. Конечно, положению его можно было лишь посочувствовать! С ним было отправлено на несколько сот тысяч рублей драгоценный вещей, и несчастное происшествие сие непременно должно было дойти до ушей императрицы. Это было первое его поручение, при неудаче коего карьера Комаровского неминуемо должна была прерваться. Что же говорить об утрате чести и доброго имени?!
Горе Егора Петровича было таково, что и Маша, и ее дворовые наперебой его уговаривали и просили быть спокойнее, уверяя, что поиски продолжат всю ночь и, по крайности, даже после рассвета, созвав для подмоги окрестных мужиков, хорошо знающих здешние места; особенно усердствовал с уговорами Данила, ну а Маша не сомневалась, что все окончится благополучно. Здесь, в темном сыром лесу, исхлестанная ветвями, продуваемая ветром, озябшая, невыспавшаяся, проголодавшаяся, она отчего-то была столь счастлива, что ей приходилось следить за собою, дабы не вырвался наружу тот ликующий смешок, который, чудилось, пронизывал все ее существо, заставляя дрожать мелкой, азартной дрожью, дрожью предчувствия удачи.
Так все и вышло! Когда стало ясно, что в этой топи завязшей повозки нет — ежели она не угрязла вовсе на дно, вся целиком, вместе с оставшимися лошадьми, кучером и драгоценным грузом, — Маше пришло в голову, что в столь низменной, слякотной местности вполне может статься еще одна пагубная лужа. Ехал граф с востока — на восток направилась и экспедиция, благо сквозь дымные, сырые тучи начал кое-где робко проглядывать бледно-розовый рассвет. Каково же было общее изумление, когда, проехав версту, в зыбком свете занимающегося дня, за полосою тумана путники увидели край новой топи! Комаровский завопил:
— Зи-и-гму-у-унд! — И вообразите общий восторг, когда совсем рядом, в тумане, проглянули очертания чего-то темного и откуда донесся рыдающий отклик:
— Тута-ай, тутай! Ходзь до мене, пане! Ох, Матка Боска Ченстоховска, ох, Езус Христус! Рятуйте, панове!
Раз начавши причитывать, злополучный Зигмунд остановился не скоро — Машенька даже принялась исподволь выискивать в чертах его чумазого лица сходство с Глашенькиной сдобненькой мордашкою. Впрочем, жалобы его сменились столь же безудержной радостью, что породнило его теперь уже с восторженным Комаровским. Граф и кучер обнимались и лобызались с той демократической горячностью, которая обуревает людей, совместно преодолевших тяжелые испытания. Егор Петрович похвалил Зигмунда за стойкость и неподатливость дьявольскому искушению (никто ведь, кроме совести, не мешал бедному малому пропасть восвояси вместе с драгоценным грузом и в одночасье разбогатеть, однако он оказался столь щепетилен, что посовестился даже палить из оставленных ему пистолетов, дабы не расходовать барский огневой припас, хотя мог бы выстрелом гораздо раньше привлечь внимание спасателей) озолотить, едва доберется до своего оставшегося в корчме кошелька, а пока все мужчины рьяно взялись рубить слеги, и мостить гать, и выволакивать злополучную повозку, и выводить завязших лошадей на сухое место. Маша была счастлива, что сделать сие удалось довольно быстро и проворно: вид этого болотца, пусть и приукрашенного сиянием солнца, был для нее нестерпим. Сладостное возбуждение уступило место усталости и унынию — слишком неприятные воспоминания ожили в ней, едва она увидела эти чахлые, поросшие белым грибком деревья, косматые кочки, скользкие бережки…
Однако жаркая, неуемная благодарность Егора Петровича согрела и вновь ободрила Машу. Он называл ее своей спасительницей; восторгался, что она носит то же имя, что его матушка — ну и Пречистая Дева, конечно; уверял, что отныне, поминая словесно или мысленно Деву Марию, всегда будет вспоминать при сем свою прелестную благодетельницу… Словом, Егорушка (Маша мысленно не могла называть его никак иначе!) оказался в радости столь же неуемен, как и в отчаянии, так что Маше пришлось его вскоре осторожненько скоротить, к месту упомянув, что имя ее — баронесса Корф и она следует в Париж к супругу. Тут, однако, Егорушка исполнился совершенно иного восторга! Оказывается, он знал барона, был представлен ему во время последнего пребывания Димитрия Васильевича в Санкт-Петербурге, наслышан был и о свадьбе барона с некой загадочной юной красавицей («Бог мой! А мы-то дивовались столь скоропалительной женитьбе нашего рассудительного барона! Да я б на его месте и дня не размышлял, чтобы сделать предложение такой красавице!» — выпалил непосредственный Егорушка), и персона жены барона — а он каким-то образом снискал величайшее уважение Комаровского, — сделалась для молодого курьера воистину священною, особенно когда Маша вскользь упомянула о своей недавней потере (ей хотелось оправдаться, ибо недоумение, что прекрасная Мария Валерьяновна находится в такой дали от своего выдающегося мужа, сквозило в каждом взгляде графа).
Дело шло к полудню, когда спасатели и спасенные воротились в корчму — голодные, усталые, мокрые, но взаимно довольные. Плотно поевши, все улеглись спать, предоставив Глашеньке и двум прислужницам корчмаря приводить в порядок грязную их одежду.
Наутро другого дня Маша вышла в горницу, вполне готовая продолжать свои странствия, жалея только об одном: что не простилась накануне с молодым курьером, который, конечно же, пустился в дальнейший путь. Корила она также себя за то, что не додумалась предложить ему ехать далее вместе: в конце концов, она была женою дипломатического агента того посольства, куда направлялся дипломатический курьер Комаровский, и ее долг был оказывать ему покровительство!.. Однако первым, кого встретила Маша в столовой, был именно Егор Петрович! И при виде его сконфуженного лица Маша вдруг так обрадовалась, словно родного брата встретила! Ее искренний смех растопил первую неловкость и смущение Егорушки, который все утро тщетно искал слова, чтобы напроситься в попутчики к милой ambassadrice [77]. После доброго получаса взаимных уверений в совершенном довольствии тем, что дальнейший путь до Парижа они проделают вместе (Данила едва скрывал смех, а Глашенька — слезы умиления при виде этих мгновенно подружившихся невинных и добрых детей), Маша и Егорушка вместе позавтракали, щедро вознаградили Зигмунда и хозяина корчмы — и любавинский дормез, с несколько увеличившейся нагрузкою, влекомый отдохнувшими лошадьми, бойко помчал по направлению к прусской границе.
Глава X РАУЛЬ СИНЯЯ БОРОДА, ИЛИ НЕМЕЦКИЕ РАЗБОЙНИКИ
Наверное, окажись в компании с Машей и Егором Петровичем какой-нибудь искушенный путешественник, он немало повеселился бы, глядя на своих попутчиков, которые, просто сказать, с разинутыми от изумления ртами проезжали Германию. Они оба видели чужедальние земли впервые (Комаровский прежде не выезжал из России, а лишь встречал заграничных курьеров или нарочных уже на русской земле), оба настроены были радостно удивляться всякому новому впечатлению — и не стеснялись своих эмоций. Вот это, кстати сказать, и было первым для Маши благом от присутствия Егорушки: он не только безудержно радовался жизни сам, но и умел передать сию радость другим. После того, как было отыскано пропавшее сокровище, для Егорушки вообще перестало существовать нечто невозможное или печальное, он возлагал на будущее самые лучезарные надежды — и при том наслаждался каждою минутою настоящего. Все приводило его в восторг, даже досадные помехи, вроде той, что от Мемеля (это уже началась Пруссия) до Кенигсберга три дня пришлось тащиться по песчаной прибрежной дороге, весьма утомлявшей лошадей, мимо мелких, серых, скучных балтийских волн. Граф клялся, что в сих неприметных водах таится ископаемая древесная смола, известная с древнейшей эпохи до нашего времени под именем янтаря, или электрона. По словам Егорушки, даже римские матроны всегда носили с собою шарики из электрона, которые они терли в руках, предполагая этим укрепить свои силы таинственной солнечной энергией, заключенной в этом творении солнца и моря.
Узнав от Егорушки, что янтарь в чрезвычайной моде во Франции, Маша пожелала остановиться в ближней деревушке, жители которой промышляли изготовлением и продажею изделий из сего минерала, и более чем задешево накупила ожерелий, серег, браслетов, винных кубков из янтаря, как темного, почти черного, так и медово-желтого и даже рубиново-красного.
Егорушка и тут сгодился. Он объяснил Маше, что просвечивающий янтарь (бастард), особенно если в светлой массе его заключены какие-нибудь древние насекомые, по цене считается дороже прозрачного и непрозрачного на целую треть, и помог несведущей своей спутнице выбрать наилучшие вещи из богатого собрания янтарей, которое представила им пожилая курносая немка в чепчике, владелица лавочки. Она сперва была весьма огорчена, что не удалось поживиться в кошельке простодушной иностранки, однако Егорушка одолел ее неудовольствие силою своего обаяния и глубиною знаний, поведав, что вычитал у Плиния [78], будто римлянам был известен способ окраски янтаря в красный цвет и такой окрашенный янтарь ценился у них на вес золота.
Маша подивилась Егорушкиной осведомленности и узнала, что у его отца было имение в Лифляндии, невдалеке от Риги, на побережье, так что поиски янтаря в балтийских дюнах и волнах были любимейшим развлечением Егорушкина детства. Вслед за этим, конечно, последовало длиннейшее повествование о семье Егора Петровича, о генеалогическом древе графов Комаровских, предки коих, носившие тогда имя простое — Комары, едва ли не были с Олегом, когда он прибивал свой щит на вратах Царьграда [79]; узнала Маша об отце, матери, трех сестрах и трех братьях Егорушки, его любимых племянниках и племянницах, санкт-петербургском и московских домах, о владимирском и тверском имениях — вообще все, что составляло жизнь молодого графа, сделалось ей ведомо, вплоть до того, что он с младенчества был сговорен с некой особою, да вот беда — никаких признаков взаимной сердечной склонности меж ними не существовало отродясь!
Неведомо, заметил ли Егорушка легкое облачко, затмившее чело Марии Валерьяновны при сем известии, однако же он не позволил себе ни единого вопроса о том, почему и отчего так странно сложилась совместная жизнь этих молодоженов, расставшихся почти на два года через день после венчания. Конечно, Егорушка чуял что-то неладное, и душа его рвалась между только что зародившейся симпатией к прелестной баронессе и давним восторгом, который вызвал в его душе барон. Маше пришлось вновь выслушать сагу о сражениях бригадира Корфа со злодейским самозванцем Пугачом, однако всего более поразило ее, что Корфа, оказывается, любили друзья и знакомые вовсе не за его лихую воинственность, а прежде всего за мягкость и человеколюбие, ставшие в министерстве иностранных дел притчею во языцех. Маша сделала большие глаза, услышав сию новость, и Егорушка запальчиво возразил, что ему, мол, доподлинно известно, будто Корф был столь добр, что с трудом мог решиться прогнать пьяного лакея — не то что отправить его отведывать плетей в холодную! «Так я для него значу менее пьяного лакея?!» — подумала Маша, и слезы невольно набежали на ее глаза, однако тут же высохли: наконец-то закралось ей в душу сомнение — а правильно ли поступила она, не последовав совету отца-матери и не поставив мужа в известность о своем намерении его посетить?.. Бог знает, каковы его планы относительно их совместной жизни. Не будет ли он ненужно оскорблен незваным визитом жены, не затруднит ли Маша себе самой осуществление замысла своего — расстаться с бароном без шума и скандалов? Опять же, первая — внезапная! — встреча неминуемо произойдет у супругов в присутствии любезного Егорушки, который, конечно же, не упустит возможности сдать свою попутчицу с рук на руки барону в надежде заслужить его высокочтимое одобрение (тут Маша с трудом подавила приступ нервического хохота), и, явившись нежданно-негаданно, она сама поставит себя в дурацкое положение. А потому в Данциге, где путники сделали дневную остановку, Машенька сочинила письмо следующего содержания:
«Милостивый государь! Покорно исполняя соизволение Ваше, до сих пор оставаясь жить в вотчинном имении, я ныне осмелилась пойти противу приказа Вашего, опасаясь за судьбу нашего брака, а посему спешу уведомить Вас, что в скором времени приеду в Париж и там буду иметь честь покорно ожидать Вашего приговора своей судьбе.
Остаюсь Вашей покорной супругою — Мария Корф.
Писано 17 мая сего года в городе Данциге, Пруссия».
Машенька отродясь не была сильна в эпистолярном жанре, а поэтому, заключив свои растрепанные чувства в сию сжатую фразу, преисполнилась восторга, сравнимого разве с восторгом графомана, накропавшего свое первое сочинение — и еще не получившего презрительной отповеди издателя. Письмо сие казалось ей верхом краткости, изящества стиля и достоинства, а потому она поспешила отправить его с первою же почтою в Париж и еще несколько дней то и дело возвращалась мыслями к сему выдающемуся произведению и повторяла его наизусть едва ли не чаще, чем «Отче наш». Этот детский творческий восторг совершенно затуманил ей голову и не дал подумать о возможной реакции барона… а впрочем, задумайся о ней Маша, она совсем пала бы духом! А пока она весьма оживилась, приободрилась и с радостью предалась вместе с Егорушкою созерцанию примечательностей в пути.
Пребывая в самом приятнейшем настроении, путники добрались до Берлина и решились здесь на два-три дня задержаться, во-первых, потому, что, подъезжая, ничего в пяти шагах вокруг, даже прекрасной каштановой аллеи, ведущей к городу, не могли разглядеть из-за проливного, сплошного дождя; а во-вторых, Берлин был первой чужеземной столицею, виденной Машею и Егорушкой, а стало быть, заслуживал более пристального рассмотрения, чем уже преодоленные ими города.
* * *
Весь первый день Маша посвятила благам цивилизации, коими столь долго вынуждена была пренебрегать, и количество горячей воды, вылитой ею на себя, повергло в изумление даже чистоплотных немецких горничных; после однообразия пищи в корчмах она не могла оторваться от пирога, с жаворонками и спаржи. На сладкое были поданы удивительные, очень крупные желтые и красные вишни. Оказалось, впрочем, что это — черешня, прибывшая из Италии. Она показалась Маше восхитительной — не столь терпкой и более сочной, чем вишня… а все же менее вкусной, чем темные ягоды, что рясно осыпали ветви, клоня их почти до земли, в любавинском саду над Волгой. Да, первые восторги начали утихать, уже давала себя знать тоска по родине, впрочем, тотчас же заглушенная новыми и новыми впечатлениями, из которых сильнейшим оказался театр.
Посетили они оперный дом по настоянию Егорушки, исполнявшего завет батюшки, старого графа Комаровского, который несколько лет назад видел здесь Шиллерова «Дон-Карлоса» и был поражен в самое сердце благородством немецкого романтизма.
Нашим путникам, однако, выпало смотреть совсем иную пиесу. Эта мелодрама, содержание которой было взято из французской сказки «Синяя Борода», очаровала Машу с первого мгновения.
Розалия, сестра небогатого рыцаря, влюбленная в столь же небогатого дворянина по имени Вержи, предпочла ему богатого Рауля… богатство ослепило ее. Розалия поселилась в огромном замке, и только изредка память о былой любви тревожила ее неверное сердце.
Однажды Рауль собрался в какое-то путешествие и перед отъездом отдал жене ключи от всех комнат в замке, строго-настрого запретив в одну из них заходить, ежели она не желает своей и его погибели.
Излишне рассказывать, но через минуту после того, как Рауль скрылся из виду, Розалия отперла запретную комнату и… о ужас! Она увидела отрубленные головы двух прежних жен Рауля и огненную надпись: «Вот доля твоя!»
Вне себя от страха, Розалия запела:
— C'est la mort! C'est la mort! [80]
И тут явился переодетый в женское платье измученный любовью Вержи — увы, без меча или кинжала. За помощью к брату Розалии был послан конюший, но, кажется, поздно: воротился разгневанный Рауль, желающий одного: немедленной смерти супруги, ибо ему было предсказано, что любопытство жены погубит его; для того он испытывал супруг своих и умерщвлял их за сию слабость, надеясь тем спасти собственную жизнь.
А помощи нет и нет… Уже Розалия в темнице ждет гибели; Вержи, открывшись Раулю, просит только одной, последней, милости: умереть вместе с возлюбленной. И вот острые мечи занесены над головами несчастных, но вдруг… вдруг отворились двери, ворвались вооруженные рыцари, убили жестокого Рауля и освободили пленников, которые не замедлили проклясть прошлое и обратиться мыслями к счастливому будущему.
Занавес опустился, и Маша украдкою смахнула слезу. Егорушка подозрительно пошмыгивал своим курносым носом, глаза его странно поблескивали.
Молча сели в карету и поехали сквозь узкие улицы Берлина. Огромные дома в семь или восемь этажей, с готическими фасадами, выступами, балконами, завитками стояли, тесно прижавшись друг к другу, скрывая свет Божьих звезд. Казалось, карета пробиралась среди огромных скал, в глубоком ущелье.
Луна взошла из-за какой-то огромной башни и осветила темные воды Эльбы. Эти старые улицы, наверное, слышали лязг рыцарских шпор, звон палашей, крики кровавых поединков…
Маша пыталась завести разговор с Егорушкою, отвлечься, но тот всю дорогу молчал, сохраняя трагическую мину… Маше сделалось не по себе: неужто Егорушка вообразил себя пламенным Вержи, а ее — жаждущей спасения Розалией? Какая же роль отводилась в таком случае далекому барону Корфу? Уж, наверное, не брата-рыцаря!..
Маша зябко поежилась от внезапно подступившего к сердцу ужаса. Господи Боже! Да ведь она поступила в точности как сия неразумная Розалия, от нетерпеливости и любопытства нарушившая мужнин приказ и едва не расставшаяся за то с жизнью! И она ведь ринулась в дальний путь из нетерпеливости и любопытства — пусть менее пустых, чем у Розалии, однако тоже пренебрегши наказом своего господина и повелителя! Вспомнилось, как барон едва не учинил пожар во исполнение своей мгновенной прихоти… от этого воспоминания и всегда-то Машу познабливало — сейчас же и вовсе зуб на зуб не попадал. Слабость ее такова сделалась, что всего более в эту минуту ей захотелось, даже не заезжая в гостиницу за вещами, ринуться в обратную дорогу, через Мариенбург, Данциг, Кенигсберг и Мемель — домой, в Любавино, сидеть там несходно, в тиши и безопасности, подальше от того кошмара, который сама на себя назвала. Да еще это дурацкое, дерзкое письмо, что она накропала! Если правду говорят, что почта идет от Данцига до Парижа неделю, то Корф письмо ее получил или вот-вот неминуемо получит…
Что он сделает? Розги положит вымачивать для встречи жены? Или приготовит для нее цепи и какое-нибудь подземелье — самое темное, с крысами, пауками, наверное, даже с призраками? Или просто-напросто отправится к адвокату за советом: как бы поскорее развестись со взбалмошной женою? И его карьера… Ах, нет, не будет никакого развода, в отчаянии подумала Маша. Даже если Корф не менее жаждет от нее избавиться, чем она от него… Развод ему не нужен. Вот если бы она куда-то бесследно подевалась — умерла бы в одночасье, что ли, — это было бы самым удобным для ледяного барона!
Дивный аромат ворвался в приотворенное окошко экипажа. По всему Берлину цвели липы, и сладкий, мирный запах волшебным образом утешил, успокоил Машу. Однако ночью барон Корф непрестанно являлся ей в образе Рауля Синей Бороды, вооруженного огромным мечом, на котором полыхали огненные буквы: «C'est la mort! C'est la mort!»; и поэтому Маша несказанно обрадовалась, когда за окном запели птицы в кронах лип, — настало утро, а значит, пора отправляться в путь. Утро, как известно, мудренее вечера, и в свете первых солнечных лучей все ночные страхи показались Машеньке сущим бредом, коего даже перед самой собой следовало стыдиться.
* * *
Путь лежал на юго-запад, через Лейпциг и Веймар к Франкфурту-на-Майне. Оттуда решено было прямиком, через Мец, ехать в Париж.
Дорога была очень приятная — виноградные сады подступили к самой карете. Но вскоре на другой стороне Эльбы показались полуразрушенные рыцарские замки, ныне пристанища летучих мышей и ветров, — и тотчас же вновь явился призрак Рауля Синей Бороды, вновь и вновь принялся тревожить он Машино воображение, и никакими силами его нельзя было отогнать. Даже Егорушкино заразительное веселье более не веселило; не забавляла даже забавная зубрежка Данилы: наскучив однообразием прусской кухни и мечтая о французских разносолах, он решил раньше всего выучить по-французски те слова, в коих видел теперь житейскую необходимость, и прилежно затверживал:
— Bon pain, bonne soupe, bonne viande, bonne bière [81]… — И снова, и снова, и опять…
Путь был слишком долог, уже и все разговоры переговорили, все надоело, и теперь ехали больше молча, подремывая или глядя в окна, радуясь самому малому новому впечатлению; но быстро уставая даже от новизны. Так что и первая встреча с немецкими разбойниками прошла для Маши как-то мимоходом.
Еще во Франкфурте до путешественников дошли слухи, будто впереди на дороге пошаливают. Мол, разбойники разбили почту, зарезали почтальона и забрали несколько тысяч талеров, а письма выбросили в реку.
Первым впечатлением Маши, конечно, был ужас, а вторым — горячая надежда, что в сей злополучной пачке было и ее послание. Она втихомолку молилась об этом весь последующий день, пока карета не остановилась у небольшой корчмы, ворота которой были украшены надписью красными буквами. Егорушка проворно сбегал прочитать, а потом сконфуженно объявил, что сие — предупреждение для всех приезжающих, чтобы они берегли свои чемоданы и сундуки, находящиеся сзади карет, ибо в округе завелись конные и пешие разбойники.
У Маши было второй день отвратительнейшее настроение, и она с трудом сдержалась, чтобы не сорвать это дурацкое заявление о бессилии непобедимых пруссаков, которые и раньше-то — в своих двуугольных шляпах, в синих, голубых и зеленых мундирах с красными, белыми и оранжевыми отворотами — казались ей нелепыми, будто ряженые, явившиеся не в Рождество или Масленицу, а, к примеру сказать, на Фомину неделю [82], а теперь и вовсе пали в ее глазах. На худой конец хотелось хоть Глашеньку отхлестать по щекам… — за что? а разве нужны барыне причины, чтобы сорвать злобу на бестолковой горничной девке? — да стеснялась Комаровского, который, чуя неудовольствие молоденькой баронессы, притих, приуныл… Корчмарь оказался столь же непригляден, как и заведение его, однако же здесь сыскался сытный стол и чистые постели. За ужин взяли сущую мелочь. На столе из приборов лежали только ложка с вилкой: предполагалось, что у каждого путешественника должен быть свой нож. Пришлось распаковывать столовую корзину. А после ужина уже донельзя разьяренная Маша запретила ножи снова увязывать в багаж, ибо они непременно должны были пригодиться для сражения с кровожадными обитателями здешних лесов.
При сих словах хозяин едва сдержал усмешку. Маша за то ему выговорила: мол, не пособник ли он искателей чужого добра, ежели над бедами своих гостей так невежливо насмехается?!
Данила чуть заметно покачал головою. Егорушка сидел, вовсе повесив ее уныло, и Маша поняла, что оба спутника стыдятся ее. От этой догадки подступили к глазам слезы; Маша едва нашла в себе силы достойно удалиться в спальню, но, поскольку одной плакать было скучно, она, будто невзначай, задела Глашеньку по руке шпилькою, так что у той брызнули обильным потоком и кровь и слезы враз.
Зрелище своего злодейства произвело на Машу отрезвляющее действие, и она заплакала — теперь уже от жалости.
Руку Глашеньке перевязали, Маша даже разделась сама, себя так наказывая. Улеглись спать. Глашенька скоро уснула, еще всхлипывая сквозь сон, а Маша долго лежала, глядя в низкий потолок и вдыхая запах свежей травы, коей для чистоты и аромата был устлан пол. В траву было подмешано полынное семя — для устрашения блох и мух, — и этот горьковатый запах нагонял тоску. Отчего-то не шли из памяти два камня, виденные на подъезде к Франфурту, неподалеку от Вартбургского замка: «Монах» и «Монахиня». Оба эти камня имели в своих очертаниях нечто человеческое, и с ними было связано романтическое предание о том, как молодой монах влюбился в молодую монахиню, и сколько ни сражался он со своей любовью, как ни умерщвлял плоть свою постом и трудами, все было напрасно: одна любовь властвовала над его сердцем и помыслами. Конечно, молодая монахиня разделяла его чувства, и вот однажды чувства эти одолели их разум и веру: молодые люди уговорились о свидании. Монахиня под покровом ночи, страшась всякого шороха, пробралась на скалу, в условленное место, упала в объятия своего возлюбленного, предалась вместе с ним восторгам страсти… как вдруг кровь их охладела, сердца перестали биться, тела онемели — небесный гнев превратил преступных любовников в два камня!
Третьего дня, когда проезжали мимо, Маша велела придержать коней и долго стояла, глядя вверх, на серые окаменелые фигуры. Лицо ее было сурово, а сердце трепетало. Чем-то судьба монахини напомнила ей собственную печальную участь! Она тоже предалась первой, невинной любви, однако была наказана карающей десницею. В образе ангела с огненным мечом, навеки заслонившим ей вход в рай, явился суровый барон. «Неужто и моя участь — вечно жить окаменелой, одинокой, наказанной за единственную ошибку в жизни?!» Сердце ее болело от несправедливости судьбы — так казалось Маше, — но она не знала, что болит оно лишь потому, что было молодо и жаждало любви. Грусть безлюбовная, грусть от несовершенств мира пристала опытным, охладелым сердцам, а юные желают лишь счастья любовного и печали любовной!
Долго не спала Маша в эту ночь, а уснула в слезах.
Сойдя в столовую, она нашла Егорушку о чем-то оживленно беседующим с корчмарем, а дормеза своего сперва и не признала. Все вещи: узлы, сундуки, короба, ранее тщательно увязанные на запятках, были теперь перемещены на крышу кареты, отчего она значительно выросла в высоту. Егорушка пояснил, что сделано сие из соображений безопасности: дабы разбойники на скаку не могли рассечь ремни, придерживающие вещи сзади дормеза, и поживиться тем, что упадет. До верху же кареты им будет непросто дотянуться даже с коня, так что, даст Бог, путники успеют миновать опасное пространство. По совету хозяина, который взирал теперь на Машу с печальным видом оскорбленной невинности, были приняты еще некоторые меры предосторожности, заключавшиеся в следующем: Егорушка с Данилою сели по обе стороны от Маши, к окнам, держа наготове по нескольку золотых монет; кучеру же Васеньке приказано было не останавливаться ни при каких обстоятельствах — разве только ежели собьет его с облучка вражья пуля.
Отъехав несколько миль от корчмы, оказались под сводами тенистого дремучего леса, совершенно и во всем напоминающего приют либо фей, гномов и лесных чудовищ, либо страшных разбойников. Ветви трещали и скрипели, цепляясь за высоко уложенную поклажу, и Маша подумала, как бы сам лес не ограбил ее прежде этих самых разбойников.
Да полно, существуют ли они на деле? Не шутка ли сие хозяина корчмы? Но не успела эта мысль прийти ей в голову, как кучер Васенька прошипел в окошечко, что видит впереди двух всадников.
— Приготовься, Данила! — скомандовал Егорушка и приоткрыл со своей стороны оконце.
— Что ж вы делаете, барин?! — взвыла Глашенька, но получила такой тычок от Маши носком ботинка, что от боли поперхнулась и умолкла, тем паче, что и Данила, ничтоже сумняшеся, приотворил свое окно.
С двух сторон кареты застучали по каменистой тропе копыта, заржали чужие кони, и грубый голос крикнул:
— Halt! Wer sind sie? [83]
Карета продолжала ехать, но Егорушка высунулся в окошко и жалостным голосом завопил, что они — люди недостаточные, слуги, сопровождающие господское добро, а госпожа их отличается крайней жестокостью, так что не сносить им, бедным, головы, коли пропадет хоть малая вещица. В голосе его звучало такое отчаяние, что Машу даже слеза прошибла, ну а то, что тронулись и суровые разбойничьи сердца, понятно было, но за окном буркнули нечто успокаивающее, и Данила с Егорушкою враз высунули руки в окна. Послышался звон монет, а потом два голоса благодарно воскликнули:
— Danke schön, meine Herren! [84] — И раздался удаляющийся топот разбойничьих копыт.
Слава Богу, что грабители незамедлительно отъехали — более сдерживать хохот ни Маша, ни ее спутники были не в силах.
Оживившийся Васенька гнал карету во всю мочь, а Егорушка принимал дань восхищения своим хладнокровием, артистизмом и хитростью. Маша в похвалах весьма усердствовала — прежде всего потому, что истинно восхищена была представлением; вдобавок хотелось загладить воспоминание о ее вчерашнем неприглядном поведении — в намеках на жестокосердную госпожу нечистая совесть помогла разглядеть саму себя, баронессу Корф, которая не стыдится дать волю своему дурному настроению… А еще очень хотелось даже от самой себя скрыть разочарование: Егорушка не бросился на ее защиту с пистолетом и саблею, а откупился от опасности звонкой монетой да хитростью, что более приличествовало не храброму рыцарю и, уж конечно, не влюбленному Вержи, а какому-нибудь купцу, мужику!
Маша прекрасно сознавала всю неприличность и даже глупость таких мыслей, а все ж ничего не могла поделать со своим юным сердцем, жаждущим поклонения и отваги, так что Егорушка, сам того не зная, утратил нынче даже призрачный, даже невероятный шанс добиться от баронессы Корф чего-то большего, чем веселой и снисходительной дружбы.
Глава XI ЖЕЛЕЗНЫЙ ОШЕЙНИК
Уж конечно, приключение сие всех изрядно повеселило! Пруссия и вообще Германия слегка раздражали и Машу, и Егорушку своей размеренной чинностью — ну где еще в мире можно было сыскать столь же чинных и не романтичных разбойников?! Об этом Егорушка тотчас же сообщил французскому таможеннику, едва миновали границу и остановились для проверки документов. Французские лица показались путешественникам приятнее и живее немецких, а всегдашняя готовность к веселью просто-таки умиляла. Скоро все присутствующие на таможне, вернее, на почтовой станции — где посетители часами дожидались лошадей, а потому были счастливы хоть малому поводу развлечься, — хохотали как безумные, когда общительный Егорушка вновь и вновь изображал свое: «Мы люди недостаточные, подневольные!..» Возможно, конечно, их веселили не сами приключения aimables etrangers [85], а то, что etrangers сии оказались столь любезны и милы в обращении с простыми людьми. Впрочем, Маша заметила двоих, которых не больно-то развеселила пантомима молодого графа. Может быть, конечно, несмеяны сии были немцами (в Лотарингии, через которую теперь лежала дорога наших путешественников, соседствуют две нации) и обиделись за соотечественников, а может, им просто было не до смеха, особенно старшему — с черной кудлатой шевелюрой, неопрятно торчащей из-под смятой шляпы, с сине-багровым лицом, то ли сожженным солнцем, то ли вспухшим от беспробудного пьянства. Младший казался поживее: среднего роста, худощавый, румяный. Лицо его пряталось в тени шляпы, но раз или два Маша поймала его быстрый взгляд. Впрочем, скоро путники смогли продолжать свое странствие, и гостеприимная станция осталась позади.
О Франции Маша только читала да от матушки слышала; княгиня же Елизавета сохранила о сей стране не самые приятные воспоминания, ибо изошла ее в свое время пешком, полуголодная, измученная, да и Машу здесь ожидало будущее самое неопределенное, и все же ни тогда, ни после не подходил никакой эпитет к слову Франция, кроме одного: прекрасная! Не больно-то окрестности после Меца изменились, и Мозель мог быть столько же немецкой рекою, сколь и французской, — а все-таки округа неуловимо переиначилась. Все здесь дышало особенным очарованием, даже бледная, однообразная зелень ив и тополей по долинам рек, даже серые, мшистые камни, то и дело выходящие на дорогу, — обломки старых скал. Однако, в точности как в Пруссии, там и сям, на высоких горах, громоздились разрушенные замки, и чудилось, будто они пристально следят за каждым движением на дороге: так разбитые параличом старики пристально ловят взглядом каждое движение молодых.
Весна медленно переливалась в лето, все цвело кругом, все радовало взор и сердце, и Маша едва не прослезилась, увидав хорошенькую девушку, которая сидела при дороге на камне и чесала гребнем длинную, шелковистую шерсть белой козочке. Это была ожившая сказка о прекрасной Франции, и Маша долго еще высовывалась из окна, пытаясь поймать взором прелестное видение.
Однако следует сказать, что не обходилось и без прозы жизни. Миновал день езды, когда в petite ville [86] дорогу, идущую глубокой лощиной, неожиданно перегородил деревянный желоб, посредством которого у Марны подавалась вода наливной мельнице, стоявшей по ту сторону дороги. Высота подпор этого сооружения предусматривала разве что высоту воза с сеном, но для не в меру нагруженной кареты, увенчанной пирамидою из разных сундуков и коробов, желоб стал неодолимым препятствием.
Кучер Васенька едва успел натянуть поводья, прежде чем водоточивое общественное сооружение оказалось покалеченным обильною поклажею, а это, конечно, принесло бы путникам множество ненужных неприятностей. Да и так-то без досадных хлопот не обошлось: весь багаж пришлось снимать с крыши дормеза и заново увязывать на запятках кареты. Дело сие было долгое, а позади дормеза уже выстроилось несколько телег, желавших проехать тою же дорогою. Егорушка хотел было за мелкую монету нанять двух-трех крестьян для подмоги, однако Данила с несвойственной ему решительностью воспротивился:
— Народишко чужой, ушлый: порастащут добро господское — и ахнуть не успеем!
Однако спустя час тяжкого труда Данила сделался уже менее несговорчивым. Маша поражалась, как вообще удалось всю эту гору возвести на крыше дормеза, но там, в немецкой корчме, грузчиков подхлестывала близкая опасность, а здесь такой острастки не было, да и труд отнюдь не облегчился тем, что тяжести следовало не поднимать, а снимать: громоздкие сундуки так и норовили выскользнуть из рук и разбиться вдребезги. Никто из крестьян, обступивших дормез, не изъявлял желания помочь, а на Егорушкины просьбы и щедро предлагаемые монеты люди почему-то отмалчивались и отворачивались. Внезапно какой-то худощавый, стройный молодой человек растолкал толпу, приблизился к карете и без слов принял участие в работе. К нему присоединился еще один — столь сильный, что самые тяжеленные короба снимал и переносил как бы играючи. Обрадованная находкою добрых людей, Маша щедро наградила их, когда дело было все слажено, и тут лица их показались ей знакомыми. Но только встретив быстрый, горячий взор молодого человека, она вспомнила, где видела его: да это же он был на почтовой станции! Вот и спутник его — черноволосый, багроволицый, угрюмый, — он и оказался тем самым силачом. Он принял плату, не произнеся ни единого слова, с тем же тупо-угрюмым выражением лица, а юноша, в ответ на Машины изъявления признательности, сорвал с головы шляпу и не без изящества отвесил поклон:
— Votre oblige, madame! [87]
Карета тронулась, Маша высунулась из окошка.
Толпа крестьян все еще глазела на дормез с тем же замкнутым выражением лиц. Куда подевалась французская веселость, которая привела было путешественников в такой восторг?
Молодой оборванец снова поймал ее взгляд и взмахнул шляпой:
— Adieu! [88]
— Adieu! — невольно улыбнулась Маша в ответ.
* * *
Проехали Шалон-сюр-Марн. Теперь Париж был совсем близко — в каком-то дне езды. Франция вновь сделалась прекрасной и сказочной. Вдоль дороги расстилался живописный лес. Птицы пели в листве на разные голоса, и молодые олени играли на обочинах, поросших изумрудно-зеленой травкою.
Однако на душе у Маши было невесело. Воротились прежние опасения и сомнения. Чего уж таиться от самой себя — она до смерти боялась встречи с Корфом, и безысходность будущего не только печалила, но и раздражала ее. Вдобавок Данила, отдохнувший от тяжких трудов и хлебнувший с устатку водочки (с опрометчивого соизволения барыни, о чем она не замедлила горько пожалеть), вдруг снова обратился мыслями к разбойничьей теме, да хорошо, если бы только мыслями! Забыв обычную свою сдержанность, он принялся безудержно вспоминать былые времена, когда и сам входил в разбойничью шайку знаменитого атамана Гришки Вольного. Данила так разошелся, что уже через малое время граф Комаровский осторожно придвинул к себе шкатулку с пистолетами, а Глашенька примерялась, как бы половчее отворить дверцу да успеть выскочить из кареты, хоть бы и на полном скаку, когда придет пора спасать жизнь от сего великого разбойника, который, судя по рассказу, души людские губил бессчетно!
Маша тоже сидела как на иголках. Половина Данилиных баек была пустобрехством, да ее уязвляла не эта опасная похвальба. Сам того не ведая, добродушный Данила таково больно зацепил память своей барышни, что она едва сдерживала слезы. И без того решимость ее встретиться с мужем таяла с каждым лье, а тут еще так внезапно напомнить, отчего произошли все их беды!.. Какое сердце не изойдет досадою и слезами? Вдобавок ко всему Маша вспомнила, что Корф, замкнувшись в своем оскорбленном самолюбии, даже не спросил молодую жену, как и почему приключилась ее роковая беременность, даже не предположил, что она могла пасть жертвою насилия! Ведь она во всей этой истории пострадала ничуть не меньше его — это духовно, а телесных мучений сколько еще приняла?! Чванливому барону и не снилась та боль!.. Так впервые открывала Маша для себя истину о неисцелимом эгоизме мужчин и полном равнодушии их к женщине, пусть они даже всю жизнь тратят на то, чтобы добиться благорасположения прекрасных дам.
Все это не улучшило расположения ее духа, и она не смогла отказать себе в удовольствии грубо прикрикнуть на разошедшегося Данилу и турнуть его прочь из повозки — проветриться на козлах, рядом с Васенькой. Данила осоловело воззрился на нее, ничего не понимая, и в этот миг рядом с правой дверцею дормеза раздался выстрел, а за ним и второй — возле левой дверцы.
— Halte! Стой, стой! — закричали два мужских голоса.
— Разбойники! — прошептал враз протрезвевший Данила.
— Ну вот, накликал! — всплеснула руками Маша, а Егорушка высунулся в окошко, через которое переговаривались с кучером, и приказал:
— Гони во всю мочь! Не останавливайся!
Карета и так не останавливалась, однако лошади, взявшие было отчаянной рысью после выстрела, почему-то замедляли и замедляли бег. Васенька их не погонял: криков его и щелканья кнута не было слышно. Вот карета резко остановилась, и послышался глухой удар, словно наземь упало что-то тяжелое.
— Кучера-то убили… — с изумлением проговорил Данила, но испугаться при сем страшном известии никто не успел: обе дверцы кареты враз распахнулись, и путники увидели двух вооруженных людей, чьи лица были наполовину завязаны черными платками.
Данила и Егор Петрович даже не смогли пикнуть, не то что схватиться за оружие, как были вышвырнуты на дорогу. Следом, в ворохе взметнувшихся юбок, вывалилась Глашенька. Один из нападавших — огромный, кряжистый — вскочил в карету рядом с Машей, а другой, верно, сел за кучера, ибо раздалось пронзительное улюлюканье, защелкал кнут — и лошади понесли.
Маша кинулась было к дверце, но была схвачена за руку с такой силой, что громко закричала от боли. Но тут же другая рука разбойника, сжатая в огромный кулак, оказалась у самого ее лица и грубый, невыразительный голос произнес:
— Silence! [89]
При этом он, верно забывшись, продолжал выкручивать ей руку, и Маша вновь вскрикнула. Кулак разбойника без замаха ткнулся ей в висок. Удар был легкий и почти безболезненный, однако Маша тут же лишилась сознания, рухнула на подушки сиденья и уже не слышала, не видела, как карета вырвалась из лесу и, свернув на каменистую, горбатую дорогу, через полчаса тряской езды въехала по опущенному мосту над заболоченным рвом в полуразвалившиеся ворота одного из тех старинных, заброшенных замков, которые повсюду возвышались на скалах вдоль дороги, точно обглоданные временем скелеты.
* * *
Маша очнулась от холода. Еще не вполне придя в себя, повернулась на бок, сжалась в комок, пытаясь согреться, но спину тут же обдало сквозняком, а когда она бессознательно зашарила вокруг, чтобы найти и натянуть одеяло, ее ладони нащупали только серые камни. Тут уж окончательно пришла в себя и резко села, ошарашенно вглядываясь в непроницаемую тьму, царившую вокруг.
После первого всполоха ужаса — где я? что со мной?! — Маша вспомнила вчерашнее нападение на карету (впрочем, почему вчерашнее? может быть, за стенами этой темницы все тот же день, это лишь здесь ночь непроглядная!) и зловоние, исходившее от разбойника, выламывавшего ей руку. Рука все еще ныла — значит, и впрямь прошло не так много времени с тех пор, как она заточена здесь, в этой промозглой сырости. Ознобная дрожь прошла по спине, и Маша привскочила, желая пройтись, согреться… Но что-то, какое-то опасение удержало ее от того, чтобы резко выпрямиться, и слава Богу, не то она в кровь разбила бы себе голову о нетесаные, корявые камни потолка, нависшего так низко, что выпрямиться было невозможно: оставалось лишь стоять на колянях либо сгибаться в три погибели.
Маша крикнула — голос ее глухо отозвался от толщи стен, возвращаясь к ней, и все же какой-то дальний отзвук долетел справа. Не разгибаясь, высоко подняв юбки, чтобы не запутаться в них, Маша со всей возможной в этом положении прыткостью кинулась в ту сторону, даже не сообразив, что означает этот отзвук, влекомая неким инстинктом, а не мыслью, и вдруг всем напряженным существом своим ощутила, что своды этого cubliette [90], чудилось, лежавшие на голове и спине ее, немилосердно давившие на них, наконец приподнялись и расступились, а воздух, пусть и на малую толику, сделался свежее. Кажется, никогда в жизни Маша не потягивалась с таким наслаждением, как сейчас! Она осторожно подняла руки — и испытала прилив счастья, обнаружив, что, даже поднявшись на цыпочки, не достает до потолка, а стена, до которой удалось дотянуться, не столь осклизлая, как в том месте, где она очнулась. Верно, ее запихали в тот сырой гроб нарочно, чтобы еще больше напугать, подумала Маша — и вдруг с изумлением поняла, что ей совсем не страшно. Она вообще никогда не боялась темноты, даже когда шла одна по темным коридорам из девичьей, наслушавшись страшных сказок про домовых и леших. Гораздо больше ее напугало бы прикосновение паука или попискивание крысы, шорох ее голого, тонкого, длинного хвоста. Здесь же, слава Богу, никакой насекомой нечисти не было, а значит, и бояться было нечего. Это открытие наполнило Машу ощущением такого восторга, что она едва не расхохоталась, но сдержалась, спохватившись: ее же могут стеречь! И тут же совершила второе, не менее радостное открытие: она обнаружила, что видит свою темницу! Нет, ниоткуда не проникал свет, однако же Маша с каждым мгновением все отчетливее различала очертания довольно просторного помещения, в углу которого стояла каменная скамья — единственный предмет обстановки.
Получается, она обладала редкостной, сказочной способностью видеть в темноте?! Ох, недаром брат Алешка называл ее Кошкин Глазок! Глаза у Маши были вообще-то светло-карие, но изредка, в минуты сильного волнения, правый темнел почти до черноты, а левый, наоборот, высветлялся до поистине кошачьего желто-зеленого цвета, и в детстве Алешка иногда нарочно старался раздразнить сестру, чтобы увидеть это волшебное преображение ее глаз. Однако никогда раньше Маша не замечала за собой каких-то сверхъестественных свойств, и, верно, ее «ночное зрение» проявило себя лишь в минуту крайней опасности. Что ж, очень вовремя!
Маша огляделась. Она уже давно слышала легкое журчание, а теперь увидела, что из стены, вернее, из пасти каменного льва, чья голова украшала стену, сочится тоненький ручеек. Маша бросилась туда и с наслаждением напилась.
Итак, смерть от жажды ей, по крайней мере, не грозила! Это открытие укрепило ее бодрость, однако вода была ледяная, и новый приступ дрожи пронизал Машу до костей. Она принялась быстро ходить вдоль стен, чтобы согреться, а главное — чтобы получше оглядеть место своего заточения, но сколько ни металась туда-сюда, не нашла даже признаков окон, дверей или хоть каких-то отверстий, сквозь которые можно было сюда попасть. Ей пришло на ум, что львиная голова может быть не только источником, но и своеобразным ключом для какого-то потайного отверстия. Маша со всем возможным тщанием обследовала и ощупала голову, но ничто нигде не щелкнуло, не заскрипело, не повернулось, поэтому, поразмыслив, она решила, что либо сокровенная дверь отворяется снаружи, либо вход в темницу там, где Маша очнулась, — в сыром и низком склепе. Вполне возможно также, что из склепа есть еще один ход — там и таится дверь.
Маша покачала головой. По всему выходило, что ей придется снова возвращаться в низенький коридорчик, чтобы обследовать его. Пусть даже дверь будет заперта и Маша не сможет ее отпереть, она непременно хотела знать, где находится путь на волю!
Тут, ни с того, ни с сего, вспомнилась история, которую услышала она в какой-то немецкой корчме от бродячего сказочника. Был он родом лужичанин [91], а потому все его прибаски были по-славянски таинственными и необъяснимо жуткими. От него-то и узнала Маша о духах Вусмужских и Любицких гор, которые раз в год отворяли свои горные чертоги и впускали туда всякого, кто хотел войти, — однако выйти уже было не столь просто! Лужичанин рассказывал о некой бедной женщине, которая помогла предводителю духов отыскать его заветный, волшебный перстень, и за то позвал он ее в пещеру, едва на Любицкой башне пробьет полночь, посулив золота, сколько сможет унести. На беду, женщина пришла с маленьким сыном…
Духи крепко спали, никакой опасности не было. Посадив мальчика на стол, женщина разостлала передник, насыпала в него золота и набила им карманы. Но тащить мальчика и передник с золотом ей было не под силу, потому она понесла золото из пещеры, решив потом воротиться за сыном. Но едва она вышла, как раздался скрежет, грохот, и женщина, обернувшись, увидала скалу, сомкнувшуюся так плотно, что не было видно ни расщелины, ни даже малой трещинки.
От ужаса бедняжка лишилась чувств. Когда же пришла в себя, то начала кричать и плакать и, бросившись на колени, молила Бога возвратить ей сыночка, но Бог был глух к ее мольбам — скала не открывалась.
Уже и деньги не тешили бедную женщину! Бегала она как потерянная и у всех просила совета, но никто не знал, что делать. И только один мудрый старец присоветовал ей прийти ровно через год опять на Любицкую гору и ждать, когда откроется скала.
Легко себе представить, как долог показался этот год бедной матери! Еще целая неделя оставалась до срока, а она уже стояла у скалы, не спуская с нее глаз. И вот в заветную ночь, только что пробило на Любицкой башне двенадцать часов, как скала открылась — и женщина с радостным криком бросилась внутрь.
О счастье! Сыночек ее сидел на скале и играл с золотыми яблоками.
Схватив ребенка, женщина кинулась бежать и бежала, не переводя дух, пока не добралась до родной деревни, и больше никогда ни она сама, ни сын ее даже близко не подходили к Любицким скалам!
Столь некстати вспомнилась эта страшная сказка, что Маша даже приуныла слегка. А вдруг и ее темница отворяется?.. Ну, не раз в год, а лишь чуть-чуть чаще? Что, если Машу бросили сюда без намерения выпустить, желая уморить лютой смертью? Нет, вряд ли. Тогда гораздо проще было бы убить ее в лесу, но уж никак не везти сюда в карете!
Едва к Маше пришла сия успокоительная мысль, как произошло нечто, и вовсе развеявшее ее сомнение: издалека донеслось металлическое лязганье и грохот — похоже было, словно снимали тяжелые засовы и с трудом отворяли отсыревшую дверь!
Первым побуждением Маши было кинуться туда, к выходу, но она окоротила себя и только перебежала поближе к тесному коридорчику. Слышались медленные шаги… глухое ворчание: пришедший, верно, не обнаружил узницы там, где бросил ее бесчувственное тело, и злобно недоумевал.
— Эй! Ты где?! — послышался вопль, более похожий на звериный рев.
Маша невольно задрожала, но ненависть к этому рыкающему чудовищу, которое так люто покусилось на ее свободу, взяла верх над страхом и вернула ей отвагу.
На черных каменных стенах замелькали слабые отсветы — тюремщик, верно, шел с факелом, и Маша торопливо заслонила лицо рукавом, опасаясь, чтобы яркий свет не ослепил ее и не лишил чудесного «ночного зрения».
Было очень трудно сдержать нетерпение, но все-таки Маша, замерев в углу, выждала миг, когда тюремщик выбрался из склепа в зал, с трудом распрямился и сделал несколько шагов, освещая факелом углы и пытаясь отыскать затаившуюся пленницу. Он тяжело, запаленно дышал, а потому не расслышал, как за его спиной легкая тень метнулась в коридорчик и беззвучно, чуть касаясь ногами пола, понеслась по нему. Приходилось все время помнить об угрожающе низком своде, а потому Маша бежала, пригнувшись, не столь быстро, как хотелось, однако скоро коридорчик кончился, и она очутилась в зале, всем похожим на первый — даже скамья стояла в углу, точь-в-точь как там! — однако вместо львиной морды в стене зияло отверстие.
Дверь! Открытая дверь!
Маша устремилась туда, как стрела, пущенная в мишень. И сердце ее едва не разорвалось от неожиданности и горя, когда чьи-то руки вдруг схватили ее так крепко, что шевельнуться было невозможно, и звонкий молодой голос насмешливо произнес:
— Не так быстро, сударыня! Вы отдавили мне ногу!
Итак, тюремщик пришел не один…
* * *
А надо, надо было об этом подумать! Следовало быть осторожнее, но что уж теперь… Она рвалась, кусалась и царапалась, но схвативший ее человек не церемонился: болезненным ударом под ребро заставил согнуться вдвое и закашляться, а когда она наконец смогла разогнуться и перевести дух, уже набежал тюремщик и разразился такой бранью, что Маша поняла: ее французский не очень богат словесно, — но только порадовалась этому.
Тот же, молодой, который поймал Машу, покатывался со смеху, глядя на ее перекошенное от отвращения лицо. Маша метнула на него возмущенный взор и неожиданно — факел в руке тюремщика светил достаточно ярко — узнала его. Это был тот самый парень, который молча слушал рассказ о прусских дисциплинированных разбойниках, а потом помогал освободить от вещей застрявшую карету! И спутника его Маша теперь узнала — это угрюмое, полудикое существо, исполненное животной тупости и звериной злобы.
— Вы следили за мной? Стерегли меня? — выкрикнула она возмущенно.
— Разумеется, — кивнул молодой. — Я узнал бы вашу колымагу среди сотен карет по водруженному на ней множеству всякой поклажи!
Вот как? Узнал бы? Стало быть, эти двое ждали в лесу именно Машину карету? Ну, понятно: когда перегружали вещи в том городишке, нацелились на чужое добро и напали.
Нет. Зачем им тогда хозяйка всех этих сундуков?..
Самой додуматься до ответа Маше не дали. Ответ ей буквально бросили в лицо: черный ткнул в какую-то бумагу и прорычал:
— Пиши!
— Погоди, Жако, — успокоил его напарник. — Надобно объясниться aupres de la dame [92].
Маша взглянула на него повнимательнее. Он был недурен собою, боек, развязен; речь и манеры выдавали человека более или менее воспитанного и образованного в отличие от ужасного Жако — когда тот произносил хоть слово, первым чувством Маши было изумление, что это дикое животное обладает речью. Конечно, ведет в сем дуэте молодой… ну что ж, надобно послушать, что он скажет.
— Сударыня, я весьма сожалею, что приходится беседовать с вами в столь не подходящем для этого месте, но, к несчастью, обстоятельства диктуют нам свою волю, — начал разбойник как по-писаному, и Маша подумала, что перед ней, наверное, какой-то недоучившийся студент или неудачливый стряпчий.
Однако ее весьма заинтересовало словечко «обстоятельства». Интересно, что же это за обстоятельства такие, которые «диктуют свою волю»?.. И она вновь со вниманием принялась слушать.
— Жизнь и свобода ваши всецело в руках ваших, — продолжал разбойник. — Мы подадим вам бумагу и перо, а вы напишете на сей бумаге несколько слов, после чего сделаетесь полностью свободны от всех забот. Поверьте, сердце мое обливается кровью при виде вашей красоты, обрамленной в столь неподобающую рамку. Вашим ножкам ступать бы по сверкающему паркету, вашим кудрям быть украшенным брильянтами…
Он с деланным отчаянием воззрился на растрепанную Машину косу, и Жако вдруг заперхал, заскрипел — очевидно, это должно было означать смех — и выдавил:
— Тебе, Вайян, надо бы зваться Пайярдом [93]!
Маша смотрела на них задумчиво. Словоизлияния Вайяна ее не интересовали, зацепило в его речи другое.
Итак, что-то написав, она будет «полностью свободна от всех забот»? Весьма любопытно, какой смысл вкладывает Вайян в сию фразу?.. Но терпение! Пока важнее другое.
— Что я должна написать? — спросила Маша и порадовалась тому спокойствию, с каким звучал ее голос.
— О, всего несколько слов! — воскликнул Вайян. — Небольшое распоряжение: назовете ваше имя и звание, потом распорядитесь о некоем лице… да что откладывать? — Он сорвал с пояса походную чернильницу, отвинтил крышечку, достал перо, Жако вновь подал бумагу. Эти разбойники сейчас напоминали услужливых секретарей, и Маша поняла, что именно написание этой бумаги было целью ее похищения.
Так они не простые грабители! Их кто-то подослал! И на почтовой они ее уже выслеживали, уже готовились к нападению!
От этой догадки Машу пробрал озноб, но голос звучал по-прежнему твердо:
— Распоряжение о некоем лице? Я не понимаю!
— Да что тут понимать, сударыня? — удивился Вайян. — Вы богаты, а случись что, богатство ваше окажется бесхозным. После же написания бумаги сей, что бы с вами ни приключилось, все ваше состояние окажется в надежных руках… увы, не в моих, — покачал он головою, правильно истолковав издевку, вспыхнувшую в Машиных глазах. — Нет, распоряжение ваше…
— То есть завещание? — уточнила Маша.
Вайян сконфуженно пожал плечами:
— Ежели вы предпочитаете все называть своими именами, то скажем так. Стало быть, оно будет в пользу другого лица. Но point l'humeuc là-dessus [94]! Это вполне достойная особа!
Маша отвернулась. Ей не хотелось, чтобы эти негодяи видели страх на ее лице, а именно страх сейчас охватил все ее существо. Ужас!
Мысли мелькали, мелькали, с поразительной быстротой выстраивая вопросы, на которые не находилось ответов.
— А если я откажусь? — осторожно спросила она.
— Ну, есть множество способов принудить вас, — ответил Вайян.
— Например? — Например, кулаки Жако… мне жаль, поверьте, угрожать даме, но… — Вайян развел руками. — Нам предписано также морить вас голодом до тех пор, пока вы не напишете требуемую бумагу. Кроме того, в этом подземелье есть некий ошейник на цепи… да вот, взгляните, если желаете!
Он подал знак Жако, и тот, подхватив не успевшую даже пикнуть Машу, втащил ее в залу, откуда она только что выбежала, швырнул на каменную скамью, а из-под скамьи вытащил широкое железное кольцо, соединенное с цепью, уходящей куда-то в стену. Затем проворно защелкнул ошейник на Машиной шее.
От ледяного прикосновения железа Маша едва не лишилась чувств и какое-то мгновение лежала недвижимо, окаменев от ужаса, но тотчас привскочила, закричала, забилась как безумная, однако ручищи Жако плотно прижали ее к скамье, а из пасти, воняющей луком, изверглось:
— Тихо лежи!
— Да, мадам, — кивнул Вайян, стоящий рядом и не без отвращения взирающий на эту сцену. — Вам придется лежать тихо, если не хотите умереть мгновенно. В этом-то и смысл сей пытки: при резком движении ошейник сжимается все туже, а если вы рванетесь и поднимете голову вот так, — он отмерил над скамьей высоту не более чем в локоть, — то рискуете сломать себе шею. Вы будете вынуждены лежать неподвижно… а это мучительно, смею вас заверить!
Маша чуть повертела головой. Да и впрямь: тиски сильнее сдавили горло, однако, как ни странно, это не усилило ее ужас, а, наоборот, приободрило. Во всяком случае, теперь она была вольна хотя бы в собственной смерти, а в иных ситуациях смерть — спасение!
— Выходит, я погибну, если сейчас рванусь посильнее?
— Да! — кивнул Вайян.
— И ваша миссия окажется невыполненной?
Он вопросительно вскинул брови.
— Ну как же?! — нетерпеливо пояснила Маша. — Завещание-то останется неподписанным!..
Вайян и Жако непонимающе переглянулись.
— Да, — кивнул Вайян нерешительно.
— Это произойдет и в том случае, если я предпочту умереть от голода, но не сдаться. И ведь Жако может забить меня насмерть еще прежде, чем я распоряжусь в пользу некоего лица — не правда ли?
Вайян прикусил губу.
— Что вы этим хотите сказать? — произнес он чуть ли не угрожающе.
— Только одно: я не намерена ничего подписывать! — как могла громко выкрикнула Маша, с каким-то болезненным наслаждением почувствовав ледяную хватку ошейника.
Вайян пристально смотрел на нее, и в глазах его Маша различала искры душевного огня. У этого человека был, по всему видно, быстрый ум, который правильно оценил Машины слова. Этой vis-a-vis нечего было терять — ни ему, ни ей, — а потому оба они были дерзки друг с другом и каким-то сверхъестественным чутьем могли сейчас угадывать мысли друг друга, так что Вайян понимал: его пленница не блефует! Угрозами он сам дал ей в руки оружие свободы — пусть свободы в смерти! — и она не преминет им воспользоваться, тем паче, что мгновенно сообразила: какой смысл в завещании, когда завещатель остается жив? Выходило, что смерть ожидала ее в любом случае, — так тем более стоило бороться!
Ее упорство привело Вайяна в восхищение. Такая молодая, такая красивая, такая отважная… Но он не дал жалости завладеть сердцем, а только сделал какой-то неуловимый жест — и в тот же миг Жако придавил Машу к скамье, а сам Вайян мгновенно расстегнул на ней губительный — и спасительный! — ошейник.
Маша не смогла удержать слез досады — так и хлынули слезы из глаз, однако вмиг высохли после торопливых, негромких слов Вайяна, в которых звучала искренняя тревога:
— Умоляю вас не плакать, сударыня. Жако ненавидит женские слезы, он звереет на глазах. Жестокость у него в крови… его брат был казнен как отцеубийца, так что сами понимаете…
Самое поразительное состояло в том, что он произнес это не по-французски, а на скверном, но вполне понятном английском! Значит, он не хотел, чтобы Жако понял. Значит, в их разбойничьем единстве существует малая трещинка, которую есть надежда расширить!..
Надежда эта, впрочем, тут же и поугасла, ибо чудовище в одежде из грубой синей холстины, именуемое Жако, медленно повернуло голову и угрюмо произнесло:
— Ежели ты, паршивец, еще начнешь болтать непотребства, или я чего не разберу, то пришибу одним ударом и эту шлюху тоже не помилую.
— Да ладно тебе, дружище! — примирительно засмеялся Вайян, и румянец на его щеках заметно полинял. — Я ей сказал только, чтоб она тебя не злила, мол, у тебя удар крепкий!
— Это точно, — буркнул Жако, рывком поднимая Машу со скамьи и держа на весу, точно тряпичную куклу. — Ну, чего теперь с ней делать?
Вайян поднял руку, давая знать, что думает, и надежда Машина вовсе погасла. Теперь он и впрямь думал лишь о том, что делать дальше с ней — как добиться своего.
— Пошли, холодно здесь, — сказал наконец. — Да и поесть надо. А потом разожжем камин, погреемся, подумаем, что делать…
Жако хмыкнул и поставил Машу на пол:
— Пошли, коли так! — И выдернул из кольца на стене свой факел.
Второй факел взял за дверью Вайян, так что коридор осветился довольно ярко. Но для Маши в том было мало пользы: все двери, мимо которых они проходили, были забиты либо крепко заложены засовами, более напоминавшими тяжеленные брусы дерева, которые ей бы никогда в жизни не поднять. Сначала она пыталась запоминать повороты, считать ступеньки, но лестниц, переходов и коридоров было столько, что все перепуталось у нее в голове.
Они шли и шли, то поднимаясь, то спускаясь… один раз пришлось перебираться через гору камней — стена обваливалась. Шли долго, чудилось, бесконечно долго, и у Маши оказалось время подумать. А подумать было над чем!
Что скрывать — первое подозрение ее пало на мужа. Ведь кто-то послал за нею этих молодцов, кто-то нанял их, кто-то посулил им хорошую награду… Почему не барон, который ненавидит свою лживую супругу, но не может развязаться с нею законным путем, не повредив своей репутации? Он получил письмо от Маши, разъярился — и начал действовать… Но очень скоро Маша осознала глупость этой мысли. Вот ежели бы ее пристрелили или зарезали на дороге, в лесу, возле разграбленной кареты, — тут можно было бы разглядеть злой умысел Корфа, хотя почему-то, даже ненавидя его, Маша почувствовала: этот человек не способен ни на какую подлость и низость. А главное — зачем Корфу ее завещание?! Как ни мало знала Маша о законах, обычная житейская мудрость подсказывала: муж унаследует все ее состояние и без всякого завещания. Да, ему бы отошло в случае Машиной смерти Любавино и все наследственные строиловские угодья — что в России, что в Малороссии. Ну нет никаких причин у Корфа под пыткою выбивать у нее сию бумажку!
То же самое и тетушка Евлалия Никандровна. Она ведь тоже Строилова урожденная, ей бы тоже перепало кое-что в случае Машиной кончины.
Стало быть, надо искать кого-то другого — мужчину, женщину ли, — который тянется жадной и нечистой рукой к Машиному богатству. Причем искать именно во Франции, ибо глупо же предполагать, будто из самой России за ней следили, чтобы расправиться по пути в Париж!..
Напряженные думы помогли скоротать путь, и вот наконец они вошли в небольшую комнату, освещенную только двумя-тремя толстыми свечами в грязных, затекших подсвечниках. Да, если даже этот замок, судя по громадности его, и принадлежал некогда богатому сеньору, то теперь он выглядел заброшенным, от прошлого остались только пыль, и мусор, и серые занавеси паутины по углам, и шум крыльев летучих мышей в коридорах. Правда, мелкие цветные стекла оконных витражей, по счастью, сохранились и кое-как сдерживали напор ветра, бушевавшего на дворе, да в камине была хорошая тяга: огонь полыхал исправно, распространяя вокруг живительное тепло.
Вайян приотворил одно из окон, но тут же захлопнул:
— Самая дурная погода, хуже не придумаешь!
А Маша успела заметить, что на дворе глухая ночь и дождь льет как из ведра.
Сколько же времени прошло после ее похищения? Как далеко завезли ее? Дождь, проклятый, смывает все следы… Как отыщут ее? Она ничуть не сомневалась, что Данила, да и, конечно, Егорушка пустятся в погоню, в розыск: граф если даже не ради Маши, то ради своих драгоценных шкатулок — подарков французским министрам. Ну не забавно ли, что уже второй раз Егорушка их утрачивает?! Да ничего, нашел однажды — найдет и вдругорядь, если Бог даст. А… если не даст? Если разбойники уже расхитили все, что было в карете, и даже до тайника под сиденьем добрались? Да и вообще — ну, так ли, иначе, предположим, отыщут Егорушка с Данилою целый либо разграбленный дормез, но Маши-то в нем уже нет! А где она есть, где ее искать, об сем не только рыцарю Егору Петровичу, не только доброму Даниле, но и самой Машеньке неведомо!
— Allons sonper, j'ai faim! — раздался над самым ухом веселый голос, заставивший ее вздрогнуть. Задумавшись, Маша даже не сразу поняла французскую речь и ей потребовалось время, чтобы понять: Вайян зовет ее ужинать, ибо у него разыгрался аппетит.
Ну что ж, поесть и впрямь настала пора, и неведомо, когда снова выпадет случай, поэтому Маша, не чинясь, села за стол рядом со своими похитителями и отдала должное хлебу, сыру и жареному мясу — все было несколько подсохшее, зачерствелое, но показалось несказанно вкусным, из чего Маша заключила, что ела не меньше двух суток назад; а коли обедали они примерно за час-два до похищения, то и выходило, что в плену она сутки. Тем более следовало крепко поужинать! И Маша опять налегла на еду, запивая ее, однако, не вином, а водою. Первое дело, она боялась охмелеть от вина, потерять остроту мысли и быстроту движений, потому что все еще надеялась на удачу и бегство, а во-вторых, сотрапезники ее пили из одного кувшина, и Маша не смогла пересилить свою брезгливость и поднести к губам тот же сосуд, коего касалась пасть Жако.
Она и не заметила, как закончился ужин. Да, теперь бы еще поспать… Стражей Машиных тоже разморило: Жако с надрывом и оханьем раздирал челюсти зевотою; Вайян осоловело вздыхал, глядя в огонь остекленевшим взором, вдруг, встряхнувшись, он вскочил:
— Ну что ж! Ночь — так ночь, спать надо. Оставим вас здесь, в тепле, сударыня, а сами уж как-нибудь, — он указал Маше на камин, и та, изумленная, не нашлась даже поблагодарить.
Повинуясь его взгляду, Жако пошел подложить дров, а потом оба направились к двери. Уже взявшись за ручку, Вайян обернулся.
— Мы вас, конечно, запрем, а понадобится что — кричите, стучите. Только окон не отворяйте — попусту холоду напустите!
И, разразившись дружным хохотом, Машины похитители ушли, после чего послышался такой устрашающий грохот засова, опускаемого в петли, что ясно стало: выйти через эту дверь невозможно.
Нечего и говорить, что Маша тотчас кинулась к окну! Распахнула створку, высунулась, с наслаждением подставив лицо хлещущим струям дождя, но тут же оживление ее погасло: перед собою она увидела только черное, сплошь затянутое тучами небо: замок возвышался на скале, над обрывом. Далеко-далеко внизу шумно бежала по камням река, но всюду, сколько могла видеть Маша, была только черная бездна. Невозможно, немыслимо спуститься по голой каменной стене, особенно в такой дождь! И она печально затворила окно, вздрагивая от ледяной сырости. Вот над чем ржали Вайян и Жако — мол, попусту холоду напустите! Тоже мне, beaux esprits [95]!
Маша сердито скорчила рожу двери, а потом села на дырявый, грязный ковер, поближе к огню.
Какое счастье это тепло! От платья, отсыревшего в подземелье и успевшего немного промокнуть у окна, курился парок. Огонь бился, мелькал — ровно-желтый, как расплавленное золото; пламень причудливо обтекал черные корявые поленья, пряно пахло смолкой.
Маша сонно смотрела на огонь, завороженная теплом, мельканьем света…
Ах, как хочется спать!.. Надо, надо поспать, набраться сил, коли делать больше нечего. Нет, она еще не обследовала комнату… А вдруг сыскалась бы малая щелочка сбежать или хоть какое-то оружие? Но подняться не было сил. «Я посплю только одну минуточку! — извинилась она перед собою мысленно, улыбаясь от счастья, что сейчас уснет. — А потом все посмотрю. А еще здесь такие тяжелые стулья, что можно притаиться у двери и, когда кто-то придет, ударить по голове, а потом…»
Маша уснула.
Глава XII CHARME MAUDIT [96]
Она пробудилась от того, что болело горло: першило, жгло. Откашлялась раз, другой — и уже не могла остановиться, так и зашлась сухим, мелким кхеканьем.
Сон еще не совсем ее оставил, однако же Маша поняла, что терзает ее какой-то острый запах — и почти тотчас почувствовала онемение в ногах и сильнейшее сердцебиение.
«Я угорела!» — мелькнула мысль. С трудом подняв голову, Маша глянула в камин, однако зловещих синих огоньков, рождающих смертельный угар, не увидела: пламень был по-прежнему ровный, разве что удивительно желтый, прозрачный, будто кипящий мед.
Вдруг голова так закружилась, что Маша вцепилась в ковер, пытаясь удержаться: почудилось, что она летит, летит куда-то с невероятной скоростью!
В голове помутилось, пот обильно оросил чело. И этот запах — он становился все резче, он перехватывал горло и заставлял сердце трепыхаться в приступах боли. Все дело, конечно, было в запахе! Маша вдруг осознала, что задыхается, что еще вдох — и она погрузится в сон, из которого уже не будет возврата к яви.
«Окно… открыть окно!»
Уже почти сверхъестественным усилием она приподнялась — и вдруг почувствовала такую легкость во всем теле, что могла бы, кажется, воспарить над полом. Кашель враз унялся, но сердце колотилось бешено и кружилась голова. Пытаясь сообразить, в какой стороне в этой беспрерывно крутящейся комнате находится окно, Маша огляделась. Взгляд ее снова упал на камин… и она замерла, не в силах оторвать глаз от огня.
Пламень, минуту назад сияющий, светлый, вдруг почернел и съежился. Обугленные поленья торчали из этой черноты, словно коряжины из болота. На них даже проглядывала белая плесень болотных мхов. И зеленая ряска кое-где затягивала черные провалы чарусы… Долгоногий водомер невесомо скользил по опасной глади; да юркая змейка вилась вокруг едва заметной черной кочки, пытаясь вползти на нее, но то и дело оскальзываясь в воду. Однако тотчас Маша заметила, что кочка растет, приподнимается! Змейка легко вползла на нее и свилась в клубок, холодно проблеснув своим тугим, гладким, черно-зеленым телом.
Лунная, леденящая душу ночь властвовала над болотом, однако в сиянии бледного светила Маша отчетливо видела каждое шевеленье воды, каждую травинку и моховинку, а потому она смогла различить, как со всех концов болота змеи и лягушки ринулись к поднимающейся из воды кочке.
Кочка поднималась медленно, так медленно, что многочисленным гадам на ней уже не было места: они кусали друг друга, сражаясь за место, падали в воду, однако ни их шипенья, ни плеска воды, ни чавканья болотных пузырей Маша не слышала. Она могла только видеть, как точка, похожая на облепленную травой голову, вздымается из воды… и вдруг, взметнув веер бесшумных черных брызг, из болота вырвалась рука и как бы с досадою сорвала с лица копошащихся змей, и открылись глаза, горящие зеленым, дьявольским огнем.
— Гри-го!.. — Маша захлебнулась криком и беспомощно схватилась за горло.
Повитая змеями голова Григория уже вынырнула из воды; вот показались шея и плечи, на которые вползали новые и новые змеи, сталкивая лягушек, которые тяжело, но беззвучно шлепались в воду. Серое облачко болотной мошкары вилось над головою Григория, словно адское сияние. Он вставал из болота во весь рост. Наконец медленно, бесшумно, не касаясь ногами воды, двинулся к Маше.
— Господи! Господи! Господи!
Она трижды перекрестилась, но напрасно: видение даже не поколебалось. Григорий приближался, и змеи сыпались с него, расползались по углам комнаты, заползали под ковры и стулья… Болото выливалось из камина и затопляло все вокруг!
Маша кинулась к двери и заколотила в нее с такой силой, что тяжелая, дубовая, окованная железом створка заходила ходуном.
— Откройте! Выпустите! — Крик ее сорвался на хрип, и она снова затрясла дверь, боясь оглянуться, ибо Григорий вот-вот должен был настигнуть ее.
За дверью раздался грубый голос, но Маша не могла понять, что он говорит. Прошло несколько мгновений, прежде чем до нее дошло, что говорят по-французски:
— Напишешь, что надо?
Маша оглянулась. Григорий был уже совсем близко. Зеленый огонь, лившийся из его глаз, чудилось, леденил ей плечи. Он сгреб с головы свившихся в комок змей и швырнул в Машу, да не попал.
Маша завизжала каким-то невозможным, пронзительным визгом — и дверь наконец распахнулась. Огромная фигура Жако выросла на пороге, и Маша вцепилась в него, как в самого родного человека. Да, это чудовище было человеком из плоти и крови, а не ожившим мертвецом, и сейчас Маша готова была на все, чтобы остаться с ним, а не возвращаться в комнату, превратившуюся в гибельное болото.
— Бежим! — крикнула она, однако Жако держал ее, не давая проскользнуть в коридор.
— Напишешь? — прорычал он. — Не то брошу обратно и дверь запру!
— Да, да! — не помня себя, выкрикнула Маша, отчаянно пытаясь своротить Жако с дороги, но сдвинуть эту глыбу ей было не под силу.
— Клянись своим Богом, что напишешь! Клянись! — встряхнул ее Жако, и Маша сообразив, наконец, что от нее требуется, поспешно закивала.
Да, она напишет все, что от нее требуют, только бы не возвращаться к болоту, где будет вечно подстерегать ее Григорий… а он не отстает!
Маша оглянулась, увидела, что он приближается… руки его были совсем рядом! — и с пронзительным воплем так тряхнула Жако, что тот покачнулся и невольно шагнул в комнату, немного освободив дверь. Маша проскользнула в открывшуюся щель и ринулась было по коридору, но ее остановил рев, в котором были страх и боль смертельно раненного зверя… Это был вихрь, ураган звука, который повалил Машу на пол. Она в ужасе обернулась, уверенная, что Григорий схватил Жако и тот бьется в страхе, зовет на помощь, однако в отверстом проеме увидела, что разбойник стоит на коленях, простирая руки… Болото куда-то исчезло из комнаты, словно бы вмиг высохло со всеми своими змеями и призраками, и лунная ночь сменилась пасмурным деньком… Маша различила толпу народа, собравшуюся возле эшафота.
На помосте поник полубесчувственный человек, поддерживаемый помощниками палача. Он был босиком, полуодет, лицо завешено черным покрывалом. Из правого плеча хлестала кровь, — отрубленная рука валялась на помосте; а палач вновь заносил свой топор, чтобы теперь срубить преступнику голову…
— Брат! — взвыл Жако. — Прости меня, брат! Это я, это ведь я!..
— Ну да, я так и думал, — раздался вдруг спокойный голос, и Маша даже подскочила от неожиданности.
Рядом с ней стоял Вайян, с любопытством заглядывая в комнату. В это время голова казненного слетела с плеч, и Жако распростерся на полу.
— Я так и полагал, что тут дело нечисто! — с видом врача, изрекающего смертельный диагноз, произнес Вайян. — Наш Жако, разумеется, сам прикончил своего батюшку ради нескольких золотых, а всю вину каким-то образом хладнокровно свалил на брата. После пыток его казнили как отцеубийцу, а на долю Жако остались только пытки совести… тоже весьма мучительные, как видно! — Он презрительно кивнул на бесчувственное тело своего сообщника и повернулся к Маше: — А что же привиделось вам, belle dame [97], когда вы так отчаянно звали на помощь?
Маша непонимающе воззрилась на него:
— При-ви-де-лось?..
Он с лукавой улыбкою кивнул:
— Да, да, вот именно!
Маша закрыла лицо руками.
— Привиделось… Так это было видение… Не въявь?!
Она жалобно воззрилась на Вайяна, и тот успокаивающе взял ее за руку:
— Ma foi! [98] Не хотел бы я оказаться на вашем месте! Вообще-то я не ожидал, что сие испытание окажется столь действенным. Ведь вы уже готовы были согласиться на все наши условия, и, не войди дурак Жако в эту отравленную комнату, вы уже сейчас писали бы свое завещание!
— Отравленную комнату? — машинально повторила Маша. — Так значит…
— Mais oui, oui! [99] — закивал Вайян. — Все дело в maudit charme, которые навел на вас дым. Человек видит самое страшное, что испытал в жизни. Этот дьявольский порошок дала нам наша… дал нам наш наниматель, не сомневаясь, что с его помощью мы добьемся от вас чего угодно, и, ma foi, так оно и вышло бы, когда б Жако не сплоховал.
— Maudit charme… проклятые чары… — пробормотала Маша, как бы не в силах понять, что произошло.
Не в силах понять?! А что тут понимать?! Жако подправил огонь в камине и всыпал туда порошок, рождающий страшные видения! Она едва не угодила в ловушку, расставленную, надо признать, весьма хитро. Да и кто не угодил бы на ее месте?! Даже если Жако… Озноб опять пробежал по спине Маши при воспоминании о призраках, однако она только передернула досадливо плечами: воспоминаниям и переживаниям она предастся потом, когда на это будет время. Сейчас же ее куда больше интересовала обмолвка Вайяна: «Наша… наш наниматель…» Он, конечно, говорил о человеке, который приказал им похитить Машу и добиться, чтобы она написала это проклятое завещание… и сначала он сказал «la nôtre» — наша, а не «le nôtre» — наш. La nôtre! Значит, это женщина?.. Догадка мало чем помогла. Ни одной женщины, которая была бы готова на убийство ради того, чтобы завладеть Любавином, Маша не только не знала, но и представить себе не могла.
Хорошо, об этом она тоже подумает потом, на досуге… Сейчас же надо ловить удачу: самый страшный из ее стражей лежит в бесчувствии, остался только один… как бы справиться с ним?
Что делать? Оттолкнуть Вайяна и броситься бежать? В два счета догонит — да и куда бежать-то? Надо что-то похитрее придумать, как-то воспользоваться отсутствием Жако! Она в отчаянии обхватила руками плечи, не зная, что делать.
— Вы совсем замерзли! — заботливо воскликнул Вайян. — Пойдемте со мной — тут есть одна комната, там тепло, горит огонь…
— Огонь?! — вскинулась в ужасе Маша, но Вайян успокаивающе улыбнулся:
— Обыкновенный огонь в обыкновенном камине. Вам ничего не угрожает, поверьте.
Он взял Машу за руку — пальцы у него были теплые, крепкие, и она даже с радостью ухватилась за них. Пройдя несколько шагов по коридору, они долго спускались и опять шли коридорами, пока Вайян не толкнул какую-то дверь и с поклоном не пропустил Машу в небольшую комнату, поменьше той, где она натерпелась столько страхов, но гораздо чище и уютнее, даже с кроватью в алькове. В камине пылал огонь, на который Маша сперва взглянула с опаскою, а потом с радостью протянула к нему руки: от страха она снова озябла.
Вайян хлопотал вокруг нее: набросил на плечи свою куртку с таким почтительным выражением лица, что Маша не нашлась отказаться; поставил прямо на полено, которое лизал огонь, ковшик, куда налил вина из кувшина. Несколько капель упало в огонь, и в воздухе распространился дивный аромат печеных яблок.
Маша улыбнулась, полузакрыв глаза: печеные яблоки из любавинского сада! Любимое лакомство ее и Алешки! Но сейчас было не до блаженных грез.
— Жако тоже придет сюда? — настороженно спросила Маша, думая: неспроста Вайян так вокруг увивается — не иначе, готовит пленницу к новому испытанию.
Однако Вайян рассеянно оглянулся:
— Не волнуйтесь. Жако без памяти не меньше часу проваляется, да еще, будем надеяться, головой стукнулся весьма крепко. Пусть отдохнет. И мы, — он повернулся к Маше, и в свете пламени сверкнула его лукавая улыбка, — и мы отдохнем от него!
Он задержал на ней свой взгляд, будто вложил в свои слова какой-то особый смысл, но Маша, отчего-то смутившись, отвела глаза.
Вино мгновенно согрелось, забулькало. Прихватив ковшик не очень-то свежим шейным своим платком, Вайян снял его с огня, разлил вино в две глиняные кружки, стоявшие на каминной полке, и одну подал Маше:
— Прошу вас. Это яблочный сидр и с хорошим сладким вином. Согреетесь, успокоитесь…
Маша осторожно взяла горячую кружку. От одного запаха сразу сладко закружилась голова.
— Да, да, — усмехнулась она, с наслаждением вдыхая пар, — я выпью, и вы опять на меня напустите какие-нибудь maudit charme!
Впрочем, она сама не верила своим словам. Что-то подсказывало: сейчас она в полной безопасности — пока не очнулся Жако. Да и Вайян пил то же самое вино.
— Maudit charme… — задумчиво повторил Вайян, проводя по губам кончиком языка. — О нет, сударыня… не проклятые чары хотел бы я сейчас напустить на вас, а charme d'amour — чары любви!
Маша, поперхнувшись, воззрилась на Вайяна с таким изумлением, что тот невольно рассмеялся.
— Mon Dieu, chérie [100], да неужели вы не видите, что я не в себе с того мгновения, как встретил вас? Неужто вы не замечали взглядов, которые я бросал на вас — и там, на почтовой, и когда ваша карета застряла под желобом… Да и здесь, в замке?!
— О нет, — ответила Маша с усмешкой, — я, конечно, заметила ваши взгляды — и взгляды Жако!
Что он, за дурочку ее в самом деле принимает?! Решил посредством нежностей уломать? Думает, она растает и выполнит желание неведомого нанимателя? Коли так, то сам Вайян не кто иной, как пошлый дурак!
Она нахмурилась. Отхлебнула из кружки изрядный глоток.
Ох, какая сладость, какое чудо! Какая дивная, истомная слабость растеклась по телу! Никогда в жизни Маша не пила ничего подобного, даже не подозревала, что вино может быть таким восхитительным!
Вайян смотрел на нее пристально, по своему обыкновению чуть улыбаясь, но темные глаза его были серьезны.
— Вы плохо подумали обо мне сейчас — и зря, — проговорил он, и голос его вдруг так странно дрогнул, что у Маши неровно забилось сердце. Что-то было в этой дрожи голоса… что-то болезненно-волнующее…
А Вайян продолжал:
— Вы решили, что я думаю сейчас только о вашем богатстве, о том, что я получу солидную мзду, если сделаю свое дело? А я-то думал совсем о другом!.. Знаете, я бедный человек и зарабатываю на жизнь, как могу. Однажды, путешествуя, а попросту — бродяжничая, в Дижоне я подрядился к одной даме кучером — ее собственный свалился в лихорадке. Дама была вдова немалых лет, но в самом, как говорится, соку и весьма охоча до мужских ласк! Уже на другой день после того, как наняла меня, она велела остановить лошадей прямо посреди улицы, мне приказала зайти в карету, опустить шторы на окнах и немедленно расстегнуть штаны.
Маша заморгала от растерянности. Ничего себе! Что он говорит?! Впрочем, сейчас она не могла бы сказать, возмущена ли бесстыдными словами Вайяна — или бесстыдством этой дамы.
— Вот-вот! — усмехнулся Вайян, увидев, как заалело ее лицо. — И я был ошеломлен точно так же. Заметив мою растерянность, дама откинулась на сиденье, задрала юбки — и я узрел, что в ее мохнатой корзиночке лежит золотая монета. Очевидно, плата за мое будущее усердие. Немалая плата… Для такого нищего, как я, — целое состояние! Однако ж вообразите, сударыня: я был не в силах руку поднять, чтобы взять деньги, — и поднять кое-что еще… Понятное дело, на этом моя кучерская карьера тотчас и завершилась. Я не мог заставить себя любить эту бесстыжую бабу, хотя она сулила мне немалое богатство и в ту минуту, и потом. Однако сейчас, когда я смотрю на вас, мне приходится изо всех сил заставлять себя сдерживаться, чтобы не схватить вас в объятия!
От смущения и растерянности Маша сделала еще один большой глоток, и кружка задрожала в ее руках.
Вайян вмиг оказался рядом, убрал кружку, придержал Машу за плечи.
— Голова кружится? Да вы совсем не умеете пить! Вам нельзя позволять себе пить в компании с мужчиной, распаленным страстью!
Он снова улыбнулся, и у Маши отлегло от сердца: наверное, все опасные и волнующие речи его были только шуткой.
— А что произойдет? — спросила она заплетающимся языком, с трудом удерживая отяжелевшую голову — невыносимо тянуло прилечь.
— Что произойдет? — задумчиво переспросил Вайян. — Мужчина может дать волю своей страсти! — И негромко хохотнул.
О, так он и впрямь шутил! Просто забавлялся, живописуя пылкость своих чувств! Удивительно, однако при этой догадке Маша почувствовала не облегчение, а разочарование: он смеялся над нею! Она ему совсем не нужна!
В голове у нее все перепуталось, глаза закрывались.
— Э, да вы совсем засыпаете, — пробормотал Вайян. — А ну, идите-ка сюда!
Он помог Маше подняться и сделать несколько шагов к кровати, покрытой красным бархатным одеялом.
— Ложитесь, поспите. Не бойтесь — никакие призраки не потревожат вашего сна… кроме меня.
— А разве вы призрак? — сонно проговорила Маша, пытаясь понять, шутит он сейчас или говорит серьезно; но ей никак не удавалось сосредоточить свой взгляд на лице Вайяна.
— Да вроде бы нет, — ответил тот, с преувеличенной серьезностью ощупывая свои руки и плечи. — Во всяком случае, пока. А вам как кажется? — Он взял Машину ладонь и положил себе на грудь, под расстегнутую рубашку, и она замерла, завороженная живым теплом его гладкой кожи.
— Как сердце бьется… будто птица рвется из клетки! — пробормотала она.
— Все мое существо, все тело мое рвется к вам! — хрипло прошептал Вайян, касаясь губами Машиных губ так осторожно, словно хотел всего лишь ощутить ее дыхание.
Его губы пахли вином и яблоками, они были сладкими, и Маша невольно лизнула их, как ребенок, который хочет попробовать лакомство, да робеет. Вайян тихонько застонал, и Маша встревоженно отстранилась, сообразив, что делает что-то не то.
— Я вам… вы… — проговорила она прерывающимся голосом, но тотчас умолкла, потому что он отстранился, запрокинув голову, и она увидела напрягшуюся, смуглую, по-юношески тонкую шею. По горлу его прокатился комок, жилка забилась у изгиба плеча, и Маше вдруг до смерти захотелось коснуться ее. Это тоже, наверное, было нехорошо, но она не смогла отказать себе в таком невинном удовольствии и коснулась шеи Вайяна, только не руками — ведь она должна была крепко за него держаться, чтобы не упасть, — а губами. Коснулась слегка, еще раз… и вдруг безотчетно, беспамятно впилась в его горло жадным поцелуем.
Вайян вскрикнул не то мучительно, не то восторженно и так толкнул Машу, что она с размаху упала на кровать. Он навалился сверху, покрывая ее лицо поцелуями, смеясь, бранясь, шепча ласковые невнятные слова, и она с охотой, самозабвенно отвечала ему — и словами, и губами, и руками, которые срывали с Вайяна одежду с тем же неистовством, с каким он раздевал ее; и вскоре она ощутила его обнаженное тело. Дрожь охватила ее, но тут Вайян прильнул к ней так плотно, так близко, что ближе и нельзя было. Он чуть приподнялся — и Маша, чтобы не отрываться от него, от его горячего тела, приподнялась вместе с ним… опустилась… и тела их забились единым ритмом. Что-то было невыразимо трогательное и враз смешное для нее в этом их слитном самозабвенном движении, — точно в игре двух веселых зверушек; и улыбка не сходила с Машиных уст — лишь изредка прерывалась хрипловатым горловым смешком, и Вайян отвечал на ее смех поцелуями, и глаза его излучали счастье… пока взор его вдруг не затуманился…
Маша закрыла глаза, погружаясь в те ощущения, которые медленно и плавно захватывали все ее существо. Что-то подобное первому глотку вина… Ох, какая сладость, какое чудо! Какая дивная, истомная слабость растеклась по телу! Никогда в жизни Маша не испытывала ничего подобного, даже не подозревала, что мужская любовь может быть такой восхитительной!
Она задрожала, слившись с Вайяном в последнем, исполненном восторга и благодарности поцелуе, — и, не отрываясь от его губ и тела, тотчас погрузилась в крепкий, подобный обмороку сон.
* * *
И снова она проснулась от холода, но не вскочила, не заметалась, а какое-то время лежала недвижимо, пытаясь сообразить, где она и что с ней. Что-то тяжелое лежало на груди. Маша скосила глаза и увидела смуглую обнаженную руку, сонно, расслабенно накрывшую чашу ее левой груди.
Да, Вайян! Маша улыбнулась и мысленно погрозила себе, но тут же едва подавила смех: никаких угрызений совести, вообще ничего, кроме блаженства, она не испытывала — так зачем нарочно стращать себя?
Она осторожно сняла с себя руку Вайяна и, приподнявшись на локте, в свете еще не погасшего камина долго, с пугливым любопытством девственницы, впервые узревшей нагого мужчину, разглядывала его худощавое, стройное тело, недоумевая, как оно, такое сонное, такое расслабленное и обыкновенное, могло нынче ночью быть таким твердым, непобедимо-сильным и доставить Маше столько удовольствия.
Из обрывков разговора в девичьей (отсюда шло почти все Машино эротическое образование) она знала, что мужская любовь иной раз имеет над женщиной огромную власть, и та, которая нашла своего мужчину — а женщине вершин блаженства, как известно, достигнуть несравненно труднее, чем мужчине, — держится за него в буквальном смысле руками и ногами, всецело попадая под его власть.
Она задумчиво покачала головой. Конечно, все было восхитительно и сладостно, но ведь их с Вайяном, кроме совместного телесного восторга, ничего не связывает! Сейчас, трезвым взором, она видела его насквозь. Горячий паренек — да и подружка ему попалась не холодная! Трагический опыт с Григорием и печальный — с Корфом, к счастью ли, к сожалению, ненадолго остудили ее жар, так что случилось то, что и должно было случиться между двумя пылкими молодыми людьми. Да и доброе вино повлияло на их темперамент, а теперь пришло время похмелья. У Вайяна Маша не первая (почему-то она не сомневалась, что он-таки взял тот заветный золотой из «корзиночки» богатой вдовы и честно его отработал!) и не последняя; да и он у нее — Маша с холодноватым цинизмом глянула в будущее, — пожалуй, тоже… Вайян странным образом освободил ее, словно бы ослабил узы, наложенные в ее душе на распутство, дал понять: если мужчина приносит женщине горе, то его можно использовать и для удовольствия, ну а любовь… ну что любовь?.. Маша отмахнулась и от ее светлого призрака, а заодно — и от забавных мыслей своих.
Не до того сейчас! Надо решать, как быть дальше. Разумеется, нет ни малой надежды, что Вайян, пробудившись, исполнится рыцарских чувств и, взяв Машу за руку, выведет ее из замка, отпустит на свободу. Ох, едва-а ли! Надо спасаться самой — и может ли выпасть случай лучше, чем сейчас, когда истомленный страстью Вайян еще спит, и оглушенный, одурманенный Жако валяется где-то в глубинах замка?!
Впрочем, почему в глубинах? Скорее, в высотах — та роковая комната была в башне над обрывом, над бездною; потом они с Вайяном долго спускались, прежде чем попали сюда…
Маша соскользнула с постели и на цыпочках подбежала к окну, завешенному тяжелой шторой. Чуть сдвинула ее — и обмерла перед зрелищем мира, состоящего из ночи, звезд и звуков: где-то в горах перекатывала камни река, шумел ветер в вершинах деревьев, сонно трещала одинокая цикада… Дождь прошел: было тепло-тепло! Но самое главное, самое главное: внизу, совсем близко под окном — если прыгнуть, даже не ушибешься! — Маша увидела еще влажную, непросохшую брусчатку двора.
Можно бежать!
Она вскочила было на подоконник, да с досадою вспомнила, что совсем голая, и еле удержалась от смеха: хороша б она была, окажись в таком виде внизу, под окошком! Пожалуй, пришлось бы кричать, будить Вайяна и просить сбросить ей какую-нибудь одежонку или же бежать как есть, прикрывшись лишь распущенной косою, подобно какой-нибудь Ундине [101]! Маша даже зажала себе рот рукою, чтобы не расхохотаться. Этот беспричинный смехунчик очень приободрил ее. Во всем теле и в душе она ощущала какую-то особенную легкость и бодрость; сейчас ничто ей не было страшно, она была почти счастлива — и не только от того, что появилась возможность вырваться на волю, но и от того, что еще предстоит за эту волю побороться!
Бросив последний, снисходительный взгляд на спящего Вайяна, Маша подобрала с полу свои разбросанные одежки, кое-как оделась… а потом, повинуясь неодолимому желанию созорничать, свернула в тючок одежду Вайяна и, зажав ее под мышкой, бесшумно выскочила из окна.
Брусчатка двора оказалась изрядно ниже, чем сверху виделось Маше, однако она все же приземлилась удачно — на корточки. Только больно ушибла босые пятки — башмаки искать под кроватью, куда их закинул Вайян, недосуг было. Ничего, разбойники могут взять их себе в качестве платы за приют! Маша увидела поодаль каменную кладку колодезя, подбежала туда — и разжала руки над темной бездной, с удовольствием услышав слабый плеск, когда тючок с одеждою Вайяна упал в воду. Тут же она выругала себя за то, что не оставила куртку — прикрыться, если похолодает, — но уже было поздно.
— Ничего, — пробормотала Маша, — пусть помокнет, постирается. Чище будет!
Отбежав в тень изгороди, чтоб ее нельзя было увидеть из окна в сиянии луны, она огляделась, пытаясь определить, куда теперь держать путь. Она уже давно слышала краем уха какие-то вздохи и позвякивания, напоминавшие звуки, которые обычно доносятся из конюшни, и, дождавшись, пока глаза вполне освоились с темнотой, прокралась в ту сторону, но через несколько шагов замерла, недоверчиво уставясь перед собой.
Там была не конюшня. Там стоял ее дормез, все так же запряженный четверкою любавинских лошадей!
Это было похоже на чудо!.. Маша замерла, глазам не веря, быстро, но с опаскою крестясь: а вдруг сие — лишь наваждение нечистой силы, которое вот-вот рассеется?!
Но ничего не рассеивалось, и громоздкие очертания дормеза не растворялись во тьме. Маша подошла, осторожно коснулась его бока — и с трудом сдержала счастливый всхлип. Ее карета! Ее! Как бы часть дома! Вещей, привязанных к задку, конечно, и след простыл, да и Господь с ними со всеми. Нырнула в карету, дрожащими руками нашарила задвижку тайника, открыла — и снова перекрестилась, узрев нетронутым заветный груз Егорушки.
Вот это повезло так повезло! Выскочив наружу, Маша ринулась на радостях обнимать, целовать лошадей — они были тоже как родные — и с негодованием заметила, что лошади стоят неразнузданные, некормленые, непоеные. Эти скоты, ее похитители, даже не позаботились о них, мерзавцы! Она с ожесточением плюнула в сторону освещенного окошка, за которым все еще спал Вайян, да тихо присвистнула сквозь зубы: звезды на небе начали меркнуть… близился рассвет! И хотя по-хорошему коней следовало первым делом напоить, Маша могла только шепотом попросить у них прощения: сейчас прежде всего надобно было спасаться!
Она бесшумно обежала двор, выведывая, где ворота, и, к своему счастью, скоро нашла выезд на мост. Да уж, удача — птица такая: коли далась в руки, улететь не спешит! Сначала Маша повела коней под уздцы, понукая их шепотом, но копыта так застучали, колеса так загрохотали по мостовой, что стало ясно: бесшумно отсюда не выбраться — выбраться бы вообще! Помолившись всем богам странствий и путешествий, чтоб задержали при ней удачу, Маша взобралась на козлы, подобрала поводья, прищелкнула кнутом — кучерская забава была ей не в новинку — и закричала от счастья, когда упряжка с места взяла рысью. Карета пролетела меж полуразрушенных башен ворот, потом по мосту — он дрожал на ржавых цепях, будто вот-вот грозил рухнуть, — а потом по каменистой, тряской дороге резко свернула на запад. Замок остался позади, и Маша даже не удосужилась оглянуться, чтобы послать ему прощальный взгляд.
* * *
Часа через полтора беспрерывной гонки, когда уже почти совсем рассвело, измученные жаждою и голодом лошади начали сбиваться с шагу. Конечно, за ней могла быть погоня, но Маша не видела во дворе замка других лошадей, а потому уверила себя, что у Вайяна и Жако их нет вовсе. Когда от дороги пролегла удобная тропка к реке, она остановила упряжку и из кожаного ведра, которое лежало под кучерским сиденьем, напоила всех лошадей по очереди, не распрягая их, а сама тем временем думала, что же делать дальше. Однако ничего путного в голову не шло. Маша не выспалась, ее познабливало, хотелось укутаться потеплее и вздремнуть хоть полчасика. Отчаянно зевая, подняла сонные глаза на небо — да так и замерла.
Малиновое, яркое солнце поднималось из тумана, заливая горы и лес живительным теплом. Сверху медленно наползло облачко и накрыло верхнюю половинку солнца своим неровным краем, так что над туманной серой полосою, над горами, над Машей, замершей, восторженно глядевшей на небо, над розовой быстрой рекою, над всем миром замер как бы малиновый полумесяц, напоминающий широкую улыбку — улыбку утра, да такую веселую, что нельзя было не улыбнуться в ответ!
Маша, забыв обо всем на свете, смотрела на это чудо рассвета. Но вдруг слуха ее достиг некий звук, заставивший содрогнуться. То был конский топот.
Топот копыт!.. И враз вспомнила: Вайян и Жако были верхи, когда нагнали в лесу карету, — как можно об этом забыть?.. И сейчас они, конечно, очнулись, обнаружили бегство своей пленницы — и бросились за ней в погоню.
Маша взлетела на козлы, хрипло, испуганно крикнула, вскинула кнут, но упряжка пошла неохотной, вялой рысью, и она поняла, какая это была глупость: напоив изнуренных лошадей вволю, ждать от них прыти! Маша удивилась, как быстро отвратила от нее свои глаза изменница-удача, но еще больше удивилась, когда увидела четырех всадников, выехавших из-за поворота и перегородивших ей дорогу.
Так значит, у Вайяна и Жако были не только лошади, но и сообщники?! Вот те на! Где ж они прятались, интересно знать? И каким таким путем обскакали Машу на этой скалистой, неудобной дороге?! Ладно, что ей до их хитростей! Сейчас только одно нужно и важно — прорваться! Или она сломает себе шею на незнакомой дороге, или эта четверка уступит, уступит ей! Она села поудобнее, откинулась назад, покрепче уперлась спиной в стенку кареты, зажмурилась — и представила себя Елизаветою, которая мчится верхом на золотисто-рыжем Алкане по калмыцкой степи, спасаясь от камышового тигра, подгоняя и ободряя коня особенным криком-посвистом, которому она шутки ради потом попыталась научить и сына, и дочь.
И получилось, получилось!.. Крик бился, клокотал в Машином горле, кони мчались как угорелые, грохоча копытами по камням, ветер хлестал в лицо, выбивая слезы даже из зажмуренных глаз, а когда Маша все-таки решилась разомкнуть ресницы, она взвизгнула от счастья: дорога впереди была пуста!
Однако тотчас оказалось, что радоваться еще рано: всадники хоть и вынуждены были пропустить бешено мчавшийся дормез, но начали преследование.
Стоило оглянуться влево, вправо ли — как Маша видела их пригнувшимися к лошадиным шеям. Дормез мотало туда-сюда, и это какое-то время не давало возможности обогнать его, однако через несколько мгновений Маша заметила, что один из всадников вырвался вперед, что-то крича во весь голос, но ветер уносил его крик, и Маша разобрала только одно слово:
— Стойте! Стойте же!..
Да, конечно! Куда там! Ждите!
Она хлестнула лошадей, но пожалела вложить в свой удар всю нужную силу, и те ощутили только слабый щелчок. Вдобавок что-то обеспокоило ее в этом крике… что-то непонятное, неосознанное, но очень озадачившее. А между тем всадник поравнялся с Машей и перегнулся со своего седла, силясь ухватиться за упряжь взмыленной, загнанной четверки.
Маша обрушила удары кнута — на сей раз без малейшей жалости! — на спину всадника, обтянутую синей бархатной курткой, однако помешать не смогла: он ловко перескочил на спину одной из лошадей, повернулся, поймал конец кнута и вырвал его из Машиных рук, а потом с поразительным проворством перескочил на кучерское сиденье и выхватил поводья из Машиных рук, натянув их с такой силою, что лошади стали как вкопанные, выбив копытами искры из камней. И хотя Маше сейчас больше всего хотелось накинуться на разбойника с кулаками, она ринулась соскочить с козел и бежать прочь, да беда, не успела: преследователь ухватил ее за юбку и мощным рывком вернул на место, яростно крикнув:
— Да погодите же!
Но Маша его не слышала: тут уж она дала волю своей ярости, страху, отчаянию! И масла в огонь ее злости подливало то, что разбойник не отвечал на ее удары, а только загораживал лицо руками да коротко, как бы захлебываясь, выкрикивал:
— Стойте!.. Погодите! Стойте!
Господи, да он же хохочет, задыхается от смеха! Проклятый Вайян, вечно он смеется!
Маша от ярости почти ослепла и молотила кулаками куда ни попадя, уже даже не нанося врагу никакого чувствительного урона, и он смог наброситься на нее — стиснул так, что она не то что пошевелиться, вздохнуть почти не могла — и на сей раз не крикнул, а прошептал в самое ухо:
— Ну, тихо, тихо, моя дорогая!
И она замерла в его объятиях, ибо только сейчас до нее вдруг дошло: да он же говорит по-русски!.. И кричал ей… кричал по-русски!
Маша как бы окаменела, потрясенная, а супротивник, не разжимая тисков своих рук, вдруг ткнулся лбом в ее плечо и зашелся в приступе хохота — громкого, от души! Нет, это не был тихий, ехидный смешок Вайяна — Маша узнала бы его вмиг… И тут она испытала еще одно потрясение: сотоварищи нападавшего нагнали карету, окружили ее, подъехав совсем близко. Маша, стиснутая крепкими руками хохочущего человека, увидела через его плечо их встревоженные, озабоченные лица, — одно было ей незнакомо, а два других… о Господи! Нет, быть того не может!.. Да ведь это же Егорушка и Данила!
Несколько мгновений она смотрела на них неподвижным, остановившимся взором, а потом вдруг обморочный туман поплыл перед ее глазами, и она начала никнуть, опускаться… Но тот, чьи руки все еще держали Машу, легонько встряхнул ее, и голос — этот берущий за сердце голос! — произнес:
— Ну же, придите в себя, сударыня, не то мне опять придется что-нибудь поджечь!
И Маша, чуть откинувшись назад, сквозь слезы счастья увидела лицо своего мужа.
Он здесь! Так это он преследовал ее — вернее, спасал! Он искал ее — и нашел. Он здесь!
Безумная радость охватила ее. Эти незабываемые черты, эти синие глаза… смех и нежность струились из них… Он склонился к Маше, его губы были так близко, так близко! До смерти захотелось прижаться к этим губам, прижаться к нему, но вдруг, словно удар кнута, ожгло воспоминание о губах Вайяна, о теле Вайяна, вдавившем ее тело в красный бархат разоренной постели… И Маша враз ощутила себя грязной с ног до головы — грязной и оскверненной.
Что же она натворила! Что натворила!
Она с ужасом отшатнулась от Корфа и едва не разрыдалась, увидев, как мгновенно погасли его глаза, окаменело лицо, а объятия разжались так внезапно, что Маша чуть не упала.
— Итак, сударыня, — произнес он безразлично, сухо, таким чужим голосом, что Маша невольно схватилась за сердце, — чему я обязан новым удовольствиям видеть вас? Кстати, не забудьте поблагодарить графа Комаровского — когда б не его самоотверженные хлопоты, нам ни за что не найти бы вас, мадам, так вы увлечены были своим приключением!
Маша невольно стянула на полуобнаженной груди края рваного платья — Вайян давеча не церемонился с ее туалетом; перехватив надменный взгляд барона, она поняла, что он каким-то образом обо всем догадался, словно разглядел на ее коже следы рук Вайяна; и улыбка, исполненная теперь даже не презрения, а гадливости, искривила его уста, от которых Маша с трудом оторвала взор.
Она подняла измученные глаза и увидела растерянные лица Данилы и Егорушки, которые терялись в догадках, как понимать поведение так внезапно встретившихся мужа и жены.
— Данила… — слабо улыбнулась Маша. — Слава Богу… и вы, граф… а добро ваше, подарки французам не тронуты!
И вдруг такая злоба на все, что произошло, на судьбу, снова подставившую ножку, на барона, опять даже не пожелавшего узнать, что с ней было в плену — просто с маху, с плеча осудившего, отвергнувшего! — на всех этих мужчин, глазеющих на нее, не сумевших уберечь ее, пришедших поздно, поздно, а теперь не сказавших ни слова привета, более того — смеющих глядеть с презрением, такая злоба вдруг обуяла Машу, что она вскрикнула гневно:
— Берегите свои шляпы, господа! Ветер может унести их!
Данила и молодой граф, спохватившись, сорвали шляпы, кланяясь Маше, но она это едва ли заметила: мстительно усмехнулась, увидев, как залилось краскою лицо Корфа, когда он медленно, как бы нехотя, потянул с головы шляпу, украшенную белыми перьями. И, отвернувшись, не дождавшись его принужденного полупоклона, уставилась на дорогу, унимая расходившееся сердце.
Ничего не изменилось, ничего! Они ненавидели друг друга по-прежнему, что в России, что во Франции, ненавидели… ну и пусть!
Глава XIII ЛЮТЕЦИЯ И ЕЕ ОБИТАТЕЛИ
— Вот вам и Лютеция Паризиориум, — вежливо и сухо, словно представлял случайную знакомую, произнес Корф, и перед Машей открылась обширная равнина, а на ней, вдоль извилистой реки, исчерченной тенями мостов, — невообразимые громады зданий в тени деревьев.
У Маши дух захватило — Париж ведь, Париж простирался пред нею! — но ни в коем случае не хотелось предстать пред Корфом этакой обалдевшей от счастья простушкою, а потому она небрежно проговорила:
— Если не ошибаюсь, это название означает «селение на воде»?
Маша была прекрасно осведомлена о том, что в III–II веках до Рождества Христова небольшой остров Лютеция на реке Секвариуме стал главным поселением галльского племени паризиев. Кроме того, Маша читала в «Записках о Галльской войне» у Юлия Цезаря, что римские войска покорили Галлию и построили на левом берегу Секвариума, или Секваны, новый город по римскому образцу. Теперь Секвариум звался Сеной, Лютеция — Парижем, а потомки паризиев были, очевидно, теми самыми людьми, мимо которых громыхал дормез. Маша также знала, что в течение нескольких лет город был резиденцией императора Юлиана, центром всей Римской империи. Она тоже могла бы кое о чем рассказать барону: например, о том, как свирепая армия гуннов во главе с Атиллой не дошла до Парижа, что и было предсказано христианской монахиней Женевьевой — она после этого стала святой покровительницей Парижа. О, Маша много читала и много могла бы поведать Корфу, приятно удивив его своими знаниями, — но было ясно, что он не желает быть приятно удивленным своей женою, — и она молчала, глядя по сторонам.
Многолюдье, пестрота, шум! Прекрасные дома не меньше чем в шесть этажей, разноцветные витрины богатых лавок. Карета мчится за каретою, беспрестанно кричат возницы: «Gare! Gare!»[102] Вокруг волнуется море людское; и все спешат куда-то — звенят голоса, будто в огромном, шумном птичнике! Маше казалось, что она, как маленькая песчинка, попала в ужасную пучину и несется, несется куда-то, кружась в водном вихре… Она уже ничего не различала вокруг, насмерть перепуганная одной мыслью: да так же здесь жить-то?! У нее и впрямь закружилась голова, и тут же карета остановилась у трехэтажного серого дома с башенками — стены и решетка сада были увиты белыми вьющимися розами.
— Прошу вас, — послышался спокойный голос Корфа, и Маша с невольным испугом взглянула на него. — Это улица Старых Августинцев. Здесь вы будете жить.
— А вы? — жалобно, как заблудившаяся девочка, вскрикнула Маша, до дрожи боясь остаться одна в этом кипении людских судеб и лиц.
Корф задумчиво смотрел на нее. Глаза у него сейчас были светло-серыми, непроницаемыми.
«Никогда я еще не видела такого красивого, величавого лица, никогда еще сердце мое не следовало так охотно за взором», — с тоской подумала Маша.
Нет, думать об этом было слишком печально, однако ответ Корфа:
— Я тоже живу здесь, — вселил некоторую бодрость, и Маша без дрожи смогла принять его руку и выйти из кареты.
Она успела только окинуть дом беглым взглядом, отметив его красоту и соразмерность пропорций, как вдруг сердце ее замерло: из приотворенной двери показалась женская фигура.
Мелькнувшая было надежда на то, что тетушка Евлалия Никандровна явилась встретить любимую племянницу, тотчас же рассеялась: слишком высока, стройна, молода и красива была эта дама в платье цвета beige [103] с кружевной отделкою тоном светлее — враз скромной и богатой, с продернутой сквозь узор золотой нитью. В этом платье, в каждой его складке была та самая неуловимая и необъяснимая французская элегантность, перенять которую безуспешно пытаются все женщины мира, в то время как всякая француженка с рождения одарена ею от Бога.
Дама в очаровательном платье с высоты крыльца не мигая смотрела на Машу своими агатовыми глазами. Все черты лица ее были правильны, даже красивы, но не милы: это была красота без обаяния и нежности — слишком много было суровости во взоре и улыбке, слишком много твердости в голосе, проговорившем:
— Добрый день, сударыня. Счастлива видеть вас в добром здравии!
Столь независимо держалась эта особа, что Маша даже решила, что это хозяйка дома, который барон лишь снимает… да, прошло какое-то время, прежде чем она поняла, что перед нею стоит Николь!
Вот это превращение… Да, немалый путь проделала вчерашняя субретка с той достопамятной санкт-петербургской ночи! Держится она совершенно как хозяйка… точнее, как экономка, осчастливленная особенным расположением хозяина. И это платье с его тщательно продуманной простотой… ужасный все-таки цвет beige, такой безжизненный! Кто это решил, что кареглазым непременно должны идти все оттенки коричневого? Beige еще больше огрубляет черты, если они и без того грубоваты… как у Николь!
Между тем пауза затягивалась. Маша вдруг осознала, что вид у нее не только растрепанный, а, наверное, слишком уж растерянный. Она ведь совсем забыла об обещании барона держать при себе Николь! Ну, со стороны Корфа это было слишком — вот так, лицом к лицу, вдруг свести их, выставить свою жену в таком неприглядном свете перед любовницей! Ну хорошо, он не может простить Маше обмана и расчетливости, однако она пыталась спасти свою честь, а Николь… Николь-то поступила как обыкновенная проститутка! Ее же в постель к барону силой никто не тащил, она продалась за немалую плату — такую, что, не сложись ее судьба столь выгодно, прожила бы и на собственные средства, коими обзавелась благодаря Машиной трагедии!
Маша с гневом обернулась к барону, уверенная, что увидит на его лице издевательскую ухмылку, довольство унижением жены, — и была немало поражена, встретив его равнодушный взгляд. Или его и впрямь мало интересовали обе эти женщины, с которыми он так или иначе оказался связан, или… или он ждет, как дальше развернутся события. Может быть, он предполагает, что они сейчас вцепятся друг дружке в волосы, начнут драку за счастье обладания этим сокровищем, имя коему — барон Корф?!
Машу затрясло от возмущения. Если она сейчас же не поставит Николь на место, то уже не сделает этого никогда!
— Николь? — звонко, равнодушно произнесла она, приподняв брови. — Не ожидала увидеть тебя вновь… ты, кажется, собиралась открыть шляпную мастерскую на те деньги, которые тебе заплатила в Санкт-Петербуре моя матушка?
А ведь верно!.. Очень кстати придумалась эта шляпная мастерская: субреточка-француженка не распространялась о своих планах, — но что еще могло прийти в ее убогую, жадную головку, кроме тряпок и шляпок?
Лицо Николь вспыхнуло, да и у Корфа вид стал менее замороженный. Можно пари держать, что он и слыхом не слыхал о деньгах, полученных Николь. Неужто он так наивен, что считал ее добровольной жертвою во всей этой истории?! Если так, ему полезно немного изменить свое мнение! Похоже, Машин супруг не так уж и умен, как ей казалось: учат его женщины, учат, а он снова и снова делает ошибки, доверяет им! Во всяком случае, можно не сомневаться, что этим двоим, барону и его метрессе, найдется о чем поговорить сегодня вечером… tét-á-téte [104]! Ну а сейчас главное — не останавливаться.
— Ты чего-то ждешь, Николь? — тем же подчеркнуто нелюбезным тоном продолжала Маша, нарочно говоря по-русски. — Хочешь помочь мне переодеться? Очень жаль тебя огорчать, однако я бы желала и впредь пользоваться услугами только моей горничной… надеюсь, она уже здесь? — Маша обернулась к барону и чуть не подавилась от смеха, когда тот чуть заметно, неохотно кивнул: чудилось, кто-то силой пригнул ему голову! — Очень рада, ибо я к ней привыкла и отдавать себя в чужие, неумелые руки мне было бы просто противно. Небось, моя милая, ожидаючи меня, ты отвыкла от простой работы? — Маша устремила взор на белые, ухоженные ручки Николь, которые нервно стиснули платок. — Прежде тетенька тобою нахвалиться не могла: ты и мывала ее, и врачевала, и платья гладила, и белье латала при надобности… горшки носила с охотою…
Николь побелела, и Маша мысленно поздравила себя с новой победою. Она знала, что люди холопского звания полагают участь свою унижением и позором; позором же вдвойне будет публичное перечисление их черных обязанностей.
— И затруднять себя моей прическою у тебя не будет надобности — я привезла с собою отменного куафера, который при случае сгодится и вам, сударь, — кивнула она Корфу, указывая на Данилу, который стал поодаль, с откровенным изумлением взирая на свою разошедшуюся барышню. — Человек вольный, однако же место свое знает. Слова лишнего не скажет, воспитанья отменного!
Камушки в огород Николь летели шрапнелью, и, похоже, настал предел ее терпению: она шагнула вперед, явно намереваясь устроить свару и не сомневаясь, что будет поддержана бароном. Даже намека на такую возможность нельзя было допустить, а потому Маша нанесла решающий удар:
— Изволь отправиться за тетушкой моей — мне ее видеть надобно немедля… и вот еще что, друг мой, — она обернулась к мужу: — У нас в России супругу барона величают как ваше сиятельство… vofre excellence, — повторила она по-французски как бы в скобках, — надеюсь, здесь таковые же правила?
— О да, сударыня, — кивнул Корф, — а также говорят просто la baronne — баронесса, это тоже вполне допустимо.
Лицо его было по-прежнему непроницаемо, но в глазах что-то билось живое… то ли ярость, то ли смех?..
Маша начала подниматься по ступенькам. Николь стояла наверху, загораживая дверь, баронесса смела ее с места одной фразою:
— Потрудись довести мой титул до сведения прочей прислуги, Николь.
Корф опередил супругу, распахнул перед нею дверь… но она не была бы женщиной, если бы не выпустила в остолбенелую Николь еще одну — парфянскую [105]! — стрелу:
— И вот еще что… Горничным следует носить передники, ежели этого до сих пор не заведено. Такое платье, как у тебя, жаль будет испортить, милочка, хотя это и не твой цвет!
Странные звуки послышались рядом. Маша величаво повернула голову — Корф тщетно пытался откашляться, наверное, от дорожной пыли. Все-таки проехали в этот день немало!
* * *
Забавно, что, начавшись с платья Николь, тема одежды сделалась основной в первых днях и даже месяцах Машиной парижской жизни. Представлялось, что здешние дамы живут лишь для того, чтобы обогатить свой гардероб. Даже тетушка Евлалия Никандровна — все такая же сморщенная, набеленная, нарумяненная, напомаженная и надушенная; все с таким же безумным декольте и прической дюймов в сорок вышиной, — словом, ничуть не изменившаяся, разве что сменившая несусветные фижмы на столь же несусветный кринолин со смело изогнутым турнюром, — даже она изрекла, едва завидев Машу, не слова привета, не восторг по поводу ее спасения из лап похитителей, а суровый, не подлежащий обжалованию приговор:
— Да в таком туалете тебя из дому выпускать нельзя — люди со смеху помрут!
Маша обиженно поджала губы. Что ж, ее ли вина, что нет у нее модных платьев? Почти все вещи ее оказались разграблены, ничего найти не удалось, как ни искали посланные Корфом в замок люди. Следов-то разбойников там сыскать не могли, не то что каких-то тряпок! Не сказать, чтобы Маша мечтала еще раз повстречаться с Вайяном, однако до слез хотелось вернуть памятные мелочи, заботливо собранные ей матерью в дорогу. По счастью, сбереглась в тайнике, вместе с багажом Комаровского, шкатулка с фамильными строиловскими драгоценностями, а остального багажа осталось раз, два и обчелся. Больше всего жалко было сундука с новыми туалетами, справленными накануне путешествия. В том же сундуке лежали купленные близ Кенигсберга янтари — и они оказались украдены! Маша с печалью вспоминала набор бокалов — она хотела преподнести их мужу… да о чем, собственно, печалиться? Разве нужны ему ее подарки, коли она сама ему не нужна?..
Маша неловко себя ощущала оттого, что Корф первым делом вынужден был потратиться на ее туалеты: как ни относился он к своей жене, а все ж понимал, что даме ее чина нельзя быть кое-как одетою. Так что на некоторое время Пале-Рояль сделался для Маши основным местом ее времяпрепровождения. Здесь, под портиками трех дворцов, из которых больший, последний, был обращен в сад, было собрано все, что могло произвести ремесло из бронзы, материй, кашемиров, кожи, серебра, драгоценных камней. Средняя галерея этого дворца, соединявшая боковые флигеля, представляла собой покрытую стеклянной крышей великолепную залу, где постоянно толпился народ и где роскошь боковых кафе, магазинов и простенков между ними, занятых зеркалами, составляла чудную пестроту, когда каменья, бархат, золото сверкали и сияли тысячью лучей. Нигде не видела Маша подобного искусства размещать вещи так, чтобы каждая оттеняла и выказывала другую, а все в целом составляло бы полный, живописный узор.
В Пале-Рояль съезжалась за делом и без дела вся лучшая парижская публика и фланировала меж лавок, являя собою беспрерывную демонстрацию тех товаров, которые здесь в изобилии предлагались. Все новое, что появлялось в витринах, через самое малое время можно было увидеть на франтах и франтихах. Тетушка уверяла, что множество старинных habitués [106] на протяжении всей жизни находили здесь удовлетворение всем своим прихотям. Гулянье, покупки, шум, разговоры продолжались до одиннадцати вечера; после последнего удара часов свист солдат швейцарской гвардии возвещал торговцам гасить свечи, а публике — разъезжаться… чтобы завтра, с полудня, начался новый круговорот покупок и продаж.
Новые моды, особенно широченные кринолины, Машу слегка шокировали. Ее поражало, сколько денег тратят теперь женщины, чтобы выглядеть посмешищем! Впрочем, кринолин, уж во всяком случае, был лучше, чем фижмы, нелепо распиравшие фигуру с боков: он-то делал бедра равномерно округлыми, а талию тонюсенькой, так что Маша с новой модой вскоре более или менее примирилась: по крайней мере, на балы или приемы она надевала кринолин, а для дома или прогулок носила нижние накрахмаленные юбки: в них было красивее и ловчее.
С прическами оказалось сложнее. Тетушка (она не была придворной дамой в полном смысле этого слова, то есть не обязана была неотлучно находиться при королеве, но в Версале, из-за дружбы с княгиней Ламбаль, наперсницей императрицы, все же бывала частенько) — так вот, тетушка клялась и божилась, что вовсе не сообщения из столицы, не письма посланников являются первейшей заботою каждого утра королевы, а туалет и прическа. Для нее творил великий куафер, великий художник причесок господин Леонар. Словно знатная особа, он ежедневно утром приезжал в карете шестерней из Парижа в Версаль, чтобы с помощью гребня, туалетной воды для волос и всевозможных помад испытать на королеве свое благородное, неистощимое на выдумки мастерство, — а значит, сделать эти модели целью всякой светской дамы. Ни Маше, ни Даниле и не снилось ничего подобного! Цветочная корзина на голове графини Строиловой, так поразившая воображение добродушного волочеса на постоялом дворе близ Санкт-Петербурга, была просто прическою деревенской простушки перед той парикмахерской феерией, которую узрел Данила, взятый однажды в Пале-Рояль! На головках знатных дам были возведены целые башни из волос, сложнейшие пейзажи, жанровые сценки, символические орнаменты. Наметанным глазом Данила разглядел, что прежде всего огромными шпильками и с помощью фиксирующих помад волосы вздымались все вверх, примерно раза в два выше, чем медвежья шапка прусского гренадера, и лишь в воздушном пространстве, в полутора локтях над уровнем глаз, начиналась собственно область творчества художника. Данила клялся и божился Глашеньке, что своими глазами видел даму, прическа коей была столь высока, что ей невозможно оказалось сидеть в карете. Она вынуждена была, приподняв юбки, стоять на коленях, чтобы не повредить драгоценное сооружение.
— Окстись, брехун! — сердито сказала Глашенька, но Маша не сомневалась, что Данила не врет: тетушка рассказывала, будто дверные проемы во дворце делались выше, чтобы дамам в парадных туалетах не приходилось часто нагибаться, и потолки театральных лож приподнимали… Данила, немыслимый фантазер, уже готов был моделировать из Машиных волос красочный и сложный мир: целые ландшафты и панорамы с плодовыми садами, домами, с волнующимся морем и кораблями на нем, но хозяйка его поклялась, что скорее обреет себя наголо, чем допустит сие, тем более что ходили слухи, будто прически через месяц-другой сделаются ниже и проще: возвышать голову будут страусовые перья. Прихоти капризной богини Моды были слишком безумны и несообразны, чтобы Маша решилась им служить… тем более что единственному человеку, чье мнение о ее внешности для нее что-то могло значить, мужу, и она сама, и ее прически были глубоко безразличны.
Если Маша и ожидала какого-то решающего разговора об их браке, то этого не произошло. Корф не то покорно, не то равнодушно принял ту ситуацию, которую с первой минуты утвердила сама Маша своим поведением с Николь: она — la baronne, ваше сиятельство, она — хозяйка дома, пусть даже ее супружество — это фактически vie a pàrt, жизнь врозь. Весьма обыкновенны были случаи, что неполадившие супруги разъезжались, предоставляя друг другу жить как угодно. Барон и баронесса Корф тоже предоставили друг другу жить как угодно, однако не разъезжались, и великодушие, или, если угодно, суетная забота о приличиях, простерлось у Корфа столь далеко, что он даже представил свою молодую жену на улице де Граммон, где в доме Леви размещалось русское консульство в Париже.
Князь Иван Сергеевич Барятинский был некогда флигель-адъютантом Петра III, а в царствование Екатерины II служил генерал-поручиком и вот уже восемь лет, с 1773 года, был посланником в Париже. Он поглядывал на Машу с холодноватым любопытством и, сказав ей несколько вежливо-безразличных фраз, отошел, однако весь вечер Маша изредка встречала его словно бы недоверчивый взгляд и так и не поняла, что же пришлось ему не по нраву: она сама — или то, что Корф вообще женился.
А жена Барятинского, княгиня Екатерина Петровна Голштейн-Бекская, дочь российского генерал-фельдмаршала и генерал-губернатора лифляндского и эстляндского князя Петра-Августа Голштейн-Бекского, была совсем другой. Эта величественная дама с внушительной прической и в роскошном бархатном «молдаване» цвета бордо — Маша знала, что сей покрой особенно любила государыня — показалась ей воплощением приветливости. Вдобавок Барятинской приходилось встречать при русском дворе и старого, и молодого князей Измайловых, знавала она и Елизавету Васильевну и живо интересовалась жизнью этой пылкой, яркой женщины. Маша чувствовала себя с княгиней Барятинской вполне спокойно и раскованно, до тех пор, пока сия экспансивная дама вдруг не воскликнула, с восхищением взглянув на свою новую знакомую:
— Я была очень счастлива за барона Димитрия Васильевича, узнав о его женитьбе, и вдвойне счастлива, узрев вашу красоту и миловидность! Но как могло статься, дорогая Мария Валерьяновна, что вы столь долго пробыли в разлуке с супругом? Да, знаю, что для него долг превыше жизни, но что могло помешать…
— Осмелюсь прервать вас, ваша светлость, — с улыбкой проговорил стоявший поблизости барон, — однако мне кажется, что его превосходительство попал в затруднительное положение! — И он кивнул в сторону Барятинского, которому с жаром что-то втолковывала старая графиня Строилова, — на этом приеме в посольстве собрались чуть ли не все русские, постоянно жившие в Париже.
… — bonne et tendre Antoinette [107]… — долетел до Маши теткин голос, и княгиня покачала головой:
— Перед вами два заядлых спорщика. La comptesse [108] без ума от ее величества, а господин посол полагает, что для недовольства высших кругов знати и народа есть свои основания. Однако мне и впрямь следует развести этих vis-a-vis. Боюсь, что когда-нибудь дело дойдет до дуэли! — И она отошла, одарив Машу ласковой улыбкою. Корф сопровождал княгиню через переполненную народом залу, а Маша стояла потерянная, не обращая внимания на шум и толкотню.
В первую минуту ее удивил вопрос княгини — то есть как это почему супруги столь долго были в разлуке? Или она забыла, или Корф вовсе ничего не говорил в миссии о постигшей его жену утрате — смерти ребенка?.. Однако в следующее мгновение Машу точно молнией пронзило: конечно, не говорил! Ни о смерти, ни о рождении, ни о беременности жены он никому ничего не мог сказать! Господи, да как же она ухитрилась, как изловчилась позабыть ту роковую фразу, сказанную Корфом в Санкт-Петербурге: «Увы, Mary, я бездетен, и, к несчастью, в Париже есть люди, которым это известно!» Да ведь именно из-за этого он отказался признать ребенка Маши своим, именно из-за этого отослал ее в деревню рожать тайно!
Дурнота подкатила к горлу, и Маше показалось, будто она сейчас упадет без чувств… Что же она натворила?.. Ведь первое, что она сообщила о себе Егорушке, была именно весть о ее потере… об их, стало быть, совместной потере с Корфом!
Но у нее с мужем после приезда не было ни одного разговора о происшедшем, она даже в письме не упомянула о смерти ребенка. И если не проговорилась тетушка, то барон, вполне возможно, вообще не знает о случившемся. Каким же ударом будет для него открытие позорной тайны, да еще если невзначай, без злого умысла, проболтается добряк Комаровский…
Маша до боли ущипнула себя за руку. Дурнота медленно отступила. Надо сейчас же найти графа Егора Петровича и как-то поговорить с ним… нет, осторожно намекнуть…
Она нахмурилась. По приезде в Париж они с Комаровским виделись раза два, не больше, и он держался так натянуто, так странно… может быть, уже проговорился кому-то о смерти Машиного ребенка и узнал, что это — вовсе не ребенок Корфа?
Ладно, Бог с ним, с Комаровским. Каковы бы ни были мотивы Корфа и каковы ни складывались бы ее отношения с надменным, властолюбивым бароном, все-таки она в долгу перед ним. И надо любой ценой оградить его от новых неприятностей!
Она резко обернулась, намереваясь прямо сейчас, с бала, хоть на край света идти, лишь бы разыскать Егорушку и заставить его молчать, и чуть не ахнула, внезапно столкнувшись с ним нос к носу… но тут же мгновенная радость ее сменилась ужасом при виде его непривычно серьезного молодого лица, с которого даже слинял, казалось бы, неистребимый румянец.
Первой мыслью Маши было: «Все открылось, и барон вызвал его на дуэль!» — и ноги ее подогнулись, но Егорушка успел подхватить ее под локоть.
— Что с вами, Марья Валерьяновна? Я напугал вас… простите, ради Бога, но мне крайне необходимо тотчас переговорить с вами.
Маша подняла на него глаза:
— Что-нибудь… с бароном? — Голос ей изменил, но она ощутила мгновенное облегчение, увидав промельк досады на лице юного графа.
— С бароном? Почему? Нет, с ним ничего. Это со мной… это мне нужна ваша помощь!
Маша кивнула, пытаясь взять себя в руки. Ну что ж, она поможет Комаровскому по мере сил… не привыкать стать, в конце концов, именно с этого началось их знакомство; а взамен потребует от Егорушки гробового молчания. И она вполне бодро отправилась об руку с Егором Петровичем в зимний сад, чувствуя себя так, будто ей сейчас снова придется скакать сквозь туманный лес к луже, где завязла повозка с драгоценностями.
* * *
На улице источал ароматы парижский июнь, а здесь было совсем другое лето: влажный, субтропический сумрак с тихим качанием жестких пальмовых листьев, удушливым, сладким ароматом белых лилий и мелодичным журчанием искусственного водопада.
Маша никогда в жизни ничего подобного не видела! Оглянулась — восхищенная, изумленная, — как вдруг испытала изумление в стократ сильнейшее: Егорушка рухнул перед ней на колени и каким-то сдавленным, придушенным голосом выкрикнул:
— Простите смелость мою… я люблю вас, Марья Валерьяновна!
Маша была так поражена, что даже не нашлась отнять у него руку, которую обезумевший граф покрывал бессчетными поцелуями.
— Что вы, оставьте меня, сударь, с ума вы сошли?! — слабо вскрикнула она, отшатнувшись, однако Егорушка ринулся за ней на коленях, и Маша с трудом разбирала в его отчаянном лепете отдельные слова любви, печали, каких-то несусветных упреков… она не сразу поняла, что не ее упрекал Егор Петрович за холодность и безразличие к нему, а Корфа — за безразличие к ней!
Тут уж Маша воистину вытаращила глаза. Да как этот мальчишка смеет судить, ничего не зная и не понимая?! Ну, ладно, барон и впрямь к ней холоден и безразличен. Ну ладно — она для него досадное напоминание об оскорблении. И Николь никуда не делась из их дома, хотя и старается не попадаться Маше на глаза. И Маша до сих пор не знает, почему ее супруг так стремительно бросился ей на выручку: то ли и впрямь жаждал спасти жену, то ли заботился более о судьбе подарков, престиже России?.. Да хоть бы и так! Да хоть бы Маша и живя при муже — соломенная вдова… А все ж это дело ее да Корфа, но Егорушка тут при чем?!
Ярость перехватывала горло, туманила взор, и Маша не вдруг сообразила, что Егорушка подает ей свою шпагу и умоляет прекратить его страдания вместе с жизнью!
Боже мой… Что он знает о страданиях, о жизни и смерти? Что он видел, что создал, чтобы молить о разрушении? И голосом, звенящим от ненависти и презрения, она выкрикнула, хватая рукоять шпаги:
— Давайте, давайте, граф! Я вам покажу, что сумею заколоть дерзкого, который меня оскорбил!
Егорушка остолбенел, но когда смертельное острие уже почти коснулось его горла, отшатнулся так поспешно, что опрокинулся навзничь, нелепо задрав ноги, туго обтянутые чулками и панталонами. Что-то зашелестело в кустах; Маше показалось, будто там таится некто, с трудом подавивший смех, однако тут же с ветки спорхнул длиннохвостый попугай — эти диковинные птицы в изобилии водились в зимнем саду! И Маша сама едва не расхохоталась: говорят, некоторые попугаи наделены речью… что, если именно этот окажется болтуном и поведает всем в посольстве о курьезной сцене, случившейся под журчанье искусственного водопада?!
Мгновение Маша смотрела в побагровевшее, перепуганное лицо Комаровского, а потом, склонившись, прошептала:
— Ты идиот, мальчишка, хвастун! Я могла бы сейчас убить тебя — и никто об этом не узнал бы! Но помни: только слово о моем умершем ребенке — и весь Париж узнает о том, что твоя жизнь была в руках женщины… которая подарила ее тебе. На, возьми! — И она с презрением швырнула шпагу ему на грудь.
Рукоятка загрохотала по каменному полу, и все время, пока Маша торопливо шла через зимний сад, ее сопровождал этот грохот, напоминающий некие железные аплодисменты.
Она больше не видела графа: через три дня он покинул Париж в страшной спешке. До Маши дошли слухи о некрасивой истории. После достопамятного бала в посольстве, возвращаясь к себе, на Rue Traversière, в отель «Три милорда», где останавливались почти все русские курьеры (там жил почтенный господин Домбровский, служивший прежде советником русского посольства, а находясь в отставке, он сделался покровителем молодых людей, приезжавших из России курьерами в Париж), Егор Петрович встретил на улице особу сомнительного поведения, так сказать, la femme galante, которая завлекла его в какой-то притон, где его ограбили и избили, но когда он, выбравшись, кинулся в полицию, дамочка нашла свидетелей, подтвердивших, что это он бил ее и всех других. Комаровского арестовали, и он лишь чудом смог дать знать об этом случае в посольство. Барятинский уже отдыхал, однако его слуга, не решившийся будить самого посла, сообщил обо всем Корфу. Тот среди ночи поднял с постели судью, отдавшего приказ об аресте, и потребовал освободить Комаровского, ссылаясь на то, что права и преимущества личной неприкосновенности, официально принадлежащие во всем мире дипломатическим агентам, распространяются на лиц, состоящих у них на службе, тем более — на курьеров, прибывших в посольства своих стран. Судья же не только не освободил Комаровского, но ответил Корфу, что и его отправил бы в тюрьму, когда б встретил его в подобном притоне.
Корф, не дожидаясь утра, поднял с постели Монморена, с которым был знаком лично. Комаровский был освобожден, а Монморен направил в коллегию внутренних дел представление об отстранении судьи от должности.
Маше не привелось узнать о дальнейшей судьбе несговорчивого судьи. Ее гораздо больше поразило, как своевременно вмешался случай в ее собственные, вдруг отяготившиеся, отношения с Егором Петровичем! Впрочем, вера ее в слепое провидение несколько поуменьшилась, когда она услышала слова барона, сказанные им графине Строиловой, которая восхищалась его горячим участием в судьбе непутевого курьера.
— Я находил в нем жалкого сумасброда более, нежели злостного преступника, и старался улучшить жребий его сколько мог. Отчасти мне даже жаль было беднягу: вложить свою шпагу… я хочу сказать, доверить свою судьбу в руки женщине?! Воистину, кого Бог хочет погубить, того он лишает разума.
Маша вспомнила смешок в зимнем саду, аплодисменты, которые она различила в звоне шпаги — и призадумалась. Кажется, Корф продолжал поджигать занавески…
* * *
Когда Маша начинала задумываться об особенностях характера своего мужа, какой-то вещий, предостерегающий холодок пробегал по ее спине. Его натура оставалась такой же опасной загадкою, как в первый день их знакомства. Отчасти причина крылась в особенностях его службы, которая поглощала все время Корфа — порою он дни напролет просиживал в кабинете, иногда неделями вообще не бывая дома, — и, разумеется, ему было недосуг общаться с женой — да и охоты, верно, не находилось, ибо не видела его Маша в своих комнатах ни днем, ни ночью. Приходилось признать, что оскорбление выжгло в нем все прочие чувства — жена для него, видимо, просто не существовала!
Волей-неволей она была предоставлена себе самой; и хотя Париж давал массу возможностей развлечься, Маша не стала бы утверждать, что так уж очарована этим городом: слишком он был огромный, слишком узкими были в нем улицы, слишком высоки дома, слишком много людей жило в этих домах и сновало по этим улочкам. «Lutetia non urds, sed ordis![109]» — это изречение Карла V часто повторяла тетушка (единственная латынь, которую она знала!), бывшая без ума от Парижа. Однако от прежней романтической Лютеции осталась только арена древнеримского цирка да серебряный кораблик под туго надувшимся парусом на гербе Парижа, упрямо плывущий навстречу судьбе: и этот кораблик, и латинский девиз над ним: «Huctuat nec mergitur» — «Его качает, но он не тонет» — были некогда гербом и девизом Лютеции. Теперешний Париж чудился Маше городом-сетью, ибо здесь тысячи ловушек были расставлены для всякой человеческой слабости и потребности: от магазинов до публичных домов, от садов для гуляний — до общедоступных нужников, lieux l'aisances, которые видела Маша впервые в жизни, и это явление ее просто ошеломило.
Не по нраву пришлось ей и то, что в уличном многолюдье слишком много женщин: не было ни одной лавки, где не стояла бы за прилавком премило одетая девушка в кокетливом передничке. И если даже покупателей обслуживал ловкий, предупредительный приказчик, то не его услужливость и даже не богатство товаров являлись приманкою заведения, а именно эта la miette [110]. Все парижанки чудились Маше если не красивыми, то уж очаровательными, будь то подобная сновидению белокурая, роскошная Мария-Тереза де Ламбаль, сияющим вихрем проносившаяся по улицам в своей белой с золотом (уменьшенной копии королевской) легкой карете шестерней, или какая-нибудь хорошенькая мидинетка — так назывались молоденькие работницы или продавщицы маленьких галантерейных лавочек. Но иногда так назывались вообще все молоденькие, легкомысленные горожанки, сновавшие по улицам, ловя на приманку своих порочных глазок всякого мужчину… А стало быть, в первую очередь, тех мужей, которым не было дела до своих жен.
Париж тревожил Машу… Однажды за утешением она вошла в католическую церковь во время обедни: все в душе ее противилось варварской пышности убранства; чужим, слишком тонким голосам, поющим гимны; приторному, совсем не русскому, запаху свечей и ладана; но сейчас любопытство и тяга к утешению оказались сильнее неприязни, да она и знала, что придется привыкать, если она не хочет отказаться вообще посещать храм Божий. В Париже-то ведь не было ни одной православной церкви. Оставалось уповать, что Бог с единым вниманием зрит сквозь все купола.
Она преклонила в укромном уголке колени и долго молилась, потом поставила свечи, неумело окунула пальцы в чашу со святой водой — и вышла с тем же сумраком в душе, с каким вошла сюда…
Как ни странно, успокоиться ей удалось под сводом другого Божьего храма — на берегу реки, под высоким небом. Ее всегда утешало зрелище просторной, мерно струящейся воды и колыханье зеленой листвы; она не представляла, что города могут стоять не на берегу реки… по счастью, этого недостатка Париж был лишен.
Сена была лучшим украшением города, его голубым ожерельем. Она входила в Париж на юго-востоке, у Венсенского леса, направляясь к центру, обтекая острова Сент-Луи и Сита, и почти подходила к Елисейским полям, но, делая петлю, плавно поворачивала на юго-запад и выходила за пределы города, огибая Булонский лес. Плавно, медленно, спокойно струилась серебряная Сена меж каштанов и платанов, склоняясь под мосты и вновь выходя на простор, неся на своих тихих водах зыбкое отражение этих мостов и этих каштанов и платанов… Над Сеной витал легкий, невесомый туман, из которого, как призрачный замок, выступал Нотр-Дам…
Но Маша предпочитала его мрачным очертаниям яркий ковер рынка цветов, раскинувшегося на самом берегу Сены. Она, конечно, знала, что все это великолепие заботливо взлелеяно в садах и оранжереях, а потом принесено в корзинах или привезено в сотнях фургонов, нагруженных доверху, со всех окрестностей Парижа и даже из Ниццы, Грасса, Лиона и других южных городов, — привезено, чтобы быть со вкусом разложено на прилавках; но хотелось думать, что она чудом перенеслась на некий цветущий луг, где, Божьей волею, загадочная камелия соседствует с дурманящей красотой мака, утонченная лилия уживается с пышной гортензией, роскошный георгин благосклонно кивает ландышу, а самонадеянный тюльпан пытается соперничать с царицей цветов. Видевши дома только шиповник, Маша вовсе потеряла от роз голову и познала на опыте всю правдивость крылатого изречения: «Не любить роз нельзя — они слишком прекрасны!»
Здесь, на рынке, Маше рассказали о «Капризе д'Артуа», находящемся в Булонском саду, и она, конечно, не упустила случая туда отправиться, чтобы увидеть замок, который граф д'Артуа, второй брат короля Людовика XVI, превратил в настоящий музей редкостей, истратив миллионы на его убранство и коллекции, а главное — основал там огромный, сказочный розарий.
Побывав там единожды, Маша стала ездить в Булонский сад всякий день, чтобы вновь и вновь смотреть на эти дивные цветы, созданные не из бархата, не из шелка, а из какой-то особенной, чудной материи.
Там были розы красные, как коралл, и самых нежных оттенков, и цвета алых губ, и цвета крови, и всех переливов пурпура, и лиловые, винно-красные, темные, как малина, или желтые, палевые, белые; одни веселые, смеющиеся, другие печальные, полные грусти; розы и для алтаря, и для буйства, и для влюбленных, и для поэтов — и это все были розы, которые цвели для всех.
Маша глядела на них, вся растворяясь в чарующем аромате, и слезы невольно набегали на ее глаза от невозможности выбрать лучшую, отдать предпочтение одной. Она не знала, куда глядеть, что вдыхать, чем любоваться. Хотелось бы их все обнять, заснуть в них — заснуть или умереть.
И вот что случилось однажды: в разгар этого самозабвенного созерцания голова вдруг закружилась так сильно, что Маша покачнулась и принуждена была опуститься на траву, — ноги подкашивались. Аромат опьянил, одурманил ее, тело сделалось слабым настолько, что она даже сидеть не могла и вытянулась на траве, сонно глядя в синее небо, по которому гнал ветер огромные белые облака… откуда-то издали долетали белые пушинки тополей, и Маша слабо улыбнулась, подумав, что порыв ветра оборвал края облаков и хлопьями роняет их на землю.
Но ветер буйствовал только в вышине, а здесь, на земле, где распростерлась Маша, царила сладкая духота. Запах роз был таким плотным, настоянным жаром, что Маше почудилось, будто она замурована в некоем розовом, благоухающем кристалле… она увязла в запахе роз, как мушка в янтаре, и никогда уже не сможет выбраться оттуда!
Эта мысль была нелепая, конечно, однако, побуждаемая ей, Маша кое-как заставила себя подняться и на подгибающихся ногах, хватаясь за гибкие, вьющиеся ветви, не замечая, что обрывает нежные лепестки, выбралась из розового лабиринта.
Она еще успела увидеть Данилу, озадаченно глядящего на нее от кареты, успела вдохнуть свежего, прохладного воздуха — и больше уже не помнила ничего.
…Она очнулась, полулежа на сиденье кареты. Данила гнал лошадей вовсю, и тряская рысь вызывала тошноту. Комок подкатывал к горлу, во рту был медный противный привкус, кружилась голова.
— Что со мной? — пробормотала Маша, едва шевеля онемевшими губами. — Что случилось?..
Кажется, она угорела от чересчур сладкого аромата роз, пробыла в розарии слишком долго, — от того и тошнота, и мерзкий привкус, и слабость… Ну не странно ли, что приходится вот так расплачиваться за чудные мгновения восторга, очарования… так женщины расплачиваются последующими страданиями за мгновенья сладостного забытья в мужских объятиях!
Маша содрогнулась и села, расширенными глазами глядя в окно, но ничего не видя. Послышалось — или впрямь произнес рядом чей-то голос: сначала деликатно, по-французски: «Pardonnez-moi ma franchise…[111]» — а потом, уже по-русски, ляпнул с грубой прямотой: «Наша малютка брюхата, n'est-ce pas?[112]»
Глава XIV МАМАША ДЕЗОРДЕ
Мария стояла у окна библиотеки и с грустью смотрела на солнце, медленно опускавшееся за высокие крышы, золотившие черепицу.
Отошла к камину, протянула руки к огню — ее все время знобило. Ох, ну где же Глашенька? Уже час, как она должна вернуться! Конечно, вокруг Рынка места небезопасные, все эти харчевни — «Курящий пес», «Поросячья ножка», — где днем и ночью держат на огне луковую похлебку, покрытую пленкой сыра, для завсегдатаев… подозрительных особ! Конечно, на тех улочках не место для милой, наивной Глашеньки, — но как же, как же быть?!
Сообразив, что именно с ней произошло, Мария пришла в такой ужас, что несколько дней провела, забившись в постель, не в силах осознать неумолимость свершившегося. Ах, Вайян… какая сила нечистая толкнула Машу в его объятия?! Добро бы уж по жгучей любви, а то просто так — хоть минутная одолела! Неужели она распутна, порочна по природе своей, оттого и улеглась в постель с Вайяном без сомнений и колебаний? И даже в голову не пришло подумать о последствиях!
Самым ужасным было то, что история с Честным Лесом повторилась почти в точности, но теперь не было ни малейшей надежды скрыть положение — хотя бы под самой зыбкою завесою приличия. Мария предавалась отчаянию до тех пор, пока не спохватилась: слезами делу не поможешь, а время течет, как вода, неостановимо, и сколь ни оставалась она наивна в делах такого рода, даже ей было ведомо: чем раньше избавиться от бремени, тем лучше, не то, при позднем сроке, и помереть недолго. Она с точностью знала день своего зачатия: с той поры прошло ровно два месяца. Конечно, время у Марии еще было… да беда, не было никакой надежды на спасение!
Совершенно немыслимым казалось ей сознаться мужу, снова испытать этот позор — у страха хорошая память, как говорил Агриппа д'Обинье. Вдруг сорваться домой, в Россию, — для чего? Чтобы рожать там? Но какими глазами взглянуть в глаза матери? Что сказать ей? Ведь перед собой не может Маша слукавить, будто кинулась на шею Вайяну, желая смягчить свою участь… хотя, бесспорно, не утоми она его своими ласками, вряд ли ей удалось бы сбежать столь легко.
Нет, куда ни кинь, выходило одно: в незнакомом, огромном, чужом Париже следовало искать бабку, повитуху, как они тут называются — sage-femme, что ли?
Однако повитуха — не букет цветов, не курица, не придешь на Рынок да не спросишь ее. Немыслимо даже заикнуться о случившемся, спросить совета у тех дам, с которыми в посольстве свела знакомство Мария; а тетушка, как назло, уехала вслед за княгиней Ламбаль в Версаль, и никто не знал, когда она изволит воротиться. Вот так и получилось, что единственным человеком, который мог хотя бы отдаленно навести Марию на след какой-нибудь тайной sage-femme, оказалась Николь.
Конечно, нечего было и думать — самой прийти к ней. Лучше уж сразу — с камнем на шее кинуться в Сену с Аркольского моста! Пришлось довериться Глашеньке с Данилою — куда ж без Данилы! Ведь не кто иной, как он, должен был выступить в роли соблазнителя маленькой горничной! Но уж тут Мария покривила душой и без зазрения совести представила дело так, будто пала жертвою насилия, заплатив своим телом за возможность остаться в живых. Данила помнил, в каком виде вырвалась она из замка, а потому сразу поверил барыне; зато Глашенька быстрее его поняла, почему госпожа под страхом смерти не желает довериться в этой беде своему мужу. Она и сама боялась барона до судорог, а его полное пренебрежение к молодой и красивой Марии Валерьяновне казалось ей чудовищным и противоестественным. Так что на следующий же день после их задушевного разговора, который очень напоминал разработку стратегической операции (если планирование таковых может прерываться потоками слез), Глашенька в присутствии Николь «упала в обморок». Надо думать, сделала она это достаточно натурально (нагляделась на свою хозяйку!), ибо Николь тотчас бросилась на помощь. Прежде она относилась к Глашеньке довольно неприязненно, однако, услышав ее печальную историю, увидев потоки слез (не стоит забывать, что Глашенька всегда была горазда поплакать!), Николь прониклась сочувствием к бедной горничной, которая смертельно боялась, что хозяйка, узнав о беременности, выгонит ее, и, поразмыслив, согласилась указать бедняжке, где живет вполне приличная повитуха, тайком промышлявшая абортами. Разумеется, Николь заломила за посредничество немалую сумму… Глашеньке пришлось сделать вид, будто она украла у барыни и продала какое-то украшение. Благосклонность Николь после этого простерлась до того, что она собственной персоной решилась проводить Глашеньку до дверей этой самой мамаши Дезорде, и девушке пришлось разыграть страшную сцену отчаяния, страха и нерешительности, чтобы любой ценой избегнуть немедленного осмотра: ее обман тотчас раскрылся бы, и уж тогда ушлой Николь ничего не стоило бы свести концы с концами и догадаться, с кем именно случилась беда!..
Но сегодня Глашеньке удалось избавиться от забот Николь и броситься на улицу Венеции, где жила мамаша Дезорде, чтобы назначить время для прихода своей госпожи… и вот Мария уж все глаза проглядела, а горничной все нет да нет!
Настроение было сквернейшее, с утра беспрерывно мутило, и Мария, с тоской глядя в огонь, поклялась, что, если только удастся на этот раз шито-крыто устроить свои дела, она больше и близко не подойдет ни к какому мужчине… разве что сам барон наконец пожелает иметь ее в своей постели. На это, правда, было мало надежды — и даже сейчас, в минуту крайнего отчаяния, у Марии нашлись силы возроптать на судьбу, которая двух людей, стремящихся к взаимной любви, превратила, можно сказать, во врагов.
Какой-то звук прервал ее невеселые размышления. Чудилось, кто-то мелко стучится в окно. Мария распахнула створки: в саду стояла Глашенька и швыряла в стекло мелкие камушки и сухие веточки, причем лицо ее было таким бледным и перепуганным, что у Марии упало сердце. Глашенька сделала было движение к крыльцу, но Мария остановила ее властным жестом и помогла влезть прямо в окно.
Руки у горничной были ледяные, ее всю трясло, и Мария первым дело подвела Глашеньку к камину, ничуть не сомневаясь: Николь обо всем донесла барону, тот перехватил Глашеньку и подвергнул ее столь суровому допросу, что бедняжка не выдержала — и выдала свою госпожу. Она почти убедила себя в этом и немало изумилась, когда Глашенька, справившись наконец с ознобом, кое-как выговорила:
— Не нашла я ее! Она уехала!
И Марии показалось, что бездна разверзлась пред ней…
* * *
Мамаша Дезорде, безвылазно, годами сидевшая в своей лачуге неподалеку от Большого Рынка, вдруг получила известие о смерти своей сестры и тотчас отправилась в деревушку близ Фонтенбло, чтобы успеть взглянуть на наследство прежде, чем на него наложат лапу другие родственники. А когда она воротится и воротится ли вообще, соседям было неведомо, хотя все они в один голос молили Бога о том, чтобы никогда больше не видеть сию старуху, промышлявшую таким дьявольским ремеслом: недаром имя Дезорде по-французски означает «непорядок»!
У Маши при этом известии ноги подогнулись, и она сделалась столь же бледная и дрожащая, как и Глашенька. Такими их и нашел обеспокоенный Данила, — но не стал соучастником их отчаяния, а тут же предложил выход: немедленно отправиться ему в эту hameau [113], отыскать мамашу Дезорде и привезти ее в Париж. Он поклялся, что справится во что бы то ни стало, и ежели ему придется сгрести повитуху в охапку и всю обратную дорогу нести на руках, то он понесет ее!
Маша вновь едва не зарыдала — на сей раз от облегчения. Она понимала, что сама-то никак не могла вызвать к себе такой любви и преданности Данилы, — это он по гроб жизни полагал себя обязанным княгине Елизавете, на которую всегда смотрел снизу вверх, как на небожительницу, зачем-то сошедшую на землю, но на дочку падал отсвет очарования матери, а стало быть, Данила почитал своим долгом верно служить и Марии Валерьяновне. Поцеловав руку барыне и приняв от нее благословение, Данила ринулся на конюшню, и ближайший час Мария пребывала в блаженном спокойствии… пока ей не доложили, что какие-то добрые люди принесли беспамятного Данилу, который, не доехав и до окраины города, упал с запнувшегося коня, сильно расшибся и даже сломал ногу.
Поднялась суматоха, позвали врача. Тот наложил лубки и предписал больному полный покой. Из глаз Данилы текли слезы, но не от боли или жалости к себе, а от жалости к своей госпоже, помочь которой он сейчас уже не мог… Да и никто не мог ей помочь!
Почти до утра просидели Мария с Глашенькой у постели Данилы; лишь перед рассветом спал у него жар, он забылся сном, и Маша ушла к себе, легла… но сон бежал от нее.
Отчаяние, отступившее было из-за хлопот вокруг Данилы, вновь приступило. Неужто придется ожидать возвращения либо тетки, либо мамаши Дезорде? Но графиня Евлалия может и не знать никого из нужных людей, а повитуха вовсе не обязательно воротится скоро… А вдруг она вовсе решит остаться в деревне? Месяца через два состояние Марии начнет себя явно выказывать. Конечно, корсеты и пышные юбки помогут скрывать неуклонно раздающуюся вширь фигуру… да какой в том прок?! И даже ежели через месяц, через два помощь придет со стороны тетки, со стороны повитухи ли, как выдержать эти месяцы, когда каждый день — пытка жесточайшая! Понять, что такое изнурительная, отвратительная тошнота с утра до вечера, отбивающая вкус ко всякой пище и жизни вообще, может только беременная женщина… а ежели она еще и не хочет вынашивать ребенка, то страдания ее усугубляются тысячекратно, ибо к пытке телесной присоединяется и душевная.
Небо чуть просветлело. Было часа три утра, скоро настанет рассвет, а сна у Марии не было ни в одном глазу, и мысль, краешком задевшая ее сознание, когда она увидела беспомощного Данилу, но тотчас же пугливо улетевшая, сейчас снова воротилась и настойчиво закружилась в голове.
А что, если… Нет, это безумие! Да почему, собственно?
Глашенька при ней рассказывала Даниле, где искать в деревушке дом мамаши Дезорде — соседи подробно ей поведали обо всем, заблудиться просто невозможно. До Фонтенбло день езды в карете, а верхом, конечно, скорее, часов шесть, ну, восемь. Вопрос, выдержит ли она эту дорогу… давно не езживала на такие расстояния, с того страшного дня, когда срубленное дерево упало на пути златоногой Эрле. Ну, не выдержит — тем лучше. В конце концов, у Анны Австрийской, жены Людовика XIII, случился выкидыш, когда она прыгала с Мари де Шеврез через канаву… Так почему бы баронессе Корф не избавиться от нежелательного бремени, проскакав шесть-восемь часов верхом? Впрочем, сие из области мечтаний. Реальность же состояла в том, чтобы незаметно вывести из конюшни самого быстроногого коня и тайком выбраться за ворота. Мария хлопнула себя по лбу: да ведь пока удача на ее стороне! Коня, на котором поехал Данила, оставили в платной конюшне на окраине города, где-то возле церкви Святого Габриэля. Дело теперь только за тем, чтобы туда добраться, а уж потом — в путь!
Она еще обдумывала детали своего безумного предприятия, а сама уже отворяла шкафы, разыскивая подходящее платье — попроще и поудобнее, длинный плащ… Так, провизию брать не стоит, у Данилы были полны чресседельные сумки, взять только денег… о, какое блаженство — платье без корсета и кринолина, как хорошо — просто заплести волосы в косу! Мария решила ни в коем случае не открывать sage-femme своего общественного положения и выдать себя за небогатую горожанку. Проворно одевшись, невесомо перебежала в Глашенькину комнатушку и, разбудив спящую горничную, наказала ей хорошо ходить за Данилою, а всем сказывать, будто барыня, из-за сломанной его ноги переволновавшись, слегла и беспокоить себя не велела. Мария надеялась, что более двух суток ее поездка никак не займет, а бывало, и время более долгое она барона не видела, так что мало вероятия, что ее mari nonchalant [114] вдруг хватится своей нелюбимой жены.
Свойство натуры Марии было таково, что, раз решившись на что-то, она уже не желала видеть на пути к своей цели никаких препятствий, даже если трезвый разум и напоминал о них, и, право, могло показаться, что эта ее оголтелая решимость таинственной силою своей и впрямь устраняла все преграды и как бы изменяла ход событий, перестраивая их, переиначивая… Марии чудилось, что она — как птица, которая ловит ветер — и несется в его потоке, однако в том направлении, кое необходимо ей. Вот и сейчас — ветер удачи вынес ее из дому, помог перебраться через ограду, очень кстати поразвалившуюся в укромном уголке сада, и понес по спящей улице, пока ее не обогнал первый фиакр, в который она тут же и вскочила, приказав везти себя к церкви Сент-Габриэль, да как можно скорее.
Париж еще спал, однако к Цветочному рынку уже приближались фургоны, полные хрупкого, ароматного товара: Мария с изумлением отметила, что у нее не вызвал тошноту свежий, влажный запах только что срезанных цветов, и восприняла это как своеобразное одобрение своему поступку.
Конюшню она нашла быстро; хозяин, поднятый с постели, правда, поворчал, но коня отдал, даже дамское седло предложил и был изумлен немало, когда хорошенькая дамочка, подобрав свои юбки повыше, так, что открылись прелестные ножки в кружевных дорогих чулках, по-мужски вскочила в седло и, нимало не заботясь об эпатаже, коему подвергает общественное мнение, с места взяла в карьер и погнала коня к юго-восточной заставе с такой скоростью, как будто за нею снаряжена была погоня в тысячу всадников.
* * *
Мамаша Дезорде оказалась весьма проницательной особой. Бросив один лишь взгляд своих тускло-черных глаз на молодую женщину в запыленном плаще, с растрепавшейся косою, едва стоявшую на подгибающихся ногах, вцепившись в повод загнанного, покрытого пеной коня, она озабоченно поцокала языком и проговорила:
— Кажется, я зря проклинала своих парижских соседей. Они заботятся, чтобы мой кошелек не опустел!
И Мария, почти теряя сознание от усталости, — путь занял не шесть, а десять часов, да и то дался ценою невероятного напряжения, — едва не заплакала от счастья, что никому ничего не надо объяснять: мамаша Дезорде все понимала и знала, что делать.
Только когда Мария, уже раздетая, лежала на покрытом чистой холстиной кухонном столе, мамаша Дезорде растопырив пальцы до красноты отмытых рук (у нее были замашки заправского хирурга), спросила своим грубоватым голосом:
— Ты уверена, что не хочешь этого ребенка?
Мария слабо кивнула. Ее неудержимо клонило в сон, но было ли это следствием усталости, или дурманило сладковатое, пряное питье, которым обильно напоила ее мамаша Дезорде, она не могла понять.
— Странно, что ты не выкинула после такой скачки. Небось не сходила с седла от самого Парижа? Значит, у тебя очень крепкая матка. Видно, придется мне с тобой повозиться!
Мария только и могла, что слегка растянуть губы в подобии улыбки и пробормотать:
— Пожалуйста, прошу вас… сделайте это скорее!
— Trop d'empressement gâte tout! [115] — важно изрекла мамаша Дезорде, и Мария бесконечное мгновение пыталась сообразить, что может значить эта фраза, — а потом провалилась в сон.
Но сколь ни крепко было усыпляющее питье, сколь ни обессилила ее усталость, она все время ощущала, как с усилием ворочаются в ней ловкие руки мамаши Дезорде, причиняя тупую боль, от которой Мария иногда глухо стонала, но тут же вновь проваливалась в забытье. Потом вдруг настал ужасный миг, когда ей почудилось, будто чужие руки взяли ее за самое сердце и пытаются выдернуть его… но даже и эта мучительная боль не смогла разбудить ее.
* * *
Мария очнулась от того, что кто-то довольно свирепо хлестал ее по щекам, прикрикивая:
— Проснись! Да проснись же ты!
Ужасная догадка пронзила мозг: Корф все вызнал, нашел ее! Она с испуганным криком открыла глаза — и облегченно вздохнула, увидев перед собой широкое лицо повитухи. Та испустила ответный вздох:
— Ну и напугала же ты мамашу Дезорде! Никак не могла разбудить тебя.
Мария чуть повернула голову. Она помнила, что, когда ложилась на кухонный стол, солнце светило прямо в окошко, — там же оно было и сейчас. О чем же беспокоится мамаша Дезорде? И неужто все так быстро закончилось? Похоже, ей удастся воротиться домой в срок, и, даст Бог, ее отлучка сойдет незамеченной.
— Всякое бывало у меня, — проворчала мамаша Дезорде, — но чтоб девка провалялась сутки в беспамятстве…
— Сутки?! — привскочила Мария, не веря своим ушам. — Да вы шутите?
— Больно надо! — буркнула повитуха. — Знала б ты, какого страху я натерпелась. Думала, придется ночью… — Она не договорила; отошла от стола и подала какой-то знак своему мальчишке, тихо сидевшему в уголке. Тот покорно поднялся и поволок из комнаты заступ с налипшими комьями земли. Маша пригляделась и увидела, что земляной пол в углу немного разрыт.
Мамаша Дезорде поймала ее взгляд и сконфуженно улыбнулась, пытаясь загородить угол своей высокой, костистой фигурой, но Мария вдруг все поняла и похолодела от страха. Здесь рыли яму… могилу для нее! Мамаша Дезорде решила закопать бесчувственное тело, чтобы скрыть следы смерти в своем доме — ведь если бы Мария не очнулась, выходило бы, что мамаша Дезорде прикончила ее своими стараниями. Ох, Боже мой… Надо бежать, бежать отсюда!
Мария рванулась, но тут же вновь рухнула на подушку от сильнейшего головокружения. Пот необоримой слабости прошиб ее, однако у нее хватило сил отвернуться, когда мамаша Дезорде очутилась рядом и подсунула к самым губам кружку, над которой курился парок.
— Лежи тихо! — приказала она. — Это крепкий мясной бульон. Выпей — сил сразу прибавится. Да пей же ты! — прикрикнула она, разглядев ужас в глазах молодой женщины. — И ничего не бойся. Зачем мне твоя смерть, ну сама подумай! Я тут волосы на себе рвала, когда думала, что ты так и не очнешься!
В подтверждение своих слов она чуть сдвинула свой la vieille [116], и Маша увидела почти лысую голову. Выходило, будто мамаша Дезорде и впрямь с перепугу выдрала свои последние волосы! Это было так смешно, что страх оставил Машу, и она с удовольствием глотнула из кружки горячего, крепкого, соленого питья, от которого кровь сразу быстрее побежала по жилам.
Мамаша Дезорде наблюдала за нею с умильной улыбкой, вовсе не шедшей к ее толстощекому хитроватому лицу, однако вполне искренней.
— Извини, я не хотела, чтоб ты видела это… — Она почти виновато кивнула в разрытый угол. — Это я от страха, понимаешь? Дома-то, в Париже, у меня все устроено как надо, все остается шито-крыто, случись неладное; а здесь надобности пока не было, ну, я и растерялась.
Мария понимающе кивнула. Уж конечно, у такой проныры, как мамаша Дезорде, все должно быть предусмотрено. Наверняка в ее конуре на улице Венеции есть какой-нибудь подвал, куда она спускает тела несчастных женщин, которые умирают во время avortemente, а потом, под покровом ночи, уносит их из дому и закапывает ли где-то, сбрасывает ли в Сену — Бог весть, однако репутация мамаши Дезорде не страдает.
Странно, от доверия, которым к ней прониклось это чудище с руками по локоть в крови невинных, Мария совсем перестала бояться. Что ж, существует ведь множество женщин, которые возносят за мамашу Дезорде благодарственные молитвы, вот и она сама будет вечно поминать ее добрым словом, — так стоит ли судить sage-femme за то, что она заботится о собственной безопасности?
— Я никому не скажу, — твердо пообещала Мария. — Будьте спокойны, клянусь!
Лицо старухи прояснилось:
— Спасибо, голубушка. Сказать по правде, я уж подумывала покончить с этим ремеслом: больно уж хлопотное, ненадежное… хотя знала бы ты, как играет кровь, когда эти глупые девчонки молят меня о помощи, а потом благодарят, целуют руки, называют благодетельницей! Право слово, никакая мать не делает столько для своих дочерей, сколько я — для этих grues [117]! А ведь частенько приходят ко мне и знатные дамы… вроде тебя! — Она лукаво усмехнулась, и Мария невольно улыбнулась в ответ, понимая, что маскарадом своим не смогла ввести опытную повитуху в заблуждение.
Мамаша Дезорде нравилась Марии все больше — своей простотой, бесхитростностью и полным отсутствием сословных предрассудков. Она держалась с Марией как равная — она бы и с королевой держалась точно так же, понимая значимость и жизненную важность своего ремесла.
— Вот скажи, как мне быть. — Подсев на край кровати, мамаша Дезорде озабоченно свела на переносице брови. — Сватается ко мне один тут… сосед. Не пойти ли мне за него? Он вполне зажиточный человек. Да и поля наши, и виноградники — все рядом. Вот бы объединить их! У него родни никакой, и я одна, как перст… правда, есть племянница, да она в Париже отменно пристроена. А я бы и фамилию сменила, и забыла бы о прошлом начисто… ходила бы каждый день к обедне, жертвовала бы на храм… а занималась бы только замужними роженицами, никаких тебе тайных дел! Руки у меня золотые, глядишь, и зачлись бы мне добрые дела… я ведь все-таки немало безгрешных душ загубила… pauvres petites [118]! — Она несколько раз торопливо перекрестилась.
Мария глядела на нее во все глаза. Ей приходилось слышать, что падшие женщины больше всего на свете мечтают на склоне лет вести жизнь добропорядочных буржуа; верно, общение с ними подействовало и на мамашу Дезорде.
— Что сказать вам, милая мадам? — задумчиво говорила Мария. — Поступайте, как велит вам сердце, однако же, думаю, очень многие женщины окажутся несчастны, если вы решите не возвращаться в Париж, — ведь вы спасаете их честь, а может быть, и жизнь!
Мамаша Дезорде едва не прослезилась от этих лестных слов, но тут же расплылась в широчайшей улыбке:
— Да уж! Иной раз кажусь себе всемогущей, словно… Господь Бог! — Она опять перекрестилась, словно извиняясь перед Господом. — Ты и не представляешь, чего только я ни делывала! — Она игриво шлепнула Марию по руке. — Однажды я даже сделала девственницу из шлюхи!
Мария недоверчиво вскинула брови.
— Вот те крест святой! — запальчиво выкрикнула матушка Дезорде. — Жизнью своей клянусь, чтоб мне глотать раскаленные уголья на том свете, если лгу! Племянница моя — я говорила тебе о ней, — с малолетства была девка горячая. Ей не было еще двенадцати, когда она легла с богатым дворянином — тот любил только маленьких девственниц, — а потом вошла во вкус плотской любви. Я уж счет потеряла, сколько раз опрастывала ее, а она как сучка — одернет юбку и снова бежит в кусты с первым встречным. И вот лет пять-шесть назад, когда она едва не истекла кровью у меня на столе, я и говорю: «Николлетт, еще один avortemente — и ты сойдешь в могилу, поняла?» Ну, девка испугалась и решила взяться за ум. А через некоторое время вдруг прибежала ко мне и говорит…
— Неужто опять забеременела? — с живым интересом воскликнула Мария.
— Да что ты! — отмахнулась матушка Дезорде. — Ничуть не бывало! Она нашла себе хорошее место… Николлетт моя — отменная модистка, и причесать умеет, и в парфюмерных снадобьях сведуща! Так вот, нашла она место у какой-то богатой дамы, которая положила бы ей очень приличное жалованье и даже обещала взять с собой в путешествие, однако она очень строга по части морали, а Николлетт за себя никак не ручалась.
Что было делать? Пораскинули мы мозгами, взяла я кривую иголку с бараньей кишочкой вместо нитки — да и зашила кое-что у своей племянницы. Аккурат девица, ну не отличишь! Мало ли, вдруг выгодная партия представится, так вот вам, пожалуйста — полная невинность, на простыне после брачной ночи кровушки будет — лужа! И что ты думаешь? — возбужденно взвизгнула она, награждая внимательную слушательницу увесистым фамильярным тычком в бок. — По-моему и вышло! Николь попалась на глаза какому-то богачу-москвитянину, который был охоч до девственниц, и вот уже три года согревает его постель, ну а на жену свою он и не смотрит!
И она зашлась счастливым смехом, даже не замечая, что слушательница лежит недвижимо и смотрит расширенными глазами куда-то вдаль.
Николь! Она сказала — Николь!
Ну да, можно было бы сообразить и раньше: ведь Николлетт — это уменьшительное от Николь…
О Господи! Так вот в чем дело!
Марии хотелось враз смеяться и плакать. Ну и хитрюга! Вот почему эта девственница оказалась столь порочно соблазнительной, что Корф не захотел с ней расстаться. За ее плечами богатейший опыт любовных игр. Она обманула их всех: и опытную графиню Строилову, и наивную Елизавету, и глупую Машеньку, и, конечно, Корфа, для которого главным в любви была только кровь на простыне.
Ну и ну! Девственница Николь! Как бы не так! Вот так история! Однако же крутенько придется этой шлюхе, когда Мария, вернувшись, поведает барону эту пикантную историю… О, несомненно, он будет просто в восторге от того, каким дураком его выставили! Пожалуй, обман, учиненный Машенькой, покажется ему сущей безделицей, детской шалостью в сравнении с грандиозной аферой, затеянной Николь!
Внезапно расхохотавшись, Мария приподнялась и стиснула руки мамаши Дезорде!
— Вы и представить себе не можете, как я вам благодарна, милая, милая мадам! — воскликнула она. — Если бы вы только знали…
Она умолкла, удивленная тем, что лицо sage-femme не расплылось в довольной ухмылке от этой безудержной похвалы, а как бы враз полиняло, и в агатовых — точь-в-точь, как у Николь! — глазах проступило выражение раскаяния.
— Ох, зря ты радуешься, ma mie [119]! — прошептала матушка Дезорде. — И не проси, и не уговаривай — для тебя я такого сделать не смогу, как бы ни хотела тебе помочь. Очень уж тяжко мне с тобой пришлось… строение у тебя такое, понимаешь? Непростое… — Она отвела глаза. — Уж и не знаю, как сказать тебе… не знаю, огорчу тебя или обрадую… — Она тяжело вздохнула, словно набираясь духу, и, конфузливо сморщившись, взглянула на Марию: — Словом, детей у тебя больше не будет… я в этом почти уверена. Разве что через много лет, да и то — каким-то чудом. Но, с другой стороны, что ж в этом плохого? Коли ты от этого ребеночка желала избавиться, так, может, и другие тебе без надобности? Зато можно больше не бояться, что забеременеешь. А то всю жизнь бояться — разве это не несчастье?
Да, правду говорят умные люди, что жизнь ничего не дает бесплатно и всему, что преподносится судьбой, тайно определена своя цена… Узнав позорную правду о Николь, Мария тут же щедро оплатила ее известием о своей бездетности. Впрочем, вряд ли так уж щедро, ибо она всю обратную дорогу пыталась понять, огорчает ли ее эта новость столь сильно, сколь должна бы огорчить. Наверное, секрет крылся в том, что обе ее беременности были следствием самых тягостных событий в жизни, тут не могло идти речи не только о любви, о желании иметь дитя, но даже о сколько-нибудь нежных чувствах к их отцам. Оба раза Машею двигала похоть — и стремление спастись. Ну никак, никак она не в силах заставить себя скорбеть о грядущей бездетности, напротив: уже промелькнула шаловливая мыслишка, что ежели вновь приведетася покупать жизнь ценою своей плоти, то разве плохо, что можно будет не опасаться за последствия?
Да, мудрейшая мамаша Дезорде тысячу раз права!
Мария огляделась. Однако припозднилась же она!.. Едва миновала дворец Фонтенбло, впереди еще путь да путь, а погода портится. Мальчишка, слуга Дезорде, предупреждал, что находят облака и дорога может быть опасной, однако Мария тогда не обратила внимания на его слова; теперь же она с беспокойством озиралась.
Горячка свершенного дела, напряжение сил оставили ее, и теперь она ощущала всем телом, всем существом своим небывалую усталость. Все-таки очень много крови потеряла, после такой операции лежать бы как минимум неделю, не вставая, однако же ни минуты роздыху Мария не могла себе позволить: и так запозднилась. Удастся ли воротиться до наступления утра? За себя она не беспокоилась: выдержит как-нибудь, женщины живучи, как кошки! — а вот бедный скакун ее так и не отдохнул: идет неуверенной рысью, и вид у него такой унылый!
Внезапно впереди небо раскололось от удара грома, и Марии пришлось всем телом припасть к гриве взметнувшегося в дыбки коня, чтобы не свалиться с седла. Это усилие наполнило ее тело тягучей болью. Да, верхи — не самая подходящая поза для женщины, все естество которой только что было вскрыто, взрезано — да что же делать? Воротиться? Столько перетерпеть, чтобы вернуться с полдороги? Ну уж нет!
Небо вновь озарилось сполохами, и прекрасные стихи Галлера, подобно молнии, вспыхнули в памяти Марии:
«Und ein Gott ist's, der Bergespitzen rothet mit Blitzen![120]» — хотя холмы Фонтенбло футов в двести вышиной едва ли можно было назвать горами. Впрочем, тут же и их, и довольно высокие деревья, и сам дворец, стоящий очень неудачно, в самой низине, скрывала ночь — самая темная и дождливая, какую только можно вообразить, вдобавок набросившая на мир свое кромешное покрывало часа на три раньше урочного часу.
Ветер бил Марии в лицо, и ливень скоро не оставил на ней сухой нитки. Мало того — дождь сек столь беспощадно, что глаза нельзя было открыть, а конь, сделав несколько беспорядочных, понурых шагов, начал запинаться. Марии показалось, что он сошел с дороги, и она спешилась, взяла его под уздцы и повела.
Молнии беспрестанно кромсали небо, однако гром грохотал как бы в отдалении — похоже было, что настоящая гроза еще впереди! В бледном свете зарниц округа приобретала диковинные очертания, меняющиеся при каждой новой вспышке. К Марии подступали фигуры людей, угрожающе тянувшие к ней руки, — а через мгновение это оказывались деревья, стоящие вдоль дороги. Ей слышались грозные крики или мольбы с помощи, — но тотчас она различала только треск сучьев да хлесткие удары дождевых струй по могучим стволам. Мария боялась оглянуться — темный дворец вселял в нее ужас. Все, что она знала о нем, это то, что в нем 10 ноября 1657 года, по приказу шведской королевы Христины, был убит ее возлюбленный, красавец и повеса Мональдески, доведший своей неверностью королеву до болезни, — тень несчастного маркиза, пронзенного тремя шпагами, чудилось, влачилась по дороге, приближаясь к Марии медленно, но неостановимо, а его предсмертные стенания звучали даже громче, чем шум ливня.
Мария перекрестилась и попыталась пойти быстрее, решив положиться на волю Божию. Дождь вымочил ее юбки так, что они сделались невыносимо тяжелыми. С каждой минутой слабели ноги, и Мария уже не шла, а передвигалась еле-еле, меленькими, неуверенными шажками.
Нет, это невозможно! Надо отыскать какое ни есть укрытие и там переждать непогоду… не может же буря длиться всю ночь!
Но не успела эта благая мысль осенить измученную Марию, как гром, рокотавший поодаль, грянул, чудилось, прямо над ее головой. Насмерть перепуганный конь рванулся в сторону; взвившись на дыбы, он вырвал из ее рук повод и тотчас канул в кромешную тьму. Мгновение Мария еще слышала шлепанье его копыт по грязи… она метнулась в ту сторону, однако через несколько шагов земля вдруг ушла из-под ее ног — и Мария заскользила по склону в бездну, туда, где при последнем высверке молнии она успела увидеть Сену, текущую футов на двести ниже дороги.
Прошло несколько мгновений смертельного ужаса, пока Мария не ощутила под руками клок травы, ветки… в своем падении она наткнулась на куст и вцепилась в него той мертвой хваткой, которой утопающий хватается и за соломинку.
Земля раскисла, и Мария ощущала, как из этой рыхлой сырости под тяжестью ее тела выдираются корни кустика. Воткнув носки туфель в склон, она принялась копать сколько могла достать выше правой, затем левой рукою, и через время, показавшееся невыносимо долгим, ей удалось вырыть несколько ямок-ступенек и по ним опять взобраться на край обрыва: по счастью, склон был достаточно пологий, и она не успела съехать по нему в самую глубь.
Полежав несколько мгновений плашмя, Мария поднялась на колени, а потом кое-как встала и побрела в ту сторону, где темнела стена леса. От слабости и страха она не могла думать, а только всем существом своим стремилась под сень деревьев, чтобы хоть как-то укрыться от дождя: так больное животное прячется в глухой чаще, чтобы там умереть… И Мария вдруг подумала, что этот вечер может стать последним в ее жизни, если не удастся укрыться от дождя, согреться, обсохнуть. Но с веток древних буков и каштанов струилась потоками вода, и земля в этих мрачных аллеях была почти такая же сырая, как и на дороге, разве что грязь не хлюпала. Благодарная судьбе и за эту малость, Мария села, приткнувшись спиной к корявому стволу, подтянув колени к подбородку, сжавшись в комок. Но тут же ее вновь пронзила такая боль, что она завалилась на бок, ощущая, что по ногам потекло что-то теплое. Кровь? Она истечет здесь кровью… несчастья не отступаются от нее!
Мария была столь изнурена духовно и телесно, что мысль о неизбежности смерти не испугала. Слава Богу, хоть не на большой дороге, а здесь, среди деревьев. Она всегда любила деревья и чувствовала всем сердцем, что они отвечали ей взаимностью. Деревья, река… они помогли бы ей, попади она в беду дома, в России, а здесь…
— Помогите мне, — шепнула она, но тут же вспомнила, что находится во французском лесу, и повторила, на всякий случай, по-французски: — Aidez-moi!..
Ей было уже не так холодно лежать на мягкой подстилке из опавших листьев; и хотя капли дождя все еще барабанили вокруг, Мария поняла, что ливень кончился. Какие-то бледные тени мелькали неподалеку, и она долго, пристально всматривалась в эти призрачные силуэты, пока не догадалась, что это лунные лучи проникли в лес: на небе, таком чистом и ясном, словно бы и в помине на нем не было никаких туч, сияла полная луна.
На душе сделалось полегче: она была не одна. Луна со своей высоты все видит… она не отвернется от Марии до самого последнего мгновения. Та же луна светит и над Россией, и, может быть, когда-нибудь ее бледный луч проникнет в спальню Любавина, коснется спокойного лица княгини Елизаветы, навеет ей вещий сон о непутевой дочери, которая опередила ее на пути в вечность…
Думать об этом даже сейчас было невыносимо, Поэтому Мария прогнала мысли о горьких слезах матушки и вообразила себе увитый белыми розами дом на улице Старых Августинцев, спальню на втором этаже, где она никогда не была… где никогда не побывает уже! Ох, если бы Господь даровал ей хотя бы еще несколько часов жизни! Если бы добраться до дома, увидеть мужа, швырнуть ему в лицо правду о его «невинной Николь», — а там, с улыбкою последнею торжества, и умереть не страшно будет!
Да нет, едва ли, едва ли… Она чувствовала, что жизнь медленно, по капле, истекает из нее.
— Ангел мой, сохранитель мой! — забормотала Мария непослушными губами. — Не оставь меня, не отступи от меня за невоздержание мое. Хранитель и покровитель окаянной моей души и тела, все мне прости, что согрешила, молись за меня Господу, да утвердит меня…
Она осеклась. Почудилось, или впрямь кто-то ломился сквозь чащу, приближаясь к ней?
Зверь? Или призываемый ею ангел? Нет, он же бестелесный, где ему столько шума произвесть!
— Помогите! — закричала Мария.
Нет, это ей лишь кажется, что закричала, на самом же деле исторгнутый ею шепот был не громче шелеста листвы.
— Мария! Где вы! Отзовитесь! — послышался голос, и она оцепенела: ей чудится, чудится, не может быть! Откуда ему взяться здесь?!
— Мария! Где… ах, вот вы где! — раздраженно выкрикнул Корф, выныривая из-под низко нависших ветвей и обрушивая на себя и на Машу водопад брызг с потревоженной листвы. — Что же вы молчите? Я так ночь напролет мог бродить по лесу!
Он близко склонился к беспомощно простертой Марии, и она увидела, как судорога прошла по его лицу.
— О Господи… — прошептал он хрипло. — Что же вы… — Он не договорил, рывком подхватил Машу на руки и ринулся к дороге, где стояла небольшая легкая карета.
— Гони! — крикнул барон, вскакивая в освещенную двумя фонарями, пахнущую духами, теплую коробочку, швыряя Марию на сиденье и принимаясь сдирать с нее мокрую, грязную одежду с проворством, выдававшим его опытность по части раздевания женщин.
Странно — именно эта мысль вырвала Марию из того оцепенелого изумления, в котором она пребывала, и дала ей силы спросить:
— Как же вы нашли меня? Случайно? Это похоже на чудо!
— Похоже, — согласился Корф, плотно укутывая ее в свой плащ, такой сухой и теплый, что Мария едва не заплакала от блаженства. — Шел-шел человек по лесу Фонтенбло, глядь — а под деревом лежит его жена. Такие чудеса случаются только в романах, да и то в плохих.
— Каким же образом? — пробормотала Маша. — Неужто Данила и Глашенька…
— О нет! — усмехнулся Корф. — Этих двух дураков можно было огнем пытать, но и тогда они упорствовали бы в своем молчании, желая лучше сгубить вашу жизнь, чем запачкать честь! — И он с брезгливой миною выбросил в окошко грязный ком, бывший некогда платьем Марии.
— Ради Бога! — простонала она.
— Что, любопытство сильнее страха смерти? — снова усмехнулся Корф. — Ну ладно, открою эту страшную тайну, а заодно предупреждаю на будущее: если что-то желаете сохранить в секрете, никогда не обсуждайте это возле камина в библиотеке!
— В библиотеке? — озадаченно переспросила Мария.
— Вот именно! Там есть такое особое устройство — что-то вроде слуховой трубы, и ее отводок ведет прямо ко мне в кабинет.
— Вы… слышали? Но ведь вас эти дни не было дома?!
— Не было. Зато Николь была. Она убирала в моем кабинете… очень кстати… и вмиг сообразила, что дуреха Глашенька действовала по вашему наущению, и кинулась ко мне, едва я воротился. Можете считать, что вы ей обязаны жизнью!
— Я?! Николь?! — Мария чуть не задохнулась от ярости, и Корф успокаивающе похлопал ее по плечу:
— Ну-ну, тише, сударыня. Это шутка. Истинные мотивы доноса Николь были не столь благородными, как вы сами понимаете. Она с огромным злорадством сообщила, что моя жена, которой я позволил разговаривать со своей любовницей столь пренебрежительно, опять беременна неизвестно от кого.
— Что?! — вскричала Мария. — Да ваша Николь… Да знаете ли вы…
— Знаю! — выкрикнул Корф, наклоняясь к ней, и его холодная, недобрая улыбка заставила ее затрепетать. — Я знаю одно, сударыня: как с вами ни встретишься, вы непременно беременны! Как говорится, к вам semper aliquid [121]!
Он наконец-то сорвал свою маску вежливого безразличия и смотрел на Марию с откровенной ненавистью:
— Что, не существует на свете мужчины, которому вы можете отказать? Ради мимолетного удовольствия в настоящем готовы пожертвовать будущим? Или скажете, что вы, подобно Роксане [122], заменили законы нравственности законами природы? Поистине, единственное, что пошло бы вам на пользу, это carcere duro [123]!
— Почему вы обвиняете, даже не выслушав?! — воскликнула Мария, заливаясь слезами. — Если бы только знали, что мне пришлось испытать, вы бы…
— Ах, бросьте ваши перемиады [124], — отмахнулся Корф. — Одно не пойму: почему говорят, будто мы сами делаем женщин такими, какие они есть? Ведь я-то к вам рук не прикладывал — за что же мне это наказание?
Он не прикладывал?! Мария готова была убить его на месте. Да если бы он не трясся за свою драгоценную честь, разве оказались бы они, ненавидя друг друга, по-прежнему скованы цепями брака? Она ему безразлична, он не знает и не хочет о ней ничего знать, так как же он смеет бросать ей в лицо слова, похожие на презрительные плевки?
— Неужто эти же губы произносят молитвы? — с ненавистью выкрикнула Мария — и осеклась, увидев, как вдруг затуманилось печалью лицо Корфа.
— Они даже могли произносить слова любви к вам, мадам… да, могли! — хрипло проговорил он, отворачиваясь, и раскаяние ужалило Марию в самое сердце; она тихонько заплакала.
— Зачем же… зачем же тогда вы пустились искать меня… зачем не бросили там, в лесу? — еле выговорила она сквозь рыдания.
Корф тяжело вздохнул:
— Так вы не понимаете?! Не могу же я допустить, чтобы жена русского дипломатического агента была найдена мертвой в лесу, будто какая-нибудь бездомная бродяжка, да еще с явными следами только что сделанного avortement!
Слезы Марии мгновенно высохли, и она прикусила губу, чтобы заставить себя молчать. Ох, как хотелось ответить… ответить, что ее визит к мамаше Дезорде был очень полезным и интересным. Рассказать бы ему все, что она узнала про Николь! Это сбило бы, сбило с него спесь!
Но нет. Она не откроет ему тайну Николь. Этот мужчина — таков, каков он есть! — вполне заслуживает, чтобы рядом с ним вечно была такая женщина, как Николь! И пусть уж они сами решают, кто из них виноват, чьих рук дело!
Глава XV ШАНТАЖ
Сказать по правде, не думала Мария, что выживет. Чудо, что она вообще смогла подняться с постели, еще тогда, в доме мамаши Дезорде; чудо, что выдержала пусть небольшое, но мучительное путешествие верхом! Тогда она была в смятении и страхе, вдобавок действовало снадобье, притупившее боль, приостановившее кровотечение, но оно не могло действовать долго, потому вдвойне, втройне чудо, что Мария осталась жива, потеряв столько крови, перемерзнув, измучившись… Впрочем, и нельзя было назвать жизнью то неопределенное состояние, в коем она пребывала не меньше четырех месяцев — с того мгновения, как, обессиленная последним приступом гнева и обиды, лишилась чувств в карете, чтобы через много, много дней открыть глаза в своей опочивальне на улице Старых Августинцев и увидеть дремлющую у постели молоденькую монахиню-сиделку, прелестное личико которой показалось ей смутно знакомым. Однако забытье Марии не было глубоким, непроницаемым. Например, как-то раз она вдруг не то очнулась, не то проснулась с ощущением небывалой, сверхъестественной легкости — и обнаружила, что не лежит в постели, а парит над ней и видит все кругом. Она увидела врача — огромного, рыжего и краснолицего мужчину, более похожего на придворного отведывателя вин, каким его могла бы вообразить Мария, — который беспокойно хлопотал над лежащим в кровати телом, кажется, отворял кровь… Приглядевшись, Мария обнаружила, что это она, вернее, ее собственное тело… но сие открытие почему-то не вызвало в ней, витающей в воздухе, никаких чувств, тем паче испуга. Она увидела ту самую юную монашенку, которая тихонько перекрестилась на православную икону Богородицы, а потом сжала в руках четки и, словно извиняясь, зашептала «Те Deum…» [125]. Она увидела Николь, которая, ломая пальцы, слушала, стоя за дверью, беспомощные возгласы доктора. Она увидела Глашеньку с Данилою, которые отчаянно рыдали под образами и били земные поклоны… Никакое чувство не отягощало Марию в те мгновения — ни жалость, ни злость. Это странное зрение ее было поистине всеобъемлющим — оно, подобно сказочной птице, пролетело над Францией и вмиг достигло России: Мария увидела Елизавету, которая вдруг вскинулась во сне и в одной рубахе, с распустившейся косой, бросилась в коридорчик, потом по лестнице — в холодные сенцы и на крыльцо; и стала там босая, в ноябрьской круговерти дождя и снега, напряженно вглядываясь в сумятицу туч, меж которыми изредка проглядывал мутный знак луны. Набежал князь Алексей, на руках понес жену со стужи, а Елизавета все пыталась оглянуться, все прислушивалась к чему-то неведомому… И от этого зрелища вольная душа Марии исполнилась нестерпимой печали, отяжелела ею. Свободы и счастья воздушного она уже не чувствовала, ее как бы тянуло к земле, зрение помутилось. Она вновь воротилась на улицу Старых Августинцев — и увидела наконец Корфа. Барон стоял в своей спальне, в которую Мария прежде никогда не заглядывала, задумчиво разглядывал сверкающую сталь тонкого английского стилета, столь изящного, что он походил на некую игрушку — смертоносную игрушку. Лицо Корфа было сурово и печально… такого отрешенного выражения Мария никогда не видела у него. Чудилось, ничто в мире не могло бы его взволновать сейчас! Однако созерцание этого застывшего лица еще пуще взволновало бестелесное существо, в которое воротилась Мария! И чем дальше смотрела она на окаменелые черты Корфа и на его не знающие покоя руки, тем более тяжелым становился дух ее, волшебное зрение мутилось… Мария ощущала, что она наполовину уже воротилась в постель, а наполовину все еще остается рядом с Корфом.
— Господи, прости меня! — вдруг произнес он столь бесстрастно, словно ставил кого-то в известность о некоем незначительном намерении, и распустил левой рукою шейный платок, открывая горло, а правую, сжавшую стилет, занес, замахнулся…
Крик, который испустила Мария, заставил содрогнуться ее тело, до этого недвижно лежавшее на кровати, но она еще успела увидеть, что стилет дрогнул и вонзился в левую руку барона… и тут же Мария открыла глаза. Толстое, краснощекое, добродушное и перепуганное лицо склонялось над нею.
— Вы… живы? — спросило оно как бы с изумлением; а потом маленькие глазки вдруг радостно засияли: — Мне удалось спасти вас, удалось!..
Такая самонадеянность отчего-то показалась Марии оскорбительной, и она снова закрыла глаза, провалилась в мягкий, как подушка, обморок, еще расслышав последние слова доктора:
— Теперь, слава Богу, есть небольшая надежда вернуть ее к жизни!
И Марии показалось, что это были самые неприятные и горькие слова, слышанные ею в жизни.
Но что поделаешь?! Утраченное здоровье медленно, но верно возвращалось, и скоро Мария стала находить в жизни даже небольшие радости: ее комната всегда, несмотря на зиму, была убрана цветами — по совету доктора, как пояснила хорошенькая сиделка Анна Полина из монастыря св. Женевьевы.
Мария, услышав такое, подавила вздох разочарования. Наивно было предполагать, что это окажется знак внимания барона; в конце концов, та страшная сцена была не чем иным, как бредом, болезненным видением; наивно предполагать, что барон намеревался из-за чего-либо лишить себя жизни. Это было бы слишком человеческим, слишком горячим поступком для такого ледяного создания, как он!
* * *
Пришел январь, а зимы не было и в помине — точно в России, например, в сентябре. Однако во всех комнатах беспрерывно пылал огонь в каминах, Мария только радовалась теплу, однако иногда с недоумением и тоскою поглядывала на чистые стекла окон: дома в эту пору лютый мороз, все завалено снегом, снег сеется, сеется с небес снова и снова. Воют ветры в полях, словно волки в лесах, а на окнах цветут диковинные белые цветы, по которым в день Тимофея-полузимника гадают, какова назавтра погода будет: коли ветви снежные подымутся выше по стеклу — к морозу, а изогнутся вниз — к оттепели дело пойдет.
А потом началась и весна, заявившая о себе появлением фиалок у цветочниц и спаржи у зеленщиков. Пригрело солнце, запели птицы, набухли почки на липах, черневших под окном Марии, — и она поверила, что и впрямь выздоравливает.
Конечно, Мария написала матушке о себе подробнейшее письмо, отправленное вместе со скорой посольской почтою через курьера, однако в том письме не было даже словечка о железном ошейнике, о проклятых чарах, о Вайяне, Николь, ремесле мамаши Дезорде — и не было там ни слова о том, что, по всему видно, надежда Марии наладить свою семейную жизнь окончательно рухнула… Зато Мария много писала о тетушке. За время болезни она почти всякий день видела графиню Евлалию в своей опочивальне, да и когда Мария, можно сказать, выздоровела и милая Анна Полина воротилась в свой монастырь св. Женевьевы, Евлалия Никандровна не оставляла племянницу своим вниманием. Как-то раз, в порыве родственных чувств, она даже посулила представить Марию при дворе, минуя Корфа — из всех ambassadrices только супруга посла могла быть официально удостоена такой чести, а жены прочих дипломатических агентов — как повезет. Корф же, разумеется, вполне придерживался принятого в светских гостиных правила хорошего тона: никогда не говорить о своей жене. Впрочем, Мария не сомневалась, что он вполне придерживается и известного совета Ларошфуко: «Всем известно, что не следует говорить о своей жене, но не все знают, что следовало бы еще меньше говорить о самом себе!» При его-то замкнутости и леденящей сдержанности — уж наверное! Однако если барон желал бы видеть свою жену никому не известной затворницей, то Мария этого никак не желала. О нет, ее вовсе не привлекала светская суета, ибо придворная жизнь — это навеки затверженный менуэт, в котором, избави Боже, исказить фигуры! И лезть пред «светлые царевы очи», пусть даже это — очи французских монархов, она тоже не хотела, однако тетушкины рассказы о короле и королеве Мария, во всяком случае, слушала с удовольствием. Побывала она наконец и в доме графини, до смешного напоминавшем тот, где она останавливалась в Санкт-Петербурге, с тем же гомоном птиц и ароматом саше, однако обнаружила, к своему изумлению, что расфранченная графиня, хотя и не была в большой нужде, но вела хозяйство, сильно поприжавшись. Во всем заметно было напыщенное желание пустить пыль в глаза, но средства были плоховаты, а потому в передней лакеи были в гербовых презатасканных ливреях; в гостиной золоченая мебель местами стояла без позолоты; хрустальные люстры лишились многих подвесок — ну и так далее; во всем просвечивало то ли неряшество, то ли скудость. Однако сие не мешало придворным дамам вовсю бывать у Евлалии Никандровны. Русская графиня, жизнь прожившая во Франции, была интересна тем, что эта дама искусилась уже светских удовольствий; она поняла людей и умела заставить ценить ее достоинства вне зависимости от состояния средств. Испытав много разочарований, она теперь жила более умом, чем сердцем, при этом оставаясь достаточно женщиной, чтобы со вниманием выслушивать сердечные тайны и давать дельные советы.
Это не был салон в полном смысле — дамы здесь не исполняли светские роли, а как бы отдыхали в антрактах.
Порою одной беседы с ними было вполне достаточно, чтобы заполнить зияющие провалы, возникшие в образовании Марии за время ее болезни. Например, она позорно не знала, что уже вышли из моды кринолины, юбки сделались менее пышными — и вообще, постепенно становятся модны узкие платья с высокой талией a' la grecque, вернее, a' l' antic [126]. Совершенно вдруг начали переменяться и прически: на висках делали теперь по пучку буклей мелкими колечками, в виде виноградных кистей, — boucles en graррes de raisin. Услыхав это, Мария приуныла, сочтя себя отставшей от жизни, однако дамы успокоили ее: новая мода прививалась медленно из-за равнодушия к ней королевы, которая слишком любила пышные юбки и пышные локоны, так что Марии пока не о чем было волноваться — разве что следовало поскорее избавиться от кринолинов.
Но гостиная графини Строиловой прельщала досужих дам прежде всего безопасной возможностью вести опасные, но и безмерно завлекательные разговоры, вроде тех, что у Людовика XVI, оказывается, половина славянской крови, ибо он родился от матери-польки, Марии Станиславовны Лещинской. Это открытие изумило и обидело Марию, ибо, на ее взгляд, у короля была самая неказистая внешность, какую только можно себе вообразить; тетушку же и собиравшихся дам более всего забавляло, что король, несмотря на «шляхетский гонор», далеко не сразу доказал королеве мощь своего скипетра; и хотя к 1784 году у императорской четы было уже двое детей, тема мужского бессилия короля и неудовлетворенности королевы продолжала всячески муссироваться — мусолиться, говоря по-русски.
Мария, при всем своем уме, была малоопытна, тем паче — в делах изощренной эротики, а потому долго не понимала, почему теткины подружки-сплетницы не то сочувственно, не то презрительно говорят о дружбе королевы и княгини Ламбаль. Мария Тереза Ламбаль была искренне преданна королеве. Принадлежа к одному из знатнейших и богатейших семейств Франции и потому не жадная до денег, не властолюбивая, нежная, сентиментальная натура, не очень умная, а потому не интриганка, не очень честолюбивая, не азартная, она с искренним дружелюбием отвечала на внимание королевы, не требовала подарков, не устраивала протекций, а ее влияние распространялось лишь на частную жизнь Марии-Антуанетты. Но в этом-то и состоял весь интерес для сплетниц, ибо и княгиня Ламбаль имела все основания быть недовольной своим браком! Через несколько дней после свадьбы она была оставлена мужем ради оперных певиц и вскоре стала вдовой: разгульная жизнь оставила ужасный след, подорвавший здоровье молодого Луи-Александра де Ламбаля. Пораженный венерической болезнью, которую пытались излечить, прописывая ему ежедневно ртуть, князь скончался в мае 1768 года, оставив девятнадцатилетнюю вдову, которая теперь, по слухам, вовсе отрешилась от мужской любви, предпочтя ей женскую дружбу.
Так Мария впервые услышала об острове Лесбос и его запретных играх, а услышав, содрогнулась. Она-то ведь тоже была несчастна в браке… нет, нет, только не это! У нее хватало присутствия духа бестрепетно выдерживать тетушкины ужимки и ее грубую откровенность, оправдываемые тем, что «elle n' ami plus de sexe![127]», однако опасливое недоверие не покидало Машу — врата ее души захлопнулись перед всеми попытками графини Евлалии и ее приятельниц навязать ей свою дружбу.
Выходило, Мария снова погружалась в одиночество — в свое бесполезное, никому не нужное и не интересное одиночество!
В самом деле — постепенно не только выказывать свои чувства, но и вообще говорить сделалось между Марией и бароном как бы верхом неприличия. Они просто жили рядом, порою неделями не обмолвливаясь ни словом, но непрестанно ощущая раздражение от соседства друг друга. И поэтому ни тетушке, ни мужу, ни кому другому не смогла рассказать Мария о том, что однажды в сумерках, уходя от графини Евлалии и уже садясь в свой экипаж, она вдруг заметила некую фигуру, вжавшуюся в стену сада и как бы пытавшуюся слиться с ней. Похоже было, что тот человек кого-то выслеживал, стараясь остаться незаметным… не вор ли, алчущий добычи? Мария хотела воротиться, поднять тревогу, да раздумала: она знала, что изощренные пристрастия теткиных подруг не по нраву их мужьям, так что кто-то из них вполне мог выслеживать здесь свою не охочую до супружеских ласк половину либо сам, либо с помощью нанятого сыщика; поэтому не дело Марии, которая все больше брезговала этими дамами, вмешиваться. Вдобавок что-то в фигуре этого человека показалось ей знакомым, и Мария так была занята попытками его вспомнить, что не заметила дороги домой. Она попусту напрягала память до самого вечера, а потом рукой махнула: верно, почудилось!
К ужину тем вечером подали прекрасное анжуйское вино, и в миг, когда Мария ощутила на губах его сладость, сердце вдруг глухо стукнуло где-то в горле — она вспомнила жар огня в камине и жаркий, алый бархат покрывала на широкой кровати, она вспомнила терпкую сладость вина, которое она шаловливо слизнула с горячих губ…
Она вспомнила этого человека.
Вайян!
* * *
Удивительное дело! До сей минуты Мария почти не думала о нем, даже в связи с беременностью, которая была в ее сознании как бы следствием вообще всего приключения в замке, а не объятий на кровати под пологом. Не менее удивительно, что никто и ни разу — никто и ни разу! — ни барон, ни тетка, ни Комаровский не спрашивали у Марии, чего ради разбойники похитили ее и держали в своем вертепе. Сначала, наверное, было слишком велико потрясение от ее побега, потом как-то недосуг сделалось… а барону, очевидно, вообще было безразлично все случившееся с женой, лишь бы не страдало его renommée [128]. Ну а сама Мария начисто позабыла не только о Вайяне, но даже и о цели своего похищения — любыми пытками вынудить ее написать завещание. И вот теперь, после внезапной встречи, всколыхнулись прежние подозрения и родились новые: а не потому ли Корф и графиня Евлалия обошли молчанием сие несчастное приключение, что кто-то из них доподлинно знал его причину и опасался при расспросах невзначай проговориться?..
Это открытие наполнило душу Марии таким холодом, что она поспешила поскорее откреститься от своих домыслов, напомнив себе, что этим двоим завещание ее вовсе не было надобно. Да, муж равнодушен к ней; да и тетка, можно сказать, тоже — ведь Мария дважды не оправдала ее надежд: не сумела приобресть власть над Корфом и не захотела привлечь к себе внимания знатных и богатых тетушкиных покровительниц. Да, все так, но это — семья Марии, единственная, какая могла у нее быть здесь, в Париже, без них она окажется вовсе одна. Проще было полагать по-прежнему, что Вайян действует по наущению некоего неведомого недоброжелателя.
Теперь ей казалось, что Вайян везде, что он следит за нею неотступно… Его стройная, проворная фигура мелькала в полумраке рассвета и сумерек, мелькала меж деревьями сада; силуэт его проскальзывал сквозь неплотно затворенные окна библиотеки и блуждал по дому, словно призрак какой-нибудь неупокоенной души…
Словом, Вайян и страх перед его внезапным появлением, несомненно, какое-то время занимали бы Марию, когда бы неожиданная причина не заставила ее вновь позабыть о приключениях в старом замке.
Имя причины было — Николь.
Свойство натуры Марии было таково, что она очень счастливо умела забывать о неодолимых препятствиях. Неразрешимые загадки могли какое-то время тревожить ее ум, но, не находя разрешения, Мария умела забывать о них или подыскивать такой ответ, который устраивал бы ее, даже не будучи истинным. Ей, с ее взбаламученной, израненной душою и неопытным умом, было иначе не выжить в мире горьких загадок, ежеминутно задаваемых жизнью, а потому Мария бессознательно применялась к обстоятельствам, в то же время применяя их к себе, замечая только то, что хочется заметить. Слишком больно было думать о том, что ее муж каждую ночь расточает ласки французской девке, а потому Мария старалась не думать о Николь, как если бы ее вовсе не существовало. Ведь та всего лишь умело воспользовалась удобным моментом, а Мария его упустила — за что же, собственно, злобствовать на эту многоопытную девственницу?
Проще жить, когда образ твоего врага несложен, однако жизнь не обманешь, она любит ставить препятствия, а потому Мария почувствовала себя так, будто снова лежит под поваленным деревом, сброшенная с лошади на всем скаку, когда Николь, внезапно появившись в ее комнате, чуть не с порога заявила:
— Простите великодушно, votre excellence (тут Николь помедлила, дабы Мария успела прочувствовать издевку сего величанья), но я все забываю исполнить некое поручение, имеющее до вас непосредственное касательство. Еще с прошлого года… ах, забывчивость моя не имеет оправданий! — И она повинно склонила голову.
Мария опустила на колени недоплетенное кружево и недоверчиво взглянула на Николь.
После той достопамятной сцены на крыльце жена и любовница барона Корфа ни слова друг другу не сказали, иногда месяцами не виделись вовсе. И вот Николь стоит с видом смиренницы да еще изъясняется нарочито округлыми, любезными фразами… подозрительно!
Николь, потупясь, вытащила из-за спины скомканный батистовый платочек.
— Вот, баронесса… это ваше.
Мария опасливо взяла платочек, повертела в руках. Ее платочек, в самом деле: изысканно вышитые буквы М и К в вензеле баронской короны — Глашенька, великая мастерицам-вышивальщица, любила тешить такими вот пустячками свое самолюбие, оскорбленное за барыню, которой пренебрегал супруг-барон.
Таких платочков было у Марии с полсотни, так что один утерянный — не самая великая беда. — Ну и что? — нетерпеливо, словно ей не в меру недосуг, понукнула Мария.
— Я же говорю, — наивно хлопнула ресницами Николь, — позабыла я платочек вам передать, еще тогда-а оставленный в доме моей тетушки…
Крючок выпал из кружева и, скатившись по складкам пышного платья, стукнулся о паркет. И Мария, и Николь с равным вниманием проследили его путь и разом вздрогнули, ибо легкий этот звук показался неожиданно громким в наступившей тишине. Мария, пытаясь сообразить, что все это значит, подняла крючок…
Потом они обе враз вскинули головки, и взоры их скрестились: невинные агатовые глаза Николь таили усмешку, а Мария изо всех сил старалась, чтобы взгляд ее остался непроницаемым.
— А, мамаша Дезорде… — кивнула она со слабой улыбкою, и Николь чуть приподняла брови: наверное, не ожидала такого быстрого признания. — И что же?
— С этим платочком она передавала вам свой поклон, — продолжила Николь с той же беззаботностью.
— Благодарю, — кивнула Мария и вдруг, ловко подцепив крючком за краешек кружева на платочке, выдернула его из рук Николь, платочек упал, но Мария успела прижать его туфелькой:
— Не трудитесь поднимать. Невелика ценность! — Так ли? — вкрадчиво шепнула Николь.
И опять воцарилось молчание, потому что Марии стало наконец ясно, для чего затеян этот разговор.
— Да уж не думаю, чтобы твоя услуга опять дорого стоила. Ты же прекрасно знаешь: барону известно, где… потерян этот платок, скажем так. Мне от него нечего скрывать.
Николь улыбнулась словно бы даже ласково, как несмышленому ребенку:
— От него-то — да! А ему?
— Ему? — Мария чуть нахмурилась. — Что скрывать ему? Ну, даже если и есть что, так не лучше ли это с ним обсудить?
— Пока еще время не настало, — покачала головою Николь. — Конечно, барон стал теперь менее… добр ко мне, однако я надеюсь на вашу щедрость. Все-таки нехорошо будет, если в посольстве пойдут всякие разговоры… или в парижских салонах, где его светлость принят. Ведь кое-кому известно, что у господина Корфа не может быть детей… он этого никогда не скрывал… и вдруг пройдет слух, мол, баронесса…
Мария так резко подалась к Николь, что та отпрянула к двери и замерла на безопасном расстоянии, схватившись за ручку, готовая в любое мгновение ускользнуть. Впрочем, вспышка ярости тут же миновала, и Мария с усмешкою откинулась на спинку кресла, почти в восторге от созерцания такого бесстыдства.
— Милейшая особа эта мамаша Дезорде! Ее усилиями я чуть не отправилась на тот свет, однако ни я, ни барон — никто из нас и не подумал хоть как-то наказать ее за неумелое рукомесло.
— Вы боитесь огласки! — торжествующе воздела перст Николь. — Вот я и говорю…
— Не только нам следует бояться огласки, — задумчиво проговорила Мария, снова принимаясь за кружево. Она не смотрела на Николь, однако почувствовала, как та напряглась.
— Вы… про тетушку, что ли? — осторожно спросила бывшая горничная. — Она навеки покончила со своими позорными занятиями!
— Навеки? — переспросила Мария с той же патетикой в голосе, которая звучала в словах Николь, и та горячо подтвердила:
— Воистину так!
— А были ли эти занятия столь уж позорными? — спросила Мария. — Мамаша Дезорде выручила стольких женщин, попавших в беду!.. Наверняка многие вспоминают ее благодарным словом, и я в их числе. А… вы? — Она вскинула глаза, впилась в лицо Николь, с наслаждением выискивая на нем признаки страха и растерянности.
— Что… я? — запнулась Николь, и Мария не замедлила пояснить:
— Невелика хитрость сделать из беременной женщины бесплодную. По российским деревням тысячи бабок можно собрать, которые фору дадут вашей тетушке. Однако же я отродясь не слыхивала, чтобы хоть кто-то в мире, кроме мамаши Дезорде, изловчился сотворить из шлюхи девицу!
Мгновение Николь стояла с открытым ртом, и Мария не отказала себе в удовольствии звонко расхохотаться ей в лицо — в ее вытянувшееся, сразу поглупевшее лицо.
— Вы сказали… ему? — наконец выговорила Николь задыхаясь. Мария с сожалением покачала головой:
— Нет. Пока — нет. Но непременно скажу, если ты будешь болтать что попало и где попало.
— Он не поверит! — воскликнула Николь так уверенно, что Марии пришлось вцепиться в подлокотники кресла, чтобы не вцепиться в затейливо уложенные черные локоны.
— Поверит! — злобно бросила она. — Не мне, так мамаше Дезорде поверит!
Николь смотрела на нее, чуть откинув голову, как бы свысока, и столь довольная улыбка расплывалась по ее лицу, что Мария не поверила своим глазам. А Николь с торжеством тянула паузу, снисходительно озирая Марию с ног до головы, даже покачиваясь, даже словно бы пританцовывая, упиваясь собственным триумфом, смысл которого был пока непостижим для Марии… и вдруг некая вещая тень пронеслась по комнате — и Мария все поняла, обо всем догадалась, и это дало ей мгновение передышки, помогло совладать с собой и с выражением своего лица, когда Николь выплюнула роковые слова:
— Она уже никому ничего не скажет! Она умерла месяц назад!
Мария незаметно перевела дух. Она была вся напряжена, натянута до предела терпения, как струна. Она сама не знала, почему так нужно сохранить перед Николь невозмутимость, почему нельзя позволить себе ни мгновения слабости. Она никогда не считала себя особенной гордячкой, однако сейчас готова была отдать всю свою кровь по капле, только бы не поступиться ни единой капелькой гордости!
— Ого, — холодно проговорила Мария, делая вид, что поправляет косынку на груди, а на самом деле — унимая разошедшееся сердце, — значит, ты теперь богатая наследница?
— Ах, да какое там богатство! — отмахнулась Николь — видно было, что слова Марии задели ее за живое. — Ничего не скажу: тетушка была особа предусмотрительная, и, хоть кровной родней я ей не приходилась — я ведь ей по мужу племянница, — а по завещанию все мне отказала: и барахлишко, что в Париже оставалось, и кубышку, и домик в деревне… тот самый, где вы были, помните? — не отказала себе Николь в удовольствии вонзить очередную иголку в душу своей барыни и была немало раздосадована, когда та лишь небрежно кивнула. — Однако домишко оказался заложен-перезаложен, а барахлишка насилу наскреблось, чтоб заплатить за теткины похороны. Какое там наследство!..
Мария рассеянно кивнула. Что-то было в словах Николь… какая-то фраза, какой-то след, ведущий… куда? Нет, потом, сейчас не до того. Голос Николь пробивался словно сквозь вату. Слишком сильным оказалось для Марии потрясение… Ведь честь ее мужа — предмет его кичливой гордости и неустанных попечений! — в руках девки, которую он столь явно и цинично предпочел своей венчанной жене. Мария была бы вправе, затаив от нетерпения дыхание, злорадно предвкушать тот грохот, с которым вдребезги разобьется безупречная renommée ее надменного барона.
Что же с ней? Почему владеет ею сейчас лишь ненависть к этой неблагодарной твари, которая мечтает разрушить жизнь не сопернице своей — это было бы вполне понятно и объяснимо! — но благодетелю своему?
Мария задумчиво смотрела на Николь. Весьма привлекательная, изящно одетая ведьма, которая под маской наивности скрывает свою лживую сущность. Добродетель для нее была нелепостью, в пучине порока она чувствовала себя как рыба в воде — и на всех людей, думающих и живущих иначе, смотрела как на легкую добычу. Все замыслы француженки сделались ясны и отвратительно прозрачны, — Марии уже ничего не надо было объяснять. Светское общество — этакая лужа, по которой идут круги от самой малой щепочки, самого мало камушка, даже песчинки. Одно только слово, даже намек на то, что жена русского дипломатического агента избавилась от где-то нагулянного ребенка с помощью той же повитухи, которая пользует парижских девок, должен был больно ударить по репутации всей русской миссии. Вдобавок ко всему, Мария знала, что на днях в Париж прибыл новый, заменивший отъехавшего в Россию Барятинского, чрезвычайный посланник и полномочный министр, действительный тайный советник Иван Матвеевич Симолин — лицо в своих кругах известное и уважаемое как происхождением своим (его предки были родовитыми немецкими дворянами из Ревеля), так и заслугами: дипломатическая карьера вознесла его на высшие посты в посольствах в Копенгагене, Вене, Стокгольме, Лондоне — оттуда он и явился в Париж. Мария его еще не видела и о свойствах его натуры ничего не знала, однако же всем известно, что новая метла всегда чисто метет… не попался бы безвинно опороченный Корф под горячую руку! Каков беспощадный ни был он деспот, однако же Мария обязана ему своим честным именем, да и жизнью, если на то пошло: кто отыскал ее, насквозь промокшую, замерзшую, истекающую кровью в ночном лесу Фонтенбло? Кто привел умелого доктора, способного надежно сохранить ее тайну, кто не жалел денег на лечение и уход?..
Ну что ж, вот и приспела пора задать тот самый вопрос, ради которого появилась Николь в комнатах ненавистной баронессы!
— Сколько ты хочешь?
Николь смотрела оценивающе, задумчиво — можно подумать, нужная цифра уже не висела у нее на кончике языка, не была просчитана заранее! Актерка! Придется ей заплатить, делать нечего. Надо надеяться, что сумма окажется Марии по средствам. Тут она вспомнила, сколько заломила Николь в Санкт-Петербурге за свое залатанное девичество, и невольно поежилась. Ну, Бог поможет! По счетам от портных, обувщиков, галантерейщиков и прочих дамских искусителей безропотно платил барон, да Мария и не была безудержной мотовкою; так что у нее еще оставались почти нетронутыми (только на гонорар мамаше Дезорде — упокой, Господи, ее душу грешную! — пришлось израсходовать сто ливров — немаленькую сумму) деньги, данные ей «на булавки» отчимом, да фамильные строиловские драгоценности и матушкины подарки, по счастью не замеченные разбойниками. Уж как-нибудь, Бог даст, откупится она от Николь, однако неплохо бы и Корфу узнать, что его любовница шантажирует его жену.
И тут же Мария покачала головой, торжествующе улыбнулась, невольно приведя Николь в смятение.
Нет. Она, конечно, заплатит, но опять ни словом не обмолвится Корфу. Достаточно было у него поводов являть распутной жене свое благородство! Теперь ее черед. Она едва не расхохоталась от предвкушения своего торжества. Корфу вовек не узнать, что его драгоценная честь, в жертву которой хладнокровно принесена вся судьба Марии, жизнь двух ее зачатых во грехе детей, счастье и спокойствие ее обожаемой матушки, в конце концов, карьера доброго, милого, вовсе ни в чем не повинного Комаровского, будет куплена его отвергнутой, презираемой — опять же распутной! — женой за крутенькую сумму! Да, теперь у Марии в руках отменное оружие против барона. Изойдись она вся на раздумья о наилучшем способе отмщения, и то ей вовеки не додуматься ни до чего подобного! Много чего она чувствовала к своему мужу — от любви до ненависти, во всем многообразии промежуточных оттенков, — но самым упоительным из чувств оказалась жалость. Да, сейчас Марии было жаль его!
И, упиваясь ею, в восторге предвкушая свой изощренный, тайный триумф, она нетерпеливо повторила:
— Ну же, сколько?.. — И какое-то время еще улыбалась — даже после того, как услышала слова Николь, показавшиеся ей чем-то несообразным, неудачной шуткой.
— Пятьдесят тысяч ливров, — сказала француженка.
Мария бессильно откинулась на спинку кресла, уже не замечая откровенной насмешки и торжества Николь, наконец-то увидевшей ужас и растерянность этой русской гордячки.
Мария была повержена. Николь просила не просто большую сумму. Она требовала состояние!
Глава XVI «БЛАГОЧЕСТИВЫЙ ПРОЦЕНТ»
Мария балансировала по узенькой кромке тротуара и растерянно смотрела на мостовую. Несмотря на июль, день выдался холодный, шел дождь (везет ей на погоду, что и говорить!), и вода, льющаяся через водосток-дельфин с кровли дома, грозила скоро не оставить в ее одежде сухой нитки, платьишко — самое неказистое даже из небогатых Глашеньких пожиток — оказалось весьма жалкой защитой от ветра и холода. Только теперь Мария поняла, почему мало-мальски состоятельные парижане первым делом заводят собственный выезд. Не для одной лишь скорости передвижения! Карета необходима, ибо мостовая в Париже делается скатом с обеих сторон, отчего в дождь в середине улицы всегда страшная грязь. Пешеходу приходится или месить ее, или мокнуть в потоках, льющихся с крыш, что и делала сейчас Мария.
Она с тоской смотрела на большую вывеску напротив. «Mont de Piété» было начертано на ней, что означало «Благочестивый процент», и это был старейший ломбард в Париже, существовавший еще с 1640 года. Рассказывали, что первоначальные условия здесь были и впрямь благочестивые, но порядок работы сего учреждения никак не регламентировался, и постепенно оно превратилось в источник хищничества. Однако, насколько было известно Марии, здесь никто и никогда ничего не спрашивал у клиента: смотрели только на заклад; а самое главное — только в этом ломбарде могли сразу достать из сундука такую, мягко говоря, кругленькую сумму, как пятьдесят тысяч ливров.
Мария, словно невзначай, похлопала себя по колену, ощутив тяжесть пришитого под юбками мешочка с драгоценностями. Она не сомневалась, что, ополовинив свою шкатулку, сможет взять в ломбарде нужную сумму, однако не хотелось бы появиться перед ростовщиками мокрой курицей, волочащей грязный подол, а потому она никак не могла решиться ступить на мостовую.
Какая-то лоретка [129] выскочила из лавочки, попала под струи ливня, завизжала, накинула верхнюю юбку на голову и, задрав нижнюю чуть не до колен, смело ринулась форсировать мостовую, так ловко прыгая с камня на камень, что, когда добежала до противоположного тротуара, то почти и не запачкала свои босые белые ножки.
Мария с сомнением приподняла юбки. Чтобы маскарад ее был полным, она не только втихаря утащила у Глашеньки ветхое платьишко, но и без спросу позаимствовала у кухарки сабо, башмаки на деревянной подошве, и они с непривычки уже натерли босые ноги. Мария и при ходьбе-то ежеминутно боялась потерять сабо — нечего и говорить, чтобы прыгать в них подобно игривой козочке-лоретке!
Неизвестно, сколько бы еще простояла она на краешке тротуара, как вдруг рядом раздался хриплый голос:
— Боишься лапки испачкать, птичка? Давай двадцать су — и куда хочешь отнесу!
Мария нерешительно поглядела на сгорбленного человека, остановившегося перед ней. На голову и плечи его была накинута толстая куртка — защита от дождя, штаны закатаны выше колен, а босые ноги черным-черны, запачкать больше — просто невозможно. Верно, это был один из тех переносчиков, услугами которых в дождь случалось пользоваться даже богатым горожанкам, а двадцать су — не пятьдесят тысяч ливров.
— Хорошо, — кивнула Мария. — Повернись! — И чуть приподняла юбки, чтобы удобнее было взобраться на спину переносчику.
Однако тот не шевельнулся.
— Деньги-то у тебя есть? — прохрипел он. — А то давеча перенес одну такую же цыпочку через огромную лужу — ну что твое море! — а она и говорит: «Денег мне муж не дает ни су, а ежели хочешь, можешь наставить ему рога, хоть бы вон за тем углом!» Х-хе! — Он лукаво сверкнул глазами из темной щели между полами куртки.
— Я ее, конечно, уважил, однако тебя сразу предупреждаю: нынче я не в настроении, так что уж лучше сразу покажи деньги.
Мария даже зубами скрипнула от злости. Следовало бы хорошенько проучить этого горбатого наглеца, однако она смирила свою горячность и безропотно позвенела в карманчике передника монетками, доказывая свою платежеспособность.
Одобрительно хмыкнув, переносчик повернулся к Марии спиной и нагнулся, выставив тощий зад, словно готовился играть в чехарду. Мария неумело взобралась к нему на закорки и брезгливо сморщилась: мокрая куртка нестерпимо воняла псиной! Переносчик подхватил ее под коленки, подкинул повыше, чтоб удобнее было, в пять шагов одолел заболоченную мостовую и ссадил Марию на сухом.
Она торопливо расплатилась, чувствуя себя ужасно неловко: было все-таки что-то непристойное в том, как она лежала на спине у этого человека, а он бесцеремонно хватал ее за бедра. Ждала, что он возьмет деньги и уйдет, однако, сжав монетку в кулаке, он продолжал стоять, хитро посверкивая глазами из-под куртки.
— Ну ты, девушка, и проста, скажу я тебе! — изрек он насмешливо. — Откуда только берутся такие индюшки?!
— Что? — не веря своим ушам, прошипела Мария. — Да как ты…
— Да вот так! — прервал он поток гневных ее излияний — и вдруг извлек откуда-то серенький шелковый мешочек, туго перетянутый алой тесемочкой, бросил его на ладони.
Мария, забыв всякий стыд, задрала юбки, нагнулась, оглядывая себя. Мешочек с драгоценностями, подшитый к изнанке так старательно, так надежно спрятанный, исчез… нет, не исчез, это его держал в руке переносчик!
Мария бессильно уронила юбки и закрыла лицо руками. Слёз не было, — ее сотрясала дрожь отчаяния и лютой злобы на себя. Много ей приходилось слышать о сверхъестественной ловкости рук парижских fripоns [130], однако почему-то и в голову не приходило, что она сама когда-нибудь станет жертвой одного из постояльцев Двора чудес [131]. За несколько минут, что переносчик держал ее на спине, он умудрился срезать драгоценный мешочек. Господи, матушкины серьги, кольца, фамильные строиловские бриллианты! Да нет, не могло такое случиться с нею, с Марией, не могло! Она в ужасе замотала головой — и замерла, когда рука грабителя коснулась ее плеча.
— Да ладно тебе, — тихо произнес он; и даже в том состоянии, в каком была сейчас Мария, ее вдруг задела за сердце нотка нежности, прозвучавшая в этом хриплом, пропитом голосе.
— Не убивайся так. Возьми свои цацки — я пошутил!
Переносчик сунул ей в ладони мешочек и покрепче стиснул на нем ее пальцы.
Мария уставилась на него с изумлением, чувствуя, как глаза неудержимо наполняются слезами. Черная, сгорбленная фигура расплывалась, но Мария не в силах была разжать стиснувшие мешочек руки и утереть слезы.
— Я просто хотел тебе показать, что бывает, когда разевают рот! — словно сердясь на себя за свою доброту, прохрипел переносчик. — Ты в «Мont de Piété» [132] идешь — так гляди в оба глаза! Ребята там такие — ловчее меня! Гляди, на этой горе ноги не переломай!
И, наставительно погрозив Марии грязным пальцем, он прыгнул за угол, исчез; а молодая женщина еще какое-те время стояла столбом, прижимая к груди заветный мешочек и унимая судорожный, нервный смех: вор-карманник предостерегает свою жертву против воров-процентщиков! О Париж, Париж, нравы твои неисповедимы!
Однако, надо признать, решимости идти в «Мont de Piété» у нее поубавилось. Но что делать, что же делать?! Николь ни за что не хочет ждать… А Бог не выдаст, свинья не съест! И Мария, быстро перекрестившись, толкнула тяжелую дубовую дверь.
* * *
Разумеется, она в жизни не бывала в ломбарде, однако воображала его себе чем-то вроде низкого, мрачного, сводчатого подвала, где вдоль стен стоят сундуки с деньгами и драгоценностями, запертые на тяжелые замки, а ключи от этих замков висят на поясе у тощего, скелетообразного человека с лицом мертвеца, — словом, Кащея Бессмертного, который и есть ростовщик. Каково же было изумление Марии, когда под предупредительное звяканье колокольчика она вошла в просторное, очень светлое и чистое помещение, стены которого были обшиты дубовыми панелями и затянуты зеленым сукном. Вдоль стен стояли внушительные шкафы, а за конторками что-то строчили гусиными перьями несколько писцов, до того поглощенных работою, что никто из них даже головы не поднял при появлении Марии. Какое-то мгновение она была предоставлена сама себе, могла оглядеться, проникнуться уважением к этой почтенной, презентабельной обстановке. Пять дверей окружали переднюю залу: три из них были зарешечены, и Мария видела все новых и новых писцов, стоящих за своими конторками, — дела в ломбарде, очевидно, шли пребойко! Ну а воображаемые сундуки, вероятно, таились за теми окованными железом дверьми, за которые проникнуть взором было невозможно. Впрочем, в этот момент одна из дверей медленно отворилась и в узенькую щель проскользнула высокая черная фигура, столь худая и плоская, что напоминала силуэт, вырезанный из черной бумаги. Верно, это и был ростовщик, и, ей-же-ей, он весьма напоминал Кащея, так что хоть малая толика воображаемого Марией все-таки совпала с действительностью.
— Чем обязан? — отрывисто, без поклона, обратился он к Марии, пренебрежительным взглядом окинув ее гладко причесанные и убранные в простенький чепчик волосы, поношенное платье и носки сабо, выглядывавшие из-под отсыревших юбок.
— Мне бы хотелось получить деньги, — пробормотала Мария севшим голосом.
Не то чтоб она слишком оробела, хотя, конечно, не без этого: внешность человека, стоящего напротив, произвела на нее сильнейшее, пугающее впечатление!
Был он очень высок и худ, вернее, узок — напоминал черный карандаш; голову же имел маленькую, с непомерно большим, уродливо выпуклым лбом, глубоко посаженными черными глазами и крошечным носом. Окладистая черная борода несколько уравновешивала нижнюю часть лица со лбом. Тонкие губы его были почти не видны в густой растительности; голос же казался глухим и невыразительным, словно он заблудился в пышной бороде и оттого слышался как бы издалека.
Заметив, как уставилась на него Мария, ростовщик передернул плечами: верно, понял, какое впечатление произвел своей внешностью, — а потому заговорил еще невнятнее и пренебрежительнее:
— Должен предупредить: просто в долг у нас вы не получите ни су! Надеюсь, у вас есть заклад?
— Какой дурак пойдет в ломбард без заклада? — огрызнулась Мария. Конечно, она рисковала «повысить процент» неприязни к себе у этого ростовщика, однако пора было поставить его на место. — Вы не представились, сударь?
Какая-то искорка живого чувства промелькнула в безучастно-черных глазках ростовщика, и, для приличия помедлив, он снисходительно кивнул:
— Помощник директора Виданжор — к вашим услугам, мадемуазель… мадам?
— Мадам, — сказала Мария, едва сдержав нервический смешок: было что-то почти неприличное в том, чтоб в ломбарде, в этом вместилище тайных человеческих трагедий, работал человек с такой фамилией! [133].
— Итак, мадам… а как дальше? — с шутовским почтением склонился перед нею Виданжор, но Мария покачала головой:
— Это не имеет значения. У меня большой заклад, но и сумма мне нужна тоже немалая.
— Какая?
Мария посмотрела на него испытующе, потом окинула взглядом склонившихся над конторками писцов. Почудилось ей или дружный скрип перьев и в самом деле притих?
— Нет ли здесь другой комнаты? У меня важное дело.
— Комнату с кроватью? — издевательски уточнил Виданжор. — Извините, но натурой мы не берем!
От конторок донеслось приглушенное хмыканье, однако минуло не меньше минуты, прежде чем до Марии наконец дошло, что имел в виду ростовщик.
Ладони так и зачесались — дать мерзавцу хорошую оплеуху, но вдруг вспомнился переносчик, требовавший заранее показать деньги, — и Мария с трудом удержалась от смеха. Да что это у них у всех одно на уме?! Верно, и впрямь много развелось женщин, готовых заплатить собою за все что угодно, а ежели Марию приняли за одну из них, то не обижаться надо, а радоваться: выходит, маскарад ее удался как нельзя лучше.
Она перевела дух, чтобы успокоиться; не тратя больше времени на пустые слова, растянула алую тесьму, стягивавшую заветный мешочек, и, не выпуская его из рук (встреча с переносчиком все-таки кое-чему ее научила!), показала его содержимое Виданжору, который для этого соблаговолил слегка согнуть свой долговязый стан.
Теплое, веселое мерцание розовых, зеленых, желтых огней в гранях самоцветов произвели на него впечатление крепкого удара в лицо — во всяком случае, он невольно отшатнулся и уставился на Марию вытаращенными глазами. Потом из его горла вырвалось нечленораздельное бульканье, очевидно означавшее изумление или восторг; наконец Виданжор пробормотал:
— Вы были правы, мадам, тысячу раз прошу прощения. Это и впрямь важное дело, требующее полного конфиденса.
И, с видимым усилием приотворив дверь, через которую недавно сам просочился в залу, он с подчеркнуто почтительным поклоном пригласил Марию пройти в его личный кабинет.
* * *
Пройти — это оказалось все-таки не совсем точное слово. Ей тоже пришлось с усилием протиснуться в небольшую сумрачную комнатку, обставленную узкими и высокими шкафами. От мощенного плитами неровного пола и каменного потолка исходил холод; Мария невольно передернула плечами.
— Да, здесь не жарко, — согласился Виданжор, усаживаясь за стол.
Марии он указал на деревянное, довольно грубо сработанное кресло, наверняка стоявшее здесь со дня открытия ломбарда, — сиденье, спинка и подлокотники были до блеска отполированы десятками тысяч посетителей, которым так же, как и Марии, указывали на это место.
Но в кабинете Виданжора было не только холодно. В нем царила странная духота, враз отнимающая силы, Мария ощутила, как мелко затрепетало сердце, а лоб покрылся потом; смутный, необъяснимый страх вкрался в сознание. Ох, скорей бы все это кончилось! Скорей бы уйти отсюда!
Она присела на краешек кресла — даже не из вежливости, а просто ноги не держали — и неохотно передала Виданжору серый шелковый мешочек. Тот сейчас же опрокинул его на стол, и по гладко выскобленному светлому дереву раскатились, звеня, массивный перстень с изумрудом, серьги с жемчугом и бирюзой, оправленный в серебряное кружево редкостный драконит [134] на толстой витой цепочке — шейное украшение; золотой браслет с рубиновыми глазками; тончайшей работы перстень с огромным сапфиром, обрамленным множеством бриллиантов…
Мария с болью отвела глаза от этих с детства знакомых прелестных вещиц и посмотрела на Виданжора. Жадно глядя на россыпь драгоценностей, он медленно поднимался со своего стула, нависая над столом, будто черная костлявая птица.
— Сколько вы за это хотите? — спросил он зазвеневшим голосом.
— Пятьдесят тысяч ливров.
Виданжор метнул на Марию мгновенный взор и снова обратился к созерцанию украшений.
— Да… сумма немалая, — проговорил он, задумчиво теребя бороду.
— И заклад немалый! — веско заметила Мария.
Она в испуге встрепенулась, когда ростовщик начал по одной, любуясь, укладывать вещицы в мешочек: а вдруг откажет? Или просто смахнет мешочек в ящик стола — поди отними тогда! Но после следующих слов Виданжора у нее отлегло от сердца:
— Такой суммой мы располагаем.
Он помедлил, испытующе глядя на посетительницу, а потом изрек нечто такое… что Марии почудилось, что она ослышалась…
— А вы уверены, что эти вещи принадлежат вам? — спросил ростовщик.
— Что?! — вскинулась Мария. — В своем ли вы уме?
— Вполне в своем, мадам, — кивнул Виданжор, затягивая мешочек алой шелковинкой и оставляя его лежать на столе. — И я сейчас вам это докажу. — Он вынул из стола какой-то плоский, блестящий предмет и подтолкнул его к Марии: — Взгляните.
Это было старенькое зеркало, и Мария в полнейшей растерянности взяла его, глянула в тусклую, выщербленную поверхность, машинально заправив под чепчик выбившуюся прядь.
— Вот-вот, посмотрите на себя, — поддакнул Виданжор. — На свой чепец, и косынку, и платье, на свою прическу — вернее, отсутствие таковой. И не забудьте про эти сабо: несомненно, они вышли из рук очень дорогого башмачника!
— Что вы этим хотите сказать?! — ощетинилась Мария, с такой силой отталкивая от себя зеркальце, что оно пролетело по столу и со стуком свалилось во все еще выдвинутый ящик. Виданжор резко задвинул его, не отрывая от Марии пристального взгляда.
— Только то, мадам, что женщина, одетая так, как одеты вы, не может законным путем обладать подобными драгоценностями. На эту загадку есть две отгадки…
— Они мои! — запальчиво выкрикнула Мария.
— Есть две отгадки, говорю я, — невозмутимо продолжал Виданжор. — Первая: вы их украли!
— Нет! Нет, я же говорю вам! — Мария в ярости вскочила.
Виданжор помедлил: он явно наслаждался гневом посетительницы.
— Вторая: безделушки и впрямь ваши, но вы решили скрыть ваше имя и звание. Не так ли?
Мария с маху села. Она почувствовала облегчение — все же ростовщик готов ей поверить! — и невероятную злость на себя. Как можно было не предусмотреть такой простой вещи! Он трижды прав, этот Виданжор: откуда у бедной девчонки, похожей на помощницу привратницы, такой изысканный набор драгоценностей? Счастье, если удастся убедить Виданжора, что верна именно его вторая догадка.
— Вы очень проницательны, — покорно кивнула Мария, смиряясь со своим поражением. — Я, кажется, перестаралась со своим маскарадом.
— О нет! — усмехнулся Виданжор. — Истинную даму сразу видно!
Мария благосклонно улыбнулась, подумав с ненавистью: «Конечно, ври больше! То-то ты сразу обошелся со мной как со шлюхой!»
— Надеюсь, — доверительно подался к ней ростовщик, — вы простите, если я попрошу вас доказать, что моя догадка верна?
— Как это? — растерялась Мария.
— Очень просто, — небрежно взмахнул рукой Виданжор и, вынув из стола изрядно распухший от частого употребления гроссбух, раскрыл его на чистой странице. Потом обмакнул в чернильницу одно из тщательно очиненных перьев, лежавших на подставке. — Вам придется всего лишь сообщить мне ваше имя и звание, а я впишу их в нашу бухгалтерскую книгу.
— Вы шутите? — неуверенно улыбнулась Мария. — Мне сказали, что в ломбарде «Mont de Piété» клиентам гарантируется анонимность.
— И вам сказали истинную правду, сударыня… или вас следует титуловать иначе?.. Ну, остановимся пока на этом, воля ваша. Итак, мы и в самом деле не разглашаем тайн наших клиентов и не суем нос в обстоятельства, которые вынудили их обратиться к нашим услугам. И только в случаях исключительных, вот как ваш, когда у дирекции возникают вполне понятные сомнения, а сумма чрезвычайно велика, мы просим клиентов нарушить свое инкогнито. Но и в этом случае, мадам, вы ничем не рискуете, уверяю вас! Квитанция вам будет выдана на любое вымышленное имя; ну, Сюзанна, ну… — он пощелкал пальцами, как бы в забывчивости, — Манон, Дениз… А истинное ваше имя вы сами, собственноручно, впишете в нашу книгу, и клянусь, я не буду смотреть, я могу вообще выйти, пока вы будете писать? — и ваша тайна останется в полной неприкосновенности.
Виданжор подсунул Марии перо и гроссбух. Мария криво усмехнулась. Нашел тоже дурочку? «Ваша тайна останется в полной неприкосновенности» — держи карман шире! Как будто он тотчас после ухода загадочной клиентки не сунет нос в эти записи? Ох, ну что же делать, что же делать-то?
— А иначе никак нельзя? — с тоской спросила Мария, но Виданжор непреклонно покачал головою:
— Никак, мадам. Однако имейте в виду: когда вами будут возвращены деньги — а я нисколько не сомневаюсь, что это произойдет точно в срок! — страница с вашим именем будет вырвана из этой книги и сожжена на ваших глазах!
Мария в сомнении смотрела на гроссбух. Бумага в нем была тускло-коричневатая от старости. Этой книге не меньше ста лет. Верно, в ломбарде «Mont de Piété» и впрямь придерживаются добрых старых традиций? Можно не сомневаться, что сюда записывали именитых должников чуть ли не со дня основания ломбарда; судя же по толщине книги, страницы из нее вырывали не так уж часто. Верно, именитые клиенты не всегда оказывались в состоянии выкупить свое добро, а значит, уничтожить память о визите сюда… вот и страничке с именем баронессы Марии Корф суждено будет остаться в анналах «Mont de Piété».
— Ладно, — буркнула она сердито, — давайте вашу книгу! — И более не колеблясь ни секунды, быстро написала все, что требовалось, на отдельной страничке, затем потрясла над нею песочницу и тотчас захлопнула гроссбух.
— Чернила размажутся, — недовольно свел кустистые брови Виданжор.
— Ничего, — отмахнулась Мария. — Кому надо — прочтет!
Виданжор лукаво прищурил один глаз, давая понять, что оценил юмор; потом поднялся, открыл один из шкафов и с усилием выгреб оттуда на стол пять небольших, но, видимо, весьма увесистых мешочков.
Мария смотрела на них как завороженная. Ого! Ничего себе! Она и не думала, что денег окажется так много! Теперь еще вопрос, как их дотащить до дому, придется, конечно, взять фиакр, а там дождаться темноты…
— И еще одно, мадам, — прервал ее мысли Виданжор, который опять уселся на свое место и пристально смотрел на Марию, постукивая пальцами по тоненькой планочке, окружавшей его стол. — Мы кое-что забыли.
— Да? Что же? — рассеянно спросила Мария — она только что решила, что увяжет мешки в свой шейный платок и понесет их как бы в узелке… только придется, конечно, ухо держать востро: вряд ли попадется вдруг опять такой благородный воришка, каким оказался переносчик?
— Мы забыли обсудить проценты, — вкрадчиво напомнил Виданжор.
— Ах да, проценты!.. — Мария с досадой откинулась на спинку кресла. — Сколько…
Она не договорила, слова застряли у нее в горле: пальцы Виданжора с силой надавили на кромку стола, а вслед за этим из массивных подлокотников кресла, в котором сидела Мария, выскочили какие-то металлические полубраслеты, которые сомкнулись на ее запястьях, а гораздо больший обруч обхватил ее талию, накрепко приковав к креслу.
* * *
— Вы, кажется, хотели спросить, сколько процентов мы берем, — усмехнулся Виданжор, так невинно глядя на Марию, что она на какое-то мгновение утратила ощущение реальности, решила, что случившееся лишь померещилось ей, рванулась, но ледяное прикосновение обручей вернуло ее к действительности; потрясенная Мария вновь поникла в кресле-капкане, не в силах вымолвить ни слова.
— Обычно немного, — продолжал Виданжор как ни в чем не бывало. — Но если сумма превышает тридцать тысяч ливров — как в вашем случае — процент всецело зависит от договоренности с клиентом, с которым мы имеем дело. Скажем, с мужчин, старух и строптивых дамочек обычно берется сто процентов… — Он потянул планочку на краю стола, и кресло Марии слегка отъехало назад, одновременно накренясь вперед, и у нее захватило дух, когда она увидела, что каменная плита под ногами медленно уходит, открывая зияющий провал, откуда резко пахнуло гнилью, а из беспредельной глубины донесся шум стремительно бегущей воды: это был люк, открывающийся в сточные воды Парижа, бегущие по каналам, проведенным под городом. И в это самое мгновение Мария ощутила, что железная хватка на руках и талии ослабевает: браслеты и пояс размыкались, чудилось, еще миг — и она опрокинется в бездну, и зловонные потоки унесут ее тело в Сену!..
Мария испустила сдавленный крик и тотчас почувствовала, как кресло принимает прежнее положение, браслеты же ее сомкнулись с прежней силой. Она закрыла глаза; холодный пот струился по щекам, смешиваясь со слезами.
— Это, конечно, очень высокий процент, но есть и пониже, — спокойно проговорил Виданжор; Мария, вздрогнув при звуке этого безжизненного голоса, уставилась на ростовщика, в страхе ожидая какого-нибудь ужасного сюрприза. — С хорошеньких дамочек, вроде вас, мы обычно берем пятьдесят!
И тут он снова надавил на проклятую планку на краю стола, и спинка кресла резко опустилась, так что Мария вдруг оказалась лежащей навзничь. В следующее мгновение чернобородое лицо Виданжора склонилось над ней, и Мария ощутила его зловонное дыхание. Но это было еще не самое худшее, ибо тотчас же она почувствовала, как пальцы Виданжора шарят у нее под юбками — влажные, липкие, похотливые пальцы!..
— Ого, — пробормотал Виданжор охрипшим от вожделения голосом. — Мне нравятся женщины, про которых говорят: под шляпкой лед, а под юбкой огонь! — Он забросил юбки на грудь Марии и нервно сглотнул, оглядывая ее тело.
Мария взвыла, забила ногами, но это, кажется, еще больше распалило Виданжора.
— У моей красотки весьма прихотливый нрав! — воскликнул он восторженно. Ростовщик расстегнул на себе одежду и, резкими толчками согнув ноги Марии в коленях, рухнул на нее всей своей тяжестью, так что у Марии перехватило дыхание. Однако она как-то ухитрилась ударить Виданжора пятками по пояснице, а когда он, взвыв от боли, привскочил, Мария ударила его коленями в низ живота.
Виданжор отлетел от своей жертвы и, ударившись спиной о край стола, с ревом сполз на пол, сквозь зубы бранясь и причитая от боли, Мария билась на своем ложе пыток, как рыба в сетях, но без толку — ей удалось только сбросить юбки с груди. Почувствовав, что бедра ее прикрыты, она испытала некоторое облегчение, впрочем длившееся не долее минуты, ибо Виданжор поднялся и, склонившись над пленницей, уставился на нее своими жуткими глазами, более напоминавшими две дырки в желтоватом уродливом черепе.
— Думаю, пятьдесят процентов — это для тебя слишком мало, — проговорил он голосом, еще сдавленным от боли. — Мне нравится в женщинах boio [135], но за ее переизбыток приходится повышать ставки. У меня была тут пара-тройка красоток, которым пришлось заплатить по высшей шкале. Сначала — пятьдесят: мне пришлось звать на помощь писцов, чтобы девочки перестали спорить. Конечно, пришлось потом поделиться с этими лоботрясами, но ведь и Господь велел делиться, не так ли? Ну вот… а общая сумма процентов для этих строптивиц составила сто пятьдесят. Понимаешь, о чем речь? Очень простая задача!
Он ощерил свои гнилые зубы, и Мария отвернулась, едва удерживая слезы: что ж тут понимать?! Изнасиловав несчастных, их сбросили в люк!
— Ну что, моя прелесть? Какую ставку мы определим для тебя? — нетерпеливо спросил Виданжор.
Мария закрыла глаза.
Вот все и кончилось… и смерть, которая казалась недосягаемой, таящейся где-то в дальнем, недостижимом далеке, оказалась совсем рядом, но близость ее не внушает страх, а манит, как мягкая постель манит усталого путника. Ах, как бы уговорить или как бы разозлить Виданжора настолько, чтобы он сразу нажал на роковую планку, открыл люк, опрокинул туда кресло, чтобы жертва его нашла поскорее успокоение! Все равно ей не жить, если Виданжор возьмет с нее свою дань, один ли, в компании ли своих приспешников. И даже если они выпустят ее потом — долго ли ей останется жить? Пока не дойдет до ближнего моста над Сеней… Всякой цене за это благо — жить! — есть свой предел, и сейчас Мария с предельной ясностью поняла: нового насилия над собою она не перенесет… не захочет перенести! Так уж лучше пусть Виданжор убьет ее сразу, чем потом самой брать грех на душу!
И, резко повернув голову к Виданжору, без дрожи встретив его гнусную ухмылку, Мария спокойно проговорила:
— Сто процентов!
Глава XVII ЗАВЕЩАНИЕ
Виданжор опешил. Какое-те время он недоверчиво всматривался в глаза пленницы, но, ничего не отыскав в них, кроме холодной решимости, отошел от кресла, застегнул, словно бы внезапно сконфузясь, свою одежду, вернулся к столу, резким ударом вернул спинку кресла в нормальное положение и сел на стул, задумчиво глядя то на Марию, то на мешки с деньгами, то на серый, перетянутый алой нитью узелок с драгоценностями… на серьги с жемчугами и бирюзой, их иногда носила матушка… воспоминание с такой силой кольнуло Марию в сердце, что она сцепила зубы, силясь удержать стон.
— Вы деловая женщина, — одобрительно произнес Виданжор. — А предложенный вами процент достаточно вы…
Он не договорил, и если Марии прежде частенько приходилось слышать такое образное выражение, как «глаза из орбит вылезли», то теперь она увидела, как это бывает на самом деле, ибо никакими другими словами невозможно описать то, что происходило с лицом Виданжора, на котором болезненное изумление смешалось со смертельным страхом.
— Привет, Мердесак! — раздался веселый молодой голос, показавшийся Марии знакомым.
Она попыталась оглянуться, но мешала высокая спинка кресла, и ей ничего не оставалось, как смотреть на ростовщика, которому кое-как удалось справиться с отвисшей челюстью и проскрежетать в ответ:
— Дружище Этьен!..
При этих словах глаза его блеснули такой лютой ненавистью, что Мария, враз исполнившись горячей симпатии к незнакомцу, решила все-таки попытаться увидеть его. Она как-то извернулась, рискуя свернуть себе шею, выглянула из-за кресла — да так и замерла: перед ней стоял Вайян.
Мария бессильно откинулась на спинку. Ею овладела такая слабость, что чудилось, режь ее сейчас на куски — у нее недостанет сил издать хотя бы стон. Ох, злая доля… теперь и Вайян захочет взять с нее свое? И лютая смерть показалась вдруг такой желанной, что за близость ее Мария сейчас готова была отдать все, все, что у нее имелось, да беда, что ничем она не владела сейчас, ни в чем не была властна, и даже спастись от бесчестия не было ни единого средства. Однако минуты текли своим чередом, а два разбойника про Марию словно бы и забыли: все мерили друг друга взглядами, и воздух, чудилось, сгустился, дрожал от напора их взаимных чувств… недобрых чувств!
— Ты, значит, жив, Этьен! — с трудом выдавил Виданжор, на что Вайян ответил, по своему обыкновению, с хохотком:
— Жив, как видишь!
— Да, — не то сказал, не то сглотнул Виданжор. — Да… И все такой же весельчак, совсем не изменился?
— Неужто? — усмехнулся Виданжор. — Ну а ты уж точно не изменился, Мердесак [136]! («Почему он его так называет?» — удивилась Мария). Разве что бороду отрастил… чтобы скрыть шрам, который я оставил на твоей челюсти, да? Но борода — это мелочи. А вообще ты все такой же… Такой же, подлец, верно? Подлец и убийца!..
Следовало бы ожидать, что Виданжор, или Мердесак — если вдуматься, невелика разница: золотарь, чистильщик уборных, — или мешок с их содержимым — взовьется от возмущения, однако он сидел, словно прилипший к стулу, и созерцание его лица заставило Марию на миг забыть о своих страхах, ибо оно сделалось вдруг изжелта-бледным, восковым, мертвенным, и какое-то время Мердесак попусту шевелил губами, прежде чем исторгнул из себя подобие человеческой речи.
— Я должен тебе кое-что… — Он указал дрожащим перстом на стол, заваленный мешками с золотом. — Ты можешь взять это.
— За долгом я и пришел, — согласился Вайян.
В следующее мгновение возле уха Марии просвистело, Мердесак, откинулся на спинку стула, содрогнулся несколько раз — и замер в неестественно прямой позе, как бы сидя по стойке смирно; и только голова его чуть свесилась, словно он пытался разглядеть нож, пронзивший насквозь его левое плечо и пригвоздивший к спинке стула.
— Ну что, — с нежностью в голосе спросил Вайян, прижимая Марию к груди. — Натерпелась страху?
Она не ответила — никак не могла справиться с мелкой дрожью, бившей ее с того мгновения, как убивший Мердесака Вайян нажал на планку на его столе, — Мария с замирающим сердцем ждала, что кресло сейчас либо опрокинется в бездну, либо спинка его откинется, превратив сиденье в ложе позора.
Но нет — по воле Вайяна разомкнулись оковы на руках и талии Марии, и она так поспешно рванулась с кресла, что упала бы, не подхвати ее Вайян.
— Думаешь, зря я тебя на улице ограбил? — с укором спросил он, поглаживая Марию по голове. — Хотел, чтобы ты не ходила сюда, в это логовище.
Мария подняла на него глаза и, верно, смотрела столь непонимающе, что Вайян вынужден был пояснить свои слова: сгорбился и пробормотал хрипло:
— Ну ты, девушка, и проста, скажу я тебе! Откуда только берутся такие индюшки?
— Ой… — по-детски восхищенно всхлипнула Мария, — это был ты? Переносчик — горбатый, хрипатый — ты?
— Конечно, я, кто же еще? Я за тобой от самого дома шел!
«Он следил за мной, следил… зачем? Да разве это важно? Он ведь меня от смерти спас и от того, что хуже смерти!» — встрепенулась Мария.
Вайян продолжал:
— А потом поглядел на отчаяние твое и понял: уйдешь сейчас ни с чем, но потом ведь непременно вернешься сюда, если так уж понадобились деньги. А вдруг меня в это время рядом не окажется? Кто тебя от Мердесака убережет, от писцов его грязных? Вот я и отдал тебе камни, а сам сюда пробрался.
— Как же… как же? — Мария в растерянности обвела глазами каменные стены кабинета.
Вайян же расплылся в торжествующей улыбке:
— Здесь есть одна лазейка… стародавний тайный ход вон в том шкафу. Знали о нем только двое… дружков, скажем так, отпетых мошенников. Одного, подлеца из подлецов и хитреца из хитрецов, звали Мердесак, это уж потом он для благозвучия Виданжором назвался — ох и странные же у него понятия о благозвучии, не правда ли? — а второй… второй был просто молодой олух, который, однако, считал себя таким умным, таким ловким!.. Черта с два! — с внезапной горечью выкрикнул Вайян, стукнув себя кулаком по лбу. — Мы с ним, с Мердесаком, вместе делали дела, вот и сговорились, чтобы все пополам, и купили у директора ломбарда выгодное место его помощника — за хорошие деньги! А здесь ведь, в этой куче [137] благочестия, зарыты настоящие клады. Надо только иметь голову и руки, чтобы их брать, брать, брать! — Глаза Вайяна вспыхнули жадным блеском. — Однако у Мердесака голова оказалась поумнее моей, а руки — подлиннее. Один раз я поймал его на обмане — бесчестном обмане!.. Тебе смешно, что такой разбойник, как я, говорит о чести? — Вайян заметил выражение ее лица. — Но она есть, есть у нас, как и у благородных людей… только у каждого она своя, эта честь: одна для воров, другая для купцов, третья для герцогов и баронов, но законы всякой из них неумолимы!
— Да… — выдохнула Мария. — Да, я знаю.
— Ну вот. У нас вспыхнула ссора: я настаивал, он запирался, но вскоре признал свою вину с таким откровенным цинизмом, что я понял: о случайности и речи нет, он все заранее продумал и решил избавиться от меня. Я схватился за нож, он вытащил пистолет. Один из нас должен был умереть. Мердесак выстрелил, но пистолет дал осечку. Мы стояли по обе стороны стола, он — там, где сидит сейчас, — Вайян небрежно кивнул на мертвеца. — Был мой честный черед нанести удар, и вдруг Мердесак стукнул кулаком по панели, и пол под моими ногами начал проваливаться: я, как дурак, стоял на крышке люка, не имея ни малейшего представления об этом дьявольском механизме. Я падал, но еще успел метнуть нож, успел заметить, как лицо Мердесака окрасилось кровью — лезвие задело ему челюсть! — а потом я с воплем полетел в поток воды и нечистот, несущийся в Сену.
Мария стиснула руки у горла. Теперь и она смотрела на Вайяна с тем же недоверчивым ужасом, что и Виданжор: в самом деле, живой человек перед нею или призрак? Как было возможно выбраться из гибельной пропасти?
Вайян понял ее немой вопрос.
— Я ведь родился в Марселе, — пояснил он. — Знаешь, какое там море? Какие волны? О, я часто вижу во сне тихую лазурную гладь, чистую и прозрачную настолько, что виден белый песок на дне, и сияющие перламутром раковины, и розовые кораллы, и стаи разноцветных рыбок, и колыхание лиловых медуз, и я лечу над этой голубой бездной, едва касаясь ее, я безмерно счастлив… — Взор Вайяна мечтательно затуманился, но тут же вспыхнул знакомой дерзкой улыбкой. — Но гораздо чаще я вспоминаю море иным: грозные темные валы идут на берег, взбаламучивая песок и перекатывая огромные камни с такой легкостью, словно это горошины. Я был безумец, мальчишка, я любил плавать в шторм, я знал: море мне друг. Что по сравнению со штормом в пять баллов бултыханье этой вонючей клоаки, — он пренебрежительно ударил подошвой об пол, — особенно если пловца поддерживают ненависть и жажда мести? Не помню, не знаю как, но я выплыл к решетке, которая загораживает выход канала в Сену, на ней оседают крупные нечистоты, вроде трупов… — Он брезгливо передернул плечами. — Никогда не думал, что в Париже столько трупов сбрасывают в эти очистные сооружения. Может быть, кто-то прибился к решетке еще живой, вроде меня… и не смог выбраться в свободную воду реки… Самым страшным мгновением моей жизни было то, когда я осознал, что выхода нет.
Он опустил голову, умолк.
— И как же ты… — пролепетала Мария, содрогнувшись, представив себе руки, сотрясающие осклизлую тяжелую решетку в последнем усилии жизни… и все слабее, все слабее…
Вайян поднял голову. В глазах его была растерянность.
— Сам не знаю. Я бился, бился об эту решетку… Труп какого-то бедняги, уже весь разбухший, облепленный мутью, колыхался рядом, словно успокаивая: ничего, мол, ничего, оставь напрасные усилия, и помню еще последнюю вспышку ненависти к Мердесаку, помню свою клятву, что если мне не выбраться на свет Божий, то хоть призрак мой отыщет проклятого убийцу и отомстит ему. Потом я потерял сознание, потом… не помню, не знаю, что было потом, не помню, как я очутился на каменных ступеньках набережной. Может, уже в беспамятстве нашел какую-то лазейку, может быть, ржавый замок решетки не выдержал моих усилий, а может, я все еще болтаюсь там, в вонючих сточных водах, то опускаясь на дно, то всплывая, весь раздутый, оплывший, — болтаюсь рядом с моими товарищами по несчастью… Так что, возможно, это призрак мой исполнил ту последнюю клятву, явился сегодня сюда, к Мердесаку…
Он говорил, понурясь, невнятно, как в бреду, и у Марии зубы вдруг начали выбивать неудержимую дробь.
Вайян поднял голову, увидел бледное лицо Марии и, расхохотавшись, заключил ее в объятия, стиснул так крепко, что она невольно вскрикнула.
— Да нет, нет, не бойся! Я живой, живой!
— Ты уверен? — нашла в себе силы улыбнуться Мария.
— А как же?! Разве призрак может в один присест умять жареного каплуна? Да еще целый хлеб впридачу! Разве призрак может выпить две бутылки вина и… — он лукаво подмигнул, — так опьянеть, чтобы спать двое суток? Разве призрак может перенести на себе красотку через лужу и при этом успеть срезать кошелек из-под ее юбок?
— Призрак-то? — хмыкнула Мария. — Кошелек срезать? Вообще-то, наверное, нет, но твой призрак — очень даже может!
Вайян расхохотался:
— Да разве может призрак участвовать в похищении той же красотки, угрожать ей, — а потом так потерять от нее голову, чтобы свалиться с нею на кровать, предаться любви и позорно проспать ее бегство… — Он осекся, пораженный тем, как вдруг померкло лицо Марии, пораженный блеском ее глаз, наполнившихся слезами. — Что?
Она покачала головой, но Вайян побледнел так же, как она.
— Что-то было… не так? — прохрипел он.
Мария нехотя кивнула.
— И твой муж узнал?
Мария опять кивнула.
Вайян сокрушенно покачал головой и еще крепче прижал ее к себе.
— Да… я тебя подвел…
— Я бы хотела уйти отсюда. — Мария отстранилась от притихшего Вайяна.
— Да-да, конечно? — засуетился он. — Вот здесь, в шкафу, лестница, я тебе покажу…
Мария взяла со стола заветный серый мешочек.
— А ты не знаешь какого-нибудь надежного ростовщика? — спросила она с опаской.
Вайян посмотрел на нее с удивлением:
— Зачем?
— Как зачем? Мне нужны деньги, много денег — пятьдесят тысяч ливров. И как можно скорее!
У Вайяна был такой изумленный взгляд, словно он отродясь не слыхивал ничего более странного.
— Еще, что ли? Кроме этих? — Он кивнул на мешочки, лежащие на столе.
— А, ну конечно, я и не подумала даже! — Мария вновь опустила на стол серенький шелковый мешочек и, сняв шейный платок, кое-как увязала в него мешочки с деньгами. С усилием подняла узелок:
— Ого! Тяжеленький! Ну, пойдем же быстрее…
— Погоди! Ты забыла! — Вайян протянул ей драгоценности, и теперь пришла очередь Марии уставиться на него изумленными глазами.
— Это же заклад! — И вдруг до нее дошло, что имел в виду Вайян. — Я не могу. Я так не могу!
— Как не можешь? — спросил Вайян. — Как именно? Не можешь забрать свои вещи у человека, замышлявшего изнасиловать и убить тебя?
— Но это грабеж, — прошептала Мария. — Эти деньги — или драгоценности вместо них — принадлежат ломбарду.
— Так вот, чтоб ты знала, — назидательно поднял палец Вайян. — Все, что принадлежит ломбарду, хранится там, в том зале, через который ты проходила, вернее, в комнатах, отгороженных решетчатыми дверьми, а здесь был личный кабинет поганого Мердесака, и все, что он держал тут, принадлежало ему… и мне.
— Тебе?!
— Ты слышала, что он сказал? Мердесак сам признал, что он мне должен. Так что никакой это не грабеж — я просто прошу тебя взять деньги. В конце концов, — он быстро и жалобно заморгал, — это же я… это из-за меня… чует мое сердце, ты из-за меня столько натерпелась, я же чувствую!
У Марии защипало глаза. Да, кажется, Вайян или знал больше, или чувствовал тоньше, чем хотел показать! Она задумчиво теребила алую завязку, а в памяти вдруг снова возникло милое лицо матушки в мягком сиянии жемчугов. Ну разве это не будет только справедливо — что она сбережет матушкины подарки?
— Вот-вот, — кивнул Вайян. — А ей… ну, ей! — ты отдай эти деньги. На них кровь и слезы — они с нею сами сочтутся. — Мария подалась вперед, порывисто коснулась губами губ Вайяна. Он вздрогнул, словно хотел снова обнять ее, но она отпрянула и покачала головой.
— Нет, нет! Вайян, мне нужно, нужно идти!
— Хорошо.
Он пошел было к шкафу и вдруг замер, схватился за голову, понурился, словно бы даже меньше ростом сделался, и недоброе предчувствие заледенило душу Марии. Она метнулась к входной двери, рванула, но ее даже Виданжор не тотчас отворял, что же говорить о ней, обессиленной? Вайян одним прыжком оказался рядом, оттолкнул ее от двери:
— С ума сошла?! Если ты выйдешь отсюда, все увидят, как ты вышла с кучей денег, а потом найдут здесь заколотого Мердесака… И даже если я сброшу его в люк, все равно… кровь! — Он повел рукою вокруг. — Нет, ты должна уйти незаметно, я выведу тебя, только…
— Что? — прошелестела Мария похолодевшими губами; и не поверила себе, услыхав в ответ:
— Напиши ту бумагу.
* * *
Ноги Марии подкосились, она, наверное, упала бы, да какое-то сиденье, к счастью, оказалось рядом; она тяжело опустилась на него и только тогда заметила, что это — кресло, которое недавно едва не сделалось местом ее погибели.
Несколько мгновений назад она, присядь невзначай, вскочила бы с него, как с горячих угольев, а сейчас ей было все равно. Жалость, нежность, и взаимное сочувствие, и понимание, и горячность дружбы, соединявшие ее с Вайяном только что, вмиг изчезли, изчезли без следа, как бы развеялись иссушающим ветром чьей-то безмерной алчности…
Она не плакала — сухая горечь жгла горло, но в ее склоненной голове и понурых плечах было такое отчаяние, что Вайян вдруг повалился ей в ноги, схватил, зацеловал ледяные, безвольно повисшие руки, бессвязно, горячечно забормотал:
— Да что ж ты? Что? Думаешь, я враг и палач тебе? Ты пойми, ты пойми меня! Я отрекся от своих злодейств, я отказался тебя преследовать, но в руках у них, — он с ненавистью мотнул головой куда-то в сторону, — моя мать, они пригрозили, что, ежели я каким угодно манером не выманю у тебя завещание, они убьют ее, убьют! А она старуха, у нее никого, кроме меня, нет, и у меня — никого.
Мария надрывно всхлипнула и наконец-то взглянула в молящие глаза Вайяна.
— Я и тебя в обиду не дам! — вскричал он. — Бумагу пусть берут, а тебя я оберегать буду! Вот… — Он вырвал из кармана какой-то темный комок, похожий на смолу, но с острым запахом, показал Марии и торопливо сунул в ее узел: — Это пернак!
Она недоумевающе пожала плечами.
— Да пернак же, — настаивал Вайян. — Это противоядие — лучшее из всех, какие только есть на земле, лучше, чем рог единорога и клык нарвала! Ты должна будешь пить его настой утром и вечером, и оно убережет тебя от всякой отравы.
Мария быстро кивнула, едва подавив усмешку. Конечно! Пернак! А от ножа? От пули? От удавки наемного убийцы ее тоже убережет грязный комочек остро пахнущей смолы? Ох, это новое разочарование пересилило все горе нынешнего дня, и слезы, заструившиеся наконец из ее глаз, были солонее всех, пролитых сегодня!
— Ладно, — безжизненным голосом пробормотал Вайян, с трудом поднимаясь с колен. — Иди… что я, зверь какой-то? Иди, клянусь: больше ты меня никогда не увидишь!
Он дернул за ручки дверцы одного из шкафов, распахнул — и Мария с восторгом увидела узкую лестницу, ведущую куда-то вниз, вниз… к промельку дневного света, перестуку колес по мостовой, к людскому гомону — к бегству! К жизни!
Мария рванулась, не чуя ног, не чуя тяжести узелка, ступила уже на порог… да и замерла.
Ведь если она умчится сейчас отсюда, то никогда больше не увидит Вайяна (почему-то Мария не сомневалась, что он сдержит слово любой ценой). Однако враг Марии не отступится от нее. Он, вернее она, наймет новых палачей… Но Мария все же узнает имя своего тайного врага; ведь знать своего врага — наполовину победить его. К тому же она в долгу перед Вайяном, он спас ей жизнь! И тут еще образ какой-то старой седой женщины с тоскливым измученным взором возник перед ней… ждет своего сына, а его все нет, нет…
Мария тряхнула головой, прогоняя видение. Не глядя на Вайяна, вернулась к столу, брезгливо взяла забрызганное кровью Мердесака перо, лист бумаги.
— Говори, что писать. Только побыстрее, пока я не передумала.
Вайян от волнения не сразу справился с голосом, потом начал диктовать, Мария впервые в жизни писала завещание, но вряд ли уже через минуту могла бы повторить хоть одну фразу: слова Вайяна пролетали мимо ушей, всем существом своим она ждала одного — имени! Но когда оно прозвучало, Мария непонимающе, испуганно взглянула на Вайяна: она не знала никакой Евдокии Головкиной, которой отныне отходило все движимое и недвижимое имущество баронессы Марии Корф, урожденной графини Строиловой. Этот смелый шаг ничего не дал Марии: она по-прежнему не знала своего врага!
За свидетеля завещание подписал Вайян и для верности, обмакнув палец в чернила, оставил на бумаге отпечаток. Задумчиво поглядев на мертвого Мердесака, покрутил перо в руках, а потом вдруг, скрипя по бумаге и брызгая во все стороны чернилами, поставил пониже своей фамилии еще одну подпись — размашистую, вычурную. Брезгливо сморщившись, сунул в чернила уже негнущийся палец Мердесака, приложил к листку — и Мария поняла, что бывший ростовщик тоже «засвидетельствовал» сей документ, который Вайян, бережно свернув, тут же упрятал за пазуху.
После этого говорить больше было не о чем, хотя Вайян что-то бормотал о том, чтобы Мария непременно взяла фиакр, да не доезжала до самого своего дома, а сошла квартала за два, да вошла бы в дом незаметно.
Мария не удостоила Вайяна даже взглядом и торопливо вышла на лестницу. Сзади протяжно заскрипела, закрываясь, потайная дверь, и Мария резко обернулась (словно в спину ее кто-то толкнул!), обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть Вайяна, который стоял над разверстым люком и бросал в него толстый гроссбух Мердесака, на последней странице которого было записано имя баронессы Корф — вдобавок ее собственной рукой!
Мария еще успела поймать взглядом мгновение, когда этот страшный обличительный документ скрылся в бездне, а потом потайные дверцы сомкнулись, оставив ее в полумраке — и на свободе.
Глава XVIII СКАНДАЛ В ИТАЛЬЯНСКОМ ТЕАТРЕ
Оказывается, ко всему можно привыкнуть, даже к тому, что где-то неподалеку находится человек, который только и жаждет твоей смерти, ибо в руках у него — твое завещание. Вероятно, Вайян уже передал с таким трудом добытый документ этой неведомой Eudoxy, но пока о ней не было ни слуху ни духу, Мария более или менее знала всех русских, живущих в Париже, даже и состоящих в услужении у французов, тем паче — из посольских кругов. Народу было и всего-то человек тридцать, а женщин — не более десятка, но среди них не было никого с таким именем, и никто из тех, кого осторожно пыталась расспрашивать Мария, и знать не знал ни о какой Евдокии Головкиной. Конечно, рано или поздно сия дама непременно появится, но Марии, очевидно, суждено было умереть, так и не встретившись со своей наследницей.
О Вайяне не было ни слуху ни духу; наивно, конечно, воспринимать всерьез его намерения оберегать ее! Как и следовало ожидать, его пламенные речи были всего-навсего одним из средств убедить Марию написать проклятую бумагу. Впрочем, Вайян все-таки спас ей жизнь, стоит ли винить его так строго? И, словно исполняя некий ритуал благодарности этому благородному и отважному мошеннику, Мария каждое утро украдкою пила отвар пернака — горькое черное снадобье; оно слегка напоминало по вкусу кофе, и это помогало проглатывать его без особого отвращения. Но если Мария поначалу ежечасно, ежеминутно ждала какого-то покушения на свою жизнь, то постепенно ей надоело вечно ощущать себя некой средневековой грешницей, приговоренной к сожжению.
Forçe che si; forçe che no, как говорят итальянцы: может быть, да, может быть, нет, — что на свете ужаснее неопределенности?!
Эта настороженность, этот беспрестанно подавляемый страх мешали Марии жить. Текли дни, недели, месяцы — вместе с ними уходила жизнь. И ничего не происходило, ничего, кроме ожидания смерти! Даже старая тетушка жила более полнокровно, чем ее молодая красивая племянница. Евлалия Никандровна была постоянно озабочена тем, что популярность ее обожаемой королевы Марии-Антуанетты неуклонно падает — и не только в народе, но и в дворянском сословии. И Марии порою приходилось слышать обрывки разговоров между теткою и мужем: Евлалия Никандровна громко возмущалась, что не вспыхивает уже восторг при появлении Марии-Антуанетты в общественных местах: в театре, например, публика уже не вскакивает, как прежде, в едином стремительном порыве, на улицах более не слышно возгласов: «Vive la Reine!» [138] Она винила во всем трех старых теток Людовика XVI: раздосадованные тем, что не играют при дворе никакой роли, они, дескать, сидят в своем замке Бельвю и мусолят, и передают дальше все слухи об очередных сумасбродствах «австриячки», все сплетни об ее амурных приключениях. В Бельвю сочинялись коротенькие язвительные клеветнические куплеты, которые затем разносились по городу и даже проникали в королевский дворец.
А Корф возражал: мол, гораздо опаснее этих брызжущих слюной старух и их приспешников будет новое поколение врагов короля и королевы. Он неприязненно относился к герцогу Орлеанскому и не сомневался, что королева, по легкомыслию своему воспрепятствовавшая его назначению на пост командующего морским флотом, нанесла ему тяжелейшее оскорбление, а тщеславный герцог был не из тех, кто не поднимет перчатку. Корф опасался, что все недовольные тем, как Версаль обособил себя от нужд страны, смогут найти вождя и поддержку в Пале-Рояле…
Мария мало что понимала в этих разговорах. Однако упоминание о Пале-Рояле ее зацепило: ведь этот дворец — кроме галереи с галантерейными лавками и флигеля, в котором жил герцог Орлеанский с семьей, — вернее, сады этого дворца были известны в Париже как грандиозный maison de foléranse [139], центр общественного сладострастия. С девяти часов вечера множество женщин легкого поведения прохаживались по аллеям, бросая на прохожих призывные взоры; они в любую минуту готовы были удалиться со своими кавалерами в комнатку на верхнем этаже, в любой закуток, коридорчик или просто за дерево. Всем было известно, что существовал даже некий «Тариф девиц Пале-Рояля», где можно было увидеть следующие строки:
«Викторина, Пале-Рояль, стакан пунша и шесть ливров.
Аспазия, редкостный темперамент, шесть ливров.
Розали, с красивой грудью, шесть ливров…» Ну и тому подобное.
Ходили слухи, что нет в Париже мужчины, коренного парижанина или приезжего, даже из-за границы, кто хоть раз в жизни не открыл свой кошелек для любезных и опытных жриц Пале-Рояля. Эти слухи наполняли душу Марии яростью. Она представляла себе каштановые аллеи, где царили тишина и сумрак. Свет звезд терялся в тени деревьев. Из аллей неслись тихие, сладострастные звуки музыки и призывный шепот… Раздражало, конечно, и присутствие в доме торжествующей Николь. Но думать, что барон может оказаться как-нибудь ночью среди вековых дубов старинного сада, — это было нестерпимо!
Все-таки удивительно, отчего так уязвляла Марию холодность барона к ней? Ее глупое сердце — точно маяк: оно то чернело от ненависти, исполнялось равнодушием к Корфу, а то вспыхивало, жаждя его нежности, поддержки, ласки. Муж так близок — и так неизмеримо далек!
Мария ревновала к Николь. Более того: она даже завидовала всем мало-мальски расположенным друг к другу супругам. Нечего и говорить о том, что происходило в душе Марии, когда она, увидев на полотнах Рубенса одно и то же женское лицо, услышала от какого-то знатока живописи: «Не дивитесь повторению: это лицо Рубенсовой жены, красавицы Елены Форман. Рубенс был ее любовником-супругом и везде, где только мог, изображал свою Елену».
Любовником-супругом!.. Мария прекрасно понимала, какую роль играет ночь в жизни мужа и жены. Вайян раскрыл ей обольстительность ее тела, и Мария иногда позволяла себе подумать: а что, если бы Корф хоть раз решился навестить ее ночью, предаться с нею любви. Возможно, ей удалось бы отыскать путь и к его сердцу…
Мария сначала гнала от себя эти мысли, считая их оскорбительными, однако они все более властно завладевали ее сознанием, сделавшись для нее в конце концов idee fixe [140]. Жизнь слишком часто предоставляла ей возможность взглянуть в глаза смерти, и она не могла не думать чего-нибудь вроде: «Прожить жизнь как все, а потом умереть, не зная, для чего жила?» А для чего живет женщина, если не для того, чтобы быть любимой? Она вполне могла бы повторить вслед за герцогиней де Шеврез: «Я думаю, что предназначена быть предметом невероятной страсти!» Вот чего хотелось ей отчаянно, безмерно: взаимной, страстной любви. Верной любви! Мария жаждала любви мужа, но не знала, как ее добиться. И все же у нее были основания надеяться: ведь если она откроет Корфу секрет «невинности» Николь, тот брезгливо отвернется от своей метрессы, а узнай он о том, как Мария рисковала жизнью, пытаясь оберечь его доброе имя, — не исполнился бы он уважения и нежности к жене? Но у Марии язык не поворачивался так явно потребовать награды, вдобавок она не сомневалась, что проклятущая Николь уж нашла бы, как отбрехаться, и откровения Марии выглядели бы тогда в глазах мужа un mélodrame trop ridicule [141].
Сказать по правде, Мария надеялась, что, сделавшись богатой, бывшая горничная в один прекрасный день исчезнет из дома на улице Старых Августинцев, но ничуть не бывало: образ жизни Николь нисколько не изменился с появлением у нее пятидесяти тысяч ливров; небось хранила их где-то в кубышке, на черный день, дожидалась, когда прискучит барону согласно прописной истине: «La passion se satisfait et la tendresse s'évanouit avec elle» [142]. Впрочем, если даже в отношениях Корфа с Николь не было и намека на нежность, ничто не указывало, что тот день, когда его страсть будет удовлетворена, уже близок, и Мария представить не могла, как бы ей привлечь к себе внимание мужа.
Выпадали минуты, когда ей приходили в голову самые невероятные прожекты. Вот окажись Корф масоном, она и сама вступила бы в братство вольных каменщиков, ходила бы в нелепом передничке, исполняла бы нелепые ритуалы — только бы приблизиться к нему! А что такого? Тетка рассказывала, что масонство среди дам света сделалось очень популярным, ибо страсть к тайне — главное женское свойство. До 1774 года женщин не допускали в ложи, но вот французские масоны любезно согласились создать женские секции, названные вступительными ложами. В «Перечне правил» говорилось: «Самая совершенная часть рода человеческого не может быть постоянно изгоняема из тех мест, которые она призвана украсить. Мы позволили нашим сестрам участвовать в наших таинствах, в которых они могут и даже должны участвовать, напомнив им наш принцип и заставив продвинуться к нашей главной цели».
Тетушка поведала Марии, что множество знатных дам принадлежали к обществу масонов, например графиня де Шуазель, графиня де Майн, графиня де Нарбон, графиня д'Арфи, виконтесса де Фондоа. 10 января 1781 года княгиня де Ламбаль стала магистром всех женских лож во Франции, и Мария не сомневалась, что Евлалия Никандровна тоже не осталась в стороне от нового светского поветрия. Во всяком случае, она всячески расписывала племяннице соблазны свободного братства, вернее, «сестринства» под знаменитым девизом: «Молчание и добродетель». Однако стоило Марии узнать, что, дабы достигнуть высших ступеней в обществе, следует, в числе прочего, поцеловать зад собачки, как неосознанная брезгливость ее по отношению к модной забаве еще более укрепилась. Какая-то тина… или паутина, Бог весть! Это не для нее. Тем паче, что, даже окажись она в масонской ложе, вряд ли ей удалось бы встретить там Корфа: он ненавидел масонов и не раз во всеуслышание объявлял сие движение пустой и опасной игрой, а приезжих русских, о коих было известно, что они — масоны, всячески сторонился. О прогрессивности вольнодумства Корф и слышать не желал, полагая свободомыслие пороховой бочкой, а масонов — лукавыми поджигателями ее, которые лишь выжидают удобного момента, чтобы способствовать разложению государства — Франции ли, России, какая разница? — ибо противопоставляют и предпочитают выдуманную организацию нескольких тысяч человек исторически сложившейся национальной общности, изымая из обихода само понятие национального родства. Ни в какое вообще братство людей Корф не верил: по его мнению, каждому было уготовано в жизни свое место, у каждого было свое предназначение: у ремесленника — исправлять свое ремесло, у крестьянина — лелеять земные произрастания, у государя — содействовать процветанию государства, у полководца… ну и тому подобное. «Да, — помрачнев, подумала Мария, в очередной раз услышав эти слова, когда Корф спорил с графиней Евлалией, — ежели следовать этой логике, то мое предназначение — бесконечно и безуспешно ожидать мужа в холодной постели, в то время как он согревает постель бывшей горничной!»
Она вообразила увешанную картиночками, уставленную безделушками и вазами с цветами, уютную, чистенькую, обитую шелком, благоухающую, точно коробочка из-под духов или бонбоньерка [143], комнатку Николь, ее розовую, пышную, со множеством подушек и подушечек постель, вообразила и саму Николь, терпеливо ожидающую на этих подушках и подушечках появления своего господина — под сенью кисейного полога, в соблазнительном полумраке, — и вдруг ее поразила мысль, такая неожиданная, острая и заманчивая, что Мария принуждена была торопливо удалиться из гостиной, чтобы никто не заметил ее заалевшего лица, ее растерянности и трепета пробудившейся надежды. Воистину, как говорят англичане: «Не одним только способом можно убить кота!»
* * *
Строго говоря, дело было ведь только в клятве! Только в той дурацкой клятве, которую дал в сердцах барон, открыв обман своей юной жены; а потом, повинуясь диктату неумолимой чести, оказался принужден держать эту нелепую и оскорбительную для обоих супругов клятву. Что, ежели волею обстоятельств он ее нарушит? Случайно, разумеется, нечаянно, даже не ведая, что совершает клятвопреступление?.. Как он поступит в этом случае? Возненавидит Марию еще пуще или отдастся на волю рока, смирится со своей ошибкою? Могло случиться и так, и этак, но узнать доподлинно можно было только одним путем: рискнув. И Мария решила рискнуть!
Она питала слабость к драматическим эффектам, которые люди просвещенные имеют обыкновение недолюбливать и даже презирать: к роковым выстрелам в разгар любовного свидания; нечаянно оброненному письму, случайно услышанной фразе, которая непременно явилась бы ключом к какой-то тайне; прощальному поцелую — и тому подобным слагаемым мелодрам и любовных романов, до коих Мария была большая охотница. Не имея представления о законах кольцевой композиции, она, однако же, интуитивно ощущала, что наиболее эффектным и сильнодействующим средством для возбуждения угасших чувств Корфа к жене должна явиться новая сцена подмены… только на сей раз вместо Николь в роли «подсадной утки» будет она сама, Мария!
Оставалось две малости: выбрать удобный момент, когда Корф не будет столь уж занят делами и отношение его к жене окажется не цинично-равнодушным, как обычно, а хотя бы равнодушно-приветливым; и второе — сговориться с Николь. Судьба предоставляла благоприятную возможность: через несколько дней в Итальянском театре должна быть премьера мелодрамы французского автора Бульи «Петр Великий». Спектакль посвящался русскому государю, в театре следовало присутствовать всему дипломатическому корпусу, и Мария, уже будучи предупреждена, готовила новый туалет для премьеры. Зная, что муж ее — большой патриот, она не сомневалась, что ничто не приведет его в лучшее расположение, чем пьеса, возвеличивающая достоинства русского духа. И вот за день до сего знаменательного события, невзначай столкнувшись с Николь в пустой библиотеке (это «невзначай» было старательно подстроено с помощью неусыпной слежки Данилы и Глашеньки), Мария впервые с того дня, когда передала вымогательнице мешочки с деньгами, добытые столь незабываемым способом, заговорила с Николь: обратилась к ней с вежливым вопросом, где похоронена мамаша Дезорде.
Сначала Николь так изумилась, так развеселилась, что Марии почудилось, будто у наглой девки от смеха сделается припадок, однако тотчас же Николь вспомнила о своем достоинстве и надменно вскинула брови (с некоторых пор она усвоила себе такую манеру):
— А вам-то что? — Николь сделала попытку пройти мимо, однако Мария загородила ей путь.
— Значит, есть — что, коли спрашиваю! — повысила она голос и как бы невзначай подтолкнула Николь к камину. Нет, ей совершенно не хотелось, чтобы Корф, находившийся сейчас в своем кабинете, через отводную трубу невзначай услышал ее разговор с Николь, однако Николь должна была желать этого еще меньше. И расчеты Марии оправдались: бывшая субретка сбавила тон.
— В Фонтенбло, где же еще, — нехотя пробормотала француженка, делая попытку уйти, но Мария вновь преградила дорогу.
— Бываешь ли ты на ее могиле?
Николь глядела непонимающе:
— Уж давненько не была. Все недосуг!
Кровь бросилась Марии в лицо. «Эта тварь намекает, что мой муж не может расстаться с ней ни днем, ни ночью!» Она вдруг почувствовала себя настолько оскорбленной тем, что вынуждена прибегать к уловкам и хитростям, дабы получить принадлежащее ей по праву, что захотелось плюнуть на Николь — в буквальном смысле плюнуть на дорогие кружева ее чудесного платья! — и уйти прочь, спрятаться в своих комнатах, смириться с очевидностью истины о том, что нельзя воротить потерянного, забыть и о Корфе, и о Николь, и о своей ревности, мучительной, как мистраль [144]. Плиний писал, что греки в античные времена в случаях мистраля садились в масляные ванны, чтобы уберечь свои нервы… но не просидишь же в такой ванне всю жизнь, снова и снова упрекая себя за то, что однажды не отважилась сделать решающий шаг и, быть может, упустила единственный шанс?! Пришлось приложить немалые усилии, чтобы подавить приступ раздражения и снова заговорить с Николь.
— А ведь нехорошо забывать о близких! Мамаше Дезорде ты стольким обязана…
Николь плечами пожала:
— Да и вы тоже!
— И все-таки не я была ее племянницей, а ты! — усмехнулась Мария.
Николь нахмурилась:
— Не пойму я что-то, сударыня, куда вы клоните… Скажите прямо, что вам надобно?
— Идет, — кивнула Мария, не любившая долго ходить вокруг да около. — Мне надобно, чтобы ты нынче же вечером отправилась в Фонтенбло навестить тетушкину могилку и не возвращалась прежде завтрашнего вечера («Будем надеяться, что места тебе здесь больше не сыщется!» — подумала она и вздрогнула от предвкушения счастья — такого возможного, такого близкого!).
— Это вам зачем?! — удивилась Николь.
— О твоей душе пекусь, милочка, — участливо улыбнулась Мария. — О памяти мамаши Дезорде. И вот еще что: господин барон ничего не должен знать о твоем отъезде. Ты просто уедешь — и… все.
— Ну и причуды у вас, votre excellence. Всегда готова оказать вам помощь, однако не в столь невыполнимом деле!
Мария была готова к отказу, мгновение она смотрела в улыбающееся личико Николь, а потом тихо проговорила:
— Оно гораздо менее невыполнимо, чем тебе кажется. Рассуди, чего ты желаешь больше: отдать долг праху мамаши Дезорде или вместе со мной отправиться к барону и выслушать мой рассказ о том, как ты увеличила свое состояние на пятьдесят тысяч ливров?
— Вы скажете ему? — пролепетала Николь, бледнея так, словно готова была грохнуться в обморок; и Мария мысленно назвала себя идиоткой за то, что по совершенно ненужному благородству не прибегнула к этому средству воздействия на Николь гораздо раньше.
— Непременно скажу, уверяю тебя! Ты небось удивлялась, что я этого не делаю?
— Нет, — покачала головой Николь, и в глазах ее Мария разглядела нечто похожее на жалость. — А вот сейчас удивилась, это правда. Ведь раньше я не сомневалась, что вы молчать будете! Вы хотели сохранить хоть малое превосходство над ним, вам приятно было сознавать, что честь его в руках ваших — на то я и рассчитывала. Однако сейчас вам, верно, очень нужно, чтоб меня нынче ночью дома не было, ежели вы все открыть барону решились… — говорила Николь, словно бы размышляя вслух, и Мария была неприятно поражена проницательностью этой противной француженки. — Да в том нужды нет, сие ни вам, ни мне не надобно. Будь по вашему: воротясь из театра, вы меня здесь не застанете.
И, сделав реверанс, Николь выскользнула из комнаты.
* * *
В Париже было пять главных театров: Большая опера; Французский театр; Итальянский театр; графа Прованского, более известный под названием «Theatre de Monsieur»; и варьете. Всякий день игрались в них спектакли, и всякий день бывали они наполненными людьми (в шесть часов вечера билетов уже не достать ни за какие деньги!), желающими вновь и вновь видеть мгновенную смену декораций, способную рай мигом превратить в ад; и полет искусных танцовщиков; и исполненную страсти жестикуляцию драматических актеров; и лица, столь прекрасные или ужасные, какими не бывают обычные человеческие лица; и слышать голоса и речи, исторгающие у зрителей то безудержный смех, то неутешные слезы, — словом, желающих снова и снова испытать в один вечер такой сонм страстей, что не у каждого и за всю жизнь столько наберется, было предостаточно.
На премьере зал всегда был переполнен, и у Марии от духоты слегка кружилась голова. Она с мужем и еще двумя-тремя знакомыми сидела в особой ложе; перед самым началом появился и господин посол. Иван Матвеевич Симолин оказался невысоким плотным круглолицым человеком с проницательным взглядом черных глаз. Мария присела перед ним, робея не столько самого этого человека, сколько того, что она вершка на два превосходила его высокопревосходительство. Однако Симолин с видимым восхищением окинул взглядом стройный стан Марии, выгодно подчеркнутый образцом elegantiarum [145] — синим платьем из тончайшего бархата с низким декольте, открывающим шею, плечи и грудь безупречных очертаний. Русые волосы Марии были с продуманной вольностью разбросаны по плечам и перевиты шелковыми нитями, украшенными жемчугом, мягкий отблеск которого придавал ее взволнованному лицу некую таинственность.
Впрочем, хотя в глазах Симолина Мария прочла восторженное изумление, он ограничился доброжелательным приветствием, не сделав ни одного комплимента ее красоте, и тотчас заговорил о достоинствах молодого актера Мишю, которому предстояло играть роль Петра и который был, по слухам, живым портретом русского государя. И Мария подумала, что Симолин, верно, очень проницательный человек, если с одного взгляда уловил, что барон Корф не принадлежит к числу тех людей, которых приводят в восторг славословия, расточаемые их женам. Возможно, конечно, до Симолина дошли некие, les on-dits [146] о не самых теплых отношениях между супругами, а потому он не ступил на скользкую почву обмена светскими любезностями, опасаясь совершить бестактность. Так же внешне сдержан оказался и еще один собеседник — его представили Марии как господина Сильвестра, близкого друга Корфа. Это был высокий яркий брюнет, красивое лицо коего портило лишь надменно-отчужденное выражение. Строго говоря, собеседником его назвать было нельзя: он вообще не произнес ни единого слова, не поддерживал общего разговора, только слушал, смотрел — вернее, скользил взором вокруг, и лицо его оставалось по-прежнему скучным; и хотя Мария порою ловила его взгляд, глаза Сильвестра оставались непроницаемо-холодны. Этим он напомнил ей барона; кажется, они и впрямь были близкими друзьями! Видеть презрительное отчуждение на лице мужчины ей и без Сильвестра изрядно осточертело, а потому она перестала обращать на сего безмолвного господина внимание. Мария чувствовала себя обделенной. Она вдруг всем сердцем возжелала самых пустяковых и даже банальных словесных перлов, какие обычно принято щедрою мерою дарить хорошеньким женщинам. Ей хотелось этого именно сегодня, сейчас, чтобы привлечь глаза и сердце мужа к своей красоте и прелести, чтобы взволновать его! Он ведь мгновенно забыл о существовании своей жены и принялся вместе с Симолиным оживленно обсуждать одну забавную историю.
Несколько дней назад весь Париж собрался в Люксембургском саду, клюнув на объявление в газетах: некий аббат Миолан намеревался подняться в небо на воздушном шаре. Шар мерно колыхался, достигая своей круглой макушкою вершин самых высоких каштанов, однако отважного воздухоплавателя видно не было. Ждали два, три часа, шар не поднимался. Публика нетерпеливо спрашивала: когда начнется эксперимент? Появившийся наконец аббат важно расхаживал вокруг шара, отвечая: «Через несколько минут!»
Время шло. Аббат ходил туда-сюда, то и дело облизывая палец и подымая его, чтобы определить направление ветра, хотя лишь слепой не мог не видеть, что вершины деревьев чуть клонятся к востоку: ветер, стало быть, дул западный. Зрители с восторгом и благоговением следили за действиями воздухоплавателя, вернее, за его бездействием, и в конце концов собравшимся все это надоело; народ бросился на аэростат, изорвал его в клочки и смял корзину. Аббат Миолан спасся бегством. На другой день в Пале-Рояле и на всех перекрестках мальчишки кричали, размахивая только что отпечатанными газетами: «Кому надобно изображение славного путешествия, счастливо совершенного славным аббатом Миоланом, — всего за одно су, одно су!»
— Сей осторожный смельчак умер гражданской смертью, — уверял теперь Симолин.
Корф усмехнулся:
— Горе герою, который придется не по нраву своим почитателям! Тогда он увидит, что был всего лишь марионеткою в руках толпы.
Симолин вскинул свои редкие брови, похожие на две перевернутые запятые:
— По-вашему, народ сам делает для себя лидера?
— Избирает его, — поправил Корф. — Это лишь иллюзия, будто некий человек способен ни с того ни с сего явиться и взбудоражить толпу нелепыми идеями. Он всего лишь умелый дирижер, способный извлечь мелодию из нестройной игры разных инструментов. Однако без оркестра он всего лишь жонглер с палочкою в руках.
— Вы отрицаете роль отдельно взятой личности в движении масс? — с удивлением спросил Симолин.
— Я утверждаю ее! — с почтительным полупоклоном ответил Корф. — Хвала и слава умелым дирижерам. Однако беда, коли собственная игра приестся оркестру, — тогда он сомнет того несчастного, который принудил музыкантов играть не то и не так! Все дело лишь в удаче, в благосклонности Истории…
Мария смотрела на барона с любопытством. Она не совсем понимала, о чем идет речь, но видеть мужа таким оживленным, воображать, что он обращается не только к Симолину или безмолвному Сильвестру, но и к ней, ее пытается убедить, — о, это было замечательное ощущение!
— Однако, — заметил Иван Матвеевич, — однако сейчас нам как раз предстоит увидеть лицо, к которому История была весьма благосклонна.
Он оказался прав: тотчас заиграла музыка и раздвинулся занавес — спектакль начался.
Действие мелодрамы «Петр Великий» происходило недалеко от границ России, в какой-то маленькой деревеньке на берегу моря, где русский государь под видом плотника Петра с другом своим Лефортом учится корабельному искусству и всякий день трудится на пристани. Мишю был в самом деле очень хорош в этой роли; во всяком случае, сердца русские не желали видеть подмены. Актриса Роза Рено, милая девушка лет двадцати, которую считали в ту пору лучшей певицей в Париже, играла роль молоденькой, прелестной вдовы Катерины, в которую влюбился пылкий во всех движениях сердца государь и открыл ей страсть свою. Катерина тоже безмерно влюблена, и Петр поклялся быть ей нежным супругом, слово его свято. Лефорт, оставшись наедине с государем, недоумевал и в то же время восхищался: «Бедная крестьянка будет супругою моего императора! Но ты во всех своих делах беспримерен, — ты велик духом своим; хочешь возвысить в отечестве нашем сан человека и презираешь суетную надменность людей; одно душевное благородство достойно уважения в глазах твоих; Катерина благородна душою — итак, да будет она супругою моего государя, моего отца и друга».
На этом завершилось первое действие; сдвинулись створки тяжелого занавеса, актеры вышли с поклонами; начали зажигать кругом свечи.
Мария отстранилась в тень. Пьеса глубоко взволновала ее и трогательными любовными объяснениями, и той идеей подмены, прекрасного недоразумения, коя была положена в основу сюжета. Удивительное совпадение! И нынче же вечером… Нет, лучше пока не думать о том, что предстоит. Мария сознавала, что смятение чувств не могло не отразиться на ее лице, а потому, поймав взгляд Корфа, она приняла самое равнодушное выражение, отвернулась, чтобы тут же наткнуться на взгляд господина Сильвестра. Этот смутил ее вовсе, а потому она была довольна, когда Симолин пригласил всю компанию пройти в фойе, которое, по его словам, тоже было своего рода salle de spectacle [147] — только не вымышленным, а реальным.
Однако действительность не слишком влекла Марию, и она с нетерпением ждала, когда антракт наконец закончится и начнется второе действие.
На сцене происходил предсвадебный сговор. Все жители приморской деревеньки, от старцев до юных девиц, поздравляли жениха и невесту и желали им любви и счастья. Государь был тронут до глубины сердца. Знали, что Лефорт имел приятный голос; вот и попросили его спеть какую-нибудь старинную песню. Подумав, он взял цитру и запел:
Жил-был в свете добрый царь, Православный государь. Все сердца его любили, Все отцом и другом чтили…Далее речь шла о том, как царь, побуждаемый желанием быть отцом и просветителем своего народа, странствует по свету, обучаясь всему лучшему, что создано умом и трудолюбием человеческим.
Всем понравилась песня Лефорта, особенно Катерине, которая прониклась восхищением к неведомому ей Петру Великому…
Действие пьесы продолжалось. Приехал Меншиков, вызвал императора и рассказал ему, что в России прошел ложный слух о его смерти, что злоумышленники подстрекают народ на бунты, — и сказал, что царю непременно следует возвратиться в Москву в сопровождении верного Преображенского полка.
Петр исчез из деревушки, Катерина тщетно искала его, а узнав, что он внезапно уехал, оставил ее, впала в жестокую болезнь. Однако, очнувшись, она узрела у ложа своего не кого другого, как любезного Петра, одетого уже не в платье бедного работника, а в роскошные царские одежды. Государь открыл ей все и провозгласил: «Я хотел обладать нежным сердцем, которое любило бы во мне не императора, но человека: вот оно! Сердце и рука моя твои, прими же от меня и корону! Не она, но ты будешь украшать ее!»
Вельможи упали на колени перед новой царицей, весь Преображенский полк вышел на сцену, радостно восклицая: «Да здравствуют Петр и Екатерина!» Государь обнял супругу, занавес закрылся… и Мария торопливо стерла слезинку, скользнувшую по щеке, надеясь, что никто не заметил ее слабости, вернее, целого мира прекрасных мыслей и чувств, который вдруг проснулся в ней и заставил трепетать. Душа ее была ясной, как нарисованное небо над счастливыми возлюбленными на сцене. Она была почти счастлива сейчас, казалось, это ее собственная запутанная любовная история вдруг приблизилась к благополучному завершению!
Почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, она повернула голову: Корф наблюдал за ней с легкой ласковой улыбкой. Мария попыталась принять равнодушный вид, но не смогла — сердце было переполнено! — и невольно улыбнулась в ответ.
— Я наблюдал за вами, — тихо проговорил Димитрий Васильевич, — за лицом вашим… это были живые картины!
— Я… тронута, — смущенно пробормотала Мария, изумленная тем, что не улавливает в его голосе привычной холодноватой издевки. — Это все так… так берет за душу!
— Вы правы, — шепнул Корф. — Признаюсь, я сам едва удерживал слезы: я гордился, что я русский!
— Ну что ж, — пробормотал, усаживаясь, Симолин (и он, и Корф встали, когда на сцене начались величания русского императора), — подобная пьеса имела бы успех и у нас дома, не правда ли? Одно в ней плохо: отчего это государь, Меншиков и Лефорт одеты в польское платье, а преображенцев нарядили в крестьянские зеленые кафтаны с желтыми кушаками!..
Симолин, как и Корф, говорил по-русски, забыв о Сильвестре, который, не понимая ни слова, глядел на них с любопытством; однако, словно бы вторя Ивану Матвеевичу, из соседней ложи, где сидела шумная компания французов, вдруг донеслось:
— Неужели русские и поныне одеваются столь же нелепо?
— Не только нелепо! — воскликнул другой голос. — Они к тому же носят бороды, а это доказывает их принадлежность к состоянию дикости. Ведь не брить бороду то же, что не стричь волос. Зимой на бороде, говорят, нарастают иней и сосульки… Какое варварство!
Корф вскочил и одним рывком сдернул бархатную штору, отделявшую ложи одна от другой. Соседями оказались три молодых человека, двое из которых тотчас же в испуге вскочили, а третий, развалясь на стуле, продолжал:
— А знает ли кто-нибудь, на каком языке говорят в России? Полагаю, по-польски или по-немецки.
— По-русски, сударь, — с трудом сохраняя спокойствие, проговорил Корф, словно бы он только для того и нанес ущерб имуществу Итальянского театра, чтобы удовлетворить любопытство сего, без сомнения, пьяного наглеца, который только отмахнулся:
— По-русски? Да все одно!
— Я питаю отвращение к болтунам и грубым душонкам! — процедил сквозь зубы Корф; и Симолин едва успел перехватить его за руку — барон намеревался дать пощечину пьяному наглецу.
— Димитрий Васильевич, ради Бога! — выдохнула Мария, цепляясь за другую руку мужа; она боялась за него, Симолин — за реноме русского посольства.
Однако всегда спокойный, сдержанный Корф был сейчас на себя не похож. Верно, чувства его, возбужденные патетическим спектаклем, были столь оскорблены дурацкими словами жалкого французика, что он готов был к немедленной дуэли. Силы его удесятерились, и Симолин с Марией недолго могли удерживать его.
Мария в отчаянии обернулась. Господин Сильвестр с изумлением наблюдал сию сцену.
— Сударь, помогите же! — воскликнула Мария.
Сильвестр бросился к ней в намерении тоже схватить Корфа, однако вдруг, как бы в крайнем удивлении, замер у барьера ложи, где сидел, ухмыляясь, наглый болтун, и, указывая на него пальцем, во всеуслышание возопил:
— Аббат Миолан!
Зрители уже покидали свои места, и проход мимо лож был битком забит: все спешили поскорее выйти из зала, однако, услышав этот крик, люди так и замерли.
Сотни голов повернулись к ложе; сотни глаз уставились на полупьяного француза; а Сильвестр надсаживался:
— Господа! Взгляните! Здесь аббат Миолан, который третьего дня обманул публику в Люксембургском саду!
— Аббат Миолан! — хором закричал весь партер, и зрители, словно повинуясь взмаху дирижерской палочки, простерли указующие персты в сторону ложи, восклицая снова и снова: — Аббат Миолан!
Француз, бывший пресловутым аббатом не более чем любой из присутствующих, вскочил. Хмель с него вмиг слетел; какое-то мгновение он бестолково отмахивался, а потом с досадой воскликнул:
— Это ошибка! Я не аббат Миолан! Господа, это ошибка!
Где там… Его никто и не слышал! Весь партер перебежал на эту сторону залы, изо всех лож по пояс высовывались мужчины; свешивались, словно цветы, женские головки; и голоса не умолкали:
— Вот аббат Миолан!
Француз затравленно метнулся туда-сюда, а потом, простонав: «Scelerats![148]» — кинулся вон из ложи.
И вовремя: в ложу полетела бонбоньерка, перевязанная ленточкой; та развязалась, и дохлая кошка вывалилась на стул, где только что сидел злополучный «аббат Миолан»!
Итак, вечер закончился.
Близилась ночь…
Глава XIX ЯНТАРНЫЙ БОКАЛ
Мария лежала в постели и сквозь щелочку в пологе смотрела на дверь. Глупо, конечно, будет она выглядеть, если барон так и не появится сегодня. И без того вся затея ее не слишком умна: подстерегать своего венчанного мужа в постели горничной, надеясь… на что? Ох, но Димитрий был сегодня не таким, как всегда! Эти слова искреннего восторга по завершении спектакля; то, как барон поцеловал руку жены, цеплявшейся за него от страха перед дуэлью; их безудержный смех над блистательной шуткой господина Сильвестра — во всем этом было что-то особенное, какая-то искра редкостного взаимопонимания, вдруг вспыхнувшая между ними, — а ведь Марии и не припомнить такого ощущения за всю их супружескую жизнь! Она лелеяла это воспоминание, уверяла себя, что было в этих мгновениях нечто, вселявшее надежду: судьба на ее стороне, и, обнаружив сегодня подмену, барон не будет слишком гневаться на жену, простит ей эту вольность — а может быть, и все прочие грехи. Теперь оставалось только ждать.
Ну что же он не идет?! Мария досадливо ударила кулаком по подушке. Правда, когда они приехали из театра, возле дома стоял фиакр, что означало: у них посетители. Так и оказалось: барона ожидал какой-то невзрачного вида человечек, и оба тотчас удалились в кабинет, Мария на всякий случай пошла в библиотеку, постояла у камина, но нет, ничего не слыхать: верно, слуховая труба действовала только в одном направлении. Но тот посетитель давно, уже не меньше часа назад, отправился восвояси: в ночной тиши Мария уловила удаляющийся стук колес фиакра. А Корфа все нет и нет. Придет ли он, в конце концов?! Может быть, он сегодня устал, и женщина ему попросту не нужна? Наверное, более искушенные в любовных делах дамы как-то возбуждают страсть в своих любовниках, побуждая их делать то, что им хочется; Марии приходилось слышать, что существуют даже особенные блюда для усиления эротического настроения: трюфели, яичный желток, мед, всевозможные специи; особенно артишоки. Считалось, что молодым девушкам неприлично даже пробовать их! Мария уже не была молодой девушкой, однако ни разу в жизни не ела артишоков — нужды не было, да и охоты; а сейчас, наверное, не помешало бы возбудить и свои собственные эротические настроения.
Господи, ну какая глупость, что она выдумала, зачем она здесь?!
Марии вдруг захотелось как можно скорее оказаться в своей комнате, упасть в собственную постель, никого не ждать, закрыть глаза, отдаться сну… и все забыть хотя бы до утра.
Она откинула одеяло, рванулась с кровати — да и замерла, вся покрывшись ледяной испариной: в коридоре скрипнул паркет под чьими-то осторожными шагами.
Мария в панике взглянула на окно: третий этаж, высоко… как бы ноги не переломать! Спрятаться под кроватью? Но, не найдя своей любовницы в еще теплой постели, барон может остаться ждать ее — или подстерегать, если заподозрит неладное. Кто знает, сколь долго продлится это ожидание — что ж, Марии до утра под кроватью в пыли лежать? (Комната Николь блистала чистотой, однако Мария почему-то не сомневалась, что под кроватью у нее все заросло пылью и паутиною.) Спрятаться в шкаф, подобно любовнику, застигнутому ревнивым мужем на месте преступления, и всю ночь провести между юбками и кринолинами Николь, с завистью размышляя, почему ее платья, хоть и менее роскошны, чем у хозяйки, но гораздо элегантнее?.. Ох, нет, поздно, все уже поздно!.. Дверь отворилась, и Мария едва успела упасть на постель. С головой накрывшись одеялом, она сквозь щелочку, остановившимися глазами, вглядывалась в темноту: барон задул стоявшую у двери свечу, едва вошел. Конечно, зачем ему свет? Он тут знает каждый уголок! Эта мысль наполнила сердце Марии тоской, а мягкий, как шелк, шепот: «Ma belle![149]», достигший ее ушей, заставил глаза наполниться слезами. Можно сколько угодно уповать на темноту, надеяться, что заставишь мужа своей свежестью и нежностью потерять голову и обо всем забыть, все простить, но сейчас-то он пришел не к тебе, и шепчет ласковые слова не тебе, и все тело его в порыве страсти устремлено не к тебе!
Мария как бы обмерла от этого горького прозрения и даже не сразу поняла, что происходит, ощутив на своем теле сильные, горячие руки. Она хотела крикнуть, оттолкнуть оскорбительные, не ей расточаемые ласки, но не смогла пошевелиться. Да какое там! Она и пикнуть не успела, а ее батистовое неглиже оказалось уже сорвано и отброшено; протестующий крик был заглушен жадным ртом, прижавшимся к ее губам, а тело распластано тяжелым мужским телом.
Какие там артишоки! Какие специи! Судя по всему, муж Марии так изголодался по своей любовнице, что не мог дождаться мгновения, когда овладеет ею, и даже не заботился о том, чтобы и она была готова принять его. Впрочем, возможно, что и Николь обыкновенно набрасывалась на него чуть не на пороге.
Значит, этакие неистовые объятия, более похожие на сражения, обоим не в новинку? Как бы то ни было, протестовать или открывать барону глаза у Марии не было ни сил, ни возможности. Да и глупо теперь-то вставать в позу оскорбленной невинности! Ей оставалось лишь пытаться хоть как-то соответствовать своей роли — роли любовницы.
Григорий сделал Марию женщиной, но не избавил от стыдливости; в любви с Вайяном она искала более веселья и нежности, чем страсти, и уже этим была счастлива; однако сейчас ей вдруг захотелось вполне разделить frénésie d'amour [150] своего мужа-любовника, и прежние страхи и сомнения отступили. В конце концов, она пришла сюда сражаться за своего мужа! Как прекрасно, что можно перестать быть собою — забытой, заброшенной, страдающей, оскорбленной; та, прежняя Мария никогда не осмелилась бы отбросить всякую стыдливость, как последние обрывки нежного батиста, и впиться в мужское тело с тем же неистовством, с каким оно впивалось в ее тело.
Благословенна тьма! Благословенны тяжелые шторы на окнах! Можно не опасаться быть узнанной, не ждать в тревоге возмущенного, изумленного возгласа — Мария сперва крепко жмурила глаза, а потом открыла их, но не увидела ничего. Чудилось, сам ночной мрак обтекает, обнимает ее, сливается с нею, трепещет под ее горячими ладонями, которые с безудержным, неутолимым любопытством гладили, ласкали, исследовали все изгибы этого сильного тела, не минуя и самых сокровенных уголков. Все эротические знания Марии следовали из недавно прочитанных «Liaisons dangereuses» [151] Шодерло де Лакло, однако манящие страницы сейчас оживали и расцвечивались новыми, неожиданными красками.
Внезапная волна взаимного восторга, накатившая на любовников-супругов, заставила их забиться сладострастной дрожью, хрипло шепча слова любви губами, не прерывающими поцелуев, — а потом отбросила измученные, покрытые потом тела на разные края широченной, взбаламученной кровати — и отхлынула, оставив их в полубеспамятстве, задыхающихся и обессиленных.
* * *
Мария ощущала, что улыбка не сходит с ее нацелованных губ. Наверное, настала пора переходить к признаниям? Пожалуй, барон не будет очень суров и к ней, и к себе за то, что не узнал давно знакомого тела любовницы. Мария вспомнила его отповедь наутро после свадьбы насчет вкуса любимых губ и аромата любимого тела — и только плечом повела: как она тогда ревновала к Николь, которая своими навыками первейшей парижской кокотки и медведя из берлоги могла бы поднять. Сейчас же барон, похоже, испытал нечто гораздо более потрясающее — вон, лежит почти бездыханный, изредка сладострастно, блаженно постанывая, переполненный только что испытанным наслаждением.
«Пожалуй, это очень мило и приятно, но мужчины, очевидно, или чувствуют острее, или им достается больше удовольствия», — так оценила Мария свой новый опыт. Однако и впрямь, кажется, пора признаться. Ее клонит в сон, да и барон, верно, вот-вот уснет, сломленный усталостью… Ох, будет сцена, если он проснется утром прежде Марии — и увидит рядом с собой не ту, кого ожидал увидеть!
Надо сказать ему все сейчас же, пока не уснул!.. Однако вдруг тяжелая, горячая ладонь легла на грудь Марии, и она поняла: о том, чтобы спать, еще не может быть пока и речи!
Со смешанным чувством наслаждения и ревности открывала Мария, сколь умелым бойцом на поле любовных битв был ее муж. Опыт ее внезапно и пугающе обогатился совершенно непредставимым образом: несколько фривольно и на французский манер. Поразительное оказалось ощущение…
Губы ее нежного возлюбленного беспрестанно шептали игривые признанья, в то время как она сама оказалась ученицей не из последних и быстро овладела искусством игры на некоем древнем инструменте, напоминающем флейту. Все оказалось очень просто, в полном соответствии с мелодическими законами: сперва pianissimo [152], потом piano [153], постепенно rinforzando [154], до полного forte[155]; и, наконец, завершение — crescendo [156], после чего, как бы в награду, вместо аплодисментов, Мария самозабвенно отведала белого вина экстаза; ее любовник тоже не остался изнемогать от жажды — он получил свое из щедро раскрытой чаши!
Сонливости и усталости как не бывало. Мария, чудилось, плыла на розовом облаке блаженства, так тесно оплетенная объятиями мужа, что между их истомленными, пресыщенными телами не осталось ни малого зазора. И билась, стучала неотвязная мысль: «Не может быть, невозможно, чтобы он испытывал нечто подобное с Николь! Вот сейчас он скажет что-нибудь вроде: „Никогда еще мне не было так хорошо!“ — или: „Не узнаю тебя сегодня!“ — и я все ему скажу!»
Она и страшилась момента признания — и всем сердцем желала его, напряженно считая про себя: «Вот сейчас, еще секундочку… еще одну отдохну — и скажу ему!»
Ее тонкие пальцы безотчетно ласкали широкие плечи, налитые мускулами руки — кто бы мог подумать, что в стройном, даже худощавом на вид теле Корфа таится такая мощная мужская сила! И отныне это все будет принадлежать ей; ей одной будет он верно служить на ложе страсти! С необыкновенно приятным чувством собственницы Мария поглаживала перевитую мышцами грудь, путаясь пальцами в густых завитках волос, — как вдруг неожиданное воспоминание пронзило ее, подобно карающей молнии.
Тем утром в Санкт-Петербурге, в их супружеской спальне, когда Маша еще пребывала в уверенности, что ее обман удался… она, по совету тетушки и матушки, решила искусить спящего мужа своими ласками… собралась с духом и положила ладонь на его юношески гладкую грудь, видную в прорези рубахи… чем это кончилось — известно, но не в том дело. Ведь она тогда единственный раз увидела своего мужа хотя бы полуобнаженным и… и… на его груди не было ни единого волоска, а сейчас вокруг ее пальцев обвивается густая поросль!
У Марии пресеклось дыхание, и она замерла, окаменев от ужаса, рядом с этим… рядом с кем, о Господи?!
Он лежал молча, словно вслушивался в сумятицу ее мыслей, а потом тихонько, удовлетворенно хохотнул:
— Наконец-то ты поняла!
И, услышав этот негромкий голос, Мария издала слабый стон насмерть раненного, испускающего дух существа, наповал сраженная догадкою: это и впрямь не он, не ее муж… это совсем другой, незнакомый человек!
* * *
Твердая ладонь накрыла ее губы:
— Тише, тише! Что уж теперь-то?
Мария была так потрясена, что даже шевельнуться не могла, не то что шум поднимать. Было что-то враз жуткое и мелодраматическое в этих признаниях сгустка тьмы, с которым она только что предавалась любви. Кто это, кто это здесь, кто подменил барона, кому достался весь пыл ее любви, предназначенный одному-единственному человеку во всем свете? Зачем, зачем он это сделал, за что она так наказана судьбою?!
— Однако я полагал в тебе больше проницательности, моя милая! — Незнакомец игриво пошлепал ее по попке. — Ты прелесть, ух, моя кошечка!.. Повезло же этому ледяному айсбергу Корфу! Я даже не предполагал такого удовольствия. Каюсь, каюсь! — За сим признанием последовал жаркий поцелуй в пупок. — Правда, надеюсь, и я оказался не промах. Ошеломил тебя своим пылом, а? Вместо ледяной глыбы на тебя обрушился лесной пожар, n'est pas? — И он, счастливый, закатился самодовольным, рокочущим смехом. — Сказать по правде, я даже не предполагал, что мой самоотверженный подвиг будет столь щедро вознагражден! — Он поцеловал безвольную, похолодевшую руку Марии. — Ну прости, прости меня за этот обман! Клянусь, твой барон ничего не знает и не узнает, если ты попросишь молчать. Я дождался, пока он уехал вместе со своим ночным визитером — верно, очередным осведомителем, шпионом. — В голосе незнакомца прозвучала нотка презрения. — Трогательно видеть, как он преисполнен уверенности, будто никто и не подозревает истинных мотивов и скрытых пружин его дипломатической деятельности! Впрочем, Бог с ним. Я должен объясниться, Николь. Что?..
Этот рассеянный вопрос был вызван тем слабым хрипом, что сорвался с уст неподвижно лежащей женщины.
— Ты изумлена, что я знаю твое имя? Я неплохо знаком с Корфом, и хотя его не назовешь болтуном, в доме есть люди, которые за небольшую мзду не прочь поведать о некоторых тайнах его жизни кому угодно… кто больше заплатит. Я давненько присматривался к этому барону, который держит себя так, словно его родословная восходит, как минимум, ко времени крестовых походов, а сам завел многолетнюю интрижку с бывшей горничной, которую поселил в своем доме, совершенно наплевав при этом на чувства жены.
Мария наконец-то смогла вздохнуть. Было такое ощущение, будто ее с размаху кулаком ударили под дых! Да уж, замысел ее удался, нечего сказать! Муж, не муж, но кто-то все же поддался обману, принял ее за Николь! И на том спасибо. Узнать бы еще, кто все-таки этот человек и зачем ему понадобился сей полуночный визит. Хорошо хоть, что он, верно, из тех людей, которых хлебом не корми — только дай поговорить о себе, объяснить самомалейшее движение своей души, самые незначительные мотивы своих поступков. Его даже расспрашивать не надо — сам выложит все что надо и не надо! Однако кто же, кто же это? Что-то есть в его голосе, какая-то особенность, которая о чем-то напоминает Марии… о музыке, о шуме, кричащих, смеющихся людях… Нет, не вспомнить! Ладно, будем надеяться, что неведомый любовник вскоре сам откроет свое инкогнито, а также, что инкогнито «Николь» останется неоткрытым.
— Мне тоже было на это наплевать… до нынешнего вечера, — продолжал незнакомец. — Но сегодня, вернее, вчера, я наконец увидел баронессу… Quelle femme [157]! — В голосе его зазвучал почти молитвенный восторг. — В жизни моей имел я многих, многих любил, но эти прекрасные, откровенные, пронизывающие глаза, эти надменные губы… эта сдержанная страсть в каждом движении… сердце мое перевернулось! Душу заложил бы дьяволу за то, чтобы обладать ею так, как только что обладал тобою, клянусь! И признаюсь тебе, ma belle [158], что благодаря этой кромешной тьме я мог сегодня вообразить, будто это она, недоступная баронесса, неистовствует в моих объятиях, подобно вакханке…
Он сладострастно застонал, награждая недвижимую «Николь» пылким поцелуем и привлекая ее руку туда, где вновь приготовлялось к бою его могучее орудие.
— При одной мысли о ней — ты видишь, что со мной происходит! Сам себе удивляюсь! Я готов жизнь положить к ногам этой женщины… да на что я ей! Весь вечер эти дивные глаза следили за бледным, невыразительным лицом барона, и я смиренно осознавал: весь мой пыл повергнет она во прах ради единого чуть тепленького словца, исторгнутого из уст ее хладнокровного супруга. Но этим же вечером я вот что еще понял: ее счастие для меня отныне — смысл жизни. И если для счастия баронессы нужно, чтобы барон возлежал в ее постели, значит, я должен сего добиться. Вот я и решил принести себя, свою любовь в жертву обожаемой женщине — подобно благородым тем рыцарям средневековья, которые служение Прекрасной Даме ставили превыше жизни своей!
Он умолк, но эхо его патетических признаний, чудилось, еще витало в комнате.
Мария, наверное, должна была чувствовать себя польщенной, однако единственным ее чувством сейчас была жалость: «Бедная Николь! Слушать такое — да о ком? О женщине, которую она ненавидит, презирает, считает ничтожеством! А этот… „рыцарь средневековья…“, в своем ли он уме, что признается женщине, с которой только что неистово предавался любви, в обожании другой? Да ему повезло, что здесь я — Николь ему бы уже давно глаза выцарапала за подобные откровения. Боже, ну и история… Нет, а как мне-то быть теперь? C'est terrible! [159] Вообразить такое невозможно!»
Однако тотчас же выяснилось, что еще далеко не все сюрпризы, приготовленные для Марии судьбою, исчерпаны, ибо незнакомый обожатель, враз посерьезнев, проговорил:
— Николь, у меня к тебе предложение, я хочу, чтобы ты оставила барона и переехала в домик, который я найму для тебя в хорошем месте, не в такой дыре, как эта улица Старых Августинцев. К домику будет приложено весьма солидное содержание. Ты не пожалеешь, клянусь! Я богат, я щедр. Я моложе барона и, уверен, куда лучше его! Судя по трепету твоего тела, который я ощущал этой незабвенной ночью, ты в полной мере разделила мое счастье. Сознаюсь, Николь: явившись на это rendez-vous [160], я намеревался всего лишь соблазнить тебя, а затем скомпрометировать перед бароном, чтобы обратить его взоры к прекрасной, нежной, несправедливо забытой Марии. Однако после сегодняшней ночи я не хотел бы с тобою расставаться. Tant mieux [161]! Если Мария завладела моей душой, то ты завладела моим телом, и я прошу тебя оставаться моей всецело!
Он подождал ответа… напрасно: в комнате царила тишина.
— Ты молчишь? — шепнул этот безумец — Мария не могла полагать его никем иным. Слава Богу, наконец-то заметил, что «Николь» молчит всю ночь! — Ну что ж, я понимаю, тебе надо подумать, собраться с мыслями. Только умоляю: не отказывай мне сразу, не поддавайся обиде; призови на совет всю свою практичность и рассудительность и оцени выгоды моего предложения. — Он зевнул. — Ох, все кости ломит… Ну и схватка была!
Он вскочил с кровати, с блаженным стоном потянулся и, ощупью пройдя к окну, рывком раздвинул шторы, так что низко повисшая, полная белая луна, чудилось, прильнула к самому стеклу, заливая комнату таким неожиданно ярким, всепроникающим светом, что Мария, все еще распластанная на постели — от множества испытанных потрясений даже и в голову не пришло кинуться бежать! — невольно заслонилась ладонью.
— J'aime la lune, quand elle éclaire un beau visage! [162] — будто из-за тридесяти земель донесся до нее голос, а потом ее нечаянный любовник вновь оказался рядом, шептал: — Николь! Я хочу видеть тебя, Николь! Я хочу любить тебя, купаясь в лунном свете!
Он легко, не обратив внимания на сопротивление, отвел ее руки от лица, склонился к губам… их взоры встретились.
Миг оба смотрели друг на друга, большие черные глаза, уставившиеся на Марию, сделались огромными… она тоже ощущала, как расширяются от изумления ее зрачки, а потом оба разом отпрянули друг от друга, вскричав в один голос:
— Это вы?!
Итак, незнакомец все же узнал в «Николь» баронессу…
Впрочем, почему незнакомец? Мария тоже узнала его. Это был Сильвестр.
Она даже и не предполагала, что живет в таком огромном доме. Сколько лестниц, переходов, поворотов, пустых залов… Мария брела, едва прикрытая клочьями рубашки, волоча за собой пеньюар. Не было сил одеться. Кто-то из слуг мог попасться навстречу, но ей было все равно, увидит ли ее кто-нибудь и что он подумает. Хотелось только добраться до постели и уснуть! Последнее объяснение с Сильвестром лишило ее последних сил.
Она шла, едва передвигая ноги, опираясь о стены, хватаясь за мебель, тащилась, будто тяжелобольная, с застывшим, невидящим взором сомнамбулы, а в памяти еще мелькало искаженное отчаянием лицо ее нечаянного любовника, еще звучал его стон: «Простите, простите меня!» Простить его — за что? Он виноват только в благих намерениях, коими, как известно… ну и так далее. Сильвестр — человек быстрых решений. Вчера он избавил Корфа от дуэли, мгновенно сообразив, что делать, назвав забияку позорным именем аббата Миолана. Точно так же стремительно бросился он на помощь женщине, которую полюбил с первого взгляда. Он не хотел ничего плохого, Мария тоже не хотела ничего плохого. А получилось-то… ох, Боже мой!
Припомнив некоторые подробности своей попытки сделаться добродетельной женщиной, Мария привалилась к перилам и хрипло рассмеялась.
Ох, и шуточки выкидывает с ней судьба! Ну, знаете ли… это уж слишком!..
Что такое? Она произнесла это вслух? В таком случае здесь, в коридоре второго этажа, очень странное эхо: грубое, раскатистое — напоминающее мужской голос, который хрипло, возмущенно выкрикнул:
— Ну, знаете ли… это уж слишком!
Мария оглянулась. У дверей своего кабинета стоял Корф и смотрел на нее так, словно не верил своим глазам, Мария улыбнулась, покачала головой — она тоже не поверила своим глазам, и, отмахнувшись от него, как от призрака, пошла было дальше, но тут «призрак» сильным рывком остановил ее и втолкнул в кабинет, захлопнув за собой дверь.
Мария тупо смотрела на него.
Ну и ну… Впрочем, это она уже, кажется, говорила. Так ждать его нынче ночью, натворить во время этого ожидания черт-те каких глупостей — и встретить его именно в ту минуту, когда ей вообще никого, ни единого человека видеть было никак нельзя! Нет, это что-то… что-то… Она невольно вздохнула, увидев брезгливое, ненавидящее лицо барона, увидев в его ледяных глазах свое отражение: измятая, всклокоченная, измученная, полуголая. Боже, что он может о ней подумать! А что еще можно о ней подумать, кроме истины?..
— Я и сам хотел посоветовать вам завести любовника, — наконец разомкнул губы барон. — Это несколько развлекло бы вас, привязанную волею судьбы к человеку, которого вы ненавидите. Но я не предполагал, чтобы это происходило в моем доме. Все-таки соблюдать определенные приличия следует, даже нарушая их!
— Я… ненавижу вас? — прошептала Мария. — Я — ненавижу? Да я вас… я вас…
Она осеклась, увидев, как цинично усмехается барон, глядя на нее.
— Поразительно! — воскликнул он. — Просто поразительно! Я был обманут вами с первого мгновения нашего знакомства, я знаю вашу цену с точностью до последнего гроша, я вижу вас насквозь, и все-таки…
— Пятьдесят тысяч ливров, — как во сне произнесла вдруг Мария, в памяти которой всякое упоминание о деньгах вызывало теперь лишь одну, совершенно определенную цифру, но Корф не обратил никакого внимания на ее слова, как бы и не слышал их.
— И все-таки вчера вечером я внезапно поверил, что игра моя еще не проиграна, что я, пожалуй, судил вас слишком сурово, что немалая и моя вина в том, как мы живем, что клятва, данная мною, была несправедлива…
Мария подняла на него глаза. Он ли это говорит?!
— Вчера вечером, чудилось мне, искра вспыхнула меж нами. Я рвался в драку с этим идиотом, «аббатом Миоланом», чтобы снова и снова ощутить прикосновение ваших рук, почувствовать вашу тревогу за меня. Сердце мое пылало от счастья. Этой ночью я пойду не к Николь, а к своей жене, к своей любимой! Забуду о своей клятве, думал я… малодушно думал я! Мною вновь овладела та же любовь к вам, что и пять лет назад. Их не было, пяти лет ревности, обиды, тоски, нарочитой ежедневной мстительной измены вам — в отместку за вашу ложь!
Корф тряхнул головой и умолк, словно опять задумался об этих пяти годах их мучительного брака.
Мария тоже молчала, но глядела на мужа с такой мольбой, словно от его дальнейших слов зависела ее жизнь. И он заговорил тихо, как бы нехотя:
— Я не стал предупреждать вас о намерении своем, опасаясь услышать отказ или увидеть его в ваших глазах. Я решил: просто приду… просто обрушу на нее всю свою страсть — и сумею зажечь ее ответной страстью! Но дома меня ждал посетитель…
Мне пришлось уехать, однако ни разу еще я не был столь равнодушен к тому делу, которое составляет суть моей жизни, как сегодня. Я вернулся так скоро, как мог; сразу кинулся в вашу комнату… она была пуста! Я не мог поверить своему несчастью, я поднял с постели вашу субретку и едва не вытряс из нее душу, выпытывая, а потом чуть не на коленях вымаливая, — где и с кем моя жена. Да куда там! Она залила все вокруг своими дурацкими слезами, но не проронила ни звука. Однако же, едва я выпустил ее, она попыталась куда-то бежать — предупредить вас, как я теперь понял! — Он брезгливо дернул за края рваной рубашки, которые Мария безуспешно пыталась стянуть на груди, и тут же отвернулся с миной отвращения на лице.
— Осознав, что обманут — вновь обманут! — я решил выплакаться в пышное, привычное плечико Николь, — он коротко, злобно хохотнул, — и отправился к ней.
При этих словах у Марии обморочно подогнулись ноги, и она принуждена была опереться о край стола, чтобы не упасть.
— Глашенька пыталась помешать мне, но я запер ее на засов и отправился к любовнице — взять то, что не пожелала дать мне жена. Но и тут меня ждала осечка! Николь, словно нарочно, оказалась не одна. Вот уж такого я и вообразить не мог. В комнате ее, судя по звукам, с ней забавлялся полк солдат. Поразительно — это меня ничуть не затронуло. Я повернулся и ушел. Малоприятно, конечно, чувствовать себя полным идиотом, но спасибо хотя бы за то, что у меня открылись глаза: оказывается, я был им все эти пять лет! Сегодня утром поставлю господина Симолина в известность о своем намерении как можно скорее развестись с женой. — Мария только еще ниже опустила голову, словно под секирою, но не проронила ни звука. — Сегодня же и Николь отбудет из моего дома восвояси…
Он не договорил. Стук колес по мостовой показался столь громким, что оба невольно вздрогнули. Корф шагнул к окну, взглянул — и окаменел, вцепившись в край тяжелой шторы. И вдруг с хриплым, горловым стоном рванул к себе Марию с такой силой, что она больно ударилась грудью о подоконник и упала на колени, однако Корф прижал ее лицо к подоконнику, так что она могла видеть остановившийся у ворот запыленный экипаж, запряженный парою усталых лошадей. Возница соскочил с козел, открыл дверцу и подал руку, помогая выйти высокой, стройной даме в трауре, словно она возвращалась после посещения кладбища.
Сунув вознице монету, дама подняла глаза… лицо ее сделалось видно. Это была Николь.
«Она нарушила уговор! Вернулась раньше времени!» — чуть не закричала Мария, и в тот же миг сильные руки оторвали ее от пола, и бледное от ярости лицо Корфа приблизилось к ее лицу.
— Значит, Николь нынче ночью не было дома? — прошипел он. — Значит, нынче ночью полк солдат забавлялся в ее комнате не с ней? А… с кем? Может быть, вам, сударыня, это ведомо? И заодно откройте мне, откуда шли вы, полуголая? Где вы встречались с любовником? Где?! Не в комнате ли Николь? — Он отшвырнул Марию от себя, и она упала, ударившись спиной о поставец, дверцы которого распахнулись, и оттуда с грохотом посыпалась какая-то посуда.
От боли Мария почти лишилась чувств, и прошло какое-то время, прежде чем она смогла открыть глаза и взглянуть на барона, который глядел на нее не то с отвращением, не то с ужасом.
Так вот чем это кончилось… Позором двух супругов, томящихся друг по другу!
Тяжкие рыдания сотрясли все тело Марии, но она страшным усилием воли остановила слезы. Нет, она не будет плакать при нем, нельзя, нельзя этого допустить!
Попыталась встать, однако ноги не держали, и Мария опять опустилась на пол.
Корф протянул было руку — помочь, но тут же отвернулся, принялся поднимать с пола упавшую посуду. Руки его тряслись, и какие-то стаканы снова и снова падали на пол.
Один из них подкатился к ногам Марии, и она равнодушно взглянула на него. Редкостная вещь — янтарный бокал. Изящная игрушка, какое благородство линий! А вот другой такой же под столом… нет, чуть темнее. А вот этот еще более темный, отливает красным, как рубин. Разве бывают красные янтари?
Красные янтари… В затуманенном мозгу медленно проплыло воспоминание: в деревенской лавочке, где-то близ Кенигсберга, граф Егорушка Комаровский с жаром растолковывает хозяйке, пожилой курносой немке в чепчике, что еще римлянам был известен секрет окраски янтаря в красный цвет. А Маша задешево накупила там ожерелий, серег, браслетов, винных кубков из янтаря, как темного, почти черного, так и медово-желтого и даже рубиново-красного. Хозяйка уверяла, что подобных изделий она больше нигде не найдет, ибо они единственные в своем роде. Потом все эти вещи вместе с лучшими платьями пропали в замке, где ее держали Вайян и Жако и откуда она бежала в чем была. Но сейчас Мария готова была поклясться, что перед ней валяются те же самые кубки! Это они, они, невозможно ошибиться! Каким образом они оказались здесь?
Корф между тем поднял бокалы с полу и аккуратно поставил на полку. Видно, он очень дорожил ими, если заботился о них в такую страшную минуту?
— Откуда это у вас? — Мария даже не заметила, как поднялась, не чувствуя боли, и встала рядом с мужем.
Он поглядел на нее с отвращением:
— Боже мой, сударыня! Да в вас, видно, сердца вовсе нет? Я вас едва не убил, а вы — вы о чем?!
Ошеломленно покачав головой, он достал из глубин шкафчика бутыль вина и щедро плеснул в тот самый кубок цвета рубина, однако Мария с неожиданной силой схватила его за руку.
— Скажите мне, — голос ее требовательно зазвенел. — Откуда у вас эти бокалы? Говорите, ну?!
Глаза Корфа гневно вспыхнули:
— Это подарок, которым я очень дорожу, довольны вы? А теперь…
— Дорожите? — с горечью прошептала Мария. — Но ведь…
Она осеклась. Да что толку говорить ему, что эти кубки она купила для него, мечтая порадовать его таким изысканным подарком и, может быть, смягчить его черствое сердце. Нет смысла рассказывать, что подарить их ему мог только один человек: тот, кто похитил Марию и кто в конце концов получил от нее завещание в пользу Евдокии Головкиной. Надо только спросить имя того дарителя, и тогда все сразу станет ясно!
И вдруг Мария тихо ахнула и с новым ужасом уставилась на мужа.
А если… если никто их и не дарил ему? Если он сам, он сам был главою заговора против нее, а неведомая Edoxy — одна из его любовниц, будущее благосостояние которой он намерен обеспечить любой ценой?
Мария помертвела. Вот она, правда… Вот все и открылось. А пылкие слова барона о любви и ревности — не более чем сотрясение воздуха. Ложь, отъявленная ложь!
Она закрыла глаза, чтобы он не видел ее слез, сдержать которые было уже невозможно.
Оказывается, выносить его презрение — это еще не самое страшное. Выяснить, что он ненавидит ее так, что мечтает лишь о ее смерти, — вот горе. Вот боль!
Ах, если бы умереть прямо сейчас, прямо здесь… развязать ему руки, освободить от себя — осчастливить хотя бы своей смертью, если не удалось осчастливить жизнью и любовью!
Ноги Марии подгибались. Она почувствовала, как Корф подхватил ее под руку.
— Если вы решили упасть в обморок, то, умоляю, не в моем кабинете, — раздался по-прежнему холодный, исполненный презрения голос, а потом Корф с силой встряхнул ее: — Возьмите себя в руки, ну! Выпейте вот это, слышите?
Он поднес прямо к ее лицу янтарный бокал с вином. Рубиновые искры перебегали по гладко отшлифованным стенкам, и какое-то мгновение Мария, будто завороженная, следила за их игрою, а потом с трудом взяла бокал, поднесла к губам, глотнула… и, выронив кубок, схватилась за горло, ибо ей показалось, что она отхлебнула расплавленного металла.
Она не могла вздохнуть и только смотрела на Корфа неподвижными, огромными глазами.
Корф поднял брови:
— Что с вами? Ну вот, вы разбили… — Он не договорил, кинулся вперед и успел подхватить Марию — она падала. Ноги вдруг онемели, она их перестала чувствовать. Бессильно повисли руки, голова запрокинулась. Странный, какой-то потусторонний холод медленно овладевал ее лицом, потом пополз по телу. В глазах все кружилось, кружилось; на миг из этого водоворота выплыло искаженное ужасом лицо Корфа, из гробовой тишины вырвался его голос:
— Мария! Нет, нет, Мария!
Она не могла вымолвить ни слова онемевшими, похолодевшими губами, и вся душа ее, казалось, выразилась во взгляде. Но этот взгляд потребовал столько сил… последних сил, их больше ни на что не оставалось, осталось лишь опустить ресницы и погрузиться в сон… возможно, в вечный сон.
Глава XX ДУЭЛЬ НА УЛИЦЕ КАРУСЕЛИ
— …Я нашел у нее в комнате вот это.
Голос возник так внезапно, словно у нее над ухом выстрелили из пистолета. Мария хотела схватить голову руками, но не смогла даже шевелить ими и тогда громко, пронзительно закричала.
— Что это?! Мне показалось или она тихонько стонет? О Боже!
— Да. Да. Чуть-чуть, еле слышно, но она застонала. Наконец-то!
— Доктор, я…
— Успокойтесь, ваше сиятельство. Ваши волнения позади.
— О Господи… Я-то уже думал… Я уже… J'ai perdu mon Eurydice: rien n'gale mon malheur? [163]
— Безутешный Орфей? Я понимаю. Две недели в полном беспамятстве и неподвижности, почти бездыханная!.. Еще хуже, чем в прошлый раз. Тогда хоть причины были естественные — кровопотеря, а теперь… подумать только! Удивительно, как она вообще не умерла на месте. Такое количество яду могло и силача-циркача спровадить на тот свет.
Голоса уже не казались раздражающе-пронзительными. Они звучали то громче, то тише, то наплывали, то удалялись. Это было забавно, Мария слушала даже с удовольствием.
— Доктор, вы обещали мне!..
— Да, я обещал молчать и сдержу слово. Один Бог знает, почему я это сделаю! Нет, я помню, что обязан вам своим благосостоянием и честным именем, но разве мог я допустить, что мой благодетель решится когда-нибудь на такое?..
— Говорю вам, я не делал этого!
Ну вот, опять крик. Мария вновь застонала: как адски болит голова.
— Снова этот стон. Вы слышали?
— Я-то да. Мне кажется, и она слышит нас. — Она в беспамятстве, но, говорят, люди и в таком состоянии могут воспринимать окружающее.
— Вы хотите сказать, в глубину ее бесчувствия могут проникать наши слова?
— Это не исключено.
— Ну, если так… Если так, пусть услышит: я не убивал ее. Я не давал ей яду. Я не знаю, что все это значит! Из этой бутылки я уже пил, она стояла открытая не меньше недели. Любой мог…
— Любой? Барон, у вас по дому что же — отравители гурьбой расхаживают? К тому же в вине не было яду, во всяком случае, я его там не нашел. Яд оказался лишь в том бокале, из которого пила ваша жена. Дно было щедро им смазано, он мгновенно растворился в вине и сделал его смертоносным.
— Самое удивительно, что вы не нашли его следов в других бокалах. Как можно было предвидеть, что она будет пить именно из этого?
— А разве не ясно? Он ведь самый красивый, женщина по природе своей любит красивое, из сотни вещиц выберет одну — самую изящную и привлекательную. Перед нею шесть янтарных кубков, но один — особенный: он горит самоцветным рубиновым огнем, сверкает и переливается. Она взяла его — это естественно.
Послышался тихий, недобрый смех, заставивший Марию насторожиться.
— Ах, доктор, вы так хорошо знаете женщин! Все верно, все верно, однако и мужчины способны ценить красоту. И мужчина прежде всего обратит внимание не на тусклую, матовую желтизну, а на игривый рубиновый блеск!
— Что вы этим хотите сказать?
— Только одно. Не Мария взяла этот бокал. Я дал его ей, когда увидел, что она побледнела и вот-вот лишится сознания.
— Значит, вы…
— Доктор, да вы в своем уме?! Вы что, не способны сложить два и два? Вы так уверены в том, будто я злоумышлял против Марии, что не видите дальше своего носа?
«Ну как же он кричит! О чем это, зачем?.. Может быть, если попытаться понять, в чем суть спора, голова будет не так болеть?»
— Еще раз повторяю: я раньше пил из этой бутылки. Но янтарным бокалом воспользовался впервые. И то лишь потому, что он выпал на пол, то есть подвернулся под руку, а хрустальные, из которых я обычно пью, остались стоять. Я поднял янтарные кубки, безотчетно взял самый красивый, налил вина, поднес к губам…
— Что?!
— Что слышите! Я хотел пригубить, а потом увидел, что Мария сейчас упадет, и протянул бокал ей. Что было потом, известно.
— Иисусе… Господи Иисусе! Но ведь это означает…
— Наконец-то до вас дошло! Я понимаю, проще допустить, что барон Корф решился убить свою жену, чем поверить, что он сам лишь случайно, по прихоти судьбы, остался жив.
— Но это означает…
— Да что вы заладили: означает, означает! То и означает, что Мария — случайная жертва, а яд был предназначен мне.
«Яд был в бокале? Яд предназначался Корфу?!»
Мария содрогнулась, хотела закричать, но сковывающая ее немота и неподвижность были по-прежнему неодолимы.
— Вам?! Но зачем? Почему? Кто это сделал?
— Верно, тот, кто преподнес мне эти бокалы. Небось он дивится, что я до сих пор жив. Они у меня уже более полутора лет. Странно, что яд не потерял своих качеств.
— Он и через двадцать лет их не потеряет, тем более если смешать его с винным спиртом. Удивительно, однако, почему вы не обратитесь к властям, не прикажете арестовать того, кто сделал вам столь «бесценный» подарок!
— Я бы давно уже сделал это, когда бы знал, кого обвинять. Но полтора года назад как раз приехала моя жена. Вскоре после этого, по случаю своих именин, я получил довольно много подарков; были и присланные по почте или с нарочными — с горячими поздравлениями от самых разных, порою мало знакомых или даже вовсе незнакомых людей. Благодарили за какую-то помощь, искали моей протекции… Я уж и не помню, кто и какие подарки прислал. Среди прочих — и эти кубки. Я был восхищен ими, но почему-то мне и в голову не приходило пить из них. Я воспринимал их как произведение искусства. Помню, как раз накануне дня моего ангела курьер, прибывший из России, граф Комаровский, бывший спутником моей жены по пути в Париж, рассказывал, как они рассматривали кенигсбергские янтари, какое это богатство, какая красота, и, получив эти янтарные кубки, я еще подумал: не Мария ли прислала их мне?
— Ну, сударь! С чего бы это баронессе делать вам подарки тайком?
— Неточно выражаетесь. Следовало бы сказать: с чего бы это моей жене вообще делать мне подарки?
Глаза Марии ожгло слезами. «Я хотела подарить их тебе, но их у меня похитили! И все же бокалы дошли до тебя. Но кто это сделал? Ах, если бы знать! Тогда бы я все смогла понять».
— Боже мой… Нет, не может быть!
— Что с вами, доктор? Вы побледнели!
— Нет, нет.
— Говорите. В чем дело?
— Простите, барон. Страшная мысль пришла вдруг мне в голову. Нет, это дьявольское наваждение… Но стоило вам связать имя вашей жены с этим подарком… Я хочу сказать, стоило лишь предположить, что бокалы были посланы ею (в конце концов, такие роскошные янтари могли быть куплены только в Кенигсберге или Мемеле, словом, на берегу Балтийского моря), как вдруг я вспомнил, с чего начался наш разговор.
— Да, вы говорили, что нашли в спальне Марии вот это. Кусок смолы, пахнущий травами. Какое-то лекарство?
— Нет. Это пернак.
— Впервые слышу.
— Неудивительно. Вам, смею думать, до сего времени не приходилось иметь дела с ядами, а значит, и с противоядиями. Так вот, пернак — сильнейшее противоядие, какое только известно современной науке. Свойство его — предохранительное. Вам приходилось что-нибудь слышать о царе Митридате?
— Разумеется. I век до Рождества Христова; Митридат Евпатор, царь Понтийский… Вел борьбу со скифами, подавил восстание рабов под предводительством Савмака в Боспорском царстве. Подчинил своей власти все побережье Черного моря, однако в войнах с Римом был побежден и покончил с собой.
— Все верно. Однако вы привели факты его политической биографии. А с точки зрения медицины гораздо более интересно, как именно Митридат покончил с собой.
— Ну, если вспомнить предмет нашего разговора… очевидно, он отравился?
— В том-то и дело, что нет! Предпринял несколько попыток — и бесполезно! Митридату пришлось прибегнуть к кинжалу, чтобы лишить себя жизни. Видите ли, всю жизнь он боялся быть отравленным — в ту эпоху яды были в большой моде! — и спасался от них тем, что каждое утро добавлял минимальное количество различных ядов в свою пищу. И в конце концов уже не существовало отравы, которая могла бы его убить. То же и пернак: если каждое утро выпивать малое количество его настоя, организм приобретает способность сопротивляться отраве. Я-то недоумевал, как баронесса ухитрилась остаться жива. Теперь мне все ясно. Объяснение может быть только одно! Она знала, что в доме есть яд, и хоть он предназначен не ей, но по несчастной случайности — вроде той, которая и произошла! — она может быть отравлена, госпожа Корф предприняла меры предосторожности. Взгляните: пернак не засохший. Он мягкий, рыхлый. Кто-то каждое утро настаивал его в горячей воде. Ох, как все теперь понятно!.. Satan [164]!
— Доктор, вы в своем уме?!
— Вы это уже говорили сегодня, барон! Да, я в своем уме. И я знаю теперь, что произошло: не вы хотели отравить свою жену. Она хотела отравить вас! Она послала вам эти бокалы. Один из них был отравлен. Она терпеливо ждала, когда стрела судьбы настигнет вас, а сама тем временем расчетливо старалась обезопасить свою жизнь. Она целилась метко… но не рассчитала направления ветра! Стрела ее ненависти поразила ее же саму. Она угодила в собственную ловушку.
— Я не верю в это. Нет. Она не смогла бы…
— Я понимаю. Но вы подумайте — и поймете, — все сходится. Мой вам совет — как можно скорее снеситесь с тем курьером, который путешествовал с баронессой.
— С Комаровским?
— Вот-вот. И если он подтвердит, что она покупала янтарные кубки, значит… Но смотрите, чтобы это известие не пришло слишком поздно. Будьте осторожны, барон. Умоляю вас, будьте осторожны!..
Мария открыла глаза. Темно — лишь светится ночник; и никого нет в спальне. Стоял предрассветный час — самое томительное время, когда властвуют демоны зла и смерти, навевая тяжкие сны. Что ж, выходит, этот разговор ей приснился? Или он все-таки был? Во сне или наяву доктор обвинил ее в попытке отравить мужа?
Мария невесело рассмеялась. Собственный смех показался таким же нереальным, как только что услышанный спор. А впрочем… все очень логично. Если барон и впрямь отправит запрос Комаровскому, тот ведь непременно подтвердит покупку бокалов.
Уж наверняка он не забыл того эпизода! И тогда все встанет на свои места: злодейка, развратница, обманщица Мария Корф смазала бокал ядом, чтобы сгубить своего супруга и унаследовать все его состояние. Рано, поздно ли, кубок из красного янтаря попал бы ему на глаза, так что… Так что…
«Нет! Все не так!»
Мария резко села, но тотчас вновь откинулась на подушки, сраженная слабостью. Ее даже в испарину бросило, сердце заколотилось в горле. Однако голова была необычайно ясна, и мысли — страшные догадки — спешили обогнать друг друга.
Что же она там под диктовку Вайяна писала пером, на котором еще не высохла кровь проклятого Мердесака? Все движимое и недвижимое имущество баронессы Марии Корф, урожденной графини Строиловой, отходит Евдокии Головкиной — так, кажется. Вот именно! Все имущество баронессы Корф!.. Не имение на Волге и деревня Любавино, не кирпичный завод, не угодья в Малороссии, а еще и лифляндское имение Корфа, и его богатство, и золотые рудники на Нижнем Урале, и доля в пушном промысле всей Тобольской губернии… немалые, ах, совсем немаленькие богатства! Мария вышла замуж за человека весьма состоятельного, который мог бы обойтись и без государственного жалованья, а век жить бездельным барином. И в случае смерти Корфа все его движимое и недвижимое имущество отойдет жене… которой потом наследует неведомая Евдокия.
Так что переведи дух, Мария! У тебя есть время пожить, ведь не ты намечена первой жертвой. Прежде чем умереть, ты должна сделаться богатой, очень богатой вдовой. Прежде чем умрешь ты, должен умереть твой муж!
Какое-то время Мария оцепенело смотрела в темноту, а потом губы ее тронула улыбка. Страшноватое, должно быть, зрелище являла собою она, полуоткинувшись на подушки, исхудавшая, измученная, едва вернувшаяся с того света, сидя с недоброй улыбкою на бледных губах, и если бы Евдокия Головкина, где бы она ни находилась, могла проницать взором ночное пространство и увидеть сейчас Марию, ее наверняка дрожь пробрала бы — дрожь весьма неприятного предчувствия.
Говорят, литература — это искусство совпадений. Чем более талантлив писатель, тем меньше натяжек в нагромождении невероятных случайностей ощущает читатель. Однако жизнь тоже состоит из совпадений и случайностей, а тот, кто управляет ими, способен управлять судьбою своей — и других людей. У проклятущей Евдокии теперь, когда замысел ее раскрыт, осталось только одно преимущество перед Марией: инкогнито. Немалое преимущество! Враг неизвестен. С ним придется бороться вслепую. Однако известна его ближайшая цель. И еще кое-что известно: он — вернее, она! — не в силах влиять на поступки Корфа; Евдокии приходится полагаться только на случай, который даст ей в руки желанную добычу. Вот ведь сколько времени пришлось ждать, чтобы Корф взял наконец отравленный бокал! Кроме того, Евдокии неведомо, что срок ей отпущен очень маленький: всего месяц, а то и короче. Никак не более месяца — и то в самом лучшем случае! — потребуется нарочному гонцу, чтобы добраться до графа Комаровского, передать ему вопрос Корфа — и привезти обратно ответ. А после этого уже никакая сила не спасет Марию от гнева барона. Да еще тут замешался доктор, который убежден в ее виновности и будет подзуживать Корфа. То есть у нее всего месяц на такое устройство случайностей и совпадений, чтобы в них, как в сеть, непременно попалась некая алчная, но крайне осторожная дама. Если она будет знать, что замысел ее под угрозой, что время крайне ограничено, она поторопиться, утратит осторожность. Например, если она узнает, что Мария при смерти, то попытается сделать все, чтобы Корф скончался прежде. Или если Корф предпримет какие-то шаги к разводу… Надо вынудить ее сделать выпад, броситься в расчетливо расставленную засаду! Но прежде…
Какие полезные нынче в голову воспоминания идут!
Еще когда страшными, тревожащими показались слова Николь о смерти мамаши Дезорде: «Ничего не скажешь: тетушка была особой предусмотрительной, и, хоть кровной родней я ей не приходилась, по завещанию все мне отказала…» Тогда промелькнул в ее словах какой-то след… но только теперь Мария готова была идти по этому следу.
Ах, хороша ночь нынче! Кровь буянит, сердце веселит! Сейчас Мария меньше чем когда-либо намеревалась умирать. Ее nature tardive [165] наконец-то проснулась! Предчувствие напряженного, целенаправленного действия, решительной схватки, правила которой наконец-то будет устанавливать она сама, а не судьба, придавало силы. Болезнь как бы улетучилась в одно мгновение, будто порча, снятая умелым знахарем.
Она от роду была лишена способностей к сочинительству, но сейчас весь сюжет ближайшего месяца чудился ей четко выписанным в уме, и она ощущала себя одной из тех героинь романов, судьбы которых так волновали ее прежде. Нет, она лучше, она интереснее, ведь героини романов не способны видеть в жизни смешное. А Марию заранее разбирал неудержимый смех, когда она воображала, какое лицо сделается у этой Евдокии Головкиной, когда злодейка будет публично разоблачена; и у Корфа, когда он узнает, кто спас его жизнь. Ну и много чего еще навоображала Мария, отогнав упоительные мечты, лишь напомнив себе, что цыплят по осени считают.
Мария еще посидела какое-то время, уставившись во мрак невидящими глазами и задумчиво покусывая губы, а потом схватила колокольчик и затрезвонила так требовательно, что вмиг распахнулись две укромные двери, ведущие в каморки, где спали вполглаза, сторожа свою барыню, Глашенька с Данилою — оба, необутые, со свечками в руках, они вбежали в спальню Марии, ожидая увидеть ее по меньшей мере умирающей, и враз лишились дара речи, узрев баронессу с пером в руках, что-то лихорадочно строчащей на бумажном листке.
— Господи милостивый! — вскрикнула Глашенька. — Барыня… Жива, здорова!.. Встанем на колени и возблагодарим Бога!
— Не время сейчас, — отрывисто бросила Мария, не поворачивая головы. — Собирайтесь, вы, оба, только тихо! Ни одна душа ничего не должна знать! Глашенька, ты отправишься домой к господину посланнику Симолину — это не столь далеко, а что время ночное — так и дело неотложное! А ты, Данила, друг дорогой, — Мария на мгновение оторвалась от письма и ласково, но строго взглянула на всклокоченного со сна волочеса, — собирайся в иную, долгую дорожку.
— Опять в Фонтенбло прикажете? — брякнул еще не проснувшийся Данила и тут же, спохватившись, прихлопнул рот ладонью.
Однако барыня, против ожидания, не прогневалась, а от души расхохоталась в ответ:
— В другую сторону, Данила! И куда дальше! В Россию путь тебе ляжет. Домой, в Любавино!
Конечно, спросить у Вайяна, кто такая Евдокия Головкина, было бы куда проще, чем гнать Данилу в Россию, искать то, не знаю что. Однако где его взять, Вайяна того? Не выйдешь же на балкон, не кликнешь молодецким посвистом: «Встань передо мной, как лист перед травой!» Сильвестра найти оказалось куда как проще, Мария не ошиблась в сердечной расположенности к ней и проницательности Ивана Матвеевича Симолина, который, едва прочитав ее отчаянное послание, тотчас сообщил Глашеньке фамилию и адрес господина Сильвестра, к которому преданная горничная той же порой, еще до наступления утра, отнесла письмо баронессы. Воротясь, она сообщила барыне, что все исполнила, а также, что звание господина Сильвестра — маркиз Шалопаи; услышав это, Мария принялась хохотать так, что снова обессилела. Впрочем, она и так решила для приличия провести еще хоть денек в постели, нетерпеливо поджидая визита доктора или Корфа, но так и не дождалась: видать, глубокое впечатление произвели на обоих их нелепые измышления! Что ж, тем лучше: Мария вновь получила право на полную свободу действий, а ей только того и надо было. И уже на другое утро она (не забыв на всякий случай выпить несколько глотков спасительного пернака) ни свет ни заря села в седло и по утренней свежести поскакала в Булонский лес, отгоняя воспоминания о недавней слабости и мысля, как о наилучшем для себя примере, о легендарной красавице, которой безраздельно принадлежали сердца Генриха II и Генриха III Французских, — Диане де Пуатье: та всякий день вставала в шесть часов, умывалась самой холодной ключевой водой, не знала притираний, никогда не румянилась, часто ездила верхом, много ходила — не терпела праздности! Такой рецепт сохранения красоты вполне подходил Марии. Собственная телесная хилость стала ее немало раздражать, вдобавок что-то подсказывало ей, что в интригах, которые она собиралась сплести, ей могут понадобиться не только крепкие нервы, но и какие-никакие мускулы. Несколько лет назад, еще в Любавине, еще в компании с братом и недоброй памяти Григорием, она брала уроки фехтования и даже делала успехи, пусть и уступая юношам в выдержке, однако озадачивая их внезапностью и непредсказуемостью своих выпадов. Не худо вспомнить былые уроки. А господин Шалопаи — дал же Господь фамилию? — насколько он-то силен в игре со шпагою? Надо думать, не окажется слабее Корфа, а то весь блистательный план Марии полетит к черту…
Впрочем, сейчас она сама у него все вызнает. Вот уже видны озера, тенистые аллеи и лужайки Булонского леса; показалась впереди и старая мельница, где, тоже с видом праздного любителя утренних верховых прогулок, ждет ее Сильвестр.
Что за любезный господин? Всегда готов прийти к даме на помощь!
Марии захотелось заплакать, когда она вспомнила, чем обернулась для нее «помощь» Сильвестра в прошлый раз, однако она только покрепче натянула поводья, заставляя своего игривого коня встать как вкопанного, а заодно — крепко взнуздав и свое волнение, так что когда трепещущий, едва живой от стыда маркиз подъехал к баронессе, взор ее светло-карих глаз был незамутненно спокоен.
* * *
Дипломатические агенты иностранных государств, как правило, состояли под негласным надзором французской полиции. Для каждого из этих привилегированных шпионов имелся свой филер [166], который очень неплохо знал все привычки и образ жизни своего поднадзорного. Так, некий месье Перикл, опекавший русского министра [167] Корфа, был вполне осведомлен о его неладах с женой, а также о том, что барон открыто держит у себя дома весьма привлекательную любовницу. Как бы ни относился Перикл к дипломатической деятельности Корфа, он от души завидовал способности этого русского так ловко устроить свою частную жизнь. Иногда Перикл даже ощущал себя в некотором роде пособником Корфа, ибо не сомневался: ни жена, ни любовница барона представления не имеют о том, что каждую среду, около пяти часов, тот украдкою, через черный ход, выходит из дому, чтобы пешком проделать довольно далекий путь и по узкому и крутому мостику, переброшенному через тихий, спокойный канал Сен-Жартен, пройти к уединенно стоящему доходному дому, где весь второй этаж занимала самая хорошенькая актриса Французского театра Ноэми Тарте. Эта лакомая штучка была известна тем, что разорвала свою связь с одним молодым и красивым графом, который не смог купить ей новую карету для прогулок в Булонском лесу, кое для дамочек полусвета, а проще — содержанок, такое же священнодействие, как для монаха — паломничество; Ноэми предпочла ему старого маркиза, который заложил все бриллианты своей жены, чтобы купить ей самую дорогую карету. Среди любовников Ноэми были весьма разные люди, от дипломатов и военных до придворных повес; неудивительно, что и русский министр пал жертвою ее чар и хоть раз в неделю, однако все же таскал ей в клюве золотые «перышки» для содержания ее гнездышка в подобающей роскоши. Так думал многоопытный Перикл, не находя ничего дурного в любовных шашнях своего «подопечного»: в тот бурный век и кавалеры, и дамы не только не скрывали, но даже оглашали свои похождения; вдобавок Перикл вполне разделял вкусы своих современников, которые считали достойными внимания только светловолосых женщин с голубыми глазами — таковой была и Ноэми Тарте, темноволосые — вроде любовницы Корфа Николь — успехом мало пользовались, рыжих или русых, как покинутая баронесса, почти вовсе не замечали. Однако Перикл был бы немало изумлен, когда бы узнал, что барон Корф и пальцем не прикоснулся к m-lle Тарте, а если деньги он ей и впрямь приносил исправно, то лишь в обмен на весьма разнообразные и порою ценные сведения о тех нюансах, мельчайших на первый взгляд, даже незначительных, политической и частной жизни французского двора, которые позволяют человеку шумному и наблюдательному задолго до наступления бури предугадать, откуда ветер дует: предвидеть событие государственной, а то и международной важности задолго до его наступления, да и просто иметь более полное представление о тех фигурах, которые играют важные роли в шахматной партии «Россия — Франция». Вся светская болтовня, которая влетала в хорошенькие маленькие ушки Ноэми, потом мило извергалась ее розовыми губками. Корф искренне наслаждался общением с мадемуазель Тарте, ибо она, мало что была очень хорошенькая (изящная, точно саксонская фарфоровая куколка, блондинка), вдобавок обладала по-мужски цепким умом и неким шестым чувством умела понимать, что именно может заинтересовать этого загадочного и щедрого господина, причесанного волосок к волоску, напудренного, с длинною шпагою на бедре, в черном кафтане, в облике почтенном, но с дерзким взором, этого d'un homme irreprochable [168], коего Ноэми, как ни тщилась, не в силах была искусить своими прелестями, а потому уважала его и смутно побаивалась.
В описываемый нами день Перикл незаметно сопроводил своего подопечного по известному адресу и, по опыту прежних свиданий зная, что Корф остается у Ноэми не меньше часу, приготовился слегка вздремнуть на скамье в тени платана, на противоположной стороне улицы, как вдруг покой его нарушил некий всадник, на бешеной скорости подскакавший к подъезду и ворвавшийся в дом, грубо оттолкнув консьержа. Перикл не поленился перебежать улицу, где и узнал, что «сей безумец» прямиком устремился к дверям Ноэми Тарте. Перикл разом встревожился и позлорадствовал: публичный скандал — что может быть позорнее для «почетного шпиона»?! Ему до смерти хотелось тоже подняться на второй этаж и хоть краешком глаза подсмотреть, хоть издалека послушать, каковы события разворачиваются в квартире прелестной Ноэми, не звучат ли там пощечины или крики о помощи; и он был немало озадачен и даже разочарован, когда барон Корф и незнакомец вышли из подъезда, хохоча во все горло, пожали друг другу руки, раскланялись, а потом разошлись: всадник отправился восвояси; барон — в русское посольство, на улицу де Граммон. Перикл караулил его там дотемна, когда и счел свою миссию на сегодня завершенной: частенько бывало, что Корф оставался на ночь в особняке Леви.
Перикл был бы в очередной раз немало изумлен, когда б узнал, что в черной, с завешенными окошками карете посланника Корф выехал со двора посольства не более чем через полчаса; что вскоре он покинул карету на бульварах и, затерявшись в шумной толпе, пешком дошел до улицы Карусели, на углу которой, в глубине заросшего сада, стоял двухэтажный дом, уже давно назначенный для продажи, но никак не находящий покупателя из-за дурной своей славы: ходили слухи, что прежний хозяин убил свою жену, застав ее с любовником, и призрак сей дамы частенько бродит по саду или комнатам. Здесь, во внутреннем дворике, Корфа уже поджидал тот самый господин, с которым он весьма дружески распрощался совсем недавно возле дома Ноэми Тарте.
Но повод для новой встречи был вовсе не дружеский. Им предстояла дуэль!
* * *
Что же произошло? Что осталось скрыто от глаз проницательного господина Перикла?
Едва Ноэми, проведя Корфа прямиком в свой будуар и изящно нюхая табак (в ту пору сия забава была весьма распространена у дам), принялась излагать ему свое беспокойство по поводу внезапной бурной дружбы легкомысленного кардинала Луи Рогана (всем было известно о неприязни к нему королевы) с великим Калиостро (а еще пуще — с четой каких-то подозрительных скоробогатых авантюристов, называющих себя потомками великого рода Валуа, то есть мадам Жанной Ламотт и ее расточительным супругом, которые сулят помирить кардинала с королевой), как вдруг их retire [169] было нарушено: за стеной раздался сдавленный писк горничной, потом громкий мужской голос, изрыгавший проклятия, а вслед за этим дверь распахнулась, и в будуар m-lle Тарте ворвался какой-то растрепанный, взмыленный человек, напоминающий породистого гнедого скакуна, проделавшего путь от Версаля до Парижа не в два часа, а в двадцать минут, — если только гнедой скакун способен потрясать обнаженной шпагой и выкрикивать: «Будь ты проклята, изменница! Где этот негодяй!» Барон, сидевший на розовом пуфике в вольной позе, без кафтана (декорум так декорум!), и Ноэми, в очаровательном неглиже раскинувшаяся на козетке, так и замерли при виде этого безумца, в котором Ноэми узнала венгерского маркиза: он только вчера, в Булонском лесу, так щедро засыпал ее коляску охапками роз, что m-lle Тарте не могла не улыбнуться в ответ — и тут же выслушала признания: будто бы ради ее благосклонности маркиз готов на все, и он назначит ей королевское содержание, купит дом в аристократическом предместье Сен-Жермен — и так далее, и тому подобное. Тронутая живейшими изъявлениями чувств, Ноэми не отвергала никаких предложений пылкого венгерца, но, верная своему принципу: «Деньги вперед!», не оказала еще влюбленному никаких милостей, а потому была чрезвычайно озадачена его появлением. Он вел себя не как робкий поклонник, а как ревнивый любовник, хуже того — ревнивый муж, хотя не имел на то вовсе никаких оснований.
Еще более был скандализирован барон, узнавший наконец в незнакомце маркиза Шалопаи, не столь давно наилучшим образом отрекомендованного ему Иваном Матвеевичем Симолиным. Сейчас же барон видел перед собою Отелло во плоти: Сильвестр переворошил все в комнате, ища некие billets dous [170], словно присутствия самого «любовника» ему уже было недостаточно, потом залпом опрокинул бокал бургундского, бесцеремонно налив его себе, запил бургундское стаканом красного вина и, приведенный этой смесью в должное состояние, швырнул Корфу в лицо перчатку.
Ноэми от страха лишилась голоса; Шалопаи замер, словно испуганный собственной смелостью; и оба они с таким любопытством воззрились на барона, как если бы ожидали, что он тут же кинется на обидчика и проткнет его насквозь шпагою.
— Ради Бога, не здесь, господа! — пискнула Ноэми, всякую минуту готовая лишиться чувств и достаться любому, кто окажется победителем. Однако Корф стоял недвижим, испытующе глядя на обидчика. Он знал, что point d'honneur [171] для него было немедля принять вызов, однако пытался понять, что же произошло с маркизом. Сведения, имевшиеся о нем у Корфа, были весьма забавны: среди прекрасных дам Шалопаи слыл милым болтуном; так их любил, что частенько устраивал для них беспроигрышные лотереи из разных драгоценных безделушек; по непроверенным слухам, у него в доме имелась секретная комната, где он собрал портреты чуть ли не трехсот дам, благорасположением которых этот веселый Шалопаи пользовался в жизни. Словом, Сильвестр Шалопаи был обычным женолюбом и волокитою, каких множество можно встретить в любом обществе; при недавней встрече в Итальянском театре он показал себя к тому же человеком вполне светским и блестящим остроумцем: его крик «вот аббат Миолан!» сделался настоящим модным bon mot [172] и который день повторялся в салонах и даже во дворце. Какой же белены он объелся нынче? Ведь вел себя подобно провинциальному дурню…
Из этой комнаты у Корфа было только два выхода: один через дверь вместе с Шалопаи — и сразу к месту дуэли; другой — через окно, к позорному бегству. Корф усмехнулся, вспоминая одного своего приятеля, который, как и он сам, был застигнут у дамы сердца внезапно вернувшимся мужем, выпрыгнул из окна второго этажа, да так неудачно, что сломал обе ноги. На дворе же было раннее утро; по счастью, мимо проходила молочница, и несчастный любовник отдал ей все деньги, дабы она… нет, не позвала на помощь, нет, не привела лошадь или повозку, — а всего лишь оттащила его подальше от окна возлюбленной, под окна какой-то харчевни. Там он и пролежал до тех пор, пока не появились люди, — безмерно страдающий от боли, но все же безмерно гордый: он спас честь своей дамы!.. Корф вообразил, как прыгает из окошка Ноэми, ломает ноги; филер, который ходит за ним неотступно, кличет фиакр и увозит своего «подопечного» на улицу Старых Августинцев, по хорошо знакомому адресу, где грешная жена встречает своего грешного мужа и ухаживает за ним вместе с его любовницею…
Корф внезапно расхохотался, чем немало напугал Ноэми, решившую, что ее посетитель от страха сошел с ума. Но в следующую же минуту он поступил уже по всем правилам: произнес мрачную сакраментальную фразу: «Je sais a quoi m'en tenir!» [173], затем поднял перчатку — и предложил Сильвестру встретиться через час для взаимной сатисфакции. Маркиз вздохнул с видимым облегчением, и Корфу пришла в голову весьма здравая мысль о том, что, пожалуй, ради его согласия драться и была затеяна вся эта нелепая история, а шум и гам — лишь проявление страсти Сильвестра к эффектным сценам, что и было уже замечено Корфом несколько дней назад, на премьере «Петра Великого» в Итальянском театре.
Вот так и произошло, что, счастливо избегнув заботливого глаза месье Перикла, через час с небольшим во внутреннем дворике заброшенного дома на улице Карусели барон Корф и маркиз Шалопаи сбросили сюртуки, раскланялись, а потом с упоением предались тому самому занятию, которое, сделавшись истинным бичом привилегированных сословий во Франции, было запрещено под страхом смертной казни строжайшим эдиктом короля Людовика XIV, оставшись, однако, и сто лет спустя единственным средством разрешать неразрешимые споры.
* * *
Двор, где происходила дуэль, был похож на узкий колодец: черные стены вздымались к небу, шероховатые даже с виду, потому что камни были не обтесаны. Одна стена была увита мелкими белыми розами; возле нее стояла каменная скамья, покрытая мхом, и Корф, мельком скользнув по ней взглядом, подумал, что если здесь и впрямь бродит призрак, то он — вернее, она, ибо это призрак дамы — любит лунной ночью сидеть на этой скамье, под этими розами, или выглядывает из узкого стрельчатого, тускло освещенного окна… Тут Сильвестр бросился в атаку, и барон забыл о призраке и об окошке, а зря: задержи он взгляд еще на мгновение, он увидел бы свою жену.
Ну не могла Мария не прийти сюда! Ее план, который еще недавно представлялся изощренно-безупречным, отчасти даже забавным, показался ей вдруг жутковато-нелепым, как если бы, потеряв ключ от двери, она задумала стрелять в замочную скважину чугунным ядром из мортиры. Почему-то подумалось: если хорошо пойдет дело, то станет легче, однако сердце ее обморочно затрепыхалось, когда Сильвестр сделал первый выпад. Корф успел отскочить, а шпага проволокла Сильвестра вперед, так что он врезался в стену и едва успел шарахнуться в сторону, когда совсем рядом клинок барона высек искры из черного камня.
Теперь противники поменялись местами, и Мария видела лицо своего «наемника». На нем мелькнула тень изумления: Сильвестр, верно, не ожидал такого проворства, однако, решив держать теперь ухо востро, принял боевую стойку и сделал второй выпад. Сталь звякнула о сталь — Корф лихо ответил. И улыбнулся не без издевки: как ни был силен маркиз в обращении со шпагой, он ничего не мог с ним поделать.
Темп схватки ускорялся. Лицо Сильвестра блестело от пота; тщательно причесанные волосы барона растрепались, с них сыпалась пудра, открывая седые виски, разглядев их, Сильвестр, верно, решил к стремительности своих выпадов присовокупить новое оружие и выдохнул:
— Постыдились бы, сударь! С вашим положением в обществе! С вашими сединами!..
— Ничто! — перебил Корф, нимало не задыхаясь. — Я как лук-порей: голова седая, но хвостик еще вполне зеленый! — И он отбил удар так резво, что шпага едва не выпрыгнула из руки Сильвестра.
Сильвестр сделал зверское лицо и прыгнул вперед. Снова зазвенела сталь, но Мария уже не отводила глаз. Ей больше не было страшно. Она была в восторге от этого зрелища! Теперь она понимала, почему так много пылких любовниц у заправских дуэлянтов, которых ей приходилось встречать в обществе. Женщины предпочитают дерзкую, отчаянную храбрость, а не спокойную, благородную смелость. Мария, как бы в опьянении, следила за сценой, разыгрываемой по ее воле, постигая, что мужчинами, оказывается, женщине очень легко управлять, и прав был Фонтенель, сказавший: «Мужчины не сопротивляются, если ими движет страсть, — тогда от них можно получить все, что пожелаешь!»
Блеск обнаженных клинков, посвист стали, ритмический топот ног, словно бы выбивающих из брусчатки: «A mort! A mort!» [174] — это превратилось в некий смертельный, прекрасный танец. Впрочем, разъярившись, не в силах добиться перевеса, противники постепенно отступали от правил высокого фехтовального искусства. Вот Сильвестр отшатнулся, а когда Корф надвинулся на него, сбил его клинок вниз и, с поворотом подпрыгнув, попытался ударить барона пяткой в голову. Однако промахнулся, с трудом устоял на ногах и обнаружил, что каблук сапога наполовину срезан хлесткой шпагой Корфа. Противники вновь поменялись местами, и теперь Мария отчетливо видела торжествующую улыбку на лице своего мужа.
Мария готова была любоваться этим спектаклем вечно, как вдруг… укол в руку и удар сапогом в коленную чашечку помогли Корфу свалить противника! Острие шпаги затрепетало у самого горла распростертого Сильвестра, а барон, пригнувшись, еще слегка задыхаясь, выкрикнул:
— Я знаю! Я догадался! Вы сделали это по воле моей жены! Она ждет моей смерти! Oh, je meprise les femmes! [175]
Запрокинутое лицо Сильвестра от его слов побелело так, словно именно эта неожиданная догадка, а не шпага, каждую минуту готовая пронзить ему горло, была для него самым страшным.
— Нет… — прохрипел он. — Нет…
— Нет? — усмехнулся барон, отведя шпагу, он схватил противника за грудки и рывком поднял с каменных плит.
— Я не страдаю болезнью нашего времени — легковерием. Это задумала она, а значит…
Он не договорил.
Стрельчатое окно распахнулось, но за ним никого не было видно. Однако барон не мог отвести глаз от этого темного провала, в котором вдруг возникла узкая женская рука и, как бы прощаясь, взмахнула белым платком…
Взмахнула — и исчезла. И вновь непроницаемая тьма за окном. И воцарилась тишина. Лишь покосившаяся створка слегка покачивалась на ветру, издавая едва слышный тоскливый скрип.
Барон отпрянул, на мгновение оказавшись во власти неодолимого ужаса… не зная, что от окна только что отпрянула и замерла, вжавшись в стену, до смерти перепуганная и его прозрением, и собственной смелостью Мария.
Сильвестр, однако, не зевал: вмиг оказался на ногах и ринулся в бой. Потеряв голову, решив мгновенно покончить с врагом, в котором он теперь видел только низкого, бесчестного наемника, Корф в ярости взмахнул шпагой, как двуручным мечом… Сильвестр сделал глубокий выпад — и его рассчитанный удар пронзил правое плечо Корфа.
Мгновение барон стоял, чуть покачиваясь, потом грянулся навзничь. Сильвестр успел вырвать шпагу из его плеча и тяжело перевел дух, недоумевая, что же так напугало барона, что помогло одержать, казалось бы, уже недостижимую победу. Да, он явно недооценил своего соперника и за это чуть не поплатился жизнью! Но теперь он хоть на малую толику, а искупил свою невольную вину перед баронессой.
Довольно улыбаясь, Сильвестр обмахнул ладонью потный лоб и невольно поднял глаза. Прямо перед ним было распахнутое окно, в которое высовывалась некая дама с выражением ужаса на смертельно бледном лице…
Это уж было слишком для напряженных нервов маркиза! Он без чувств рухнул на раненого Корфа, и, глядя на два распростертых тела, Мария наконец-то поняла, что забыла предупредить Сильвестра о своем появлении, а значит, он тоже принял ее за привидение!
Глава XXI ХВОСТ САТИРА
Ведущая роль в следующей сцене задуманного Марией спектакля принадлежала Ивану Матвеевичу Симолину. Право слово, «драматург» не ожидала встретить такой склонности к авантюрам у этого невысокого, полноватого, облеченного немалой властью человека. Но он высоко ценил Корфа; ему нравилась Мария; он негодовал на судьбу, воздвигшую между этой парой неодолимые преграды, а пуще — на людей, сии преграды усугубляющих; наконец, он вполне оценил степень опасности, грозящей барону в его доме, — и устроил такую сцену генерал-лейтенанту полиции Марвиллю, уверяя, что на русского министра Корфа было совершено покушение какими-то наемными убийцами (всякие улики, могущие указать на дуэль, были уничтожены), что ни у Марвилля, ни у кого другого не могло возникнуть ни малейших сомнений в искренности этой le sublime du galimatias [176]. И решено было, что раненому дипломату лучше находиться под надежным присмотром в посольстве своего государства, чем дома, где его может подстерегать опасность.
Однако Марии казалось, что Симолину сладить с Марвиллем и общественным мнением было гораздо проще, чем ей со своими домашними: графиня Евлалия Никандровна ни с того ни с сего устроила жуткую свару, позоря племянницу за то, что та не желает печься о муже. Пусть Корф и пренебрегал ею все пять лет их брака, однако же он дал Марии свое честное имя, она жила безбедно и свободно (кому интересно, что она предпочла бы сладостные узы любви этой свободе!); и просто неприлично с ее стороны допустить, чтобы ее мужа, с пустячной раною, держали при посольстве, словно бездомного! Безобразие! И так далее, и тому подобное, и снова, и сызнова!.. Тетка просто-таки буйствовала, а Мария втихомолку поражалась: да неужто же для этой старой, опытной, мудрой дамы столь важно соблюдение каких-то несусветных приличий?! Не менее непредсказуемо повела себя и Николь. То есть она вообще никак себя не вела! Она засела в своей комнате (о, как хорошо помнила и с каким ужасом вспоминала Мария ее конфетное розовое убранство!) и вовсе не выходила оттуда, едва отведывая приносимые ей блюда. Сначала Мария решила, что Николь предается скорби в своем уединении, однако как-то раз, гуляя в саду, подняла невзначай голову и увидала Николь, таящуюся за шторою своего окна, украдкой подсматривающую за баронессой. Она тотчас отпрянула, однако Мария успела заметить выражение ее лица — и мигом поняла загадку затворничества Николь: страх.
Она боялась! Она чего-то смертельно боялась… но чего? или кого? да не Марии же? Или… или Корф успел поделиться с ней своими подозрениями, и теперь Николь видела именно руку баронессы в тех напастях, которые обрушились на Корфа?! Понятно: сперва яд в янтарном бокале, потом предательский удар шпагою… Осознав ход рассуждений Николь, Мария почувствовала себя кем-то вроде знаменитой в XVII веке маркизы Марии Мадлены де Бренвилье, которая со своим любовником, кавалером де Сент-Круа, вызнала у некоего итальянца Экзили тайну приготовления страшного яда, которым и отравила своего отца, двух братьев и двух сестер, дабы присвоить все их состояние. Этот яд получил название «порошок наследства», и, вспомнив сию жуткую историю, Мария невольно призадумалась относительно истинной роли и намерений Николь в доме барона Корфа. Даже страх ее увиделся в несколько ином свете! Неведомая Евдокия Головкина не могла не иметь своего человека там, где жила пара, от которой она мечтала получить немалое наследство! Почему этим человеком не могла оказаться Николь?
«Порошок наследства…» Мария пришла в полное смятение. А вдруг Николь и есть отравительница?
Она пыталась обуздать свое разгоряченное воображение, но мысли одна ужаснее другой лезли в голову. Что скрывать, она боялась, по-прежнему боялась за Корфа, и даже отдельные покои во втором этаже на улице Граммон, куда вход дозволялся только сиделкам-монахиням из монастыря святой Женевьевы и, конечно, самому Симолину, не казались ей достаточно надежным убежищем для Корфа.
Ночные бдения у постели раненого обыкновенно брала на себя добрая знакомая Марии, хорошенькая скромница Анна Полина. Ее руки были заботливы и легки, ее шаги неслышны, и Корф не понимал, почему именно в дежурства Анны Полины, ровно в полночь, посещает его одно и то же видение, которое он не мог приписывать не чему иному, как горячке, бреду… Видением тем была высокая дама, вся в белом, с закрытым лицом, которая неслышно возникала у постели Корфа и подолгу глядела на него своими неразличимыми под густым белым вуалем очами, изредка вздыхая, словно с трудом подавляя рыдание, и медленно, плавно, как бы прощаясь, поводя в воздухе белым кружевным платком…
Корф вскакивал, видение исчезало, дремлющая Анна Полина подхватывалась со своих кресел и, внимательно оглядев все углы, уверяла больного, что в комнате никого нет; барону не оставалось ничего другого, как признать, что роковой призрак из дома на улице Карусели не оставляет его своим вниманием.
Что ж, он был прав! Во всяком случае, Мария, которая ночь за ночью, повинуясь таинственному и меланхолическому влечению, являлась к постели своего недужного супруга, а потом скрывалась за ширмами, изо всех сил старалась выдержать взятую на себя роль, а поскольку, как известно, mundis vult decipi [177], то и Корф охотно оставался таким же decipi.
Итак, интрига развивалась как и было задумано. Мария могла жалеть лишь об одном: Корф поправлялся слишком быстро (Сильвестр сыграл свою роль отменно, удар его оказался совершенно безопасным, особенно если вспомнить ярость и ревность, коей тот был побуждаем к дуэли!), а значит, все меньше ночей остается ей, чтобы видеть мужа без помех, мечтая о том, что она может в любой миг коснуться его руки… по праву призрака! Мария старательно гнала от себя мечту о том, чтобы Корф однажды схватил привидение в объятия и попытался дознаться, какие причины заставляют Белую Даму маячить у постели недужного… может быть, он пожелал бы иметь ее в постели? Против сего Мария никак не стала бы возражать!
И вот настала последняя ночь. Как всегда, чуть стемнело, Мария украдкой выскользнула из дому. На соседней улице ее уже поджидал заранее нанятый Глашенькой экипаж, и через малое время он остановился возле укромной, скрытой в жасминовых зарослях калитки, ведущей в посольский парк. У Марии (разумеется, попечением добрейшего Ивана Матвеевича!) был ключ. Она отперла замок, прошелестела подолом по траве, отворила еще одну потайную дверку (ее петли были заботливо смазаны) и по узкой лестнице поднялась к последней на этом пути двери, за которой находился Корф.
Еще из-за двери она услышала какое-то движение в комнате, но, верно, почудилось: когда вошла, увидела Анну Полину, по своему обыкновению дремавшую в креслах, и Корфа, простертого на постели.
Первая ширма стояла у самого входа. Здесь Мария обыкновенно сбрасывала глухой черный плащ, делавший ее незримою во тьме, и делала первый шаг в роли призрака. Так происходило и нынче. Она опустила на лицо вуаль, вытащила неизменный платочек и поплыла к кровати Корфа, не сомневаясь, что сейчас встретит его горячечный взор, однако ничуть не бывало: глаза Корфа были закрыты — он спал.
Мария была разочарована, возмущена: как так, она пришла на свидание, а возлюбленный ее не явился — проспал?..
Однако она тотчас же смекнула, какое преимущество предоставляет ей новая ситуация. Если подумать, что все пять лет она мечтала повторить их единственный мимолетный поцелуй, — кто осудит Марию за то, что она проворно откинула вуаль, наклонилась и сперва едва-едва коснулась губ спящего барона, а потом, воспламенившись, впилась в них со всей своей неутоленной страстью, пусть даже мало приличной призраку? Впрочем, Мария тотчас сообразила, что вышла из образа, и в испуге отпрянула, уверенная, что Корф сейчас подхватится с постели и схватит ее, но ничуть не бывало: он даже не ответил на поцелуй, он даже не шелохнулся! Мария безотчетно потрясла его за плечо, взъерошила волосы — напрасно: он спал как убитый!
Странное подозрение пронзило ее… Она обернулась, намереваясь разбудить сиделку, поднять тревогу, да так и замерла с открытым ртом: кресло, где только что спала Анна Полина, было пусто, монашенка стояла вплотную к Марии… мелькнула мысль, что Анна Полина, бывшая гораздо ниже ростом, чем «привидение», как-то внезапно подросла. В следующее мгновение та вскинула голову, сорвала чепец — и успела зажать Марии рот за мгновение до того, как она выкрикнула:
— Вайян!..
Ибо это был он — на сей раз в женской монашеской одежде, но снова он, он!
* * *
Мария билась всем телом, пытаясь укусить его твердую ладонь, позвать на помощь, но ничего у нее не получалось. Наконец, утомившись, притихла… Переводила исполненный ужаса взгляд с неподвижного Корфа на монашеский чепец, брошенный на пол. Вайян понял ее недоумение и прошептал:
— С ней все в порядке. Она сидит вон за той ширмой. Крепко связанная, и рот заткнут, но вполне невредимая. С мужем твоим тоже все в порядке: я ему дал кое-что понюхать, он будет спать так крепко еще полчаса, не дольше, так что успокойся. Ну что? Не будешь больше кричать? Очень умоляю, не шуми. Я нарочно пробрался сюда, чтобы кое-что тебе сказать, а будешь буянить — уйду!
Мария слабо кивнула, и Вайян отнял ладонь от ее рта, однако Мария даже не шевельнулась, а так и стояла, уронив голову на плечо Вайяна. Ее страх разом прошел: как можно было забыть, что этому человеку она дважды обязана жизнью? Если бы не его появление в ломбарде… если бы не его пернак… Между ними существовала какая-то особенная близость, и Мария вдруг всем существом своим ощутила, что Вайян не сможет причинить ей вреда.
— Вот жизнь, а? — шепнул он едва слышно, и его теплое дыхание защекотало висок Марии. — Всегда про себя знал: когда я обнимаю прекрасную даму, то думаю только о чудесных бриллиантах в ее серьгах. А нас с тобою что-то так переплело, так связало… — Чудилось, он читал ее мысли. — Подумать только: если бы этой твари Eudoxy не понадобилось твое состояние, я никогда не узнал бы даже твоего имени. А сейчас мне кажется, что я знал и любил тебя всю жизнь… и даже прежде, чем появился на свет…
Мария вздрогнула, напряглась в его объятиях, Вайян тихонько вздохнул:
— Не тревожься. Я же знаю: я — ничто для тебя. Ты меня никогда не сможешь простить за то, что я вынужден служить твоему врагу, но знай: я пришел сегодня ради тебя. Оказывается, твоих денег, твоего состояния мало. Теперь нужны еще деньги твоего мужа! Через две недели вы получите приглашение на бал. Там он будет похищен, а после того, как напишет завещание в твою пользу, сразу же и убит.
— Как это — в мою пользу?.. — пробормотала Мария. — Я ведь его жена, значит, я и так наследую…
Вайян вздохнул.
— Жена-то жена, а ведь не знаешь ты, что он завещание свое переменил как раз перед тем, как на него напали на улице Карусели. Тебе определен самый жалкий пенсион, как бы в угоду приличиям, а все отходит в казну: у твоего барона ведь нет никакой родни. Уж не знаю, почему он так поступил. Если ты его прогневила… если я в том виновен, то прости. Прости! Мне совесть больная покоя не дает! Потому я и решил тебя предупредить, ведь моя вина в бедах твоих. Ну а когда вынудят его новым завещанием отменить старое, этим он себе приговор сразу и подпишет. Через две недели ты станешь богатой вдовой, моя милая! Однако, боюсь, порадоваться тебе удастся недолго: следующая очередь твоя настанет, так что берегись!
— Я не буду беречься, — все так же, в его плечо, пробормотала Мария. — Если он умрет — и я умру.
— Вот… как? — глухо проговорил Вайян. — Я не знал… Ну что ж сказать тебе? Тогда его береги! Предупредить тебя — вот все, что я могу!
И, отстранившись, он скинул с плеч монашеский балахон и шагнул к двери, но обернулся, метнул последний, исполненный тоски взгляд — и канул во тьму, оставив Марию утихомиривать свое переполошенное сердце, развязывать и освобождать от кляпа во рту насмерть перепуганную Анну Полину, потом ждать, когда Корф очнется от своего забытья и мутным взором обведет комнату в поисках призрака…
Однако он успел увидеть лишь край белого платья, растворившегося во тьме: Марии сейчас было не до игры.
Ей непременно хотелось с кем-нибудь поговорить, посоветоваться, решить, что делать теперь. Однако не Ивана же Матвеевича с постели среди ночи поднимать, обрушивая на него новую страшную новость! Только и оставалось, что воротиться к себе, на улицу Старых Августинцев, и сесть у окна спальни, напряженно размышляя.
Мало вероятия, что Корф поверит ее предупреждению. Симолин — тот, пожалуй, поверит, но что ему — в карман кафтана спрятать своего дипломатического агента, этого homme sans peur et sans reproche [178], чтобы избавить его от всех многочисленных опасностей, которые ему приготовила гораздая умом Евдокия Головкина? Предположим, он не поедет на этот бал. Но алчная дама придумает что-то другое. А на балу ему предстоит остерегаться — кого? Ох, ну почему, почему Мария так медленно соображает, почему только сейчас до нее дошло, что надо было вцепиться в Вайяна мертвой хваткой и выспросить наконец у него, кто такая эта Евдокия Головкина. А если бы он не стал отвечать, то поднять шум и крик, чтобы сбежались люди, охрана — чтобы схватили Вайяна! Нет, Мария только столбом стояла и предавалась сентиментальным размышлениям об их с этим разбойником особенных, сердечных отношениях. Потом до Марии вдруг дошло, что Вайян не обязательно должен знать, под какой маской является Евдокия Головкина в обществе, и она перестала корить себя за нерасторопность.
Легла, но, несмотря на усталость, сон бежал прочь: его отгоняла смутная обида. Вот она бьется, бьется, выдумывает Бог весть что, дабы избавить барона от опасностей, а он р-раз! — и единственным росчерком пера предал жену публичному позору! Даже не дождался ответа от Комаровского, охотно поверил, что Мария — новая madame де Бренвилье, а в том бокале и впрямь был «порошок наследства».
Наследство!.. Завещание!.. Уже два года, как вокруг этого вертиться вся ее жизнь…
Мария выбралась из постели, набросила пеньюар и, не заботясь, разбудит ли кого-то из слуг шлепанье туфель, отправилась в библиотеку. Наверняка там найдется какой ни есть кодекс, римское право или как там еще называются эти книги, в коих собраны все законы, определяющие отношения людей?
Такие книги и впрямь нашлись, и Мария, начав читать еще при свечах, засиделась до того, что уже высокое солнце заглянуло в окна библиотеки и коснулось шершавых, пожелтевших страниц, на которых подробнейшим образом объяснялся весь порядок наследования. Мария даже нашла путь, по коему и она, и Корф могли остаться в живых, несмотря на то, что их распоряжения как бы уже обрекали обоих на смерть. Ведь, по русскому праву, духовные завещания должны быть составлены в здравом уме и твердой памяти… точно, точно, эту фразу писала Мария в ломбарде под диктовку Вайяна — писала пером, запачканным в крови Мердесака! На этом основании недействительны были завещания безумных, сумасшедших и умалишенных, когда они составлены ими во время помешательства. Значит, по этому пункту завещание Марии вполне действительно. Была другая зацепка: как явствовало из Сенатского указа 1766 года, самоубийство, совершенное не в безумии или беспамятстве, считалось преступлением, и завещание самоубийцы, как и преступника, признавалось недействительным… А впрочем, о чем волноваться? Такая расчетливая и предусмотрительная особа, как Евдокия Головкина, наверняка же обставит гибель своих жертв самым подобающим образом — в виде трагической случайности, так что самоубийство не будет даже заподозрено, а стало быть, оснований признать завещание недействительным не окажется.
Конечно, если Корф все-таки неожиданно, при подозрительных обстоятельствах, погибнет, а в смерти его будет обвинена Мария — например, на основании показаний беспокойного доктора, — а потом предана суду и лишена всех прав состояния, то ее завещание тоже будет признано недействительным, даже если оно и составлялось прежде вынесения приговора…
И вот еще что: «Не могут быть завещателями постриженные в монашество, как отрекшиеся от мира и от собственности». Что ж, дело хорошее! А не присоединиться ли Марии к своей молоденькой подружке Анне Полине в монастыре Сент-Женевьев? Тут же возникло в памяти уныло вытянувшееся лицо брата Алешки, узнавшего о намерениях Машеньки похоронить себя заживо в монастыре и обречь на постылую рыбную кухню, — и Мария невольно расхохоталась. Придется искать другой выход, какой ни есть; в монастырь она всяко не пойдет, хоть на аркане ее тащи!
Взгляд скользил по строчкам — Мария силилась вникнуть в сложный текст. Русское право ограничивало завещательные распоряжения только родом имущества… что такое род имущества? А, вот пояснение: каждый может распорядиться свободно тем, что сам приобрел, но унаследованное недвижимое имущество, оставшееся после смерти, должно непременно поступить в пользу законных наследников: родовые имения не подлежат завещанию.
Мария вздохнула с облегчением: родовые имения не подлежат завещанию! Не получит чертова Eudoxy ни Любавина, ни малороссийских угодий!.. Но тут же в глаза бросилась другая строка: «Владелец, не имеющий потомства, может предоставить свое родовое имение, не нарушая прав супруга (супруги), одному из своих родственников или родственниц (хотя бы и помимо ближайших) из того же рода, от которого имение досталось завещателю».
Мария невидящими глазами уставилась в стену, пытаясь проникнуть в смысл сего речевого оборота.
«…одному из своих родственников или родственниц из того же рода, от которого имение досталось завещателю…» Из того же рода… Из того же рода…
Так… Кажется, что-то проясняется. У нее нет — и, очевидно, не будет! — детей. И прямых, стало быть, наследников. Брат Алешка по закону получить Любавино не может: он не Строилов, он Измайлов! И буде у него родятся дети — то же произойдет. Матушка, отчим — тоже Измайловы. Тетушка Елизавета Михайловна, ее сын Мишка и муж ее князь Павел — эти Рязановы. А Строилов-то кто? Одна лишь Евлалия Никандровна. Она вроде как сестра деда Марии по отцу Валерьяну Строилову. Но и ее начисто лишает наследства завещание в пользу Евдокии Головкиной. И это значит… это значит…
Мария собрала книги в стопу, подошла к полкам и осторожно, аккуратно установила один к одному тяжелые тома, обтянутые коленкором, выровняла черные кожаные корешки с золотым тиснением.
Это значит, что Евдокия Головкина и есть та самая «одна из родственниц (хотя бы и помимо ближайших) из того же рода, от которого имение досталось завещателю». Евдокия — какая-то дальняя строиловская родня, на наследство права не имеющая, но упрямо к нему рвущаяся!
Да… выходит, верна была догадка, повинуясь которой Мария погнала Данилу в Россию. Хотя теперь ясно, что делать сего не следовало. Зачем далеко? Не проще ли тетушку Евлалию Никандровну попросить напрячь память и перебрать по пальцам всю строиловскую родню, с которой никогда не имела никаких дел матушка Марии? Уж наверняка тут-то и отыщется след Евдокии Головкиной.
* * *
Ежегодный весенний бал-маскарад в городской ратуше был событием, не пропустить которое старались самые высокопоставленные особы парижского beau monde [179]. Поговаривали, что там может оказаться сам герцог Орлеанский… Марии впервые предстояло побывать на маскараде: оба прошлых года Корф, очевидно, забывал пригласить туда жену, впрочем, и сам он не ездил на те балы. Нынче же все высшие посольские чины и их супруги были приглашены поименно — великая честь, оказанная магистратом, об отказе и речи идти не могло!
Корф чувствовал себя вполне сносно и мог присутствовать в ратуше — в конце концов, предполагалось, что самое тяжкое из предстоящего ему там — это менуэт или аллеманда с какой-нибудь прекрасной дамою. Не на дуэли же драться!..
О том, что ему может предстоять на самом деле, знали только Мария и Симолин. Мария не могла не сообщить об этом своему заботливому другу, однако она так «бэкала и мэкала», пытаясь утаить источник сведений, что в конце концов Симолин хитро прищурил один глаз и рассмеялся.
— Моя прекрасная баронесса, — ласково проговорил он, целуя Марии руку, — вы забыли, с кем имеете дело. Всю жизнь я получаю тайные сведения… в этом состоит моя работа! Мне ничего не надо объяснять. Если бы я каждый раз допытывался у своих агентов, откуда кто из них что знает, я не продвинулся бы в своей карьере ни на йоту. Мы как пчелы: собираем мед, не больно-то задумываясь о названии цветка. Вы только скажите, что требуется от меня, — и я все исполню.
Мария смотрела на него повлажневшими глазами. Этому немолодому человеку, облеченному немалой властью, доставляла искреннее наслаждение затеянная Марией интрига. Интриги вообще были смыслом жизни Симолина, однако то были серьезные, подчас опасные, чреватые государственными и международными осложнениями хитроумные нагромождения; здесь же он ощущал себя кем-то вроде бога любви Эроса — умудренного опытом, поседевшего, однако по-прежнему шаловливого и готового поддержать всякие безумства, совершаемые во имя любви.
— Ничего, дитя мое, — тихо сказал он, видя слезы в глазах Марии. — Бог даст, вы еще будете счастливы!
— Он дал клятву, — пробормотала Мария, понурясь и силясь не разрыдаться в голос.
— Где клятва, там и преступление ее, — отмахнулся Симолин. — А теперь идите домой и займитесь своим туалетом. И уверяю, душа моя: Димитрий Васильевич без моего пригляду шагу не ступит. Самолично отвезу его в Отель-де-Виль — самолично и назад привезу, невредимого!
Марии оставалось только надеяться на это…
Итак, собственного мужа ей предстояло увидеть лишь на балу. Как, впрочем, и графиню Евлалию: раз прогневавшись на племянницу, она так более и не появлялась на улице Старых Августинцев, а посланная к ней Глашенька воротилась с известием, что графиня в Версале и воротится лишь для участия в маскараде. Там Мария и увидит ее, там и спросит о Евдокии Головкиной — если, конечно, узнает свою сердитую тетушку в сонмище людей, ибо в каком та будет костюме, Мария не имела ни малейшего представления. Что придумает Симолин для маскировки Корфа, ей тоже было неведомо. Она и сама-то до последнего мгновения не представляла, что наденет. На маскараде ей ни разу в жизни бывать не приводилось; княгиня Елизавета, правда, рассказывала своей дочери о том, как нарядилась в Риме в 1761 году венецианской танцовщицей, обменявшись платьями с Августой Дараган, и что из этого вышло, — этим и ограничивалось все, что Мария знала о маскарадах. Она не позаботилась заказать подобающий туалет и теперь в растерянности стояла перед шкафами и сундуками, пытаясь выбрать из множества нарядов тот единственный, который сделал бы ее неузнаваемой.
У нее было белоснежное, украшенное лебяжьими перьями творение одного из самых дорогих парижских портных и к нему страусовые перья для прически — воистину dernier cri [180], но Мария знала, что в этом узком, как перчатка, облегающем фигуру тюлевом платье она не сможет ни встать, ни сесть, передвигаться же ей придется мелкими, семенящими шажками, — а если приспеет пора действовать решительно? бежать? драться, в конце концов?! Нет, оперенье Царевны-лебедя, как ни было оно красиво, отпадало изначально. Не хотелось надевать и новое роскошное зеленое платье, в котором можно было бы, подобрав соответствующую маску и украшения, изобразить Царевну-лягушку. Оно было сшито по прежней моде и имело слишком тесный корсаж, покрытый жесткой златотканой материей, который, как броня, заковывал талию — ни вздохнуть, ни охнуть! Вдобавок юбка была огромная, неуклюже вздутая, сшитая из плотной парчи, которая не гнулась и стояла колом, гремя и грохоча от крахмала, будто лист железа под ветром. В таком платье не больно-то подкрадешься к кому-нибудь незаметно, а если придется протиснуться в узкий коридорчик, то рискуешь в нем застрять навеки!
Был у Марии прекрасный, голубой с золотом, русский костюм: шелковый сарафан, батистовая рубаха, унизанный скатным жемчугом кокошник, — однако Корф видел этот наряд, а Марии не хотелось до поры до времени попадаться на глаза мужу.
Словом, время шло, до бала оставался какой-то час, а Мария по-прежнему пребывала в глубокой растерянности относительно выбора наряда и уже изрядно-таки приуныла, как вдруг за дверью будуара раздался какой-то шум. Глашенька побежала поглядеть, в чем дело, и вслед за ней в комнату вступил некий человек с огромною картонкою в руках, перевитой алыми лентами. Насилу оторвав взор от нарядной, обтянутой розовым шелком коробки, Мария взглянула на посетителя — да так и ахнула, узнав посольского лакея Казимира. Едва приметно улыбнувшись, он тотчас принял важный вид и пояснил, что доставил сию коробку по приказу господина Симолина для удовольствия госпожи баронессы, потом откланялся и поспешно вышел.
Мария озадаченно глядела на огромную коробку, гадая, что там может быть. Глашенька, помирая от любопытства, подняв вопросительно бровки, с жалостной гримасой воззрилась на свою госпожу. Мария снисходительно пожала плечами, словно ей было все равно; и Глашенька, от нетерпения путаясь в алых завязках, подняла крышку, заглянула в коробку — и, испустив стон восторга, принялась вынимать оттуда вещь за вещью, Мария же стояла, оцепенев, и только изредка всплескивала руками.
Здесь был целый ворох тончайших нижних юбок — не меньше пяти! — одна короче другой, обшитых кружевом с таким расчетом, чтобы каждая была видна, и все они от бедер расходились пышным, шумящим, восхитительно волнующимся, многоярусным колоколом. Юбки были довольно короткие — самая длинная не достигала щиколоток. Однако верхняя юбка — алая, шелковая, горящая огнем! — оказалась еще короче. Глашенька вытащила черные кружевные чулочки, и когда Мария натянула их, то обомлела от восторга, узрев изящество и стройность своих ножек, выставленных теперь на всеобщее обозрение и особенно выигрышно смотревшихся в алых атласных туфельках на высоких деревянных каблучках. К юбкам прилагалась белая батистовая рубашка с пышными, отороченными кружевом рукавами и таким глубоким декольте, что, когда Глашенька зашнуровала на тонкой талии Марии черный бархатный корсаж, ее и без того вполне пышный бюст выступил из выреза двумя белопенными соблазнительными выпуклостями, на одну из которых Глашенька тотчас прилепила черную тафтяную мушку. Впрочем, в чудесной коробке, присланной Симолиным, оказалась тончайшая индийская шаль из кашемира, затканная золотыми цветами, так что ежели б Марию вдруг особенно смутили нескромные мужские взоры, она могла бы принакрыться этой шалью, которую пока что стянула на бедрах, подчеркнув их стройность.
Но это еще не все! Отдельно, переложенный тончайшей рисовой бумагою, в коробке лежал смоляно-черный парик такой тонкой работы, из таких шелковистых, буйно кудрявых волос, что Мария, всегда париками брезговавшая и весьма довольная своими длинными русыми волосами, без малейших раздумий скрыла их под пышными смоляными локонами, которые изменили ее лицо до неузнаваемости, придав тонким, спокойным чертам опасную неотразимость. Цыганка, в которую, словно бы по мановению волшебной палочки, обратилась Мария (даже глаза, подкрашенные должным образом, сделались в этих черных отблесках совсем темными), знала цену своей красоты! Ко всему этому великолепию приложена была колода карт с весьма игриво, если не сказать больше, изукрашенной рубашкою, а также темно-розовый, цвета азалии, веер, который поможет Марии на балу и занять руки, и скрыть лицо, и, ежели надо, украдкою шепнуть словцо.
Право слово, лучшего костюма придумать было просто невозможно! Цыганка-гадалка ко всякому может подойти запросто, со всяким поговорит и посмеется, а уж насчет своих познаний в метопоскопии, хиромантии и даже подоскопии — умении распознавать характер человека по морщинам лба, линиям ладони и форме ступни (а вдруг кому-то взбредет причуда появиться на балу босиком?!) — Мария не сомневалась: она нашла в библиотеке Корфа великое множество книг по всем отраслям знаний, в том числе по чародейству и волшебству; не стоило также забывать, что воспитана она была самой настоящей цыганкою, вещей жонкою!
Полностью одевшись, Мария принялась застегивать узенькую атласную полумаску, тоже оказавшуюся в этом вместилище чудес, и обнаружила приколотую к ней записочку, на которой рукою Симолина была по-русски начертана одна только фраза:
«Мы все в руке Судьбы!» Слово «Судьба» оказалось написано с большой буквы, и Мария догадалась, что Симолин именно такой смысл видел в ее костюме!
Задумчиво улыбаясь своим мечтам, Мария во всю ширь развернула веер и удивилась; почему у него такая жесткая, негнущаяся рукоять. Пригляделась — и невольно вздрогнула, обнаружив там узкий, тонкий, словно карандашик, английский стилет.
Итак, Судьба сегодня будет вооружена… кто же падет ее жертвою?
* * *
Когда Мария, в восторге от своей новой, неизвестной доселе красоты, кружилась перед зеркалом, наслаждаясь душистым шелестом нижних юбок, замысел Ивана Матвеевича, приславшего чудесный наряд, казался ей столь же бесспорно удачным, как некогда Золушке — замысел феи Мелюзины. Однако Мария стала в этом сомневаться уже через четверть часа после того, как вошла в зал ратуши — этого удивительно красивого готического здания с башенками и арками, стоявшего на Гревской площади; а через час она вполне осознала на своем горьком опыте ту мысль, к коей рано или поздно приходит каждая женщина: «Мужчины ничего не понимают в нарядах!»
Вот именно! Желая как можно лучше замаскировать Марию, Симолин словно нарочно сделал все, чтобы привлечь к ней как можно больше внимания. Кругом танцевали — менуэт, гавот, кадриль, экосез; Мария же, как прикованная, стояла в углу, осаждаемая толпой желающих немедленно, сейчас же узнать свою судьбу, словно все они явились не на бал, а в салон гадалки. Наконец ей удалось принять участие в круглом польском, но сей танец, казалось, нарочно придуман был для интриг и болтовни: сделав фигуру, участники некоторое время стояли на своих местах, и каждая пара о чем-нибудь беседовала, — легко понять, о чем Марии приходилось беседовать со своим кавалером, наряженным лукавым шутом Шико [181]! Право слово, вскоре ей стало мерещиться, что все 136 статуй великих людей, кои были воздвигнуты в залах и коридорах ратуши, тоже сбегутся к ней погадать! Поэтому она была просто счастлива, когда маленький, кругленький астроном в мантии, расшитой звездами, с приклеенной седой бородой и в остроконечном колпаке подошел к ней, размахивая огромной подзорной трубой, и предложил взглянуть в этот волшебный прибор, ибо через него можно увидеть горы на Луне.
Узнав голос Симолина, Мария послушно приложилась к трубе, а халдей [182] пробормотал как бы в сторону:
— Ваш костюм вполне сойдет за испанский, ежели вы всем будете отвечать: «No comprendo![183]»
— Что, сия труба и впрямь столь чудесна? — вмешался в их разговор роскошный, сверкающий золотыми галунами венгерский гайдук саженного роста, в котором Мария без труда узнала Сильвестра Шалопаи. Она не виделась со своим «наемником» со дня той достопримечательной дуэли, а желала бы не видеть его вообще никогда. Конечно, он рисковал жизнью по ее прихоти, но Мария была слишком злопамятна, чтобы забыть, чем для нее обернулась его прихоть, а потому, сделав вид, что не замечает тоски в его черных сверкающих глазах, она сунула ему в руки подзорную трубу со словами:
— В нее видны не только горы, но и леса на Луне. Только смотрите скорее, а то я вижу, как эти леса уже вырубают! Что за чудо-труба! — и нырнула в толпу, рассыпая направо и налево улыбки и волшебное «No comprendo!».
Однако досадно, что Сильвестр узнал ее. И как только умудрился?..
Раскаленной стрелой вонзилось в память воспоминание о том, другом, первом в ее жизни «маскараде»… и слова Корфа: мол, мужчина узнает любимую женщину в любом обличье… На глаза невольно навернулись слезы, но Мария прогнала их, опасаясь не только утратить присутствие духа, но и размазать краску на ресницах. Укрывшись за какой-то статуей, она начала присматриваться к танцующей, смеющейся толпе.
Казалось, маски на лицах позволяют отбросить светские условности; каким-то хмелем веселья проникнулись все участники бала, соперничавшие друг с другом в беззаботном срывании «цветов наслаждения». Кругом все пело, хохотало, плясало, целовалось, скрывалось во множестве нарочно отделанных занавесями укромных уголках, позволяя там себе уже самые смелые ласки; и у Марии закружилась голова от отчаяния, от невозможности найти здесь Корфа.
А время шло. Может быть, он уже неприметно схвачен, похищен в этой сутолоке и суматохе, ведь тут не отличишь смертельную схватку от дружеской шутливой потасовки. Конечно же, Симолин принял какие-то меры предосторожности, однако Мария все равно беспокоилась.
Особенно жутко ей сделалось при виде высокой, прихрамывающей фигуры в черном плаще с капюшоном, в белой маске Смерти, закрывающей лицо. В руках у Смерти была не коса, как следовало бы, а трость, на которую она тяжело опиралась, и ее ковыляющая походка, ее трясущаяся голова были столь страшны, что там, где она проходила, невольно образовывалось пустое пространство: Смерти боялись все, даже самые беззаботные.
А Корфа все не было, вернее, Мария никак не могла его высмотреть! Кем он явился на бал? Турецким пашой в сверкающем парчовом халате и в туфлях с загнутыми носками? Нет, слишком толстый. Обнаженным по пояс акробатом-негром? Нет, у Корфа ведь ранено плечо… Призраком в белых летящих одеждах? Пожалуй, это было бы очень к месту, особенно если бы призрак легонько помахивал платочком… Мария прыснула в веер. Нет, призрак слишком уж худой и долговязый, это не Корф.
Да где же он, где?! И ведь ей надо искать не только барона, но и тех, кто явился сюда по его душу. Она яростно щелкнула веером, и от резкого движения замочек браслета на ее запястье расстегнулся, и золотой обруч упал на пол. Он был очень красив: на золотом фоне две серебряные резные русалки выносили из моря несколько крупных, редкостной красоты жемчужин. Это был матушкин браслет, Мария взяла его с собой на счастье, хоть он и не очень-то подходил к цыганскому костюму. Браслет покатился под ноги толпы, Мария метнулась подобрать его; однако чья-то большая рука оказалась проворнее.
Эта рука принадлежала высокому, даже очень высокому мужчине в костюме сатира. Его атлетическую фигуру обтягивала коричневая шкура, увитая виноградными листьями. Такой же виноградный венок украшал всклокоченные черные кудри. Сквозь прорези маски посверкивали маленькие глазки, и сейчас в них застыло какое-то нерешительное выражение, а широкая короткопалая ручища так жадно стиснула браслет, словно и не намеревалась с ним расставаться.
Мария воззрилась на сатира в изумлении, но тут сотоварищ его, одетый точно в такой же костюм, только бывший пониже ростом и потоньше станом, ткнул его в бок. Великан вздрогнул и нехотя разжал ладонь, гулко пробурчав:
— Пожалте, барыня. Прощенья просим!
И тут Мария узнала и голос, и его обладателя. Она узнала бы его где угодно и когда угодно. В любом обличии узнала бы она Жако!
* * *
— Bonsoir, mon cher [184]! — пробормотала Мария изумленно. Вот уж не думала она, что приведется еще раз свидеться со своим мучителем! Действие charme maudit припомнилось так живо, что Мария не удержалась от колкости: — А тебе куда больше не листья эти, а палаческая рубаха пристала бы! Да еще и топор в руки!
Глаза Жако заморгали в узких прорезях маски, и Мария поняла, что он не узнает ее. И слава Богу! Неведомо, что сделал бы Жако с той, которая заставила его испытать столько мучений, а потом исчезла, будто сквозь землю провалилась. Надо и сейчас побыстрее исчезнуть с глаз разбойника, а потому шепнув:
— Ладно, иди своей дорогой, — Мария смешалась было с толпой, да не удержалась, оглянулась еще раз — и что-то как бы толкнуло ее в сердце, когда она рассмотрела спутника Жако — среднего роста, худощавого, проворного, сверкнувшего на нее жгучими черными глазами. Он ловко раздвигал толпу, словно юркая лоцманская лодочка, которая прокладывает путь для тяжеловооруженной каравеллы. Каравеллою был Жако, и «лоцман» подводил его к высокому и стройному венецианскому мавру, одетому в белое, с белым же тюрбаном на голове, со смугло загримированным точеным лицом, на котором сияли синие-пресиние, такие знакомые глаза…
Мавр! Отелло! Ну конечно, — какой же еще костюм мог Симолин подобрать для этого неистового ревнивца! Странно, что он Марию не нарядил белокурой Дездемоною, нервно сжимающей в руках роковой платок, вышитый цветами земляники. Впрочем, роль с платком она уже играла…
Эти мысли вихрем проносились в голове Марии, пока она стояла, не чувствуя тычков и толчков танцующих, зачарованно глядя на задумавшегося Отелло, который словно бы тоже ничего не видел вокруг, даже двух сатиров, которые неприметно окружали его, разматывая кольца виноградных лиан, оплетавших их тела. Никакие это были не лианы, а хорошо замаскированные веревки! И великан Жако уже поднял свой пудовый кулак, чтобы оглушить жертву, а потом, воспользовавшись сутолокой, утащить из бального зала — мало ли, выпил человек лишнего, лишился чувств…
Мария вскрикнула, но голос ее потонул в многоголосье толпы и раскатах музыки. Она метнулась вперед — где там! Разве пробьешься! В бессильной ярости щелкнула веером — тонкий стилет выпал из его ручки ей на ладонь, и тогда Мария снова ринулась в толпу, прикрывая веером сверкающее лезвие, которым она легонько колола всех, кто преграждал ей путь, — легонько, но вполне ощутимо, так что, вскрикивая, люди отшатывались с ее пути; и через несколько мгновений она уже приблизилась к Жако, занесла было кинжальчик — ударить его половчее, да вдруг, словно нарочно, черная Смерть прошла мимо своей ковыляющей походкой. Невзначай задела Марию и выбила у нее оружие, которое тут же было затоптано сотнею пляшущих ног.
Мария даже взвизгнула от злости! В это мгновение Жако вцепился в плечи Отелло («Негодяй! Да у него же плечо ранено!»), отчего тот мертвенно побледнел — это было видно даже под слоем грима, — и ноги у него подкосились. Жако подхватил падающего барона, а второй сатир набросил на жертву веревку. И тогда Мария, осененная спасительной мыслью, подпрыгнула, вырвала из свечника высоко укрепленный факел и ткнула им в затейливо закрученный хвост сатира.
Тошнотворно запахло паленой шерстью, и по хвосту, будто по бикфордову шнуру, побежало пламя. Мгновение — и коричневая курчавая шкура, плотно обтягивавшая тело Жако, занялась!
Разбойник мгновение стоял, ничего не понимая, а потом вскрикнул тонким бабьим голоском, и этот крик был тотчас подхвачен танцующими, которые отшатнулись, прижались к стенам, образовав вокруг вспыхнувшего Жако пустое пространство. Корфа подхватил и оттащил к стене появившийся откуда ни возьмись астроном, потерявший в давке и трубу, и колпак со звездами, и даже седую бороду. Но Жако было уже не до похищения! Он с воем срывал с себя клочья горящей шкуры, потом рухнул на пол и принялся кататься по нему, пытаясь сбить пламя. Второй сатир закутался было в своих веревках, но все же смог отбросить их и теперь тушил своего напарника голыми руками. Маска его слетела, и Мария увидела Вайяна. Жако ревел от боли так, что сотрясались стены. Из толпы вырвался венгерский гайдук, проскочил мимо Марии, неуклюже задев ее, да так, что она чуть не упала, сорвал с себя шитый золотом доломан [185] и принялся охаживать горящего Жако по бокам и спине. Наконец он отбросил обгорелый доломан и, тяжело дыша, выпрямился: дело было сделано, огонь погас.
Почерневший, еще дымящийся Жако поднялся с пола и, набычась, принялся оглядывать толпу налитыми кровью глазами. Когда же взгляд его упал на Марию, он взревел, как если бы и впрямь превратился в быка, увидавшего красный плащ матадора. Да, конечно, юбка Марии полыхала алым цветом, но Жако смотрел не на юбку, а на голову Марии, с которой неосторожный венгерец сбил черный парик, — вернее, смотрел на ее лицо, с которого слетела маска.
Мария схватилась за волосы — и ахнула, нащупав гладенькие, аккуратно заплетенные русые косы свои, которые доселе прятала под париком. Сейчас ворох смоляных кудрей валялся у ее ног, и ей почудилось, будто она стоит голая перед этой толпою.
— Это ты! — взвыл Жако.
Он вмиг узнал ее — и ринулся вперед, обуреваемый жаждой мести. Вайян и Шалопаи, не сговариваясь, метнулись было поперек его пути, но были сметены, словно пушинки.
Мария отпрянула, хотела бежать, но обезумевшая от любопытства толпа напирала, стояла несокрушимою стеной: деваться было некуда. Из глаз Жако глядела на Марию лютая погибель, и обугленные ручищи его были уже совсем близко, как вдруг белая тень, словно призрак, преградила ему дорогу, заслонив собою оцепеневшую Марию. Тюрбан свалился с головы Отелло, и он досадливо тряхнул головой, отбрасывая с лица растрепавшиеся светлые волосы.
Но где там! Корф был безоружен, а Жако в своей ярости бросился бы сейчас и на стреляющую пушку. Он схватил барона за горло, приподнял над полом… Мария оцепенела от ужаса, толпа захлебнулась единым стоном, и тогда в наступившей тишине с небывалой отчетливостью прозвучал визгливый женский голос:
— Стой, болван. Он должен изменить свое завещание!
И тотчас вслед за этим черная Смерть воздела свою трость, из которой, словно змеиное жало, высунулось длинное лезвие шпаги — и вонзилось под левую лопатку Жако.
Великан замер… руки его разжались, Корф рухнул на пол и остался недвижим.
Мария кинулась было к нему, да споткнулась и упала бы, когда б рядом не очутился Сильвестр и не подхватил ее.
Жако, широко взмахнув руками, грянулся об пол так тяжело, что, чудилось, мелкой дрожью задрожали мраморные статуи, с высоты своих постаментов безучастно взирающие на это сонмище человеческих страстей. Но Мария не видела содроганий разбойника, ибо Вайян кинулся к Смерти и, сорвав с ее лица желтую маску, изображавшую оскал безглазого черепа, гневно выкрикнул:
— Что же вы наделали, мадам! Он ведь служил вам!
И Мария тихо ахнула, разглядев под тенью черного капюшона морщинистое лицо графини Строиловой…
* * *
Мария недоверчиво покачала головой и даже зажмурилась, однако, вновь открыв глаза, увидела то же самое старческое, изуродованное лютой алчностью лицо. И вся правда сделалась Марии понятна еще прежде, чем Вайян повернулся к ней и выкрикнул, ткнув пальцем в Смерть:
— Смотри! Это все она, она!.. — Голос его сорвался на шепот, но Мария уже знала, что услышит: — Это и есть Евдокия Головкина!
Старуха, от этих слов сгорбившись, будто от удара плетью, бросилась в толпу, и людская стена разомкнулась перед нею, уступая дорогу, как если бы она была не человеком, а черной змеей, у которой уже вырвали жало, да яд все еще сочится…
Мария покачала головою. Она как-то разом обессилела. Поражаться, негодовать — и то сил не было; она и стояла-то лишь потому, что ее поддерживал Сильвестр, покрывая поцелуями руку; другую Мария благодарно протянула Вайяну… и вздрогнула от неожиданности, увидев, что Корф приподнялся, открыл глаза… и синий взор его полыхнул таким ледяным презрением, что у Марии пресеклось дыхание. Она увидела себя со стороны: накрашенная, точно девка, в алой измятой юбке, с полуголой грудью… почти в объятиях у двух мужчин, которые и не думают скрывать своей страсти к ней.
Что о ней мог подумать Димитрий!..
Да как он смел о ней такое подумать?!
Она почувствовала, что лицо ее свела судорога — судорога гнева. Еще успела увидеть жалость в глазах Симолина — ну уж это было последней каплей.
Все напрасно. Все напрасно! Ее любовь обречена!
Мария резко вырвала руки у Сильвестра и Вайяна, резко повернулась, хлестнув их длинными косами и взметнув пышные юбки, так что обтянутые черными ажурными чулками безукоризненно стройные ноги открылись выше колен, — и пошла прочь, громко стуча каблуками и вызывающе расправив плечи, глядя прямо перед собой, но ничего не видя: почему-то все расплывалось перед глазами. Она слышала только грохот своих каблуков по мраморным плитам: «Все на-прас-но… на-прас-но!..»
Мария шла стремительно, и людей, казалось, отбрасывала с пути какая-то неведомая сила, и только веселый шут, которому эта прекрасная цыганка совсем недавно нагадала любовь и счастье, неловко замешкался перед ней — и чуть не упал, потрясенный тем, что увидел: лицо гадалки было залито черными слезами.
Все напрасно. Все напрасно!
Ее любовь обречена!
Глава XXII ИНДИЙСКИЙ РИДИКЮЛЬ ЭТТЫ ПАЛМ
— Пожалуй, сейчас нас с бароном объединяет лишь одно: мы оба едва не стали жертвами тетушки Евлалии… то есть Евдокии. Это нас даже, как бы это сказать, роднит! А во всем остальном… — Мария невесело усмехнулась и с преувеличенным вниманием принялась разглядывать золотистое лионское кружево своего платочка.
Они сидели в кабинете прелестного дома маркиза де Ла Ферьера, который арендовал Симолин на бульваре Монмартр. Марии прежде не приходилось бывать у Ивана Матвеевича, однако она не сочла зазорным принять его приглашение. Сегодня утром, совершая ежеутреннюю прогулку в Булонском лесу, она впервые за два-три месяца, минувшие после достопамятного маскарада, увидела Симолина, и тот пригласил Марию к себе по важному делу. Оказывается, он не был любителем ранних верховых прогулок под пение птиц — Иван Матвеевич признался, что, хоть звание посла и обязывает его аккуратно присутствовать на балах и придворных церемониях, бывать в модных салонах, однако даже во имя своего звания он не способен решиться на верховые прогулки; сегодня нарочно поджидал Марию, зная, что она бывает в Булонском лесу ежедневно.
— Между вами так ничего и не было сказано более? — тихо спросил Симолин, и Мария слегка качнула головой:
— Лишь несколько слов.
Она не стала пояснять, что эти «несколько слов» Корфа начались с английского изречения: «The wolf changes his skin, but never his nature!», которое Мария восприняла как общеизвестное: «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит!» А затем Корф с уничтожающей, ледяной светскостью осведомился: «Может быть, вы желали бы уподобиться королеве Маргарите? Не заказать ли для вас фижмы с карманчиками?»
Откуда-то, должно быть от Николь, которая умудрялась всюду совать свой нос, барон узнал, что Мария недавно читала «занимательные истории» Таллемана де Рео, где имел место быть прелюбопытнейший пассаж о первой жене Генриха IV, королеве Марго Наваррской: «Она носила большие фижмы со множеством карманчиков, в каждом из которых находилась коробочка с сердцем усопшего любовника, ибо когда кто-то из них умирал, она тотчас же заботилась о том, чтобы набальзамировать его сердце. Фижмы эти она каждый вечер вешала на крюк в шкафчик за спинкой кровати и запирала на замок».
— Быть может, и мое пропитанное вашей отравою сердце лежало бы в таком карманчике? — не унимался Корф, получивший наконец из России, от Комаровского, подтверждение: да, в прибалтийской деревушке Мария Валерьяновна покупала дивные янтарные кубки, один из которых был красным, как рубин, — и теперь никакая сила не способна была его разубедить в злонамерениях жены, в которой он видел лишь сообщницу ее тетки.
Мария вполне оценила глубину язвительности мужа, но смолчала, хотя всегда самое трудное для нее было — не вступать ни с кем в спор из самолюбия. Уж сколь изранена была ее душа, а все равно до крови поразило, что Корф опять заметил лишь одно, опять застарелая ревность застит ему глаза, он как бы обошел даже толикой внимания все попытки Марии спасти его, охранить… Она же не знала, что от Корфа не отходили ни на шаг люди Симолина, что и без ее мучений Жако и Вайян пальцем не могли бы тронуть барона! Симолин не предупредил Марию, что это была часть его интриги, задуманной для примирения супругов — мелодраматическая интрига, достойная Итальянского театра, не жизни! — и с треском провалившейся. Сейчас он с грустью признал это перед Марией и попросил прощения, что пытался так неуклюже исправить ее жизнь. Вид при этом у русского посла был столь удрученный, что Мария охотно простила человека, в котором видела друга и покровителя.
— Если бы я только знал, чем все это обернется! — схватился Симолин за виски своего паричка, и Марию поразило выражение глубочайшей растерянности на этом всегда таком энергичном, круглом темноглазом лице с забавными, в виде запятых, бровями, широким носом «туфлей» и крепким подбородком, задорно торчавшим над полной шеей, перехваченной пышным галстуком. — Ведь на этом злополучном маскараде я потерял ценнейшего агента!
— Разве кто-то погиб? — удивилась Мария, и Симолин трагически кивнул:
— Погибла графиня Строилова!
Мария смотрела на него холодно, непонимающе. Теперь-то ей казалось, будто она всегда, с первой минуты знакомства — еще прежде бала, еще прежде сведений, привезенных Данилою, — знала, видела или чувствовала некую фальшь в каждом слове тетушки своей. А Евдокия Головкина и впрямь приходилась ей теткой, только еще более дальней, чем троюродная, вдобавок, по свойству, а не по кровному родству. Она была теткою по матери той самой Анны Яковлевны, которая была кузиной и признанной любовницей графа Валерьяна Строилова, отца Марии. Мать Аннеты была по мужу Строилова — имя этой всеми забытой, умершей при родах женщины и присвоила себе Евдокия Головкина, одним махом прихватив и никогда не принадлежащий той титул, ибо отец Аннеты был младшим сыном в семье. Умная, дерзкая, хорошо образованная, обладающая редкостным чутьем и умением распознавать характеры людей, Евдокия Строилова со своим любовником, одним из посольских русских чиновников, попала в Париж, свела там нужные знакомства; ее имя и протекции открыли ей путь ко французскому, а затем и к русскому дворам. Однако, хоть в те времена паспортов и удостоверений личности никто ни у кого и не спрашивали, хоть «графине Строиловой» везде верили на слово, встречая по весьма авантажной одежке и провожая по недюжинному, острому уму, сама-то Евдокия про себя знала, что «Евлалия Строилова» — всего лишь маска, которая всегда может соскользнуть… и решилась наконец не мытьем, так катаньем добиться титула, который вполне мог бы принадлежать ее племяннице Аннете, когда б не злоехидная воля императрицы Екатерины. Хитромудрая Евдокия Головкина собрала все сведения о Елизавете, о ее прошлом и настоящем, о Машеньке, наследнице титула и строиловских богатств, и ринулась было в Любавино, да тут, в придорожном трактире неподалеку от Санкт-Петербурга, судьба вдруг и сдала ей ту чудо-карту, которая не всегда выпадает и самому везучему игроку.
Единожды подфартив, Евдокии продолжало фартить и далее. Словно по мановению волшебной палочки, сбывалось все, что она задумала; Вайян и Жако подчинялись ей рабски: первый — пытаясь спасти жизнь матери, второй — по врожденной тупости и жестокосердию. Но мать Вайяна скончалась в заточении, и он решился отомстить своей «нанимательнице», сорвать ее замыслы, — потому и предупредил Марию о подготовке похищения Корфа, — однако не желал при этом упустить заработка, оттого и принял участие в похищении. Мария, по счастью, об этом не подозревала — каково было бы ей узнать, что ни малой опасности Корф все же не подвергался; не симолинские агенты, так Вайян уберег бы его в любом случае! — зато она была поражена и напугана злокозненностью своей «la bonne tante» [186], а потому ее неприятно поразила глубокая печаль, прозвучавшая в словах Симолина: «Умерла графиня Строилова!»
Впрочем, проницательный дипломат не дал пожару возмущения разгореться в сердце своей собеседницы и поспешил объясниться:
— Верно, вы, милая Мария Валерьяновна, и знать не знали, что сия дама немалые услуги оказывала российской дипломатии. Связи у нее были преогромнейшие, цепкость мысли необыкновенная. Среди нас, профессионалов, она достижениями своими нешуточно славилась…
Маша встрепенулась. Из глубин памяти выплыло освещенное серым петербургским рассветом злое лицо Корфа, его исполненный горечи голос, и она безотчетно повторила, словно под диктовку:
— «…графиня Строилова, одна из ближайших наперсниц княгини Ламбаль, двойной агент, равно старающийся и для канцелярий Безбородко, и для Монморена…»
Симолин чуть присвистнул:
— Ого! Я всегда догадывался, что вы не так просты, как хотели бы казаться.
Мария слабо улыбнулась:
— Уж и не знаю, принять ли сие за комплимент.
— Безусловно! — с жаром воскликнул Симолин. — И я рад, что можно обойтись без долгих предисловий. Короче говоря — и говоря короче: поскольку отчасти (невольно, разумеется!) и вы повинны в том, что графиня вышла из нашей игры, прошу вас нынче же вечером заменить ее в деле, требующем крайней секретности.
Мария растерянно моргнула. Пожалуй, те слова — мол, не так просты — все же не были комплиментом.
— Как это?
Симолин взял ее руки в свои ладони:
— Вы выглядите несколько… э… э… озадаченной.
«Глупой», — поняла Мария.
— Вижу, что без коротенького предисловия все же не обойтись. Нынче я зван на музыкальный вечер к баронессе д'Елдерс на улицу Фавар. На самом деле она никакая не баронесса, а — тысячу раз прошу прощения! — prostituee internationale [187]. Ее настоящее имя просто Этта Любина Иоганна Елдерс, по мужу Палм. Прежде ее содержал первый министр, граф Жером Фелипо Морепа, однако пять лет назад он отдал Богу душу, а очаровательная Этта ведет прежнюю хлебосольную и любвеобильную жизнь в своем роскошном особняке. Конечно, граф оставил ей кое-какие средства, но теперь у нее роман с голландским послом, есть кто-то и в австрийском посольстве, с некоторых пор она и под меня клинья подбивает… а что?! — обидчиво воскликнул Симолин, заметив, как весело взлетели брови Марии. — Последнее это дело — смотреть на мужскую красоту: ежели от мужчины не шарахается лошадь, значит, хорош.
Мария украдкой прыснула, потом расхохоталась в голос. Иван Матвеевич напыжился было, да не смог сдержаться — махнул рукой и тоже засмеялся.
— Так вот, она хоть и очень вертопрашна, зато пригожа и любезна. Однако не по моим деньгам! Ей из Лондона постоянно по сорок тысяч фунтов стерлингов присылают при посредничестве некоего Иоганна Мунника, ее бывшего любовника, позднее — английского консула на Сицилии, а ныне — одного из столпов английской разведки. Ибо красавица наша — не просто internationale эта самая, а вдобавок espionne internationale [188], и мне до смерти нужно знать, что содержится в том вышитом индийском ридикюле, который она нынче вечером получит в подарок от голландского посла.
— Еще только получит? Но как вы можете знать… — Мария осеклась.
Симолин пренебрежительно отмахнулся:
— Это все мелочи… Сами знаете, у Димитрия Васильевича кругом есть свои люди: и в голландском посольстве, и в австрийском, и при дворе… и так далее. Конечно, carent quia vate sacro [189], да и о нас тоже, но дело, смею надеяться, все мы делаем немалое. Посему предлагаю к нашему содружеству присоединиться и заглянуть нынче вечером в индийский ридикюль баронессы, извините за выражение, д'Елдерс.
Мария отвернулась к окну. Сердце как заболело при упоминании о муже, так и ныло не переставая. Это уже стало привычным: игла в сердце при воспоминании о Корфе, при звуке его голоса, при встречах с ним, с его отсутствующим взглядом. В том-то и беда, что ничегошеньки она о муже своем не знает — и уж не узнает никогда — ни о нем, ни о делах его!
А впрочем… why not — почему нет?! — как говорят англичане. Почему бы как раз сегодня и не узнать о его делах подробнее?
Это же просто чудо, какой шанс дают ей жизнь, и насмешливая судьба, и великодушный Иван Матвеевич! Верно, никто из всех этих «своих людей», которые есть у Корфа кругом, из всех этих espions [190], не в силах узнать о содержимом ридикюля. И даже сам барон не может. Могла бы тетушка Евла… тьфу, эта, как ее там… А коли она могла бы, то и Мария сможет. И почти забытое блаженство — ощущение бодрящего холодка меж плеч, небывалого обострения всех чувств, феерического восторга — заиграло, забилось в душе, будоража, опьяняя, словно шампанское. Мария лихорадочно потерла свои ледяные ладони, с облегчением почувствовав, как отступает боль в сердце. Резко повернувшись к Симолину, который наблюдал за нею чуть исподлобья, старательно скрывая волнение, она выпалила:
— Я согласна! У вас есть какой-то план или мне следует все придумать самой?
Симолин закинул голову, словно его крепко ударили в подбородок, и подошел почти вплотную к Марии, снизу вверх заглядывая в ее блестящие глаза: один был темно-карий, таинственный, другой же горел желто-зеленым огнем.
— Я всегда знал, что лучшее орудие против женщины — другая женщина! — улыбнулся посланник.
Последняя фраза была бы подходящим финалом для этой напряженной сцены — да Мария не сдержалась: хоть и не хотелось охлаждать пыл Симолина, а все же пришлось сурово наказать ему, погрозив для острастки пальцем:
— Только одно условие: Корф ничего не должен знать о моем участий в этом предприятии!
Симолин растерянно заморгал. Пришел его черед изумиться:
— Но почему?!
— Таково мое непременное условие, — вновь подняла палец Мария.
— И что — даже в случае удачи? — жалобно проговорил Иван Матвеевич — и его словно кипятком ошпарило, когда брови его собеседницы грозно сошлись у переносицы. — Ох, простите, Машенька, старого дурня! Я и не сомневаюсь, что у вас все получится, иначе и не просил бы. Так вы ни в коем разе не желаете… никак?
— Ни за что! — Мария опустила глаза, давая понять, что разговор окончен.
Симолин помялся, покряхтел — да что ему было делать? Согласился.
Мария только кивнула в ответ, хотя сейчас ей было очень трудно сохранять все тот же равнодушно-величавый вид. Итак, ее «шкатулка сюрпризов» для сурового барона, имя которому — Laisser-aller [191], скоро пополнится новой чудесной вещицей. Да еще какой!..
* * *
Впрочем, этот вечер начался с сюрпризов и для самой Марии. Она-то полагала, что придет в дом баронессы д'Елдерс вместе с Иваном Матвеевичем, однако сие оказалось неудобным, ибо не пристало замужней даме являться в обществе холостого одинокого кавалера, будь он даже ее соотечественником и годись по возрасту в дедушки (Симолину было около шестидесяти пяти лет). По его просьбе сопроводить Марию на музыкальный вечер взялась некая графиня д'Армонти («Она мне кое-чем обязана, — загадочно обронил Симолин. — Вернее, братец ее»). Графиня заехала за Марией в изящном ландо — открытом, по случаю жары, и при первом же взгляде на эту изящную брюнетку с точеными чертами Мария поняла, что уже где-то видела ее. Жгучая красота мадам д'Армонти — эти сросшиеся у переносицы брови, яркие губы, щеки, которым не нужны были помада и румяна, этот огненный взор, энергичные движения, выдававшие сильную, пламенную натуру, — красота эта была знакома Марии. И легкий южный акцент, окрашивающий французскую речь графини, пробуждал какие-то волнующие, тревожные воспоминания. В своем роскошном платье, где причудливо сочетались красный, белый и зеленый цвета, графиня напоминала редкостный цветок, да и имя у нее было столь же изысканное: Гизелла, причем произносила она его не мягко, на французский манер: Жизель, а по-немецки — твердо.
Обмениваясь с графиней приличествующими случаю фразами — с ней всякий сразу чувствовал себя легко и свободно, — Мария размышляла о том, к какой же нации может принадлежать ее собеседница. В ней не было изысканности испанки, томности итальянки, лени еврейки, застенчивости сербиянки, чувственности креолки. И при всем при этом она обладала всеми перечисленными качествами, а сверх того — еще и темпераментом. Гизелла д'Армонти напоминала более всего цыганку — Мария с изумлением сделала это открытие. Вот кто великолепно смотрелся бы на бале-маскараде в алой юбке, с алой розой в смоляных кудрях…
Гизелла неожиданно улыбнулась:
— Знаете, баронесса, я уже привыкла, что люди при первой встрече со мной ломают голову, пытаясь угадать мою национальность, — но безуспешно. Обожаю интриговать незнакомых, но для вас (господин Симолин предупредил, что мы с вами — близкие подруги, — оговорилась она как бы в скобках, давая понять, что посвящена во многое), для вас, так и быть, открою секрет: я венгерка, родилась близ озера Балатон — видите мое платье? Это наши национальные цвета! А девичья фамилия моя — Шалопаи.
У Марии холодок пробежал по спине, она зябко поежилась; газовый шарф ее заколыхался — так трепещет крылышками муха, увязшая лапками в клейкой золотистой, ароматной смоле.
— Я знакома с маркизом Шалопаи, — глухо проговорила она.
Гизелла ответила ласковой улыбкой:
— О да! Он говорил мне об этом.
«Говорил?! — чуть не взвилась Мария. — Что он посмел говорить?!»
По счастью, графиня оказалась дамой вполне светской и, почувствовав настроение своей спутницы, заговорила о красотах Парижа.
Улица Фавар находилась неподалеку, и уже совсем скоро дамы вышли из коляски перед домом, из окон которого лились звуки музыки. Только тут Мария вспомнила, зачем она прибыла на этот вечер, — и вновь почувствовала озноб.
* * *
Это был странный вечер! Играла музыка, испанская певица пела не без приятности романсы своей родины, однако Марии почудилось, будто она попала на один из вечеров графини Строиловой, где все посвящено было обсуждению — вернее, осуждению — королевской четы. Но это не были невинные сплетни — здесь говорили жестко, без полутонов — и очень злобно.
— Бог мой, какая-то модистка имеет над королевой власть большую, чем все государственные дела и министры!
— Да! Теперь шить у Розы Бертэн [192] едва ли не более почетно, чем иметь дворянский герб.
— Мария-Антуанетта желает успехов как женщина, а не как королева.
— Конечно. Она всегда стремилась уйти от серьезного разговора лишь потому, что он скучен.
— Долее пяти минут она ни на чем не может сосредоточиться. Корона всегда была для нее не уделом, не судьбой, но игрушкою — вернее, одним из множества украшений.
Мария сделала большие глаза. Непреклонное высокомерие французского дворянства было ей не внове, но говорить такое!.. Похоже, все они забыли, что французское слово gentilshommes означает не только «знатные люди», «хорошее общество», каковыми себя, несомненно, считают собравшиеся, но прежде всего «порядочные люди».
Нервно обмахнувшись веером, она окинула взором залу и встретила многозначительный взгляд Симолина. Верно, пришла пора Марии исполнить свою роль. Она не забыла об этом — просто беспокоилась, что хозяйка, баронесса д'Елдерс, исчезла из гостиной — не в своем ли она будуаре? А ведь как раз туда Марии надобно попасть. Но ежели Симолин глядит так пристально, стало быть, медлить более не след. Ведь в их тщательно обдуманном предприятии многое было взаимосвязано: порвется одно звенышко — вся цепочка порвется!
Сделав вид, что полностью поглощена разглядыванием полотен Буше и Фрагонара, коими были увешаны стены (в живописи Мария не разбиралась, хотя картины были и впрямь хороши; слыхала лишь, что Фрагонар расписывал веера для Марии-Антуанетты), она выскользнула из залы, уверенная, что исчезновения ее никто не заметил: все были слишком поглощены очередным злоречением, произносимым громко, взахлеб каким-то толстым господином:
— Напрасно вы все это говорите, господа! Что с того, что у нашей королевы имеется обширная библиотека из книг эротического содержания, коими государыня зачитывается? В поведении своем она исключительно добродетельна. Мне доподлинно известно, что она даже купается в закрытом до подбородка фланелевом платье, а когда служанки помогают ей вылезти из ванны, королева требует держать перед собой на высоте, достаточной для того, чтобы не увидели ее наготы, простыню!
— Простыню! — раздался дружный хохот. — Чтобы не увидели ее наготы! Mon Dieu! [193]
«Господи Иисусе! — ужаснулась Мария. — А еще говорят, будто простонародье ненавидит королеву и желает ее свержения. Вот кто ее въявь ненавидит! Ведь это государственная измена — говорить такое! Они все здесь — государственные изменники!»
Правильно, а как иначе? Кто еще может оказаться в числе близких друзей espionne internationale Этты Палм? И она, Мария Корф, здесь для того, чтобы так или иначе, хоть в малой степени, мешать их злопыхательству, направленному против королевы Франции, а значит, против монаршей власти вообще… в том числе и в России.
Волнение ее враз улеглось, и она со всех ног побежала по кор-де-ложи [194], опоясывающей дом: туфельки у нее были легонькие, атласные, почти без каблучков, муслиновое платье не шуршало, не гремело крахмалом — может быть, Мария и казалась там, в зале, одетой слишком просто, зато сейчас могла передвигаться бесшумно.
Симолин заставил ее затвердить подробный план дома на улице Фавар, и Марии казалось, будто она уже была здесь. Вот за этой дверью — библиотека, здесь — кабинет, а вот малая гостиная. Там, вдали, — комнаты для гостей. А вот палисандровая дверь, обитая золочеными гвоздиками, — вход в личные покои Этты д'Елдерс.
Где-то здесь лежит вышитый индийский ридикюль, куда надобно заглянуть. А если она сейчас откроет дверь — и столкнется лицом к лицу с хозяйкой дома? Ежели присутствие свое в коридоре еще можно было объяснить: мол, отправилась совершить свой туалет, да заблудилась, — то, отворив сию дверь, Мария враз попадет в самое щекотливое положение! Ах, как бы узнать, где баронесса? Однако времени терять нельзя. Мария на миг задумалась, потом вынула из сумочки, висящей на локте, янтарный шарик — не забыла, что, по словам Егорушки Комаровского, даже римские матроны беспрестанно потирали в руках электрон, дабы проникнуться солнечной энергией и жизненной силой, — и с размаху бросила его в сторону лестницы.
Шарик громко запрыгал по ступенькам — чудилось, кто-то бежал по ним, стуча каблуками, — и Мария услышала торопливые шаги за дверью.
Она едва успела отпрянуть и шмыгнуть в нишу, завешенную гобеленом, — во всех подобных нишах стояли мраморные статуи античных богинь и легендарных красавиц в самых рискованных позах, а эта была, словно нарочно, пуста. Мария знала, что какая-то сила нечистая сегодня утром повредила беломраморной Клеопатре руку — статую сняли с постамента и унесли к мастеру. «Сила нечистая» звалась лакеем Франсуа, он был немедля уволен за свою небрежность, однако получил за нее от второго секретаря русского посольства Павлова сумму, равную своему годовому жалованью. Эту нишу Симолин приказал освободить нарочно, на тот случай, ежели Марии в ее приключениях понадобится укрыться.
Очень кстати! Палисандровая дверь распахнулась, и высокая, пышная дама — чистый тип фламандской красоты, так сказать, роскошная блондинка — остановилась на пороге, подозрительно оглядывая полутемный коридор.
Даже сейчас, даже насмерть перепугавшись, что ее убежище будет открыто, Мария не могла не любоваться ее незаурядной красотою. Баронессе было уже сорок три года, однако в ней было какое-то особенное, необъяснимое очарование, оно-то и приводило к ее ногам бесчисленных поклонников! И Мария невольно взгрустнула: ее матушка тоже была прекрасна и очаровательна, несмотря на года!
Этта Палм сделала нерешительное движение, и Марию обдало жаром при мысли, что та сейчас воротится в будуар, — но снизу, из гостиной, донесся взрыв хохота, и баронесса, верно вспомнив о своих обязанностях хозяйки, поспешила туда, а Мария, едва баронесса скрылась из виду, бросилась в будуар, дрожащей рукой многажды осеняя себя крестным знамением.
В будуаре царил мрак; комнату освещало лишь пламя камина, и Мария сразу почувствовала запах горелой бумаги. Этта Палм что-то сожгла здесь сейчас, мгновение назад — может быть, бросила в огонь какую-то важную бумагу, услышав стук в коридоре! Мария повернулась к камину — и тут же, не думая, не рассуждая, выхватила из огня обугленный лист плотной бумаги. К несчастью, лист сгорел почти полностью — нетронутым огнем были лишь последние слова и подпись:
«…щедрое, как всегда, вознаграждение. Обрати пристальное внимание на инструкции — они прилагаются. Прощай. Твой преданный друг Иоганн».
Мария так и ахнула, прочитав эти слова, написанные какими-то очень яркими чернилами красивого изумрудного оттенка.
Иоганн! Иоганн Мунник, вероятно? Бывший любовник Этты Палм и английский шпион? Ах, какая жалость, какая беда, что Этта успела сжечь письмо! И ведь это Мария спугнула ее. Зря, выходит, надеялась на свою удачу?
В сердцах Мария бросила обгоревший листок на стол рядом с несколькими чистыми белыми листками, и, заперев дверь на ключ, зажгла свечи и принялась искать пресловутый ридикюль.
Нашла его Мария почти сразу — и плечами пожала. Она-то думала, это будет нечто особенное и таинственное, а ридикюль оказался темно-желтым кожаным кошелем довольно грубой выделки; впрочем, кошель этот был расшит бисером: трехрукий Шива [195] несся в священной пляске, с восторгом взирая на свое могучее орудие устрашающих размеров. Видимо, баронесса д'Елдерс позволяла себе принимать такие подарки, которые всякая другая женщина сочла бы весьма сомнительными. Впрочем, Иоганн Мунник был ее любовником, ему дозволительны такие вольности.
Да черт с ним, с Иоганном! Но пресловутый ридикюль?.. Он был пуст, как гнилой орех, — видимо, сожженное письмо составляло все его содержимое.
Итак, Симолин крепко ошибся в расчетах, доверившись Марии. Она просто неудачница, вот и все. Самонадеянная неудачница! Единственное, что может она передать человеку, который здесь вот-вот появится, — это жалкий обрывок с несколькими начертанными на нем, вовсе бесполезными словами Иоганна Мунника.
Мария взяла со стола обугленный клочок бумаги — и не смогла сдержать изумленного восклицания: все не тронутые огнем слова бесследно исчезли!
* * *
Мария вертела бумажонку в руках, не веря своим глазам. Наконец в отчаянии покачала головой. Это было какое-то колдовство! Нет, не колдовство, разумеется, а наука… Верно, письмо было написано каким-то особенным составом, который имел свойство исчезать со временем. Вот и остались на гладкой бумаге только едва заметные шероховатые полосы в тех местах, где прежде были зеленые строчки.
Мария нервно ощупывала листок, поражаясь плотности бумаги. На таких обычно не пишут писем: очень уж толстый лист! — а между тем на нем в нижнем углу знак — такие бывают именно на почтовой бумаге, самые разные: голубки с письмами в клювах, ангелочки, купидоны, цветы. И здесь цветок — тюльпан.
Почему-то темно-зеленый. Столь же таинственный, как и содержание письма Иоганна Мунника.
Мария задумчиво взглянула на стол. А вот и еще несколько листков такой же бумаги — плотной, очень белой, очень гладкой. Красивая бумага, жаль только, что небрежно согнута втрое, словно иначе не помещалась в каком-то пакете. И снова этот тюльпан в правом нижнем углу!
Мария поднесла обрывок письма к свече, желая получше рассмотреть цветок, — и сердце ее приостановилось, когда она увидела буквы, медленно выступающие на клочке бумаги, оказавшейся слишком близко к огню: «… щедрое, как всегда, вознаграждение».
И так далее, вплоть до подписи Мунника…
Теперь сердце заколотилосъ так, что Марии пришлось придерживать его руками: чудилось, вот-вот вырвется из груди!
Симпатические чернила! Это симпатические чернила, бесцветная жидкость, которая не оставляет на бумаге никакого следа, а проявляется лишь при нагревании; при охлаждении же, под влиянием влаги воздуха, буквы исчезают — и могут быть вновь вызваны нагреванием. Что и произошло!
Мысли бежали, обгоняя одна другую, мгновенно вспомнился отчим, князь Алексей Измайлов, страстно увлекавшийся химией и даже имевший особенный кабинет-лабораторию с собранием различных физических и химических приборов, множеством книг по химии и разнообразными химическими чудесами. Одним из самых ярких воспоминаний детства Маши и Алеши был показанный отчимом знаменитый «лес Парацельса», фокус, придуманный великим химиком еще в XV столетии. Это был нарисованный черной тушью зимний лес, который при слабом нагревании покрывался красивой зеленой листвой и таким образом превращался в летний. Мария до сих пор помнила, как делаются зеленые симпатические чернила: из раствора хлористого кобальта, к которому примешено некоторое количество хлористого никеля, хлорного железа или даже аммиака; нарисованное или написанное такими чернилами после высыхания совсем незаметно, однако даже при слабом нагревании появляется яркий зеленый цвет. Мария никак не могла понять, как же она сразу не догадалась. Верно, потому, что она воспринимала «лес Парацельса» лишь как детскую забаву. Это было нечто из давно минувших времен… однако же, слава Богу, слава Богу, что все-таки вспомнилось!
Теперь ясно и значение зеленого тюльпана: это подсказка цвета чернил. Ведь, насколько помнила Мария, лишь зеленые и пурпурные чернила выявляются не только реактивами, но и простым нагреванием; голубые же следует проявить красной кровяной солью; желтые — сперва обработать йодистым калием, а лишь потом нагреть…
Мария даже тихонько запела от счастья. Совершив такое волшебное открытие, она и себя почувствовала волшебницей, доброй феей, спасающей беднягу Симолина, попавшего в беду. На минуточку самолюбие взыграло, и Марии сделалось несказанно жаль, что ее великое хитроумие останется сокрытым от Корфа. Он был бы поражен до глубины души, он просто рухнул бы от изумления! Может, взять обратно с Симолина его слово?..
Но это была лишь мгновенная вспышка тщеславия. Время уходило, уходило!..
Поспешно перекрестившись и возблагодарив Господа за великую удачу, Мария сгребла со стола чистые листы бумаги и кинулась было к камину, чтобы нагреть их как можно скорее на сильном огне, да так и замерла: в оконное стекло тихонько звякнул камушек… второй, третий!
Мария схватила свечу и, подбежав к окну, трижды провела ею слева направо; потом принялась открывать окно, чтобы впустить посланного Симолиным человека, которому он доверил прочесть секретные бумаги Этты Палм.
Насколько Мария помнила, каменная стена была увита плющом и розами, поэтому она полагала, что неизвестный вскарабкается снизу, и была немало озадачена, увидев в ветвях раскидистого платана, совсем рядом с окном, темные очертания мужской фигуры.
— Посторонитесь! — послышался сдавленный шепот, и Мария едва успела отшатнуться, — незнакомец, раскачавшись на ветке, влетел в окно, будто камень, выпущенный из пращи; перевернувшись в воздухе, он ловко стал на ноги, — причем проделал все это совершенно бесшумно.
Мужчина повернулся к Марии — и та ахнула.
Никакой это был не незнакомец! Перед ней стоял барон Корф, ее муж.
* * *
— Что вы здесь делаете?!
Эти слова супруги выкрикнули одновременно — и также враз зажали себе рты, вспомнив, где находятся и зачем явились сюда.
— Ладно, все это потом, — проговорил Корф — он первым пришел в себя. — У нас не более пяти минут. Вы нашли ридикюль? Где письма?
— Вот! — Мария сунула ему чистые листы, тайно злорадствуя, — она ожидала увидеть на его суровом лице выражение полнейшей растерянности.
Ничуть не бывало. Повертев бумагу в руках, Корф кивнул:
— Симпатические чернила, я так и думал. И, верно, зеленые — судя по цвету тюльпана. Значит, надо нагревать. А это что такое? Вы что, пытались сами нагревать и сожгли?.. — Он задохнулся от ярости.
Мария гневно сверкнула очами — как он смеет кричать на нее, пусть даже и шепотом! Как он смел… как смел сразу догадаться о чернилах?!
— Это она успела сжечь, — с трудом справившись с собою, проговорила Мария. — Все, что я смогла выхватить из огня, — у вас в руках.
— Текст пропадал? — отрывисто спросил Корф.
Мария кивнула.
— Отлично! Значит, я прочту написанное, а потом лист остынет, — и баронесса ничего не узнает! — Он взял один из листков и поднес его к свече, как вдруг Мария, осененная внезапной догадкой, схватила его за руку.
— В чем дело? — огрызнулся Корф. — И что вы здесь до сих пор стоите? Бегите в зал, да поскорее: Этта Палм востра, как нож, все видит, все замечает, — ваше отсутствие тоже может быть замечено…
— Вот именно, все замечает! — перебила Мария. — Даже когда текст исчезает, на бумаге остаются шероховатые полосы. На ощупь их сразу чувствуешь, баронесса тотчас догадается, что здесь кто-то был, кто-то читал ее письмо.
Корф замер, нахмурился:
— Вот незадача… Не нагрев бумагу, письма не прочтешь, а нагревать, выходит, нельзя? И с собою не возьмешь, чтобы прочесть в лаборатории: если Этта заметит пропажу, письма Мунника утратят всякую ценность, англичане просто-напросто придумают что-то другое. О Господи! Эй, эй, что это вы задумали?
Последнее восклицание относилось к Марии, которая вдруг бросилась к стене и принялась снимать голландский пейзаж — акварель в рамке и под стеклом — на английский манер.
— Не мешайте, — отмахнулась Мария. — Можете вытащить стекло так, чтобы не повредить рамку?
— Да зачем вам?! — изумился Корф.
Но Мария сперва сняла вторую висевшую рядом акварель и лишь после этого сочла нужным пояснить:
— Я вспомнила: если бумагу, исписанную симпатическими чернилами, поместить между пластинами стекла, сильно прижать, а потом подержать на ярком свете, написанное можно будет прочесть, а вреда бумаге мы не нанесем.
«Мы…» Ее в краску бросило при этом нечаянно вырвавшемся, таком многозначительном слове, однако Корф, кажется, и не заметил ничего особенного — только недоверчиво поднял брови:
— Вы что же, знаете химию?
— Ой, давайте скорее, скорее же… — Мария с трудом подавила раздражение.
Как он удивился! Кем же он ее считает? Полной идиоткой? Интересно, какую гримасу скорчил бы барон, когда бы вдруг оказалось, что и Николь знает химию? Это, конечно, невероятно, однако…
При мысли о Николь настроение у Марии вовсе испортилось.
— Мне и в самом деле пора идти, — сказала она. — Вы уж тут сами как-нибудь…
— Что?! — шепотом возопил Корф. — У меня ведь не четыре руки! Держите стекла как можно крепче, а я буду читать.
Ничего не поделаешь, пришлось повиноваться. Не прошло и минуты, как поверхность листа покрылась бледно-зелеными ровными строчками. Текст был едва заметен, однако Корф велел Марии отодвинуть свечи подальше, опасаясь повредить бумагу, — и принялся читать, щурясь, сосредоточенно шевеля губами и порою прикрывая глаза рукой. Мария не могла видеть, что там написано, однако, судя по изумленно-сосредоточенному лицу Корфа, он находил для себя много важного и интересного. Пробежав глазами один листок, Корф принялся за другой.
— Неужели вы что-то запомнили? — недоверчиво спросила Мария и была поражена печалью, промелькнувшей в синих глазах Корфа.
— У меня абсолютная память. Я могу любую книгу запомнить от корки до корки, прочитав лишь единожды. И потом немалые усилия приходится прилагать, чтобы забыть ее. Случается и такое, что забыть невозможно…
Он вновь обратился к чтению, а Мария стояла, будто окаменевшая, ощущая лишь свое безмерное одиночество.
— Ну, вот и все, — проговорил наконец Корф, разнимая стекла. — Теперь я вставлю на место акварели, а вы уходите побыстрее. И постарайтесь появиться в зале незаметно, не привлекая к себе внимания. Затеряйтесь в толпе…
— Ну да, я постараюсь не сорвать с петель дверь или не уронить ненароком клавикорды, — огрызнулась Мария.
Корф, насупившись, склонился над акварелями. Ох, ну почему, почему они должны разговаривать друг с другом в таком тоне?! Мария едва сдержала слезы.
Она сложила аккуратной стопочкой «чистые» листы, только сейчас сообразив, почему они были так немилосердно согнуты, — чтобы поместились в ридикюле! Затем поставила на место подсвечники и сунула ридикюль под подушку кресла, с отвращением взглянув на «могущество» Шивы. Счастье, что барон не увидел распутной картинки: едва ли она вызвала бы в его «абсолютной памяти» приятные воспоминания о «шалостях» жены.
— Идите же! — прошептал Корф, вешая акварели.
— Рада бы, да не могу, — усмехнулась Мария. — Мне предстоит закрыть за вами окно. Вам вряд ли удастся задвинуть изнутри задвижки, когда будете сидеть на дереве.
— О, черт! — Корф хлопнул себя ладонью по лбу.
«Жаль, что не кулаком, — мысленно усмехнулась Мария. — Глядишь, немного поотшибло бы твою абсолютную память!»
Тут она еще кое-что вспомнила и, подбежав к камину, сунула в уголья тот самый клочок с подписью Мунника. Исчезнувший было текст медленно проявился вновь.
— Что это вы делаете? — раздался голос Корфа, и Мария, оглянувшись, наконец-то нашла на его лице то самое выражение полнейшего недоумения, которое уж отчаялась увидать. Чувствуя себя за многое вознагражденной, она лишь презрительно передернула плечами, не удостоив барона ответом: хороши будут они оба, если баронесса, воротясь, найдет обрывок брошенного в огонь письма лежащим на столе!
— Ах, да! — снова хлопнул себя по лбу Корф, и Мария не удержалась от злорадного смешка.
На том они и расстались. Как два врага, временно заключившие перемирие, однако ни на миг не забывавшие, что находятся в состоянии войны.
* * *
Когда Мария подошла к двери, ведущей в гостиную, она с изумлением услыхала, что часы бьют восемь раз. Неужто всего двадцать минут назад она покинула гостиную? Господи, кажется, год, ну, месяц сомнений, мучений, терзаний миновал! И слава Богу, что время имеет свойство растягиваться и сжиматься: есть надежда, что никто не заметит ее отсутствия…
Не тут-то было! Первым, кого увидела Мария, проскользнув в гостиную, был Сильвестр. Он только что усадил свою ослепительную сестру в золоченые кресла и намеревался присесть возле нее на столь же роскошный стул, как вдруг бросил нечаянный взор на дверь — и увидел Марию. Лицо его вспыхнуло полымем, он покачнулся — и плюхнулся мимо стула, который с грохотом рухнул рядом, истошно залаяли три болонские собачки, доселе мирным, пушистым клубком спавшие в уголке, а Сильвестр, и сидя в нелепой позе на полу, все не сводил зачарованного взора с Марии, словно она была змеей, а он — загипнотизированной лягушкой. Всполошенная публика невольно проследила за направлением его страстного взгляда, и всяк увидел Марию, которая замерла на пороге, вцепившись в ручку двери, так что теперь только полнейший идиот не сообразил бы, что одна из гостий куда-то выходила… куда? И зачем?
Мария готова была убить Сильвестра — или сама сквозь землю провалиться, однако в сей момент затянутая в черное испанка у рояля пронзительно закричала о любви Орфея и Эвридики (опера Глюка была необычайно популярна в те времена!) — и любопытство общества несколько погасло.
Мария пробежала через залу и покорно села на тот самый злополучный стул, который придвинул ей Сильвестр, подскочивший с полу с проворством ваньки-встаньки.
Мария окинула взором гостиную, намеренно и мстительно не ответив на обеспокоенный, вопросительный взгляд Симолина.
Ничего, пусть подождет, помучается неизвестностью! Это ничто в сравнении с теми мучениями, которые пришлось испытать ей в присутствии Корфа. Главное, обещал!..
Обойдя взором Симолина, как пустое место, Мария продолжала оглядывать присутствующих. О счастье! Этты Палм нет! Она опять куда-то исчезла… даст Бог, уход и приход русской гостьи останется незамеченным.
Мария перевела дыхание. От сердца немножко отлегло, в голове прояснилось, и она с жалостью вспомнила, как Корф только что висел, цепляясь за подоконник, готовясь прыгнуть в сад с высоты второго этажа. «Осторожнее, ваше плечо!» — хотелось воскликнуть Марии, да, благодарение Господу, хватило ума промолчать.
— Она появилась всего на минуту и почти тотчас опять ушла, так что успокойтесь, — сухая, смуглая рука Гизеллы д'Армонти стиснула запястье Марии. — И, ради всего святого, успокойте моего брата! У него такой вид, будто он собрался покончить с собой! Взгляните только…
Мария оглянулась.
Да, Сильвестр и впрямь выглядел плачевно: на бледном, вовсе белом лице глаза казались черными безднами, наполненными тоской и мукой.
— Он любит вас до беспамятства! — горячо прошептала Гизелла. — Я никогда его таким не видела, это же просто безумие, безумие!
— Вы так любите брата? — шепотом спросила Мария; она взглянула на мадьярку, и ее поразила страстная, прямо-таки фанатичная нежность, горевшая в прекрасных глазах графини д'Армонти.
— Люблю?! Мало сказать! Мы с ним родились в один день, с разницей в полчаса, хоть и неполные близнецы. Я ему жизнью обязана: еще в детстве он спас меня, когда я тонула в озере. И я за него жизнь отдам, пойду за него на преступление… — Голос Гизеллы оборвался коротким, сухим рыданием, и минуло какое-то мгновение, прежде чем она снова смогла заговорить.
— Будьте же милосердны, Мария! — взмолилась она. — Подарите ему хоть одну улыбку!
Ее острые ногти вонзились в руку Марии, и, повинуясь не столько милосердию, сколько желанию избавиться от боли, баронесса вновь повернулась к Сильвестру и с усилием растянула губы, изображая улыбку.
Лицо маркиза задрожало, и Мария испугалась, что темпераментный венгерец сейчас зальется слезами. Однако ничего страшного не произошло: он лишь улыбнулся в ответ, кивнул — и, резко повернувшись, вышел из зала.
Только теперь Мария смогла вздохнуть спокойно и, откинувшись на спинку, приготовилась наслаждаться музыкой… да не тут-то было! Взяв последнюю, неимоверно высокую ноту, испанская певица умолкла и принялась раскланиваться под вежливые аплодисменты слушателей.
Вечер, оказывается, закончился. Гости стали разъезжаться.
Глава XXIII AU SECRET! [196]
В конце 1786 года заговорили о государственном перевороте. Два неурожайных года разорили Францию; на народ обрушились новые налоги. В Париже дворянство с изумлением узнало, что в некоторых местностях крестьянам случается отведать мяса лишь три-четыре раза в год, а питаются они в основном хлебом, размоченным в подсоленной воде, да и того не вдосталь. В этой связи «очаровательная наивность» королевы, посоветовавшей своему народу есть пирожные, если не хватает хлеба, показалась уже не столь очаровательной. Ядовитые памфлеты наводнили страну; никак не могло затихнуть эхо «дела об ожерелье». О, конечно, Жанну Ламотт-Валуа, авантюристку, посмевшую обнадежить кардинала Рогана, — мол, подарив королеве бриллиантовое колье в пятьдесят тысяч ливров ценой, он сделается ее любовником, — и даже писавшую фальшивые письма от имени Марии-Антуанетты, и даже подсунувшую влюбленному кардиналу в садах Пале-Рояля какую-то девку из местных жриц любви, изображавшую готовую на все королеву, — конечно, эту Жанну Ламотт публично секли плетьми, клеймили по обоим плечам буквой V — voleuse — воровка — и заключили в тюрьму Сальпетриер, где она, в соответствии с приговором, в сером арестантском халате и деревянных башмаках, всю жизнь должна будет работать за черный хлеб и чечевичную похлебку. Конечно, Рогана выслали из Парижа. Конечно, король поверил слезам супруги, клявшейся, что она невинна. Она и была невинна… однако это уже оказалось безразлично возмущенной толпе (от черни до представителей самых знатных фамилий), жаждавшей любой ценой обвинить ненавистную австриячку. Тем паче что Жанна Ламотт каким-то немыслимым образом сбежала из Сальпетриера. Тщетной была надежда, что Париж мало-помалу забудет ее. Ламотт добралась до Англии, нашла там покровителей и ударилась в мемуары, пятная высочайшее имя королевы; чьи-то грязные и услужливые руки доставляли пасквили во Францию; все это была беззастенчивая ложь, однако страна с жадностью внимала ей. Впервые королеве, жизнь которой прежде катилась по сверкающему кругу — Версаль, Трианон, Фонтенбло, Марли, Сен-Клу, Рамбулье, Лувр, Версаль и т. д., — сделалось неуютно и как бы даже жутковато. Ей казалось, все ее ненавидят… она была почти права. Ей казалось, все желают ее погибели… она была почти права и в этом, однако никто еще не знал, что те самые именитые дворяне, которые упиваются ложью Ламотт и так старательно роют королеве яму, рано или поздно сами в нее попадут.
Но до этого еще оставалось время, и хотя первые зарницы будущей грозы уже вспыхивали на горизонте (по стране прокатилась волна «хлебных бунтов», когда голодные люди громили лавки, останавливали и грабили баржи с зерном и мукой), воздух по-прежнему оставался чист и мягок, а солнышко сияло, как в добрые старые времена. Впрочем, кое-что изменилось, однако никто не желал видеть изменений. Их и не видели.
Вот и в жизни Марии не изменилось ничего… кроме ее внутреннего состояния. Она вдруг ощутила в себе какой-то надлом — и никак не могла исцелить свою душевную рану. Она была женщина, она была дитя своего времени, она была воспитана в убеждении, что единственное предназначение женщины — быть верной служанкою супруга, а ежели супруг отвергает ее — следовало покорно сносить немилость судьбы. Впрочем, к чему лукавить: ее легкомысленный век предлагал некое единственное средство, способное скрасить жизнь с нелюбимым (или нелюбящим) мужем, — чувственное увлечение, легкомысленное кокетство.
Что ж, Мария вкусила и этого полной мерою, однако бурные встречи с Сильвестром (маркиз осаждал ее с упорством Тамерлана, Германика, Карла Великого и всех прочих великих полководцев древности, вместе взятых) приносили Марии все меньше радости, лишь разрывали в клочья и без того потрепанные одежды ее добродетели. Конечно, была особая удаль поступать во всех случаях своей жизни так, как ей больше всего нравилось поступить в данную минуту. Поэтому ей всегда бывало тошно в так называемом приличном обществе, где умение притворяться заменяет ум.
Глядя на себя в зеркало, Мария видела, как разительно изменилась. В ней появилось то убийственное очарование, которое свойственно только красивой женщине, не стремящейся очаровать, равнодушной к производимому ею впечатлению, — что и делало молодую баронессу Корф поистине неотразимой.
Теперь она имела все: богатство, положение, поклонников — все, кроме одного: любви. А без любви жизнь ее была пуста и бессмысленна. Если бы хоть дети!.. Теперь Мария твердо знала: окажись она беременна хоть бы и от самого свирепого насильника, она ни за что на свете не избавилась бы от ребенка! Отчасти надежда на туманное, расплывчатое обещание мамаши Дезорде: «Может быть, когда-нибудь, каким-то чудом…» — заставляло ее вновь и вновь падать в объятия Сильвестра. Но нет. Все было напрасно, и, уж конечно, не пылкий маркиз был тому виной, а лишь злая судьба. Мария утратила двух своих детей… одному сейчас уже седьмой год шел бы, другому — третий. Иногда она позволяла себе потерзаться мечтами о том, как они выглядели бы: первый-то был мальчик, а второй? Может быть, была бы дочь — счастье своей одинокой, забытой, несчастной матери?
Такие никчемные, но болезненные мечтания всегда заканчивались приступами мучительных, изматывающих рыданий, после которых Мария неделями пыталась прийти в себя, вернуть душевное спокойствие, уверенность в своих силах… и находила это вновь только в объятиях всегда готового к объятиям Сильвестра. Восторги плотского наслаждения как-то постепенно сходили на нет: Сильвестр не был ею любим. Теперь ее вела к нему в постель какая-то особенная, на грани извращения, гордость: «Мой муж из-за своей выдуманной чести толкает меня в пучину порока, а вот любовник из страсти ко мне забыл и о чести, и о совести!»
Мария не очень-то интересовалась секретными симолинскими делами, однако хитрющий Иван Матвеевич позаботился довести до ее сведения, что маркиз Шалопаи, у коего была немалая должность в министерстве иностранных дел, сделался секретным агентом русского посла и теперь регулярно снабжает Симолина теми тайными, часто меняющимися шифрами, которыми пользовались в своей переписке министр иностранных дел Франции граф Монморен и французский поверенный в делах в России Жене, известный как чрезвычайно ловкий шпион, которого никому еще не удалось схватить за руку. Однако после того, как Симолин через особо доверенных своих курьеров, Литвинова и Константинова, начал пересылать в Россию шифры Монморена, французская дипломатическая переписка свободно прочитывалась в Санкт-Петербурге, и Безбородко удалось несколько раз весьма ощутимо воткнуть палки в колеса Жене, который терялся в догадках относительно такой сверхпроницательности русского министра. Во всем этом была, как выяснилось, немалая заслуга Марии… Ну что ж, во все века женщины вызнавали у мужчин всевозможные тайны при помощи только одного-единственного способа, так что у Марии не было оснований считать себя более продажной, чем ее многочисленные предшественницы. В конце концов, она не получала от связи с Сильвестром ничего, кроме морального удовлетворения, ибо страстный маркиз ей поднадоел.
А любовь ее к Корфу была запрятана в самые отдаленные уголки сердечные. Иногда Мария вспоминала матушку свою, Елизавету, которая четыре года вот так же таила и пыталась погасить любовь к Алексею Измайлову, которого она с уверенностью считала своим братом. И тогда надежда, как слабый ветерок, достигала этого уголька, тлеющего в тайниках души Марии, вздувала слабый пламень… но вскоре он снова угасал под гнетом старых и новых обид и недоразумений. Наконец она оставила всякие попытки изменить чувства мужа — ведь как бы она ни повела себя, публичного скандала или признания в любви от него все равно не дождаться! — и положилась на волю судьбы, уповая на то, что ничего в жизни понапрасну не делается. Зачем-то ведь нужно было Господу много лет тому назад тайком обвенчать Елизавету Елагину с Алексеем Измайловым и тотчас же разлучить их на четыре года, — чтобы потом соединить в вечной, нерушимой любви. Зачем-то ведь нужно было Господу свести две судьбы, Марии и Димитрия Васильевича, и тотчас же отбросить их друг от друга на шесть лет, — быть может, чтобы потом вновь соединить?..
О Сильвестре уже упоминалось. Второю прихотью Марии внезапно сделалось занятие, которое обыкновенно считается привилегией мужского пола: спорт. Как-то Иван Матвеевич обмолвился: «Вашей красоте, Мария Валерьяновна, недостает силы. В сочетании с красотой она придаст вам особый шарм. Вы будете воистину непобедимы и неотразимы!» Еще более убедило Марию упоминание о том, что пресловутая баронесса д'Елдерс любого мужчину за пояс заткнет в стрельбе из пистолетов и фехтовании. Это поразило Марию, как поразила ее и сама личность espionne internationale. Ну хорошо, ухитрилась Мария проникнуть в будуар баронессы тайком, а попадись она Этте Палм на глаза — вряд ли бы удалось не только сделать дело, но и живой уйти, ибо «прекрасная фламандка» в совершенстве владела всяким холодным оружием, дралась, как заправский боксер, была ловчее циркового жонглера… несмотря на свои сорок три года! Марии же было двадцать четыре.
Чего же зря время терять?! С Эттой Палм ей невозможно было подружиться и брать у нее уроки, однако образ этой достойной противницы сделался для Марии как бы примером. Хитрющий Симолин только руки потирал, чая, когда сие наливное яблочко упадет ему в руки, то есть для того дела, кое он уготовил Марии: работы секретного агента. Он терпеливо ждал, пока разум ее вполне освоится с чувствами: Марию влекла лишь внешняя романтика «плаща и кинжала». Ну что ж, всему свое время, думал Симолин, а пока что нанял для Марии лучших парижских учителей фехтования, борьбы, верховой езды и плавания, а также бывшего метателя ножей из цирка, итальянца, и испанца — известного метателя аркана.
Уже через полгода Мария сама себя не узнавала. Все было ей внове, все в удовольствие… кроме того, испанец научил ее великолепно танцевать, а итальянец — метатель ножей преподавал некое подобие бельканто [197]. Она знала уже так много, так много умела, что эти знания и умения подспудно искали выхода, какого-нибудь реального воплощения. Этого только и ждал мудрец Симолин!
* * *
Однажды приснился Марии ужасный сон. Виделся ей собор Нотр-Дам. Химеры задумчиво и недобро взирали с высоты на парижские крыши. Потом Мария оказалась внутри церкви, возле мавзолея, изваянного Пигалем: графиня д'Арктур, потеряв супруга, хотела с помощью скульптур оставить долговременную память о своей нежности и печали.
На глазах Марии статуи ожили: светлый ангел, с улыбкою невинного младенца на устах, одною рукою снял камень с могилы д'Арктура, а другой поднял светильник, чтобы снова разжечь в нем искру жизни. Однако не какой-то неизвестный ей страдалец вышел из гроба, а бледный, как мертвец, Димитрий Корф; оживленный благотворной теплотою, он попытался встать и простер к ней свои слабые руки. Мария бросилась к нему, схватила в объятия, всем существом своим впервые ощутив любовь и нежность мужа. Но неумолимая Смерть возникла за спиной барона — черный балахон, черный капюшон, а вместо косы — трость-шпага в руках… Сдвинулась маска скелета — и перед Марией показалось искаженное злобное лицо Евдокии Головкиной. Смерть воздела песчаные часы, давая знать, что время жизни прошло, и, пока сыпались последние песчинки, Мария успела заметить, как лицо «тетушки» сменилось пикантным личиком Николь, а сразу вслед за тем — прекрасными чертами Гизеллы д'Армонти. Но эти такие разные лица были искажены одинаковым выражением смертельной ненависти!.. Тут ангел погасил светильник — и Мария проснулась, вся дрожа и утирая пот с чела.
Отдышавшись и сообразив, что это был всего лишь сон, она вытянулась на спине и, помолившись на звезду, светившую прямо в окно, попыталась вновь уснуть, да не тут-то было. Уж и звезда погасла, и небо просветлело, и первые лучи солнца заиграли в вершинах деревьев, а Мария все вертелась с боку на бок, сминая постель, и подушка чудилась то мягкой, то твердой, как камень. Наконец, отчаявшись, Мария поднялась, кое-как умылась и решила выйти в сад — проветриться, охладить пылающую голову. Уверенная, что в такую рань не встретит ни души, она надела белую рубашку и мужские панталоны до колен, решив не терять даром времени, а заняться гимнастикой. Шенкеля у нее были стальные: лошадь шла под ее седлом даже без поводьев послушно, как овечка; а вот руки довольно быстро уставали от фехтовальных забав. Иван Матвеевич посоветовал ей подтягиваться на толстых ветках, а еще лучше — лазить по деревьям для тренировки. Однако зрелище баронессы Корф, средь бела дня лезущей на дерево, могло любого слугу повергнуть в смущение; по ночам сторож мог принять ее за вора; в этот же рассветный, ранний час сторож уже отправился спать, а прочие слуги еще не проснулись. Время для гимнастики настало самое подходящее!
Без всякого успеха подпрыгнув несколько раз, Мария наконец ухитрилась уцепиться за ветку и какое-то время болталась на ней, извиваясь всем телом, пока ей наконец не удалось упереться ногами в ствол и таки забраться на толстый нижний сук. Отдышавшись и освоившись с тем, что земля осталась внизу (Мария отчаянно боялась высоты, однако Симолин — ох, верно, великим озорником был он в детские годы! — уверял, что лазанье по деревьям избавит и от высотобоязни), она стиснула зубы и начала подниматься все выше и выше, стараясь не думать, что будет, если все-таки сорвется. А пожалуй, Симолин был прав! С каждым футом отвоеванной у страха высоты страх становился все ниже ростом, и Мария преисполнилась такой уверенности в своих силах, что решила проползти по толстому горизонтальному суку, посидеть на нем, чтобы окончательно победить страх, — и воротиться к стволу. Она одолела уже половину пути, когда сук угрожающе прогнулся, Мария едва не вскрикнула, и тут…
— Мы уже потеряли двоих.
Голос Димитрия Васильевича!
Мария замерла в неловкой позе. Ох, ну отчего ей взбрело в голову избрать для своих утренних безумств именно этот каштан?! Ведь он стоит как раз против окон кабинета! Так, значит, рано встала нынче утром не одна Мария. Ее суровый супруг тоже ни свет ни заря покинул постель — почему? И кого он — они? — потеряли?
— Мне удалось проследить их путь лишь до трактира между Берном и Туном, — снова заговорил Корф. — Место вам знакомое. Эрлах клянется, что оба курьера уходили от него целые и невредимые. Однако нарочному дважды приходилось уезжать из Туна ни с чем.
— И вы думаете?.. — проговорил незнакомый голос.
— Я уверен, и мои осведомители подтверждают: где-то на этом маршруте предатель.
— Вас должен был насторожить уже первый провал!
— Он и насторожил, — отозвался Корф. — Второй курьер шел пустой. Однако исчез и он.
— То есть вы пустили его как приманку? — с явным неодобрением спросил незнакомец.
— Вот именно. Та же роль уготована вам.
— Весьма польщен, что мне до такой степени доверяют, — усмехнулся незнакомец.
— У меня нет другого выхода. Сейчас послать больше некого, разве что отправиться самому. Но меня слишком хорошо знают! Ваше преимущество в том, что вы у нас человек новый, никому не известный. О вашем прибытии я не уведомил Эрлаха. Восьмая комната не будет готова к вашему прибытию. Вы откроете себя, лишь когда убедитесь, что опасности нет.
— Выходит, вы подозреваете даже Эрлаха?! — удивился незнакомец.
— Я подозреваю всех! — отрезал Корф.
«Вот именно!» — подумала Мария.
Разговор ее весьма заинтересовал, тем более что говорили по-русски. Она хотела подобраться к стволу и подобраться поближе к окну кабинета, однако толстый сук, казавшийся таким надежным, вдруг негромко, как бы предупреждая об опасности, хрустнул…
Мария оцепенела.
— Знаете, как это называется у нас в России? Ловить на живца, — проговорил незнакомец.
— А я вас сразу предупредил, что вы сыграете роль приманки. — Мария не сомневалась, что муж ее в этот момент пожал плечами с видом полного равнодушия к судьбе этого человека. — Да, приманки. Но для очень крупной рыбы…
— Вы только не предупредили, что крупную рыбу-то, может, и удастся поймать, однако сорвется она с крючка или нет — для живца конец один!
Какое-то время оба молчали. Наконец Корф заговорил:
— Вы рассуждаете как наемник, для которого существует только одна проблема — цена, — раздался его голос, исполненный презрения. — Это не речь русского патриота! Нарочный из Петербурга передаст вам пакет особой — подчеркиваю, особой! — важности. Полагаю, вам известно, что Питт-младший [198] буквально на днях заключил с Пруссией союзный договор в ущерб интересам России и Франции. Руки у этого англичанина длинные: они тянутся к Черному морю. Следующим шагом его должно стать заключение с Францией торгового договора. Вопрос почти решен… Почти… А наша цель — по возможности быстрее убедить французов, что не следует поддерживать Турцию против России, им лучше закрепить за собой все выгоды от торговли с новыми русскими черноморскими портами. Если мы успеем со своим договором прежде англичан, наши позиции на Черном море весьма упрочатся. Вот в том конверте, который вам предстоит au secret привезти в Париж, содержится нечто, способное подорвать престиж Питта в глазах Монморена… хотя бы на время. Время — вот все, что нам нужно! А на все про все у вас лишь неделя. Ровно через семь дней Симолин с этими бумагами должен появиться у Монморена, не то дело наше будет безнадежно проиграно.
— Мне бы хотелось кое о чем спросить, — проворчал собеседник Корфа, — да с вами, того и гляди, вновь нарвешься на оскорбления.
— Нарветесь! И очень просто! — подтвердил Корф, и Мария невольно улыбнулась: так мать может улыбнуться безобидной шалости своего любимого дитяти. — А теперь перейдем к делу, а то заболтались не в меру. Помните: вы должны уйти отсюда незамеченным. Поэтому оденьтесь как можно проще — как банковский клерк или avoue [199]. Поедете дилижансом ровно в полдень — находиться лучше среди людей. Уверен, что за всеми одинокими путешественниками будут пристально следить. Карета на Берн отправляется от станционной конторы на улице Марг. Дорога оплачена, место заказано. Прошу не опаздывать.
И далее… Через трое суток вы будете в Берне. Ровно в полдень следующего дня возле лодочной пристани в Туне вас будет ждать императорский курьер, переодетый пастором, с плетеной корзиной в руках.
— С корзиною? — переспросил незнакомец, подавив нервический смешок.
— С корзиною, — невозмутимо подтвердил Корф.
— Что ж, будем надеяться, мне удасться заглянуть в нее!
— Не сомневаюсь в этом. А теперь вам пора уходить, и как можно скорее! Что такое?..
«Что такое?» относилось к жуткому треску сломавшегося сука, на котором притаилась Мария.
Ей повезло: падая, она успела ухватиться за ветку пониже и приникла к стволу в каких-нибудь двух футах от окна кабинета. С прытью, какой она от себя не ждала и ждать не могла, Мария взлетела — иначе это стремительное продвижение не назовешь! — на самую верхушку каштана, понимая: искать того, кто учинил этот треск, Корф и его гость будут на земле, но уж никак не в поднебесных высотах!
Две головы показались в окне: одна тщательно причесанная, даже слегка напудренная — Корф, очевидно, вовсе не ложился в эту ночь; другая — тоже без парика, с гладко прилизанными, стриженными в кружок волосами.
— Похоже, никого, — прошептал незнакомец, резко поводя левым плечом, словно кафтан жал ему под мышкою.
— Сук обломился, — с облегчением вздохнул Корф. — Будем надеяться, он убился насмерть и никому не скажет о том, что услышал!
— А вы шутник, как я погляжу, — проворчал незнакомец.
Потом до Марии донесся стук оконной рамы — окно закрыли.
Только теперь она наконец-то перевела дух.
* * *
Оставалось самое малое: спуститься так, чтобы Корф этого не заметил. Еще решит, что неверная жена за ним шпионит и лезет в его дела. Симолин до сих пор багровел от ярости, вспоминая, как кричал на него забывший всякую субординацию и обыкновенную вежливость дипломатический агент Корф после музыкального вечера у баронессы д'Елдерс; и Мария даже предполагать боялась, что сделает с нею Корф, поймав за подслушиванием.
Но как иначе попасть в дом, если не спускаться?
Она перебралась на другую сторону дерева — и задрожала от радости, увидав распахнутые створки какого-то окна. Ветки простирались до самого подоконника, и Мария добралась до него с такой ловкостью, словно всю жизнь только и занималась лазанием по деревьям.
«Нужда заставит — так и выше головы подпрыгнешь!» — подумала она, криво усмехнувшись.
Перекинув одну ногу через подоконник, Мария на мгновение замерла. Это была комната Николь!
Тягостные воспоминания о проведенной здесь ночи нахлынули с такой силой, что у Марии закружилась голова и она едва не свалилась с подоконника вниз, на траву. Только этого ей не хватало!
К счастью, постель Николь оказалась пуста, дверь в туалетную комнату была распахнута, но там тоже никого. Надо думать, Николь скрывается в каком-нибудь шкафу!..
Едва сдерживая смех, Мария перескочила в комнату и со всех ног бросилась к двери. Пулей пролетела по коридору, приостановилась снять сапожки — иначе не спуститься с лестницы бесшумно — и тут увидела Николь.
Бывшая горничная в розовом неглиже и чепце стояла у высокого и узкого стрельчатого окошка на лестничной площадке и осторожно выглядывала на улицу, пытаясь что-то там разглядеть.
«Вот бы сейчас столкнуть ее в это окошко — враз избавлюсь от множества неприятностей!» — мелькнула шальная мысль, и Мария сама себе подивилась: придет же такое в голову!
Зажав рот рукой, чтобы не расхохотаться, Мария прошмыгнула в уголок и сжалась в комочек за разлапистым дубовым креслом. Николь прошла мимо, не заметив ее, и заперла за собой дверь. Мария выскочила из своего укрытия и понеслась вниз по лестнице, мысленно моля Бога, чтобы дверь в кабинет Корфа оказалась закрыта.
И здесь повезло! Однако вполне успокоиться Мария смогла не прежде, чем задвинула задвижку на своей двери и прислонилась к ней: ноги не держали.
И тут же встрепенулась: а что, интересно, делала Николь в коридоре? Кого выслеживала из окна? Уж не раннего ли гостя барона?
Холодок пробежал по спине, однако Мария пренебрежительно отмахнулась от нелепых подозрений: скорее всего Николь хотела убедиться, что чуть свет от Корфа украдкой уходил именно гость, а не гостья! Уж не дала ли привязанность барона к бывшей субретке некоторую трещину?..
От этого предположения настроение Марии тотчас поднялось, и она, присев перед зеркалом, принялась вычесывать из волос древесный мусор и паутину — Бог весть чего на себя насобирала, лазая по каштану.
* * *
Однако она никак не могла успокоиться после этой утренней истории. Ни прогулка в Булонском лесу, ни визит портнихи не смогли изгнать из памяти обреченность, прозвучавшую в голосе незнакомца:
«У нас в России это называется ловить на живца!»
«Теперь этот бедолага всю дорогу будет ждать удара кинжалом или чего-нибудь в этом роде, — сочувственно думала Мария. — А Корфу небось и горя мало! Надо хоть поехать на станцию удостовериться, что он спокойно уехал в дилижансе». А почему бы и нет?… Одеться поскромнее — дилижансами путешествует не самая имущая публика — и никто ничего не узнает. Теперь Мария уже не думала, ехать или нет. Вопрос стоял лишь о том, что надеть. Как всегда, она постаралась уберечь Глашеньку от соучастия в своих эскападах, а потому сама прошла в гардеробную и принялась быстро перебирать платья, воображая себя то цветочницей, то почтенной буржуазкой, то игривой мидинеткой, то молодой и печальной вдовою. На глаза попалась знакомая алая цыганская юбка, и Мария на мгновение взглянула на себя со стороны — стало тошно, что она будто на бал-маскарад собирается, а там человек жизнью своей рискует. Нет, не поедет она никуда! Мария шагнула к двери, и тут синее монашеское платье — прощальный подарок Анны Полины, которую Мария так щедро вознаградила за уход за Корфом, что девушка смогла оставить монастырь и вернуться к родным в деревню, — упало к ее ногам. Перед таким искушением Мария уж не смогла устоять.
К каким изощренным уловкам порою прибегает судьба, чтобы провести нас путем предопределенным!..
За полчаса до полудня молодая странная монахиня, в белом чепце и пелерине, с серебряным крестом на груди, сжимая в руках узелок, из которого торчал краешек молитвенника, вошла в контору дилижансов на улице Марг и спросила себе место в экипаже, отправляющемся в Берн.
— Увы, сестрица! — развел руками толстый конторщик. — Все места проданы.
— Но что же делать? — пролепетала монахиня, поднося к лицу платочек. — Мне очень нужно уехать… Тетушка Евлали при смерти, и я должна…
Конторщик проникся сочувствием:
— Бедное дитя! А вы присядьте-ка здесь или на крылечке подождите: вдруг кто-то да откажется в последнюю минуту ехать или опоздает? Такое часто случается. Даст Бог — и повезет вам!
— Даст Бог! — повторила Мария и подумала: «Не дай Бог!» Хороша же она будет, если кто-то и впрямь раздумает отправляться в путешествие. Уж лучше поскорее уйти на крыльцо, чтобы успеть без помех скрыться в этом «благоприятном случае».
Коробочку дилижанса уже запрягли шестеркою лошадей, и путешественники занимали места. Здесь были двое почтенных буржуа с женами: одна пара путешествовала всего лишь до Дижона, другая направлялась в Берн. Границу намеревались пересечь еще три студента, толстяк неряшливого вида, обремененный тремя связками книг, мрачного вида старуха, укутанная с головы до пят, несмотря на жару, и невысокий коренастый человек в глубоком трауре, похожий на скромного стряпчего.
Даже если бы Мария не знала, как он будет одет, она тотчас узнала бы утреннего посетителя по характерному подергиванию плеча. Она с облегчением вздохнула, посмеявшись над своими страхами, погнавшими ее сюда. Вот разъярился бы Корф, узнав, что она, как заботливая нянька, сопровождает его курьера! Или нет — долго хохотал бы. Он ведь таких посыльных отправляет самое малое еженедельно! Эти люди ко всему привычны, нося личины купцов, агентов банковских контор, путешественников, военных, монахов, — ведь будет же этого «клерка» ожидать на переправе в Туне «пастор»!
Кучер взобрался на козлы, подбирая поводья, которые с шутливым поклоном подавал ему какой-то оборванец — Мария давно его приметила, — бездельно шатавшийся по площади, то поглаживая морды лошадей, то перекидываясь шуточками со студентами.
Проходя мимо Марии, он с преувеличенным благочестием возвел к небу глаза.
Хозяин конторы вышел на крыльцо:
— Весьма сожалею, сестра. Ежели угодно, можно купить место на следующую неделю — прямиком до Берна. А коли спешите, есть смысл ехать на перекладных: завтра рано утром до… — Он подавился последним словом, и глаза его сделались огромными. — Господи Иисусе!..
Мария резко обернулась.
На площади как бы все застыло, даже пыль, чудилось, повисла в воздухе. Кучер свесился с козел — да так и застыл с открытым ртом. Дамы и их мужья высунулись из окон; старуха воздела руки; студенты замерли, уставившись на переодетого курьера, который, согнувшись и держась за живот, стоял, почти касаясь лицом ступенек. И только одна движущаяся фигура оживляла эту немую сцену — оборванец, который со всех ног улепетывал прочь. Поворачивая за угол, он оглянулся — Марию поразило выражение мрачного восторга на его лице — и прощально махнул красной, будто ободранной ладонью.
«Почему у него красная рука?..» — подумала Мария. Тут какой-то человек соскочил с крыльца конторы и погнался за беглецом. И тотчас площадь ожила, все пришло в движение, люди бросились к упавшему «стряпчему». Тот скорчился, подтянув колени к подбородку, потом резко повернулся на другой бок — и вдруг, вытянувшись, замер. Из-под него растекалась по ступеням лужа…
Обморочно вскрикнула одна из дам; пассажиры отпрянули от окон; чей-то испуганный голос взвился над площадью:
— Его ударили ножом!
И вновь все застыло в страхе и скорби.
Глава XXIV ИМПЕРАТОРСКИЙ КУРЬЕР
Прошло не менее часа, прежде чем Мария очнулась и попыталась собраться с мыслями. Все, что она помнила, — это суматоху вокруг убитого, двух полицейских, за которыми побежали студенты, — а потом все заволокла какая-то мгла, сквозь которую едва прорвался голос хозяина:
— Позвольте я помогу вам, сестра. Дилижанс отправляется. Нет, денег я с вас не возьму — место того бедняги было оплачено, чего ж грешить с его памятью?
Потом она почувствовала запах свежего сена, которым был устлан пол в дилижансе, услышала шорох платья своей соседки, чье-то всхлипывание, щелканье кнута — и резко откинулась на спинку сиденья: дилижанс отправился в путь, а в нем — молодая монахиня, у которой в Берне «заболела тетушка Евлали».
Первым побуждением Марии было вскочить, закричать, приказать кучеру остановиться… Ведь нужно было как можно скорее вернуться домой, рассказать мужу, что произошло, пусть немедленно посылает нового курьера!
Она уже приподнялась, когда неожиданная мысль пригвоздила ее к месту: все рассказать Корфу — но как? И как объяснить свое присутствие на станции в тот самый момент, когда был убит курьер? Значит, предстоит признаться, что она подслушала секретный разговор?
Мария в отчаянии взглянула в окно. Париж кончился, они уже ехали по проселочной дороге. Если выходить, то немедля. Ну что, в конце концов, сделает с нею Корф? Не убьет же, а всю силу его презрения она уже изведала. Да и Данила с Глашенькою с ума сойдут от беспокойства, если она не вернется к ночи. Надо остановить дилижанс!
Мария снова попыталась приподняться, и вдруг сердитый голос Корфа отчетливо зазвучал в ушах: «Нет другого выхода. Сейчас послать больше некого, разве что отправиться самому. Но меня слишком хорошо знают!»
Мария вновь откинулась на спинку сиденья.
Она недавно читала Макиавелли: «Если я поеду туда, кто останется здесь? Если я останусь здесь, кто поедет туда?» Эти слова вдруг возникли перед ее внутренним взором.
Однако перед ней сейчас стояла совсем уж неразрешимая дилемма.
Что произойдет, если она вернется в Париж? Во-первых, один драгоценный день из семи уже будет потерян. Во-вторых… Во-вторых, Корфу придется отправиться самому. А следующий дилижанс только через неделю. Но уж если убийцам удалось выследить секретного курьера, то русский резидент никак не выберется из Парижа незамеченным! Ей представился Корф в черной траурной одежде, скорчившийся в кровавой луже у подножки дилижанса, — и Марию затрясло так, что соседка покосилась на нее с изумлением.
Нет. Это перст судьбы. Нельзя останавливать дилижанс, наоборот — надо молиться, чтобы он мчался как можно быстрее. Слишком многое благоприятствует ее неожиданному путешествию: и это платье, так вовремя попавшееся на глаза, и доброжелательность хозяина конторы… да все, все, начиная с бессонницы, с утренней прогулки по каштану… начиная со страшного сна!.. Жаль только, что сон или какое-то другое наитие не подсказали Марии прихватить сколько-нибудь денег: у нее с собою ни су! А надо платить за придорожные гостиницы… И что-то есть… Ладно, сейчас у нее тошнота подкатывает к горлу при одной только мысли о еде, но ведь ехать почти три дня! И добираться от Берна до Туна, и еще зайти в трактир Эрлаха, и переправиться через Тунское озеро… На все это нужны немалые деньги.
Не крест же продать?! Мария украдкой потрогала сквозь монашеский чепец мочки ушей. Слава те Господи, у нее в ушах серьги. Франков сто за них дадут… Дали бы, наверное, раза в три больше, но надо трезво смотреть на вещи: у кого найдутся такие деньги на каком-нибудь постоялом дворе, в спешке?
Остановка часа через три, никак не раньше. Хорошо, что все пассажиры так подавлены ужасным событием на станции, что сидят молча, не донимают друг друга расспросами и разговорами. Есть время собраться с мыслями.
О многом надо подумать, и прежде всего о главном: кто, кто еще, кроме нее и Корфа, знал, откуда и когда отправится секретный курьер?
Бело-розовая фигура, приникшая к окну, возникла в памяти, и Мария невольно прижала руки к сердцу.
Николь! Курьера предала Николь!
* * *
Ровно через три дня пути, в два часа пополудни, дилижанс остановился на окраине Берна, конечной точке своего маршрута. Торопливо распрощавшись с попутчиками, Мария выскочила из кареты, спиной ощущая неприязненные взоры. Никогда в жизни она не чувствовала такого общего недоброжелательства к себе, словно бы то, что она невольно заняла место убитого пассажира, наложило на нее некий позорный отпечаток. Супруга негоцианта, ехавшего в Берн, всю дорогу смотрела на Марию с таким ужасом, будто она нарочно наняла убийцу, чтобы освободить для себя место в дилижансе. С одной стороны, это было хорошо: помогло избежать скучающего любопытства попутчиков, ибо сведения Марии о монастыре Сент-Женевьев, которому она якобы принадлежала, были самые приблизительные; с другой — ей пришлось приложить немалые усилия, чтобы вызнать дорогу из Берна в Тун. Мрачная старуха так и не проронила ни слова за всю дорогу, отворачиваясь от Марии, как от зачумленной! Самым доброжелательным оказался толстяк с книгами, который вез их в дар публичной библиотеке Берна, своего родного города. Этот замкнутый книгочей безмерно тронул сердце Марии, и перед тем, как покинуть дилижанс, она с горячим чувством стиснула его пухлую, широкую руку. Доброжелатель Марии поведал, что трактир Эрлаха находится на горной дороге, ровно на полпути от Берна до Тунского озера, а езды до Туна — не более четырех часов. В расчеты Марии не входило прийти в трактир засветло; вдобавок вынести еще хотя бы два часа тряски в карете казалось ей непереносимым, а потому, с трудом разминая затекшие ноги, она пошла пешком, едва обращая внимание на гармоничные пропорции этого старинного городка, в котором почти все дома были одинаковые: из белого камня и в три этажа — весьма наглядная демонстрация знаменитого швейцарского равенства. Но что Мария приметила, так это то, что улицы Берна оказались прямыми, широкими и безупречно вымощенными. Почему-то вдруг вспомнилось, как, измученная шантажисткой Николь, она балансировала на кромке грязной парижской мостовой напротив ломбарда «Mont de Piete»; и Мария, в который раз за последние трое суток, дала себе слово отомстить виновнице всех своих бед.
Как ни спешила Мария, время бежало быстрее. Она шла лесом; тишина царила вокруг. Нарочно остановилась и послушала — ни один листочек на дереве, ни одна травинка не шелохнулись. В воздухе пахло грозой. Вот уже два часа, как она не видела ни души. Пора, пора было бы показаться трактиру Эрлаха!
Синева небес сгущалась, и прозрачный, неровный диск луны — чистый-чистый, как бы омытый, — засветился в вышине, хотя солнце еще не село.
Воздух был необычайно свеж и прозрачен, однако кровь стучала у Марии в висках, словно она задыхалась, а ноги подкашивались. Может, все дело в том, что она поднялась слишком высоко в горы. Лицо ее горело, лоб покрылся испариной. Невыносимо хотелось вымыть волосы — они все слиплись над тугой косынкой, — помыться в горячей воде. Да где же этот трактир?! Забавно окажется, если она сбилась с пути… наверное, нужно было все-таки пересилить себя и нанять повозку. В крайнем случае подождала бы в лесу до сумерек… Тут она споткнулась на ровном месте и только чудом не упала на каменистую тропу. Слабость одолевала так властно, что глаза Марии наполнились слезами.
Зачем, зачем она ввязалась в эту кошмарную историю? Надо было вернуться из конторы дилижансов домой, все рассказать Корфу, передать в его опытные руки эту тяжкую ношу, которая так гнетет ее усталые плечи! В конце концов, это мужские забавы; не женское дело таскаться по горам с секретным поручением государственной важности. Вот ей-же-ей, если сейчас трактир не покажется на дороге, она сядет прямо здесь, на обочине, и зарыдает в голос!..
Мария со всхлипом перевела дыхание, и тут, словно сжалившись над ней, деревья впереди расступились — и прелестный, аккуратненький, точно игрушка, двухэтажный домик показался шагах в пятидесяти от нее.
Трактир Эрлаха! Вот он какой!.. А стоявший на крыльце крепыш в белом переднике, перехватившем увесистый животик, и в безрукавке из оленьей кожи, верно, и был сам хозяин.
* * *
— Вы паломница, сестра? — неприязненно спросил Эрлах, провожая Марию в отведенную ей комнату. Лицом он был бы недурен, но напыщенный и надменный вид его производил самое неприятное впечатление. Мария удивилась было, а потом сообразила, что католическая церковь в ее лице встретилась здесь с протестантизмом Эрлаха, и, мягко улыбнувшись, кивнула.
Она щедро заплатила вперед, и религиозный фанатизм Эрлаха несколько погас. Проведя Марию в чистую и светлую комнату под номером семь, он принялся рассказывать о порядках, заведенных в его доме. Мария спросила ужин и побольше горячей воды, однако Эрлах не унимался. Теперь темой разговора сделалась его честность.
— Все постояльцы, что жили у меня, — говорил он, — премного оставались довольны. Я получаю небольшой барыш, да зато идет обо мне добрая слава, зато совесть у меня чиста и покойна, а у кого покойна совесть, тот счастлив и ничего не боится. И хорошо спит по ночам…
В этот самый момент грянул гром, и все краски мигом сошли с лица Эрлаха.
— Что с вами? — вскричала Мария с удивлением: неужели этот крепкий мужчина так боится грозы?
— Ничего, — промолвил Эрлах. — Ничего. Только надобно затворить окно, чтобы не было сквозного ветра.
Однако лишь потянулся он к распахнутым створкам, как молния полыхнула, чудилось, уже в самой комнате. Эрлах отпрянул, и Мария поглядела на него испытующе: «Говорят, Бог шельму метит?»
Эрлах, зажмурясь, несколько раз перекрестился. Марии сделалось смешно: на небе уже не было ни облачка, гроза прекратилась так же внезапно, как и началась.
Эрлах пришел в себя, отдышался и опять бойко заговорил о неустрашимости того, кто берет за все умеренную цену и, подобно ему, имеет чистую совесть. По счастью, появилась горничная с горячей водой. Хозяин наконец вышел, а Мария с наслаждением занялась своим туалетом. За несколько франков ей удалось уговорить Анни (так звали девушку-горничную) вычистить к утру ее платье, выстирать и высушить белье. А так как Марии на ночь предстояло остаться в чем мать родила, то Анни не без ехидства предложила ей черное полотняное платье — пусть скромное и поношенное, но все же вполне светское, — и немало подивилась веротерпимости гостьи: та, не чинясь, надела платье, проворно заплела еще мокрые волосы в косу — и с аппетитом отдала должное изрядной миске ravioli [200].
После сытной трапезы Марию разморило. Твердо помня, что спать нельзя, что нужно непременно проследить за Эрлахом и выяснить, безопасен ли трактир или в нем происходит нечто подозрительное, она прилегла на пышной постели, не разбирая ее и не раздеваясь, и заснула, кажется, еще прежде, чем опустила голову на подушку.
* * *
Марию разбудил лунный свет, бивший прямо в лицо. Она всполошенно села, озираясь.
Тишина. Нигде не звука. Все спокойно в трактире, все спит кругом.
Подошла к окну. Ее добрая знакомая, бледная луна, налилась холодным серебряным светом и высоко поднялась над долиною, освещая округу ярче, чем ревербер [201].
У Марии захватило дух — такая красота и тишина царили кругом. Ничего подобно ей, жительнице равнинных приречных лесов, никогда в жизни не приходилось зреть!
Лунный свет, разливаясь по горам, серебрил гранитные скалы, густую зелень сосен и ослепительно блистал на вершине Юнгфрау — одной из высочайших Альпийских гор, покрытой вечным льдом. Два белоснежных холма, напоминающих грудь юной девы, казались увенчавшей ее короной. Это был как бы символ вечной, нетронутой, ничем не искушенной невинности; ничто земное и суетное не касалось этих сиятельных высей, даже бури не могли до них вознестись; лишь лунные лучи ночью и солнечные — днем дерзали ласкать эти нежные округлости, вечное безмолвие царило вокруг…
У Марии защипало глаза — так бывало всегда, стоило ей увидеть безусловную, непреходящую красоту; и стеснилось сердце… Оказалось кощунственным даже подумать о том, что эту возвышенную красоту может осквернить предательство, убийство, человеческая алчность. Да разве мог Эрлах, живя в такой близости к Божественному, под этим светлым, всевидящим взором небес, оказаться бесчестным злодеем?!
Мария тихонько вздохнула, опасаясь даже шумом дыхания своего оскорбить невыразимую эту тишину — и тотчас опустила глаза, доселе обращенные горе: до ее слуха донесся стук копыт по каменистой тропе.
Очарование альпийской ночи было нарушено так бесцеремонно, что Мария сочла необходимым увидеть святотатца.
Если бы взор ее мог испепелять, то от всадника, в эту минуту въехавшего во двор, осталась бы лишь горстка пепла!
— У, дура, светит, как ошалелая! — раздался голос Эрлаха, и он сам, погрозив кулаком луне, вышел принять повод у всадника.
Мария задохнулась от возмущения. Не зря Эрлаха недолюбливают явления небесные! Она не сдержала легкой усмешки, но следующие его слова, произнесенные почти шепотом, но отчетливо слышимые в хрустальной тишине, заставили затаить дыхание.
— Восьмого номера так никто и не спросил.
Сердце Марии приостановилось: Эрлах говорил по-английски!
— Да, незадача!.. — произнес на том же языке всадник, спешиваясь. — Не пойму, зачем было убивать курьера на станции? Он должен был вывести нас в Туне на русского связного, а теперь ломай себе голову: кто, где и с кем должен встретиться. Знаешь ли, плохо нам станется, ежели на этот раз провороним их связного. Не миновать нам тогда отправиться в гости к твоим бывшим постояльцам!
— Куда это? — удивился Эрлах, и вновь прибывший злобно огрызнулся:
— Куда? В пучины Рейнбаха [202]! С камнем на шее!
Мария зябко поежилась. Ай да Корф! Ай да провидец…
Всадник что-то неразборчиво проговорил, а трактирщик пренебрежительно махнул рукой:
— Да так, одна монашка-паломница…
Мария впервые в жизни порадовалась, что о ней отозвались пренебрежительно. Не хотела бы она привлечь к себе внимание «добропорядочного» Эрлаха!
Вновь прибывший насторожился:
— Монашка?.. Не может быть!
Мария невольно отпрянула от окна в тень.
Приехавший схватил Эрлаха за грудки:
— Какая она? Высокая, молодая, в синем платье и с серебряным крестом на груди?!
— Ты что, спятил, Джордж? — досадливо прошептал Эрлах. — Что тебе проку в этой сухореброй невесте Христовой?!
Мария безотчетно провела пальцами по боку. Ничего себе, сухоребрая!
— Спокойно, Майкл! — усмехнулся тот, кого назвали Джорджем. — Удача на нашей стороне! Я был уверен, что русские не могли не иметь запасного варианта — Корф слишком умен и хитер! Неистовый человек.
Мария чуть приподняла брови. Вот так, значит? Неистовый?!
— Как только курьер был убит, его место в дилижансе заняла молодая монахиня, — продолжал Джордж. — Она якобы ехала в Берн к умирающей тетке, но в Берне не задержалась и на минуту. Я упустил ее в городе, но один из пассажиров, какой-то олух, нагруженный книгами, сказал мне, что она расспрашивала его о дороге на Тун… интересовалась и твоим трактиром. Это она и есть, та, кого мы ищем, кто приведет нас к русскому связному!
— Баба-шпионка? — с отвращением в голосе пробормотал трактирщик. — Тьфу!
— Эй, поосторожнее! — усмехнулся Джордж. — А как насчет нашей прекрасной Этты?
— Тысяча извинений! — Майкл Эрлах как бы сорвал с головы воображаемую шляпу. — Миледи вне критики. Она одна-единственная… Эта же девка была так измучена, что едва добралась до постели. Возьмем ее голыми руками и…
— Никого и ничем мы брать сегодня не будем! — перебил Джордж. — Наше дело — выявить русского связного. Наверняка у них встреча на Тунской пристани, но ты же знаешь, сколько там бывает народу! Попробуй отыщи там того, кто нам нужен… А эта крошка приведет нас прямиком к нему.
— Неужто? — пробормотала Мария. — You are sure, aren't you, my friend?! [203]
Эти двое обсуждали свои планы совершенно спокойно, не опасаясь, что здесь, в сердце швейцарских Альп, отыщется человек, знающий язык далекой туманной страны.
— Мне надо поспать хотя бы час, Майкл, — широко зевнул вновь прибывший. — Ты уверен, что девчонка не сбежит?
— Куда? — усмехнулся Эрлах. — И в чем? Моя горничная до полуночи возилась с ее сорочкою и платьем. Не голышом же ей бегать по горам?
Мария кивнула: «Big mistake!» — большая ошибка, как говорят англичане. Он ничего не знает о черном платье — ну что ж, пусть ждет до утра, когда простодушная монахиня проснется, готовая продолжать свое «паломничество»! Хотелось тотчас же выскочить в окошко и броситься в лес, однако ей хватило выдержки — пусть улягутся, уснут…
Через какое-то время, решив, что трактирщик и гость уже спят, она совсем было изготовилась бежать, однако напряженным слухом уловила легкие, крадущиеся шаги у двери. Эрлах все-таки решил проверить, на месте ли она!
В мгновение ока Мария содрала с себя платье, бросила его под кровать и прыгнула в постель, выпростав из-под перин (одеял здесь не водилось) голую руку.
Ей стоило нечеловеческих усилий сдержать дрожь ужаса, когда горячее дыхание коснулось ее плеча.
Эрлах потоптался у кровати — ему явно не хотелось уходить, но, видимо вспомнив о холодной ванне Рейнбаха, где купаются с камнем на шее, пересилил похоть.
— Не такая уж она и сухоребрая! — услыхала Мария его шепот.
Потом дверь спальни тихонько затворилась, и ключ повернулся в замке.
— Спасибо за комплимент, — усмехнулась «монахиня».
Она поспешно надела черное платье, подвязала подол, обулась и туго окрутила вокруг головы косу. Да, и не забыть о деньгах!
Она уже перекинула ногу через подоконник, когда сердце ее упало: мыслимо ли — тайком проскользнуть через этот сияющий в лунном свете двор?! Мария молитвенно сложила руки — и тихонько вскрикнула от радости, когда невесть откуда взявшееся черное облачко заволокло луну.
Длилось сие невероятное затмение не более двух минут, но Марии этого вполне хватило: спуститься по бревенчатой стене было раз плюнуть; перелезть через забор — то же самое. Она даже не успела испугаться, что ей сейчас придется идти по незнакомой дороге в кромешной тьме, — луна снова засияла на небе.
— Спасибо тебе, милая, голубушка, красавица моя! — сквозь слезы прошептала Мария и вприпрыжку побежала по узкой горной дороге на восток к Тунскому озеру.
* * *
Утро застало Марию в пути. Издалека уже давно доносился ровный, грозный гул, наверное, там шумел один из знаменитых швейцарских водопадов, возможно зловещий Рейнбах, но Мария побоялась свернуть с дороги и потерять время, любуясь красотами природы. К тому же она уже видела чуть поодаль подобие Рейнбаха — ручей, свергающийся с вершины каменной горы футов в девятьсот вышиною. На расстоянии он казался неподвижным столбом млечной пены; вода, чудилось, разбивалась еще в воздухе и падала на землю в виде мелкого серебряного дождя, брызги которого разлетались далеко вокруг и даже промочили Марии платье.
Ох уж это платье!.. Похоже, заканчивался срок его верной службы, сейчас оно обращалось в предателя. Мария понимала, что ее преследователи под перинами не залежатся, ее хватятся рано, может быть, уже хватились; а стоит им спросить служанку, сразу станет ясно, в чем ушла «монахиня». Мария полжизни отдала бы сейчас за одежду, которая сделала бы ее неузнаваемой, да где ее раздобыть в швейцарских Альпах, в виду водопадов, ледников и диких сосен? Дважды ей, правда, встречались хижины пастухов — в одной Мария отведала творога, сыру и густых свежих сливок, и за все это с нее взяли символическую плату, однако после просьбы продать смену одежды посмотрели как на сумасшедшую: у них просто не было ничего другого, кроме того, что на себе, — может быть, в деревне, в каких-нибудь сундуках, но не здесь, на летнем выпасе. Мария ушла ни с чем, однако же и деревню обошла стороной, опасаясь, что преследователи могли обогнать ее кратчайшей дорогою и теперь подкарауливают. Однако нельзя, никак нельзя появиться на переправе в этом наряде! Мария строила разные планы, один отчаяннее другого: вот завидит впереди путника — и сделает вид, будто лишилась чувства, путник подойдет, а она набросится на него, свяжет, заберет одежду…
Между тем погода постепенно портилась, и когда Мария, так ничего и не придумав, добрела до деревушки Унтерзеен, откуда, как ей объяснили, ходила почтовая лодка в Тун, вершины гор скрылись в тяжелых, темных облаках. Вчерашний день научил Марию доверять небесным предупреждениям, и она оглядывалась с опаскою, однако ни Эрлаха, ни кого-либо, похожего на человека по имени Джордж, не увидела. «Береженого Бог бережет», — подумала Мария и решила все-таки зайти в лавку, купить хотя бы плед или плащ, под которым можно скрыть ее приметное платье, а также, ежели сыщутся, пару крепких башмаков — от тех, в которых она отправилась из Парижа, остались, после promenade по горам одни опорки. Мария уже отошла от берега, как вдруг лодочник закричал:
— Кому в Тун — садитесь скорее! Еще час — и начнется буря. Я сейчас отчаливаю.
Пришлось вернуться.
Три крестьянки, ожидавшие на берегу, подхватив свои корзинки и юбки, бросились наперегонки к лодке.
Их опередили два молодых пастуха, распространявшие вокруг себя острый запах своих козьих безрукавок. Впрочем, как выяснилось, они спешили только для того, чтобы помочь почтенным матронам взойти в качающуюся лодку. Не обошли помощью и Марию. Она не сводила глаз с дороги, круто спускавшейся с горы, с замиранием сердца ожидая, что на ней вот-вот появятся преследователи… «Господи! Господи, помилуй!» — твердила она непрестанно и только тогда вздохнула свободно, когда лодочник оттолкнулся веслом от берега и умело направил свою осадистую посудину по неспокойным водам.
И тут Мария заметила, что любопытные взоры ее попутчиков как бы приклеились к ней. Ей оставалось лишь вообразить, какое дивное зрелище она представляет: в уродливом черном платье явно с чужого плеча, вся в поту и в пыли, с нечесаной косой. Право, если бы в сих местах были женские исправительные учреждения, Мария являла бы собою типичный портрет беглянки оттуда!
Да она и была беглянкою… Впрочем, нет, не только! Она едет за бумагами, которые подорвут престиж Англии, которые укрепят позиции России в черноморских портах! Она здесь не просто так — одяжка [204] какая-нибудь. Она — курьер, вернее, нарочный, у нее высокая миссия!
Эта мысль помогла Марии немножко приободриться. Осуждающие взоры добропорядочных швейцарцев перестали ее беспокоить, а потому она спокойно переплела косу, умылась, зачерпывая воду прямо из озера, — и сразу почувствовала себя лучше, тем более что соседи постепенно забыли про нее: озеро волновалось все сильнее. Оба пастуха в весьма выразительных позах перевесились за борт. Но Мария, которая всегда с трудом переносила тряску в карете, сейчас чувствовала себя превосходно. Какая там морская болезнь! Ее лишь забавляли валы, которые играли лодкою, как щепкою, и разбивались о каменные берега. Горы, покрытые дымящимися тучами, напоминали вулканы. Там уже вовсю лило. Лодочник с беспокойством поглядывал на небо. И вдруг, с улыбкой взглянув на Марию, которая с живым любопытством смотрела вокруг, в то время как две другие женщины беспрестанно причитали, а третья и вовсе голосила от страха, спросил:
— Молодая фройляйн не боится дождя? Кажется, сейчас мы все изрядно промокнем.
— Ничего, — засмеялась в ответ Мария, — мое платье сильно запылилось в пути, не мешает его простирать.
Не Бог весть какая острота, однако лодочник зашелся смехом и даже слегка сбился с курса: одна из волн захлестнула посудину, женщины завизжали пуще прежнего, молодые люди принялись громко призывать Господа, но, по счастью, берег был уже близко, и через четверть часа лодка причалила к Тунской пристани.
Пассажирки бросились вон из лодки, толкая одна другую.
Мария только головой покачала, увидев, что, оказавшись на твердой земле, они мигом обрели прежний чинный вид, словно не орали только что благим матом. Может быть, они лишь исполняли некий ритуал, пытаясь своим преувеличенным страхом задобрить местного водяного? Ну что ж, им это вполне удалось: волнение на озере улеглось так же внезапно, как и началось; солнце разогнало тучи и засияло над горами.
Влажные доски пристани темно поблескивали в лучах солнца.
Мария огляделась, с досадою отметив, что и здесь привлекает к себе общее недоброжелательное внимание. Скорее бы найти пастора с корзиной! Надо думать, там, кроме документов, отыщется немного денег, которыми императорский курьер ссудит ее, чтобы она могла купить себе другую одежду, а также поможет вернуться в Париж. Наверное, в Берн есть и другая дорога, в обход озера.
Однако уже полдень. Где же пастор? Мария присела на камень, пристально разглядывала трех местных жителей и сидевшую поодаль старую монахиню — ее лица было не различить под капюшоном, которые флегматично ожидали, когда лодочник приготовится к обратному пути. Лазурное озеро являло собою картину такого спокойствия, что Марии стало завидно: плыть среди такой красоты… не повезло ей!
Но тут же вновь одолело беспокойство. Где же пастор? Где его корзина?
Может, он переоделся? Мало ли, вынужден был по какой-то причине изменить облик и теперь безуспешно высматривает мужчину в трауре, чтобы подойти к нему и открыться… Он и внимания не обратит на оборванку в черных лохмотьях. Мария узнала бы его по корзине, да здесь все пассажиры с корзинами — все, кроме старой монахини. И на том спасибо, а то уж Мария подумала было — не спутал ли чего Корф, не в виде ли монахини, а вовсе не пастора должен появиться императорский курьер? Но раз нет корзины, то и говорить не о чем. А вот еще какой-то человек идет — молодой, розовощекий и голубоглазый — и тоже с корзиной!
Мария взглянула на пришедшего почти с ненавистью — и сердце ее глухо застучало где-то в горле.
Это был не поселянин, не пастух! Это был приснопамятный Егорушка Комаровский. Императорский курьер!
Облегчение, овладевшее Марией, было таково, что она лишилась всяких сил и почти в обмороке поникла на своем камне. Она была истинно счастлива сейчас: Егорушка всегда, пусть и отдаленно, напоминал ей любимого брата Алексея; к тому же он был русский, он покинул Россию не более десяти дней назад, от него веяло еще запахом русского ветра, раздольных полей, синей речной глади… Мария схватилась за сердце и едва не зарыдала от нахлынувшей вдруг тоски по родине. Надо непременно ухитриться поговорить с Егорушкою, расспросить, как там, дома!
Марию не заботило, как привлечь внимание Комаровского: ее нелепую фигуру нельзя не заметить, а заметив, он уж как-нибудь признает ту, которой когда-то домогался. И Мария была почти оскорблена, когда голубые глаза императорского курьера скользнули по ней с пустым любопытством.
Но гнев, верно, придал ее взору особую силу, так что Комаровский как бы нехотя повернул голову в ее сторону, взглянул пристальнее… и такое детское изумление изобразилось в возмужалых чертах его, что Мария не сдержала радостного смеха.
Она вскочила, сквозь невольные слезы глядя в повлажневшие глаза своего былого обожателя. Все прошлое: их совместное путешествие, поиск пропавших сокровищ, даже зловещие янтарные бокалы, даже шпага, приставленная острием к Егорушкину горлу, — все теперь чудилось сверкающим, радостным, родным…
Улыбка сошла с лица Егорушки, и он с тревогой глянул по сторонам: трое поселян, ожидавших отправления лодки, приближались к ним с самым угрожающим видом. Возглавлял их лодочник.
С усмешкой окинув взглядом Марию, он обронил:
— Вы, кажется, хотели платье постирать, молодая фройляйн? Сейчас мы вам поможем, — и резко взмахнул рукой. — Бросьте ее в воду! А его — держите покрепче!
В ту же секунду он сам и еще один человек набросились на Комаровского, а двое других схватили Марию, подняли как перышко и швырнули в озеро.
Опускаясь на дно, она успела подумать: «Ну и дура! Зачем им бегать за мной по горам? Они и так знали, что я должна появиться на пристани!»
Да уж, рановато возомнила Мария, что удача на ее стороне! Уж можно было додуматься, что Эрлах и Джордж от своей затеи не откажутся: ведь иначе их ждала смерть. А теперь смерть ждет ее, Марию…
Ноги коснулись каменистого дна, и оцепенение враз ушло. Мария ринулась к поверхности… Юбка, поднявшись вверх, затрудняла движения рук. Но вот наконец-то! Со стоном вырвалась Мария из воды, всхлипнув, вдохнула воздух, отбросила с глаз мокрые волосы — и снова, как там, возле конторы дилижансов в Париже, картина мира замедлила свое движение перед ее взором, словно для того, чтобы Мария смогла разглядеть оцепеневшую старуху в черном, Комаровского с заломленными руками и окровавленным лицом, лодочника, крепко прижавшего к груди заветную корзину, трех его сообщников… и всадника, вылетевшего на пристань. Управляя конем лишь с колен, он выстрелил из двух пистолетов разом — и двое нападавших тотчас упали. Отбросив бесполезное оружие, всадник выхватил шпагу и пронзил того из противников, который все еще держал Комаровского, а потом, заворотив коня, направил его на лодочника — и конские копыта опустились на голову злодея. Всадник же успел еще выхватить из рук лодочника корзину, прежде чем тот рухнул с проломленной головой. И все это, чудилось, произошло в одно мгновение.
«Алешка! Алешка!» — чуть не закричала Мария, вспомнив точно такую же сцену возле лесной избушки, когда брат примчался спасать ее от Гриньки Честного Леса, — однако тяжелая, мокрая юбка потянула ее вниз, Мария едва не захлебнулась, снова вырвалась на поверхность — как раз вовремя, чтобы увидеть, как всадник выхватил из корзины сургучный пакет, отшвырнул ненужную плетенку и, крикнув по-русски: «Помоги ей, граф!» — бешеным аллюром погнал коня прочь, успев лишь раз оглянуться и метнуть в Марию такой знакомый, такой синий, такой надменный взгляд…
Итак, он все же и тут поспел вовремя, этот неистовый Корф!
Глава XXV СОКРОВИЩЕ БЫЛЫХ ВРЕМЕН
Все, разумеется, объяснилось очень просто. За отправкой злополучного «человека в трауре» следила не только Мария… Переодетый Корф и сам был в конторе дилижансов, наблюдая не только за своим посыльным, но и — с изумлением — за переодетой женой. Однако, когда курьера ударили ножом, барон был слишком занят преследованием убийцы, и лишь после того, как дома он выслушал испуганные причитания Глашеньки, мол, баронесса исчезла, не надев ни одно из своих платьев! — он смог связать концы с концами…
— Надеюсь, он не заподозрил меня в предательстве? — мрачно спросила Мария Симолина, который и посвятил ее во все эти подробности.
— Ну что вы! — воскликнул Иван Матвеевич, но как-то не слишком убежденно, и Мария с тоской поняла: так оно и было! Разумеется, о Николь Корф ничего дурного не мог подумать, а вот о своей венчанной жене… Да, похоже, подозрения рассеялись у него лишь в ту минуту, когда ее чуть не утопили, но и тут у него не нашлось времени отнестись к ней со вниманием. Вот ежели бы ее ударили ножом и Корф нашел на берегу ее окровавленный труп, тогда бы он буркнул пару слов прощания, но и то вряд ли расщедрился бы на большее, нежели чем: «Не надо лезть не в свое дело!» А то, что благодаря Марии раскрылось предательство Эрлаха и его истинное лицо, — это вроде бы сущая безделица.
Вернувшись спустя десять дней в Париж (она и вовсе хотела уехать вместе с Комаровским в Россию, да не было на то ни денег лишних, ни проездных документов, пусть и фальшивых), Мария появилась на улице Старых Августинцев, лишь побывав у Симолина, которому подробно пересказала все свои приключения. Разумеется, она не обошла молчанием и Николь, однако тут Иван Матвеевич покосился на нее столь лукаво и недоверчиво, что Мария осеклась: конечно, он не сомневается, что ее гневливые слова — клевета, продиктованная ревностью! И уж если Симолин, ее верный друг и покровитель, так решил, то можно особо не напрягать воображение, чтобы понять, какова будет реакция Корфа. Уж он найдет самые ядовитые слова, чтобы уничтожить Марию! Ее отчаяние, страх, усталость, все опасности, которым она подвергалась, — ничто для него! Он думает только о Николь! Спасибо, хоть Симолин понял, что пришлось ей испытать. Слушая повествование Марии, он раза два даже слезинку с глаз смахнул, а потом заключил ее в объятия и расцеловал так крепко, что она засмеялась от радости, вспомнив, как звонко чмокал ее некогда дедушка Михайло Иваныч, приговаривая: «Не знал я девицы краше и милее моему сердцу, чем ты, внученька Богоданная!»
— Истинно говорят: исключительный человек ищет исключительной судьбы. Нет цены вам, душа моя, Марья Валерьяновна! — с чувством выговорил Симолин. — И куда только господин маркиз смотрит? Эх, будь я на его месте или хоть годков на двадцать помоложе, чем ныне, увел бы я вас от Димитрия Васильевича — это уж как пить дать. Увел бы! И за великое счастье почитал, коли бы вы меня своей любовью почтили!
Тут настал черед Марии утирать повлажневшие глаза, и Симолин, который, как всякий мужчина, чувствовал себя неуютно при виде женских слез, тут же дал отбой:
— Да на что я вам! И Шалопаи — на что?! Знаю, нужен вам один только Корф, а ему…
Симолин осекся, махнул рукой и более на эту тему не говорил. А что говорить, когда Мария и без слов все знала и все понимала?
«Ничего я ему не скажу про Николь, — решила она мстительно. — Пусть остается в дураках. Пусть новые и новые замыслы его рушатся, пусть…»
Пусть — что? Пусть гибнут новые курьеры? Пусть страдают российские интересы во Франции? И все это лишь потому, что дипломатический агент Корф не желает признать: его любовница — шпионка его врагов? Нет, барон уж как хочет, а Мария постарается выполнить свою клятву: отомстит Николь за все, и за гибель курьера — тоже!
Это мужественное решение исполнило ее душу такой печалью и усталостью, что она опять едва сдержала слезы. Всегда она одна — в любви, в жизни, в опасности… Простосердечный Егорушка за все ничтожное время их знакомства проявил к ней заботы и нежности больше, чем Корф за годы их брака. Даже бесследно исчезнувший из ее жизни Вайян! Даже Симолин! Что уж говорить о Сильвестре… Наверняка все время, пока Мария числилась в нетях, метался под окнами ее дома, вне себя от беспокойства и ревности, а уж графиня-то Гизелла небось утром и вечером являлась туда с визитами — узнать, когда воротится баронесса, как если бы они были с Марией Бог весть какие неразлучные подруги. Гизелла мечтает, чтобы Мария была свободна; сколько раз намекала, что надобно потребовать развода и искать новое счастье!
А чего его искать далеко, это «счастье»? Вот оно — летит по улице Граммон навстречу Марии, вышедшей от Симолина, машет широкополой шляпой с перьями; усы торчком, как у мартовского кота, и не только усы, надо полагать; сверкает бриллиантами, радостной улыбкой. Вот набежал, стиснул в объятиях, не обращая внимания на угрюмого Симолина — да и на Корфа не обратил бы внимания, окажись тот поблизости; зацеловал, шепча страстные признания, всем существом, всем телом своим выражая одно — любовное желание. «Все дамы от него в восторге», — как намекает с тонкой улыбкою графиня Гизелла, гордясь, что про ее брата идет слава отменного любовника. Влюбленный Сильвестр, очаровательный Сильвестр, veritable amant [205].
Сильвестр, предавший свою страну ради любви к Марии… постылый, немилый Сильвестр! И неотвязный, как тоска.
* * *
Шли дни, недели, месяцы. Николь держалась тише воды, ниже травы, и если Мария предполагала, что та еженощно будет бегать по дому на цыпочках, а днем приникать ко всем замочным скважинам сразу, она ошиблась. Может быть, и с самого начала ошибалась в своих подозрениях: разве мало в доме слуг, внешне преданных хозяевам, а на деле зараженных нынешними нелепыми идеями о равенстве и братстве всех людей? Что ж до Николь, то бывшая горничная неделями вообще не бывала на улице Старых Августинцев, проводя, по слухам, время в старом домике мамаши Дезорде в Фонтенбло. Мария ничуть не сомневалась, что там нашлось применение и известным пятидесяти тысячам ливров: небось Николь, практичная, как все француженки, — нет, как пятьдесят тысяч француженок! — прикупила земли, может быть, даже отстроила новый дом, наняла батраков. Определенно, эта ловкая особа обустраивала свою жизнь, и Мария не удивилась бы, узнав, что Николь намерена купить титул: такие случаи бывали. Однако думала об этом Мария с усмешкой: времена для титулованных особ наставали тяжелые! Сейчас куда разумнее не обнаруживать свое богатство, а припрятывать его. Происходящее со страной представлялось Марии так: людей в грязных рубищах, жителей предместья Св. Антония, пришедших со своих узких, нечистых, зловонных улиц, все больше становится в самых аристократических кварталах Парижа, и они больше не торопятся прошмыгнуть мимо господ, робко нагнув голову, а вышагивают во весь рост, видимо наслаждаясь, когда пугают графов и маркизов своей грязью, запахом своего немытого тела, своей бранью, которая день ото дня становилась все откровеннее и грубее.
Климат Парижа был и зимой мягким и теплым, однако зима 1788 года выдалась необычайно жестокой. Сена замерзла по всему течению до самого Гавра.
По счастью, Глашенька неустанно заботилась о сохранности соболей и чернобурок своей хозяйки, и в эту зиму Марии откровенно завидовала даже графиня д'Армонти, известная роскошью и элегантностью нарядов. Остальные русские, привыкшие к мягкому климату Парижа, тоже мерзли — все, кроме Симолина, который в особенно морозные дни напяливал на себя несколько фуфаек да еще развешивал по окнам спальни три-четыре локтя зеленого фриза, твердя: «Этот мороз, видно, полагает, что мне не из чего нашить себе фуфаек. Я докажу ему обратное». Еще он говорил: «Бог посылает стужу лишь для нищих или дураков, а те, у кого есть чем согреться и во что одеться, от холода страдать не должны».
Рождество справили совсем по-русски: Симолин велел переставить свою карету на полозья и, заезжая за всеми посольскими, забирал их вместе с женами и возил кататься с гор. Лепили снежных баб, играли в снежки, согревались блинами, горячим сбитнем и водкой. Очень много веселились… Корф, конечно, всегда был занят, да если бы и нет, то какой с него прок? Мария любовалась заиндевелыми вершинами каштанов и лип, которые искрились и сверкали в морозном голубом небе, словно посеребренные. Вокруг лежали нетронутые россыпи жемчугов и бриллиантов… однако что толку от них бездомным и голодным. И Мария, несмотря на радость от «настоящей русской зимы», умерила свои восторги, узнав, что каждое утро в закоулках находят обмерзшие трупы несчастных, у которых не было чем согреться в эти черно-белые, леденящие тело и душу ночи. Потом стало известно, что король из собственных средств покупает дрова для народа. Положение немного улучшилось, и бедные люди воздвигли напротив Лувра снежный обелиск в благодарность Bon Roi. Все парижские стихотворцы сочиняли надписи для такого редкого памятника, и лучшая из них такова:
Мы делаем царю и другу своему Лишь снежный монумент; милее он ему, Чем мрамор драгоценный, Из дальних стран за счет убогих привезенный.Это было последним всплеском верноподданнических чувств народа, которые иссякли прежде, чем весеннее солнце растопило монумент.
В королевской казне при растущем дефиците почти забыли, как выглядят деньги. Налоги на привилегированные сословия не решался ввести ни один министр, ни один советник; налоги на простой народ уже не давали ничего: нельзя добыть воды из пустого колодца… кроме грязи, оттуда ничего не зачерпнешь! Все знали: за двенадцать лет правления Людовика XVI государственный долг страны стал равен одному миллиарду двумстам пятидесяти миллионам франков. Кто и на что израсходовал эту астрономическую сумму, если бедняки надрывались по десять часов в сутки за пару су?! Ответ у народа был один: королева.
Какой герой в венце с пути не совратился? Кто не был из царей в порфире развращен? —цитировал Симолин трагедию Княжнина «Вадим Новгородский». Однако, похоже, обобщения подобного рода не могли бы успокоить потрясенную французскую нацию. Теперь ясно, почему хлеб дорожает, а налоги растут: потому что австриячка-мотовка приказывает целую комнату в Трианоне облицевать бриллиантами, потому что она тайно послала своему брату Иосифу в Вену сто миллионов на войны, потому что она своих любимчиков, и прежде всего ненасытную Жюли Полиньяк, сменившую прелестную и скромную княгиню де Ламбаль, щедро одаривает пенсионами, подарками и теплыми, доходными местечками. Вот кто виновник финансовой катастрофы! И новое прозвище королевы — Madame Deficit, Мадам Дефицит, — заклеймило ее чело покрепче, нежели две буквы V — плечи графини Ламотт.
Лето принесло стране немного облегчения! 13 июля, как раз накануне жатвы, выпал страшнейший град, уничтоживший урожай этого года, который прежде пострадал от засухи. На 60 лиг вокруг Парижа почти все посевы погибли. Значит, ко многим прочим бедам добавился еще неурожай и грядущий голод. А голод означал мятежи…
Один министр финансов сменял другого, однако худосочие королевской казны оставалось хроническим. Нужен был новый министр, уже угодный не королю, а — O tempora! O mores! [206] — этому таинственному, неизвестному и опасному существу — народу. И вот в августе 1788 года королева призвала к себе в личные покои известного финансиста Неккера и упросила его принять опасный пост.
4 августа, в этот достопамятный день, Симолин приехал в дом Корфа в скособоченном парике и сообщил, что на улицах начинается буйство. На площади Дофина летали ракеты и петарды. У подножия статуи Генриха на Новом мосту жгли соломенные чучела. Толпа так неистовствовала, что городская стража дала залп в воздух, однако и он не смог заглушить рева толпы: «Да здравствует Неккер!»
— Ну что ж, поживем — увидим, — умиротворенно усмехаясь, проговорил Симолин, вполне успокоившийся после чашки чаю (пристрастие к этому английскому напитку сделалось в Париже почти всеобщим), и взял Марию за руку. — Знаю только одно — народ есть острое железо, которым играть опасно. Да Бог с ним. Вы-то как, душа моя?
Мария несколько деланно улыбнулась, как бы невзначай отнимая у Симолина руку, прежде чем он заметит, какая она холодная и влажная. Однако Иван Матвеевич озабоченно насупился:
— То в жар, то в холод, как я погляжу? Чесноком врачуетесь ли?
Симолин полагал чеснок чудодейственным средством от всех болезней, тем паче — от простуды, и Мария с того самого дня, как в конце зимы застыла на масленичном санном катании, при каждом посещении Ивана Матвеевича выслушивала повторяющийся слово в слово совет, что надобно два зубчика чеснока истолочь, капнуть теплой водички, положить в сей раствор несколько махоньких тряпочек, дать им полчаса настояться, а потом вкладывать такие тряпочки в ноздри — и чихать, пока вся хворь не выйдет, а в голове не прояснит!
Мария покорно чихала — и месяц, и другой, и третий и пила всевозможные отвары, настойки и снадобья, что на русский народный, что на аптекарский, научный, французский манер, но вот уж и лето шло к исходу, а периоды кратковременного улучшения все так же чередовались с более длительными, когда не только хворь не выходила, но и, что гораздо хуже, в голове не прояснялось. Дни она проводила в подобии полусна, когда постоянно хотелось приклонить голову, а исполнение неизбежных светских обязанностей стало подлинной мукою.
Ночами ее донимали кошмары, из которых особенно часто повторялся один: Мария спускалась в подземелье, куда вело множество крутых ступеней, темнота кругом страшная; густой сырой воздух забивал дыхание. В этом подземелье Мария искала Корфа: он спустился сюда несколько дней назад, но факел его угас, он бродит где-то в лабиринте, тщетно ищет выход… может быть, уже лежит мертвый, глядя во тьму остекленевшими глазами, словно и после смерти пытаясь найти проблеск света… спасительный выход!
Мария пробуждалась в приступе неистового ужаса, вся в ледяном поту, со слезами на глазах, с именем Корфа на устах, с болью неутихающей, бесполезной, никому не нужной любви в сердце… чтобы перейти к дневной маяте, когда все качалось и плыло вокруг; в комнате, бывало, все время толклись незнакомые люди, заглядывали Марии в лицо с выражением то сочувствия, то угрозы, то глупо хихикали, точно слабоумные… потом оказывалось, что никого не было, Глашенька, заливаясь слезами, божилась, что никогошеньки, ни души… Или Глашенька врала — да зачем ей врать?! — или Мария медленно сходила с ума.
В дни, когда наступало просветление — бывали и такие дни! — она думала об отце, которого не знала, не помнила, о графе Строилове, который, по рассказам матери, отличался болезненной, ненормальной жестокостью; она думала о своей бабушке по материнской линии, Неониле Елагиной, изнуряемой страстью к отмщенью до того, что в уме повредилась и даже с родной дочерью своей была изощренно немилостива… Уж не унаследовала ли Мария безумие своих предков, которое проявлялось теперь в ней, оживленное страданиями душевными и телесной хворью?
Странно — никакого особенного ужаса при этой мысли она не испытывала. Как если бы болезнь или безумие были некой силою, пред которой нельзя не склониться: что толку противиться превосходящим силам противника, когда отбиваться нечем? Как писал перед смертью великий Монтескье: «Я человек конченый, патроны расстреляны, свечи погасли».
Ну вот и возникло, оформилось в голове Марии это слово — смерть, — но и оно не напугало ее в том вялом состоянии, в каком она теперь почти беспрерывно находилась.
Однако бывали и просветления. Как-то раз Глашенька несла своей барышне (она и по сю пору оставалась для русских слуг барышней, а холодное, чужеземное слово «баронесса» ими как бы и не выговаривалось) стакан с горячим целебным отваром, изготовленным по какой-то новомодной французской методе, — стакан столь горячий, что, едва войдя в спальню Марии, она почти уронила его на табурет, стоящий у двери, и даже заплакала, дуя себе на пальцы. В ту же минуту стакан лопнул, распался на две ровные половинки — верно, Глашенька неосторожно стукнула его, — все варево вылилось и с забавным шипением, напоминающим ворчание, быстро впиталось в неструганые доски.
Мария мгновение смотрела на табурет изумленно, а потом зашлась в мелком, почти беззвучном смехе. Глашенька быстро перекрестилась, глядя на нее.
— Знаешь, что я вспомнила? — с трудом прорвался голос Марии сквозь неуемный смех. — Когда ехали сюда… ну, из России ехали! — В Вормсе [207] мы с графом Егором Петровичем зашли в ратушу… — Мария вдруг забыла, о чем говорила, и несколько мгновений напряженно смотрела на табурет, от которого приятно пахло мокрым деревом. — Как в бане! — Она опять захихикала, а Глашенька опустила голову, скрывая слезы, вдруг ручьем хлынувшие из глаз.
— Да ну, какая ерунда! Ну, сделаешь другое питье, стаканов, что ли, мало? — удивилась Мария. — О чем это я… ах да! Старая ратуша в Вормсе! Как раз там император Карл V со всеми своими князьями судил Лютера [208]. — Она так старалась удержаться на стрежне своих воспоминаний, что говорила теперь вполне связно. — И нынче еще там показывают лавку, на которой стоял стакан с ядом, для него приготовленным. Божьей милостью он лопнул на мелкие кусочки, яд пролился. Это было, было… в 1521 году! — Мария захлопала в ладоши, радуясь, что вспомнила дату — с ними она всегда была не в ладах. — И вообрази только, Глашенька! Досужие путешественники вырезали по кусочку от того места, где стояла отрава, и почти насквозь продолбили доску. Я тогда спросила, неужто для кого-то значимы столь невзрачные сувениры, как щепочки, но меня уверили, что яд сей очень долго сохраняется, и, возможно, кто-то из путешественников даже отравил такой щепочкой своего соперника или соперницу. И современные химики смогли даже распознать его состав. Мне рассказывали… это… я помнила, а теперь забыла! Забыла! — И она зарыдала, зашлась в слезах, столь же бессмысленных, как давешний смех, и столь же изнурительных. Глашенька насилу ее успокоила!
Потом пришел Данила, поднял свою барышню на руки, поразившись тому, как она исхудала и обессилела, понес в кровать. Голова Марии лежала на его плече, слезы все еще текли из-под полуприкрытых век. Все расплывалось и дробилось в ее глазах, опять какие-то фигуры мельтешили… будто бы даже Корф встал вдруг на пороге — мрачный, со скрещенными на груди руками, окинул комнату взглядом — и тут же исчез за шторой. И Мария опять тихонько заплакала — на этот раз от того, что это был всего лишь призрак…
* * *
Призрак, впрочем, оказался навязчив. Проснувшись в полночь (ее всегда будили в это время громкие, тягучие удары на башне старого монастыря в квартале от дома Корфа), она без всякого удивления, а даже с радостью вновь увидела барона: он стоял, склонившись над табуретом, и внимательно его оглядывал. Потом блеснул стилет, раздался слабый треск, и Мария отчетливо увидела в руке мужа щепочку, отколотую от злополучного табурета, — в точности так, как если бы это был не табурет, а знаменитый стол в старой ратуше в Вормсе, выщербленный любителями сувениров. Мария приподнялась — в ту же секунду призрак исчез, только шторы колыхнулись, Мария крепко задумалась, способно ли бесплотное тело колыхать тяжелую ткань, да и заснула.
Утром голова у нее была вполне свежая. Еще в полусне вспомнила, как странно вел себя ночной призрак, приподнялась, взглянула на дверь — и чуть не ахнула: табурета там не было. Ни со щепкой отколотой, ни без щепки — не было вовсе!
Вошла Глашенька — и едва не упала, увидев оживленное лицо своей барышни, услыхав ее бодрый голос:
— А где табурет?!
Не скоро сообразив, о чем речь, Глашенька пролепетала, что табурет сломался и его с утра сожгли на кухне в печи.
— В печи? — встрепенулась Мария. — А что сегодня варили? Что на завтрак?
Глашенька замерла. Она не верила своим ушам! Вот уж добрый месяц заставить барышню проглотить хоть кусочек сделалось почти непосильной трудностью. Каждое утро Глашенька приносила ей тарелку с кашей, умоляла съесть хоть ложечку, — и в конце концов печально съедала кашу сама, подсаливая ее горькими слезами. И вот сегодня она даже не внесла поднос с завтраком в спальню, оставила за дверью, не надеясь, что барышня поест, а она-то, она!..
Глашенька птицей выпорхнула из спальни, схватила со столика поднос, потом поставила, чтобы поднять салфетку, которая почему-то свалилась на пол, потом уронила ложку, кинулась в столовую, взяла чистую, опять схватила поднос, удивленно уставилась на кашу, в которой появились какие-то красноватые пятна, но решила, что пенки перепеклись (кашу и во Франции старались варить по-русски, держали в духовке, пока не упреет). Она вновь вбежала в спальню, но аппетит у Марии к этому времени пропал столь же внезапно, сколь и появился, зато проступило такое неодолимое желание немедля уснуть, что она едва успела пробормотать:
— Не хочу. Съешь сама! — и провалилась в сон, как в самую мягкую перину на свете.
Ей снились матушкины письма: Елизавета писала часто, едва ли не каждую неделю. И за те трое суток, которые Мария проспала почти без просыпу, она как бы мысленно прочла все ее последние письма, которые по хворости своей едва проглядывала. И во сне она то плакала, то смеялась, потому что Алешка-меньшой теперь почти не возвращался из Сербии, сделавшись советником какого-то Георгия Карагеоргиевича, решившего наконец избавить свою страну от иноземного владычества; еще было написано, что Алексей Михайлович беспрестанно курсирует между Нижним Новгородом и столицами, вечно занятый своими неотложными государственными делами, связанными с успехами и неуспехами русской дипломатии на Балканах; что сама Елизавета скучает — ведь никто из ее детей не позаботился подарить ей внуков, а без детских голосов в любавинском огромном доме пусто, — и вот, от нечего делать, она стала записывать многочисленные и подчас невероятные приключения своей жизни, создавая мемуары на манер Ларошфуко, Таллемана де Рео или хоть Никон де Ланкло. Вообразив свою очаровательную матушку склоненной над пачкой белых бумажных листов, с гусиным пером в запачканных чернилами пальцах, Мария рассмеялась сквозь сон — и открыла глаза, чувствуя себя как никогда бодрой и сильной.
Какая-то согбенная старушечья фигура при ее первом движении порскнула с кресла и проворно выскользнула за дверь: верно, ночная сиделка, увидев, что больная проснулась, побежала за Глашенькой. Что-то было знакомое в этой сиделке, но она больше не появилась, и Мария позабыла про нее.
Вместо Глашеньки в комнату вошел Данила с подносом в руках и пожелал барышне доброго утра, Мария накинулась на еду с аппетитом неуемным, съела все до крошки, запив изрядной порцией кофе; а затем с помощью Данилы проследовала в туалетную, где кое-как сама помылась, недоумевая, что же нейдет ее расторопная горничная. Данила переменил постель, и Мария, переодетая во все чистое, вновь возлегла на перины и подушки, хотя с гораздо большим удовольствием отправилась бы сейчас на прогулку в Булонский лес.
— Да где же Глашенька? — вскричала она нетерпеливо — и осеклась, увидев, что перед нею стоит совсем не тот франтоватый, разбитной волочес, с восторгом офранцузившийся именно в той степени, чтобы сделаться забавным резонером с вечно живой склонностью к чисто русскому самоедству, — а совсем другой человек, постаревший лет на десять, с тяжелыми морщинами у рта и печальными, ввалившимися глазами.
Поглядев в них, Мария задрожала, словно груди ее коснулось ледяное острие шпаги, и спросила, едва совладав с голосом:
— Что… что-то с Димитрием Васильевичем? Он болен?! Ну! Говори же!
Данила заморгал:
— С господином бароном, а что с ним может быть? С ним ничего, жив да здоров. Переживает только очень. И я вот… переживаю, — он всхлипнул.
— Да говори же, говори! — Мария вцепилась в его руку, затрясла нетерпеливо. — Что случилось? Не томи!
Данила, не совладав с собой, расплакался в голос, и Мария едва смогла разобрать его слова:
— Глашенька умерла. В одночасье! Уже и похоронили…
* * *
Спустя неделю Мария стояла в библиотеке у высокого окна и сосредоточенно смотрела, как дождевые струйки бегут по стеклам. После изнурительной засухи небеса расщедрились на ливни, и хотя урожай, наверное, было уже не спасти, трава, цветы и деревья упивались изобилием влаги. Поникшие стебли распрямлялись, съежившиеся листья наливались свежестью, ветви деревьев поднимались — все оживало в природе. И только мертвых не воскресить!
Мария столько слез уже выплакала, что сейчас глаза ее остались сухи.
В горле першило от горя и отчаяния, по спине пробегал холодок — она отошла к камину и склонилась над огнем, тщетно пытаясь согреться. Не сырость, не слабость в еще не совсем оздоровевшем теле, даже не печаль вызвала в ней этот озноб, нет — отчаяние и страх!
Ужас затаился в доме. Часть прислуги ушла, часть уйти собиралась.
Почему-то смерть Глашеньки напугала всех, и у Данилы порою тряслись от страха руки. Он первым проговорился, что внезапная кончина Глашеньки напоминала отравление, а паническое бегство прислуги только подтвердило его слова.
Но кому нужна была смерть безвинной горничной, со всеми доброй, милой, приветливой? Кому помешала Глашенька?
Мария снова и снова возвращалась к этому в разговорах с Данилою, а он все трясся, и отмалчивался, и отводил глаза, но как-то раз Мария заметила, что он украдкой отведывает всякую еду и питье, которые приносит ей, а ночью дремлет в кресле у ее кровати, — и осенила страшная догадка: Глашенька-то умерла, съев ее завтрак! Глашенька приняла смерть чужую, предназначенную другому человеку! Предназначенную ей, Марии!
И теперь казалось: она всегда знала о том, что смерть искала именно ее.
Это болезненное безумие, это равнодушие… чем, интересно знать, ее опаивали, чтобы постепенно свести на нет трепет жизни? Брошенный в печку стул, на котором лопнул стакан с ядом, — Мария не сомневалась, что питье было отравлено… Каша, предназначенная для больной, содержала более сильную дозу яда, — возможно, убийце надоело ждать. Или отравитель испугался разоблачения? Но с чего вдруг? Как можно было принять всерьез полубредовый рассказ Марии о разбившемся стакане Карла V?
Нет, не так надо ставить вопрос: кто мог принять этот рассказ всерьез? Кто слышал его, кроме Глашеньки?
Она вспомнила мрачную фигуру со скрещенными на груди руками: вспомнила треск щепочки, отколотой от стула, пропитанной ядом… Призрак Корфа! Призрак? А кто приказал сжечь почти новый табурет, уж, наверное, не слуга своевольно это сделал: и не призрак какой-нибудь, лишь сам хозяин дома.
Мария замерла, не замечая, что жар камина опаляет ей щеки, и вдруг сказала — нет, громко, отчаянно выкрикнула:
— Не может быть? Это не может быть он!
И тут же бросилась к окну и прижалась пылающим лбом к прохладному, влажному стеклу.
Не может… да почему, почему не может? Что ж тут такого, Корфу осточертело его межеумочное положение брака-безбрачия; осточертело, что Симолин все чаще попрекает его пренебрежением к жене, которая почти открыто изменяет ему да еще, вдобавок ко всему, стала весьма бесцеремонно вмешиваться в его дела. Вот и решил развязать себе руки… сжечь очередную занавеску!
Мария нервно прошлась по библиотеке и снова остановилась у камина. Эти догадки не зря бросают ее в дрожь: они позорны и отвратительны. Не может быть, не может быть такого, и не только потому, что человек, который жизнью рисковал в сражениях за честь и славу родной земли, не станет марать своих рук подлым убийством женщины, жены — пусть и немилой, пусть и распутной! Лицо Димитрия Васильевича встало перед взором Марии: ледяные черты, ледяные глаза; ледяной голос зазвучал в ее памяти. Да разве можно высечь огонь из этой глыбы льда, из этого айсберга, как называет его Сильвестр? Разве способно это воплощение равнодушия к такой вспышке страсти?
Мария усмехнулась. Ее логика оскорбительна для нее же, но не столь невыносима, как подозрения. Но если она обеляет Корфа, то кого же следует очернить? Трудно вообразить, что один из подручных Эрлаха с берегов Тунского озера приехал в Париж и нанялся в особняк Корфа, чтобы расправиться с той, которая разоблачила предателя. Да и переодетой в судомойку баронессы д'Елдерс Мария тоже не видела в своем доме… Снова тетушка Евлалия? Она все еще в Париже: княгиня де Ламбаль не оставила ее своим покровительством, несмотря на позорное разоблачение. Но Евдокии Головкиной теперь никакие завещания не помогут разбогатеть, так что зачем так изощряться, травить Марию? Из мести, что «племянница» сорвала ее планы? Безнадежно запоздала эта месть, смешно и предполагать такое. Так же смешно думать, будто кто-то решил отомстить Корфу, убив его жену. Кажется, всем известно, что она для барона ничего не значит. Вот если бы он лишился Николь…
Мария несколько раз кивнула, скользя невидящим взором по корешкам книг.
Николь! Что, если это — Николь? У нее есть и причины, и возможности. А может быть, она лишь исполняла волю Корфа — или даже его невысказанное желание? Все это так ужасно, так отвратительно… И не спастись, тогда уж не спастись…
Взор Марии прояснился, наткнувшись на знакомые слова на книжном корешке: «Тристан и Изольда».
«Тристан и Изольда»! Роман, с которого начались все ее злоключения: Мария вцепилась в книгу с такой же ненавистью, с какой вцепилась бы в лицо убийце Глашеньки, вытащила том, размахнулась швырнуть в огонь, да не успела: из образовавшегося на книжной полке проема выпала какая-то коротенькая палочка, заостренная на конце и оперенная, точно стрела.
Мария подняла ее. А ведь это и впрямь стрела. Да какая старая, старинная, будто из музея. Ей лет сто, не меньше. Сокровище былых времен! Оперенье-то почти все повылезло, однако заостренный кончик, выкрашенный в темный цвет, еще вполне может поразить до крови.
Мария сосредоточенно поскребла ногтем краску, послюнила палец, потерла — на нем осталось темное пятнышко, а стрела так и не отчистилась.
Почему Корф прячет ее здесь?
Ну, это его дело, надо убрать стрелу на место. Она попыталась затолкать находку туда, где она только что лежала, но стрела все время выпадала оттуда — и вдруг…
— Брось ее в огонь! — послышался свистящий шепот.
Мария обернулась. — Николь? Что ты говоришь? И что ты… — Она запнулась. — Что это у тебя в руках?
— Нож, разве не видишь? — усмехнулась бывшая горничная. — И я ударю тебя им, если ты не бросишь стрелу в огонь!
— Ударишь? — переспросила Мария как бы в полной растерянности и положила стрелу на каминную полку, исподтишка наблюдая за Николь.
Как всегда в минуты опасности, Мария обрела спокойствие и ту особую цепкость взгляда, которая позволяла ей видеть как бы разом все вокруг. И сейчас она заметила, что Николь держит свой нож с искривленным лезвием — он действительно имел устрашающий вид — несколько театрально, с замахом сверху, так, что острие было направлено как раз в ее сторону. Итальянец, обучавший Марию метать ножи, наставлял ее держать оружие так, чтобы рукоять была внизу, а лезвие вверху, бить снизу, резко — тогда удар приобретает убийственную силу.
— Ну, и к чему все это? — спросила Мария, осторожно подвигаясь к Николь и примеряясь ловчее выхватить нож, но француженка расхохоталась:
— Не старайся. Тебе уже все равно.
— А ты не боишься говорить так громко возле этого камина? — усмехнулась Мария, но тут же до нее стал доходить смысл последних слов Николь. — Что это значит? Почему мне все равно?
Николь засмеялась. Это был нервный смех — с глубокими и частыми придыханиями, напоминающими всхлипывания, и Марии сделалось не по себе. Николь не радовалась — она была на грани истерики. В смехе ее звучало безумие — вот что пугало больше всего, а вовсе не этот театральный нож.
— Его нет дома. Не жди, что он придет на помощь! Сегодня мне повезло. Тебя никак не взять… крепкая… Твоя дура горничная… вместо тебя… но я знала, что ты возьмешь эту книгу. — Николь так резко оборвала смех, словно свечу задула. — Думала — за какую спрятать, чтобы наверняка, но уж эту ты не могла бы не взять, правда? «Тристан и Изольда»! Я помню, помню… — Она задохнулась, и Мария поняла, что опять поступила именно так, как от нее ждала Николь. В который уже раз в жизни!..
Но что за бред? Зачем Николь непременно было нужно, чтобы она взяла эту стрелу? Впрочем, она знает, зачем! Мария со страхом взглянула на темные пятна на пальцах, которыми терла «краску» на конце стрелы, ощутила терпкий, горьковатый привкус на губах, — и невольно прикрыла глаза, покачала головой…
Значит, все-таки Николь… Догадка была верна — да что толку? Поздно. Неужели… сейчас умереть? А как же месть? Как же клятва? Ну уж если Корф восемь лет исполняет свою клятву, то и Мария как-нибудь сдержит свою, сколько бы мгновений жизни ей ни оставалось!
Она открыла глаза и постаралась посмотреть на Николь со всем возможным спокойствием:
— А что это за музейная редкость? Эти стрелы достались тебе от твоих предков-дикарей?
Эта была жалкая попытка съехидничать, и Николь отмела насмешку презрительным пожатием обнаженных плеч. Только теперь Мария обратила внимание, что на ней прекрасное платье багрового цвета, цвета крови; бриллианты сверкают; черные и красные цветы в прическе — Николь вырядилась, как на бал. Ну, еще бы — такое торжество предстоит! Хотя… Это еще как посмотреть…
— Я давно знала, что в Королевской библиотеке, в музее, хранились две стрелы диких индейцев, смазанные таким сильным ядом, что он не теряет свою силу и через сто лет. Если уколишь ими кого-нибудь, то скоро… оцепенение и смерть… Мне удалось за большие деньги сделать так, что одну стрелу украли. И если раньше тебе помогал пернак, то сейчас не поможет ничто! От этого яда нет противоядия. Через несколько минут ты умрешь.
— Через сколько минут? — спросила Мария, с ужасом почувствовав, что язык отказывается служить ей.
— А что, уже надоело ждать? — усмехнулась Николь, поигрывая ножом. — Ты еще успеешь положить стрелу на место. И поставить книгу… «Тристан и Изольда»! Тристан и…
Она не договорила. Мария, словно в задумчивости, взяла книгу и с силой швырнула тяжелый том в Николь.
Она не промахнулась! Острые углы переплета вонзились в щеку сопернице. Та вскрикнула от боли, и, не выпуская кинжала, невольно вскинула к лицу руки; кривое лезвие чиркнуло по ее шее, как раз над ключицей… как раз там, где билась, гневно пульсировала переполненная злобной кровью яремная вена.
* * *
Николь опрокинулась навзничь, а Мария еще какое-то время изумленно смотрела на нее. Кровь хлестала из раны, заливала плечи, грудь. Николь уже вся была залита кровью, такой же темно-красной, как ее платье.
Повинуясь какому-то безотчетному чувству, Мария упала рядом с Николь на колени и пальцами прижала перерезанную вену.
Кровотечение отчетливо уменьшилось, лишь тонкая струйка сочилась из раны, а когда Мария прижала к ней платок, то и вовсе почти прекратилось, но это была лишь кратковременная отсрочка, Мария знала… знала и Николь, которая открыла глаза и посмотрела в склоненное над ней лицо испуганно и зло.
— Ничего, ничего, — прошептала она, — тебе тоже… уже скоро.
Мария кивнула. Ей было невыносимо видеть умирающую Николь; никакого удовлетворения свершившейся местью она не испытывала, чувствовала лишь раздирающую сердце боль. Почему? Из-за того, что умирает та, с которой была неразрывно и причудливо связана жизнь Марии целых восемь лет? Ах нет, не это! Николь умирает, и, узнав об этой смерти, Корф придет в отчаяние; но разве достанет у него хотя бы одной-единственной слезинки для жены, если он все прольет их над гробом любовницы? Вовсе не Николь, а себя жалела сейчас Мария… Ну что ж ты создал сердце человека таким горячим и живым, о Господи!
Николь вздрогнула всем телом, и Мария с тревогой взглянула в ее бледное лицо, решила что это — агония, но нет — это был всхлип: слезы лились из глаз Николь так же неудержимо, как прежде кровь из смертельной раны.
— Чем я тебе помешала? — с укором спросила Мария. — Зачем ты все это затеяла? Разве плохо тебе жилось? И так все вышло по-твоему: и деньги получила, и он… все равно он был твой!
— Мой? — злобно прохрипела Николь. — Да никогда не было этого! Он возненавидел меня с той первой ночи, еще в России… Но он же дал тебе клятву! Лучше бы он прогнал меня, чем терпеть такое. Я же видела, что с ним делалось от ревности, от страха за тебя. Он проклинал себя, тебя, меня… Я хотела… я думала, если не будет тебя…
— Что ты наделала?! — раздался крик, исполненный такого ужаса, что Мария вздрогнула и невольно отдернула пальцы, зажимавшие рану Николь. И кровь, сдерживаемая ее пальцами, в одно мгновение была вытолкнута таким мощным толчком сердца, что тело Николь изогнулось в судороге; глаза закрылись, и она замерла навеки.
Мария тихо ахнула от страха — и тут же руки Корфа подхватили ее, стиснули, но отнюдь не в нежных объятиях.
— Зачем ты это сделала? Ты убила ее, ты все испортила!
Он тряс Марию, как куклу. И вдруг что-то вроде изумления промелькнуло на искаженном яростью лице Крофа, когда она одним рывком разомкнула его руки, высвободилась — казалось, без малейших усилий — и отпрянула, пристально глядя на него. О, все-таки он способен на сильные страсти, этот ледяной барон, Мария его недооценивала! Сейчас минует первый припадок гнева, он отдастся скорби над трупом Николь. Ну что ж, надо успеть все сказать ему прежде, чем перед ним будет два трупа.
— Утрите свои слезы! — презрительно бросила Мария. — Я тут ни при чем. Это ее Бог покарал. За смерть Глашеньки, за предательство вашего курьера, — она следила за ним! — за то, что она медленно убивала меня… но это неважно! Да, вы потеряли ее, но у меня есть для вас приятные новости. Видите эту стрелку? — Мария взяла ее с камина, повертела в руках и вскинула брови, увидев, как побледнело лицо Корфа, какой ужас отобразился на нем, как он рванулся выхватить стрелку из ее рук. Но Мария отпрянула, оказавшись проворней.
— Вижу, вы понимаете, что это такое. Николь своего добилась. Видите? — Она показала ему свои запачканные темным ядом пальцы. — Думаю, не пройдет и пяти минут, как вы станете свободны.
Корф вздохнул, но не сказал ни слова — у него перехватило горло, а Марии показалось, что он вздохнул с облегчением.
— Вы мне не верили ни дня, ни минуты! — закричала она в отчаянии, и слезы хлынули у нее из глаз. — Вы отталкивали меня! Это вы виноваты во всем!
Она рыдала, оплакивая свою попусту загубленную жизнь. Лицо Корфа было неразличимо за пеленою слез. Вдруг он покачнулся, и Марии показалось, что барон сейчас повернется и уйдет, оставив ее умирать в одиночестве.
Да что же он все не действует, этот яд?!
И, желая лишь одного: умереть сейчас, сию минуту, немедленно! — она принялась колоть себя стрелкой в руку, каждый раз вскрикивая от боли, но испытывая почти счастье при мысли, что страдания ее наконец прекратятся.
Корф бросился к ней, стиснул, вывернул руки, вырвал стрелку — и с ужасом уставился на ее окровавленные запястья. Мария рванулась было, да сил ее уже не хватило, а потому она только уткнулась лицом в его грудь и заплакала тихо, как маленькая обиженная девочка.
— Я люблю вас до смерти, всегда любила, — пробормотала она. — Это я все делала нечаянно… от горя… простите меня!
Мария чувствовала, как набухают веки; она всегда дурнела от слез, — лицо покрывалось красными пятнами, отекало… И она зарыдала еще пуще, представив, какой уродиной сделается в смерти… Николь-то удалось остаться красивой!
Корф отстранился от нее и сделал какое-то резкое движение руками. Мария быстро вытерла глаза — и вскрикнула от ужаса: он вонзил стрелку в свое запястье. Мария не могла вымолвить ни слова, она лишь смотрела в его осунувшееся, безмерно печальное лицо.
— Я люблю тебя, Мария, — сказал он тихо. — Люблю безумно. Все, что я сделал, я сделал в этом безумии. Я сам выковал счастье и горе своей жизни… это ты мое счастье и горе. Я во всем виноват, но теперь уж поздно каяться. Времени осталось чуть… только чтобы поклясться тебе: с той самой ночи в Петербурге я не прикоснулся к Николь, я платил ей, как платят в театре актрисе, — и она хорошо играла свою роль. Я хотел ранить тебя каждый день, но я сам был весь изранен ревностью и недостоин счастья… но Бог милостив: мы умрем вместе.
— Зачем? — пролепетала Мария.
— Зачем мне жить без тебя? — прошептал Корф, и губы его сомкнулись с губами Марии.
Голова у нее закружилась, и она упала бы, если бы Корф изо всех сил не прижал ее к себе. Но и его, верно, уже не держали ноги; не размыкая объятий, они опустились на колени, словно давая клятву перед Богом… давая последнюю, предсмертную клятву своими поцелуями, в которых сейчас была одна лишь любовь, наконец-то обретенное ими сокровище.
— М-да… — произнес совсем рядом скрипучий голос. — Какая трогательная сцена! Ну почему это не могло произойти два года назад?! Э, вечно мне не везет!
Корф и Мария, с трудом оторвавшись друг от друга, повернули головы.
Перед ними, как всегда, в черном, словно Смерть, стояла, опираясь на знакомую Марии трость, бывшая графиня Строилова… тетушка Евлалия Никандровна… Евдокия Головкина!
* * *
Корф вскочил, поднимая Марию, и они замерли, прижавшись друг к другу.
Мария с ужасом смотрела, как старая злодейка проковыляла по комнате, удостоив лишь одним брезгливым взором залитый кровью труп Николь, и опустилась в кресло у камина, затем поднесла к носу флакончик с ароматическими солями.
— Не выношу крови, — проворчала она, нюхая флакончик. — О чем бишь я? Да, о времени… Всегда опаздывала, всегда. А тут повезло. Успела!
— А завещание все равно недействительно! — проговорила Мария. — И даже если мы сейчас умрем…
— Дитя! — Евдокия театрально возвела глаза к небу. — Кураре — яд, которым смазана стрела, хранящаяся в музее Королевской библиотеки, — действует мгновенно. А ты все еще жива, и барон тоже, хотя вон, гляжу, до крови расцарапали себе руки… И кровь их смешалась! — добавила она патетически, словно произносила какую-то цитату. — Воистину, Тристан и Изольда!
Вид у Корфа был столь же ошалелый, как и у Марии.
— Кураре? — переспросил он. — Но если…
— Да! — воскликнула Евдокия. — Если вы оба еще живы, значит, это не кураре. Настоящая стрела так и лежит в музее. Николь заплатила бешеные деньги за подделку — у меня ведь есть везде свои люди, сами знаете.
Корф покраснел, как школьник, и разжал объятия.
— Отчего же вы меня не предупредили?! — возмущенно выкрикнул он.
Евдокия развела руками.
— Не успела. Клянусь! Меня задержал портной. Я ведь потеряла столько драгоценного времени, по вашей просьбе следя за Машенькой… надеюсь, ты позволишь мне называть тебя так, дорогая девочка? По старой памяти, а? Все-таки тетушка Евлалия немало пособила тебе в жизни, даже умудрилась очень своевременно заболеть в Берне, чтобы ты могла навестить ее… а синий цвет тебе был очень к лицу!
Мария заморгала — только и смогла! Так вот почему так сторонилась ее старуха в дилижансе? Вот почему так старательно прятала лицо в шалях и вуалях. Это была Евдокия. И старая монахиня на пристани в Туне… и сиделка, бросившаяся вон из спальни Марии… Евдокия следила за ней! Но почему? Зачем? И что значат эти слова: «По вашей просьбе»?
— Димитрий… — робко обратилась она к мужу. — Димитрий, я не понимаю… Вы просили ее? Зачем?
Он нахмурился.
— Видите ли, я беспокоился за вас и… не очень доверял вам. Но в том дилижансе вы встретились случайно: госпожа Головкина негласно сопровождала нашего курьера.
— Его многие сопровождали, как я погляжу, — сухо проговорила Мария. — Вы что же, и ему не доверяли?
— Он был предателем, — невозмутимо ответил Корф. — Я знал об этом с самого начала. Он работал и на нас, и на Пруссию. Кстати, выяснили мы это с помощью госпожи Головкиной — она является тайным сотрудником «Черной канцелярии» [209], и сведения, нами оттуда получаемые, не имеют цены. Вот мы и подставили негодяя англичанам. С помощью Николь… но она, разумеется, не знала, что оказывает нам услугу, а честно отрабатывала свои фунты стерлингов. Осуществить же всю операцию должны были мы с Евдокией Никандровной. — Он отвесил старухе легкий полупоклон, и та улыбнулась ему снисходительно.
— То есть — вы снова стали работать вместе? — спросила Мария.
Корф смущенно взглянул на нее.
— Мы с Симолиным не могли потерять такого прекрасного агента. Разумеется, с документами Этты Пали вы сработали блестяще, но она все-таки заметила ваше отсутствие, могла вас заподозрить. А для Евдокии Никандровны ссора с вами стала такой прекрасной рекомендацией, что англичане схватились за нее обеими руками!
— Ссора? То, что она пыталась похитить меня и вас, чтобы потом убить, — это вы называете ссорой? — прошептала Мария. — Как же вы могли…
Она осеклась, замотала головой.
Она не хочет ничего слушать! Что толку? Заранее ведь известно, что скажет Корф: интересы дела, интересы России… А жизнь — жизнь ее и Николь? Мария взглянула на уже застывшее окровавленное тело. А любовь?..
Нет. Этого нет. Этого не существует! Грош цена признаниям Корфа, сделанным им в предчувствии смерти, — ведь и заключенные под страхом смерти способны возвести на себя напраслину!
Мария взглянула на стрелку, лежащую на полу, и пожалела, что она не отравлена. Померещилось счастье хотя бы умереть любимой, да видать, это счастье не для нее.
Теперь хотелось лишь одного — оказаться как можно дальше отсюда. Скрыться! Исчезнуть! Она ринулась прочь.
Выскочила за дверь — и столкнулась лицом к лицу с Гизеллой д'Армонти.
Что она здесь делает? Зачем пришла? Подслушивала?
Но это все пустое. Главное — здесь близкий человек, в глазах которого светится сочувствие и нежность. Это сестра Сильвестра, а только он, он один во всем свете истинно любит Марию!
Она схватила Гизеллу за руку.
— Увезите меня отсюда! Поскорее! Пожалуйста.
Гизелла только улыбнулась стремительности, с какой Мария увлекла ее к выходу.
— Дорогая моя. Вы так измучены… вы так настрадались! Поедемте ко мне! Скорее! Я счастлива буду помочь вам, а мой брат… — Она не договорила, но ее улыбка, ее сияющие глаза были выразительнее слов.
Коляска у ворот. Защелкал кнут. Четверка лошадей, запряженных цугом, застучала копытами по булыжной мостовой…
Мария откинулась на сиденье, закрыла глаза, чувствуя, как слезы бегут из-под ресниц, бегут… Она не видела, что на крыльцо выбежал Корф, хотел окликнуть, позвать, вернуть — но осекся, разглядев, в чьей карете уезжает его жена.
Глава XXVI ЦВЕТ ТРАУРА ФРАНЦУЗСКИХ КОРОЛЕЙ
7 января 1789 года Людовик решил созвать Генеральные штаты — французский парламент, не собиравшийся с 1614 года. По замыслу короля и его советников Генеральные штаты должны были санкционировать новые налоги. Народу, правда, не сообщали об этих замыслах, но сам факт созыва парламента вызвал необычайное оживление, простые люди плясали на улицах Парижа, поверив, что пришел конец несчастьям.
Об этом Мария узнала из письма Симолина. Русский посол был искренне обеспокоен тем, что «король, которому принадлежит все, сам себе не принадлежит», Мария долго-долго читала первую часть письма, а взяв другой листок, начинающийся словами: «И снова на правах старого друга хочу воззвать к вашему уму и сердцу…», аккуратно сложила его и сунула в ящичек секретера. Там уж с десяток набралось таких писем — читанных лишь наполовину. Да Мария и так знала, о чем в них речь: образумьтесь, душенька Мария Валерьяновна, и вернитесь домой, на улицу Старых Августинцев! «Тетушка» Евдокия Головкина тоже писала; ее сочинения Мария швыряла в камин, даже не вскрывая печати. И письма Корфа… Наверное, Мария тоже бросала бы их в огонь, не читая, да мешало одно: отсутствие их. Не писал ей Корф, ни строки не написал за какой уж месяц!
Каждый раз, когда у дома останавливалась карета или замирал цокот копыт одинокого коня, Мария с трудом сдерживала трепет нетерпения. Но это всегда был кто-то другой, Бог весть кто! Сколько раз, заслышав быстрые шаги по коридору, Мария замирала в ожидании: вот сейчас двери откроются, ворвется он, схватит ее в объятия, осыплет поцелуями, шепча: «Люблю, люблю, люблю тебя!»
И двери открывались, и он врывался, и пытался заключить Марию в объятия, осыпать поцелуями, шепча слова любви… да не осмеливался, ибо при первом же взгляде на Сильвестра, который в дом сестры, на правах своего человека, вхож был в любое время без доклада, глаза Марии наполнялись такой беспросветной тоской, что у Сильвестра опускались руки, он сникал, будто подрубленное дерево, а графиня Гизелла только гневно раздувала ноздри своего точеного носа, ибо обязанности гостеприимной хозяйки не дозволяли ей сказать этой не понимающей своего счастья русской дурочке всего, что графиня о ней думала.
Да, Мария так и жила в доме графини д'Армонти. Гизелла уверяла, что счастлива ее присутствием, ибо иначе ей очень одиноко. Правда, где-то существовал граф д'Армонти, однако Мария его никогда не видела и только как-то раз совершенно нечаянно узнала — Сильвестр обмолвился, — что граф, бывший старше своей жены на сорок лет (ему сравнялось, стало быть, шестьдесят пять), вот уже восемь лет пребывает в своем замке где-то на Луаре, парализованный и прикованный к постели, однако вовсе не бременем возраста, ибо не такие уж преклонные были у него года, а последствиями дуэли, на которой он пытался защитить свою честь после того, как в разгар медового месяца застал у новобрачной жены своей какого-то венгерского вертопраха, с которым она пылко утоляла тоску по родине. История сия осталась тайной для света; репутация графини д'Армонти не пострадала. Она покинула мужа, являвшегося для нее живым укором, и скоро ее салон сделался одним из самых модных в Париже, что немало способствовало карьере и светским успехам ее обожаемого брата.
Узнав об этом, Мария изрядно поколебалась в своей задушевной привязанности к Гизелле. Прекрасная венгерка была так жадна до жизни, что это даже пугало скрытную, таящую свои страсти русскую. И для Гизеллы, и для ее брата существовал в жизни один идол, которому они пламенно поклонялись, — собственное желание. Достижение желаемого — сам процесс ценился не меньше, а даже больше цели, ибо наслаждаться они умели только борьбой. Им необходимо было чего-то добиваться, алкать, искать, чтобы, наконец-то схватив, впившись жадными губами, высосав сок, тотчас отвергнуть то, что лишь мгновение назад являлось вожделенным, — и, подобно пчеле, перелететь на другой цветок, окунуться в пьянящую сладость нового желания. Да нет, с пчелками-созидателями нельзя было сравнить брата и сестру, скорее с осами, шмелями или даже с шершнями, столь были они быстры, неутомимы и ненасытны.
Мария чем дальше, тем больше страшилась этой неотступной осады. Она держала Сильвестра на расстоянии — прежде всего потому, что чувства ее к нему остыли, но еще и потому, что полагала неблагородным превращать дом женщины, давшей ей приют, в какой-то maison de rendez-vous [210]. Однако Гизелла, судя по всему, ничего не имела против! И Мария всерьез задумывалась о том, что надо бы наконец съехать отсюда…
Но куда? Вернуться домой? Там ее, судя по всему, не больно-то ждали, не желали видеть. Ну вырвалось признание у Корфа, да что с того? Восемь лет платить горничной, чтобы та изображала его любовницу? Ну хорошо, он перед Марией безгрешен — значит, она грешна. Да уж какая есть!
Итак, домой возвращаться нельзя. Но не к Симолину же на бульвар Монмартр попроситься на постой! Эх, сесть бы в карету да уехать домой по-настоящему — в Россию! И Мария замерла у окна, глядя в парк, едва тронутый зеленым весенним пухом; однако видела она вовсе не парк, а Волгу, синюю шелковую ленту под синим небом, и высокий зеленый берег, весь в желтых огоньках одуванчиков, и тополиный пух, и зеленый свет в березовых аллеях; и слышала посвист ветра в вершинах тополей, и шелест золотых колосьев пшеницы, и мерный стук дождевых капель в старые бочки, стоящие по углам дома…
А лучше бы она не мечтала у окна с блаженной улыбкою на устах, не вслушивалась в эхо прошлого, а отошла к двери да прислушалась хорошенько к речи, которую повела графиня Гизелла, застав своего брата в коридоре; тот стоял, понурясь, не смея коснуться ручки двери, за которой, холодна и неприступна, оставалась та, кого он жаждал всей душой и всем телом.
* * *
Мария всегда быстро принимала решения — и еще быстрее старалась воплотить их в жизнь. На следующий же день она послала одного из слуг мадам д'Армонти на улицу Старых Августинцев с запиской, в которой просила Данилу явиться к ней, а другого — на улицу де Граммон, в посольство, к Симолину. Вскоре оба курьера вернулись ни с чем: не застали дома ни того, ни другого. Хоть Мария и подивилась тупости обоих посыльных, не догадавшихся письма оставить вместо того, чтобы нести обратно, однако делать было нечего: пришлось ждать завтрашнего утра.
На следующий день лакеи вновь были отправлены по обоим адресам; Мария, от нетерпения не находя себе места, слонялась по саду, наслаждаясь картиною весны, как вдруг увидела, что дверь бокового входа — им не пользовались, насколько знала Мария, даже слуги — распахнулась, и оттуда, согнувшись и крадучись, вышел довольно высокий молодой человек, белокурый, приятной наружности, которую, впрочем, портила несколько отвисшая нижняя губа, придававшая ему циничный вид. Впрочем, насколько было известно Марии, внешность вполне соответствовала внутреннему содержанию: промелькнувший перед нею человек был не кто иной, как Пьер Шодерло де Лакло, автор книги «Опасные связи», которая вышла в 1782 году и вызвала большой скандал в свете.
Мария отступила за куст, не желая быть замеченной. Что делал де Лакло у графини Гизеллы? Был он франкмасоном и считался одним из опаснейших людей своего времени, — очевидно, именно поэтому герцог Филипп Орлеанский взял его к себе секретарем по особым поручениям. Герцог хоть и был братом короля, однако же считался ярым его противником. Когда началась подготовка к выборам в Генеральные штаты, Шодерло де Лакло по приказу герцога составил образец наказов, которые, по обычаю, должны были составлять избиратели. По мнению людей знающих, это была настоящая бомба, способная разрушить традиционную монархию: там, к примеру, была статья, в которой говорилось, что, поскольку «все беды наций проистекают от произвола королевской власти, необходимо принять конституцию, которая определит права и короля, и нации». Ну и тому подобное. Когда об этом стало известно, Шодерло де Лакло перестали принимать в домах убежденных роялистов, а ведь Гизелла д'Армонти вроде бы именно к ним и относилась… Что же мог делать в ее доме подобный человек?
Мария задумалась — и усмехнулась. Шодерло де Лакло прославился не только своим любовным романом, но и своими любовными романами; вдобавок он постоянно имел на содержании актрис или танцовщиц и вел жизнь веселую. Не интрижка ли у него с Гизеллою? Ежели так, прекрасной графине следует быть осторожнее с этим «де Вальмоном» [211]: многие его бывшие любовницы узнали свои черты в персонажах «Опасных связей» — узнали, к своему великому неудовольствию.
Не остеречь ли Гизеллу? Но как? Непрошеный совет, говорят, хуже обиды…
Мария была слишком скромна и по-прежнему бесхитростна. Ей даже в голову не приходило, что де Лакло приходил из-за нее…
* * *
Посыльные вечером опять вернулись, не вручив писем. Дома, в России, Мария послала бы этих олухов в холодную, отведать плетей, а здесь — как быть? Все-таки чужие слуги; вдобавок в отношениях с этим сословием теперь приходилось соблюдать известную церемонность… Так и ушли бестолковые восвояси. А поразмыслив, Мария сняла с них вину: да ведь наверняка же они исполняли наказ графини, опасавшейся, что Мария вот-вот улизнет!
Ну, коли так… коли так, Гизелла слишком уж многое на себя берет — а напрасно! Это не дозволительно! Хватит Марии в самом деле пользоваться гостеприимством настырной венгерки — пора и честь знать. Завтра же съедет отсюда — хоть на постоялый двор!
Однако назавтра Гизелла совершенно ошеломила Марию.
— Чем более проходит времени, тем чаще замечаю я, что мой брат вам не по сердцу, дорогая Мария! — сказала она своей гостье.
— Я бы желала видеть его другом, а не возлюбленным. Таким же другом, каким сделались мне вы!
Гизелла улыбнулась:
— Он будет вам другом! Он все готов отдать для вашего счастья. А ведь вы несчастны, не правда ли?
Мария передернула плечами. Неужели это так явно?
— Брат не хотел этого видеть, но я решила открыть ему глаза: вы не будете счастливы с ним никогда… пока существует на свете барон Корф, ваш муж! Ведь так? Ведь так, не скрывайте!
— Что толку скрывать? Это правда.
— А если бы он погиб? Умер? — осторожно проговорила Гизелла — и тут же расхохоталась, замахала руками с притворным ужасом: Мария так и подалась к ней, гневно сверкая глазами. — Нет, нет, я не то хотела сказать! Храни Господь вашего барона! Но эта любовь вам глаза закрывает, весь мир заслоняет. Значит, нужно либо избавиться от него, либо покончить с вашими недоразумениями.
Мария снова передернула плечами. Если бы это было так просто — покончить с недоразумениями! Сейчас она ругательски ругала себя за то, что не сделала этого, когда появилась такая возможность. Со временем улеглась тяжкая обида, явление «тетушки» и примирение с нею Корфа перестало казаться оскорблением и предательством. Сильвестр, конечно, так никогда не поступил бы — так ведь оттого Мария и не любит его, Сильвестра-то, который жизнь свою и судьбу своей страны бросил к ножкам обожаемой женщины. Оттого и любит она до безумия Димитрия Корфа, для которого честь и долг — превыше любви, пусть она даже надрывает ему сердце.
Когда Мария снова взглянула на графиню, то и взор, и лик ее были ясны необычайно.
— Вы бесконечно правы, дорогая, — произнесла она с благодарной улыбкою. — Я уезжаю к мужу. Сегодня же! И буду просить его прощения, обещать… — У нее перехватило горло.
Гизелла поджала губы, покачала своей хорошенькой смоляной головкой.
— Счастье, что мой брат не слышит вас! Он был бы глубоко разочарован, услышав, что его богиня желает припасть к стопам мужлана, который столько лет пренебрегал ею.
— Я виновна пред мужем, — гордо вскинула голову Мария, — однако унижаться пред ним не намерена.
— И правильно! — горячо стиснула ее руки Гизелла. — И правильно! Здесь надо поступить умно и тонко. Вам следует встретиться как бы невзначай. Вот что, слушайте, я придумала! 27 апреля мой друг, маркиз д'Монжуа, дает бал в честь открытия Генеральных штатов. Он чуть-чуть демократ, один из друзей герцога Филиппа, однако гостей умеет принимать как никто. Насколько мне известно, — продолжала она с тонкой улыбкою, — судьба французской монархии и трещины, которые дает трон, весьма волнуют Россию. Симолин собирает сведения где может… Корф непременно придет на этот бал! Клянусь вам!
И Мария не удержалась — бросилась к Гизелле и расцеловала ее румяные душистые щеки. Снова счастье было близко, так близко! Уж теперь-то она его не упустит!
* * *
«Придет на бал» — очень точно сказано. Ибо лишь дамам, по снисходительности к их слабому естеству, а пуще того — для сбережения дорогих туалетов, — дозволялось прибыть в предместье Сен-Жермен, где находился особняк маркиза, в экипажах, — мужчинам же предписывалось непременно прийти пешком, «как все люди ходят», дабы таким обременительным для многих способом передвижения продемонстрировать свое единство с народом. Ходили слухи, будто на бал приглашен и Филипп Орлеанский, новое прозвище которого — Эгалите [212] — уже было на слуху, и, оправдывая его, он также отправится на бал пешком!
В ночь перед балом Мария улеглась в постель с тем же настроением, с каким юная дева смыкает очи в Крещенскую и Рождественскую ночь. Однако же эта ночь была самая обычная, не гадальная, а потому Марии не явился во сне Корф, отмыкающий замочек, или подающий ей воды напиться, или надевающий ей на палец кольцо — Мария вообще не видела во сне свою любовь, а снился ей почему-то Пьер Шодерло де Лакло, который с ужасным акцентом, перевирая слова, читал прекрасные и страшные стихи Державина:
Чей труп, как на распутье мгла, Лежит на темном ложе ночи?..Потом вдруг выкрикнул шутовски:
Где стол был яств, там гроб стоит! —и убежал куда-то, проворно семеня ногами и звеня подковками.
Мария проснулась. И почему-то не было в душе радостного предвкушения счастья — только страх. А вдруг Корф не придет? А вдруг придет… но не захочет примирения, отвернется от Марии? Тогда и впрямь останется одно — уезжать в Россию!..
День выдался тяжелый. Туалет, заказанный графиней Гизеллой для Марии, был прекрасен, как мечта, однако же того густо-лилового оттенка, который Мария всегда считала губительным для своей внешности. И впрямь — вид у нее в этом платье сделался трагически бледным, особенно в присутствий зелено-красно-белой Гизеллы. Но не отказываться же от любезности, не обижать же графиню еще и пренебрежением к ее вкусу…
Натерпелась Мария и с прической. Где ты, Данила? Где твои ловкие руки, твои проворные пальцы? Сегодня волосы Марии были подпалены щипцами, локоны закручены слишком туго, уложены слишком старательно — без той легкой, элегантной небрежности, которую вносил в свои творения Данила-волочес, Данила-художник. Парикмахер графини Гизеллы, надменный парижанин, судя по его виду, вполне мог прикрепить на творение свое табличку с надписью: «Я сделал все, что мог; кто может, пусть сделает лучше» — ибо был уверен, что превзойти его невозможно. Однако, глядя на свое лицо, приобретшее выражение застывшее и несколько даже испуганное, Мария не разорила сложное сооружение на голове лишь из боязни обидеть гостеприимную хозяйку. Однако же она втихомолку вытащила из прически три шпильки, отчего творение ее сделалось ниже и приняло более мягкие очертания. Мария очень надеялась, что тряска в карете довершит начатое и прическа обретет более свободную и живую форму.
Первым, кого увидела Мария, поднимаясь по лестнице и окидывая взглядом бальную залу, был Шодерло де Лакло, который тут же бросился к графине д'Армонти, не забыв поощрительно взглянуть на Марию. Желающим увидеть на балу герцога Орлеанского пришлось удовольствоваться вертлявой фигурою его секретаря, который был необычайно в ударе: его остроты слышались будто со всех сторон одновременно, он, чудилось, танцевал со всеми дамами враз, каждой успевал улыбнуться, шепнуть комплимент, для каждой — выразительно закатить глаза, прижать руку к сердцу, сделать страстную мину… Это было, впрочем, вполне кстати, ибо немалое время господин де Лакло оставался чуть ли не единственным мужчиной в сонмище раздосадованных дам: кавалеры безнадежно запаздывали, видимо не рассчитав время, необходимое для того, чтобы добраться к дому д'Монжуа столь непривычным образом. Верно, из-за их усталости и танцевали нынче вяло. Бал явно не задался, а уж когда два или три гостя явились со сбившимися париками и в перепачканной, даже изорванной кое-где одежде, в адрес хозяина и, разумеется, месье Эгалите, вдохновителя сей затеи, начали раздаваться весьма крепкие выражения: на улицах нынче было неспокойно. И — слово за слово — бальные разговоры стали мало напоминать то привычное светское злоречие, к которому все привыкли в последнее время; в разговорах проскальзывали нотки серьезного беспокойства.
— Горожане вооружаются — якобы для защиты от грабителей. Похоже, что в городе приходится по грабителю на каждого? Эти добропорядочные граждане шатаются по улицам и ревут: «Оружия! Оружия!»
— Говорят, голодные бедняки сжигают те городские заставы, где взимаются пошлины за ввоз продовольствия в Париж, и требуют хлеба.
— Я слышал, что разграбили Сен-Лазар! Какое святотатство: это ведь бывшая больница для бедных, а ныне — исправительный дом на попечительстве монахов. Там нет и намека на оружие, но есть продовольствие — его и выносят.
Более всего возмутило присутствующих известие, что долговая тюрьма Ла-Форс была взломана толпой, и преступники освобождены. Что-то странное, роковое нависло над Парижем, проникло и в эту роскошную залу…
Гостей оказалось меньше, чем рассчитывал хозяин: возможно, многие вернулись с полдороги. Не было никого и из русского посольства, Мария все глаза проглядела: не танцевала, бродила у лестницы, забыв о приличиях, об уроках гордости, которые преподавала ей Гизелла, — высматривала знакомую фигуру, чувствуя: как только появится Корф, она не раздумывая кинется ему на шею, возопит о своей любви, будет умолять о прощении…
Эта сцена так явственно вспыхивала и гасла в ее взбудораженном воображении, как всполохи огня на маяке — то озаряют все светом надежды, то погружают во тьму безнадежности. А Корфа все не было, не было… Появился Сильвестр — отвесил быстрый поклон, но не задержался ни на мгновение, лишь скользнул по лицу Марии каким-то испуганным, вороватым взглядом.
Это ее озадачило. Отошла от лестницы, глянула в простенок, украшенный большим зеркалом, — и от всей души порадовалась, что какие-то обстоятельства помешали барону явиться на бал.
Это пугало в лиловых тонах, с лицом цвета пармских фиалок, с разоренной клумбой на голове — это она.
— Милая моя, что с вами? — воскликнула графиня Гизелла, оказавшаяся рядом. — Вы ужасно выглядите!
«Не твоими ли молитвами?» — Мария с трудом удержалась, чтобы не съязвить, и выдавила из себя спасительную фразу:
— У меня вдруг голова разболелась.
— Выпейте вина! — приказала графиня, подав знак лакею. Почему-то им оказался не ливрейный хозяина, маркиза д'Монжуа, а собственный гайдук Гизеллы. У него на подносе стояли два бокала: один с шампанским, его проворно схватила Гизелла со словами: «Шампанское вам нельзя, голова еще сильнее разболится!»; другой был наполнен бургундским, Мария взяла его и выпила без всякого удовольствия. И вот тут-то у нее и впрямь разболелась голова, да так, что Мария со стоном схватилась за виски. Лицо Гизеллы приняло озабоченное выражение:
— Едем домой немедля! Он уже не придет, это понятно. Ничего, я что-нибудь еще придумаю. — И, подхватив Марию под руку, она повлекла ее к выходу, где гайдук уже выкликал карету графини д'Армонти.
* * *
Да, кажется, Париж постепенно переставал быть местом для приятных прогулок.
Дорогу бесцеремонно пересекали какие-то люди, словно бы не сомневались, что кучер предпочтет осадить карету, чем прикрикнуть на них; а ведь в былые времена еще и кнутом огрел бы… Откуда-то доносилась стрельба. Совсем недалеко от Сен-Жерменского предместья, на улице, где в ряд вытянулись лавки, что-то горело. Там вопила, неистовствовала толпа.
— Кого-то убивают… — прошептала графиня д'Армонти. — Не хотела бы я быть на месте несчастного, попавшего в логово тигра.
Мария едва слышала ее.
Гизелла высунулась в окно, что-то быстро сказала гайдуку. Тот соскочил с запяток и скрылся в проулке.
— Я послала его узнать, что там происходит, — пояснила она Марии, но та вряд ли поняла ее: разламывалась голова, нестерпимо хотелось спать.
Оказавшись наконец в спальне, она отослала горничную: противно было прикосновение чужих рук, — и стала сдирать с себя платье, да так поспешно и неосторожно, что оторвала оборку. И тут же принялась стаскивать с себя одежду, не заботясь о ее сохранности. Растрепала прическу, распустила волосы — стало легко, даже голову отпустило! — и прыгнула в постель. Да, забыла свет… приподнялась и дунула на свечу, в последний раз бросив злорадный взгляд на кучку лиловых лохмотьев на полу.
«Лиловый — цвет траура французских королей. Что за кошмарный цвет! То-то небось горюют, когда приходится его надевать! Я бы уж лучше носила черное!»
С этой мыслью она заснула, еще не зная, что отныне ей придется носить только черное: сегодня ночью она стала вдовой, ибо Димитрий Корф и оказался «тем несчастным», который попал-таки в «логово тигров»!
* * *
— Думаю, он предчувствовал скорую смерть, — сказал Симолин, нервно ломая в дрожащих руках ветку и словно бы с недоверием глядя на узкий земляной холмик.
— Во всяком случае, как-то недавно вдруг, ни с того ни с сего, обмолвился, что мечтал бы иметь такую эпитафию на своей могиле: «Qu'il ne reste rein de moi dans le monde, qua ma memoire parti mes amis!»
Мария прижала пальцы к губам, чтобы скрыть дрожь. «Пусть ничто не сохранится от меня в мире, остаться бы в памяти моих друзей!»
Это было не просто предчувствие — это было пророчество. «Только в памяти…» От Димитрия Корфа не осталось ничего в мире — даже мертвого тела, которое можно было бы омыть слезами и предать земле.
Вот что произошло в тот знаменательный вечер 27 апреля. Филипп Орлеанский, одержимый идеей уничтожения власти своего брата — короля, не слишком довольный развитием событий во Франции и жаждущий, чтобы Генеральные штаты начали свою деятельность не просто в обстановке финансовой напряженности, а в таком кровавом кошмаре, что парижане без всяких понуканий готовы будут восстать, чтобы защитить свою безопасность.
Молодчики, нанятые партией Филипа, совершили свои первые подвиги у дома богатого торговца и фабриканта Ревейона. Собрав рабочих, они стали убеждать их, что хозяин считает вполне возможным для рабочего человека прожить на пятнадцать су в день. Эти слова были встречены взрывом ненависти. Никто не дал себе труда даже проверить их достоверность. Зато очевидным для людей было другое: разительный контраст уютного, тихого квартала богачей с вонью и грязью их родного Сент-Антуанского предместья. Дом Ревейона разграбили и сожгли. Но и этого оказалось мало! Вокруг стояли другие такие же дома, и там небось тоже затаились люди, готовые повторить вслед за интендантом армии Фулоном: «Если у народа нет хлеба, пусть жрет траву!» И толпа ринулась на приступ. Для разгона бунтовщиков прибыла рота солдат. Прозвучала команда «пли»! — но не щелкнул ни один курок, раздался только сердитый стук прикладов о землю. Солдаты стояли мрачные, с искаженными лицами…
Молодой офицер, который слышал о подобных случаях, но не предполагал, что такое может произойти с его ротою, растерялся, готовый обратиться в бегство, но тут рядом с ним появился какой-то высокий человек, с таким презрением сказавший о солдатах — «profanum vulgus» [213], что, даже не поняв смысла латыни, но взглянув на его суровые черты, офицер приободрился, выхватил шпагу и пошел на врага. Рядом с ним встал незнакомец, одетый в синий шелковый камзол и причесанный так тщательно, словно собирался на бал. Часть солдат поддержала их огнем, но они были сметены толпой, а предводители схвачены.
К виску офицера приставили пистолет и предложили выбор: кричать «Vive la nation![214]» или умереть. Сквозь слезы он прокричал требуемое.
— Хорошо, хорошо! — порадовались бунтовщики. — Ты добрый француз, ступай куда хочешь. Впрочем, постой: объясни нам только, что такое нация?
Офицер растерялся. Он и сам толком не знал.
Спросили второго задержанного. Тот усмехнулся в лицо бунтовщикам и объяснил, что nation, а также «Liberte, egalite, fraternite!» [215] — это такие штуки, ради которых люди перерезают друг другу глотки. Держался он при этом вызывающе, чем возбудил всеобщую ненависть. Ему предложили для спасения жизни крикнуть: «Aristocrates a la lanterne!» [216] — вполне возможно, что сей рефрен революции прозвучал тогда впервые…
Пленник вновь издевательски усмехнулся:
— Чтобы крикнуть это, мне нужно сделаться такой же грязью, как ты, — сказал он предводителю бунтовщиков, высокому черноусому человеку с перемазанным лицом, одетому в крестьянский камзол из толстого дикого [217] полотна, давно уже утратившего свой первоначальный цвет. И все же человек этот мало напоминал крестьянина.
— Сделаться грязью? Да будет так! — выкрикнул он с ненавистью — и по его сигналу началась расправа.
Пленника, жестоко избитого, вываляли в грязи и, в упоении крича: «Aristocrates a la lanterne! Aristocrates a la lanterne!» [218] — вздернули за руки на дерево. Предводитель мятежников разрядил в него свой пистолет.
Какой-то простолюдин, крича что-то невразумительное, как сумасшедший, кинулся было на выручку, да его так отходили, что он остался в беспамятстве лежать на мостовой.
Тут наконец показался полицейский полк, брошенный на восстановление порядка. Его встретили градом камней, вывернутых из мостовей, топорами, пистолетной стрельбой…
Полиция открыла прицельный огонь. Бунтовщики были сметены и обратились в бегство. Полицейский лейтенант насчитал 130 убитых и 350 раненых. Среди последних были молодой офицер и тот самый простолюдин.
Придя в себя, он начал искать труп пленного, но узнал, что предводитель бунтовщиков под шумок приказал снять тело с дерева и бросить его в Сену, что и было тотчас выполнено.
Этим простолюдином был Данила, который, побуждаемый непонятным беспокойством, украдкой последовал за бароном, шедшим в особняк д'Монжуа. От него-то и узнали Симолин и Мария о гибели Корфа…
Этот первый бунт вскружил головы парижан: они узнали «вкус крови». На следующее утро в предместье Сент-Антуан рабочие, жившие до этого происшествия очень мирно, носили по улицам на носилках трупы, говоря:
— Эти люди хотели защитить Родину; граждане, нужно отомстить за них!
А найти тело Корфа так и не удалось. И Сена не выбросила его на берег… На месте расправы отыскались только синие шелковые лохмотья — что осталось от Корфа. Это и похоронили на маленьком кладбище близ монастыря Сент-Женевьев. Мария предпочла именно его, кладбище не было заковано в мрамор и гранит, как другие в Париже, а холмиками, поросшими травой, напоминало русские погосты. Над лохмотьями кафтана исчезнувшего хозяина был насыпан такой же холм, а сверху поставлен крест и положена небольшая плита с надписью по-французски: «Le trait el dans mon coeur» — «Его след в сердце моем». Это было правдой — единственной истиной, которую исповедовала теперь Мария.
Глава XXVII ТОЧКИ НАД i
Прошел год. Угасшая душа Марии лишь слабыми импульсами отзывалась на те глубинные толчки, которые сотрясали страну. Казалось, ничто уже более не могло задеть Марию, поколебать то состояние оцепенения, в которое она была отныне погружена, однако даже ей порою казалось, что она постепенно переселялась из Парижа в совсем другой город, а из Франции — в другое государство.
Революция во Франции свершилась, и королевская власть была уничтожена. Взятие и разрушение Бастилии, которое сопровождалось убийствами, вызывающими у нормальных людей лишь отвращение, ознаменовалось народным праздником: над окровавленными камнями Бастилии красовалась надпись: «Здесь танцуют!» Отныне глава французской монархии соглашался на все, что требовал от него народ — требовал жестоко, разнузданно и варварски. Отрубленные головы «угнетателей» носили по улицам, составлялись новые списки жертв — это было убедительным доводом! Король поневоле сделался покладистым.
«Полнейшая и беспримерная анархия продолжает приводить Францию в состояние полнейшего разрушения. Нет ни судей, ни законов, ни исполнительной власти, и о внешней политике настолько нет речи, как будто это королевство вычеркнуто из списка иностранных держав. Национальное собрание, по-видимому, раздирается на части враждебными друг другу кликами. Король и королева содрогаются в ожидании неисчислимых последствий революции, подобной которой не знают летописи» — так писал Симолин в своем донесении от 7 августа 1789 года.
Собственно, обо всем этом Мария узнавала именно от Симолина: она жила затворницей, и донесения русского посольства были единственным источником сведений о событиях в стране. Все письма теперь проходили через руки Марии: ни одно не переправлялось не зашифрованным, а этим она как раз и занималась — ибо прежде то было делом Корфа. Барон и всегда-то настаивал на шифровке каждой исходящей в Россию бумаги, ибо захват и ограбление курьеров противной стороны были в ту пору едва ли не основным средством разведки. Теперь это стало жизненной необходимостью, ибо не только в сведениях, но и в нелицеприятных оценках их содержалась великая опасность: за одно смелое или даже неосторожное слово против революции и ее вождей люди лишались жизни, и хотя граф Анри де Монморен все еще оставался министром иностранных дел, по мере сил своих пытаясь соблюдать дипломатический декорум с посольствами, руки у него были связаны таким же страхом смерти, который опутал теперь всю Францию.
Мария без труда усвоила сложную систему чисел, букв и знаков, составляющих основу шифров, и скоро это стало как бы еще одним иностранным языком, на котором, однако, можно было только читать и писать, но не разговаривать. Это хаотическое нагромождение непонятностей, от которого волосы дыбом вставали на голове у непосвященных, Мария постаралась сделать еще более сложным: Симолин писал свои донесения традиционно, по-французски — мелким, почти бисерным почерком; Марии это казалось уступкой неприятелю, поэтому она сперва переводила все на русский и только потом шифровала, превращая каждое донесение в неразрешимую загадку для всех, у кого не было ключа к этому шифру. Симолин рассказывал, что одно из таких донесений опередило курьера, везшего ключи к новому шифру, что вызвало в канцелярии Безбородко изрядный переполох; но с тех пор все улеглось, новая система шифровки была одобрена и вошла в разряд тех понятий, которые называются коротко и внушительно: государственная тайна. Так что если Симолин являлся Нестором [219] французской революции, то Мария — его пером.
Конечно, краткие строки донесений были только слабым эхом событий, громыхавших по стране. Марии довольно редко приходилось сравнивать происходящее и его описание, однако они с «тетушкой» Евдокией Никандровной сподобились оказаться 6 октября в восемь вечера близ Ратуши, куда именно в это время толпа восставших женщин привезла из Версаля короля, королеву, enfants de France [220], Monsier, Madame [221] и сестру короля, принцессу Елизавету. Все происходило как бы в подтверждение слов Мирабо [222]:
«Пока не вмешаются женщины, не будет настоящей революции».
Все началось еще вчера, утром 5 сентября, когда несколько сотен торговок, величаемых теперь «дамами рынка», рассеялись по городу, принуждая идти за собою всех попадавшихся им навстречу женщин.
Они вооружились чем попало; ворвались в Ратушу, захватили оружие и запасные пушки и с триумфом их увезли.
Уже в полдень толпа в несколько сотен человек двинулась на Версаль. Народ заявил, что требует своего короля и хлеба! Ночь прошла в сильнейшем волнении. Откровенная враждебность гвардейцев довела толпу до полного безумия. Женщины попытались ворваться в покои королевы. Один гвардеец королевской охраны учинил стрельбу, убил и ранил нескольких нападавших. Этому и еще одному гвардейцу отрубили головы. Наверное, каждая из обезумевших фурий воображала себя этакой Юдифью, каждая желала для себя головы своего Олоферна… Людовику XVI было заявлено, что, поскольку аристократическая партия задумала похищение королевской семьи, народ требует его переезда в Париж.
Эту процессию и наблюдали Мария с Евдокией Никандровной. Они возвращались с кладбища; тетушка (Мария как-то незаметно для себя даже мысленно перестала употреблять в этом случае иронические кавычки, сломленная заботливой преданностью старой дамы) была в таком же глубоком трауре, что и молодая вдова; траурной была и карета со скромным баронским гербом. Осторожные люди давно уже начали снимать гербы, но тетушка на этот счет высказывалась вполне категорично:
— Теперь говорят, что и гербы стыдно выставлять напоказ. А куда же прикажете их девать, в сундуках, что ли, держать?! На то и герб, чтобы смотреть на него; чай, не краденый — от прадедов достался!
Данила, сделавшийся давно уже кучером (в услугах его надобность у баронессы отпала: под траурным крепом голову ее украшала лишь уложенная короной коса), натянул вожжи, успев шепнуть в окошечко:
— Будьте осторожны. — И тут же людское море окружило карету. В окна заглядывали женские лица — потные, багровые, с пьяным, бессмысленным выражением глаз. Заглядывали, качаясь, и другие головы: казалось, они принадлежат слишком высоким людям, но это были насаженные на пики головы гвардейцев, решившихся стрелять в толпу.
При виде их Мария содрогнулась; обморочный туман поплыл перед глазами, и страшное видение, никогда не оставлявшее ее: человек, за руки повешенный на дерево; из тела его выстрелы вырывают кровавые клочья. Однако Евдокия Никандровна так стиснула ее руку, что Мария от боли очнулась, и обезумевшие торговки могли видеть на бледных лицах этих двух облаченных в траур женщин, старой и молодой, отрешенное, смертельное спокойствие и равнодушие ко всему, что бы ни уготовила им судьба. А когда какая-то бабенка осмелилась разразиться бранью в адрес «этих паршивых аристо», тетушка так свирепо сверкнула на нее глазами, что охальница неожиданно для себя самой стушевалась.
Более их не трогали; так они и выжидали посреди бушующего людского моря более двух часов, пока их величества не получили разрешения (!) от Национального собрания отправиться в Тюильри, где им отныне и было предписано находиться, не покидая Парижа. Только в половине одиннадцатого площадь опустела, и карета баронессы Корф смогла покинуть Гревскую площадь.
Этого живого соприкосновения с действительностью для Марии хватило надолго, и она вновь затворилась в доме на улице Старых Августинцев в обществе симолинских шифровок, неусыпного внимания тетушки (только ее хитрость или суровость могли заставить Марию вовремя есть и спать!) и Данилы… Раньше Мария сказала бы: верного Данилы, однако вот уже изрядное время этот эпитет не шел с ее языка.
Смерть Корфа Данила пережил тяжело — едва ли не тяжелее, чем сама Мария (да и пережила ли она ее? не умерла ли вместе с мужем, не ушла ли с ним в горние выси, оставив на земле лишь тленную оболочку?), верно еще и потому, что был свидетелем убийства Корфа, но не смог помешать беззаконию свершиться. Он казнился этим непрестанно… однако Мария-то его не винила, ей даже в голову не приходило хоть в чем-то упрекать человека, которого она считала более другом, нежели слугою, — так отчего же Данила со дня смерти Корфа вел себя с баронессой так странно холодно, так сурово сдержанно, как если бы он осуждал ее за что-то, и исследовал, виновна ли она, и даже готовился вынести приговор?
Они очень отдалились друг от друга, и отношения их, чем дальше, тем больше, становились отношениями барыни и покорного слуги.
Еще две связи порвались со смертью Корфа: дружба графини д'Армонти и любовь ее брата.
Справедливости ради следует сказать, что Мария начисто забыла обоих… вспомнила она Гизеллу совершенно случайно, увидев как-то по дороге на кладбище ее карету — кстати сказать, без гербов. Удивительно: Сильвестр, которому по его положению страстно влюбленного полагалось бы обивать пороги молодой вдовы, сторонился ее, так же вела себя и «верная подруга» Гизелла, как если бы страшная смерть мужа оставила на челе Марии некое позорное клеймо.
Сильвестр и Гизелла ни разу о себе не напомнили, даже не прислали приличных случаю соболезнований, хотя уж от этих двух их можно было ожидать.
Одна лишь Евдокия Никандровна не покидала «племянницу», и Мария, в своем горе очистившаяся от таких мелочей, как обида, мстительность и даже страх за свою жизнь, вновь открыла сердце старой даме, стойкость которой и преданность королевской семье в эти страшные и опасные дни всеобщего отступничества не могли не восхищать молодую женщину, всегда питавшую восторженную склонность к людям отважным, способным идти по своему пути без оглядки. Мария слишком хорошо знала, что сердце человеческое может включать в себя доброе и злое, истину и тьму, прекрасное и отвратительное, чтобы осуждать хоть кого-то, тем более немногих свой друзей.
И вот еще что неразрывно объединяло их: ненависть к той кровавой туче, которая плотно закрывала светлое небо Франции.
От смертоносного града один за другим уезжали бывшие подруги и приятели графини Строиловой: принцесса д'Ламаль, Жюли Полиньяк, граф д'Артуа… впрочем, проще было перечислить оставшихся. Разрешение на выезд испрашивало у Национального собрания все большее число народу, но получить его удавалось далеко не всем. В русском посольстве помогали желающим уехать, как могли. По требованию государыни Екатерины Симолин составил списки всех русских, живших в это время во Франции, включая прислугу; таких набралось 32 человека. Их фамилии и род занятий были должным образом зашифрованы и переданы в Россию; однако список, раза в три больший первого, обильно уснащенный вымышленными именами, был передан Монморену для получения разрешения на выезд через Франкфурт, и за Рейн благодаря тем спискам уже перекочевало немало французских аристократов под фамилиями русских поваров, лакеев, горничных. Сами же русские пока почти все оставались еще в Париже — и в их числе, разумеется, Мария, хотя матушка беспрестанно звала ее воротиться. Но здесь, на кладбище Сент-Женевьев, оставался узенький, поросший зеленью холмик, и Мария не могла оторваться от него. К тому же Симолин и Евдокия Никандровна все чаще и чаще обсуждали при ней проекты бегства из Парижа королевской семьи, туманно намекая племяннице, что может понадобиться и ее помощь. Да что она может? Мария только плечами пожимала.
Надеялись и на эмиграцию, которая разбрелась по всем европейским дворам, выпрашивая помощи гибнущей французской монархии. Однако же создавалось впечатление, будто лишь Густав Шведский и Екатерина II искренне обеспокоены судьбой некогда великой державы, негодуя на гидру о 1200 головах, шайку безумцев и злодеев, как они называли Национальное собрание. Даже австрийский император Иосиф, родной брат королевы Марии-Антуанетты, равнодушно взирал на ее судьбу. Не чувствуя еще угрозы своим интересам, европейские государи не только не спешили душить начавшуюся во Франции революцию, но и откровенно злорадствовали, надеясь, что внутренние раздоры приведут к ослаблению ее влияния на международной арене. Да, воистину, только провидение могло предугадать, когда Франция сможет снова занять надлежащее положение среди держав Европы! Уповать стране и королю с королевой оставалось лишь на Бога — да на верных друзей. А их становилось все меньше. Кто уехал за Рейн, кто затаился, надеясь пересидеть грозу в тихом уголке, кто явно изменил своей чести.
* * *
Однажды Мария, ложась спать, нашла в своей постели книгу. Это было странно, ибо она никогда не читала лежа, разве что при болезни; это было тем более странно, ибо книга называлась «Опасные связи». Найди она меж подушек бородавчатую жабу или паука, Мария и на них смотрела бы с меньшей брезгливостью. Образ распутного автора сего распутного романа возник в ее памяти — с его скользящей походкою, вкрадчивой манерою, цинично оттопыренной губой, — и Мария передернулась от отвращения и горестных воспоминаний. Пьер де Лакло стал для нее невольным символом того странного вечера, когда погиб Корф, а потому Мария, побранив горничную, глуповатую и ленивую — да где взять другую? с прислугою нынче сделалось тяжко — француженку, заменившую Глашеньку, сама отнесла книгу в библиотеку, держа ее платком с опаскою, словно ядовитое насекомое, и засунула на самую верхнюю полку, во второй ряд. А следовало бы, наверное, бросить эту гадость в камин, потому что назавтра же, едва открыв глаза, Мария увидела «Опасные связи» на ночном столике и едва удержалась, чтобы не закричать от негодования. Вдобавок ко всему в середине книги лежал какой-то грязный лоскут, что было уж вовсе омерзительно. Мария брезгливо схватила книгу каминными щипцами и понесла к огню, да выронила.
Книга раскрылась, и лоскут сделался отчетливо виден Марии — это был обрывок синего шелка, на котором заскорузло пятно цвета ржавчины.
Мария как села на пол, так долго и не могла найти в себе сил встать и унять слезы. Перед нею, чудилось, могила разверзлась… мертвое лицо Корфа глянуло из бездны.
Однако плачь не плачь, а теперь уж не отмахнуться, чтобы не прочесть страницу, которая была заложена сей страшной закладкою. Ведь именно для этого, конечно, и подложил Марии некто неведомый книгу.
«ПИСЬМО №… [223]
От Виконта де Вильмона к маркизе де Мертей
Дорогой мой друг, я должен в очередной раз признать, что вы, как женщина, во много раз мудрее и дальновиднее меня, как мужчины. Не стану обобщать, ведь известно: я не слишком высокого мнения об умственных способностях слабого пола, однако вам отдаю должное. Вчера был у меня известный вам Луи де… Он наконец получил письмо от m-me de N…и что же? Клянется, что ни одна струна души его не дрогнула, лишь досада, как злая птица, подала свой голос и прокаркала: „Все кончено! Все кончено!“
Итак, у Луи де… с m-me де N. все кончено, как вы и предсказывали. При всем том, что он о себе знает, при всем том, что о нем говорят, он оказался то ли чересчур брезглив, то ли чересчур разборчив, то ли почерк m-me де N. уже ему не по нраву, однако он понял, что не желает предаваться любовным забавам с женщиной, муж коей умерщвлен его рукой. И это при всем том, что мы с вами восхищались изобретательностью Луи де…, а он предавался глупейшему самолюбованию, как если бы курс интриг и умения организовывать так называемые „несчастные случайности“ не был им освоен в совершенстве. Вот злая шутка судьбы! Остается лишь подойти и взять желаемое, а он не может заставить себя протянуть руку.
Вижу вашу усмешку! Слышу ваш хохот! И смеюсь вместе с вами. Шпага Луи де… по рукоятку в крови дуэльных жертв его, но то убийство из-за угла, причиной коему была его несчастная страсть к m-me де N… ах нет, у них все кончено и больше не вернется. Единственное, чего другу моему хотелось бы: никогда более не видеть ее, не слышать о ней ни слова, не получать писем, писанных ее рукою...»
Страница закончилась. Дальше следовала гнусная похвальба де Вальмона о том, как он умело втирается в доверие к кавалеру Дансени, желая овладеть «малюткой Соланж».
Мария закрыла роман, помедлила — и бросила его в камин. Пламень вздрогнул, распушил листы, позолотил, потом они сделались прозрачно-алыми, потом начали обугливаться… Мария смотрела; щеки горели, в горле першило от запаха жженой пыльной бумаги.
Синий окровавленный лоскут она убрала в шкатулку с драгоценностями. Потом подошла к колокольчику, позвонила, а когда наконец появилась горничная — как всегда, с обиженным видом: зачем и кто осмелился ее позвать?! — приказала дать знать на конюшню, чтобы немедля закладывали карету. Холод, оледенивший ее душу и сердце по прочтении этих загадочных страниц, по счастью, не давал возможности размышлять и терзаться. Мария знала лишь одно: ей необходимо сейчас, немедленно увидеть Сильвестра или его сестру… зачем? Она и сама толком не знала, однако собиралась с лихорадочной быстротой и была неприятно поражена, узнав, что поехать никуда не может: кучера с утра нет. Приказала позвать старшего конюха. Тот угрюмо наябедничал, что кучер Дени (Данила, стало быть) вот уж какой день с утра до вечера где-то шляется, а на конюшне и так остался он один да грум, едва поспевают лошадей обихаживать, так что госпоже баронессе следовало бы…
Мария, не дослушав, услала конюха.
Данилы нет? Что ж, и он заразился всеобщей страстью к бездельничанью и крикам на митингах? Не оттого ли глядит в последнее время на барышню свою таким волком? Жаль, когда так… чуть не последний близкий человек покидал ее? А ведь было, было о чем спросить Данилу, — например, не с его ли пособничества подброшена Марии сия книга — будто подметное письмо, будто яд, насыпанный в питье или пищу!
Ждать она не могла. Ей надо было двигаться, идти куда-то, спешить. Оделась попроще, а потом, повинуясь неясному побуждению, поднялась в кабинет мужа, постояла там, глядя вокруг сухими глазами (слишком много слез безвозвратной утраты пролила она здесь за эти полгода; не все ли их выплакала?); открыла большой шкаф, где Корф держал платье самых разных сословий, даже крестьянское, необходимое ему, должно быть, для тайной его деятельности, выбрала коричневый шерстяной плащ-рясу францисканского монаха [224], а из особого ящичка взяла узкий обоюдоострый стилет — и торопливо пошла прочь.
Мария действовала не думая, словно по чьей-то подсказке, однако быстрая ходьба по улицам несколько охладила ее пылающий лоб и оживила первые сомнения: что она скажет этим двум прежним друзьям своим? О чем их спросит? Как осмелится выразить те дикие подозрения, которые внезапно пробудились в ней? Ведь того нет.
Мария остановилась. Эта ряса, и кинжал, и безумие в помыслах… надо вернуться и немедля начать собираться в Россию. С чего она взяла, что нужна Симолину? Это лишь его добрая душа подсказывает обращаться к ней за помощью, чтобы она не чувствовала себя забытой, чтобы пребывала в заблуждении, будто способна хоть в малой степени заменить Корфа в защите интересов России, как часовой, вставший на смену убитого охранять границу своей страны. Смена караула! Она воспринимала теперь жизнь свою в Париже именно так, но не пора ли похоронить своих мертвецов и расстаться с романтическом бредом, с этими иллюзиями… опасными иллюзиями?
Мария вздрогнула, снова остановилась — и вдруг увидела Данилу, который, не узнав ее, только что торопливо прошел мимо, явно преследуя высокого человека, одетого во все черное. Да ведь это… Сильвестр!
Забыв сомнения, Мария повернулась — и поспешила за ними, опять, как и час назад, подгоняемая неким наитием, объяснения которому дать она не могла — да и не пыталась.
* * *
Сперва показалось, что Сильвестр спешит к дому графини д'Армонти, однако на бульварах он свернул в другую сторону, к улице Карусели. Смутное подозрение, мелькнувшее у Марии, превратилось в уверенность, когда Сильвестр, не сбавляя шага, вошел в скрытую зарослями потайную калитку дома, где три или даже четыре года назад по наущению Марии дрался на дуэли с бароном Корфом.
Данила прошмыгнул следом, а за ним, путаясь в траве и в полах своей длинной рясы, и францисканский монашек.
С изумлением Мария увидела, что дом по-прежнему необитаем. Возможно, давние слухи о таинственной даме укрепились с тех пор, как Мария пыталась изображать ее вон в том окошке. Вьющиеся розы не оставили на стенах даже малого просвета, так что они казались не сложенными из дикого камня, а сотканными из листьев и цветов. Окно тоже почти все оплела зелень. Вон там стояла Мария в тот день, стиснув платок, вся дрожа. И Сильвестр тоже стоял недвижим, глядя в окно, будто завороженный, а потом вдруг выхватил шпагу и вступил в яростный поединок — сам с собой? или с воспоминанием?
Мария выглядывала из-за дерева, не веря глазам. Ей чудилось, будто Сильвестр в точности повторял тот самый поединок с Корфом: резкое нападение, отступление, замешательство — и снова выпад, выпад, выпад…
Одержал ли он воображаемую победу, просто утомился ли, но вот опустил шпагу, замер — и вдруг, резко обернувшись, увидел Данилу, который не успел отпрянуть за угол, откуда наблюдал за этим подобием дуэли с прошлым.
Одним прыжком маркиз оказался рядом, схватил Данилу, гневно выкрикнув:
— Что тебе здесь нужно?! Ты шпионишь за мной?! Данила не оправдывался, не сопротивлялся: чуть откинув голову, смотрел на маркиза с такой ненавистью, что у того вдруг ослабли руки, он слегка оттолкнул Данилу и, отведя глаза, пробормотал:
— Прочь! Прочь поди! Не то…
— Не то — что? — громко и ясно проговорил Данила. — Что сделаете? Убьете и меня, как убили моего хозяина?
И оба враз оглянулись, пораженные коротким, болезненным звуком, раздавшимся из сада. Чей-то стон? Зов?..
Нет, это сойка — вон, выпорхнула из листвы, покружилась над деревьями, испуганно клича, да и полетела прочь.
* * *
Мария стояла, обессиленно прижавшись к стволу старой яблони, и неподвижными глазами смотрела в просветы между ветвей. Полно, да птица ли это кружит над садом? Или ее измученная душа вырвалась в крике отчаяния, покинула тело и мечется туда-сюда, взывая о мщении?..
Да нет, не может быть, Данила с ума сошел?
Голос Сильвестра заставил ее встрепенуться.
— А, верный русский пес? — Он отпустил Данилу и брезгливо отряхнул ладони. — Сейчас у вашего брата развязались языки. Да как ты смел сказать мне такое? Оскорбить меня гнусными подозрениями?
— Были подозрения, — кивнул Данила. — Я плохо видел тогда ваше лицо: огонь, дым, эта грязь, которой вы нарочно перепачкались… Я знал только, что уже видел вас прежде, но где? Не сразу вспомнил, решил, что с ума сошел. Знал, что вы любили мою госпожу, но разве это любовь, чтоб решиться на такое злодейство?! А вы отдалились от нее, вы скрывались. Я решил даже, что и она в заговоре с вами; следил и за нею. Но нет, слава Богу, она ничего не знала, на ней нет безвинной крови.
Данила говорил быстро, бессвязно, мешая русские и французские слова, Мария ждала, что маркиз вот-вот встрепенется, закричит: «Нет! Это ложь! Как ты смеешь?!» — однако Сильвестр стоял, свесив руки, безропотно выслушивая страшные обвинения, и лицо его было искажено не возмущением, а судорогой безмерного горя.
— Я следил, следил… И я утвердился в своих подозрениях, пока каждый день ходил за вами сперва на то место, где стоял дом Ревейона, а потом сюда, на улицу Карусели — я знаю, что здесь была у вас дуэль с господином бароном! — и видел, как вы сражаетесь, сражаетесь с его призраком, словно молите его о прощении… или об отмщении?
Сильвестр закрыл лицо руками, согнулся, побежал куда-то, да наткнулся на стену, стал… а когда выпрямился и открыл лицо, на нем было прежнее гневливое выражение.
— Я благодарен тебе, — сказал он негромко, поднимая с брусчатки брошенную шпагу и задумчиво сгибая тонкий клинок. — Твои холопские рассуждения помогли мне посмотреть на себя со стороны и понять, что я вел себя как трус и глупец.
Данила вгляделся в него испытующе.
— Во все века мужчины сражались из-за женщины и уничтожали своих соперников. Чем я хуже?
— Да вы же убили его подло, предательски. Вы якшались с чернью, с преступниками. Он был связан, когда вы стреляли в него! — У Данилы перехватило горло, но он тут же справился с собой. — Вы не осмелились сделать это в честном бою, у вас не хватило храбрости, потому что нет чести! — вскричал он, и тут Сильвестр бросился вперед, выставив шпагу, с криком:
— Не хватило тогда — хватит сейчас! Я раздавлю тебя как червя!
Данила едва успел отскочить, сорвал свой плащ, выхватив из-под него небольшую шпагу, и стал в позицию с проворством мерина, вздумавшего состязаться с липицианским жеребцом в показе фигур Ксенофонтовой «Школы верховой езды», которым обучают самых породистых коней только в Испанской школе выездки, в Вене.
Он был обречен и своей неловкостью, и этой шпажонкой, бывшей по меньшей мере на десять дюймов короче шпаги Сильвестра, и той яростью, которая ослепляла его и лишала удары меткости, в то время как Сильвестр кружил вокруг него, как оса. В одно мгновение шпага Данилы была вырвана из его рук и покатилась, стуча гардой по камням, а Сильвестр нацелил смертоносное острие клинка прямо в сердце безоружному противнику.
— Думаешь, убив меня, ты перестанешь быть убийцей? — прохрипел Данила, но Сильвестр едва ли расслышал эти отчаянные бесстрашные слова: за спиною Данилы он заметил какое-то движение. Высокая фигура в коричневом плаще взмахнула рукой коротко, пронзительно свистнул воздух… и Сильвестр схватился за горло, в последнем усилии жизни пытаясь вырвать пронзивший ему горло стилет. Но так и не успел.
* * *
Тот час, который Мария провела возле тела убитого Сильвестра, пока Данила по ее приказу бегал за каретой, не был отягощен печальными воспоминаниями. Мария хорошо умела забывать, когда хотела забыть! Сильвестр давно умер в ее сердце, а то новое, что она узнала сегодня о нем, уничтожило всякую возможность раскаяния. Это была справедливая месть; Мария не сомневалась, что именно высшая справедливость столкнула ее сегодня с Данилою и Сильвестром, вложила в ее руку стилет, придала меткость броску. Сейчас она только пыталась понять, какова могла быть роль Гизеллы в заговоре против Корфа, поставить все точки над i. Определенно, сделал здесь свое дело и знаменитый романист… Он просто-напросто разыграл, как по нотам, страницу своего романа. Хотелось бы знать, кто подложил Марии книгу со страшной закладкой: Данила клялся и божился, что он тут ни при чем, и Мария ему полностью поверила: кончилось для них с Данилой время подозрений и недомолвок!
Оставалось лишь укорять себя за то, что она была не способна до сих пор в полной мере оценить это верное сердце. Ну что ж, это наконец произошло!
— Мне пойти с вами? — спросил Данила, когда карета остановилась перед особняком графини д'Армонти, и Мария, так и не снявшая свой коричневый плащ, покачала головой: она хотела увидеться с Гизеллой наедине, смутно предчувствуя, что судьба готовит ей новые страшные и неприятные открытия.
Однако графини не оказалось дома, так что Марии была дана отсрочка; правда, недолгая: не прошло и четверти часа, как Мария увидела в окно Гизеллу, которая подскакала верхом к крыльцу и, легко соскочив с коня, быстро вошла в дом.
Верно, никто из слуг не осмелился сообщить ей страшную новость, потому ничем не омрачена была возбужденно-изумленная улыбка, вспыхнувшая на лице графини при виде нежданной гостьи.
— Это вы? Мария? О, какой дивный сюрприз!
Она смотрела на Марию, но чудилось, толком не видела ее, вся еще будучи во власти каких-то приятных воспоминаний, от которых были влажны ее губы, а в глазах горел огонек легкомыслия. Гизелла, облаченная в красную амазонку, обтягивающую фигуру, как лайковая перчатка руку, выглядела необычайно соблазнительной и красивой. Ее изящную талию опоясывал трехцветный шарф, и Мария не поверила глазам, увидев, что это не прежний красно-бело-зеленый венгерский, а новый, мятежный триколор: красно-бело-синий.
Поймав ее взгляд, Гизелла от души расхохоталась:
— О, не судите строго, дорогая баронесса. Я нахожу революцию весьма возбуждающей, а бунтовщиков волнующими. Особенно некоторых. Правда, этот запах народа, фи… — Она чуть сморщила носик, но тут же поднесла к лицу рукоять хлыста. — Но я придумала, как быть! Вот сюда вделана курительница с ароматическими солями, и они нейтрализуют запах третьего сословия. Жаль только, что ею нельзя пользоваться в постели! — И она расхохоталась, как бы еще больше возбуждая себя этим смехом, отстаивая свое право отныне любить кого попало — вернее, предаваться с кем попало своим страстям.
Марию передернуло, однако она вспомнила, что сейчас предстоит узнать Гизелле, — и совладала со своим отвращением. А та не унималась:
— Сказать вам, где я была сейчас? В тюрьме! На казни! О, поверьте, гораздо интереснее смотреть на казнь, ежели знаешь осужденного! Я знала его когда-то… давно!
Она расхохоталась, и только сейчас Мария поняла, что Гизелла пьяна — от вина, от крови ли, неведомо. И это открытие уничтожило в душе Марии всякое подобие жалости к бывшей подруге.
— Смотри! — крикнула она, хватая Гизеллу за руку с такой силой, что лицо графини исказилось от боли, и волоча ее за собой в соседнюю комнату, где на узенькой модной козетке, наспех застеленной черным плащом, лежал Сильвестр — мертвый, застывший, нелепо большой для этого нелепого дамского предмета обстановки.
Гизелла пронзительно вскрикнула, недоверчиво вглядываясь в лицо брата, но не бросилась к нему, а обернулась к Марии, вгляделась в ее лицо огромными черными глазами — и вдруг сникла, увяла, опустила руки:
— Тебе, я вижу, все известно?
Мария с удивлением кивнула. Она ждала большего, неизмеримо большего! А Гизелла с упреком смотрела на мертвого и сердито говорила — то ли ему, то ли себе, то ли Марии:
— А я знала, что это плохо кончится. Но это все Пьер, он ненавидел Корфа за то, что тот ненавидел масонов. Но главное — его безумное тщеславие! Он же мнил себя гениальным писателем. Он поставил этот спектакль, уверяя, что кровь оттолкнет Сильвестра от тебя! Жалел только, что ты не оценишь его гениальный замысел, ибо никогда не узнаешь правды!
Мария с трудом сообразила, что Пьер — это Пьер Шодерло де Лакло. Но его участие в этом деле ее ничуть не удивило: к нему и так вели все нити, начиная с его появления в доме Гизеллы накануне рокового бала и кончая подброшенной книгою. Неудовлетворенное тщеславие, сказала Гизелла? А что, вполне могло статься, что Шодерло де Лакло подкупил кого-то из слуг, чтобы Марии подсунули роман, как подсказку. Знаменитый романист не мог, не смел оставаться в тени: он жаждал аплодисментов даже от той, чья жизнь была разбита его талантами! Конечно, он придумал все это по просьбе Гизеллы, тут у Марии не было никаких сомнений. Но… зачем? Что значили последние слова Гизеллы? Выходило, она замышляла убить не только Корфа, но и любовь брата к Марии? Да зачем, зачем, если счастье Сильвестра всегда казалось ее единственной целью?
Недоумение недолго длилось: Гизелла схватила в объятия мертвое тело и, покрывая поцелуями залитое кровью лицо, закричала:
— Я сделала это для тебя! Я готова была на все для тебя, но ты не должен был любить ее так сильно! Ты любил и других женщин, но всегда возвращался ко мне. Я ревновала, я страдала, но ты всегда возвращался! Ты говорил, что не знал никого лучше, ты клялся, что ни одна женщина не сравнится со мной! Я тоже… мне никто не нужен был по-настоящему, кроме тебя! Ни Пьер, ни его герцог, ни сам Мирабо — только ты один. Всегда, с тех самых пор, как нам стало пятнадцать. Ты помнишь?.. Ну не лежи так, не будь таким холодным! Обними меня, скажи, что любишь меня, что хочешь меня, как прежде! Ну пойдем, пойдем со мной прямо сейчас, ну?
Мария зажала уши, зажмурилась, чтобы не слышать бесстыдных признаний, не видеть рук, которые бесстыдно расстегивали одежду трупа.
Любящая сестра? Так вот какова эта любовь!.. Кто осудит Марию, если она сейчас уложит Гизеллу навеки рядом с тем человеком, с которым ее связывала не только кровная плоть, но и преступная, кровосмесительная связь? Уложит тем же самым клинком, на котором засохла кровь Сильвестра…
Нет. Она повернулась и стремительно вышла из комнаты, пробежала по коридору мимо замерших, испуганных слуг, скатилась с крыльца и вскочила в карету, истошно крикнув бледному, как призрак, Даниле:
— Гони! Гони вовсю!
Лошади понеслись с места. Мария откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза, всем существом слившись с грохотом кованых копыт по булыжной мостовой. Ее уносило все дальше и дальше от этого дома, от прежних страстей, от прошлого, от сладости утоленной мести… или горечи? На душе у нее было тяжело, горло сжималось.
Она высунулась в окно, подставив лицо ветру. Данила, свесившись с козел, обернулся, глянул встревоженно. Мария кивнула успокаивающе, даже попыталась улыбнуться в ответ.
Первая звезда медленно возникала в бледно-сиреневом закатном тумане — дрожащая, прозрачная, прекрасная до слез. Мария смотрела на нее не отрываясь, с изумлением ощущая, как постепенно отлегает от сердца, проясняются мысли, как, подобно шелухе, спадает с нее чужая злоба, и нечистая страсть, и черные помыслы улетают вдаль, гонимые встречным вольным ветром.
Этот небесный взор, исполненный благодати и чистоты, как бы внушал: ты жила неверно, неправедно, но в твоей воле искупить прегрешения деянием великодушным и самоотверженным. Вот на это нужно направить все помыслы и усилия свои, вот за что и жизнь положить не жалко!
Светлая звезда! Спасибо тебе. Спасибо тебе. Звезда королевы! Сквозь невольные слезы Мария уже в который раз в своей жизни улыбнулась прихотливости уловок, которые судьба расставляет на пути своем. Да, похоже, Евдокия Никандровна права. И впрямь, последнее, что Мария может сделать в этой стране — по мере сил своих помочь тетушке, и ее новой подруге Элеоноре Салливан, и этому хладнокровному англичанину Квентину Крауфорду, который, кажется, как и Аксель Фергзен, рыцарски влюблен в Марию-Антуанетту и готов на все для обожаемой королевы, а не только pour le roi de France [225].
Да, Мария поможет им, поможет королеве, чтоб не закатилась никогда звезда ее счастья, величия и жизни, а потом уедет домой. Здесь кончено все… здесь кончено все.
Осталась только скорбь!.. И, еще раз взглянув на звезду, которая всходила все выше и выше в небесах, Мария крикнула Даниле, чтобы повернул не на улицу Старых Августинцев, а к дому тетушки.
* * *
Тогда она не знала и не могла знать, что почти полугодовые усилия по спасению Марии-Антуанетты закончатся ничем и никому прежде не известное название — Варенн — навсегда войдет в историю как символ одного из самых благородных и безнадежных деяний, о каких только слышала Франция.
Она не знала тогда, что, уезжая из Парижа с чувством исполненного долга, всего через неделю, с трудом избегнув смерти, будет вдвоем с Данилою пробираться туда вновь, возвращаясь к своему прошлому, — тайком, всеми гонимая, отчаявшаяся, желая узнать лишь одно: что же сорвалось в тщательно отлаженном плане? Почему он провалился? Что ждет теперь королеву?
Глава XXVIII КРИК ФИЛИНА
— Вы можете представить, Машенька? Их остановили какие-то жалкие людишки, даже не солдаты, числом не более полудюжины: прокурор общины Сос, торговец свечами и бакалейщик, какой-то трактирщик… Бог весть кто вообще. Да разве король не имеет права, которое дано всякому нищему, — путешествовать беспрепятственно по своим собственным дорогам? Да если бы он гаркнул на них… если бы… да они растаяли бы, как сальные свечи от жара печки! — Симолин еле совладал с дрожащим от ярости голосом. — Увы, такой поступок не в его характере. Бедный, слабый, флегматичный человек! Он вышел, сдался. И все вышли… и королева. Они уехали в понедельник ночью, а в субботу уже вернулись — как пленники. Теперь их сторожат как преступников, даже в самых интимных апартаментах; королева должна спать с открытыми дверями.
Симолин в отчаянии махнул рукой:
— Монморена — это ведь он выдал злополучный паспорт! — привели в Национальное собрание под конвоем, народ бросался с такой яростью к его дому, что забили тревогу, и отряды Национальной гвардии отправились туда, чтобы защитить дом от ограбления. Монморен отвел от себя подозрения, но поговаривают о его скорой отставке.
— А вы как же? — прошептала Мария.
— Я разослал всюду, куда только мог, покаянные письма: я, мол, не я, и бородавка не моя, не ведаю, что там такое баронесса Корф сделала, — развел руками Симолин. — Даже в Петербург послал такое донесение. Незашифрованное. Обычной почтой. Пусть читают, может быть, это даст мне еще хоть полгода относительно спокойной работы. Вряд ли больше удастся урвать у этих бесноватых. Получил шифровку от Безбородко: предупреждает, что скоро Жене вышлют из Петербурга, а это будет означать конец русской миссии в Париже. Видимо, придется все передавать тайным агентам… а явным уезжать.
Они стояли на вершине холма Шайо на площади Этуаль, от которой лучами расходились двенадцать широких проспектов, в том числе Елисейские поля, спускаясь затем к восьмиугольной Гревской площади, на которой простирался парк Тюильри, и где-то там, за деревьями, королевский дворец… Мария с тоской думала об этой несчастной женщине, в глаза которой холодно, неумолимо заглянула судьба. Площадь Этуаль, площадь Звезды… звезда королевы! Неужели она идет к закату? Как же так произошло, как приключилось, что почти полугодовые усилия по подготовке бегства королевской семьи будут сведены на нет? Несколько дней назад, когда Мария и Данила окольными путями, измученные смертельно, пробирались в Париж, самым важным казалось: найти причину. Найти — это уже как бы наполовину исправить, думала Мария, но сейчас ничто не было важно, кроме одного: дело кончено. Слишком долго готовились, слишком тщательно, слишком пышно и роскошно путешествовала «баронесса Корф» с семейством; слишком много народу знало о предполагаемом бегстве. Как говорится, тот, у кого есть тайна, должен скрывать не только ее, но и то, что ему есть что скрывать! Мадам и месье уезжали поодиночке, тайком, полагаясь только на себя, с мизерным, смехотворным багажом, встретившись на почтовой станции близ границы, не обменялись ни словом, ни взглядом, — они уже спасены, они уже в Пруссии. А король собирал цветы при дороге, благосклонно беседовал с добрым народом. Ах, да что говорить! Все кончено, и небо затянуто тучами, и не видно звезд… ни одной звезды!
И ветер, ветер… Июль, а как холодно! Марию била дрожь в грубошерстном плаще: она так и не переоделась, все еще стягивал талию красный корсет, липла к ногам темная юбка; заплетенные в косы запыленные волосы она вымыла вчера в Сене — с тех пор и похолодало, в точности по старой примете: не мой, девка, волосы в речке, стужу намоешь. Понимая, что мелькать на виду у людей нельзя, она послала за Симолиным Данилу, а сама до костей продрогла, ожидаючи. И как же тяжко, как страшно узнать теперь, что возвращаться в Париж ей нельзя было ни в коем случае, что дом на улице Старых Августинцев разграблен, что карикатурами на преданную королеве баронессу Корф полны газет, что при звуке этого имени у людей ушки на макушке, что какую-то даму, приняв ее за баронессу Корф, базарные торговки били тухлой рыбой, забили насмерть! Надо уезжать…
— Лекарство есть от всего, кроме смерти, — почти сердито буркнул Симолин. — Знаете такую поговорку? Я принес вам деньги, документы на выезд из Франции. Дал бы вам письма в Петербург, но боюсь… боюсь. Эх, зачем, зачем вы вернулись! Уж сто раз в Марселе были бы — вас ведь ждали там! — и письма мои плыли бы с вами в Россию!
Мария всматривалась в лицо своего старого друга и не могла понять причин его неприязни, почти грубости. Да знал бы он, каково это: спасти из разоренной кареты шкатулку с его бумагами, самим спастись. Ведь смерть совсем рядом стояла, уже в лицо заглядывала! Марию снова затрясло: теперь уже от воспоминаний о потной, разъяренной Манон, о запахе крови, залившей карету, о том, как Данила вытирал о траву кинжал, которым был убит гасконец… Нет, тетушка предупреждала, что при неудаче ему тяжко аукнется… на все соглашался Симолин с готовностью. Что же теперь-то столь суров с Марией, которую всегда любил нежно, как отец? Он да тетушка — самые близкие люди!
Тетушка! При воспоминании о ней потеплело на сердце. Вот кто спрячет, вот кто приютит хоть на денек, поможет! Тетушка, как же это Мария о ней сразу не подумала, сразу не поехала к ней?
— А Евдокия Никандровна еще в Париже? — спросила она Симолина так сухо, как только могла, всем тоном своим показывая: ни единой минуты долее обременять своим присутствием она его не станет!
Симолин молчал, понуро свесив голову, и вдруг Марии показалось, что его плечи дрожат.
— Иван Матвеевич… — прошептала Мария, хватая его за руку. — Что?.. — И осеклась: старик, не скрываясь, плакал, пытаясь что-то сказать, но голос не повиновался ему, и прошло несколько страшных мгновений между ужасом и надеждой, пока Симолин смог заговорить:
— Ее убили, потому что все знали: она была теткой баронессы Корф.
— Нет!
Мария прижала пальцы к губам, и в долю секунды вся история ее трагических отношений с «графиней Строиловой» пронеслась перед ее мысленным взором. Тетушка Евлалия, она же Евдокия Головкина, на постоялом дворе сочувственно смотрит на беременную племянницу… кроет добрым русским матом Николь, заломившую непомерную цену за обман барона… идет, прихрамывая, средь веселых масок, скрывающих искаженные алчностью лица под желтым оскалом Смерти… сидит вся в черном, величественная и бесстрашная, под злобными взглядами взбунтовавшихся женщин… несет в Тюильри огромную коробку с сухими бисквитами, среди которых спрятаны письма Фергзена к королеве, полные самой нежной любви и самых безумных планов спасения… Всегда тетушка, вечно рядом с Марией! Да как же поверить, что ее больше нет? Разве можно в это поверить?
— Сразу, как прискакал нарочный из Варенна, отрядили отряд гвардейцев к вам домой. А вас и след простыл, однако горничная сказала, что последние дни вы жили у тетушки своей. И адрес назвала. Эти-то, бесштанные [226], туда ринулись. А Евдокия Никандровна, царство ей небесное, в шкафу своем пудрилась. Вы шкаф-то сей знаменитый видывали?
Еще бы? Про этот шкаф парижские парикмахеры сказки рассказывали! Обычно парики пудрили следующим образом: дама надевала пеньюар, закрывающий всю одежду, против глаз держала маску со стеклышками из слюды, а домашний парикмахер особым дульцем выдувал на прическу пудру. Однако Данила, талантливыми руками которого графиня Строилова пользовалась куда чаще, чем его истинная хозяйка, изобрел для Евдокии Никандровны нечто совершенно особенное: это был шкаф, в который старая щеголиха влезала, вся окутанная пеньюаром, затворяла дверцы, а пудра через особое, частое сито нежно опускалась на нее сверху, необычайно ровно покрывая самую причудливую прическу.
Так что же случилось с тетушкой в этом знаменитом шкафу?
— Только забралась графиня пудриться, а тут, откуда ни возьмись, — национальные гвардейцы. Рассыпались по дому — ружья на изготовку, слуги в страхе попрятались, а Евдокия Никандровна в своем шкафу ничего не видела и не слышала. Вдруг — что такое, пудра на нее перестала сыпаться. Графиня шумнула раз, другой — ничего не помогает. Отворила она, сердясь, дверцы, высунулась — а там гвардеец. Она впотьмах чужого не опознала да как рыкнет: «Жан! Я тебе голову сейчас оторву, лоботряс эдакий!»
А гвардейца, как назло, тоже звали Жаном. Увидал он привидение сие — все белое, услыхал, как оно грозит ему страшным голосом, — да и выстрелил…
Графиня и упала, где стояла. Это уж потом спохватились, что даже приказа об ее аресте у солдат не было, не то чтоб убивать, да поздно, поздно!
Он перекрестился.
— Добрая была женщина. Нет, не добрая, а… великая! Великая была женщина, царство ей небесное!
Он помолчал. Молчала и Мария, только взглянула на Симолина полными слез глазами, и тот, поняв ее невысказанный вопрос, горестно ответил:
— Мы ее похоронили по-русски, без тяжелых камней. Там же, на кладбище Сент-Женевьев, где и Димитрий Васильевич упокоился… вернее, где могила его.
Он поцеловал руку Марии, и она ощутила, что ее старый друг вернулся к ней. Его просто тяготила страшная весть, которую он должен был сообщить Марии, а сейчас глаза вновь светятся той искренней нежностью, к которой привыкла Мария.
— И еще вот что… — как бы нерешительно заговорил Иван Матвеевич. — В жизни ведь всегда так: теряешь, но и обретаешь. — Он медлил, словно пытаясь подобрать нужные слова, но тут совсем близко раздалось уханье филина, и Симолин невольно вздрогнул: — Нет, заболтался я! Вам надобно уходить скорее. Не могу позвать вас к себе, сами понимаете — за мной глаз да глаз!
Мария понимающе кивнула. Она на протяжении всего разговора, чудилось, ощущала на себе чей-то пристально неусыпный взор; что же должен испытывать бедняга Симолин, который шагу не может ступить, чтобы за ним не бежала тройка филеров?
— Однако же, поскольку заставы все закрыты, ночь можно пробыть в сторожке, на кладбище Сент-Женевьев, — скороговоркой шептал Иван Матвеевич. — Прежний сторож помер, а новый — он человек хороший. Добрый человек! — Голос его зазвенел от волнения. — Берегите себя, душа моя. Храни вас Бог. Только Ему ведомо, свидимся ли еще, так что прощайте. Будьте счастливы!
Троекратно расцеловавшись с Марией, он перекрестил ее, а затем удержал Данилу:
— Погоди, друг мой. Тебе я должен сказать, где лошадей достать.
Они отошли в сторонку, а Мария стояла, обхватив себя за плечи и вся дрожа. По спине все еще бежали мурашки от того зловещего уханья. Крик филина беду вещует, гласит примета. Ох, до чего же дожил Париж, коли в самом сердце его, на площади Звезды, завелся спутник лешего! Надо скорее уйти отсюда. Может быть, в той сторожке на кладбище тепло?..
* * *
Но сторожка оказалась заперта. Вот и еще одна примета сбылась: филин не к добру хохочет. А что бы ей не сбыться? Приметы — в них мудрость вековая!
Мария тряхнула головой. Мысли плыли едва-едва — ненужные, пустые, ни о чем. Смертельно хотелось спать.
— Ты иди, поищи этого сторожа, что ли, — вяло сказала она. — А я здесь подожду.
Данила глядел на нее блестящими глазами и порывался что-то сказать, но молчал. Он вдруг странный какой-то сделался после разговора с Симолиным: Мария заметила, что он украдкой смахивал слезы, а потом вдруг принимался напевать, да не какую-нибудь привычную французскую мелодию, а уж полузабытую русскую, про красную девицу, которая на берегу ждет-пождет добра молодца, который все равно приплывет, все равно приплывет к ней, хоть ладья его затоплена, тело изранено — зато сердце любовью полно!
Мария только слабо улыбнулась, слушаючи. Если она от усталости была сама не своя, так Данила небось просто спятил.
— Может, дверь взломать в сторожку? — предложил он нерешительно. — Вдарить покрепче ногой раз, ну два — и откроется.
— Нет, не надо, — покачала головой Мария. — Он потом донесет на нас — мало разве у нас неприятностей!
— Он-то? Донесет?! — с изумлением воскликнул Данила, да осекся и, бросив: — Ну, я за лошадьми, а вы, барышня, тут ждите! — кинулся прочь, словно бы гонимый насмешливым уханьем филина. Эх, каково разошелся! Что ж еще вещует?
Мария вгляделась в темные вершины деревьев, но не увидела птицу и пошла между холмиков к тому месту, которое было ей так хорошо… так печально знакомо. Вот могила, где лежит все, что осталось от Димитрия. А здесь упокоилась навеки тетушка. Царство ей небесное, неистовой душе! От всего сердца Мария прощала ей все злокозни и молилась сейчас лишь о том, чтобы тяжесть грехов не перевесила того доброго, что было в душе Евдокии Никандровны.
Она опустилась на колени, а потом, закончив молитву, так и осталась сидеть меж двух холмиков — все, что у нее осталось дорогого в этом городе, в этой стране. И с ними надлежит проститься поутру! Проститься, чтобы никогда больше не воротиться сюда, не обнять поросший дерном холмик, не шепнуть в неподвижность земную:
— Люблю тебя. Всегда тебя любила и век буду любить!
Вокруг было так тихо, что Мария услышала, как эхо печального признания носилось между дерев, окружающих кладбище, то удаляясь, то возвращаясь, и так жаждало ее измученное сердце ответа, что она даже не удивилась, вдруг расслышав:
— Люблю тебя. Свет мой, милая!..
Это было уже как бы не совсем эхо. Но усталости, сковавшей Марию, ничто не могло поколебать. Она склонила голову на дерн и сонными глазами смотрела вперед.
Тучи закрывали небо, луны не видно, однако очертания крестов, могил, надгробий отчетливо выделялись в темноте, ибо все они были как бы подернуты инеем. Стволы, ветви тоже призрачно мерцали, белый туман курился вдали, то принимая какие-то причудливые очертания, то расстилаясь по земле.
Мария зевнула, удивляясь, что ей совсем не страшно на кладбище, хотя вроде полагалось бы. Впрочем, чего ей страшиться, сидя меж могилами двух самых дорогих и любимых людей? Филин, так пугавший ее, умолк, и она бестрепетно взирала, как белый туман приближается к ней, сгущаясь и принимая очертания высокой человеческой фигуры.
— Вы замерзнете здесь! Вставайте! — послышался тихий голос, и Мария про себя усмехнулась: какой заботливый призрак! Вдобавок он оказался очень силен: поскольку Мария не шелохнулась, призрак легко поднял ее на руки и пошел, петляя меж могил, к сторожке.
Да, это, увы, был не призрак. Руки у него оказались крепкие, плечо широкое, шея, к которой Мария припала лбом, теплой. Ее била ознобная дрожь, и так приятно оказалось пребывать в кольце этих горячих рук.
— Вы сторож? — сонно пробормотала Мария. — Я ждала вас. Мне сказали…
— Я знаю, — перебил незнакомец. — Сейчас вы согреетесь. В сторожке тепло.
С этими словами он ударил ногой в дверь с такой силой, что замок соскочил, и запах сухих трав, разогретых жаром камелька, окутал Марию таким блаженным теплом, что она тихонько застонала от счастья.
— Зачем вы сломали дверь? — заговорили в ней остатки осторожности. — Если вы сторож, то у вас должен быть ключ.
— Я сторож, — согласился незнакомец. — И ключ у меня есть. Но мне не хотелось отпускать вас.
Так же, ногою, захлопнув дверь, он подошел к единственному стулу и сел на него, не спуская Марию с колен и не разжимая рук, а она, свернувшись калачиком, объятая теплом и неведомым прежде покоем, думала, что где-то уже слышала прежде этот голос — вместе холодноватый и ласковый, да вот где? Когда? Нет, не вспомнить, не вспомнить… тепло разморило ее, и этот дурманящий аромат, и ощущение небывалого, давно забытого покоя, словно она вернулась наконец домой, и на пороге стоят матушка, и Алешка, и князь Алексей Михайлович, а из глубины коридора спешит, торопится к Марии какой-то высокий человек, сжимает ее в объятиях, прижимается теплыми губами к виску и говорит тихо-тихо:
— Милая… наконец-то! Я изнемог без тебя.
— Да, — шепнула она в ответ, обвивая его руками. — И я умирала без тебя.
Мария встрепенулась. Да нет, это не сон! Чьи-то жаркие руки наяву стиснули ее тело так, что сладкая боль разломила плечи, чьи-то жаркие губы и впрямь шепчут слова безмерной любви.
Этот голос… голос Димитрия!
Она вздрогнула, рванулась, но не смогла одолеть силы его объятий и сдалась, и снова приникла к незнакомцу.
Нет, это не Димитрий. Тот, кого так страстно, неутоленно, безумно любила Мария, покинул ее и ушел туда, откуда не возвращаются.
Но, может быть, и вечность порою бывает милосердна? Может быть, она, тронутая неизбывной тоской, которая снедала Марию, вернула ей возлюбленного мужа хотя бы на миг, хотя бы призрачно, хотя бы в образе этого незнакомца? Это ведь его голос! Только раз в жизни слышала от него Мария любовные признания, но и по сю пору трепещет ее сердце от этих воспоминаний. И вновь звучат те же незабываемые слова, вновь она ощущает те же поцелуи на своих губах — и целует, целует его.
Слезы медленно текли из-под ресниц, но Мария не вытирала их, не открывала глаз.
La douce illusion! [227] Сладкий самообман! Пусть он длится вечно, и она вечно не откроет глаз, вечно будет видеть перед собою единственное в мире, самое дорогое лицо: кто бы ни обнимал ее сейчас, кто бы ни стягивал нетерпеливыми руками с ее плеч рубашку, ни приникал к груди опаляющим поцелуем, от которого Мария почти лишилась сознания…
Вспышка страсти заглушила последние отзвуки разума, трезвости. Кто он… кто бы ни был! Пусть обнимет ее, пусть сольется с нею всем телом, всем существом своим, пусть трепещет, содрогается и стонет с нею в лад, пусть два тела бьются, неистовствуют вместе, как бы потрясаемые жарким биением одного сердца, единого для них двоих, познавая и даруя друг другу блаженство, прежде неведомое, недоступное, невозможное в жизни, — лишь на пределе ее, лишь на грани смерти возможное! Ну… еще… милый! О милый мой!..
Только бы не открыть глаза.
* * *
До заставы они добрались лишь к полудню, да и то Мария качалась в седле, как былина, томимая одним лишь желанием: спать. Данила насилу добудился ее нынче, и она долго, недоверчиво озирала полутемную сторожку, погасший камелек, опрокинутый стул, разоренное ложе, на котором она лежала совершенно нагая, чуть прикрытая какой-то ветхой ряднинкою, вдыхая горьковатый аромат сухих трав, который теперь навеки будет связан для нее с памятью об этой ночи.
Данила, сконфуженно отводя глаза, подал барыне одежду, в беспорядке раскиданную на полу, и торопливо вышел.
Мария сползла с лежанки и с трудом оделась. Рубашка была разорвана чуть не до пояса, и пришлось изрядно повозиться, прежде чем она хоть кое-как стянула разорванные края.
Шалая улыбка витала на ее припухших, измученных губах. Она вспомнила стыдливо опущенные глаза Данилы и тихонько рассмеялась. Он, конечно, все понял, да вот ведь какая беда: Марии ничуть не было стыдно, хотя она даже не видела лица того, с кем предавалась любви. О, как это… как это было, Боже!.. Кто бы ни возлег с нею нынче ночью — случайный прохожий, оживший призрак, ангел небесный, да хоть филин, принявший образ человека! — в его объятиях она испытала величайшее счастье. Даже мимолетное воспоминание наполнило ее тело такой истомой, что Мария прижала руки к груди, унимая бешеный стук сердца. Нет. Нет! Такое испытать еще раз… нет, невозможно. Это был, конечно, не человек. Знала она мужчин — ну и что? Воистину, вечность смилостивилась над ней, а это случается лишь раз в жизни.
Ох, ноют ноженьки, ноют родимые! Да как же в седло сесть после такой-то ноченьки!
Прикусив губу, она взгромоздилась в седло лишь с помощью Данилы, однако это оказалось еще полдела. Главное было — в седле удержаться! Конек попался норовистый, и Мария ничего вокруг не видела, пытаясь усмирить его. Ее бросало то в жар, то в холод, она то сбрасывала плащ, то вновь укутывалась в него. Все плыло, качалось перед глазами… наверное, она заболела. Ох, не было ли только бредом все пережитое нынче ночью, не от простудной ли ломоты ноет тело?
Невольные слезы набежали на глаза, и тут рука Данилы вцепилась в узду ее коня.
— Погодите, барышня! — пробормотал он тревожно. — Кажется, нам надо убраться отсюда.
Мария огляделась. Они стояли возле заставы, пережидая поток возов, всадников и пешеходов, следующих в Париж, но были, похоже, единственными, кто намеревался покинуть город, а потому на них с любопытством поглядывали и здоровенный сержант, придерживающий створку ворот, и какая-то неопрятная толстуха с недовязанным чулком на стремительно мелькающих спицах.
Мария в испуге воззрилась на нее. Это была, наверное, одна из вязальщиц — городских мастериц, которые сделались теперь непременной принадлежностью всяких митингов, шествий, поджогов, убийств, казней: выкрикивали непристойности, оскорбляли осужденных на смерть, подстрекали палачей, призывая уничтожать все и вся — и при этом непрестанно вязали длинные полосатые чулки, которые носило простонародье. Ходили слухи, что некоторые из них собирали волосы с отрубленных голов и вплетали их в свое вязанье — на счастье, как уверяли они, ведь волосы казненного приносят счастье! Такие чулки стоили вдвое дороже, и сейчас Мария, как завороженная, уставилась на клубок, пляшущий в кармане передника вязальщицы. При мысли, что и в эту нить могут быть вплетены чьи-то волосы, к горлу подступила тошнота, и она качнулась в седле, да крепкая рука Данилы удержала.
— Эй, толстуха Луизон! — крикнул сержант, прикладываясь к бутылке, которую бесцеремонно выхватил из корзины какого-то торговца, а тот и не думал протестовать, лишь поощрительно улыбнулся в ответ. — А ну, спроси у этой красотки бумаги на выезд!
Вязальщица, поименованная толстухой Луизон, вразвалку двинулась к Марии, и та едва не лишилась чувств от страха. Луизон! Луизою называют парижане гильотину! Чудилось, сама смерть приближается к ней в образе страшной вязальщицы.
— Бумаги наши в порядке! — угодливо выкрикнул Данила, свесившись с седла и показывая сверточек, перевязанный черной шелковиною.
— Давай их сюда! — приглашающе махнул сержант, и Данила ринулся к нему, пытаясь оттеснить толстуху, пробивавшуюся к Марии, но она увернулась с ловкостью, неожиданной в ее увесистом теле, и схватила за узду коня Марии, впившись своими маленькими глазками в ее распушившиеся косы.
— Эй, красотка! — прошептала она, распялив губы в щербатой улыбке. — Продай мне свои кудряшки!
Мария захлопала глазами. Что за бред!
Толстуха сорвала с головы чепец, обнажив почти лысую голову:
— Думаешь, мне шиньон понадобился? Нет, уже и прикалывать не к чему. Но штука в том, что… — Она поманила Марию нагнуться и зловонно прошипела: — Мэтр Сансон [228] говорит, что слишком мало голов сваливается в корзину. Мои товарки расхватывают волосы наперебой, я уж который день не поспеваю. Я заплачу тебе сколько скажешь — ливр, если хочешь! — а ты срежь косы. Ну кому знать, что они живые, а не с головы какого-нибудь дохлого аристо? Таких мне на двадцать пар чулок хватит, не меньше. Или одежой откуплюсь — я снимала тут кое-какие вещички с казненных, среди них есть синее шелковое платье — как раз на тебя!
Мария обморочно качнулась в седле, и толстуха Луизон воздела кверху свой толстый грязный палец:
— Ты не думай, я кровь отстирала, ничего не будет заметно. Продай косы! Вот у меня и ножницы есть!
Вязальщица потянулась к всаднице с огромными ножницами, и Марии показалось, что не их ржавая сталь коснется сейчас ее головы, а ледяное лезвие гильотины!
Пронзительно взвизгнув, Мария отшатнулась, невольно натянув поводья; шальной конек вздыбился, коротко заржав, и опустил кованые копыта на голову grose Luison.
Вязальщица рухнула, залитая кровью, и крик Данилы: «Беги! Скорее!» — потонул в реве крестьян и ремесленников, только что мирно входивших в город.
Марию мгновенно стащили с коня, скрутили руки и, пока волокли к сержанту, в клочья изорвали одежду, исщипали до синяков, едва не выдрали волосы, в кровь разбили губы, а после двух-трех ударов под ребра она едва могла дышать.
Данила, выдавший себя своим неосторожным криком, тоже был связан, скручен, валялся в пыли. Марию бросили рядом, и она как блаженство ощутила этот миг неподвижности, свободы от чужих, немилосердных рук, да беда, длился он недолго, ибо сержант рывком вздернул ее на ноги и, прищурясь, вгляделся в бледное, перепачканное пылью и кровью лицо.
— Сдается мне, что ты не так уж проста, красотка! А ведь и впрямь красотка… — Он провел ногтем с черной каймою грязи по голой груди Марии, и все, что она могла сделать для своей защиты, это выплюнуть в лицо сержанта кровь, наполнявшую ее рот. В следующее мгновение она опять лежала на земле и сквозь кровавую пелену смотрела на сержанта, который, небрежно утеревшись рукавом, принялся нарочно медленно отстегивать свою саблю.
Данила рвался, кричал, бранясь и плача, но сержант, не оборачиваясь, тюкнул его кулаком в голову — тот и умолк, замер в пыли кучкой окровавленного тряпья.
— Господи, прими душу раба твоего… — прошептала разбитыми губами Мария и закашлялась, понимая, что о ней уже некому будет помолиться. Каждый вздох причинял нестерпимую боль, а так хотелось еще раз, последний раз вдохнуть живой, пахнущей ветром свежей прохлады! Ну уж скорее, что ли… Мария чуть приподнялась навстречу сверканию смерти, уже занесенной над ней. Вот теперь она и правда никогда не забудет вчерашней ночи, эта память уйдет с нею… далеко! И, несмотря на дикую боль в избитом теле, она улыбнулась своим воспоминаниям, но тут же испуганно встрепенулась при звуке громкого, грубого, словно бы чугунного голоса:
— Завязать в мешок и утопить!
Она уже где-то слышала этот негнущийся бас! Она уже испытала прежде мертвую хватку этой огромной ручищи, она уже видела это багровое лицо… и Мария с ненавистью уставилась в ухмыляющееся лицо Жако, от всего сердца ненавидя сейчас даже не его, а весь этот мир, который был столь безобразно тесен.
* * *
Что было потом, Мария понимала смутно. Жако тащил ее куда-то; следом бежали люди: Мария слышала их крики. Потом запахло речной свежестью, и Мария с наслаждением вдыхала этот запах.
Она открыла глаза. Водная гладь чудесной реки стелилась перед нею. Сена текла мирно и величаво, во всю ширь раздвигая берега.
Марию потащили в воду, но Жако сморщился:
— Да ну, будет тут болтаться у берега, дохлятина. Дайте камень побольше, чтоб сразу на дно! Обойдемся и без мешка, жалко тратить на эту падаль.
У берега болталась лодчонка. Жако положил на дно обвязанный веревками камень, сел на весла, намотав на кулак веревку, которая была накинута на талию Марии, а другим концом привязана к камню, и мощными гребками начал удаляться от берега.
Толпа шумела, махала, желала удачи.
Волны захлестывали лицо Марии, тащившейся за кормой, и всех сил ее хватало лишь на то, чтобы подтягиваться на веревке как можно выше, пытаясь не захлебнуться. Мысль — зачем стараться? не сейчас, так через пять минут, не все ли равно? — даже не приходила в голову. Мария уже не думала ни о чем, не было сил, но инстинктивно в последнем проблеске жизни еще ловила воздух, безотчетно ощущая ласковую прохладу воды, смывавшей с нее кровь и грязь и даже смягчившей боль.
Лодка замерла, веревка натянулась — Жако подтащил жертву к правому борту, и она в последний раз увидела толпу на берегу. Жако удерживал ее одной левой рукой, правой же без малейших усилий перевалил через борт камень.
Страшная сила его тяжести потащила Марию вниз, в глубину, однако тотчас — она даже не успела захлебнуться! — такая же сила выхватила ее на поверхность. Лезвие ножа блеснуло… освободив ее от камня.
Не веря себе, Мария вцепилась обеими руками в лапищу Жако, который, чудилось, без малейших усилий удерживал ее над водой.
Успокаивающе мигнув, он обернулся к берегу и помахал свободной рукой, как бы показывая: дело сделано!
Радостный крик был ему ответом, и Жако сросся с веслом, удерживая лодку, которую едва не развернуло течением.
— Сможешь держаться за борт? — проговорил Жако, не оборачиваясь к Марии. — Недолго — главное, спуститься пониже по течению, тогда я возьму тебя в лодку, мы дождемся ночи и вернемся в город.
Мария все еще цеплялась за его ручищу, как за последнее прибежище в жизни, забыв, что ей некогда пришлось пережить от этих рук, и Жако нехотя, как бы с натугой усмехнулся:
— Не бойся. Меня ведь послал за тобой Ночной Дюк — я не мог его ослушаться. Берись за борт, ну? Мне надо грести, не то с берега заметят неладное.
Мария заставила себя перехватить пальцы, удерживаясь за борт. Тупое оцепенение охватило ее: как могла она удержаться за борт; как случилось, что спасение пришло к ней в образе чудовища Жако и кто такой этот Ночной Дюк.
Филин [229], что ли? Не тот ли филин, чей крик сопровождал ее этой ночью? Не тот ли, что ухал на кладбище? Не тот ли, с кем она…
Это было ее последней мыслью.
Глава XXIX НОЧНОЙ ДЮК
— Вы что, всерьез думаете, что в рядах мятежников царит единство? Они едины только в стремлении убить как можно больше ни в чем не повинных людей. И каждый желал бы увидеть среди них и своих соратников!
Какой громкий, резкий голос! Мария чуть повернула голову, пытаясь укрыться от него, но он звучал со всех сторон сразу:
— У каждого свои гнусные цели. В этом так называемом общем движении каждый ищет личного обогащения, возвышения, прославления, прикрываясь громкими словами о благе государства. Если они что-то и делают для счастья народа и Франции, то по чистой случайности, сами себя не помня при этом от изумления.
Вокруг негромко засмеялись, и другой голос, манерно глотая окончания слов, подхватил:
— Каждый из них хочет как можно скорее разбогатеть, нажить огромное состояние быстро и не работая.
— Ну, господин маркиз, — не без лукавства перебил женский голос, — вы тоже нажили свое состояние быстро и не работая.
— Да, — под общий хохот согласился тот, кого назвали маркизом, — можно сказать, это произошло в одночасье, когда мой отец свалился с коня и сломал себе шею. Но могу поклясться перед Богом: я не приложил к этому ни малейших усилий, и руки мои чисты. Вдобавок, я с рождения звался де Вильон. А эти убийцы, эти паршивые демократы и прислужники черни, совсем недавно были буквально снедаемы страстью к аристократизму, тому самому, который сейчас ими безжалостно истребляется. Даже изменяли свои фамилии: урод Дантон, вообразите, подписывался д'Антон, а злодей Деробеспьер превратился в Максимилиана де Робеспьера. Ничтожный выскочка в прошлом — неподкупный [230] убийца сейчас!
Вокруг зааплодировали, и Мария с усилием открыла глаза.
Что такое? Где она? Судя по разговорам, в одном из роялистских салонов, где злословили по поводу революционеров столь же охотно, как до 1789 года — относительно королевы. Судя по виду, это один из залов того замка, где ее некогда держали Вайян и Жако, принуждая написать завещание. Господи, как давно это было! Восемь, девять лет назад? Она не могла сосредоточиться и вспомнить. Что толку считать? Целая жизнь прошла с тех пор, прежнее счастье или хотя бы надежды на него давно сметены тем же ураганом, который разрушил Францию, а старый враг Жако, которого она считала не человеком, а неким орудием убийства, вчера спас ей жизнь. Или это было не вчера? Сегодня? Месяц назад?
— Тише, господа! Нас просили говорить потише! — послышался женский голос. — О, кажется, наша гостья очнулась.
— Да и мы здесь, слава Богу, не хозяева, — проворчал де Вильон. — Все мы только гости Ночного Дюка! Но ей пора, пора очнуться. Уж три недели без памяти!
Ну вот. Стало быть, три недели… Однако где же она очутилась, где провела эти три недели, лишившись сознания посреди Сены, под жарким полуденным солнцем? Что это за склеп?
— Вот именно, — поддакнул женский голос — должно быть, Мария произнесла слово «склеп» вслух. — Однако все мы тут вполне живые. Бог милосерден — вы тоже очнулись. — И Мария различила в полумраке, при рассеянном свете двух факелов, склонившееся над ней худощавое лукавое лицо — некрасивое, но очень милое.
— Кто вы? — прошептала она, едва шевеля сухими, как бумага, губами. — И можно мне попить? — Вот странно, что она еще мечтает о воде после того жуткого плавания по Сене!
Незнакомая дама подсунула к ее губам край глиняной посудины, и Мария глотнула что-то столь кислое и терпкое, от чего сразу закашлялась, а голова ее закружилась так, что она со стоном ухватилась за незнакомку, пытаясь остановить круговращение мира.
— Вот черт! — проворчала дама. — Дайте-ка другой ковшик, граф. Да нет, с водой! Эта бедняжка слишком слаба, чтобы начинать свое воскрешение из мертвых с глотка старого доброго бордо.
И, с ловкостью заправской сиделки приподняв голову Марии, она поднесла к ее губам ковш с водой, от которого та смогла оторваться, лишь выпив все до капли.
— Вам надо поесть, — озабоченно сказала дама. — Сегодня у нас свежие лепешки и яблок без счету, а к вечеру, когда трактир закроется, обещали принести сыру. Вина вообще вволю: тут за стенкой погреба; мы пробили туда дыру и наслаждаемся жизнью. Давайте съедим кусочек лепешки, а, милочка?
— Потом, — пролепетала Мария. — Кто вы? Кто такой Ночной Дюк? И где я?
— Меня зовут Беатриса, маркиза д'Монжуа, — различила Мария в темноте улыбку дамы. — Вы меня забыли, баронесса? Нас познакомила Гизелла д'Армонти как-то на балу… То был последний бал в нашем доме, поэтому я помню все, что там происходило. В тот вечер погиб ваш муж — наверное, мое имя вызывает у вас неприятные чувства, да? Но, поверьте, маркиз, который тогда поддерживал этого le renegat [231] Орлеанского, теперь жестоко в этом раскаивается… впрочем, там, где он сейчас пребывает, каждый в чем-то раскаивается! — И она перекрестилась с таким видом, который не оставлял сомнения в том, что бедняга д'Монжуа не просто скончался, но и прямиком попал в ад.
Мария смотрела на нее со слабой улыбкой. Она была так изнурена, что упоминание о д'Монжуа и даже Гизелле д'Армонти не всколыхнуло в ней ничего. Та жизнь прошла, исчезла и что проку предаваться раздумьям о ней? Сейчас гораздо важнее развеять этот гул в голове, туман в глазах, избавиться от тошноты, одолевшей ее после глотка вина.
Беатриса еще что-то говорила, но у Марии не быдо больше сил слушать ее.
— Вы так добры, — прошептала она невпопад, страшным усилием пытаясь удержать глаза открытыми, но веки ее упали.
Последнее, что она слышала, был стук жестяных кружек, ударившихся друг о друга, и голос маркиза:
— За его величество короля Людовика Французского! Да сохранит его Господь и пошлет ему победу над врагами!
— Виват! — поддержали мужские голоса.
— Тише, тише, господа! — шепотом воскликнула Беатриса. — Ночной Дюк просил соблюдать тишину!
Снова это имя… Но спросить, кто это, Мария уже не могла: она крепко спала.
* * *
Она проснулась от голода, ощущения сосущей тошноты. Казалось, никогда в жизни ей так не хотелось есть!
— Беатриса! — позвала Мария шепотом, но никто не отозвался.
Она с усилием села, потом попыталась встать. Ноги подкашивались от слабости, но стоять она могла. С изумлением Мария обнаружила, что вместо лохмотьев на ней вполне приличное платье — правда, измятое и очень простое, но чистое и не рваное. А под платьем даже сорочка. И возле топчана стоят кожаные туфли. Ну, это роскошь! А в кармане платья — гребешок. Вот счастье-то!
Мария кое-как пригладила закурчавившиеся волосы, переплела косу, еле двигая пальцами, которые сделались странно худыми и как бы слишком длинными; огляделась. Вокруг, прямо на полу, прикрывшись каким-то тряпьем, чтобы согреться в холодном и сыром подвале, спали вповалку люди — мужчины, женщины, дети — человек десять-двенадцать, не меньше.
Держась за стенку, Мария дотащилась до большого дубового стола, на котором горой были навалены лепешки, и, дрожа от восторга, съела одну. Хотелось бы еще, но полусырое тесто тяжело легло в желудке, и ее снова замутило. Легче стало только после двух яблок, которые она запила водой; и снова отправилась в обход залы. Нет, конечно, это не комната замка — просто какая-то пещера, вырубленная в скале; может быть, катакомбы. Говорят, под Парижем есть какие-то катакомбы, заброшенные древние каменоломни, которые выходят на поверхность в самых неожиданных местах, чуть ли не на Монмартре, да еще в старом монастыре кармелиток, где некогда Луиза де Лавальер искала убежище от страсти Людовика XIV. Не к выходу ли ведут вот эти вырубленные в камне ступеньки? А если к выходу, то куда именно?
Она поднялась по ним — лестница была невысока; толкнула тяжелую дверь. Та бесшумно приотворилась — верно, петли были хорошо смазаны, и Мария очутилась в темном коридоре.
Здесь она постояла, унимая новый приступ слабости и тошноты. Тем временем глаза привыкли к темноте, и Мария отчетливо, как днем, различила грубо обтесанные стены, а вдали еще одну дверь, из-за которой доносился неясный гул голосов.
Мария добрела и до этой двери, но открыть ее не удалось, как она ни старалась. Попыталась найти какую-нибудь щелочку, но дверь словно бы сливалась со стеной — тяжелая, окованная полосками железа. Придется вернуться, Мария с досадой стукнула кулаком по засову — что-то щелкнуло… и как раз напротив ее изумленных глаз откинулась узенькая планочка, открывая небольшое отверстие. Впрочем, отверстие это было заделано полоской даже не стекла, а толстой слюды, так что Марии пришлось сильно напрягать зрение, прежде чем удалось различить языки пламени, пляшущие вроде бы перед самым ее лицом.
* * *
Пожар! Там, за дверью, пожар! Единственный выход из катакомб перекрыт огнем!
Она в ужасе отпрянула, но тут же сообразила, что железо, которое оковывало дверь, совсем холодное. Как же, если такой пожар? И не чувствуется запаха дыма — наверное, дверь герметично входит в проем. Что-то здесь не так, и Мария, одолев страх, снова приникла к окошечку.
Да, огонь какой-то не такой… не сплошной стеной стоит, а поигрывает на поленьях… на поленьях в очаге! Ну конечно! Вот и рогатки, на которых жарится нанизанная на вертел поросячья тушка, Мария, получается, смотрит в очаг через тщательно замаскированное отверстие в его задней стенке? О, а это что такое? Вернее, кто такой?
Румяное от жара лицо под белым поварским колпаком заглянуло в очаг, толстая ручища поправила вертел, а потом, сжавшись во внушительных размеров кулак, украдкой погрозила… кому? Да кому же еще, как не той, что стояла за потайной дверью?
Мария испуганно отпрянула, и планка упала на свое место, закрывая окошко.
Вот те на! Через эту дверь, стало быть, можно попасть наружу, в какой-то трактир или кухню, Бог весть. Нет, судя по гулу голосов, там все же трактир. Когда очаг не горит, открывается дверь, люди входят, выходят… правильно, ведь Беатриса тогда сказала: «К вечеру, когда трактир закроется, обещали принести сыру».
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: в катакомбах, в этом подвале, скрываются аристократы — прячутся от кровавой революционной секиры, которая чем дальше, тем проворнее рубит головы, не разбирая правого и виноватого. Верно, руководит здесь загадочный Ночной Дюк. Какую же участь уготовил он для этих людей? И долго ли им предстоит здесь оставаться? Или есть возможность бежать?
Так или иначе, но, сидя здесь, под дверью, ответа не высидишь. Голова опять кружится…
Мария еле дотащилась до своей жалкой постели, старательно закрыв за собою потайную дверь, и легла, свернувшись клубком, подтянув колени к подбородку. Перед глазами мельтешили разноцветные полосы, в висках стучало. Еле-еле удалось согреться, и только тогда она смогла уснуть. Но и во сне не угасли в ее глазах цветные огоньки, мелькали, сворачивались в спирали, кружились множеством каруселей… Потом огоньки вдруг обратились в стаи золотых рыбок, пронзающих серые волжские волны и, словно искры, оставляющих за собой золотистый след. Рыбки взлетали в воздух и снова падали в воду, кружились вокруг Марии, она пыталась поймать их голыми руками, но они были слишком юркие, увертливые, и она впустую хлопала по воде ладонями, вздымая тучи брызг и слабея от смеха…
— Проснитесь, господа! — раздался негромкий голос, чудилось, над самым ее ухом, и Мария всполошенно вскинулась.
Зала была освещена довольно ярко — четырьмя или пятью факелами, которые держали люди, одетые как типичные bonnets rouges [232], «красные колпаки», однако обитатели подвала смотрели на них без всякого страха, вполне доверчиво, и послушно отзывались, когда невысокий худощавый человек выкликал их фамилии, читая по спискам, которые он держал близко к свету факела, чтобы лучше видеть:
— Граф Лавуа? Прошу вас сюда. Графиня Лавуа? Сударыня… Виконт Лавуа? Здесь. Хорошо.
— Кто это? — шепнула Мария Беатрисе д'Монжуа, которая сидела рядом. — Ночной Дюк?
— Нет! — ответила та почти с негодованием. — Это простолюдин какой-то, а Ночной Дюк — истинный аристократ даже по виду: высокий, очень стройный, худощавый, седой. У него орлиный нос и вполне благородное лицо. Едва ли более величавой внешностью мог обладать какой-нибудь храбрый рыцарь, сподвижник Генриха IV!
Но тут прозвучало имя маркизы д'Монжуа, и Беатриса, сжав на прощание руку Марии, побежала к кучке людей, которая все увеличивалась.
— Маркиз де Вильон! Барон Сирези! Баронесса Сирези! Граф Сент-Эньен! Граф Луи-Блан! — вызывал незнакомец.
Скоро все обитатели подвала, кроме Марии, собрались вокруг незнакомца, и он отложил список:
— Господа, прошу вас вполне доверять мне. С сегодняшнего дня я — Ночной Дюк.
Ему ответом был общий недоуменный возглас, глашатай поднял руку:
— Не тревожьтесь. Этот благородный человек, которому обязаны своим спасением десятки и сотни людей, жив. Только ранен. Но уже почти здоров! Однако республиканцы напали на его след, он в опасности, поэтому правительство его страны приказало ему покинуть Францию.
— О, так он не француз? — разочарованно вздохнула Беатриса. — Ах, какая жалость, какая жалость! Настоящий шевалье!
— Настало время и вам покинуть пределы нашего несчастного отечества, господа, — продолжал новый Ночной Дюк. — В трактире каждому дадут чистую одежду и документы, со всякой группой пойдет проводник. Будем надеяться, что через два, ну, три дня все вы окажетесь в безопасности, однако умоляю и взываю к вашей чести: никто и никогда, ни при каких обстоятельствах, не должен открывать место вашего убежища и тайну вашего спасения. Судя по тому, как развиваются во Франции события, наши тайные убежища еще не раз сослужат свою службу. Итак, господа, прощайте. Даст Бог, еще свидимся в Париже, не обагренном кровью! Да здравствует король!
— Да здравствует король! — дружно ответили все и послушно потянулись к выходу.
Задержалась только Беатриса. Она бросилась к Ночному Дюку и воскликнула:
— Сударь, вы забыли одну из нас! В вашем списке нет баронессы Корф. Неужели вы оставите ее здесь одну?
Ночной Дюк почтительно склонился к руке Беатрисы:
— Я восхищен вами, маркиза. Немногие способны в смертельной опасности думать не только о себе, но и о других. Но вы не тревожьтесь. О баронессе позаботятся. Я не забыл о ней… — Он подвел Беатрису к ступенькам, помог взойти по ним и только тогда обернулся к Марии: — Разве я мог о ней забыть? А ты? Ты меня помнишь? И Мария наконец-то узнала того, чей голос уже давно пробудил в ней неясную тревогу и смутную, радостную надежду. Ну конечно! Если появился Жако, то разве мог Вайян не оказаться поблизости?!
* * *
Вайян шел к ней, улыбаясь и протягивая руки, а Мария стояла недвижима, глядя на него, в голове у нее, по странной прихоти памяти, вдруг возникли заросли розовых кустов, поплыл удушливый сладкий запах; остатки жалкой лепешки и яблок неудержимо ринулись к горлу, так что ей лишь невероятным усилием воли удалось подавить тошноту и броситься в объятия Вайяна с той же радостью, с какой он обнял ее. Она безотчетно произносила слова изумления, слова дружбы, о чем-то спрашивала, не улавливая ни единого слова из того, что он отвечал, а в голове шел стремительный подсчет: три недели без памяти, значит, почти месяц с того дня, как она вернулась в Париж. Да еще две недели в пути — почти неделя до Мон-Нуар, потом обратно. Ее месячные дни должны были прийти самое малое две недели назад. Небывалая задержка! Нет, отчего же? Бывалая! Бывалая всего лишь дважды в жизни. И такая же изнурительная тошнота и слабость… ах, нет, голод и усталость здесь ни при чем! Не может быть… Мамаша Дезорде уверяла, что ничего не может быть. А доктор потом сказал, что если только каким-то чудом… И вот свершилось! Чудо свершилось! Кто бы ни был с нею в ту ночь в сторожке — случайный прохожий, оживший призрак, ангел небесный, да вообще неведемое je ne sais quot [233], — ему удалось сотворить чудо. Нет, это был, конечно, посланник Божий — недаром в голосе его слишался ей голос любимого, единственного.
Будет ребенок. Она обхватила себя руками, словно хрупкий фарфоровый сосуд, наполненный благовонным, священным мирром [234]. Чудилось, что эта ужасная бурая жизнь — вдруг утихла, улеглась, по волшебному мановению обратившись в сладкозвучное, легкое веяние утреннего ветерка, что летит над Волгой, чуть касаясь ознобной, сизой волны, чуть колышет зеленый разлив лугов, чуть треплет золотые ленты в косах осенних берез…
Будет, будет ребенок! Да если и оставались хоть какие-то сомнения, стоит лишь вспомнить нынешний сон, чтобы все они развеялись в одночасье. Разве может быть более верная примета беременности, чем во сне живую рыбу руками ловить?!
— Мария! — Вайян тряс ее за плечи. — Мария! Что с тобой? Пойдем скорее. Тебе нужен свежий воздух!
Он почти вынес ее через полутемный коридорчик в трактирную залу, где уже никого из беженцев не было, только вытирал посуду знакомый Марии толстяк в белом колпаке — тот самый, кто так выразительно грозил ей кулаком, поворачивая на вертеле румяного, поджаристого поросенка.
— Дай-ка нам чего-нибудь поесть, Шарло, — скомандовал Вайян, и трактирщик расторопно поставил перед Марией миску с овощной похлебкой, к которой она тут же припала и не оторвалась, пока не съела все до последней капли.
— Ну, слава Иисусу, — серьезно сказал Вайян, глядя в ее порозовевшее лицо. — А я уж решил, что ты умираешь.
— Это от счастья, друг мой, — блаженно улыбнулась Мария — и едва не расхохоталась, когда Вайян смущенно отвел глаза, приняв ее слова на свой счет. — Ну да, я счастлива видеть тебя! Только вот что скажу: я помню тебя смелым, хитрым, опасным — всяким. Но ведь эту революцию и сделали такие, как ты! Третье сословие! Что же приключилось? Почему ты спасаешь таких, как я? Как Беатриса д'Монжуа?
Глаза Вайяна приняли мечтательное выражение.
— О, Беатриса… Какая женщина, да? Вот характер! Вот сила духа? А глаза… в ней больше, чем красота! Если вся эта заваруха когда-нибудь кончится, непременно разыщу ее — и попрошу ее руки. Вот как ты думаешь: пойдет маркиза д'Монжуа за графа Сент-Юзефа?
Мария осторожно отодвинулась от Вайяна. Похоже, ее старый приятель спятил…
— Да я в своем уме, поверь! — захохотал Вайян. — Но меня теперь зовут граф Этьен Вайян де Сент-Юзеф. Я купил этот титул, и замок, и земли — поверь, все чин-чинарем!
— Ку-пи-ил? — протянула Мария. — На что, Бога ради? На деньги, которые тебе заплатила Евдокия Головкина?
И они оба зашлись хохотом, да таким, что трактирщик Шарло с опаской поглядел на них, решив, что теперь уж оба наверняка спятили.
— Нет, — наконец отдышавшись, махнул рукой Вайян. — После того маскарада я от нее чуть жив ушел. Матушка моя к тому времени преставилась, так что никакая сила меня возле этой дамы удержать не могла. А деньги… ты что, забыла про «Mont de Piété».
— Деньги Мердесака? — ахнула Мария. — Ты взял их?!
— Все до единого су! — гордо кивнул Вайян. — Он был мне должен, как ты помнишь. Я забрал свою долю с процентами за все свои страдания — и за все, на что он хотел обречь тебя. Все равно у Мердесака не было наследников; так зачем добру пропадать? Так что я теперь богатый и знатный человек, и мне есть что терять, если эти бешеные добьются своего во Франции. А не хотелось бы! Вот я и помогаю по мере сил бежать тем, на кого указует кровавый революционный перст. Честно говоря, революция разразилась ужасно не вовремя. Я как раз подумывал жениться. Эх, будь ты свободна, я бы к тебе посватался. А так придется довольствоваться маркизой д'Монжуа!
Мария смотрела на него с нежностью. Вайян! Сухой и упругий, как виноградная лоза; веселый и способный развеселить любого, как виноградное вино! Он, верно, не знает, что барон Корф уже больше года как погиб, да и зачем ему знать? Не нужен ей Вайян! Никто-никто не нужен ей, кроме той золотой рыбки, что вспыхнула в самой сердцевине ее существа!
— Вайян, помоги мне уехать, — тихо попросила Мария. — Я хочу вернуться домой. Мне нужно в Марсель.
— Да, — кивнул он. — Там будет ждать корабль, я знаю. Мне сказал Ночной Дюк.
— Тот, первый? — поняла Мария. — Кто он? Я обязана ему жизнью. Он послал Жако спасти меня.
— А это было нелегко сделать! — усмехнулся Вайян. — В смысле, убедить Жако. Он никак не мог забыть maudit charme и тот маскарад. Пришлось ему пригрозить, что, если с твоей головы упадет хоть один волос, я выгоню его с должности управляющего.
— Жако — твой управляющий? — не веря своим ушам, вскричала Мария, и Вайян обреченно кивнул:
— Ну не мог же я бросить старого товарища без всяких средств к существованию. Кстати, от него немало пользы. Мои батраки так его боятся, что виноградники в Сент-Юзеф приносят теперь вдвое больший урожай, чем прежде. Жако — очень верный человек. И только ему я без опаски могу доверить тебя. Он тебя довезет до Марселя в целости и сохранности!
— А что дальше?
— Русскому кораблю находиться в марсельской гавани сейчас небезопасно. Он будет ждать на рейде, посылая каждую ночь шлюпку к утесу Сент-Юзеф — на нем стоит мой замок. Эдакое воронье гнездо… Там, знаешь ли, даже фамильные привидения есть. Сказать по правде, я так увлекся сельским хозяйством, что руки до замка у меня просто не дошли. Но ты там долго не пробудешь, уверяю тебя. Там тебя ждут. Встретишь и своих старых знакомых… — тараторил Вайян, окутывая плечи Марии теплым плащом, провожая ее на улицу и усаживая в крестьянскую повозку, груженную пустыми бочонками.
Мария примостилась на козлах рядом с Жако, который улыбнулся так широко и добродушно, как если бы всю жизнь был ее лучшим другом.
— Прощай! Будь счастлива! — прошептал Вайян, еще раз крепко целуя Марию — и колеса загрохотали по мостовой. Только тут Мария сообразила, что Вайян так и не сказал ей, кто же такой Ночной Дюк.
* * *
Мария знала, что путешествие будет нелегким и раже опасным, однако чувствовала себя с Жако как за каменной стеной, если только существует стена, которая покупает сыр, ворует в садах яблоки и виноград (только это и могла есть Мария — от всего остального ее жестоко рвало), спит у дверей ее комнаты или на полу возле постели, одним угрюмым взглядом исподлобья разгоняя подозрительных людишек, непременно желающих вызнать, для чего и куда такая странная пара без устали пробирается по дорогам Франции — то в повозке, то верхом, то пешком. Жако действительно был надежен, как стена, и так же молчалив, так что Марии, хоть она и сама не страдала болтливостью, порою чудилось, что Жако либо дал обет молчания, либо просто опасается проговориться. Марии показалось даже, будто она ослышалась, когда в один прекрасный день — они шли над морем по склону горы, по которой расползались желтеющие виноградники, — Жако вдруг слегка сжал ее руку (но и этого было достаточно, чтобы Мария сморщилась от боли!) и сказал, указывая куда-то вдаль:
— Шато Сент-Юзеф!
Смеркалось. Вечер был тих и прохладен. Скупое солнце лениво поигрывало в зеленых морских волнах.
И Марии почудилось, будто время повернулось вспять, ибо замок на скале был точной копией того рыцарского замка, в котором много лет назад ее держали Вайян и Жако. И каменистая дорога вилась узкой лентой — Марии даже померещилось, что вот-вот из ворот, через ветхий от годов подвесной мостик прогрохочет колесами громоздкий дормез, запряженный четверкой отощавших лошадей, которыми правит ошалевшая от собственной смелости русоволосая девчонка с разными глазами… Она еще улыбалась призраку собственной юности, когда из ворот, прихрамывая, вышел человек, при виде которого Мария мельком, с испугом оглянулась на Жако, как если бы ожидала увидеть не молчаливого великана, а грозного Харона, который каким-то чудом пешком провел ее через Стикс в самое царство мертвых, ибо перед нею стоял не кто иной, как Данила.
Пожалуй, Мария за последнее время то ли просто устала, то ли устала удивляться, потому что ей показалось, будто она заранее знала, что увидит здесь именно Данилу. Ну конечно, подсказка была в лукавой улыбке Вайяна, в его словах: «Там тебя ждут. Ты встретишь там своих старых знакомых!» И она с восторгом кинулась на шею Даниле, расцеловала его и спросила:
— Как же ты спасся? И почему я не видела тебя в катакомбах?
— Да меня там и не было, — усмехнулся бывший куафер, бывший кучер Данила. — Когда Жако потащил вас к реке, я очухался, хотел за вами бежать, да меня кто-то схватил, втащил в повозку — и ну погонять! Это был Вайян — он мне сказал, что сам-то старинный приятель ваш, а о вас, мол, более беспокоиться нечего, вы все равно что уже спасены. Я бы к вам в тот же день прибился, да беда — Ночной Дюк был ранен, за ним ухаживать нужно было, меня Вайян с ним сюда отправил, а вас пообещал к нам сюда прислать при первой возможности. Я уж лоб себе отбил, поклоны земные отвешиваючи, — почти сердито потер лысину Данила.
— Господи, говорю, да когда же ты смилуешься над ней, над страдалицей?! Нельзя же так, говорю, Господи?
— Он и смиловался, — улыбнулась Мария, смахивая слезы счастья. — Вот вижу тебя… Вот скоро придет корабль, домой поплывем. Смиловался Господь, а?
— Только вот что, барышня, — решительно сказал Данила. — Ночной Дюк — он…
— Он здесь? — перебила Мария, и почему-то решительность спала с Данилы, как верхний лист с капустного кочана.
— Здесь-то здесь… — прошептал он, переглядываясь с Жако. — А что, разве Вайян вам ничего не сказал?
— Сказал, что я встречу тебя, а еще кто должен быть?! — с некоторым раздражением воскликнула Мария, которой до смерти надоели все недомолвки, и это внезапно наступившее молчание, и многозначительные переглядывания Данилы и Жако, вроде они решали про себя: достойна ли госпожа их узнать какую-то высшую тайну или недостойна.
Данила робко взял ее за руку:
— Вы только не гневайтесь, барышня. Хитрец этот Вайян! Так я и знал, что он все мне на плечи свалит!
— Да что — все?! — воскликнула Мария уже вне себя от ярости, и Данила, как бы поняв, что солому жевать далее небезопасно, зачастил, сбиваясь и проглатывая слова:
— Я об том, барышня, что Ночной Дюк — он не простой человек. Ранен был бессчетно, жизни людские спасая, а еще прежде считался и вовсе погибшим.
Данила взглянул на Жако, и тот энергичным одобрением закивал своей огромной головой.
— Ну вот… — Данила набрал побольше воздуху. — Стало быть, все думали, что он погиб. Его бросили в Сену, а он был не убитый, а только раненый, и добрые люди, рыбаки, его выловили, а был он в беспамятстве, и долго не мог в себя прийти, и память потерял, а потом решил жене своей не открываться, потому что думал, будто она…
— Погоди! — с досадой перебила Мария. — Не части так. Что ты врешь? Решил жене своей не открываться? Как он мог решить, если память потерял?
Данила смотрел на нее, вытаращив глаза.
— Экая ж вы, барышня! — вдруг выкрикнул он с обидою. — Сами, что ли, не понимаете? Ну, утратил память, а потом она воротилась. И тогда уж он решил жене своей… А, нет! — вдруг выставил ладонь Данила. — А вот не скажу я вам больше ничегошеньки, коли вы на меня как на дурака какого-то смотрите! Ни словечка не скажу! Пусть все само собою…
Он не договорил — вверху, на башне замка, ударил выстрел, и все трое в тревоге задрали головы. Мария увидела высокую фигуру, которая появилась на вершине башни и замахала руками, указывая на море, куда тотчас воззрились и все они.
— Корабль! — прошептал Данила. — Лопни мои глаза — корабль!
Жако тер слезящиеся глаза, но напрасно; его широкая физиономия имела обескураженное выражение: он ничего не видел.
Мария напряглась так, что у нее лоб заломило, но наконец досмотрелась: неясная точка, маячившая на горизонте, приобрела очертания крошечного кораблика.
Она молитвенно прижала руки к сердцу. «Сокол» прилетел! «Сокол» из России! Неужто к исходу пришли ее беды?
— Эй? — послышался вдруг голос Жако. — Глядите-ка!
Данила обернулся, ахнул и ринулся с дороги в заросли, таща за собой Марию. Они едва успели затаиться, как из-за поворота показалась вооруженная толпа.
* * *
— Услышали выстрел. Беда. Теперь пойдут в замок. Нельзя, нельзя! Нам ведь лодке надобно сигнал подать! — бормотал Данила.
— Чего причитаешь? Бежим скорей в замок! — ткнул его в бок Жако. — Ночной Дюк знает, что делать надо!
— Бежим! — воскликнула и Мария, да осеклась: толпа уже выходила к воротам замка.
— Сюда! Здесь короче! — шепотом позвал Данила, и все трое, обдирая руки и ноги о камни и заросли колючего татарника, принялись взбираться по камням к малой пещерке, вырубленной в скале. К изумлению Марии, это оказалась часовенка: грубый каменный алтарь, несколько сальных свечей, даже чаша для святой воды, в которой Жако торопливо смочил пальцы и заставил Данилу и Марию сделать то же самое:
— Вы пришли за помощью к Сент-Юзефу, так держитесь как подобает.
Пробежав часовенку, они поочередно прошмыгнули в каменную расщелину. Данила проворно вскочил на отросток скалы. Жако с легкостью необычайной забросил туда же Марию, пыхтя, вскарабкался сам — и Мария ахнула, когда они оказалися в одном из залов замка.
— Ваше сиятельство! — крикнул Данила. — Вы видите? Они идут.
— Конечно, вижу! — отозвался откуда-то сверху голос, при звуке которого дрожь прошла у Марии по спине. — Вас никто не проследил? Ну, поджигайте!
Мария подумала, что Ночной Дюк — а это, верно, был он — решил поджечь замок, но это ее не то что не испугало, а как бы прошло мимо сознания. Она будто во сне наблюдала за Данилой и Жако, которые зажигали огоньки в нескольких плошках и разбегались с ними по комнатам. Вот замелькали синие таинственные, призрачные огонечки в боковом крыле, заметались в окнах. Сгущалась тьма, и синие огоньки казались все более призрачными и пугающими, а потому толпа, сгрудившаяся внизу, вдруг поредела: решив, что в замке беснуются призраки, люди бросились наутек.
Марии тоже, конечно, стало бы жутко, если бы могла она испытывать ныне хоть какое-то чувство, кроме ужасной опустошительной усталости.
Она стояла, не отводя глаз от окна, всем телом, всем существом своим ощущая, что Ночной Дюк стоит позади нее. Совсем близко, так, что, казалось, она слышит неистовое биение его сердца. И не могла заставить себя обернуться.
Догадка — нет, прозрение! — пригвоздило ее к месту, словно coup de foudre, как любят говорить французы. Вот именно, удар молнии! Внезапный удар, уничтоживший, испепеливший ее в одно мгновение.
Значит, его считали погибшим, а он решил не объявляться, не открываться жене, потому что… потому что подозревал, будто она заодно с его подлым убийцей? И, может быть, подстроила убийство так же бессердечно, хладнокровно, как незадолго до этого — бутафорскую дуэль на улице Карусели? Он не верил ей, не верил ей ни в чем с тех самых пор, как она впервые солгала ему во тьме петербургской спальни… давно, давно, жизнь назад!
Да что это, о чем она? Что все обиды перед тем, что он жив, он с ней, он стоит рядом. Он жив?!
Облегчение было так бесконечно велико, что слезы хлынули из глаз. Мария обернулась, слепо протянула руки, не видя куда, и чуть не закричала от счастья, когда он схватил ее ладони и вдруг рывком притянул к себе, стиснул в объятиях так, что она едва не лишилась дыхания, — и наконец-то губы их встретились. После бесконечной, вечной разлуки.
Синие, серебряные, золотые цветы, сполохи, искры бились, мелькали в глазах Марии, сплетались спиралями, кружились счастливыми огненными каруселями, хороводы, стаи каких-то крошечных золотых птиц… нет, рыбок, как в том сне… и сердце ее вдруг перестало биться, когда она вспомнила свой сон — и то, что он означал.
Ноги ее подогнулись, она выскользнула из рук Димитрия и, рухнув на колени, зашлась в таких отчаянных, безутешных рыданиях, что он какое-то время оцепенело стоял над ней, совершенно потерянный, не зная, что делать, а потом повалился рядом, снова сомкнул вокруг Марии кольцо своих рук, пытаясь голосом, поцелуями, нежностью, безмерной любовью своею разбить ту стену отчаяния, которую она вдруг воздвигла между ними.
Но слова его любви, за каждое из которых Мария еще недавно отдала бы десять лет жизни, сейчас чудились ей пустым звуком; она мотала головой, она вырывалась, она ничего не хотела слышать. Зачем, если она сейчас опять потеряет его, потеряет навеки? Но больше она не будет молчать, больше не будет лгать. Лучше сказать сразу, пока она еще не привыкла к мысли, что он жив, к счастью его любви; лучше пусть уйдет сейчас — тогда, возможно, у нее останется надежда выжить… или умереть. Но без него! Теперь уже навек без него! И, с трудом прорываясь сквозь слезы, она выкрикнула:
— Ах, почему вы медлили? Почему не сказались раньше?!
Он потянулся к ней, но Мария отшатнулась:
— Постойте! Вы должны узнать сразу! Я не знала, что вы живы. Я не ждала… я не…
Что толку нагромождать нелепые оправдания, когда он все равно не поверит ни одному из них?
— Однажды я была на кладбище ночью. И там, возле вашей могилы, ко мне подошел кто-то… я думала, может быть, ваш призрак или ангел небесный. Он был со мной всю ночь. О Димитрий, если бы я знала, что вы живы? С той ночи я беременна!
И, выкрикнув эти роковые слова, Мария смогла наконец вздохнуть свободно. И когда она заговорила вновь, голос ее был уже спокоен; только эхо былых слез дрожало в нем:
— Вы можете судить меня как хотите. Вы можете расстаться со мной… сейчас или потом. Но я никогда и ни за что не расстанусь с этим ребенком. Я не знаю, кто его отец. Я зачала его… от мечты! От тоски по вас!
— Я знаю, кто его отец, — глухо проговорил Корф. — Тогда на кладбище с вами был я.
— Хозяин! — ворвался в залу Данила. — С корабля дали сигнал, что шлюпка вышла! Мы зажигаем огонь на маяке!
И он осекся, увидев, что они так и стоят на коленях друг против друга, не отводя напряженных взоров, торопливо шепча какие-то слова, как если бы он не вбежал, не закричал во весь голос, а всего лишь чайка крикнула вдали.
Данила постоял, посмотрел на них, потом перекрестился и вышел на цыпочках.
— Но вы же говорили, у вас не может быть детей, — недоверчиво пробормотала Мария.
Корф сокрушенно покачал головой:
— В тот день я был вне себя от горя. Я любил вас с самого первого мгновения, но так страдал… Я солгал. Простите меня! Всю нашу жизнь изломал я!
— Мы вместе ее ломали, — со вздохом призналась Мария. — Господи! Ну почему я не открыла глаза там, в сторожке! Я боялась, что, если погляжу, вы просто исчезнете. Я ведь думала, это был ангел…
— Ну что ж, — улыбнулся Димитрий, притягивая ее к себе и осторожно целуя в теплый висок. — Если у нас родится дочь, придется назвать ее Ангелиной.
* * *
Забегая вперед, следует сказать, что так они и поступили.
октябрь 1995 — февраль 1996
Нижний Новгород
Примечания
1
Мон-Нуар — Гора ночи (фр.).
(обратно)2
Мятежа (фр.).
(обратно)3
Чревоугодием, обжорством (старин.).
(обратно)4
Но почему, почему (фр.).
(обратно)5
Жаре, духоте (старин.).
(обратно)6
Оставьте нас, господа, что вы, с ума сошли?! (фр.)
(обратно)7
Добрый народ (фр.).
(обратно)8
Карета, предназначенная для дальних путешествий.
(обратно)9
Разгневанная Венера (фр.).
(обратно)10
Аспид (фр.).
(обратно)11
Пренебрежительное прозвище дворян, аристократов.
(обратно)12
Повесить! (фр.)
(обратно)13
Пренебрежительное прозвище короля Людовика XVI, данное чернью во время революции.
(обратно)14
«Луизой» парижане называли гильотину — по имени ее изобретателя хирурга Луи Гильотена.
(обратно)15
Манон — у французов уменьшительное от имени Мари, Мария.
(обратно)16
Ничтожество (фр.).
(обратно)17
Черт побери! (фр.)
(обратно)18
Беспощадная, прекрасная дама — персонаж французской рыцарской поэзии.
(обратно)19
Бедняга! (фр.)
(обратно)20
Разделы церковного служения.
(обратно)21
Святейший Синод — высший церковный орган в России.
(обратно)22
Кошелек — часть мужского головного убора, сетка для косы или пучка волос.
(обратно)23
Здесь — смута, мятеж (устар.).
(обратно)24
Так называли в старину приближенную к госпоже служанку, доверенное лицо и любимицу барыни, ездившую с ней в одной карете и имевшую право сидеть в ее присутствии.
(обратно)25
Переводчика.
(обратно)26
Гонор, фанаберия (устар.).
(обратно)27
Угол горницы, отгороженный занавеской, где хранилась вся бабья утварь и справа, а также сундуки с нарядной одеждой.
(обратно)28
Людоеда (устар.).
(обратно)29
Михельсон Иван Иванович (1740–1817) — генерал от кавалерии, отличившийся, кроме успешных действий в русско-турецкой и русско-шведской войнах, в разгроме повстанческой армий Пугачева в районах Поволжья.
(обратно)30
Род головного убора замужних женщин (устар.).
(обратно)31
Ставни (устар.).
(обратно)32
Младший брат для старшего (устар.).
(обратно)33
Старший брат для младшего (устар.).
(обратно)34
Ласку кони боятся, ибо она их неприметно кусает. Немытик же — одно из названий домового, который, говорят, заезжает неугодных ему лошадей до смерти, сбивает им гриву в колтуны, доводит до болезней.
(обратно)35
То есть с богатой добычей.
(обратно)36
Самые гибельные в болотах места, зияющие провалами, замаскированные приманчивой зеленой травкою.
(обратно)37
Тайном браке (итал.).
(обратно)38
На левом и правом берегах Волги.
(обратно)39
Эти нижегородские разбойники реально существовали в XVIII веке.
(обратно)40
Филин.
(обратно)41
Жердь.
(обратно)42
Молчи, дерьмо! (фр.)
(обратно)43
Чучело огородное (фр.).
(обратно)44
Духов.
(обратно)45
Счастье можно найти только на проторенных дорогах (фр.).
(обратно)46
Княгиня (фр.).
(обратно)47
Бабушкой (фр.).
(обратно)48
Тетушкой (фр.).
(обратно)49
Простите за откровенность (фр.).
(обратно)50
Не так ли? (фр.)
(обратно)51
Веер (фр.).
(обратно)52
Она изящна… и очень привлекательна! (фр.)
(обратно)53
Разрешите, мадемуазель (фр.).
(обратно)54
Ошибка, промах (фр.).
(обратно)55
За великую вольность (фр.).
(обратно)56
Счастливое, удачное время… (фр.).
(обратно)57
Дорогу, господа, дорогу! Идет госпожа Корф (фр.).
(обратно)58
Вся юность моя переселилась в сердце мое! (фр.)
(обратно)59
Жемчужины принцесс! (фр.)
(обратно)60
Халате.
(обратно)61
Пора? (фр.)
(обратно)62
Дамы (фр.).
(обратно)63
Пикантность (фр.).
(обратно)64
Боже мой, какой мужчина! Какой самец!.. Ах, извините, мадам! (фр.)
(обратно)65
Сказка, история.
(обратно)66
Как быстро счастье пролетает! (фр.)
(обратно)67
Министры иностранных дел России и Франции.
(обратно)68
О, заблуждения любви! (фр.)
(обратно)69
Пищу для ума (фр.).
(обратно)70
Я остался из любопытства (фр.).
(обратно)71
Медведя.
(обратно)72
Эта пара — символ супружеской верности в античной мифологии.
(обратно)73
Любовницы.
(обратно)74
То есть монашестве.
(обратно)75
Штатском.
(обратно)76
Так в старину именовались девки-богатырки, промышлявшие в полях разбоем; славянские амазонки.
(обратно)77
Супруга посла (фр.).
(обратно)78
Плиний-Старший, I в., римский писатель, ученый, автор знаменитой «Естественной истории» в 37 книгах — энциклопедии научных знаний античного времени.
(обратно)79
Имеется в виду Олег, прозванный Вещим, первый исторически достоверный князь Киевской Руси, в 907 г. совершивший поход в Византию.
(обратно)80
Это смерть! (фр.)
(обратно)81
Вкусный хлеб, вкусный суп, вкусное мясо, хорошее пиво (фр.).
(обратно)82
Неделя поминовения усопших после Пасхи; родительская неделя.
(обратно)83
Стой! Кто вы? (нем.)
(обратно)84
Спасибо, господа! (нем.)
(обратно)85
Любезных иностранцев (фр.).
(обратно)86
Городке (фр.).
(обратно)87
Ваш покорный слуга, мадам! (фр.)
(обратно)88
Прощайте! (фр.)
(обратно)89
Тихо! (фр.)
(обратно)90
«Каменного мешка», подземной тюрьмы (фр.).
(обратно)91
Лужичане (лужицкие сербы, венды, полабские славяне) населяли до Х в. область на юго-востоке Германии (в районе Дрездена), но были завоеваны германскими феодалами. Утратив самостоятельность, сохранили, однако, славянский язык и культуру.
(обратно)92
Перед дамой (фр.).
(обратно)93
Vaillant — отважный (фр.). Paillard — распутник (фр.).
(обратно)94
Не стоит огорчаться (фр.).
(обратно)95
Остряки (фр.).
(обратно)96
Проклятые чары (фр.).
(обратно)97
Прекрасная дама (фр.).
(обратно)98
Клянусь честью! (фр.)
(обратно)99
Да, да, конечно! (фр.)
(обратно)100
Боже мой, дорогая (фр.).
(обратно)101
Персонаж немецких волшебных сказаний, дева-русалка.
(обратно)102
Берегись! (фр.)
(обратно)103
Бежевый (фр.).
(обратно)104
Наедине (фр.).
(обратно)105
То есть последнюю, самую ядовитую.
(обратно)106
Завсегдатаев (фр.).
(обратно)107
Добрая и нежная Антуанетта (фр.).
(обратно)108
Графиня (фр.).
(обратно)109
Лютеция не город, но целый мир! (лат.)
(обратно)110
Крошка (фр.).
(обратно)111
Простите за откровенность (фр.).
(обратно)112
Не так ли? (фр.)
(обратно)113
Деревушку (фр.).
(обратно)114
Нерадивый супруг (фр.).
(обратно)115
Чрезвычайная поспешность все портит! (фр.)
(обратно)116
Круглый чепец, который носили старухи (фр.).
(обратно)117
Распутницы (фр.).
(обратно)118
Бедные малютки (фр.).
(обратно)119
Душенька (фр.).
(обратно)120
Бог красит молниями вершины гор (нем.).
(обратно)121
Всегда что-нибудь да прилипнет (лат.).
(обратно)122
Персонаж романа Монтескье «Персидские письма».
(обратно)123
Строгий тюремный режим (лат.).
(обратно)124
То есть жалобы.
(обратно)125
Славлю тебя, Господи (молитва).
(обратно)126
По-гречески… по-античному (фр.).
(обратно)127
В ее возрасте она уже бесполое существо (фр.).
(обратно)128
Репутация (фр.).
(обратно)129
То же, что гризетка — девица веселого поведения.
(обратно)130
Воришек (фр.).
(обратно)131
Пристанище воров, нищих, бродяг, убийц, куда опасалась сунуться даже полиция; символическое название парижского дна.
(обратно)132
Mont — гора (фр.). Перевод названия ломбарда как «благочестивый процент» — идиома.
(обратно)133
Vidangeur — ассенизатор (фр.).
(обратно)134
Древнее название красного коралла.
(обратно)135
Живость, пылкость (итал.).
(обратно)136
Medre — дерьмо; sac — мешок (фр.).
(обратно)137
Слово «mont» — «гора» — имеет также значение «куча».
(обратно)138
Да здравствует королева! (фр.)
(обратно)139
Публичный дом (фр.).
(обратно)140
Навязчивой идеей (фр.).
(обратно)141
Нелепой мелодрамой (фр.).
(обратно)142
Страсть удовлетворена, и нежность исчезает вместе с нею (фр.).
(обратно)143
Коробочка для конфет.
(обратно)144
Западный ветер, очень сильный и мучительный, вызывающий головную боль.
(обратно)145
Элегантности (лат.).
(обратно)146
Слухи, сплетни (фр.).
(обратно)147
Залом для представлений (фр.).
(обратно)148
Злодеи! (фр.)
(обратно)149
Моя прелесть (фр.).
(обратно)150
Любовное исступление (фр.).
(обратно)151
«Опасные связи» (фр.).
(обратно)152
Очень тихо (ит.).
(обратно)153
Тихо (ит.).
(обратно)154
Внезапно сильнее (ит.).
(обратно)155
Громко, сильно (ит.).
(обратно)156
Крик (ит.).
(обратно)157
Какая женщина (фр.).
(обратно)158
Моя красавица (фр.).
(обратно)159
Это ужасно! (фр.)
(обратно)160
Свидание (фр.).
(обратно)161
Все к лучшему! (фр.)
(обратно)162
Я люблю луну, когда она освещает прекрасное лицо! (фр.)
(обратно)163
Я и простился с Эвридикой: с горем что моим сравнится? (фр.) — ария из оперы Глюка «Орфей и Эвридика».
(обратно)164
Сатана (фр.).
(обратно)165
Натура с замедленной реакцией (фр.).
(обратно)166
Полицейский, который занимается слежкой.
(обратно)167
Все русские дипломаты, работавшие за границей в XVIII веке, могли именоваться министрами, кроме курьеров.
(обратно)168
Безупречного человека (фр.).
(обратно)169
Уединение (фр.).
(обратно)170
Любовные записочки (фр.).
(обратно)171
Делом чести (фр.).
(обратно)172
Каламбуром, остроумным словцом (фр.).
(обратно)173
Я знаю, как мне поступить! (фр.)
(обратно)174
Смерть! Смерть! (фр.)
(обратно)175
О, я презираю женщин! (фр.)
(обратно)176
Вершины галиматьи (фр.).
(обратно)177
Мир желает быть обманутым (лат.).
(обратно)178
Мужа без страха и упрека (фр.).
(обратно)179
Высшего света (фр.).
(обратно)180
Последний крик моды (фр.).
(обратно)181
Знаменитый шут и друг короля Генриха III.
(обратно)182
Так называли астрономов в древности.
(обратно)183
Не понимаю! (исп.)
(обратно)184
Здравствуй, любезный (фр.).
(обратно)185
Венгерский, позднее гусарский мундир, украшенный галунами.
(обратно)186
Доброй тетушки (фр.).
(обратно)187
Международная шлюха (фр.).
(обратно)188
Международная шпионка (фр.).
(обратно)189
О них не вещают вдохновенные поэты (лат.).
(обратно)190
Шпионов (фр.).
(обратно)191
Небрежность, распущенность (фр.).
(обратно)192
Любимая портниха Марии-Антуанетты.
(обратно)193
О Боже! (фр.)
(обратно)194
Крытая галерея, соединяющая части здания или отдельные павильоны.
(обратно)195
Один из трех верховных богов (наряду с Брахмой и Вишну) индуистских религий, связанный с фаллическим культом плодородия.
(обратно)196
Секретно! (фр.)
(обратно)197
Искусство пения (ит.).
(обратно)198
Премьер-министр Англии в описываемое время.
(обратно)199
Стряпчий (фр.).
(обратно)200
Блюдо типа пельменей (фр.).
(обратно)201
Фонарь с отражателем, дающий очень яркий свет.
(обратно)202
Знаменитый швейцарский водопад.
(обратно)203
Ты уверен, не так ли, мой друг! (англ.)
(обратно)204
Бродяжка, ничтожество (нижегород. диалектн.).
(обратно)205
Подлинный любовник.
(обратно)206
О времена! О нравы! (лат.)
(обратно)207
Город в Германии.
(обратно)208
Мартин Лютер — основоположник Реформаторской церкви, протестантизма, лютеранства, которое было противопоставляемо католицизму.
(обратно)209
Тайная полиция Людовика XVI.
(обратно)210
Дом свиданий.
(обратно)211
Персонаж романа «Опасные связи», олицетворение искусителя и развратника.
(обратно)212
Egalite — равенство (фр.).
(обратно)213
Непросвещенная толпа, темная чернь (лат.).
(обратно)214
Да здравствует нация! (фр.)
(обратно)215
Свобода, равенство, братство — лозунг французской революции.
(обратно)216
Аристократов — на фонарь! (фр.)
(обратно)217
То есть некрашеного.
(обратно)218
Аристократов — на фонарь! Аристократов — на фонарь! (фр.)
(обратно)219
Летописец, создатель «Повести временных лет» — свода исторических событий Древней Руси.
(обратно)220
«Дети Франции» — так назывались традиционно королевские дети.
(обратно)221
Титулы старшего из братьев французского короля и его жены.
(обратно)222
Знаменитый адвокат, оратор, один из идеологов первого этапа революции.
(обратно)223
Это письмо, как и некоторые другие, было помещено только в первом французском издании (1782 г.) «Опасных связей». Впоследствии не переводилось и не воспроизводилось.
(обратно)224
То есть принадлежащего ордену Св. Франциска.
(обратно)225
Ради короля Франции (фр.).
(обратно)226
Французских революционеров называли санкюлотами: sans culottes — без штанов.
(обратно)227
Сладостная мечта! (фр.)
(обратно)228
Парижский палач времен революции.
(обратно)229
Слово «duc» по-французски имеет два значения: «герцог» и «филин».
(обратно)230
Такое прозвище дал себе Робеспьер, один из вождей французской революции.
(обратно)231
Ренегата, отступника (фр.).
(обратно)232
Одно из прозвищ революционеров, которые носили красные фригийские колпаки, позднее получившие название «корманьолки».
(обратно)233
Нечто (фр.).
(обратно)234
Благовонное масло, освященное церковью в Великий четверг для свершения таинства миропомазания и приобщения к благодати.
(обратно)

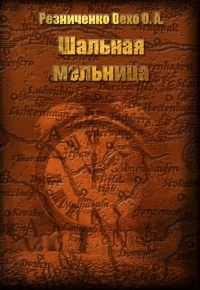
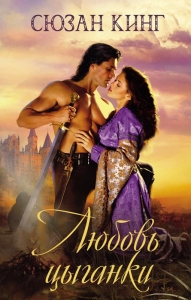
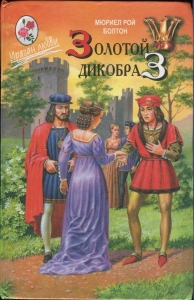
Комментарии к книге «Звезда королевы», Елена Арсеньева
Всего 0 комментариев