Пролог
Только французам присуще это удивительное качество: умение вести беседу. В то время, как во всех других странах Европы спорят, разговаривают, разглагольствуют, — во Франции беседуют. Когда я, будучи в Италии, Германии или Англии, объявлял вдруг, что завтра отправляюсь в Париж, кое-кто удивлялся по поводу такого внезапного отъезда и спрашивал:
— Что вы собираетесь делать в Париже?
— Я собираюсь беседовать, — отвечал я.
И тогда все, уставшие от болтовни, удивлялись, зачем нужно проезжать пятьсот лье, чтобы побеседовать.
Только французы понимали и говорили:
— Вы — счастливчик!
И только один или двое, находившиеся рядом, бросали все и возвращались со мной.
На самом деле, можете ли вы представить что-либо более замечательное, чем узкий круг людей из пяти или шести человек, собравшихся в уголке элегантного салона, беседующих по своему усмотрению на любую тему, какая им нравится, и, едва исчерпав все свое остроумие, они переходят к другому вопросу, который кажется еще важнее и возникает из шуточек одних, парадоксов других и всеобщего остроумия; затем и этот, пережив свой апогей, исчезает, испаряется, как мыльный пузырь, в то время как хозяйка дома с чашкой чая в руке передвигается, как живой челнок, от одной группы к другой, неся серебряную нить общего разговора, выясняя мнения, задавая вопросы, вынуждая время от времени каждую группу бросать свое слово в эту бочку Данаид[1], называемую беседой.
В Париже есть пять или шесть салонов, похожих на только что описанный мною, где не танцуют, не поют, не играют, но который, однако, покидают лишь в три или четыре часа утра.
Один из таких салонов принадлежит моему доброму другу, графу де М…; когда я говорю «моему доброму другу», я должен был бы сказать «доброму другу моего отца — графу де М…», который избегает говорить о своем возрасте, хотя никто и не собирается его об этом спрашивать; ему, скорее всего, уже шестьдесят пять или шестьдесят восемь лет, но, благодаря его тщательной заботе о своей персоне, на вид ему дашь не более пятидесяти; это один из последних и самых обходительных представителей бедного оклеветанного восемнадцатого века; в конце концов он тоже разуверился в своем веке и, как большинство недоверчивых людей, стал страдать манией преследования всех, кто считал иначе.
В его характере были заложены два принципа: один шел от сердца, другой — от разума, и они постоянно боролись друг с другом. Эгоист по воспитанию, по темпераменту, он был великодушен. Он родился в эпоху джентльменов и философов, аристократизм дополняет в нем мыслителя; он еще успел увидеть все, что было великого и остроумного в предыдущем веке. Руссо[2] наградил его званием гражданина, Вольтер[3] предсказал, что он будет поэтом, Франклин[4] порекомендовал ему быть честным человеком.
Он говорит об этом безжалостном 93 годе, как граф де Сен-Жермен[5] говорил о гонениях Силлы[6], о резне Нерона[7]. Он видел своим скептическим взглядом, как проходили поочередно убийцы, участники септембризад[8], палачи — сначала в своей колеснице, затем в двухколесной телеге. Он был знаком с Флорианом[9] и Андре Шенье[10], Демустье и мадам де Сталь[11], с шевалье де Бертэном[12] и Шатобрианом[13], он целовал руку мадам Гальен, мадам де Рекамье[14], принцессе Боргезской[15], Жозефине[16] и герцогине де Берри[17]. Он видел взлет и падение Наполеона[18]. Аббат Мори[19] называл его своим учеником, а господин де Талейран[20] — своим последователем; граф М… — это словарь дат, перечень фактов, учебник анекдотов, неисчерпаемый фейерверк слов.
Чтобы быть уверенным в сохранении своего превосходства, он никогда не желал ничего записывать; он рассказывает — вот и все.
Его салон, как я только что сказал, — один из пяти или шести салонов Парижа, в которых, хотя нет ни игры, ни музыки, ни танцев, остаются до трех или четырех часов утра. Правда и то, что на пригласительных билетах он пишет своей рукой: «Будем беседовать», — как другие печатают: «Будем танцевать».
Такой способ приглашения отталкивает банкиров и биржевых маклеров, но привлекает умных людей, которые любят разговаривать; людей искусства, которые любят слушать; мизантропов всех классов, которые, несмотря на просьбы хозяек дома, не желают танцевать, ибо считают, что контрданс назван так потому, что противостоит танцу.
У него был восхитительный талант вовремя уметь останавливать обсуждение теории, которая может ранить чье-то самолюбие и прекратить дискуссию, которая угрожает стать скучной.
Однажды некий молодой человек с длинными волосами и с длинной бородой говорил с ним о Робеспьере[21], чьей системой он восхищался и чью преждевременную смерть он оплакивал, предсказывая его реабилитацию. Он говорил, что это человек, который не был оценен по достоинству.
— К счастью, он был казнен, — ответил граф де М…, и разговор на этом закончился.
Итак, примерно через месяц я оказался на одном из подобных вечеров, когда, почти исчерпав все темы и не зная, о чем еще говорить, начали говорить о любви. Это произошло как раз в один из таких моментов, когда разговор стал всеобщим, когда обмениваются фразами из одного конца салона в другой.
— Кто говорит о любви? — спросил граф де М…
— Доктор П… — произнес чей-то голос.
— И что он говорит?
— Он говорит, что это доброкачественный прилив крови к мозгу, который можно излечить при помощи диеты, пиявок и кровопускания.
— Вы так говорите, доктор?
— Да, разумеется, и я считаю, что обладание ценится выше: это и быстрее, и надежнее.
— Но, доктор, представьте, что обратились с вопросом не к вам, который нашел всеобщую панацею, а к кому-нибудь из ваших коллег в клинике, менее сведущих, чем вы: «Можно умереть от любви?»
— О Боже! Это вопрос, который нужно задавать не медикам, а больным, — возразил доктор. — Ответьте, господа, скажите, дамы.
Конечно, мнения по этому серьезному вопросу разделились. Молодые люди, у которых было время, чтобы погибнуть от разочарования, ответили «да»; старички, которые могли скончаться от катаров или от удара, отвечали «нет». Женщины качали с сомнением головой, ничего не говоря: слишком гордые, чтобы сказать «нет», слишком искренние, чтобы сказать «да».
Все усиленно старались объясниться, так что никто ничего не слышал.
— Итак, — говорил граф де М…, — я выведу вас из затруднительного положения.
— Вы?
— Да, я.
— А как?
— Рассказав о любви, от которой умирают, и о любви, от которой не умирают.
— Значит, есть несколько видов любви? — спросила одна женщина, менее, чем кто-либо из присутствующих имеющая право задать подобный вопрос.
— Разумеется, мадам, — ответил граф, — но чтобы перечислить все виды любви, понадобится слишком много времени.
— Вернемся, однако, к моему предложению: скоро полночь, у нас есть еще два или три часа. Вы сидите в удобных креслах, огонь весело горит в камине. На улице холодная ночь, идет снег; итак, вы — те идеальные слушатели и в тех условиях, о которых я давно мечтал. Я вас задержу, я вас не отпущу. Огюст, прикажите, чтобы заперли двери, и возвращайтесь с известной вам рукописью.
Молодой человек встал — это был секретарь графа, великолепный молодой человек, необыкновенно изысканный, о котором шепотом говорили, что у него должность более высокая, чем секретарь, можно было предположить, что граф де М… испытывает к нему отеческую привязанность.
При слове «рукопись» раздались восклицания, и гости начали возражать, говоря, что чтению не будет конца.
— Извините, — произнес граф, — но не бывает романа без предисловия, а я не закончил свое. Вы можете подумать, что я сочинил эту историю, и, прежде всего, я утверждаю, что ничего не выдумал. Вот как я узнал о ней. Будучи душеприказчиком одного из моих друзей, который умер восемнадцать месяцев тому назад, я обнаружил среди его бумаг мемуары; однако хочу заметить, что это его собственные мемуары, а не наблюдения над жизнью других людей. Это был доктор, поэтому я должен попросить у вас прощения, так как эти мемуары представляют из себя не что иное, как замедленное вскрытие. Не бойтесь, дамы, моральное вскрытие — вскрытие единственное, произведенное не скальпелем, а пером; одно из тех вскрытий сердца, при которых вы так любите присутствовать.
Страницы другого дневника, написанного не его рукой, перемешались с его воспоминаниями, как биография Крейслера[22] с размышлениями кота Мурра. Я узнал этот почерк — почерк одного молодого человека, которого я часто встречал у него, доктор был его опекуном…
Каждая из этих рукописей в отдельности представляла непонятную историю; но они дополняли друг друга, я их прочитал и нашел историю достаточно… — как бы это сказать — достаточно гуманной. Я проявил к ней большой интерес, хотя все считают меня скептиком (счастлив тот, кто имеет какую-нибудь репутацию), и как скептик, не проявлявший ни к чему большого интереса, подумал: если этот рассказ, который меня тронул за сердце — извините, доктор, что я употребляю это слово, сердце не существует, но нужно использовать общепринятые выражения, без них можно быть непонятым, — я подумал: если этот рассказ тронул за сердце меня, скептика, он сможет произвести такое же впечатление на моих современников, а к тому же должен вам сказать, меня щекотало самолюбие: опасность потерять, опубликовав подобное, свою репутацию умного человека, как это случилось с М…, я не помню его имени, вы знаете его, он стал членом Государственного совета… Я начал размещать эти дневники в хронологическом порядке, чтобы рассказ получил смысл; далее я убрал собственные имена, заменив их придуманными мною именами; затем я стал вести рассказ от третьего, вместо первого, лица, и в одно прекрасное утро стал автором двух томов.
— Вы их не напечатали потому, что ваши персонажи еще живы?
— О, нет! Бог мой, нет! Не поэтому, так как оба главных действующих лица отсутствуют: один из них умер восемнадцать месяцев тому назад, а другой покинул Париж две недели тому назад. Вы слишком заняты и слишком невнимательны, чтобы узнать умершего и уехавшего, хотя их портреты похожи. Не поэтому я не стал печатать эту историю.
— А почему?
— Тс-с! Только не говорите об этом ни Ламенне[23], ни Беранже[24], ни Альфреду де Виньи[25], ни Сулье[26], ни Бальзаку[27], ни Дешану[28], ни Сент-Беву[29], ни Дюма[30], а я обещаю для одного из них два первых вакантных кресла в академии, если я не буду ничего делать.
— Огюст, друг мой, — продолжал граф де М…, обращаясь к молодому человеку, который вернулся с рукописью, — садитесь и читайте, мы вас слушаем.
Огюст сел, потом, откашлявшись, развернул листы, облокотился на диван, и, когда все удобно устроились, в глубокой тишине он прочитал следующее.
I
В начале мая 1838 года, когда пробило 10 часов утра, ворота маленького отеля на улице Матюрен открылись и пропустили молодого человека, сидящего верхом на прекрасной лошади рыжей масти, длинные ноги, вытянутая шея которой выдавали ее английское происхождение; за ним через те же ворота того же отеля выехал на почтительном расстоянии слуга, одетый в черное и тоже верхом, но на менее чистокровной лошади.
Этот всадник, которого при первом взгляде можно бы назвать светским львом, был молодым человеком 23–24 лет, в простой, но в то же время изысканной одежде, свидетельствующей, что тот, кто ее носил, имел аристократические привычки с рождения, ибо никакое воспитание не сумеет создать то, чего нет в крови.
Уместно сказать, что его внешность великолепно отвечала его одежде и осанке, и трудно было бы представить что-либо более элегантное и более утонченное, чем это лицо, обрамленное черными волосами и бакенбардами, которому матовая юношеская бледность придавала особый отличительный характер. Этот человек, последний отпрыск одного из самых старинных семейств монархии, принадлежал к тому древнему роду, что угасают с каждым днем и скоро останутся только в истории: его звали Амори де Леонвиль.
А сейчас попробуем заглянуть в душу, перейдем от портрета к чувствам, от видимости к сущности, и тогда мы увидим, что внешняя безмятежность гармонирует с состоянием сердца, ибо лицо — зеркало души. Улыбка, которая время от времени проявляется на его губах и выражает мечтательность его души, — это улыбка счастливого человека.
Итак, последуем за этим человеком, столь одаренным от рождения и счастливой судьбой, и незаурядностью, и красотой, и удачей. Это герой нашей истории.
Он выехал из ворот дома и направил свою лошадь мелкой рысью, тем же шагом достигнув бульвара, проехал Ля Мадлен, предместье Сен-Оноре и добрался до улицы Ангулем.
Въехав в улицу, он едва заметным движением заставил свою лошадь перейти на медленный шаг, а его до сих пор равнодушный и отсутствующий взгляд стал вдруг острым и внимательным. Он смотрел в одну точку: туда, где находился за резной решеткой прелестный маленький особняк, расположенный между двором, полным цветов, и одним из огромных садов, которые в промышленном Париже исчезают с каждым днем, дабы уступить место каменным массам без воздуха, без пространства и без зелени, которые так неудачно продолжают называть домами.
Около этого особняка лошадь остановилась сама, послушная привычке, но молодой человек, бросив долгий взгляд на два окна, плотно закрытых занавесками, защищавшими их от любого нескромного любопытства, продолжал свой путь, оглядываясь и посматривая на свои часы, убеждаясь, что еще не настало время, когда ему могут открыть ворота этого дома.
Молодому человеку нужно было как-то убить время: он спустился в тир к Лепажу и там развлекался, разбив несколько кукол, затем перешел к другим мишеням, а от них — к следующим.
Любое упражнение в ловкости будит самолюбие. Итак, хотя стрелок имел в качестве зрителей только мальчишек, он стрелял так великолепно, что те, кому было нечего делать, окружили его, наблюдая за юношей; он потратил сорок пять минут на это упражнение, а затем снова сел на лошадь, рысью поскакал по дороге дю Буа и через несколько минут оказался на Мадридской аллее. Там он встретил одного из своих друзей, с которым побеседовал о последнем стипльчезе, о будущих бегах в Шантильи — это заняло еще полчаса.
Наконец, третий господин, прогуливающийся у ворот Сен-Жам, только что приехавший с Востока, с таким интересом рассказал о жизни, которую он вел в Каире, в Константинополе, что еще час прошел довольно быстро. Но этот час истек, и наш герой не смог больше оставаться; распрощавшись с друзьями, он пустил свою лошадь галопом и, не останавливаясь и не меняя скорости, вернулся в конец улицы Ангулем, выходящей на Елисейские поля.
Там остановился, посмотрел на свои часы, и, увидев, что они показывали час, слез с лошади, бросил поводья своему слуге, подошел к дому, перед которым останавливался утром, и позвонил.
Если Амори испытывал замешательство, то оно могло бы показаться странным, так как по улыбке, возникшей на лицах слуг при его появлении — начиная с консьержки, открывшей ему ворота ограды, до слуги в вестибюле — можно было понять, что молодой человек считался своим в доме.
И все же, когда посетитель спросил, видели ли господина д'Авриньи, слуга ответил, как ответил бы любому, соблюдая приличия:
— Нет, господин граф, но дамы находятся в малой гостиной.
Так как слуга хотел пройти вперед, чтобы сообщить о приходе молодого человека, граф остановил его, заметив, что эта формальность была бы излишней. Амори, как человек, знающий дорогу, пошел по коридорчику, в который выходили все двери, и через минуту оказался перед полуоткрытой дверью малой гостиной, что позволило его взгляду свободно проникнуть в комнату.
Еще мгновение, и он остановился на пороге.
Две девушки в возрасте восемнадцати-девятнадцати лет сидели напротив друг друга и вышивали, в то время как видневшаяся в дверном проеме старая гувернантка-англичанка вместо того, чтобы читать, смотрела на обеих своих учениц.
Никогда еще живопись — королева искусств — не воспроизводила группу более прелестную, чем ту, которую представляли, почти соприкасаясь, головы двух девушек, так удачно отличных друг от друга по виду и по характеру, что можно было сказать: сам Рафаэль[31] приблизил их одну к другой, чтобы запечатлеть этюд из двух видов красоты, одинаково грациозных, но контрастирующих между собой.
И, действительно, одна из двух девушек, бледная блондинка с длинными волосами, завитыми на английский манер, с голубыми глазами и немножко удлиненной шейкой, казалась хрупкой и чистой девой в духе Оссиана[32], созданной, чтобы парить в облаках, которые северный ветер несет к пустынным горам Шотландии или туманным равнинам Великобритании. Это было прелестное создание, скорее волшебное, нежели земное, почти в духе Шекспира, который, благодаря своему гению, смог привести в реальную жизнь дивные создания, такие, каких никто не встречал до его рождения и каких никто не создал после его смерти, тех, кого он окрестил нежными именами Корделия, Офелия или Миранда[33].
Другая девушка, с черными, заплетенными двойной косой волосами, обрамлявшими ее розовое лицо, со сверкающими глазами, с пурпурными губами; ее движения были живыми и решительными, она казалась одной из тех девушек с золотистым цветом лица, которых Боккаччо собирает на вилле Пальмиери, под солнцем Италии, чтобы слушать веселые сказки Декамерона[34]. В ней светились жизнь и здоровье, ум искрился в ее взгляде, а иногда и грусть — ибо не бывает таких веселых лиц, которые не омрачались бы время от времени, — но даже печаль не могла скрыть приветливого выражения ее лица. В ее меланхолии можно было разглядеть улыбку, как сквозь летнее облако можно чувствовать солнце.
Таковы были эти две девушки, склоненные одна напротив другой над одним вышиванием, а под их иголками появлялся букет цветов, в котором каждая осталась верна своему характеру: одна создавала белую лилию и бледные гиацинты, в то время как другая оживляла букет тюльпанами, медвежьим ушком и гвоздиками ярких и веселых тонов.
Мгновенно окинув все это взглядом, Амори толкнул дверь.
Обе девушки повернулись на шум открывшейся двери и слабо вскрикнули, как две напуганные газели; живой, но мимолетный румянец алого цвета покрыл лицо девушки со светлыми волосами, в то время как ее подруга чуть заметно побледнела.
— Я вижу, что ошибся, не приказав доложить о себе, — сказал молодой человек, подойдя поспешно к блондинке и не обращая внимания на ее подругу, — поскольку я вас напугал, Мадлен. Извините меня, но я, считая себя приемным сыном господина д'Авриньи, всегда веду себя в этом доме, как один из членов семьи.
— И вы поступаете правильно, Амори, — ответила Мадлен. — Впрочем, если бы вы и захотели вести себя иначе, то у вас не получится, я думаю: нельзя потерять за шесть недель привычки восемнадцати лет. Но поздоровайтесь же с Антуанеттой.
Молодой человек, улыбаясь, протянул руку брюнетке.
— Извините меня, — сказал он, — дорогая Антуанетта, но я должен был сначала попросить прощения за свою оплошность у Мадлен: я испугал ее и, услышав крик Мадлен, подбежал к ней.
Затем, повернувшись к гувернантке, сказал:
— Миссис Браун, приветствую вас…
Антуанетта улыбнулась с легкой печалью, пожимая руку молодого человека, и подумала, что она тоже вскрикнула, но Амори этого не услышал.
Что касается миссис Браун, — она ничего не видела, или, скорее, видела все, но взгляд ее оставался бесстрастным.
— Не извиняйтесь, граф, — сказала она, — будет хорошо, напротив, если все будут поступать так, как вы, чтобы излечить это прелестное дитя от ее безумных страхов и внезапного вздрагивания. Знаете, с чем это связано? С ее мечтами. Она создала свой мирок, в который она прячется, как только ее перестают поддерживать в реальном мире. О том, что происходит в ее мирке, я ничего не знаю, но, я думаю, если так будет продолжаться, она покинет один из миров для другого, и тогда мечта станет ее жизнью, в то время как ее жизнь будет мечтой.
Мадлен подняла на молодого человека долгий и мягкий взгляд, который, казалось, говорил:
— Вы знаете, о ком я думаю, когда мечтаю, не правда ли, Амори?
Антуанетта увидела этот взгляд; она постояла, раздумывая, но вместо того, чтобы приняться за работу, села за пианино и, опустив пальцы на клавиши, заиграла фантазию Тальберга[35].
Мадлен принялась за работу, и Амори сел возле нее.
II
— Какая мука, дорогая Мадлен, — сказал совсем тихо Амори, — в том, что мы теперь так редко бываем наедине. Это случайность или это приказ вашего отца?
— Увы, я ничего не знаю, друг мой, — ответила девушка, — но верьте, что я страдаю, как и вы. Когда мы виделись каждый день и каждый час, мы не понимали нашего счастья; как часто бывает, нам понадобилась тень, чтобы сожалеть о солнце.
— Но не можете ли вы сказать Антуанетте или по крайней мере дать ей понять, что она окажет нам большую услугу, удаляя время от времени миссис Браун, которая остается здесь скорее по привычке, чем из предосторожности, и которая, я думаю, не получала приказа наблюдать за нами.
— Я тоже так думаю, Амори, и я не могу понять, в чем дело, но какое-то непонятное чувство меня сдерживает. Как только я открываю рот, чтобы поговорить о вас с моей кузиной, я теряю голос; однако что я могу сообщить ей нового? Она знает прекрасно, что я вас люблю.
— И я тоже, Мадлен, но мне нужно, чтобы вы говорили это вслух, а не шепотом. Я счастлив вас видеть, но мне кажется, что лучше лишиться этого счастья, чем видеть вас среди посторонних, холодных и безразличных людей, которые вынуждают вас скрывать ваш голос и кривить душой, а я не могу вам сказать, как я страдаю от этой скованности.
Мадлен встала, улыбаясь.
— Амори, — сказала она, — хотите помочь мне срезать в саду букет цветов? Я начала рисовать букет, и так как вчерашний завял, я хотела бы составить новый.
Антуанетта живо поднялась.
— Мадлен, — сказала она, обменявшись с подругой взглядом, — тебе не нужно выходить в такую сырую и холодную погоду. Поручи это мне, и я справлюсь, мне это доставит удовольствие.
— Моя дорогая миссис Браун, — продолжала она, — доставьте мне удовольствие, возьмите в комнате Мадлен букет, который вы найдете на маленьком круглом столе Буля[36], в японской вазе, и принесите мне его в сад. Только видя его, я смогу составить такой же.
При этих словах Антуанетта через одно из окон гостиной, служившее дверью, вышла в сад, в то время как миссис Браун, не получавшая никакого приказа по поводу молодых людей и знавшая о том, что их связывало с детства, вышла, не возражая, через боковую дверь.
Амори следил глазами за доброй гувернанткой, затем, очутившись наедине с девушкой, схватил ее за руку.
— Наконец-то, дорогая Мадлен, — сказал он с выражением самой горячей любви, — наконец-то, мы одни. Поторопитесь посмотреть на меня, сказать мне, что вы меня любите, так как после странного изменения отношения ко мне вашего отца я начинаю сомневаться во всем. А что касается меня, вы знаете, что душой и телом я ваш, вы знаете, как я вас люблю.
— О, да! — сказала девушка со счастливым вздохом, поднявшим ее стесненную грудь. — О, скажите мне, что вы меня любите; мне кажется, что такому хрупкому созданию, как я, ваша любовь поможет жить. Видите, Амори, когда вы рядом, я дышу и чувствую себя сильной! До вашего приезда и после вашего отъезда мне не хватает воздуха, а вы так часто отсутствуете с тех пор, как не живете больше с нами. Когда я буду иметь право не расставаться с вами, ибо вы — мое дыхание, моя душа?
— Послушайте, Мадлен, что бы ни случилось, сегодня вечером я напишу вашему отцу.
— И что может быть дурного в том, что наши детские планы наконец осуществились бы? С тех пор, как вам исполнилось двадцать лет, а мне шестнадцать, не привыкли ли мы чувствовать себя предназначенными друг другу? Напишите моему отцу, Амори, и вы увидите, что он не будет сопротивляться с одной стороны — вашему предложению, с другой стороны — моей просьбе.
— Я хотел бы разделить вашу уверенность, Мадлен, но, действительно, с некоторого времени ваш отец странно изменился по отношению ко мне. Обращаясь со мною в течение пятнадцати лет как с сыном, с некоторых пор, мне кажется, он стал видеть во мне чужого. Будучи в этом доме вашим братом, не заставил ли я вас вскрикнуть, когда вошел без доклада?
— А! Этот крик, это был крик радости, Амори. Ваше присутствие никогда не застает меня врасплох, я жду вас всегда, но я такая слабая, такая нервная, что не могу скрыть своих чувств. Не нужно обращать на это внимания, мой друг, со мной следует обращаться, как с той бедной мимозой, над которой мы смеялись, мучая ее когда-то, не думая, что у нее своя жизнь, как и у нас, и что мы ей причиняем боль. Я — как она, ваше присутствие мне доставляет удовольствие, такое же, какое я испытывала прежде на коленях у моей матери. О, Боже, взяв ее у меня, он дал мне вас. Своей матери я обязана жизнью, своим первым рождением, вам — вторым. Она меня дала миру, вы возродили мою душу. Амори, чтобы я была вашей, смотрите на меня чаще.
— О! Всегда, всегда! — закричал Амори, схватив руку девушки, прижавшись к ней горячими губами. — О! Мадлен, я тебя люблю, я тебя люблю!
Почувствовав поцелуй, бедная девушка начала лихорадочно дрожать и, положив руку на сердце, сказала:
— О, не так, не так! Ваш голос слишком страстен, он меня слишком волнует, ваши губы меня обжигают. Пощадите меня, прошу вас. Вспомните о бедной мимозе: я пошла вчера на нее посмотреть, она умерла.
— Ну, Мадлен, как вы пожелаете. Сядьте, Мадлен, и позвольте мне сесть на эту подушку у ваших ног; поскольку моя любовь вам причиняет боль, я только ограничусь разговорами по душам. О, спасибо, Боже! Ваши щеки принимают свой обычный цвет. На них больше нет ни того странного румянца, какой меня поразил, ни мертвенной бледности, что их покрывала при моем появлении. Вам лучше, вам хорошо, Мадлен, моя сестра, моя подруга!
Девушка почти упала в кресло, облокотившись на него, склонив лицо, скрытое длинными светлыми волосами, кончики локонов которых касались лба молодого человека.
Расположившись так, что ее дыхание смешивалось с дыханием возлюбленного, она сказала:
— Да, Амори, да, вы заставляете меня бледнеть и краснеть по своему желанию. Вы для меня словно солнце для цветов.
— О, какой восторг — ободрять вас таким взглядом, оживлять вас словом. Я люблю вас, Мадлен, я люблю вас!
Молодые люди замолчали, во время этого молчания все их чувства, казалось, сосредоточились в их взглядах.
Вдруг в гостиной послышался легкий шум. Мадлен подняла голову, Амори повернулся.
Господин д'Авриньи стоял сзади, сурово глядя на них.
— Отец! — воскликнула Мадлен, откидываясь назад.
— Мой дорогой опекун! — произнес в замешательстве Амори, вставая и приветствуя его.
Господин д'Авриньи, не отвечая, медленно снял перчатки, положил шляпу на кресло и с того же места после минутного молчания, которое показалось часом пытки для молодых людей, сказал коротко и отрывисто:
— Вы еще здесь? Знаете ли, что вы станете очень ловким дипломатом, если продолжите изучать политику в будуарах и отчитываться о нуждах и интересах народов, глядя, как вышивают коврики! Вы не будете долго простым атташе, а перейдете в первые секретари в Лондоне или Санкт-Петербурге, если вы углубите так кстати возможности мыслей талейранов или меттернихов в компании пансионерки.
— Месье, — ответил Амори со смесью сыновней любви и уязвленной гордости — может быть, в ваших глазах я пренебрегаю карьерой, какую вы выбрали для меня, но министр никогда не замечал этого пренебрежения и вчера, при чтении работы, которую меня попросил…
— Министр попросил вас сделать работу! О чем? Об образовании второго жокей-клуба, об элементах бокса в фехтовании, о правилах в спорте, в целом, или в скачках с препятствиями, в частности? О, тогда я удивлен тем, что он удовлетворен.
— Но, мой дорогой опекун, — возразил Амори с легкой улыбкой, — осмелюсь вам заметить, что всеми этими талантами, от которых я получаю удовольствие, в чем вы меня упрекаете, я обязан вашей отцовской заботе. Вы мне всегда говорили: оружие и фехтование, а также знания иностранных языков, на которых я говорю, — это необходимые элементы образования джентльмена девятнадцатого века.
— Да, я хорошо знаю, господин, когда делают из этих талантов развлечения в серьезной работе, но не серьезную работу — удовольствием. А вы типичны для людей нашего времени, которые думают, что знают все, ничего не изучив, и, проведя утром час в Палате, час — в Сорбонне после обеда, час — на спектакле вечером, представляют себя Мирабо[37], Кювье[38], или Жоффруа[39], давая оценку всему, согласно своей гениальности, и мимоходом заглядывая в салоны, на чьих весах взвешиваются судьбы света. Министр вас похвалил вчера, говорите вы? Ну, живите в славной надежде, учитывайте эти высокопарные похвалы, и в день платы долгов судьба сделает вас банкротом: потому что в двадцать три года, управляемый удобным опекуном, вы — доктор права, бакалавр словесности, атташе посольства, потому что вы ходите на праздники во фраке, расшитом золотом по воротнику, потому что вам обещали крест Почетного легиона, может быть, как всем, которые его не имеют еще. Вам кажется, что все сделано, и вам остается только ждать удачи. Я богат, говорите вы, значит, я могу оставаться бесполезным, и после этого прекрасного рассуждения ваш титул джентльмена становится дипломом праздности.
— Но, дорогой отец, — воскликнула Мадлен, потрясенная растущей пылкостью слов господина д'Авриньи, — что вы говорите? Я никогда не слышала, чтобы вы так разговаривали с Амори.
— Сударь! Сударь! — шептал молодой человек.
— Да, — продолжал господин д'Авриньи более спокойно, но мрачно, — мои упреки вас ранят больше, потому что они заслуженны, не правда ли? Вам нужно понять, однако, если вы будете продолжать бесцельную жизнь, то вам нужно отказаться от встреч с опекуном, хмурым и требовательным. О, вы освободились лишь вчера, мой воспитанник. Права, переданные мне по завещанию моим старым другом графом де Леонвилем, не существуют больше по закону, но существуют морально, и я должен вас предупредить, что в наше беспокойное время, когда благосостояние и честь зависят от каприза толпы или народного бунта, нельзя рассчитывать только на себя, и какой бы вы ни были миллионер и граф — отец достойного семейства из предосторожности откажет вам выдать за вас дочь, рассматривая ваш успех на бегах и ваши чины в жокей-клубе как слишком ненадежные гарантии.
Господин д'Авриньи, вдохновленный собственной речью, ходил большими шагами, не глядя ни на дочь, дрожащую как листок, ни на стоящего с нахмуренными бровями Амори.
Глаза молодого человека, которого сдерживало лишь уважение, переходили от взволнованного д'Авриньи, не понимая причин его волнения, на Мадлен, изумленную, как и он сам.
— Но вы не поняли, — продолжал господин д'Авриньи, останавливаясь перед обоими молодыми людьми, онемевшими от этого неожиданного гнева, — значит, вы не поняли, мой дорогой Амори, почему я вас попросил не оставаться дольше с нами. Не следует молодому человеку с таким именем и с таким состоянием изнурять себя в пустой болтовне с девушками; то, что можно делать в двенадцать лет, становится смешным в двадцать три года, и более того, будущее моей дочери, не имеющее ничего общего с вами, может пострадать, как и ваше, от этих постоянных визитов.
— О, господин, господин! — закричал Амори. — Но имейте жалость к Мадлен, вы видите, что вы ее убиваете.
И в самом деле, белее статуи, Мадлен упала без движения в свое кресло, пораженная в сердце словами своего отца.
— Дочь моя, моя дочь! — закричал господин д'Авриньи, становясь таким же бледным, как она. — Моя дочь! Это вы ее убиваете, Амори!
И, бросившись к Мадлен, он взял ее на руки, как ребенка, и отнес в соседнюю комнату.
Амори захотел идти следом.
— Остановитесь, господин, — сказал отец, задерживаясь на пороге, — остановитесь, я вам приказываю.
— Но она нуждается в помощи, — закричал Амори, сложив молитвенно руки.
— Ну, — сказал господин д'Авриньи, — разве я не доктор?
— Извините, сударь, — прошептал Амори, — я думал… я не хотел бы уйти, не зная…
— Большое спасибо, мой дорогой… большое спасибо за ваш интерес. Но будьте спокойны, Мадлен остается со своим отцом, и я позабочусь о ней. Итак, будьте здоровы и прощайте.
— До свидания! — сказал молодой человек.
— До свидания! — произнес господин д'Авриньи ледяным тоном и толкнул ногой дверь, тут же захлопнувшуюся за ним и за Мадлен.
Амори остался на месте, неподвижный, уничтоженный.
В это время раздался звонок, позвавший горничную, и в то же время Антуанетта вернулась с миссис Браун.
— О, Боже! — вскликнула Антуанетта. — Что с вами, Амори, и почему вы такой бледный и расстроенный? Где Мадлен?
— Умирает! Умирает! — крикнул молодой человек. — Идите, миссис Браун, идите к ней, ей нужна ваша помощь.
Миссис Браун бросилась в комнату, куда ей показал рукой Амори.
— А вы, — сказала ему Антуанетта, — почему вы не входите туда?
— Потому что он меня прогнал! — воскликнул Амори.
— Кто это?
— Он, господин д'Авриньи, отец Мадлен.
И, взяв свою шляпу и перчатки, молодой человек бросился, как безумный, из гостиной.
III
Придя домой, Амори застал у себя одного из друзей, который его ждал.
Это был молодой адвокат, его товарищ по колледжу в Сен-Барб, коллега по праву, бакалавр. Ему было примерно столько же лет, как и Амори; имея состояние около двадцати тысяч ливров ренты, он вышел, однако, из плебейской семьи, ничем не прославившейся в прошлом.
Его звали Филипп Оврэ.
Амори был предупрежден слугой об этом непредвиденном визите и решил подняться прямо в свою комнату, чтобы заставить Филиппа ждать его, пока тому не надоест.
Но Филипп был такой хороший парень, что Амори передумал: не надо с ним так обращаться! Он вошел в маленький рабочий кабинет, куда был приглашен его друг.
Заметив его, Филипп встал и подошел к нему.
— Черт возьми, мой дорогой, — сказал молодой адвокат, — я жду около часа. Я уже не надеялся, что увижу тебя, собирался уйти, и я уже давно бы это сделал, если бы не должен был попросить у тебя о важной услуге.
— Мой дорогой Филипп, — сказал Амори, — ты знаешь, как я тебя люблю, тебя не должно обидеть то, что я собираюсь тебе сказать. Ты проиграл в карты или у тебя дуэль? Это две важные вещи, которые нельзя отложить. Нужно тебе заплатить сегодня? Нужно тебе сражаться завтра? В этих двух случаях и мой кошелек, и я сам к твоим услугам.
— Нет, — сказал Филипп, — я пришел ради более важного дела, но не менее спешного.
— В таком случае, я должен объяснить, мой друг, — сказал Амори, — дело в том, что со мной случилось одно из событий, которые полностью переворачивают человека. Я едва соображаю. Все, что ты мне скажешь, несмотря на всю мою дружбу, будет напрасным.
— Бедный друг, — сказал Филипп, — но со своей стороны могу ли я что-нибудь сделать для тебя?
— Ничего, только отложить на два или три дня сообщение, которое ты собираешься сделать; ничего, только оставь меня наедине с самим собой и с событием, которое меня ждет.
— Ты несчастен! Амори несчастен! И это имея одно из самых прекрасных имен и одно из самых больших состояний Франции! Несчастен граф де Леонвиль, у которого сто тысяч ливров ренты! О, Боже! Я тебе признаюсь: следует, чтобы ты сам мне об этом сказал, чтобы я поверил.
— Это, однако так, мой дорогой, да… да… несчастный, очень несчастный, и я считаю, когда друзья несчастны, следует оставлять их наедине со своим несчастьем. Филипп, ты никогда не был несчастным, если ты этого не понимаешь!
— Понимаю я или нет, когда ты меня просишь о чем-то? Амори, ты знаешь хорошо, что я привык выполнять то, о чем меня просят. Ты хочешь остаться один, бедный друг, прощай, прощай!
— Прощай! — сказал Амори, упав в кресло.
Потом, когда Филипп уходил, он сказал:
— Филипп, предупреди моего слугу, что меня нет ни для кого и что я запрещаю входить, пока не позову. Я никого не хочу видеть.
Филипп сделал знак своему другу, что выполнит поручение, и, выполнив его, удалился, напрасно пытаясь понять, какие странные обстоятельства могли заставить Амори впасть в такой глубокий приступ нелюдимости.
Как только Амори остался один, он обхватил голову руками, стараясь вспомнить, за что он заслужил гнев своего опекуна, но ничего не вспомнил, и, бесстрастно спрашивая себя, кто мог бы дать объяснение этому неожиданному гневу, вдруг обрушившемуся на него, он в один миг вспомнил всю свою жизнь, и вся она, как один день, прошла перед его глазами.
Амори, как мы уже отмечали, был одним из людей, одаренных от природы во многих областях.
Природа, создав Амори, одарила его красотой, элегантностью, изяществом; а его отец, умирая, оставил ему древнюю фамилию, монархический глянец которой он закалил в войнах империи, огромное состояние в полтора миллиона, доверенное заботам господина д'Авриньи, одного из выдающихся медиков эпохи, с кем его связывала дружба их отцов.
Кроме того, Амори видел, как его состояние, при умелом управлении опекуном, увеличилось в руках того почти на треть.
Этого было бы достаточно, чтобы оценить его как опекуна, если бы господин д'Авриньи лишь заботливо занимался денежными делами своего воспитанника, но он наблюдал за его воспитанием так, как заботился бы о судьбе собственного сына.
В результате Амори, воспитывавшийся вместе с Мадлен, будучи лишь на четыре года старше ее, испытывал глубокую нежность к ней, — а она смотрела на него, как на брата, — и чувствовал более, чем братскую любовь к той, которую он всегда называл сестрой.
И они с детства, в невинности своих душ и в чистоте сердец, придумали прекрасный план: никогда не расставаться.
Огромная любовь, какую господин д'Авриньи перенес со своей жены, умершей в двадцать два года от болезни легких, на свою дочь, своего единственного ребенка, и почти отцовское чувство, какое он испытывал к Амори, давали молодым людям уверенность, что господин д'Авриньи им не откажет.
Все способствовало тому, чтобы они тешили себя надеждой иметь общее будущее, и это составляло вечный предмет их разговоров с тех пор, как они почувствовали любовь в своих сердцах.
Постоянные отлучки господина д'Авриньи, вынужденного почти полностью отдаваться своим больным, клиентуре, больнице, где он был директором; институту, где он также сотрудничал, позволяли им строить прекрасные воздушные замки, которые укреплялись воспоминаниями о прошлом и надеждами на будущее и казались прочными, как здания из гранита.
Именно в это время безмятежного счастья и мечтаний (Мадлен едва достигла 18 лет, а Амори — 22 лет) ровное и спокойное настроение господина д'Авриньи испортилось.
Вначале они подумали, что такое изменение характера вызвано смертью сестры, которую он очень любил и которая оставила дочь в возрасте Мадлен, ее постоянную подругу и соратницу в учебе и в играх.
Но проходили дни, месяцы, но время, вместо того, чтобы сделать лицо д'Авриньи более светлым, омрачало его все больше, и странно: это плохое настроение было вызвано Амори; и доктор время от времени обрушивался на Мадлен, на свое обожаемое дитя, которое сам любил так, как может любить только мать, и казалось странным, что энергичная и радостная Антуанетта стала любимицей месье д'Авриньи и отняла у Мадлен привилегию быть его первой собеседницей и советчицей.
Кроме всего этого, господин д'Авриньи постоянно хвалил Антуанетту в присутствии Амори и часто стал говорить, что он намерен отказаться от своих планов в отношении Амори и Мадлен, чтобы обратить внимание подопечного на племянницу, которую он взял к себе и на которой, казалось, сосредоточилась его любовь.
Однако Амори и Мадлен, ослепленные привычкой, не заметили этих странностей господина д'Авриньи, вызывавшего их раздражение, но не страдание.
Они полностью доверяли друг другу, и однажды они играли, как дети, какими и были еще, бегая вокруг бильярда: Мадлен прятала цветок, Амори пытался его отнять, но внезапно дверь отворилась, появился господин д'Авриньи.
— Ну, — сказал он с горечью, уже не раз замеченной в его речи, — что значит это ребячество? Разве вам, Мадлен, десять лет? А вам, Амори, не более пятнадцати? Вы видите себя бегающими по лужайке перед замком Леонвиль? Почему вы хотите взять этот цветок, который Мадлен вам не дает? Я думал, что так поступают на сцене в опере только пастухи и пастушки и делают такие пируэты в хореографии, но, кажется, я ошибся.
— Но, батюшка, — осмелилась сказать Мадлен, которая вначале подумала, что господин д'Авриньи шутит, но потом увидела, что тот никогда не был таким серьезным, — но, батюшка, еще вчера…
— Вчера не означает сегодня, Мадлен, — сухо возразил господин д'Авриньи, — быть послушным прошлому, значит отказываться от будущего. И поскольку вы охотно делаете то, что только сейчас проделали, я хочу вас спросить: почему вы отказались от игрушек, от кукол, если вы не видите, что с возрастом ваш долг и поведение должны изменяться? Что ж, я обязан вам об этом напомнить.
— Но, мой добрый отец, — возразил Амори, — мне кажется, что вы слишком строги к нам. Вы считаете нас детьми? О, Боже, вы слишком часто говорили, что бедой нашего века является то, что дети ведут себя, как монашки.
— Я вам это говорил, сударь? Это, может быть, о сбежавших из колледжа, что дает гуманное воспитание этим Ришелье[40] в двадцать лет, этим совершенно равнодушным людям, этим земным поэтам, которые делают из разговоров десятую музу. Но вы, мой друг Амори, если не по возрасту, то по крайней мере по своему положению, должны иметь более серьезные намерения. Если у вас их нет на самом деле, сохраняйте видимость их: впрочем, я пришел, чтобы поговорить с вами о более серьезных вещах. Выйдите, Мадлен.
Мадлен вышла, бросив на отца один из тех прекрасных умоляющих взглядов, что когда-то мгновенно укрощали гнев господина д'Авриньи. Но, без сомнения, господин д'Авриньи понимал, ради кого эти прекрасные глаза умоляли, и оставался холодным и раздраженным.
Оставшись наедине с Амори, господин д'Авриньи прогуливался некоторое время ничего не говоря, а Амори следил за ним с грустью в глазах. Наконец, тот остановился, однако его лицо оставалось таким же строгим.
— Амори, — сказал господин д'Авриньи, — уже давно я должен был вам сообщить то, что вы услышите, и я уже опоздал сказать то, что вы, молодой человек двадцати двух лет, не можете оставаться в доме, где проживают две девушки, с которыми вы не состоите в родстве. Мне нелегко, без сомнения, расстаться с вами, и вот почему я не решался вам сказать, что наша разлука необходима. Но еще более затягивать решение этого вопроса стало бы непростительной ошибкой с моей стороны. Об этом бесполезно дискутировать, не приводите ваших доводов и аргументов — они меня не убедят. Решение принято, и ничто не может заставить меня его изменить.
— Но, добрый и дорогой опекун, — сказал Амори дрожащим голосом, — мне казалось, что вы так привыкли видеть меня рядом с вами и называть меня своим сыном, что вы считали меня членом вашей семьи или по крайней мере человеком, имеющим надежду войти в вашу семью. Разве я вас обидел, думая так? И приговаривая меня к этой ссылке, разве вы меня больше не любите?
— Мой дорогой воспитанник, — сказал господин д'Авриньи, — мне кажется, что меня ничто, кроме обязанностей опекуна, не связывало с вами, и теперь, уладив эти дела, мы ничего больше друг другу не должны.
— Вы ошибаетесь, сударь, — ответил Амори, — так как, по крайней мере, я не рассчитался с вами: вы были для меня больше, чем честный опекун, вы были предупредительным и ласковым отцом, вы меня воспитали, вы меня сделали таким, каким я стал, вы в меня вложили все, что у меня в сердце и на душе, вы были для меня всем, кем старший мужчина может быть для младшего: мужчиной, опекуном, отцом, гувернером, гидом, другом. Я должен, прежде всего, вам повиноваться с уважением, что я и делаю, удаляясь.
В этот момент господин д'Авриньи увидел, что в комнату входит бледная и дрожащая Мадлен, и поспешно сказал:
— Амори, вы ошиблись относительно моих намерений; ваш отъезд — не изгнание. Далеко не так: этот дом остается вашим, и как только вы захотите прийти, вы будете желанным здесь.
Радость осветила прекрасные томные глаза Мадлен; улыбка, появившаяся на ее побелевших губах, была наградой господину д'Авриньи. Но так как Амори, очевидно, догадался, что только ради дочери господин д'Авриньи пошел на уступку, он робко поклонился своему опекуну и поцеловал руку Мадлен с чувством такой глубокой печали, что показалось: тоска уступила место любви.
Потом он вышел.
Только в тот час, когда молодых людей разлучили друг с другом, они поняли, как на самом деле любили друг друга, и до какой степени были необходимы друг другу.
Желание увидеться, будучи в разлуке, внезапные волнения, когда видишься, эта грусть без причины, радость без повода — все, что является симптомами той прекрасной болезни, которую называют любовью, были постепенно испытаны ими обоими, и ни один из этих симптомов не ускользнул от взгляда господина д'Авриньи, уже не раз пожалевшего, что уступил Амори, разрешив ему приходить в дом.
Все эти события вновь прошли перед глазами Амори; молодой человек, исследуя свои самые заветные воспоминания, не смог найти причину происшедших в господине д'Авриньи перемен.
Он подумал только, что поведение его опекуна изменилось из-за того, что, рассматривая свою женитьбу на Мадлен как естественное решение, он никогда не говорил об этом с господином д'Авриньи. И потому господин д'Авриньи мог бы подумать, что его воспитанник, живя у него и продолжая посещать его дом после отъезда, имел по отношению к Мадлен другие намерения, а не те, которые подразумевались вначале.
Он остановился на той мысли, что, не поговорив с отцом, он оскорбил его чувства к дочери и решил официально написать господину д'Авриньи и попросить руки Мадлен.
Приняв такое решение, Амори тотчас же приступил к его выполнению и, взяв ручку, написал следующее письмо.
IV
«Сударь.
Мне двадцать три года, меня зовут Амори де Леонвиль — это одна из самых древних фамилий Франции, это имя, уважаемое муниципальными, государственными советами, имя, прославленное на войне.
Единственный сын, я владею состоянием около трех миллионов недвижимости, доставшихся от моих умерших отца и матери, что мне дает около ста тысяч дохода.
Я могу перечислить различные свои преимущества, которые имею благодаря случаю. Все это позволяет мне верить, что с таким состоянием, именем и покровительством тех, кто меня любит, я достигну успеха на поприще, избранном мною, на поприще дипломатии.
Сударь, я имею честь просить у вас руки вашей дочери, мадемуазель д'Авриньи.
Мой дорогой опекун! Вот официальное письмо господину д'Авриньи, письмо, точное, как цифра, сухое, как факт.
Теперь позвольте вашему сыну поговорить с вами с душевной признательностью и с сердечными излияниями.
Я люблю Мадлен и надеюсь, что Мадлен меня любит. Если мы опоздали признаться вам, то, поверьте, мы сами не догадывались об этом. Наша любовь рождалась так медленно, и она раскрылась так быстро, как будто мы были поражены ударом грома в безоблачный день. Я воспитывался рядом с нею, под вашим взглядом, как и она, и когда из нежного брата превратился во влюбленного — не заметил сам. Все, о чем я вам свидетельствую, правда.
Я вспоминаю с удивлением наши игры и радости детства, проведенного в вашем прекрасном загородном доме в Виль-Давре на глазах у нашей доброй миссис Браун.
Я говорил Мадлен ты, и она называла меня Амори; мы прыгали по широким аллеям, в глубине которых садилось солнце, мы танцевали под большими каштанами парка прекрасными летними вечерами, у нас случались длительные прогулки на лодках и бесконечные прогулки по лесу.
Дорогой опекун, это было славное время.
Почему наши судьбы, соединившись на заре, разъединились, не достигнув полудня?
Почему не я был вашим сыном? Почему Мадлен и я не можем возобновить наши отношения? Почему я не могу сказать ей ты? Почему она мне больше не говорит Амори?
Это мне казалось таким естественным, а теперь я боюсь, как бы мое воображение не создало тысячи препятствий, но разве на самом деле они существуют, дорогой опекун?
Видите ли, вы считаете меня слишком молодым и слишком легкомысленным, может быть, но я старше ее на четыре года, и легкомысленности не будет в нашей жизни.
Кроме всего этого, я не столь легкомысленный. Естественно, я такой; вы сказали мне, что я такой. Но все это поддельные удовольствия. Я от них откажусь, когда вы этого захотите, по одному вашему слову, по одному знаку Мадлен, так как я люблю ее так же, как уважаю вас; я сделаю ее счастливой, клянусь вам. Да, да, очень счастливой! И чем я моложе, тем больше у меня времени любить ее, о Боже! Вся моя жизнь принадлежит ей!
Вы знаете это, вы, который обожает ее; если кто-то любит Мадлен, то это навсегда. Разве может такое случиться, что ее перестанут любить? Это безумие. Когда ее видишь, когда смотришь на ее красоту, чувствуешь ее душу и знаешь о сокровищах ее доброты, веры, любви, чистоты, которые скрыты в ней, конечно, нет другой такой женщины в мире, и мне кажется, что и на небе нет такого ангела.
О, мой опекун, о, мой отец, я ее безумно люблю! Я вам пишу так, как слова приходят ко мне: бессвязно, беспорядочно, безосновательно. Это значит, что вы должны понять, как я безумно люблю ее.
Доверьте мне ее, дорогой отец; оставаясь рядом с нами, будьте нашим поводырем. Вы нас не покинете, вы будете наблюдать за нашим счастьем, и никогда вы не увидите в глазах Мадлен ни слезинки печали или страдания, но если эта печаль и страдания будут из-за меня, возьмите оружие, стреляйте мне в голову, или поразите в сердце, и вы правильно сделаете.
Но нет, не бойтесь, никогда Мадлен не будет плакать!
О, Боже, кто осмелится заставить плакать этого ангела, этого деликатного ребенка, такого славного и хрупкого, которого не ранит ни слово, ни ревнивая мысль! О, Боже! Это будет трусостью, и вы знаете хорошо, мой дорогой опекун, я не трус!
Ваша дочь будет счастлива, отец. Видите, я вас уже называю отцом — такой славный обычай вы не захотите отменить, а с некоторого времени вы меня встречаете со строгим лицом, к какому я совсем не привык, так как вы боитесь, что я опаздываю сказать то, о чем вам сегодня пишу, не правда ли?
Но я надеюсь найти самое простое средство, чтобы оправдаться, и этим средством вы сами меня снабдили.
Вы раздражены мной, потому что вы думаете, что я неискренен с вами, так как эту любовь, которой я не должен и не мог вас оскорбить, я скрывал от вас, как оскорбление. Ну, читайте теперь в моем сердце, как Бог читает, и вы увидите, виновен ли я.
Каждый вечер, вы это знаете, я пишу о своих поступках и мыслях дня; эта привычка, которой вы меня наградили с детства и которой вы, занятый серьезными вещами, не изменили ни разу. Только наедине с собой оцениваешь себя и с каждым днем узнаешь себя лучше. Отмечаешь свою мечтательность и, оценивая критически свое поведение, стараешься в дальнейшем действовать честно и целенаправленно.
Этой привычке, примером которой для меня являетесь вы, я следую постоянно, и я поздравляю себя сегодня, так как именно благодаря ей вы сможете читать эту открытую книгу — мою душу — без недоверия и упреков.
Видите ли, в этом зеркале моя любовь присутствует всегда, невидимая мне самому, так как действительно я почувствовал, как мне дорога Мадлен, только в тот день, когда вы меня с ней разлучили, я почувствовал, как я ее люблю, в момент, когда понял, что ее теряю; и когда вы меня узнаете так, как я сам себя знаю, вы сможете судить, достоин ли я вашего уважения.
Теперь, дорогой отец, хотя я доверяю вашему опыту и вашей доброте, я жду, полный нетерпения и тоски, приговора моей судьбе.
Она в ваших руках, помилуйте ее, не калечьте ее, умоляю вас.
Ах, когда я узнаю, что меня ждет, жизнь или смерть? Ночью каждый час кажется таким длинным. Прощайте, мой опекун, и Бог благословит, чтобы отец смягчил приговор, прощайте!
Извините меня за беспорядочность и бессвязность моего письма, которое было начато как холодное деловое письмо и которое я хочу закончить криком моего сердца, что найдет ответ в вашем сердце! Я люблю Мадлен, отец, я умру, если вы или Бог разлучат меня с Мадлен.
Ваш преданный и признательный воспитанник Амори де Леонвиль».
Написав это письмо, Амори взял дневник, где день за днем он записывал мысли, ощущения, события своей жизни.
Он запечатал все, написал на пакете адрес господина д'Авриньи и, позвонив слуге, приказал немедленно отнести этот пакет тому, кому он был предназначен.
Затем молодой человек начал ждать, и сердце его было наполнено сомнениями и тоской.
V
В то время, как Амори запечатывал письмо, господин д'Авриньи уже покинул комнату своей дочери и входил в свой кабинет.
Он был бледен и дрожал, следы глубокого страдания отпечатались на его лице; он молча подошел к столу, покрытому бумагами и книгами, и сел, уронив голову на руки с глубоким вздохом и погрузившись в тяжелое раздумье.
Затем он встал, обошел комнату в глубоком волнении, остановился перед секретером, вынул из кармана ключик, повертел его несколько раз в руках, затем, открыв секретер, достал из него тетрадь и отнес на бюро.
Эта тетрадь была дневником, в который он, как и Амори, записывал все, что с ним произошло за прошедший день.
Он постоял недолго, опираясь рукой на бюро и читая с высоты своего роста последние строчки, написанные накануне. Затем, как бы одержав победу над собой, словно приняв тяжелое решение, он сел, схватил перо, положил дрожащую руку на бумагу и после минутного колебания записал следующее:
«Пятница, 12 мая, 5 часов после полудня.
Слава Богу, Мадлен чувствует себя лучше, она спит. Я сделал все, закрывшись в ее комнате, и при свете ночной лампы я увидел, что цвет ее лица становится живым, дыхание успокаивается и равномерно приподнимает ее грудь. Тогда я приложился губами к ее влажному и горячему лбу и вышел на цыпочках.
Антуанетта и миссис Браун там, они ухаживают за ней, и вот я наедине с собой и выношу себе приговор.
Да, я был несправедлив, я был жесток, да, я нанес безжалостный удар этим чистым и прелестным сердцам, двум сердцам, которые меня любят.
Я заставил лишиться чувств мою обожаемую дочь, причинив ей страдание, ей, хрупкому ребенку, какого может опрокинуть порыв ветра!
Я дважды прогнал из моего дома своего воспитанника, сына своего лучшего друга, Амори, чья душа так прекрасна, что он еще сомневается, я уверен, так ли я зол и почему?
Почему? Я не осмеливаюсь в этом признаться самому себе.
Я здесь с пером в руках, с этим дневником, куда я записываю все свои мысли, но я не спешу с записью.
Почему я несправедлив? Почему я зол? Почему я проявил такое варварство по отношению к людям, которыми я дорожу?
Потому что я ревную.
Никто меня не поймет, я это хорошо знаю, но отцы поймут, потому что я ревную свою дочь, ревную из-за любви, которую она испытывает к другому, ревную к ее будущему, ревную ее к жизни.
Об этом грустно говорить, но это так, даже лучшие в нашем мире — а каждый верит, что он таков — в душе хранят тайну, которой стыдятся, и имеют ужасные тайные мысли; так же, как Паскаль[41], я это знаю. Как доктор, я могу чувствовать и анализировать чужое состояние, но мне гораздо труднее объяснить свое.
Когда я думаю о том, что я делаю, думаю наедине с собой, в своем кабинете, недалеко от нее — я думаю бесстрастно и обещаю победить себя и, в конце концов, выздороветь.
Потом я случайно вижу страстный взгляд Мадлен, направленный на Амори, я понимаю, что занимаю второе место в сердце моего ребенка, кто сам безраздельно владеет моим, и инстинкт дикого отцовского эгоизма снова владеет мной: я становлюсь слепым, сумасшедшим, бешеным.
Однако все просто: ему двадцать три, ей — девятнадцать, они молоды, красивы, они любят друг друга.
Раньше, когда Мадлен была ребенком, я тысячу раз мечтал об этом счастливом союзе и теперь, по правде говоря, спрашиваю у самого себя: разве мои действия — это действия думающего и разумного создания, человека, коего считают одним из светил нации?
Светило науки — да, ибо это я проник намного глубже, чем кто-либо другой, в тайны человеческого организма, ибо это я по пульсу человека могу сказать приблизительно, от какой болезни он страдает, ибо это я вылечил больных, которых другие, более невежественные врачи считали неизлечимыми.
Но если я попытаюсь вылечить свою моральную боль, здесь мои знания будут бессильны, здесь рушится моя гордость.
Есть ряд болезней, перед которыми наука бессильна; я видел смерть единственной женщины, любимой мною, — матери Мадлен.
О, да, ваша молодая и прекрасная жена, любящая вас и любимая вами, покидает этот мир и возвращается на небеса, оставив вам единственное утешение и надежду, ангела, свое подобие, что-то вроде ее помолодевшей души, ее возрожденной красоты; вы привязываетесь к этой последней радости, как терпящий кораблекрушение к своей последней доске, вы целуете ее ручки, что привязывают вас к жизни.
Ваше будущее рухнуло, но вот другое, которое его продолжит: вы можете еще быть счастливыми этим счастьем, вы его создадите, вы вложите свое существование в существование этого кроткого и хрупкого создания: каждый раз, как она вздохнет, вам кажется, что вздыхаете вы.
Этот мир, который без вашей дочери был бы ледяной пустыней, отогревается ее присутствием, покрывается цветами под ее шагами.
С того мига, как вы получили ее из рук умирающей матери, вы не теряли ее из вида ни на мгновение, вы стерегли ее своим взглядом: днем, когда она играла, ночью, когда она спала, вы каждую минуту прислушивались к ее дыханию, следили за ее пульсом, вас беспокоила бледность на ее лице или краснота щек. Ее лихорадка сжигала ваши артерии, ее кашель разрывал вашу грудь; вы десятки раз сказали смерти, этому призраку, что постоянно ходит рядом с людьми, невидимый для всех, исключая нас, несчастных избранников науки; вы говорили сотни раз этому призраку, который, касаясь ее, может смять ваш цветок, дохнув на нее, может снова убить вашу воскресшую душу, вы ему сказали:
«Возьми меня и позволь ей жить».
И смерть удалилась не потому, что она вас послушала, а потому, что время еще не пришло, и по мере того как она удалялась, вы чувствовали, что заново родились, а при ее появлении вы чувствовали, что умираете.
Но это еще не все — вернуть дочь к жизни; нужно еще подготовить ее для выхода в свет. Она красива, нужно придать грациозность ее красоте.
Она добра, нужно научить проявлять свою доброту.
Она остроумна, нужно научить ее уметь блистать остроумием.
Час за часом, чувство за чувством, мысль за мыслью, вы строите ее ум, вы формируете ее сердце, вы лепите ее душу.
Как вы восхищаетесь ею, и как необходимо, чтобы ею восхищались! В глазах других она едва делает первые шажки, для вас — ходит. Она лепечет? Нет, она говорит. Она произносит слог? Нет, она читает.
Вы сделались маленьким, чтобы быть одного с ней роста, и вы вдруг обнаруживаете, что сегодня Перро[42] интереснее, чем Гомер[43]. Блестящий ученый, великий поэт, выдающийся государственный деятель беседует, прогуливаясь с вами в вашем саду, о вещах самых общих в науке, о теориях самых возвышенных, о расчетах самых хитроумных в политике. Он считает, что вы очень внимательны к его словам, вы киваете головой и делаете вид, что обдумываете его идеи, теории, расчеты.
Бедный государственный деятель, бедный поэт, бедный ученый!
Вы в ста лье от того, что он вам говорит. Вы смотрите только на своего доброго ребенка, который играет в соседней аллее: вы думаете только об этом проклятом бассейне, куда она может упасть, и о вечерней свежести, от чего она может простудиться.
Вы помните, как ее мать умерла в двадцать два года от неизлечимой болезни.
Однако ваша Мадлен растет, ее ум развивается, ее представления расширяются, она вас понимает, когда вы говорите о поэтах, науке, Боге. Она начинает любить вас не только инстинктивно; все вокруг ее хвалят, когда она проходит мимо.
О, ее считают самой прелестной, но чтобы у нее все было, необходимо, чтобы она была богатой. Вам самому ничего не нужно, но вам необходимо, чтобы у нее было все.
За дело! Из-за нее вы становитесь честолюбивым и скупым, делая ей корону из вашей славы, богатство из вашего пота (ежегодные доходы от государства растут), вы покупаете ей эту прекрасную ферму: два года труда, и она ваша.
Богатство — это еще не все, ей нужна роскошь; для этих ножек, которые ее с трудом удерживают, нужна коляска — она стоит вам месяца экономии… — стоит ли об этом говорить?
Если твое тело устало, бедный отец, скажи ей, пусть она тебе улыбнется. Теперь, когда у нее есть ферма, есть коляска, ей нужны украшения.
Что это за отец, который бережет свою душу и тело? — нет, ему не жаль себя, лишь бы его дочь имела лучшие украшения. Еще одна морщинка на его лице — но это еще один купленный ей жемчуг; еще один седой волосок — за рубин; еще несколько капель его крови — и у нее будет полный ларец украшений, и за пять или шесть лет жизни твоя дочь будет столь же блестящей, как королева.
Впрочем, все эти усилия, весь этот тяжелый труд доставляют столько удовольствия, и вознаграждение немедленно последует: через несколько месяцев ребенок станет женщиной. Какая радость, когда вы увидите, что ее разум понимает ваши мысли, а ее сердце — вашу любовь.
Она станет вашей подругой, доверенным лицом, компаньонкой, она будет больше, чем все они вместе, так как никакое земное чувство не может смешаться с вашей любовью и с ее любовью к вам; ее присутствие будет похоже на присутствие ангела, которому Бог разрешил стать видимым.
Да, еще немного терпения, и вы пожнете то, что сеяли, и ваши лишения будут стоить вам больших богатств, и все ваши страдания перерастут в бесконечные радости.
В этот момент кто-то чужой приходит, видит вашу дочь, говорит ей три слова на ушко, и после этих слов она начинает любить чужого больше, чем вас, она вас покидает ради него и отдает навсегда этому постороннему свою жизнь, которая является и вашей. Это закон природы. Природа смотрит вперед.
А вы… вы! Остерегайтесь сказать лишнее слово, пожимайте с веселым видом руку вашему зятю, этому грабителю вашего счастья, только что похитившему у вас самое дорогое, иначе о вас скажут: «Этот Сганарель[44] не хочет, чтобы его дочь Люсинда вышла замуж за Клитандра».
Мольер написал ужасную комедию «Любовь-целительница», комедию, где, как везде у Мольера, радость — только маска, за которой прячется лицо в слезах.
О чем говорят любовники, когда говорят о ревности? Что значит ярость венецианского мавра перед отчаянием Бробантио и Сашет? Любовники! Разве в течение 20 лет они жили жизнью своего божества? Разве, создав его однажды, они теряли его и спасали 20 раз? Разве это божество принадлежит им, как отцам — их кровь, их душа, их дочь! Их дочь! Этим все сказано!
Если женщина предает одного ради другого, все громко кричат: это преступление. Но она сначала предала отца ради возлюбленного, и они считают это в порядке вещей.
И я не говорю еще о том, что наиболее ужасно.
Наши отцовские страдания и наша заброшенность непоправимы, мы теряем их любовь, любовники сохраняют настоящее и будущее.
Отцы! Отцы прощаются с будущим, с настоящим, со всем. Любовники молоды, отцы стары. У них первая страсть, у нас — наше последнее чувство.
Обманутый муж, обманутый возлюбленный найдут тысячи других любовниц, двадцать других увлечений заставят их позабыть свою первую любовь.
А где отец возьмет другую дочь? Пусть все покинутые молодые люди осмелятся теперь сравнить свое отчаяние с нашим!
Где любовник убивает, отец приносит жертву, их любовь — это результат гордыни, наша — преданности, они любят своих жен и любовниц ради себя.
Мы любим наших дочерей ради них. Это последняя жертва, самая жестокая. Неважно, если она смертельна, примем ее. Самое дорогое, самое бескорыстное, самое милосердное, самое божественное, что у меня было на свете, — отцовская любовь, — и теперь какой-то эгоист придет и отнимет ее у меня.
Обратимся к дочери, которая отворачивается от нас; будем относиться к ней лучше, чем она к нам будет относиться, будем любить того, кого она любит, отдадим ее тому, кто собирается ее отнять.
Будем печальны, но пусть она будет свободной.
А Бог, не делает ли он так? Бог, который любит тех, кто его не любит. Бог — это ведь не что иное, как большое отцовское сердце.
Через три месяца Амори женится на Мадлен, если… О, Боже, я не осмеливаюсь об этом писать больше!..»
И в самом деле, перо выпало из пальцев господина д'Авриньи, он глубоко вздохнул и уронил голову на руки.
VI
В это время дверь кабинета открылась, и вошла девушка. Она на цыпочках подошла к господину д'Авриньи и, посмотрев на него с выражением грусти, какую трудно было представить на обычно озорном лице, мягко положила руку на плечо.
Месье д'Авриньи вздрогнул и поднял голову.
— А, это ты, моя дорогая Антуанетта, — сказал он. — Добро пожаловать!
— Повторите эти добрые слова еще раз, дядюшка!
— Я повторю их еще не раз, разве ты сомневаешься в моем отношении к тебе, дитя мое?
— Да ведь я пришла, чтобы вас бранить.
— Ты меня собираешься бранить?
— Да, я.
— И чем я заслужил, чтобы ты меня бранила? Говори.
— Дядюшка, это очень серьезно, то, что я собираюсь вам сказать.
— Действительно?
— Да, так серьезно, что я не осмеливаюсь…
— Антуанетта, моя дорогая племянница, не осмеливается мне сказать! Что она собирается мне сказать?
— Увы, дядюшка, я хочу поговорить о вещах, о которых не говорят в моем возрасте и в моем положении.
— Говори, Антуанетта. Под твоей веселостью скрывается задумчивость, под твоим легкомыслием я давно заметил глубокую рассудительность, говори… Особенно, если ты собираешься говорить о моей дочери.
— Да, дядя, я как раз собираюсь говорить о ней.
— Ну, что ты собираешься мне сказать?
— Я хочу вам сказать, мой добрый дядюшка… О, извините меня… Я осмелюсь вам сказать, что вы слишком любите Мадлен… Вы ее убьете!..
— Я! Ее убить! Боже, что ты хочешь этим сказать?
— Я говорю, дядя, что ваша лилия, ведь вы так ее называете, не правда ли? Я говорю, что ваша лилия, бледная и хрупкая, сломается в ваших любящих руках.
— Я не понимаю, Антуанетта, — сказал господин д'Авриньи.
— О! Нет, вы меня понимаете, — сказала девушка, обнимая обеими руками шею доктора, — о, вы меня понимаете, хотя говорите обратное… Я вас хорошо понимаю, я!
— Ты меня понимаешь, Антуанетта? — воскликнул господин д'Авриньи с чувством, похожим на испуг.
— Да.
— Невозможно!
— Мой дорогой дядя, — снова заговорила она с такой грустной улыбкой, что трудно было понять, как такие розовые губки могли сказать это, — мой дорогой дядя, нет сердец, закрытых для взглядов тех, которые сами любят: я прочла в вашем сердце.
— И какое чувство ты там нашла?
Антуанетта посмотрела на дядю, сомневаясь.
— Говори! — сказал он. — Не видишь, что ты мучаешь меня?
Антуанетта приблизила губы к уху господина д'Авриньи и тихо сказала:
— Вы ревнуете!
— Я! — воскликнул господин д'Авриньи.
— Да, — продолжала девушка, — эта ревность делает вас злым.
— О, Боже! — воскликнул господин д'Авриньи, наклонив голову. — О, Боже! Я думал, эту тайну знают только Бог и я.
— Ну и что страшного в этом, дорогой дядя? Ревность — это ужасное чувство, я знаю, но ее можно победить. Я тоже ревную к Амори.
— Ты ревнуешь к Амори?
— Да, — ответила Антуанетта, опустив голову, — да, за то, что он похищает у меня сестру, за то, что когда он рядом, Мадлен не смотрит на меня.
— Значит, ты испытала то, что испытал я?
— Да. Да, тоже что-то похожее, и я победила себя, потому что сказала об этом вам. Дядя, они любят друг друга безумно, нужно их поженить; если их разлучить, они умрут.
Господин д'Авриньи покачал головой и, не произнося ни слова, пальцем показал Антуанетте последние строчки, которые только что написал, и Антуанетта прочитала вслух: «Итак, через три месяца Амори женится на Мадлен, если… О, Боже, я не осмеливаюсь об этом писать больше!»
— Дядя, — сказала Антуанетта, — успокойтесь, она ни разу не кашлянула.
— О, Боже! — воскликнул господин д'Авриньи, глядя на племянницу с чувством глубокого удивления. — О, Боже, она обо всем догадалась, все поняла!
— Да, дядя, мой добрый, мой дорогой дядя, да, все сокровища нежности, любви вашего сердца я поняла. Но послушайте, ведь если однажды Мадлен выйдет замуж и нас покинет, то разве не лучше будет, что вместо того, чтобы полюбить кого-нибудь, она будет любить Амори? Разве ее счастье должно стать несчастьем для нее, и должны ли мы вменять ей в преступление ее радость? Нет, наоборот, примем ее судьбу, пусть они будут счастливы. Вы не останетесь в одиночестве, дорогой отец, с вами останется Антуанетта, которая вас очень любит, которая любит только вас, которая вас никогда не покинет. Я не заменю вам Мадлен, я это знаю, но я буду вам вместо дочери, пусть я не так богата, как Мадлен, и не так красива, я буду дочерью, которую никто не полюбит, будьте спокойны, и даже если меня полюбят, будь я грациозна и красива, как Мадлен, я не полюблю никого, я вам посвящу свою жизнь, я вас утешу… и вы меня утешите.
— Но разве Филипп Оврэ, — сказал господин д'Авриньи, — не влюблен в тебя, а ты в него?
— О, дядюшка, дядюшка! — воскликнула Антуанетта с укором. — Ах! Как вы можете верить…
— Ну, ладно, дитя, не будем говорить больше об этом. Да, я сделаю так, как ты говоришь, поскольку ничего не остается, лишь сделать так, как я решил, но пусть Амори объяснится. Если мы ошиблись, если он не любит Мадлен!..
— О, вы не ошиблись, отец, увы! Он ее любит… вы ведь в этом уверены, и я тоже…
Господин д'Авриньи замолчал; там, в глубине души, он был в этом уверен, как и Антуанетта.
И в это время дверь кабинета отворилась, и Жозеф, доверенный слуга господина д'Авриньи, объявил ему, что слуга графа Амори де Леонвиля попросил его передать письмо графа. Господин д'Авриньи и Антуанетта обменялись взглядами, означающими, что они заранее знают о содержании этого послания. Затем с усилием, более заметным из-за печальной улыбки, с которой следила за ним Антуанетта, господин д'Авриньи сказал:
— Жозеф, принесите это письмо, скажите Жермену, чтобы он подождал ответа.
Пять минут спустя письмо было в руках господина д'Авриньи, он молча разглядывал конверт, не в силах распечатать.
— Давайте посмотрим. Смелее, дядя, — сказала Антуанетта. — Откройте и прочтите.
Господин д'Авриньи машинально подчинился, распечатал письмо, быстро прочитал его, перечитал вторично, затем передал письмо Антуанетте, та, отстраняя его, прошептала:
— О, дядя, я знаю, что он может сказать.
— Да, не правда ли? — с горечью сказал господин д'Авриньи, отвечая Антуанетте, как Гамлет — Полонию: «Слова, слова…».
— Вы разве ничего не увидели, кроме слов, в этом письме? — воскликнула Антуанетта, взяв из рук дяди письмо и прочитав его с жадностью.
— Да, слова, — продолжал господин д'Авриньи, — но словами эти юнцы, эти отменные аранжировщики метафор, вытесняют нас из сердца наших дочерей, нас, которые удовлетворяются тем, что любят, и наши дочери предпочитают эту риторику нам, отцам.
— Но, дядюшка! — сказала серьезно Антуанетта, возвращая письмо месье д'Авриньи. — Вы ошибаетесь, Амори любит Мадлен настоящей любовью, искренней и честной. Я тоже, как и вы, прочитала письмо, которое он написал не разумом, а сердцем.
— Итак, Антуанетта?..
Антуанетта подала перо дяде.
Господин д'Авриньи взял перо и написал просто:
«Будьте завтра в 11 часов, дорогой Амори.
Ваш отец Леопольд д'Авриньи»
— А почему не сегодня вечером? — спросила Антуанетта, прочитав послание д'Авриньи.
— Потому что слишком много волнений для одного дня. Ты скажешь Амори, Антуанетта, что я ему написал вечером, и ты думаешь, что он должен прийти завтра.
И, позвав Жермена, которому было приказано ждать, господин д'Авриньи передал ответ.
VII
На следующий день Мадлен проснулась вместе с солнцем и птицами, с солнцем и птицами Парижа, то есть в 9 часов утра.
Она позвонила своей горничной и попросила открыть окна. Густой жасмин, покрытый цветами, рос у стены, и она часто втягивала его длинные ветки в комнату, где они благоухали. Как все нервные люди, Мадлен обожала запахи, которые ей, однако, причиняли зло. Мадлен попросила свой жасмин.
Что касается Антуанетты, она была уже в саду, где прогуливалась в простом кисейном пеньюаре. Ее прекрасное здоровье позволяло ей свободно делать то, что запрещали Мадлен.
Мадлен в своей кровати, хорошо укрытая и защищенная от холода, была вынуждена просить, чтобы к ней подносили цветы. Антуанетта, живая и хорошо себя чувствующая, бегала к цветам, как полевая птица, не боясь ни утреннего ветерка, ни ночной росы. Это было единственное преимущество сестры, которому завидовала Мадлен, более богатая и красивая, чем Антуанетта.
На этот раз Антуанетта, вместо того, чтобы порхать от цветка к цветку, как бабочка или пчела, ходила по аллеям, мечтательная и почти печальная. Мадлен, приподнявшись в кровати, некоторое время следила за ней глазами, с выражением легкого беспокойства, но потом, когда Антуанетта подошла к дому и скрылась в нем, Мадлен упала в кровать со вздохом.
— Что с тобой, моя дорогая Мадлен? — спросил господин д'Авриньи, который, зная, что его дочь проснулась, тихонько приподнял портьеру и присутствовал при этой легкой борьбе, происходящей в душе его дочери, борьбе зависти с ее доброй натурой.
— Я считаю, что Антуанетта очень счастливая, отец, — сказала Мадлен, — она очень счастливая: действительно, она свободна, в то время как я — вечная рабыня! Солнце в полдень слишком жаркое! Утренний и вечерний воздух — слишком холодные! Зачем мне ноги, которые не хотят бегать. Я, как бедный цветок в оранжерее, вынуждена жить в искусственной атмосфере. Разве я больна, отец?
— Нет, моя дорогая Мадлен, но ты такая слабая и хрупкая, ты сказала, как цветок в оранжерее, но цветы в оранжерее самые дорогие и драгоценные, что им еще нужно? Посмотри, разве они не имеют все то, что есть у полевых цветов? Или они не видят неба, солнца? Да, только через стекло, я знаю, но это стекло защищает их от ветра и дождя, ломающих другие цветы.
— Ах, отец, есть правда в ваших словах, однако я предпочла бы быть садовой фиалкой или полевой ромашкой, как Антуанетта, чем этим драгоценным, но слабым растением, о котором вы говорите. Видите, как ее волосы развеваются на воздухе? И как это воздух освежает ее лоб, в то время как мой — потрогайте, отец, горит.
И Мадлен схватила руку отца и поднесла ее к своему лбу.
— Ну, мое дорогое дитя, — сказал господин д'Авриньи, — именно потому, что у тебя горячий лоб, я боюсь этого холодного воздуха. Сделай так, чтобы мечты твоего сердца не сжигали твой лоб, и я позволю тебе бегать, как и Антуанетте, с развевающимися волосами; если ты, дорогая Мадлен, хочешь выйти из оранжереи и жить в саду, я увезу тебя в Ниццу, в Неаполь, и там тебе, свободной, в раю с золотыми яблоками, я позволю делать все, что ты пожелаешь.
— И… — сказала Мадлен, глядя на отца, — и он поедет с нами?
— Да, конечно, потому что тебе нужно его присутствие.
— И вы не будете его ругать, как вчера, злой отец?
— Нет, ты видишь, как я раскаиваюсь, поэтому я написал ему, чтобы он пришел.
— И хорошо сделали, ведь если ему помешают меня любить, он полюбит Антуанетту, а если он полюбит Антуанетту то я умру от печали.
— Не говори о смерти, Мадлен, — сказал господин д'Авриньи, сжимая руку дочери, — когда ты говоришь мне, что умрешь, улыбаясь так — хотя я хорошо знаю, что это шутка, — ты напоминаешь ребенка, который играет с острым и отравленным оружием.
— Но я не хочу умереть, дорогой отец, клянусь вам… я слишком счастлива для этого. И вы ведь лучший доктор в Париже и не позволите умереть вашей дочери.
Господин д'Авриньи вздохнул.
— Увы! — сказал он, — если бы я был так силен, как ты думаешь, мое дитя, то тогда еще была бы жива твоя мать. Но что ты делаешь, теряя время в кровати: скоро десять часов, и разве ты не знаешь, что в одиннадцать придет Амори?
— О, да, отец, я знаю, я позову Антуанетту и, благодаря ей, я скоро буду готова. Ведь вы всегда называете меня вашей большой лентяйкой.
— Да.
— Да, потому что в кровати, видите ли, я чувствую себя совсем хорошо. Вне кровати я испытываю или усталость, или боль.
— Ты страдала эти дни, ты страдала и ничего не говорила?
— Нет, отец, впрочем, вы хорошо знаете, что то, что я испытываю, — это не страдания, это недомогание, неясное и лихорадочное, и только иногда, но не теперь… Сейчас вы рядом со мной, и я увижу Амори… О, я счастлива, я очень хорошо себя чувствую.
— А вот и он, Амори!
— Где?
— В саду, с Антуанеттой. Он, должно быть, перепутал время; — сказал господин д'Авриньи, улыбаясь, — я ему написал, чтобы он пришел в одиннадцать часов, а он прочитал — в десять.
— В саду, с Антуанеттой! — воскликнула Мадлен, поднимаясь. — Да, действительно, отец, позовите Антуанетту, сейчас же, прошу вас, я хочу одеться, и она мне нужна.
Господин д'Авриньи подошел к окну и позвал девушку Амори, пришедший до назначенного часа, скрылся за деревьями, надеясь, что его не увидели.
Вошла Антуанетта, и господин д'Авриньи ушел, оставив девушек одних. Через полчаса Антуанетта осталась в спальне, а месье д'Авриньи и Мадлен ожидали Амори в той же комнате, где накануне произошла печальная сцена.
Вскоре объявили о приходе графа де Леонвиля, и Амори появился.
Господин д'Авриньи подошел к нему, улыбаясь; Амори робко протянул ему руку, и господин д'Авриньи, держа эту руку в своей, подвел его к дочери, которая смотрела на все это с удивлением.
— Мадлен, — сказал он, — я представляю тебе Амори де Леонвиля, твоего будущего мужа. Амори, — продолжал он, — вот Мадлен д'Авриньи, ваша будущая жена.
Мадлен радостно вскрикнула, Амори бросился на колени перед отцом и дочерью, но вдруг он встал, увидев, что Мадлен покачнулась. Господин д'Авриньи успел придвинуть кресло. Мадлен села в него, улыбаясь, готовая почувствовать себя плохо, ибо любое потрясение могло сломить это хрупкое создание, и радость для нее была так же опасна, как и страдание.
Мадлен, открыв глаза, увидела возлюбленного у своих ног и почувствовала, что отец прижимает ее к сердцу.
Амори целовал ее руки, а господин д'Авриньи называл ее самыми ласковыми именами. Первый ее поцелуй предназначался отцу, а первый взгляд — возлюбленному. Однако оба они ревновали ее друг к другу.
— Вы мой пленник на весь день, мой дорогой воспитанник, — сказал господин д'Авриньи, — и мы втроем будем составлять планы и романы, если вы допустите вашего грубого отца в свое общество.
— Итак, мой дорогой отец, — сказал Амори, — я могу вас теперь так называть? Итак, ваша холодность в предшествующие дни объясняется — я это предвидел — тем, что вы не доверяли мне и моему чувству к Мадлен?
— Да, да, мой дорогой воспитанник, — сказал господин д'Авриньи, улыбаясь, — да, да, все кончено. Я прощаю вашу скрытность при условии, что и вы простите мое плохое настроение. Таким образом, я — бесчувственный тиран, и ты — неблагодарный бунтовщик, — мы оба будем мечтать только о любви.
После всего случившегося оставалось назначить день свадьбы.
Амори очень спешил, и любой назначенный срок казался ему слишком поздним, но, однако, уверенность в счастье заставила его согласиться с доводами господина д'Авриньи.
Впрочем, господин д'Авриньи держался хорошо.
— Высший свет, — говорил он рассудительно, — не может быть застигнут врасплох, особенно в подобных обстоятельствах; но он имеет привычку мстить за доставленное удивление клеветой. Нужно время, чтобы представить Амори как зятя.
Амори согласился с этим обстоятельством и только попросил, чтобы по крайней мере это представление высшему свету произошло как можно раньше.
Представление было назначено через неделю, а свадьба — через два месяца.
Все это происходило в присутствии Мадлен, она не произнесла ни слова, но она также не пропустила ни одного слова из того, что говорилось: наполовину покрасневшая, наполовину взволнованная, девушка была восхитительна и счастлива в своем простодушии.
Счастье шло ей, она смотрела то на возлюбленного, то на отца, а потом снова на возлюбленного; обоим она дарила свое обаяние и очаровательное кокетство.
Когда все было решено, господин д'Авриньи встал, сделал знак своему зятю следовать за ним.
— Предупреждай, когда ты больна, испорченное дитя — сказал он Мадлен, — и ты будешь иметь дело со мной.
— О, ты меня вылечил сегодня, дорогой отец, — сказала девушка, — и теперь я буду хорошо себя чувствовать всегда. Но куда вы уводите Амори?
— О, я этим недоволен, но это вынужденное отсутствие. После поэзии любви наступает проза женитьбы, но будь спокойна, дорогое дитя, мы тебя покидаем, чтобы заняться твоим счастьем.
— Идите, — сказала Мадлен, поняв, в чем дело.
— Будь спокойна, Мадлен, я быстро, — тихо сказал Амори и, воспользовавшись тем, что господин д'Арвиньи подошел к двери, поцеловал ее пушистые волосы.
На самом деле нужно было обсудить условия контракта, состояние Амори хорошо известно господину д'Авриньи, потому что под его руководством оно удвоилось, но Амори понятия не имел о состоянии своего тестя: оно было почти таким же, как его.
Господин д'Авриньи давал своей дочери миллион приданого.
И размышляя об этом состоянии, о котором он догадывался, Амори решил, что понял сейчас причину молчаливого протеста отца Мадлен против его любви. Может быть, тот надеялся найти для Мадлен человека, если не более богатого, то по крайней мере с более высоким положением в обществе, положением, уже имеющимся, вместо положения, которого нужно добиться.
Поскольку это было единственное разумное объяснение, Амори остановился на нем.
Впрочем, он выбросил из головы все эти понятные нам мысли: люди, чье будущее закрыто, возвращаются в прошлое, другие же, для которых будущее открыто, бросаются вперед.
Все эти детали обсуждались не более получаса, после чего господин д'Авриньи, видя нетерпение Амори, пожалел его и позволил вернуться к Мадлен.
VIII
Мадлен была в саду, Антуанетта оставалась одна в гостиной. Заметив молодого человека, она сделала шаг, чтобы удалиться; потом, вероятно, поняв, что уйдя, ничего не сказав, она может показаться ему равнодушной к его счастью, Антуанетта остановилась и с чудесной улыбкой произнесла:
— Ну, дорогой Амори, вы очень счастливы, не правда ли?
— О, да, моя дорогая Антуанетта, хотя я не мог поверить в то, о чем вы сказали утром. А вы скажите, — продолжил Амори, усаживая девушку в то кресло, которое она только что покинула и в которое упала сейчас, вздыхая, — когда я буду поздравлять вас?
— Меня, Амори? И с чем вы хотите меня когда-нибудь поздравить?
— С вашей свадьбой! Мне кажется, вам не стоит бояться остаться старой девой ни из-за вашей семьи, ни из-за возраста, ни из-за лица.
— Амори, — сказала Антуанетта, — послушайте, что я хочу вам сказать сегодня, в этот торжественный для вас день, о котором вы будете помнить всегда, — я никогда не выйду замуж!
В этом ответе девушки оказалось столько глубины и решительности, что Амори был удивлен.
— О, к примеру, — сказал он, стараясь обратить эти планы в шутку, — вы можете говорить это кому-нибудь другому, — и этот другой может вам поверить, — но не мне; ведь кто-то может помешать вашему решению, и я уже знаю этого счастливчика.
— Я знаю, что вы хотите сказать, — возразила Антуанетта с грустной улыбкой, — но вы ошибаетесь, Амори, тот, о ком вы говорите, думает обо мне меньше всего. Никому не нужна сирота без приданого, и мне никто не нужен.
— Без состояния? — сказал Амори. — Вы ошибаетесь, Антуанетта, нельзя быть бесприданницей, будучи племянницей господина д'Авриньи и сестрой Мадлен. У вас двести тысяч франков, это втрое больше, чем у дочери пэра Франции.
— У дяди доброе сердце, я знаю это, Амори, и мне не нужны новые доказательства, чтобы убедиться в этом, но, — добавила она, — есть еще повод для того, чтобы я не была неблагодарной по отношению к нему. Мой дядя останется один, я буду рядом с ним, если он захочет. Кроме того, мое будущее принадлежит только Богу.
Антуанетта произнесла эти слова с такой глубокой убежденностью, что Амори понял, что по крайней мере сегодня ему нечего возразить. Он взял ее руку и нежно пожал, ибо любил Антуанетту, как сестру.
Но Антуанетта живо выдернула свою руку.
Амори повернулся, понимая, что это движение было чем-то вызвано. Мадлен стояла на крыльце, глядя на них обоих, бледная, как белая роза, которую она сорвала в саду и которую со вкусом, свойственным девушкам, приколола к волосам.
Амори подбежал к ней.
— Вам плохо, прекрасная Мадлен? — спросил он ее. — Во имя Бога, вы страдаете, вы такая бледная?
— Нет, Амори, — ответила она — нет, это скорее Антуанетта страдает, посмотрите на нее.
— Антуанетта печальна, я спросил о причине ее грусти, — сказал Амори. — И вы знаете, — добавил он тихо, — она говорит, что никогда не выйдет замуж.
Затем еще тише добавил:
— Любит ли она кого-нибудь?
— Да, — ответила Мадлен со странным выражением. — Да, Амори, я думаю, вы правильно догадались, что Антуанетта кого-то любит.
— Но будем говорить громко и подойдем к ней, ведь вы видите, — добавила она, улыбаясь, — наша тихая беседа заставляет ее страдать.
И действительно, Антуанетта чувствовала себя неловко. Молодые люди подошли к ней, но они не сумели ее удержать. Под предлогом, что ей необходимо написать письмо, она удалилась в свою комнату.
Антуанетта ушла, Мадлен задышала свободно, и влюбленные вновь стали мечтать о будущем.
Это были бесконечные путешествия в Италию, всегда наедине; любовные слова, всегда одни и те же и, однако, всегда новые, и они знали, что их счастье наступит не через долгие годы, а через два коротких месяца, а сейчас они могут видеться и быть вдвоем каждый день.
Минуты, действительно, бежали стремительно, вот и ночь уже наступила, а Мадлен и Амори показалось, что они были вместе лишь мгновение.
Позвонили к обеду.
В то время господин д'Авриньи и Антуанетта, оба улыбаясь, появились в противоположных дверях.
И опять Амори был у ног Мадлен, но сегодня вместо того, чтобы вспылить, как накануне, господин д'Авриньи сделал ему знак, позволяющий оставаться там же.
Затем, подойдя к ним, он протянул руку каждому, говоря:
— Мои дети! Мои дорогие дети!
Антуанетта, всегда хорошо владеющая собой, но непостоянная по настроению, сейчас была прелестна, радостна, остроумна и приветлива. Хотя красноречие девушки могло показаться постороннему несколько лихорадочным.
Но Мадлен и Амори были так поглощены собственными чувствами, что у них не было времени анализировать чувства других, они были слепы в своей любви. Только время от времени Мадлен толкала локтем Амори, чтобы напомнить, что отец рядом. Тогда они вступали в общий разговор, но вскоре чувство одерживало верх, и они снова были поглощены друг другом так, что это заставило сильнее почувствовать бедного старика, какую жертву приносили дети, бросая ему милостыню взглядом, словом или лаской.
Господин д'Авриньи долго не осмеливался замечать, как Мадлен соразмеряла, с согласия Амори, часть дочерней любви; в девять часов, под предлогом усталости прошлой ночи, он удалился, оставляя детей под присмотром миссис Браун.
Но перед тем, как уйти, он подошел к дочери, взяв за руку, пощупал биение пульса, и тогда его напряженное лицо осветилось внезапной и неописуемой улыбкой.
Кровь Мадлен текла спокойно и равномерно, ее пульс не вызывал никакого беспокойства, и ее прекрасные чистые глаза, так часто сверкающие от жара лихорадки, светились в этот момент лишь от счастья.
Тогда он повернулся к Амори и прижал его к груди, шепча:
— О! Если бы ты мог ее спасти.
Затем, счастливый, он удалился в свой кабинет, чтобы записать в дневник различные впечатления прошедшего дня, такого важного в его жизни.
Через некоторое время Антуанетта тоже удалилась, и ни Мадлен, ни Амори не заметили ее исчезновения; и, без сомнения, они считали, что она находится в гостиной, когда в одиннадцать часов миссис Браун подошла к ним и напомнила Мадлен, что господин д'Авриньи никогда не позволяет ей задерживаться позднее этого часа.
Молодые люди расстались, обещая провести следующий день так же.
Амори вернулся к себе домой самым счастливым человеком. Он только что провел один из таких дней, полных счастья, какие человек не может иметь дважды в своей жизни. Это один из тех исключительных дней, ничем не омраченных, когда все случайности, что несет с собой бег времени, смешиваются гармонично друг с другом, как детали прекрасного пейзажа под голубым небом.
Ни одно облачко не омрачило спокойствия этого дня, ни одно пятно не испортило вечных воспоминаний, которые он должен ему оставить.
Таким образом, Амори вернулся к себе, почти боясь своего счастья и стараясь понять, с какой стороны может прийти первое облако, что омрачит это радостное небо.
Сладкие грезы сопровождали тот счастливый вечер, который мы попытались описать.
IX
Итак, Амори проснулся в прекрасном расположении духа в преддверии встречи со своим другом Филиппом, о котором ему доложил Жермен, как только Амори позвонил.
Он вспомнил тотчас же, что накануне Филипп приходил попросить его о какой-то услуге, и Амори, неспособный заниматься в то время чем-либо другим, кроме собственных мыслей, отложил его дело на следующий день.
Филипп вернулся и с настойчивостью, свойственной его характеру, спросил: лучше ли настроен Амори в этот день, чем накануне?
Амори был в таком хорошем настроении, что хотел видеть весь мир счастливым: он приказал ввести Филиппа сразу же и с веселым лицом готовился принять его. Но Филипп вошел чопорным шагом и с очень серьезным видом; он был в черном фраке и в белых перчатках, хотя пробило только девять часов утра. Он стоял до тех пор, пока не удостоверился, что слуга вышел.
— Ну, дорогой Амори, — спросил он торжественным тоном, — расположен ли ты сегодня дать мне аудиенцию?
— Мой дорогой Филипп, — ответил Амори, — ты ошибаешься, сердясь на меня за отсрочку, которую я попросил у тебя для решения твоих дел, ты сам мог видеть позавчера, что я в тот день почти потерял голову; ты неудачно выбрал время, вот и все. Сегодня, наоборот, ты пришел удачно. Добро пожаловать, садись и сообщи мне о твоем важном деле, из-за которого ты выглядишь таким серьезным, непреклонным и чопорным.
Филипп улыбнулся, и, как актер, уверенный в том впечатлении, какое произвел, глубоко вздохнул, прежде чем начать свою тираду.
— Я прошу тебя, Амори, — сказал он, — вспомнить, что я адвокат, и, следовательно, выслушать меня терпеливо, не перебивая, и ответить мне только тогда, когда я кончу; я же обещаю, что моя речь продлится только пятнадцать минут.
— Берегись, — сказал Амори, улыбаясь, — прямо напротив меня часы, и сейчас они показывают девять часов пятнадцать минут.
Филипп вынул свои часы, сверил их с комической серьезностью, ему свойственной, и, повернувшись к Амори, сказал:
— Твои часы спешат на пять минут.
— Ты уверен? — возразил Амори, смеясь. — А не твои ли часы опаздывают? Ты знаешь, мой бедный Филипп, что ты похож на человека, который появился на свет на день позже и никак не может наверстать упущенное.
— Да, — сказал Филипп, — да, я знаю, что это моя привычка или, скорее, свойство моего нерешительного характера; это приводит к тому, что я никогда не решаюсь сделать то, на что решаются другие. Но на этот раз, я надеюсь, благодаря Богу, я прибыл вовремя.
— Поберегись, ты теряешь время на разглагольствования, и, может быть, кто-то другой использует это время в свою пользу, и тогда и на этот раз ты будешь среди опоздавших.
— Тогда, — сказал Филипп, — это будет из-за тебя, так как я просил не перебивать меня, и благодаря Богу это лишь первое, что ты сделал.
— Говори, на этот раз я весь внимание; послушаем, о чем ты мне расскажешь.
— Я расскажу историю, какую ты знаешь так же хорошо, как и я, но необходимо, чтобы я сделал свой вывод.
— А, мой дорогой, — подхватил Амори, — кажется, мы оба собираемся начать сцену Августа[45] и Цинны[46]; не подозреваешь ли ты меня, случайно, в заговоре?
— Ты меня прерываешь второй раз, несмотря на твое обещание.
— Нет, мой дорогой, я помню, что ты адвокат.
— Не смейся, Амори, когда речь идет о серьезных вещах, которые должны быть выслушаны серьезно.
— Посмотри на меня, мой дорогой, — сказал Амори, облокачиваясь на кровать с самым бесстрастным и серьезным видом. — Так лучше? Да, теперь я буду таким все время, пока ты будешь говорить.
— Амори, — продолжал Филипп полусерьезно, следуя принятому решению быть солидным, полушутя — против своей воли. — Ты помнишь наш первый курс занятий по праву? Мы выходим из колледжа новоявленными философами, умными, как Сократ[47], и рассудительными, как Аристотель[48]. Нашим сердцам позавидовал бы сам Ипполит[49] — так мы думали о себе и прилежно учились, рассчитывая на нашем первом экзамене по праву получить три белых шара, как символы нашей девственной чистоты, которые наградят наше усердие и принесут радость в наши семьи. Вряд ли стоит объяснять тебе, мой дорогой, что я был очень взволнован похвалами своих преподавателей и благословением своих кумиров и даже рассчитывал умереть, как Святой Ансельм[50], в своем целомудренном платье, но я не учел, что существуют черт, апрель, и что мне только восемнадцать леи. Из чего следовало, что этот прекрасный план потерпел поражение. Перед моими окнами находились два окна, где время от времени я видел лицо отвратительного создания, модель мстительной испанской дуэньи, уродливой и крикливой, в компании такой же, как и она, безобразной собаки, которая, когда окно случайно открывалось, клала свои лапы на подоконник, глядя на меня с любопытством через свою грязную шерсть. Я боялся и собаки, и ее хозяйки, и тщательность, с коей я закрывал свои окна занавесками, была одной из причин моих побед в учебе, в результате чего я добился к концу предыдущего года такого успешного начала в карьере Кюжа и Дельвинкура.
Однажды в начале марта я с удовольствием увидел доску в шесть дюймов в высоту и фунт в ширину, на которой были написаны утешительные слова:
КОМНАТА И КАБИНЕТ
сдаются
с первого апреля
Стало очевидно, что я избавляюсь от моей соседки и что какое-то человеческое существо заменит это мерзкое создание, в течение двух лет приводящее меня в ужас. Я с нетерпением ожидал первого апреля — время приезда новых жильцов. Тридцать первого марта я получил письмо от моего дяди, того, кто оставил мне две тысячи ливров ренты, меня приглашали провести следующий день, воскресенье, в его загородном доме в Ангиене. Из-за этого я мог опоздать на лекции на следующей неделе, и я провел часть ночи, занимаясь, чтобы в понедельник быть на одном уровне с тобой и с другими товарищами; и вместо того, чтобы проснуться в семь часов утра, я проснулся в восемь часов, и вместо того, чтобы отправиться в восемь часов, я уехал в девять, и вместо того, чтобы приехать в десять часов, я приехал в одиннадцать. Заканчивался завтрак. Это опоздание, конечно, не лишило меня аппетита, я сел за стол, обещая догнать других гостей, но, несмотря на то, что я активно работал челюстями, часть общества закончила завтрак раньше меня, и так как была прекрасная погода, все решили прогуляться по озеру и мне объявили, что, ожидая меня, пройдутся по дороге, после чего отчалят. Мне дали десять минут, и я убедился, что мне больше не надо.
Но я забыл о кофе, и вместо того, чтобы оставить кофе на столе, услужливая кухарка из боязни, что он остынет, отнесла его на плитку, и его подали кипящим. Мне понадобилось две минуты, чтобы его выпить, что заняло больше времени, чем обычно, ведь я вынужден был дуть более полутора минут, чтобы остудить кофе.
Таким образом, я опоздал на шестьдесят секунд.
К несчастью, в обществе был математик, то есть один из таких людей, точных, как солнечные часы, какие и ходят, как часы, а часы их точны, как солнце.
Через десять минут, которые он мне дал, он достал свой хронометр, показал обществу, что я опаздывал, заставил всех сесть в лодку и начал ее отвязывать.
В это время я вышел на порог дома и сразу же увидел, какая шутка мне угрожает: меня хотели оставить на дороге.
Я побежал со всех ног и был на причале, когда лодка отходила от берега. Четыре дюйма отделяли меня от нее, меня встретили смехом, и я решил, что мне следовало бы ответить на это криками триумфа.
Я вспомнил свои упражнения по гимнастике, прыгнул вперед и упал в озеро.
— Бедный Филипп! — вскрикнул Амори. — К счастью, ты плаваешь, как рыба.
— Хорошо говорить. К несчастью, вода была на два-три градуса выше нуля, я добрался до берега, дрожащий, в то время как математик считал, сколько миллиметров понадобилось бы мне, чтобы я прыгнул в лодку, вместо того, чтобы упасть в озеро. Холодная ванна, принятая в необычных условиях, очень вредна, как ты знаешь; таким образом, мой озноб перешел в лихорадку, задержавшую меня на три дня в Ангиене. На третий день вечером доктор объявил меня полностью здоровым, и мой дядя заметил, что за эти три дня я мог опоздать на экзамен на степень бакалавра, и я отправился в Париж, а к десяти вечера я вернулся в свою комнату на улице Сен-Николя дю Шардонре. Перед тем как вернуться к себе, я постучал в твою дверь, но ты или вышел, или лег спать. Эта деталь ускользнула от меня в тот момент и пришла теперь мне в голову.
— Но, черт возьми, что ты хочешь?
— Увидишь.
— Я лег спать, как выздоравливающий, и на следующий день проснулся с птицами. Я подумал, что я за городом. Птица, чье название носит моя улица, скончалась уже давно или была только мифом, я открыл глаза, ища взглядом зелень, цветы и крылатого певца, как его называет господин Делиль[51], мелодичный голос которого дошел до меня, и к моему большому удивлению я увидел все это. Я увидел кое-что еще, так как через стекла — накануне я забыл их занавесить — я заметил в рамке из левкоев и розовых кустов самую красивую гризетку, какую можно было видеть, сентиментально покрывавшую звездчаткой клетку, где находились пять или шесть видов птиц: коноплянки, щеглы, канарейки — все они благодаря мягкости правительства, что ими руководило, несмотря на различие видов, видимо, жили в согласии. Настоящая картина Миериса. Ты знаешь, что я любитель картин. Я целый час смотрел на ту, которая мне казалась прелестной, так как заменила вид, который в течение двух лет был мне особенно отвратителен: вид со старой женщиной и ее старой собакой. Во время моего отсутствия моя Тисифона[52] переехала, уступив место прелестной гризетке. В тот же день я решил, что влюблюсь безумно в свою прелестную соседку и воспользуюсь первой случайностью, чтобы дать понять об этом решении.
— Я вижу, зачем ты пришел, — сказал Амори, смеясь, — но я надеюсь, что ты забыл это маленькое приключение, когда я имел несчастье соперничать с тобой и опередить тебя на два или три дня.
— Наоборот, дорогой Амори, я все помню в деталях, и так как это детали, о которых ты не знаешь, будет хорошо, если я тебе о них сообщу, чтобы ты знал, как ты не прав относительно меня.
— А это! Но не дуэль же ты собираешься мне предложить?
— Нет, наоборот, я попрошу тебя об услуге, и я хочу тебе рассказать мою историю, чтобы, кроме чувства нерушимой дружбы, которая объединяет нас и предрасполагает тебя быть со мною приятелем, ты понял бы, как ты ошибаешься; чтобы ты мог искупить свою вину.
— Итак, вернемся к Флоранс.
— Ее звали Флоранс! — воскликнул Филипп. — Это прелестное имя, и ты думаешь, что я не узнал ее имени? Вернемся к Флоранс, как ты ее называешь. Я сразу принял два решения, назвав тебе время и место — а это уже слишком много, так как мне даже одно принять очень трудно. Решение принято, и никто не исполнит его более настойчиво, чем я. Слушай, я считаю, что я только что придумал оборот речи.
— Ты имеешь на это право, — ответил серьезно Амори.
— Первое решение было безумно влюбиться в свою соседку, — продолжал Филипп, — это казалось легче всего, и я исполнил это в тот же день. Вторым решением было объявить о своей любви, а это не совсем удобно осуществить. Сначала надо было найти возможность, наконец, надо было осмелиться ею воспользоваться. В течение трех дней я караулил ее. В первый день я следил за ней из-за моих занавесок, боясь ее испугать, показавшись ей внезапно. Во второй день я следил за ней из-за стекол, так как не осмеливался открывать окна. На третий день — из моего открытого окна. Я заметил с удовольствием, что моя смелость ее совсем не испугала. К концу третьего дня я увидел, как она накинула шаль на плечи и застегнула свои деревянные башмаки. Было очевидно, что она готовилась выйти из дома. Я ждал этого момента и приготовился идти за ней.
X
Филипп продолжал:
— Я составил план: я должен ее остановить, если осмелюсь, предложить свою руку, чтобы проводить ее туда, куда она шла, и, провожая ее, перечислить все разрушения, которые нанесли мне ее вздернутый носик и белоснежные зубки.
Я взял трость, шляпу, плащ и пролетел кубарем пять этажей. Но, несмотря на быстроту, с какой я действовал, она была уже в тридцати шагах от меня, когда я добрался до двери на улицу. Я тотчас же принялся ее преследовать. Но, ты понимаешь, соблюдая приличия, догонял ее постепенно, чтобы не испугать.
На углу улицы Сен-Жан я выигрывал уже восемнадцать шагов, на углу улицы Расина — двенадцать, наконец, на улице Вожирар я уже собирался подойти к ней, когда вдруг через ворота она вошла в какой-то двор, пересекла его и поднялась по лестнице, последние ступеньки которой можно было увидеть с улицы.
Мгновенно мне пришла в голову мысль: не упустить ее из виду и подождать в глубине двора, но там стоял швейцар, и это меня смутило. Он, конечно, спросил бы меня, куда я иду, и я не знал бы, что ответить, или поинтересовался бы, за кем я шел, а я даже не знал имени прелестной гризетки.
Я ограничился тем, что начал ее ждать и вести наблюдение, и это сразу же навсегда меня оттолкнуло от национальной гвардии. Час, два с половиной часа прошли, идол моего сердца не появлялся. Может быть, я испугал мою гризетку? Я ждал ее, наступила ночь, скрылось солнце, я не видел ее.
Вдруг в свете керосиновой лампы, осветившей лестницу, я увидел ситцевое платье моей беглянки и полы пальто молодого человека, и я слышал, как его трость с железным наконечником ударяла по ступенькам лестницы.
Был ли это ее возлюбленный или брат? Очевидно, или брат, или любовник.
Я вспомнил изречение мудреца: «В сомнении воздержись». Я воздержался.
Гризетка и ее кавалер прошли в четырех шагах, не заметив меня, — так было темно.
Это событие заставило меня изменить тактику — подобные обстоятельства могли представиться еще.
Впрочем, в глубине души я укорял себя за слабость, я говорил себе, что в момент, когда я ее догнал, эта смелость, такая великая вдали от нее, помогла бы мне, и, может быть, стоило бы ей написать.
Написать любовное письмо, письмо, от которого зависело, какое мнение составить обо мне соседке, и таким образом значительно сократить путь к ее сердцу.
Я тотчас же сел за стол, чтобы выполнить свое намерение.
Впрочем, я писал впервые.
Я провел часть ночи, сочиняя черновик, я прочитал его на следующее утро, и он показался мне отвратительным. Я сочинил второй, третий, и, наконец, остановился на этом.
Филипп достал черновик из портфеля и прочитал следующее:
«Мадемуазель! Видеть Вас — значит любить, я Вас увидел и полюбил. Каждое утро я вижу, как Вы кормите ваших птиц, которые счастливы, что им дает корм такая прелестная ручка; я вижу, как Вы поливаете розы, менее розовые, чем Ваши щечки, и Ваши левкои, менее сладостные, чем Ваше дыхание, и этих нескольких минут достаточно, чтобы заполнить мои дни мыслями и мои ночи мечтами о Вас.
Мадемуазель, Вы не знаете, кто я, я же совсем не знаю, кто Вы; но тот, кто Вас видел мгновение, может составить мнение, какая душа, нежная и пылкая, прячется за Вашей соблазнительной внешностью.
Ваш ум, конечно, так же поэтичен, как Ваша красота, а Ваши мечты так же прекрасны, как Ваши взгляды. Счастлив тот, кто сможет осуществить эти сладкие несбыточные мечты, и нет прощения тому, что нарушит эти прелестные иллюзии!»
— Я достаточно хорошо подражаю литературному стилю нашего времени, не правда ли? — сказал Филипп, удовлетворенный собою.
— Это комплимент, который я хотел бы тебе сделать, — подхватил Амори, — если бы ты не просил не прерывать тебя.
Филипп продолжал:
«Видите, мадемуазель, я Вас знаю. И Ваш тайный инстинкт, разве он Вас не предупредил, что рядом с Вами, в доме напротив, немного в стороне от Ваших оконных рам, молодой человек, владелец кое-какого состояния, но одинокий и изолированный в этом мире, нуждается в сердце, которое его поймет и поможет ему? Что ангелу, который опустился с небес, чтобы заполнить его одинокое существование, он отдаст свою кровь, свою жизнь, свою душу, и его любовь будет не капризом, таким же легким, как и смешным, но обожанием каждый день, каждый час, каждую минуту.
Мадемуазель, если бы Вы меня не увидели, Вы бы не догадались?»
Филипп остановился во второй раз, глядя на Амори, как бы спрашивая вторично его мнение. Амори сделал одобрительный знак головой, и Филипп продолжал.
«Извините, что я сумел сопротивляться этому сильному желанию сказать Вам о глубоких и очень прочных чувствах, которые появляются при одном вашем виде. Извините меня, что я осмелился Вам рассказать об этой жалкой и пылкой любви, что составляет теперь мою жизнь.
Не обижайтесь на признание сердца, которое лишь испытывает к Вам уважение, и, если Вы только захотите поверить в искренность этого преданного сердца, позвольте мне прийти и объясниться с Вами наяву, а не в холодном письме, и показать, сколько я несу в своем сердце почтительности и нежности.
Мадемуазель, позвольте мне увидеть ближе своего кумира. Я не прошу Вашего ответа, о нет, я не так тщеславен; но одно Ваше слово, один жест, и я упаду к Вашим ногам и останусь там на всю жизнь.
Филипп Оврэ, улица Сен-Николя дю Шардонре, шестой этаж, одна из трех дверей, на которой висит заячья лапка».
— Ты понимаешь, Амори? Я не спрашивал ответа, ибо это было бы слишком смелым, но я сообщил свой адрес на тот случай, если моя прелестная соседка будет тронута моей запиской и удивит меня ответом на нее.
— Без сомнения, — ответил Амори, — и это замечательная предусмотрительность.
— Бесполезная предосторожность, мой друг, как ты увидишь. Это милое и пылкое послание закончено, и теперь нужно отослать его по адресу, но как, каким путем? Я не знал имени моего божества.
Передать его через швейцара, наградив его экю? Но я слышал, что швейцары неподкупны. Рассыльный? Это было бы прозаично и немного опасно, так как рассыльный мог бы появиться, когда там будет брат. Я решил, что этот молодой человек ее брат. Вдруг мне пришла в голову мысль довериться тебе, но так как я знал, что ты более проницателен в подобных делах, я боялся, что ты будешь насмехаться надо мной. В результате письмо было написано, запечатано, положено на стол, два дня я пребывал в растерянности.
Наконец к вечеру третьего дня я воспользовался моментом, когда моя красавица отсутствовала, сел к окну и устремил взор на ее окно, оставшееся широко открытым, я увидел, что листок оторвался от ее розового куста и, унесенный ветром, пролетел через улицу и прилетел на окно нижнего этажа. Желудь, упавший на нос Ньютона, открыл ему систему мира. Листок розового куста, летящий по воле ветра, предложил мне средство переписки, которое я искал.
Я привязал мое письмо к палочке сургуча для запечатывания писем и ловко бросил его через улицу из своей комнаты в комнату моей соседки. Затем, очень взволнованный этой чрезмерной смелостью, я быстро закрыл окно и стал ждать. Совершив такой смелый поступок, я испугался его последствий. Если моя соседка встретится с братом и если ее брат найдет мое письмо, то она будет ужасно скомпрометирована. Я ждал, спрятавшись за занавеской, с сердцем, полным тоски, боясь минуты, когда она вернется к себе, как вдруг я увидел, что она появилась.
К счастью, она была одна, и я облегченно вздохнул. Она сделала два или три круга по комнате, легко, словно танцуя, как обычно, не замечая моего письма. Но, наконец, ее нога коснулась письма, она наклонилась и подняла его. Мое сердце забилось, я задыхался, я сравнивал себя с Лозюном, Ришелье и Ловеласом[53].
Наступила ночь, она подошла к окну, чтобы посмотреть, с какой части улицы могло прийти послание, которое она держала в руках, чтобы прочесть. Я решил, что наступил момент, когда можно показаться и своим присутствием довершить впечатление, какое произведет мое письмо; я открыл окно. При шуме открываемого окна соседка повернулась в мою сторону, посмотрела на меня, потом на письмо. Выразительная пантомима показала ей, что я автор послания. Я скрестил руки, умоляя ее прочесть его. Она, казалось, была в затруднении, но, наконец, все-таки решилась.
— На что?
— Прочесть его, черт возьми! Я видел, как она развернула мое письмо кончиками пальцев, посмотрела на меня еще, улыбнулась, потом расхохоталась. Этот взрыв смеха немного сбил меня с толку. Но поскольку она прочла письмо с начала до конца, я уже обрел надежду, как вдруг я увидел, что она собирается разорвать мое письмо. Я чуть не закричал, но подумал, что она делает это, без сомнения, из-за страха; как бы ее брат не нашел это письмо. Я решил, что это правильно, и зааплодировал, но мне показалось, что она с ожесточением рвала мое письмо на кусочки: на четыре, восемь, еще на шестнадцать, тридцать два, на незаметные клочки. Это было ребячество, но казалось, она хотела превратить его в атомы, а это было уже жестокостью.
Вот что она сделала, и когда кусочки стали такими мелкими, что рвать их стало невозможно, она бросила на прохожих этот печальный снег, затем, смеясь мне в лицо, закрыла окно, в то время как дерзкий порыв ветра принес мне обрывок моей бумаги и моего красноречия. И какой? Мой дорогой, тот, где написано «смешным». Я был взбешен, но так как, в конце концов, она не виновата в этой последней насмешке, то я упрекнул в таком оскорблении один из четырех ветров, закрыл окно с достойным видом и стал думать, как победить это сопротивление, столь редкое в почтенном сословии гризеток.
XI
Первые планы, придуманные мною, были следствием состояния крайнего раздражения, в котором я находился. Это были самые жестокие комбинации и самые большие любовные катастрофы, какие потрясли мир, начиная с Отелло[54] и кончая Антонием[55]. Однако прежде чем остановиться на какой-нибудь из них, я решил, что проведу ночь в гневе, согласно аксиоме: утро вечера мудренее.
Действительно, на следующий день я проснулся удивительно спокойным. Мои жестокие планы уступили место решениям более компромиссным, как говорят сегодня, и я остановился на следующей комбинации, заключавшейся в том, чтобы дождаться вечера, позвонить в ее дверь, закрыть на задвижку, броситься к ее ногам и сказать ей то, о чем я сообщил ей письменно. Если она меня оттолкнет, ну и что, будет время прибегнуть к крайним мерам.
План действительно смелый, но у автора этого плана не было достаточно смелости, чтобы его исполнить. Вечером я решительно дошел до конца лестницы моей инфанты, но там остановился. На следующий день я дошел до третьего этажа, но спустился, не рискуя подняться выше; на третий день я дошел до лестничной площадки, но тут моя смелость кончилась: я был как Керубино[56], я не осмелился отважиться.
Наконец, на четвертый вечер я поклялся покончить с этим и признать себя трусом и простофилей, если буду вести себя, как в предшествующие дни. Затем я вошел в кафе, выпил подряд шесть чашек черного кофе, и, возбужденный за три франка, я поднялся на три этажа и, не раздумывая, дернул за дверной колокольчик.
При дребезжании дверного колокольчика я готов был броситься вниз, но моя клятва меня удержала.
Шаги приближались…
— Мадемуазель!..
— Мадемуазель!..
Но едва я произнес это слово, как чьи-то мужские руки меня схватили и, затащив в комнату, привели к той, которую я искал, она при моем приближении грациозно встала, а мой друг Амори сказал ей:
— Милочка, я представляю тебе моего друга Филиппа Оврэ, хорошего и смелого парня, который живет в доме напротив и который давно желает с тобой познакомиться.
Ты знаешь остальное, мой дорогой Амори: я провел десять минут в вашей компании, в течение этих минут я ничего не видел и не слышал; в это время у меня звенело в ушах, в глазах у меня было темно; после чего я поднялся, прошептал несколько слов и удалился, сопровождаемый взрывом смеха мадемуазель Флоранс и приглашениями приходить.
— Ну, дорогой мой, зачем вспоминать об этом приключении? Ты на меня долго дулся, я знаю, но я думал, что ты меня уже простил.
— Итак! Я это и сделал, мой дорогой, но я признаюсь, нет ничего легче, чем твое предложение представить меня твоему опекуну, и обещание, кое ты торжественно мне дал: оказывать в будущем все услуги, какие будут в твоей власти, чтобы мое прощение было более искренним. Я хотел тебе напомнить о твоем преступлении, Амори, до того, как напомнить о твоем обещании.
— Мой дорогой Филипп, — сказал Амори, улыбаясь, — я помню о том и другом и жду дня, чтобы искупить свою вину.
— Ну, этот день наступил, — сказал торжественно Филипп. — Амори, я люблю!
— Ба! — воскликнул Амори. — Правда?
— Да, — продолжал Филипп тем же поучающим тоном, — но на этот раз это не любовь студента, о которой я говорю. Моя любовь — это серьезная любовь, глубокая и долгая, что умрет только вместе с моей жизнью.
Амори улыбнулся, он думал об Антуанетте.
— И ты меня попросишь, — сказал он, — служить поверенным твоей любви? Несносный, ты заставляешь меня трепетать! Неважно, начинай! Как эта любовь пришла, и кто предмет твоей любви?
— Кто она, Амори? Теперь это не гризетка, о которой шла речь, которую берут штурмом, а знатная девушка, и только светлые и нерасторжимые узы могут связать меня с ней. Я долго колебался, прежде чем объявить тебе об этом, моему лучшему другу. Я не знатен, но, в конце концов, я из доброй и уважаемой семьи.
Мой дорогой дядюшка оставил мне после смерти в прошлом году двадцать тысяч ренты и дом в Ангиене, я рискнул и пришел к тебе, Амори, мой друг, мой брат, ты сам мне признался в прошлых ошибках по отношению ко мне, в вине большей, чем я думал; я прошу тебя просить у твоего опекуна руки мадемуазель Мадлен.
— Мадлен! Великий Боже! Что ты говоришь, мой бедный Филипп! — воскликнул Амори.
— Я тебе говорю, — снова начал Филипп тем же торжественным тоном, — я говорю, что я прошу тебя, моего друга, моего брата, который признался, как он ошибался по отношению ко мне; я говорю тебе, что я прошу тебя просить руки…
— Мадлен? — повторил Амори.
— Без сомнения.
— Мадлен д'Авриньи?
— Да.
— Значит, ты влюблен не в Антуанетту?
— О ней я никогда не думал.
— Значит, ты любишь Мадлен?
— Это Мадлен! И я тебя прошу…
— Но несчастный! — воскликнул Амори. — Ты опять прибыл слишком поздно, я ее тоже люблю.
— Ты ее любишь?
— Да, и…
— И что?
— Я просил ее руки и вчера получил согласие на брак.
— С Мадлен?
— Да.
— Мадлен д'Авриньи?
— Конечно.
Филипп поднес обе руки ко лбу, как человек, пораженный апоплексическим ударом, потом отупевший, ошеломленный, раненый, он поднялся, пошатываясь, взял машинально свою шляпу и вышел, не сказав ни слова.
Амори, сочувствуя, хотел броситься за ним.
Но в этом время пробило десять часов, и он вспомнил, что Мадлен ждет его к одиннадцати.
XII
ДНЕВНИК ГОСПОДИНА Д'АВРИНЬИ
«15 мая.
По крайней мере я не покину мою дочь, она останется со мной. Это решено, или, скорее всего, я останусь с ней. Куда они поедут, туда поеду я; там, где они будут жить, буду жить я.
Они хотят провести зиму в Италии, или, скорее, это я, предчувствуя разлуку, внушил им эту мысль, но я решил, что подам в отставку и последую за ними.
Мадлен достаточно богата, значит, и я достаточно богат…
Боже мой, что мне нужно? Если я еще сохранил что-то, то лишь для того, чтобы передать это ей…
Я знаю хорошо, что мой отъезд очень удивит людей. Меня захотят удержать во имя науки, будут ссылаться на больных, которых я покидаю. Но разве все это вечно?
Единственный человек, за которым я должен наблюдать, — это моя дочь. Она — не только мое счастье, но и мой долг, я необходим двум моим детям, я буду управлять их делами, я хочу, чтобы моя Мадлен была самой прекрасной и роскошной, чтобы их состояние при этом не пострадало.
Мы займем дворец в Неаполе, на Вилль-Реаль в красивом южном местечке. Моя Мадлен расцветет, как редкий цветок, посаженный в родную почву.
Я буду организовывать их прогулки, я буду вести их дом, я буду, наконец, их интендантом; решено — я освобожу их от всех материальных забот.
Они будут только любить друг друга и будут счастливы: им будет достаточно заниматься только этим.
Это не все, я хочу еще, чтобы это путешествие, которое они рассматривают как приятное развлечение, послужило бы карьере Амори; не сказав ему об этом, вчера я попросил министра о секретном и очень важном поручении. Я добился этого поручения.
Ну, вот что значит тридцать лет посещать высший свет, наблюдать за физическим и моральным состоянием этого мира, вот что позволил мне мой опыт, и я этим воспользуюсь.
Я не только буду помогать ему в работе, как об этом просят, но я сам выполню эту работу. Я засею поле для него, а ему останется собрать урожай.
Короче, так как мое состояние, моя жизнь, мой ум принадлежит моей дочери, я ему отдам все это.
Все для них, только для них, я себе не оставлю ничего, кроме права иногда видеть, как Мадлен мне улыбается, слышать, как она разговаривает со мной, видеть се веселой и красивой.
Я ее не покину, вот что я повторял все время, вот о чем я мечтаю так часто, что я забываю из-за этого мой институт, даже короля, который послал за мной сегодня, чтобы спросить, не болен ли я, так как я забываю обо всем, кроме моих больниц: остальные мои больные богаты и могут взять другого доктора, но мои бедняки, кто их будет лечить, если не я?
Однако и их я покину, когда уеду с дочерью.
Случаются моменты, когда я себя спрашиваю, имею ли я на это право? Но будет странно, если я буду заботиться о ком-то больше, чем о своей дочери.
Это немыслимо, но это слабость духа, если человек подвергает сомнению самые простые истины.
Я попрошу Крювельера или Жовера временно исполнять мои обязанности, в этом случае я буду спокоен.
16 мая
Они действительно так радостны, что их радость отражается на мне, они на самом деле так счастливы, что я греюсь около их счастья, хотя я чувствую, что этот избыток любви, которую она несет ко мне — это всего лишь часть любви к нему, что переполняет ее; бывают моменты, когда я, бедный и забытый, позволяю себе воспользоваться этой чужой любовью, словно комедиант, сочиняющий рассказ, который есть не что иное, как басня.
Сегодня он пришел с таким сияющим лицом, что видя, как он переходит через двор, поскольку я сам послал его к моей дочери, я задержался, чтобы не заставлять его сдерживать свои чувства в моем присутствии. В жизни так мало подобных минут, что это грех, как говорят итальянцы, — считать их у тех, кто их имеет.
Спустя две минуты они прогуливались в саду, сад — это их рай. Там они спрятаны от всех, и, однако, они не одни: там гуща деревьев, где можно взяться за руки, а в аллеях подойти близко друг к другу.
Я наблюдал за ними, спрятавшись за занавеской моего окна, и сквозь куст сирени я видел, как их руки ищут друг друга, их взгляды погружаются во взгляды друг друга; кажется, что сами они рождаются и цветут, как все, что цветет вокруг них. О, весна, молодость года! О молодость, весна жизни!
И, однако, я не думаю без страха о волнениях, даже счастливых, которые ожидают мою бедную Мадлен; она так слаба, что любая радость может сломить ее, как ломает других несчастье.
Возлюбленный, будет ли он так же скуп в чувствах, как отец? Будет ли он, как я, измерять силу ветра, дующего на дорогую овечку без шерсти? Создаст ли он хрупкому и деликатному цветку теплую и благоуханную атмосферу без лишнего солнца и без лишних гроз?
Этот пылкий молодой человек, с его страстью и с частыми переменами этой страсти, может разрушить за месяц то, что я создавал терпеливым трудом девятнадцать лет.
Плыви, поскольку так надо, моя бедная хрупкая лодка, в эпицентр этой бури; к счастью, я буду лоцманом, к счастью, я тебя не покину.
О! Если я тебя покину, моя бедная Мадлен, что станет со мной? Хрупкая и деликатная, такой я тебя знаю, ты будешь всегда со мной, страдающая или готовая страдать.
Кто будет рядом с тобой, чтобы говорить тебе каждый час: «Мадлен, это полуденное солнце слишком жаркое», «Мадлен, этот вечерний бриз слишком холодный», «Мадлен, накинь вуаль на голову», «Мадлен, накинь шаль на плечи».
Нет, он будет любить тебя, он будет думать только о любви; я же буду думать о том, как поддерживать твою жизнь».
XIII
«17 мая.
Увы! Вот и на сей раз мои мечты упорхнули. Вот еще один день, когда, проснувшись, я отметил его для радости, а Бог — для страдания.
Амори пришел сегодня утром, веселый и счастливый, как обычно. Как всегда, я оставил их под присмотром миссис Браун и сделал свои обычные поручения.
Весь день я был убаюкан мыслью, что вечером объявлю Амори о поручении и планах, намеченных мной. Когда я вернулся, было пять часов, и все собрались садиться за стол.
Амори уже ушел, чтобы вернуться пораньше, без сомнения, и он отсутствовал недолго. Все счастье, почти видимое, расцвело на лице Мадлен.
Бедное мое дитя! Никогда она себя лучше не чувствовала, как она говорит. Может быть, я ошибался, и эта любовь, пугающая меня, поможет окрепнуть этому хрупкому организму, который, я боялся этого, может сломаться? Природа имеет свои кладези, куда даже самый пытливый взгляд не сможет проникнуть.
Я жил весь день с этой мыслью о счастье, что я им сохранял, я был как ребенок, который хочет сделать сюрприз кому-то, кого он любит и у которого этот секрет постоянно на устах; чтобы ничего не говорить Мадлен, я оставил ее в гостиной и спустился в сад. Она села за пианино, и, прогуливаясь, я услышал, как зазвучала соната, которую она играла, и эта мелодия, исполняемая моей дочерью, взволновала мое сердце.
Это продолжалось около четверти часа.
Я развлекался тем, что удалялся и приближался к этому источнику гармонии, кружа по дорожкам сада. Из самого отдаленного уголка его я слышал только высокие ноты, которые пересекали пространство и долетали до меня несмотря на расстояние; затем я приближался и сразу входил в этот гармоничный круг, от которого отделяли меня теперь лишь несколько шагов.
В это время наступила ночь, и все погрузилось в темноту.
Внезапно я перестал слышать музыку. Я улыбнулся: значит, пришел Амори.
Я возвращался в гостиную, но по другой аллее, шедшей вдоль стен. В этой аллее я встретил задумчивую Антуанетту; она была одна. В течение двух дней я хотел поговорить с ней и сейчас, подумав, что наступил благоприятный момент, остановился перед ней.
Бедная Антуанетта! Я сказал себе, что действительно она будет стеснять нашу дивную жизнь втроем, которую я себе обещал, что вся нежность таких близких сердечных отношений не нуждается в свидетеле, каков бы он ни был, и будет лучше, если Антуанетта не поедет с нами путешествовать.
Однако, бедное дитя, я не хотел бы оставить тебя здесь одну! Она останется только счастливой и окруженной любовью; и я, и Мадлен, и Амори обязаны ей счастьем. Я ее слишком люблю, и я слишком любил свою сестру, чтобы поступить иначе.
И так же, как я все приготовил для Амори и Мадлен, я приготовил все для нее.
Увидев меня, она подняла глаза, улыбнулась и протянула мне руку.
— Ну, дядя, — сказала она, — я вам обещала, что вы будете счастливы их счастьем, не правда ли? Их счастье состоялось… разве вы не счастливы?
— Да, дорогое дитя, — сказал я ей, — но это еще не все, счастливы они и я, остаешься еще ты, Антуанетта, и ты тоже должна быть счастливой.
— Но, дядя, я счастлива! Вы меня любите, как отец, Мадлен и Амори любят меня, как сестру; чего же мне еще не хватает?
— Кого-то, кто тебя полюбит, как супругу, дорогая племянница, и я его нашел.
— Дядя… — сказала Антуанетта тоном, который, казалось, молил меня не продолжать.
— Выслушай, Антуанетта, — возразил я, — и потом ты ответишь.
— Говорите, дядя.
— Ты знаешь господина Жюля Раймонда?
— Это тот молодой человек, кому вы поручаете вести ваши дела?
— Он… Как ты его находишь?
— Прелестный… для адвоката, мой дядя.
— Не шути, Антуанетта! У тебя отвращение к этому молодому человеку?
— Дядя, только те, кто любит, испытывают это чувство, противоположное страсти… Я не люблю никого, и все мужчины мне безразличны.
— Но, моя дорогая Антуанетта, Жюль Раймонд пришел ко мне вчера; и если ты не обратила на него внимание, то он тебя заметил…
— Господин Жюль Раймонд один из тех людей, кого будущее не обойдет стороной, так как они сами делают свое будущее.
— И он попросил, чтобы ты разделила это будущее с ним. Он знает, что у тебя двести тысяч франков приданого… Он…
— Дядя, — прервала Антуанетта, — все это так прекрасно и великодушно, что я не хочу, чтобы вы продолжали, прежде чем я вас поблагодарю. Жюль Раймонд составляет среди деловых людей редкое исключение, которое я ценю, но мне казалось, что я уже говорила вам о своем единственном решении — остаться с вами. Я не представляю другого счастья, чем это, хотя вы вынуждаете меня к другому.
Я хотел настаивать, я хотел ей показать выгоды, которые она могла бы извлечь из этого союза. Человек, мною предложенный, был молод, богат, уважаем, а я не буду жить вечно: что будет делать она одна, без привязанностей, без опоры? Антуанетта меня выслушала со спокойной решимостью и, когда я закончил, сказала:
— Дядя, я должна вам повиноваться, как я повиновалась одновременно моему отцу и моей матери, потому что, умирая, они передали вам свою власть надо мной. Прикажите, и я послушаюсь, но не старайтесь меня убедить, так как в том расположении сердца и разума, в котором я нахожусь, и в своем выборе я откажусь от любого, кто пожелает быть моим мужем, будь этот претендент миллионером или принцем…
В ее голосе, в се словах, в ее движениях было столько твердости, что я понял: настаивать, как она сама говорила, значило принуждать ее. Я успокоил ее полностью.
После того как я ей сказал, что она будет вольна распоряжаться своей рукой и сердцем, я отвлек ее планами, которые я рассчитывал предложить моим детям. Я ей объявил, что она будет нас сопровождать в путешествии, и вместо того, чтобы быть втроем, мы будем счастливы вчетвером, вот и все.
Но она покачала головой и ответила, что благодарит меня от всего сердца, но не поедет в это путешествие с нами. Тогда я выразил изумление.
— Послушайте, дядя, — сказала она. — Бог, наверное, управляет судьбами; одним приносит счастье, другим печаль. Для меня, бедной девушки, моя судьба — одиночество. До того, как я достигла двадцатилетия, я потеряла отца и мать. Шум, движение в длительном путешествии, смена народов и городов мне не подходит. Я останусь одна с миссис Браун. Я буду ждать вашего возвращения в Париж, я покину мою комнату только для того, чтобы войти в церковь или вечером погулять в саду, и, возвратившись, вы найдете меня на том же месте, где вы меня покинули, с тем же спокойным сердцем, с той же улыбкой на губах — все это я потеряю, дядюшка, если вы захотите сделать мою жизнь иной, чем она должна быть.
Я больше не настаивал, но я спрашивал себя, почему Антуанетта стала такой, она, верящая в людей; что превратило в келью-комнату девятнадцатилетней девушки, красивой и остроумной, часто смеющейся, имеющей двести тысяч франков приданого?
Боже, что со мной стало и почему я терял время, чтобы гадать о необъяснимых фантазиях девушки? Почему я терял время, успокаивая, жалея, приводя в чувство Антуанетту, вместо того, чтобы сразу идти в гостиную? И Бог знает, сколько времени я был бы еще там, наедине с этой второй дочерью, если бы не озадаченная моим взглядом, обеспокоенная моими вопросами, она сама не попросила разрешения удалиться в свою комнату.
— Нет, дитя, — сказал я, — оставайся здесь, а я уйду. Ты, моя дорогая Антуанетта, можешь, не боясь, находится на свежем ночном воздухе. Я хотел бы, чтобы Мадлен была такой же, как ты.
— О, дядя! — воскликнула Антуанетта, вставая. — Я клянусь вам звездами, которые смотрят на меня, и этой луной, которая так нежно светит, я вам клянусь, если бы я смогла отдать свое здоровье Мадлен, я его отдала бы немедленно; разве было бы не лучше, чтобы я, бедная сирота, подвергалась той опасности, которой подвергается она, такая богатая, и особенно — опасности любви!
Я поцеловал Антуанетту, поскольку она произнесла эти слова так искренно, что в них нельзя было сомневаться; после этого она присела на скамью, а я направился к крыльцу.
XIV
В тот момент, когда я взошел на первую ступеньку крыльца, раздался милый голос Мадлен, и подобно голосу ангела запел в моей душе, прогоняя печаль. Я остановился, чтобы послушать; не то, что этот голос произносил, а сам голос. Несколько слов, однако, дошли до моего слуха и до разума, и я не ограничился тем, что услышал, а начал прислушиваться…
Окно, выходившее в сад, было открыто, но чтобы не пропустить прохладный вечерний воздух, портьеры опустили: за ними я видел знакомые тени — это мои дети склонили друг к другу головы.
Они тихо беседовали. Я слушал. Я слушал, онемевший, неподвижный, подавленный, сдерживая дыхание, и каждое их слово, как капля ледяной воды, падало мне на сердце.
— Мадлен, — говорил Амори, — как я буду счастлив видеть тебя каждый день, постоянно, и видеть вокруг твоей прелестной головы нимб, который идет ей больше всего, — небо Неаполя или Сорренто.
— О, дорогой Амори, — отвечала Мадлен. — О, я скажу тебе, как Миньона: «Прекрасна страна, где зреют апельсины… Но твоя любовь, где отражается рай, прекраснее».
— О, Боже мой! — сказал Амори со вздохом, в котором был легкий налет нетерпения.
— Что? — спросила Мадлен. — Что ты хочешь сказать?
— Я хочу сказать, что Италия будет нам Эльдорадо, я хочу сказать, как Миньона: «Да, там нужно любить, да, там чувствуешь, что живешь». Без всего, что омрачит нашу жизнь и опечалит нашу любовь?
— Без чего?
— Я не осмелюсь тебе сказать, Мадлен.
— Прошу, говори.
— Ну, мне кажется, чтобы быть полностью счастливыми, нужно, чтобы мы были абсолютно одни, мне кажется, что любовь — это деликатная и святая вещь, что присутствие третьего, кем бы он ни был, своим или чужим, мешает, и, чтобы быть поглощенными друг другом, чтобы быть единым целым, нельзя быть втроем.
— Что ты хочешь сказать, Амори?
— О, ты хорошо знаешь.
— Это потому, что мой отец будет с нами? Ты поэтому так говоришь?.. Но подумай, это будет неблагодарно — дать ему почувствовать, ему, который сделал наше счастье, что его присутствие — преграда нашему счастью; мой отец не посторонний, это не третье лицо, это третий из нас двоих. Так как он нас любит обоих, Амори, и мы должны его любить.
— В добрый час, — подхватил Амори с легкой холодностью. — Ты не чувствуешь то же, что и я, по отношению к отцу… Не будем говорить об этом.
— Мой друг, — живо возразила Мадлен, — я тебя обидела?.. В таком случае, извини меня, но знаешь ли ты, мой ревнивец, что не одной любовью любят отца и возлюбленного?
— О, Боже, да! — сказал Амори. — Я знаю это хорошо, но любовь отца — не такая ревнивая и не единственная, как наша; ты привыкла к нему, вот и все. Для меня же видеть тебя — это не привычка, это необходимость.
Ах, Боже! Библия, этот великий голос человечества, говорила об этом две тысячи пятьсот лет тому назад: «Ты покинешь отца своего и мать свою, чтобы идти за супругом своим». Я хотел бы их прервать, я хотел бы им крикнуть: «Библия так говорит о Рахели. Она не хотела иметь утешение, так как ее дети были не с ней».
Я был прикован к своему месту, я был неподвижен; я испытывал мучительное удовлетворение, слыша, как моя дочь меня защищает, но мне казалось, что этого недостаточно; мне казалось, что она должна объявить своему возлюбленному, что она нуждается во мне, как и я в ней; я надеялся, что она сделает это. Она сказала:
— Да, Амори, может быть, ты прав, но присутствия моего отца нельзя избежать, не причинив ему ужасной боли; кроме того, если в какие-то моменты его присутствие и стеснит наши чувства, то в другие — оно обогатит наши впечатления.
— Нет, Мадлен, нет, — сказал Амори, — ты ошибаешься, смогу ли я в присутствии твоего отца, как сейчас, говорить, что люблю тебя? Когда под темными апельсиновыми деревьями, о которых мы только что говорили, или на берегу прозрачного и сверкающего, как зеркало, моря мы будем прогуливаться не вдвоем, а втроем, смогу ли я, если он пойдет за нами, обнять тебя за талию или попросить у твоих губ поцелуя, в котором они еще отказывают мне? А его серьезность не испугает ли нашу радость? Разве он одного с нами возраста, чтобы понять наши безумства? Ты увидишь, ты увидишь, Мадлен, какую тень бросит на нашу радость его строгое лицо. Если же, наоборот, мы будем одни в нашей почтовой карете — как мы будем часто болтать, как будем молчать иногда! С твоим отцом мы никогда не будем свободными: нам нужно будет молчать, когда мы захотим говорить, и нужно будет говорить, когда у нас будет желание молчать. С ним всегда нужно будет беседовать одним и тем же тоном, с ним не будет ни приключений, ни смелых экскурсий, ни пикантных инкогнито, а лишь большая дорога, правила, соблюдение приличий. И, Боже, понимаешь ли ты меня достаточно хорошо, Мадлен, я испытываю по отношению к твоему отцу глубокую признательность, уважение и даже любовь; но разве почтение нам должен внушать наш компаньон по путешествию? Скажи мне, разве чье-то постоянное внимание не будет нас слишком стеснять в дороге? Ты, моя дорогая Мадлен, со своей дочерней любовью, с чистотой девственности, разве и ты не думала обо все этом; и я вижу по твоему задумчивому лицу, что ты об этом думаешь и теперь. И чем больше ты размышляешь, тем больше убеждаешься, что я не ошибаюсь, и что, путешествуя втроем, двое, по крайней мере, скучают.
Я с тоской ожидал ответа Мадлен. Этот ответ раздался. После нескольких секунд молчания она сказала:
— Но, Амори, предположим, что я согласна с тобой, что делать, скажи мне? Это путешествие намечено, мой отец примет все меры, чтобы оно было именно таким. Даже если ты прав, теперь слишком поздно. Впрочем, разве кто-нибудь осмелится дать понять бедному отцу, что он нас стесняет? Ты, Амори? Во всяком случае, не я.
— Боже мой, я знаю это, — сказал Амори, — и это меня приводит в отчаяние. Господин д'Авриньи, такой умный, такой тонкий и понимающий нас в моральном и материальном отношении, должен быть рассудителен и мудр и не впадать в эту жестокую манию стариков, постоянно навязывающихся молодым людям. Я не хочу тебя обидеть, обвиняя его, но в самом деле, это очень неприятное ослепление — ослепление отцов, которые не умеют понять своих детей, и вместо того, чтобы подчиняться возрасту, хотят подчинить их желаниям своего возраста. Вот и путешествие, которое могло быть дивным для нас, может быть испорчено этой фатальной…
— Тише! — прервала Мадлен, положив пальчик на губы Амори. — Тихо, не говори больше так. Послушай, мой Амори, я не могу от тебя требовать доказательства твоей любви, но…
— Мои слова тебе кажутся безумными, не правда ли? — сказал Амори с чувством скрытого неудовольствия.
— Нет, — ответила Мадлен, — нет, злой. Но будем говорить тише, я боюсь сама себя услышать, так как то, о чем я собираюсь сказать тебе, мне кажется безбожным.
И, действительно, Мадлен понизила голос.
— Нет, твои требования не только не кажутся мне безумными, Амори, — я их разделяю; вот то, в чем я хотела тебе признаться, хотя в этом я не хотела бы признаться даже себе самой. Но, дорогой Амори, я тебя буду просить, я тебе скажу, что я тебя люблю, и необходимо, чтобы ты, в свою очередь, сделал кое-что для меня и чтобы ты покорился.
Услышав это последнее слово, я не захотел больше слушать. Это последнее слово, острое и холодное, как кончик шпаги, вошло в мое сердце.
Слепой, эгоист, я знал только, что Антуанетта беспокоит меня — меня! Но я не видел, что я стесняю их. Открыв для себя эту горькую истину, я уже действовал решительно и быстро.
Печальный, но спокойный и покорный судьбе, я поднялся на крыльцо и вошел в гостиную, объявляя о себе стуком своих сапог по ступенькам. Мадлен и Амори встали при моем приближении; я поцеловал Мадлен в лоб и протянул руку Амори…
— Знаете ли вы, мои дорогие дети, серьезную новость? — сказал я им. И хотя мой голос должен был дать им понять, что несчастье не было особенно велико для них, они вздрогнули одновременно. — Это то, что мне необходимо отказаться от моей прекрасной мечты о путешествии. Вы уедете без меня, король не хочет дать мне отставку, о которой я его сегодня просил: его величество имел доброту сказать мне, что я ему нужен, даже необходим, и попросил меня остаться. Что отвечать на это? Просьба короля — приказ.
— О, отец, как это плохо, — сказала Мадлен. — Ты предпочитаешь короля дочери!..
— Ну что вы, дорогой опекун, — сказал в свою очередь Амори, не умея скрыть под видимым огорчением свою радость, — отсутствуя, вы, тем не менее, всегда будете с нами.
Они хотели продолжить, но я сразу же сменил тему разговора или, скорее всего, я повел его в другом направлении; их невинная ложь причиняла мне ужасную боль.
Я объявил Амори, что хотел ему сообщить о миссии, полученной для него, и о том, что хотел сделать это приятное путешествие полезным для его дипломатической карьеры.
Он казался мне очень признательным за то, что я сделал для него, но в это время дорогой ребенок был поглощен единственной мыслью, мыслью о своей любви. Когда он удалился, Мадлен проводила его из гостиной. Случай сделал так, что я в это время очутился за дверью; я подошел к столику, чтобы взять книгу. Мадлен меня не видела.
— Ну, Амори, — сказала она, — веришь ли ты, что события нас опережают и подчиняются нам?.. Что ты скажешь об этом?
— Я скажу, — ответил Амори, — что мы не рассчитывали на честолюбие, а это так называемое честолюбие — удивительное чувство. Бывают недостатки, которые приносят больше благ, чем добродетели.
Итак, моя дочь поверит, что я остаюсь из-за тщеславия. Пусть будет так; возможно, так будет лучше.
XV
С этого момента ничего не могло омрачить радость обоих молодых людей, и два или три дня прошли, освещенные улыбками на всех лицах, хотя два сердца из четырех были заняты единственной мыслью, которая, как только они оставались наедине, придавала их лицам истинное выражение.
Улыбающийся господин д'Авриньи, сохраняющий, тем не менее, опасение относительно здоровья Мадлен, не терял ее из виду ни на миг в то короткое время, что он проводил около нее.
С тех пор, как была назначена свадьба, по мнению всех, Мадлен чувствовала себя лучше и была грациознее, чем когда-либо; но отец и врач… он-то видел симптомы физической и душевной болезни, которые проявлялись в любое время.
Краски жизни вернулись на обычно бледные щеки Мадлен, но эти живые краски, как краски самого цветущего здоровья, выделялись на скулах немного больше, чем нужно, в то время как овал лица оставался очень бледным, сеть голубых вен, едва видимых у других, делала кожу девушки тонкой и прозрачной. Огонь, блестевший в глазах девушки, был для всех огнем молодости и любви; но среди этих искр, которые они весело бросали господину д'Авриньи, он узнавал время от времени темные вспышки лихорадки.
Весь день Мадлен, сильная и живая, весело прыгала в гостиной или бегала, как сумасшедшая, в саду. По утрам же, до прихода Амори, и вечером, после его ухода, вся эта девичья резвость, которая охватывала ее в присутствии возлюбленного, угасала, и тело девушки, такое слабое, гнулось, как тростник, прогибается под своей тяжестью, и искало точку опоры не только для ходьбы, но и для отдыха.
Кроме всего этого, Мадлен — всегда такая мягкая, полная доброжелательности — почему-то по отношению к одному человеку из всех, кто ее окружал, за эти семь или восемь дней очень странно изменилась; хотя Антуанетта, которую Мадлен приняла, как сестру, когда два года тому назад отец сделал ее компаньонкой, — оставалась той же для Мадлен, однако такой глубокий наблюдатель, как господин д'Авриньи, заметил, что Мадлен очень переменилась к Антуанетте.
Когда смуглая девушка с волосами, черными как вороново крыло, со своими полными жизни глазами, с алыми губами, — входила в гостиную, то эта сила молодости и здоровья, бьющая в ней, вызывала чувство инстинктивного страдания, похожего на зависть, в ангельском сердце Мадлен, и хотя она сама этого не осознавала, это чувство овладевало ею без ее ведома, и она ложно истолковывала все действия своей подруги.
Если Антуанетта оставалась в своей комнате, а Амори спрашивал об Антуанетте, в ответ на это простое свидетельство дружеского интереса он слышал несколько грубых слов. Если Антуанетта была рядом и Амори взглядом останавливался на мгновение на ней, недовольная Мадлен уводила своего возлюбленного в сад. Если Антуанетта гуляла в саду и Амори, не зная, что она там, предлагал Мадлен выйти в сад, Мадлен находила предлог, чтобы остаться в гостиной, ссылаясь то на жару, то на прохладу.
Мадлен, такая прелестная и любезная со всеми, была несправедлива по отношению к своей подруге, несправедлива, как избалованное дитя, не желающее иметь дело с другим ребенком, который ее стесняет или не нравится ей.
Но Антуанетта интуитивно, словно она находила поведение Мадлен естественным, делала вид, что не обращает внимания на те мелочи, какие в другое время ранили бы ее сердце и ее гордость; но, далекая от этого, она, казалось, жалеет Мадлен, прощая ее несправедливость. Антуанетта, которая должна была прощать, казалось, вымаливала прощение: это Антуанетта, когда Амори еще не было или как только он уходил, подходила к Мадлен, и та только тогда вдруг понимала насколько она несправедлива, и протягивала ей руку и даже иногда обнимала ее, готовая заплакать.
Звучал ли, однако, в глубине души обеих девушек голос, неслышный для всех, который говорил только с ними?
Часто господин д'Авриньи хотел просить прощения у второй дочери за несправедливость Мадлен, но как только он произносил первые слова, Антуанетта клала палец на его губы, и, смеясь, заставляла молчать.
Приближался день бала. Накануне обе девушки долго обсуждали свои туалеты, и, к большому удивлению Амори, Мадлен меньше занималась своим нарядом, чем нарядом своей кузины. Сначала, следуя своей привычке, Антуанетта предложила Мадлен одеться, как она, то есть в платье из белого тюля на сатиновом подкладе, но Мадлен считала, что розовый цвет больше идет Антуанетте, и почти сразу же девушка согласилась с мнением Мадлен, сказав, что она оденется в розовое. Больше об этом не говорили, казалось, все решено.
На следующий после этого решения день, то есть в тот день, когда господин д'Авриньи должен был всем объявить о счастье своих детей, Амори был все время с Мадлен. Но как и во все, девушка вложила в приготовление своего туалета страстное волнение, что особенно удивило Амори, который знал естественную скромность своей невесты. Что заставляло ее мучиться? Разве не знала она, что в его глазах она всегда будет самой красивой?
Амори, покинувший Мадлен около пяти часов, вернулся в семь. Он хотел до того, как прибудут гости, до того, как Мадлен будет принадлежать всем, быть с ней по крайней мере час, смотреть на нее в свое удовольствие, говорить с нею очень тихо, не беспокоя других.
Когда Амори вошел в комнату Мадлен, она была причесана и скромно одета. Изящная корона из белых камелий лежала на столике. Амори поразился ее бледности; весь день прошел в приступах слабости, которые утомили и ослабили ее, и она держалась только благодаря своей воле и сильному нервному возбуждению.
Вместо того, чтобы встретить Амори своей обычной улыбкой, она сделала нетерпеливое движение, увидев его, и так как он был поражен ее бледностью (что она тоже заметила), произнесла с гордой улыбкой:
— Вы находите меня очень некрасивой сегодня, не правда ли, Амори? Но бывают дни, когда мне ничего не удается, и сегодня один из таких дней. Я плохо причесана, у меня нет платья, я ужасна.
Бедная портниха была там. Она смутилась, протестуя.
— Вы ужасны? — сказал Амори. — Мадлен, напротив, ваша прическа чудесна и очень идет вам! Ваше платье очаровательно, вы прекрасны и милы, как ангел.
— Тогда, — сказала Мадлен, — это не вина портнихи или парикмахера, — это моя вина; я не подхожу ни к прическе, ни к платью. Ах, Боже, Амори, какой у вас плохой вкус, если вы меня любите.
Амори подошел, чтобы поцеловать ей руку, но Мадлен, казалось, не видела его, хотя она была перед зеркалом, и, показывая почти неприметную складку на своем корсаже, сказала:
— Видите, мадемуазель, эту складку нужно убрать, я вас предупреждаю, иначе я брошу это платье и надену первое попавшееся мне под руку.
— О, Боже мой, мадемуазель, — сказала портниха, — это пустяк, и через мгновение, если вы хотите, ее не будет, но нужно будет переделать корсаж.
— Вы слышите, Амори, вам нужно нас покинуть, я не хочу, чтобы осталась эта складка, делающая меня ужасной.
— И вы предпочитаете, чтобы я вас покинул, Мадлен? Я подчиняюсь, я не хочу быть виновным в преступлении против красоты.
И Амори удалился в соседнюю комнату, а Мадлен, занятая или казавшаяся занятой своим платьем, не сделала ни малейшего движения, чтобы его удержать. Так как необходимая переделка не должна была занять много времени, Амори остался в комнате, соседней с будуаром, где одевалась Мадлен; он взял журнал, лежащий на столе, чтобы занять время. Но, читая, Амори невольно прислушивался к тому, что происходило рядом, и хотя он следил глазами за строчками, эти строчки ни о чем ему не говорили, так как разумом он был в соседней комнате, от которой его отделяла тонкая дверь, таким образом, он слышал все упреки, какими Мадлен осыпала парикмахера и портниху, он слышал все, даже то, как она нетерпеливо стучала ножкой по паркету.
В это время дверь напротив будуара открылась, и появилась Антуанетта. По совету Мадлен, она надела простое платье из розового крепа, без всякого украшения, без цветка без драгоценностей; невозможно было одеться более скромно, чем она, и, однако, она была прелестна.
— Боже мой, — сказала она Амори, — вы здесь, я не знала. — И она хотела уйти.
— Почему вы уходите? Подождите хотя бы, чтобы я сделал вам комплимент! На самом деле, Антуанетта, вы красавица сегодня!
— Тихо, Амори, — сказала девушка шепотом, положив палец ему на губы, — не говорите об этом.
— С кем вы, Амори? — спросила Мадлен, открывая дверь, завернувшись в большую кашемировую шаль, и смерила быстрым взглядом бедную Антуанетту, сделавшую шаг, чтобы удалиться.
— Но вы сами видите, дорогая Мадлен, — ответил молодой человек, — я говорю с Антуанеттой и делаю комплимент по поводу ее туалета.
— Без сомнения, такой же искренний, как те, который вы только что сделали мне, — сказала девушка. — Вы бы сделали лучше, если бы помогли мне, Антуанетта, чем выслушивать все, что вам говорит этот скверный льстец.
— Я только что вошла, Мадлен, — сказала девушка, — и если бы я знала, что нужна тебе, я пришла бы пораньше.
— Кто тебе шил это платье? — спросила Мадлен.
— Ты же знаешь, что я привыкла сама, и мне не нужна ничья помощь для этого.
— Ты права, так как ни одна портниха не сошьет такое платье.
— Я тебе предлагала сшить платье. Но ты отказалась.
— А кто тебя одел?
— Сама.
— А кто причесал?
— Сама. Это моя повседневная прическа, как ты видишь, я ничего не добавила.
— Ты права, — сказала Мадлен с горькой улыбкой, — тебе никто не нужен, чтобы быть красивой.
— Мадлен, — сказала Антуанетта, подойдя к кузине и говоря так тихо, чтобы Амори не мог услышать, что она говорила, — если почему-то ты не хочешь, чтобы я появлялась на балу, скажи только слово, и я останусь у себя.
— Но почему я должна лишать тебя этого удовольствия? — сказала очень громко Мадлен.
— О, клянусь тебе, дорогая кузина, этот бал совсем не доставляет мне удовольствия.
— Я думала, — сказала Мадлен со скрытой горечью, — что все, что составляет мое счастье, доставляет удовольствие для моей хорошей подруги Антуанетты.
— Разве нужны мне звуки музыки, ослепительный блеск и шум бала, чтобы разделить твое счастье, Мадлен? Нет, клянусь тебе, что в своей одинокой комнате я буду горячо желать тебе счастья, как и на самом оживленной празднике, но сегодня я нездорова.
— Ты, нездорова! — вскрикнула Мадлен. — С такими блестящими глазами и с таким свежим цветом лица? Тогда что я могу сказать о себе, с моим бледным лицом и с моими удрученными глазами? Ты нездорова?
— Мадемуазель, — сказала портниха, — не можете ли вы пройти, платье готово.
— Ты сказала, что я смогу тебе помочь? — робко спросила Антуанетта. — Что ты хочешь, чтобы я сделала?
— Делай, что хочешь, — подхватила Мадлен, — я не могу тебе приказывать; хочешь — пойдем со мной, хочешь — оставайся с Амори.
И она вошла в будуар, но по ее движению было видно, что у нее плохое настроение, и это не ускользнуло от Амори.
XVI
— Вот и я, — сказала Антуанетта, закрывая за собой дверь; она последовала за кузиной в ее будуар.
— Но что с ней сегодня? — прошептал Амори, устремив глаза на дверь.
— Она страдает, — раздался голос позади молодого человека, — у нее волнение из-за лихорадки, и эта лихорадка ее убивает.
— А, это вы, отец, — сказал Амори, узнав господина д'Авриньи, наблюдавшего за этой сценой из-за портьеры.
— О, верьте, что это не упрек Мадлен, а вопрос, который я задаю самому себе, я боялся, что сделал что-нибудь такое, что могло расстроить вашу дочь.
— Нет, успокойся, Амори, это не из-за тебя и не из-за Антуанетты, и ты не виноват в том, что слишком сильно любишь.
— О, отец, как вы добры, успокоив меня таким образом, — сказал Амори.
— Теперь, — продолжал господин д'Авриньи, — обещай мне, что ты не будешь ее подстрекать ни к танцам, ни к вальсам ни к контрдансам, оставайся рядом с ней и говори о будущем.
— О да, будьте спокойны.
В этот момент они услышали голос Мадлен, который становился все громче.
— О, Боже, моя дорогая мадам Леру, — сказала она, — как вы сегодня неловки, пусть это сделает Антуанетта, посмотрим и покончим с этим.
Наступило молчание, потом вдруг она закричала:
— Что ты делаешь, Антуанетта?
И это восклицание сопровождалось шумом, похожим на шум рвущейся материи.
— Ничего, — сказала Антуанетта, смеясь, — это булавка скользнула по сатину, вот и все. Успокойся, ты будешь королевой бала.
— Королевой бала! О, ты шутишь, Антуанетта, как это благородно с твоей стороны. Это ты, которая все украшает будешь королевой бала, а я, я… кого трудно украсить и сделать красивой…
— Мадлен, моя сестра, что ты говоришь? — возразила Антуанетта с легким упреком.
— Я говорю, что будет время в гостиной, чтобы сделать из меня предмет насмешек и сломить меня, и не слишком благородно преследовать меня до моей комнаты вашей победой.
— Вы меня прогоняете, Мадлен? — спросила Антуанетта со слезами в голосе.
Мадлен не ответила. Ответить было бы слишком большой жестокостью, и Антуанетта вышла, рыдая.
Господин д'Авриньи обнял ее, в то время как Амори, пораженный этой сценой, продолжал неподвижно сидеть в своем кресле.
— Иди, дитя, иди, дочь моя, бедная Антуанетта! — сказал он ей вполголоса.
— О, отец, отец! — шептала она. — Я очень несчастна.
— Ты не это хотела сказать, и не это ты должна сказать, — возразил господин д'Авриньи. — Ты должна была сказать, что Мадлен несправедлива, но это говорит не Мадлен, а лихорадка. Не надо ее обвинять, ее нужно жалеть. Выздоровев, она образумится; тогда она будет раскаиваться в своем гневе и попросит прощения за то, что была несправедлива.
Мадлен услышала шепот двоих, она подумала, что это Антуанетта и Амори. Тогда она резко толкнула дверь, которую Антуанетта не успела закрыть.
— Амори! — сказала она коротко и повелительно, не глядя в комнату.
Когда Амори встал, она увидела, что он был один, в то время как в глубине комнаты были Антуанетта и ее отец. Эти голоса, которые она услышала, принадлежали господину д'Авриньи и его племяннице.
Мадлен покраснела, в то время как Амори, взяв ее за руку, вернулся с ней в будуар.
— Дорогая Мадлен, — произнес Амори голосом, в котором невозможно было не услышать самую глубокую тревогу, — во имя Бога, что с вами? Я вас не узнаю.
Весь ее гнев прошел, она упала в кресло и заплакала.
— О, о, — сказала она, — я очень злая, не правда ли, Амори? Вот о чем вы думаете… вот о чем вы не осмеливаетесь мне сказать!.. Да, я ранила в сердце мою бедную Антуанетту, и я заставляю страдать всех, кто меня любит! Да, все мне причиняет боль, Амори, даже неодушевленные предметы; то, что меня ранит, заставляет меня страдать: мебель, о которую я ударяюсь; воздух, которым я дышу; слова, с которыми ко мне обращаются; вещи, самые безразличные и самые лучшие.
Когда все мне улыбаются, когда я обрела свое счастье… откуда эта горечь, что идет от меня ко всему, к чему я прикасаюсь? Почему мои раздраженные нервы обижаются на все: на день, на ночь, на молчание, на шум? То я впадаю в черную меланхолию, то я впадаю в гнев без причины и без цели.
Если бы я была больной или несчастной, я не удивилась бы, но ведь мы счастливы, не правда ли, Амори? Ах, скажите мне, что мы счастливы… Я люблю тебя, ты любишь меня, через месяц мы соединимся навсегда!
— О чем просить двум избранникам Бога, который дал им возможность устроить свою жизнь по своему желанию?
— О, — молвила она, — я хорошо знаю, что ты мне все прощаешь, но Антуанетта, моя бедная Антуанетта, с которой я обращаюсь так жестоко…
— Она не сердится на тебя, как и я, моя бедная Мадлен, и я тебе отвечаю за нее… Боже! Разве у нас всех не бывают моменты скуки и печали? Не мучайся из-за этого, заклинаю тебя. Дождь, гроза, облако на небе вызывают недомогание, какое мы не можем объяснить, и могу ли я объяснить причину изменения нашего морального климата?
— Входите, мой дорогой опекун, входите, — продолжал Амори, заметив отца Мадлен, — скажите ей, что мы знаем слишком хорошо, что она добра по характеру, поэтому ее капризы нас не ранят, а плохое настроение нас не беспокоит.
Но господин д'Авриньи, не отвечая, подошел к Мадлен, посмотрел на нее внимательно и нащупал пульс.
— Дорогое дитя! — сказал он после минутного молчания, и легко было понять, что все его способности сосредоточились на исследовании, которым он занимался. — Дорогое дитя! Я прошу тебя о жертве! Послушай, Мадлен, — продолжал он, прижав ее к сердцу, — нужно, чтобы ты обещала твоему старому отцу не отказывать ему в том, о чем он тебя попросит.
— Ах, Боже, отец! — вскрикнула Мадлен. — Ты меня пугаешь.
Амори побледнел, так как в умоляющем тоне господина д'Авриньи заключался страх.
Последовало молчание, и это время, несмотря на усилия, которые доктор делал, чтобы никто не понял его ощущений, лицо господина д'Авриньи все-таки мрачнело.
— Прошу тебя, отец, говори, — произнесла дрожащая Мадлен, — скажи, что нужно, чтобы я сделала? Я больна серьезнее, чем я думала?
— Моя любимая дочь! — возразил господин д'Авриньи, не отвечая на вопрос Мадлен. — Я не осмелюсь тебя просить совсем не появляться на этом балу, что было бы более благоразумным, но если я попрошу об этом, ты скажешь, что я требую слишком многого. Я умоляю тебя, Мадлен, обещать мне совсем не танцевать… особенно вальс… Ты не больна, но ты слишком нервная и слишком беспокойная, чтобы я мог позволить тебе развлечения, которые возбудят тебя еще больше.
— О, папа, но как ужасно то, о чем ты меня просишь! — воскликнула Мадлен недовольно.
— Я не буду ни танцевать, ни вальсировать, — сказал ей совсем тихо и живо Амори.
Как и говорил Амори, Мадлен, которую иногда лихорадка выводила из себя, была сама доброта. Эта самоотверженность всех, кто ее окружал, глубоко се тронула.
— Ну ладно, посмотрим, — сказала она с глазами полными слез от умиления и сожаления, в то время, как нежная улыбка появилась и почти тотчас исчезла с ее губ, — посмотрим, я жертвую собой: разве мне не нужно искупить свою злость немедленно и доказать вам, что я не всегда капризна и эгоистична. Отец, я не буду ни танцевать, ни вальсировать.
Господин д'Авриньи вскрикнул от радости.
— Мой дорогой Амори, — продолжала Мадлен, — так как надо прежде всего уважать привычки света и соблюдать приличия общества, я вам разрешаю танцевать и вальсировать, сколько вы пожелаете. Но не слишком часто, а время от времени вы согласитесь разделить со мной пассивную роль, к которой меня приговаривают отцовские чувства и его обязанности доктора?
— О, дорогая Мадлен, спасибо, сто раз спасибо! — вскричал господин д'Авриньи.
— Ты очаровательна, и я люблю тебя до безумия! — сказал ей совсем тихо Амори.
Слуга доложил им, что первые кареты начали въезжать во двор.
Пора было идти в гостиную, но Мадлен захотела прежде всего, чтобы пошли за Антуанеттой. При первых же произнесенных ею словах, выражавших это желание, портьера тихо приподнялась, и Антуанетта появилась с красными глазами, но с улыбкой на губах.
— Ах, моя бедная, дорогая сестра! — сказала ей Мадлен и подошла к кузине. — Если бы ты знала…
Но Антуанетта не позволила ей закончить: она бросилась Мадлен на шею и, целуя ее, не дала произнести ни слова.
Примирение состоялось, и обе девушки пошли на бал, держась за руки! Мадлен, очень бледная, еще более изменившаяся, Антуанетта, уже оживленная и радостная.
XVII
Сначала все шло хорошо.
Мадлен, несмотря на свою подавленность и бледность, была так красива и изящна, что оставалась королевой праздника. Только Антуанетта, полная движения, блеска и здоровья, имела право разделить ее королевскую власть.
Впрочем, при первых же звуках музыки Мадлен испытала тот притягательный эффект, исходящий от пылкого и умело руководимого оркестра.
Ее лицо разрумянилось, появилась улыбка, и силы, которые она десять минут тому назад напрасно искала, казалось, возродились, как бы по волшебству.
Затем что-то оживило сердце Мадлен, наполнило ее несказанной радостью. Каждому входившему значительному лицу господин д'Авриньи представлял Амори как своего зятя, и все, кому об этом объявляли, бросали взгляды на Мадлен и на Амори, и, казалось, эти взгляды говорили, как будет счастлив тот, кто станет супругом такой прелестной девушки.
Со своей стороны, Амори сдержал слово, данное Мадлен, он с большим перерывом танцевал два или три контрданса с двумя или тремя женщинами: совсем не приглашать танцевать было бы невежливо.
Но во время этих перерывов он постоянно возвращался к Мадлен, она очень тихо его благодарила легким пожатием руки, а вид ее говорил ему, как она счастлива.
Время от времени Антуанетта тоже подходила к своей кузине, как вассалка, оказывая почести королеве, справляясь о ее здоровье и смеясь с нею над людьми с несчастной внешностью, которые на самых элегантных балах, кажется, нарочно появляются, чтобы предоставить танцорам, не знающим, о чем говорить, тему для разговора.
После одного из таких визитов Антуанетты к своей кузине, Амори, стоявший рядом с Мадлен, сказал ей:
— И теперь, моя великодушная красавица, чтобы полностью искупить вину, могу ли я потанцевать с Антуанеттой?
— С Антуанеттой? Но, конечно, — сказала Мадлен, — я об этом не подумала, и вы правы, она хотела бы от меня получить на это разрешение.
— Как! Она хотела этого!
— Конечно, она сказала бы, что это я помешала вам ее пригласить.
— Ах, какая мысль! — воскликнул Амори. — И как вы могли подумать, что подобная безумная мысль пришла в голову вашей кузине?
— Да, вы правы, — сказала Мадлен, стараясь изо всех сил засмеяться, — да, это было бы нелепо с ее стороны, но как бы то ни было, вы прекрасно сделали, решив ее пригласить. Идите, не теряйте времени, вы видите, как ее окружили.
Амори, не уловив в ее голосе горечи, сопровождавшей эти слова, понял ее буквально и не замедлил увеличить окружение Антуанетты, затем после довольно долгих переговоров с ней он вернулся к Мадлен, глаза которой не покидали его ни на миг.
— Ну, — сказала Мадлен с самым простодушным видом, который она сумела принять, — на какой контрданс?
— Но, — ответил Амори, — если ты королева бала, то Антуанетта — заместительница королевы, и, кажется, я прибыл слишком поздно: танцоры толпятся около нее, и ее блокнот так перегружен, что нельзя туда внести еще одного.
— Вы не будете танцевать вместе? — живо спросила Мадлен.
— Может быть, по особой милости, и так как я пришел от твоего имени, она собирается обмануть одного из своих обожателей, моего друга Филиппа, я думаю, и она мне назначила номер пять.
— Номер пять? — сказала Мадлен.
Она сосчитала и сказала:
— Это вальс.
— Возможно, — безразлично ответил Амори.
В это время Мадлен была рассеянна, озабочена; на все, что ей говорил Амори, она едва отвечала: ее глаза не покидали Антуанетты, которая от шума, света, движения пришла в свое обычное состояние — живая, смеющаяся и окруженная поклонниками, и казалось, что она, легкая и грациозная, как Сильфида[57], излучала вокруг себя живость и веселье. Филипп холодно смотрел на Амори. Оскорбленное достоинство заставляло его принять решение не ехать на бал, но тогда на следующий день он не смог бы сказать:
— Я был на балу, который господин д'Авриньи дал в честь замужества своей дочери. — И он пошел.
Однако после того, что произошло, он почувствовал себя обязанным быть услужливым по отношению к Антуанетте, холодным по отношению к Мадлен.
К несчастью, так как Амори сохранил его тайну, ни та, ни другая из девушек не знали о его разочаровании, и его сдержанность была не замечена, как и его учтивость.
Господин д'Авриньи наблюдал издалека за своей дочерью. В перерыве между контрдансами он подошел к ней.
— Ты должна идти к себе в комнату, — сказал он Мадлен, — тебе нехорошо.
— Наоборот, очень хорошо, отец, я вас уверяю, — сказала Мадлен прерывистым голосом и с растерянной улыбкой, — впрочем, бал меня бесконечно развлекает и я хочу остаться.
— Мадлен!
— Отец, не требуйте, чтобы я его покинула, прошу вас, вы ошибаетесь, если думаете, что я страдаю; я никогда не чувствовала себя лучше, чем теперь.
По мере того, как вальс, обещанный Амори, приближался, Антуанетта, со своей стороны, смотрела на Мадлен с беспокойством; иногда взгляды девушек встречались, и в то время, как Антуанетта опускала голову, что-то вроде молнии сверкало в глазах Мадлен.
Что касается господина д'Авриньи, то он ни на минуту не терял из поля зрения свою дочь; он заметил с беспокойством это странное пламя, что пылало в ее глазах и, казалось, пожирало слезы, он следил за первыми подрагиваниями, которые она не могла сдержать; наконец, он не смог больше наблюдать это, подошел к ней, взял ее за руку и голосом, полным печали и бесконечной боли, произнес:
— Мадлен, тебе что-нибудь нужно? Делай, что хочешь, дитя, это будет лучше, чем скрывать страдание, как ты делаешь.
— На самом деле, отец, — воскликнула Мадлен, — вы позволяете делать, что я хочу?
— Увы, так нужно.
— Вы позволите мне танцевать вальс один только раз, единственный раз, с Амори?
— Делай, что хочешь! — повторил еще раз господин д'Авриньи.
— Итак, Амори, — воскликнула Мадлен, — следующий вальс, не правда ли?
— Но… — ответил Амори, радостный и озабоченный одновременно, — я обещал его Антуанетте.
Мадлен повернулась резким движением головы к своей кузине, и ни слова не говоря, спросила ее сверкающим взглядом.
— О, Боже, я так устала, — поторопилась сказать Антуанетта, — и если Мадлен хочет меня заменить и если вы, Амори, согласны, я не рассержусь, мне нужно отдохнуть немного, уверяю вас.
Огонек радости осветил бесчувственные веки Мадлен. В то же время раздался ритурнель вальса, она встала, схватила своей лихорадочной рукой руку Амори и потянула его в толпу, которая начала кружиться.
— Пощадите ее, — сказал совсем тихо господин д'Авриньи в то время, как молодой человек проходил мимо него.
— Будьте спокойны, — ответил Амори, — только несколько туров.
И оба бросились танцевать.
Это был вальс Вебера[58], страстный и серьезный одновременно, как гений того, кто его сочинил, один из вальсов, который увлекает и заставляет мечтать; движение было сначала довольно мягкое, потом оживилось по мере того, как вальс подходил к концу.
Амори поддерживал свою невесту, как только мог, и после трех и четырех туров ему показалось, что она слабеет.
— Мадлен, — сказал он ей, — не хотите ли вы остановиться на мгновение?
— Нет, нет, — сказала девушка, — ничего не бойтесь, я сильная, если мы остановимся, мой отец может помешать мне продолжать.
И в порыве увлекая Амори, она стала танцевать, ускоряя движение.
Не было более восхитительного зрелища, чем эти двое прекрасных молодых людей, с красотой такой различной, обнимающих друг друга и бесшумно скользящих по паркету; Мадлен, хрупкая и элегантная, опиралась своей гибкой талией на руки Амори, а тот, в свою очередь, пьяный от счастья, забыл о зрителях, о шуме и даже о музыке, которая их уносила, забыл обо всем на свете, смотрел в почти закрытые глаза Мадлен, смешивая свое дыхание с ее дыханием, слушал двойное биение их сердец, что стучали в своем притягательном порыве и, казалось, стремились навстречу друг другу.
Тогда опьянение, овладевшее Мадлен, передалось ему: рекомендации господина д'Авриньи, свои обещания, все это исчезло из его памяти, чтобы уступить место исступлению; они летели под эти лихорадочные такты; однако Мадлен шептала все время:
— Быстрей, Амори, быстрей.
И Амори подчинился, так как это не была больше бледная и томная Мадлен, — это была блистательная и радостная девушка, чьи глаза горели, а лоб был увенчан сиянием жизни. Они продолжали танцевать, когда самые выносливые останавливались два или три раза, они танцевали быстрее, не видя ничего, не слыша ничего. Свет, зрители, зал — все вертелось с ними, один или два раза молодому человеку казалось, что он слышал дрожащий голос господина д'Авриньи, который кричал:
— Амори, остановитесь, остановитесь, Амори, достаточно.
Но при каждой такой рекомендации он слышал лихорадочный голос Мадлен, шептавшей ему:
— Быстрей, Амори, быстрей!
Казалось, что оба они не принадлежат земле, унесенные в божественную мечту, в вихрь любви и счастья; оба были переполнены, оба говорили задыхающимся голосом: «Я тебя люблю, я тебя люблю». И оба черпали новые силы в этом единственном слове и бросались, почти безрассудные, в движение, надеясь, что там они и умрут, не чувствуя больше этого мира, думая, что они на небесах.
Вдруг Мадлен повисла на Амори, он остановился.
Бледная, откинувшаяся назад, с закрытыми глазами, с полуоткрытым ртом, она была без сознания.
Амори закричал; сердце девушки вдруг перестало биться; казалось, что оно разбилось! Он подумал, что она умерла.
Его кровь остановилась — затем вдруг все понеслось, как поток, перед глазами. Мгновение он оставался неподвижен, как статуя, потом подхватил Мадлен на руки, легкую, как перышко, и понес ее бегом из гостиной, где он был так счастлив, где минуту назад готов был умереть от счастья.
Господин д'Авриньи бросился за ним, он не сделал ни одного упрека Амори.
Добравшись до будуара, доктор взял свечу и пошел впереди них до комнаты своей дочери, затем, когда Амори положил Мадлен на кровать, он занялся ее пульсом, в то время как другой поднес ей флакон с солью.
Через несколько минут Мадлен пришла в себя, но хотя ее отец склонился над ней, а Амори, стоя на коленях у ее кровати, был почти невидим, она остановила на нем свой взгляд.
— А, дорогой Амори, — сказала она, — что случилось? Мы умерли, мы на небесах с ангелами?
Амори зарыдал. Мадлен посмотрела на него с удивлением.
— Мой друг, — сказал тихо господин д'Авриньи, — займитесь гостями. Антуанетта и женщины разденут и уложат Мадлен. Я сообщу вам, как она будет себя чувствовать. Не уходите далеко и, если вы не хотите покидать Мадлен, прикажите поставить кровать в вашей бывшей комнате.
Амори поцеловал руку Мадлен, следившей за ним глазами, и, улыбаясь, вышел.
Как и ожидал Амори, все уехали, и он, после того как отдал приказ приготовить комнату, вернулся, чтобы бродить около комнаты Мадлен, слушая у двери или стараясь услышать какой-нибудь звук.
Через полчаса ожидания появился господин д'Авриньи и подошел к молодому человеку.
— Ей лучше, — сказал он, пожимая руку Амори, — я буду дежурить всю ночь. Вы, Амори, ничем нам не сможете помочь, идите отдыхать, и будем надеяться на завтрашний день.
Амори вернулся в свою прежнюю комнату, но, дабы быть готовым прийти по первому зову, вместо того, чтобы лечь спать, он придвинул к огню кресло и растянулся на нем.
Господин д'Авриньи вошел в свою библиотеку и долго искал среди книг самых знаменитых профессоров ту, с которой он смог бы проконсультироваться, но на каждом заголовке, какой читал, он качал головой, как человек, кому эта книга ничего нового не сообщит.
Наконец, он остановился на маленьком томике в сафьяновом переплете с серебряным крепом вверху, взял его и, войдя в комнату уснувшей дочери, сел у ее изголовья.
Это был том «Подражание Иисусу Христу».
Господин д'Авриньи ничего больше не ждал от людей, но он мог еще надеяться на Бога.
XVIII
ДНЕВНИК ГОСПОДИНА Д'АВРИНЬИ
«22 мая, ночь.
Борьба отца со смертью началась. Нужно, чтобы я дал второе рождение моему ребенку.
Если Бог со мной, я надеюсь, что добьюсь этого, если он меня покинет, то она умрет.
Ее сон лихорадочный и беспокойный, но она спит; во сне она произносит имя Амори… Амори… Амори всегда.
Ах, почему я им позволил кружиться в вальсе? Но нет… это значило бы снова говорить о том же…
Нужно обращаться более чутко с душой Мадлен, а не с телом: ее душевные страдания заставляют бояться за нее больше, чем из-за болезни в ее груди, и она упадет в обморок от ревности быстрее, чем от истощения.
От ревности!.. То, что я подозревал, правда. Она ревнует к своей кузине. Бедная Антуанетта, она это заметила, как и я, и весь этот вечер она была сама доброта и самоотречение.
Только Амори ничего не замечает. По правде сказать, мужчины иногда слепы. У меня было желание все ему сказать, но тогда он был бы более внимателен к Антуанетте, чем раньше… и лучше оставить его в неведении.
Ах! Я думал, что она проснется, но, прошептав несколько бессвязных слов, она снова упала на подушку.
Я боюсь и хочу, чтобы она скорее проснулась, я хотел бы знать, лучше ли ей?.. И не стало ли ей хуже?
Понаблюдаем за нею. Когда я думаю, что уже дважды Амори ранил ее, едва прикоснувшись к ней… Ах, Боже мой! Очевидно, этот человек убьет ее.
Иногда я думаю, если бы она не знала его, она могла бы жить. Нет, если бы не было Амори, был бы кто-нибудь другой; могучая и вечная природа так хочет. Любое сердце ищет свое сердце, любая душа желает найти свою душу. Несчастлив тот, у кого сердце и душа находятся в слабом теле — крепкие объятия их сломают. Вот и все; нет, замужество — это несбыточная мечта.
Счастье ее убьет. Разве не умирает она потому, что мгновение была счастлива?
30 мая.
Восемь дней я ничего не мог записать в этот альбом.
В течение восьми дней моя жизнь цеплялась за прерывистое дыхание, за биение пульса. Восемь дней я не покидал этот дом, эту комнату, это изголовье и никогда — хотя я был занят только одним — столько событий, столько волнений, столько мыслей не поглощали мои часы. Я покинул всех моих больных, чтобы заниматься только ей одной.
Король посылал за мной дважды, я сказал, что страдал, что чувствовал себя нездоровым.
Я кричал его лакею: «Скажите королю, что моя дочь умирает!»
Благодарю Господа! Ей немного получше. Пора, чтобы ангел смерти начал уставать. Яков боролся только одну ночь, а я борюсь шесть дней и шесть ночей.
О, Боже, кто может описать тревогу тех минут, когда я думал, что уже победил, когда я видел в природе изумительного помощника, посланного мне Богом для борьбы с болезнью, когда неописуемая радость надежды пробуждалась во мне, но ее тут же гасил первый приступ кашля или незначительное повышение температуры.
Тогда все подвергалось сомнению, тогда я снова чувствовал ужасное отчаяние: враг, на минутку удалившись, наступал более упорно.
Этот ужасный стервятник, который разрывает своим клювом грудь моего ребенка, набрасывается снова на свою добычу, и тогда я кричу, стоя на коленях, прижавшись лбом к земле: «О, Боже! Боже, если Ваше бесконечное предвидение не поможет моей бедной ограниченной науке, мы все погибли».
Повсюду говорят обо мне, что я умелый доктор. Есть, конечно, в Париже несколько сотен людей, обязанных жизнью моим заботам; я вернул много жен их мужьям, много матерей — их дочерям, много дочерей — отцам, а я — у которого умирает дочь — я не могу сказать: я ее спасу.
Я встречаю на улицах каждый день безразличных людей, которые едва здороваются со мной, потому что они заплатили мне несколько экю, и которые, если бы я их покинул, лежали бы в темноте гробницы, а не прогуливались бы при солнечном свете, и тогда я побеждал смерть, сражаясь, как кондотьер[59], ради чужих людей, ради незнакомцев, ради этого прохожего. Я изнемогаю, Боже мой, когда речь идет о жизни моего собственного ребенка, то есть о моей собственной жизни.
Ах, горькая насмешка, и какой ужасный урок дает судьба моему тщеславию ученого.
Ах, у всех людей речь шла об ужасных болезнях, какие, однако, не были смертельными, для каких находились лекарства.
Лечили брюшной тиф бульоном и водой Зедлица, побеждал самый острый менингит с помощью противовоспалительной обработки, самое тяжелое воспаление сердца методом Вальсава, но туберкулез!
Единственную болезнь, которую даже Бог может вылечить только чудом, это та болезнь, которую Бог посылает моему ребенку.
Однако есть два или три случая туберкулеза во второй стадии, когда его радикально вылечили.
Я видел один случай собственными глазами в больнице, у бедного сироты, не имеющего ни отца, ни матери, на могиле которого никто не плакал бы; может быть, потому, что он был так покинут, Бог обратил свой взор на него.
Иногда я поздравляю себя с тем, что Провидение сделало из меня врача, как будто заранее Бог догадался, что я должен буду бодрствовать в последние дни моей дочери.
И на самом деле кто, кроме меня, несущего бремя филантропии медицины, мог бы иметь терпение, чтобы не покинуть эту дорогую больную хоть на миг. Кто сделал бы ради золота или ради славы то, что делаю я из отцовской любви? Никто. Если бы я не находился там, как тень, чтобы все предвидеть, готовый все отложить, готовый сражаться, Боже, два или три раза ее жизнь уже была бы в опасности.
На самом деле этого наказания нет даже в аду Данте[60]: увидеть, как в груди твоего ребенка сражается жизнь со смертью; когда жизнь побеждена, едва переводит дух, преследуемая смертью, отступает шаг за шагом и оставляет поле битвы потихоньку своему непримиримому врагу!
К счастью, я сказал уже об этом, болезнь не прогрессирует; я на мгновение вздохнул.
Я надеюсь.
XIX
5 июня.
Ей лучше, дорогая Антуанетта, и этим «лучше» я обязан вам. Амори был великолепен; если он причинил зло, трудно сделать больше, чтобы его исправить. Все время, которое он мог проводить около Мадлен, он посвятил ей, и я уверен, что он все время думал о ней.
Но я заметил следующее: как только Антуанетта и Амори вместе были около Мадлен, Мадлен становилась беспокойна: ее глаза переходили с Антуанетты на Амори, стараясь застать врасплох, когда они обменивались взглядами; по привычке ее рука была в моей, и она забывала, что я чувствую, как ревность бьется в ее пульсе.
Когда тот или другой были наедине с ней, пульс становился спокойнее, но когда случайно оба отсутствовали, Боже мой, бедная, дорогая Мадлен, как она страдала, как жар пожирал ее до тех пор, пока тот или та не появлялись.
Я не мог удалить Амори. В этот момент Амори был ей необходим, как воздух, которым она дышит.
Мы увидим позднее, как следует поступить Амори — уехать или нет.
Я не осмелился удалить Антуанетту: как я мог сказать этому бедному ребенку, юному и чистому, как божий свет: «Антуанетта, уходи!»?
Конечно, она догадалась обо всем. Позавчера я увидел, как она входила в мой кабинет.
— Дядя, — сказала она мне, — я слышала, что вы собирались, как только наступят прекрасные дни и Мадлен почувствует себя лучше, увезти ее в замок в Виль-Давре. Дядя, Мадлен чувствует себя лучше, и прекрасные дни наступили. Дядя, я пришла просить вас, чтобы вы разрешили мне уехать.
Едва она заговорила, я обо всем догадался, и я устремил свой взгляд на нее. Она опустила глаза, и как только она их подняла, она увидела мои раскрытые объятия. Она бросилась в них, рыдая.
— О, дядя, дядя! — вскрикнула она, — я не виновата, клянусь вам. Амори не обращает на меня внимания, Амори не занят мной с тех пор, как Мадлен больна, Амори забыл о моем существовании, и, однако, она ревнует. И эта ревность причиняет ей боль. Не возражайте, вы это знаете так же хорошо, как и я; эта ревность — в ней, в ее пылких взглядах, в дрожащей речи, в ее прерывистых движениях. Дядя, вы хорошо знаете, что мне необходимо уехать, и, если бы вы не были так добры, разве вы мне уже не сказали бы, что нужно уехать?
Я не отвечал Антуанетте, только прижимал ее к сердцу.
Потом мы вернулись в комнату Мадлен.
Мы нашли ее беспокойной и взволнованной. Амори не было уже полчаса; было очевидно: Мадлен думала, что он с Антуанеттой.
— Дитя мое, — сказал я ей, — так как ты чувствуешь себя все лучше, и я обещал, что через две недели мы сможем поехать за город, то наша добрая Антуанетта, которая берет на себя обязанность быть нашим квартирьером, уезжает заранее, чтобы приготовить наше жилье.
— Как! — воскликнула Мадлен. — Антуанетта едет в Виль-Давре?
— Да, моя милая Мадлен, тебе лучше, как сказал твой отец, — отвечала Антуанетта. — Я оставляю тебя на горничную, миссис Браун и Амори, они о тебе позаботятся. Их присутствие достаточно для выздоравливающей; а я тем временем приготовлю твою комнату, буду ухаживать за твоими цветами, я устрою твои оранжереи. И когда ты приедешь, ты найдешь все готовым к твоему приезду.
— А когда ты уезжаешь? — спросила Мадлен с волнением, которое она не смогла скрыть.
— Сейчас запрягают лошадей.
Тогда, то ли от угрызения совести, то ли от признательности, то ли от обоих этих чувств, Мадлен раскрыла свои объятия Антуанетте, и девушки обнялись.
Затем Мадлен, казалось, сделала над собой усилие.
— Но, — сказала она Антуанетте, — разве ты не подождешь Амори, чтобы попрощаться с ним?
— Попрощаться? А зачем, — сказала Антуанетта, — разве мы не увидимся через две или три недели? Ты с ним попрощаешься и обнимешь его от моего имени; ему понравится.
И, сказав это, Антуанетта вышла.
Спустя десять минут мы услышали стук колес ее коляски, и Жозеф прибыл, чтобы объявить, что Антуанетта уехала.
Странная вещь, все это время я держал за руку Мадлен.
Как только объявили об отъезде Антуанетты, ее пульс изменился. С 90 ударов он снизился до 75; затем, утомившись от этих волнений, таких незначительных для постороннего, могущего увидеть только их внешнюю сторону, она уснула самым спокойным сном, какого она не знала с того фатального вечера, когда мы уложили ее в кровать, которую она с тех пор не покидала.
Так как я не сомневался, что Амори не замедлит явиться, я приоткрыл дверь, чтобы шум, который он произведет, входя, не разбудил ее.
И на самом деле через некоторое время он появился.
Я сделал знак, чтобы он сел у кровати, там, где лежала голова моей дочери, чтобы ее глаза, открывшись, могли увидеть его.
А, мой Бог, вы знаете, что я не ревнив, пусть ее глаза закроются после того, как она проживет долгую жизнь, и пусть все ее взгляды будут устремлены на него.
С этого времени ей стало лучше.
9 июня.
Улучшение продолжается… Спасибо, Боже!
10 июня.
Ее жизнь в руках Амори. Пусть он помнит о том, что я у него прошу, и она спасена!»
XX
Мы обратились к дневнику господина д'Авриньи, чтобы описать происшедшие события, так как никто лучше, чем этот дневник, не смог бы объяснить, что произошло у изголовья бедной Мадлен и в сердцах тех, кто ее окружал.
Как уже сказал господин д'Авриньи, заметные улучшения произошли в состоянии больной благодаря кропотливым заботам отца, и, однако, несмотря на науку и даже на плоды этой науки, делающей так, что ни одно из таинств человеческого организма не могло ускользнуть от нее, господин д'Авриньи понял, что, кроме доброго и злого гения, которые боролись за больную, была третья сила, помогающая то болезни, то врачу: это был Амори.
Вот почему в дневнике отмечено, что существование Мадлен было отныне в руках се возлюбленного.
Итак, на следующий день после того, как и он написал эти строки, они оба вышли из комнаты Мадлен, отец вынужден был передать Амори, что должен с ним поговорить.
Амори, который еще не лег, тотчас же пришел к господину д'Авриньи в его кабинет.
Старик сидел в углу у камина, опершись рукой на мрамор, погруженный в такое глубокое раздумье, что не услышал, как открылась и закрылась дверь, и молодой человек подошел к нему так тихо, что шум шагов, приглушенный толстым ковром, не вывел его из задумчивости.
Подойдя, Амори подождал и, не скрывая своего беспокойства, спросил:
— Вы меня звали, отец, не произошло ли что-нибудь нового? Мадлен не чувствует себя хуже?
— Нет, мой дорогой Амори, наоборот, — ответил господин д'Авриньи, — она чувствует себя лучше, и поэтому я вас позвал.
Затем, показав на стул, он сделал знак, чтобы Амори подошел к нему.
— Садитесь здесь, — сказал он, — и побеседуем.
Амори молча, но с видимым беспокойством послушался, так как, несмотря на утешительные слова, было что-то торжественное в голосе господина д'Авриньи, сообщившего, что он намерен говорить серьезно.
Действительно, когда Амори сел, господин д'Авриньи взял его за руки и, глядя на него с нежностью и твердостью, которые молодой человек так часто замечал в его глазах во время долгих бессонных ночей, проведенных у изголовья Мадлен, сказал:
— Мой дорогой Амори, мы похожи на двух солдат, что встретились на поле битвы, мы знаем теперь, чего мы стоим, мы знаем наши силы и можем говорить с чистым сердцем.
— Увы, отец, — сказал Амори, — во время этой длительной борьбы, в которой, я надеюсь, вы одержали победу, я вам был бесполезен. Но, если только любовь действительно бессмертна, мои страстные молитвы могут быть услышаны Богом и, может быть, зачтутся на небе вместе с чудесами вашей науки. Я тоже могу надеяться, что сделал что-то для выздоровления Мадлен.
— О, Амори, именно потому, что я знаю силу вечной любви, я надеюсь, что вы будете готовы пойти на жертву немедленно.
— О! — воскликнул Амори, — все, что угодно, отец, только я не откажусь от Мадлен.
— Будь спокоен, сын, — сказал господин д'Авриньи, — Мадлен твоя, и она никогда никому не будет принадлежать, кроме тебя.
— Ах, Боже мой! Что вы хотите сказать?
— Послушай, Амори, — продолжал старик, взяв вторую руку молодого человека в свои, — то, что я скажу тебе — это не упрек отца, это факт, о котором я сообщаю, как врач, озабоченный со дня рождения здоровьем своего ребенка; только дважды ее здоровье вызывало у меня серьезные опасения: первый раз, когда в малой гостиной ты сказал, что любишь ее, второй раз…
— Да, отец, ах, не напоминайте мне об этом, я об этом вспоминаю тоже, и очень часто, в тишине ночей — когда вы бодрствовали около Мадлен, а я плакал в своей комнате; это воспоминание было мне упреком; но что мне делать, если рядом с Мадлен я становлюсь как безумный, я забываю обо всем, моя любовь сильнее меня, я теряю самообладание, меня можно простить.
— Я тебя прощаю, мой дорогой Амори, если было бы иначе, ты бы ее не полюбил. Увы! Вот разница между моей и твоей любовью. Моя любовь предвидит постоянно будущие несчастья, твоя — постоянно забывает о несчастном прошлом. Вот почему, мой дорогой Амори, надо на время удалить слепую эгоистическую любовь и оставить мою любовь, преданную и предвидящую.
— О, отец, что вы говорите, Боже мой! Я должен покинуть Мадлен?
— Только на несколько месяцев.
— Но, отец, Мадлен меня любит так же, как я ее люблю, я это хорошо знаю, это невозможно. (Господин д'Авриньи улыбнулся). Не боитесь ли вы, что мое отсутствие причинит больше зла вашей девочке, чем мое присутствие?
— Нет, Амори, она будет тебя ждать, а надежда — сладкое утешение.
— Но куда я поеду, о Боже! Под каким предлогом?
— Предлог найден, и это даже не предлог. Я добился для тебя миссии при дворе в Неаполе: ты скажешь, или лучше я скажу — я не хочу, чтобы ты нанес удар — я скажу, что забота о твоем будущем потребует, чтобы ты выполнил это поручение. Затем, когда она закричит, я скажу ей очень тихо: «Молчи, Мадлен, поедем ему навстречу, и вместо того, чтобы быть разлученными на три месяца, вы будете разлучены только на шесть недель.»
— Вы поедете мне навстречу, отец?
— Да, до Ниццы: Мадлен нужен теплый и мягкий воздух Италии, я отвезу ее в Ниццу, так как до Ниццы она может ехать, не уставая, поднявшись по Сене, следуя по Бриарскому каналу и спускаясь по Соне и Гаронне.
Из Ниццы я напишу, чтобы ты тотчас же возвращался или подождал еще, в зависимости от того, будет ли Мадлен сильной или слабой, и тогда, ты понимаешь, твое отсутствие больше не причинит боль, так как надежда на будущую встречу сменится радостью, сладкой радостью, без тех ужасных волнений, которые доставляет ей твое присутствие, без тех ужасных физических страданий, которые ее изматывают.
Дважды я ее спас, но я предупреждаю тебя, Амори, третий кризис — и она умрет, а этот третий кризис, если ты будешь рядом, неизбежен.
— О, Боже, Боже!
— Амори, это не только ради тебя и ради меня я прошу, но ради нес. Пожалей мою бедную лилию и помоги мне ее спасти, сравни разлуку на время, разлуку на расстоянии с вечной разлукой, разлукой из-за смерти.
— О, да, да, все, что хотите, отец! — воскликнул Амори.
— Хорошо, мой сын, — сказал старик, улыбнувшись первый раз за пятнадцать дней, — хорошо, я тебя благодарю, и в этот час, чтобы тебя вознаградить, я осмелюсь тебе сказать: «Будем надеяться!»
XXI
На следующий день господин д'Авриньи вышел, удовлетворившись, что Мадлен чувствует себя лучше: он должен был увидеть короля, чтобы извиниться перед ним, затем министра иностранных дел, чтобы напомнить ему о его обещании.
Конечно, господин д'Авриньи мог бы сказать, не боясь прослыть обманщиком, что он сам был болен, так как за пятнадцать дней он постарел на пятнадцать лет, и хотя ему было только пятьдесят, его волосы поседели полностью.
Спустя час господин д'Авриньи вернулся, уверенный, что в день, когда он пожелает, дипломатическое письмо будет готово.
У дверей своего особняка он встретил Филиппа.
С того вечера, когда Мадлен чуть не умерла, Филипп приходил каждый день, чтобы узнать новости; сначала его принимала Антуанетта, потом, после ее отъезда, он обращался к Жозефу, спрашивая его о Мадлен и Антуанетте.
Что касается Амори, то Филипп думал, что тот должен быть обиженным на него; однако в течение пятнадцати дней Амори был так занят, что забыл о существовании своего друга.
Господин д'Авриньи узнал о внимании Филиппа и поблагодарил его с сердечной непринужденностью отца.
Затем он вернулся к Мадлен.
Наступили первые прекрасные дни июня; был полдень — самый теплый час дня, и господин д'Авриньи разрешил впервые открыть окна в комнате Мадлен; он нашел девушку сидящей на кровати и радующейся свежему воздуху, которым она еще не дышала, и зелени, по которой она не могла ни бегать, ни ходить, но зато ее кровать была усеяна цветами и походила на тот прекрасный временный алтарь, какой мы все видели в нашей юности и какой мы увидим еще, когда люди догадаются вернуть Богу этот красивый и поэтический праздник «тела Господня», что они отменили.
Амори приносил Мадлен цветы, которые ей нравились и которые он собирал для нее.
— Ах, отец, — сказала девушка, заметив господина д'Авриньи, — как я благодарна вам за этот сюрприз, который вы позволили Амори мне сделать, вернув мне воздух и цветы, мне кажется, что я дышу свободнее, вдыхая аромат лета, и я, как та бедная птица, помните, отец, которую вы поместили с розовым кустом в свою клетку для опытов и которая каждый раз умирала, как только вы убирали от нее розовый куст, и, наоборот, оживала каждый раз, как только вы его возвращали. Скажите, отец, когда мне не хватает воздуха, когда я задыхаюсь, словно я тоже в клетке, — не могли бы меня вернуть к жизни, окружая цветами?
— Да, дитя мое, — сказал господин д'Авриньи, — мы так и сделаем, будь спокойна, я увезу тебя в страну, где ни розы, ни девушки не умирают, и там ты будешь жить среди цветов, как пчелка или птица.
— В Неаполь, отец? — спросила Мадлен.
— О нет, дитя мое, Неаполь очень далек для первой поездки, к тому же в Неаполе дует сирокко, от которого умирают цветы, а неощутимый пепел Везувия сжигает грудь девушек. Нет, мы остановимся в Ницце.
И господин д'Авриньи замолчал, вопросительно глядя на Мадлен.
— И что? — спросила Мадлен в то время, как Амори опустил голову.
— А Амори поедет в Неаполь.
— Как? Амори нас покидает? — вскрикнула Мадлен.
— Ты называешь это «покидает», мое дитя? — живо возразил господин д'Авриньи.
И тогда мало-помалу, слово за слово, с бесконечными предосторожностями, он объявил Мадлен о плане, который он придумал и который состоял, как мы уже сказали, в том, чтобы прибыть в Ниццу и ожидать в этой оранжерее Европы возвращения Амори.
Мадлен выслушала все эти планы, склонив голову, как бы во власти одной-единственной мысли, и когда отец закончил, она спросила:
— А Антуанетта, Антуанетта поедет с нами?
— Моя бедная Мадлен, — сказал господин д'Авриньи, — я на самом деле в отчаянии, что разлучаю тебя с твоей подругой, с сестрой, но ты понимаешь, что я не могу доверить присмотр за домом в Париже и за домом в Виль-Давре посторонним. Антуанетта остается.
Радость блеснула в глазах Мадлен, отсутствие Антуанетты примирило ее с отсутствием Амори.
— А когда мы поедем? — произнесла она с чувством, похожим на нетерпение.
Амори поднял голову и посмотрел на нее удивленно. Амори, с его эгоистичной любовью влюбленного, не догадался ни об одной из тайн, в которые со своей отеческой любовью проник господин д'Авриньи.
— Наш отъезд зависит от тебя, дорогое дитя, — сказал господин д'Авриньи, — заботься хорошо о своем драгоценном здоровье, и как только ты будешь достаточно сильной, чтобы перенести путешествие в коляске, то есть, когда, опираясь на мою руку или руку Амори, ты дважды обойдешь, не уставая, сад, тогда мы уедем.
— Ах, будь спокоен, отец, — воскликнула Мадлен, — я сделаю все, что ты мне прикажешь, и мы очень скоро уедем.
То, что господин д'Авриньи предвидел, оправдалось: в Виль-Давре Антуанетта была слишком близка к Амори.
Амори — Антуанетте
«Вы спрашиваете подробности о выздоровлении Мадлен, дорогая Антуанетта, я понимаю это: недостаточно знать, что ей лучше, вы хотите знать еще, как лучше? По правде говоря, я тот рассказчик, который вам нужен, так как, не имея вас рядом, чтобы говорить о ней, я счастлив вам писать. Кроме того, очень странно, но к ее отцу, который любит ее почти так же, как и я, я не чувствую, не знаю почему, ни доверия, ни непринужденности. Это объясняется, без сомнения, разницей в возрасте или серьезностью его характера. С вами, дорогая Антуанетта, все иначе, я буду говорить о ней с вами всегда.
В течение восьми дней после вашего отъезда я повторял каждый вечер, буду ли я жить или умру, так как все эти восемь дней Мадлен была в опасности. Сегодня, дорогая Антуанетта, я могу сказать: я буду жить, поскольку я могу сказать, что она будет жить.
Верьте мне, Антуанетта: это не банальная и проходящая любовь, которой я ее люблю; это не женитьба ради приличий, которые я соблюдаю, женясь на Мадлен; это не женитьба из привязанности, как говорят еще. Меня с ней объединяет необычная страсть, беспримерная, единственная, и, если она умрет, я должен умереть.
Бог не захотел ее смерти, спасибо, Боже. Только позавчера д'Авриньи поверил, что сможет поручиться за ее жизнь, а еще он сказал, что при одном условии: я должен уехать.
Сначала я подумал, что новость окажется опасной для Мадлен, но, без сомнения, у бедного ребенка не было сил живо чувствовать, так как, узнав, что она будет ждать в Ницце, где я присоединюсь к ним, она почти заторопилась уехать; это мне показалось еще более удивительным, так как ее отец сообщил ей, что вы не сможете ее сопровождать.
В остальном больные похожи на больших детей. Со вчерашнего дня она делает себе праздник из этого путешествия.
Действительно, ей кажется, что мы совершим его вместе, хотя господин д'Авриньи меня уже предупредил, что я уеду через восемь дней.
Но даже если предположить, что состояние больной будет улучшаться, Мадлен не сможет, очевидно, уехать раньше, чем через три недели или месяц.
Как смог он убедить Мадлен позволить мне уехать?
Признаюсь, я об этом не знаю, но он мне сказал, что возьмет все на себя.
Сегодня впервые Мадлен встала, или точнее, господин д'Авриньи перенес ее из кровати в большое кресло, которое он поставил около окна, и бедный ребенок был еще так слаб, что, если бы во время этого переезда миссис Браун не поднесла ей флакон с нюхательной солью, она, конечно, упала бы в обморок. Однажды, когда она сидела у окна, мне разрешили войти.
О, Боже мой, дорогая Антуанетта, только тогда я смог узнать, какие губительные последствия нанесла болезнь моей обожаемой Мадлен.
Она красива, более красива, чем когда-либо, ибо в своем длинном платье без талии похожа на одного из прекрасных ангелов Беато Анджелико[61] с прозрачным челом и воздушным телом, но эти прекрасные ангелы — на небесах, в то время как Мадлен, благодаря Богу, еще среди нас; и то, что у них составляет божественную красоту, делает ее красоту ужасной.
Если бы вы смогли увидеть ее, как она счастлива и довольна у этого окна! Можно сказать, что она впервые видит небо, вдыхает этот чистый воздух, вдыхает запах благоухающих ароматом цветов; сквозь ее бледную и прозрачную кожу видно, как она возвращается к жизни.
Ах, Боже мой, разве когда-нибудь эта жизнь будет земной? Будет ли это хрупкое создание чувствовать человеческие радости и страдания, не сгибаясь от радости или от горя?
Все эти страхи усиливаются поведением отца, который через четверть часа подходит к ней и берет ее за руку, щупая пульс.
Вчера вечером он был веселым; пульс уменьшился на три или четыре удара в минуту за день.
В четыре часа, когда солнце полностью покинуло сад, несмотря на просьбы Мадлен, господин д'Авриньи потребовал, чтобы она легла; он взял ее на руки и отнес в кровать, но, к его радости, она лучше перенесла этот второй переезд, чем первый: она сама держала флакон, и он ей был не нужен, что служило доказательством того, что воздух и солнце вернули ей некоторые силы.
В то время, как ее перенесли на кровать, я играл в гостиной мелодию Шуберта[62]; когда я кончил играть, миссис Браун пришла мне сказать от ее имени, чтобы я продолжал играть. В первый раз она слышала музыку с того самого ужасного вечера, когда музыка ее чуть не убила. Я продолжал играть по ее просьбе и, когда пришел к ней, нашел ее в экстазе.
— Ах, вы не представляете, Амори, — сказала она мне, — что эта ужасная болезнь, которая так всех вас беспокоит, имеет удивительную сладость для меня: мне кажется, что чувства не только удвоили свои силы, но пробудили во мне другие чувства, прежде не существовавшие, чувства души — если это можно так назвать.
В этой музыке, которую вы мне сейчас играли и которую я слышала двадцать раз, я услышала мелодию, о которой я не подозревала до сегодняшнего дня, как в запахе роз и жасмина я чувствую теперь аромат, какой я не чувствовала раньше и какой, может быть, я не буду чувствовать, когда здоровье вернется ко мне.
Это, как вчера… (не смейтесь надо мной, Амори). Славка пела в кустарнике, где у нее гнездо; и мне показалось, что, если бы я была одна, а не с вами или с моим отцом, и если бы я закрыла глаза, если бы сконцентрировала все способности моего разума на этом пении, я бы поняла, о чем эта славка-самец говорил со своей самочкой и со своими малышами.
Я смотрел на господина д'Авриньи, дрожа от мысли, что Мадлен бредит, но он меня успокоил, покачав головой.
Через минуту он вышел.
Мадлен наклонилась к моему уху.
— Амори, — сказала она, — сыграйте тот вальс Вебера, который мы танцевали вместе, знаете его?
Я понял, что Мадлен ждала ухода своего отца, чтобы попросить меня сыграть этот вальс, и я испугался, что это опасно, если она услышит те же звуки, приведшие ее в такое сильное нервное возбуждение, и я ответил, что я его не совсем помню.
— Ну, ладно, — сказала она, — вы его поищите, а завтра вы мне его сыграете.
Я пообещал.
Ах, Боже мой! Разве то, о чем говорил мне господин д'Авриньи, правда?
Ей нужны волнения, хотя они ее убивают.
Когда я ее покинул вечером, она попросила меня, чтобы я обещал ей сыграть завтра этот вальс Вебера.
Господин д'Авриньи с десяти часов вечера до шести часов утра трижды заходил в комнату дочери и каждый раз находил ее спящей.
Миссис Браун, чья очередь была дежурить, успокоила его, сказав, что за все время, то есть за восемь часов, она проснулась только два раза, каждый раз проглатывая несколько капель успокоительной микстуры, приготовленной ее отцом, засыпала, уверяя миссис Браун, что чувствует себя лучше.
На следующий день, то есть сегодня утром, когда, по привычке, господин д'Авриньи прежде, чем ввести меня к Мадлен, рассказал мне о состоянии ее здоровья за ночь, я ему сказал, о чем она просила меня накануне — о вальсе Вебера.
Он оставался мгновение задумчивым, потом покачал головой.
— Я вам сказал правду, Амори, — ответил он, — когда говорил о необходимости эмоций, которых я боюсь, и о том, что ваше присутствие поддерживает их. Ах, мой друг, не сомневайтесь в справедливости моих слов, как я хотел бы, чтобы вы уехали.
— Но как быть, должен ли я играть этот вальс или нет? — спросил я его.
— Играйте его, нечего бояться, я не уйду, только слушайтесь меня: прекращайте или продолжайте играть, когда я вам скажу.
Я вошел в комнату Мадлен, она была радостной.
Ночь, как и сказал мне господин д'Авриньи, прошла хорошо, и жар утром уменьшился, как и вечером.
— Ах, друг мой, — сказала она мне, — как я хорошо спала, какой сильной я чувствую себя, мне кажется, если бы мой «тиран» мне разрешил, — и при этом она бросила взгляд безграничной любви на своего отца, — я пошла бы или полетела бы, как птица, но он считает, что знает меня лучше, чем я, и на сегодня он привязывает меня к этому проклятому креслу.
— Вы забываете, дорогая Мадлен, — сказал я ей, — что еще позавчера вы добивались этого кресла, и, сидя здесь, у открытого окна, вы чувствовали себя хорошо, как в раю. Вчера вы оставались в нем и чувствовали себя счастливой.
— Да, без сомнения, но то, что было хорошо вчера, не так хорошо сегодня. Если вы любите меня сегодня так, как вы любили меня вчера, — этого недостаточно, и я не найду удовлетворения в подобной любви. Все чувства, которые не увеличиваются — уменьшаются. Знаете, где я хотела бы быть? Я хотела бы быть под этим кустом роз, лежать на этом прекрасном и таком зеленом газоне, который, должно быть, такой мягкий.
— Итак, — сказал господин д'Авриньи, — я очень рад, дорогая Мадлен, что твое горячее желание ограничивается таким малым; через три дня ты там будешь.
— Правда, отец! — воскликнула Мадлен, хлопая в ладоши, как ребенок, которому пообещали желаемую игрушку.
— И даже сегодня, если ты хочешь, ты пойдешь пешком до этого проклятого кресла. Нужно испытывать свои ноги до того, как испытаешь крылья. Только миссис Браун и я будем тебя поддерживать.
— И я верю, что вы сделаете хорошо, — сказала Мадлен, — так как, дорогой отец, должна вам признаться, что я очень похожа на тех трусов, какие производят большой шум, в то время как они далеки от опасности, но которые перед самой угрозой вдруг теряют дар речи и становятся робкими и скромными. В каком часу мне вставать? Нужно ли ждать полудня? Посмотри, как долго еще ждать, сейчас десять часов.
— Сегодня, дорогое дитя, ты выиграешь час, и, поскольку утро теплое, твое окно откроют сейчас же, только наберись терпения.
Открыли окно; воздух и солнце вошли одновременно.
В это время она наклонилась ко мне.
— А вальс Вебера? — спросила она.
Я ей ответил утвердительным жестом. С этого времени она казалась веселой и спокойной.
Пришли сказать, что завтрак готов. Вот уже несколько дней, как господин д'Авриньи и я ели вместе.
Раньше, как вы знаете, дорогая Антуанетта, мы завтракали и обедали по очереди, чтобы один или другой оставался с ней. Теперь ей лучше, и наша предосторожность не нужна.
В одиннадцать часов без нескольких минут господин д'Авриньи поднялся из-за стола.
— Чтобы дети и больные делали все, что от них требуют, нужно с ними еще более строго держать слово, чем с другими. Я помогу Мадлен встать, вы сможете войти через десять минут.
И на самом деле через десять минут Мадлен сидела около окна, она была восхищена.
С помощью отца и миссис Браун она прошла от кровати до кресла; действительно, без этой двойной поддержки она не смогла бы сделать ни шага. Но какое отличие от предыдущего дня! Накануне, чтобы проделать то же самое, ее нужно было нести.
Я сел рядом с ней.
Через несколько минут она сделала нетерпеливое движение. Господин д'Авриньи, сумевший прочесть, как по волшебству, в ее сердце, понял ее.
— Мой дорогой Амори, — сказал он мне, вставая, — вы не покинете Мадлен, не правда ли?.. Я могу отлучиться на час или на два?
— Идите, отец, — ответил я ему, — я останусь здесь.
— Хорошо, — сказал он и вышел, поцеловав Мадлен.
— Быстрей, быстрей, — сказала Мадлен, когда дверь ее спальни закрылась за господином д'Авриньи, — быстрей играйте этот вальс Вебера. Представьте себе, что со вчерашнего дня я держу в голове его такт, и я его слышала всю ночь.
— Но вы не сможете идти в гостиную, дорогая Мадлен, — сказал я ей.
— Я знаю, так как с трудом могу держаться на ногах, но оставьте обе двери открытыми, и я вас услышу отсюда.
Я встал, вспоминая то, что мне рекомендовал господин д'Авриньи. Я не сомневался, что он был там и наблюдал за дочерью. Я подошел к пианино.
От пианино я мог видеть Мадлен в открытые двери; в рамке из портьер она казалась похожей на одну из картин Греза[63]. Она сделала мне знак рукой.
Я начал.
Как я говорил, это был один из изумительных мотивов меланхолического характера, какой мог сочинить только Вебер.
Я не знал вальс наизусть, и должен был следить по нотам, по мере того как играл.
Однако как в тумане, мне показалось, что я вижу, как Мадлен встает с кресла; я обернулся внезапно: действительно, она стояла.
Я хотел прекратить игру, но господин д'Авриньи увидел мое движение.
— Продолжайте, — сказал он мне.
Я продолжал, так что Мадлен не могла заметить остановку.
Казалось, что это поэтическое создание оживилось от гармонической игры и набиралось сил по мере того, как темп возрастал.
Она немного постояла, и я увидел, что хрупкая больная начала двигаться сама, и это после того, как с большим трудом отец и гувернантка проводили ее от кровати к креслу; вот она медленно пошла вперед, уверенно, бесшумно, как тень, но не ища опоры у мебели или у стены.
Я повернулся в сторону господина д'Авриньи и увидел, что он был бледен как смерть. Вторично я готов был остановиться.
— Продолжайте, продолжайте, — сказал он мне, — вспомните скрипку Кремона[64].
Я продолжал играть.
Движения ее становились все более решительными и торопливыми, и по мере того, как темп набирал силу, Мадлен тоже, более сильная, приближалась ко мне стремительно: наконец, она облокотилась о мое плечо. В это время ее отец, пройдя вокруг гостиной, появился позади нее.
— Продолжайте, продолжайте, Амори, — сказал он. — Браво, Мадлен, но почему ты говорила сегодня утром, что у тебя нет больше сил?
Бедный отец смеялся и дрожал одновременно, в то время как пот волнения и страха струился по его лицу.
— Ах, отец, — сказала Мадлен, — это магия. Но вот эффект музыки: я думала, что если бы я умерла, некоторые арии смогли бы поднять меня из могилы.
Вот почему я так хорошо понимаю монашек Роберта Дьявола[65] и виллис Жизели[66].
— Да, — сказал господин д'Авриньи, — но не надо злоупотреблять этим могуществом. Возьми мою руку, дитя, а вы, Амори, продолжайте, — эта музыка восхитительна. Только, — добавил он тихо, — переходите от этого вальса к какой-нибудь мелодии, которая бы умолкала, как эхо.
Я подчинился, так как понял: нужно было, чтобы моя музыка возбуждала Мадлен, поддерживала ее до кресла. Когда Мадлен уже сидела, музыка должна была уйти незаметно, так как внезапно прекратившись, она, очевидно, могла что-то сломать в Мадлен.
На самом деле Мадлен дошла до кресла без видимой усталости и села с сияющим лицом.
Когда я увидел, что она хорошо устроилась в своем большом кресле в стиле Людовика XV, я замедлил темп там, где раньше убыстрял; тогда она облокотилась на спинку кресла и закрыла глаза. Отец следил за каждым ее движением и сделал знак, чтобы я играл тихо, очень тихо, поскольку от вальса я перешел к нескольким аккордам, которые становились все тише, и, наконец, последний аккорд умолк, как далекая песня улетевшей птицы.
Тогда я встал и хотел подойти к Мадлен, но отец остановил меня.
— Она спит, — сказал он, — не будите ее.
Затем, увлекая меня в прихожую, сказал:
— Вы видите, Амори, необходимо, чтобы вы уехали. Если бы подобное событие произошло в мое отсутствие, если бы я не был там, чтобы всем руководить, Амори, клянусь вам, я не решаюсь даже подумать о том, что могло произойти; я вам повторяю: нужно, чтобы вы уехали.
— О, Боже, Боже! — воскликнул я. — Но Мадлен, которая не думает, что мой отъезд так близок, как ей сказать…
— Будьте спокойны, — добавил господин д'Авриньи, — она попросит об этом сама.
И, подталкивая меня, он вернулся к дочери.
Я поднялся в свою комнату и пишу вам, Антуанетта; скажите, какое средство он использовал, чтобы приказ — мне покинуть ее — исходил от самой Мадлен?»
XXII
Амори — Антуанетте
«Через шесть дней я уезжаю, дорогая Антуанетта и, как предсказал господин д'Авриньи, Мадлен сама попросила меня уехать.
Вчера вечером я и господин д'Авриньи были с Мадлен; на нее моя игра на пианино, к счастью, не оказала никакого отрицательного влияния: наоборот, ей становится все лучше. Господин д'Авриньи долго разговаривал с Мадлен о вас, и она говорила такие вещи, которые я не хочу повторять из боязни ранить вашу скромность, а затем он объявил о вашем возвращении из деревни в следующий понедельник.
Мадлен задрожала, внезапно ее лицо вспыхнуло, затем побледнело.
Я сделал движение, чтобы указать господину д'Авриньи на то, что происходит с его дочерью, но я заметил, что он держал руку Мадлен, и подумал, что ее состояние не могло ускользнуть от отца.
Заговорили о другом.
На следующий день Мадлен должна была выйти в сад и идти в беседку из сирени и роз, чтобы дышать этим воздухом и этим запахом, таким желанным для нее два дня тому назад.
Но, видите, дорогая Антуанетта, как господин д'Авриньи был прав, сравнивая больных с большими детьми: это обещание ее отца не произвело на нее никакого впечатления. Я не знаю, но какое-то облако промелькнуло в ее глазах; ее мысль, казалось, была занята другим.
Я воспользовался сразу же тем, что очутился с ней наедине, чтобы спросить, какая мысль ее занимала, но дверь открылась, и вошел Жозеф, он нес письмо с широкой печатью: это письмо было адресовано мне, я сразу же его распечатал.
Министр иностранных дел просил меня прийти к нему.
Я показал письмо Мадлен.
Какая-то тревога сжала мне сердце: я понимал взаимосвязь этого письма со словами господина д'Авриньи, сказанными мне накануне по поводу моего отъезда, и я посмотрел на Мадлен испуганно, и к своему большому удивлению, увидел, что лицо ее просветлело.
Я думал, что она не почувствовала в этом послании ничего необычного, и я решил ее не разубеждать. Я вышел, обещая ей скоро вернуться, и оставил ее с отцом.
Я не ошибся: министр был очень любезен со мной, он только хотел объявить мне лично, что некоторые политические события должны ускорить миссию, какую он мне поручает; я должен был готовиться к отъезду. В остальном, зная о моих обязательствах перед господином д'Авриньи и его дочерью, он позволил мне использовать столько времени, сколько необходимо, чтобы их к этому подготовить.
Я поблагодарил за это новое проявление доброты и обещал дать ему ответ в тот же день.
Я вернулся к господину д'Авриньи очень озабоченным, думая, каким образом я объявлю эту новость Мадлен. Я рассчитывал, признаюсь, на господина д'Авриньи, обещавшего мне позаботиться обо всем, но господин д'Авриньи только что вышел, а Мадлен приказала тотчас же после моего возвращения попросить меня прийти к ней.
Я колебался еще, но в то время, как горничная объясняла мне это, Мадлен позвонила, чтобы узнать, не вернулся ли я.
Я не мог медлить и поднял портьеру комнаты Мадлен, которая, без сомнения, узнала мои шаги, так как ее глаза смотрели в мою сторону.
И сразу же, как она меня заметила, она сказала мне:
— Ах, мой дорогой Амори, входите, входите, вы видели министра, не правда ли?
— Да, — ответил я, колеблясь.
— Я знала, о чем речь: он встретил вчера моего отца у короля и предупредил его, что вы должны уехать.
— О, моя дорогая Мадлен, — воскликнул я, — верьте, что я готов скорее отказаться от этого поручения, даже от моей карьеры, чем вас покинуть.
— Что вы такое говорите? — воскликнула живо Мадлен. — Какое безумие вы задумали? Нет, нет, нет, мой дорогой Амори, не делайте этого. Нужно быть благоразумным, и я не хочу, чтобы вы однажды могли меня обвинить в том, что я помешала вам в тот самый момент, когда судьба дает вам такой случай отличиться.
Я смотрел на нее с глубоким удивлением.
— Ну, — сказала она, улыбаясь, — что с вами? Вы не понимаете, дорогой Амори, как такая экзальтированная девушка, как ваша Мадлен, может сказать что-то разумное хотя бы раз в жизни?
Я подошел к ней и сел, как обычно, у ее ног.
— Вот на чем мы остановились, мой отец и я.
Я взял в свои руки ее похудевшие ручки и слушал.
— Я еще недостаточно окрепла, чтобы переносить поездку в коляске или на пароходе, но через пятнадцать дней, как уверяет мой отец, я смогу путешествовать без препятствий.
Итак, вы уезжаете, а я за вами. Вы поедете, чтобы выполнить вашу миссию, в Неаполь, а я вас буду ждать в Ницце, куда вы прибудете почти одновременно со мной, благодаря пароходу, приводимому в движение паром. Это прекрасное изобретение — пар, не правда ли? А Фюльтон[67] мне кажется самым великим человеком нашего времени.
— И когда я должен уехать? — спросил я.
— В воскресенье утром, — живо ответила Мадлен.
Я подумал, что в понедельник вы приедете из Виль-Давре и что я не увижу вас больше до моего отъезда.
Я собирался сказать об этом Мадлен, но она продолжала:
— Вы поедете в воскресенье утром, вы доедете на почтовой карете до Шалона — слушайте хорошо — так мне объяснил мой отец. Вы приедете в Марсель, чтобы сесть на государственный пароход, который отправляется первым в следующем месяце, и через шесть дней вы будете в Неаполе. Я даю вам десять дней, чтобы вы выполнили ваши поручения. Можно многое сделать за десять дней, не правда ли?
На одиннадцатый день вы уезжаете, и двадцать шестого или двадцать восьмого июля вы в Ницце, где мы ждем вас четыре или пять дней.
Только шесть недель отсутствия и все: соединившись под этим прекрасным небом, мы больше не расстанемся; Ницца будет нашей обетованной землей, нашим найденным раем, затем, после того, как я буду обласкана нежным воздухом Италии, убаюкана вашей любовью, мы поженимся; мой отец вернется в Париж, а мы продолжим наше путешествие. Великолепный план, не правда ли?
— Да, прекрасный в самом деле, — сказал я, — к несчастью, он начинается с разлуки.
— Друг мой, — возразила Мадлен, — я вам уже сказала, эта разлука необходима для вашего будущего, и я подчиняюсь с преданным смирением.
Я больше не возвращался к этому вопросу, ибо что-то было необъяснимое в этой необычной рассудительности такого избалованного ребенка, как Мадлен, но я напрасно ее спрашивал, торопил, атаковал всеми способами, она не выходила из своей системы самоотречения и считала необходимым удовлетворить министра, проявившего ко мне такой живой интерес.
Это не кажется вам таким же странным, как и мне, Антуанетта? Я об этом думал весь день, я, который не осмеливался сказать ни слова о своем отъезде, об этой разлуке, а она пошла мне навстречу.
На самом деле, Антуанетта, прав тот, кто говорит, что сердце женщины — пропасть.
Весь остаток вчерашнего дня мы провели, строя планы; вслед за силой и здоровьем радость возвращалась к Мадлен.
Господин д'Авриньи не сводит с нее глаз, я видел, как он улыбнулся три или четыре раза, а эти улыбки заставляли сильнее биться мое сердце».
XXIII
Амори — Антуанетте
«Сегодня произошло большое торжество: день, когда Мадлен было обещано спуститься в сад.
Погода стояла великолепная, никогда я не видел неба более чистого и более радостного; казалось, что вся природа была праздничной, дул легкий ветерок, необходимый, чтобы смягчить жару этих первых летних дней.
Я предложил господину д'Авриньи, чтобы предупредить любую случайность, отнести вместе с ним Мадлен в ее кресле. Она не захотела: ее самолюбие выздоравливающей больной было оскорблено, но, после обещания разрешить ей прогуляться по саду, она покорилась нам без сопротивления, и мы ее подняли вместе с креслом и отнесли в железную беседку.
Если бы вы были там, дорогая Антуанетта, вы бы увидели действительно великолепный спектакль: это зрелище молодости, возвращающейся к жизни, и к счастливой жизни, святой, обожаемой.
Ее грудь со стесненным дыханием поднималась, чтобы запастись воздухом.
Со своего кресла, не вставая, она хватала своими руками пучки сирени, жимолости, роз, прижимая их к груди, так целуя, точно они были ее подругами, с которыми она была навсегда разлучена; затем были восторги природе, благодарность Богу, слезы признательности отцу. Она сама походила на цветок среди этих цветов, на прекрасную лилию, покрытую розами.
Мы держались за руки, господин д'Авриньи и я, готовые плакать вместе с ней, и были счастливы несказанным и чистым счастьем, которое не имеет ничего земного. Только одного не доставало, Антуанетта: Антуанетта, если бы вы были здесь!
Наконец, эта сидячая жизнь, если так можно выразиться, показалась ей недостаточной, она встала, сделала мне знак подойти к ней и прижалась к моей руке.
Господин д'Авриньи подвинулся.
— Ах, отец, — сказала она, — вспомните, что вы мне обещали: позволить прогуляться в саду.
— О, — ответил господин д'Авриньи, — я разрешаю от всего сердца, но идите осторожно.
— Отец, — сказал я ему, — посоветуйте Мадлен опереться на меня.
И он ответил кивком головы.
Я думал, что он ревновал, видя, как Мадлен взяла мою руку, но, если это чувство и было в его сердце, то он быстро справился с ним, так как сделал знак рукой, чтобы мы пошли.
Мы осторожно удалялись.
Можно было подумать, что Мадлен видела впервые деревья, цветы и газон, все заставляло ее вскрикивать: жук — живой изумруд, — который переходил дорогу, бабочка — летящий цветок, — которую легкий ветерок переносил с одного куста на другой, бражник с длинным хоботком и такими стремительными крыльями, что можно было подумать, что он неподвижен. Никогда еще природа не казалась нам такой живой.
Каждый пучок травы, каждый куст, каждое шпалерное дерево, населенное миром насекомых, птиц, рептилий — красивых, легких, оживленных, жужжащих, кричащих, поющих — все ликовали так, будто благодарили Бога, которого мы должны были так благодарить.
Можете ли вы поверить, Антуанетта? Мы обошли весь сад, не произнеся ни слова. Только Мадлен воскликнула несколько раз радостно, в то время как я не сводил с нее глаз.
Только один раз, когда мы проходили по проталине, я посмотрел на отца. Он сидел в кресле, где до этого сидела она, и целовал цветы, которые она целовала.
К концу первого круга он пошел нам навстречу и внимательно посмотрел на дочь: она прекрасно перенесла эту маленькую усталость, и ее лицо, слегка оживленное слабым розовым цветом, разливавшимся по ее щекам, говорило о здоровье. Мадлен настаивала, чтобы сделать еще круг, но господин д'Авриньи был непреклонным и проводил ее к креслу.
Мы оставались в саду до трех часов пополудни, и во время этих четырех или пяти часов, проведенных на воздухе, Мадлен набралась сил, и мне кажется, что, покидая ее, я могу быть спокоен за ее здоровье.
Я не прощаюсь с вами, Антуанетта, а напишу вам прощальное письмо, я дам вам рекомендации, не оставлять ни на день Мадлен и всегда говорить с ней обо мне».
«Суббота, 8 часов вечера.
Завтра я уезжаю, дорогая Антуанетта, я не писал вам четыре дня, так как у меня не было ничего нового, чтобы вам рассказать и вы должны были узнать из двух писем, полученных от господина д'Авриньи, что Мадлен чувствует себя лучше.
Каждый из дней, которые прошли с тех пор, как я вам написал, — это повторение предшествующего дня, только с каждым днем Мадлен набиралась сил, и это под постоянным наблюдением господина д'Авриньи, который является примером отцовской любви.
Теперь она встает самостоятельно, идет одна в сад и одна возвращается; я почти завидую такому хорошему здоровью, так как, похожая на ребенка, ускользнувшего из помочей, Мадлен не желает, чтобы ее кто-нибудь поддерживал.
В остальном, дорогая Антуанетта, вы имеете в ней нежную и очень искреннюю подругу, о чем я могу судить в течение нескольких дней.
День моего отъезда приближается и омрачает лицо Мадлен. Господин д'Авриньи, видя это облачко, говорит:
— Смелее, милое дитя, ты не останешься одна, я здесь, а в понедельник возвращается Антуанетта.
Тотчас же при этом обещании вашего возвращения облачко уплывает далеко, и Мадлен первая говорит:
— Да, да, ему нужно ехать.
И сегодня она сказала это, хотя отъезд назначен уже на завтра.
Однако я хорошо чувствую, что господина д'Авриньи беспокоит приближение моего отъезда.
Сегодня, когда в шесть часов вечера я покинул Мадлен, ее отец пошел за мной и, отойдя со мной в сторону, сказал:
— Мой дорогой Амори, вы собираетесь уехать, вы видите, как Мадлен благоразумна и как без всякого волнения она приходит в себя, следите за ней, берегите ее от волнений по поводу вашего отъезда, будьте холодны, если нужно: я боюсь сильных проявлений вашей любви.
Дважды вы уже видели эффект от этих слишком пылких ощущений.
В первый раз, когда вы ей сказали, что вы ее любите, — как ей стало плохо!
Во второй раз, когда вы танцевали с ней вальс, и она чуть не умерла.
Ваше слово, ваше дыхание имеют на этот нервный и хрупкий организм фатальное влияние. Заботьтесь о ней, как заботятся о цветке, и как я сделал теплым воздух, сделайте вашу любовь к ней чистой.
Я хорошо знаю, что это трудно для вас, молодого и пылкого, подумайте — это ее жизнь, Амори, и, если случится третий кризис, похожий на два других, я не ручаюсь ни за что. Впрочем, в момент отъезда я буду рядом.
Я ему обещал все, что он хотел, увы! Я хорошо вижу существование этого хрупкого ребенка, висящее на волоске, который может порваться от любого жестокого волнения, и я вижу, благодаря Богу, достаточно, чтобы согласиться сделать вид, что люблю ее меньше, чем на самом деле.
Затем я поднялся в свою комнату, чтобы написать вам эти несколько строк, которые я окончу позже, так как Мадлен велела сказать, чтобы я спускался, что она меня ждет».
XXIV
«10 часов.
Ругайте меня, Антуанетта, так как боюсь, что совершил большую глупость. Я нашел Мадлен одну, она послала за мной, чтобы сказать мне, что рассчитывает увидеть меня наедине до моего отъезда. Дорогое дитя, невинное в душе, просило меня о свидании, в котором другая отказала бы мне, если бы я ее об этом попросил.
Верьте мне, если хотите, Антуанетта, но, связанный обещанием, данным господину д'Авриньи, я сначала хотел отдалить от себя этот час блаженства, какой в другое время я оплатил бы годом своей жизни.
Я ей сказал, что, без сомнения, миссис Браун получила указание от господина д'Авриньи; вы видите, я твердо решил не поддаваться своему желанию.
— Но зачем говорить об этом миссис Браун? — ответила мне Мадлен.
— Как вы это сделаете? Миссис Браун отделяет от вас только перегородка, и при малейшем шуме, который она услышит, она подумает, что вам нездоровится, она войдет и найдет меня у вас.
— Да, без сомнения, если вы придете сюда, — ответила Мадлен.
— Куда же вы хотите пригласить меня?
— Не могли бы вы выйти в сад? Я к вам присоединюсь.
— В сад, подумайте только, дорогая Мадлен! А свежесть ночи?
— Разве вы не слышали вчера, как мой отец говорил, что следует бояться от восьми до девяти часов вечера, — то есть, того часа, когда приходит ночь? Но когда эта первая свежесть исчезнет, наши ночи такие же теплые, как и дни; впрочем, я накину кашемировую шаль.
Я хотел отговорить ее, хотя уже чувствовал себя увлеченным, несмотря ни на что.
— Но, — сказал я ей, — разве необходимо, чтобы мы были наедине ночью?
— Мы ведь бываем наедине днем, — ответила она мне с восхитительной наивностью, которая вам знакома.
— Но, днем — это днем… — возразил я.
— Ну какая разница? — спросила Мадлен.
— Большая, моя милая, — возразил я, улыбаясь.
— Но разве вы не жаловались когда-то, что во время путешествия отец будет нас стеснять? Вы рассчитываете, что будете наедине со мной днем и ночью?
— Но мы будем путешествовать только после нашей свадьбы.
— Да, я заметила, что женщина имеет больше привилегий, в которых нам, молодым девушкам, отказывают, как будто церемония бракосочетания сразу же может превратить безумного ребенка в разумное существо, в остальном разве мы как бы не женаты? Разве каждый не знает, что мы должны стать мужем и женой? И разве мы ими не были бы уже, не окажись я так жестоко больна?
Я затруднялся ей ответить.
— Вы мне теперь не откажете? — продолжала Мадлен. — Очень любезно будет с вашей стороны, если вы уедете в то время, когда вы должны о многом мне сказать, дать мне обещания. Вы не узнаете, когда уедете, как я буду несчастна. По крайней мере будет лучше, если вы уедете, сказав мне несколько добрых и нежных слов, которые доставят мне столько удовольствия, так как будут исходить от вас.
Я нашел свое положение смешным и мой ригоризм дерзким, я обещал себе следить за собой и за ней, и я обещал быть в саду в 11 часов.
На самом деле, моя дорогая Антуанетта, надо быть благоразумным, как семь мудрецов Греции одновременно, чтобы быть строгим к такой прелестной просьбе.
Я ей только посоветовал хорошо закутаться, что она мне и обещала, когда вошел ее отец.
В 10 часов мы вышли вместе.
— Вы видите, Амори, — сказал он мне, — я положился на ваше слово, и я оставил вас наедине с Мадлен… — Я хорошо понял, бедное дитя, что у вас есть о чем сказать. С вашей стороны — и я вас за это благодарю — вы были благоразумны. Вы видите, что и моя бедная Мадлен спокойна, она проведет спокойную ночь…
— Завтра утром я вас оставлю еще на час наедине, и через шесть недель вы встретите в Ницце вашу будущую жену, здоровую и счастливую.
Меня мучили угрызения совести, я был готов во всем ему признаться, но что сказала бы Мадлен?
Без сомнения, неудовольствие, которое она бы испытала, причинило бы ей больше вреда, чем наша встреча.
Впрочем, как я себе обещал, я буду следить за собой. Пробило одиннадцать часов, спокойной ночи, Антуанетта, я вас покидаю ради Мадлен…
Два часа утра.
Сразу же, как вы получите это письмо, Антуанетта, покиньте Виль-Давре и быстро приезжайте в Париж. Вы нам здесь очень нужны. Боже мой, Мадлен умирает!
О, как я несчастен!
Приезжайте, приезжайте!
Амори».
Господин д'Авриньи — Антуанетте
«Как бы ты нам ни была нужна, какое бы беспокойство ты ни испытывала, узнав о состоянии моей дочери, не приезжай, дорогая Антуанетта, пока Мадлен тебя не попросит об этом.
Увы, я боюсь, что она тебя скоро не попросит.
Пожалей меня, ты знаешь, как я тебя люблю.
Твой дядя
Леопольд д'Авриньи».
XXV
Вот что случилось.
Окончив писать письмо Антуанетте, Амори покинул свою комнату; никто его не видел, никто не встретил, он прошел через большую гостиную, остановился у двери Мадлен и не услышал никакого шума; без сомнения, Мадлен уже сделала вид, что легла, чтобы миссис Браун ушла; он вышел на крыльцо и прошел в сад.
У Мадлен все закрыто: ставни и занавески. И нельзя было увидеть тень от света; единственное окно на фасаде светилось — окно господина д'Авриньи.
Амори посмотрел на это окно с выражением, похожим на угрызение совести.
Отец и возлюбленный следили за Мадлен, но какая разница в этом бдении!
Один, преданный любви, следил за ней, советуясь с наукой, чтобы вырвать ее из рук смерти.
Другой из эгоистической любви согласился на свидание, хотя знал, что это свидание может быть гибельным для той, которая о нем просила.
Амори подумал на миг, что нужно вернуться и сказать Мадлен через дверь:
— Оставайтесь у себя, Мадлен, ваш отец бодрствует и может нас увидеть.
Но в это время свет в окне господина д'Авриньи вдруг погас, и на крыльце появилась тень, нерешительно спускавшаяся по ступеням. Амори бросился навстречу, забыв обо всем, так как этой тенью была Мадлен.
Мадлен вскрикнула и оперлась на руку своего возлюбленного, дрожащая от волнения, понимая, что поступает плохо; Амори чувствовал, как бьется ее бедное сердце рядом с его.
На мгновение оба остановились, не говоря ни слова и почти не дыша — так велико было их волнение.
Наконец Амори проводил девушку в беседку, окруженную сиренью, розами, жасмином, где она обычно располагалась днем; когда она села на скамью, он устроился рядом с ней.
Мадлен была права, не боясь ночной свежести. Наступила одна из летних прелестных ночей, теплых, чистых и усыпанных звездами; взгляд, поднимаясь к небу, казалось проникал в бесконечные незнакомые глубины, где блестели в пыли алмазов почти невидимые звезды.
Мягкий ветерок, как дыхание листвы, пробегал по ветвям деревьев.
Тысячи шумов столицы удалились, умирая, и уступили место глухому и далекому рокоту, который не прекращался никогда и который считается дыханием спящего города.
Соловей пел в глубине сада, останавливаясь вдруг, чтобы начать снова свою капризную песню, а она то расцветала нежной и сладкой мелодией, то вспыхивала светлыми нотами, пронзительными и громкими.
Это была одна из тех гармоничных ночей, созданных для соловьев, поэтов и влюбленных.
Подобная ночь должна бы произвести глубокое впечатление на такое нервное создание, как Мадлен.
Казалось, она впервые дышала этим легким ветерком, видела впервые эти звезды, слышала впервые эти звуки. Можно было сказать, что она всеми своими порами вдыхала благоухание, запахи этой прерывисто дышащей ночи. Ее лицо, запрокинутое назад, смотрело на небо в счастливом экстазе, и две слезы, похожие на две капли росы, упавшие с кустов сирени, что качались над ее головой, скатились с ресниц и текли по ее щекам.
На Амори эта ночь тоже оказала сильное действие, он жадно дышал пьянящими ароматами ночи, и если на Мадлен они наводили только мягкую истому, то для Амори превращались в огненные потоки, клокочущие в его молодых венах.
Оба хранили недолгое молчание, наконец Мадлен заговорила первая.
— Какая ночь, Амори! — сказала она. — И ты думаешь, что в Ницце, климат которой считают мягким, будут более прекрасные ночи! Не скажем ли мы до того, как разлучимся, что Бог нам даст возможность, чтобы я сохранила в своем сердце и чтобы унес в твоем сердце воспоминание об этой ночи?
— Эта ночь разбудила в моем сердце все чувства, спавшие до сих пор. Разве я тебе когда-нибудь говорил, что я тебя люблю, Мадлен! Тогда я лгал или говорил не так, как должен был бы сказать это! Слушай: я люблю тебя, Мадлен, я люблю!
И на самом деле, молодой человек произнес эти слова так страстно, что та, к кому он обращался, вздрогнула всем телом.
— Я тоже, — сказала она, уронив голову на плечо Амори, — я тоже тебя люблю!
Амори закрыл на мгновение глаза, чувствуя эту милую тяжесть, ему казалось, что он готов был потерять сознание от счастья.
— О, Боже мой! — сказал он. — Когда я думаю, что завтра я тебя покину, моя обожаемая Мадлен, когда я думаю, что не увижу тебя шесть недель, — а может быть, и два месяца, — и при встрече третий помешает мне упасть к твоим ногам, целовать их, прижимать тебя к сердцу, клянусь тебе, я готов от всего отказаться ради тебя!
И молодой человек обвил гибкий стан Мадлен, которая согнулась под его рукой, приблизившись к нему.
— Нет, нет, — прошептала Мадлен, — мой отец прав, Амори, тебе нужно уехать, нужно, чтобы я собралась с силами, чтобы нести нашу любовь; ты знаешь, она может убить меня, бедную тростинку. Понимаешь ли ты, Амори, что я могла бы умереть, и вместо того, чтобы быть вместе с тобой, живой, веселой, полной счастья, я лежала бы в этот час, скрестив руки, в могиле? Ну что с тобой, мой любимый?
— О, мой Бог! — воскликнул Амори. — Не произноси подобных слов, Мадлен, ты сводишь меня с ума!
— Хорошо, не буду. Вот я любима, вот я счастлива и, благодаря Богу, спасена и возвращаюсь к жизни, вот я рядом с тобой в эту прекрасную благоухающую ночь, когда все говорит о любви. Слушай: тебе не кажется, что ты слышишь ангелов, которые шепчут друг другу слова, похожие на наши?
Девушка остановилась и прислушалась.
В это время подул легкий бриз и взметнул длинные волосы Мадлен, кончики надушенных локонов коснулись лица Амори — он, в свою очередь, слишком слабый для подобного ощущения, откинул назад голову и вскрикнул.
— Ах, смилуйся, — прошептал он, — смилуйся, Мадлен, пожалей меня!
— Пожалеть тебя, Амори, разве ты несчастлив? Ах, я не знала, но мне кажется, любимый, что я на небесах. Скажи мне, разве счастье, подобное нашему, — это не счастье, которое нас ожидает в раю? Разве существует, может существовать большее счастье?
— О, да, да, — шептал молодой человек, открывая глаза и увидев прекрасную голову Мадлен, склоненную над ним, — о да, еще большее.
И он обвил руками шею девушки, приблизив свою голову к ее голове, ее волосы вновь касались его лица, ее дыхание смешалось с его дыханием.
— И каково оно, бог мой? — спросила Мадлен.
— Это говорится тогда, когда двое в одном поцелуе… я люблю тебя, Мадлен.
— Я люблю тебя, Ам…
Губы молодого человека коснулись в это время губ девушки, и слово, начатое с невыразимой любовью, закончилось криком от невыносимой боли.
При этом крике Амори живо отпрянул с капельками пота на лбу. Мадлен упала на скамью, положив руку на грудь, приложив другой рукой свой платок к губам.
Ужасная мысль промелькнула в голове Амори, он упал на колени перед Мадлен, обнял ее рукой и отнял платок от рта.
Несмотря на темноту, он смог увидеть, что на нем были пятна крови.
Тогда он взял Мадлен на руки и бросился бежать, как безумный, он унес ее, молчаливую и задыхающуюся, в ее комнату, положил на кровать и, подбежав к звонку кабинета д'Авриньи, потянул за шнур, едва не оборвав его.
Затем, понимая, что не сможет вынести взгляд этого несчастного отца, он выбежал из комнаты и, похожий на человека, совершившего преступление, удалился в свою комнату.
XXVI
Амори провел так целый час, ничего не говоря, не дыша, слушая за приоткрытой дверью все шумы, какие раздавались в доме, не осмеливаясь спросить, что случилось, и испытав все пытки, которые отделяют сомнение от отчаяния.
Вдруг он услышал шаги по лестнице, они приближались к его комнате, и, наконец, он увидел на пороге старого Жозефа.
— Жозеф, — прошептал он, — а как Мадлен?
Жозеф, ничего не отвечая, протянул Амори письмо.
В этом письме была единственная строка, написанная господином д'Авриньи: «На этот раз она умрет, и это вы ее убили».
Легко понять, какую ужасную ночь провел Амори.
Его комната находилась над комнатой Мадлен. Всю ночь он провел лежа, приложив ухо к паркету, вставая только, чтобы открыть дверь, в надежде увидеть проходящих слуг, у кого он мог узнать новости.
Время от времени он слышал быстрые шаги, свидетельствующие, что кризис усиливается, иногда раздавался кашель, который разрывал грудь больной.
Наступил день: мало-помалу шум в комнате Мадлен стих, Амори надеялся, что она уснула.
Он спустился в малую гостиную, долго прислушивался у двери в спальню, не осмеливаясь зайти, не желая подняться к себе, как будто прикованный к месту.
Вдруг дверь открылась, Амори отступил на шаг: это был господин д'Авриньи, выходящий из комнаты Мадлен, темное лицо его при виде Амори приняло оттенок ужасной строгости.
Амори почувствовал, что ноги его не держат и упал на колени, прошептав одно слово: «Простите!»
Наконец, он почувствовал, что господин д'Авриньи взял обе его руки в свою, — только рука господина д'Авриньи была холодна как лед.
— Встаньте, Амори, — сказал он ему, — это не ваша вина, это вина природы, что делает из любви для одних — живительное влияние, а для других — убийственный миг. Я предвидел все это, и вот почему я хотел, чтобы вы уехали.
— Отец мой, отец! — воскликнул Амори. — Спасите ее, спасите! Пусть я даже больше ее не увижу.
— Спасти ее! — прошептал господин д'Авриньи. — Вы думаете, меня надо просить, чтобы я ее спас, это не меня надо просить, а Бога.
— У вас нет никакой надежды? Значит, мы приговорены безвозвратно?
— Все, что человеческая наука может сделать в подобном случае, — ответил господин д'Авриньи, — будьте спокойны, я это сделаю, но наука бессильна против болезни, достигшей стадии, в которой Мадлен находится.
И две большие слезы упали с бесчувственных век старика.
Амори ломал руки с выражением такого отчаяния, что господин д'Авриньи пожалел его.
— Послушай, — сказал он молодому человеку, прижимая его к своему сердцу, — у нас одна миссия: сделать так, чтобы смерть была как можно более легкой. Я — своим искусством, ты — своей любовью. Выполним эту миссию преданно; поднимись к себе, и как только ты сможешь увидеть Мадлен, я тебя позову.
Молодой человек был готов к упрекам, рыданиям и оказался смущен этой страдающей добротой, он бы предпочел ей проклятье.
Он поднялся к себе и хотел написать Антуанетте, но не смог выразить свои мысли. Он отбросил перо далеко от себя и уронил голову на стол.
Он оставался неподвижным неизвестно сколько времени; чей-то голос вывел его из забытья, это был голос Жозефа.
— Господин д'Авриньи, — сказал он, — прислал меня предупредить господина Амори, что он может спуститься.
Амори встал, не произнося ни слова, и последовал за старым слугой, у двери он остановился, не осмеливаясь войти.
— Войдите, Амори, — сказала Мадлен, делая усилия, чтобы говорить громче, — входите же.
Бедная больная узнала шаги своего возлюбленного.
Амори был готов броситься в комнату, но он понял, какое волнение могло вызвать подобное появление. Он придал лицу соответствующее выражение, тихо открыл дверь с улыбкой на губах, но с тоской в сердце.
Мадлен протянула обе руки к нему, пытаясь приподняться, но это усилие было слишком велико при ее слабости; она упала, обессиленная, на подушку.
Тогда все его спокойствие испарилось. Видя се такой бледной и немощной, он вскрикнул от горя и бросился к ней.
Господин д'Авриньи встал, но Мадлен протянула ему руку с жестом такой трогательной просьбы, что он упал в кресло и прижался головой к этой руке.
Затем наступило длительное молчание, прерываемое только рыданиями Амори.
Все повторялось так, как пятнадцать дней тому назад: только теперь это был рецидив болезни.
XXVII
Амори — Антуанетте
«Буду я жить или умру?
Вот вопрос, который я задаю себе каждый день, глядя на слабеющую Мадлен, и мечты мои угасают. Клянусь вам, Антуанетта, не из кокетства каждое утро я спрашиваю у ее отца:
— Как наше здоровье?
И когда он отвечает: — «Ей хуже», — я удивляюсь, почему он не говорит: «Вам хуже».
В конце концов, я не могу больше заблуждаться, хотя сначала моя недоверчивость бунтовала против приговора медицины, моя надежда тает. Прежде, чем опадут последние листья, Мадлен уйдет из этого мира.
Антуанетта, клянусь вам, надо будет рыть сразу две могилы.
Видит Бог, я говорю это без горечи и, однако, не могу запретить себе думать, что нет судьбы более жалкой и более печальной, чем моя. Я приблизился к порогу величайшего счастья и упал, прикоснувшись к этому порогу; я видел все радости мира и потерял их; все обещания судьбы исчезли одно за другим. Богатый, молодой, любимый, чего я еще мог желать, кроме жизни, а я умру с последним вздохом моей обожаемой Мадлен.
И когда я думаю, что именно я…
Боже мой, если бы я нашел тогда мужество и отказался от этого свидания! Но она могла подумать, что я не люблю, и любовь ее остыла бы. Если быть совершенно искренним, то осмелюсь сказать, я предпочитаю, чтобы все было так, как случилось. Ведь я уверен, что умру вместе с ней.
Какое благородное сердце у господина д'Авриньи, Антуанетта! После того письма ни одного слова упрека не слетало с его губ. Он продолжает называть меня «сын мой», будто догадывается, что я жених Мадлен не только в этом мире, но и в другом.
Бедная Мадлен! Она не замечает, что часы ее сочтены. Благодаря странной причуде ее болезни, она не замечает опасности, она говорит о будущем, она строит планы, она думает о нашей совместной жизни.
Никогда я не видел ее более прелестной и внимательной ко мне, каждую секунду она ругает меня за то, что я не помогаю ей строить замки, увы, на песке.
Сегодня утром она заставила меня ужасно страдать.
— Друг мой, — сказала она мне, — мы с вами вдвоем, поэтому дайте мне бумагу и чернила, я хочу писать.
— Как, Мадлен! — вскрикнул я. — Вы так слабы!
— Так что ж, Амори. Вы меня поддержите.
Я замер, неподвижный, разбитый, не будучи в состоянии произнести хоть слово. Неужели она поняла, наконец, наше несчастье? Неужели роковое предчувствие предупредило ее, что конец близок? Неужели она хочет написать свою последнюю волю? Может быть, она хочет сделать завещание?
Я принес ей то, что она просила. Но как я и предвидел, она была слишком слаба, хоть я и поддерживал ее, голова у нее кружилась, перо выпало из пальцев, и она упала на подушки.
— Вы правы, Амори, — сказала она через мгновение. — Я не могу писать. Пишите вы, а я буду диктовать.
Я взял перо и, полный тревоги, приготовился писать. Она же начала диктовать план нашей жизни, который она обдумывала час за часом.
А завтра господин д'Авриньи хочет созвать консилиум, так как отец не доверяет себе самому как врачу. Консилиум — это значит, что шесть человек, одетых в черное, шесть судей торжественно придут вынести приговор жизни или смерти. Ужасный суд, который берет на себя смелость угадать Божью волю.
Я попросил, чтобы меня предупредили, как только они придут. Они не будут осматривать Мадлен, так как господин д'Авриньи боится, как бы их появление не вывело бедную больную из ее заблуждения.
Они не будут знать, что речь идет о дочери их собрата. Господин д'Авриньи опасается, что из жалости они скроют от него истину.
Я же собираюсь присутствовать на этом консилиуме, спрятавшись за портьерой. Ни отец, ни врачи не будут знать об этом.
Я вчера спросил у него, с какой целью он решился на этот консилиум.
— Здесь нет цели, — ответил он, — есть только надежда.
— Какова же надежда, — спросил я, цепляясь, как потерпевший кораблекрушение, за эту соломинку, плавающую на поверхности моего отчаяния.
— Может быть, я ошибся или в болезни, или в лечении. Именно поэтому я созвал тех, кто следует принципам, чуждым мне. Видит Бог, пусть они превзойдут меня в познаниях, пусть они меня унизят, пусть они меня раздавят, пусть, наконец, они решат, что я невежественнее сельского цирюльника. И тогда, клянусь вам, Амори, я буду рад моему ничтожеству. Пусть один из них вернет мне дочь, а вам невесту. Я не собираюсь походить на тех пациентов, которые обещают вам половину своего состояния, а, излечившись, посылают с лакеем двадцать пять луидоров. Нет, спасителю моей дочери я скажу: «Вы — бог медицины, вы всемогущий исцелитель. Вам принадлежат эти пациенты, эти почести, эти титулы, эти награды, эта слава. Я украл все это у вас, только вы заслуживаете всего этого».
— Но, увы, — добавил он после горестного молчания, качая головой, — боюсь, что я не ошибся.
Мадлен просыпается, я иду к ней. До завтра.
Сегодня утром в 10 часов Жозеф зашел предупредить, что доктора собрались в кабинете господина д'Авриньи. Я тотчас прошел в библиотеку, и там, спрятавшись за стеклянной дверью, я убедился, что могу все слышать и видеть. Они собрались там, знаменитости медицинского факультета, князья науки, носители шести имен, равных которым нет в Европе; однако, когда вошел господин д'Авриньи, они склонились перед ним, как придворные перед королем.
На первый взгляд, он казался совершенно спокойным, но я заметил по стиснутым зубам и изменившемуся голосу его скрытое волнение.
Господин д'Авриньи заговорил; он изложил им причину, по которой он их созвал, рассказал им о смерти матери Мадлен, о болезненности девочки в детстве, о тех предосторожностях, какие он принимал при ее взрослении, о своих опасениях, когда приблизился возраст страстей, о любви Мадлен ко мне. Он рассказал все это, ни разу не упомянув ее или мое имя.
Он рассказал о колебаниях отца, у которого просят руку его дочери, о вспышках болезни, чьей жертвой она едва не стала, и я с ужасом почувствовал, что приближается роковая минута, и он начнет обвинять меня. Наконец, он рассказал о последней катастрофе, угрожающей жизни больной, за которую он борется со дня ее рождения.
О, признаюсь, я вынужден опереться о стену. Но он меня не обвинял, он просто изложил факты.
Затем, после истории больной, он перешел к истории болезни, прослеживая ее во всех фазах, анализируя во всех проявлениях, показывая им развитие смерти в груди Мадлен, делая, если можно так сказать, вскрытие своей живой дочери, и все это с такой силой, с такой четкостью, что даже я, абсолютно чуждый этой науке, смог увидеть, как прогрессировало разрушение.
Боже мой! Несчастный отец! Он увидел, угадал все это и смог это перенести.
Каждое слово выслушивалось с необычайным вниманием, описания каждой фазы болезни встречалось бесконечными похвалами его наблюдательности.
Когда он посвятил их в ужасное состояние отца, знающего о болезни своего ребенка, когда он рассказал им о страданиях, убивающих нас троих, они назвали его своим учителем и своим королем.
Как это очевидно! Какая глубина анализа! От него ничто не ускользнуло! Это чудо исследования! Он увидел все так же отчетливо, как увидел бы Бог.
А он тем временем вытирал пот со лба, ибо последняя надежда уходила: было ясно, что он не ошибся.
Но, если он не заблуждается в появлении, течении и развитии болезни, может быть, он ошибся в избранном пути лечения?
Он заговорил о средствах, примененных в борьбе с недугом. Он перечислил способы лечения, заимствованные в познаниях других и найденные им самим. Он назвал лекарства, какие использовал для борьбы с постоянно возрождающейся чахоткой. Что еще можно было сделать?
Он думал об одном лекарстве, но оно оказалось слишком сильным; он подумал о другом, но оно оказалось слишком слабым. Он обращался к своим собратьям, так как он приблизился к границе человеческого знания.
На мгновение ученые мужи замолчали, и я увидел проблеск надежды на лице господина д'Авриньи.
Вне всякого сомнения, он ошибся. Разумеется, он не знал надежного средства, и сейчас его ученые собратья, прослушав его детальный анализ, смогут предложить простое, эффективное лекарство для спасения его дочери. Вот почему они молчали и сосредоточенно размышляли.
Но, увы, это было молчание, вызванное восхищением и удивлением, и вскоре похвалы возобновились, еще более цветистые и ужасные в своей безнадежности.
Господин д'Авриньи — звезда французской медицинской науки.
Все, что можно было сделать, он сделал. Ни одной ошибки, ни одного неверного шага. Они восхищены той длительной борьбой, которую человек вел с природой; увы, границы научного знания небеспредельны, больше ничего нельзя сделать, все средства исчерпаны. Если бы субъект болезни не был поражен изначально смертельным недугом, он бы излечил больного. Но какое бы чудо он ни совершил, ясно, что через две недели субъект умрет.
Я увидел, как при этих словах господин д'Авриньи побледнел, ноги у него подкосились, и он, рыдая, упал в кресло.
— Но, сударь, — спросили у него доктора, — почему вы так заинтересованы в этом субъекте?
— Ах, господа! — воскликнул бедный отец дрожащим голосом. — Это моя дочь!
Больше я не мог сдерживаться. Я вбежал в кабинет и бросился в объятия господина д'Авриньи.
Тогда эти ученые мужи поняли и молча удалились, кроме одного, который подошел к господину д'Авриньи. Это был один из тех врачей, к которым господин д'Авриньи относился неодобрительно и даже считал их своими врагами.
— Сударь, — сказал он ему, — моя мать умирает, как и ваша дочь. Как вы сделали все, чтобы вылечить дочь, так и я старался найти средство для излечения матери. Еще сегодня утром, направляясь сюда, я был убежден, что больше ничего найти нельзя. Теперь надежда вернулась ко мне: я доверяю вам свою мать, сударь, вы ее спасете.
Господин д'Авриньи вздохнул и протянул ему руку.
Затем мы вошли в комнату Мадлен, которая с улыбкой приняла нас, не подозревая, что для нас она была уже мертва».
XXVIII
Амори — Антуанетте
«Предпоследнюю ночь у постели Мадлен дежурил господин д'Авриньи. Но и я, лежа в своей комнате, не сомкнул глаз.
За последние пять недель, кажется, я спал не более двух суток. Вскоре, к счастью, мне предстоит долгий-долгий отдых…
Уверяю вас, тот, кто видел меня два месяца назад подвижным, веселым, полным надежды, не узнал бы сейчас мое бледное лицо и покрытый морщинами лоб. Я сам чувствую себя разбитым и постаревшим, за сорок дней я прожил сорок лет.
Сегодня утром, так и не сумев заснуть, в семь часов я спустился вниз и встретил господина д'Авриньи, выходившего из комнаты дочери. Он едва заметил меня. Казалось, только одна мысль владела им. За шесть недель он не написал ни строчки в дневнике, где он освещал события своей жизни.
Дело в том, что эти дни полны горечи, но событий не было. На следующий день после возобновления болезни он написал:
«Она снова больна».
И все. Увы, я знаю заранее, что он напишет после этих слов.
Я остановил его и спросил, как дела.
— Ей не стало лучше, но она спит, — рассеянно сказал он, не глядя на меня, — миссис Браун около нее. Я сейчас приготовлю ей лекарство.
На следующий день после бала господин д'Авриньи превратил одну из комнат особняка в аптеку, и все, что Мадлен принимает, приготовлено его руками.
Я направился к комнате больной. Он остановил меня, избегая моего взгляда:
— Не входите. Вы ее разбудите!
Не обращая на меня внимания, он пошел дальше с застывшим взглядом, опущенной головой, одолеваемый единственной мыслью.
Не зная, что делать до пробуждения Мадлен, я отправился в конюшню, оседлал Стурма, вскочил в седло и пришпорил коня. Вот уже месяц я не выходил из особняка, и мне хотелось свежего воздуха.
Приехав в Булонский лес и пересекая Мадридскую аллею, я вспомнил прогулку, совершенную три месяца назад совсем в других условиях. В тот день я был на пороге счастья, сегодня — на пороге отчаяния.
Сентябрь едва начинается, а листья уже падают. Лето было очень жаркое, без обычных теплых дождей и легкого ветра. Осень наступит в этом году очень рано. Она придет и убьет цветы Мадлен.
Хотя только пробило 10 часов утра и было холодно и пасмурно, на аллеях было довольно много гуляющих. Перескакивая через изгороди и рвы, конь домчал меня до ворот Марли. К 11 часам я вернулся, разбитый усталостью и полный отчаяния. Но я почувствовал, что усталость тела уменьшает страдания души.
Мадлен только что проснулась.
Бедное дитя! Она совсем не страдает! Она тихо умирает и не замечает этого.
Она упрекнула меня за долгое отсутствие: она беспокоилась обо мне. Только о вас, Антуанетта, она никогда не говорит. Понимаете ли вы это молчание?
Я подошел к ней и извинился. Я думал, что она спит.
Не дав мне закончить, в знак прощения она протянула мне для поцелуя свою маленькую пылающую руку. Потом она попросила почитать немного из «Поля и Виргинии».
Я открыл страницу на сцене прощания героев и с трудом сдержал слезы.
Время от времени входил господин д'Авриньи, но тотчас выходил с озабоченным видом. Мадлен мягко упрекнула его за эту занятость, но он едва ее выслушал и ничего не ответил.
Мне кажется, углубившись в изучение болезни, он перестал видеть дочь.
Он вернулся около шести часов вечера, принес успокаивающую микстуру и предписал полный покой».
XXIX
«Сегодня вечером дежурил я.
Господин д'Авриньи, миссис Браун и я по очереди дежурили всю ночь. Кроме того, помогает сиделка. Хотя я был истерзан усталостью и горем, я настоял на своем праве, и господин д'Авриньи удалился без возражений.
Мадлен уснула так спокойно, словно время ее не было отмерено судьбой. Мне же не давали уснуть мои печальные мысли.
Однако к полуночи взгляд мой затуманился, голова отяжелела, и после короткой борьбы со сном, я уронил ее на край постели Мадлен. И словно для того, чтобы вознаградить меня за эти горестные бдения, начался прекрасный и счастливый сон.
Была спокойная, звездная июньская ночь. Мы с Мадлен гуляли по незнакомой местности, которую я, тем не менее, узнавал. Мы шли берегом моря, беседуя и восхищаясь игрой лунного света на серебристых волнах. Я называл ее женой, а она отвечала мне «Амори» таким нежным голосом, какого нет и у ангелов небесных.
Вдруг сон мой прервался на середине, и я увидел темную комнату, белую постель, слабый ночник; рядом сидел господин д'Авриньи, суровый и невозмутимый, грустным взглядом созерцая свою спящую дочь.
— Видите, Амори, вы напрасно настаивали на дежурстве, — сказал он холодно. — Я хорошо знаю, что в двадцать три года сон нужен больше, чем в шестьдесят. Идите отдыхать, мой друг. Я подежурю.
В его словах не было ни язвительности, ни насмешки, скорее наоборот, отеческое сочувствие к моей слабости. И все-таки, не знаю почему, я почувствовал в сердце глухое раздражение и неожиданную ревность.
Он мне кажется сверхъестественным существом, он не Бог, но и не человек, он не подвластен никакому человеческому волнению, он не нуждается в еде и во сне. В этом месяце он ни разу не ночевал в своей спальне. Он постоянно начеку, он сидит у постели, задумчивый, печальный, ищущий.
Этот человек словно сделан из железа!
Я не захотел подниматься к себе, я спустился в сад и сел на скамью, где мы когда-то сидели с Мадлен.
Мельчайшие события той ночи возникли в моей памяти.
На фасаде дома тускло светилось единственное окно: окно комнаты Мадлен.
Я смотрел на этот дрожащий слабый свет, сравнивал с ним ту жизнь, которая еще теплится в теле моей любимой, как вдруг и этот свет угас. Я содрогнулся, оставшись в полной темноте.
Не было ли это отражением моей собственной судьбы?
Уходит единственный луч света, освещавший сумерки моей жизни.
Заливаясь слезами, я вернулся в свою комнату».
Амори — Антуанетте
«Я ошибался, Антуанетта. Господин д'Авриньи, как и все, имеет минуты усталости и отчаяния. Сегодня утром я вошел в его кабинет и увидел, что он сидит за столом, положив голову на руки.
Я подумал, что он спит, и подошел к нему, чувствуя смущение от того, что обнаружил в этом человеке нечто человеческое; но нет, услышав шаги, он поднял голову, и я увидел слезы, текущие по его лицу.
Я почувствовал, что у меня сжалось сердце. Впервые я видел его слезы. Пока он казался спокойным, я верил, что есть надежда.
— Значит, всякая надежда спасти ее исчезла! — воскликнул я. — И вы больше не знаете ни одного средства, не можете придумать ни одного лекарства?!
— Ни единого, — ответил он. — Вчера я составил новое лекарство, но оно столь же бесполезно, как и прежние. Ах, что такое наука? — продолжал он, вставая и широко шагая по кабинету. — Это тень, это слово. Если бы речь шла о том, чтобы продлить жизнь старика, оживить кровь, обедненную возрастом, если бы речь шла, например, обо мне, тогда можно было бы постичь беспомощность человека в борьбе с природой, в борьбе против небытия. Нет, надо спасти дитя, рожденное вчера, надо спасти жизнь совсем молодую, совсем юную, которая просит только одного — позволить ей продолжать свое существование. Ее нужно вырвать у болезни, а я не могу, я не в состоянии!
И бедный отец в отчаянии ломал себе руки, а я смотрел на него неподвижно и безмолвно, столь же беспомощный в своем невежестве, как он — в своем знании.
— Я думаю, — продолжал он, словно обращаясь к самому себе, — если бы все, кто занимается искусством врачевания, выполняли свой долг и работали так же, как я, наука продвинулась бы дальше. Трусы! В ее нынешнем состоянии для чего он нужна? Неужели только для того, чтобы сообщить мне, что через неделю моя дочь умрет?
Я глухо вскрикнул.
— Нет! — воскликнул он с чувством, похожим на бешенство. — Нет, я спасу ее, я найду эликсир, чудо-средство, секрет бессмертия, наконец, даже если потребуется приготовить его из собственной крови. Я найду это средство, и она не умрет, она не может умереть!
Я подошел к нему и заключил его в свои объятия. Мне показалось, что он сейчас упадет.
— Послушай, Амори, — сказал он. — Две мысли постоянно преследуют меня, и я боюсь, что сойду с ума. Первая: если бы мы могли сейчас же, без толчков, без утомления перевезти Мадлен в более мягкий климат, в Ниццу, Мадеру или Пальму, она осталась бы жива.
Почему же Бог дал отцам великую любовь и не дал им власть, равную этой любви, власть диктовать времени, преодолевать пространство, волновать землю. Боже, несправедливо и кощунственно, что им не дана такая сила.
Другая мысль преследует меня: может быть, через день после смерти моей дочери кто-нибудь найдет, или я сам открою лекарство от болезни, которая ее убила. И если я найду его, знаешь, Амори, я никому об этом не скажу: какое мне дело до дочерей других! Их отцы не должны были позволить умереть моей.
В этот момент вошла миссис Браун и сообщила господину д'Авриньи, что Мадлен проснулась.
И я увидел, Антуанетта, удивительную вещь: власть этого человека над самим собой. Усилием воли искаженные черты его лица приобрели обычное спокойствие. Только с каждым днем это спокойствие становилось все более угрюмым.
Он спустился вниз, попросив меня остаться. Я не обладаю таким стоицизмом, и мне требуется гораздо больше времени, чтобы успокоиться. Поэтому я провел в кабинете около получаса, чтобы придать моему лицу безмятежное выражение.
В это время я и пишу вам, дорогая Антуанетта».
Амори — Антуанетте
«Какого ангела теряет земля!
Сегодня утром я долго смотрел на Мадлен, я любовался ее длинными белокурыми волосами, разметавшимися по подушке, белизной ее кожи, ее большими грустными глазами. Она была прекрасна той неземной красотой, какую придают последние мгновения жизни, и я говорил себе:
— Этот голос, этот взгляд, эта глубокая любовь, скрытая в ее улыбке, разве это не душа? Что, если не душа? Разве может умереть душа?
И все-таки она умирает!
И эта уходящая прелесть не будет моей, как не была ей никогда! И в день последнего суда ангел, который призовет Мадлен, чтобы она стала таким же ангелом, не назовет ее моим именем.
Бедное дитя, она уже понимает, что солнце ее дней гаснет, печальные предчувствия посещают ее. Сегодня утром, остановившись у дверей ее комнаты, как я обычно это делаю, чтобы собраться с силами, я услышал, как она говорит господину д'Авриньи своим нежным голосом:
— Я чувствую себя очень плохо! Но ты меня спасешь, отец, не правда ли? Ты ведь знаешь, если я умру, он тоже умрет, — добавила она тихо.
Да, дорогая Мадлен, если ты умрешь, я тоже умру.
Я вошел и опустился на колени около ее кровати. Она сделала отцу, собравшемуся отвечать, знак молчать. Моя бедная Мадлен, она думает, что я не подозреваю о се состоянии, и хочет скрыть от меня свои предчувствия.
Она протянула мне руку и, когда я встал, попросила пройти в малый салон и сыграть еще раз ее любимый вальс Вебера.
Я заколебался. Господин д'Авриньи знаком посоветовал мне подчиниться.
Увы, в этот раз бедная Мадлен не встала и не подошла ко мне. Магическое влияние этой мощной мелодии не помогло ей.
Она с трудом поднялась на постели и, когда умолкла последняя нота, затих последний звук, упала на подушки, закрыв глаза и тяжело вздохнув.
Затем у нее появились более серьезные мысли, и она сказала, что была бы счастлива видеть кюре из Виль-Давре, который принимал ее первое причастие. Господин д'Авриньи ушел писать письмо, а я остался наедине с ней.
Все это так печально, что хочется умереть.
Но можете ли вы понять, Антуанетта, почему она никогда не говорит о вас, она не спрашивает о вас, и почему господин д'Авриньи никогда не напоминает ей о вас?
Если бы не ваш категорический запрет произносить при ней ваше имя, я бы уже давно знал причину этого молчания».
Господин д'Авриньи — кюре деревни Виль-Давре
«Господин кюре.
Моя дочь умирает и прежде, чем она предстанет перед Богом, хочет видеть своего духовного отца.
Приезжайте как можно скорее, господин кюре: я вас знаю достаточно, чтобы ничего больше не говорить. Я знаю, что, если кто-то страдает и в своем страдании призывает вас, ему достаточно сказать: «Придите!».
Я хочу попросить вас еще об одной услуге. Не удивляйтесь, прошу вас, господин кюре, и забудьте, что эта просьба высказана человеком, которого называют, совершенно несправедливо, величайшим врачом нашего времени.
Вот о чем я прошу.
В Виль-Давре живет бедный пастух по имени Андре, у которого, говорят, есть чудесные рецепты. По рассказам крестьян, простым сочетанием каких-то растений он вернул к жизни людей, которых доктора считали безнадежными.
Я слышал об этом, я не ошибся, не так ли? Я слышал об этом в то время, когда был счастлив и, следовательно, недоверчив. Но я слышал обо всех этих чудесах, поэтому привезите этого человека, умоляю вас, господин кюре.
Леопольд д'Авриньи».
XXX
Господин д'Авриньи отправил письмо с конным лакеем, и в тот же день кюре и пастух приехали.
Пастух был грубый, совершенно невежественный крестьянин, и, если у господина д'Авриньи теплилась какая-то надежда, с первого взгляда он понял, что она была напрасной.
Тем не менее он проводил его к дочери под тем предлогом, что этот человек принес известие о завтрашнем приезде кюре.
Мадлен, ребенком не раз видевшая пастуха в их доме в Виль-Давре, радостно поздоровалась с ним.
Выйдя из комнаты Мадлен, господин д'Авриньи спросил у старика, что он думает о состоянии девушки.
Тот сказал, что она, конечно, очень плоха, но с помощью тех трав, которые он привез с собой, ему приходилось возвращать с того света и не таких больных.
И он достал из мешка целебные травы, сила которых, по его словам, удвоилась по сравнению с годом, когда они были собраны.
Господин д'Авриньи лишь взглянул на эти травы и понял, что смесь этих трав произведет тот же эффект, что и обычная микстура; но этот отвар не мог повредить, и он не стал мешать пастуху готовить питье и, потеряв последнюю надежду, поднялся в комнату кюре.
— Господин кюре, — сказал он, — своим лекарством Андре смешит меня, но оно не опасно, и я позволил ему его сделать. Оно не ускорит и не отдалит час смерти Мадлен, которая наступит в ночь с четверга на пятницу или, самое позднее, в пятницу утром.
— Я знаю много, — добавил он с горькой улыбкой, — я достаточно известный врач и знаю, что не ошибаюсь в моих предсказаниях. Как видите, господин кюре, у меня больше нет никакой надежды на этом свете.
— Надейтесь на Бога, господин д'Авриньи, — ответил священник.
— Именно об этом я и хотел поговорить с вами, отец мой, — ответил господин д'Авриньи после некоторого колебания. — Да, я всегда надеялся, я всегда верил в Бога, особенно, когда Бог дал мне дочь; однако, должен признаться, господин кюре, сомнения часто посещают мой ум. Да, анализ всегда ведет к неверию; когда видишь только материю, начинаешь сомневаться в душе. Тот, кто сомневается в душе, близок к отрицанию Бога. Кто отрицает тень, отрицает солнце. Я же иногда в человеческой гордыне осмеливался подвергнуть сомнению само существование Господа! Не смущайтесь, отец мой! Ныне я раскаиваюсь в своем бунтарстве, я нахожу его неверным, неблагодарным, отвратительным. Я верую…
— Верьте, и вы будете спасены, — сказал кюре.
— Именно к этим словам Евангелия я взываю, — воскликнул господин д'Авриньи. — Сегодня я верю не как гордец, я верю буквально, как простой смертный. Я верю, что Бог добр, велик, милосерден, всегда вечен и всегда сущ даже в бесконечно малых событиях жизни.
Я верю, что Евангелие нашего Спасителя включает в себя не только символы, но и факты. Я верю, что история о Лазаре[68] не сказка, а событие; там говорится не о возрождении обществ, но просто-напросто о воскрешении отдельного человека.
Я верю, наконец, во власть, переданную Богом своим апостолам, и, конечно, в чудеса, происшедшие после дивного вмешательства святых.
— Если это истинно, вы счастливы, сын мой, — ответствовал священник.
— Да! — воскликнул господин д'Авриньи, падая на колени. — Да! С этой святой верой я могу припасть к вашим ногам и сказать: «Отец мой, никто более вас недостоин нимба святости; вся ваша жизнь — это молитва и благотворительность, все ваши деяния чисты и благословенны Богом; вы — святой, сделайте же чудо: верните здоровье моей дочери, верните жизнь моему ребенку… Итак, что же вы сделаете?»
— Увы, — ответил священник. — Увы! Мне жаль вас, и я плачу от того, что не являюсь тем безупречным человеком, каким вы меня считаете, я не тот, кто может свершить подобное чудо, и я могу только молиться тому, кто держит наши судьбы в своих руках.
— Так, значит, все бесполезно! — воскликнул господин д'Авриньи, поднимаясь с колен. — Бог даст умереть моей дочери, ведь он же дал умереть своему сыну!
И господин д'Авриньи вышел из кабинета. Почтенный священник, напуганный его богохульством, последовал за ним.
Как и предвидел господин д'Авриньи, лекарство старого Андре не дало никакого эффекта.
Ночь была неспокойной, однако Мадлен поспала, хотя и тревожным сном; но в ее снах уже чувствовалось приближение агонии.
На рассвете она проснулась, громко вскрикнув; господин д'Авриньи, как всегда, был рядом с ней.
Она протянула к нему руку и воскликнула:
— Отец, отец! Значит, ты меня не спасешь?
Господин д'Авриньи заключил ее в свои объятия и ничего не ответил, слезы текли по его лицу.
Усилием воли Мадлен успокоилась и спросила, приехал ли священник.
— Да, дочь моя, — ответил господин д'Авриньи.
— Тогда я хочу его видеть, — сказала Мадлен.
Господин д'Авриньи послал за кюре, и тот сразу же спустился.
— Господин кюре, — сказала ему Мадлен, — я послала за вами, ибо вы — мой духовный наставник: я хочу исповедаться. Можете ли вы выслушать меня?
Священник утвердительно кивнул.
Мадлен повернулась к господину д'Авриньи:
— Отец, оставьте меня наедине с моим духовным отцом, который отец для всех.
Господин д'Авриньи поцеловал дочь в лоб и вышел.
В дверях он встретил Амори, взял его за руку и, ни слова не говоря, увел его в молельню Мадлен. Там он встал на колени перед распятием, увлекая за собой Амори, и произнес единственное слово:
— Помолимся!
— Боже милосердный! — воскликнул Амори. — Она умерла, умерла без меня!
— Нет, нет, успокойтесь, Амори, — ответил господин д'Авриньи, — у нас есть еще сутки. Обещаю вам, когда она будет умирать, я позову вас.
Амори зарыдал и уронил голову на молитвенник.
Они молились уже четверть часа, когда дверь открылась, и кто-то вошел.
Амори обернулся: это был старый кюре.
— Ну что? — спросил Амори.
— Это настоящий ангел, — сказал кюре.
Господин д'Авриньи поднял голову.
— На какой час вы назначили последнее причастие? — спросил он.
— Вечером в пять часов. Мадлен хочет, чтобы Антуанетта присутствовала на этой последней церемонии.
— Значит, — прошептал господин д'Авриньи, — она знает, что скоро умрет.
Господин д'Авриньи тотчас приказал, чтобы поскакали за Антуанеттой в Виль-Давре, и вернулся к Мадлен с Амори и кюре.
Когда Антуанетта приехала к четырем часам вечера, комната представляла собой грустное зрелище.
С одной стороны постели, держа руку умирающей, сидел господин д'Авриньи, мрачный, отчаявшийся, почти свирепый. С остановившимся взглядом он продолжал искать, как ищет игрок свой последний луидор, последнее средство спасения.
Амори, сидя с другой стороны, пытался улыбаться Мадлен, но был способен только плакать.
Священник с благородным и торжественным лицом стоял у спинки кровати, устремляя глаза то на умирающую, то на небо, которое примет ее.
Антуанетта приподняла портьеру и какое-то время оставалась незамеченной.
— Не пытайтесь скрыть от меня слезы, Амори, — тихо сказала Мадлен, — если бы я не видела их в ваших глазах, мне было бы стыдно за свои слезы. Не наша вина в том, что мы плачем. Мы плачем, потому что печально расставаться в нашем возрасте. Жизнь мне казалась такой удивительной, а мир таким прекрасным.
И самое ужасное, Амори, я не смогу видеть тебя, касаться твоей руки, благодарить тебя за нежность, засыпать и видеть тебя в моих снах. Вот что самое ужасное! Позволь мне смотреть на тебя, друг мой, чтобы я могла вспоминать тебя, когда окажусь одна в ночи моей могилы.
— Дитя мое, — сказал кюре, — взамен того, что вы оставляете здесь, у вас будет небо.
— Увы, у меня была его любовь, — прошептала Мадлен.
— Амори, — заговорила она громче, — кто полюбит тебя так, как я? Кто поймет тебя? Кто подчинит тебе свои поступки, чувства, мысли, как это делала я? Кто сумеет влить свое самолюбие в твою любовь так, как доверчивая и нежная Мадлен? Ах, если бы я знала ее, Амори, клянусь тебе, я оставила бы тебя ей, потому что я уже не ревную… Мой бедный возлюбленный, мне жаль тебя и мне жаль себя. Тебе мир покажется таким же пустынным, как мне моя могила.
Амори рыдал, Антуанетта чувствовала, как крупные слезы катятся по ее щекам. Священник молился, чтобы не плакать.
— Ты слишком много говоришь, — мягко сказал господин д'Авриньи, единственно из любви к дочери сохранивший власть над собой.
При этих словах умирающая девушка повернулась к отцу движением, полным грации и живости.
— Что сказать тебе, отец? — заговорила она. — Ты уже два месяца совершаешь ради меня удивительные подвиги; ты готовишь меня к принятию Божьей милости. Твоя любовь так велика и великодушна, что ты уже не ревнуешь, а что может быть выше этого? В конце концов, к кому теперь ты можешь ревновать? Только к Богу. Твоя любовь благородна и бескорыстна, я восхищаюсь ей… — И добавила она после раздумья: — Я завидую ей.
— Дитя мое, — сказал священник, — здесь ваша подруга, ваша сестра Антуанетта, которую вы звали.
XXXI
Антуанетта вскрикнула и, заливаясь слезами, приблизилась к Мадлен — первым желанием той было оттолкнуть ее. Затем, сделав над собой усилие, Мадлен протянула руки кузине, бросившейся к ее постели.
Девушки на несколько мгновений замерли в объятиях друг друга, затем Антуанетта отошла и заняла место ушедшего кюре.
Несмотря на беспокойство, терзавшее ее уже два месяца, несмотря на душевную боль, овладевшую ею в этот момент, Антуанетта была так красива и так свежа, так полна жизнью, она настолько принадлежала долгому и светлому будущему и имела право на любовь любого свободного, молодого и пылкого сердца, что без труда можно было прочесть ревность во взгляде Мадлен, какой она бросила сначала на эту пышущую здоровьем красавицу, а затем на своего отчаявшегося возлюбленного, которого она оставляла с ней.
Господин д'Авриньи склонился к ней.
— Ты сама просила ее приехать, — сказал он.
— Да, отец мой, — прошептала Мадлен, — и я счастлива ее видеть.
И с выражением ангельской покорности умирающая улыбнулась Антуанетте.
Что касается Амори, он увидел во взгляде Мадлен то чувство естественной зависти, которое испытывает слабое умирающее существо к человеку, сильному и полному жизни.
Сам же он, переводя взгляд с бледной и хрупкой Мадлен на живую и хорошенькую Антуанетту, испытал чувство, похожее на чувство Мадлен. Он почувствовал ненависть и гнев против этой дерзкой красоты, составляющей такой резкий контраст с печальной смертью. Ему показалось, что если бы он не решил умереть вместе с Мадлен, то он навсегда возненавидел бы Антуанетту с такой же силой, с какой он любил Мадлен.
Он хотел успокоить бедняжку, произнеся клятву верности ей на ухо, но в этот момент послышался звук колокольчика, и он вздрогнул.
Это был кюре Виль-Давре с ризничим из церкви Сен-Филипп-дю-Руль и двумя мальчиками из хора. Они пришли принять последнее причастие.
При звуке этого колокольчика все замолчали и опустились на колени. Только Мадлен приподнялась, как бы идя навстречу Богу, который приближался к ней.
Сначала вошел ризничий с распятием и мальчики со свечами, затем кюре со священным сосудом.
— Отец мой, — сказала Мадлен, — даже на пороге вечности наша душа может быть осаждаема неверными мыслями. Боюсь, что после моей утренней исповеди я уже согрешила. Перед причастием подойдите ко мне еще раз, чтобы я могла поделиться моими сомнениями.
Господин д'Авриньи и Амори тотчас отошли, и кюре подошел к Мадлен.
Тогда невинная девушка, глядя на Амори и Антуанетту, произнесла несколько слов, на которые кюре ответил только жестом благословения.
Затем началась церемония.
Надо самому стоять на коленях в такой момент у постели обожаемого существа, чтобы понять, насколько каждое слово, произнесенное кюре и повторяемое его спутниками, проникает до самых глубин души. При каждом ударе сердца Амори надеялся, что оно разорвется. Заломив руки, откинув голову назад, с лицом, залитым слезами, он походил на статую отчаяния.
Господин д'Авриньи, неподвижный, безмолвный, с сухими глазами, терзал платок зубами, пытаясь вспомнить давно забытые молитвы своего детства.
Антуанетта, единственная — слабая, как все женщины, — не могла сдержать рыданий.
Церемония продолжалась.
Наконец кюре приблизился к Мадлен. Она приподнялась, сложив руки на груди, подняв глаза к небу, и почувствовала у своих сухих губ просфору[69], которую впервые она получила только шесть лет назад.
Затем, ослабленная этим усилием, она упала на подушки и прошептала:
— Господи, сделай так, чтобы он не узнал, что, отсылая Антуанетту, я пожелала, чтобы он умер вместе со мной.
Кюре вышел, сопровождаемый своими людьми.
После нескольких минут тягостного молчания Мадлен опустила сомкнутые руки и бессильно уронила их на постель. Амори и господин д'Авриньи тотчас овладели ее руками.
Для Антуанетты не оставалось ничего. Она продолжала молиться.
Началось мрачное и молчаливое ночное бдение. Однако Мадлен хотела поговорить последний раз с двумя людьми, дорогими ее сердцу, она хотела попрощаться с ними, но она слабела так быстро, и несколько слов, произнесенных ею, стоили ей таких усилий, что господин д'Авриньи, склонив к ней поседевшую голову, стал умолять ее не разговаривать. Он хорошо видел, что все кончено, и единственное, что он теперь желал в этом мире — отодвинуть, насколько возможно, час вечной разлуки.
Сначала он просил у Бога жизнь Мадлен, затем годы, затем месяцы, наконец — дни; теперь он просил Господа даровать ему лишь несколько часов.
— Мне холодно, — прошептала Мадлен.
Антуанетта легла на ноги своей кузины и через покрывало старалась согреть их своим дыханием.
Мадлен что-то шептала, но говорить уже не могла.
Невозможно описать отчаяние и горе, сжимающие эти три сердца. Только те, кто дежурил у постели дочери или матери в подобную ужасную и печальную ночь, могут нас понять.
Пусть же те, кого судьба избавила от таких страданий, благословляют Бога за то, что он не дал им такого понимания.
Взгляды Амори и Антуанетты постоянно останавливались на лице господина д'Авриньи. Ни он, ни она не могли поверить в конец — так велика в нас надежда. Они искали проблеск надежды, в которую они сами уже не верили.
Господин д'Авриньи стоял, скорбно склонив голову, и ни малейшей надежды не пробивалось сквозь эту неподвижную маску горя.
К четырем часам утра Мадлен уснула.
Увидев, что она закрыла глаза, Амори порывисто встал, но господин д'Авриньи остановил его жестом.
— Она спит, — сказал он, — успокойтесь, Амори, ей остается по меньшей мере еще час жизни.
Прекрасная, хрупкая и нежная, она дремала, а ночь постепенно переходила в рассвет, и звезды, казалось, таяли и исчезали одна за другой в утреннем небе.
Господин д'Авриньи держал в одной руке ладонь Мадлен, другой пытался найти пульс, который то исчезал, то вновь появлялся.
В пять часов на ближайшей церкви зазвонил колокол, призывая верующих к утренней мессе, а души — к Богу.
Какая-то птичка села на окно, прощебетала что-то и улетела.
Мадлен открыла глаза, попыталась приподняться, дважды проговорила: «Воздуха! Воздуха!» — упала на подушки и глубоко вздохнула.
Это был ее последний вздох.
Господин д'Авриньи встал и сказал глухим голосом:
— Прощай, Мадлен!
Амори громко вскрикнул.
Антуанетта зарыдала.
Мадлен больше не было. Она ушла со звездами. Она тихо ушла из сна в смерть, вздох был ее единственным усилием.
Несколько минут отец, возлюбленный и сестра молча созерцали дорогое им существо.
Затем Амори протянул руку, чтобы закрыть ее прекрасные глаза, которые отныне будут видеть только небеса.
Но господин д'Авриньи остановил его руку.
— Я ее отец, сударь, — сказал он. И он оказал умершей эту последнюю услугу.
После мгновения немого и горестного созерцания он накрыл простыней, ставшей саваном, это прекрасное, уже остывающее лицо.
И все трое, опустившись на колени, стали молиться здесь, на земле, о той, которая молилась за них там, на небесах.
XXXII
Амори, вернувшись в свою комнату, находил повсюду: в мебели, в картинах, даже в воздухе — такие печальные воспоминания и такие горькие мысли, что он не смог там оставаться. Он пошел пешком, без цели, без желания, единственно, чтобы покинуть это место горя.
Была половина седьмого утра.
Он шел, опустив голову, и в сумеречном сознании своей одинокой души он видел только одно: тело Мадлен, накрытое саваном; он слышал мрачное эхо непрерывно повторявшее:
— Умереть! Умереть!
Он оказался, сам не зная почему, на Итальянском бульваре. На его пути неожиданно возникло препятствие.
Подняв голову, он увидел троих молодых людей, преградивших ему путь.
Это были его друзья, жизнерадостные спутники его прежней юношеской жизни. Элегантные и непринужденные, с зажженными сигарами, они находились в том состоянии опьянения, которое еще позволяет узнать друга и в сердечном порыве подойти пожать ему руку.
— Ба! Да это Амори, — воскликнул первый тем громким голосом, который свидетельствует о глубочайшем презрении ко всему, что происходит вокруг. — Куда ты направляешься, Амори, и откуда идешь? Уже два месяца тебя нигде не видно.
— Прежде всего, господа, — сказал второй, прерывая речь первого, — прежде всего мы должны оправдаться перед Амори, а он порядочный молодой человек, в том преступлении, что мы бродим по городу в этот неурочный час — в семь часов утра.
— Ты ведь подумал, мой дорогой, что мы уже встали, нет, мы еще не ложились, понимаешь? А вот теперь мы идем спать. Мы трое… а трое и трое, это уже шестеро… мы провели ночь у Альбера, мы весело пировали, и вот мы благоразумно возвращаемся пешком, чтобы освежиться, к нашим домашним очагам.
— Что подтверждает, — заговорил третий, немного более пьяный, чем другие, — глубину и истинность политического афоризма господина Талейрана:
«Когда все всегда счастливы…»
Амори растерянно смотрел на них и слушал, ничего не понимая.
— А теперь, Амори, — сказал первый, — твоя очередь объяснить столь ранний выход и исчезновение на два месяца.
— О, но я знаю, господа, — воскликнул второй, — я припоминаю, а это свидетельствует (о чем я вам толкую целый час), что хотя я один выпил в два раза больше, чем вы оба, я трезвее вас, и я припоминаю, что Амори болен от страсти к дочери доктора д'Авриньи.
— Да, кстати, если у меня хорошая память и если его будущий тесть не обманул нас, то именно сегодня, одиннадцатого сентября, Амори должен был взять в жены прекрасную Мадлен.
— Да, но ты забываешь, — сказал второй, — что как раз сегодня она упала без сознания на руки нашего друга.
— Вот как! Надеюсь, что…
— Нет, господа, — ответил Амори.
— Она выздоровела?
— Она умерла.
— Когда же?
— Час назад.
— Боже! — воскликнули все трое, на мгновение застыв.
— Час назад, — заговорил Альбер, — бедный друг, а я собирался пригласить тебя позавтракать с нами сегодня утром…
— Это невозможно, у меня другое приглашение, я прошу вас присутствовать со мной на похоронах Мадлен.
И, пожав им руки, он удалился.
Три друга переглянулись.
— Он сумасшедший, — сказал один.
— Или очень силен духом! — сказал другой.
— Это одно и то же, — добавил Альбер.
— Неважно, господа, — заговорил первый, — я должен признаться, что вдовство влюбленного и разговор с ним не очень вдохновляет после вечеринки.
— Ты пойдешь на похороны? — спросил второй.
— Мы не можем не пойти, — сказал Альбер.
— Господа, господа, — воскликнул первый, — не забудьте, что завтра Гризи[70] поет в «Отелло».
— Верно. Итак, господа, мы зайдем в церковь, чтобы показаться. Амори нас заметит, и этого достаточно.
И все трое отправились дальше, раскуривая сигары, погасшие во время разговора.
Тем временем Амори, покинув своих друзей, стал обдумывать мысль, которая уже давно жила в нем, но еще неясная и неуверенная.
Он хотел умереть.
Мадлен умерла. Что ему было делать на этом свете? Какое желание, какое чувство могло привязать его к жизни?
Потеряв свою любимую, разве он не потерял свое будущее? Он должен был последовать за ней, он уже двадцать раз говорил это сам себе.
— Из двух — одно, — говорил Амори, — или вторая жизнь есть, или ее нет.
Если есть вторая жизнь, я найду Мадлен, и радость и счастье вернутся ко мне.
Если же ее нет, мое горе утихнет, мои слезы иссякнут; и в первом, и во втором случае я выиграю. Я ничего не теряю, кроме жизни.
Когда Амори принял это решение, он ощутил спокойствие, почти радость.
Поскольку это бесповоротное решение было принято, не осталось никаких причин, чтобы прекратить свои обычные занятия и не вмешиваться в привычный ход жизни.
Он не хотел, чтобы, когда распространится слух о его смерти, люди говорили, что он убил себя бездумно, бессмысленно, в момент отчаяния.
Напротив, он хотел, чтобы люди знали, что это следствие обдуманного шага, доказательство силы, а не слабости.
Вот что сделает Амори.
Сегодня он приведет в порядок свои дела, оплатит счета, напишет завещание, нанесет визит самым близким друзьям, сообщит им, что собирается совершить долгое путешествие.
Завтра, торжественный и спокойный, он будет присутствовать на похоронах своей любимой; вечером он пойдет послушать из глубины своей ложи последний акт «Отелло», который так любила Мадлен, эту лебединую песню, этот шедевр Россини.
Искусство — это удовольствие суровое и прекрасно готовит к смерти.
Покинув оперу, он вернется к себе и застрелится.
Заметим, прежде чем продолжать повествование, что у Амори было искреннее сердце и прямая душа, и он продумывал детали своей кончины совершенно честно и без всякой задней мысли; он даже не замечал некоторую вычурность задуманного плана и не думал, что можно умереть гораздо проще.
Он был в том возрасте, когда все, что он собирался сделать, казалось ему очень простым и величественным. А вот и доказательство. Убедив себя, что ему осталось всего лишь два дня, он подавил свое горе, вернулся к себе и, разбитый различными чувствами и сильной усталостью, крепко уснул.
В три часа он проснулся, тщательно оделся, нанес намеченные визиты, оставил карточку отсутствующим, рассказал друзьям о задуманном путешествии, обнял двух-трех человек, пожал руки другим и вернулся домой. Он ужинал один, так как ни господин д'Авриньи, ни Антуанетта не показывались весь день. Его спокойствие было так ужасно, что слуги спрашивали себя, не сошел ли он с ума.
В десять часов он вернулся в свой особняк на улице Матюрен и начал составлять свое завещание. Половину состояния он оставлял Антуанетте, сто тысяч франков — Филиппу, который каждый день, вплоть до последнего, приходил справляться о здоровье Мадлен, остальное распределил на различные пожертвования.
Затем он взял свой дневник, продолжил прерванные записи, описав все, вплоть до последнего часа, не забыл написать о своих роковых намерениях, оставаясь по-прежнему спокойным. Рука его не дрожала, почерк не изменился, строчки ложились ровно.
Именно для того, чтобы проделать все это, он проспал часть дня.
В восемь часов утра все дела были закончены.
Амори взял свои пистолеты, зарядил каждый двумя пулями, спрятал их под пальто, сел в экипаж и отправился к господину д'Авриньи.
Господин д'Авриньи еще не покидал комнату своей дочери.
На лестнице Амори встретил Антуанетту, она хотела вернуться к себе, но он удержал ее за руку, ласково привлек к себе и, улыбаясь, поцеловал в лоб.
Антуанетта замерла, испуганная подобным спокойствием, взгляд ее проводил Амори до дверей его комнаты.
Амори положил пистолеты в ящик своего стола, закрыл его и положил ключ в карман.
Затем он оделся для церемонии похорон.
Закончив туалет, Амори пошел вниз и оказался лицом к лицу с господином д'Авриньи, тот провел эту ночь у ложа своей умершей дочери, как он проводил предшествующие ночи у постели живой.
У бедного отца были запавшие глаза, бледное и осунувшееся лицо. Казалось, он сам вышел из могилы.
Выйдя из комнаты Мадлен, он попятился, яркий свет раздражал глаза.
— Уже прошли сутки, — задумчиво сказал он.
Он протянул руку Амори и долго смотрел на него, ничего не говоря. Возможно, у него было слишком много мыслей, чтобы он мог их высказать.
И, однако, как и накануне, он отдавал приказы спокойно и хладнокровно.
В соответствии с этими приказами тело Мадлен будет помещено на катафалк, и его повезут в церковь прихода Сен-Филипп-дю-Руль, в полдень состоится похоронная месса, затем покойницу увезут в Виль-Давре.
XXXIII
В половине двенадцатого начали прибывать траурные экипажи.
Господин д'Авриньи занял первый экипаж. Хотя обычай запрещает отца следовать за телом ребенка в траурном кортеже, он поехал в церковь вместе со всеми. Амори сел в тот же экипаж.
Неф[71], хор и часовни были затянуты белой тканью.
Только отец и жених вошли в хор за телом той, которую ждало погребение, друзья и любопытные — а эти две категории людей очень похожи — расположились в приделах[72].
Панихида проходила торжественно и мрачно.
Тальберг, друг Амори и доктора, захотел сам играть на органе, и читатель понимает, что весть об этом быстро распространилась и увеличила число присутствующих.
Для троих молодых людей, которых накануне встретил Амори и которые вечером собирались пойти в оперу — это было еще одно зрелище.
Среди всех этих людей, пришедших посмотреть и послушать, пожалуй, только отец и возлюбленный чувствовали, как сжимаются их сердца от высоких и скорбных слов заупокойных молитв.
Господин д'Авриньи особенно проникался смыслом самых грустных строф и мысленно повторял за священником слова.
«Я дам вам отдых, — сказал Господь, — потому что вы получаете милость мою, и я знаю имя ваше».
«Счастливы умирающие во мне, они будут отдыхать от трудов своих, плоды же их труда будут следовать за ними».
С каким страстным порывом осиротевший отец обратился к Всевышнему:
«Господь, освободите меня от жизни! Увы! Ждать мне еще долго, я жду, Господи, когда придет освобождение, моя душа стремится к вам, как страждущая от засухи земля ждет дождя, как уставший олень жаждет припасть к прохладному ручью, так мое сердце жаждет воссоединиться с Вами».
Но сердца старика и юноши застучали особенно сильно, когда пальцы Тальберга извлекли из органа ужасающий «Гнев Господен». Однако их впечатления не были одинаковыми.
Пламенный Амори услышал в гневном гимне крик своей души.
Господин д'Авриньи, подавленный им, затрепетал и склонил голову под его угрозами.
Влюбленный юноша соединил свое отчаяние с музыкой и мощными нотами разрушал пустыню этого мира, в котором больше не было Мадлен.
Пусть погибнет эта, ставшая навсегда сиротой земля, ибо нет больше солнца, нет больше любви! Пусть все рушится и возвращается к хаосу! Пусть придет высший судья, восседающий на сверкающем троне, чтобы покарать вас всех, вас, нечистых и грешных! Достаточно было Мадлен покинуть этот мир, чтобы он превратился в ад.
Отчаявшаяся душа отца, бунтующего меньше, чем молодой человек, задрожала при звуках обличающего стиха, склонилась перед величием наказующего Бога, который только что призвал его дочь и, возможно, будет скоро судить его самого. Господин д'Авриньи почувствовал себя мелким и ничтожным, себя, прежде обуреваемого гордыней и сомнениями.
Растерянный, он заглянул в свою душу и с испугом увидел, что она полна волнениями и заблуждениями; он испугался не того, что Бог поразит его своим гневом, но того, что Бог разлучит его с дочерью.
Когда после гимна гнева послышалась мелодия надежды, с какой пылкой верой и страстностью он внимал ласковому обещанию безграничного милосердия, с какими горючими слезами он умолял милостивого Бога забыть о правосудии и помнить только о доброте!
Таким образом, когда закончилась печальная церемония, Амори вышел, высоко подняв голову, словно бросая вызов всему свету, а господин д'Авриньи следовал за гробом дочери, склонив голову, словно пытаясь смягчить мстительный гнев.
Понятно, что присутствовавшие (почти те же самые, что были на балу) не собирались в большинстве своем сопровождать покойницу до места ее последнего успокоения.
На кладбище Пер-Лашез? Да, конечно! Это почти прогулка, но Виль-Давре… Поездка заняла бы целый день, а день в Париже очень дорог.
Поэтому, как предвидел и надеялся господин д'Авриньи, лишь трое или четверо преданных друзей, среди которых был Филипп Оврэ, поднялись в третий траурный экипаж.
Господин д'Авриньи и Амори заняли места во втором экипаже, клир[73] — в первом.
В течение всей дороги ни отец, ни жених не произнесли ни слова.
Кюре прихода Виль-Давре встречал печальный кортеж у дверей церкви.
Катафалк с телом Мадлен должен был остановиться на несколько минут перед маленькой церковью, где она приняла свое первое причастие; впрочем, господину д'Авриньи казалось, что пока тело дочери не скрылось под землей, он еще не расстался с ней.
Не было ни органа, ни торжественности: тихо произнесенная молитва, как бы последнее прощание, сказанное на ухо деве, покидающей землю ради неба.
От церкви все пошли пешком и через пять минут оказались на кладбище.
Это было одно из тех кладбищ, какие так нравились Грэю[74] и Ламартину[75]; тихое, спокойное, даже прелестное, оно располагалось у абсиды[76] приходской церкви.
Должно быть, хорошо найти здесь покой: здесь нет вычурных памятников и лживых эпитафий; деревянные кресты и имена — вот и все; тут и там деревья, сохраняющие прохладу земли; совсем рядом маленькая церковь, где каждое воскресенье их имена упоминаются в молитвах.
Здесь нет величия, но здесь царит покой; уже у входа можно ощутить задумчивость и мир, входящие в душу; хочется сказать себе, как сказал Лютер[77] в Вормсе[78]:
— Я завидую им, они нашли свое успокоение.
Но когда Лютер говорил это, он не шел за гробом своей любимой дочери или обожаемой супруги; это говорил философ, а не отец и не муж.
Боже мой! Кто может передать ужасное чувство потери, терзающее душу человека, который провожает тело любимой! Сначала печальное и угнетающее пение клира, затем вид свежевырытой могилы, резко выделяющейся на зеленой траве; наконец, стук первых комков земли, сначала гулко ударяющихся о крышку гроба; этот стук постепенно затихает, как если бы гроб отдалялся и исчез в глубинах вечности.
Господин д'Авриньи участвовал в этой последней части церемонии, стоя на коленях и склонив голову до земли.
Амори остался стоять, опершись о ствол кипариса и вцепившись в одну из его ветвей.
Когда последняя лопата земли округлила холмик, указывающий на свежую могилу, который со временем сгладится, в стороне от него, не над гробом, установили мраморную плиту. На ней можно было прочесть двойную эпитафию:
ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ МАДЛЕН Д'АВРИНЬИ,
СКОНЧАВШАЯСЯ 10 CЕНТЯБРЯ 1839 ГОДА
В ВОЗРАСТЕ 19 ЛЕТ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ И ПЯТИ ДНЕЙ
* * *
ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ДОКТОР Д'АВРИНЬИ,
ЕЕ ОТЕЦ,
СКОНЧАВШИЙСЯ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ,
ПОХОРОНЕННЫЙ…
Даты не было, но господин д'Авриньи очень надеялся, что уже через год она будет написана.
Затем в рыхлую землю, покрывшую гроб, посадили кусты белых роз, так как Мадлен всегда их любила, и удрученный горем отец, как в стихах Ронсара[79], дарил эти цветы дочери,
«чтобы живое или мертвое тело ее было как розы».
Когда все было кончено, доктор послал поцелуй своей дочери.
— До завтра, — сказал он вполголоса, — до завтра, Мадлен… я больше не расстанусь с тобой.
И твердым шагом он покинул кладбище вместе с друзьями.
— Господа, — сказал старик нескольким присутствующим, нашедшим в себе мужество сопровождать его до Виль-Давре, — вы могли видеть на могиле Мадлен, что человек, который говорит с вами, уже не живет. Начиная с сегодняшнего дня, я больше не принадлежу земле, я принадлежу только моей дочери. Париж и свет больше не увидят меня. Я больше не появлюсь ни в Париже, ни в свете.
Оставшись здесь один, в своем доме, окна которого, как вы видите, выходят на кладбище, я буду ждать, чтобы Бог назначил мне день, недописанный на нашей могиле. Я никогда никого не буду принимать.
Примите, господа, мои последние слова благодарности и прощания.
Он говорил так уверенно и убедительно, что никто и не подумал возражать ему; проникнутые его скорбью, все молча пожали ему руку и почтительно удалились.
Когда экипаж, увозящий их в Париж, тронулся, господин д'Авриньи повернулся к Амори, с непокрытой головой стоявшему с ним рядом.
— Амори, — сказал он, — я только что сказал, что, начиная с завтрашнего дня, я не увижу Парижа. Но мне необходимо вернуться туда сегодня, чтобы отдать последние распоряжения и привести в порядок все мои дела.
— Как и мне, — холодно заметил Амори. — Вы забыли меня в эпитафии на могильной плите, но я с радостью увидел, что рядом с Мадлен есть место по крайней мере для двоих.
— Ах, вот как, — сказал господин д'Авриньи, глядя на молодого человека пристально, но без малейшего удивления. — Вот как.
Затем добавил, направляясь к экипажу:
— Едем.
Они направились к последнему экипажу, который ждал их, и отправились в Париж, не обменявшись ни единым словом, как и утром.
Когда они доехали до площади, Амори приказал остановиться.
— Извините, — сказал он господину д'Авриньи, — но у меня тоже есть дела сегодня вечером. Я буду иметь честь поговорить с вами, когда вернусь, не так ли?
Доктор кивнул.
Амори вышел, а экипаж продолжал путь к улице Ангулем.
XXXIV
Было девять часов вечера.
Амори сел в наемный кабриолет и приказал везти себя в итальянскую оперу. Он вошел в свою ложу и сел в глубине, бледный и мрачный.
Зал сиял от света люстр и сверкал бриллиантами. Он созерцал этот блеск холодно, несколько удивленно, пренебрежительно улыбаясь.
Его присутствие вызвало изумление.
Друзья, заметившие его, прочитали в его лице нечто настолько торжественное и суровое, что ощутили глубокое волнение, и ни один из них не решился зайти и поздороваться.
Амори никому не говорил о роковом решении, и, однако, каждый содрогался при мысли, что этот молодой человек мог сказать свету, как некогда гладиаторы говорили Цезарю:
«Идущий на смерть приветствует тебя».
Он прослушал этот ужасающий третий акт «Отелло», музыка которого явилась как бы продолжением мелодии «Гнева Господня», он слушал Россини и видел Тальберга. Когда, задушив Дездемону, Отелло убил себя, Амори настолько серьезно все воспринял, что чуть не крикнул, повторив слова персонажа оперы:
«Не правда ли, это не больно, Отелло?»
После представления Амори спокойно вышел, снова нанял экипаж и приехал на улицу Ангулем.
Слуги ждала его. Он увидел свет в комнате господина д'Авриньи, постучал и, услышав: «Это вы, Амори?», повернул ручку и вошел.
Господин д'Авриньи сидел за столом, но встал, увидев Амори.
— Я зашел обнять вас перед сном, — сказал Амори с величайшим спокойствием. — Прощайте, отец мой, прощайте!
Господин д'Авриньи пристально посмотрел на него и крепко обнял:
— Прощай, Амори, прощай!
Обнимая его, он намеренно положил ему руку на грудь и заметил, что сердце Амори билось спокойно.
Молодой человек не обратил внимания на это движение и направился к выходу.
Господин д'Авриньи следил за ним взглядом и, когда тот открыл дверь, взволнованно сказал:
— Амори, послушайте…
— Слушаю вас, сударь, — сказал Амори.
— Подождите меня у себя. Через пять минут я приду с вами поговорить.
— Хорошо, отец.
Амори поклонился и вышел.
Его комната находилась в одном коридоре с комнатой господина д'Авриньи; он вошел, сел за стол, открыл ящик, убедился, что к пистолетам никто не прикасался, что они заряжены, и улыбнулся, играя спусковым крючком одного из них.
Услышав шаги господина д'Авриньи, он положил оружие в ящик и закрыл его.
Господин д'Авриньи открыл дверь, прикрыл ее за собой, молча подошел к Амори и положил ему руку на плечо.
Прошла минута странного торжественного молчания.
— Вы хотите мне что-то сказать, отец? — спросил Амори.
— Да, — сказал старик.
— Говорите, я вас слушаю.
— Неужели вы думаете, сын мой, — заговорил господин д'Авриньи, — что я не понял вашего решения покончить счеты с жизнью сегодня ночью, может быть, сейчас же?
Амори вздрогнул и невольно посмотрел на ящик стола, где были закрыты пистолеты.
— Я прав, не так ли? — продолжал господин д'Авриньи. — Пистолеты, кинжал или яд находятся здесь, в этом ящике. Хотя вы не дрогнули, или, наоборот, именно потому, я вижу, что не ошибся. Да, мой друг, это величественный поступок, прекрасный и редкий; я люблю вас за эту любовь, которую вы питали к Мадлен, и теперь я могу сказать, что она была права, ответив на ваше чувство. Вы заслужили ее сердце, и без нее невозможно жить на этом свете.
О, мы с вами всегда сможем прийти к согласию, но я не хочу, чтобы вы кончали свою жизнь самоубийством, Амори.
— Сударь… — прервал его Амори.
— Дайте мне закончить, дорогое дитя. Неужели вы думаете, что я буду пытаться отговорить вас или утешить? Банальные фразы, общепринятые утешения недостойны ни вашего горя, ни моего. Я думаю, как и вы, что если Мадлен ушла от нас, единственное, что нам остается, — идти за ней. Я размышлял об этом и сегодня, и много ранее. Мы не сможем присоединиться к ней, наложив на себя руки. Да, это самый короткий путь, но самый ненадежный, ибо это не путь, который указал Господь.
— Однако, отец… — сказал Амори.
— Подождите, Амори. Вы слышали сегодня утром в церкви «Гнев Господен»? Конечно, вы его слышали!
Амори медленно провел рукой по лицу.
— Да, разумеется, ибо его пугающая гармония поражает самое холодное сердце, самый неустрашимый ум; с той минуты, как я услышал этот гимн, я думаю, и я боюсь.
А если церковь говорила правду: если Господь, разгневанный тем, что посягнули на жизнь, дарованную им, не допустит в ряды своих избранников тех, кто совершил это, если он разлучит нас с Мадлен? Ведь это невозможно! Даже если есть хоть один шанс, что страшная угроза осуществится, я не хочу, чтобы он выпал мне, я перенесу самые мучительные страдания, я проживу еще десять лет, десять ужасных лет; но чтобы найти ее в вечной жизни, я проживу эти десять лет.
— Жить! — горестно воскликнул Амори. — Жить без воздуха, без света, без любви, без Мадлен!
— Так надо, Амори, и выслушайте меня! Во имя Мадлен, в память о ней, я, ее отец, запрещаю вам убивать себя.
Амори сделал жест отчаяния и уронил голову на руки.
— Послушайте, Амори, — помолчав, продолжал старик, — когда ее тело опускали в могилу и я слышал, как земля, разделяя нас, сыпалась лопата за лопатой на ее гроб, я услышал слово или Божью мысль, переданную мне ангелом. И теперь я чувствую себя увереннее в этом мире. Я скажу вам это слово, Амори.
Я прошу вас подумать над всем этим и помнить о моем запрете. А теперь я оставлю вас одного в полной уверенности, что завтра утром вы спуститесь вниз, потому что перед отъездом в Виль-Давре я хочу поговорить с вами и Антуанеттой.
— А это слово? — спросил Амори.
— Амори, — торжественно заговорил господин д'Авриньи, — оставим себе нашу боль и наше отчаяние. Запомните слова, какие, мне кажется, в последний миг сказала мне дочь:
«Зачем убивать себя, ведь мы умираем».
И, ничего больше не добавив, старик удалился так же медленно и торжественно, как и вошел.
Не страшно умереть, когда прожита долгая череда дней, когда жизнь утомила вас, когда болезнь иссушила вас, когда долгие годы, нагромождаясь один на другой, наполовину убили вас.
Не страшно умереть, когда большинство чувств уже потеряло силу, когда иллюзии, надежды, привязанности постепенно угасли, когда душа похожа на остывший пепел домашнего очага… Остается только тело… Какая разница, раньше или позже умрет тело? Все, что поддерживало в нем жизнь, покинуло его; все, что в нем улыбалось, пело и цвело, исчезло. Дерево держится за землю корнем, жизнь держится в груди душой. Если корень и душа ослабели, не требуется большого рывка или сильного страдания. Охладевшие старческие чувства подготовили наше тело к холоду могилы.
Но умереть в 24 года, молодым, здоровым, сильным! И не просто умереть, а убить себя, это совсем другое дело! Резко вырвать все корни, разорвать все связи с этим миром, погасить все устремления, которые мы имеем; ощущать в венах горячую кровь, в теле — молодую силу, в воображении — яркие мечты, в сердце — пламенную любовь, и разлить эту кровь, разбить эту силу, разрушить эти мечты, удушить любовь после первого опьяняющего глотка, отбросить переполненный кубок, отказаться от будущего; когда все впереди, сказать жизни «прощай», когда, едва начав жить, унести с собой веру, чистоту, мечтания, убить себя полным жизни, — вот где настоящее страдание, вот в чем истинная смерть!
Невзирая на все доводы, наш инстинкт цепляется за жизнь. Несмотря на храброе сердце, рука дрожит, прикасаясь к оружию. Несмотря на решение умереть, вы не хотите этого. Несмотря на мужество, вам страшно!
Только ли сомнение в другой жизни заставляет сказать Гамлета:
Быть иль не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль Смиряться под ударами судьбы, Иль надо оказать сопротивленье И в смертной схватке с целым морем бед Покончить с ними! Умереть. Забыться. И знать, что этим обрываешь цепь Сердечных мук и тысячи лишений, Присущих телу. Это ли не цель Желанная? Скончаться. Сном забыться. Уснуть… и видеть сны? Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, Когда покров земного чувства снят? Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет Несчастьям нашим жизнь на столько лет. А то кто снес бы униженье века, Неправду угнетателя, вельмож, Заносчивость, отринутое чувство, Нескорый суд и более всего Насмешки недостойных над достойным, Когда так просто сводит все концы Удар кинжала! Кто бы согласился, Кряхтя под ношей жизненной, плестись, Когда бы неизвестность после смерти. Боязнь страны, откуда ни один Не возвращался, не склоняла воли. Мириться лучше со знакомым злом, Чем бегством к незнакомому стремиться! Так всех нас в трусов превращает мысль И вянет, как цветок, решимость наша В бесплодье умственного тупика.[80]Те, кто подобно Гамлету, приближал к груди и отводил от нее кинжал, не стыдитесь. Сам Господь вложил в вашу душу эту любовь к жизни, чтобы сохранить вас для земли, которая нуждается в вас.
Ни солдат, бросающийся в высоком порыве на дуло заряженной пушки, ни мученик, выходящий на арену со львами, не были так решительно настроены на смерть, как Амори, вернувшийся в тот дом, где умерла Мадлен.
Оружие было готово, завещание написано, решение принято так твердо, что молодой человек мог хладнокровно думать о поступке, как о свершившемся.
Конечно, он и обманывал себя. Если бы он не почувствовал неодолимое желание еще раз обнять человека, кто был ей вместо отца, он застрелился бы без малейшего колебания, с полным самообладанием.
Но властный тон господина д'Авриньи, торжественность его слов, святое имя Мадлен, названное им, заставили мысль Амори работать. Оставшись один, несколько мгновений он сидел неподвижно, затем, казалось, к нему вернулась жизнь, с которой он уже попрощался. Он встал и начал ходить по комнате, терзаясь сомнениями и угрызениями совести.
Не слишком ли жестокой будет жизнь без цели, без надежды? Не лучше ли сразу покончить с ней? Несомненно.
Но если жизнь самоубийц не продолжается в вечности, если тринадцатая песнь Данте[81] не вымысел, если те, кто наложил на себя руки, брошены в тот адский круг, где поэт их видел, то Господу не понравится, что редеют ряды страдающих на земле, если он отвернется от отринувших жизнь, от этих предателей человечества; если он помешает им увидеть Мадлен, и господин д'Авриньи окажется прав; даже если на эту встречу есть единственный шанс, лучше прожить ради него тысячу лет. Надо лишь доверить отчаянию дело кинжала, заменить слезами действие яда. И тогда смерть наступит не через мгновение, а через год.
В конце концов результат тот же. Боль, какую Амори ощущал себе, не могла пройти бесследно. Удар был нанесен прямо в сердце, смерть была недалека. Оставалось только ждать.
Амори, как человек быстрых решений, не знал, что значит примириться с ситуацией. Через час он принял решение — жить, как ранее он принял решение умереть.
Ему требовалось немного мужества, и все.
Определив это для себя, он устроился в кресле и стал хладнокровно обдумывать новое положение вещей.
Было ясно, что он должен усилить воздействие своего горя. Для этого он должен покинуть свет и сосредоточиться на своих переживаниях. Впрочем, свет ему казался теперь омерзительным.
У него хватило силы на то, чтобы встретиться с обществом вечером, когда он думал, что навсегда покидает его. Теперь же, когда он оставался жить, расчетливая дружба, условности балов, банальные утешения казались ему пытками.
Сейчас самое главное — это избежать тех знаков внимания, которыми общество осыпает в случае смерти кого-то близкого.
Амори решил отныне жить, замкнувшись в себе, размышляя о прошлом, вспоминая об угасших надеждах и утраченных иллюзиях. Посыпая солью свою душевную рану и не давая ей закрыться, Амори надеялся приблизить свое исцеление смертью. И как знать, не найдет ли он в воспоминаниях о своем былом счастье, о своей прошлой жизни горькую радость и душераздирающее наслаждение?
Вероятно, да, ибо стоило ему достать увядший букет, что носила Мадлен на балу, слезы полились ручьем, и нервное напряжение, которое жило в нем последние двое суток, спало. Слезы принесли ему то же благо, какое приносит легкий дождь после жаркого июньского дня.
На рассвете он почувствовал себя таким усталым и разбитым, что с полной убежденностью он повторил слова, сказанные господином д'Авриньи накануне:
— Зачем убивать себя, ведь мы умираем!
XXXV
В восемь часов утра пришел Жозеф и от имени господина д'Авриньи попросил Амори спуститься в гостиную. Амори тотчас подчинился.
Увидев Амори, его опекун подошел и нежно обнял его.
— Благодарю вас, Амори, — сказал он. — Я вижу, что был прав, рассчитывая на ваше мужество.
При этих словах Амори печально покачал головой, горько улыбнулся и уже хотел ответить, как открылась дверь и вошла Антуанетта.
Какое-то время все трое молчали. Казалось, каждый опасался нарушить молчание.
Старик с умилением смотрел на эту юность, которую украшало даже горе; в свою очередь, молодые люди почтительно смотрели на этого старика, который с таким достоинством сдерживал свое отчаяние.
Господин д'Авриньи сделал знак Антуанетте и Амори сесть рядом с ним слева и справа. Он взял их руки в свои.
— Дети мои, — сказал он печальным, проникнутым добротой голосом, — вы красивы, молоды, очаровательны; вы — весна, будущее, жизнь, и один взгляд на вас вселяет немного радости в мое бедное, отчаявшееся сердце. Я вас очень люблю. Это все, что еще осталось у меня в этом мире. Вы тоже любите меня, я знаю, но вы должны простить меня, ибо я не могу оставаться с вами.
— Как! — воскликнула Антуанетта. — Дядя, вы нас покидаете? Что вы хотите сказать? Объяснитесь!
— Дайте мне закончить, дитя мое, — сказал господин д'Авриньи.
И, обращаясь к молодым людям, он продолжал:
— Вы — воплощение жизни, расцвета, меня же притягивает смерть. Две привязанности, какие я еще сохранил в этой жизни, не могут заменить мне ту, которая ушла в лучший мир. Мы должны расстаться, потому что вы смотрите в будущее, а я в прошлое. Я знаю все, что вы можете мне сказать; но какое бы решение вы ни приняли, пути наши различны. Впредь я буду один, таков мой выбор.
Я еще раз прошу у вас прощения. Вы, может быть, сочтете меня индивидуалистом. Но что вы хотите? Мне тяжело видеть вашу цветущую молодость, а вам будет тяжело наблюдать мою угасающую старость. Поэтому мы расстанемся и пойдем нашими путями, вы — к жизни, я — к могиле.
Он помолчал и заговорил снова.
— Сейчас я вам расскажу, как я решил провести тот остаток жизни, который предопределит мне Бог. Вы скажете свое мнение потом.
Отныне я буду жить один в моем доме в Виль-Давре. Со мной будет мой Старый слуга Жозеф. Я буду выходить только на кладбище, где покоится Мадлен и где скоро успокоюсь сам. Я не буду принимать никого, даже моих лучших друзей. Они могут считать меня умершим. Я больше не принадлежу этой земле.
Первого числа каждого месяца я буду принимать вас, только вас двоих. Вы расскажете о своих делах и узнаете о моих.
— Но, мой дорогой дядя, что будет со мной? — воскликнула Антуанетта, заливаясь слезами. — Одинокая, покинутая. Что будет со мной без вас? Скажите же!
— Неужели ты думаешь, что я не подумал о тебе? — заговорил господин д'Авриньи. — Неужели я забыл о тебе, преданной, любящей сестре моей дочери?
Поскольку Амори уже достаточно богат, я сделал завещание, по которому тебе остается после моей смерти мое состояние, а начиная с сегодняшнего дня, состояние Мадлен.
Антуанетта сделала протестующий жест.
— Да, я знаю, — продолжал господин д'Авриньи, — все это богатство тебе безразлично. Тебе нужна любовь, благородное сердце. Тебе нужно выйти замуж, Антуанетта.
Девушка хотела что-то сказать, но господин д'Авриньи остановил ее:
— Теперь, когда ты не можешь быть полезной своему старому дяде, имеешь ли ты право отказываться от священных обязанностей супруги и матери? Когда ты предстанешь перед Господом, что ты ему ответишь? Тебе надо выйти замуж.
Я предлагаю тебе в мужья не адвоката, ты можешь найти более блестящую партию. Я удаляюсь от света, но я имею там влияние и друзей. Ты припоминаешь, что год назад граф де Менжи, мой старый друг, просил руки Мадлен для своего единственного сына? Но теперь я могу написать ему, и он, конечно, согласится взять в семью мою племянницу, столь же юную, богатую, красивую, какой была Мадлен.
Так что ты скажешь, Антуанетта, о молодом виконте де Менжи? Он часто бывал здесь. Он благороден, элегантен, умен.
Господин д'Авриньи остановился в ожидании ответа, но смущенная Антуанетта молчала.
Амори, очень взволнованный, тоже смотрел на нее.
Судьба дала ему в несчастьи двух спутников. Но господин д'Авриньи уже отдалялся от него, желая уединиться в своем страдании. И Амори замер, боясь ответа Антуанетты. Их сближали горе и возраст. Покинет ли она его, обрекая на одинокое горестное существование, унося с собой все, что еще напоминало ему счастливое детство, любовь к Мадлен, тепло домашнего очага?
Неудивительно, что его глаза выражали некоторую тревогу.
Антуанетта заметила этот взгляд и поняла его:
— Дядя, — сказала она, наконец, дрожащим голосом, — я очень признательна вам за участие и щедрость; ваши отеческие советы святы для меня, и я принимаю их всей душой; но оставьте мне немного времени для размышлений; отныне вы хотите быть глухим и слепым к мирским делам, и я чувствую, как вы делаете усилие, чтобы покончить со всем, что не касается Мадлен, и больше не заниматься этим.
Дорогой дядя, да хранит вас Бог! Будьте уверены, ваши пожелания для меня значат больше, чем приказ. Я готова повиноваться, я прошу только отсрочки, чтобы не вступать в брак в траурных одеждах и чтобы прошло время между будущим, которое вы напрасно считаете столь блистательным для меня, и прошлым, где я оставила свои сожаления и пролила столько слез.
Кто бы мог сказать, что мои заботы будут вам когда-нибудь в тягость! Если вы согласитесь, вот что мне бы хотелось сделать. Вы собираетесь жить в Виль-Давре рядом с могилой Мадлен, а я останусь здесь хранить память о ней. Я буду прикасаться осторожной рукой к предметам, которых касалась она. Я буду бережно ходить по этим комнатам, где грациозно двигалась ее фигурка. Я буду вдыхать воздух, где звучали ее слова, вызывая в памяти прошедшие дни.
Я уверена, что миссис Браун согласится остаться со мной, мы будем разговаривать о Мадлен, как о долгожданной гостье. И если она не сумеет приехать к нам, мы отправимся к ней. Мы будем говорить, как будто осуществился план путешествия в дальние страны.
Я буду выходить только в церковь. Я не буду принимать никого, кроме ваших старых верных друзей. Вы мне назовете их. И поскольку вы не хотите их больше видеть, я буду говорить с ними о вас. Я буду связующим звеном, и тогда они будут верить, что не совсем вас потеряли. И мне кажется, что эта жизнь будет даже приносить некоторую радость.
Если вы доверяете, дядя, и считаете меня достойной хранительницей нашего прошлого, если моя молодость и неопытность не вызывает у вас сомнений, позвольте мне так устроить свою жизнь.
— Пусть будет так, как ты хочешь, Антуанетта, — мягко заговорил господин д'Авриньи. — Твое решение тронуло меня, и я его одобряю. Храни этот дом. Отныне он твой. Наши старые слуги любят тебя.
Миссис Браун поможет тебе. Впрочем, вы с Мадлен при помощи гувернантки прекрасно управлялись в доме!
Каждые три месяца ты будешь получать необходимую сумму денег; если тебе потребуется совет, ты знаешь, что каждый месяц один день моей жизни принадлежит тебе! Кроме того, один из моих старых друзей, по моей просьбе, будет тебе опекуном и советчиком и сейчас, и позже, когда я умру.
Что ты думаешь о графе де Менжи? Он очень добр, а его супруга — очень достойная и жизнерадостная дама и очень любит тебя. Я не говорю тебе об их сыне, так как мы отложили этот вопрос. Впрочем, сейчас он за границей.
— Дядя, какими бы ни были те, кого вы назовете…
— Ты что-то имеешь против графа де Менжи и его супруги?
— Нет, нет, дядя. Видит Бог, что после вас это единственные посторонние люди, которых я люблю и уважаю.
— Итак, Антуанетта, решено, — заговорил господин д'Авриньи. — граф и графиня будут твоими наставниками и советчиками. Так что твою жизнь, Антуанетта, мы на некоторое время организовали.
Теперь Антуанетта подняла голову и стала ожидать слов Амори с тем же волнением, какое минуту назад испытывал он сам.
— Дорогой опекун, — сказал твердо Амори, — в равном горе люди ведут себя по-разному, в зависимости от их характера.
Вы хотите жить у могилы Мадлен.
Антуанетта хочет быть рядом с комнатой, полной воспоминаний о ней.
Мадлен живет в моем сердце, мне безразлично, где я нахожусь. Она всюду со мной, ее могила — в моей душе.
Я хочу, чтобы холодный и насмешливый свет не касался моего горя. Праздность салонов, внимание любопытствующих меня пугают.
Как вы, Антуанетта, и вы, добрый опекун, я хочу остаться один; каждый из нас будет хранить в душе образ Мадлен, даже если мы будем в тысяче километров друг от друга.
— Итак, вы отправляетесь в путешествие? — спросил старик.
— Я хочу остаться наедине с моей болью, чтобы никто не имел права прийти со словами утешения. Я хочу сосредоточиться на своем горе и, поскольку ничто меня не удерживает в Париже, где я не смогу видеть вас, я хочу уехать из Парижа и даже из Франции.
Я хочу уехать в страну, где все вокруг будет чужим, где посторонний собеседник не сможет отвлечь меня от моих мыслей.
— Какое же место ссылки вы избрали, Амори? — спросила Антуанетта с интересом, смешанным с печалью. — Италию?
— Италию?! Куда я собирался ехать вместе с ней! — воскликнул молодой человек, выйдя из состояния наигранного спокойствия. — Нет, это невозможно. Италия с ее ярким солнцем, лазурным морем, ароматом цветов, с ее песнями и танцами, покажется мне насмешкой над моей болью. Боже, стоит мне только подумать, что в этот час мы должны были быть в Ницце, стоит только подумать…
И, заломив руки, он зарыдал.
Господин д'Авриньи встал и положил руку ему на плечо.
— Амори, — сказал он, — будьте мужчиной.
— Амори, брат мой, — позвала Антуанетта, протягивая к нему руку.
Но сердцу, переполненному чувствами, следовало излиться.
При большом горе часто бывает, что спокойствие обманчиво, слезы накапливаются, и наступает момент, когда они разрушают преграду, поставленную волей, и текут ручьем.
Старик и девушка молча смотрели на него, не мешая.
Наконец рыдания стихли, нервные всхлипывания прекратились, слезы тихо катились по щекам Амори, и он сказал, пытаясь улыбнуться:
— Извините за то, что к вашему горю я добавляю свое, но если бы вы знали, как мне тяжело.
Господин д'Авриньи тоже улыбнулся.
Антуанетта прошептала: — «Бедный Амори!»
— Вы видите, я уже успокоился, — продолжал Амори, — я вам говорил, что Италия с ее пылающим солнцем мне не подходит. Мне нужны туманы и тень, северная зима; унылая и печальная, как я, природа: Голландия с ее болотами, Рейн с его развалинами, Германия с ее туманами. Сегодня вечером, если вы разрешите, дорогой отец, я уеду в Амстердам. Затем я поеду в Гаагу, Кельн и Гейдельберг.
Пока Амори произносил это горьким и отрывистым тоном, Антуанетта неотрывно смотрела на него.
А господин д'Авриньи, увидев, что приступ горя прошел, сел на свое место и погрузился в собственные мысли, едва слушая Амори и думая о чем-то своем.
Однако, когда голос его воспитанника умолк, он провел рукой по лицу, как бы отгоняя облако, отделяющее его от внешнего мира, и сказал:
— Итак, решено. Вы, Амори, едете в Германию, куда Мадлен последует за вами в вашем сердце. Ты, Антуанетта, остаешься здесь, где она жила. Я же отправляюсь в Виль-Давре, где она покоится.
Мне нужно остаться в Париже еще на несколько часов, чтобы написать графу де Менжи и сделать последние распоряжения.
Если вы хотите, дети мои, в пять часов мы соберемся, как бывало, за столом и затем расстанемся без всякого промедления.
— До вечера, — сказал Амори.
— До вечера, — сказала Антуанетта.
XXXVI
Амори подписал паспорт, получил у банкира чеки и деньги, приказал, чтобы его походная коляска, запряженная почтовыми лошадьми, в половине седьмого ждала его во дворе господина д'Авриньи, и провел в мелких, но необходимых заботах остаток дня.
На встречу он пришел без опоздания.
Садясь за стол, каждый посмотрел на стул, который прежде занимала Мадлен. В этот ужасный момент взгляды отца, сестры и возлюбленного встретились.
Амори почувствовал, что он сейчас вновь зарыдает. Он встал, быстро вышел из столовой, прошел через гостиную и спустился в сад.
Через десять минут господин д'Авриньи сказал:
— Антуанетта, сходи за братом.
Она встала и спустилась в сад. Она нашла молодого человека под аркой из лилий, жимолости и розовых кустов. Ни одного цветка не было на ветвях, словно растения тоже надели траур. Он сидел на скамье, на которой он поцеловал Мадлен, и это убило ее.
Одну руку он запустил в волосы, другой он держал платок и кусал его.
— Амори, — сказала девушка, протягивая ему руку, — вы причиняете боль нам с дядей.
Ни слова не говоря, Амори встал и, как послушный ребенок, последовал за Антуанеттой в столовую.
Они вновь сели за стол, но Амори отказался съесть что-либо. Господин д'Авриньи настаивал, чтобы он хотя бы выпил бульон, но Амори сказал, что это невозможно.
Господин д'Авриньи, с видимым усилием вышедший из своей задумчивости, вновь погрузился в нее.
Наступило глубокое молчание. Господин д'Авриньи опустил голову и, казалось, не замечал ничего вокруг, думая только о дочери.
Но молодые люди думали не только о любимой Мадлен, но и о тех привязанностях, которые они вот-вот потеряют. Вне всякого сомнения, кроме сожаления о смерти, они прочли в душах друг друга горечь расставания, потому что Амори сказал, прерывая молчание:
— Я буду самым покинутым. Один раз в месяц вы сможете встретиться, но кто расскажет мне о вас? Кто расскажет вам обо мне?
— Амори, не пишите мне, — сказал господин д'Авриньи, выйдя из состояния задумчивости, — я не буду читать письма.
— Вот видите, — уныло сказал Амори.
— Но почему бы вам не написать Антуанетте? — продолжал голос д'Авриньи. — И разве Антуанетта не сможет вам ответить?
— Вы разрешаете, мой дорогой опекун? — спросил Амори в то время, как Антуанетта с тревогой взглянула на дядю.
— По какому праву я могу запретить брату и сестре изливать в письмах их печаль и смешивать слезы, которые они проливают над одной могилой.
— А что скажете вы, Антуанетта? — спросил Амори.
— Амори, если это вас утешит хоть немного… — пробормотала Антуанетта, опустив глаза и покраснев.
— О! Благодарю вас, Антуанетта, — сказал Амори, — я уеду, столь же печальный, но более спокойный.
Больше не было произнесено ни слова, настолько их души были угнетены.
В половине седьмого коляска Амори стояла во дворе господина д'Авриньи. Экипаж хозяина дома тоже уже был заложен. Жозеф доложил, что экипажи поданы. Господин д'Авриньи улыбнулся, Амори вздохнул, Антуанетта побледнела.
Господин д'Авриньи встал, молодые люди бросились к нему, он снова сел, и они опустились перед ним на колени.
— Дорогой опекун, обнимите меня, — воскликнул Амори.
— Дорогой дядя, благославите меня еще раз, — сказала Антуанетта.
Господин д'Авриньи со слезами на глазах обнял их обоих.
— Будьте спокойны и счастливы, — сказал он им. — Спокойны в этой жизни, счастливы в вечной.
И пока он целовал их в лоб, рука Амори коснулась руки Антуанетты. Они вздрогнули и обменялись взволнованными и растроганными взглядами.
— Поцелуйте ее, Амори, — сказал доктор.
Амори поцеловал Антуанетту в лоб.
— Прощай, Антуанетта.
— До свидания, Амори.
Их голоса дрожали, их сердца сжимались.
Господин д'Авриньи оставался самым спокойным. Он встал, чтобы положить конец тягостному расставанию. Они тоже встали, обменялись взглядами и рукопожатиями.
— Едем, — сказал господин д'Авриньи, — едем, и прощайте, Амори.
— Едем, — машинально повторил Амори. — Не забывайте мне писать, Антуанетта.
Антуанетта не нашла в себе силы ни ответить, ни идти за ними. Они поклонились ей, затем дверь за ними закрылась.
Но едва они вышли, силы вернулись к ней, она побежала к окну своей комнаты, которое выходило во двор, и открыла его, чтобы взглянуть на отъезжающих еще раз.
Она увидела, что они обнялись и что-то сказали друг другу.
— В Виль-Давре, к моей дочери, — сказал доктор.
— В Германию, с моей невестой, — сказал Амори.
— А я, — воскликнула Антуанетта, — я остаюсь в этом пустынном доме с моей сестрой… и моей любовью, — добавила она, отходя от окна, чтобы не видеть отъезжающие экипажи и, положив руку на сердце, чтобы заставить его замолчать.
XXXVII
Амори — Антуанетте
«Лилль, 16 сентября.
«Я был вынужден на несколько часов остановиться в Лилле. И я пишу вам, Антуанетта. Когда экипаж въезжал в городские ворота, сломалась ось. Я вошел в первый попавшийся постоялый двор, и вот я, эгоист, добавляю к вашему горю мое.
Выехав из Парижа, я почувствовал, что не смогу уехать, не сказав последнее «прощай» Мадлен. И, сделав круг по внешним бульварам, через два часа я был в Виль-Давре.
Вы знаете, что кладбище окружено низкой стеной. Я не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о моем приезде, и, не желая просить ключ от калитки у привратника, я перелез через стену.
Была половина девятого вечера, уже стемнело. Я бесшумно пошел вперед, радуясь мраку, скрывавшему меня от глаз чужих, и безлюдию, которое позволяло мне сосредоточиться.
Но, приблизившись к могиле, я увидел там склонившуюся фигуру. Я подошел ближе и узнал господина д'Авриньи. Глухое раздражение овладело мной. Этот человек оспаривает у меня свою дочь даже после ее смерти! Когда она была жива, он постоянно находился рядом. Теперь она умерла, а он по-прежнему не разлучен с ней.
Я прислонился к кипарису, решив подождать, пока он уйдет.
Он стоял на коленях, припав к земле, почти касаясь ее губами. Он тихо говорил:
— Мадлен, если правда, что нечто остается от нас после смерти, что душа живет дольше тела, что милосердное Провидение разрешает мертвым приходить к живым, приходи ко мне в любой час дня и ночи. Умоляю тебя являться ко мне так часто, как ты сможешь. Ибо до того часа, когда я приду к тебе, Мадлен, я буду ждать тебя постоянно.
Этот человек опережал меня во всем. Именно об этом я хотел ее молить.
Господин д'Авриньи добавил еще несколько таких слов, поднялся и, к моему большому удивлению, направился ко мне. Оказывается, он меня увидел и узнал.
— Амори, — сказал он, — я оставляю вас наедине с Мадлен, так как я понимаю тот эгоизм и ту ревность, которые заставляют вас ждать моего ухода, чтобы преклонить колени на нашей могиле.
Кроме того, вы уезжаете, а я остаюсь. Я приду на могилу завтра, послезавтра и в последующие дни.
Мы увидимся с вами после вашего возвращения. Прощайте, Амори.
Послав рукой последний поцелуй Мадлен, он медленно удалился, не ожидая моего ответа, и исчез за углом стены.
Едва я остался один, я бросился на камни перед могилой и повторил просьбу господина д'Авриньи, но не его спокойным и покорным голосом, а прерывая свои мольбы словами отчаяния.
Мне стало легче. Мне было необходимо выплеснуть свои чувства. И сейчас, вспоминая, мне хочется плакать, так что я не знаю, как вы будете читать это письмо, каждая строка его смочена моими слезами.
Я не знаю, сколько времени я там пробыл. Я мог бы оставаться всю ночь, если бы кучер не поднялся на стену и не позвал меня.
Я отломил ветку с розового куста, посаженного на ее могиле, и ушел, целуя эти цветы, в каждом из которых чувствовалось ее дыхание».
XXXVIII
ДНЕВНИК ГОСПОДИНА Д'АВРИНЬИ
«Ах, Антуанетта, каким ангелом была Мадлен!
Я прождал ее всю ночь, весь день и еще ночь. Она не пришла.
К счастью, я могу прийти к ней.»
Амори — Антуанетте
«Остенде, 20 сентября.
Я в Остенде.
Ей было восемь лет, а мне двенадцать. Мы жили в Виль-Давре. Однажды мы придумали план, одна мысль о котором заставляла биться наши сердца. Мы решили пойти тайком одни через лес в Глатиньи, чтобы купить у известного нам садовника цветы для дня рождения доктора.
Помните ли вы Мадлен в восемь лет?
Это был настоящий херувим: белокожая, пухленькая, с розовыми щечками, с прекрасными кудрявыми белокурыми волосами. Ей не хватало только крылышек.
О, дорогая и любимая Мадлен!
План был очень серьезный и притягательный, невозможно было удержаться, и накануне праздника, воспользовавшись хорошей погодой и отсутствием господина д'Авриньи, уехавшего на день в Париж, мы сделали вид, что играем, выскользнули из сада в парк и через калитку в лес.
Там мы остановились с бьющимся сердцем, испугавшись собственной смелости.
Я немного знал дорогу, потому что мы проезжали по ней всей семьей. Мадлен тоже бывала здесь раньше, но она была тогда занята бабочками, птичками и цветами. Тем не менее мы храбро вошли в лес, и я, гордый, как король, моей ответственностью, предложил руку Мадлен, которая уже начинала раскаиваться в задуманном. Мы оба были слишком самолюбивы, чтобы отступать, и пошли в Глатиньи, руководствуясь указаниями на столбах.
Я припоминаю, что дорога нам показалась довольно долгой, что косулю мы приняли за волка, а трех крестьян — за разбойников. Когда мы убедились, что волк не нападает, а разбойники спокойно идут своей дорогой, мужество вернулось к нам, шаги стали тверже, и через час мы уже добрались до Глатиньи.
Первым делом мы спросили, где живет садовник.
Нам указали его дом в конце маленькой улочки. Мы вошли во двор и увидели замечательные клумбы. Среди высоких георгинов стоял старый и почтенный человек. Он, улыбаясь, смотрел на нас и спросил, что нам нужно.
— Нам нужны цветы, — сказал я, выходя вперед. — А вот деньги, — продолжал я, важно показывая две монеты по пять франков, наш общий капитал.
Мадлен немного отстала, смутившись и покраснев.
— Вы хотите купить цветов на все эти деньги? — заговорил садовник.
— Да, — сказала Мадлен, — и самые красивые, если можно. Мы хотим поздравить с днем рождения моего отца, доктора д'Авриньи.
— О! Если это для доктора д'Авриньи, — сказал садовник, — то нужны самые красивые. Вы правы, детки. Выбирайте сами на клумбах. Я еще открою оранжерею и. помимо нескольких редких и изысканных цветов, которые я вам подберу, вы сможете взять все, какие хотите.
— Все, какие мы хотим! — закричал я, хлопая в ладоши.
— Все, все? — спросила Мадлен.
— Все, какие вы сможете унести, детки.
— Берегитесь, мы очень сильные.
— Но отсюда до Виль-Давре далеко.
Мы больше не слушали, мы бегали вокруг грядок, выбирая цветы. Мы соревновались, кто найдет самые красивые. Садовник шел за нами. Пчелы и бабочки, наверное, испугались, что им ничего не останется.
Потом послышались восклицания:
— А этот можно сорвать?
— Конечно.
— А этот?
— Разумеется.
— А вот этот?
— Да.
— А вот еще один цветок чудесной красоты! Его нельзя сорвать?
— Держите.
Наша радость была велика. Еще бы! Мы собрали не букеты, а целые охапки цветов.
— Сумеете ли вы донести все это? — сказал садовник.
— Сумеем! Сумеем! — закричали мы, беря свои цветы.
— И вам позволяют одним ходить через лес? — спросил садовник.
— Конечно, — гордо сказал я, — всем известно, что я знаю дорогу.
— Вы не хотите, чтобы я вас проводил?
— Нет, нет!
— Ну что ж, друзья мои, доброго пути и скажите доктору, что эти цветы от садовника из Глатиньи, дочь которого он спас.
Вы понимаете, Антуанетта, доктор спас дочь садовника, чужую ему, и не смог спасти свою!
Одно опасение сжимало наши сердца. Вдруг наше отсутствие уже заметили! Вдруг господин д'Авриньи вернулся и спрашивает о нас!.. Сбор цветов занял, по меньшей мере, два часа. Значит, прошло уже три часа после нашего ухода.
В своей растерянности я заметил, на наше несчастье, тропинку, которая, как мне казалось, должна была вдвое сократить путь. Мадлен храбро последовала за мной. Она уже успокоилась и не боялась волков и разбойников. Впрочем, вы знаете, Антуанетта, что она полностью полагалась на меня.
Мы пошли по этой тропинке, она вывела нас к другой, затем на перекресток и наконец привела в настоящий лабиринт дорожек, очень милых, но пустынных. Через час ходьбы я должен был признаться, что я заблудился и не знаю, где мы находимся и в какую сторону идти.
Мадлен заплакала.
Судите сами о моем отчаянии, дорогая Антуанетта. Уже, наверное, был час обеда, потому что мы очень проголодались, наши огромные букеты стали тяжелее.
Я думал о Поле и Виргинии[82], неосторожных детях, заблудившихся, как мы, но им помог Доминго и его собака. Правда, рощи Виль-Давре менее безлюдны, чем леса центральной Франции. Но вы понимаете, что мы не могли знать разницу между ними.
Слезами и жалобами мы не могли исправить положение, поэтому мы храбро шли еще час, но лабиринт стал еще сложнее, мы окончательно запутались. Мадлен, обессилев, села под деревом. Я тоже сильно испугался. Почти четверть часа мы предавались отчаянию, вместо того, чтобы отдыхать. Вдруг послышался легкий шум: мы обернулись и увидели, что из леса вышла бедно одетая женщина с ребенком.
Мы закричали от радости, ибо были спасены.
Потерпевшие кораблекрушение с «Медузы» не обнимались, наверное, так радостно, увидев на горизонте парус «Аргуса», как обнимались мы, заметив эту крестьянку.
Я вскочил и побежал к ней, чтобы спросить дорогу, но нужда опережает страх, и она заговорила первая:
— Мой маленький господин, и вы, маленькая госпожа, сжальтесь надо мной и моим бедным ребенком! Будьте милосердны!
Я поискал в кармане, Мадлен тоже. Мы забыли, что наши десять франков истрачены на цветы.
Мы в замешательстве посмотрели друг на друга, нищенка решила, что мы колеблемся и продолжала:
— Сжальтесь над нами! Я овдовела три месяца назад, болезнь мужа поглотила все наше состояние, а смерть заставила продать последнее. А у меня двое детей, один в колыбели, другой — вот он. Бедный малыш, он не ел со вчерашнего дня, потому что я не могу найти ни работы, ни щедрого дарителя. Пожалейте нас!
Ребенок, наверняка приученный к таким уловкам, начал плакать.
Мы посмотрели друг на друга, преисполненные сочувствием.
Мы были голодны, но мы не ели с утра, а бедный малыш, который был и младше, и слабее нас, не ел со вчерашнего дня!
— Боже! Как они несчастны! — воскликнула Мадлен своим ангельским голоском.
Слезинки заблестели на ее ресницах, и со свойственной ей живостью и изяществом она сказала:
— Милая женщина, у нас с собой больше нет денег, и, кроме того, мы заблудились, возвращаясь из Глатиньи в Виль-Давре. Помогите нам найти дорогу, проводите нас до дома доктора д'Авриньи, это мой отец, и он поможет вам.
— Боже милостивый! Благодарю за моих детей! — сказала бедняжка, молитвенно складывая руки. — Но как вы могли заблудиться? До Виль-Давре всего две минуты. Надо повернуть по тропинке налево, и вы увидите первые дома деревни.
Мужество и силы сразу же вернулись к нам, и мы быстро и весело вскочили на ноги.
Но наша радость сменилась унынием, когда мы подумали о приеме, который нас ждет. Мы вошли через калитку в парк и тотчас услышали голос миссис Браун, громко зовущей нас. Мадлен прикусила губу и повернулась ко мне:
— А теперь, Амори, что мы будем делать и, главное, что мы скажем?
Миссис Браун заметила нас и подбежала.
— Ах, какие вы нехорошие! — воскликнула она. — Сколько беспокойства вы мне причиняете! Я с ума схожу! Где вы бегали? Господин д'Авриньи только что приехал и спрашивает о вас. К счастью, я не осмелилась сказать ему правду. Я притворилась, что пошла вас искать сюда. А раз вы уже здесь, я скрою от него вашу вылазку. Тем более, что ругать он будет меня, хотя здесь нет моей вины, — добавила она ворчливо.
— Какое счастье! — воскликнул я, поддавшись первому порыву.
— А бедная женщина? — сказала Мадлен.
— Что?
— Как что? Разве она может получить обещанную нами награду, если мы не признаемся, что мы заблудились, а она указала нам дорогу?
— Но нас будут ругать, — ответил я.
— Но они хотят есть, — возразила Мадлен. — Не лучше ли получить выговор, чтобы эти бедняги могли получить еду!
Прелестное создание! Этот ответ был так похож на нее!
Нетрудно понять, что господин д'Авриньи не столько ругал нас, сколько обнимал.
А бедную вдову устроили на ферму в Мерзан, и теперь еще три благодарных существа молятся за душу нашей Мадлен…
И когда я думаю, что со времени того приключения прошло всего десять лет…
Вот все, что я могу написать вам, Антуанетта. Рядом со мной море, но увы! В моем безграничном горе мне нравится возвращаться к детским воспоминаниям, как бесконечному океану нравится играть ракушками на своих берегах:
«Когда приходит горе,
Мы обращаем взоры к счастью
Минувших дней…»
Амори».
ДНЕВНИК ГОСПОДИНА Д'АВРИНЬИ
«Странное дело! Пока у меня не было ребенка, я отрицал существование другой жизни!
Когда Мадлен родилась, я стал надеяться.
Когда она умерла, я поверил.
Благодарю тебя, Боже, что ты дал мне веру тогда, когда оставалось только отчаяние!»
XXXIX
Антуанетта — Амори
«3 октября.
Амори, я не буду писать о себе, а только о дяде, о Мадлен и о вас.
Я видела господина д'Авриньи позавчера, 1 октября, помните, мы условились, что встречаемся первого числа каждого месяца? Однако я часто получаю известия о нем от старого Жака, которого он посылает в Париж справиться обо мне.
Дядя почти не разговаривал со мной, и день прошел в молчании. Он мне показался рассеянным, и я боялась его рассердить. Я довольствовалась тем, что украдкой поглядывала на него.
Он очень изменился, хотя это не сразу бросается в глаза. На лбу стало больше морщин, в глазах больше сосредоточенности, в позе больше озабоченности.
После двух месяцев болезни Мадлен он уже находился в подавленном состоянии.
Когда я приехала, он поцеловал меня со своей обычной добротой и спросил, не хочу ли я ему рассказать что-нибудь о своей жизни?
Я ответила отрицательно и сказала, что получила от вас два письма. Я хотела дать ему прочесть второе письмо, потому что оно все состоит из воспоминаний о Мадлен. Но он оттолкнул письмо и отказался взять его, хотя я и настаивала.
«Я знаю, — прошептал он, — что он может сказать; все в прошлом, как и у меня. Но я старше его на тридцать пять лет. Я уйду к ней первым».
После этих слов он почти не разговаривал. Боже! Я пугаюсь, видя его таким погруженным в свои мысли, таким чуждым всему.
Во время обеда мы произнесли только несколько банальных фраз. Прощаясь, я обняла его со слезами на глазах, он проводил нас до экипажа, и Жак отвез нас с миссис Браун обратно в Париж.
Вот и все мое свидание с дядей, дорогой Амори. Но когда Жак приезжает в Париж, я его расспрашиваю обо всем. Дядя не запрещает ему отвечать, ему теперь все безразлично. Поэтому я знаю, что он делает и как он живет.
Каждое утро в любую погоду он выходит из дома и идет на кладбище, чтобы, как он говорит, поздороваться с Мадлен. Он остается там около часа.
Вернувшись и позавтракав за пять минут, потому что он ест, только чтобы не умереть, он закрывается в своем кабинете, берет тетради, где ведет дневник. Он начал его вести очень давно.
Поскольку в течение 20 лет, что прожила Мадлен, жизнь дочери была неотделима от жизни отца, в дневнике описаны события, касающиеся обоих. Гуляла ли она и куда ходила, работала ли она и что делала, говорила ли она и что сказала. Он может вспомнить каждый день: пять, десять, пятнадцать лет назад она была тут или там. Однажды мы читали дневник вместе.
Веселые, нежные или печальные сцены прошлого проходили перед его взглядом, он видит их, улыбается или плачет, но заканчивается всегда слезами, потому что конец этих воспоминаний один. Когда он говорит себе: в пять лет она была такой шаловливой, в десять такой умной, в пятнадцать такой прелестной, в конце концов он должен сказать: а ныне шаловливость, ум и прелесть исчезли, ныне она мертва. И даже если бы он усомнился, что такое совершенство могло умереть, ему достаточно открыть окно и увидеть могилу.
За этим печальным чтением, источником тысяч чувств, мой дядя проводит целые часы. Он не ложится в постель, не попрощавшись с Мадлен. В 10 или 11 часов вечера он возвращается, сорвав с куста, растущего на могиле, белую розу, ставит ее до завтрашнего дня в вазу из богемского хрусталя, которая раньше стояла в комнате Мадлен.
Слуги слышат, как он разговаривает с портретом своей дочери, этим удивительным творением кисти Шанмартэна. Вы часто любовались этим полотном.
Он больше не открывает ни книг, ни газет, не открывает посылки и письма. Он никого не принимает и ни к кому не ходит.
Он умер для всех живых и живет только для умершей.
Теперь вы знаете, Амори, так же хорошо, как я, чем живут в доме в Виль-Давре: там оплакивают Мадлен. То же самое происходит на улице Ангулем, где живу я. То же самое, уверена, там, где находитесь вы.
Когда я думаю теперь о ней, она мне кажется небесным видением, спустившимся на землю. Может быть, она была святой, которую Бог послал нам для подражания. Вы знаете одно ее доброе деяние, Амори, я же, ее подруга, знаю о тысяче других, и многие бедняки знают ее по имени.
Раньше я молилась только Богу, теперь я молюсь Богу и ей.
Пишите мне о Мадлен чаще, Амори.
Пишите мне и о себе. Я даю вам этот совет, а сердце у меня бьется, и рука дрожит. Я так боюсь вас оскорбить или расстроить! Не обвиняйте меня в любопытстве или навязчивости!
Чтобы прикасаться к вашим ранам, нужны нежные и чуткие руки, только Мадлен сумела бы вам написать обо всем, но где взять вторую Мадлен?
Говоря с вами, я слушаю свое сердце и вспоминаю нашу дружбу.
Боже мой! Почему я в самом деле не ваша сестра! Тогда я бы вам сказала, а вы бы выслушали следующее:
— Амори, мой любимый брат! Я не хочу и не буду советовать вам забыть или предать святую память о Мадлен. Естественно, что ваша душа отныне мертва для любви, и что имя, шаги или голос другой женщины не могут заставить биться ваше сердце. Будьте верны вашей умершей любимой! Это правильно, благородно, справедливо.
Но если любовь — это лучшее, что есть на свете, нет ли и другого, столь же прекрасного? Разве искусство, науки не являются высоким предназначением?
Вы молоды, вы сильны, разве у вас нет обязанностей по отношению к себе подобным? Когда вы подаете милостыню, скажите, разве милосердие — это не проявление любви?
Вы можете осчастливить многих, вы богаты. И поскольку ваша сестра Антуанетта тоже богата, разве вы не вдвое богаче?
Я не хотела огорчать дядю отказом, но моя жизнь слишком печальна, чтобы я когда-нибудь согласилась соединить ее с другой жизнью. Какое лучшее применение я могу найти этому состоянию? Я могу только доверить его вам, Амори, пусть оно послужит великодушию или благородным миссиям. Я не могу отдать его в более надежные руки, Амори. Что касается меня…
Но речь идет не обо мне, а о вас. Я хочу говорить только о вас. Я хочу найти слова, которые бы вас тронули.
Вы же больше не думаете о смерти? Это было бы ужасно, это было бы преступно! Дядя приближается к концу своего пути, а вы находитесь в начале вашего.
У меня не так много знаний, чтобы судить о таких вещах, но между вашей судьбой и его, его долгом и вашим есть большая разница. Вы больше не можете любить, я понимаю, но вы можете быть любимым.
Не умирайте, Амори, не умирайте! Думайте о Мадлен, но когда вы будете на берегу океана, посмотрите из вашей печали на безбрежность вод. Где мне найти красноречие, чтобы убедить вас! Подумайте о вечности природы, когда зима — это только подготовка к весне, а в смерти кроется возрождение.
Как под этим снегом и льдом, так под вашей болью и тревогой бьется горячая и сильная жизнь. Не отказывайтесь от даров Божьих, смиритесь, если такова Его воля, живите, если такова Его воля.
Простите меня, Амори, я говорю это от всего сердца, когда я вспоминаю, что вы далеко, очень далеко, одинокий, покинутый, полный отчаяния, я чувствую сострадание и нежность сестры, матери. Это придает мне силы, и я нахожу в себе мужество бросить призыв другу моего детства, крикнуть жениху Мадлен:
— Не умирайте, Амори!
Антуанетта де Вальженсез»
XL
Амори — Антуанетте
«15 октября.
Пишу из Амстердама.
Как бы ни был я чужд внешнему миру, как бы ни был я поглощен собой, как бы низко я ни склонился над пропастью, в которую рухнули все мои надежды, я не могу не обращать внимание на голландцев. Они одновременно методичные и деятельные, алчные и беззаботные, домоседы и путешественники, охотно отправляющиеся на Яву, в Малайзию, в Японию, но только не в Париж.
Голландцев называют европейскими китайцами и матросами человечества.
Антуанетта, я получил ваше письмо в Анвере, и оно принесло мне радость.
Ваши утешения мне приятны, но рана слишком глубока. И все-таки посылайте мне добрые слова, рассказывайте мне о себе. Я прошу вас об этом, я умоляю. Очень плохо, что вы думаете, будто ваша жизнь мне безразлична.
Вы нашли господина д'Авриньи изменившимся? Не беспокойтесь об этом, Антуанетта, потому что каждый волен выбирать то, что он хочет. Уверяю вас, чем больше он угнетен, тем больше он доволен. Чем больше страдает его тело, тем больше радуется душа.
Вы хотите, чтобы я вам еще и еще рассказывал о Мадлен. Это дает мне возможность чаще писать вам, и о чем мне писать, как не о ней? Она — передо мной, со мной, во мне, ничто не может так радовать мое израненное сердце, как воспоминания о ней.
Хотите, я вам расскажу, как мы узнали о нашей любви?
Это было весенним вечером два с половиной года назад. Мы сидели в саду под липами. Из вашего окна видно это место.
Поклонитесь ему от моего имени, Антуанетта, поклонитесь всему саду. Повсюду шагали ее легкие ноги, к каждому дереву прикасалась ее вуаль, шарф или платок, в каждом уголке звучал ее нежный голос.
Итак, весенним вечером мы сидели вдвоем и, устав болтать о настоящем, стали весело разговаривать о будущем.
Вы знаете, несмотря на меланхолический вид, моя милая Мадлен была смешливой. Смеясь, мы заговорили о браке, не о любви.
Какие качества нужно иметь, чтобы покорить сердце Мадлен?
Какие достоинства, чтобы задеть мое?
И мы составили целый список совершенств, какие мы бы потребовали от избранника или избранницы, затем, сравнив наши пожелания, мы нашли их схожими.
— Прежде всего, — сказал я, — я хотел бы знать много лет, почти наизусть, ту, которой я отдам душу.
— О, я тоже, — сказала Мадлен. — Когда ухаживает незнакомый человек, то видишь не его истинное лицо, а маску. Воздыхатель облачает в черный фрак известный идеал, и только после свадьбы можно узнать, что он собой представляет.
— Значит, — заговорил я, улыбаясь, — это мы уже прояснили. Да, я хотел бы в течение длительного знакомства узнать достоинства моей избранницы. Я бы хотел также, если это не покажется вам чрезмерным требованием, чтобы она соединила в себе три качества: красоту, доброту, ум. Все очень просто.
— Но и очень редко, увы! — ответила Мадлен.
— То, что вы говорите, не отличается скромностью, — заметил я.
— Совсем нет, — возразила она, — я хотела бы, чтобы мой будущий супруг имел достоинства, подобные тем, какие вы хотите найти у вашей жены: элегантность, преданность, благородство.
— О, Мадлен, — воскликнул я, — вам придется искать слишком долго.
— Не переоценивайте себя, Амори, — засмеялась Мадлен, — и давайте продолжим.
— О, Боже мой, — продолжил я, — я могу добавить только два-три второстепенных желания; не покажется ли вам детским капризом, если я захочу, чтобы она тоже была из аристократической семьи?
— Вы совершенно правы, Амори, и мой отец, соединяющий в себе благородство происхождения и талант, мог бы изложить для подтверждения вашего желания (если он когда-либо услышит о нем) целую социальную теорию, к которой я присоединяюсь инстинктивно, не слишком ее понимая, я желаю выйти замуж за знатного человека.
— И, наконец, — сказал я, — хотя, Боже упаси! — я совсем не жаден, я бы хотел в интересах нашего морального равенства, чтобы избавить нас от неприятных мыслей, касающихся денег, чтобы моя избранница тоже была богата. Что вы думаете об этом, Мадлен?
— Вы правы, Амори, и хотя я совсем не думала об этом потому что моего состояния достаточно для двоих, я согласна с вами.
— Остается только узнать одно!
— Что?
— Когда я найду придуманную мной фею и полюблю ее, как узнать, любит ли она меня?
— Разве можно не полюбить вас, Амори?
— Как! Вы можете убедить меня в этом?
— Конечно, Амори, я отвечаю вместо нее. Но полюбит ли меня он?
— Он будет вас обожать, уверяю вас.
— Итак, — сказала Мадлен, — перейдем от фантазий к реальности, поищем вокруг нас, среди тех, кого мы знаем. Видите ли вы кого-нибудь, кто отвечает нашим требованиям, а я…
Она вдруг замолчала и покраснела.
Мы молча смотрели друг на друга, и истина начала проявляться в наших разгоряченных головах.
Я пристально смотрел в глаза Мадлен и повторял, как бы спрашивая самого себя:
— Любимая подруга, знакомая с детства…
— Друг, в сердце которого я могла бы читать, как в своем, — сказала Мадлен.
— Нежная, красивая, умная…
— Элегантный, щедрый, благородный…
— Богатая и знатная…
— Знатный и богатый…
— Но это ваши совершенства, Мадлен.
— Это ваши достоинства, Амори.
— О! — воскликнул я с бьющимся сердцем, — если бы такая женщина, как вы, полюбила меня!
— Бог мой! — сказала, бледнея, Мадлен. — Разве вы когда-нибудь думали обо мне!
— Мадлен!
— Амори!
— Я люблю вас, Мадлен!
— Амори, я люблю вас!
Небо и наши души просветлели при этом нежном восклицании, мы ясно прочли любовь в наших сердцах.
Я напрасно коснулся этих воспоминаний, Антуанетта, они приятны, но слишком терзают меня.
Ваше следующее письмо отправляйте в Кёльн. Я напишу вам оттуда.
Прощайте, сестра моя. Любите меня немного и жалейте.
Ваш брат Амори».
— Странно, — сказал Амори, запечатав письмо и мысленно перечитывая написанное, — среди всех знакомых женщин Антуанетта — теперь единственная в мире, которая отвечает моим прежним мечтам, если бы… если бы эти мечты не умерли вместе с Мадлен; Антуанетта — тоже подруга детства; нежная, красивая, умная, богатая и знатная.
— Правда, — добавил он меланхолично, — я не люблю Антуанетту, а она не любит меня.
XLI
Антуанетта — Амори
«5 ноября.
Я еще раз видела дядю, Амори, я провела с ним еще один день, похожий на первый, увидела те же признаки продолжающегося упадка сил, сказала и услышала почти те же слова. Я не могу рассказывать о нем ничего нового.
О себе тоже, Амори.
Вы просите, чтобы я писала о себе. Благодарю вас за вашу доброту. Боже мой, а что сказать! Мои мысли слышит и судит только Бог, мои дела слишком ничтожны и скучны, клянусь вам.
Мои дни наполнены заботами по хозяйству, вышиванием и игрой на рояле.
Иногда визиты прежних друзей господина д'Авриньи прерывают монотонность этих занятий.
Но я слышу с удовольствием только два имени. Первое — имя господина де Менжи, потому что граф и его жена любят меня и относятся ко мне, как к дочери.
Другое, сознаюсь вам, Амори, — имя вашего друга Филиппа Оврэ.
Да, он единственный гость младше шестидесяти лет. Конечно, я принимаю его в присутствии миссис Браун. Чем он заслужил такую привилегию? Уж, конечно, не нудным, томным разговором, который убивает своей скукой.
Но он ваш друг, брат мой.
Впрочем, он много о вас не говорит, но я не упускаю случая побеседовать с человеком, который вас знает.
Он приходит, здоровается, садится, и, если у меня кто-нибудь есть, он хранит задумчивое молчание, довольствуясь тем, что смотрит с настойчивостью, начинающей стеснять.
Если я одна с миссис Браун, он смелеет, но, должна признать, его смелость не идет дальше повторения нескольких фраз, позволяющих мне вести разговор, и вы понимаете, Амори, мы говорим о Мадлен или о вас.
В конце концов почему я должна что-то скрывать от такого благородного и нежного сердца, как ваше? Душа нуждается в привязанности, как грудь в глотке воздуха, а вы — теплое воспоминание из моего прошлого и, пожалуй, единственная привязанность в будущем.
Должна сознаться вам, Амори, одиночество угнетает меня, и я наивно жалуюсь вам на это, потому что я никогда не умела лукавить ни с другими, ни с собой; может быть, это плохо, но мне хочется отвлечься, выйти на улицу, прогуляться по солнечной дорожке, увидеть людей… жить наконец…
Мне холодно и немного страшно в этих просторных комнатах, и когда я оказываюсь наедине с мраморными бюстами и неподвижными портретами, появляется прежняя Антуанетта. Увы, я боюсь се!
Присутствие молчаливого и созерцательного Филиппа дает мне то преимущество, что я подшучиваю и смеюсь над ним про себя, когда он здесь, и вместе с миссис Браун, когда он уходит… Я не могу его уважать: он слишком…
Ругайте, друг мой, ругайте меня сильнее за эти насмешливые замечания, какие я позволяю себе по отношению к человеку, к которому вы, может быть, испытываете привязанность…
Ругайте меня, Амори, потому что вы один можете, если захотите, исправить мои недостатки.
Но я хотела бы говорить не о нем, а о вас, Амори. Какое у вас настроение? О чем вы думаете? Что чувствуете?
Мое положение между вами и дядей очень печально. Я чувствую, что напугана и подавлена вашим двойным отчаянием…
Доверьтесь мне, Амори, не оставляйте меня наедине с собой. Имейте снисхождение к слабому, испуганному, плачущему существу.
Вы знаете, иногда я завидую Мадлен: она умерла, она счастлива на небе, а я похоронена заживо в одиночестве и забвении.
Антуанетта де Вальженсез».
XLII
Амори — Антуанетте
«Кёльн, 10 декабря.
Вы упрекаете меня, Антуанетта, в том, что я мало говорю о себе. Чтобы наказать вас, пишу вам самое эгоцентричное письмо на свете. Две-три страницы хочу посвятить моей персоне и, надеюсь, имею право уделить две-три строчки вашей.
Вам это понравится?
Я в Кёльне, скорее, напротив него — в Деце. Из моего окна (я живу в отеле «Бельвю») мне виден Рейн и город. Зрелище изумительное: солнце садится за старым городом и ясным холодным вечером создает пламенеющий фон, на котором вырисовываются темные массивные купола и черные шпили церквей.
Река с глухим рокотом течет внизу, по воде пробегают красные, багровые всполохи. Удивительная красота!
Целые часы я провожу в экстазе перед этой дивной картиной, обрамленной гигантскими башнями недостроенного (к счастью) собора.
Ибо когда каменщики, полные тщеславия, закончат творение архитекторов, вдохновленных верой, солнце не сможет больше посылать свои лучи через здание и не сможет превращать пропасть между двумя высокими башнями в пылающую заревом печь.
Я рассматриваю эти детали с интересом художника. Мне нравится этот город, старый и молодой, почтенный и кокетливый одновременно; город думает и действует.
Ах, если бы Мадлен была здесь со мной и могла видеть солнце, опускавшееся за Кёльнский собор!
Мой банкир счел своим долгом вручить мне письмо-пропуск в Казино. Разумеется, я не бываю на вечерах, которые там даются, но днем, когда залы безлюдны, я охотно провожу там час или два за чтением газет.
Однако, должен вам признаться, Антуанетта, что мне потребовалось большое усилие, чтобы подавить отвращение, вызванное первыми прочитанными газетами; в этих двенадцати колонках не было для меня ничего интересного: парижский свет продолжает смеяться и веселиться. Вся эта европейская гармония, на глади которой самое глубокое личное горе не вызывает ни малейшей ряби, внушает мне неприязнь, переходящую в гнев. В конце концов, я сказал себе:
— Что такое для равнодушных людей смерть моей обожаемой Мадлен? Одной женщиной стало меньше на земле, одним ангелом больше на небе…
Я, конечно, эгоист, если хочу, чтобы другие люди разделяли со мной мое горе. Разве я разделяю их печали?
И я снова взял с возмущением отброшенные газеты и прочитал их.
Знаете ли вы, что уже три месяца прошло со времени моего отъезда из Франции!.. Иногда я пугаюсь, думая, что дни текут в горе так же быстро, как и в радости.
Кажется, еще вчера Мадлен лежала на своей постели, я держал одну ее руку, отец другую, а вы, Антуанетта, пытались согреть ее уже остывшие ноги.
Только за границей замечаешь эту великую истину: лишь в Париже бьется настоящая жизнь, в остальном мире — только более или менее сильные ростки ее. Только в Париже мы видим движение ума и прогресс мысли. И, тем не менее, Антуанетта, я бы еще долго оставался здесь, если бы рядом был кто-то, с кем я мог бы говорить о ней, например, вы. Мы бы любовались вместе этими прекрасными картинами природы, которые создают на моих глазах Рейн и солнце.
Ах, если бы я мог сжимать чью-то руку в моей, стоя в молчаливом восхищении перед окном… Если бы я мог найти чьи-то взволнованные теми же впечатлениями глаза, чью-то душу, чтобы поделиться!..
Но нет… моя судьба — одиноко жить и умереть!..
Вы спрашиваете, Антуанетта, что происходит со мной: к чему огорчать заботами ваше чуткое сердце, которое наивно сознается в том, что одиночество леденит его и что оно хотело бы биться в унисон с другим сердцем.
Пусть сбудется ваше желание, Антуанетта! Желаю вам найти родственную душу. Пусть Бог даст вам все радости любви и избавит вас от жизненных бурь. Меня, мужчину, эти бури сокрушили!..
Но вы еще не знаете, что такое любовь, Антуанетта!
Любовь — это радость и горе, лед и пламень, эликсир жизни и яд! Она опьяняет и убивает! От балкона Джульетты до могилы — море улыбок и море слез.
Счастлив тот, кто умирает первым!
Когда Ромео находит свою любимую мертвой, что остается ему делать, как не последовать вслед за ней?
Я предоставил жизни эту работу.
Видите ли, Антуанетта, когда любишь, твое сердце бьется не в твоей груди, а в груди другого. Когда любишь, отрекаешься от себя, растворяешься в жизни другого, живешь этой жизнью. Когда любишь, витаешь в облаках до тех пор, пока смерть, унеся половину вашей души, не превратит рай в ад.
Единственное, что можно сделать, это надеяться на смерть, которая соединит после разлуки…
Смерть сестры не должна сокрушать так, как смерть возлюбленной или дочери.
У вас будут другие привязанности… Вы печальны, бедное дитя! Я понимаю зло, подтачивающее ваши силы: любовь вас волнует, активность вашего характера требует движения, величия, страсти! Вам хочется жизни, потому что вы находитесь только в ее преддверии, и таинственная книга судьбы пока закрыта для вашего невинного взгляда. Вы хотели бы использовать богатые возможности, данные вам Богом… Это правильно, Антуанетта.
Не стыдитесь же ваших желаний и вашего характера, Антуанетта, идите в мир, он открыт для вас; под покровительством ваших благородных и почтенных друзей постарайтесь найти в толпе сердце, достойное вас.
Я же, стоя у могилы Мадлен, буду по-братски наблюдать за вами.
Поспешу вам сказать; достойные сердца редки, Антуанетта, ошибка может быть роковой… Вся жизнь разыгрывается, как игра в кости: чем больше выбор, тем больше возможность ошибки. Это ужасно!
Мне выпала удача встретить на моем пути одну любимую, Мадлен. Я знал ее с детства. Поэтому я считаю себя вправе сказать, что опасно отдавать свою судьбу на волю случая, а свою душу незнакомцу!..
Будьте осторожны, Антуанетта… Хотел бы я быть в Париже, чтобы наставлять вас, как бесстрастный свидетель вашей жизни, как преданный брат.
Я был бы строг к вам, Антуанетта, и возможному избраннику пришлось бы иметь множество достоинств, чтобы заслужить мое одобрение.
Но послушайте…
Чего вам не хватает? У вас есть все: изящество, богатство, красота, знатность, природное очарование, тонкое воспитание. Вы сами — живое счастье, следует ли отдавать его кому-то, кто его не стоит и не понимает?
Имейте в виду, Антуанетта, даже здесь, вдали, я готов выслушать ваши признания, даже издалека я постараюсь увидеть и предвидеть.
Всецело ваш душой и телом
Амори.
P.S. Обратите внимание на этого Филиппа. Я знаю его, он способен вас полюбить. Он не только исключительно смешон, он может скомпрометировать вас. Он похож на машину, которая медленно разогревается, но разогревшись, может взорваться со страшным шумом.
Откровенно говоря, не эту прозу я хотел бы видеть рядом с вами, поэзией».
ДНЕВНИК ГОСПОДИНА Д'АВРИНЬИ
«Наконец-то Бог услышал мою мольбу. Я начинаю чувствовать в себе разрушительное действие болезни, которая через восемь или девять месяцев сведет меня в могилу.
Надеюсь, я не оскорбляю Бога тем, что позволю себе умереть от болезни, посланной им. Я только повинуюсь.
Да сбудется воля Бога на земле и на небе.
Мадлен, жди меня.»
XLIII
Антуанетта — Амори
«6 января.
Как вы умеете говорить о любви, Амори, как вы ее чувствуете! Я много раз перечитала ваше письмо. Каждый раз, пробегая взглядом эти строки, я говорю себе:
— Как счастлива была женщина, жизнь которой освещала такая страсть, и печально, что этот редкий дар нежности и преданности, хранимый вами, отныне бесполезен!
Вы советуете мне выезжать, посещать свет, поискать там друга, чтобы заменить утерянные привязанности, но не разочаровываете ли вы меня заранее, Амори?
Встречу ли я среди тех, кто мог бы сказать мне слова любви, такого друга, какого встретила Мадлен? Этот друг принадлежит ей и после смерти. Разве можно найти в наше время такое рыцарское самоотречение, такую изысканность чувств? Честолюбивые политики и скучающие бездельники окружают меня.
Не произносите имена Ромео и Джульетты среди этой плотной и серой толпы, Амори. Ромео и Джульетта — это мечта поэта, а не реальность этой жизни.
Все мое достояние пойдет бедным, дорогой брат, а моя душа обратится к Богу. Вот моя судьба, Амори. Вот почему я смеюсь и шучу. Смех позволяет мне думать, насмешка мешает жаловаться.
Но эта тема слишком грустная, поговорим на другую. Другая тема — это господин Филипп Оврэ.
Вы угадали, Амори, Филипп Оврэ меня любит. Слава Богу, он не признавался мне в любви, он слишком сдержан и осторожен, чтобы осмелиться на такой поступок. Но откровенно говоря, это бросается в глаза, а когда я делаю такие открытия, я не могу молчать. Не осуждайте меня, Амори.
Вы считаете, что он может меня скомпрометировать?
Дорогой Амори, вы находитесь в двухстах лье отсюда и от правды.
Если бы вы могли видеть хоть секундочку этого беднягу, понять, как он жалок передо мной, вы бы поняли, что он скорее способен повредить своей репутации, чем моей. Если он осознает свою страсть, то, несомненно, он борется с ней.
Иногда что-то начинает терзать его, и он торопливо просит разрешения удалиться, как будто он боится, что его обвинят в любви ко мне. Я склонна думать, что он опасается за чистоту своей души.
В остальном он скорее стеснен, чем стесняет, и когда он играет в вист с графом де Менжи, у него такое страдальческое выражение лица, что мне жаль его.
И так как это совсем не опасно, оставьте мне мою жертву, Амори, и я вам обещаю, что месяцев через шесть робкий Филипп осмелится пробормотать слова, похожие на признания.
Я даже не стала тревожить господина д'Авриньи описанием этих вздохов.
Мой дядя стал еще более мрачным и замкнутым.
И, боюсь, что он скоро последует за своей дочерью.
Но ведь он хочет этого, не так ли? В этом его счастье.
Все равно, я буду плакать, когда он будет счастлив…
Я должна вам сказать одну вещь, Амори: я убеждена, что дядя смертельно болен. Это только горе, или оно породило какую-то болезнь?
Я расспросила об этом молодого доктора, господина Гастона, вы его знаете, Амори. Он мне ответил, что большое потрясение, в котором человек замыкается, в определенном возрасте несет в себе зачатки разрушения всего организма. Он мне назвал две или три болезни, какие могут возникнуть из-за постоянного состояния печали, и спросил, нельзя ли ему хотя бы немного поговорить с господином д'Авриньи.
— Пяти минут будет достаточно, — сказал он мне, — чтобы установить симптомы болезни вашего дяди, если у недуга нет другой причины, кроме горя.
Первого числа, приехав в Виль-Давре, я попыталась решить эту задачу. Я сказала дяде, что доктор Гастон, один из его любимых учеников, которого он ввел в королевский дом, нуждается в консультации. Но он не дал себя обмануть.
— Да, — сказал он, — я знаю эту болезнь и я знаю больного. Но скажи доктору, дитя мое, что все лекарства бесполезны и болезнь смертельна.
Я заплакала, а он добавил:
— Утешься, Антуанетта, если ты интересуешься этим больным. Как бы ни развивалась болезнь, он проживет еще четыре или пять месяцев. Тем временем вернется Амори.
Боже мой! А если мой дядя умрет в ваше отсутствие, и я окажусь одна, совсем одна!
Вы желали иметь спутницу, Амори, чтобы вместе с ней восхищаться полями и городами? А разве не нужнее мне друг, который разделял бы со мной печали и слезы?
У меня есть такой друг, но огромное расстояние разделяет нас, а его горести разделяют нас еще больше.
Амори, что вы там делаете? Как вы можете приговаривать себя к одиночеству, которое тяготит вас так же, как меня? Что хорошего быть чужим для всего окружающего?
Амори, если вы вернетесь, мы сможем страдать вместе.
Возвращайтесь, Амори…
Ваша сестра Антуанетта».
Антуанетта — Амори
«2 марта.
Господин де Менжи сказал, что один из его племянников проезжал через Гейдельберг и узнал, что вы живете в этом городе.
Поэтому я пишу вам в Гейдельберг, Амори, и надеюсь, что это письмо будет счастливее предыдущих, и я получу на него ответ.
Боже милосердный, что происходит с вами! И почему вы прячетесь от тех, кто вас любит?
Знаете ли вы, что уже почти два месяца я не знаю, где вы живете и даже живы ли вы?
Клянусь, если бы я не была женщиной, я бы поехала вас искать, и, уверяю вас, Амори, я бы очень быстро вас нашла, как бы хорошо вы ни спрятались.
Я вам написала три письма, вы их получили? Получите ли вы это, четвертое? В каждом письме я вам писала о моей растущей тревоге.
Нет, если бы вы их получили, вы бы не нашли в себе мужества продолжать молчание. Вы бы увидели, как я страдаю от этого.
По крайней мере вы живы, и я знаю, наконец, куда писать, и если вы не ответите, я пойму, что докучаю вам и перестану нарушать ваше одиночество.
Амори, я очень несчастна! Трое меня любили, но одна умерла, другой умирает, третий меня забыл.
Как вы с таким чутким, добрым, благородным сердцем не жалеете тех, кто страдает?
Если вы промедлите с возвращением, а дядя умрет до вашего приезда, вы найдете меня в монастыре.
Если и это письмо останется без ответа, оно будет последним.
Сжальтесь над вашей сестрой, Амори.
Антуанетта».
Амори — Антуанетте
«10 марта.
Вы говорите, Антуанетта, что написали несколько писем, в которых вы выражали ваше беспокойство и на которые я не ответил.
Я не получил эти письма[83].
Скажу вам правду, Антуанетта, я не хотел их получать.
Ваше предпоследнее письмо произвело на меня удручающее впечатление, я выехал из Кёльна, не сказав, куда еду, потому что сам не знал и не предупредил почту, чтобы мне пересылали письма. Антуанетта, я хотел бежать от всех, даже от вас…
Антуанетта, дело в том, что господин д'Авриньи умирает, а я не могу умереть. Этот человек во всем превосходит меня, как в горе, так и в преданности.
Мадлен ждет нас обоих, а тот, кто говорил, что любит сильнее, придет к ней последним.
Ах, почему господин д'Авриньи помешал мне убить себя, когда я хотел это сделать? Почему он вырвал пистолет из моей руки, сказав эту фальшивую сентенцию:
«Зачем убивать себя? Ведь мы умираем».
Конечно, мы умираем. Но сейчас умирает он. Или наши организмы слишком разные, или годы пришли ему на помощь? Может быть, природа подталкивает старика вперед, к смерти, а юношу тянет назад, от нее.
И я не могу умереть.
Именно ваше письмо осветило мое сердце ярким пугающим светом. Мало-помалу (я совсем не ощущал этого) природа вновь вступила в свои права, жизнь вновь стала властвовать надо мной.
Каждый день я вмешивался в события вокруг меня и не замечал этого. Однажды я оказался в чьей-то гостиной, и только траурная лента на шляпе отличала меня от других мужчин. Вернувшись к себе, я нашел ваше письмо, где вы писали, что доктор д'Авриньи все больше слабеет, все ниже клонится к земле. Я же, напротив, с каждым днем выше поднимаю голову, с каждым днем испытываю все больший интерес к окружающему.
Следовательно, есть два вида любви: чувство отца и страсть любовника. От первой умирают, от второй — нет.
В Кёльне я уже завел новые знакомства, я уже согласился принять участие в развлечениях.
Я решил все бросить, от всего бежать, оказаться наедине с собой, чтобы в тиши и одиночестве понять, какие изменения произошли во мне за шесть месяцев.
И я уехал в Гейдельберг. Я погрузился в свою душу, я проверил свою рану. В душе больше нет слез, а в ране — крови.
Неужели я излечусь, и наша человеческая природа так слаба, что нет для нас ничего вечного, даже горя?
И я никак не могу умереть.
Иногда я отправляюсь в горы или в эту очаровательную долину Некера. Мне хочется скрыться от шума, от радости и веселья университетской молодежи этого города. Я покидаю живую подвижную природу ради неподвижной.
Но и там, под кажущейся неподвижностью, я нахожу приметы приближающейся весны: движение соков, жизненную энергию; распускаются почки, зеленеет трава — все возрождается, я ищу смерть, но на каждом шагу я встречаю жизнь.
Да, ту самую дерзкую жизнь, которая кипит в моих венах, бьется в моих висках, опьяняет и захватывает. Я полон презрения к моей трусости, полон ненависти к этой гнусной жажде жизни, я считал, что победил ее.
Иногда мне хочется поехать воевать в Африку. Теперь я даже не знаю, найду ли я в себе мужество броситься вниз со скалы.
В голове у меня все путается. Боюсь, что вы ничего не поймете, Антуанетта. Простите меня, ради Бога, за это бредовое письмо, а мое молчание и страдания, причиненные им. Простите меня, я тоже страдаю.
Помните ли вы совет, данный Гамлетом Офелии: «Иди в монастырь»?
Я готов повторить, как Гамлет: «Иди монастырь».
Да, да, иди в монастырь, бедная Антуанетта, потому что не существует нерушимой клятвы, истинного горя, вечной любви.
Ты встретишь человека, который полюбит тебя, и ты полюбишь его. Он поклянется, что твоя жизнь — это его жизнь; ты умрешь, и он захочет умереть, а через полгода он обнаружит, стыдясь этого, что он полон жизни и здоровья.
«Иди в монастырь».
Я хочу видеть господина д'Авриньи до его кончины, я хочу броситься к его ногам и просить у него прощения.
На днях я выезжаю в Париж. Когда именно, не могу сказать, но до начала мая.
Наступают хорошие ясные дни, начинается сезон путешествий. Берега Рейна станут местом встречи светского общества, где я слишком известен, и мне не удастся избегать его. Чтобы не встречать парижский свет летом, следует укрыться в Париже.
Впрочем, Антуанетта, я должен буду искупить свою вину! В ваших письмах, которые меня очень волновали, было так много сестринского сочувствия и деликатного участия! Когда я читал их, мне казалось, что я вижу вас перед собой, очаровательную в грусти, кокетливую в наивности, улыбающуюся и плачущую одновременно.
Чтобы вы простили меня, я хочу доверить вам мою судьбу, жить, подчиняясь вашим указаниям, наконец, вручить вашей чуткости мое израненное сердце.
Амори».
ДНЕВНИК ГОСПОДИНА Д'АВРИНЬИ
«Доктор Гастон хотел повидаться со мной под предлогом консультации. Но я понимаю, что он хотел взглянуть на меня. Должно быть, он узнал от Антуанетты о моей болезни.
Я отказался.
Господи, я благодарю вас за смертельный подарок, который вы послали мне. Я храню его только для себя одного и вдали от чужих глаз.
Я долго сомневался, но теперь симптомы заметны и ощутимы настолько, что вот уже неделя, как я убежден, что меня поразило воспаление мозга, одна из тех редких болезней, какую может вызвать сильное и долгое нравственное страдание.
Ученым будет любопытно ознакомиться с исследованиями, которые я оставлю после себя. Врачам будет интересно проследить развитие болезни в человеческом организме во всех ее фазах, когда ничто не препятствует ее течению.
Я нахожусь в первом периоде: небольшие провалы в памяти, моменты странной экзальтации, острые, быстро проходящие боли в голове и, наконец, резкие неожиданные сокращения мышц, заставляющие упасть на стул в момент вставания или уронить протянутую за чем-то руку.
Через два или три месяца все будет кончено.
Как это долго, два или три месяца!
Прости, Господи, мою неблагодарность!»
XLIV
Первого мая Антуанетта, как обычно, приехала в Виль-Давре около одиннадцати часов утра. Она нашла господина д'Авриньи еще на шаг приблизившимся к могиле.
В течение последних двух месяцев она замечала в его рассудке странные провалы и как бы начало безумия.
Когда разум сосредотачивается на одном, он затуманивается, как и взгляд.
Единственная мысль, которая еще светилась в его сознании, как блуждающий огонек, увлекала его к пропасти смерти. Господин д'Авриньи уже не замечал жизни.
Однако первого мая он сделал над собой усилие, как бы сознавая, что времени остается совсем мало, и с большим участием, чем всегда, стал расспрашивать Антуанетту об ее жизни и планах на будущее.
Антуанетта хотела избежать этого трудного для нее разговора, но он настаивал.
— Послушай, Антуанетта, — сказал он с безмятежной улыбкой, — оставь иллюзии о моем здоровьи, я не заблуждаюсь на этот счет. Я чувствую, что ухожу, моя душа спешит больше, чем тело, и иногда покидает этот мир ради другого, реальность ради грез.
Дело обстоит именно так, и я рад этому, Антуанетта. Иногда рассудок отказывается подчиняться мне, а это признак скорой смерти. Поэтому, пока он совсем меня не покинул, я хочу заняться тобой, моя дорогая девочка. Я хочу, чтобы твоя мать с улыбкой встретила меня на небесах. К счастью, сегодня я чувствую просветление и постараюсь выслушать тебя, не отвлекаясь. Расскажи мне, кого ты обычно принимаешь, Антуанетта?
Антуанетта назвала старых друзей, которые постоянно посещали особняк на улице Ангулем. Наконец, прозвучало имя Филиппа Оврэ.
Господин д'Авриньи попытался вспомнить его.
— Этот Филипп Оврэ, — спросил он, — из друзей Амори?
— Да, дядя.
— Он элегантен?
— Что вы, совсем нет!
— Молод и богат, насколько я понимаю?
— Да.
— Знатен?
— Нет.
— Он тебя любит?
— Боюсь, что да.
— А ты его любишь?
— Совсем нет.
— Ты даешь четкие и ясные ответы, — заметил господин д'Авриньи. — Любишь ли ты кого-нибудь, Антуанетта?
— Никого, кроме вас, — со вздохом ответила девушка.
— Но этого мало, Антуанетта, — заговорил старик. — Через месяц или два меня не будет, и после моей смерти у тебя совсем никого не останется.
— О, дядя, вы ошибаетесь, я уверена.
— Нет, дитя мое, я слабею с каждым днем. Чтобы пойти поздороваться или попрощаться с Мадлен, я уже должен опираться на руку Жозефа, а он старше меня на пять лет. К счастью, — добавил он, оборачиваясь к окну, — это окно выходит на ее могилу. В крайнем случае я смогу умереть, глядя на нее.
При этих словах старик взглянул на уголок кладбища, где покоилась Мадлен, но вдруг он приподнялся в кресле с неожиданной для него силой и воскликнул:
— Там кто-то есть! Кто-то стоит у могилы Мадлен! Какой-то незнакомец…
Он снова упал в кресло:
— Нет, это не чужой, это он!
— Кто он? — вскрикнула Антуанетта, бросаясь к окну.
— Амори, — сказал старик.
— Амори, — повторила Антуанетта, опираясь о стену и чувствуя, что у нее подкашиваются ноги.
— Да, он вернулся и прежде всего он пришел к этой могиле. Так и должно быть, это справедливо.
И господин д'Авриньи вернулся в свое обычное состояние отрешенности.
Антуанетта тоже замерла, но совсем по другой причине: господин д'Авриньи не испытывал более никаких чувств, она же испытывала их слишком много.
Да, это был Амори. Он только что приехал и сразу приказал везти себя на кладбище. Сняв шляпу, он подошел к могиле, опустился на колени, помолчал, затем помолился, встал, пошел по дорожке, ведущей к калитке, и исчез.
Антуанетта поняла, что он сейчас будет здесь, и почувствовала, как силы покидают ее.
Действительно, через несколько минут она услышала на лестнице звук приближающихся шагов, дверь открылась, и вошел Амори. Хотя Антуанетта ждала его, она не смогла удержать восклицания. Господин д'Авриньи вышел из оцепенения и обернулся.
— Амори! — воскликнула Антуанетта.
— Ах, это вы, Амори? — спокойно сказал доктор, как будто они расстались только вчера, и протянул ему руку.
Амори подошел к старику и встал перед ним на колени.
— Благословите меня, отец, — сказал он.
Господин д'Авриньи молча положил обе руки на голову Амори. Амори замер, слезы катились по его лицу. Антуанетта тоже плакала. Только доктор оставался невозмутимым.
Наконец молодой человек встал, подошел к Антуанетте, поцеловал ей руку, и все какое-то время молча смотрели друг на друга.
Амори нашел, что господин д'Авриньи за эти восемь месяцев изменился больше, чем за восемь предшествующих лет. Его волосы стали белыми как снег, спина сгорбилась, взгляд помутился, лоб покрылся морщинами, голос стал дрожать. Он был тенью самого себя.
Но Антуанетта!
Каждый день, прибавлявший старику новую морщину, украшал девушку новой прелестной черточкой.
Восемь месяцев для двадцати лет значит так же много, как для шестидесяти.
Антуанетта была очаровательнее, чем когда-либо. Взгляд с удовольствием скользил по изящной и гибкой линии ее хорошо сложенной фигуры. Ее тонкие розовые ноздри трепетали, ее большие влажные черные глаза, казалось, были готовы к меланхолии и веселью, к нежности и лукавству.
Ее щеки имели свежесть и бархатистость персика, губы — яркость вишни. Руки были маленькие, белые, пухлые и нежные. Ее ноги, казалось, не стали больше тех, какие она имела в двенадцать лет.
Это была муза, фея, пери[84].
Амори смотрел на Антуанетту и не узнавал ее.
Раньше он слишком редко и мало обращал на нее внимание: Антуанетта была рядом с Мадлен.
Со своей стороны Антуанетта считала, что он сильно изменился, и в лучшую сторону.
Горе иссушило его, но наложило на молодое лицо печать значительности, которая очень ему шла; одиночество не повредило ему, но дало ему привычку к размышлениям, которой не знала его бурная праздность, лоб его стал шире, а взгляд проникновеннее; долгие прогулки в горах принесли пользу его телу, новые мысли способствовали развитию его ума. Он побледнел, он казался серьезнее, проще, мужественнее.
Антуанетта смотрела на него из-под опущенных ресниц и чувствовала, как множество неясных мыслей мечутся у нее в голове.
Доктор заговорил первым:
— Я нахожу, что вы изменились к лучшему, Амори. Я думаю, вы скажете то же самое обо мне, — добавил он со странной интонацией.
— Да, — медленно ответил молодой человек, — и я вижу, что вы счастливы. Но что поделаешь? Мы рабы Божьи, и природа не подчиняется мне, как она послушна вам. А теперь, — мрачно продолжал он, — если позволит Бог, я останусь жить.
— Благодарю тебя, Господи! — прошептала Антуанетта со слезами на глазах.
— Вы будете жить, и это хорошо, — заговорил старик, — я всегда знал, что вы мужественны и откровенны. Я одобряю ваше решение. Должен сознаться, что я чувствую в себе какую-то ребяческую радость и мелкое тщеславие, которого я стыжусь, думая, что горе отца сильнее и убийственнее горя влюбленного; когда я размышляю об этом, мне начинает казаться, что умереть от печали лучше, чем постоянно жить с ней, жить одиноко, смиренно, оставаясь добрым к другим людям, помогая им в делах.
— Именно такая роль уготована мне в будущем, — сказал Амори, — именно такую жизнь собираюсь я вести. Скажите, дядя, разве тот, кому приходится дольше ждать, не переносит больше страданий?
— Простите, — прервала их Антуанетта, подавленная этим двойным стоицизмом, — вы оба сильнее и выше многих, и вы можете позволить себе говорить об этом. Но обратите внимание на меня и на то, что я невольно слушаю вас. Не ведите этих странных разговоров, непонятных слабой и боязливой женщине. Прошу вас, оставим Богу вопросы жизни и смерти и поговорим о вашем возвращении, Амори, о нашей радости видеть вас после столь долгого ожидания. Знаете… Я так счастлива, что вновь вижу вас! — воскликнула наивная девушка, не в силах сдержаться и взяв обе руки Амори в свои.
Разве могли мужчины устоять перед этой простой, очаровательной и непосредственной девушкой? Даже господин д'Авриньи недолго сопротивлялся дочерней нежности Антуанетты.
— Хорошо, — сказал он, — этот единственный день полностью принадлежит вам, дети мои… Делайте, что хотите. Впрочем, это один из наших последних дней.
В его голосе слышалась удивительная доброта.
Доктор расспросил Амори о его планах и намерениях, поправил с изысканной любезностью светского человека некоторые слишком категоричные мысли, с улыбкой выслушал юношеские заблуждения, трогательные иллюзии двадцатилетних. Он с удовольствием наблюдал силу и щедрость чувств этого характера.
Амори с энтузиазмом говорил о своем разочаровании, с горячностью — об угасших страстях: отныне он будет жить не для себя, а для других, он будет заниматься только филантропической деятельностью.
Проницательный доктор с серьезным видом покачивал головой, выслушивая эти мечты, и соглашался со всеми утопиями.
Что касается Антуанетты, она восхищенно слушала Амори: он такой благородный, щедрый, пылкий.
После обеда подошла очередь обсудить ее дела.
— Амори, — сказал господин д'Авриньи, когда вечером они оказались одни, — Амори, меня скоро не будет, и я вверяю ее вам. В несчастьи вы повзрослели; отстранившись от света, вы лучше поймете и людей, и их дела. Руководите Антуанеттой советами, наставляйте ее, будьте ей братом.
— Конечно, — порывисто заговорил Амори, — и очень преданным братом, уверяю вас. Да, мой дорогой опекун, я с удовольствием принимаю обязанности молодого отца, которые вы мне поручаете, и откажусь от них только в день, когда смогу ее подвести к мужу, любимому и достойному ее.
Как только разговор перешел на эту тему, Антуанетта сразу замолчала и погрустнела. Она смущенно опустила глаза, но доктор подхватил:
— Как раз перед вашим приездом мы говорили об этом, Амори, я был бы рад, если бы перед кончиной я узнал, что она живет в любви и счастье в доме супруга, равного ей. Давайте посмотрим, Амори, нет ли кого-нибудь достойного среди ваших друзей.
Теперь замолчал Амори.
XLV
— Так что же? — спросил господин д'Авриньи.
— Это очень серьезный вопрос, — сказал Амори. — Надо хорошо поразмыслить. Действительно, большинство молодых аристократов — мои товарищи.
— Назовите нам некоторых, — сказал доктор.
Амори вопросительно посмотрел на Антуанетту, но она упорно не поднимала глаз.
— Ну что ж, — заговорил Амори, вынужденный отвечать опекуну, — во-первых, Артур де Лансу.
— Да, — быстро сказал доктор, — он молод, элегантен, умен, он из хорошей семьи, у него прекрасное состояние.
— К несчастью, он не подходит Антуанетте. Это ветреник, гуляка, который стремится, что чрезвычайно смешно в девятнадцатом веке, заслужить репутацию Дон Жуана и Ловеласа. Это замечательные качества для безумцев и вертопрахов, как он, но слабая гарантия для счастья женщины.
Антуанетта вздохнула и поблагодарила Амори взглядом.
— Поговорим о другом, — сказал старик.
— Я бы предпочел Гастона де Сомервье, — продолжал Амори.
— Это подходит, — сказал доктор, — он также богат и знатен, как Артур де Ланси, и я слышал, что он серьезный, скромный и сдержанный человек.
— Если бы пришлось перечислять и остальные его качества, — заметил Амори, — пришлось бы добавить, что это глупец, но глупец со светским лоском. Попытайтесь нарушить его величественное молчание, затронуть его наигранное достоинство и вы обнаружите, уверяю вас, ничтожную и посредственную личность.
— Но разве вы не представляли мне человека по имени Леонс де Герину? — спросил старик.
— Да, сударь, — сказал Амори, краснея.
— Мне показалось, что у этого молодого человека блестящее будущее. Он уже государственный советник, не так ли?
— Да, но он не богат.
— Увы, да! — сказал господин д'Авриньи. — Но Антуанетта богата за двоих.
— Кроме того, — продолжал Амори с некоторой досадой, — говорят, что его отец играл какую-то не очень почетную роль в революции.
— В любом случае, — заметил старик, — это не может быть его отец, а его дед. Даже если это и верно, в наше время потомки не отвечают за ошибки своих предков. Итак, Амори, представьте этого молодого человека Антуанетте, при графе де Менжи, разумеется, и если он ей понравится…
— Ах, прости, — воскликнул Амори, — несколько месяцев отсутствия стерли это из моей памяти! Я забыл, что Леонс поклялся жить и умереть холостяком. Он одержим мономанией, и самые молодые и очаровательные, самые аристократичные красавицы из квартала Сен-Жермен отступили перед его диким нравом.
— Ну что ж, — сказал доктор, — а если мы вернемся к Филиппу Оврэ?
— Я вам говорила, дядя… — прервала Антуанетта.
— Пусть говорит Амори, дитя мое, — сказал господин д'Авриньи.
— Мой дорогой опекун, — заговорил Амори с видимым раздражением, — не спрашивайте меня об этом Филиппе Оврэ, я больше не хочу его видеть. Антуанетта принимала его, несмотря на мои советы, она может принимать его и теперь, если ей нравится. Но я не могу простить ему недостойную забывчивость.
— Кого он забыл? — спросил господин д'Авриньи.
— Он забыл Мадлен, сударь.
— Мадлен! — вскричали господин д'Авриньи и Антуанетта.
— Да, я скажу в двух словах, судите сами: он любил Мадлен, он сам говорил мне это, он умолял меня просить у вас для него руки Мадлен. Это было в тот самый день, когда вы согласились на наш брак. А сегодня он любит Антуанетту, как ранее любил Мадлен, как он, возможно, полюбит десяток других. Скажите, какое доверие можно питать к сердцу, меняющемуся так быстро и так основательно, забывая менее чем за год любовь, которую он называл вечной.
Услышав столь глубокое возмущение Амори, потрясенная Антуанетта склонила голову и замерла.
— Вы очень строги, Амори, — сказал господин д'Авриньи.
— Да, мне тоже так кажется, — робко заметила Антуанетта.
— Вы его защищаете, Антуанетта! — закричал Амори.
— Я защищаю нашу слабую человеческую природу, — заговорила девушка. — Амори, не все люди имеют вашу непреклонную душу и ваше незыблемое постоянство. Будьте снисходительны к слабостям, которых у вас нет.
— Это значит, — горько сказал Амори, — что Филипп снискал вашу милость… а Антуанетта…
— А Антуанетта права, — сказал господин д'Авриньи, пристально глядя на молодого человека и как бы желая читать в самой глубине его души. — Вы слишком быстро выносите приговор, Амори.
— Но мне кажется… — с пылом заговорил Амори.
— Да, — прервал его старик, — я знаю, что ваш возраст не склонен щадить и принимать слабости простых смертных. Мои белые волосы научили меня терпимости, и вы сами, возможно, когда-нибудь поймете, что самая несгибаемая воля с течением времени слабеет; в ужасной игре страстей самый сильный характер не может ручаться за себя, самый гордый ум не может сказать: «Я буду там завтра».
Не будем судить никого, чтобы не быть строго судимыми. Нас ведет судьба, а не наша воля.
— Следовательно, — воскликнул Амори, — вы предполагаете, что я тоже способен однажды предать память Мадлен?
Антуанетта побледнела и оперлась на стену.
— Я ничего не предполагаю, — сказал старик, качая головой, — я жил, я видел, я знаю. Вы берете на себя роль молодого отца Антуанетты, как вы сами сказали, постарайтесь быть добрым и милосердным.
— И не сердитесь на меня, — добавила Антуанетта с едва уловимой горечью, — за то, что однажды я призналась, что после Мадлен можно полюбить кого-то другого, не сердитесь на меня, я раскаиваюсь.
— Кто может сердиться на вас, ангел чуткости? — сказал Амори, от которого ускользнуло чувство горечи, вызвавшее эти слова, и который понял ее извинения буквально.
В этот момент, верный данным распоряжениям, Жозеф доложил, что экипаж для Антуанетты подан.
— Я еду с Антуанеттой? — спросил Амори у доктора.
— Нет, мой друг, — сказал господин д'Авриньи, — несмотря на вашу отцовскую роль, вы слишком молоды, и вам следует соблюдать в ваших отношениях с Антуанеттой самые жесткие правила, не из-за вас, разумеется, а ради общества.
— Но я приехал на почтовых лошадях и отпустил экипаж, — сказал Амори.
— Вторая коляска к вашим услугам, пусть это вас не беспокоит. Теперь вы не можете жить на улице Ангулем. Когда захотите посетить Антуанетту в Париже, я вас прошу наносить визиты в сопровождении одного из моих старых друзей. Де Менжи бывает у нее трижды в неделю в определенные часы. Он будет счастлив сопровождать вас к ней. Он это делает, как мне рассказывала Антуанетта, для Филиппа Оврэ.
— Значит, я теперь чужой?
— Нет, Амори, для меня и для Антуанетты вы — мой сын. Но в глазах света вы — молодой человек двадцати пяти лет и только.
— Будет забавно постоянно встречать этого Оврэ, которого я терпеть не могу. А я поклялся не встречаться с ним!
— Пусть он приходит, Амори, — воскликнула Антуанетта. — Вы увидите, какой прием он встретит. И, наверное, у него очень толстая кожа, если он будет продолжать свои визиты.
— Да? — сказал Амори.
— Вы сможете судить об этом сами.
— Когда?
— Уже завтра. Граф де Менжи и его супруга посвящают бедной затворнице три вечера в неделю: вторник, четверг и субботу. Завтра суббота, приходите завтра.
— Завтра… — прошептал Амори нерешительно.
— Обязательно приходите, — сказала Антуанетта, — мы так давно не виделись, нам есть о чем поговорить!
— Идите, Амори, идите, — сказал господин д'Авриньи.
— Тогда до завтра, Антуанетта, — сказал молодой человек.
— До завтра, брат, — сказала Антуанетта.
— До следующего месяца, дорогие дети, — сказал господин д'Авриньи, который с меланхоличной улыбкой слушал их спор. — Если в течение этого месяца я вам буду нужен по какой-нибудь важной причине, я разрешаю вам приехать ко мне.
Опираясь на руку Жозефа, он проводил их до экипажей и, обнимая их, сказал:
— Прощайте, друзья мои.
— Прощайте, отец, — ответили молодые люди.
— Амори, — крикнула Антуанетта, в то время как Жозеф закрывал дверцу. — Не забудьте: вторник, четверг и суббота.
Потом сказала, обращаясь к кучеру:
— Улица Ангулем.
— Улица Матюрен, — сказал Амори.
— А я пойду на могилу моей дочери, — сказал господин д'Авриньи, проводив глазами удаляющиеся экипажи.
И, опираясь на руку Жозефа, старик пошел по дороге к кладбищу. Чтобы отдать вечерний поклон дочери, как он делал это каждый день.
XLVI
На следующий день Амори приехал в особняк графа де Менжи, с которым, впрочем, они были знакомы, поскольку Амори много раз встречал его прежде в доме господина д'Авриньи.
Тогда их отношения были холодными и редкими. Юность тянется к юности, но старается отдалиться от старости.
Письмо Антуанетты графу опередило Амори. Она хотела предупредить своего старого друга о намерениях господина д'Авриньи, касающихся роли покровителя, какую он дал или, скорее, разрешил взять своему воспитаннику, и предупредить таким образом вопросы, сомнения или удивление, какие могли бы привести Амори в замешательство или ранить его.
Когда Амори приехал, граф уже ждал его и принял его, как человека, облеченного полным доверием господина д'Авриньи.
— Я восхищен, — сказал ему господин де Менжи, — что мой бедный старый друг дал мне в помощники второго опекуна Антуанетты, который, благодаря своей молодости, сумеет читать лучше меня в сердце двадцатилетней девушки, который сможет посвятить меня в планы моего друга.
— Увы! Сударь, — ответил Амори с грустной улыбкой, — моя молодость состарилась с того момента, когда я имел честь познакомиться с вами. Я так много смотрел в свое собственное сердце за эти шесть месяцев, что не уверен в моей способности читать в сердцах других.
— Да, я знаю, сударь, — сказал граф, — я знаю, какое несчастье вас постигло и как ужасен был удар. Ваша любовь к Мадлен была той страстью, которая заполняет всю жизнь. Но чем больше вы любили Мадлен, тем важнее долг по отношению к ее кузине, к ее сестре. Именно так, если я хорошо помню, ее называла Мадлен.
— Да, Мадлен очень любила нашу подопечную, хотя в последнее время эта дружба несколько остыла. Но господин д'Авриньи объяснял это болезненными отклонениями, последствиями высокой температуры.
— Ну что ж, поговорим серьезно, сударь. Наш дорогой доктор хочет выдать ее замуж, не правда ли?
— Я полагаю.
— А я в этом уверен. Не говорил ли он о некоем молодом человеке.
— Он говорил о многих, сударь.
— А о сыне одного из его друзей?
Амори понял, что он не может отступать.
— Вчера он произнес при мне имя Рауля де Менжи.
— Моего племянника? Я знал, что таково желание моего дорогого д'Авриньи. Вы, должно быть, знаете, что я предполагал женить Рауля на Мадлен.
— Да, сударь.
— Я не знал, что д'Авриньи уже дал право вам, и по первому слову, сказанному им об этом обязательстве, я отказался от моей просьбы. Должен признаться, теперь я попросил для Рауля руку Антуанетты, и мой бедный друг ответил, что он не будет препятствовать этому плану. Буду ли я иметь счастье, сударь, получить теперь и ваше согласие?
— Разумеется, сударь, — ответил Амори с некоторым волнением, — и если Антуанетта полюбит вашего племянника… Но, простите, мне казалось, что виконт — атташе в посольстве Санкт-Петербурга?
— Конечно, сударь, он второй секретарь, но он получил отпуск.
— И он скоро приедет? — спросил Амори, и сердце его сжалось.
— Он приехал вчера, и я буду иметь честь вам его представить. Вот и он.
В этот момент на пороге появился изысканно одетый высокий молодой человек с темными волосами, спокойным и холодным лицом. Он носил в петлице ленточки орденов Почетного Легиона, Полярной Звезды Швеции и Святой Анны России.
Амори одним взглядом оценил физические достоинства своего собрата в дипломатии.
Когда граф де Менжи назвал их имена, молодые люди холодно поклонились друг другу. В некоторых кругах холодность является свидетельством хороших манер, поэтому господин де Менжи не заметил отчужденности, которую его племянник и Амори инстинктивно продемонстрировали друг другу.
Тем не менее они обменялись несколькими банальными фразами. Амори хорошо знал посла, покровителя Менжи. Темой для разговора послужила французская дипломатическая миссия при русском дворе. Виконт рассыпался в похвалах царю.
Когда разговор уже начал замирать, лакей открыл дверь и доложил о Филиппе Оврэ.
Читатель помнит, что Филипп приходил к графу де Менжи по вторникам, четвергам и субботам, чтобы вместе с ним отправиться к Антуанетте. Эта его привычка была очень приятна старой графине де Менжи, которой он оказывал множество мелких услуг.
Амори был с Филиппом Оврэ не просто холоден, а почти груб.
При виде своего старого товарища, о чьем приезде он не знал, Филипп сначала потерял дар речи. Все-таки он подошел к Амори и, краснея и запинаясь, сказал ему несколько любезных слов по поводу его возвращения.
Но Амори ему ответил пренебрежительным кивком головы и, когда Филипп вежливо и заискивающе продолжил свои комплименты, он и вовсе отвернулся, оперся на камин, взял в руки экран и стал разглядывать его роспись.
Молодой виконт незаметно улыбнулся, глядя на Филиппа, оставшегося на прежнем месте со шляпой в руке и смотревшего вокруг испуганными глазами, словно ища жалостливую душу, способную прийти ему на помощь.
Вошла графиня де Менжи. Филипп почувствовал, что спасен, облегченно вздохнул и бросился к ней.
— Господа, — сказал граф, — мы не поместимся теперь в одной карете. Амори, вы приехали в своем экипаже?
— Конечно, — воскликнул Амори, — и я могу предложить место господину виконту.
— Я как раз собирался просить об этом, — сказал молодой де Менжи.
Как вы понимаете, Амори поспешил сделать это, опасаясь, как бы ему не предложили подвезти этого Филиппа Оврэ.
Итак, все устроилось, если не наилучшим образом, то и не самым худшим.
Господин де Менжи, графиня и Филипп сели в почтенную карету графа, а Рауль и Амори последовали за ними в легкой коляске.
Они приехали в маленький особняк на улице Ангулем, куда Амори не входил целых шесть месяцев. Слуги были прежние и встретили его радостными возгласами, и, опустошая свои карманы, Амори отвечал им грустной улыбкой.
XLVII
В прихожей граф де Менжи остановился:
— Господа, — сказал он, — я вас предупреждаю, что вы найдете у Антуанетты пять или шесть моих ровесников, которых она очаровала и которые, как и я, приняли приятное решение посвящать ей три вечера в неделю. Я также предупреждаю вас, господа, чтобы понравиться Антуанетте, молодые люди должны понравиться старикам.
— Теперь, господа, вы все знаете, моя речь закончена, войдем.
Вы понимаете, что вечера, даваемые девушкой двадцати лет старикам семидесяти лет, были очень скромные и тихие: два стола для игры в карты, пяльца Антуанетты и миссис Браун в середине салона, кресла вокруг пялец для тех, кто предпочитает беседу висту или бостону — такова была обстановка этих простых собраний.
В девять часов пили чай, в одиннадцать все возвращались к себе.
Этими несколько однообразными занятиями Антуанетта добилась того, что ее шестидесятилетние друзья говорили, что никогда они не проводили столь приятных вечеров даже тогда, когда их белые волосы были черными или белокурыми. Это, конечно, большая победа, и чтобы одержать ее, Антуанетта должна была постоянно иметь ровное настроение, очаровательную улыбку, милую шутку.
Когда Амори вошел в гостиную, он был потрясен: Антуанетта сидела на своем привычном месте, но раньше рядом с ней всегда была Мадлен.
Прошел ровно год с того времени, когда мы открыли перед нашими читателями первую страницу этого романа, когда Амори осторожно вошел в гостиную, и обе кузины, вздрогнув, громко вскрикнули.
Увы! На этот раз никто не вскрикнул, но Антуанетта, слушая доклады о приходящих гостях, покраснела и затрепетала при имени Амори.
Вы понимаете, что чувства молодых людей не ограничивались этими проявлениями.
Из гостиной, как вы помните, можно было выйти прямо в сад, этот целый мир воспоминаний для Амори.
Пока составлялись партии в вист и бостон, а любители беседы собирались вокруг Антуанетты и миссис Браун, Амори, чувствуя себя почти дома, выскользнул на крыльцо и спустился в сад.
Небо было ясное и сияло множеством звезд, воздух был теплый и душистый.
Чувствовалось, что весна расправляет крылья над землей. Природа разливала вокруг живительное и свежее дыхание, разносимое легким майским ветерком. Уже было несколько прекрасных дней и несколько теплых ночей. Цветы расцветали, лилии уже отцвели.
И странное дело! Амори не находил в этом саду мучительных чувств, какие он пришел искать.
Как в Гейдельберге, жизнь была везде и во всем.
Воспоминание о Мадлен, несомненно, жило в этом саду, но спокойное и утешившееся. Мадлен говорила с ним дуновением ветра, ласкала его ароматом цветов, удерживала его за фрак веткой розового куста, с которого она столько раз срывала бутоны.
Но все это не было ни печальным, ни даже меланхоличным; напротив, эти перевоплощения девушки были радостными и, казалось, говорили Амори:
«Нет смерти, Амори, есть два существования и только; одно — на земле, другое — на небе, одна жизнь в этом мире, другая — в другом. Несчастен тот, кто еще прикован к земле, блажен тот, кто уже поселился на небе».
Амори почувствовал себя околдованным. Ему было стыдно, что сад зачаровал его. Это был рай его детства, разделенный с Мадлен. Он посидел под липами, где впервые они сказали друг другу слова любви. Воспоминания об этой любви показались ему полными прелести, но лишенными какого-либо страдания. Тогда он сел в беседку из лилий, на эту роковую скамью, где он поцеловал Мадлен, и поцелуй оказался смертельным.
Он пытался вызвать в своей памяти самые мучительные подробности ее болезни, он бы многое отдал, чтобы найти те ручьи слез, которые текли из его глаз шесть месяцев назад, но он нашел там только нежную истому, он откинул голову к решетке беседки, закрыл глаза, сосредоточился, сжал свое сердце, чтобы исторгнуть слезы, — все было напрасно.
Казалось, Мадлен была рядом с ним; воздух, овевающий его лицо, был дыханием девушки, соцветия ракитника, ласкающие его лоб, были ее пушистыми волосами; иллюзия оказалась странной, неожиданной, живой, ему почудилось, что скамья, на которой он сидел, слегка прогнулась под весом другого тела, он тяжело дышал, его грудь поднималась и опускалась в обжигающем дыхании, иллюзия была полная.
Он прошептал несколько бессвязных слов и протянул руку.
Чья-то рука взяла ее.
Амори открыл глаза и испуганно вскрикнул: рядом с ним стояла женщина.
— Мадлен! — закричал он.
— Увы, нет, — ответил голос, — всего лишь Антуанетта.
— Антуанетта, Антуанетта! — воскликнул молодой человек, прижимая ее к сердцу и найдя, наконец, в большой радости те слезы, которые он напрасно искал в горе. — Вы видите, Антуанетта, я думал о Ней.
Это был крик удовлетворенного самолюбия: кто-то видел его слезы, и Амори плакал. Рядом был кто-то, кому он мог сказать, как он страдает. И он сказал это таким правдивым тоном, что и сам почти поверил.
— Я поняла, — сказала Антуанетта, — что вы здесь и вы в отчаянии, Амори. Я сказала, что мне нужен шелк, я прошла через маленький салон, я спустилась в сад и прибежала к вам. Вы сейчас вернетесь, не правда ли?
— Разумеется, — ответил Амори, — только позвольте дать высохнуть моим слезам. Благодарю за ваше дружеское участие, благодарю за сочувствие, сестра.
Девушка знала, что ее отсутствие не должно быть замечено, и убежала, похожая на легкую газель.
Амори следил за ее белым платьем, то появляющимся, то исчезающим за деревьями. Он видел, как она поднялась на крыльцо, быстрая и неуловимая, как тень, и дверь маленького салона закрылась.
XLVIII
Через десять минут Амори вошел в гостиную, и граф де Менжи, вздохнув, обратил внимание своей жены на покрасневшие глаза их юного друга.
В предыдущей главе, если помнит читатель, мы воздали должное всегда ровному настроению Антуанетты.
Но или похвала была преждевременной, или прибытие новых гостей нарушило ее спокойствие и безмятежность, о которых мы говорили, но они вскоре превратились в кокетство, непостоянство и капризность.
Во всяком случае, взяв на себя роль простого повествователя, мы отмечаем тот факт, что в течение одного месяца внимание, предупредительность и любезность Антуанетты обратились к трем разным объектам.
Амори, Рауль и Филипп имели каждый свой черед и были подобны византийским императорам, чья история делилась на периоды взлета, упадка и невзгод.
Амори, появившийся первым, царствовал с первого числа месяца по десятое, Рауль с одиннадцатого по двадцатое, Филипп с двадцать первого по тридцатое.
Расскажем подробно об этих странных поворотах судьбы и удивительных революциях: пусть более проницательные читатели и читательницы попробуют объяснить их; мы же попросту расскажем о происходящих событиях.
Амори имел полный успех первые четыре вечера. Рауль, очень воспитанный молодой человек, оставался неизменно вежлив и остроумен. Филипп же выглядел совершенно бесцветным рядом с этими блестящими кавалерами.
Антуанетта была очаровательна с первым, любезна со вторым, вежлива, но холодна с третьим.
Когда партии для игры были составлены, а любители поговорить устраивались на сиденьях, Амори всегда занимал кресло рядом с Антуанеттой, и часто во время общего разговора они вели свою тихую задушевную беседу.
И это еще не все! Однажды Антуанетта случайно упомянула итальянскую книгу «Последние письма Джакобо Ортиса», которую она хотела бы почитать. Амори имел эту книгу и очень ею дорожил, однако на следующий день он приехал, чтобы передать книгу миссис Браун. Но так получилось, что, войдя в прихожую, он увидел там Антуанетту. Разумеется, пришлось обменяться несколькими словами.
Потом появился альбом, который следовало помочь украсить знаменитыми автографами. Затем Амори забрал у Фромана Мериса, умелого ювелира, этого Бенвенуто[85] девятнадцатого века, браслет, который тот никак не мог закончить, и с триумфом принес его девушке.
Наконец, однажды вечером Амори вертел в руках железный ключик и машинально положил его в карман. И на следующий день был вынужден как можно раньше ехать возвращать его. Разве не мог ключ потребоваться Антуанетте?
И это, однако, еще не все.
Во время своего путешествия по Германии Амори не завел ни одного знакомства в тех местах, где он проезжал, и ему не представилось случая сесть на лошадь, вернее, сесть на хорошую лошадь. Амори же был одним из самых замечательных наездников Парижа, он любил верховую езду, как любят любое упражнение, в котором преуспевают.
И каждое утро Амори выезжал на своем верном Стурме. Так как он уже привык к этой дороге (Амори или Стурм — кто знает?), ему было достаточно отпустить поводья, и Стурм выбирал знакомый путь.
Антуанетта вставала раньше, чем бедная Мадлен.
Поэтому почти каждое утро Амори видел Антуанетту у того самого окна, из которого она наблюдала его отъезд с господином д'Авриньи. Амори обменивался с ней взглядом, улыбкой или приветственным жестом, потом Стурм, давно выучивший свой урок, шел шагом до конца улицы. Затем, не ожидая ни хлыста, ни шпор, он сам пускался в галоп, то же самое повторялось на обратном пути, Амори не трогал поводья: Стурм был необычайно умной лошадью!
Дело в том, что Амори после этой долгой зимы, проведенной в Германии, чувствовал, что его сердце оттаивает и оживает, а сам он словно заново рождается на свет.
Амори не мог бы точно назвать причину своей радости, но он был счастлив, он начинал поднимать голову, так долго склонявшуюся от горя и отвращения. Он относился теперь к жизни со странной снисходительностью, а ко всем людям с безграничной доброжелательностью.
Но в последний день его опьянение рассеялось.
В этот вечер Амори был более внимателен и любезен с Антуанеттой, чем когда-либо. Их уединенные беседы возобновлялись чаще и продолжались дольше, чем обычно.
Граф де Менжи, казалось бы, поглощенный игрой, ничего не упускал из виду, и когда игра закончилась, он увлек Антуанетту в угол гостиной и тихо сказал, целуя ее в лоб:
— Почему вы скрыли от нас, маленькая лицемерка, что безутешный Амори, с его повадками опекуна, влюблен в свою воспитанницу, и что под видом брата в нем прячется влюбленный? Черт побери! Он не настолько стар, чтобы его принимали за Бартоло[86], а я не настолько глуп, чтобы играть роль Жеронта[87]… Ну хорошо, хорошо, вот вы и заволновались! Но он прав, если любит вас!
— Это неверно, господин граф, вы ошибаетесь, — ответила Антуанетта твердо, несмотря на бледность, внезапно покрывшую ее лицо, — это не может быть правдой, потому что я не люблю его.
Господин де Менжи жестом выразил удивление и сомнение, но к ним подходили, и он должен был удалиться, не сказав и не узнав больше ничего.
С этого дня для Амори начался период упадка, для Рауля — время триумфа.
Виконт де Менжи стал ближайшим другом и вернейшим соседом Антуанетты. Ему теперь были адресованы слова, улыбки и взгляды.
Амори удивился. На следующий день он принес романс, который Антуанетта у него просила на прошлой неделе. Его приняла миссис Браун. Он приходил и в другие дни под разными предлогами и в разное время, но каждый раз вместо очаровательной девушки он видел высохшее лицо гувернантки.
Более того: напрасно он проезжал утром перед особняком в обычное время. Окно, где раньше появлялась Антуанетта, оставалось закрытым, шторы опущены, что указывало на желание помешать нескромному взгляду проникнуть в комнату.
Амори был в отчаянии.
Филипп же оставался по-прежнему немым, пассивным и бесцветным. Амори подошел к нему с менее холодным выражением лица, чем обычно, и бедный юноша с готовностью принял эти знаки участия. Разговаривая с Амори, он имел виноватый вид, словно в чем-то упрекал себя. Филипп слушал чрезвычайно внимательно и одобрял все, что Амори делал и говорил.
Амори не обращал внимания на эти любезности, его беспокоили упорные ухаживания и очевидный успех Рауля де Менжи.
Антуанетта занималась почти исключительно Раулем, одаривала его знаками внимания и была гораздо вежливее с Филиппом, помещая его на второе место около своей персоны.
Амори же мог определить себя только на третье место.
Степенный опекун нашел такое положение вещей совершенно нестерпимым и не смог сдержаться.
К концу пятого вечера своей пытки он воспользовался моментом, когда при отъезде гостей Антуанетта вышла распорядиться, и тихо, но горько сказал ей:
— Скажите, Антуанетта, вы больше не доверяете мне, вашему другу, вашему брату? Вы знаете намерения графа де Менжи относительно вашего брака с его племянником, вы согласны…
Антуанетта хотела что-то сказать.
— Ну и слава Богу! Я вас одобряю: виконт — чудесный молодой человек, элегантный, с великолепными манерами, он подходит вам во всех отношениях. Хотя мне кажется, он старше вас на двенадцать лет.
Но если вы, наконец, встретили мужчину, которого вы считаете достойным вашего сердца, зачем вы относитесь ко мне так отчужденно и прячетесь от меня? Я полностью согласен с вами, моя дорогая Антуанетта, и повторяю вам: вы не могли бы встретить мужа более знатного, богатого и умного, чем виконт де Менжи.
Антуанетта слушала Амори с глубоким изумлением, не находя слов, чтобы остановить его.
Однако, когда он замолчал, надо было что-то отвечать.
— Господин Рауль — мой муж? — пробормотала она.
— Да, конечно, — заговорил Амори, — не делайте удивленные глаза, ничего нет странного в том, что граф де Менжи рассказал вам, как и мне, о своем плане. И если планы находятся в полной гармонии с вашей склонностью…
— Но, Амори, клянусь вам…
— Зачем вы клянетесь и защищаетесь, если я нахожу, что вы правы и не могли бы сделать лучшего выбора?
Антуанетта хотела заговорить, но их прервали, потом она попрощалась с гостями, и Амори, вынужденный следовать за ними, не смог добавить ни слова.
XLIX
Весь следующий день Амори тщетно надеялся получить письмо: его хотят видеть и объясниться.
Он ждал напрасно, письма не было.
Но через день, в четверг, начался третий период: Антуанетта обращалась с Раулем крайне сдержанно. Амори, однако, не удостоился большего, чем раньше.
Но Филипп неожиданно оказался в центре благожелательности Антуанетты, в ослепительных лучах ее внимания, какие ранее поочередно освещали Амори и Рауля. Бедный молодой человек был ослеплен.
Было очень забавно наблюдать за Филиппом, выдвинутым почти против его воли на первый план интриги, в которой участвовали такие светские львы, как Амори де Леонвиль и Рауль де Менжи.
Бедный Филипп не только не оказался на высоте своего положения, но, очевидно, он хотел бы отказаться от него, он был испуган своим счастьем. Он испытывал какую-то неловкость, даже стыд, которые заставляли его уклоняться от милостивого внимания Антуанетты. Каждую минуту он словно просил прощения у своих соперников, делающих вид, что не замечают этого.
Но каждый из них мысленно задавал себе самые нелестные вопросы, касающиеся объекта этого странного каприза, Антуанетты.
Как Антуанетта, такая гордая, такая благовоспитанная и… насмешливая, могла отличать человека, столь недостойного ее? Это было непонятно, невозможно, удивительно. Конечно же, они ошиблись, и этот каприз пройдет к следующему вечеру. Они с нетерпением ждали субботы.
В субботу повторилась программа четверга: внимание Антуанетты, замешательство Филиппа. Больше они не могли ошибаться: именно Оврэ был избранником. Бедный молодой человек не знал, что делать. Семь месяцев пренебрежения Антуанетты заставили его страдать меньше, чем эти два вечера благосклонности.
Читателю понятно, что, хотя на лице Филиппа читалось полное смирение, по мере того, как его звезда всходила, к Амори возвращались его прежняя холодность и высокомерный вид.
Вы поймете, что Амори имел некоторое право быть недовольным, когда узнаете, что уже трижды, проезжая перед особняком своей воспитанницы, суровый опекун заметил какого-то незнакомца, бродящего вокруг и постаравшегося скрыться, когда его заметили. Но не так быстро и ловко, чтобы Амори не уловил сходства между назойливым пешеходом и своим старым другом Филиппом.
Эти встречи повторялись каждый раз, когда Амори проезжал по улице, и довели его возмущение до предела. Неужели этот ничтожный Филипп, робость которого он знал, осмелился бы на подобное, если бы его не поощряли?
Антуанетта была неузнаваема: кокетничать с глупцом! Кончится это тем, что она скомпрометирует себя! Амори — ее опекун, друг, брат — не мог этого вынести. Он должен поговорить с ней серьезно и откровенно, как сделал бы господин д'Авриньи на его месте. А пока он проедет по улице десять раз вместо одного, чтобы удостовериться, что этот дерзкий был именно Филипп.
А в это время Рауль де Менжи тоже испытывал некоторое душевное беспокойство и тоже был погружен в размышления.
Сначала он удивился резким изменениям температуры женского барометра. Затем стал наблюдать за происходящим с тонкостью и внимательностью дипломата.
Поэтому, когда в конце мая дядя, видевший, как постепенно растет успех Рауля, и считавший его в зените славы, спросил, как идут его дела с Антуанеттой, виконт ответил:
— Мой дорогой дядя, полагаю, что вы совершенно напрасно заставили меня проделать восемьсот лье, чтобы я женился на женщине с улицы Ангулем. Во всяком случае, заявляю вам, что я легко откажусь от Изабеллы, под балконом которой каждое утро прогуливается такой Леандр, как Филипп, и такой Линдор, как Амори.
— Рауль, — важно сказал граф, — некрасиво опираться на слухи.
— Но, дядя, — ответил Рауль, — на этот раз я не полагаюсь на данные посольской полиции, я верю тому, что я видел.
Но граф, вместо того, чтобы выслушать племянника сурово отчитал его. Он не хотел, чтобы даже тень подозрения падала на его милую подопечную.
Рауль не настаивал, он был очень корректен и замолчал с тем чувством почтения, какое питает любой хорошо воспитанный племянник к дяде, обладающему пятьюдесятью тысячами ливров дохода. Кроме того, он являлся его единственным наследником.
У Рауля де Менжи был друг, занимавший дом напротив известного нам особняка на улице Ангулем. Каждое утро Рауль приходил к другу поболтать и выкурить сигару. По причине своего душевного волнения и ежедневного времяпровождения за сигарой он видел все, что происходило на улице, поскольку окна были по-прежнему закрыты, а шторы опущены.
Хотя господин де Менжи сначала не придал значения, вернее, не хотел придавать значения открытиям своего племянника, он был поражен ими и тотчас написал Амори, прося уделить ему время для разговора.
Это происходило тридцатого мая, в четверг.
Амори как раз собирался выходить и, получив письмо господина де Менжи, тотчас отправился к старику, которого он уважал и отеческую привязанность которого постоянно ощущал.
— Господин Амори, — сказал граф, — разрешите выразить вам мою признательность за то, что вы поспешили последовать моему приглашению. Я знаю, что мое послание застало вас у двери, но я должен вам сказать два слова, и я уверен, что вы их поймете без излишних объяснений.
Вы обещали господину д'Авриньи опекать его племянницу, быть ей Советчиком, наставником, братом?
— Да, господин граф, я дал это обещание, и я его сдержу.
— Следовательно, вам дорога ее репутация?
— Больше, чем моя, господин граф.
— Так вот я должен вам сказать, что некий молодой человек, — господин де Менжи сделал ударение на последних словах, — без сомнения, ослепленный своей страстью — и хотя надо многое прощать безумно влюбленным — он компрометирует Антуанетту своим частым появлением на улице, где она живет. Иногда неосторожность его доходит до того, что он, не отдавая себе отчета, останавливается под ее окнами.
— Я вам отвечу, господин граф, — сказал Амори, нахмурив брови, — что вы не сообщаете мне ничего нового. Я знал, что вы скажете именно это.
— Но, — продолжал господин де Менжи, который хотел дать понять одному из виновников всю серьезность положения, — неужели вы думали, что, кроме вас, никто этого не знает?
— Да, господин граф, — сказал Амори, все больше хмурясь, — я действительно думал, что только мне известно об этом легкомыслии. Кажется, я ошибся.
— Конечно, вы понимаете, мой дорогой господин де Леонвиль, — заговорил граф, — что честь Антуанетты вне подозрений, которые могло бы вызвать подобное поведение. Однако…
— Однако, — продолжил Амори, — вы считаете, господин граф, что эти выходки должны прекратиться как не совсем приличные? Таково и мое мнение.
— Именно с этой целью, признаюсь вам и прошу простить мою откровенность, я и пригласил вас, мой дорогой Амори.
— Сударь, — сказал Амори, — я даю вам слово чести, что, начиная с сегодняшнего дня, эта ситуация изменится.
— Мне достаточно вашего слова, мой дорогой Амори, — ответил господин де Менжи. — С этой минуты я закрываю глаза и уши.
— А я, сударь, благодарю вас за доверие, с которым вы поручаете мне пресечь попытки этого безумца и нахала.
— Как! Что вы этим хотите сказать?
— Господин граф, — сказал Амори очень значительно, — честь имею откланяться.
— Простите, мой юный друг, но мне кажется, что вы меня плохо поняли или даже совсем не поняли.
— Что вы, господин граф, я прекрасно все понял, — ответил Амори.
И, поклонившись еще раз, он вышел, не дав господину де Менжи добавить ни слова.
— Ах, это ничтожество! — вскричал Амори, вскакивая в свой экипаж. Он не сомневался, что выговор относится к Филиппу. — Итак, я не ошибся, именно твою милость я видел перед домом на улице Ангулем. И ты компрометируешь Антуанетту! Черт побери, я давно жажду надрать тебе уши, и если такой человек, как господин де Менжи, дает мне совет, я с тем большим удовольствием это сделаю.
Так как он не давал никакого приказа, лакей, закрывая дверцу, спросил:
— Куда сударь изволит ехать?
— К господину Филиппу Оврэ, — ответил Амори тоном, в котором внимательный слушатель уловил бы угрожающие ноты.
L
Дорога была долгой, так как Филипп, не желая изменять своим старым привычкам, по-прежнему жил в Латинском квартале.
За это время плохое настроение Амори превратилось в гнев, и когда этот Орест[88] оказался у дверей Пилада, не будет поэтическим преувеличением сие сказать, буря бушевала в его груди.
Амори сильно потянул за шнурок звонка, не обращая внимания на то, что ручку, кроличью лапку, на улице Сен-Никола-дю-Шардонре заменило копытце косули.
Улыбающаяся толстая служанка открыла дверь: в своем юношеском простодушии Филипп все еще пользовался услугами служанок, а не лакеев.
Он сидел в кабинете, облокотившись на стол, запустив руки в волосы, и изучал вопрос об общей стоимости.
Толстая служанка не посчитала нужным спросить имя Амори и на вопрос, дома ли Филипп, пошла вперед, открыла дверь и доложила о посетителе самым простым способом:
— Сударь, какой-то господин вас спрашивает.
Филипп поднял голову, вздохнул, и поэтому мы думаем, что в вопросе о собственности больше меланхолии, чем кажется, и удивленно вскрикнул, узнав Амори:
— Как, это ты! Дорогой Амори, я так рад видеть тебя!
Но Амори, неуязвимый для таких нежных проявлений, оставался холодным и строгим.
— Знаете ли вы, что привело меня, господин Филипп?
— Еще нет, но я собираюсь к тебе уже четвертый или пятый день и никак не могу решиться.
Амори пренебрежительно поджал уголки рта и язвительная улыбка появилась на его губах.
— Да, конечно, — сказал он, — я понимаю ваши колебания.
— Ты понимаешь мои колебания… — прошептал бедный молодой человек, бледнея. — Но тогда ты знаешь…
— Я знаю, господин Филипп, — заговорил Амори резким и отрывистым тоном, — что господин д'Авриньи поручил мне заменить его рядом с его племянницей. Я знаю, что меня касается все, что может нанести ущерб репутации этой девушки. Я знаю, наконец, что несколько раз встретил вас под ее окнами, и другие также встречали вас там. Я знаю, что вы виноваты, по меньшей мере, в легкомыслии, и я приехал требовать у вас отчета о вашем поведении.
— Мой дорогой друг, — сказал Филипп, закрывая свой том с видом человека, должного в данный момент заниматься только одним делом, — именно об этих мелочах я и собирался поговорить с тобой все эти дни.
— Что! Поговорить о мелочах! — воскликнул возмущенный Амори. — Вы называете мелочами вопросы чести, репутации, будущего?
— Мой дорогой Амори, ты же понимаешь, «мелочи» — это просто оборот речи, я должен был бы сказать «о серьезных вещах», ибо настоящая любовь — это серьезно.
— Так, наконец-то произнесено нужное слово. Итак, вы сознаетесь в любви к Антуанетте?
Филипп принял самый сокрушенный вид, на какой был способен.
— Да, сознаюсь, дорогой друг, — сказал он.
Амори скрестил руки на груди и поднял негодующий взгляд к небу.
— У меня, разумеется, самые серьезные намерения, — продолжал Филипп.
— Вы любите Антуанетту!..
— Друг мой, — сказал Филипп, — я не знаю, известно ли тебе, что у меня умер дядя, и теперь я имею пятьдесят тысяч ливров дохода.
— Разве об этом идет речь!
— Извини, но я думаю, это не помешает.
— Конечно нет, но все усложняет то, что восемь месяцев назад вы любили Мадлен столь же сильной любовью, как сегодня Антуанетту.
— Увы, Амори! — воскликнул Филипп самым жалобным тоном. — Ты раскрываешь рану в моем сердце, ты рвешь мою измученную душу. Но дай мне десять минут, и вместо негодования ты почувствуешь ко мне жалость.
Амори кивнул в знак того, что он готов выслушать, но на губах его появилась недоверчивая улыбка, указывающая, что он не склонен верить услышанному.
— Если верны евангельские слова, что воздастся больше тем, кто любит больше, мне будет воздано многое, — сказал Филипп. — Как говорил наш великий Мольер, у меня очень влюбчивый характер. Поэтому я влюбляюсь часто и страстно.
И, кроме того, до настоящего времени я любил безответно, и это должно еще больше увеличить мои права на божеское снисхождение. Ты знаешь, что я уже любил Флоранс, я любил Мадлен. Для них это не составило никаких неудобств. Ты не говорил им об этом, и они никогда не узнали, что я любил их. Моя страсть к Мадлен была глубокой и почтительной.
Кажется, ты мне не веришь, Амори, потому что эта глубокая страсть не помешала мне направить мое чувство на третий предмет любви. Но ты не знаешь, в каких тревогах, среди каких мучений эта новая любовь родилась в моей душе.
Выслушай меня хорошенько, и пусть мои слова послужат тебе уроком, если ты окажешься в моем положении. Как и в случае с Мадлен, я не сразу понял эту любовь. Если бы кто-нибудь спросил меня об этом, я бы стал отрицать, если бы он доказал это, я бы испугался. Но почти каждый день я приходил к мадемуазель Антуанетте, я говорил о Мадлен, об ее грации, красоте. И при этом я не мог не заметить, что Антуанетта была так же изящна и красива, как ее кузина. Ответь мне теперь, Амори, возможно ли оставаться рядом с прелестью и очарованием и не влюбиться?
Амори, задумавшись, склонив голову и положив руку на сердце, ответил на вопрос лишь вздохом, более похожим на приглушенный стон. Филипп подождал несколько мгновений объяснения этому вздоху, но его не последовало, и он продолжил голосом, полным торжественности:
— А теперь я тебе расскажу, по каким признакам твой несчастный и слишком слабый друг узнал, наконец, что он любит.
Филипп испустил вздох, по сравнению с которым вздох Амори казался незначительным, и заговорил снова:
— Сначала против моей воли, неосознанно, ноги сами несли меня к улице Ангулем. Каждый раз, когда я выходил из дома, утром ли во Дворец юстиции, вечером ли в Комическую Оперу (ты знаешь, Амори, как любил я раньше этот воистину национальный жанр), после часа рассеянной ходьбы я оказывался перед домом д'Авриньи.
Я не надеялся увидеть ту, что царила в моем сердце, у меня не было определенной цели, никакой мысли, меня увлекала, подталкивала, вела неодолимая сила. Я должен был признать, Амори, что любовь была этой неодолимой силой.
Филипп остановился, чтобы понять, какое впечатление производят на Амори эти обороты речи, которыми он остался весьма доволен. Но Амори ограничился тем, что нахмурился еще больше и вздохнул еще глубже и громче, чем прежде.
Филипп не сомневался, что раздумье, в какое погрузился Амори, вызвано его красноречием.
— Второй симптом, который я обнаружил, — продолжал адвокат, пытаясь придать своей слащавой физиономии выражение, соответствующее произносимым им словам, — была ревность. Когда в начале месяца я увидел, что мадемуазель Антуанетта так мила с тобой, Амори, я почувствовал ненависть к тебе, другу моего детства. Но вскоре я сказал себе, что верный памяти обожаемой возлюбленной, ты не полюбишь, даже если полюбят тебя.
Амори вздрогнул.
— О, подозрение оказалось мимолетным, — поспешил сказать Филипп, — и ты видишь, я сразу же отогнал его.
Но досада, ненависть, ярость овладели мной, когда я заметил, что этот сладкоречивый фат де Менжи получил такие привилегии у той, которая мне стала так дорога: он фамильярно опирался на спинку ее кресла, он понижал голос при беседе, он смеялся с ней. Он делал все то, на что, по моему представлению, ты один, друг ее детства, имел право.
Ты не можешь себе представить, какая буря клокотала в моей груди, когда я заметил эти явные признаки доброго согласия, царящего между ними: только тогда, по этой буре, я понял, что это любовь. Но ты не слушаешь меня!
Напротив, Амори слушал очень внимательно. Каждое слово болезненным эхом отдавалось в его груди, жар волнами поднимался к лицу, кровь гулко стучала в висках.
Филипп продолжал, подавленный этим неодобрительным молчанием:
— Я не говорю, Амори, что это не было забвением прежних клятв, предательством памяти Мадлен. Но что ты хочешь? Не все могут быть такими героями постоянства и твердости, как ты.
Кроме того, тебя она любила, твоей женой она должна была стать, ты привык к сладкой мысли, что она будет всегда принадлежать тебе. У меня же был слабый проблеск надежды, и ты тотчас погасил его. Тем не менее я знаю, что виноват. Я оплакиваю свою вину, и если ты меня будешь осыпать самыми суровыми упреками, я не обижусь.
Но удели мне еще немного внимания, совсем немного, и ты увидишь, какие смягчающие обстоятельства могут быть у человека, который имел несчастье полюбить Антуанетту, после того, как он любил Мадлен.
— Я вас слушаю, — живо сказал Амори, придвигая свой стул.
LI
— Во-первых, — заговорил соперник Цицерона и господина Дюпена[89], польщенный впечатлением, которое, как ему казалось, он произвел наконец на своего друга, — во-первых, моя кажущаяся неверность Мадлен простительна, потому что моя новая страсть не обращена к незнакомке, но к ее подруге, кузине, сестре, а она как бы несет на себе отпечаток Мадлен в каждом жесте, в каждом слове. Любить ее сестру — это продолжать любить ее самое, любить Антуанетту — значит продолжать любить Мадлен.
— Пожалуй, это верно, — задумчиво сказал Амори, и лицо его просветлело помимо его воли.
— Вот видишь! — воскликнул восхищенный Филипп. — Ты сам признаешь справедливость моих слов.
Во-вторых, теперь ты согласишься, что любовь — самое свободное, самое неожиданное чувство в мире, самое независимое от нашей воли.
— Увы! это так! — прошептал Амори.
— Это не все, — вновь заговорил Филипп с неиссякаемым красноречием, — это не все. В-третьих, если моя молодость и способность любить воскресила во мне юную и пылкую страсть, неужели я должен пожертвовать естественным, Богом данным чувством ради предрассудков постоянства, которые бесчеловечны, и Бэкон[90] поместил бы их в категорию errores fori[91]?
— Согласен, — пробормотал Амори.
— Следовательно, ты не порицаешь меня, мой дорогой, — торжествующе заключил Филипп, — ты находишь простительным, что я полюбил мадемуазель Антуанетту?
— Какое мне дело, в конце концов, любишь ты или не любишь Антуанетту? — воскликнул Амори.
Губы Филиппа тронула легкая улыбка очаровательного самодовольства, и он сказал жеманно:
— Это, конечно, мое дело, мой дорогой Амори.
— Как! — вскричал Амори. — И после того, как ты скомпрометировал Антуанетту своим легкомысленным поведением, ты осмеливаешься сказать, что она имеет склонность к тебе?
— Я ничего не говорю, мой дорогой Амори, и если я компрометирую ее моими неосторожными действиями (я думаю, что ты намекаешь на мои прогулки по улице Ангулем), я ни в коей мере не компрометирую ее моими словами.
— Господин Филипп, — сказал Амори, — вы осмеливаетесь сказать при мне, что вас любят?
— Но мне кажется, что именно перед тобой, ее опекуном, я могу это сказать.
— Да, но вы не должны это говорить.
— А почему я не должен говорить, если это так и есть? — сказал в свою очередь Филипп, взволнованный этим разговором, чувствуя, что его кровь бурлит сильнее обычного.
— Вы не будете этого говорить… потому что не осмелитесь…
— Напротив, говорю тебе, что если бы это было правдой, я был бы горд, восхищен, счастлив, я сказал бы об этом всему миру, я кричал бы об этом на крышах. И черт побери! не знаю, почему я не могу об этом говорить, если это так?
— Как так?.. Вы осмеливаетесь сказать…
— Правду.
— Вы смеете говорить, что Антуанетта любит вас?
— Я смею сказать по крайней мере, что она благосклонно приняла мои искания и не далее, чем вчера…
— Итак, не далее, чем вчера? — нетерпеливо прервал его Амори.
— Она разрешила мне просить ее руки у господина д'Авриньи.
— Неправда! — воскликнул Амори.
— Как неправда? — изумился Филипп. — Ты понимаешь, что ты обвиняешь меня во лжи?
— Черт возьми, еще бы я не понимал!
— И ты делаешь это преднамеренно?
— Разумеется.
— И ты не возьмешь обратно это оскорбление, которое ты мне наносишь неизвестно почему, без всякого повода, без всякой причины?
— Воздержусь.
— Право, Амори, — сказал Филипп, возбуждаясь все больше, — я понимаю, что, несмотря на мои аргументы, я, может быть, и виноват, но между друзьями, людьми света, принято другое обращение. Если бы ты сказал подобное во Дворце, я бы не обиделся, но здесь, у меня, — это другое дело. Это оскорбление, и я не могу его стерпеть даже от тебя, и если ты настаиваешь на своем…
— Разумеется, — воскликнул Амори с еще большим пылом, — и я повторяю, что ты лжешь.
— Амори, — в отчаянии воскликнул Филипп, — предупреждаю тебя, что хоть я и адвокат, но я обладаю не только гражданским мужеством и буду биться с тобой на дуэли.
— Ну что ж, бейтесь! Разве вы не видите, что у вас прекрасное положение? Оскорбив вас, я тем самым дал вам право выбора оружия.
— Выбор оружия… — сказал Филипп. — У меня нет предпочтения, мне все равно, потому что я никогда не держал в руках ни шпагу, ни пистолет.
— Я принесу то и другое, — сказал Амори. — Ваши секунданты выберут. Вам останется назначить время.
— Семь часов, если хочешь.
— Место?
— Булонский лес.
— Аллея?
— Мюэт.
— Договорились. По одному секунданту будет достаточно, я полагаю. Поскольку речь идет о клевете, которая может нанести ущерб репутации девушки, чем меньше будет посвященных, тем лучше.
— Как о клевете! Ты смеешь говорить, что я оклеветал Антуанетту?
— Я ничего не говорю, кроме того, что завтра в семь часов я буду в Булонском лесу, на аллее Мюэт, с секундантом и оружием. До завтра, господин Филипп.
— До завтра, господин Амори. Вернее, до вечера, потому что сегодня четверг, день приема мадемуазель Антуанетты, и я не понимаю, почему я должен лишать себя удовольствия видеть ее.
— До вечера у Антуанетты, и до нашей встречи завтра, — сказал Амори.
И он уехал, рассерженный и восторженный одновременно.
LII
Это был самый приятный и самый мучительный для Филиппа вечер из всех, проведенных здесь.
Антуанетта была очень мила с ним. Рауль не пришел, Амори сразу же сел за игру и проигрывал с необычайным ожесточением.
Таким образом, Филипп остался почти наедине с Антуанеттой, и она совсем не была этим рассержена…
Время от времени Амори бросал быстрый взгляд в сторону Антуанетты и Филиппа, видел, как они тихо беседуют и улыбаются друг другу, и каждый раз обещал себе не щадить завтра своего друга Филиппа.
А сам Филипп почти забыл о своей дуэли! Радость и угрызения совести душили его. Напрасно он раскаивался в своем счастье, его триумф бросался в глаза, и он был вынужден терпеливо нести эту ношу. Когда Антуанетта ему улыбалась, он говорил себе, что, может быть, завтра он дорого заплатит за эту улыбку. При каждом ее кокетливом взгляде он одновременно видел, как сверкает вдалеке, словно молния на горизонте, один из этих ужасных взглядов Амори, о которых мы упоминали.
Тем не менее, чувствуя себя изменником, он предавал память бедной покойницы. Но, наконец, воспоминания о Мадлен в прошлом, мысль о мщении Амори в будущем, постепенно отступали, и он полностью отдался созерцанию своей победы.
Он вернулся к реальности только в момент отъезда, когда Антуанетта ласково протянула ему руку на прощание. Он подумал, что, может быть, видит ее в последний раз, он растрогался и, целуя атласную кожу ее руки, не смог удержать несвязные патетические слова:
— Мадемуазель, вы так добры… столько радости… Ах, если судьба будет против меня, если я паду с вашим именем на устах, не согласитесь ли вы… с вашей стороны, мысль… улыбку… сожаление?..
— Что вы хотите этим сказать, господин Филипп? — спросила удивленная и испуганная Антуанетта.
Но Филипп ограничился последним взглядом и поклоном и вышел с трагическим видом, не желая ничего добавить и упрекая себя за то, что уже сказал слишком много.
Антуанетта, движимая одним из тех предчувствий, которые возникают у женщин, подошла к Амори, уже взявшему шляпу и собиравшемуся уходить.
— Завтра первое июня, — сказала она. — Вы не забыли, Амори, что завтра у нас свидание с господином д'Авриньи?
— Разумеется, нет, — сказал Амори.
— Мы там встретимся в десять часов, как обычно?
— Да, в десять, — рассеянно сказал Амори. — Если я не приеду к полудню, скажите господину д'Авриньи, чтобы он меня больше не ждал, и что я задержался в Париже по неотложным делам.
Эти простые слова были произнесены так холодно, что Антуанетта, бледная и дрожащая, не посмела расспрашивать Амори, но, повернувшись к господину де Менжи, попросила его остаться на несколько минут.
Она поведала ему об отрывочных фразах Филиппа, о недомолвках Амори и своих инстинктивных страхах.
Граф связал услышанное с утренней беседой с Амори и тоже почувствовал некоторые опасения. Но он ничем не показал их, чтобы не испугать Антуанетту еще больше, постарался улыбнуться и пообещал, что с утра займется этим важным делом и поговорит с безумцами.
На следующий день он рано выехал из дома и направился к Амори. Но тот выехал верхом, незаметно и тихо, в сопровождении своего английского грума, не сообщив, куда едет.
Господин де Менжи приказал как можно быстрее везти его к Филиппу.
Консьерж, стоя на пороге, как раз рассказывал своему другу и охотно повторил господину де Менжи, что час назад господин Оврэ вышел в сопровождении своего поверенного. Но на этот раз важный господин нес не пачку бумаг с печатями, а пару шпаг и ящик с пистолетами.
Они позвали фиакр, и Оврэ бросился в экипаж, крикнув кучеру:
— В Булонский лес… аллея Мюэт.
LIII
Ровно в семь часов Филипп и его поверенный, которого он выбрал секундантом, уже приехали в своей колымаге на аллею Мюэт. Почти в это же время Амори слез с лошади, а его друг Альбер выпрыгнул из элегантного кабриолета.
Друг Филиппа имел некоторый опыт в подобных делах. Вот почему он привез свои шпаги и пистолеты, считая, что Филипп, как оскорбленная сторона, имеет право пользоваться собственным оружием.
Альбер не возражал, он получил указание от Амори уступать по всем пунктам, поэтому все было быстро урегулировано. Договорились, что будут сражаться на шпагах и воспользуются шпагами Филиппа, которые представляли собой обычное армейское оружие.
После этого Альбер достал портсигар, галантно предложил сигару поверенному, после его отказа закурил сам, спрятал портсигар в карман и подошел к Амори.
— Все! Мы договорились, — сказал он. — Вы бьетесь на шпагах. Будь снисходительнее к этому бедняге.
Амори поклонился, положил на землю шляпу, фрак, жилет и подтяжки. Филипп, подражая ему, сделал то же самое. Филиппу предложили на выбор две шпаги. Он взял одну так, как обычно брал трость. Вторую подали Амори, и он принял ее без аффектации, но с изящным поклоном.
Затем противники сблизились, скрестив кончики шпаг в шести дюймах от острия, и секунданты отошли, один налево, другой — направо, сказав:
— Начинайте, господа.
Филипп не заставил себя ждать и атаковал с отважной неловкостью, но первым же движением Амори выбил шпагу из его рук, которая, кружась в воздухе, отлетела на десять шагов от сражающихся.
— Неужели это все, что вы умеете, Филипп? — спросил Амори, тогда как его противник вертел головой, пытаясь понять, куда девалась его шпага.
— Еще бы! Прошу прощения, но я вас предупреждал, — ответил Филипп.
— Тогда возьмем пистолеты, — сказал Амори, — шансы будут равные.
— Берем пистолеты, — сказал Филипп, готовый решительно на все.
— Итак, — сказал Альбер, чтобы сказать хоть что-нибудь, — вы настаиваете на этой дуэли, Амори?
— Спросите у Филиппа.
Альбер повторил вопрос, обращаясь к противнику.
— Как, настаиваю ли я? — сказал Филипп. — Конечно, я настаиваю. Меня оскорбили, и если Амори не извинится…
— В таком случае, истребляйте друг друга, — сказал Альбер. — Я сделал все, что мог, чтобы предотвратить пролитие крови, и мне не в чем будет себя упрекать.
Он сделал знак груму Амори подойти и подержать сигару, пока он будет заряжать пистолеты.
Все это время Амори прогуливался по аллее, срубая головки маргариток и лютиков кончиком шпаги.
— Кстати, Альбер, — сказал вдруг Амори, поворачиваясь к нему, — само собой разумеется, что господин Филипп, как потерпевший, стреляет первым.
— Прекрасно, — сказал Альбер, заканчивая начатую операцию, а Амори продолжал косить лютики и маргаритки.
Закончив все приготовления, стороны перешли к обсуждению условий: противники, находящиеся в сорока шагах один от другого, должны были медленно сближаться до расстояния в двадцать шагов.
Договорившись обо всем, секунданты тростями отметили точку остановки, поставили противников на нужном расстоянии, вручили каждому по пистолету, трижды хлопнули в ладони, и после третьего сигнала дуэлянты медленно двинулись вперед.
Они едва сделали четыре шага, как пистолет Филиппа выстрелил. Амори не шевельнулся, но Альбер уронил сигару и схватился за шляпу.
— Что такое? — спросил Филипп, обеспокоенный направлением, в котором полетела его пуля.
— Вот что, сударь, — сказал Альбер, просовывая палец в дыру на своей шляпе, — если бы вы играли в биллиард, это был бы прекрасный удар, но поскольку вы на дуэли, то это очень неловкий выстрел.
— В чем дело, черт побери? — закричал пораженный Амори, хохоча против своей воли.
— Дело в том, — ответил Альбер, — что теперь мне, а не тебе принадлежит право ответного выстрела. Оказывается, сударь стреляется со мной. Дай же мне твой пистолет и покончим с этим.
Все присутствующие посмотрели на бедного Филиппа, который, молитвенно сложив руки, рассыпался перед Альбером в извинениях, совершенно искренних, но настолько комичных, что они не могли удержаться от смеха.
В этот момент какая-то карета выехала из боковой аллеи на аллею Мюэт. В человеке, который, высунувшись из нее, кричал изо всех сил: «Остановитесь, друзья, остановитесь!» — Амори и Филипп узнали их общего друга, старого графа де Менжи.
Амори отбросил пистолет и подошел к Альберу, а тот, в свою очередь, к Филиппу, продолжавшему держать в руке разряженный пистолет.
— Дайте его сюда, — сказал ему поверенный. — Дьявол! Ведь закон запрещает дуэли!
И он вырвал пистолет из рук Филиппа, который не переставал извиняться перед Альбером и не слушал, что ему говорят.
— Право, господа, из-за вас мне в моем возрасте приходится бегать, — сказал граф де Менжи, подходя к ним. — Слава Богу, я приехал вовремя, потому что я не слышал выстрелов.
— Ах, господин граф, — сказал Филипп, — я ничего не понимаю в оружии, я нажал на спусковой крючок раньше нужного времени и чуть не убил господина Альбера, в чем приношу ему самые искренние извинения.
— Как, разве вы стрелялись с ним? — удивился граф.
— Нет, с Амори, но пуля повернулась в дуле пистолета, и не знаю, уж как получилось, но, целясь в Амори, я чуть не убил этого господина.
— Господа, — сказал граф, решив, что пора перевести разговор в серьезное русло, соответствующее подобному делу. — Господа, прошу вас оставить меня с господином Амори и Филиппом.
Поверенный, поклонившись, и денди, закурив другую сигару, немного отошли, оставив графа с Амори и Филиппом.
— Итак, господа! Что означает эта дуэль? — сказал им граф. — Разве мы об этом договаривались, Амори? Скажите же, ради Бога, из-за чего вы стреляетесь с господином Филиппом, вашим другом?
— Я стреляюсь с Филиппом потому, что он компрометирует Антуанетту.
— А вы, господин Филипп, какова ваша причина?
— Потому что Амори меня оскорбил.
— Я вас оскорбил, потому что вы бросаете тень на Антуанетту, и господин граф сам предупредил меня…
— Извините, господин Филипп, — сказал граф, — разрешите мне сказать пару слов Амори.
— Господин граф…
— И не уходите, я поговорю с вами потом.
Филипп поклонился и отошел на несколько шагов, оставив господина де Менжи и Амори вдвоем.
— Вы меня не поняли, Амори, — заговорил господин де Менжи. — Кроме Филиппа, был еще один человек, компрометирующий мадемуазель Антуанетту.
— Еще один человек? — вскричал Амори.
— Да, и это вы. Господин Филипп компрометировал ее своими пешими прогулками, а вы — конными.
— Что вы говорите? — воскликнул Амори. — Неужели кто-то мог подумать, что я имею претензии на Антуанетту?
— Представьте себе, сударь, что мой племянник считает вас единственным серьезным претендентом на руку мадемуазель де Вальженсез и отступает перед вами, а не перед господином Филиппом.
— Отступает передо мной, сударь! — изумленно заговорил Амори. — Передо мной! И кто-то мог подумать!..
— А что тут удивительного!
— И вы говорите, что он отступает передо мной?
— Да, если только вы не заявите официально, что не имеете никаких претензий на ее руку.
— Сударь, — сказал Амори, делая над собой заметное усилие, — я знаю, что мне делать, положитесь на меня. Я человек быстрых решений, и уже до вечера вы узнаете, что я достоин вашего доверия и следую вашему совету, который, как я понимаю, вы мне даете.
И Амори, поклонившись господину де Менжи, собрался уйти.
— Как, Амори, вы уходите, ничего не сказав Филиппу?
— Да, действительно, я должен извиниться перед ним.
— Подойдите, господин Оврэ, — сказал граф.
— Мой дорогой Филипп, — заговорил Амори, — теперь, когда вы стреляли в меня или по крайней мере в мою сторону, я могу вам сказать, что от всего сердца сожалею о том, что обидел вас.
— Друг мой, — вскричал Филипп, пожимая руку Амори, — видит Бог, я не хотел тебя убивать, я попал в шляпу твоего секунданта и очень сожалею о своей оплошности.
— В добрый час, — сказал господин де Менжи, — мне очень нравится, когда вы так разговариваете друг с другом. Теперь пожмите друг другу руки, и пусть все хорошо кончится.
Молодые люди, улыбаясь, обменялись крепким рукопожатием.
— Сударь, — сказал Амори, — вы, кажется, хотели поговорить с Филиппом. Я ухожу и выполню то, что я решил.
Он поклонился и медленно удалился, как человек, чувствующий серьезность поступка, который он собирается совершить. Он коротко поблагодарил Альбера, вскочил на лошадь и ускакал.
— Теперь мы одни, господин Филипп, — сказал граф, — я могу вам признаться, что господин де Леонвиль был прав, упрекая вас в том, что ваши ухаживания компрометируют Антуанетту. Я не знаю, сумеет ли Антуанетта с ее красотой и богатством выйти замуж после этой истории.
— Сударь, — сказал Филипп, — я только что признал мою неправоту, и я могу это повторить. И я знаю, как исправить мою вину. Я человек медленных решений, но, если я принял решение, ничто не изменит его. Сударь, имею честь откланяться.
— Но что вы собираетесь делать, Филипп? — спросил господин де Менжи, опасаясь, что под важным видом Филиппа кроется новая глупость.
— Вы будете довольны мной, сударь. Вот все, что я могу вам сказать, — ответил Филипп.
И, низко поклонившись, он тоже ушел, оставив господина де Менжи в глубоком изумлении.
— Дорогой друг, — сказал Филипп своему секунданту, — мне очень нужен фиакр для длительной поездки. Поэтому прошу вас дойти пешком до станции Этуаль, где вы найдете омнибус.
— Послушайте, сударь, — сказал Альбер, который все еще держал в руке пистолет Амори, — неужели вы уедете, не позволив мне сделать ответный выстрел?
— Ах, действительно… — пробормотал Филипп, — я совсем забыл… Если бы измерили расстояние, где мы…
— Ни к чему, — ответил Альбер, — и так хорошо, только не двигайтесь.
Филипп встал как вкопанный, глядя на Альбера, целящегося в него.
— Что вы делаете? — в один голос закричали поверенный и господин де Менжи, бросаясь к Альберу.
Но не успели они сделать и четырех шагов, как прозвучал выстрел, и шляпа Филиппа покатилась по траве, простреленная в том самом месте, где Филипп сделал дыру на шляпе Альбера.
— Теперь, господин Филипп, — смеясь, сказал молодой человек, — вы можете идти по своим делам, мы квиты.
Филипп не заставил себя просить дважды, подобрал шляпу, сел в экипаж, тихо сказал кучеру несколько слов и уехал в направлении Булони.
Альбер подошел к поверенному и предложил ему сигару и место в своей коляске.
Адвокат согласился принять и первое, и второе, Вежливо поклонившись графу, взяв друг друга под руку, они направились к другому концу аллеи, где стоял кабриолет.
— Да простит меня Бог, — сказал господин де Менжи, тоже направляясь к карете, — но мне кажется, что все это поколение просто-напросто сумасшедшее.
LIV
Через час, то есть в половине одиннадцатого, Амори приехал в Виль-Давре к дому господина д'Авриньи. Он ехал очень быстро, боясь, что при меньшей скорости его решимость выполнить задуманное улетучится.
Экипаж Антуанетты тоже подъезжал к крыльцу.
Девушка, узнав Амори в человеке, протягивающем ей руку, не могла удержать радостного восклицания, и яркий румянец заменил бледность на ее щеках.
— Амори, это вы! Это вы! Но, Боже мой, как вы бледны! Вы не ранены?
— Нет, Антуанетта, успокойтесь, — сказал Амори, — ни я, ни Филипп…
Антуанетта не дала ему закончить.
— Но почему у вас такой мрачный и озабоченный вид?
— Я должен сделать господину д'Авриньи важное сообщение.
— Я тоже, — сказала Антуанетта, вздыхая.
Они молча поднялись по ступенькам крыльца вслед за Жозефом и вошли в комнату, где их ждал господин д'Авриньи. Когда они оказались перед ним, старик поцеловал Антуанетту в лоб и протянул руку Амори. Он показался им настолько изменившимся, исхудавшим и неузнаваемым, что они на мгновение остановились от удивления и обменялись взглядом, в котором читалось их тайное опасение. Но настолько они чувствовали себя взволнованными и расстроенными, настолько же господин д'Авриньи казался спокойным.
Они оставались жить и были грустны, он умирал и был весел.
— Вот и вы, дорогие дети, — сказал он племяннице и воспитаннику, — я вас ждал с большим нетерпением. Я счастлив видеть вас и с большим удовольствием посвящаю вам весь этот день. Я вас очень люблю, потому что вы оба молодые, красивые и добрые. Но что случилось? Ваши лица озабочены. Не потому ли, что ваш старый отец уходит?
— О, мы надеемся еще долго встречаться с вами! — воскликнул Амори, забыв, что он разговаривал с человеком, отличающимся от всех других людей. Затем он добавил:
— Я хочу поговорить с вами о серьезных вещах, и мне кажется, что Антуанетта тоже желает подобной беседы.
— Ну что ж, я к вашим услугам, друзья мои, — сказал господин д'Авриньи, и веселость на его лице сменилась заинтересованностью и вниманием. — Садитесь рядом со мной. Антуанетта, садись в это кресло, а ты, Амори, на этот стул. Дайте мне ваши руки, нам хорошо вместе, не правда ли? Погода сегодня прекрасная, небо чистое, а напротив мы видим могилу Мадлен.
Амори и Антуанетта посмотрели на эту могилу и, казалось, набирались решимости, глядя на нее. Однако оба молчали.
— Итак, — продолжал господин д'Авриньи, — каждый из вас хочет мне что-то сказать. Я к вашим услугам, я вас слушаю. Говорите первая, Антуанетта.
— Но… — пробормотала девушка в замешательстве.
— Я понимаю, Антуанетта, — сказал Амори, быстро вставая. — Прошу прощения, Антуанетта, я ухожу.
Антуанетта покраснела, потом побледнела, произнесла несколько извинений, но не старалась удержать го. Амори поклонился и вышел из комнаты, провожаемый растроганным взглядом старого доктора.
— Слушаю тебя, Антуанетта, — сказал господин д'Авриньи, переводя взгляд на девушку, — мы одни, что ты хочешь мне сказать?
— Дядя, — сказала Антуанетта дрожащим голосом, опустив глаза, — вы мне часто говорили, что ваше самое горячее желание — увидеть меня женой любящего человека, уважаемого мной. Я долго колебалась, долго ждала, но поняла, что бывают трудные положения, которые девушка не может разрешить одна.
Я сделала выбор, дядя, не честолюбивый, не блестящий. Но я уверена, что буду любима, и это сделает обязанности супруги легкими и утешительными. Вы хорошо знаете человека, на которого указал мне рассудок, — голос Антуанетты задрожал еще больше, и она посмотрела на могилу Мадлен, черпая там новую силу. — Это господин Филипп Оврэ.
Доктор слушал Антуанетту, не перебивая и не подбадривая, его добрые отцовские глаза были устремлены на нее, и доброжелательная улыбка играла на губах, готовых заговорить.
— Господин Оврэ! Антуанетта, — сказал он, немного помолчав, — среди всех окружавших тебя молодых людей ты выбрала Филиппа Оврэ?
— Да, дядя, — прошептала девушка.
— Но, мне кажется, дитя мое, — заговорил господин д'Авриньи, — ты раз двадцать говорила, что претензии этого молодого человека беспочвенны, ты немного смеялась над бедным влюбленным, который зря терял время.
— Мое мнение изменилось, дядя. Эта постоянная безнадежная любовь, эта вечная преданность тронули меня… и повторяю вам…
И Антуанетта повторила, но гораздо тише и неувереннее, чем в первый раз:
— Я готова, дядя, стать его женой.
— Ну что ж, Антуанетта, — сказал господин д'Авриньи, — так ты приняла решение…
— Да, дядя, — сказала Антуанетта и зарыдала, — и приняла бесповоротно.
— Хорошо, дитя мое, — сказал господин д'Авриньи, — пройди в соседнюю комнату. Мне надо выслушать Амори, он тоже хочет что-то сказать мне. Я тебя позову, и мы еще поговорим.
И господин д'Авриньи взял обеими руками эту юную прелестную головку, посмотрел на залитое слезами лицо и осторожно поцеловал в лоб.
LV
Когда она скрылась в смежной комнате, он громко позвал Амори.
Амори вошел.
— Входи, сын мой, — сказал господин д'Авриньи, указывая ему на место, которое он ранее занимал рядом с ним. — Поведай и ты, что ты хочешь сказать.
— Сударь, — сказал Амори, стараясь говорить твердо, но голос оставался прерывистым и приглушенным, — я собираюсь в двух словах сказать не то, что привело меня к вам, потому что меня к вам приводит желание воспользоваться тем единственным днем в месяце, какой вы уделяете нам, но то, о чем я хотел…
— Говорите же, — сказал господин д'Авриньи, услышав в голосе Амори то же волнение, что он только что заметил в интонациях Антуанетты. — Говори, я слушаю тебя всей душой.
— Сударь, — продолжал Амори, делая новое усилие, чтобы казаться невозмутимым, — вы хотели, чтобы я, несмотря на молодость, заменил вас рядом с Антуанеттой, став ее вторым опекуном.
— Да, поскольку я знал, что ты питаешь к ней братские дружеские чувства.
— Вы добавили также, что хорошо, если бы я поискал среди моих друзей знатного и богатого человека, достойного Антуанетты.
— Правильно.
— Так вот, сударь, — продолжал Амори, — обдумав, какой человек подходит Антуанетте именем и состоянием, я приехал просить руку вашей племянницы для…
Амори остановился, задохнувшись.
— Для кого? — спросил господин д'Авриньи, тогда как Амори укреплялся в своем решении, бросив долгий взгляд в сторону кладбища.
— Для виконта Рауля де Менжи, — сказал Амори.
— Предложение серьезное и заслуживает быть принятым во внимание, — сказал господин д'Авриньи.
Затем, обернувшись, он крикнул:
— Антуанетта!
Антуанетта робко открыла дверь.
— Иди сюда, дитя мое, — сказал господин д'Авриньи, протягивая ей руку, а другой удерживая Амори на месте. — Входи и садись сюда. Теперь дай мне руку, как Амори дал свою.
Антуанетта повиновалась.
Господин д'Авриньи некоторое время нежно смотрел на них, молчаливых и трепещущих, потом поцеловал обоих в лоб.
— Вы благородные натуры, щедрые сердца, я восхищен тем, что происходит.
— Но что происходит? — спросила Антуанетта дрожащим голосом.
— А то, что Амори любит тебя, а ты любишь Амори.
Оба удивленно вскрикнули и попытались встать.
— Дядя! — сказала Антуанетта.
— Сударь! — сказал Амори.
— Дайте сказать отцу, старику, умирающему, — продолжал господин д'Авриньи с особенной торжественностью. — Не прерывайте меня. Мы снова втроем, как девять месяцев назад, когда Мадлен покинула нас, поэтому позвольте мне проследить историю ваших сердец за эти девять месяцев.
Я читал, что вы писали, Амори. Я слышал, что говорила ты, Антуанетта.
Я наблюдал за вами, я изучал вас в моем одиночестве. После бурной жизни, которую предопределил мне Бог, я разбираюсь не только в болезнях, от каких страдает тело, но и в страстях, от каких страдает душа. Вы любите друг друга, дети мои, повторяю вам, в этом ваше счастье, и я поздравляю вас. А если вы все еще сомневаетесь, я сейчас вам это докажу.
Амори и Антуанетта сидели, потерянные.
Господин д'Авриньи продолжал:
— Амори, у вас благородное сердце, честная и искренняя душа. После смерти моей дочери вы хотели убить себя, и когда уехали, вы действительно надеялись умереть.
В ваших первых письмах было глубокое отвращение к жизни, ваш взгляд был обращен вовнутрь и никогда к окружающему, но мало-помалу посторонние предметы стали вас интересовать. Дар восхищения, желание жизни, у которого столь крепкие корни в двадцатилетних юношах, начали возрождаться, расти в вашей душе. Вам наскучило одиночество, вы мысленно обратились к будущему.
Ваша нежная природа неясно и неосознанно призывала любовь, а так как вы из тех, над кем воспоминания всемогущи, первое лицо, появившееся в ваших грезах, было лицо подруги, знакомой с детства.
Голос именно этой подруги доходил до места вашего добровольного изгнания, она писала ласковые и утешительные слова, и вы не удержались и, побежденный скукой, увлекаемый тайными надеждами, вы вернулись в Париж, в свет, с чем, как вы думали, вы навсегда порвали девять месяцев назад.
Вы были опьянены присутствием той, которая стала для вас целым миром. Ревность овладела вами, борьба с самим собой возбудила, и какое-то, возможно, незначительное, событие пролило свет на ваши чувства в момент, когда вы меньше всего ожидали этого. Вы с испугом прочли в вашем сердце и, испугавшись вашей слабости, убедившись, что, продолжая бороться, вы падете в этой борьбе, вы приняли крайние меры, отчаянное решение, вы пришли просить у меня руки Антуанетты для виконта Рауля де Менжи.
— Мою руку для Рауля де Менжи! — вскричала Антуанетта.
— Да, для Рауля де Менжи, хотя вы знали, что она не любит его, с тайной надеждой, что, когда я предложу ей этот брак, она признается, что любит вас.
Антуанетта закрыла лицо руками и тихо застонала.
— Все так, не правда ли? — продолжал господин д'Авриньи. — Я хорошо произвел вскрытие вашего сердца и анализ ваших чувств? Да? Итак, гордитесь, Амори, это чувства любящего человека, это сердце честного дворянина.
— Ах, отец! — воскликнул Амори. — Напрасно мы стараемся что-то скрыть от вас, ничто от вас не ускользнет, и ваш взгляд, как взгляд Бога, проникает в самые глубины души.
— С тобой, Антуанетта, — снова заговорил господин д'Авриньи, поворачиваясь к девушке, — совсем другое дело. Ты любишь Амори с тех пор, как ты его знаешь.
Антуанетта вздрогнула и спрятала покрасневшее лицо на груди господина д'Авриньи.
— Не отрицай, дорогое дитя, — продолжал он. — Эта скрытая любовь всегда была слишком чистой и благородной, чтобы ты краснела за нее. Твое бедное сердце много страдало!
Находясь постоянно в тени, ревнуя и сердясь на себя за эту ревность, ты испытывала муки и угрызения совести от самого святого в мире — от чистой любви.
Ах! Ты очень страдала и не имела ни свидетелей твоей боли, ни того, кому ты могла бы доверить свои слезы, ни того, кто поддержал бы тебя в минуту слабости и крикнул: «Мужайся!» Твое чувство велико и прекрасно!
Но один человек видел все и восхищался твоим стойким героическим молчанием. Это был твой старый дядя, который часто смотрел на тебя со слезами на глазах и вздыхал, открывая тебе свои объятия. И когда Бог призвал твою соперницу (Антуанетта сделала протестующее движение), твою сестру, ты снова считала преступлением любую надежду.
Но Амори страдал, ты с тревогой следила за его мучениями, ты не могла не утешать его всеми силами, ты стала сестрой милосердия его больной души. Потом ты снова увидела его, и твои муки стали еще более жестокими и горькими. Наконец, ты поняла, что он тоже любит тебя, и чтобы устоять в этом последнем испытании и не изменить химере самоотречения и верности мертвым, ты решила пожертвовать своим будущим, отдать его первому встречному, ты выбрала Филиппа, чтобы бежать от Амори. Но, дитя мое, не делая счастливым одного, ты смертельно ранишь сердце другого, не считая своего собственного сердца, которое ты приносишь в жертву, вернее, ты это уже сделала давно.
Но, к счастью, — продолжал господин д'Авриньи, посмотрев на Амори и Антуанетту, — к счастью, я еще здесь, с вами, чтобы помочь вам понять друг друга и не дать вам стать жертвами взаимного обмана, чтобы спасти вас от двойной ошибки, чтобы сказать вам, счастливцам: «Вы любите друг друга! Вы обожаете друг друга!»
Доктор замолчал на мгновение, посмотрел на Амори, сидящего справа, на Антуанетту, сидящую слева. Они были смущены и растеряны, они не решались посмотреть ни на него, ни друг на друга.
— Нет, ангелы мои, не раскаивайтесь в вашей любви, не оскорбляйте священную память той, чью могилу мы видим отсюда.
Там, откуда она сейчас видит нас, исчезают земные страсти и мелкая ревность, ее прощение полнее и чище, чем мое. Я должен сказать вам, Амори, — добавил доктор, понижая голос, — я должен раскрыть вам душу человека, почитаемого вами, — как судью, я вас прощаю так легко из-за моего тщеславия и эгоизма скупца.
Да, меня тоже следует осуждать, потому что я говорю себе гордо, что теперь я один воссоединюсь с моей дочерью, чистой на земле, чистой на небе, что она будет только моей, что я любил ее сильнее.
Это плохо и несправедливо, — продолжал господин д'Авриньи, как бы обращаясь к самому себе и покачивая головой. — Отец стар, влюбленный молод. Я прожил долгую и трудную жизнь, и я пришел к концу моего пути.
Вы очень юные, вы находитесь в начале вашей жизни, у вас в будущем все то, что у меня уже было в прошлом, в вашем возрасте не умирают от любви, ею живут.
Итак, дети, не стыдитесь и не сожалейте, не боритесь против ваших интересов, не подавляйте ваши естественные порывы, не восставайте против Бога! Не проклинайте вашу молодость и силу вашей души. Вы достаточно боролись, страдали, искупали. Идите в будущее, к любви, к счастью. Придите в мои объятия, чтобы от имени Мадлен я мог вас поцеловать и благословить.
Молодые люди опустились на колени у ног старика, он положил руки на их склоненные головы, подняв к небу глаза и улыбаясь. А они, стоя на коленях, тихо и робко разговаривали:
— Вы, действительно, давно меня любили, Антуанетта?
— Значит, ваша любовь не была только мечтой, Амори?
— Посмотрите на мою радость! — воскликнул он.
— Посмотрите на мои слезы! — прошептала она.
В течение нескольких минут слышались только бессвязные слова, произносимые влюбленными, и благословления того, кто собирался умереть, тем, кто должен был жить.
— Пощадите немного мое сердце, дети мои, — сказал доктор. — Теперь я совсем счастлив, потому что оставляю вас счастливыми.
У нас мало времени, особенно у меня; я спешу больше вас.
Вы обвенчаетесь в этом месяце. Я не могу и не хочу покидать Виль-Давре, но я предоставлю господину де Менжи все полномочия, отдам необходимые распоряжения. Думайте только о своей любви.
Но через месяц, Амори, первого августа, вы приедете сюда с вашей женой и посвятите мне весь день, как вы сделали это сегодня…
Амори и Антуанетта покрывали поцелуями руки старика, но в этот момент в прихожей послышался сильный шум, открылась дверь, и старый Жозеф появился в дверях.
— Что там такое? — спросил господин д'Авриньи. — Кто нас беспокоит?
— Сударь, — ответил Жозеф, — какой-то молодой человек приехал в фиакре и очень хочет вас видеть. Он уверяет, что речь идет о счастье мадемуазель Антуанетты. Пьер и Жак едва смогли его удержать, когда он хотел нарушить запрет. А вот и он!
В этот момент Филипп Оврэ, красный и запыхавшийся, ворвался в комнату, поклонился господину д'Авриньи и Антуанетте и протянул руку Амори.
По знаку доктора Жозеф вышел.
— А, это ты, мой бедный Амори, — сказал Филипп, — я очень рад, что ты опередил меня. По крайней мере ты сможешь рассказать господину де Менжи, как Филипп Оврэ исправляет ошибки, которые он имел несчастье совершить.
Молодые люди переглянулись, а Филипп торжественно обратился к доктору:
— Сударь, я прошу у вас прощения за мой небрежный костюм и дырявую шляпу, но при обстоятельствах, что привели меня сюда, я должен был спешить. Сударь, я имею честь просить у вас руки вашей племянницы, мадемуазель Антуанетты де Вальженсез.
— А я, сударь, — ответил доктор, — имею честь пригласить вас на бракосочетание мадемуазель Антуанетты де Вальженсез с графом Амори де Леонвилем, которое состоится в последних числах этого месяца.
Филипп громко, отчаянно, душераздирающе вскрикнул и, не поклонившись, не попрощавшись, не произнеся ни слова, бросился вон из комнаты и, как безумный, вскочил в свой фиакр.
Незадачливый Филипп, как обычно, опоздал на полчаса.
Эпилог
Первого августа Амори и Антуанетта, обосновавшиеся в маленьком особняке на улице Матюрен, увлеклись веселой и милой беседой и забыли, что время идет. Накануне они обвенчались в церкви Сент-Круа-д'Антэн.
— Послушай, дорогой Амори, — сказала Антуанетта, — нужно ехать, скоро пробьет полдень, и дядя ждет нас.
— Он вас больше не ждет, — послышался голос старого Жозефа. — Господин д'Авриньи плохо чувствовал себя последние дни, но он категорически запретил сообщать вам из опасения опечалить вас. Он умер вчера в четыре часа дня.
Именно в это время Антуанетта и Амори получили брачное благословение.
* * *
Когда секретарь графа М… закончил чтение, наступило молчание.
— Так вот, — сказал наконец М…, — теперь вы знаете о любви, от которой умирают, и о любви, от которой не умирают.
— Да, но если я вам скажу, — заговорил молодой человек, — что в следующий вторник я мог, если бы захотел, рассказать историю, в которой любовник умер, а отец остался жить?
— Это будет означать, — ответил граф, смеясь, — что истории могут многое доказать в литературе, но ничего не доказывают в морали.
Александр Дюма
Александр Дюма (Alexandre Davy de La Pailleterie Dumas) родился 24 июля 1802 года в Вилье-Котрэ, небольшом городке Энского департамента, лежащем на пути из Парижа; в двух милях от Ферт-Милона, где родился Расин, и в семи лье от Шато-Тьерри, где родился Лафонтен. Отец его был генералом; в жилах его матери текла отчасти негритянская кровь. Оставшись вдовой в 1806 году, мать Александра Дюма могла дать сыну весьма скудное образование. Унаследовав от отца атлетическое сложение и много занимаясь физическими упражнениями, Дюма приобрел железное здоровье и никогда не изменявшую ему бодрость духа и жизнерадостность, объясняющую как его неутомимость в работе, так и эпикуризм.
Мать Дюма жила на свою пенсию, и юному Александру не хватало средств. Он стал искать работу и на девятнадцатом году поступил писцом в контору королевского нотариуса Менесона в Вилье-Котрэ. Здесь же Дюма пробует свои силы в драматургии. Он послал в парижские театральные дирекции три пьесы. Их забраковали, но Дюма не пал духом и продолжал писать.
Вскоре он переезжает в Париж. Начались визиты к важным особам. У маршала Журдена Дюма встретил прием совсем холодный, а герцог де Белюнь даже не удостоил его приемом, и только генерал Фуа, друг и сослуживец отца, принял участие в молодом человеке. Убедившись, что у Дюма неплохой почерк, он определил его в секретариат герцога Орлеанского сверхштатным переписчиком на оклад в 1200 франков в год. Здесь работы было мало и юноша ревностно принялся за чтение, за внимательное изучение родной литературы. Дюма откровенно сознался, что он тогда был страшный невежда. Жадно поглощал он творения классиков французской литературы, Вальтера Скотта, Шекспира, Гете, Шиллера. Не без гордости говорил он своему покровителю, генералу Фуа, что все это чтение пригодится впоследствии и что «покуда он живет только своим почерком, но потом будет существовать своим пером». От слов надо было перейти к делу, — и Дюма написал две небольшие комедии для театра. Умудрился он также, не зная немецкого языка, перевести трагедию Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе» и, не имея еще основательных познаний в истории, сочинить трагедию «Гракхи».
В фельетонах маленьких парижских газет он помещал повести и в 1826 году издал один томик их. На сцене «Одеона» и «Французского театра» шли его пьесы «Охота и любовь», «Свадьба и похороны» и «Гракхи», — причем последняя была сперва забракована. Эти пьесы Дюма поставил не под своим именем, а под прозвищем Дави, частью своей фамилии. После «Гракхов» он написал пьесу «Христина» (на сюжет из «Memoires de Mademoiselle»), заимствовав лучшие драматические положения у Гете. При посредничестве Шарля Нодье, известного писателя и библиофила, пьесу уже хотели поставить на сцене «Французского театра», но директор его Тайлор вдруг уехал на Восток за каким-то обелиском, и актеры, воспользовавшись его отсутствием, отказались от пьесы. Дюма был не из тех, кто сразу складывает оружие. Он написал новую пьесу «Генрих III и его двор», на что побудили его представления одной английской труппы, гастролировавшей в Париже. По протекции герцога Орлеанского драма была поставлена в том же «Французском театре» 10 февраля 1829 года. Ее успех превзошел все ожидания автора. На представлении присутствовал сам герцог, рукоплесканиям не было конца, и на другой день Дюма был возведен в звание придворного библиотекаря Луи-Филиппа Орлеанского. Это было большой милостью со стороны герцога: жалование было приличное, и служба не стесняла молодого писателя, вполне располагавшего свободным временем.
Переселившись из Сен-Дени на Университетскую улицу, Дюма занял богатую квартиру и со всем пылом своей южноафриканской крови отдался веселью, ведя рассеянную, полную смены разнородных впечатлений, жизнь. Между тем наступил 1830 год, когда умы всех обуяли замыслы славы и честолюбия. Возраставшая известность и популярность Дюма как представителя литературы не вполне удовлетворяла его.
Дюма взялся за перо, едва только успели умолкнуть ружейные выстрелы революционных дней и мода пошла на них; он написал драму в шести актах и девятнадцати картинах под заглавием «Наполеон Бонапарте, или Тридцать лет истории Франции», движимый раздражением, что Луи-Филипп упрямится и не дает ему министерского портфеля. Свою пьесу «Христина» он переделал в романтическую драму в стихах и посвятил ее герцогу Орлеанскому, в ту пору еще не бывшему королем и тщетно пытавшемуся выпросить у Карла X орденскую красную ленточку для честолюбивого драматурга. Под живым впечатлением этого неучтивого отказа Дюма сражался в июльские дни против Бурбонов и получил июльский крест.
После революции слава писателя росла с каждым днем, а с нею возрастало и число его драматических произведений. В 1831 году появились его драмы: «Карл VII у своих вассалов», «Ричард Дарлингтон» и «Антони», а в 1832–1834 годах драмы: «Тереза», «Анжела» и «Катарина Говард». Все эти пьесы явились в эпоху расцвета драматического романтизма, и французская публика, смотря их, захлебывалась от восторга. В своем драматургическом творчестве Дюма начинает разрабатывать национально-историческую тематику и во многом намечает круг проблем, которые найдут свое воплощение в последующие годы при создании обширного цикла его романов.
Большая часть пьес Дюма отличается поверхностной психологией, лишь более поздние из них, когда он нашел эпоху, дух которой ему был известен и которым он сумел овладеть, представляют прекрасные изображения давно минувшего времени.
Популярность Дюма зиждется почти исключительно на его романах и повестях. Его театр отошел в область преданий, устарев совершенно, тогда как романы всегда читались с жадностью и пережили не одно поколение. Они всегда будут представлять чтение интересное, занимательное, поучительное. В них описательная форма превосходна и играет одну из главных ролей в его исторических романах — лучших из всех его разнородных произведений. Она является замечательной чертой таланта Дюма.
В тридцатых годах у Дюма возник замысел воспроизвести историю Франции XV–XVI веков в обширном цикле романов, начало которому было положено романом «Изабелла Баварская» (1835). Исторической основой послужили «Хроника Фруассара», «Хроника времен Карла VI» Ювенала Юрсина, «История герцогов Бургундских» Проспера де Баранта. Из событий далекого прошлого Дюма воскрешал факты, обличавшие стремление Англии захватить французские земли и распространить на них свое господство.
Небольшие новеллы были дебютами его в области беллетристики. Затем следовали более длинные повести: «Капитан Поль» (1838) «Шевалье Д'Арманталь», «Амори», «Фернанд» и другие.
Роман «Асканио» (1840) представляет читателю двор французского короля Франциска I. Героем этого романа является знаменитый ваятель итальянского Возрождения Бенвенуто Челлини.
В то же время Дюма проявляет исключительный интерес к России и пишет исторический роман «Записки учителя фехтования, или Восемнадцать месяцев в С.-Петербурге» (1840), посвященный жизни декабристов И.Анненкова и его супруги П.Анненковой.
Уже в этих произведениях сказался огромный талант писателя, его замечательная способность увлекать читателя, живо и естественно описывать быт настоящего и минувшего, заинтересовывать искусно ведомой интригой, мастерски красивым рассказом. И здесь уже видны обширность замыслов, бездна смелости и оживления, богатство фантазии. Тип этих произведений носит романтический характер, в них ярко выступает бьющий через край, непосредственный талант его, колоссальный по силе темперамент, его необыкновенная самоуверенность и кипучая кровь. В этих произведениях так же, как и в остальных, более крупных, выдвигается обаятельный рассказчик, не затрудняющийся выйти из самых запутанных обстоятельств, хитросплетенных положений, победоносно разрубая гордиевые узлы и выказывая поразительную изобретательность.
Сороковые годы принесли писателю всемирную известность, им созданы произведения самых разнообразных жанров: роман, исторический и нравоописательный, новеллы фантастические и реалистические, драмы и комедии, путевые очерки и газетные статьи.
В 1836 году во Франции известные газеты «Пресса» и «Век» в короткое время завоевали многочисленных читателей, ибо их редакторы пригласили к сотрудничеству известных писателей: О. Бальзака, Э. Сю, В. Гюго, Ф. Сулье.
В жанре романа-фельетона Дюма становится признанным и популярным писателем, создавая в 40-х годах свои наиболее известные произведения: «Жорж» (1843), «Три мушкетера» с двумя продолжениями — «Двадцать лет спустя», «Виконт де Бражелон» (1850), вторую трилогию «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Сорок пять» (1848), «Шевалье де Мезон-Руж», «Графиня де Шарни» (1853–1855) и др. Огромное количество вышедших за подписью Дюма томов романов и повестей выдвигает в еще более острой форме вопрос о так называемых сотрудниках писателя. Несколько процессов, возбужденных против Дюма, обнаружили феноменальное легкомыслие и бесцеремонное отношение романиста к своим произведениям: выяснено, например, что он выставлял свое имя на обложках книг, которых он даже не читал, а в процессе 1847 года доказано было, что за один год Дюма напечатал под своим именем больше, чем самый проворный переписчик мог мы переписать в течение целого года, если бы работал без перерыва днем и ночью. Из бесконечной массы написанного Дюма (насчитывается приблизительно 1200 томов его произведений) оспаривают самое лучшее: романы «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Шевалье де Мезон-Руж» приписывают Огюсту Макэ (он принимал участие в написании по крайней мере двадцати романов Дюма), «Асканио» и «Амори» — Мерису, «Жорж» — Мальфилю и т. д.
Однако большинство романов, отличающихся единством литературного стиля, стройностью композиции, цельностью воззрений на исторические события, могло быть создано лишь благодаря решающему участию самого Дюма в этой коллективной работе. Романист, посвятивший большую часть своей жизни писательскому труду, во многом был прав, когда писал Беранже: «Как вы могли поверить этой популярной басне, покоящейся всего только на авторитете нескольких неудачников, постоянно старающихся кусать пятки тех, у кого имеются крылья? Вы могли поверить, что я завел фабрику романов, что я, как вы выражаетесь, «имею рудокопов для обработки моей руды»! Дорогой отец, единственная моя руда — это моя левая рука, которая держит открытую книгу, в то время как правая работает по двенадцать часов в сутки».
По мнению Дюма, написать роман или драматическое произведение — было делом совершенно пустым. Зарождение идеи, а затем ее воплощение — вот что составляло единственную трудность. Когда с этим делом было покончено, рука работала как бы по инерции, сама собою. Дюма очень часто высказывал эту мысль. Раз кто-то оспаривал это мнение писателя, который тогда работал над своим «Кавалером Красного Замка». План романа в то время у него вполне сложился, и Дюма предложил своему противнику пари, что он напишет первый том в течение трех дней, в которые должны входить и сон, и еда. Пари обусловливалось сотней червонцев, причем в томе должны были заключаться семьдесят пять огромных страниц, по сорока пяти строк каждая, и в строке должно было заключаться не менее пятидесяти букв. В два дня с половиною Дюма написал это число страниц своим красивым почерком, без помарок и на шесть часов ранее условленного срока. И таким образом Дюма блестяще доказал и быстроту своей работы и необыкновенную работоспособность, не говоря уже о мастерстве овладевать сюжетом.
Александр Дюма переделывал свои романы для сцены и основал в 1847 году «Исторический театр», в котором были поставлены инсценировки романов «Королева Марго», «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо». Двадцать пятого мая 1848 года театр впервые показал парижской публике известную драму Бальзака «Мачеха». «Исторический театр» просуществовал два года и закрылся в связи с событиями революционных лет.
В 50-е годы Дюма значительно отходит от своих былых романтических позиций и пишет ряд посредственных исторических романов. Из произведений этих лет следует отметить романы: «Исаак Лакедем» (1852), «Анж Питу» (1853), «Могикане Парижа» (1854–1858), «Графиня де Шарни» (1853–1855).
Возвратившись в Париж в 1853 году, Александр Дюма основал здесь собственный журнал «Мушкетер», пытавшийся быть независимым в отношении нового режима. Но по-прежнему главным делом его жизни является усердный труд над большими романами.
Эпоха Реставрации отражена в «Могиканах Парижа». «Могикане» — французские карбонарии, боровшиеся с монархическим режимом Реставрации, предшественники тайных обществ республиканцев 30-х годов. По убеждению автора, «Могикане» много сделали для популяризации республиканских принципов, поэтому он отдает должное их мужеству.
Продолжая заполнять «белые пятна» многовековой эпопеи, Дюма в 1857 году обращается к роману под названием «Соратники Иегу». Этот роман представляет тот эпизод из истории Франции, когда она вела революционные войны против коалиции Англии и Австрии. Под именем Иегу скрывался известный монархист Жорж Кадудаль.
Французский писатель в реальном свете изображает энтузиазм республиканских солдат, противопоставленный силам монархической Вандеи.
Александр Дюма был знаком с Гарибальди. Он написал о его легендарной «тысяче» художественный очерк — «Гарибальдийцы» (1862). Своим личным участием поддержал борьбу итальянцев за возрождение единого государства и перевел на французский язык мемуары итальянского полководца. Правое дело Гарибальди, боровшегося за единую Италию, поддержали в своих обращениях Виктор Гюго и Жорж Санд. Дюма пожертвовал Гарибальди для покупки оружия пятьдесят тысяч франков. В сентябре 1860 года он направился в Неаполь, где Гарибальди назначил его директором национальных музеев.
Но великий полководец не был великим политиком и вслед за завоеванием Сицилии покорно пригласил короля Виктора-Эммануила для того, чтобы последний установил свою администрацию на завоеванных гарибальдийских землях. Тогда Дюма решил покинуть Неаполь и в апреле 1864 года возвратился во Францию. Лето он провел в Сен-Гратьене, где завершил работу над одним из лучших своих романов «Луиза Сан-Феличе». Мужественный герой этого произведения посвящает свою жизнь тому, чтобы Италия стала национально единым государством, чтобы итальянцы могли жить свободно, изгнав ненавистных иноземцев.
В 1864 году начало выходить полное собрание сочинений писателя, на которые он «любовался издали, потому что они были в чужих руках», как выражался один из его биографов.
Около этого времени Дюма уже удалился из шумного Парижа и стал жить в уединении. Его старость была печальна, средства крайне ограничены, долги донимали его. Былые картины прошлого едва удерживались в памяти блистательного писателя, но все, что относилось к настоящему, к переживаемому моменту, уже не запечатлевалось в ней. Он говорил — и тут же забывал, о чем шла речь. Делались неоднократно попытки привести в норму его мышление; казалось, ум его прояснился, но затем явления забытья продолжались. Маститого романиста посещали странные видения: он видел себя на вершине горы, воздвигнутой из книг: но почва под ногами его колебалась все больше и больше, ускользая, и, в конце концов, он замечал, что его Гималаи были не чем иным, как зданием, сооруженным на сыпучем песке.
В один из вечеров Дюма-сын застал отца как-то особенно горестно углубленным в свои размышления.
— О чем это ты задумался, отец? — спросил он старика.
— О том, что слишком серьезно для тебя…
— Почему же?
— Да ведь ты все смеешься…
— Я смеюсь потому, что у меня нет причины грустить. Все мы вместе: ты, моя жена, твои внуки… Это, впрочем, не мешает мне быть и серьезным. В чем же, однако, дело?
— Ты даешь мне слово ответить вполне искренно?
— Даю!
— Так вот, Александр, скажи, как ты думаешь — в твоей душе, в твоем сознании останется ли частица меня?
«Я стал, — рассказывает Дюма-сын, — уверять отца в этом, и, казалось, мои долгие уверения были ему очень приятны. Он крепко пожал мою руку, я обнял его, и отец более не возвращался к этому вопросу».
Спустя несколько дней его не стало…
Автор «Монте-Кристо» тихо скончался в Пюи, близ города Дьеппа, 6 декабря 1870 года. Он отошел в вечность с какой-то нездешней, радостной улыбкой на устах, завершившей это необычайное существование, полное триумфа и шумного успеха, усиленной работы и, наряду с этим, расточительности, — озаренных яркими лучами фантазии.
«Мне делают упреки в том, что я был расточителен, — говорил Дюма перед смертью своему сыну. — Я приехал в Париж с двадцатью франками в кармане. — И, указывая взглядом на свой последний золотой на камине, продолжал: — И вот, я сохранил их… Смотри!»
После этого миновало всего несколько дней, — и порвалась нить жизни того, кто в течение сорока лет отдавался беспрерывной сказочной работе, всецело сливаясь с душой французского народа. Он питал его плодами своей редкой фантазии. С душой нараспашку, лицом всегда озаренным веселой, здоровой улыбкой, взвинченный успехом, разжигаемый враждебными нападками, кипя в горниле работы театральной и беллетристической, Дюма поддерживал священный огонь на пылающем жертвеннике творчества, бросал туда драму, комедию, исторический роман, роман приключений и страстей, путевые впечатления, мемуары, сказку, новеллы, этюды по искусствам и, наконец, гастрономию… И в этом непрерывном труде только подчас вытирал он рукавом своей незанятой руки обильный пот на своем высоком челе. Сорок лет он воссоздавал быт, эпоху и живые лица к великому удовольствию современников. Он не был ни идеологом, ни мыслителем; идеи гражданственности были ему не по плечу; на философские размышления у него не хватало времени. Его стихия была — воображение. Всем существом, всем своим творчеством он отдавался фантазии и дару оживлять лица и события. И отсюда проистекала его способность сливаться с героями его творений, сообщать своим иллюзиям характер живой действительности. И отсюда шло создание его замка Монте-Кристо, положившего начало его разорению. Ему были органически нужны собственный замок, собственный театр, собственные газеты, собственные легенды вокруг…
«Благодаря этому легкомыслию, — по замечанию Пелисье, — Дюма был необыкновенно расточителен по отношению к своим богатым дарованиям, а иначе он возвысился бы до величайших писателей девятнадцатого века».
Примечания
1
Бочка Данаид — в греч. мифологии данаиды — пятьдесят дочерей царя Даная, которые в наказание за убийство своих мужей в подземном царстве вечно наполняют водой бездонную бочку.
(обратно)2
Руссо Жан Жак (1712–1778) — великий французский философ-просветитель, ученый, писатель, поэт, драматург.
(обратно)3
Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Аруэ, 1694–1778) — крупнейший французский философ-просветитель, ученый, писатель.
(обратно)4
Франклин Бенджамин (1706–1790) — американский ученый-просветитель, государственный деятель.
(обратно)5
Сен-Жермен — граф, алхимик и авантюрист XVIII века, португалец по происхождению. Был популярен при дворе Помпадур, но в 1760 году бежал из Парижа.
(обратно)6
Силла — одно из трех ранних государств (Силла, Когуре, Пэкче), возникших в результате разложения первобытнообщинного строя на Корейском полуострове.
(обратно)7
Нерон Клавдий Цезарь (37–68) — римский император с 54 года.
(обратно)8
Септембризады — массовые убийства во время Французской революции в сентябре 1792 года.
(обратно)9
Флориан Жан Пьер (1755–1794) — французский баснописец, романист и драматург, его басни отличались сентиментальностью.
(обратно)10
Шенье Андре (1762–1794) — французский поэт и писатель, автор произведений в духе античной поэзии. Казнен якобинцами.
(обратно)11
Мадам де Сталь Жермена (1766–1817) — французская писательница, автор романтических романов «Коринна» и «Дельфина».
(обратно)12
Бертен Антуан де (1752–1790) — французский поэт, автор стихов о любви.
(обратно)13
Шатобриан Франсуа Рене (1768–1848) — французский писатель и политический деятель, был недолгое время министром иностранных дел при Людовике XVIII.
(обратно)14
Рекамье Жюли-Аделаида де (1777–1849) — маркиза, в ее салоне в Париже в период реставрации собирались видные политические деятели, ученые, писатели.
(обратно)15
Принцесса Боргези, Мария-Полина Бонапарт (1780–1825) — младшая сестра Наполеона I Бонапарта. В 1801 году вышла замуж за генерала Леклерка (вскоре убитого), а в 1803 году — за итальянского принца Камилла Боргезе.
(обратно)16
Жозефина (Таше де ла Пажери, 1763–1814) — первая жена Наполеона I, вдова генерала Богарне.
(обратно)17
Берри (собственное имя Каролина-Фердинанда-Луиза, 1798–1870) — дочь короля обеих Сицилий, Франца I, супруга герцога Беррийского. После гибели мужа вела активную политическую деятельность.
(обратно)18
Наполеон I Бонапарт (1769–1821) — французский император из династии Бонапартов, первый консул Французской республики.
(обратно)19
Мори Жан-Сиффрен (1746–1817) — выдающийся французский проповедник и политический деятель.
(обратно)20
Талейран Шарль Морис (1754–1838) — князь Беневетский до 1815 года, герцог Дино с 1817 года, французский дипломат, государственный деятель.
(обратно)21
Робеспьер Максимилиан Мари Изидор (1758–1794) — деятель Великой французской революции, которую фактически возглавил в 1793 году, жестоко расправившись с контрреволюцией. Казнен термидорианцами.
(обратно)22
Крейслер; кот Мурр — герои романа Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–1882) «Житейские воззрения кота Мурра» (1882).
(обратно)23
Ламенне Фелисите Робер (1782–1854) — французский публицист, философ, аббат.
(обратно)24
Беранже Пьер Жан (1780–1857) — французский поэт. Завоевал известность сатирой на наполеоновский режим.
(обратно)25
Альфред де Виньи (1797–1863) — граф, французский писатель.
(обратно)26
Сулье Фредерик (1800–1847) — французский писатель, автор нашумевших «Мемуаров дьявола».
(обратно)27
Бальзак Оноре (1799–1850) — французский писатель, автор эпопеи «Человеческая комедия», состоящей из 90 романов.
(обратно)28
Дешан Эмиль (1791–1871) — французский поэт и критик, переводчик Шекспира.
(обратно)29
Сент-Бев Шарль Огюстен (1804–1869) — французский критик, писатель, поэт, привлекательный и интересный мыслитель своего времени.
(обратно)30
Дюма-отец Александр (1802–1870) — французский писатель, автор настоящего романа.
(обратно)31
Рафаэль Санти (1483–1520) — итальянский живописец и архитектор эпохи Высокого Возрождения.
(обратно)32
Оссиан (Ойсин, Оссиян) — легендарный воин и бард кельтов, живший в 3 веке в Ирландии.
(обратно)33
Корделия, Офелия, Миранда — героини Уильяма Шекспира (1564–1616), великого английского драматурга, поэта, актера.
(обратно)34
«Декамерон» — книга новелл Джованни Боккаччо (1313–1375), итальянского писателя эпохи Возрождения.
(обратно)35
Тальберг Зигизмунд (1812–1871) — австрийский пианист, автор салонной музыки.
(обратно)36
Буль Андре Шарль (1642–1732) — французский мастер художественной мебели, представитель классицизма, украшал строгую по форме мебель сложным мозаичным узором.
(обратно)37
Мирабо Виктор Рикети (1715–1789) — французский экономист.
(обратно)38
Кювье Жорж (1769–1832) — знаменитый французский естествоиспытатель, палеонтолог.
(обратно)39
Жоффруа Сент-Илер Этьен (1772–1844) — известный французский зоолог. Выдвинул теорию единства строения организмов живого мира, которую оспаривал Кювье.
(обратно)40
Ришелье Арман Жан дю Плесси (1585–1642) — кардинал Франции, граф, государственный деятель.
(обратно)41
Паскаль Блез (1623–1662) — французский математик, философ, физик и писатель. Развивал представление о трагичности и хрупкости человека между двумя безднами — бесконечностью и ничтожеством.
(обратно)42
Перро Шарль (1628–1703) — французский поэт, сказочник, критик.
(обратно)43
Гомер — древнегреческий эпический поэт, автор «Илиады» и «Одиссеи».
(обратно)44
Сганарель, Люсинда, Клитандр — действующие лица комедии великого французского драматурга Мольера (1622–1673) «Лекарь поневоле» («Любовь-целительница»).
(обратно)45
Август Гай Юлий Цезарь Октавиан — первый римский император, сын Гая Октавия и Атии, дочери Юлии, младшей сестры Юлия Цезаря. Родился в 63 г. до н. э.
(обратно)46
Цинна Луций Корнелий (?-84 до н. э.) — в Древнем Риме популярный консул 87–86 гг., вместе с Г. Марием произвел в 87 году антисулланский переворот.
(обратно)47
Сократ (470–399 до н. э.) — древнегреческий философ, родоначальник философской диалектики.
(обратно)48
Аристотель (384–322 до н. э.) — древнегреческий философ и ученый.
(обратно)49
Ипполит — герой древнегреческой мифологии, любимец богини Дианы, охотник, девственник, проклятый отцом Тезеем из-за клеветы мачехи Федры, чью любовь отверг Ипполит.
(обратно)50
Ансельм Кентерберийский (1033–1109) — теолог, представитель схоластики, после смерти канонизирован.
(обратно)51
Делиль Лаббэ Жак (1738–1813) — французский поэт и переводчик, профессор латинской поэзии.
(обратно)52
Тисифона — в трагедии Еврипида «Алкмеон в Коринфе» дочь Алкмеона. Вместе с братом была отдана на воспитание коринфскому царю Креонту. Она была прекрасной, и жена Креонта из ревности продала ее в рабство. Алкмеон купил Тисифону, не зная, что она его дочь; лишь позднее он узнал истину.
(обратно)53
Ловелас — персонаж романа английского писателя Самюэля Ричардсона (1689–1761) «Кларисса, или История молодой леди». Обесчещенная Ловеласом Кларисса кончает жизнь самоубийством. Имя Ловеласа стало нарицательным.
(обратно)54
Отелло — герой одноименной драмы Шекспира.
(обратно)55
Марк Антоний (83–30 до н. э.) — римский политический деятель.
(обратно)56
Керубино — паж в опере Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791) «Свадьба Фигаро».
(обратно)57
Сильфида — дух воздуха, мифическое легкое воздушное существо, олицетворяющее стихию воздуха.
(обратно)58
Вебер Карл Мария фон (1786–1826) — немецкий композитор, дирижер, пианист, создатель немецкой романтической оперы.
(обратно)59
Кондотьер — предводитель наемного военного отряда в Италии 14–16 вв.
(обратно)60
Данте Алигьери (1265–1321) — великий итальянский поэт, автор поэмы «Божественная комедия».
(обратно)61
Беато Анджелико (собст. Фра Джованни да Фьезоле, ок. 1400–1455) — итальянский живописец, представитель флорентийской школы Раннего Возрождения.
(обратно)62
Шуберт Франц (1797–1828) — австрийский композитор, создатель романтической песни-романса.
(обратно)63
Грез Жан Батист (1725–1805) — французский живописец.
(обратно)64
Кремона — город в северной Италии, на реке По. Всемирной известностью пользуются скрипки и альты, изготовлявшиеся здесь в XVI–XVIII вв. (Амати, Гварнери, Страдивари).
(обратно)65
«Роберт-Дьявол» — опера немецкого композитора Джакомо Мейербера (1791–1864) на либретто Эжена Скрибба. Опера впервые была поставлена в Париже в 1831 году.
(обратно)66
«Жизель, или Виллисы» — опера французского композитора Адольфа Адана (1803–1856) на либретто Теофиля Готье.
(обратно)67
Фюлтон (Фултон) Роберт (1765–1815) — американский изобретатель. Построил первый в мире колесный пароход «Клермонт» (1807).
(обратно)68
Лазарь — герой евангельской притчи, где говорится как Иисус Христос воскресил Лазаря из мертвых.
(обратно)69
Просфора — белый круглый хлебец, употребляемый в богослужении.
(обратно)70
Гризи Джулиа (1811–1869) — итальянская певица, представительница искусства бельканто, сопрано; сестра Джудитта (1805–1840), меццо-сопрано.
(обратно)71
Неф — продольная часть западноевропейского христианского храма, обычно расчлененная колоннадой или аркадой на главный, более широкий и высокий, неф и боковые нефы.
(обратно)72
Придел — добавочный, обычно боковой алтарь в церкви — небольшая бесстолпная пристройка со стороны южного или северного фасада.
(обратно)73
Клир — служитель культа какой-либо церкви.
(обратно)74
Грей Томас (1716–1771) — английский поэт, стихи которого отличаются меланхолией и элегантностью.
(обратно)75
Ламартин Альфонс де (1790–1869) — французский поэт, стихи полны гармонии и глубокой меланхолии.
(обратно)76
Абсида — полукруглая, иногда многоугольная, выступающая часть здания, перекрыта я соответствующим сводом.
(обратно)77
Мартин Лютер (1483–1546) — глава религиозной реформации в Германии.
(обратно)78
Вормс — город в Германии, где в 1521 году Лютер был отлучен от церкви.
(обратно)79
Ронсар Пьер (1524–1585) — французский поэт, стихи которого отличаются необычайной гармонией и неожиданной сменой ритма.
(обратно)80
Перевод Б.Пастернака. По изданию: Вильям Шекспир «Трагедии», М-Л, 1951.
(обратно)81
В тринадцатой песне «Божественной комедии» (часть 1) Данте повествуется об ужасных мучениях самоубийцы в загробном мире.
(обратно)82
«Поль и Виргиния» — связанные друг с другом идиллической любовью на лоне природы юные герои одноименного романа французского писателя Бернардена де Сен-Пьера.
(обратно)83
Поскольку эти письма затерялись, мы не можем представить их на суд читателя — авт.
(обратно)84
Пери — в персидской мифологии — добрая фея, охраняющая людей от злых духов.
(обратно)85
Челлини Бенвенуто (1500–1571) — великий итальянский скульптор, ювелир, писатель. Представитель маньеризма. Виртуозные по мастерству ювелирные изделия («Солонка Франциска I» и т. д.).
(обратно)86
Бартоло — ревнивый и подозрительный опекун молодой девушки Розины, персонаж комедии Бомарше «Севильский цирюльник». Бартоло — комический персонаж старинных французских комедий, недалекий, упрямый, скупой и легковерный старик.
(обратно)87
Жеронт — буржуа, отец Люсинды, действующее лицо комедии Мольера «Лекарь поневоле». Люсинда, вопреки воле отца, любит Леандра.
(обратно)88
Орест — в древнегреческой мифологии сын Агамемнона и Клитемнестры. Эринии, богини мщения, преследовали его за убийство матери, которой он отомстил за отца, и на него насылали припадки. Пилад — верный друг Ореста.
(обратно)89
Дюпен Андре (1783–1855) — известный французский политический деятель и юрист. Отличался политической беспринципностью.
(обратно)90
Бэкон Френсис (1562–1626) — английский философ, родоначальник английского материализма.
(обратно)91
Errores fori — ложные идеи; ошибки, связанные с распространенными неверными представлениями.
(обратно)
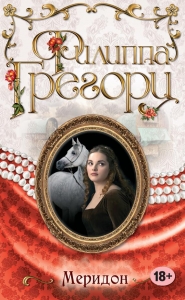


Комментарии к книге «Амори», Александр Дюма
Всего 0 комментариев